Виль Липатов
ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ
Генка Пальцев, сын Дмитрия Пальцева
1
Милиционер Анискин считался самым толстым человеком в деревне. Директор маслозавода Черкашин весил сто пять килограммов, но участковый уполномоченный был на голову выше его, намного толще, хотя, сколько весит он, никто не знал, так как сам Анискин говорил: «А ты попробуй, взвешай меня!» Несмотря на полноту, участковый по деревне ходил быстро, особенно в прохладные дни, с людьми поговорить любил, а директора маслозавода Черкашина терпеть не мог.
В деревне Анискин работал бог знает сколько времени, в каком находился звании, жители не помнили — участковый раз в три года надевал форму, да и то тогда, когда ездил в район. Это объяснялось его грандиозной толщиной, и участковый говорил: «Если я буду каждый день форму носить, то мне никакой зарплаты не хватит!» Летом Анискин ходил в широких хлопчатобумажных штанах, в серой рубахе, распахнутой на седой волосатой груди, и в тапочках сорок шестого размера; в грязь он носил кирзовые сапоги, а зимой влезал в серые валенки, от которых его ноги действительно походили на слоновьи.
Когда участковый зимой шел в валенках вдоль деревни, то снежный скрип слышался от околицы до околицы, и деревенские женщины, прислушавшись, говорили: «Шесть часов времени, надо квашенку заводить!» Летом участковый поднимался в половине седьмого, и его путь по деревне отмечался запальным дыханием. С пяти-шести часов вечера до восьми участковый спал, а потом распивал чаи вприкуску: летом — во дворе, а зимой — в маленькой кухоньке, где на стенке висели цветные фотографии из «Огонька».
Жена участкового, наоборот, была худа, голос имела тихий и ровный, глаза монгольские и называлась, конечно, Глафирой. Она нигде не работала и потому считалась в деревне аристократкой, хотя никто и никогда не видел ее сидящей без дела — она с утра до вечера трудилась. Глафира содержала огород, разводила живность, собирала орехи, грибы и ягоды, но милицейский дом зажиточностью не славился — кроме самого Анискина и Глафиры, в нем всегда было несколько едоков, да приходилось посылать деньги то одному сыну, то второму, то дочери, так как детей участковый старался учить долго. Дети у Глафиры рождались легко, розовощекие и здоровые…
В лето 196… года приблизительный вес Анискина оценивался в сто двадцать килограммов — не больше и не меньше обычного. Так что душным июльским днем, часа в четыре пополудни, когда оставалось немного времени до спанья, участковый спокойно шел себе длинной улицей деревни и старался прижиматься к высокому обскому яру, чтобы лицо обдувал тенистый ветерок. Река текла мирно на север, кружились бакланы, скрипя уключинами, перебиралась на противоположную сторону лодка-завозня. Река была как река, небо как небо, а под яром, фыркая, точно лошади, купались ребятишки. Увидев на крутояре громадную фигуру Анискина, они загалдели пуще прежнего, принялись обливаться водой и бегать.
— Целый день сидят в воде, это надо же придумать! — остановясь, сказал участковый. — Это надо же придумать…
Прицыкнув пустым зубом, он достал из кармана носовой платок, внимательно посмотрел на него, подумал и, широко расставив ноги, нагнулся. Участковый поднял с земли кровавый обломочек кирпича, обмотал его платком и, по-бабьи размахнувшись, бросил сверток под яр.
— Намочите! — крикнул он ребятишкам. — У меня голова не чугунная…
Когда платок упал к воде и ребятишки наперебой бросились к нему, участковый неторопливо выложил руки на пузо, склонил голову на плечо и начал туда-сюда покручивать большими пальцами. Глаза у Анискина выкатились по-рачьи, шея исчезла, он медленно-медленно, точно его придерживали, обернулся к человеку, который стоял за его спиной.
— Ну? — тихо спросил Анискин. — Ну?
— Стою! — так же тихо ответил человек.
Ему было лет двадцать пять, были на нем клетчатая рубаха и брюки-галифе с сапогами, сидела на голове серая кепка, но весь — с головы до ног — он был не таким, каким должен быть человек в клетчатой ковбойке. Стекала с лица парня бледная унылость и хворь, из вырубленных худобой глазниц запально глядели иконные глаза невыразимой красоты. Но диво дивное, чудо великое начиналось ниже — немощную эту голову, тонкую ребячью шею подпирал могучий торс борца; неохватные ширились плечи, выпирала могучая грудь, стояли канцелярскими тумбами короткие ноги, а на голых руках — неизвестно для чего, неизвестно почему — вспыхивали и гасли блестящие от пота мускулы. Жило тело парня отдельно от головы, принадлежали голова и тело разным людям. «Ну и ну! — тихо подумал Анискин. — Ну, как две капельки воды похож на своего отца Митрия! Ну и ну!»
— Чудной ты, Генка! — тоскливо прицыкнув зубом, сказал участковый. — Лицо у тебя ангельское, а тело волчье…
— Разве я в том виноватый, — жалобно ответил Генка. — Разве это моя вина…
— Должно быть, виноватый, — задумчиво сказал Анискин. — Был бы невиноватый, я с тобой по такой жаре не валандался бы.
Покручивая пальцами на пузе, участковый блестящими глазами смотрел на Обь, затаенно покряхтывая, и река отражалась в глазах — расплавленная на солнце вода и лодка на ней, старый осокорь на крутояре, пологая излучина и ребятишки, что, карабкаясь руками и ногами по желтой глине, уже поднимались наверх. Первым вскочил на кромку земли самый бойкий и веселый из них, с мокрым платком в руке бросился к участковому и закричал восторженно:
— Намочил, намочил, дядя Анискин!
Но участковый еще несколько секунд стоял неподвижно, набычив шею и расставив ноги. Мальчишка с платком притих, согнав с лица улыбку, пошел к участковому на заскорузлых пальцах мокрых ног. Мальчишка осторожно потрогал его за выставленный локоть, подняв голову, заглянул участковому в лицо, и, расцепив руки, Анискин одну из них положил на плечо парнишки.
— Ах, Виталька ты, Виталька Пирогов, — сказал участковый. — Виталька ты Пирогов, Ванюшки Пирогова сын…
Потом Анискин выпрямился, приняв от мальчишки платок, сухо сказал:
— Ты, Виталька, вали купаться, а ты, Генка, завяжи платок сзади… Мне-то не видать!
Генка — парень в ковбойке и в сапогах, — дыша осторожно и запально, завязал платок на затылке участкового, отошел в сторонку и опять притих, так как Анискин блаженно зажмурился и зябко повел плечами. С плохо выжатого платка вода текла на широкий нос участкового, струилась по груди, заросшей седыми волосами, стекала на траву.
— Господи! — простонал Анискин. — Как хорошо-то!
В платке с четырьмя узелками походил участковый на восточного первобытного бога.
— Вы бы искупались! — сказал Генка.
— Сам купайся!
И опять спокойно, по-слоновьи нелепо переставляя ноги, пошел по улице участковый — глядел в землю мрачно, думал тяжело и напряженно, заметно сутулился, хотя при грандиозной толщине сутулым, конечно, не был. Не поздоровавшись, а только чуточку шевельнув бровями, он миновал деда Крылова, с палкой сидящего на лавочке, не поглядел на окна колхозной конторы, не улыбнулся женщине, которая с полными ведрами шла навстречу. Безмолвно и грозно прошел участковый через половину деревни к тому дому, где находилась милицейская комната. Возле калитки Анискин остановился, запустив руку меж досками, чтобы открыть вертушку, замер.
— Ну, на какой хрен, Генка, ты есть такой? — тоскливо спросил он. — Вот на что ты есть такой, Генка?
Было так тихо, как может быть на краю деревни, где сразу за домами начинаются луг, кедрачи и мелкие березы, что уступами поднимаются к кладбищу; где к последнему дому подбегает веселый ельник, деревья которого похожи на воинов в монгольских остроконечных шапках, а желтые шишки горят чешуйками на кольчугах.
— Пройдем! — тихо сказал участковый. — Пройдем!
Зайдя в темноватую комнату, Анискин приказал Генке встать у дверей, сам сел на табуретку и выложил на стол пудовые руки, сплошь покрытые светлыми волосами. Несколько мгновений участковый сидел неподвижно, затем по-милицейски выкатил глаза и с придыханием произнес:
— А?!
— Мне бы три дня пересидеть, — сказал Генка. — Мне бы только пересидеть до парохода вниз… Три дня!
— У тебя губа не дура, Генка, — подумав, ответил участковый. — Конечно, в понедельник придет «Пролетарий», так тебе и остается два дня, чтобы на нем смыться… У тебя губа не дура! — повторил он и вдруг оглушительно крикнул: — Садись! Садись, страма!
Вторая табуретка стояла в углу, и, заметив ее, Генка пошел садиться — шиворот-навыворот ступали звериные ноги, непонятно замедленно плыла литая спина, сама собой, отдельно от туловища, двигалась к табуретке голова. Плавными, округлыми были все движения Генки, а сев, он изящными движениями положил руки на колени, по-детски вздохнул и посмотрел на участкового преданными, ласковыми, сияющими глазами. Он так посмотрел на Анискина, что участковый поежился, как от холодной воды, и печально сказал:
— Истинный ты бандит, Генка… Через всю кабинету прошел, а ни одна половица не скрипнула.
Голодные, сновали по стенам милицейской комнаты черные тараканы; их было много, очень много, но в обычные дни участковый Анискин на тараканов внимания не обращал, а только извинялся за них перед посетителями и улыбался при этом. Сегодня же на тараканье царство участковый посмотрел зло, прищурился колюче, хотя по-прежнему всматривался в самого себя. Что-то в себе самом пытался разглядеть Анискин, но не мог и от этого страдальчески морщился.
— Ты бы рассказал, Генка, чего набедокурил? — вдруг вежливо спросил участковый. — Только ты уж не ври, касатик, а?
— Ой, мама родная, — обливаясь ласковой влагой, проникновенно прошептал Генка, — да когда я вам врал, дядя Анискин, да когда это было со мной, чтобы я вам врал…
— Всегда! — ласково ответил Анискин. — Всегда, родной!
— Ой, да неверно, да неверно! Я, может, когда по мелочам что и врал, а по-большому я завсегда правду говорил, так как скрытности во мне сроду не было, такой я от родной моей милой мамочки прирожденный, что на вранье не способный и во всем перед вами, дядя Анискин, открытый…
Генка Пальцев пел да пел, помаргивал да помаргивал библейскими ресницами, а участковый Анискин все дальше и дальше уходил от него. Вот уж совсем далеко-далеко дрожал заупокойный голосок Генки, застилались туманом его слова; частой, как бы комариной сеткой весь покрылся он — уже не с Генкиного лица стекали бледность и хворь, не его тело и голова жили отдельно друг от друга, а Генкин отец — Дмитрий Пальцев — сидел в темной милицейской комнате. Он сидел, смотрел на Анискина глазами русской богородицы и под участковым вдруг покачнулась табуретка, уплыл из-под ног пол… Пахнуло сырой прелью оврага, ударила в зрачки большая зеленая звезда; ударила, кольнула, и пошел звон по голове, как по пустой церкви перебор колоколов; заболел под левым соском звездчатый шрам, и в запахе пороха давил на ладонь сгусток крови, что текла в зеленый луч звезды…
— Тихо, тихо… — шепотом сказал Анискин и сделал рукой такое движение, точно хотел убрать с лица несуществующую паутину. — Тихо…
Они молчали минуту. Потом участковый спросил:
— Что ты сделал на хуторе, Генка?
— Бочата снял с парикмахерши, — ответил Генка. — Золотые…
— Ну!
— Она запищала, дядя Анискин, — еле слышно сказал Генка, — тогда я ее немного придушил…
— Насмерть?
— Ой, да наверное, как вы можете подумать такое, дядя Анискин, зверь я или человек, чего бы я стал ее насмерть из-за часов-то… Вы всегда что-нибудь придумаете, дядя Анискин, такое придумаете, что даже подумать страшно, не то что выговорить, прямо обидно мне на все это…
Генка пел все тише, паузы между словами делал все длиннее и понемногу вытягивал ноги, распластываясь на табуретке. Он все утишивал и утишивал голос, пока не перешел на шепот, так как участковый смотрел на Генку неподвижными задумчивыми глазами. Из них на Пальцева текло невидимое, но ощутимое, связывало Генку по рукам и ногам; в глубь Генки и через него смотрел Анискин, в печенки и селезенки.
— Ну ладно! — сказал участковый. — Теперь я все про тебя знаю, Генка… Все знаю, ровно и не получал из райотдела телеграмму, чтобы задержать особо опасного рецидивиста… Понял, не из телеграммы узнал, а от тебя самого…
Генка теперь сидел на табуретке так, словно лежал — сползли с колен перевитые мускулами руки, обвисли ноги-тумбы, заострился славянский нос. Потом Генка по-рыбьи хватил ртом воздух:
— Когда пришла телеграмма?
— Третьего дня… Не думал я, что ты такой дурак!
Брезгливо, страдальчески поморщившись, участковый прицыкнул зубом и поднялся с табуретки с таким видом, как поднимается человек, которому давно надо было сделать это, но он не решался. Встав, Анискин подошел к русской печке, снял с шестка коробку с надписью «Дуст» и, вынув из нее щепотку серого порошка, посыпал припечек.
— Парикмахерша жила еще два часа, — приглушенно сказал участковый. — Ты зачем, Генка, фонарик засветил, когда ее душил?… Дура ты, дура!.. Да с такой мордой, как у тебя, по карманам шарить нельзя, не то что по мокрому делу… Вот женщина и опознала твою фотографию… Теперь тебя, Генка, расстреляют! Это беспременно надо произвесть! — Участковый тоскливо покачал головой. — Я тридцать два года работаю в деревне милиционером, а убийц еще не было… Драки бывали, воровство случалось, а убийц… Ты первый, Генка!
— Не задерживай меня, дядя Анискин, не отдавай райотделу, — жалобно и страстно попросила Генкина голова. — Не отдавай!
Деревенская слышалась тишина: ни звука не было, ни привязочки, на которой мог бы отдохнуть напряженный слух. И только шуршали, шуршали за припечкой тараканы.
— Я никого из своих деревенских зря райотделу не отдавал, — негромко сказал участковый. — Ты вспомни, Генка, кого из деревенских я зря райотделу отдал?
— Никого! — набухнув, прошептали жаркие Генкины губы. — Никого…
— Тебя я, Генка, возьму, — еще тише продолжал участковый. — Я беспременно тебя должен взять, но я тебе дам такое условие, через которое ты можешь спастись и стать человеком, если превозмогешь трусость… А если она, трусость, сильнее тебя, Генка, то тут тебе — гроб!.. Так что решай — принимать тебе условие или нет…
— Какое условие?
— А вот какое!
Анискин прошелся по комнате, опершись руками в наличники, посмотрел на улицу. Увидел он светлую от солнца Обь, синие кедрачи за ней, а за кедрачами — пустоту; полтора километра было от берега до берега реки, но еще больший простор расстилался за нею, так как за Обью начинались Васюганские болота; начинались и шли на десятки, сотни километров, ровные и унылые. Над болотами тучей висело смрадное комарье, жалобно пищали длинноногие кулики, и солнце торчало на одном месте, словно его остановили.
— Слушай мое условие, Генка! — сказал Анискин. — Даю тебе срок до двенадцати ночи или, как говорят райотдельские штукари, до ноль ноль часов… Уходи ты до этого срока из деревни. Ты меня не видал, я тебя не видел… Уходи, Генка!
— Обласок дашь? — одними губами прошептал Генка. — Обласок…
— Ни лодку, ни обласок не дам! — жестко ответил участковый. — Ты сам знаешь, что я к ним приставил охрану… Пешком уходи, Генка!
Опять не сидел, а лежал на табурете Пальцев, но был уже повернут лицом к окну, где лежала Обь, кедрачи за ней, а за кедрачами…
— Это ведь все равно расстрел… — прошептал Генка.
— А ты как думал! — не сразу отозвался участковый. — Ты что думал, когда душил мать двух детей?… Но иди в болота, бог с тобой! Выйдешь живым — человеком сделаешься, погибнешь — тоже правильно будет. Сам ты теперь над собой хозяин, Генка… На этом наш разговор оконченный!
Онемев, Пальцев не шевелился — лежали перекисшим тестом на костяке мускулы, стекали на грудь звериной тоской глаза русской богородицы.
— Страшный ты, Генка, — прицыкнув зубом, сказал Анискин. — Кажный человек от страху бледнеет, а ты краснеешь, ровно хватил стакан водки…
Минут через пять Генка с табуретки встал, запинаясь ногами одна за одну, пошел к двери.
— Финач есть? — вдруг вежливо спросил Анискин. — А, Генка!
— Ну, чего же ты такое говоришь, дядя Анискин? — в дверь запел Генка. — Откуда у меня может быть финач, вот придумаете же такое, что и подумать невозможно, что даже обидно…
Он пел и пел, но участковый не слушал — он глазами приник к телу Пальцева и удовлетворенно качнул головой, так как по спине Генки, от плеч к бедрам, а от бедер — к левому карману галифе прокатилась быстрая волна.
— Сволочь! — восхищенно сказал Анискин. — У тебя ведь в левом кармане пистолет, Генка… Ну, совсем сделался серьезный рецидивист!
2
Старый осокорь на берегу шелестел по-дневному, Обь в синеве густела, под яром не купались ребятишки, так как шел шестой час и уже слышалось, как на ближних покосах погуживали машины и покрикивали бабьи голоса: так бывает к вечеру, когда воздух делается прозрачным и легким. Он доносит до слуха каждый звук, и если в деревне тихо, то можно слышать пароход, который шипит за дальней излучиной Оби, крик бакланов за отмелью, до которой шесть километров, и стон кукушки в березах.
Тихо было в деревне, и участковый Анискин неподвижно стоял посередине дороги, сложив руки на пузе и медленно покручивая большими пальцами, думал: «Вот ведь до чего выдался тяжелый день, что и не знаешь, куда ногой ступить…» Он еще минуточку постоял на пыльной дороге, потом, сам себе согласно кивнув головой, пошел к тому дому, что был сложен из сосновых брусьев и в котором жил учитель восьмилетней школы Филатов. Анискин приблизился к дому, но во двор заходить не стал, а подшагал под открытое окошко. Участковый прислушался и думающе наморщился, так как не мог понять, что за звук раздается в комнате, затем вдруг широко улыбнулся.
— Владимир, — позвал Анискин. — Ты бы выглянул на час… Мне с тобой побеседовать охота.
Комариный писк электрической бритвы затих, досадливо проскрипел венский стул, все убыстряясь, пробежали по полу шлепки босых ног, и учитель Филатов высунулся в окошко. Маленький, осыпанный солнечными пятнами, как веснушками, он отворачивал от участкового левую недобритую щеку.
— Доброго здоровья, Владимир Викторович! — поздоровался Анискин. — Бреетесь?
— Здравствуйте, товарищ участковый! — нехорошим голосом ответил учитель и повел худой рукой. — Прошу заходить в дом.
Но участковый Анискин в дом учителя Филатова не пошел, а сделал еще шаг к окну и внимательно посмотрел в лицо Владимира Викторовича. Левая щека у математика была, конечно, недобрита, но это было пустяком по сравнению с тем, что веки у него припухли, как от пчелиного укуса, щеки были одутловаты и синюшны, а пальцы рук так дрожали, что электрическая бритва, зажатая в них, больно ударялась о подоконник. Заметив это, Владимир Викторович криво улыбнулся и спрятал бритву за спину.
— Владимир Викторович, а Владимир Викторович, — сказал участковый. — Ты присядь на окошко, а я рядом постою…
— Спасибо! — хрипло ответил учитель. — Спасибо, но садиться на подоконник я не буду…
Он хорохорился, учитель Владимир Викторович, но посмотреть прямо в глаза Анискина не решался, пользуясь тем, что левая щека недобрита, отворачивал голову все круче и круче от участкового, пока не отвернулся совсем. Теперь стало видным его правое ухо, просвеченное солнечными лучами и от этого красное, как плакатный кумач. «Ну, до чего хороший парень, этот учитель!» — затаенно улыбаясь, подумал Анискин.
— Это ты хорошо скумекал, Владимир Викторович! — весело сказал участковый. — Это ты здорово смикитил про электрическую бритву…
— Простите, товарищ Анискин, не понимаю…
— А чего уж тут понимать, — ответил участковый и вдруг сделался серьезным. — Тут и понимать нечего…
Приглушенным, как вечерняя деревня, стал участковый Анискин — тоже отвернувшись от учителя, прислонился спиной к брусчатой стене, руки опустил, голову склонил на плечо. Дышал он трудно и с присвистом, кожа лица серела, а ворот рубахи широко распахнулся на седой груди. Таким был участковый, каким давно не видели его в деревне, и учитель Владимир Викторович покосился на него.
— Бессонница у меня, Владимир Викторович, третий день бессонница, — тоскливо вздохнув, сказал Анискин. — Третью ночь не сплю, по улице хожу и свою жизнь наизнанку перевертываю… Я как шубу себя вывертываю, Владимир Викторович, и нет мне от этого сна-покоя. Чего-то жалко, чего-то боязно, чего-то охота… Собаки лают, луна светит, Обишка себе течет… Тоска меня берет, Владимир Викторович, когда глазами себе за спину гляжу… — Он помолчал секундочку и, прицыкнув зубом, добавил: — Это у меня оттого, Владимир Викторович, что большое несчастье на деревне приключилось…
Подняв голову, Анискин насильственно улыбнулся, поправил пальцами седые волосы и постоял еще немножко в тихости — точно из дальней дали, из бесконечной непонятности возвращался участковый к дому из свежих брусьев, к окошку, к учителю Владимиру Викторовичу, на которого смотрел невидящими глазами. Медленно-медленно возвращался Анискин, но вернулся все-таки.
— Я ведь что про бритву-то болтал, — непонятно улыбнувшись, сказал он. — А то, Владимир Викторович, что электрической бритвой, конечно, бриться с похмелья сподручнее, чем опасной… Не порежешься, если руки дрожат…
— Товарищ Анискин! — сказал учитель. — Товарищ Анискин!
— Шестьдесят лет товарищ Анискин, — сухо ответил участковый. — А только я тебе, Владимир Викторович, всю правду скажу, раз у меня сегодня такой тяжелый день… Я, может быть, вчера бы и промолчал, но вот сегодня… Ты это чего пьешь и по ночам свою учительшу ругаешь? — гневно спросил Анискин и по-рачьи вытаращил глаза. — Это ты какое право имеешь по шестьсот грамм водки за вечер выпивать и с родной женой ругаться?…
— Я не хочу отвечать на ваши вопросы, — сказал Владимир Викторович и саркастически улыбнулся. — Не кажется ли вам, что вы переоцениваете свои права и обязанности?
Владимир Викторович уже не отстранял от участкового лица, снова вынул из-за спины дрожащие руки, как гусак вытянул тонкую шею и шипел по-гусаковски. Маленький он был, тщедушный, и, поглядев на него повнимательней, Анискин про себя улыбнулся и подумал: «Вот так всегда бывает: чем не плоше мужичонка, тем с бабой ведет себя ругательней!» Однако вслух участковый не улыбнулся, а покачал головой и сказал:
— Ты только не думай, Владимир Викторович, что мне твоя учительша пожаловалась. Ты ее оставь с краю, так как я сам ночью твой скандал слышал, когда под луной шатался… Большой был скандал, Владимир Викторович, далеко от твоего дома слышный…
После этих слов Анискин отошел от раскрытого окна и сел на чурбачок, что был отрезан строителями от толстого бруса. Солнце освещало участкового сбоку, большой желтый квадрат лежал на его спине, и казалось, что это не солнечный блик, а желтая заплата. Он молчал, как молчал и учитель — голова у Владимира Викторовича все еще была задрана гордо, глаза прищурены, но уже на синюшные от вчерашнего перепоя щеки наползал румянец, а губы так дрожали, точно с них рвались слова.
— Я ведь знаю, отчего ты начал пить, Владимир Викторович, — совсем тихо сказал Анискин. — Тебя этот пьянюга Черкашин каждую субботу к себе затаскивает, поит чем попало и жалится тебе на то, что его зазря с колхозных председателей спихнули… — Участковый горько хмыкнул. — Черкашин — человек злобный, вредный, и ты на него, Владимир Викторович, начинаешь походить…
— В чем же? — спросил учитель. — Нельзя ли поточнее…
Он опять криво улыбнулся, этот учитель Филатов, пожал иронически плечами, хотя и видел, что до странности необычным, на себя непохожим был участковый, — не поплясывали в серых глазах Анискина желтые искорки, не говорил он задумчиво: «Так! Эдак!» — не поворачивал лицо к светлой Оби, чтобы обдувал щеки прохладный ветер.
— Ты в том Черкашину стал родной брат, Владимир Викторович, — протяжно сказал участковый, — что в людях видишь одно плохое… Потому и жену материшь, потому и в твоем классе по арифметике семь двоек, хотя по русскому — четыре… Ты на три двойки хуже о людях думаешь, чем Евгений Самойлович, что русскому языку ребятишек учит…
Анискин замолчал — лежала желтая заплата на спине, большие и заскорузлые, висели руки, чернел меж раздвинутыми губами пустой зуб. Секунд десять сидел молча участковый, потом вдруг неярко улыбнулся.
— И ко мне ты стал несправедливый, Владимир Викторович, — сказал он. — Ну, вот за что ты меня в ту субботу при Черкашине унтером Пришибеевым назвал?… Черкашин на меня злой, что я его пуще других с председателей уводил, так неужто ты для его радости меня унизил… Ведь ты раньше ко мне, Владимир Викторович, справедливо относился.
Анискин от земли голову не поднял, но по звукам из окна понял, что учитель математики прикусил нижнюю губу, неслышно положив бритву на подоконник, сжал пальцами теплое от солнца дерево. Точно наяву увидел участковый, как покраснело маленькое лицо Владимира Викторовича, повлажнели от стыда его темные глаза и как перестали трястись от волнения его похмельные руки.
— Федор Иванович… — прошептал математик. — Федор Иванович…
— А вот Федор Иванович я лет двадцать, — улыбнулся участковый. — Сначала Федюнькой звали, потом — Федькой, потом — Федором…
Участковый встал с чурбачка, медленно заложил руки за спину, но вдоль улицы не пошел, а в первый раз за все это время повернул лицо к сияющей Оби. Струился от нее, конечно, легкий ветер, пропитанный влагой, обдувал щеки участкового, открытую грудь и могучую шею. И тот же обской ветер ерошил волосы Анискина, которые были сплошь седы, но оставались густыми, как в далекой молодости.
— Я, Владимир Викторович, — сказал Анискин, — на тебя за унтера Пришибеева не обижаюсь теперь — молодой ты еще и глупый. Ты еще не понимаешь, в какое лучшее время живешь… Ведь раньше-то за унтера Пришибеева… — Участковый вяло махнул рукой. — Эх, да что говорить, Владимир Викторович!.. Молодо еще, зелено!
Не посмотрев больше на учителя, не обернувшись ни разу назад, участковый пошел длинной улицей деревни — держал ноги косо-косо, сандалиями оставлял на пыльной дороге круглые следы, через два шага на третий покачивал головой. Двигался Анискин неторопливо, но шаг у него был емкий, и вскоре он скрылся в розоватом свете солнца.
3
Как всегда, участковый проснулся около восьми часов вечера, открыл глаза, полежал немножко в тишине и неподвижности, прислушиваясь к звукам дома, — похаживала по тугим половицам Глафира, шепталась с подругой в соседней комнате младшая дочь Зинаида, поревывала в хлеве стельная корова. Под ситцевым пологом стояла жарища, духота, но Анискин не вспотел, так как во сне движений не делал.
Думалось участковому о разной разности — у Колотовкиных потерялся теленок, пятый день нету; Мурзины ждали сына из армии в отпуск, и потому вполне свободно могли настраиваться на варку самогона; в первой бригаде колхоза запропастились две бороны — старых, но ловких для конской запряжки; у Панки Волошиной опять ночевал Ванька-тракторист, парень на двадцатом году, которого родители собирались женить; рыбак дядя Анисим приторговывал на сторону запрещенной к лову стерлядью… Много всякой всячины лезло в голову Анискину, но только теперь участковый признался сам себе в том, что весь этот день с утра и до вечера непрерывно и тяжело, как река обкатывает камень-голыш, ворочал он в своей большой голове простой вопрос: «Уйдет или не уйдет?»
Шел ли Анискин к дому учителя Владимира Викторовича, говорил ли с ним, вспоминал ли прошлое, заваливался ли спать — маячило в мозгу неотступное: «Уйдет или не уйдет?» Но если раньше Анискин об этом не думал открыто, мысль о Генке насильственно гнал от себя, то теперь, под пологом, в прохладности покоя, он подумал о Пальцеве во всю силу. И как только он начал думать об этом, то понял, что и его приход к учителю, и торопливый сон под пологом, и вот теперешнее бессмысленное лежание — все было трусливым уходом от Генки Пальцева.
На последней мысли участковый застрял надолго — вздымал и ворочал ее неотступно, впитывал и отбрасывал, чтобы снова неотступно въесться. Тысячи нитей уходили в прошлое, разили и ласкали, баюкали и будоражили; Анискин то как бы вывертывался наизнанку, то как бы собирался в комочек. Как баран в новые ворота упирался в мысль Анискин и оказывался в хороводе непонятности. «Мать твою перемать!» — наконец выругался он полушепотом и тут только заметил, что покрыт липким потом. Думая о Генке, он, оказывается, ворочался в постели, делал ненужные движения руками и ногами.
— Глафира! — звучно позвал Анискин.
Никто не отозвался, шаги не прозвучали, но в разрезе полога вдруг показалось смугло-цыганское лицо, сверкнули угрюмоватые глаза:
— Но!
— Просыпаюсь — самовар ставь!
— Самовар давно вскипелый.
Глафира исчезла так же бесшумно, как и появилась, и Анискин сердито погрозил ей вслед пальцем. «Вечно все знает!» — подумал он, сбрасывая ноги с кровати и попадая ими в разношенные сандалии.
В доме перекатывалась из комнаты в комнату тишина, обычная, но неприятная для Анискина — по вечной его занятости получалось так, что жизнь семьи проходила для него незаметно, не вокруг него, а на отдаленной параллельности. Хорошо это было или плохо — об этом никто не задумывался, так как участковый Анискин не только для своей семьи, но и для всей деревни жил тайной, непонятной, необычной жизнью. Он был так же загадочен, мало похож на человека, как тот высокочиновный генерал, что все сидит и сидит в своем кабинете.
Сегодня Анискин чаевничал, как всегда, один — блаженство, восторг, удовольствие откровенно читались на его раскрасневшемся лице. Все было так, как обычно, но пил чай участковый не на дворе, а в кухоньке. И зная, что живые сутки мужа крутятся в доме вокруг трех сидений за столом: вокруг завтрака, обеда и ужина, пришла в кухню и села напротив мужа жена Глафира. Спокойно, отдыхающе, тоже с блаженством на лице сидела она. Странно это было, невозможно, но худая, мосластая Глафира чем-то походила на полного мужа — то ли манерой глядеть, то ли прихмуром бровей, то ли мужской складкой на переносице.
— Помидоры кончила полоть? — скосив глаз, спросил Анискин.
— Но.
Потекли длинные уютные минуты — Анискин пил стакан за стаканом, хрустел сахаром, смачно отгрызая зубами кусочки сала и отдувался на обе стороны. Молчала и Глафира, глядя в пол, но ухо, прямая прядь черных волос, загнутый палец босой ноги — все говорило о том, что хорошо, блаженно сидеть ей рядом с мужем.
— Ботинки Федьке купила? — протяжно спросил Анискин.
— Но!
— Это почему же?
— Они почто ему из свиной кожи-то!
Опять постояла особая, принадлежащая только анискинскому дому тишина. Участковый послушал ее, хотел что-то сказать, но раздумал и махнул рукой.
— На той неделе куплю Федьке ботинки! — поняв его, сказала Глафира. — Продавщица Дуська как узнала, что Федьке надо, так заказ на район послала. Ты ее опять прижимаешь?
— А сдачи не дает ребятишкам!.. Третьего дня Петьке Сурову три копейки недодала.
— А Дарьиной Люське целый пятак! — подумав, сказала Глафира.
— Пятак? — Анискин поставил стакан на стол, грузно повернулся к жене. — Пятак?
— Но. Она думает, что если я полаилась с Дарьей, то про пятак не узнаю. А Дарья не будь дура — приди и скажи. «Мы, говорит, хоть с тобой и полаились, но пятак ребенку недодавать — это наглость надо иметь!» Дуська-то, поди, знат про это, то и торопится Федьке ботинки раздобыть.
— Я это дело на карандаш! — улыбнулся Анискин и покачал головой. — Ох, уж эта Дуська, Дусенька, Дусек! Куда ей деньги-то?
— Пальто ново справлят! Три-то воротника шалевых привозили, так она один ведь взяла…
— Про то я знаю.
— Что же тогда спрашиваешь, на что деньги? Думаешь, у ней воротник на третий год пойдет лежать?
— И все-то ты знаешь! — внезапно строго сказал Анискин и отвернулся от жены, которая, однако, никак не отреагировала на его изменившийся голос — сидела такая же блаженная и счастливая. Она только еще глубже стала смотреть в пол, ниже нагнула тонкую жилистую шею. Улыбка вдруг пробежала по ее впалым щекам.
— У Федьки-то уж тридцать девятый размер! — сказала она.
— А ты сороковой возьми! — после паузы отозвался Анискин. — Сама, поди, сообразила!
— Но.
И опять в молчании застыла комната. Анискин выпил еще два стакана чаю, потом решительно повернул пустой стакан, пружинисто поднялся. Стол и табуретка заскрипели, заныл под слоновой тяжестью пол, встрепенулась, но снова замерла Глафира, которой не хотелось прерывать блаженные минуты безделья.
— Счас без пятнадцати девять! — сказал Анискин. — Пойду в колхоз — крупные делишки есть. Ты мне спать в сенках постели.
Он вытер полотенцем вспотевшее лицо, бросил полотенце на подоконник и пошел косолапо к дверям. Шел он неторопливо, как ходил всегда, и Глафира тоже не изменила положения — сидела на стуле, низко опустив голову, но, видимо, по звуку шагов поняла, что муж уже подходит к дверям.
— Анискин! — позвала Глафира.
— Но.
— Ты бы, Анискин, взял пистолет-то! — очень тихо сказала Глафира.
Анискин остановился в дверях, медленно, словно собранный на тугих шарнирах, повернулся к жене. Думал он недолго.
— Не возьму! — махнув рукой, сказал участковый. — Я его убивать не собираюсь!
4
Без пятнадцати двенадцать луна высоко висела над деревней, лунные тени укоротились так, что уже не шли за ногами Анискина, луна от желтизны походила на кусочек недорогого янтаря, вправленного в темную ткань звездной расцветки. Прохладной, светлой и легкой вызрела обычная нарымская ночь.
В темени Анискин чувствовал себя превосходно — не болело сердце, не ныли ноги, не схватывало под ложечкой сосущее чувство угасания; здоровым, бодрым, веселым ощущал участковый себя ночью и потому в молодой первозданной свежести воспринимал все, что происходило вокруг. Хорошо светила Анискину луна, пела по-молодому далекая гармошка, как бы к нему тянула лунный зигзаг Обь.
Гармошка пела волнующее: рассказывала, как собирались комсомольцы на гражданскую войну, как пожал он подруге руку и глянул в девичье лицо; про небольшую рану, про мгновенную смерть рассказывала гармошка, и остановился Анискин, так как о его молодости, о нем самом пела гармошка. «Смешной я, но хитрый! — подумал участковый. — Ведь знал, когда Генкин арест обозначить — на ночь!» Помолодел от гармошки, стал даже красивым участковый уполномоченный Анискин!
Генкин дом стоял на окраине. Висел на старой ветле засохший скворечник, в хлеве тревожно помыкивал недавно подкастрированный бычок, сплошным золотом лежала на окнах лунная печать. Двор заполняли тени — отбрасывал их журавль-колодец, маленькие кладовочки и стаечки, чуланчики и подчуланчики. Словно сами по себе, а не от луны жили во дворе дома эти тени, серовато-темные, словно не лунные. Анискин подошел к дому, долгим взглядом посмотрел на него. «Эх, Митрий, Митрий!» — подумал он.
Никто в деревне не знал, почему, но в скворечнике дома Дмитрия Пальцева и его сына Генки никогда не селились скворцы. Взволнованные, нервные птицы прилетали с юга в родные края, в драке и спешке занимали подряд все скворечники в деревне, а вот скворечник пальцевского дома облетали. «Эх, Митрий, Митрий! — опять тоскливо подумал Анискин. — Мильоны людей Советская власть взяла в себя, а ты как был, Митрий, подкулачником, так им и остался!»
Участковый без скрипа открыл плотную высокую калитку, вошел во двор, волоча за собой серовато-черную тень без ног. Тень наискосок прошила двор, вильнула меж чуланчиками и сараюшками, замерла возле большого сарая. В открытые двери охотно и уверенно залезал лунный свет, матово высвечивая внутренность. На этой матовости виделись две зеленые точки и одна белая полоска.
Войдя в сарай, Анискин понял, что это такое — две зеленые точки и одна светлая полоска. Оскалив белые зубы, с остекленевшими глазами сидел на перевернутом корыте Генка. Он держал в руке матово-тусклый пистолет, рука неловко согнулась, так что неизвестно было, куда направлено оружие. Когда проскрипел и замер по песку Анискин, ствол пистолета повернулся к участковому. Повернулся и замер.
— Убью! — сказал Генка.
Обнажив зубы, Анискин нехорошо улыбнулся.
— Не убьешь! — сказал он. — Раз не ушел, значит, не убьешь! Ты такой же трус, как твой отец… Потому я решил тебя еще попытать — сможешь ли ты стать человеком? Нет! Я даже краешком мысли не думал, что ты уйдешь, потому и дал тебе условие… Теперь вижу, что тебя надо отдавать под расстрел! Убийцы от нас не уходят…
Косолапой, неторопливой походкой, шаркая задниками стоптанных сандалий, участковый пошел на Генку. Шел прямо на зияющий зрачок пистолета, шел большой, толстый, похожий на загадочного восточного бога.
Луна над Обью
1
В субботу после бани кузнец Юсупов пришел к участковому уполномоченному Анискину. Пропарился кузнец на шесть рядов, но угольной гари отмыть, конечно, не смог, потому глядел на свет божий синюшными, как у негра, глазами. Руки кузнеца, привыкшие к клещам и молоту, на свободе болтались, точно привязанные, и он их прятал за спину.
— Так что будь здоров, товарищ Анискин! — поздоровался кузнец и покашлял. — Если, к примеру сказать, ветра не будет, то завтра большая жара прибежит. Сегодня калил листову сталь, так шип мягкий — это к жаре…
— Каротель жру! — ответил Анискин. — Врачи приписали: мясо не ешь, рыбу не ешь, масло не ешь… Это рази жизнь? — вдруг рассердился участковый и рачьими глазами посмотрел на кузнеца.
Солнце не то садилось, не то еще пыталось удержаться на белесом июльском небе; никаких лучей по горизонту не бродило, так что время казалось неопределенным — то ли три часа дня, то ли шесть вечера. Анискин посмотрел на солнце, на старый осокорь возле дома, время, конечно, не определил и подумал рассерженно: «И когда это люди успевают в бани ходить!» После этого он бросил морковку на землю.
Они молчали, наблюдая за рыжим петухом. Тот боком-боком, словно не по делу, подходил к огрызку морковки. Смотрел петух в сторону, в чужую ограду, а подошедши к морковке, замер, нагнав на глаза пленку. Хитрый был петух, бросовый, расторопный только насчет чужих куриц, и Анискин сердито свел брови, но поздно — в ту же секунду петух подскочил, изогнувшись, клюнул морковку, взлетел на выщипанных крыльях — и ни морковки, ни петуха… Анискин дернул губой и сказал:
— В суп!
— Все может быть! — подумав, согласился кузнец. — Я ведь к тебе по делу, Анискин.
— Ко мне без делу народ не ходит! Давай докладай.
На крутой излучине Оби серебряной рыбой барахтался уходящий пароход «Пролетарий», березы и сосны на берегу стояли в немости, солнца в небе по-прежнему не было — растеклось, расплавилось оно по белесому куполу. Стояла на месте — ни текла, ни струилась — река Обь, полтора километра от берега к берегу.
— Струмент и запчасти пропадают! — стеснительным шепотом сказал кузнец. — Уж не скажу за шестеренки, вчерась целу ось стебанули. Так дело пойдет, мне вскорости в кузне только картохи варить останется…
— Так! Вот так!
Повернувшись, участковый посмотрел на кузнеца насквозь и внутрь, приподняв одну бровь, смерил его взглядом с ног до головы, улыбнулся непонятно и, сложив руки на громадном пузе, стал покручивать пальцами. Сперва он крутил их по солнцу, потом против солнца, затем вертел без всякого смысла.
— Докладай! — недовольно сказал Анискин. — Воруют с умом или без ума?
— Тут как сказать, тут если к примеру…
— Не разговаривай, докладай!
— Кто ворует, тот человек, конечно, не глупой, ежели рассуждать. Вот тут какая история…
Запутавшись, кузнец сбросил руки с коленей, взмахнув ими, сбился, — непривычны были его руки к свободе от клещей и молота, мешали кузнецу.
— История, история, — передразнил Анискин. — Это тебе не молотом махать, а докладать… Теперь молчи и отвечай. Из чего воровано, ты машину можешь сладить? А?
— Каку машину?
— Любу!
— Никаку машину я из ворованного сладить не могу! — вдруг весело сказал Юсупов. — Ху ты, господи, да каку машину сладить можно, если берут что попадя…
Кузнец опять взмахнул руками, стал даже подниматься с места, радуясь тому, что понял Анискина, но участковый посмотрел на него строго:
— Если сел, то сиди! Руками не маши.
Слоноподобен, громоздок, как русская печь, был участковый уполномоченный Анискин, от жару красен лицом, словно перезревший помидор; думая, он сдвигал пышные брови, глаза по-рачьи таращил, и кузнец Юсупов почувствовал, как страх заползает в его грудь. Страшно было оттого, что рачьи глаза участкового мысли его прочли, точно были написаны они крупными буквами на линованной бумаге. И кузнец перестал дышать, и виновато спрятал глаза, и тихо-тихо сказал:
— А вчерась прихожу в кузню, горн еще теплый.
Как только он произнес эти слова, Анискин быстро повернулся к кузнецу и отрывисто вскрикнул:
— А?!
После этого участковый занял прежнее положение и сделался таким спокойным, точно никаких событий не происходило. Он ласкающим взглядом посмотрел на серебряную загогулину Оби, увидел, что солнце все-таки опадает на сиреневую черточку горизонта, что по реке тащится лодка-завозня, над кедрачами проступает прозрачная льдинка месяца.
— Вот что, Юсупов, — медленно сказал Анискин. — Ты теперь вали себе домой. Домой, говорю, вали, так как мне вопрос ясный…
Кузнец поднялся с лавки, затолкал руки за спину, глядя на Анискина исподлобья, стал пятиться задом к калитке. Как на нечистую силу, как на бабу-ворожею смотрел Юсупов на участкового Анискина, и казалось, вот-вот поднимет кузнец руки и осенит себя крестным знамением: «Свят, свят!»
— До свиданья, до свиданья, дорогой! — махал рукой участковый.
Когда кузнец окончательно ушел, Анискин, выпучивая глаза и отдуваясь, стал выстукивать пальцами грозный и непонятный марш. Тарабанил он громко и четко, как нанятый. Потарабанив минут пять, подмигнул сам себе и встал. В три громадных шага он приблизился к дому, остановился возле открытого окна. Послушав тишину, Анискин подергал губами, застегнул все пуговицы на рубахе и спиной прислонился к бревенчатой стене.
Минуты две он шарил ногами по раскаленной земле, наконец нашел сандалии и сам себе улыбнулся.
Гулко пришлепывая сандалиями, он двинулся к калитке.
2
Минут через сорок участковый остановился возле домика с покосившимися воротами, минуту подумав, приник глазом к щелочке меж досками. Хозяйки дома Алевтины Прокофьевой в ограде он не увидел, да и увидеть не ожидал, так как она утром на ближних покосах копнила сено. Зато во дворе находился ее сын Виталька — парень лет шестнадцати. Он сидел на тесовом крылечке и, низко склонив голову, скреб железом о железо. Над длинным носом парня мотался белый чуб, ниже оттопыривались крупные мальчишеские губы.
— Механик! — шепотом сказал Анискин.
Минуты три участковый стоял неподвижно, разглядывая двор и Витальку — хоть и одним глазом смотрел он, но приметил, что двор чисто подметен, летняя плита выбелена, лебеда и лопухи скошены, а оба сарайчика и стайка подлатаны новыми досками. Все это, конечно, произвел Виталька, так как Алевтина и молоток в руках держать не умела. Анискин хмыкнул, отстранился от щелки и почесал указательным пальцем нос.
— Холера! — сказал он.
Анискин сел на скамейку возле ворот, расставил ноги, расстегнул три пуговицы на рубахе, повернул лицо к реке, хотя она по-прежнему прохладой не дышала; стеклянной, расплавленной казалась Обь, и смурно, тяжко сделалось Анискину. Стояли перед глазами яркие заплаты тесин на старом заборе Прокофьевых, вился белесый Виталькин чубчик. Анискин снова тяжело вздохнул и так почмокал губами, словно раздавил на зубах терпкий стебелек полынь-травы.
— Язва! — выругался Анискин.
Вжикало железо об железо на дворе, сам по себе кряхтел старый дом, попискивало в горле у Анискина. «Жизнь! — думал он. — Река течет, солнце светит, комар летит. Жизнь!» Анискин косился левым глазом на ветхий прокофьевский домишко и вспоминал, что недавно — господи, совсем недавно! — хвалился дом на всю улицу белизной стройных ворот, вздыбленной крышей, широкими окнами в синих наличниках. А теперь… Проникла в грудь Анискина холодная льдинка, перевернулась с болью под сердцем и медленно-медленно, как вода в сапог, вошла в него.
Минут десять просидел Анискин на лавочке Виталькиного дома, потом тихонечко прицыкнул зубом, поднялся и неохотно, точно сам себя вел за шиворот, пошагал к воротам. Возле них опять постоял немножечко — смурной, тяжелый.
— Хозяева, а хозяева, — после молчания негромко позвал он. — Кто есть живой?
За вжиканьем железа Виталька голос участкового не расслышал, и потому Анискин сам открыл маленькую калиточку, полез в нее, пыхтя и причмокивая.
— Ну, здорово, Виталька! — негромко произнес участковый.
Железо вжикать перестало. Приподняв голову, Виталька увидел участкового, и произошло такое, от чего Анискин открыл рот: Витальки на крылечке вдруг не стало. Вот сидел он и вжикал железом об железо, а вот — его нету. От такого чуда Анискин тонко присвистнул.
— Ну петух! Спортсмен! — покачав головой, сказал он. — Бегун!
Анискин сел на крылечко, положил подбородок на руки и протяжно зевнул — хорошо было на прокофьевском дворе. Занятая колхозными делами, Алевтина куриц, свиней, гусей и прочую живность вывела, бабскими бирюльками заборы не запакостила, чистоту блюдя, и от этого душе было просторно. Поэтому Анискин еще раз зевнул и подумал: «Аккуратная баба Алевтина, хоть и без мужика живет. И Виталька пацан хороший — ишь как убег!»
— Подожду! — сонно пробормотал Анискин. — Мне чего!
Виталька возвращался, видимо, босиком, так как стука ботинок не слышалось, но участковый уловил натруженное сопенье. Это парнишка так притомился, убегая. Потом в дверях стайки показались белесый чубчик и край синей рубахи, неосторожно выставленные Виталькой, когда он выглядывал.
— Знает кошка, чье мясо съела! — негромко сказал Анискин. — Знает! Бегун, спортсмен… Сопреешь в стайке-то. От тепла навоз горит и сам тепло дает…
Подбородок Анискина по-прежнему лежал на руках, потому слова он произносил невнятно, жеванно, но тон был добродушный и сонный — слышалось по голосу участкового, что сидеть на крылечке он собрался долго. В стайке громко запыхтели, что-то грохнуло, и Виталька боком выдвинулся на свет.
— Бегаешь ничего, ударно! — сказал Анискин. — Если капусту испоганил, мать тебя за это по головке не погладит.
— Я другой стороной бежал, — сорванным голосом ответил Виталька. — Картохами…
— Ну, ну! Иди сюда.
Глядя в землю и жалко поводя шеей, Виталька приближался к Анискину на манер кролика, замордованного глазищами змея-удава. Вот сделал три шага, четыре, вот поднял голову и дальше пошел так, словно двигался по тонкому тросу, висящему над землей. Вспотевший лоб у парнишки был большой, как у недельного телка, и Анискин улыбнулся.
— Спортсмен! — сказал он. — Ты рубаху-то не жуй, рубаха денег стоит… Садись рядом со мной, отдышись и нос вытри…
Отвернувшись от Витальки, участковый опять положил подбородок на руки и закрыл глаза. Сладко ему было, прохладно от тени на крылечке, но мысли приходили грустные. Он думал о том, что дерево — непрочная штука, коли за тридцать-сорок лет дома оседают в землю, а ворота скашиваются. «Кирпич, конечно, прочней, — размышлял Анискин. — Если бы на Черной речке брать глину, то кирпичом хоть завались, но председатель по молодости лет не понимает… Эх, председатель, председатель!» О кирпичах и председателе Анискин думал минут пять, потом, не поворачиваясь к Витальке, сказал:
— Тебе, Виталька, воровать нельзя; у тебя вся правда на морде написана!
Участковый еще минуту подумал, вздохнул и медленно поднял голову с рук.
— Ну ладно! — сказал он. — Теперь ты меня туда веди, где железо и разные шестеренки.
— Ой! — вздохнул Виталька. — Куда это?
— Веди, веди!
И пошел Виталька впереди Анискнна к сараю, и открыл дверь, и прошептал ватными губами:
— Сюда…
Анискин вошел в темный сарай, остановился, пригляделся, ничего не поняв и не разобрав, начал шарить рукой у себя под задом. Он нащупал чурбачок, сел на него и внезапно тонко ойкнул.
— Матушки! — пробормотал он. — Родненькие!
В сарае стояла машина, похожая одновременно на велосипед, жнейку, стрекозу и паука. Стоять-то она стояла, но это только казалось в первый момент, потом же Анискин почувствовал, что голова у него кружится, кружится, так как машина уже мерещилась висящей в воздухе, хотя она и не висела: еще через секунду все сходства пропали, и машина походила только на стрекозу, и от нее на лицо повеяло ветром, нанесло прохладой. Анискин зажмурился и отчаянно повторил:
— Матушки!
Когда же он снова открыл глаза, то машина опять стояла на земле, ударяя в глаза четырьмя загнутыми лопастями, яркими фанерными хвостами, прозрачным от ребер мотором и лихо вынутым стеклом из плексигласа. Две автомобильные фары бросали розовый отблеск, и от этой розовости машина казалась вся алой.
— Что такое? — спросил Анискин. — Что, спрашиваю?!
— Геликоптер.
Розовые отблески по-прежнему били в лицо участковому, он стал отвертываться от них и отвернулся бы, если бы не понял, что это отражается в фарах солнце, которое, уже склонившись к закату, пробивалось розовыми лучами в щели сарая. Поняв это, Анискин от розовых бликов уклоняться не стал, потряс головой и хрипло пробасил:
— Что же это делается? Матушки!
Посмотрев на машину, Анискин закрыл глаза и сразу прикрыл пять или шесть тайных милицейских дел. Ничего не видел он и, конечно, не заметил, как Виталька подошел к нему, как вытянул дрожащую руку и положил на плечо участкового.
— Дядя Анискин! — жалобно прошептал Виталька.
— Анискин, Анискин, Анискин, — как эхо повторил участковый. — Эх, Анискин, Анискин!
Именно на участкового смотрели со странной машины фары от колхозного грузовика, плексиглас от председателевой моторки, подмигивал белой свечкой мотор от милицейского мотоцикла, а позади смеялся аккумулятор от старой колхозной трехтонки. Сразу четыре покражи глядели на Анискина ясными глазами. И он снял руку парнишенки со своего плеча, так как жгла его Виталькина рука, давила пудовой тяжестью. Сердце заходилось у участкового, когда видел он белый чубчик и светлые мальчишечьи глаза.
— Сядь, не дыши, молчи! — вяло сказал Анискин. — Сиди, как сидишь!
Горестно, как на последний осенний пароход, что уносит по Оби музыку и теплое шипенье пара, глядел Анискин на висящий в воздухе мотор. Что из того, что снял его Виталька со списанного мотоцикла? Все равно целый месяц участковый не мог сунуть носа в райотдел, а когда все-таки совал по неотложной надобности, то от стыда другим участковым в глаза не смотрел.
Три месяца рыскал Анискин по деревне в поисках аккумулятора, фар и плексигласа, но ничего не нашел, а только перессорился с добрым десятком мужиков, запятнав их напраслинными обвинениями. С ног до головы припозорился Анискин на этих загадочных делах, а вот оно… что… Стоит посередь сарая чучело не чучело, машина не машина и светит Анискину в глаза автомобильными фарами. Сидит рядом парнишенка Виталька и уже без всякого страха лупает глазищами, стараясь понять, чего это участковый вздыхает, чего уронил голову на грудь. Эх, жизнь-копейка!
— Виталька ты, Виталька! — горестно сказал Анискин. — Чего же ты это со мной произвел, чего же ты такое над дядей Анискиным выстроил! Эх!
— Дядя Анискин, — позвал Виталька. — Дядя Анискин!
— Ну что «дядя Анискин»! Дурак твой дядя Анискин. — Участковый заглянул парнишке в лицо, поцыкал зубом и опять уронил голову на грудь. Молчал он, наверное, минуту, потом тихо-тихо сказал: — Ведь отчего я вора найти не мог? А оттого, что такую машину и во сне не придумать. Я что искал? Мотор украли — на лодку-моторку, фары свистнули — опять же на лодку-моторку. Я всех рыбаков в муку ввел с этим делом. Дружков в подозренье имел. Эх, жизнь, жизнь!
— Арестуй меня, дядя Анискин! — тонко сказал Виталька. — Вяжи меня — я во всем виноватый!
— Вяжи?
Усмехаясь, Анискин вернулся к чурбачку, удобно устроился на нем, стал глядеть на Виталькину машину. Солнце, видимо, садилось — прозрачные лучи проникали в сарай, рассыпавшись, охватывали вертолет со всех сторон; казалось, что машина тает, вздымается на колесах, делается легче воздуха, а краски набирают силу. Только теперь увиделось, что стоит машина на трех колесах — одно от детской коляски, а два… два от того же списанного милицейского мотоцикла — и что колеса стоят на земле так легко и зыбко, словно меж ними и землей просвечивает воздух. А потом Анискин увидел такое, отчего сердце екнуло: бензиновый бак от старой кинопередвижки.
— Ах, Виталька ты, Виталька!
Анискин почувствовал к себе горькую жалость и вяло подумал: «Свольнять меня надо с работы! На пенсию меня надо, сукиного кота!»
— Ты в каком классе? — тихо спросил Анискин.
— В десятый перешел.
— Английский изучашь или немецкий?
— Английский.
Казалось, в фарах зажглась маленькая лампочка и колола лучиками Анискина в глаза, а вторая фара — подмигивала. Поэтому Анискин на месте больше сидеть не смог, поднялся и пошел по сарайчику, сам не зная зачем, сам не зная почему. Он потрогал носком сандалии землю — сухая и твердая, пощупал пальцами гвоздь, вбитый в стену, — теплый и шершавый, поднял с верстака несколько книг. Светло было в сарайчике, но участковый прищурился, когда читал заголовки: «Теория крыла», «Математический анализ», «Кибернетические системы», «Сопротивление материалов».
— Дела! — сказал Анискин.
Он перелистнул книгу с названием «Теория крыла», приблизил страницу к лицу, секунды две-три смотрел на незнакомые значки и буквы, но голова пошла кругалем, в глазах зарябило, хотелось гладить себя по затылку и чесать нос. Свободы хотелось, вольного воздуха, простору.
— Виталька ты, Виталька! — тихо повторил Анискин. — Я ведь никогда бы не поймал тебя, если бы про горн не услышал. Тут я сразу скумекал, что это дело неразумного мальчишенки. Никакой мужик не станет в кузне озоровать, ежели состоит при воровстве.
— Шестерню на вал насаживал, — колупая землю ботинком, ответил Виталька. — Без кузни нельзя…
— Виталька ты, Виталька!
Во все глаза смотрел Анискин на парнишку, — прикидывал так и эдак, но ничего особенного не видел: тоненькая шея, мальчишечий кадык, пухлые губы, светлые от честности глаза. Мальчишка как мальчишка, а вот поди же ты… «Захочет — может по-английски заговорить!» — вдруг подумал Анискин и неожиданно для себя спросил:
— Полетит?
— Должна полететь! — тихо ответил Виталька. — Считана.
Опять повернулся Анискин к машине, теперь смотрел на нее спокойными, глубокими глазами. Он разглядел четыре лопасти, клеенные из разноцветного дерева, пропеллер меж фанерными хвостами, велосипедное сиденье и разноцветные маковки рычажков. И пахло тоже основательно — бензином, краской и машинным маслом.
«Полетит машина, — подумал Анискин, — возьмет себе и полетит!» Затрещит мотор, закрутятся клееные лопасти, замельтешит малюсенький пропеллер на хвосте; сядет Виталька Прокофьев на велосипедное сиденье, чего-то нажмет, чего-то подкрутит и — полетел, полетел! Машина поднимется над кедрачами, просвистит над деревней, повиснет стрекозой над Обью. Высоко-высоко повиснет машина над рекой, и Виталька Прокофьев увидит всю Обь, и старый осокорь, и разрушенную мельницу, и молодые березы над покосившимися крестами деревенского кладбища…
Так запечалился участковый уполномоченный Анискин, что застилала глаза влажная пелена. Ослеп он и, шатаясь, вернулся на чурбачок, шепча про себя: «На пенсию меня пора, на пенсию!» А что еще делать с человеком, у которого со двора крадут мотоциклетный мотор, который смотрит на шестнадцатилетнего мальца и ничего в нем не понимает?
— Эхма, жизнь, жизнь!
Вспомнил Анискин, что в прошлом году его не записали в кружок английского языка, а на политзанятиях майор говорил: «Кое-кому этот материал можно пропустить!» Понятно теперь это «кое-кому», понятно. На пенсию, на пенсию пора! Сдаст Анискин наган и удостоверение, фуражку и милицейскую шинель, вернется домой и скажет: «Вот я! Принимай, Глафира!» Белых куриц разводить — вот чем займется Анискин. Таких белых куриц, каких недавно привезли в совхоз Тельмана…
— Как белые курицы называются? — досадливо спросил он Витальку. — Те, что в Тельмане?
— Леггорн, — ответил Виталька.
«Леггорн!» Язык свертывается в трубочку, дыханья не хватает, когда произносишь такие слова, а парнишенка так и чешет: «Леггорн, леггорн!» Все они знают, эти молодые, да ранние — отпечатки пальцев берут, анализы разводят, версии разрабатывают, фотографируют, проявляют, следы линеечкой меряют, в лупы смотрят. Молодые, ученые! Найдет такой молодой да ученый человеческий волос, глянет на него сквозь стекло и: «Рост сто восемьдесят шесть, на один глаз косой, левая нога короче правой…» Конечно же, у такого мотор от мотоцикла не уведешь.
— Арифметика! — вслух сказал Анискин. — Химия!
— Лопасти собирал на синтетическом клее… — протяжно ответил Виталька.
Клей у них синтетический, системы кибернетические, матрасы поролоновые, стекла плексигласовые, по-английски кумекают. Нет, нет, куриц разводить, как в совхозе Тельмана! Каждый день — яйцо, петухи — спокойные, грязи курицы боятся, потому что…
— Как белые курицы называются? — крикнул Анискин.
— Леггорн!
Мать твою перемать! Стоит Виталька перед Анискиным, носом хлюпает, штаны держатся на одной пуговице, губы распустил, передние зубы кривые, а ведь вот… Лопасти, винты, мотор, сиденья — все как полагается. И полетит.
— Молчи! Не разговаривай! — прикрикнул Анискин.
— Я молчу, дядя Анискин!
В последний раз посмотрел участковый на машину — долго и спокойно, просто и буднично, оценивающе и критически. Теперь он увидел, что машина покрашена неровно, фанерные хвосты со щелями, под мотором — лужица масла, а на левой фаре змеевидная трещина. Потеки клея на лопастях приметил участковый, обратил внимание на то, что кособочит машина на трех колесах.
— Бензин есть? — спросил он негромко.
— Есть.
Анискин застегнул все пуговицы на рубахе, расчесал пятерней волосы, криволапо ставя ноги, пошел к дверям сарая. Потухающие солнечные лучи все еще проникали в щели, и когда участковый шел, они то вспыхивали, то гасли на его широкой спине. Возле дверей Анискин остановился, не повертываясь к Витальке, сказал:
— Полетишь в воскресенье!
Анискин открыл дверь, сопя и прицыкивая зубом, выбрался во двор, плюнул на траву и скорым шагом пошел на улицу. Он не останавливался до тех пор, пока не оказался на берегу реки. Здесь он выпрямился, заложил руки за спину, могучий, громоздкий.
— Ишь ты! — шепотом сказал он реке.
Солнце совсем ушло за горизонт, только несколько крутых лучей еще шкодничали над розовой кромкой, небо было темно-сиреневым, а над головой Анискина, клонясь к старому осокорю, висела прозрачная луна. Анискин поднял голову и смотрел на нее до тех пор, пока в глазах не замельтешили разноцветные точечки.
— Эхма! — вздохнул участковый. — Жизнь!
Мерцая миллионами лун, холодная и толстая, текла в берегах Обь; текла и текла неизвестно куда, неизвестно зачем. Поблескивал жесткими свинцовыми листочками старый осокорь, шелестел тоже неизвестно зачем, неизвестно о чем. И были у луны глаза и рот, а зачем были, почему были — неизвестно!
— Жизнь! Жизнь! — шептал Анискин. — Мать-матушка!
А кто-то знал, куда текла река, отчего у луны были глаза и рот, о чем шептался с луной старый осокорь. И кто-то знал, отчего растут березы на обском взгорке, где дыбятся редкие почерневшие кресты, среди которых будет лежать Анискин, когда последняя луна посмотрит на него последними глазами. Посмотрит и уйдет навсегда…
Лосиная кость
1
В августе, пополудни, к колхозной конторе прибежал всеобщий пес Полкан и стал зарывать в лопухах мосластую кость. Колхозный сторож Дорофей хотел было уж пужнуть его, как заметил, что кость-то не коровья, не свиная, не овечья. Старик Дорофей славился ленью, но тут со скамеечки сполз, наставив на Полкана дробовик, принудил отдать кость.
— Дура! — сказал он собаке. — Кость-то лосиная!
Возле колхозной конторы, конечно, сидели на лавочке два бывших председателя, томились, и через полчаса до участкового уполномоченного Анискина докатилась весть о лосиной кости. День был не особенно жаркий; толстый Анискин минут через десять пришел к конторе. Он нюхнул кость, подбросил ее в руке и лениво сказал:
— Вот кого терпеть не могу, так это бездельников. Из городу тунеядцев в деревню шлют, а вас надо из деревни — в глухую тайгу. И что за мода: как человек в председателях побудет, то потом работать не хочет. Я скоро вас зачну без всякой загвоздки штрафовать!
После этого Анискин достал из парусиновых штанов газету, завернул в нее кость и позвал Полкана:
— Фьють! Где кость взял?
Полкан посмотрел в глаза Анискину, растерявшись, виновато помахал хвостом.
— Ну ладно, ладно! Без тебя знаю, где такие кости есть.
Деревня пусто и безголосо лежала вокруг конторы, млели в небе облака, розовые, августовские; не ходили по улицам люди, не катались подростки на велосипедах, не семенили к колодцам старухи, не голосили грудные ребятишки — вымерла деревня, словно злые татарские орды угнали народ.
— Радость-то какая! — улыбнувшись, сказал Анискин. — Человека нет в деревне! Ну, ни одного человека нет! Вот какое действие произвели на народ постановления партии и правительства, а вы, паразиты, лодырничаете! Нет, я вас непременно зачну штрафовать!
Строго посмотрев на бывших председателей, Анискин поманил пальцем сторожа Дорофея:
— Подь сюда!
— Кого прикажешь, товарищ Анискин?
— А это сейчас узнаешь!
Анискин сладостно поводил головой, подставляя лицо ветру, который неторопко тек с реки, щурился, как сытый кот. Он блаженно вздохнул и сказал:
— Дорофей, а Дорофей, ты, поди, думаешь, что я не знаю, как ты ночами на посту спишь? Ты думаешь, я не знаю, что ты третьего дни на дежурстве бутылку самогонки выпил и песни в конторе играл… Стой, не маши руками! Это я на тебя должен руками махать, но не махаю, а, наоборот, по причине твоей грыжи за тебя перед председателем заступаюсь. Но мы тебя с поста уволим, Дорофей, ежели ты мой приказ не исполнишь!
— Я тебя слушаю, товарищ Анискин!
— Правильно! Так и стой: пятки вместе, носки врозь… А приказ такой. Ежели еще раз к конторе этих тунеядцев пустишь, быть тебе в критике! Понял? Сполнишь?
— Сполню, товарищ Анискин! — выпучив глаза, заорал сторож.
— И вот и ладно!
Еще раз строго поглядев на председателей и подставив ветру лицо, Анискин хлопнул Дорофея по плечу, сипло хмыкнул и пошел берегом реки, чтобы бросалась в глаза вся Обь — с крутой загогулиной и пространственностью, чтобы от бескрайности реки было радостно глазу и душе.
Прошагав с полкилометра, Анискин подвернул к одному из домов, отворив калитку, вошел во двор.
— Ай, есть живые! Живые, говорю, есть! — окликнул он.
Как и во всей деревне, в доме не было ни голоса, ни звука; среди амбарчиков, стаек и клетушек звенела комариная тишина, зарывшись в песок, млели куры, стоял на одной ноге петух с выдранным хвостом, и, как во всей деревне, двери дома не были закрыты — зияли темным провалом, и Анискин сделал шаг к крыльцу, но остановился. Потом опять сделал шаг к крыльцу и снова остановился.
— Ах, мать честная! — пробормотал он. — Ну, напасть!
Ни один живой глаз не видел Анискина, ни одно ухо не слышало его астматическое дыхание, но он никак не мог перешагнуть ту черту, что невидимо лежала возле крыльца. Смешно это было — толстый Анискин и невидимая черточка на земле, но он накатом вспотел, покраснев лицом и шеей, злобно взмахнул рукой.
— Мать твою перемать! — вслух выругался Анискин. — Это ведь мне придется лишне дело делать!
Он гневно осмотрел дом и ограду, обругал шепотом полуметровые лиственничные стены и окна, похожие из-за узкости и малости на амбразуры дота, обложил трехэтажно купеческие амбарчики, стаечки и чуланчики, вызверился на две пустые собачьи конуры и в злобе дошел до того, что и петуха с курами послал в даль далекую. Анискин с грохотом открыл калитку, выбросился на улицу и погрозил дому кулаком:
— Так-перетак!
Подумав, Анискин сел на лавочку, бросил на землю газету с костью и расстегнул на рубахе все пуговицы. От резких движений он немного успокоился, но на излучину Оби и на кедрачи по берегу смотрел по-прежнему сердито. «Это надо же! — подумал Анискин. — Поля ушли в таку даль, что и реки нет! Все расширямся и расширямся, а куда расширямся!» Бормоча, он затих и так просидел минут пять. Затем тихонечко встал, спрятал газету с лосиной костью под лавку и облегченно вздохнул: «Все равно придется идти!»
2
Анискин из-за того злился на Обь, что она на поля с ним не пошла — через два километра река отвернула в сторону со своим глинистым ветерком и легкой для дыхания пространственностью, спряталась в тальниках, поначалу посверкивая сквозь них, а потом и совсем пропала. Участковый сразу вспотел, пошел тише и медленней, и к бригадному табору прибыл в промокшей от пота рубахе. Обрадовавшись тишине и безлюдью, он зачерпнул из железной бочки ведро воды, с размаху вылил на себя.
— Матушки! — тонко воскликнул он. — Это ведь праздник!
Анискин дал стечь воде с головы, пофыркал, как лошадь, и только тогда строгими глазами осмотрел табор — два шалаша из соломы, врытый в землю обеденный стол, лежащие на земле телогрейки. В тени того шалаша, что был побольше, лежали сверточки и кулечки, мешочки и сумочки, бутылки с молоком и кринки со сметаной.
— Так! Так! — помычал Анискин. — Так! Так!
Он подошел к мешочкам, кулькам и бутылкам, широко расставив ноги, чтобы можно было нагнуться, просветленными от холодной воды глазами зашарил по мешкам, кулечкам и бутылкам. Руками Анискин опирался на колени.
— Ситцевый мешочек теткин Марфин, — бормотал он, — она его из той кофты сшила, что купила на встречу Федьки-солдата… Тут, конечно, Марея свои манатки держит — это ее противогазна сумка… А Ленька-то, Ленька Путяшев, тракторюга-то, из холстины мешок сшил… Ну, сумка, которая хуже всех, конечно же, Варварина, потому как на всей деревне другой такой грязнули нет… А вот эта сумка та и есть, котору я ищу… Ну конечно, она!
Повеселев, Анискин хотел распрямиться, но раздумал и еще несколько секунд постоял в прежней позе.
— Ах, Митрий, Митрий! — беззвучно хохоча, сказал он. — Это ведь как в песне поется: «Какой ты был, такой ты и остался!»
Он хохотал потому, что на брезентовой сумочке — самой большой и туго набитой — лежало несколько свежих травинок. Одна из них шла от угла к кальсонной пуговице, вторая под прямым углом перекрещивала ее, а остальные лежали так себе, без всякого смыслу.
— Ах, Митрий, Митрий!
По-прежнему хохоча, Анискин тяжело опустился на колени, на четвереньках подполз к брезентовой сумке и, опасаясь сдвинуть травинки, понюхал.
— Ну ладно!
Анискин поднялся с земли, старательно стряхнул солому с коленок и солнечно, дружелюбно по отношению к миру улыбнулся. Так счастлив сделался Анискин, что вдруг подпрыгнул на одной ноге, прихлопнул ее второю, как в украинском танце. Были полны улыбки его серые глаза, лоснились блестящие губы, лихо торчали в вороте распахнутой рубахи густые волосы.
— Ну, конечно же, это Митрий! — радостным голосом сказал он. — Ну, конечно же, это Митрий!
Анискин в первый раз внимательно посмотрел вокруг себя. Он увидел бескрайнюю желтизну пшеничного поля, голубое небо, августовскую зелень тальников, что стремились к далекой реке; увидел он всполохи работающих жнеек, тяжелую поступь комбайнов, разноцветные кофты женщин — всю ту веселую кутерьму, которая называется жатвой и которая веселит сердце всякого человека, деревенский он или городской, безразлично. Все это увидел Анискин и еще раз рассмеялся, а потом выпрямился, туго свел на переносице брови, заложив руки за спину, через кошанину пошел к березовому колку.
Выбрав тенистую березу, Анискин уперся в нее плечом, подумав, вынул руки из-за спины, сложил их на пузе и стал покручивать пальцами с таким видом, словно стоять под березой было для него самое большое удовольствие в жизни. Водяные пятна чернели на вышитой украинской рубахе, легкие волосы — все сплошь седые — прилипли к голове. Сейчас походил он на веселого и лукавого восточного бога.
— Ну ладно! — тихонько пробормотал Анискин. — Мы его сейчас! Мы его мигом…
Нужная Анискину лобогрейка, стрекоча, приближалась. Машина суетливо махала крыльями, сквозная от этого, походила на бабочку-однодневку, что в короткой жизни своей низко стелется над землей. Суетлива была конная машина лобогрейка, но еще суетливей казался сидящий на ней человек — хоть и делать ему было нечего — сиди да покачивайся на стальном сиденье! — он то мельтешил руками, то страхотно прикрикивал на лошадей, то перекладывал вожжи из руки в руку. Уж такой это был человек, что, работая, он суетился, жил в волнении и страхе.
— Ах, Митрий, Митрий! — укоризненно пробормотал Анискин.
Развернув лошадей, Дмитрий Пальцев остановился, соскочил на землю, в суете и волнении придавил ногами вожжи, быстро вынул из кармана длинный кисет. Еще больше суетясь руками и телом, он начал скручивать самокрутку, поглядывая на лошадей, на кошанину, на Анискина. Анискин неслышно вздохнул: «Ну, беда! Это он потому злится, что другие работают!» Участковый все покручивал на пузе пальцами, но был уже напряжен и серьезен, посверкивали в серых глазах больные искорки. «Ну, беда!» — еще раз вздохнул он.
— Здоров, Митрий! — негромко сказал Анискин, выходя из укрытия. — Перекуриваешь?
От неожиданности Дмитрий Пальцев отступил на шаг, но ногу с вожжей не снял.
— Экий ты пугливый! — улыбнулся Анискин.
— Ой, да Федор Иванович, — запел Дмитрий Пальцев, прижимая кисет к груди, — ой, да что ты говоришь, тут каждый испугается, если вышел ты из тихости, да ежели ничего не ждал, да ежели о чем задумался… — Напевая, Дмитрий Пальцев суетился и нервничал, а Анискин стоял тихо и смотрел на него. — Ой, да Федор Иванович, ой, да что ты такое говоришь.
Стекала с лица Дмитрия Пальцева бледная унылость и хворь, глядели на мир из вырубленных худобой глазниц иконные глаза, такие ласковые и искренние, что подирал по спине холодок. Но и это было не чудо, так как диво-дивное начиналось ниже: немощную голову, ребячью тонкую шею подпирал могучий торс борца, неохватные ширились плечи, выпирала из-под рубахи могучая грудь, стояли тумбами короткие ноги, а на голых руках сами по себе, неизвестно для чего, вспыхивали и гасли блестящие от пота мускулы.
— Ой, да Федор Иванович, — запел Дмитрии Пальцев.
— Ну-кась, Митрий! — сказал Анискин. — Потешь меня. Давно не видел… Подойди к лошадям-то!
— Ой, да зачем это, Федор Иванович, да что ты такое придумал…
Дмитрий Пальцев вдруг перестал нервничать и вихляться, тая в углах губ усмешку, сложил руки на груди; смотрели искренне и нежно иконные глаза, стекала из них девичья нежность.
— Ладно, потешу я тебя, Анискин! — с придыханием сказал Пальцев. — Теперь самый раз тебя потешить…
Нежно улыбаясь, тихий, спокойный Дмитрий Пальцев подошел к лошадям, остановившись в двух метрах от них, проговорил:
— Вот подошел, вот стою…
Обнажив лиловые белки, храпя, лошади пятились; нервная волна, похожая на завивающийся жгут, пробежала по спине каурой кобылы, и присела на задних ногах кобыла! Мелкой дрожью дрожал пегий мерин, тоже замедленно оседая на задние ноги.
— Хватит, хватит! — передохнув, сказал Анискин. — Отойди от лошадей к ядрене-фене, Митрий. Ну!
— Ладно, отойдем…
Анискин снова спрятался в тень березы, поглядел на желтое, зеленое и голубое, увидел просторность пшеничных полей, неба и тальников, убегающих к Оби.
— А я ведь знаю, Митрий, — сказал он, — почему ты травинки на сумку с продуктами кладешь.
— Ой, да что ты говоришь, да какие травинки, да что ты такое придумал!..
— Ну, помолчи, помолчи! — строго ответил Анискин. — Ты не опасайся, Митрий, я твою сумку с продуктами не трогал и в дом не вошел без понятых. Только тебе знать надо, что Полкан кость-то принес…
— Ой, да какую кость, да какой такой Полкан?…
— Помолчи, помолчи…
Анискин снял руки с пуза, вышел из тени березы и приблизился к Пальцеву — заглянул ему в лицо, в иконные глаза, длинно усмехнулся.
— Лосину кость Полкан принес. Ну, теперь ты, Митрий, коси, а я полегонечку-потихонечку в деревню пойду. Мне надо поллитру купить, так как я к тебе сегодня в гости приду — свеженину есть!
— Ой, да Федор Иванович, ой, да что ты говоришь!..
— Ну ладно, ладно!
Похлопав слоновьей ладонью Пальцева по плечу, Анискин пошел по кошенине, но шагов через пять остановился.
— Еще вот что, Митрий, — громко сказал он. — Я сначала-то испугался: думал не ты, а кто другой лося завалил! Ты ведь нынче первый раз в колхозе старательно работаешь. Надо быть, тебе трудодень большой нравится. Вот и думаю: вдруг ты от злых дел отошел!.. Ну, теперь я спокойный! Нет в деревне другого человека, окромя тебя, что мог бы молодого лося срезать. Большая у меня легкость на сердце от этого.
3
И опять сидел на лавочке Анискин, и опять сбоку лежала лосиная кость, завернутая в газету. Он сидел и смотрел на женщину, что торопливо шла пыльной дорогой. Женщина размахивала руками, спотыкаясь в тяжелой пыли, выбиралась на твердую дорогу, снова бежала. В торопливости она не заметила Анискина, и он громоздко поднялся, пошел навстречу.
— Здорово бывали, тетка Аграфена! — сказал Анискин. — Страсть, как ты быстро бежишь.
Наткнувшись на Анискина, Аграфена вильнула, чтобы обойти, но он преградил дорогу.
— Я так и думал, что Митрий тебя пошлет! — медленно сказал он. — Ты бы не лезла в наше дело, Аграфена, — все равно на трудодни жить!
— Пусти, окаянный!
Тяжело, ненавистно смотрели на Анискина выцветающие глаза Аграфены, застарелая вражда жила в них. Анискин заглянул ей в лицо, тоскливо вздохнул.
— Я ведь за тобой в дом пойду, так что не ловчись чугун с загнетки сымать… — Он вдруг просительно улыбнулся. — Давай лучше посидим на лавочке.
Пошатываясь, как пьяная, стягивая за углы платок, Аграфена пошла к лавочке, хрипло дыша, упала на нее и зашлась в длинном кашле; хрипела она так, словно легкие были дырявые, маленькое, высохшее тело по-припадочному билось, ноги ударялись о землю, прямые, как палки.
— Это ведь надо же! — пробормотал Анискин. — Это ведь чего делается!
Он осторожно сел на лавочку, дожидаясь, пока Аграфена прокашляется, опустил голову. С Анискина медленно, как чулок с ноги, сходили милицейская строгость и прямота, мягчели большие губы, деревенская простоватость гасила глаза. И старел Анискин: разлеглись возле губ морщинки, обвисли щеки, уныло спустилась на ухо седая прядь волос.
— Ц-ц-ц-ц! — поцыкал он.
Кашель утишивался. Аграфена вздрогнула, как на морозе, повела плечами, выпрямилась; быстро и болезненно вернулся на щеки румянец, Анискин тяжело вздохнул.
— Я долго не проживу, Груня! — сказал он. — При моей толщине люди сгинают рано… Доктор говорит, если я лечение не пройду, — каюк!
— Ты бы хоть сегодня подох, я бы не ойкнула! Я бы богу свечку поставила.
Анискин не шелохнулся, не изменился — в прежней доброте и простоте смотрел на Аграфену, помигивая белесыми ресницами.
— Эх, мать честна! — пробормотал он. — Что про бабу говорить, если лошади боятся…
Прошлое, прошлое бродило перед глазами… Красная косынка была, и над ней прозрачный серп месяца; сизая Обь была в сполохах солнца, тайный, сужающий горло шарк платья был и гулкий, как пустота, выстрел; глядел в глаза зрачок нагана; поведя плечами, пела цыганка, и взлизывались к сытому небу зыбкие языки костра… Эх, было, все было!
— Гранька, Гранька! — обливаясь тоской, сказал Анискин. — Чего ты за Митрия пошла, если тебя Гришка Кустов в тальниках распял?…
— Гад! — сказала Аграфена, быстро глянув на Анискина. — Паразит! — Потом она сжалась, втянула голову в плечи. — Не гляди, не гляди! — шелестящим шепотом попросила Аграфена. — Не гляди, ворог!
Бабьим чутьем проникла она в самую середочку Анискина, в звериную его тоску, в длинные думы о смерти, в бессонные ночи, когда лают собаки и над застывшей рекой висит первобытный, холодный, как лезвие секиры палача, месяц; поняла Аграфена, как сжимается под звездчатым шрамом на коже большое и усталое сердце Анискина.
— Гад! Гад! Гад! — таким тоном, словно осеняла себя крестным знамением, повторила Аграфена и отодвинулась от Анискина. — Гад! Гад!
Аграфена сидела маленькая и худая, глядела в землю цыганскими черными глазами. Каменным, серым казалось ее продубленное ветрами лицо, стыл в одиночестве горбоватый по-нездешнему нос, зыбился восточный рисунок бровей. Она не шевелилась, но повалился медленно с плеч и упал на землю платок.
— Почему я за Митрия пошла? — переспросила Аграфена. — Почему я за него пошла?…
Подняв голову, она посмотрела в даль дальнюю, за излучину Оби и синие кедрачи; на прозрачный месяц, который третий день выходил на небо при солнце, блеклый, как подтаявшая льдинка.
— А вот почему пошла я за Митрия! — хрипло сказала она. — Лучше его мужика на свете нет! Да будь Митрий еще пуще гад, я за одну ночь с ним жизнь отдам.
Аграфена легко поднялась с лавочки, цыганисто повела плечом, усмехнулась спекшимися от жары губами.
— Ты этого, Анискин, не поймешь, не дадено тебе!
И опять не шелохнулся, не изменился Анискин. Посмотрел туда же, куда глядела Аграфена, — на синюю пропасть и снеговые облака в ней, — посмотрел и подумал: «Ну, разве что можно понять в жизни? Ничего не поймешь в ней, в этой жизни!»
— Оно, может, и не дадено, но в ум беру, — негромко сказал он. — Я к тебе, Граня, всегда уважение имел… Однако я за тобой в дом пойду. Мне закон сполнять надо. За лося я с Митрия на полную катушку спрошу. Ты сердца на меня не держи, Граня, если все начнут лосей бить, пропала тайга!
Облака плыли на север, к холодному морю; солнце, прильнув к позолотевшим кедрачам, растопыривало лучи, как жук-плавунец растопыривает на воде ноги.
Ясность и приглушенность были вокруг, ясность и чистота…
4
На столе лежала лосиная кость, помаргивала от неравномерной работы движка электрическая лампочка под потолком, глядел со стены портрет Гагарина, вырезанный из «Огонька». Над головой Анискина висел низкий потолок огромной горницы пальцевского дома, и стояла за его спиной пугающая большая русская печь с широкими полатями по краям.
Минут десять уже сидел участковый Анискин на кедровой табуретке, много слов уже сказал Дмитрию Пальцеву, много дум передумал, так как разговор был медленный, мужской, сибирский, при котором два-три слова сказал — помолчи, закуривай. И Анискин молча глядел на Дмитрия, сидящего с ногами на кедровой лавке, косился на кровать, где стонала больная головой Аграфена, и слушал, как на улице сладко поет гармонь, визжат девки, а берегом реки, стрекоча, возвращается с полей трактор. А поверх всего этого из репродуктора выплывал сладкий, нечеловеческий голос: «Куда, куда вы удалились?»
— Вот так, вот так, вот так, Митрий, — раздумчиво сказал Анискин. — Теперь вопрос такой: если что случится с Полканом, это значит — ты его прибил, Митрий! Полкан — пес ничейный, деревенский, и тебя за него весь народ проклянет, если что случится. Тебя ведь, Митрий, в деревне шибко не любят, ты враг деревне…
Пела гармонь, лился сахарный голос, визжали девки. Пошевельнулся на лавке Дмитрий Пальцев, и увиделось, что у него двигаются большие хрящеватые уши. Он молчал, и не было разницы в голове и теле Дмитрия — жили они в полном согласии. Холодная, лютая и тупая, стекала с его библейского лица на звериное тело ненависть. Туго сжат, как зверь перед прыжком, был Дмитрий Пальцев и только тем хранил себя, что прижимал руками ноги к груди.
— Вот так, Митрий…
Эх, как сладко пел голос! «Куда, куда вы удалились?» Анискин прислушивался, Дмитрий прислушивался, болея головой, силилась подняться с подушки Аграфена. «Куда, куда, куда вы удалились?» «А хрен их знает, куда они удалились за годы, что с ним сталось, когда каждый день в прошлом, как маленький тонюсенький ломоток. Сверкнет солнечным лучом, повеет дождиком, захолонет грудь разбойной ночью или черкнет по сердцу острым запахом черемухи…» «Куда, куда, куда вы удалились?»
— Эхма, Митрий! Никого, почитай, из тех не осталось, кто эту деревню зачинал. Кои померли, кои голову на войне сложили, кои в город подались. Ты ведь старше меня на три года, а седого волоса в твоей голове нет, сердце в тебе от холода не сжиматся, рука и нога у тебя молодые… На фронт ты не пошел, в войну картошку от пуза трескал, опять же зверя бил и рыбу неводил. Ну, кака у тебя с этого может злоба на жизнь быть?
— Есть у меня злоба на жизнь! — медленно и тихо сказал Дмитрий. — Шесть миллионов, говорят, война взяла, а тебя, Анискин, вернула. Это рази жизнь, когда такие гады, как ты, с фронту возвращаются?
— Это я знаю, ты бога молил, чтобы меня убило, но ведь, Митрий, бог-то от меня отказался. Как снял я его с божнички в двадцатом году, так он силу надо мной потерял. Тебе бы надо Гитлера молить.
— И его молил.
— Это тоже я догадывался, Митрий! — усмехнулся Анискин. — Я, может, тридцать лет такого разговору с тобой ждал, да не думал, что он по лосиной кости содеется.
В последний раз пел сладкий голос: «Куда, куда, куда вы удалились?…» И сам голос тоже удалялся, и вырастали те звуки, что несла в дом улица, уже весело гундосила гармошка, девчата визжали с отчаянностью, трактор «Беларусь» доревывал, чтобы смолкнуть перед ночным покоем.
— Я сейчас ровно во сне, — внезапно пожаловался Анискин. — Это ровно чудо, Митрий, но я как в твой дом вхожу, как тебя или Граню вижу, у меня глаза вовнутрь перевертываются. Я вот сейчас на табуретке сижу, на тебя поглядываю, девчата на улице ревут, а мне мерещится, что этого нет… Как ты так, Митрий, жить сумел, что у меня глаза назад перевертываются?
Молчал Пальцев, страдала на кровати Аграфена, текло неспешное вечернее время под чоканье засиженных мухами ходиков.
— У тебя, Анискин, глаза как у стрекозы, — помолчав, сказал Дмитрий, — во все стороны видят. Ты еще в двадцатом годе приглядел, куда надо дышать… Вот и нагулял жир, как боров на пшенице!
— Это хорошо, Митрий, что ты со мной разговариваешь! Лет пять назад ты на меня только молчал и скалился. Это значит, и тебе время приходит о смерти думать, хотя ты при молодом теле… Ведь когда пора придет умирать, ты себя спросить должен: «Что же это я, вот он, Митрий Пальцев, жизнь в злобе промыкал? Как это так получилось?»
— А все из-за тебя, из-за тебя, Анискин! — вдруг улыбнулся Пальцев. — Только я жизнь не промыкал, а в большой радости прожил. Я каждый вечер, спать ложась, все мечтал о том, что ты погинешь. Сперва твоей смерти от обреза ждал, потом на Гитлера надеялся, потом на Берию, который тебя за то должен был взять, что ты с молодых ногтей в деревне милиционером работаешь, а врагов народа в деревне нет… Последни годы, Анискин, я жду, что ты от жира лопнешь. Вот от этого моя жизнь веселая была и есть!
Эх, как жалко, что истек, истоньшился голос: «Куда, куда, куда вы удалились?» Сладок он был, как молодой мед в сотах, рвал душу на части тоской, сладкой, как бабий поцелуй во сне. И смеяться и плакать хотелось от этого голоса, жаловаться на что-то и говорить по-родному, как в последний час, как во время прощанья перед длинной дорогой.
— Да, тридцать лет я ждал этого разговору, Митрий! Вот и дождался… Мне и помирать легче будет, если ты меня хоть раз поймешь! — сказал Анискин и низко опустил голову. — Вот ты сам посуди, Митрий, на что я в этом деле дивлюсь. Ты сам знаешь, что в нашей деревне с двадцатых годов восемнадцать кулацких семей было… Ты вот на меня, Митрий, глазом не сверкай, а походи умом по тому, что с этими семьями сделалось. Молчать будешь, я тебе помогу…
— Помогай, помогай, Анискин!
— На то и пришел, Митрий, чтобы помочь. Я лосиную кость зубами сгрызу, следа от нее не оставлю, если ты хоть чуток подвинешься… Я в то не верю, что ты весь каменный.
Заскрипела, застонала кровать — больная головой Аграфена перевернулась на спину, подтянув под голову подушку, зелеными из темноты глазами стала смотреть на мужа и Анискина. Таились в ее углу сумрак и ожидание, боль и ненависть, любовь и надежда. Ни слова за весь разговор не проговорила она, но каждое мужичье слово летело в угол, растекаясь в темени.
— Да, Митрий, — продолжал Анискин, — восемнадцать семей было, а теперь об этом никто и не помнит. Живых бывших кулаков имеется шестеро — люди как люди. Это я за их самих говорю, Митрий, а про ихнее семя разговору быть не может. Сережа у Новиковых в полковники вышел, Гришка Колесников в университете профессором, а Ленька Путинцев, сам знаешь, секретарь райкома. За учителей и врачей я уже не говорю, Митрий, у тебя самого дочь — ушной доктор. И вот ты теперь мне скажи, Митрий, как ты в кулачестве остался?
Невесть отчего замолкла на улице гармошка, захлебнулись визгом девчата; и непонятно почему закачалась вдруг на длинном шнуре электрическая лампочка. Тени, тени забродили по комнате, удлинялся, а потом делался коротким нос Дмитрия Пальцева, высветлился на миг темный угол Аграфены и потух зеленый блеск ее глаз.
— Теперь я тебя, Анискин, не боюсь! — усмехнулся Дмитрий. — Теперь дело не пришьешь.
— Я бы тебе и раньше дело не пришил! — спокойно и тихо ответил Анискин. — Какой может быть враг народу, когда ты один, а народу — мильон. Ну, ты сам посуди, может быть у трактора «Беларусь» комар врагом? Так что ты не слова сказал, Митрий, а глупость, и мне на ней задержку делать — одно расстройство. Ведь ежели кто народу враг, то он самому себе враг. Я это дело так понимаю.
— Анискин, — сказала с кровати Аграфена, — Анискин, ты водку принес! Налей, Анискин, водки!
— Про водку я забыл! — не удивившись, не улыбнувшись, не шевельнувшись даже, ответил Анискин. — Вот водка, Граня!
Он бережно поставил на стол потеплевшую в кармане бутылку, большим и толстым, как панцирь черепахи, ногтем отковырнул пробку, сдвинул бутылку к краю.
— Каждый пусть наливает сколь хочет! — сказал он. — Ты, Грань, выпей, может, голове полегчает! Огурцы есть.
Шатаясь, Аграфена поднялась, звеня стаканами, пошарила в шкафчике, редко ступая, подошла к столу — глаза блестели, нос заострился. Водка булькала страстно, заполнив стакан до краев, вспучилась. Аграфена хлопнула стаканом по столу, сказала звонким гортанным голосом:
— За вас, мужики!
Залпом выпила водку, провела тыльной стороной ладони по губам, шатаясь и тревожа половицы, вернулась на кровать. Опять засверкали, загорелись лихорадочно в углу зеленые глаза.
— Я опосля выпью! — сказал Анискин. — Я теперь как во сне, и в голове точечки прыгают…
— Я стрельну тебя, Анискин! — шепотом сказал Пальцев. — Тридцать лет не мог, а теперь стрельну!
Сложив руки на пузе, склонив большую голову, Анискин смотрел в пол и дико тосковал. Как проливным дождем, как обской волной, заливало его такой тоской, что хотелось броситься на пол и дико завыть.
— Эх, Митрий, Митрий! — простонал Анискин. — Ведь это что же делается!
Он качался из стороны в сторону, как на молитве… Вдруг уплыла из-под него табуретка, раздались бревенчатые стены, радужно растаяла в глазах электрическая лампочка. Пахнуло сырой прелью оврага, ударила по глазам большая зеленая звезда; ударила, кольнула, и пошел звон по голове, как по пустой церкви перебор колоколов; вздыбилась и села на задние ноги каурая кобыла, заболел под левым соском звездчатый шрам, и в запахе пороха давил на ладонь сгусток крови, что текла в зеленый луч звезды. Но потом пропел сладкий голос: «Куда, куда, куда вы удалились?»
— Будто ты в меня не стрелял, Митрий! — негромко засмеялся Анискин. — Будто не стрелял… Ведь в Кривом овраге ты меня жаканом попужнул!..
— Не я, не я, Анискин! Я с десяти метров вскользь не бью.
По кедровой лавке, на которой сидел Дмитрий Пальцев, стелилась, как пыль растекалась, как густая патока, ненависть к Анискину, тяжелые доски пропитывались ею, как дерево соком. Каменной грудой мускулов, со взведенным курком сидел на лавке Дмитрий Пальцев, намертво придавив ноги к груди.
— Ты, Митрий, при Советской власти лучше живешь, чем при отце на Алтае жил, — медленно сказал Аиискин. — В прошлом годе, когда обыск по Генке делали, у тебя сорок пять тыщ честных денег нашли. А на Алтае ты от жадности досыта не ел.
— Мы и сейчас досыта не едим! — прошелестело на кровати. — У нас чугунка с супом — на три дня.
Две зеленые кошачьи точки переместились, скрипнула пружина и замерла. Дмитрий Пальцев чуть заметно пошевельнулся, мускулы прокатились по руке, как живые.
— Все врешь ты, Анискин! — снова прошелестело на кровати. — Если бы мой Дмитрий кулаком был, он давно бы тебя, Анискин, стрельнул. А Дмитрий всю жизнь подкулачником был… Цыганам верить надо, цыгане человека насквозь знают… Мой Дмитрий, если бы Гитлер в Сибирь пришел, полицаем бы был…
Опять запела гармошка за окнами, взвизгнули девчата, донесся топот молодых ног. Анискин прислушался, помотал головой, незаметно усмехнулся, чтобы было не так страшно.
— Сколь я эту Граньку бил, нет числа! — задумчиво сказал Дмитрий. — И ногами топтал, и волосы вырывал, и прикладом ружья в грудь дубасил…
— Бабы живучие, Митенька! — вздохнули на кровати. — Я ведь тоже сколько раз ночью возле твоего горлышка ножом водила… Не могла! А если бы смогла, Генка под расстрел не пошел бы.
Кружилась, плыла в глазах Анискина комната, ширился, набухал клок темени в углу, пронзенный зелеными точками. Снова начала уплывать из-под него табуретка, но он прихватил ее руками, сжав, не дал пропасть.
— Ну, брат, — насильственно улыбнувшись, сказал Анискин, — ну, брат, теперь я знаю, почему в нашей деревне на выборах всегда получается девяносто девять сотых процента. Это ты, Митрий, кандидата вычеркиваешь! Вот, брат, понимаю теперь!
И еще повеселел Анискин.
— Вот, брат Митрий, какие мысли мне с тебя приходят. Я так думаю, что к тебе надо ученичишек-школьников водить, чтобы они от страха перед старой жизнью лучше уроки учили… Вот кака смешна мысль мне пришла с тебя, Митрий!
Анискин шутил, покручивал пальцами на пузе, но холод ворочался в сердце, тихонечко брал мохнатыми пальцами страх. Он почувствовал на лице пулевой ветерок, увидел, точно наяву, дымок над стволом пулемета. Сам того не заметив, Анискин поднимался с табуретки. Толст он был чрезмерно, двухъярусное, нависло пузо, но и ростом бог его не обидел. Поднявшись, Анискин коснулся головой стрехи неоштукатуренного потолка. Диковинной величины зверем стоял он посередь просторной горницы и опять сам не замечал, что уже родилась и жила на его лице спокойная тихая мудрость. Такой был сейчас Анискин, словно в своей жизни все сделал, все решил, все подобрал под себя, и шел ранним утром берегом Оби.
— Ране ты меня помрешь, Митрий, поздне помрешь, — спокойно сказал Анискин, — это дело не менят. Все равно помрет последний кулак, которого я живым глазом видел. Мне от этого даже под сердцем колготно. Когда ты помрешь, во мне тоже чего-то помрет… Вот таки нас крепки путы связали. Тридцать лет я ждал этого разговора и думать не думал, что он на лосиной кости приключится. А он приключился.
— Дружки! — ясно сказала в темном углу Аграфена. — Водой не разольешь… Где место средь вас бабе-то. Он в тебя хочет стрельнуть, Анискин, а меня ногами топчет. Спасибо вам за все, дружки хорошие!
Погасли два зеленых кошачьих огонька — то ли Аграфена закрыла глаза, то ли повернулась на бок, но темно стало в ее углу. Ни звука там не было, ни шевеленья — тишина.
— Ты, Митрий, в меня никогда не стрельнешь! — шепотом сказал Анискин. — Если тогда не попужнул, то теперь и вовсе не стрельнешь. Я за тридцать лет, как меж нами узелок завязался, весь броней оброс, а ты голый остался…
Анискин неслышно повернулся к темному углу, силясь разглядеть живого человека, увидел только гнилую тень от печки и от толстых неоштукатуренных стен.
— Ты меня, Граня, прощай! — чуть громче сказал он. — Ты меня прощай!
— Сдохните оба!
Полная на две трети стояла на столе бутылка водки, сальными обрезами поблескивали огурцы, ползали по ним три высокие от теней мухи. Анискин повернул ухо к дверям, послушал, подождал, опять послушал.
— Ну, вот, — сказал он. — Понятые идут! Мы, Митрий, с твоей печки вареную лосятину вынимать станем… А пока они еще в дом не вошли, я тебе одну штуку скажу…
Стараясь не скрипеть полом, страшась тревожить тишину и муки темного угла, Анискин подошел к Дмитрию, наклонился и сказал хрипло:
— Я тебя раньше мильон раз мог взять и в лагерях сгноить, но я такую ласку к Советской власти имею, что на нее веру положил. Нет таких лагерей, Митрий, которы были бы твоей жизни хуже. Нет того страшнее, когда ты одна сота процента, а народ — остально. Ты меня, Митрий, на тридцать лет раньше помер!
Застучали, загрохотали на крыльце шаги, словно ветерок пронесся по низкой и большой горнице, лампочка под потолком вспыхнула ярче. В дверь открыто и громко постучали, не дождавшись ответа, рванули, и три человека вошли в горницу. Старый старик был один, два помоложе, нанесло от них на Анискина запахом обской волны и августовским перегаром трав. Он сделал навстречу шаг.
— Ну, пришли, наконец! — громко сказал Анискин. — Пришли, наконец, дьяволы!
Он понял теперь, где пела ласковая гармошка, — возле клуба, напротив двух старых осокорей. И чьи девки визжали, понял Анискин — доярка Нюська Бардина и эта шалопутка Верка Семенова.
Панка Волошина
1
Панку Волошину бабы били дважды: года три назад на Первомай, а летошний год оттаскали за волосы просто так, без всякого праздника.
Начала это дело Маруська Шевелева, чей Сенька каждую субботу после бани норовил вроде бы смотаться на дежурство, а на самом деле до утра пролеживал у Панки под пышными пологами. Так что Маруська захватила его на коровьем реву, еще тепленького и пахнущего самогонкой; ткнув в раму для начала березовым поленом вполсилы, она негромко крикнула: «Ты тута, изменщик!» Сенька, конечно, выскочил в другое окошко, и Маруська на полную силу вскричала: «Уби-и-и-вают!»
Одной Маруське с Панкой справиться было невмочь, она до тех пор голосила под окошками, пока не прибежали на крик Фенька Голубева и Лизавета Сморогдина, чьи мужики в свое время тоже зоревали в Панкиной избе. Они еще только вбегали в ограду, а Маруська уже начала березовым поленом выставлять окна: два обработала чисто, а потом и само полено метнула в окно с криком: «Стерьва!» Попало оно по Панке или нет, неизвестно, но Панка тут сама вышла на крыльцо, увидев силу баб, проговорила негромко:
— Ах, Сенька, Сенька!
А Сенька уже улепетывал огородами, согнувшись, как солдат под бомбежкой. Ну и началась драка — Панке подбили глаза, разорвали кофту, белы груди исцарапали, чубчик разредили, и неизвестно чем бы побоище закончилось, если бы во дворе не появился участковый уполномоченный Анискин. Встав столбом, он тяжело посопел от слоновьей полноты и привычно сложил руки на пузе, ничего не говоря.
— Анискин! — первой спохватилась Маруська. — Бабы, бережись!
Драка затихла, к радости испуганных Панкиных куриц и трехногого пса Шарика — куры закудахтали, а пес вылез из конуры и сторожко пошел к хозяйке.
— Чего стали? — спросил Анискин. — Дрались бы дальше, а я бы посмотрел. Мне кина не надо, когда бабы дерутся!
Анискин неторопливо огляделся — всходило уж солнце над Обью и кедрачами, клокотали голуби на стрехе, живой свет лился от реки.
— Ц-ц-ц-ц! — сказал Анискин. — Раньше в эту пору люди к заутренней шли, теперь народ по воскресенью отдыхает, а они, лахудры, дерутся. Тьфу! — Анискин сплюнул, посмотрел, как плевок разбился о землю, и добавил: — Ты телеса-то прикрой, Панка! Ежели кофту порвали, это не означает, что ты должна телешом быть… Это у тебя кто ночевал? Сенька?
— Сенька…
— Так это он огородами бег! Ну, трус…
Анискин сел на крыльцо, распахнул на груди рубаху, вытаращив глаза по-рачьи, посмотрел на тех баб, что били Панку. Он так на них смотрел, словно это были не люди, а деревяшки какие-нибудь.
— Вот почему, — строго спросил Анискин, — от умных и тихих баб мужики к Панке бегают? Язык сглотнули? Ну, тогда я вам сам скажу! Вы мужиков обратно в баб сделали. Это ведь страх, как Сенька огородами бег! У вас мужик несчастный, запуганный — вот какие вы есть стервозы!
Панкин пес, Шарик, вильнул обрубком хвоста и трехного пошел к Анискину. Участковый погладил собаку по кудлатой голове, вытащил репей и, посмотрев его на свет, сердито отбросил в сторону.
— Все трое — кыш домой! — негромко сказал он. — Вот с каждой отдельно разберусь…
Когда бабы осторожно ушли, Панка прикрыла плечи остатками кофты, вздохнув, прошла по двору и села рядом с Анискиным, который рачьими глазами искоса смотрел на нее.
— Ц-ц-ц-ц! — огорчился Анискин. — Это ведь подумать!
Плечи у Панки были белые, как меловая гора за Обью, сама она была узкая и длинная, как остяцкий обласок, но для удивления — при больших и высоких грудях. Странной у Панки была кожа лица: она светилась.
— Ты думаешь, мне тут с тобой сидеть — одно удовольствие? — строго спросил Анискин.
— Я, Федор Иванович, жду, когда вы заговорите!
Опытный Анискин прикинул, что через часок левый Панкин глаз прикроется от синяка, правый же будет немного смотреть на свет божий; Панка и так была узкоглаза, как бурятка, а тут совсем ничего не останется, хоть от смеху помирай. Но Анискин не улыбнулся, на Панку смотрел сурово и спросил наконец:
— Отчего это, Панка, к тебе мужики липнут?
— А кто их знает, Федор Иванович!
Панка спокойными, медленными движениями укутывала лохмами кофты меловые свои плечи, от старательности зубы у нее обнажились — ровные и блестящие. Даже в изодранной кофте, с синяками Панка казалась опрятной и чистенькой, словно и не она дралась с тремя бабами. Отчего это так, Анискин понять не мог, но он еще раньше примечал, что на Панке любая ситцевая кофточка выглядит, как крепдешиновая или маркизетовая.
— Ну, ладно, теперь помолчи! — сказал Анискин, хотя Панка молчала и даже тихо улыбалась. — Теперь я сам должен подумать, что мне с тобой произвесть, Панка!
Как всегда по утрам, солнце по небу перемещалось быстро — всего пять минут сидел участковый на Панкином крыльце, а оно уже перепрыгнуло через дома, село на березу и посверкивало. Драться бабы начали на коровьем реву, теперь же коровы позванивали боталами за околицей, и было, значит, минут пятнадцать седьмого. «Вот бабы — черти! — весело подумал Анискин. — Это ж надо — в таку рань драку учинить!»
— А ведь ты, Панка, холера! — звучно сказал он.
— Все может быть, Федор Иванович!
— Так… Ну, теперь опять помолчи!
Анискин сыто ухмыльнулся. Он по причине толщины был вообще медленный в словах и движениях, а по утреннему времени жил еще медленнее. Анискин расцепил руки, уперся ладонями в доски крыльца и медленно, точно его поддомкрачивали, повернулся к Панке, так как ему надоело косить на нее глаза — голова на шее у Анискина не крутилась, да и не было ее, шеи-то. Повернувшись, он трижды кашлянул и сказал с придыханием:
— А?
— Я вас, Федор Иванович, слушаю…
Тогда Анискин скривил нижнюю губу, верхнюю приподнял, а глаза заузил — улыбнулся.
— Чудная ты, Панка! — сказал он. — Какой толк мне с тобой говорить и на тебя кричать, если ты не отбиваешься и страху не чувствуешь? Это как так?
— У меня, Федор Иванович, страху нет! — сказала Панка. — Ты сам посуди: кого мне бояться. Ребятишек у меня нет, мужика нет, дом колхозный, из скотины — один Шарик, да и тот трехногий… Ну за кого мне бояться, Федор Иванович?
— Ну, помолчи, помолчи!
Пузо Анискина лежало на его коленях, как мешок с отрубями, а вот Панка сидела длинная и узкая, как остяцкий обласок, и Анискин вдруг подумал: «Лопну я в одночасье!» От этой мысли он рассердился и сказал:
— Конечно, тебе бояться нечего! Такая, как ты, и в тюрьме мужика найдет…
— В тюрьме, Федор Иванович, мужиков порошком поят, чтобы они о бабах не мечтали.
Анискин улыбнулся — большое удивление производила на него Панка. Вправду, ни страху, ни печали не было на ее лице, открытыми еще глазами она любопытно и добро смотрела на все то, что было вокруг — на веселое солнце, на трехногого Шарика, на деревню, которая по-воскресному просыпалась поздно, на Анискина. Панка сладко поежилась под теплым солнцем, щурилась и походила на зимнего кота, что привалился к теплой печке.
— А ну, Панка, расскажи, почему у тебя постоянного мужика нет? — спросил Анискин, садясь в прежнее положение и закрывая глаза. — Ежели мне ты это объяснишь, то тебе большое облегчение будет… Давай докладывай!.. Ну!
Панка молчала, и Анискин открыл глаза.
— А?
— Федор Иванович, — радостно сказала Панка, — вот ты скажи, почему мне с тобой разговаривать весело?
— Докладывай, докладывай!
— У меня, Федор Иванович, потому постоянного мужика нет, что они у меня все в большие люди выходят… Вот так и знай: если я возьму какого мужика хоть на год, то он непременно в бригадиры выйдет или повыше.
— А потом чего?
— В бригадирах меня мужик бросает.
— А вот это через чего получается?
— Через мою неверность, Федор Иванович…
У Анискина хоть и были закрыты глаза, он все равно увидел, как Панка улыбнулась добрыми губами и как потерлась щекой о собственное плечо. Это у нее была такая привычка.
— Я, Федор Иванович, мужику, как он в бригадиры выйдет, сейчас же неверность делаю…
— Помолчи, помолчи…
— Молчу, Федор Иванович!
Солнце набрало такую силу, что пробивалось сквозь сомкнутые веки, но Анискин глаза не открывал, не двигался, а только посапывал, сообразив, что Панка говорит правду… Гришка Стамесов, прожив у нее чуть меньше года, подался на выучку в город, Гошка Кашлев вышел в заместители председателя, а Василий Огнев ходил в мастерах на шпалозаводе.
— Ты какие газеты выписываешь, Панка? — спросил Анискин.
— «Сельскую жизнь» и «Комсомольскую правду», Федор Иванович.
— А в доярках какой год ходишь?
— Это, Федор Иванович, сказать нельзя… Я, поди, лет десяти начала коров-то доить. Война же была, Федор Иванович!
— Ну, молчи, молчи…
Всего седьмой час шел, а Анискину уже было жарко — попадая в легкие, теплый воздух распирал грудь, колом становился в гортани. Не было житья Анискину в жаркие дни, одно спасенье имелось — поменьше двигаться. Потом он, не шевелясь, сказал:
— Ты, может, дура, Панка!
— Это, Федор Иванович, надо подумать…
Такой дикости Анискин в жизни не видел — Панка ласково потерлась щекой о собственное плечо, опростала друг от друга губы, заплывающими глазами посмотрела на веселое солнце. Прежняя тихость и ласковость были в Панке, довольство всем, что видит и слышит. «Она, может быть, чокнутая!» — вдруг решил Анискин, заглядывая ей в лицо.
— А?
Пахло от Панки вчерашней самогонкой, одеколонами и пудрами, а поверх всего лежал тягучий, сладкий и по-ночному темный запах ситцевых подушек, сушеного сена и отбеленного на морозце холста.
— Федор Иванович, а Федор Иванович, — радостно сказала Панка, — не должно быть, что я дура… Я в кино все понимаю. Когда с бабами домой иду, то им картину объясняю.
— И в газетах все понимаешь?
— Отдельные слова не разбираю, Федор Иванович, но если до конца прочту, то хоть ночью спроси, наизусть перескажу…
От этой Панки можно было от смеху помереть — левый глаз у нее напрочь закрывался, правый отливал семью цветами, как радуга, но кожа лица как светилась, так и продолжала светиться, нежная и матовая.
— От тебя, Панка, можно со смеху сгинуть!
— Смейтесь, Федор Иванович, смейтесь!
Ухмыляясь, Анискин полез в карман широченных парусиновых штанов, достал лохматый от времени кошелек, а из него вынул пятак, протянул Панке:
— Приложи к глазу-то!
— Зря, Федор Иванович! От синяков только царские пятаки помогают — в них меди много… — Однако пятак Панка взяла и, тихо смеясь, приложила к глазу. — Вот у меня какие буркалы!
— Ну ладно, ладно!
Оперевшись руками о крыльцо, Анискин поднялся, надув щеки, потрепал по загривку Шарика: «Ах ты пес, три ноги!» Добрый, веселый был Анискин, отдувался не так тяжело и шумно, как всегда, и походил на восточного бога, но бога доброго. Передразнивая Панку, он прищурил глаз:
— Теперь ты мне пятак должна! Смотри, отдай!.. Ну ладно, пойду по делам… Какая-то сволочь из кузни листовую сталь украла! Это непременно Венька Моховой…
Анискин уже повернулся, чтобы идти к воротам, но заметил, что Панка, приподнявшись, смотрит на него удивленно и вопросительно.
— А?! — обернулся Анискин.
— Я, Федор Иванович, на вас удивляюсь! — протяжно сказала Панка. — Шибко удивляюсь!
— Это с чего?
— Очень вы храбрый человек, Федор Иванович, вот с чего я удивляюсь! И ничего-то вы не боитесь, и, наверное, на фронте ты, Федор Иванович, был герой!
— Ну, уж герой…
— Герой, герой! — быстро сказала Панка, благоговейно прикрывая правый глаз. — За вашу скромность вся деревня говорит, Федор Иванович!.. Вот вы усмехаетесь, а народ вас очень уважает за то, что вы в сельпо ничего по блату не берете, хотя продавщица Дуська вас боится… Очень вы хороший человек, Федор Иванович!
— Ну, ну…
— Хороший, хороший! — Панка села, по-кошачьи огладившись щекой о собственное плечо, сомкнула в нежности большие и длинные губы. — Я, Федор Иванович, раньше думала, что вы человек угрюмый, а ты, оказывается, очень хороший! Вот десять минут со мной ты поговорил, Федор Иванович, и я уже знаю, что ты добрый…
— Добрый?
— Добрый, добрый…
Анискин задумчиво стоял. Смешливо было ему, лениво-дремно и не хотелось двигаться. Все это, конечно, происходило из-за того, что уж начиналась жара.
— Болтаешь ты, как мельница-крупорушка! — сурово сказал он.
— Не болтаю я, Федор Иванович! Седни какой день?
— Ну, воскресенье…
— Во! — Панка всплеснула руками и вся зарделась от радости. — Во! Воскресенье, а вы работаете… Начальства ты, Федор Иванович, над собой не знаешь, а работаешь. Это оттого, что вы совестливый человек!
Анискин непонятно усмехнулся.
— Трещишь, как сорока! — сердито сказал он. — Совестливый, совестливый… А какая тут совесть, если листовая сталь пропала! Хе-хе! У тебя левый глаз, Панка, напрочь прикрылся!
— Шут с ним, Федор Иванович! Вы бы лучше не ходили в кузню при такой жаре… Может, вас кваском напоить?
Панка стремглав вскочила, но Анискин повелительно остановил ее:
— Некогда мне с тобой! Сроду с бабами так долго не болтал!
Повернувшись окончательно к воротам, Анискин пошел так величественно, словно каждый свой шаг ценил на вес золота; отворив калитку, вышел на улицу, застегнув одну пуговицу на рубашке, заложил руки за спину.
— До свиданья, Федор Иванович! — крикнула Панка вслед.
— Ну, ну…
2
Как и предполагал участковый, три полосы из кузницы увел Венька Моховой, которому они были нужны для оковки саней. Провозился, однако, Анискин с упрямым мужичонкой часа два, до невозможности упрел, охрип, и покуда вышел на большую деревенскую улицу, то ветру с реки так обрадовался, что засмеялся тоненько-тоненько. Вот тут-то он и уразумел, что день живет по-настоящему воскресный — шли в хороших пиджаках парни; поплевывая шелухой кедровых орехов, шатались девки; ходил по берегу реки для прогулки директор восьмилетней школы — руки за спиной, очки на кончике носа, изо всех карманов торчат газеты.
От прохладного ветерка и воскресенья сам собой сделался довольным Анискин; пройдя немного, он посидел задумчиво на лавке старика Трифонова, отдыхая, подумал о том о сем, потом посмотрел, как плывут в небе сизые паутинки, как дружелюбно синеет река на горизонте, как прозрачна и светла в ней вода, и вдруг ему стало жалко себя. Откуда это пришло, понять было нельзя, но при виде седых волос из распахнутой рубахи, живота, толстых ног он подумал: «Ах ты мать честная, разэдакая!» Томясь, Анискин поднялся, помычал и пошел дальше — куда, не поймешь, зачем, не поймешь! Шалавый был он какой-то, но когда прошагал еще метров триста, то понял, куда вели его ноги, — к дому Панки Волошиной. «Ах, — обрадовался Анискин, — все дело! Во-первых, гонит самогонку, во-вторых, учиняет драки, в-третьих…»
— Панка! — с улицы позвал Анискин. — А ну выдь на час!
Он ждал, что Панка появится на крыльце, но блажная баба высунулась в окно, да так далеко, долговязая, что чуть не вывалилась. На ней сидела уже другая кофта; левый глаз она перевязала чистеньким бинтиком, а волосы кандибобером замотала вокруг головы. Увидев Анискина, она радостно замахала руками:
— Заходи, Федор Иванович, я сама выйти не могу, у меня пол недомыт.
— Нет, ты выдь на двор!
— Тогда погодите, Федор Иванович!
Анискин сел на крылечко, прислонился спиной к балясине. Черт знает, как было хорошо на Панкином дворе! Шарик, что о трех ногах, опять примостился возле Анискина, куры клохтали, приблудный поросенок от жары лежал трупом в лопухах. Двор Панка подмела, травка была свежей, чистой, а из сеней пахло завлекательно: пережаренным зерном. «Ох, штрафану я ее!» — подумал Анискин, зная, зачем бабы пережаривают зерно — от него брага на цвет делалась темной, а вкусом походила на городское пиво. «Ох, штрафану!» — решил он.
Панка не выходила: гремела в доме тазами и ведрами, шебаршила тряпкой по полу, топотала босыми ногами. По звукам слышалось, что работает бабенка отчаянно. Потом в доме тихо сделалось, приглушенно, как в яме для картошки, но она опять не выходила. «Вот штрафану!» — подумал Анискин. И еще минут пять прошло — она опять не выходила. Тогда Анискин жестоко засопел, злой, как кабан, повалил скрипящими половицами в дом. Это сроду такого не бывало, что на его зов не отзывались…
— Панка!
Бабу словно помелом смахнуло. Анискин без стука заглянул в маленькую горенку — нету ее; раздвинул рукой ситцевую занавеску в кухню — опять нету! Это по милицейскому разумению Анискина должно было означать два случая — или в окно сиганула, или от страху затаилась в подполье.
— Ну, Панка…
— Я тут, Федор Иванович…
Держа обеими руками четвертную бутыль, глядя на нее с опаской живым глазом, Панка медленно выползала из глубокого подполья.
— Кваску для вас достала, Федор Иванович! Ведь знаю, как ты уморился с этим Венькой-шалопутом… Сейчас, сейчас, Федор Иванович!
Раздувая юбкой воздух, Панка пронеслась в кухоньку, приволокла большую эмалированную кружку, с размаху налила в нее квасу и понесла к Анискину. Кружку Панка держала на вытянутых руках, шагала на цыпочках, а когда совсем приблизилась, то лицо у нее сделалось такое, точно перед ней не Анискин был, а на самом деле восточный бог.
— Попей, Федор Иванович!
Он начал пить, а с Панкой делалось такое, словно она тоже пила. Анискин сделает глоток, Панка — тоже, Анискин отдуется от сладости — Панка отдуется. И пока он пил, по нежной ее шее двигался маленький живчик.
— Вот хорошо, Федор Иванович, вот как хорошо!
Панка живо унесла в кухню бутыль и кружку, порхая, вернулась и запрыгнула на табуретку.
— Садись и ты, Федор Иванович! Здесь прохладнее, чем на дворе…
— Ну, ну!
Панкина комнатенка цвела ситцевыми материями: и тут занавеска, и там занавеска, и всю печку прикрывает занавеска, и на окнах занавески, веселые, как дрозды; на полу лежат домотканые дорожки, кровать торчала под потолок, хоть по лестнице на нее взбирайся, а от гераней в комнате было темно, как в саду. Анискин оглядел все это, поморщился и сел, так как к нему пришло странное чувство — он себя чувствовал в комнате так, как бывало в детстве, когда забирался с головой под теплый и запашистый тулуп. У него от уютности даже заныло под ложечкой.
— Ну, так! — сказал Анискин. — Ну, вот так!
— Слушаю, Федор Иванович!
— Слушаю, слушаю! А ты не слушай, а думай… Почему же ты, Панка, как мужика в бригадиры выведешь, тут ему и неверность делаешь? Вот ты мне это скажи!
— Счас, Федор Иванович!
Панка потерлась щекой о плечо, затихла. Она сидела на табуретке с ногами и походила яркостью кофты на занавески и коврики свои; такая она была, Панка, что нельзя было ее снять с табуретки и пересадить на другое место. Подумав, она опять потерлась щекой о плечо, встрепенулась и радостно ойкнула:
— Ой, поняла, Федор Иванович!
— Ну, докладай!
— Я, Федор Иванович, потому мужику неверность делаю, что ему дальше идти некуда… Я, Федор Иванович, председательское дело не уважаю!
— Это почему еще?
— Тут, Федор Иванович, не знаю… До этого места, про которое сказала, я додумала, а дальше себе самой непонятно.
Анискин от удивления хмыкнул, сцепил руки на пузе и почувствовал такую веселость, от которой ему захотелось не то расхохотаться, не то сделать глупость. Ах, как хорошо было участковому Анискину! Поглядел на ситцевые занавески — эх, какие все веселые! Потрогал ногой коврик — эх, какой важный! Вдохнул комнатные запахи — ну, как в детстве под одеялом! «Вот штрафану я ее!» — подумал Анискин.
— Ой, Федор Иванович, — протяжно и благоговейно сказала Панка, — ой, какой вы сурьезный, просто страх на вас смотреть!
— Ты… молчи…
— Не могу я, Федор Иванович, молчать! — Панка вместе с табуреткой подъехала к Анискину, всплеснув руками, начала изумленно и восторженно смотреть на него широко раскрытым глазом. Как на чудо, как на небывалость какую, смотрела она на Анискина и шепотом сказала:
— Ой, какой вы завлекательный!
— Тю, сдурела баба!
— Не сдурела, не сдурела… Я на тебя, Федор Иванович, шибко удивляюсь! Вот ты такой строгий, а вас все уважают!
— Ну, ну…
— Вас за храбрость и справедливость уважают! — вдруг солидным голосом заговорила Панка. — Народ, он, Федор Иванович, правду всегда чувствует. Вот с кем ни поговорю, все в один голос: «Анискин — человек справедливый!» За то вас и любят, Федор Иванович! Без вас, Федор Иванович, деревня пропала…
— Это как так — пропала?
— Без тебя, Федор Иванович, народ баловаться будет. Еще шибче начнут самогонку варить, хулиганить, стальны листы из кузни воровать. А от уважения к вам, Федор Иванович, народ безобразит меньше. Тебя, Федор Иванович, в деревне все любят!
— Так! Погоди…
Огромной лапищей Анискин отодвинул от себя Панку, повернул за плечо лицом к себе, бесцеремонный, страшный, стал смотреть в ее заплывший глаз и на губы, разомкнутые добротой.
— Так, так!
Доверчиво, как подсолнух за солнцем, поворачивалась в его руке Панка — не охнула, не испугалась, сама помогла повернуть себя к свету, отдаваясь руке Анискина, помягчела тонким плечом.
— Ну, так!
Голову сымай с Анискина, пулю ему в лоб — ничего не врала Панка! Вся она была — правда; с ног до головы правда, и от кофты до глубины — правда.
— Тебя, Панка, били мало! — отпуская ее, медленно сказал Анискин. — Ты не баба, а дите малое!
— Это правда, Федор Иванович, еще молодая я…
Безмятежная и счастливая сидела на табуретке Панка, опустив голову на плечо, потрогала пальцами оборку на кофте, пошевелила нежными губами, но ничего не сказала, а только искоса, по-родному посмотрела на Анискина. Потом Панка летуче вздохнула.
— Очень понимаете вы человека, Федор Иванович! — ласково сказала она. — Ровно сквозь него глядите… Вам бы, Федор Иванович, в район переехать! Большую пользу вы могли бы принесть.
— Складно врешь, Панка…
— Я, Федор Иванович, сроду не вру… Почему у меня мужики в бригадиры выходят или повыше? Это оттого, Федор Иванович, что я в мужике всю его силу вижу. Сама не знаю, какая пружина во мне срабатывает, но еще ни разу промашки не было… Я очень на баб сердитая!
— Это ты обязательно скажи: почему?
— Редкая баба, Федор Иванович, в мужике силу понимает, а ведь плохого мужика нет, есть баба плохая… Для меня мужики, Федор Иванович, словно икона, я на них молюсь!
— Ну, Панка, ну, Панка…
— Нет такого мужика, Федор Иванович, который бы через меня в бригадиры не вышел! Вот ты усмехаешься, а походи ко мне с недельку, сам поймешь, что тебе место в районе. Ты ведь зря гинешь в деревне, Федор Иванович!
Тьфу ты черт! В голове у Анискина кругалем ходило, золотистые точечки мелькали в глазах; от смеха над Панкой и удивления пузо перекатывалось под рубахой. Казалось ему, что слова Панки обволакивают, убаюкивают, как в детстве убаюкивал голос матери.
— Толстый я очень! — вдруг пожаловался Анискин и чуть не прикусил кончик языка: ничего он про это говорить не хотел. Ну и ну!
— Толстый! — Панка всплеснула руками и тоненько засмеялась. — Толстый!
Панка встала с табуретки, попятилась, села на стол, чтобы из отдаления взглянуть на человека, который жалуется на полноту.
— Вы очень даже симпатичненький, Федор Иванович! — нежно сказала она. — Вы очень даже миленький, только, наверное, ничего про любовь не знаете!
Спрыгнув со стола, Панка опять села на табуретку, поставив руки на колени, положила на них круглый подбородок. Как подружка подружке, как сестра сестре, Панка заглянула в глаза Анискину.
— Те мужики, которые долго живут с бабами, ничего про любовь не знают! Да разве, Федор Иванович, за красоту любят? Фигушки! Я вот того люблю, кто для меня как икона…
Анискин глупо улыбнулся. Странная вещь творилась с ним: казалось ему, что вот он вроде есть, а вроде бы его нету. В разбитые окна дома, взрыхлив ситцевые занавески, влетал ветерок с реки — что такое, непонятно; цвели подушки и коврики, пахло квасом и бабой, нежное и говорящее сидело напротив него — что, почему, откуда, опять непонятно! И не было за стенами дома деревни, не было реки, не было ничего — пустота.
— Ну, ну! — насильственно промычал Анискин.
— Про любовь мало кто знает, Федор Иванович, — задумчиво говорила Панка. — Ко мне, Федор Иванович, Пирожков из ДОСААФ ходит, как в деревню приезжает, но я его не люблю. Он, Федор Иванович, красивый, всегда в хорошем костюме и одеколоном «Шипр» намазанный. Я к нему, Федор Иванович, прикоснуться боюсь — такой он чистенький да красивый… Вот и не получается у нас любовь!
— Пирожков дурак! — сердито сказал Анискин.
— Ой, Федор Иванович, ваша неправдочка! Если бы он дураком был, я бы с ним обошлась! Он, наоборот, очень даже шибко грамотный!
— Ну ладно! — сурово сказал Анискин. — Мне теперь вопрос ясный! Ты, Панка, теперь молчи…
— Молчу, молчу, Федор Иванович!
Анискин поелозил по табуретке и почувствовал, что зад от нее отрываться не хочет. И ноги сделались тяжелы, как чугунные, и тело освинцовилось, и в голове тоненько попискивало: «Пир-рож-ков! Про лю-бовь… как ико-на…» Ситцевость эта, коврики эти, запах этот, Панка эта…
— Бедненький! — трепетно сказала Панка. — На тебе лица нет, Федор Иванович!
Проливая из глаза нежность и жалость, Панка осторожно, словно по жердочке, подошла к Анискину, положила длинные пальцы на его локоть.
— Бедненький мой! — вздохнула она. — Вот до чего довели человека! То стальны листы прут, то самогонку варят, то дерутся… Не переживай, Федор Иванович, плюй на все. Бедненький ты мой!
Панкины пальцы поползли по руке Анискина, поднявшись до плеча, остановились, горячие и подрагивающие.
— Плюй на все, Федор Иванович, миленький! У тебя все в жизни ладно! Жена у тебя хорошая, ребятишки хорошие, зарплата большая, народ тебя любит… Ну чего тебе заботиться, миленький!
Анискин, наконец, поднялся с табуретки, пятясь от жгучести Панкиных пальцев и ее голоса, наткнулся спиной на острый дверной косяк…
— Беги домой, Федор Иванович, — говорила по-родному Панка. — Полежи, отдохни, поспи… А захочешь, ко мне приходи, очень уж мне тебя жалко. Ой, как мне тебя жалко! Миленький ты мой!
В единственном Панкином глазе рождалась большая прозрачная слеза — все ширилась и ширилась, стала овальной, потом вытянулась на ножке и — упала, покатилась по светящейся коже щеки.
— Миленький ты мой!
Анискин вышиб спиной дверь, от тряски упало и покатилось с грохотом цинковое ведро, с визгом бросился к крыльцу трехногий Шарик.
— Ну, ну! — пробормотал Анискин, сопя и отдуваясь. — Ну, ну!
Панка, схлестнув руки на груди, стояла на крыльце.
— Ой, не упади, Федор Иванович, ой, побережись, миленький!
— Ну, язва! — тихо сказал Анискин. — Ах, язва!
Нижняя губа у него выпятилась, подбородок задрался, пузо подтянулось.
— Ах, язва! — совсем громко повторил Анискин. — Это ведь что делается…
Деревенский детектив
1
Самым культурным человеком в деревне себя считал заведующий клубом Геннадий Николаевич Паздников. В Кедровку он приехал всего два года назад, но уже в первый вечер проявился: пришел в клуб при шляпе и красных штиблетах, говорил медленно, как контуженый, щурился и прищелкивал каблуками. Играл Геннадий Николаевич на аккордеоне и, как только начались танцы, объявил: «Полонез Шопена!» Здороваясь с молодыми женщинами, он так низко наклонял голову, что прямые волосы рассыпались, а женщинам средних лет целовал руку высоко — у самого локтя.
Однако два года в деревне Геннадий Николаевич прожил мирно, к нему скоро привыкли и полюбили за то, что на аккордеоне он играл мастерски и никогда не отказывался прийти на свадьбу, именины или проводы. Участковый уполномоченный Анискин к Геннадию Николаевичу относился хорошо, вежливость и культурность заведующего признавал, и потому в тот ясный сентябрьский день, когда Геннадий Николаевич вдруг пожаловал к участковому домой, последний на квартире его принимать не стал.
— Пройдемте в кабинету, — коротко сказал он и позвенел ключами. — Человек вы такой, что по мелочи не придете, так что придется протокол писать.
В комнатенке, именуемой кабинетом, Анискин открыл оба маленьких окна, морщась, достал несколько серых листков бумаги, чернильницу-непроливашку и ученическую ручку с пером «рондо». Выложив все это на стол, участковый сел, положил руки на столешницу и сказал:
— За тараканов извиняйте!
— Что вы! — ответил заведующий. — Представьте себе, Федор Иванович, я на тараканов никакого внимания не обратил.
Говорил заведующий, как всегда, медленно, щурился, словно на солнце, и выставлял короткие носки с резинками, но на его лице участковый приметил беспокойство и робость.
— Особенно интересно вот что, Геннадий Николаевич, за счет чего тараканы живут? Вы человек образованный, городской, так что сами понимаете — никакого пропитания для тараканов в кабинете нету…
— Нету, нету!
— Может, они замазку в стеклах жрут, — задумчиво промолвил участковый. — Так сколь ее, замазки?…
После этих слов Анискин терпеливо замолчал — таращил по-рачьи глаза, покручивал пальцами, но дышал просторно, так как на улице был сентябрь и возле окон по-жестяному пошевеливала листочками старая черемуха, а вдали отливала синевой неторопливая по-осеннему Обь.
— А! — выдохнул Анискин.
— Искусство, Федор Иванович, — сказал заведующий, — принадлежит народу. Конечно, кино — самое массовое из искусств, но, Федор Иванович, музыка призвана воспитывать человека не только эстетически, но, если можно так выразиться, и политически. Нам песня строить и жить помогает, Федор Иванович…
— Ну!
— Похитили аккордеон! — сказал Геннадий Иванович и пятнами покраснел. — В двадцать три пятнадцать я его протер мягкой фланелью, посыпанной тальком, в двадцать три двадцать пять вложил в специальный футляр и положил в клубный шкаф, а в… — заведующий поглядел на часы… — а в семь сорок, когда я утром пришел в клуб, чтобы во всеоружии встретить воскресник по сбору колосков, аккордеона… Его не было, Федор Иванович! — воскликнул Геннадий Николаевич и потряс руками. — Похитили!
Заведующий уронил руки на колени, голову — на плечо, и Анискин удивленно крякнул — в глазах Геннадия Николаевича показались крупные женские слезы. Не стесняясь участкового, он вытер их малюсеньким платком, всхлипнул и сказал:
— Два регистра, два регистра!
Что такое регистры, участковый не знал, но в голосе заведующего звучало такое отчаяние, что Анискин поднялся, подошел к Геннадию Николаевичу и наклонился над ним.
— Сколько стоит? — тихо спросил он.
— Ах, Федор Иванович, когда речь идет о святом искусстве…
— Сколько стоит?
— Триста пятьдесят платил с рук…
— Триста пятьдесят?
Анискин вернулся на место, хрустя табуреткой, сел и решительно придвинул к себе чернильницу. Однако сразу писать он не стал, а только умокнул перо. Толстый, громоздкий и лупоглазый, Анискин смотрел на заведующего строго, пошевеливал нижней губой и отдувался тяжело, как паровоз после длинной пробежки.
— Вам, Геннадий Николаевич, конечно, наши законы не понять, — сурово сказал он, — но кража произведена вровень с хорошей коровой и чуток пониже мотоцикла… Если у меня память не врет, то такого крупного дела на деревне не было с одна тысяча девятьсот сорок восьмого года. Это когда Валька Сучков у инвалидного фронтовика увел два отреза немецкой шерсти…
— Ах, Федор Иванович…
— Прошу молчать, руками не мельтешить, отвечать на вопросы!
2
Быстро — за полчаса — записав показания заведующего, Анискин вчетверо перегнул тетрадные листки, аккуратно запрятал их в карман диковинно широких в поясе штанов, посапывая, поднялся и с таким видом, точно он это делал последний раз, подошел к окну. Долго, наверное минуту, он смотрел на старую черемуху и Обь, затем длинно прицыкнул зубом и, не оборачиваясь к заведующему, сказал:
— Еще раз извиняйте, но у кого находится ваш аккордеон, с ходу вырешить не могу… На кого я сразу подумал, вчерась на Линевски перекаты рыбалить уехал, а на кого я подумал потом — пятый год этим делом не грешит, так что, может, и напраслина. Одним словом, Геннадий Николаевич, дело серьезное и надо по всем статьям следствие провести… Айда в клуб!
Хотя Анискин был тяжел на ногу и двигал ими редко, до клуба они добрались в десять минут, и заведующий было полез за ключами, но Анискин его остановил и даже не позволил подняться на крыльцо. Пробормотав что-то вроде: «Где стоите, там и стойте!» — участковый осторожно приблизился к крыльцу, перегнувшись через пузо, наклонился и долго-долго рассматривал толстые кедровые доски. Что он заметил, заведующий не понял, но Анискин недовольно хмыкнул и снова пробормотал:
— Надо окна осмотреть.
Клуб в Кедровке был не то чтобы очень старый, но и не новый, в длину он походил на пожарное депо, так как сбоку выходили две большие гаражные двери, а спереди клуб напоминал сельповский магазин — железная штуковина через дверь, коротенькая вывеска «Клуб» и два окна по обе стороны крыльца, огороженного перилами. Никаких других окон, кроме этих, в клубе не было.
— Так! Эдак!
Осторожно, на цыпочках, Анискин приблизился к окнам с частым переплетом, сопя, стал надавливать пальцами на стекла. Двенадцать штук было в каждом окне, и он на все надавил, но никакой слабины не обнаружил и недоверчиво покачал головой. Потом Анискин секунду постоял в неподвижности и вдруг рысью побежал к той стороне клуба, куда выходили две гаражные двери. Заведующий засеменил за ним, но участковый его остановил досадливым движением руки:
— Не надо бегать, не надо!
Оставшись в одиночестве, участковый не спеша подошел к первым дверям, потянул — крепко, так же не спеша приблизился к другим, потянул… Двери медленно, без скрипа открылись, и Анискин, который за вторую дверь схватился так же сильно, как и за первую, стал валиться на спину.
— Федор Иванович!
— Стой, где стоишь! — удержавшись на ногах, сурово ответил участковый и вернул двери на место. — Так, так, так!
Участковый и заведующий замерли… Шел девятый час утра, желтизна лежала на деревне, воздух был так тих и прозрачен, как только бывает на Оби в сентябре, когда под ногами шуршат и лопаются листья, вода просвечивает до дна и когда в душу просится чувство, похожее на тихий лет листьев со старых осокорей.
— Дверь-то открывается, — негромко сказал Анискин. — Дверь-то не закрючена…
Стоя в тихости, ни он, ни заведующий не замечали, что их окружили ребятишки — подходили осторожно и робко, выползали из-за кустов и плетней, выныривали из тайных лазов. Ребятишкам было от пяти лет до восьми — ребята повзрослев или собирали колоски, или работали на жатве, — но и эти шли густо, и когда Анискин пришел в себя, то его плотно окружали тихие разноцветные головы. А всех ближе, застенчиво ковыряя большим пальцем ноги землю, стоял младший сын Анискина Витька. Рот у него был открыт, глаза по-отцовски вытаращены.
— А вот я вас! — страшным шепотом сказал Анискин. — Как всех штрафану!
Ребята резко сдали назад, но участковый о них тут же забыл — подмигнув сам себе, он, тщательно разглядывая землю, пошел к дверям. Возле них Анискин остановился, но долго стоять не стал — пробующе открыл дверь и проник в нее, напоследок сказав заведующему:
— Через минуточку входите, Геннадий Николаевич.
Когда заведующий вошел в темный клуб, он участкового не увидел, а только услышал сопенье и тяжелый скрип досок — надо было полагать, что Анискин на ощупь пробирался к той комнате, где занималась колхозная самодеятельность, хранились музыкальные инструменты и, дожидаясь начала киносеанса, обычно сидели местные власти — председатель колхоза, председатель сельсовета и сам участковый Анискин.
Так оно и оказалось — Анискин стоял в комнате и с милицейским прищуром смотрел на широко раскрытый шкаф, в глубине которого лежали кумачовая материя, сломанный баритон и куча банок с зубным порошком — для лозунгов и плакатов. Пахло в комнатешке пылью, огурцами и жирным гримом.
— Двери клуба надо запирать! — непонятно улыбнувшись, сказал участковый. — Вчера, Геннадий Николаевич, конечно, была суббота, конечно, после работы гражданину выпить не возбраняется, но двери надо закрючивать, Геннадий Николаевич… — После этого Анискин вынул из-за спины огрызок огурца и положил его на пыльный трехногий стол. — Так когда, вы говорите, заперли шкаф-то?
— Примерно в двадцать три двадцать пять…
— Вот видите, Геннадий Николаевич, теперь говорите: «Примерно!», а раньше… Но дело не в этом, Геннадий Николаевич, дело в том, что аккордеона-то нету. А!
Аккордеона в шкафу действительно не было: банки — они тут, кумачовая материя — вот она, сломанный баритон вот лежит, а аккордеона… Его не было, аккордеона, и притихший заведующий уж было хотел, ослабнув от переживаний, опуститься на промятый цветастый диван, но участковый не позволил:
— Не будем пока садиться, Геннадий Николаевич, не будем.
Слова «не будем», все уменьшая голос, Анискин повторил раз пять подряд, произнеся их на разный лад и тон, а сам рачьими глазами шарил по комнатешке — окна осмотрел и доски пола, наличники и стол, шкаф и темные углы, потолок и дверь за своей спиной. Сам участковый стоял на месте, но шеей ворочал активно, старательно и вскоре облегченно вздохнул:
— Ну, так, Геннадий Николаевич…
Анискин сделал шаг к столу, взял с него ветку увядшей рябины и поднес к носу. Ничем другим, кроме рябины, ветка пахнуть не могла, но Анискин долго нюхал ее, подносил то к одной ноздре, то к другой и, наконец, расплылся в галантной дьявольской улыбке.
— Ах, ах, Геннадий Николаевич! — голосом заведующего клубом сказал он. — Извините меня в третий раз, но эта ветка ничего другого означать не может, что вы опять возвернулись к продавщице Дуське…
— Федор Иванович, дорогой…
— Ах, Геннадий Николаевич, ах, дорогой! — тоже вскричал участковый и прижал к груди руку с веткой рябины. — Я же ничего вам плохого не говорю, любите, кого хотите, но ветка ничего другого означать не может, кроме Дуськи… Во-первых, это она всегда в сентябре ходит с рябиной да мажется одеколоном «Ландыш», а во-вторых, вчера ребята-трактористы после работенки хотели водки достать, а Дуськи нету: ни в магазине, ни у себя, ни у Гришки Сторожевого. Я тоже было забеспокоился, где это Дуська… А она, оказывается, у вас была, Геннадий Николаевич. Она здесь, оказывается, обреталась!
— Да! — шепотом признался заведующий. — Да, Евдокия Мироновна были здесь!
— Любовь возвернулась?
— Пути любови неисповедимы, Федор Иванович. Знаете, в том возрасте, когда цветы уже не пахнут…
— Знаю, знаю, — охотно согласился Анискин. — Я как у Панки Волошиной побывал, то все знаю про любовь, но теперь вопрос не в этом, Геннадий Николаевич, а в том, чтобы всю картину обрисовать… Вот я тихонечко на диван сяду, хоть на нем сто пудов пыли, а вы мне полегонечку все и обрисуете. Торопиться нам некуда, время утреннее — вот вы мне все и распишите…
Анискин на самом деле сел на диван, который, заскрипев, провалился до полу, а пыль поднялась клубами; чихнул от этого и ясными, безмятежными глазами посмотрел на заведующего:
— Ну, давай по порядочку…
— Федор Иванович, — красивым голосом сказал заведующий и так отрешенно взмахнул головой, что длинные волосы рассыпались веером. — Федор Иванович, я очень уважаю вас и ваше семейство, но нужно ли ворошить такие интимные подробности мужской жизни, которые задевают больные струны…
— Можно и не ворошить! — мирно сказал Анискин. — Можно, Геннадий Николаевич, но тогда я вам аккордеон не найду. А он все-таки триста пятьдесят рублей стоит. Так что давайте ворошить… Когда вы закрыли клуб?
— В одиннадцать часов, как неоднократно подчеркивалось районным управлением культуры…
— Ну?
— Евдокия Мироновна, если можно так выразиться, уже находилась в этой комнате, именуемой гримуборная…
— Ну!
— Дальше, Федор Иванович… дальше…
— Ну, ну!
Заведующий Геннадий Николаевич Паздникив заплел руку за руку и потупился — уши у него горели, как ягоды рябины, которую Анискин по-прежнему галантно держал в руке, а иссиня-красный чиновничий нос, наоборот, побледнел. Глядя на него, Анискин широко улыбнулся и спросил:
— А к Дуське на квартиру чего же не пошли? Ведь раньше-то, в первую любовь, вы все ночи у нее в квартре заседали?
— Тут, Федор Иванович…
— Ну, ну, Геннадий Николаевич…
— Видите ли, Федор Иванович…
— Ну, еще раз ну…
— Григорий Семенович Сторожевой! — коротко ответил заведующий. — Товарищ Сторожевой!
После этих слов Анискин торопливо склонил голову, бесцельно понюхал ветку рябины и надул губы. В груди участкового что-то поклокотало и затихло, он поднял голову и, глядя в частый переплет окна, раздумчиво сказал:
— Это так надо понимать, что вы боитесь, как бы Гришка Сторожевой вас на Дуськиной квартире не пымал и…
— Этот человек на все способен! — убежденно и горячо ответил заведующий. — Вы бы знали, Федор Иванович, какими глазами он смотрит на меня…
— Глаза-то что, — по-прежнему раздумчиво сказал Анискин и опять понюхал рябину. — Глаза-то пустяки, Геннадий Николаевич, а вот, подлец, дерется… Он, варнак, этой весной Сеньке Панькову скулу проломил, хотя Сенька возле клубу с братьями обретался. Дак и братьям попало, Геннадий Николаевич. Страсть!
— Федор Иванович, дорогой! — вдруг воскликнул заведующий и трагически поднял руки. — Я понимаю ход вашей мысли, я ухватываю вашу версию…
— Ну!
— Аккордеон украл гражданин Сторожевой!.. Ба, ба, колоссальный ход! Вы понимаете, Федор Иванович, мстя мне за Евдокию Мироновну, Сторожевой решает нанести самый больной удар… Вы понимаете, Федор Иванович, что значит для музыканта, для артиста его муза! — Потрясая руками, заведующий промчался по пяти метрам комнатушки, развернувшись волчком, гулко ударил себя рукой в грудь. — Для артиста муза больше жены, женщины, подруги. О, гражданин Сторожевой нанес мне смертельный удар! О!
Разные представления участковый любил до смертыньки, и, когда Геннадий Николаевич стал трясти руками по-особенному и кричать нечеловеческим от красоты голосом, Анискин удобно устроился на диване, примолк и на заведующего посмотрел с уважением. Конечно, без специального костюма Геннадий Николаевич обличьем был послабже, чем на сцене да при электрическом свете, но он все равно здорово нравился участковому.
— О, Сторожевой знал, что творил! — разыгрывал Геннадий Николаевич. — Скажите, скажите, Федор Иванович, вы уже знаете, что это он, именно он похитил мой перламутровый аккордеон? Скажите, о скажите, Федор Иванович, разве не об этом говорит ваше детективное чутье…
Слово «детективное» участковый Анискин знал, миллион раз употреблял его в разных видах, но бушующего заведующего перебивать не стал — во-первых, интересно, во-вторых, когда человек такой горячий, его сразу не остановишь. Потому Анискин выждал, когда Геннадий Николаевич немного успокоился, цыкнул зубом и сказал:
— Наше дело такое, Геннадий Николаевич, что сразу понять нельзя, кто вот вор, а кто вот нет! Может, аккордеон увел Сторожевой, а может, наоборот, не Сторожевой… Так что вы охолонитесь и ответьте на последний вопрос. Двери-то кто запирал?
— Двери, о, двери… — Заведующий остановился и опустил руки. — Двери, Федор Иванович, как вы сами понимаете, закрывал я…
— До того, как водку пили, или опосля?
— Я всегда закрываю двери до того, как пью водку.
— Ну, вот и все, Геннадий Николаевич… Теперь вы посидите на крылечке, а я еще в клубе поброжу…
3
Анискин вышел из клуба примерно через полчаса, когда заведующий, дисциплинированно сидя на крылечке, уж притомился смотреть на пустынную улицу и нервными шагами расхаживал возле клуба. Увидев участкового, он обрадовался, но Анискин в разговор с заведующим не вступил, а от той двери, которая открывалась, наперерез перешел дорогу. Здесь он остановился, рассматривая доску, что была через плетень.
— Ишь ты! — вдумчиво заметил участковый. — Доска!
Он рассматривал такую штуку, которая в сибирских деревнях называется лазом и которая, так сказать, отражает стремление человечества к прямым линиям, так как ходить улицами и переулками всегда длиннее, чем напрямки валить через чужие огороды и ограды. Поэтому через плетни в деревнях и перекидываются две доски — с одной стороны и с другой. Вот такую-то доску и рассматривал участковый, оглядев же, хмыкнул.
— Сапог-то кирзовый! — И так как заведующий уже стоял за его спиной, участковый показал пальцем на след сапога, четко лежащий на узкой доске. — Здоровенный сапог…
— Злоумышленник! — прошептал заведующий.
— Может, он, а может, и нет! — ответил Анискин, затем, сделав заведующему знак, чтобы следовал за ним, вернулся к дверям и приказал: — Зайдите передним ходом, Геннадий Николаевич, да закройте дверь на крючок. Сами вернитесь.
Пока заведующий бегал закрыть дверь, Анискин стоял вольно, дышал легким сентябрьским воздухом и глядел, как хорошо и не жарко светит солнце, летят в синеве длинные паутинки и висит меж небом и землей коричневая лодка, плывущая по Оби. Дул такой легкий и сладостный ветер, какой только может дуть в сентябре, и участковый подставлял ему лицо.
— Закрыто, Федор Иванович!
— Ладно.
Очнувшись от благодати, Анискин въедливо глянул на заведующего, потом на дверь, опять на заведующего. Раза три он перевел взгляд с человека на двери, потом взялся правой рукой за скобу и потянул.
— Закрыто? — сухо спросил участковый.
— Сами же велели, Федор Иванович…
— Велел, велел…
Анискин взялся за скобу второй рукой, высоко надавил на дверь, мелко затряс ее и вдруг резко дернул… За дверью что-то звякнуло, треснуло, и дверь открылась.
— А? — тихо спросил Анискин. — А, говорю?
— Какой эффект, Федор Иванович! — пробормотал заведующий. — Кто бы мог подумать, что простым потрясыванием…
— Крючок г…но! — энергично ответил участковый. — Когда найду аккордеон, я вас, Геннадий Николаевич, за это дело, конечно, штрафану, а сейчас вопрос в другом… В каком часу вы выходили из клуба и кого встретили по пути?
— Сказать точно… Понимаете, сказать точно…
— До дождя или после?
— Во время дождя, Федор Иванович. Вы понимаете, хоть Евдокия Мироновна и возражали…
— Понимаю, понимаю, — перебил его участковый. — Гришка Сторожевой не дурак, чтобы под дождем обретаться… Ну, это же и означат, что на пути вы никого не встретили…
— Никого, Федор Иванович!
— Лады!
Участковый в последний раз посмотрел на заведующего значительным взглядом, свел брови на переносице, но ничего не сказал, а только помигал. Потом он заложил руки за спину, кивнул заведующему головой и неторопливо пошел по улице, что вела берегом Оби, — пузо вперед, голова поднята, ноги нараскорячку.
— До свидания, Федор Иванович! — вяло помахал рукой заведующий. — До свидания!
Но участковый слышать его не мог, так как все шагал и шагал улицей, посапывая носом от движения, и выпуклыми глазами осматривал то, мимо чего проходил. Он осматривал и запоминал, запоминал и осматривал, и так себе, потихонечку да полегонечку, добрался до высокого дома, что стоял чуть ли не у самой кузни, то есть далеко от центра деревни. Возле дома Анискин остановился и начал сердито сопеть:
— Ух! Ух! Ух!
Он сопел и злился оттого, что шел уже одиннадцатый час, а в просторном доме было так тихо, словно внутри стоял гроб с покойником. Двери, правда, были открыты настежь, но это тоже ничего хорошего не значило, и Анискин до того рассвирепел, что сделался в лице красным, как перезревший помидор. Он по-кабаньи пырнул носом, поднялся на крыльцо и прямиком проследовал в дом — избяные двери тоже не были закрыты.
— Так!
На четырех узких кроватях, поставленных рядком, как в больнице, закрывшись серыми одеялами, спали четверо лохматых парней. Рты у них были широко открыты, и потому в комнате пахло водочным перегаром, луком и чесноком. Никакой обстановки, кроме кроватей, в комнате не стояло, но зато стены сплошь покрывали похабные картинки с похабными же подписями.
— Эдак!
Анискин прошел вдоль двух стен, рассмотрел и прочел все новые рисунки и подписи, усмехнувшись одной из них, вернулся к дверям. Здесь он сел на высокий порог, расстегнул две пуговицы на рубашке и сладко зевнул — это оттого, что в комнате спали.
— Тунеядцы! — немного погодя громко сказал Анискин. — Просыпайтесь!
Двое из четырех парней перевернулись с одного бока на другой, один что-то пробормотал, четвертый тонко храпнул, но ни один не проснулся. Тогда Анискин вынул из кармана коробку спичек, огромный носовой платок, а за ним нечто странное — ружейный патрон, прикрученный проволокой к деревянной ручке. Сопя и улыбаясь, участковый вынул из коробка спичку, подсунул ее под проволоку так, чтобы спичечная головка была на уровне дырки, прорезанной в патроне.
— Ах, ах! — шепотом прокудахтал Анискин. — Ах, ах!
Штука, похожая на пистолет, называлась поджигой, участковый ее недавно отобрал у мастерового мальчишки Витьки, чтобы — не дай бог! — не случилось несчастье. Поджигу Анискин обещал отдать Витькиной матери: «Пороть тебя надо, Витька, пороть!» — но забыл и теперь очень радовался этому.
— Хе-хе-хе! — хохотнул он. — Ху-ху-ху!
Анискин ширкнул по коробке спичек той стороной поджиги, где была спичечная головка, от страха зажмурив глаза, отвернулся, а руку с поджигой, подражая Витьке, вытянул в сторону. Полсекунды головка шипела, потом так бабахнуло, что Анискин стукнулся плечом о дверной косяк и вскрикнул:
— Матушки!
Комнату застлал едкий пороховой дым, стекла звенели, где-то гремело и шуршало, что-то рушилось и стонало — бог знает что делалось! Когда же дым разошелся, Анискин медленно и сладостно захохотал:
— Ах-хах, хах-ха…
Сбившись в угол комнаты, завернувшись в одеяла, четверо тунеядцев круглыми от страха глазами смотрели на участкового и на то, как синим бинтом тянется в открытую форточку пороховой дым. Потом один из них — жиденький самый и молодой — выпростал из-под одеяла дрожащую руку и спросил:
— Что это такое?
— Поджига! — ответил Анискин, сдвигая брови, — сам не видишь, что поджига, а?… Ну, валите по местам!
Лохматые парни вернулись на кровати, сели и повернулись к Анискину, который по-прежнему располагался на высоком пороге. Он был спокоен и тих, но в пальцах все еще держал поджигу и даже покачивал ею, как настоящим пистолетом.
— Ну, вот что, господа хорошие! — сказал Анискин. — Что вся деревня на жнивье, а вы спите — это мне не удивленье. Что вся деревня вчера кино смотрела и в банях мылась, а вы водку жрали и помидоры воровали — мне это тоже не удивленье. А новость мне то, что у завклуба аккордеон пропал. Вот это мне новость! — Анискин встал, прошелся перед тунеядцами и непонятно усмехнулся. — Ну!
— Не брали мы аккордеон, — угрюмо сказал самый жидкий и молодой. — Не брали!
— И это я знаю! — охотно ответил Анискин. — Вам аккордеон, во-первых, потому не нужен, что душа у вас черная и к музыке не лежит, а во-вторых, потому, что вы только на мелку кражу годитесь… Вот ты вот, Сопыряев Автандил, встань-ка с койки… Встань-встань, кому говорят!
Сопыряев Автандил — парень лет девятнадцати, с прищуренными глазами и розовым шрамом на губе — неохотно поднялся с кровати, по-блатному закатил глаза, чтобы закричать, но Анискин молча схватил его за плечо, придавив к полу огромной лапищей, отставил в сторону, как ненужную вещь, и в грозной тишине пальцами ловкими, как у хирурга, пошарил под подушкой. Рука участкового всего на секунду скрылась, а потом он жестом фокусника выхватил из-под подушки косынку и знаменем полыхнул ею в воздухе — сверкнули перед носом тунеядцев алые цветы и закорючки, прошелестел шелк и проплыл запах хороших духов.
— Учительши Малыгиной косынка! — тихо сказал Анискин. — Куплена в Томске за двадцать восемь рублей… А, Сопыряев Автандил!
В прежней, грозной и подвижной тишине, участковый вернулся на высокий порог, сел, вытянул ноги и несколько раз тяжело вздохнул — душно было ему в комнате, пропитанной запахом грязных тел.
— Меня, конечно, за это надо с работы свольнять, — прежним голосом сказал Анискин, — но теперь, как в деревне кража, я радуюсь… А почему я радуюсь, когда, наоборот, надо плакать? — набычив голову, спросил он и поднял палец. — Вот ответь мне на это вот ты, Лещинский Игорь.
— Не знаю! — ответил Лещинский, тот из четырех, что стоял позади других и даже делал попытку спрятаться за спину Сопыряева. — Не могу сказать, гражданин участковый уполномоченный.
— Сказать не можешь, а, поди, по тюрьмам сидел… — усмехнулся участковый. — Ну, коли ты такой бестолковый, то можешь не отвечать, а вот автоматическую ручку ты мне отдай… Ну, отдавай, отдавай — я ведь все равно обыск буду делать.
Когда Лещинский отдал автоматическую ручку, украденную им позавчера в клубе у тракторного бригадира дяди Ивана, участковый спрятал ее в карман, где уже лежала косынка, и похлопал ручищей по коленке.
— Теперь отвечаю, почему я радуюсь, когда в деревне кража, — сказал Анискин. — Я потому ей радуюсь, что под эту кражу могу у вас, у тунеядцев, обыск сделать… Вот я у вас две вещи сразу и нашел, так как в деревне уж пять месяцев никаких происшествиев не было, хотя вы каждый день по мелочам воруете, чтобы водку жрать…
Парни молчали, глядя в пол, и Анискин позволил себе неярко улыбнуться.
— Сегодня я у вас обыск делать не буду, так как уже все воровано конфисковал, — сказал он. — А вот поработать я вас заставлю… Вот ты, Власенко Юрий, возьми то полено, что у печки лежит, вот тот столовый ножик, что на подоконнике, и отщепни-ка ты от полена четыре щепочки размером поболе… Ты иди, иди, приказ сполняй, Власенко Юрий, а не то я вспомню, как вы все четверо вчера на огороде у Потаповых помидоры спортили… Стервецы! — вдруг озверев, закричал Анискин. — Вы хоть когда огурцы и помидоры воруете, то хоть ботву не топчите! Жри, на всех хватит — так хоть не порть!
Закричав и озверев, Анискин сразу вспотел, задышал астматически и хрипло, словно в горле у него что-то застряло. От этого участковый побледнел и затих. Вот теперь только и услышалось в тишине, что на колхозной конторе уличный громкоговоритель наяривает какой-то заморский фокстрот, плещутся под яром в Оби ребятишки, а в колхозной кузнице бьет молотом в наковальню кузнец Юсупов, ремонтируя дергачи к жнейкам.
— Ну, давай, давай, Власенко Юрий, — сказал Анискин — Бери полено… — Когда же Власенко столовым ножиком начал отщепывать от полена крупные щепочки, участковый распорядился: — Подходи по одному, бери по щепочке и начинай дружно скоблить стену, на которой подписи и матерщинны рисунки. Ну!..
А когда минут через пятнадцать похабные рисунки и подписи со стен исчезли и тунеядцы положили палочки в кучу, Анискин поднялся с порога, прошел перед четырьмя, как перед строем, и прицыкнул зубом.
— Теперь отвечай на мои вопросы, — гневно приказал он. — Как вы вчера по пьяному делу всю ночь по деревне шарились, так должны знать, кто после дождя возле клуба обретался?… Ты отвечай, Сопыряев Автандил…
— После дождя? После дождя на улице были мы и Григорий Сторожевой, — ответил Сопыряев и от уважения к участковому деликатно кашлянул в кулак. — …Мы и Григорий Сторожевой…
— У клуба отирался, гражданин участковый! — хлопотливо вмешался в разговор Лещинский. — Мы уже похиляли домой, раз водяры не достали, а он, гражданин участковый, руки на карман поставил и возле клуба ходит.
— Кого еще видели?
— Никого! — хором ответили парни, но среди их дружных голосов участковый не услышал голос Юрия Власенко. Он, как всегда, стоял немножко в сторонке и поглядывал на Анискина голубыми глазами молодого, но не игрушечного тигренка. Власенко вообще резко отличался от других, и Анискин тревожно подумал: «Ох, с этим парнем мне еще будет морока, ох, будет!»
— Ну ладно! — сказал участковый. — Ну ладно…
Анискин уже в тишине пошел к дверям, как Игорь Лещинский вдруг перегнулся, словно от удара под ложечку, подергался припадочно и на всю вонючую комнату завопил:
— Во, корешки, что делается! Мы думали, что Сторожевой рекорды ставит, а он аккордеон увел.
Пока Лещинский вопил и кривлялся, участковый молча стоял у дверей, затем взялся за ручку и, не отпуская ее, замедленно обернулся.
— Вот за что я еще вас ненавижу, — сказал он, — так это за то, что вы работать сюда по своей охотке приехали, а сами тунеядцы! — Анискин тоскливо вздохнул. — Такие вы, что я… Я вот за эту деревню, которая за окном, с колчаковцами бился, в меня из обреза за власть кулаки стреляли, а вы мою деревню собой позорите…
Судорожно взмахнув рукой, Анискин вышел на крыльцо, подставив ветру с Оби лицо, несколько раз вдохнул пряный, увядающий аромат сена, береговой глины и просто воздуха, который в сентябре настаивался сам по себе. Все еще галдели ребятишки под яром, репродуктор проливал на всю длину улицы протяжный вальс, а вот кузнец Юсупов железом уже не гремел — кончил, верно, ковать очередной дергач. «Ну, так! — спокойно подумал участковый. — Гришка-то Сторожевой и после дождя возле клуба обретался! Вот это дела!»
Но Анискин еще несколько секунд постоял возле дома, так как родная деревня лежала вокруг него тихая и от этого ласковая. Виделось новое здание колхозной конторы с кумачовым лозунгом: «Товарищи! Наш колхоз идет вторым в районе по темпам уборки», — придуманным, конечно, парторгом Сергеем Тихоновичем; просматривалась голубая Обь, а главное — было тихо. Вся, ну вот вся деревня ушла в поля убирать хлеб, а несколько парней, приехавших полгода назад из Томска работать в колхозе, сидели в затхлой, грязной комнате.
— Так! — вдруг громко сказал Анискин. — Эдак!
Грозно сведя брови на лбу, он легонько постучал согнутыми пальцами в окно.
— Господа хорошие, — сказал участковый еще громче, — выходь на улицу…
Через минуту четверо парней, застегивая рубахи и штаны, теснясь, появились на крыльце. Участковый внимательно оглядел их, непопятно улыбнулся и сказал:
— Марш на поля!.. Вот ты, Сопыряев Автандил, будешь старшим. Завтра Сопыряев мне доложит, как работали…
Четверо пошли по пыльной улице, и участковый следил за ними до тех пор, пока они не миновали магазин, клуб и колхозную контору. Он все улыбался и тихонечко покручивал головой. «С паршивой овцы хоть шерсти клок! — думал участковый. — Хоть нынче и хорошо дело идет, восемь рук — это тебе не баран начихал…» Потом он сказал вслух:
— Ну, теперь мне само время к продавщице Дуське наведаться…
4
К продавщице Прониной, то есть к магазину, в котором она торговала и жила, Анискин пришел действительно в удобное время — после двенадцати часов, когда Дуська до шести вечера торговлю прекратила. У магазина было тихо, на дверях висели три амбарных замка, окна, изнутри задвинутые деревянными щитами, смотрели слепо. Поэтому участковый магазин с парадного хода обошел и приблизился к задней двери, возле которой в лопухах лежала ничейная собака Полкан, громоздились пустые ящики и валялись разноцветные бумажки.
— Полкан, вот ты есть Полкан! — сказал участковый собаке и негромко постучал в дверь. — Живой есть кто или нет?
На первый стук никто не ответил, тогда Анискин постучал погромче.
— Чего скребешься-то, входи! — раздался далекий, но явно злой голос. — Входи, кого еще черт принес.
Мимо уже не пустых, а полных решетчатых ящиков, мимо бочки с селедкой и мешков с сахаром, густо смазанных солидолом и обернутых бумагой кос, граблей, лопат и прочего металлического добра, мимо зашнурованных веревками двух велосипедов и мотоцикла в деревянных планках Анискин прошел в комнату продавщицы Дуськи, в которой тоже было полутемно, так как продавщица отдыхала после работы и беспокойной ночи. Так что Дуську во мраке сразу видеть было нельзя, и участковый различил только черное и движущееся.
— Здорово, здорово, Евдокия! — приветствовал он черное и движущееся.
— Как живем-можем?
Все еще была темнота, и в ней Дуська ответила:
— А, это Анискин… Здорово, Анискин, проходи!
Скрипнули внутренние ставни, в комнату ворвался здоровенный кусок солнца, и участковый во всю ширь увидел маленькую комнату продавщицы, ее сундук, городское зеркало на трех половинок, зеркальный шкаф и саму Дуську — она в черной шелковой рубашке сидела на кровати и, подняв руки, закалывала густые волосы. Шпильки Дуська держала в зубах и потому проговорила в нос:
— Ты, Анискин, если пришел, то не стой, а садись.
Участковый опустился на низенький стульчик с цветастым сиденьем, вытянул ноги, чтобы не торчали выше пуза, и прищуренными глазами с ног до головы оглядел продавщицу Дуську. Черная рубашка на ней была такая плотная, что трусы и бюстгальтер не просвечивали, сама Дуська под комбинацией была пухлая и грудастая, а ноги имела одинаковой толщины что в щиколотке, что возле коленей. На взгляд участкового, продавщица выглядела хорошо, но он все-таки сурово прицыкнул зубом.
— Постеснялась бы, страма, в рубашке-то!
— А мне не стыдно, — огрызнулась Дуська, вынимая из зубов последнюю шпильку. — Мало что комбинация двенадцать рублей стоит, мне платье перед кажным надевать — мозоли набьешь! Сейчас еще ничего, уборка, а в обычное время только приляжешь: «Дуська, открывай! Дуська, открывай!» Хорошо бы еще за водкой, а то вот вчерась приходит Сузгиниха — уксус у ней кончился, а сам пельмени захотел… Это летом-то адиот! Вот она и прется в ночь-полночь.
Дуська от злости мгновенно сгреблась с кровати, просвистев под носом участкового шелковой комбинацией, сдернула все-таки с гвоздя ситцевый халат и накинула его на меловые неохватные плечи. Потом она боком села за маленький столик, закинула ногу на ногу и достала папиросу из пачки «Север». По-мужски чиркнув спичкой, Дуська хрипло спросила:
— Чего пришел, Анискин?
— А дело есть.
— Ну, я тогда тебе окно открою.
В три движения, словно в три прыжка, Дуська открыла окно, раздвинув алую занавеску, попутно что-то лишнее убрала со стола, подправила подушку на кровати, сделала еще что-то неуловимое и непонятное — вихрь, вихрь! Птичкой перепархивала Дуська с места на место, хотя была толста и, по слухам, больна сердцем. И когда Дуська опять села на место, Анискин еще раз посмотрел на нее ясными глазами: «Эх, хороша баба эта Дуська!» Потом он повозился на чертовом стульчике и сказал:
— Чего же ты, Евдокея, ребятишкам-то медяки недодаешь?
— Кому это? — вскричала Дуська и опять вскочила с места. — Ну, скажи, Анискин, кому я недодала медяк?
— А Фроське Негановой, — подумав, ответил участковый. — Этой три копейки, а вот Мишутке Ляпину — так целый пятак.
— Фроське, Мишутке?! — Дуська очумело глядела на участкового, халатик падал с ее покатых плеч. — Ты чего же это, Анискин, умом тронулся, — простонала она. — Ведь те три копейки и тот пятак — это когда было?… Это же еще в июне, в покосы…
— Ну и что, что в покосы, — мирно ответил Анискин. — Недодано же, а?
— Ну, Анискин, ну, Анискин! — Дуська попятилась, села от огорчения на свою пышную кровать, руки бросила на кровати и обиженно замигала. — Ну, Анискин, это слов не найти, какой ты есть злобный человек. Не зря твоя Глафира тоща, как стерлядь, — это все от тебя!
Дуська опять всплеснула руками — на этот раз не замедленно, а быстро — крутанулась волчком по комнате, открыла рот на манер галчонка, чтобы густо закричать, но от возмущения слова у нее в горле встали колом — она села на кровать и, прищурившись, стала смотреть мимо Анискина злыми, как у голодной кошки, глазами. Губы у нее дрожали, кривились.
— Вот хорошо! — похвалил ее Анискин. — Молодца, Евдокея, угомонилась!
Участковый задумчиво посмотрел на городское зеркало из трех половинок — ничего себе, огладил глазами зеркальный шкаф — какой блестящий, перевел глаза на кровать под никелем и с шариками — мягка, мягка! Все в Дуськиной комнатешке понравилось Анискину, и он согласно покивал головой — дескать, давай, давай, Дуська, продолжай в том же духе…
— Я чего, Евдокея, на медяк память держу, — сказал Анискин, — а оттого, чтоб ты не забывалась. Так что ты не обижайся, а лучше в корень гляди… Я ведь тебя, Евдокея, за то уважаю, что ты против всех прежних продавщиц — человек нежадный, добрый. Ты и в долг дашь, и не обвешаешь, и хороший товар от народа не утаишь. Вот за это я тебя и уважаю.
— Ну, спасибо, Анискин! — насмешливо ответила Дуська, разводя руками. — Спасибо, так тебя перетак…
— Вот и материшься ты, а я на это внимание не держу. Ты от хорошего сердца материшься, Евдокея.
— Вот еще!
— Не вот еще, а — так!
Они помолчали.
— Жизнь прожить, Евдокея, — не поле перейти! — после молчания сказал Анискин. — Я твое положение понимаю, вхожу в него, так что ты меня извиняй, если какое слово не так скажу… — Участковый потянулся рукой к конторским счетам, что лежали на маленьком столике среди коробок с пудрами, одеколонами, губными помадами и всякими кремами. Он положил счеты на колени, шумно сбросил костяшки направо и прежними мирными глазами посмотрел на Дуську. — Ты слушаешь меня, Евдокея?
— Но.
Притихнув, Дуська сидела среди кроватной мягкости покорно, поглядывала на участкового снизу и уже не держала руки под могучей грудью — лежали они по бокам, на пододеяльнике, большие, шершавые, с накрашенными ногтями, но от этого на вид еще более грубые и заскорузлые.
— Я, Евдокея, — тихо сказал Анискин, — и в то положение вхожу, что ты на одну небольшую зарплату живешь… Ты ведь шестьдесят два рубля получаешь? — спросил он. — А?
— Шестьдесят два…
— Ну, как же на эти деньги проживешь, если у тебя ни коровы, ни огорода, никакой другой живности. — Анискин осторожно вздохнул, погладил рукой счеты. — На эти деньги без добавки прожить, Евдокея, невозможно, особливо если нет постоянного мужика, а только приходящие… Поллитру ему поставь, закуску дай, потом опохмели… Ты на меня не держишь сердце за эти слова, Евдокея?
— Говори…
— Ты меня опять извиняй, Евдокея, но вот ты за июль месяц, по моим думкам, более тридцати рублей сверх зарплаты поимела. — Анискин выровнял счеты на коленях, диковинно толстым пальцем нашарил нужную ему костяшку, а Дуська, следя за его движениями, выпрямилась и напружинила пухлые губы. Он быстро взглянул на нее и продолжил:
— Вот как ты, Евдокея, поверх зарплаты поимела тридцать рублей… Ну, во-первых, сказать, июль был такой месяц, что покосы кончались, а жнивье еще и не начиналось; это значит — народ за водкой шел хорошо. А во-вторых, сказать, в июле геологи в баню приходили — это, значит, еще прибавка…
— Ты за тридцать рублей скажи, Анискин! — ответила Дуська. — Что июль — месяц хороший, всем понятно…
— Можно и сказать, Евдокея! — Анискин приблизил счеты к глазам. — За поллитру водки ты берешь три рубля, если продаешь ее не из магазину, а с квартиры. Это, Евдокея, правильно по той причине, что ты сверх нормы работать не должна. Тебя же в ночь-полночь будят… Вот ты и берешь за беспокойство сверх цены тринадцать копеек… Ну а теперь считать зачнем.
Участковый прищурился, еще сильнее прежнего наморщил лоб и непонятно улыбнулся.
— Мы, Евдокея, по памяти считать зачнем, так как июль месяц я по твоей работе контроль наводил, — сказал он. — Ну, второго числа водку у тебя семеро геологов брали — это девяносто одна копейка. — Анискин звучно передвинул костяшки счетов. — Первое число я не прикидываю потому, что в этот день ты за товаром ездила… Ну, дальше! Третьего числа тракторна бригада Пятунина премиальны за косьбу получала — это, Евдокея, двенадцать бутылок, что составлят один рубль сорок шесть копеек… Пятого числа, как ты сама знаешь, устьюльские в нашу деревню повалили. Я допоздна на лавочке сидел и ихних девятнадцать гавриков насчитал. Это, Евдокея…
— Хватит, Анискин! — тихо-тихо сказала Дуська. — Память у тебя… — Она привалилась спиной к подушке, косо усмехнулась, как бы незряче провела рукой по бледному лицу и досказала шепотом: — Мне гинуть с твоей памятью, Анискин.
Не отвечая ей, участковый привстал, отдуваясь от усилия, положил счеты на место, но садиться на стул обратно не стал, а выпрямился во весь рост — могучий, громоздкий. Долго, наверное полминуты, он смотрел на Дуську рачьими милицейскими глазами, потом сказал.
— Не надо тебе гинуть, Евдокея! Не надо! — Он резко взмахнул рукой. — Тебе не гинуть требоватся, а, наоборот, замуж выходить…
— Замуж выходить? — Дуська приподнялась, повела бровями, помедлила секундочку и, дернув губой, переспросила: — Замуж, говоришь, выходить, Анискин! А за кого?
Еще секунду Дуська молчала, открыв рот — опять не хватало воздуха и слова в горле встали комом, — потом, взмахнув полными руками, подскочила к участковому, ужалила его взглядом, но вдруг снова попятилась назад, к своему высокому сундуку — ну, совсем ошалела бабенка!
— За кого выходить, Анискин? — наконец оглушительно крикнула Дуська. — За колхозного бугая Черномора?
Ухмыляясь и подергивая плечами, она кинула литое тело к сундуку, с размаху открыла крышку и, внезапно тоненько взвизгнув, обеими руками выхватила из него синее и розовое, коричневое и зеленое, шуршащее и переливающееся, блестящее и тусклое.
— Замуж, говоришь, замуж, говоришь! — кричала Дуська, по-шахтерски работая в сундуке руками и плечами. — Замуж, говоришь…
На участкового, ушибая густым запахом нафталина, из сундука летели кофты и платья, зимние ботинки и туфли, рубашки и трусы, бюстгальтеры и чулки; потом полетело теплое плисовое пальтишко, шапочка из цигейки, чесанки, осеннее пальто из габардина, красное вельветовое платье, две пары резиновых бот и так далее… Кое-что из летящего в него Анискин ловил, укладывал на кровать, но кое-что валилось на пол, непойманное, и Дуська по нему оглашенно приплясывала:
— Замуж, говоришь, замуж?
Когда в сундуке ничего не осталось, Дуська, ощерив зубы, повернулась к Анискину и пошла, пошла на него — грудью, животом, глазами, растопыренными бедрами.
— Замуж, говоришь? Я тебя спрашиваю, мать твою перемать, за кого мне замуж выходить? — Дуська пхнула участкового грудью и животом, сбила-таки с неподвижности и, торжествуя, хохоча, перегнулась в пояснице — волосы распущены, как у русалки, глаза дикие, рот перекошен. — Замуж?
Торжествуя над Анискиным, Дуська попятилась, задела ногами за плисовое пальтишко и вдруг начала медленно валиться на кровать. Подумав, что она падает, запнувшись, Анискин кинулся было к ней, но поддержать не успел — женщина брякнулась лицом в подушку и мелко-мелко затряслась плечами.
— Охо-охо! — прорыдала Дуська. — Ох-хо-хо!
— Евдокея! — тихо позвал Анискин. — А Евдокея!
Дуська плакала. Халатик с плеч упал, когда еще кидалась к сундуку, волосы растрепались, голова провалом темнела на белизне подушки, а лежала она жалобно, по-детски сдвинув и перекосив ноги. Белые плечи Дуськи тряслись как в лихорадке. Анискин на цыпочках, скрипя тонко половицами, прошел к стульчику, опустился на него, но ноги для удобства не вытянул — торчали коленками вровень с пузом.
Дуська понемногу успокаивалась: перестали вздрагивать плечи, затихли руки, спина сделалась плоской. Потом она и вся стала плоская — затихла.
— Все, Евдокея? — еще немного подождав, спросил участковый. — Проплакалась?
— Проплакалась, — в подушку ответила Дуська.
— Ну, так подымайся…
И Дуська поднялась — показала незрячее от слез лицо, скрученные в сосульки волосы, мокрую на груди черную комбинацию.
— Ты не смотри на меня, Анискин, — криво улыбнулась она. — Я теперь страшная…
— А ты подчапурься, подчапурься, Евдокея.
Анискин отвернулся к окну, и, пока Дуська причесывалась, намазывалась и накидывала халатик, смотрел на сиреневую Обь и на старый осокорь, что стоял одиноко на берегу. Осокорь шелестел жестяной листвой, в стволу был крепок и черен, но кору бороздили такие же глубокие морщины, как и лицо Анискина. Ничего удивительного в этом не имелось, так как осокорь был лет на двадцать старше участкового, а ведь только так говорится, что дерево крепче человека. На самом же деле, подумал Анискин, дерево человека мягче, крепче его только железо, так оно и есть железо бездушное…
— Ты подчапурилась, Евдокея? — спросил он.
— Готово, Анискин!
Дуська в халатике сидела на кровати, тихая.
— Я что ревела, Анискин? — с усмешкой спросила она, показывая глазами на пол, где горкой все еще лежали вещи. — Я то ревела, Анискин, что добро пропадает, а замуж… — Дуська засмеялась. — Это ведь со смеху умрешь, что никто замуж не берет… А ты знаешь, Анискин, почему… А потому, что вы, мужики, только на войне храбры. Как дело до баб доходит, ваш брат трусливее зайца…
— А это почему? — повеселев, спросил Анискин. — Это как так?
— А вот как! — ответила Дуська и кокетливо повела бровями. — Чего мужики на мне жениться боятся? А оттого, что я вольно живу — народ возле меня завсегда вертится, на всю деревню песни реву… Вот они и боятся, а того понять не могут, что я самая верная жена и есть — я мужиков распрекрасно хорошо узнала, и мне сласти от сласти искать не надо… Вот таки дела, товарищ Анискин!
Дуська поднялась, не глядя, комкая, начала собирать с пола вещи. Она разом зашвырнула их в сундук, со звоном закрыла крышку и села на нее.
— Мне крышка, а на крышке сижу! — лихо улыбнулась Дуська. — Вот таки дела, Анискин!
— На тебе Гришка Сторожевой хочет жениться, — просто сказал участковый. — Я теперь это доподлинно знаю…
— Откуда? — помолчав и сложив руки на груди, спросила Дуська. — Ты скажи, Анискин, откуда?
— А оттуда, что он у заведующего клубом аккордеон увел, — ответил Анискин и посмотрел на Дуську безмятежными глазами. — Вот я и вырешил: если он крупну кражу совершил, значит, жениться хочет…
Еще договаривая, участковый резво поднялся со стульчика, пошел хлопотливо к дверям, но возле них, конечно, остановился и стал спиной слушать Дуську. Она молча повозилась, потом усмехнулась и сказала:
— Он что, дурак — аккордеоны воровать?
— Выходит, что дурак! — спиной ответил участковый. — Рази умный человек станет тебя к заведующему приревновывать? — Анискин опять повернулся к Дуське и спросил: — Ну, вот почему ты к этому завклубу возвернулась? Что он ручки целует и на музыке играет?
Дуська не ответила. Она медленно сползла с сундука, еще медленнее пошла к окошку, прильнув к наличнику плечом, посмотрела на улицу. По небу ползла голубая кудрявая тучка, приближалась к солнцу, и от нее на землю отражались тоже голубые кудрявые лучи. Они растрепанным пучком падали на реку, и в этом месте, где они подрагивали, вода была изумрудной.
Приглушенно вздохнув, Дуська полуотвернулась от окна, пошевелила полными понежневшими губами. На ее лицо падал свет от реки, глаза продавщицы мягко голубели.
— Ишь ты! — вполголоса проговорил участковый. — Как в кино, любовь-то… Ну, а я пошел!
Анискин открыл дверь, просунул в нее половину пуза, переставил через порог ногу, но опять-таки не ушел — такой был этот Анискин, что всегда уходил не сразу.
— Евдокея, а Евдокея, — позвал он. — А ты не видала, кто еще возле клубу обретался, когда вы с этим фертом выходили?
— Окромя Гришки, никого, — вполголоса ответила Дуська. — Никого!
— Выходит, ты Гришку видела, а ферт — нет!
— Я завклубу глаза отводила.
— Ах, Евдокея, Евдокея! — прокудахтал Анискин. — Ах, ах!
Потом участковый из Дуськиной комнаты выбрался окончательно — снова прошел мимо сельповских богатств, магазинных запахов и выбрался на улицу, где ничейный пес Полкан в лопухах уже не лежал, а стоял, глядя в окно.
— Вот Полкан ты есть Полкан! — сказал Анискин, потрепывая пса по загривку. — Сейчас к тебе сама Евдокея выйдет. Она выйдет, Полкан ты есть Полкан…
Отпустив загривок Полкана, участковый заинтересованно прищурился. «Интересно, — подумал он, — шибко интересно, что все приметы на Гришке Сторожевом сходятся!»
После этого он энергично пошел домой — обедать…
5
Пообедав, участковый, как всегда, улегся спать, чтобы не бродить по полуденной жаре, поспав же, выпил пять стаканов чаю, посоветовался с женой Глафирой насчет младшего сына Витьки, который шляется в утреннее время у клуба, и в часу этак в восьмом выбрался на улицу, на ходу запихивая в карман газету «Правда», а другой рукой застегивая пуговицы на воротнике рубахи. С тем и другим делом участковый справился удачно, улыбнулся сам себе и широко осмотрелся по сторонам.
Сентябрьская деревня была обычной — лежала на дороге тяжелая коричневая пыль, тихая и невредная для колес; шли по улице два древних старика с посошками — дед Крылов и дед Голдобин, — мальчишка катил железное колесо от тележной ступицы; у палисадников краснели рябины, посверкивали катышки черемухи, дома за деревьями казались тихими, примолкшими, уменьшившимися оттого, что на окнах и крышах лежал отблеск розового солнца.
Участковый охотно пошел по пыльной дороге. По вечернему времени он дышал легко, к Оби поэтому не прижимался, чтобы веяло прохладой, а двигался прямой улицей и минут через пятнадцать оказался возле колхозной конторы. Голос председателя Ивана Ивановича слышался через открытое окно, и только тогда Анискин сообразил, что сегодня воскресенье. «Ах, ах, ах, — подумал он. — Это ведь страсть как время быстро бежит! Вчера была суббота, сегодня воскресенье, а завтра — завтра уже понедельник…»
— Так! — сказал вслух Анискин. — Эдак!..
Судя по голосам из окошка, председатель колхоза Иван Иванович с парторгом Сергеем Тихоновичем подводили итоги социалистического соревнования за неделю, так что в кабинет председателя участковый вошел тихо, на пятках проследовал до центра и поздоровался:
— Будь здоров, Иван Иванович! Будь здоров, Сергей Тихонович!
— Здорово, здорово! — ответили они и опять склонились над бумагами. — Присаживайся, Федор Иванович.
Участковый опустился на дерматиновый диван, положил голову на спинку и принялся разглядывать плакаты, лозунги, картинки, грамоты и портреты, которые густо покрывали стены председательского кабинета. Большинство на них были скучны, неинтересны, но один лозунг и одна картинка у Анискина вызвали улыбку.
Лозунг был такой: «Хлебороб! Уберешь хлеб вовремя — поможешь Родине!» Вот что неизвестный человек написал на куске хорошей плотной бумаги, и участковый подумал: «А вот ведь если хлебороб не уберет хлеб вовремя, то с ним, как пить дать, надо беседу проводить». Так, по-анискинскому, и выходило… «Вот, товарищи, — думал он, — если хлебороб не уберет хлеб вовремя, значит, ему дождь, ранний снег или плохие машины помешали. Ежели же, товарищи, хлебороб потому не убрал хлеб, что не хотел помочь Родине, то ведь это такой хлебороб, с которым беспременно надо поговорить. Чего же он не хочет убрать хлеб вовремя? Если же хлебороб убрал хлеб вовремя, то чего же тут, товарищи, особенного, так как дураку понятно, что хлеб надо убирать вовремя…» Картина же изображала…
— Ты, Федор Иванович, если пришел, то не сиди с надутыми губами! — сказал председатель Иван Иванович. — Мы догадываемся, почему ты сопишь, но хоть ты и член колхоза, для тебя решение общего собрания тоже закон…
— Он потому нацыкивает зубом, — добавил парторг Сергей Тихонович, — он потому сопит носом, что у заведующего клубом аккордеон украли. И вот уже идет восьмой час, а аккордеон не найден…
— Нет! — ответил участковый, решительно поднимаясь с дивана. — Нет, дороги товарищи, я не потому соплю, что до сего часа не нашел аккордеон.
— А отчего же?
— А вот оттого, — садясь на стул рядом с парторгом, ответил Анискин, — что вы по молодости лет и неопытной глупости народ спаиваете!
Участковый взял из рук председателя листок тетрадной бумаги, вынув из кармана очки, надел их на кончик носа.
— Ну, конечно же! — сердито вымолвил он. — Венька Моховой — три рубля, Павел Кустов — пять рублей, Григорий Сторожевой обратно пять рублей, Варвара Кустова — три рубля… Ну, и так дальше… Это чего же вы, товарищи начальство, народ спаиваете? — спросил Анискин, снимая очки и гневно глядя на парторга. — У вас что, ума не хватат сообразить, что ежели в воскресенье человек получает три рубля премии, то ему иного выхода нет, как валить к продавщице Дуське? На это, Иван Иванович и Сергей Тихонович, не надо техникумов кончать, чтобы скумекать: в воскресенье пятерка непременно поллитрой и закуской обернется. Так это почему же вы, партейные люди, народ спаиваете? — еще сердитее спросил Анискин, соединяя во взгляде председателя и парторга. — Прошлый месяц одна драка приключилась, позапрошлый две. Хлопочете, чтобы в этом месяце три было, а?
Председатель с парторгом, поглядывая друг на друга, молчали, а Анискин совсем вызверился:
— Нет, молоды товарищи руководители, так дело не пойдет! Вот как штрафану весь колхоз — запоете… Ишь, что придумали! Ты, Иван Иванович, человеку премию дай, но не кажное воскресенье и не пятерку. Ты человеку сто рублей дай, да тогда дай, когда или уборка, или покосы, или посевная кончились. Тогда тебе, Иван Иванович, человек руку пожмет. Он эти сто рублей не пропьет, а толкову вещь купит… А!
Анискин пырснул носом, вернул тетрадный листок бумаги председателю и отвернулся к окошку — сердитый, как бугай осенью. Он на самом деле сопел и прицыкивал зубом.
— Федор Иванович, — озабоченно сказал председатель, — по существу, ты прав, но ведь все общее собрание за недельные премии проголосовало. А нарушать колхозную демократию…
— Вот она где у меня сидит, колхозная демократия! — прервал его Анискин и попилил ребром ладони по собственной шее. — С этой демократией на лодырей управы нет, а что касается голосования, так это надо поглядеть — когда голосовали и кто голосовал… Вот ты мне скажи, Сергей Тихонович, каким по счету шел вопрос о недельных премиях?
— Последним, кажется…
— Не кажется, а последним!.. С твоей колхозной демократией мы в этот раз до первых петухов прозаседали! — Анискин косточками согнутых пальцев постучал по столу. — Так я тебе скажу: в три часа ночи народ хоть за кого проголосует. А во-вторых, сказать, кто больше всех за недельны премии кричал? — спросил он гневно. — За недельны премии громче всех пьянюги голосовали… Они вот техникумов не кончали, а живо смекнули, что это дело пол-литрами пахнет…
Анискин поднялся, косолапя от возмущения, подошел к плакату «Хлебороб» и оказался вровень с ним головой, хотя «Хлебороб» висел высоко. Участковый потопал сандалиями по скрипучим половицам и, глядя на плакат, затих.
— Ишь ты! — после длинной паузы сказал председатель Иван Иванович. — Рациональное зерно имеется…
— Пожалуй, да, — мысляще откликнулся парторг.
Парторг посмотрел на председателя, председатель — на парторга, и оба примолкли. Из открытых настежь окон влетывали в контору голоса вечерней деревни — скрип колодезных вертушек, треск клубного громкоговорителя, молочный мык коров и визг купающихся ребятишек.
— Федор Иванович, а Федор Иванович, — вкрадчиво спросил председатель, — а чего же ты пришел такой злой?
— А того злой, — ответил участковый, — что мне сегодня все время приходится с худшими людьми в деревне разговаривать. Вот сейчас у этих лодырей был да еще попозже к некоторым другим пойду… А в контору я зашел того, что мне Гришка Сторожевой нужен.
— Скоро прибудет Гришка Сторожевой, — вздохнув, ответил парторг. — Он сегодня на «Беларуси»…
Действительно, когда участковый вышел на крыльцо конторы и посмотрел на восток, то возле прясел околицы уже поднимался столбочек пыли и зверем гудел трактор «Беларусь» — это ехал, конечно, Гришка Сторожевой, и Анискин, сойдя с крыльца, встал за уголок. Он широко расставил ноги, руки выложил на пузо — покручивать пальцами.
Взмахивая огромными колесами, как крыльями, «Беларусь» стремительно приближался, а за трактором, высоко подпрыгивая от скорости, летела бортовая тракторная тележка, до отказа набитая разноцветными бабами. Впрочем, это только издалека казалось, что бабы разноцветные. Когда «Беларусь», напоследок дико взревев и окутавшись дымом, остановился у конторы, то оказалось, что бабы густо запорошены коричневой пылью. Они веером ссыпались с тележки, и Маруська Шмелева заорала:
— Это чего же он, бабоньки, над народом изгалятся! Мало того, что кишки вытряс, а он ведь… Гляди, бабоньки, что с новой кофтой исделалось!
Пока Маруська кричала, из кабины трактора выпрыгнули Гришка Сторожевой и тракторный бригадир дядя Иван. Гришка направился к конторе, дядя Иван — за ним, крича и взмахивая руками. На крыльце Гришка остановился и грубо схватил дядю Ивана за плечо.
— А не заставляй меня баб возить! — густым басом гаркнул он. — Я тебе не помело, понял!
Затем Гришка Сторожевой хотел войти в контору, чтобы поругаться и с председателем Иваном Ивановичем, но не успел — из-за угла выставился участковый Анискин, поманил тракториста пальцем, а сам, не оборачиваясь, двинулся вдоль улицы. Широкая спина участкового от косолапости покачивалась, ноги оставляли на дороге слоновьи круглые следы.
— Анискин! — крикнул Гришка Сторожевой, но участковый и ухом не повел. — Анискин!
Гришка зло сплюнул, растер плевок кирзовым сапогом и все-таки пошел за участковым.
От колхозной конторы до клуба было рукой подать, метров двести, и вскорости они остановились — Анискин возле афиши «Берегись автомобиля», а Гришка Сторожевой — в пяти метрах от нее. На широком лице тракториста подрагивали разные живчики и мускулы, брови, опустившись, застилали глаза, а кулаки он держал на отлете, как гири. Одним словом, Гришка Сторожевой был таким, что Анискин ткнул пальцем в клубную афишу и весело сказал:
— Выходит, не автомобилей надо опасаться, а Гришку Сторожевого да его трактор…
— Ты меня чего позвал? — стесненным шепотом спросил Сторожевой. — Ты чего меня, Анискин, позвал, да еще и издеваешься?
Гришка Сторожевой ощерился молодыми зубами, как матерый волк, и Анискин улыбаться перестал — замер, но глаза у него начали понемножечку выкатываться. Глаза были серые, большие и холодные, как речные прозрачные камешки. Когда они выкатились и тоже замерли, из них потекло на Гришку что-то невидимое, но густое, пугающее, нервное. Оно текло да текло, а потом участковый, не шевельнув губами, выдохнул:
— А?!
Гришка стоял столбом, но голову еще держал.
— А?!
Участковый повернулся, подошел к клубному крылечку и сел на него. Семичасовой сеанс — для детей — фильма «Берегись автомобиля» еще не кончился, за стенкой жужжал киноаппарат, ребятишки в клубе галдели и похохатывали; вокруг клуба шла неспешная жизнь. Проехал бесшумно на велосипеде по пыльной дороге учитель математики Молчанов, просеменила в сельповский магазин баба Сузгиниха, а в детских яслях, что располагались в ста метрах от клуба, вдруг со звоном открылось окно, выглянула толстая повариха тетка Мария, зевая, посмотрела на Анискина и перекрестила рот.
— А ведь ты, Гришка, — вдумчиво сказал Анискин, — за последнее время распустился. До того дело дошло, что ты при мне материшься. Это как так?
— Прости, дядя Анискин! — глухим басом попросил Гришка. — Тут с бабами, да тут еще… Прости, дядя Анискин!
Опустив голову, тракторист ковырнул носком сапога утрамбованную землю, руки сунул в карманы, чтобы не висели, и стал смотреть на жука, который пробирался по пыли к островку желтой травы. Каждая соломинка и каждый камешек жуку мешали, он суетно обегал их и добрался-таки до травы. Тогда Гришка Сторожевой поднял голову и, удивившись, спросил:
— Ты чего это, дядя Анискин, на мои сапоги глядишь?
— А вот что гляжу, — сухо ответил Анискин, — что таких сапог в деревне всего двое. Сорок пятый размер ты, Гришка, носишь, да я, когда грязюка наступает…
— А из этого что, дядя Анискин?
— А из этого то, Григорий Сторожевой, — поднимаясь с крыльца, ответил Анискин, — что у завклубом аккордеон увели… Вот ты и шагай за мной.
Анискин подошел к лазу через плетень, дождался, когда Гришка догонит, и показал желтый след кирзового сапога на узкой доске.
— Вот этот след, — сказал Анискин, — приляпан после дождя. Теперь опять гляди на то, что вот такая же желта глина живет возле клубных дверей — копали глубоко и глину на поверхность вынали. Что же из этого получается? — спросил участковый и сам же ответил: — А то получается, что вор аккордеон через этот лаз увел… Так что давай, Григорий Сторожевой, ставь-ка ногу на дощечку…
— Ты чего это, дядя Анискин? — тихо сказал Гришка. — Чего это я ногу ставить буду?
— Ставь, ставь…
Пожимая плечами и косо улыбаясь, тракторист взошел на доску, прогнув ее, приставил ногу к следу.
— Ну и ну! — всплеснув руками, обрадовался участковый. — Глаз у меня — алмаз! След сорок пятого размеру… Ах, ах! — прокудахтал он. — Ах, ах!
Очень довольный собой, участковый махал руками и кудахтал, позабыв от радости о Гришке Сторожевом, трусцой побежал к клубным дверям, но тракторист бросился за ним, на ходу схватил за подол серой рубахи и угрюмо проговорил:
— Не брал я аккордеон.
Остановленный, Анискин сдал назад, повернулся к Гришке и вдруг посмотрел на него такими глубокими и задумчивыми глазами, при каких на лице участкового появлялось известное всей деревне выражение. Это было такое выражение, когда никак нельзя было понять, что думает и что хочет от человека участковый, когда в глазах Анискина вспыхивали яркие точки, привораживающие к себе точно так, как в лунную ночь привораживает одинокий светлячок. И это были такие глаза, которыми участковый глядел вглубь и насквозь, просвечивал, как на рентгене, и по спине человека прокатывался щекочущий холодок.
— Может быть, может быть, — замедленно сказал Анискин. — Может быть, не ты увел аккордеон, Григорий Сторожевой, а может быть, ты… Это дело я еще в точности не знаю, а вот… Ну-кось, пройдем к дверям, Григорий Сторожевой. Я и глину сличу и… Ну-кось, пройдем Григорий Сторожевой!
— Я открыл дверь… — сказал Гришка. — А аккордеон не уводил.
В клубе все еще пулеметом стрекотал аппарат, шел еще фильм «Берегись автомобиля», но ребятишки уже кричали густо и освобожденно, как всегда бывает перед концом сеанса, и ждалось, что вот-вот распахнутся двери, повалит густая и мелкая ребячья толпа. Да, время шло к девяти, и к клубу двигались по-воскресному нарядные пожилые колхозники, смеялись девчата и парни, где-то уже погуживала растрепанным голосом трехрядка.
— Завклубом говорит, — усмехнувшись, сказал Анискин, — что дверь можно открыть простым потрясыванием… Нет, брат, шалишь! Трясти-то ее, конечно, надо, но и высокий рост нужен, чтобы надавить сверху. Крючок-то верховой… Вот я и решил, что только два человека в деревне дверь-то могут открыть — я да ты, Григорий Сторожевой… А!
— Не брал я аккордеон, дядя Анискин!
— А может, и брал! У меня ведь, Григорий Сторожевой, помимо двери, доказательства есть, — ответил участковый и сурово прицыкнул зубом. — Есть.
— Какие еще доказательства? — жалобно спросил Гришка, вынимая руки из карманов. — Это ведь что делается!
— Устные показания продавщицы Евдокии Мироновны Прониной! — официальным голосом ответил Анискин. — Она на следствии показала, что вы, Григорий Сторожевой, обретались у клуба во время дождя. Это раз! А во-вторых, вы при ней угрожали увести аккордеон…
— Врет она, врет! — окончательно испугавшись городского слога Анискина, закричал Гришка и замахал руками, словно открещиваясь. — Когда я мог говорить такое, если я с Дуськой и не разговариваю…
— Не разговариваешь? — вдруг удивленным шепотом перебил его Анискин и тоже взмахнул руками. — Это как так не разговариваешь?
Участковый на шаг отступил от тракториста, трижды поцыкал сразу всеми зубами и заложил руки за спину. Живот у него от этого, конечно, выпятился, и рубаха на груди распахнулась, открыв седые длинные волосы.
— Эх, Григорий, Григорий Сторожевой, — горько сказал участковый. — Я тебя с пеленок знаю, уважение к тебе имею за ударную колхозную работу, вон стараюсь не думать, что ты у завклуба аккордеон увел, а ты мне врешь… Говоришь, что с Дуськой не разговариваешь!
— Не вру, дядя Анискин…
— Как это так не врешь, когда мне Евдокея сказала: «Мы с Гришкой Сторожевым поженихаться решили»… Эх, эх! — Он вяло махнул рукой. — Эх, эх!.. Ну да ладно… Приходи завтра в девять часов в кабинету — очну ставку с Прониной произведем… Эх!
Участковый словно нарочно не хотел смотреть на Гришку Сторожевого, который, притихнув, глядел на реку. Как давеча лицо продавщицы Дуськи, лицо парня освещали отблески голубых волн, губы подрагивали. Потом Сторожевой глубоко вздохнул и тихонько пошел в сторону, противоположную той, куда хотел направиться участковый.
А Анискин двинулся к клубу. Он шел себе да и шел, пока не оказался за клубным углом, из-за которого хорошо виделась улица. Здесь участковый остановился.
— Так! — сказал он. — Эдак!
Среди густой уже и шумной толпы к клубу величаво шли трое братьев Паньковых — впереди, как всегда, вышагивал Сенька, за ним — Борис и Володька; как всегда, братья были одеты одинаково и по-одинаковому грозно выпячивали груди и прищуривали черные монгольские глаза; крепкие, такие коренастые, что казались квадратными. Братья Паньковы клином врезались в группы парней на крыльце, расшвыряв их, протиснулись к кассовому окошку.
— Так! — повторил Анискин. — Эдак!
Братья Паньковы всего только прошли сквозь толпу, только купив билеты, картинно остановились на крыльце, а молодежь притихла — гас смех в стайке девчат на ясельной завалинке, отвели велосипеды от клуба те пять-шесть парней, которые в кино идти не собирались, отошли от крыльца, опасливо посмотрев на братьев, парочки. И тихо стало у клуба, как на поминках, когда только садятся за стол.
— Ну ладно! — пробурчал Анискин. — Пойду!
Участковый вышел на клубную площадку, видный всей толпе, героическим усилием нагнулся, почистив сандалии от пыли, распрямился и увидел то, что хотел, — спустившись с крыльца, братья Паньковы скромно стояли в толпе, но все равно вокруг них образовалась пустотка. Вот в нее-то Анискин и вошел, выпуклыми рачьими глазами посмотрел на братьев, держа себя так, словно вокруг не стояли десятки людей, небрежным, обидным жестом поманил братьев к себе:
— Ну, подходите по одному, срамцы! И шагайте-ка за мной…
Анискин увел братьев Паньковых за клуб, привалившись спиной к оштукатуренной стене кинобудки, послушал, как еще стрекочет аппарат, как, собираясь бежать на улицу, оголтело кричат ребятишки, и принялся разглядывать братьев тихими задумчивыми глазами — с ног до головы, вовнутрь и через; осмотрел старшего — Сеньку, потом среднего — Бориса, потом младшего — Володьку.
— Из клуба аккордеон увели, а я с вами возись! — задумчиво сказал он. — Мало вас Гришка Сторожевой бил, так мне еще возиться…
Участковый тихонько засмеялся, когда, услышав про тракториста, Сенька Паньков сжал кулаки, а младшие братья подались к нему и примкнули плечами. Ну, стеной стояли братья возле Анискина — квадратные, бугристые от мускулов под рубашками и с черными глазами оттого, что узкоглазой хохотуньей, работящей и свойской участковому бабой была их мать Прасковья, вылившая братьев точной копией с себя. «Эх, Праскева, Праскева, — подумал Анискин. — Всех ты мер баба, отчего же у тебя ребята такие звероватые. Вот этого никогда не понять!»
— Ну, валите в кино! — сказал Анискин, так как аппарат за стенкой примолк, а из клуба с воем поперли ребятишки. — Валите в кино, братовья… Вот будет свободное время — я с вами разберусь…
Участковый отклеил спину от стены, разделив братьев пузом, прошел между ними и сразу же врезался в толпу выходящих из клуба ребятишек. Самые высокие из них были Анискину по сосок, он сверху пошарил глазами по детским головкам, выбрав одну — почернявее и покрупнее, — схватил мальчишонку за подол рубахи.
— Вот ты, Колька Сидоров, — сказал он. — Немедля бери ноги в руки да беги к продавщице тете Дусе. И спроси ты у нее, Колька Сидоров, кто в этом годе, кроме меня и Гришки Сторожевого, брал кирзовые сапоги сорок пятого размера… Повтори, Колька Сидоров.
Правильно повторив приказание участкового, Колька с тремя добровольными сопровождающими убежал в сельповский магазин, а участковый вернулся к крыльцу, чтобы посмотреть, как быстро входит в клуб народ. Он за ручку поздоровался с председателем сельсовета Коровиным, отдельно, без ручки, поприветствовал жену колхозного председателя, кивнул головой тракторному бригадиру дяде Ивану, директору восьмилетки и стал ждать, когда к нему подойдут жена Глафира и средний сын Федор.
— Повремените минутку! — попросил он их. — Дело есть.
Жена участкового Глафира была в шелковом платье и туфлях на полувысоком каблуке, голову повязала серой косынкой, а в руке держала чистый носовой платок. Средний же сын Федор — в честь отца — был тракторист как тракторист, без особенных примет — черные брюки, рубашка с закатанными рукавами и брезентовые туфли. Лицом, как и мелковатой фигурой, Федор походил на мать.
— Не нашел аккордеон, — шепнул Анискин жене и среднему сыну. — Так что рано не ждите…
— Ладно! — ответила жена и пошла к клубу, но остановилась. Это все они, Анискины, были такие, что уходили не сразу.
— Ты когда найдешь его, аккордеон-то? — негромко, чтобы никто не слышал, спросила жена.
— Завтра, — ответил Анискин. — Я так думаю, что к вечеру. Часам к девяти.
Жена Глафира еще поднималась вразвалочку на клубное крыльцо, еще сын Федор только протягивал контролерше билет, а вдоль улицы прокатились стукоток босых ног, разбойный свист и улюлюканье — это возвращался Колька Сидоров с тремя товарищами. Запыхавшись, они подбежали к участковому, Колька с размаху ударился Анискину в живот — сразу не смог остановиться — и скороговоркой доложил:
— Она сказала, дядя Анискин, что никто не брал. Только ты да дядя Гриша.
— Так! — прищурился Анискин. — Эдак!
Он посмотрел на афишу «Берегись автомобиля», увидел, что весь народ в двери уже вошел и тишина приползла на маленькую клубную площадку. Потом брови у Анискина задрались на лоб, губы сделались лукавыми, а правую руку он легко положил на чернявую голову Кольки Сидорова.
— Ишь ты! — сказал участковый. — Ежели бы дело происходило в кино, то следователь непременно бы заохал: «Двадцать седьмая версия негодная…» А вот мы на это дело еще будем посмотреть. Очень даже еще будем посмотреть, Колька ты Сидоров, Анастасеи ты Сидоровой сын…
Энергичным шагом, держа руки за спиной, участковый двинулся по улице, Колька Сидоров с товарищами — за ним. Вскоре все пятеро исчезли за поворотом.
6
Понемногу темнело, висела над Обью крутая луна и посвистывали в палисадниках ночные птицы, когда Анискин, побывав неизвестно еще где, поднимался на крыльцо больнички. Из всех людей в мире участковый, провоевавший четыре года на двух фронтах Отечественной войны и раненный еще в гражданскую, выше всего ценил врачей и потому на крыльцо поднимался осторожненько, стараясь при своем стодвадцатикилограммовом весе досками ни разу не скрипнуть.
— Ай! — постучав в дверь, промолвил он. — Ай, кто есть?
— Войдите, войдите.
При свете электрической лампочки в той комнатенке, которая называлась приемным покоем, сидел деревенский врач Яков Кириллович — держа книгу на вытянутой руке, читал, пошевеливая губами от напряжения. А когда Анискин вежливо поздоровался, то Яков Кириллович только протяжно мыкнул и кивнул головой на стул: дескать, садись и молчи.
— Спасибо, Яков Кириллович!
В приемном покое, как и полагалось, висели плакаты с увеличенными мухами, с цветными кишками и с призывами это не есть, это не пить и не ходить к бабам-знахаркам. Как и в колхозной конторе, каждый плакат и картинка Анискину была знакома до мелочей, но над больничными плакатами участковый насмехаться не стал, а, сев на стул, повернулся к Якову Кирилловичу и, скромно улыбнувшись, спросил:
— Никак Библию читаете, Яков Кириллович? Я как вошел, так сразу в большое удивление ударился. Чего это, думаю, Яков Кириллович на божественное потянулся?… — После этих слов Анискин склонил голову набок и задумчиво продолжил: — Вот сколь я врачей не знаю — все безбожники…
— Федор, — отрываясь от Библии и сердито мотая головой, перебил его Яков Кириллович. — Федор, я тебя сорок лет прошу не называть меня врачом… Вот и впредь запомни: я не врач, а фельдшер царского военного времени…
На слове «царского» Яков Кириллович сделал ударение, снова мотнул головой, как лошадь, что отбивается от паута, и, фыркнув, вернулся к прерванному чтению. Он, Яков Кириллович, был такой худой и длинный, что, осматривая больного, случалось, задирал на себе рубаху и говорил: «У вас, батенька мой, сломано вот это, седьмое ребро! Отчетливо видите?» И вправду, седьмое ребро на Якове Кирилловиче виделось отчетливо, как на скелете…
— И впредь прошу не забывать, — повторил Яков Кириллович, углубляясь в Библию. — Не забывать, не забывать…
Приемный покой был мал, всего одно окошко смотрело в ночь, но в комнатешке была такая пугающая чистота, что казалось — в приемном покое нет ни звука. Молчал и только поблескивал круглый — то ли чан, то ли кастрюля — предмет для ваты и бинтов, недвижно стояли два белых шкафа с разными инструментами, таилась в углу такая белая кушетка, что не только сесть, а подуть-то на нее было страшно.
— Врач не врач вы, Яков Кириллович, — после молчания сказал участковый, — но только знаете в сто раз больше другого врача — вы и по внутреннему, вы и по наружному и по всякому другому… Вас, Яков Кириллович, весь народ в деревне уважает, а только я в толк не возьму, чего вы это Библию читаете…
Яков Кириллович молчал, и Анискин ответа насчет Библии добиваться не стал, хотя был любопытен, как сорока. Вместо этого участковый начал внимательно разглядывать собственные ногти — большие выросли, и, надо сказать, даже очень большие, как у городской барышни. И конечно, от дикой больничной чистоты казалось, что руки несвежие, грязные, словно у мальчишки весной.
— Вот интересно, — потом сказал Анискин, — врут эти часы или нет?
— Эти часы стоят! — сердито ответил Яков Кириллович. — А Библию, милый мой, я читаю потому, что писателям надо поучиться писать так, как писали безвестные, но гениальные авторы Библии… Впрочем, голубчик мой, не все авторы безвестны. Блаженный Августин… — Тут Яков Кириллович остановился и сардонически улыбнулся. — Впрочем, что для тебя, Федор, блаженный Августин? Тебе — Шерлок Холмс, Шерлок Холмс!
— Вот из-за него-то, — тонко улыбнулся Анискин, — я и пришел… То есть из-за Шерлока Холмса…
После этих слов участкового Яков Кириллович Библию закрыл насовсем, встал во всю свою длину, сняв очки, посмотрел на Анискина такими глубоко запавшими глазами, что они казались сплошными с темными веками и потому огромными. Яков Кириллович всегда был серьезен, словно с утра до вечера делал операции, а тут и вовсе сделался каменным.
— Ага! — проговорил он. — Ты, милый мой, аккордеон не можешь найти!
— Не могу, Яков Кириллович! — облегченно признался Анискин и тоже встал. — Ниточка у меня есть, Яков Кириллович, но если я ошибку дам, то этот человек из-под моего авторитета навек выйдет, и деревне от этого плохо сделается.
— Деревне?
— Ну, не всей деревне, Яков Кириллович, — торопливо ответил Анискин, — а многим… Да нет, Яков Кириллович…
Смешавшись, участковый плюхнулся толстым задом обратно на стул и снизу посмотрел на фельдшера точно так, как недавно смотрел на него Гришка Сторожевой. Яков Кириллович, однако, ничего этого не заметил, а индюшачьим шагом, подрагивая ногами, прошел по приемному покою, сграбастал участкового за плечи костлявыми пальцами, больно сдавил их и приказал:
— Выкладывай, Федор!
Анискин сначала поморщился от боли в плече, потом улыбнулся и ответил:
— Эти Шерлоки Холмсы, эти штукари из райотдела по подошве рост человека нарисовывают… Глянет штукарь через лупу на след и сразу: «Рост сто восемьдесят шесть!» Так вот, вы мне скажите, Яков Кириллович: а обратный ход это штукарство имеет?
— Не понял, Федор! — ответил Яков Кириллович. — Слов у тебя много, а толку — нет.
— Ну как же нет! — обиделся Анискин. — Вот я и спрашиваю: а по росту сапог можно определить?… Вот если человек роста маленького, но широкий, как обезьяна, у него может быть сапог сорок пятого размера?
— Видишь ли, Федор, — помолчав, сухо ответил Яков Кириллович. — Я не знаю и, признаться, знать не хочу, что выделывают штукари, но мне известен человек, который при росте примерно сто шестьдесят пять сантиметров носит обувь сорок пятого размера. — Яков Кириллович иронически улыбнулся. — При теперешнем раннем развитии, милый мой, девочка в шестнадцать лет — барышня. Да-с! Позволь заметить, любезный, что ваша дражайшая доченька Зинаида хоть и рано созрела, но работать не хочет.
Яков Кириллович поднял палец и, как шпагой, помахал им в воздухе. Потом он наклонился и стал преспокойно наблюдать, как участковый Анискин начиная с массивной шеи медленно краснел. Вот краска с шеи перешла на скулы, со скул — на щеки, а потом, казалось, пропитала все лицо.
— Яков Кириллович, вы сказали… — пробормотал Анискин, — вы сказали…
— Я что сказал, то и сказал, любезнейший! Да-с!.. — Еще секунды три постояв над участковым, Яков Кириллович сжалился над ним, выпрямился и сказал почти спокойно: — Тот человек, который тебе нужен, Федор, ко мне приходил в четверг просить бюллетень… Бюллетень он не получил, но я его взвесил и измерил рост… Да-с! Я, милый мой, шестьдесят лет за весом и ростом аборигенов деревни слежу и делаю ра-а-а-зительные выводы.
— Какие же, Яков Кириллович? — льстиво спросил участковый. — Вы до выводов человек очень уважаемый, Яков Кириллович, так интересно, какой?
— Вывод, любезный, таков, что скоро русскому мужику жить негде будет. Не иначе-с! — ответил Яков Кириллович.
— Это как так?
— А вот так, что появились квартиранты, любезный мой! — гневно ответил Яков Кириллович. — А вот в те времена, когда я учился на фельдшера царского военного времени, русский мужик комнату у русского крестьянина не сымал. Да-с!
— Но!
— Вы не нокайте на меня, любезный, — совсем разъярился Яков Кириллович. — Я вас на тридцать лет старше, а возьмите себе за труд быть наблюдательным, коли вы бредите лаврами Шерлока Холмса. — Он начал загибать пальцы. — Комбайнер Прошин снимает комнату? Снимает. Тракторист Помозов снимает две комнаты? Снимает. Больной гипертонией Яблочкин с семьей снимает дом? Снимает… Антисанитария? А-с? Я вас спрашиваю, милый мой!
— Она, — вкрадчиво ответил Анискин и торопливо добавил: — А ведь у меня к вам, Яков Кириллович, еще один вопросик…
— Нуте-с!
Анискин поднялся, приблизившись к Якову Кирилловичу, ласково и тихо посмотрел на его худую, нескладную фигуру, на тонкие руки в толстых склеротических венах, на такую сутулую спину, что она казалась горбатой, и ему вдруг стало так хорошо, как было когда-то давным-давно, в далеком детстве, когда над зыбкой выздоравливающего от глотошной Федюньки Анискина наклонялось костистое лицо молодого Якова Кирилловича — человека страшного тем, что он был «сосланный большевик», но дорогого и родного до слез… Сто лет прошло с тех пор, но и через сто лет от Якова Кирилловича пахло так же, как в детстве, — душно и сладко, тягуче и волнующе — пахло каплями, которые Федюнька любил до смерти и которые назывались, как он узнал позже, диковинно: «Капли датского короля».
— Вы если можете, Яков Кириллович, — тихо сказал Анискин, — дайте мне как-нибудь Библию почитать… А вопрос у меня, Яков Кириллович, обременительный для вас, трудный.
— Говори, говори, экий ты болтун, Федор!
— Сейчас скажу…
Анискин шагнул в сторону от Якова Кирилловича, пожмурился на яркую лампочку, озабоченно поцыкав зубом, сел вдруг на кушетку, к которой раньше и прикоснуться-то боялся.
— Нашему брату милиционеру, Яков Кириллович, — негромко сказал он, — работать тяжело стало. Просто так тяжело, Яков Кириллович, что хоть стой, хоть падай…
— А-а-а-а, батенька, а-а-а-а! — радостно протянул Яков Кириллович. — А-а-а, драж-жайший мой!.. А-а-а! — Яков Кириллович неожиданно мягко улыбнулся и сказал: — Ну, в чем твоя нужда, Федор? Ты, милый мой, и раньше был неплох, что же тебя тревожит теперь?…
— Нужда у меня такая! — просто ответил участковый. — Я сегодня, когда про аккордеон услышал, было стал грешить на Леньку Колотовкина. Конечно, он пять лет воровством и хулиганством не займается, но мне все равно его алиби, как говорят райотдельские штукари, надо… Тут загвоздка в том, Яков Кириллович, что возле клубных дверей есть еще и след от кирзы сорокового размера. А это сапог Леньки Колотовкина.
— Чего же ты от меня хочешь, Федор?
— Видите ли, Яков Кириллович, если я сам к Леньке за алиби пойду, я его могу обидеть…
— Отлично, Федор!
Яков Кириллович встал, положил в карман пачку папирос, — фельдшер в возрасте восьмидесяти шести лет курил, — накинул на костлявые плечи белый полотняный пиджак и взял в руки тоненькую пижонскую тросточку.
— Грядем, Федор! — сказал он. — У матери Леонида Колотовкина грыжа белой линии. Таким образом, я никаких подозрений не вызову… Шагай за мной, Федор!
Они вышли на улицу, где уже вызвездило чистое небо, висел тот же крутой, но еще увеличившийся месяц, и по дороге, пересеченной лунными полосами от досок палисадников, двинулись к дому Леньки Колотовкина. Костлявый Яков Кириллович по привычке ходить по деревням пешком двигался быстро, легкомысленной тросточкой постукивал по земле весело, но Анискин от него не отставал. У дома Леньки Колотовкина, который был в кино, Анискин сел на лавочку, а Яков Кириллович пошел в дом.
Ни одна собака в деревне на фельдшера не лаяла, у всех калиток он знал, как открываются запоры, потому Яков Кириллович во двор проник мгновенно, в дом — еще быстрее, и стук его палочки затих. Оставшись в тишине и лунном сиянии, участковый уперся спиной в городьбу, раза два-три вобрал в легкие сладкий ночной воздух и шевелиться перестал. Многопудовой глыбой сидел он на скамеечке, от затемненности похожий на несколько сложенных в кучу мешков.
Звезды светили ярко. Добрый десяток их Анискин знал хорошо, умел определять по звездам время и погоду, так что ему не скучно было наедине с таким простором и такой величественностью, от которой кружилась голова. По хвосту Чумацкого Воза можно было полагать, что неделю еще — не меньше! — простоят сушь и безветрие, а также понять, что, называя Большую Медведицу Чумацким Возом, участковый Анискин выдавал происхождение — он был потомком тех украинских крестьян, которых еще Екатерина II за строптивость ссылала в Сибирь, где они обрусели, перемешались с русскими, остяками и татарами, но хранили еще слова и некоторые обычаи своей теплой и далекой родины…
— Отлично, Федор! — выходя из дома Леньки Колотовкина, сказал Яков Кириллович. — Леонид с десяти вечера до шести утра был дома… Ты почему молчишь? Я что сделал не так? Нарушил твою конспирацию… Ну, милый мой, насчет конспирации я тебе могу сказать…
— Я потому молчу, Яков Кириллович, — ласково ответил Анискин, — что у меня теперь совесть в три раза чище, чем полчаса тому… Ведь мне теперь, Яков Кириллович, по деревне легкой ногой бегается… А за Леньку Колотовкина, я шибко радый — он моим ребятам средний брат. Вы ведь знаете, Яков Кириллович, что моя Глафира и Ленькина мать — родные сестры…
— Еще бы… И ту и другую принимал!
7
После одиннадцати часов, когда уже давно кончилось кино и в затемнениях на скамейках и просто так, на ногах, сидели и стояли тихие парочки, пришлепывая задниками сандалий, белый от лунного света Анискин, глядя только и только прямо перед собой, проследовал к клубу. Здесь он остановился, подышал свежим воздухом и тихонько постучал в то окошко, за которым скрывался пустой от аккордеона шкаф.
— Геннадий Николаевич, — позвал он, — выдьте-ка на час…
Заведующий клубом вышел не сразу — сначала за окнами раздался мужественный кашель, потом его голос пропел: «Хотят ли русские войны…» — и уж затем погас свет. Через секундочку Геннадий Николаевич вышел на крыльцо, приглядываясь к лунной ночи после света, величественно поднял голову, а руки трагически сложил на щуплой груди.
— Кто потревожил артиста? — пивным басом спросил он. — Кто, отзовись из мрака?
— Это я вас потревожил, Геннадий Николаевич, — ответил Анискин и мелко-мелко засмеялся. — Сегодня тоже выпили, Геннадий Николаевич? То-то я в щелочку смотрю: полмитрия на столе. А Евдокеи Мироновны нету?… Не пришли?
Геннадий Николаевич по-прежнему величественно молчал, потом отрешенно встряхнул головой, на прямых ногах спустился с крыльца и подшагал к участковому — щупленький, узенький, но прямой. Он сверкнул на Анискина глазами и отставил ногу.
— Да, артист пьян! — жутким голосом произнес заведующий. — Смотри, толпа, и смейся! А знает ли толпа, почему артист пьян? — вдруг живо спросил он. — Почему?
— А потому, что аккордеон увели и Евдокея Мироновна не пожаловали, — быстренько ответил Анискин. — А еще потому, Геннадий Николаевич, что вы от огорчения всю поллитрочку выпили. Я в окошко-то взглянул — там и на донышке нету…
— О, толпа, толпа! Что тебе надо от несчастного артиста, участковый уполномоченный?
— А мне то надо, — неожиданно сердито ответил Анискин, — что я хотел от вас помощи, чтобы найти аккордеон… Сам я балалайки от дуды не отличу — так что на вас надеялся.
— Найти аккордеон? — Геннадий Николаевич покачнулся, потеряв равновесие, трагические руки с груди снял и от этого довольно осмысленно взглянул на участкового. — Найти аккордеон!
Затем под кособокой луной, в ясной тишине и безветрии ночи произошли невиданные вещи — на глазах изумленного Анискина заведующий выхватил из кармана бутылочку с какой-то дрянью, вырвав пробку, поднес ее к носу, несколько раз понюхав и отчаянно замотав головой, чихнул так сильно, что по узкому телу прошла дрожь. От этой дрожи Геннадий Николаевич потешно подпрыгнул на месте, опустился на землю и окончательно поразил Анискина тем, что на резвых ногах вдруг мгновенно удрал за клуб.
— Ах, ах! — только и прокудахтал Анискин. — Ах, ах!
Не прошло и минуты, как заведующий стремглав выскочил из-за угла, с дрожащим воем пронесся по клубной площадке и, раскинув руки крестом, стал вихляться из стороны в сторону. Так как с Геннадия Николаевича стекали водопадные потоки воды и так как он был мокрым до пояса, то Анискин мгновенно сообразил, что Геннадий Николаевич нырнул в бочку, которая стояла в противопожарных целях за углом клуба. А так как от заведующего пахнуло еще и лягушечьей сыростью — вода в бочке прокисла от жары, — то участковый выпучил глаза и схватился руками за живот — хохотать.
Хохотал участковый минуты две. В это время Геннадий Николаевич приплясывал, чтобы сбить с себя воду, зеленую ряску и головастиков, доплясался до того, что потерял дыхание и, запыхавшись, остановился. Как раз к этому времени Анискин опустил живот, икая, проговорил:
— Ох, я беспременно умру, ох, я до завтрева дня не доживу… Ох, у меня в грудях схватило…
Участковый неверными шагами подошел к крыльцу, схватился за перила и повис на них мешком. Минуты через три Анискин пришел в себя и подозрительным по хохоту голосом спросил:
— Что же это вы произвели с собой, Геннадий Николаевич? Да чего же это вы сделали?… В той ведь бочке скоро лягушки выведутся…
— Простите нижайше, Федор Иванович, — почти трезвым голосом сказал заведующий. — Миль пардон, но артист должен уметь в любую минуту привести себя в порядок… Так что вы говорили про аккордеон, Федор Иванович?
Перестав окончательно хохотать, участковый подошел к заведующему, с искренним уважением посмотрел на его мокрые и зеленоватые одежды и сказал:
— Я так полагаю, Геннадий Николаевич, что вор среди ночи на аккордеоне хоть раз да пискнет. Во-первых, сказать, вор молодой, во-вторых, аккордеон перламутровый, а в-третьих, Геннадий Николаевич, как вы сами говорите, два регистра… Так что идите за мной и помогите своим замечательным слухом…
— Я готов! — торжественно ответил заведующий. — За вами и за аккордеоном хоть на край света…
Однако они пошли не на край света и даже не на край деревни. Участковый сперва метров двести отшагал по той улице, на которой стоял клуб, затем свернул в коротенький переулок, сплошь заросший белыми от луны лопухами и вредными для коров вехами; из переулка двинулся к той маленькой горлушке, где росли прямые березы, а чуть подальше стояли вразнотык почерневшие кресты — как и полагалось, деревенское кладбище находилось на возвышенности, но на самый пупок участковый не пошел, а остановился ниже крестов.
— Тут-то мы и сядем, — негромко сказал он. — Шестнадцать домов видать и слыхать, Геннадий Николаевич…
Действительно, с уклона кладбищенской горушки просматривался порядочный кусок деревни, просторные ограды шестнадцати домов и несколько бань. Все это в лунном свете виделось хорошо, ясно, но все-таки на дома, бани и огороды долго глядеть было трудно, так как выше их, вздымаясь к небу, как море, серебряная, но с золотой лунной полоской посередине, лежала Обь, два километра от берега к берегу. Полнеба, рясно усыпанного звездами, занимала великая река да еще и тянулась к ковшу Чумацкого Воза ласковым, нежным фосфоресцирующим сиянием. И так же ярко, как звезды на небе, горели на реке огоньки уходящего за излучину Оби парохода «Пролетарий», который в сентябре в деревне останавливался через раз. Пароход уходил беззвучно, светила тихо луна, чернел на берегу старый осокорь, и казалось, что тишина звучит низкой гитарной струной.
— Федор Иванович, а Федор Иванович, — шепотом позвал заведующий, и от этого его голос сделался простым, человеческим. — Федор Иванович, хочется встать и снять шляпу…
Шляпы у заведующего не было, не было под мокрой рубахой, распахнутой на груди, и майки, потому участковый осторожно передохнул, повозился немножко, устраивая голову на мягкой траве, и притих так же, как строго тихи были за его спиной небо, звезды и покосившиеся кресты, похожие на маленькие часовенки и на стрелы, что молча и ожидающе смотрят в ночное небо.
— Два года я живу здесь, — прошептал заведующий, — а в первый раз… Каждый вечер, каждый вечер, о боже! И это вместо того, чтобы слушать тишину вечности…
— Вы не тишину вечности слушайте, а аккордеон, — ответил Анискин, по-хорошему улыбнувшись. — Притихнем, Геннадий Николаевич!
Тишина была тесно населена звуками: скрипнул сонный, отчего-то проснувшийся кузнечик, покатился с горушки камешек, очевидно стронутый жуком, проскрипела на Оби уключина, плеснула волна под глинистым яром, тревожно мыкнула корова и вдруг гулко пронесся над рекой и березами, над крестами и горушкой больной голос ночной птицы, похожий на плач ребенка в пустом вокзальном зале. Птичий крик пробежал накатом, отразившись в березах, повторился, а потом, как всегда бывает дремучей таежной ночью, наступила такая тишина, в которой слышалось, как в собственной груди тревожно ударяет в ребра сердце.
— Ой-о-о-ей! — вздохнул Геннадий Николаевич. — Боже, боже!
Анискин молчал. Он знал, что больной и страшный голос принадлежит забавной серенькой пичужке с веселыми желтыми ободками под глазами, что замычала корова Чернушка, которой через два-три дня телиться, помнил, что на лодке едет дядя Игнат проверять бакены на Оби, но все равно почувствовал, как за воротник пробираются пупырчатые пальцы. То ли оттого, что Геннадий Николаевич, словно распятый, лежал на земле в тоске и похмелье, то ли оттого, что за спиной глядели в небо черные стрелы и на могильной ограде сидела жестяная сова, холод прополз по спине, обернулся на грудь и вошел в нее медленно, как стальное лезвие ножа. Сердце сдвоило… Показалось, что на горушке прошелестели шаги, раздалась трава, острая лопата вонзилась в сладко-сырую землю… Свист ветра, голубой снег, заячьи следы на нем, как дорога; весенний разлив Оби, липкий сок на березе, грибной дождь, когда слышно, как с крыш падают тяжелые дробинки, капли. Кап-кап… «Кап!» — вдруг явственно послышалось Анискину, и он вздрогнул…
— С вас, Геннадий Николаевич, вода капает! — глухим шепотом вымолвил Анискин и неумело улыбнулся. — Еще не обсохли…
— Тише-е-е-е! — шепотом ответил Геннадий Николаевич. — Слежу за музыкальными инструментами…
Анискин поежился, помотал головой и тоже прислушался — где-то в середине шестнадцати домов, то ли у Анисимовых, то ли у Мурзиных, раздавался посторонний ночи звук.
— Это у Матюши Мурзина приемник на батареях, — сказал Анискин. — Вот сроду так — включит, взбодрится на кровать и слушает…
— Большой симфонический оркестр, — прошептал заведующий, — увертюра к «Онегину»…
И опять поползла-поползла тишина. Прошло еще, наверное, полчаса, по звездам было не меньше, чем двенадцать, когда за крайним левым домом отчетливо вспыхнул перебористый гармонный лад. Анискин вспорхнул, насторожился, но и сам понял, что это пел не аккордеон — гармошка отчетливо выговаривала первую фразу, а потом протяжно запела «Подмосковные вечера».
— Комбайнер Заремба, — презрительно прошептал Геннадий Николаевич, — по слуху, черт бы его побрал…
Может быть, действительно гармонист играл по слуху, но «Подмосковные вечера» над деревней лились тихохонько и славно, за Лехой Зарембой непременно шли стайкой молчаливые девчата, и участковый стал в лад песне подергивать губой — кладбище за спиной притихло, стушевалось, с шелестом крыльев и недовольным пофыркиванием сова улетела куда-то: за березы, наверное, в кедрачи. А «Подмосковные вечера» неторопливо прошли мимо домов, завернули в переулок, усилившись на повороте, стали утишиваться и утишиваться, пока не ушли совсем. Это Лешка Заремба свел девчат под яр — сидеть на бревнах.
— Ноты нужны деревне, ноты! — серьезно сказал Геннадий Николаевич. — Без нот деревня пропала…
Время потекло медленно. Участковый неслышно лег на спину, заложив руки за голову, закрыл глаза. Сперва он лежал просто так, свободно, но потом в голову поползли разные мысли. Вспомнилось, что надо посылать в райотдел протокол по ящуру — стой у каждого парохода, чтобы пассажиры, выходя гулять на берег, совали подметки в специальную жидкость, — что в райотдел надо бы позвонить — живые они там, а может быть, всех рассовали уполномоченными на уборку, — и что тот же райотдел вот уже полгода требовал, чтобы Анискин в деревне создал народную дружину по поддержанию общественного порядка и дисциплины.
Когда у Анискина в личной беседе потребовали создать дружину в первый раз, он, конечно, удивился и спросил: «А я чем буду займаться? Дружина будет поддерживать общественный порядок, а я?… Ну, я эти разговорчики раскусил! Вы в райотделе спите и во сне видите, чтобы меня на пенсию сослать… Конечно, ежели человек протоколы каждый день не пишет и шоферов в трубочку дышать не заставляет, а так знает, какой пьяный, а какой — нет, то…» Во второй раз, на письменный циркуляр о дружинах, Анискин просто не ответил, в третий раз — наколол письмо на гвоздик в уборной, а вот теперь, лежа на траве возле кладбища, участковый еще раз вспомнил о дружинах и вдруг сладостно, длинно улыбнулся. «Ну, Федор Анискин, — подумал он восторженно, — ну, ты, Федор Анискин, такая голова, что просто — голова…» Суетливо оперевшись о землю руками, участковый начал подниматься, чтобы от радости закудахтать, но вдруг заметил, что, тоже приподнявшись и вытянув шею, заведующий выставил в сторону деревни большое хрящеватое ухо.
— Он! — звенящим шепотом проговорил Геннадий Николаевич. — Мой аккордеон… О боже!
— В каком доме? — громко спросил Анискин.
— Фа верхнего регистра… Мой, мой аккордеон!
Поняв, наконец, Анискина, Геннадий Николаевич вскочил, протянул руку в сторону левых домов и дрожащим голосом ответил:
— Точно где не знаю, но где-то в огородах… О Федор Иванович, Федор Иванович!
— Шестьдесят лет Федор Иванович, — ответил участковый и, не поглядев на дома, легкой припрыжкой начал спускаться с горушки.
Спуск был значительный — Анискин сперва благополучно удерживался, скользя сандалиями по влажной траве, потом не удержался и смешной рысью, подрагивая, как студень, побежал. Прямо перед участковым темнел тальниковый плетень, и участковый в него въехал пузом.
— Так твою перетак! — выругался он, выдирая из плетня подол рубахи. — Понастроят заборов, загородок…
Но когда Геннадий Николаевич бегом спустился с горушки и схватил участкового за рукав, Анискин мирно улыбнулся и сказал:
— Теперь вот что, Геннадий Николаевич! На горушке мы с вами как последние дураки не сидели, аккордеона не слышали, и вообще мы с вами вечером не встречались… Поняли, а? Еще раз говорю: поняли, а?
— Понял!
— Вот… Завтра вечером, когда стемнеет, получите аккордеон…
Анискин погрозил заведующему толстым пальцем, застегнул на вороте все пуговицы и величественной раскачкой пошел домой. Лешка Заремба под яром наигрывал девчатам «У незнакомого поселка, на безымянной высоте», Чумацкий Воз, заметно повернувшись, глядел пяткой в Обь, от деревьев из палисадников уже тянулись по земле длинные-предлинные тени — это луна шла к кедрачам. Участковый бесшумно проник в свои дом, у порога снял сандалии, ступая на желтые пятки, начал продвигаться к цветастому пологу, за которым стояла его кровать.
За пологом Анискин разделся до трусов, почесал волосатую грудь и медленно, как на домкрате, стал опускаться на пружинную кровать — боялся скрипнуть. Это ему удалось — Анискин медленно выдохнул воздух, со спины тут же перевернулся на бок и сунул руку под щеку, но тут послышался шепотливый голос жены:
— Нашел?
— Но.
После этого участковый мгновенно уснул.
8
Проснувшись в пять часов, Анискин, как всегда несколько минут полежал в постели, по-утреннему прицыкивая зубом, потом поднялся и в одних трусах подошел к часам-ходикам. Зевая и потягиваясь, участковый ухватился за цепочку часов, взбодрил гирю повыше и, по-рачьи выпучивая глаза, оглядел комнату, которая в доме называлась горенкой. Постель жены Глафиры уже была аккуратно застелена, пол вымыт и дышал легким парком, газеты и книги на клеенке стола лежали стопочкой.
— Так! — сурово сказал Анискин. — Эдак!
Громко постукивая по полу босыми пятками и нарочно громко сопя, Анискин подошел к той комнате, в которой спали средний сын Федор и младшая дочь Зинаида, распахнув ситцевую занавеску, заглянул в нее. Смотрел он недолго, затем оглушительно хлопнул ладонью по дощатой перегородке.
— Вставать! — крикнул участковый. — Вставать!
После этого Анискин прямиком вышел на двор, кивнув жене Глафире, остановился возле дворового колодца с деревянной вертушкой, отполированной веревкой и руками. Участковый снял бадью с края колодца, второй рукой придерживая вертушку, небрежно бросил бадью в зево сруба. Дико взвизгнув, вертушка завертелась, бадья пошла вниз, а участковый сухо улыбнулся — нравился ему звонкий голос колодца.
— Глафира, давай! — вытащив бадью, крикнул он. — Где ты там копаешься?
— А нигде!
Глафира взяла тяжелую бадью, Анискин нагнулся, растопырив руки, и Глафира, покачивая головой, вылила на него с размаху всю бадью. Вода в глубоком колодце была ледяной, от брызг Глафира попятилась и поежилась, но Анискин воду принял без голоса, не пошевельнулся, а, дав воде стечь, командно крикнул:
— Полотенце!
Вытеревшись и немного постояв, чтобы голое тело подышало воздухом, Анискин широким шагом поднялся на крыльцо, скрылся в доме, а когда вскоре появился, то на нем был не вчерашний наряд, а чуточку другой — рубаха была та же, но брюки — поновее. Он фыркнул, помотал головой и осмотрелся. Было, наверное, уже половина шестого, солнце уже всходило за обскими кедрачами, и лучи катились по деревне. На улице и меж домами, похожий на марлевые полосы, стлался туман, и коровы, которых гнал на пастбище пастух Сидор, шагали по пояс в молочной дымке. Раздавалось мычанье, гремели боталы, щелкал Сидоров бич, и кричал на коров звонким голосом подпасок Колька.
Выждав, когда стадо уйдет в переулок и шум утишится, участковый спустился с крыльца, сердито покосившись на Глафиру, которая возилась возле уличной плиты, сел за стол, вкопанный в землю. Он поставил локти на столешницу, опустил на ладони подбородок и стал рачьими глазами, с милицейским прищуром смотреть на дверь дома.
Дверь спервоначалу была тиха, недвижна, но минуту спустя она быстро отворилась, и на крыльцо выбежал средний сын участкового Федор. По-особенному взглянув на отца, он поздоровался с матерью, спустился с крылечка и проделал все то же, что делал Анискин — достал воды из колодца, попросил мать вылить бадью на худые плечи, дать полотенце. Федор целиком подражал отцу, но участковый несколько раз недовольно цыкнул зубом: сын Федор ежился от воды и в ожидании воды, полотенцем растирался вяло и смотрел вообще сонно.
— Шляются до утра… — пробормотал Анискин. — До трех часов…
Затем участковый сызнова стал смотреть на дверь — она опять несколько минут была немой и неподвижной, потом начала медленно-медленно, словно сама собой, открываться. Секунду-две за дверью никого не было, а уж затем появился светленький кусок материи и светленький локон — это выходила на свет божий семнадцатилетняя дочь участкового Зинаида. Она медленно-медленно, как пароход из-за мыса, выплыла на крыльцо и, застив глаза от солнца, остановилась. Дочь была в туфельках, юбка клешиком вилась вокруг ног, за кофтой виднелся мысочек меж грудями, а на носике белела пудра, так как Зинаида мылась не у колодца, а дома. То-то она и возюкалась пятнадцать минут!
— Так! — сказал Анискин. — Эдак!
Постно опустив загнутые рыжие ресницы, Зинаида подошла к отцу, слабым голоском, неразборчиво — то ли «салют», то ли «приветик» — поздоровалась с ними и бочком, кусочком своей светленькой юбочки села на краешек скамьи. Мало того, Зинаида посмотрела под стол, где росли лопухи и валялись щепочки, и ноги поставила аккуратно — меж лопухами и щепочками. Потом Зинаида подняла светлые большие глаза и, прищурившись, осмотрелась.
Дочь участкового увидела печку посередине двора и мать, которая хлопотала возле печи, колодезный сруб и ветхий забор, черную от времени стайку с расщеленной дверью и такой же амбарчик, жирную свинью, похрюкивающую в лопухах, и рыжего петуха с преданными ему курицами; потом увидела тоже черный от времени, но большой дом Анискиных, покосившееся крылечко, ветхие ворота. Все это увидела Зинаида, на все посмотрела, но в ее глазах ничего не отразилось — ни презрения, ни недовольства, ни скуки, ни радости, ни гнева. Ну вот совершенно пустыми остались глаза Зинаиды, когда она осмотрела родной дом, двор, мать и отца.
— Кхек! — приглушенно крякнул Анискин.
— Готов завтрак! — быстро сказала от плиты жена Глафира и, как всегда, беззвучно, но быстро, поволокла к столу чугун с картофельным супом, огурцы и помидоры, вареное холодное мясо и рыбу, пластиками нарезанную колбасу, открытую банку с консервами «Мелкий частик», толстое сало и конфеты-подушечки с прилипшими на них сахаринками. Все это Глафира в три ходки поставила на стол, где уже имелись чашки, ложки, поварешки и тарелки, подумав мгновенье, снова умчалась в дом и вернулась с зеленой тарелкой, на которой с одной стороны лежали желтые куски масла, а с другой — фиолетовые ломти какого-то повидла. Потом она разлила суп по тарелкам.
— Снедайте! — сказала Глафира и, сложив руки на груди, столбом стала обочь стола — прислуживать мужу, среднему сыну Федору и младшей дочери Зинаиде. — Снедайте!
Дернув нижней губой, Анискин взял алюминиевую ложку, повернув ее так и эдак, рассмотрел на свет, сдул с ложки незаметные пылинки и медленно опустил ее в тарелку с супом.
— Снедайте, снедайте, — тихо сказал участковый, — чего сидите.
Поднимая глаза от супа, Анискин видел, что Федор ест не быстро, не тихо, а средне, что Глафира по-прежнему столбом стоит возле стола и с тихой лаской глядит на них, а вот дочь Зинаида супа не ест. Тоненькими, прозрачными пальчиками она отщипнула от булки пшеничного хлеба кусочек, поднесла к губам, как семечко, закинула кусочек в рот и медленно-медленно пожевала. Что она жевала и как жевала, Зинаида, конечно, не знала, так как смотрела поверх головы отца в даль понятную, в даль далекую. Личико уже было прозрачное, носик — прозрачный, а груди под кофточкой — горой, а ноги под столом — хоть гончарный круг верти.
— Вкусный суп! — сказал Анискин, очищая тарелку и нарочно макая в остатки супа кусок хлеба. — Такой вкусный суп, что язык проглотишь!
Отодвинув тарелку, участковый ласково-ласково посмотрел на дочь, потом — на жену, потом — бегло на среднего сына Федора.
— Глафира, а Глафира, — негромко позвал он. — Ты как считаешь, Яков Кириллович умный человек?
— Ну, еще бы! — ответила жена. — Доктор же… Газеты все читат!
— Вот я тоже так кумекаю, — ответил участковый и медленно, как на шарнирах, повернулся к дочери. — Зинаида, а Зинаида?
— Я тебя слушаю, папа!
— Во-во, слушай, слушай! — участковый положил руки на пузо, покрутил пальцами и мирно продолжил: — Никакую зиму ты к экзаменам готовиться не будешь, ни в какую библиотеку для виду работать не пойдешь, ни на какие вторые экзамены в Томск весной не поедешь…
— Анискин, — перебила Глафира, — Анискин…
— А ты, мать, помолчи! — не поворачивая головы, остановил ее участковый. — Ты мне, мать, тоже счас пригодишься… Так вот, родное мое дитятко, сымай-ка юбчоночку клешем да отваливай работать в колхоз… А ты, мать, — Анискин повернулся к жене, — а ты, мать, кончай-ка тунеядцев сладко кормить, они, мать, суп не едят… А ну, уноси со стола масло, когда сало есть… Тащи к ядрене-фене концервы, когда рыба есть! — Задохнувшись от гнева, Анискин вскочил, замахал руками, как ветряная мельница, передохнув два раза, сел на место и свистящим шепотом закончил:
— Повидлу, повидлу — с глаз долой!
Когда Глафира с тусклым выражением на лице унесла все лишнее со стола, Анискин положил руки на освободившееся место, поглядел на притихших дочь и сына, набычив голову, сказал:
— Федор, вали на работу, как съешь суп, а Зинаида — сиди…
После того как Федор, взяв промасленную кепку, тихонечко ушел со двора, участковый встал, прошелся по жухлой траве и, остановившись, огляделся. Река была такой, какой бывает река на восходе шестичасового солнца; деревья в палисаднике на утреннем ветерке листьями пошевеливали жестяно, розовые блики, пошевеливаясь как живые, бродили по двору. Радостно и ало было в мире, хорошо дышалось распахнутой груди, мягко стояли ноги на не успевшей остыть за ночь земле, но Анискин не улыбнулся, не подумал о том, что только утром, на прохладе и легком воздухе, ему самая хорошая жизнь.
— Сойди с моих глаз, Зинаида! — горько и тихо сказал участковый. — Меня совесть берет, когда я с тунеядцами спорюсь, меня совесть берет, когда Яков Кириллович про тебя разными намеками говорит… Я у него вчерась был, так со стыда сгорел… Сойди с моих глаз, Зинаида. И если ты завтра ж в колхозе не будешь работать, и если я еще раз угляжу, как у тебя по утреннему времени из кофточки груди торчат, да если я еще раз от тебя услышу про молодо поколенье, то уходи из моего дому… А теперь вали, переодевайся.
В тишине Зинаида ушла в дом, а Глафира, все это время стоящая в стороне, наоборот, приблизилась к мужу, и Анискин голову опустил. Он неподвижно стоял до тех пор, пока Глафира осторожно не взяла его за плечо.
— Ты чего новы брюки поднадел? — спросила она. — В район, что ли?
— Да нет! — тихо ответил Анискин. — Не в район…
— А кого же?
— Перед народом буду выступать.
Они помолчали, и Глафира спросила:
— Чай, видно, не будешь уж пить?
— Но!
— Значит, пошел?
— Пошел.
9
Сначала Анискин зачем-то сходил в свой кабинет, пробыл там не меньше получасу, хотя вышел из него с пустыми руками; потом, поглядев на солнце, отправился к колхозной конторе — время приближалось к семи часам, и председатель Иван Иванович должен был уже составлять распорядок жизни на день.
Так оно и оказалось. Иван Иванович, прижимая щекой трубку телефона к уху, а руками что-то подписывая, сидел за столом в шумном окружении бригадиров, трактористов, доярок, командированного на уборку из района и бездельников, которые на корточках располагались возле стен и курили коротенькие окурки. Усмехнувшись давнему наблюдению, что лодыри всегда курят коротенькие цигарки, Анискин сел на диван.
— Кха-кха! — покашлял участковый, чтобы обозначить свое появление. — Кха-кха!
— Здравствуйте, Федор Иванович, — из кучи бригадиров ответил председатель и продолжал кричать в трубку: — Озимых — сто шестьдесят два, яровых — двадцать восемь, канав — два метра…
Пока Иван Иванович кричал в трубку, бригадиры, трактористы и доярки из уважения к районному начальству помалкивали, но когда председатель облегченно положил трубку на рычаг, окружение загалдело и завопило. Кто-то противным от старательности голосом требовал установить на ферме ночное дежурство, доярка Игумнева — баба никчемная — кричала насчет фартуков, тракторный бригадир дядя Иван старался насчет горючего, шофер Павел Косой выкрикивал про автомобильную резину. Одним словом, большой был шум вокруг председателя Ивана Ивановича, и участковый, не терпевший бестолочи, сердито поморщился и начал рассматривать ту картинку, которую не успел рассмотреть вчера. Он так и этак поворачивал голову, вникал во все тонкости и, конечно, прицыкивал зубом. «Молодой, молодой еще Иван Иванович, — сухо думал участковый. — И с людьми не умеет говорить по раздельности, и всех под одну гребенку стрижет!»
Но когда в конторе совсем утихло, когда бригадиры, доярки и трактористы уехали на поля и ушли на фермы и в конторе остались только председатель Иван Иванович, парторг Сергей Тихонович и уполномоченный из района, участковый с дивана слез и подошел к председательскому столу.
— Иван Иванович, — вежливо сказал он. — Каждый, конечно, понимает, что уборка — дело сезонное, но штукари из райотдела пристали ко мне как банный лист. Подай им народну дружину — и вся недолга…
Анискин к столу подошел осторожно и деликатно, говорил ровным и спокойным голосом, ничего от Ивана Ивановича не требовал, и председатель вдруг расстегнул на вороте клетчатой рубахи две пуговицы и от этого вздохнул облегченно, как лошадь, с которой сняли седло. Иван Иванович увидел и понял, что на дворе всего седьмой час, что много дел уже сделано и что можно вытереть пот с черного от загара лица. И он вытер пот, и улыбнулся, и вдруг, кашлянув по-анискински, важно посмотрел на районного представителя.
— Какие же меры вы собираетесь принять, Федор Иванович, для создания дружины? — спросил Иван Иванович.
— А такие меры, что создам дружину! — ответил Анискин и тоже посмотрел на районного представителя, мужчину молодого и красивенького. — Есть мнение, Иван Иванович, такую дружину создать, чтоб на весь район…
После этого Анискин сел на стул возле председательского стола и насовсем повернулся к районному представителю.
Увидев это, председатель замигал обоими глазами, парторг скривился, словно у него болел зуб, но участковый и бровью не повел.
— Юрий Венедиктович, — вкрадчиво сказал Анискин, — я вас, конечно, уважаю за то, что вы председатель ДОСААФ, но вопросик к вам имеется…
— Пожалуйста, товарищ участковый, — довольно бойко ответил уполномоченный, но глазами вильнул и прибледнел немножко. — Со временем у меня плохо, товарищ Анискин, но… спрашивайте.
Однако участковый не торопился. Он сначала посмотрел за окошко, где под тихой машиной ползал на карачках шофер Павел Косой, потом послушал, как затихающе стрекочет у околицы трактор «Беларусь», увозящий женщин на поля, и уж затем коротко взглянул на районного уполномоченного — на длинные ноги в серых брюках, на толстый узел галстука и на черные блестящие волосы.
— Времени у вас, Юрий Венедиктович, конечно, нет! — протяжно сказал Анискин. — Откуда же у вас будет время, ежели у вас, Юрий Венедиктович, четыре раза на год отпуск? Вы ведь, гражданин хороший, один раз в год на южные курорты ездите да три раза на наши, на северные — посевная, покос и уборка… Это как так?
Секунды три в кабинете стояла тишина. Потом уполномоченный чуточку приподнялся со стула, бледнея красивым лицом, замер, а затем стремительно вскочил.
— Я сообщу о вашем поведении в райком! — суетливо выкрикнул он. — Я поставлю вопрос на райкоме! Вы не лично меня подвергаете клевете, а райком, его решения… Я немедленно еду в район!
— Поезжайте, поезжайте, — насмешливо ответил Анискин. — Как вы уедете, у нас одним пьянюгой меньше станет… А? — Участковый пружинисто встал. — Вы на меня, Юрий Венедиктович, страхолюдными глазами не смотрите. Я на своем веку таких уполномоченных видел, какие вам и во сне не приснятся. Я в партии с двадцатого года… Ишь, как он на меня смотрит, ишь, как смотрит…
Анискин прошелся по кабинету, на секунду прижался разгоряченным лбом к оконному стеклу, потом вернулся к столу и поспокойнее сказал:
— А сегодня ночью, Юрий Венедиктович, вы изволили ночевать у Панки Волошиной… А?! — выкрикнул участковый, так как уполномоченный опять начал подниматься. — А? Я сам видел, как вы входили в дом Панки Волошиной, когда во втором часу ночи возвертался с… из одного места возвертался… А?!
После этого Анискин сел и нарочно замолчал. Вот молчал он, и баста, хотя председатель Иван Иванович не знал, куда руки положить, как сидеть, а парторг Сергей Тихонович, пятнами покраснев, смотрел в пол. Растерянными были парторг с председателем, и Анискин подумал: «Не закаленный, не закаленный еще народ. Каждого представителя боятся, характер слабый… Молоды, молоды еще!»
— Чего-то из «Сельхозтехники» не звонят? — пробормотал Иван Иванович. — Обещали же…
— Вот так, вот так, Юрий Венедиктович, — наконец смилостивился участковый. — Я, как с ней по отдельности разобрался, то сам вижу, что Панка Волошина — баба неплохая, но вы уж райком в деревне не позорьте… Что наши мужики зачнут делать, если вы, человек женатый, да из району, по бабам ходите? Вы уж ежели приехали, то сидите себе на месте… — Он сухо улыбнулся. — Сидите себе на месте и читайте инструкции… Вам без этого дела погибель! Вот наш председатель Иван Иванович сельхозтехникум кончил, парторг Сергей Тихонович — совпартшколу… А вы чего кончали? — Участковый прищурился. — Из райкому комсомола вас по возрасту попросили, вот вы и обретаетесь в ДОСААФ. Чего вы в хлеборобском деле понимаете? Так и сидите себе спокойно.
Анискин взял с председательского стола пресс-папье, поставив его, покачал, словно промокал, и сам себе улыбнулся — гневно, отъединенно.
— Ишь, как он на меня смотрел! — пробормотал участковый. — Где только научился так смотреть…
А за окнами уже наступила тишина. Ушел на поле трактор «Беларусь», завел, наконец, машину и уехал на ней за грузом шофер Павел Косой, и теперь только рясные ветви черемухи да красные рябины негромко пошевеливались на ветерке — от них тоже шуму в кабинете было мало.
— До свидания, Юрий Венедиктович, — во второй раз смилостивился участковый. — До свидания, дорогой товарищ…
— До свидания!
Районный представитель сначала к дверям пошел задом, потом боком, затем резко повернулся и чуть не побежал, но, сдержав себя, пошел спокойно, хотя дверь прикрыл нервно — окна в кабинете заунывно пропели, а на столике-тумбочке зазвенели переходящие спортивные кубки. И опять наступила тишина — молча сидел председатель Иван Иванович, замер парторг, бесшумно поигрывал прозрачным пластмассовым пресс-папье сам участковый.
— Чего ты сегодня такой злой? — наконец спросил Иван Иванович. — Не нашел аккордеон, что ли?
— Нашел, — спокойно ответил участковый. — Нашел, Иван Иванович, а вот того понять не могу, чего ты этого бабника жалеешь? Он тебе разве не мешает?
— Еще как мешает! — сердито ответил Иван Иванович, — Припрется в кабинет, сядет и смотрит. Вот веришь, Федор Иванович, я под чужими глазами работать не могу — все из рук валится…
— Чего же ты его жалеешь?
— Человек все-таки… А потом… — Председатель озабоченно почесал небритый подбородок. — А потом, Федор Иванович, он хоть в нашем деле ни хрена и не понимает, а дело в райкоме может так изложить, что самое хорошее мероприятие плохим окажется. Говорить-то он мастак! Вон как на тебя окрысился: «Вы подвергаете клевете не меня, а райком, его решения!..» Сразу политику клеить начал!
— Политику он клеить не будет! — засмеялся Анискин. — И мешать тебе больше не будет… Сейчас пришел в заезжу и трясется как лист… Он ведь такой трус, что не приведи господи… — Участковый сделал паузу и серьезно добавил: — Тут одна смешная сторона есть… Ведь ты учти, Иван Иванович, что к нам этого хлыща посылают, так это тебе похвала…
— Ну уж! — засмеялся председатель.
— Не «ну уж», а похвала! — еще серьезнее ответил участковый. — Когда дела в нашем колхозе плохо шли, то райком к нам толкового мужика присылал — тот мог и посоветовать… А теперь мы сами хорошо работаем, так и досаафовского штукаря можно прислать… Вот это нам лестно, Иван Иванович да Сергей Тихонович…
Они задумчиво молчали до тех пор, пока не зазвонил телефон, наверное, из «Сельхозтехники», и Анискин торопливо встал.
— Иван Иванович, ты мне вечером «газик» дай. Мне в три места съездить надо, а ты уж отъездишься. Лады?
— Возьми «газик», Федор Иванович, — хватаясь за трубку, ответил председатель. — Без шофера?
— Без шофера, Иван Иванович…
10
До двенадцати часов Анискин время провел обычно — после посещения колхозной конторы долго и неохотно писал что-то в своем кабинете, потом прочел несколько статей в позавчерашней газете «Правда», выписал несколько строчек на клочок серой оберточной бумаги и уж после этого из кабинета ушел. Так что между десятью и одиннадцатью часами участковый тихим шагом ходил возле молокотоварных ферм и делал вид, что ему интересен племенной бык Черномор, который не только стоял в крепкой загородке, но и был цепями привязан к двум столбам. Подивившись минут пять на Черномора, участковый побродил меж кучами навоза и бревнами, посмотрев на небо и определив, что двенадцать часов исполнилось, стал внимательно глядеть на широкие двери фермы. «Ах, жизнь, жизнь! — думал он. — Что это такое жизнь, сам черт не знает…»
В двенадцать с четвертью из дверей фермы вышла доярка Прасковья Михайловна Панькова, застив глаза ладонью от солнца, посмотрела туда и сюда, крупно вздохнула и пошла узенькой тропочкой, что вела к деревне. Как и на всех доярках колхоза, на ней был серый халат, голову повязывала когда-то белая, а теперь от трухи и пыли серая косынка, на ногах разношенно похлопывали резиновые сапоги. Прасковье Михайловне было за пятьдесят лет, морщины на лице лежали глубокие, и руки были доярочьи — крупные, потрескавшиеся, с больными, набухшими венами.
Увидев Прасковью Михайловну, участковый с бревна встал, подумав немного и склонив голову, пошел за ней. Он скоро нагнал ее, но до тех пор, пока была видна ферма, шагал молча. Затем же, когда тропинка вильнула и спряталась в тальниках, Анискин приблизился к Паньковой шагов на пять и весело крикнул:
— Параскева, ты никак в деревню? Погодь меня — вместях пойдем!
Прасковья Михайловна обернулась, узнав Анискина, тоже весело заулыбалась, а когда он совсем приблизился, крепко и лихо пожала ему руку.
— Здорово, Феденька! — сказала она и показала тридцать два молодых, белых зуба. — Нет на тебя удержу — все толстеешь, черт!
— Толстею, толстею, Параскева! — ответил Анискин смеясь. — Да и ты не худешь. Когда на танцульки бегала, то тебя в талии двумя руками можно было перехватить, а теперь рази только двоим мужикам…
— А как же! — еще веселее пропела Прасковья Михайловна. — Не то что твоя Глафира. Ни здесь, ни здесь… Как ты с ней живешь-то, Феденька?
— А мне мяса много не надо, Параскева! — хохотал Анискин. — Я сам мясной… Мне много не надо!
Он хохотал и веселился оттого, что таких женщин, как Панькова, уважал здорово, разговаривать с ними любил до удивительности и всегда думал, что если бы все женщины были такие, как Прасковья Михайловна, то на земле давно бы наступил обещанный рай. Как и большинство деревенских жителей, участковый полагал, что жизнь мужика зависит от бабы, что ею он силен и крепок. И потому плохих женщин винил больше, чем плохих мужчин, а незамужних баб и холостых мужиков терпеть не мог.
Прасковья Михайловна Панькова была как раз такой женщиной, какой, по разумению Анискина, должны были быть все прочие. В колхозе она работала ударно и лихо, за доярочные дела имела орден Ленина, на собраниях председателю Ивану Ивановичу спуску не давала, в обхождении с мужиками была веселой, но гордой, с пустячными бабами не сплетничала и не водилась, под рабочим серым халатом блюла себя в чистоте, а дом содержала как игрушку. Вот почему участковый Анискин с Паньковой охотно шутил, смеялся и хохотал даже.
— Ну, пошли, пошли, Параскева, — весело предложил Анискин. — Чего тут стоять, когда кругом кусты и на нас плохое подумать могут. Не дай бог, еще набежит Глафира, так выдерет твои черны-то глазенки. Ох, выдерет!
Смеялся Анискин, предлагал женщине идти, а сам помигивал растерянно, подергивал нижней губой, стоял на месте, не двигаясь, и уж тоскливо поцыкивал зубом. Ну, не было человека в деревне, которого бы он уважал больше, чем Прасковью Михайловну, разве только Якова Кирилловича…
— Ты чего, Федор, маешься? — спросила Панькова и перестала смеяться. — Ты на меня так смотришь, словно у меня что дома случилось. Может, с Виталием что?
— Нет, нет, — ответил Анискин. — Живой-здоровый твой Виталий…
Ивовые кусты росли вокруг них, пробивалось сквозь переплетенные прутья солнце, паутины покачивались в воздухе, высокая трава росла по сторонам тропинки — хорошо было кругом, покойно и тихо. И свистела где-то, пела-попевала пташка-малиновка. Участковый Анискин склонил голову, большие серые глаза уставил в землю, так как не всегда — ох, далеко не всегда! — мог он прямо глядеть в чужие глаза.
— С Зинаидой у меня плохо, Параскева, — печально сказал Анискин. — Твои вот парни работящие, в колхозе старательные, а моя — хоть ложись да помирай… С утра в туфельки подчапурится, носик припомадит, юбчонку покороче наденет и пошла… Работать не хочет, супа не ест.
— Теперь многи девки такие! — тоже вздохнула Панькова. — Трех доярок на ферме не хватает, а они ходят руки в боки…
— Вот и моя такая же! Деревенские парни ей не по сердцу, на них фыркает… Ты веришь, Параскева, пятого дня смотрю — возле этого ферта из ДОСААФ хвостом вращат.
— Неужто?
— Сам видал… — ответил Анискин и понурил голову. — Я этого пьянюгу и лодыря за обеденный стол не посажу, а она для него голу кофточку одеват…
Покачивались ивовые кусты, в просвете меж ними белела стенами длинная ферма, а слева шла крутая загогулина Оби с лодкой и буксирным пароходом, что вел пять громадных, как ферма, барж. Буксир копошился на реке уж больше часу, и надо было полагать, что скроется за излучиной еще через час — так была велика Обь и так тихо вел баржи с лесом трудяга буксир.
— С парнями тоже нелегко! — вздохнув, сказала Панькова. — С ними тоже нелегко, Федор!
— А что? — после паузы спросил участковый.
— Злы каки-то растут да обособленны, — Прасковья Михайловна отступила шаг назад, отломила вершинку от засохшего тальника, бесцельно подержала в руке. — Какие-то не такие растут, Федор, как я мечтала…
Тихо сделалось среди тальниковых кустов — Прасковья Михайловна бесцельно помахивала прутиком, Анискин глядел по-прежнему в землю, тальники двигались на ветру, пересекая вершинками большое расплывшееся солнце. Малиновка примолкла, но зато далеко-далеко засчитала свое и чужое счастье кукушка.
— Ты, Параскева, шибко не пугайся, — сказал Анискин, — большой беды не будет, но это ведь твои ребята у завклуба утащили аккордеон… У каждого своя беда, Параскева!
Вот теперь сделалось так тихо, что и кукушка тишины испугалась — замолкла. И только по-мышиному скрипели тальники, только тяжело и хрипло дышала Прасковья Михайловна, сдирая медленной рукой с голавы платок. Он сначала не поддавался — держался за пышные густые волосы, — потом же с головы упал и повис длинно в руке женщины.
— Их Гришка Сторожевой побил за то, что всю деревню мордуют, — продолжил участковый, — так они порешили его под монастырь подвести. Думали, я за аккордеон Гришку схвачу…
Прасковья Михайловна молчала. Потом выпустила из левой руки ненужный прутик, платок, наоборот, подняла к груди и взялась за него так крепко, словно в нем было все, в этом платке.
— Чего же, Анискин, — сказала она. — Это дело так и должно быть… Сам знаешь, какой у меня Виталий, сам знаешь, что с молоду все дни на ферме — вот и упустила ребят… — Она вдруг криво улыбнулась. — Это ведь не зря, Федор, про меня в областной газете писали: «Она надоила эшелон молока». Вот пока я доила его, ребята и выросли злыднями…
— Они в колхозе хорошо работают…
— Не успокаивай, Федор, чего там, — махнула платком Прасковья Михайловна. — Когда жалеют, не люблю… Где аккордеон-то? Ты уж взял его?
— Нет еще… Он в бане!
— Эх, баня, баня, — совсем неслышно вздохнула Панькова. — Говорила же Виталию перед войной — не строй баню далеко от дома, в ней ребятишки баловаться будут. А он построил… Он всегда характерный был… Ну, чего же, идем, Федор…
Молча и тихо они прошли задами деревни к дому Паньковых, перелезли через ивовый плетень, не останавливаясь, так как Прасковья Михайловна шагала от горя ходко, подошли к черной от дыма бане. И только тут женщина дала себе передышку — остановилась, надела на голову платок и вдруг гордо задрала ее.
— Ну, Анискин, — четко сказала она. — Вот тебе баня, вот тебе дверь в баню, а вот тебе я, мать… Бери аккордеон! Паньковы если грешат, то за грех отвечают… И в тюрьме люди живут!
Ничего не сказав, участковый вошел в баню, пробыл там мгновенье и вырос на пороге толстой и сопящей фигурой. В левой руке он держал тяжелый аккордеон в чехле, а правой стирал со лба черное пятно сажи. Потом участковый отнес аккордеон шага на три, поставил его в густые лопухи, выпрямился и строго сказал:
— Хоть ты и главная в доме, Прасковья, хоть и женщина, а мне все одно надо с Виталием словечком перекинуться… Он не любит, когда поверх его головы решения принимаются.
— Пошли в дом, Анискин!
Но участковый в дом сразу не пошел — он несколько раз сердито огляделся, убедившись, что на соседних огородах и за плетнем нет никого, зловеще цыкнул зубом и только тогда, подняв из лопухов аккордеон, понес его к дому. С высоко поднятой головой и прямыми плечами Прасковья Михайловна поднялась на крыльцо, открыла дверь в сени и сказала:
— Милости просим, Федор Иванович! Проходи, не бойся половичок-то замазать.
Участковый все-таки выскреб ноги о специальную щеточку у порога, стряхнул пыль со штанин и вошел в дом, состоящий из одной большой комнаты и комнатушки, отгороженной белыми, чисто выстроганными досками. Дом, конечно, был невелик, но сверкал такой чистотой и порядком, что, поставив у порога аккордеон, участковый дальше пошел на цыпочках, чтобы пожать руку мужу Паньковой.
— Здорово, здорово, Виталя! — весело проговорил он. — Ну и рука же у тебя — ровно клещи…
Да, другой такой сильной руки, как у Виталия Панькова, в деревне не было; не было ни у кого и таких широких плеч, такой буйно кудрявой головы и таких, как у Виталия, серых, шальных глаз. Все хорошо было у Виталия по пояс, а вот ниже ничего не было. Квадратным обрубком Виталий Паньков был всунут в мягкие овчины, вложенные в углубление на высоком столе, а вокруг него в разных видах лежали ивовые прутья, из которых Виталий плел корзины.
— Здорово, Федор Иванович! — веселым басишком ответил Виталий и, качнувшись, показал на стул. — Садись, друже!
В ослепительно белой рубахе, загорелый, так как Прасковья Михайловна с сыновьями каждый день выносила его на солнце, сытый и сероглазый, Виталий был так красив, что Анискин только крякнул, сел на стул и попытался положить ногу на ногу. Это ему не удалось; Виталий попытку участкового, конечно, заметил, и они дружно засмеялись.
— Ну, ты боровом стал, Федор! — сказал Виталий. — Ну, раскормился!
— А чего! — подхватил Анискин. — Как ты всегда говоришь: «Порядок в танковых частях», — хотя, я тебе скажу, Виталя, что народа капризней, чем танкисты, я в войну не встречал.
— А техника, техника, Федор друг Иваныч! — захохотал Виталий. — Техника она какого человека любит…
Прасковья Михайловна стояла в дверях, исподлобья смотрела на них, потом она опять сняла с головы платок, прямым шагом подошла к мужу и ткнулась своим плечом в его плечо. Постояв секундочку в такой позе, Прасковья Михайловна оторвалась от мужа и пошла к участковому, но он опередил ее — вскочив с места, Анискин торопливо проговорил:
— А я ведь к вам попить зашел! Тащусь с аккордеоном, — в березняках нашел его — так весь припарился и пить захотел!
После этих слов Анискин на Прасковью Михайловну взглянул так, что она осеклась, мигнула глазами жалобно и замерла. Участковый же продолжал смотреть на нее мягкими, глубокими глазами; вовнутрь и через смотрел, в печенку и в селезенку, потом глаза от женщины отвел, усмехнувшись непонятно, взял со стола готовую корзинку и стал вертеть ее в руках — так и этак, этак и так.
— Но, но! — восхищенно сказал участковый. — Это профессорски бабы с ног собьются… Ведь в Томске, Виталя, палку в собаку кинешь, а угодишь в профессорску жену…
Корзинка на самом деле была отличной — сплетенная из мелких разноцветных прутьев, она придавала Анискину легкомысленный, фатоватый вид, но он улыбнуться себе не позволил, а строго потребовал:
— Так ты мне дай, Параскева, водички попить. Все ссохлось внутри-то… А насчет аккордеона вот что! Я его до вечера у вас оставлю, ладно? — попросил он. — Чего мне с этим аккордеоном через всю деревню таскаться.
— Ты все же слушай, Федор Иванович, какого человека техника любит, — оживленно сказал Виталий. — Танкова техника, Федор брат Иваныч…
11
В девятом часу, когда солнце резко садилось и тени всполохами бежали по деревне, а на жатве близился конец рабочего дня, участковый пришел к колхозной конторе, крикнув председателю в окно, что забирает «газик», поймал выброшенные через окно же ключи, посапывая, пошел к машине и, оглянувшись, много ли народа видит, как он забирается в «газик», сердито взгромоздился за руль.
— Ишь вы! — крикнул он ребятишкам, которые валандались у конторы. — Нет по грибы ходить.
На машине Анискин ездить любил и умел, потому скорость с места взял хорошую, развернулся в переулке чертом и, распугивая куриц и ленивых гусей, понесся по той улице, на которой стоял сельповский магазин. Возле него участковый остановился и высунулся из кабины.
— Евдокея, а Евдокея! — покричал он. — Выдь-ка на час.
Когда недовольная Дуська в белом халате выглянула из дверей, Анискин на нее с приятностью пощурился, похлопал рукой по гладкому рулю и строго сказал:
— Ты, Евдокея, будь к девяти часам в моем кабинете. Я тебе с Григорием Сторожевым буду очну ставку делать…
— Еще что! — закричала Дуська. — Что еще за очны ставки…
Однако участковый ее дослушивать не стал — громко хрустнул передачей, поддал машине газу и умчался, развеивая пыль. Он в секунду вылетел за околицу, крутанул руль влево и тут скорость машины умерил, чтобы над рекой ехать неторопко, чтобы видеть всю землю. «Куда мне торопиться, — умиротворенно подумал он, — когда аккордеон нашелся, Дуська веселая, а Иван Иванович один сидит в кабинете. Посидит, посидит, да, может, что хорошее придумает…»
Дорога шла яром над излучиной Оби, обочь росли веселые цыганистые березки, тянулись поля скошенной в валки пшеницы, подсыхающей и потому духовитой; потом пошел синий молодой кедрач, усыпанный шишками. На середине кедрача на шум машины вышли ребятишки с мешочками, увидев, что она легковая, — прыснули в стороны, а Анискин улыбнулся. Затем опять пошли березы — покрупнее, потолще и погуще, — потом березы начали редеть и редели до тех пор, пока не исчезли. Вот тогда-то «газик» и выскочил на такой простор, от которого захватывало дух.
От кромки яра до Оби было метров двадцать пять, река лежала слева, а справа, наподобие реки, уходили в бесконечность желтые поля. Это по нарымским местам была редкость, но поля пшеницы, ржи и ячменя занимали огромное пространство, а там, где они все-таки кончались, тоже было ровное место — знаменитые Васюганские болота, которые и поля, и березы, и кедрачи отгораживали от мира неприступной трясиной. А над полями, над болотами, над простором висел прозрачный месяц.
Еще неторопливее поехал участковый — поглядывал вольно, улыбался без заторможенности, руки на руле держал для виду, так как машина и сама катилась по двум колеям на стан, что скрывался возле крупных зародов соломы. Под ними сидели женщины, рядом похаживали ребятишки, шли к стану два комбайнера — ужинать и отдыхать перед ночной работой. И четыре грузовые машины стояли у стана — четыре шофера, да еще четыре стажера-разгрузчика… Человек двадцать народу отиралось у стана, и Анискин к нему подкатил весело, резко притормознув, шутя сделал вид, что хочет машиной налететь на баб, которые с копешек посыпались горохом. Потом участковый вылез из машины, похлопывая себя по бокам, как после купания, подошел к середке стана и проговорил:
— Здорово-здорово, бабоньки, здорово-здорово, мужики, здорово-здорово, огольцы!
Анискину ответили дружно, весело, и он приметил за второй кучей соломы еще несколько парней и мужиков — это сидела тракторная бригада дяди Ивана, которая пахала вслед за комбайнами. В общем, много народу было у стана, и участковый прямиком пошел к бригадиру полеводческой бригады Петру Артемьевичу, который сидел за столом, то есть за доской, прибитой к двум кольям. Петр Артемьевич пил из бутылки молоко, задрав голову так, словно смотрел на месяц через подзорную трубу.
— Петр Артемьевич, — сказал Анискин, — двух Паньковых я вижу, а третий где?
— Третий под зародом, — шепеляво ответил полеводческий бригадир. — Он, Федор Иванович, такой завидный парень, что как свободна минуточка, так спать! — Петр Артемьевич дососал молоко и задумчиво добавил: — Я так думаю, что он потому хорошо и работает, что завсегда высыпается… А вот я, Федор Иванович, сроду в недосыпе. Вот ты человек разумный — давай считать, сколь я в сутки сплю…
— Ты сам сосчитай! — ответил участковый и неторопливо пошел к крайнему зароду, возле которого действительно, привалившись боком к соломе, спал старший Паньков — Семен. Глаза у парня были прижмурены, рот открыт и нижняя губа закруглена мягко, по-мальчишечьи. Но лежали на соломе тяжелые кулаки, равномерно дышала выпуклая грудь, подергивался на виске тугой мускул.
— Вставай! — сказал участковый и сандалией потрогал сапог Семена. — Эй, вставай!
Семен поворочался и помычал, перевернувшись на другой бок, пошлепал губами, и Анискин присел возле Семена на корточки, посмотрел на него милицейскими глазами.
— Аккордеон-то в бане под полком лежит, — проговорил Анискин. — Семен, а Семен, ты аккордеон-то под полок положил. Смотри, а то Анискин найдет!
Паньков крепко свел брови, еще сильнее прижмурил веки, пробурчал:
— Лодка-то лодка…
— Не лодка, — быстро сказал Анискин, — а спрятал ли ты аккордеон под полок, Семен? Ты слышишь про аккордеон-то?…
— Слышу, — ответил Семен и открыл глаза.
— Аккордеон-то под полком лежит, — тихо произнес участковый. — Ты его зачем, Семен, под полок-то спрятал?
Глаза Семена сначала смотрели вяло и безжизненно, затем зрачки сузились так, словно парень глядел на солнце, а белки засинели. Секунду Семен со страхом в глазах лежал неподвижно, потом ресницы вздрогнули, в глазах мелькнуло такое, что участковый подумал: «Ох, уж эти мне Паньковы! Что Параскева, что Виталя — одна сатана!»
— Твоя взяла, Анискин! — сказал Семен, и в его голосе прозвучало облегчение. — Пляши теперь, Анискин!
Не опираясь о землю руками, Семен гибко поднялся, тряхнул такими же буйными кудрями, как у отца, и, отставив ногу, встал перед Анискиным во весь рост. Серый комбинезон хорошо облегал его квадратную фигуру, плотно стояли на земле сапоги сорок пятого размера, и Анискин вдруг тоненько присвистнул.
— Эти сапоги-то ведь вот чьи!
Да, только сейчас участковый вспомнил, что с фронта Виталя Паньков приехал при сапогах. Привез с фронта Виталя и ноги, а их ему начали обрезать в Томске только тогда, когда пошли по ногам синие сквозные пятна. Обрезали ноги Виталию не раз и не два, а три раза, и только тем и спасли его жизнь, что обкорнали без остаточка.
— Вот сапоги-то чьи! — повторил Анискин и длинно цыкнул зубом. — А я-то голову дурил!
Участковый отступил от Семена на три шага, встал так же ровно, как парень, и посмотрел на месяц, на резное облачко, что плыло над полями и Обью, и на алое, тревожное небо на востоке. Большой был Анискин, величественный, как загадочный восточный бог, и не было к нему пути, чтобы приблизиться, встать рядом, заговорить. Минуту так стоял участковый и думал: «Матерь родная, жизнь-то, она вот какая! Может, я и с Зинаидой не так как надо разговаривал, может, и с теми бездельниками не так ведусь! Не может же быть, что все в них плохое, ой, не может быть! И того не может быть, что я кругом прав, а моя родна дочь кругом виновата… Жизнь, жизнь!» Еще минуту помолчал Анискин, а потом холодно произнес:
— Ну-ка подними, Паньков, голову. Подними да расскажи-ка, как ты отцову честь блюдешь. Расскажи-ка, а! А?! Расскажи, как ты блюдешь семейну честь.
И сник, разобрался по частям Семен Паньков — побледнело лицо, завяли руки, отставленная в сторону нога сама приползла к другой ноге. За его спиной шумел веселый стан, погромыхивал трактор, навзрыд смеялись девчата с мальчишками.
— Мы Гришку Сторожевого у клуба караулили, — зябкими словами сказал Семен, — а он все от клуба не отходил… На открытом месте его одолеть трудно… Потом он стал в дверь колотиться, открыл, но в клуб не пошел… Мы его догнать не поспели…
— Ну!
— Тогда я в дверь вошел и… Я хотел сначала накрыть Дуську и завклуба, чтобы Гришке позор сделать!
— Так! — сказал Анискин. — Эдак!
Сняв руки с пуза, участковый подошел к Семену, цыкнув зубом, приказал:
— Зови братьев!
Когда Семен черепашьим шагом ушел за братьями, участковый приблизился к концу зарода, завернул за уголок и вынул из кармана тот клочок бумаги, на который что-то списывал с газеты. Шевеля губами, Анискин несколько раз прочел его, затем бумажку порвал и клочки спрятал в солому. Опять сложив руки на пузе, участковый стал глядеть, как братья Паньковы, перешептываясь, приближались. Когда же они подошли, Анискин на них только бегло посмотрел и спросил:
— Все поняли?
— Все! — ответил за братьев Семен. — Арестовывай меня, Анискин, я один виноватый!
Участковый не ответил — дав бровями знак, чтобы братья шли за ним, Анискин валко двинулся к стану, обогнув на ходу женщин и девчат, что прохлаждались на соломе, вышел опять на центр и здесь стал столбом — покрутив из стороны в сторону головой, он нашел выпученными глазами бригадира полеводов и поманил его пальцем:
— Петр Артемьевич, подь-ка сюда!
В тишине, которая наступила средь стана после того, как участковый выбрался на центр, полеводческий бригадир подошел к Анискину, без удивления посмотрел на него и приятственно улыбнулся — радовался тому, что случилось хоть какое-нибудь развлечение.
— Я слушаю, товарищ Анискин!
— Вот что, Петр Артемьевич, — веско сказал участковый, — передай народу, чтобы поближе к середке подгребался…
Отступив немного в сторонку, Анискин стал внимательно смотреть, как под крики бригадира: «На собранию, на собранию!» — люди подходили к центру. Подползли на коленках, чтобы не подниматься с соломы, женщины и девчата, припрыгали ребятишки, притащился с палкой в руках дед Крылов и сел на пенек, приставив руку к уху; из-за второго зарода вышли трактористы с бригадиром дядей Иваном и стали плотной шеренгой — Гришка Сторожевой меж ними.
Спервоначала на стане было шумно и весело, потом люди затихли, так как участковый стоял неподвижно и все покручивал пальцами на животе, а за его спиной необычно молчали братья Паньковы, тихие и неподвижные. Странным было все это, и на стане сделалось тихо.
— Ну вот! — удовлетворенно сказал участковый. — Ну, вот и угомонились!
Картина перед его выпученными глазами действительно была привлекательная: в свете заходящего солнца — высовывался из-за горизонта только алый краешек — покойно сидели на соломе женщины и девчата в разноцветных юбках и кофтах, дремали за зародами два самоходных комбайна, три трактора «Беларусь» и один ЧТЗ; держась друг за дружку руками, стояли трактористы, отдельно от них — комбайнеры; лежали на земле, положив головы на руки, ребятишки, и сидел на старом пеньке дед Крылов. И за всем этим разноцветьем, за всей этой живой жизнью виднелись половинка Оби и половинка бескрайнего луга, который где-то, конечно, переходил в болото, но был громадным.
— Кто у вас на собраниях протокола пишет? — тихо спросил Анискин. — Ай, отзовись!
— Я, — сказала Люська Матвеева и приподнялась с соломы. — Я, дядя Анискин, обычно веду протоколы.
Участковый улыбнулся.
— Вот и веди, Людмила, коль ты десятилетку закончила, а вот в колхозе работать не гнушаешься…
После того как тихая и славная Людмила Матвеева взяла карандаш и бумагу, Анискин сурово прокашлялся, свел брови на переносице и ровным голосом сказал:
— Партия и правительство, товарищи, обращают все больше и больше вниманья на работу органов советской милиции. — Сделав передышку, участковый набрал в грудь воздуху и совсем выкатил глаза. — Партия и правительство, товарищи, обращают наше внимание также на то, что задачей органов милиции являются не только методы пресечения и карания, а также, товарищи, и воспитательная работа. — Он во второй раз передохнул и сказал легче: — Партия и правительство, товарищи, такое большое вниманье уделяют работе органов милиции, что вот даже и День милиционера установили… Ране, товарищи, дни танкистов, шахтеров, железнодорожников были, а теперь вот и наш день есть… — Анискин снял руки с пуза, выдохнул лишний воздух, что был в легких, и широко расставил ноги. — Теперь, товарищи, я проговорю за то, — сказал участковый, — что в нашем обществе есть такие люди, которые нам мешают жить. Вот возьмем, к примеру, братовьев Паньковых. — Он посмотрел за спину и ткнул пальцем в братьев. — Возьмем, к примеру, братовьев Паньковых… Они, конечно, в колхозе работают хорошо, ударно, но вот на улице и в клубе от них проходу нет… Нет от них прохода! — сердито повторил участковый и помахал все тем же пальцем. — Человек приоделся, после работы идет в клуб, а тут шасть — братовья Паньковы! То они тебя грязью замажут, то с дороги столкнут, то еще что выкамурят… Что, я неправду говорю, товарищи?
— Правду! — зло сказала Маруська Шмелева, баба бойкая и шалавая. — Намедни надела ново платье, по воскресенью хорошо причесалась, иду дорогой, а Борька Паньков от двух других отстал и говорит: «Ты куда, лахудра, прешься! Кто на тебя в клубе поглядит? Дура, — говорит, — ты, и платье у тебя, — говорит, — дурацкое…»
— Это еще что! — визгливым голосом вмешалась баба Сузгиниха, которая на стане варила обеды и ужины. — Это еще что, Феденька! Моего Степашку… Он вот стоит и от стыда горюет… Они ить его избили, Феденька… Он за той, что протокола пишет, то есть за Люсенькой Матвеевой, ходил с серьезными намереньями, а Володька Паньков его в кустах пымал и… обои глаза подбил, и рука ночью ныла…
— И матерятся где попадя! — сказала в тишине толстая и медленная Ефросинья Смирнова. — Сидишь дома с семейством, а они под окна придут, чтоб свои хулиганские планы строить, и матерятся за каждым словом. А вот третьеводни…
— А вот третьеводни! — вдруг закричала обычно спокойная и добрая Клавдия Морозова. — А вот третьеводни, Анискин, они всю ночь по деревне шарашились и спать не давали. Мы на краю деревни живем, так всю ночь не спали.
И закричали бабы, закричали девчата, завизжали, обрадовавшись шуму, ребятишки, сердито застучал палкой о землю старый дед Крылов, глядящий на братьев Паньковых страшными до ужаса глазами. Большой шум произошел на стане, и Анискин, привстав на цыпочки, оглушительно крикнул:
— Ша, народ!
Когда же шум водоворотом прошелестел и утих, участковый в наступившей тишине сказал:
— А ну, братовья Паньковы, примите-ка головы от земли и поглядите в глаза народу. Посмотрите-ка на такое собрание, какое не надо просить выступать, а наоборот, утишивать надо… Ну, вздымите, братовья Паньковы, глаза на народ.
Но братья Паньковы не подняли глаза на людей — стояли каждый по отдельности, стояли в лучах заходящего солнца, и оно розово отражалось на их бледных лицах.
— Нет у вас силов поднять глаза на народ, — сказал Анискин. — Вы так народу поперек горла встали, что его теперь боитесь… Вас теперь не только Гришка Сторожевой, а все другие мордовать станут, если вы к прежнему возвернетесь… Правда, Леонид Грохотов? — поворачиваясь к одному из трактористов, спросил Анискин. — А, не хочешь отвечать, стыдно за то, что три брата всю деревню мордовали… Тоже в землю смотрите, товарищи трактористы, товарищи комбайнеры? В каждом по шесть пудов весу, а трусили… — На слове «вес» Анискин улыбнулся глазами, снял руки с пуза и широко повел ими перед людьми. — Вот так, дорогие мои товарищи…
Участковый замолк, и через секунду в тишине раздался глухой стук — это дед Крылов громыхнул по земле березовой палкой с резиновым наконечником. Он попытался с пенька встать, но по столетней старости сделать этого с ходу не смог и остался в сидячем положении.
— А ты знаешь, Федюк, — сказал он участковому, — ты знаешь, касатик, как с такеми мужаки в старину отражались?… Вот ты эстого, Федюк, не знаешь.
— Нет, знаю, — просторно улыбнувшись, ответил участковый. — Мужики всем миром с хулиганами боролись, и вот мы сейчас тоже смешное дело произведем. — Анискин непонятно улыбнулся, повернул голову к Людмиле Матвеевой, которая не выпускала из рук карандаш и бумагу. — Людмила, пиши! — приказал ей участковый. — Пиши, Людмила, протокол о том, что вот решением общего собрания мы решили создать народну дружину по поддержанию в деревне спокойствия и порядка… Какие обязанности есть у дружинников, я потом по инструкции разобъясню, а теперь прошу поднять руки, кто за, а кто против. Все за? Вот и пиши, Людмила, что дружина нарисована, пускай эти штукари из райотдела почитают…
Сделав еще одну небольшую паузу, Анискин простодушно улыбнулся.
— Аккордеон я нашел, граждане… Какая-то сволочь в березняки бросила… Я так думаю — что непременно кто чужой, не деревенский… Ну, вот и все собрание!
Когда народ загалдел и ребятишки побежали в разные стороны, когда трактористы пошли к тракторам, а комбайнеры — к комбайнам, участковый повернулся к братьям Паньковым, прощупав их глазами до печенок и селезенок, шепотом сказал:
— Я до тех времен про аккордеон буду молчать, пока вы штукарить не станете… Но если на вас вот такое народное слово не подействовало, сгинете! Под суд отдам за аккордеон… А теперь сойдите с моих глаз, страмнюки!
На горизонте от солнца осталась уж совсем узенькая кромочка, месяц, наоборот, набирал силу, и потому по полю и реке катились разноцветные лучи — бордовые и розовые. К вечеру, к вечеру шло дело, и потому поглядывал на восток, где над деревней висело темно-голубое небо, тракторист Гришка Сторожевой.
— Ты разве забыл, Гришка, что тебе надо на очну ставку с Евдокеей? — сказал Анискин. — Так что разберись, женитесь вы или обратно не женитесь. А то людей смех берет…
Развод по-нарымски
1
То ли в конце сентября, то ли в начале октября — число теперь призабылось — к участковому уполномоченному Анискину на дом пришла Вера Косая, жена шофера Павла Косого. Она была маленькая и рябоватая, глаза у нее, несмотря на фамилию, глядели прямо и остро, а фигурой была полненькая и кругленькая, кожей белая-белая.
Вера Косая в калитку анискинского дома вошла тихонько, кашлянула слабо, как туберкулезная, и поднесла ко рту сложенный кулачок — это у нее такая привычка, что она почти всегда кулачок держала возле рта, опуская его на положенное место только тогда, когда нервничала.
— Здравствуй, Глафира Васильевна! — поздоровалась Вера Косая.
— Здравствуй-ка!
Шел восьмой час вечера, на улице погода была нудная — ни дождь, ни солнце, ни ветер, а так себе, морока на небе и земле. Да и пора в деревне была такая же морочная и неопределенная: уборка закончилась, зимние работы еще не начались, так что в деревне слышались и голоса взрослых, и гармошки, и девчата уже выходили нарядные шляться по длинной улице, что вела берегом Оби.
— Я ведь к самому пришла! — отчего-то шепотом сказала Вера Косая. — Мне ведь сам-от нужен.
— Спит…
Глафира торопилась стирать, но какая уж тут была стирка, когда Вера Косая не только пришла к самому, а, приблизившись к Глафире и корыту, начала своими острыми и прямыми глазами зыркать и по Глафире, и по корыту, и по двору, и по крыльцу, и даже по тому, что скрывалось за распахнутой дверью сеней. Руку она ни на секундочку не отрывала ото рта, на макушке подрагивал хохолок, а спина волнами изгибалась.
— Черну-то рубашку в сельпе брала? — спросила Вера, каким-то чудом разглядев в мыльной пене шелковую комбинацию, принадлежащую младшей дочери Анискиных. — Я таки комбинации что-то в сельпе не видела… А вот те чулки, они что, фильдекосовы или капроновы? Капроновы-то теперь, Глафирушка, достать можно — по всем полкам у продавщицы Дуськи валяются, — а вот где это люди фильдекосовы берут?… А это чего у тебя под рукой-то? Никак шерстяна кофточка!.. И где это только люди шерстяны кофточки достают, когда я вот даже в Томск ездила, а достать не могла…
Говоря часто, как испорченный патефон, Вера Косая еще на шаг приблизилась к Глафире и корыту, еще глубже заглянула в него и уж начала было относить кулачок ото рта, как в доме раздались басовитое покашливание, отчаянный скрип половиц и такой глухой стук, какой только может издавать толстый и высокий человек, ступая по полу голыми пятками.
— Ну, в само время пришла, — сказала Вера. — Вся деревня знат, что товарищ Анискин после обеда беспременно спят… Конечно, Федор Иванович такие большое начальство, что им можно спать, когда захочешь, но вот при колхозной работе… — Она тяжело вздохнула в кулачок. — Хорошо тем бабам, у которых мужья — большо начальство. И в сельпо сбегает и белье постират…
Вера Косая через кулачок набрала полную грудь воздуха, чтобы зацокотать еще громче и чаще, но не успела — участковый Анискин во весь рост появился на крыльце. Басовито кашлянув, он прицыкнул пустым зубом, набычив голову, сердитыми после сна глазами осмотрел серое от сплошных туч небо, двор и землю, Веру Косую и Глафиру.
— А?! — выдохнул участковый. — А, говорю!
— Здравствуйте, Федор Иванович! День добрый, день добрый…
— Во-первых, не день добрый, — ответил участковый, — а вечер. Во-вторых сказать, я об эту пору, гражданочка Косая, чай пью, так что говори, чего тебе надо?
— Ой, да что надо бедной женщине! — ответила Косая… — Что надо бедной женщине, окромя защиты… Уж я такая бедная, такая бедная, что и постирать на себя некогда, вся грязная да ободранная…
Причитая и стеная, сутулясь и жалобно скрещивая руки, Вера Косая несчастными глазами смотрела на участкового, туберкулезно покашливала, и одежонка на ней была действительно ветхая — сбитые туфли из брезента, кофта с продранными локтями, ветхая юбчонка.
— Ничего мне не надо, ничего не надо, окромя правды-матушки…
Пошарив в складках замызганной кофты, Вера Косая протянула участковому записку, вчетверо сложенную бумажку. Он принял, развернул и три раза покашлял, как делал всегда, когда из специально пришитого кармана к рубахе доставал очки, которые он использовал только в тех случаях, когда читал чужую руку. На уши очки Анискин надевать не стал, а приставил их к глазам, как лорнет:
«Товарищу участковому уполномоченному Анискину. Заявление. Товарищ уполномоченный Анискин, пишет вам колхозница Вера Ивановна Косая, которая жалуется на обиду, а также на причинение телесных повреждений, которые имеются, как ее муж Павел Павлович Косой, по принадлежности колхозный шофер на трехтонке, является аспидом, изменщиком и нарушителем законов советской семьи, которая должна с каждым годом все укрепляться и укрепляться, что наш колхоз вместе со всем народом строит коммунизм. Кроме телесных повреждений, законный муж Павел Павлович Косой наносит оскорбления нецензурными выражениями, которые моральным кодексом жизни запрещаются, а также насчет нажитых вместе вещей хочет забрать все костюмы и серые пимы, говоря, что зимой он без пимов ходить не может, а когда их привезут в магазин, никому не известно. Прошу оказать защиту и содействие, как это полагается по советским законам, которые самые справедливые. Вера Ивановна Косая».
Подергивая нижней губой, Анискин прочел бумажку во второй раз, сложив ее на четыре дольки, вместе с очками затолкал в тайный карман. Посмотрев на жену, он свел и развел брови — дал знак заваривать чай, — а потом повернулся к Вере Косой, чтобы глядеть на нее молча и тихо. Глаза у него были выпучены, руки он выложил на пузо и вертел пальцами — туда-сюда и сюда-туда.
— Товарищ Анискин, — жалобно сказала Косая, — товарищ Анискин, чего же ты мне не говоришь: «Так, здак!» Вот всем другим людям, которые тебе заявленья подают, ты сразу же говоришь: «Так, эдак!» — а вот при мне… Конечно, если к начальству пришла бедна женщина, если бедна женщина не при туфлях…
— Уймись! — тихо сказал Анискин. — Уймись и прими кулак от зубов-то… Слова у тебя получаются от этого двухсторонние, фальшивые… Ну!
Когда Косая торопливо убрала кулак, участковый тихонько вздохнул, покачал головой и сказал:
— Я потому не говорю: «Так, эдак», что мне ваши разводы с Павлом на месяц два раза — вот где сидят! — Он неторопливо показал на свою слоновую шею и еще неторопливее продолжил: — Ты мне, конечно, сейчас какой-нибудь синяк покажешь или опухоль… Ну, вот так и есть! — не удивился участковый, когда Косая стала задирать рукав нищенской кофты. — Ну, вот так и есть!
— Так ведь телесные же повреждения! — фальцетом закричала Вера Косая. — Я у фельдшера Якова Кирилловича была, и он мне сказал, что это ушиб четвертой степени… Четвертой степени, ты понимаешь, Анискин…
Вера Косая последние слова выкрикнула так громко, что Глафира подняла голову от корыта, курицы, что бродили по двору, бросились врассыпную, а рыжий петух, заорав, запрыгнул на плетень. Весь двор всполошился от крика Веры Косой, но участковый и бровью не повел. Он только укоризненно покачал головой и сказал:
— Вот ты так кричишь, что у меня в ушах словно комар сидит… От этого я как бы оглох. — Участковый вяло махнул рукой и добавил: — Твое заявление, гражданка Косая, мы, конечно, разберем, а вот сейчас, пока я еще чаю не пил, хочу на тебя страх навесть…
— Как страх навесть? — встрепенувшись, спросила Вера Косая. — За что?
— А за то, — мирно ответил участковый, — что я вот шибко удивляюсь, как это твой мужик Павел головой в Обь не бросается, а на колхозной работе перевыполняет нормы выработки… А во-вторых сказать, за то, чтобы ты на меня не кричала, как кричишь на весь народ в деревне…
Участковый помолчал. Солнце за тучами еще не садилось, но уже занизилось сильно — на дворе было морочно, приглушенно, как поздней осенью, и на толстом лице Анискина от серого неровного света образовались углубления и выступы.
— Вот я тебя спрошу, гражданка Косая, — вяло сказал участковый, — кто в этом году выработал в колхозе всех меньше трудодней?… Вот я тебя спрашиваю, а не рыжего петуха…
— У меня радикулит…
— Ага, радикулит! — обрадовался Анискин. — Это, конечно, хорошо, но ты мне скажи, куда этот твой радикулит девался, когда ты позавчерась с полей пятипудовый мешок картохи тащила?… Ты мне на это ответь, а?
— Вот и врешь, Анискин! — вдруг молодым голосом закричала Вера Косая и отняла кулак ото рта. — Вот и врешь, лупоглазый, нахально врешь, при всем честном народе врешь! Знаем мы вас, знаем!.. Советская власть не из одного тебя, Анискин, состоит, и мы правду найдем!.. Найдем!
Взмахивая руками, как пароход колесами, Вера Косая от радости подпрыгнула, круглая, как колобок, прокатилась перед участковым на коротких ногах и еще радостнее закричала:
— Врешь, врешь, Анискин, не с полей я картохи несла, а с кладовой, и не украла, а на трудодни, и не пять пудов, а всего шестьдесят пять килограммов… А ты чего усмехаешься, чего усмехаешься, Анискин? Не веришь, жирный, не веришь?!
— Я того усмехаюсь, — ответил Анискин, — что шибко удивлен, как это ты при радикулите шестьдесят пять килограммов картохи на горбушке несешь?… А?! Я тебя спрашиваю: а?!
Когда Вера Косая от удивления охнула и села на скамейку, участковый, наоборот, встал и подошел к ней вплотную. Он секунды три-четыре вытаращенными по-рачьи глазами смотрел женщине в белое, чистое лицо, затем опустил веки на выпуклые белки и вяло сказал:
— Ты теперь, когда я на тебя страх навел, вали, вали домой… Вали себе домой, а мы во всем разберемся… И как ты стары кофты для жалости надеваешь, и как баб с мужиками ссоришь, и как вообще живешь… Вали, вали себе домой, Косая…
Уже тогда, когда Вера Косая, открыв калитку, выбиралась на темневшую улицу и всей спиной от злости подрагивала, участковый добавил:
— Ты, Косая, поимей в виду, что я на твои слова про жирного и пузатого вниманья не обратил… Вали себе домой, вали, Косая!
— Ну ладно! — шепотом ответила Косая. — Ну погоди!
Долго — наверное, минуты три — было слышно, как Косая негодующе фыркает и стучит о траву брезентовыми туфлями, как ударяет о плетень кулаком, потом шаги стихли и на анискинском дворе остались только свои звуки — клохтали куры и похрюкивала свинья в загородке, лопалась мыльная пена на голых руках Глафиры, да в доме младшая дочь Зинаида напевала: «Когда пурга качается над Диксоном…» И темнело уже заметно. Теперь не только западный край туч, но и середка их, что висела над деревней, была снизу подкрашена коричневым, густым, тяжелым…
— Опять дождя не будет! — сердито сказал Анискин. — Вот бывают же такие тучи, что от них ни дождя, ни солнца… — Он подумал и вдруг добавил просто: — А ведь Павлу-то надо Верку бросать. Погинет он с ней, Павел-то…
2
На следующий день дождь все-таки пошел. Это был не тот дождь, в ожидании которого тянутся к небу зеленые стрелы ржи и пшеницы, не тот дождь, тугими струями которого радостно умывает желтую морду подсолнух, и не тот, что веселит душу громом и синими молниями, — это был самый противный из тех дождей, что в нарымской стороне идут часто, подолгу и зряшно. Утром следующего дня из серых туч просто-напросто полились прерывистые и от этого пестрые струи, забарабанили мелкими капельками по крышам, и через час после начала дождь стал таким ровным и постоянным, словно шел не прерываясь испокон веков.
Участковый Анискин, вышедший в седьмом часу из дому, поглубже нахлобучил на голову капюшон зеленого военного плаща, стараясь ставить ноги на островки травы и тверди, меланхолично двинулся в сторону сельского Совета. Капельки монотонно постукивали по обтянутой спине, грязь чавкала под ногами. Шагал Анискин осторожно и так же осторожно думал: «В старину разводиться было куда как несподручно… Землю с бабой резать нельзя, на разведенке никто не оженится — спорченная… Да и некогда было разводиться — три дня пропустил, зимой оголодаешь…» Вот так, тихонечко и осторожно размышляя, участковый добрался до сельсоветского дома и, покачав головой, остановился возле него.
Ну, вот не было в деревне хуже дома, чем сельсоветская контора! Были и у некоторых мужиков плохонькие дома, но в каждом из таких то белели на крыше две-три новые доски, то свежинкой лежал фундамент или гордились новые рамы. У сельсоветского дома были кривые окна и двери, плетня и ворот не имелось, вместо кирпичной трубы торчали три дырявых ведра, вставленные одно в одно; стекла в сельсовете были латаные-перелатаные, возле окон не росло ни деревца, ни кустика, а на том месте, где дому полагался двор, стояла новая дощатая уборная с вечно открытой дверью.
Сердито постукивая каблуками кирзовых сапог сорок пятого размера, Анискин вошел в единственную комнату сельсовета, пожал руку председателю Кузьме Петровичу Коровину, помотал головой секретарю Анне Борисовне Сафоновой и громко сказал:
— Дождь-то этот, а! Не меньше как на неделю, а!
— Серьезный дождь, — ответил Кузьма Коровин и радостно улыбнулся. — Да ты присаживайся, Федор Иванович!
Участковый сел, прищурился и милицейскими глазами осмотрел комнату — два черных школьных стола, застеленных белесым от времени кумачом, на котором еще были видны следы белых лозунговых букв; коричневый шкаф без стекол, беленькие занавески, из тех больничных, что секретарь Анна Борисовна выпросила у фельдшера Якова Кирилловича, три табуретки — и все. Ничего больше в сельсовете не было, зато пахло мышами, сургучом, как на почте, и тем нежилым запахом пыли и слежавшихся бумаг, которыми пахнут учреждения.
— Так! — сказал участковый. — Эдак!
— Сама пол мою, — после паузы проговорила Анна Борисовна. — Уборщица тетя Поля болеет…
Рамы в сельсовете были одинарные, тонкие, как в южном доме, и поэтому в комнате шум мелкого дождя был слышен так отчетливо, точно под открытым небом. Водосточных труб на крыше, конечно, не имелось, и водяные потоки лились тонкими простынными полосами на голую землю и под гнилой фундамент дома. Шум дождя в кабинете поэтому стоял ровный, усыпляющий, как шелест деревьев, и Анискин вдруг зевнул в кулак и грустно прицыкнул зубом.
— Федор Иванович, а Федор Иванович, деревянную уборную видишь? — весело захохотав, спросил Кузьма Петрович. — Наблюдаешь вот ту уборную на четыре очка?
— Но.
— В ней весь мой бюджет! — ответил председатель сельсовета и опять раскатисто захохотал. — Весь сельсоветский бюджет я на уборную убил, так как в райисполкоме мне проходу не давали: «Как это ты живешь без туалетного узла?» Вот я и построил туалетный узел, а в него только я да…
— Кузьма Петрович, — краснея, перебила его Анна Борисовна, — Кузьма Петрович…
Председатель посмотрел на участкового, участковый — на председателя, и под монотонный шум дождя они разом захохотали. Смеялись они просторно и громко, от души и без всякого стеснения, так как участковый Анискин посмеяться любил, а что касается председателя сельсовета Кузьмы Петровича, то во всей деревне не было человека легче и смешливее его. Так в деревне и знали, что если среди дня на улице раздается звонкий, раскатистый хохот, то это смеется председатель сельсовета Кузьма Петрович Коровин.
— Ху-ху-ху! — гремел он, сгибаясь в спине и разводя руки. — Ох, ху-ху-ху… Туалетный узел… Ух, ху-ху-ху!
— Ха-ха-ха… — кудахтал участковый. — Ха-ха-ха…
Секретарь сельсовета Анна Борисовна не смеялась, а только надувала все еще красные щеки. Она была очень серьезной женщиной, без мужа воспитывала трех детей и всегда носила черный жакет из дешевого сукна; на белую полотняную блузку Анна Борисовна накладывала черный не то бантик, не то галстук и в самые жаркие дни носила темно-коричневые чулки и синие спортивные тапочки с резиновой полоской вместо ранта.
— Смеются как дети, — недоуменно сказала Анна Борисовна. — А ведь взрослые люди…
Но участковый и председатель сельсовета сразу остановиться не могли — похохотали еще с полминуточки и уж тогда перестали, хотя мелко подрагивали, отчего под участковым, который в это лето весил около ста пятнадцати килограммов, жалобно пели половицы.
— Ишь как нас прорвало, — пробормотал он, покосясь на Анну Борисовну. — Просто нет удержу… — После этого Анискин трижды покашлял, набычил шею и с придыханьем сказал: — А я ведь знаю, Кузьма Петрович, почему ты весело смеешься…
— Почему? — продолжая подрагивать от хохота, спросил председатель. — Ну-ка, скажи, Федор Иванович, ну-ка, скажи…
— Ты потому весело хохочешь, Кузьма Петрович, — ответил участковый, — что жизнь у тебя легкая, лентяйская… Ты, Кузьма Петрович, так же мало работаешь, как спорченная баба, Верка Косая… Вот почему.
— Правильно! — хохочущим голосом закричал Кузьма Петрович и вскочил с места, как подброшенный. — Ох, и умный же ты человек, Федор Иванович…
Председателю сельсовета Кузьме Петровичу Коровину было двадцать шесть лет, на его гимнастерке еще не выцвели следы ефрейторских погон — потому по щелястому полу он забегал быстро, в углах поворачивался лихо, стучал железными подковками сапог так громко, что не слышно было, как идет нудный дождь и стекают с крыши ленивые потоки воды.
— Правильно! — еще громче повторил Кузьма Петрович. — Ох, и головастый ты человек, дядя Анискин! Я и есть самый большой лентяй в деревне! Самый что ни на есть большой! — захохотав, вскричал он. — Какую холеру мне делать, когда в колхозе председатель Иван Иванович, парторг Сергей Тихонович, на маслозаводе — директор Черкашин, кругом бригадиры да завфермы, агрономы да зоотехники, бухгалтеры да счетоводы… — Загнув несколько пальцев на правой руке, Кузьма Петрович вскинул вторую, но в суматохе про нее забыл и закричал еще яростнее: — Говорил же я, зачем меня в председатели выбираете, когда я тракторист, а в армии водил самоходку… Говорил же я народу, так нет!
Кузьма Петрович побежал по комнате, ослепленный раздражением, налетел на желтый шкаф с пыльными папками, ударился об него локтем и, остановившись, захохотал.
— Стоит тут, холера, — пробормотал он, пиная шкаф сапогом, — ну всю дорогу об него зашибаюсь… Не шкаф, а… ха-ха-ха… черт знает что… Чтоб ему сгинуть, ха-ха-ха…
Потирая ушибленный локоть, Кузьма Петрович вернулся к столу, сел на свою председательскую табуретку и склонил голову так, как это делает всякий человек, когда собирается задать веселый вопрос. На гладком лице председателя цвели наивные глаза, пухлые губы затаенно пошевеливались.
— Дядя Анискин, а дядя Анискин, — спросил он, — вот ты скажи, как я могу людей в браке регистрировать, если я сам неженатый и почти с каждой девкой, что приходит расписываться, сто раз в клубе танцевал… Ну как я ей строго могу в глаза глядеть и торжественность на себя напускать, если с женихом мы только вчера у бабы Сузгинихи помидоры с огорода воровали?… Вот ты мне скажи: как?
Участковый надул щеки, потом покачал головой и открыл рот, чтобы ответить председателю, но не успел — Анна Борисовна, встав, сухо хмыкнула и скрестила руки на груди. Роста она была небольшого, от тапочек казалась и того меньше, но прямая была и строгая, как ревизор из района.
— Вы очень, очень несерьезный человек, Кузьма Петрович, — сказала она. — Я восемь лет преподавала в школе Советскую Конституцию и могу авторитетно сказать, что для серьезного человека сельский Совет открывает необозримое поле деятельности… — Со скрещенными на груди руками Анна Борисовна прошлась по комнате, взяла со стола тоненькую реечку и взмахнула ею, как указкой. — Облеченный всеми полномочиями выборности, председатель сельсовета не только проводит большую и плодотворную работу, но и воспитывает… Вы понимаете, Кузьма Петрович, но и воспитыва-а-а-ет…
— Вот и воспитывайте! — опять закричал Кузьма Петрович, срываясь с места. — Садитесь на мое место и воспитывайте, организовывайте, что хотите делайте!
Председатель, забыв об острых углах, побежал к желтому шкафу, но остановился — Анна Борисовна преградила ему дорогу.
— Успокойтесь, Кузьма Петрович, — сказала она. — Вы ведете себя несерьезно.
Подняв голову, сжав губы и пикой держа в руках рейку, Анна Борисовна вернулась на место и села на табуретку, накрытую куском вытертого бархата. Руки она положила на стол так, как кладет их на парту дисциплинированный первоклассник.
— Дождь-то, дождь, — прислушавшись, сказал Анискин. — Ну, такой дождь, что ничего нет хуже этого дождя…
Он был прав — дождь по-прежнему шел мелкий и ленивый, струйки прерывались, словно их на секунду отключали вверху. Обь от этого казалась накрытой комариной сеткой, а большие лопухи под сельсоветскими окнами с дождем переговаривались ворчливо, точно им, лопухам, было лучше на солнце, чем под жидкими струями.
— Я ведь к вам, Анна Борисовна, зашел, — сказал Анискин. — Вы среди женского народа в нашей деревне вроде как судья, так я к вам и зашел. От гражданки Косой имею жалобу…
— От Косой? — переспросила Анна Борисовна. — Ох, уж эта мне Косая… Что она еще там натворила?
— А вот читайте.
Участковый протянул Анне Борисовне жалобу, она начала ее читать, а Кузьма Петрович быстро поднялся.
— Ну, вы тут сидите, читайте, беседуйте, — сказал он, — а я побегу… Я побегу, раз вы читаете и беседуете…
Веселый, посмеивающийся, потирающий рука об руку, председатель сельсовета выскочил из дома, не обращая внимания на дождь, в одной гимнастерке, скачками двинулся по раскисшей улице. Наблюдая за ним в окно, участковый заметил, что Кузьма Петрович вбежал в калитку дома Зыкиных, где жили три сына, три невестки, пятеро незамужних и холостых парней и девчат. У Зыкиных в те дни, когда шел дождь, играли в лото, и участковый озабоченно подумал: «Когда это мы в сельсовет перестанем выбирать кого попадя… Вот ведь беда-то, а!»
— Я прочла жалобу, — сказала Анна Борисовна. — Что же, товарищ Анискин, как секретарь сельского Совета, я помогу вам разобраться в этом сложном вопросе…
— Во-во-во, — закивал участковый. — Очень даже шибко прошу вас помочь в этом сложном вопросе…
3
Через полчаса участковый Анискин и секретарь сельсовета Анна Борисовна входили в дом Павла и Веры. Анна Борисовна первой поднялась на крыльцо, постучала в дверь твердыми костяными пальцами, не став долго ждать ответа, первой же вошла в дом, Анискин — за ней. Прикрыв дверь, участковый остановился на пороге позади Анны Борисовны и вдруг, неслышно хихикнув, прикрыл рот пальцами.
— Добрый день! — поздоровалась Анна Борисовна.
Ей ответили не сразу, так как единственная комната дома Косых разделялась широкой нестроганой доской, которая торцом была прибита к полу и разрезала на две части не только комнату, но старый обеденный стол. Другим концом доска делила двери, и Анискин с Анной Борисовной, оказывается, находились на разных половинах: участковый — на меньшей части шофера Павла Косого, Анна Борисовна — на большей половине его жены.
— Милости просим, милости просим! — первой пришла в себя Вера Косая.
— Проходите, дорогие гостеньки, вот сюдочки.
— Привет! — опуская голову, буркнул Павел Косой. — Здравствуй, дядя Анискин!
Решительно взмахнув рукой, Анна Борисовна сняла плащ и прошла на половину Веры Косой, а участковый, немного подумав, плащ снял тоже, но проходить не стал — он взял табуретку, поставил ее за торцом доски и сел, таким образом, сразу на обе половины. Устроившись же, Анискин шумно выдохнул воздух и огляделся. «Ишь ты, ишь ты!» — неопределенно подумал он, так как в комнате образовалась такая картина. Павел сидел, отвернувшись к туманному окну, Вера, поднеся кулачок ко рту, стояла в уголке и умильно глядела на Анну Борисовну, которая с прямой официальной спиной располагалась на крашеном табурете.
— Матушка, Анна Борисовна, заступница наша! — вдруг взвыла Вера Косая. — Есть, значит, правдочка на земле, если вы, голубушка, пришли…
Вера Косая эти слова выкрикнула, прижала полные белые руки к груди, по-старушечьи потрясла подбородком, но с места не сдвинулась, и глаза у нее были такие, словно кричала и радовалась не она, а кто-то другой. Прокричав, она сразу затихла.
— Вера, — строго сказала Анна Борисовна. — Это прекрасно, когда женщина дома элегантно одета, но в вашей комнате, то есть на вашей половине, беспорядок…
— Не успела я, голубушка, не успела! — опять охотно взвыла Вера. — Только собралась, только собралась, а вы тут пришли, голубушка наша…
— Так! — звучно сказал Анискин. — Эдак!
Участковый трижды кашлянул, сложил руки на пузе и пошел, пошел туда-сюда вертеть пальцами! По солнцу и против солнца вертел, вразнобой и вместе, согнутыми большими пальцами и прямыми, соединяя их подушечками и разъединяя — по-всякому вертел пальцами участковый, а потом начал прицыкивать пустым зубом и набычивать шею. Весь набор своих привычек и странностей показал участковый Анискин, а потом ласковыми, тихими глазами посмотрел на Веру Косую.
— Чего же это ты, гражданка Косая, — сказал он, — в райком партии писала жалобу на продавщицу Миронову, что она из-под прилавка давала синтетически кофты, а сама в такой кофте обретаешься…
— Не писала я жалобу! — вскриком ответила Косая и всем телом рванулась к Анне Борисовне. — Это поклеп на меня, это продавщица Дуська по злобе… Анна Борисовна, матушка!..
Вера Косая сделала вид, что хочет кинуться к Анне Борисовне на плечо, но участковый нарочно шумно полез в карман, достав лист тетрадной бумаги, громко похрустел им, мало того, он сердито хмыкнул и прикусил нижнюю губу.
— У! — простонала Вера Косая. — Это что делается… — Мгновенье она молчала, потом сразу успокоилась и проговорила задумчиво: — Во всех газетах пишут, что нельзя тому жалобу посылать, на какого жалятся… И на райком найдем управу! — вдруг закричала она. — И на райком найдем управу!..
— Не надо находить на райком управу, — после длинного молчания мирно сказал участковый. — Это ведь не твоя жалоба в райком, а бумажка с арифметикой.
Улыбнувшись, участковый развернул тетрадный листок и показал его — весь листок от начала до конца был исписан рукой Анискина; цифры и числа громоздились одна на другую, стояли тесно, как в строю, и редко-редко меж ними виделись короткие слова. Показав бумажку и с другой стороны — чистая, — участковый неторопливо спрятал ее в карман, мельком посмотрев на Павла Косого, сказал с придыханием:
— А?
Когда на двух частях комнаты, разделенной нестроганой доской, наступила тихая тишина, участковый на свободе начал разглядывать часть Павла Косого. На ней ничегошеньки почти что не было — треть стола, некрашеная табуретка, эмалированная миска, стакан, пустая бутылка из-под молока и фанерный чемодан с открытой крышкой. Из него высовывались старые брюки, две продранные майки и трусы-плавки. А на стенке на двух больших гвоздях висели брезентовый плащ, старый полушубок и хлопчатобумажный пиджак.
— Вы, Анна Борисовна, — сухо сказал участковый, — извиняйте меня за то, что встреваю в разговор… Так что молчу и слушаю, как вы ее уговариваете…
Анна Борисовна поднялась с крашеного табурета, прошлась по части комнаты Веры Косой, приостановилась. Она пока молчала, и Павел Косой, наконец, оторвался от окошка, взъерошив щетинистые волосы, положил ногу на ногу. Он был ростом много выше Веры, в сидячем положении равнялся с ней стоящей, и участковый незаметно улыбнулся. «Вот от этого можно со смеху сдуреть, — подумал он. — У толстого мужика баба беспременно тощая, у высокого — малявка, у злого — добрая, у бережливого — растратчица… Вот это как так?»
— Дорогая Вера, — проникновенно сказала Анна Борисовна. — Ничто больше так не унижает человека, как ложь. Когда вы солгали товарищу Анискину, что не писали жалобу в райком, вы унизили только себя… Да, да, уважаемая Вера Ивановна. Ваши частые ссоры с Павлом тем и объясняются, что вы потеряли правду взаимоотношений. Павел, — обратилась она к шоферу, — скажите, Павел, из-за чего вы вчера поссорились?
— Два рубля, — смущенно улыбнувшись, ответил Павел, — два рубля… Я вчера в большой рейс шел, так ведь надо пожевать два раза в районе… А она деньги не дала…
Он сказал просто и тихо, горько и печально, помигал при этом рыжими ресницами и затих так покорно, что после его слов участковый ожидал тишины или негромкого ответа Анны Борисовны, но не дождался — пулеметом простучали каблуки туфель, послышалось тяжелое дыхание, и после мышиного писка Вера Косая начала сразу с крика.
— Притворный растратчик! — завопила она, подбочениваясь и ненавистно поблескивая глазами. — Пожрать ему надо в районе… Ну и жри, никто тебе не мешат, только ты жри как человек, а не как буржуйский миллионер!
Вера на ходу остановилась, убрав руки ото рта, втянула голову в плечи и так посмотрела на Павла, точно у окна сидел не он, а страховидное чудовище.
— Анна Борисовна, Анна Борисовна! — еще сильнее завопила она. — Он ведь в районе-то… Нет ему на обед кашу брать или там лапшу с молоком, а ведь он берет, Анна Борисовна… Он берет гуляш за тридцать семь копеек!
Электричество еще на колхозной станции не дали, дождь шел по-прежнему мелкий, но частый, и от этого в комнате было серо, и в приглушенном свете Анна Борисовна казалась красивой — затушевались мужские морщины у губ, разровнялась кожа лица, холодноватые глаза, углубившись от теней, потеплели. Она очень походила на тех женщин, которых показывали в кино председателями, агрономами и зоотехниками. «Надо, надо ее в предсельсоветы», — подумал участковый.
— Ах, Вера, — укоризненно сказала Анна Борисовна, — вы поражаете душевной неграмотностью и, простите, скаредностью, которая несвойственна советским людям… Если бы вы больше читали и развивали ум, то вы бы знали легкомысленное, но точное выражение… — Она застенчиво улыбнулась. — Путь к сердцу мужчины, как говорят, лежит через желудок…
— Во-во-во! — обрадовался участковый. — Во!
Неожиданно для всех и даже для самого себя Анискин вдруг поднялся, пошел вдоль доски, делящей комнату, зачем-то потрогал ее толстыми пальцами и покачал головой. Глаза у него сделались любопытными, как у сороки, когда она видит блестящий предмет.
— Ах-ах-ах! — закудахтал участковый. — Ах-ах-ах, простите, Анна Борисовна, что опять в разговор встреваю, но вы им про то скажите, чтобы не смели разводиться… Вы им про это скажите!
— Разводиться?! — Анна Борисовна вытаращила глаза и посмотрела на Анискина, как на сумасшедшего. Потом она в первый раз в жизни при участковом растерялась. — Никто и не помышляет о том, чтобы Павел с Верой развелись! — воскликнула она, опуская руки и ссутуливаясь. — Зачем же тогда мы с вами, товарищ Анискин, зачем общественность!.. Нет, развода не будет… Нет и еще раз нет!
Анна Борисовна села на лучшую в доме табуретку, замолчала, гневно глядя на Анискина, который все еще держал руки на доске, и губы у него были сложены так, словно он хотел засвистеть. Потом участковый выпрямился, руки заложил за спину и радостными, отцовскими, полными счастья глазами соединил во взгляде Павла и Веру.
— Ну, спасибо вам, Анна Борисовна! — ликующе сказал Анискин. — Сам бы я по дурости ничего бы не произвел, а вот вы их уговорили не расходиться! Спасибо вам, большое спасибо!.. Павла и Вера? — вдруг громко спросил он. — Значит, жалоба закрытая, значит, не будете разводиться?…
— Нет! — без паузы, криком ответила Вера и убрала кулачок ото рта. — Нет, пущай ответит за ушибы четвертой степени… Пущай ответит перед всем народом…
В комнате стало так тихо, как зимой на кладбище, и в этой тишине участковый хлебосольно развел руками перед носом Анны Борисовны. Она ничего не ответила, и тогда Анискин повернул ухо к дверям, так как на крыльце постукивало и шуршало, разговаривало и сердилось — какой-то очень злой человек сбивал с ног грязь и ругался. Так вести себя на чужом крыльце мог только один человек в деревне — участковый широко ухмыльнулся, еще раз хлебосольно развел руками и весело проговорил:
— Это никак продавщица Дуська меня ищет…
Так и оказалось — в двери не постучали, а сердито грохнули кулаками, дверь не отворилась, а с грохотом распахнулась, и, шурша плащом «болонья», дыша дождем и одеколоном «Ландыш», в комнату ворвалась продавщица сельповского магазина Дуська Пронина. Влетев в комнату, Дуська хотела поздороваться, но, увидев Веру Косую, остолбенела. Сначала Дуська вполголоса пробормотала: «Подумаешь, красавица!» — потом презрительно фыркнула и рассмеялась нахальным смешком.
— Ах ты, холера, Верка! — сказала Дуська. — Говорила, что синтетическу кофту берешь для подруги, а, оказывается, сама ее носишь…
Дуська отступила на шаг, положила руки на бедро, отчего они локтями поднялись чуть ли не выше плеч, побыла в неподвижности секунду и вдруг рванулась к Вере. Она схватила пальцами ее синюю плиссированную юбку, потянула на себя и закричала густым голосом:
— Так вот где плиссирована юбка, которую ты брала будто бы для учительницы Нины Яковлевны, когда она была в отпуску… А бусы-то, бусы! — Дуська со страхом в глазах показала на янтарные бусы. — А бусы-то, бусы!.. Ты ведь говорила, что их для кого берешь… — Продавщица резко повернулась к участковому и шепотом закончила: — Она ведь сказала, что для твоей жены, Анискин, берет бусы, как Глафира находится в тяжести и сама в магазин прийти не может…
Дуська от возмущения широко открыла рот, хотела еще что-то выкрикнуть, но не смогла — такая она была характерная и горячая, что слова у нее в горле стали колом.
— Ишь! — произнесла Дуська то, что было полегче. — Ишь!
— Это еще не все, Евдокея, — сказал участковый. — Она, Косая-то, ведь на тебя жалобу писала в райком, что торгуешь из-под прилавка… Я два месяца узнать не мог, кто это на тебя напраслину возводит, а теперь знаю…
Дуська беззвучно осела на табуретку, на которой раньше сидел участковый. Лишний воздух она выдохнула, и вместе с ним из груди вырвался тяжелый вздох. Серые и ясные глаза женщины потускнели, под табуреткой боты перестали блестеть — такой сделалась продавщица Дуська, какой ее пять минут назад представить было нельзя.
— Эх, Верка, Верка! — сказала Дуська. — Меня ведь за твое письмо чуть с работы не скинули… Эх, Верка, Верка!.. По этой жалобе мне ревизию делали, и я те сто сорок рублей, которые ты мне должна, внесла… Я кофту и бежево шерстяное платье к пароходу вынесла и продала… Бежево-то платье у меня самое любимое было…
— Теперь ты ответь, Евдокея, — после паузы сказал участковый, — как сто сорок рублей образовались?
— А так, что Верка стонет и плачет, — ответила Дуська. — И синтетическу кофту и вот эти туфли, что на ней, она выплакала для детдомовских подруг… Говорит, денег нет, дай, говорит, Дуська в долг, как мы в детдоме выросли сиротами, нас пожалеть надо. — Она горько вздохнула. — Как я могла обман понять, если Верка в клуб ходит хуже всех в деревне одетая!
Опустив голову, страдальчески морщился Павел Косой, неприязненно улыбалась Анна Борисовна, держала кулачок у рта Вера Косая; шел за окнами такой нудный и холодный дождь, какой бывает только осенью, когда пустеют скошенные поля, скрипят на шестах скворечники, по Оби и озерам плывут желтые, вялые от влаги листья, и на черных от воды проводах сидят посиневшие скворцы. Морочно, холодно, неуютно.
— Ты свободная, Евдокея, — негромко сказал участковый и во второй раз прислушался к звукам, что опять раздавались на крыльце, — приглушенный шарк, негромкий стук, робкое покашливание. — Ты свободная, Евдокея…
Печальная Дуська подошла к двери, медленно открыла ее и приостановилась — за порогом стояла женщина в мокром платке. Дуська вполголоса поздоровалась с ней, обошла женщину и исчезла, так и не сказав ни слова.
Женщина сделала шаг вперед, но что-то держало ее у порога дома, и она не решалась переступить квадратный брус.
— Ты звал, Федор, так я пришла, — стоя в сенях, приглушенно сказала женщина. — Вот я пришла, если ты звал, кум…
— Семеновна! — возмущенно крикнула Анна Борисовна и притопнула мягкой тапочкой по полу. — Семеновна, почему вы стоите в дверях? Немедленно проходите, Семеновна…
Женщина прошла в дом, несколькими робкими шагами миновала порог и домотканый пыльный половичок, поискав глазами табуретку, тоненько вздохнула.
— Садитесь, Семеновна! — дрожащим от возмущения голосом вскрикнула Анна Борисовна. — Садитесь сюда — вы в доме приемной дочери…
— Вот на стульчик, вот на стульчик, мамаша… — вдруг всполошилась Вера Косая.
Она подала Семеновне старый венский стул, старательно стряхнула с сиденья пыль и отошла в сторону, чтобы притулиться к стенке и поднести кулачок ко рту. Глаза у Веры блестели, нос вспотел.
— Вот села, вот сижу… — проговорила Семеновна и большими, вдумчивыми глазами посмотрела на Анну Борисовну. — Это ты ладно говоришь, Анна, правильно говоришь… Трое их, однолеток-то, было в детдоме — Вера, Надежда, Любовь. Их на какой-то станции подобрали.
Семеновна перевела дыхание, распустив шаль на груди, выпростала руки, положила их на колени и опять тоненько вздохнула. На улице раздавались приглушенные двойными рамами звуки.
— Коров гонят… — сказала Семеновна, но с места не стронулась, а только опустила веки и продолжала: — От Валерия уже с фронта сообщений не было — пропал без вести, а я почтальоном работала, хоть и восемь классов кончила… Надежды, что Валерий жив, тоже мало было, а любовь, что любовь была, когда месяц… Глупа была, берегла себя, вот и… Вот и взяла из детдома Веру…
Звуки стада затихали: из-за нудного дождя Сидор и Колька коров гнали быстро, торопясь в тепло и сушь, кричали на коров зло и раздраженно, бич в отдалении хлопал почти беспрерывно. Прислушиваясь, Семеновна подняла голову, опять спрятала руки под мокрой шалью.
— Манька-то привычная, — сказала она. — Сама в стойку дойдет…
— Я ничего не понимаю, Семеновна, — шепотом сказала Анна Борисовна. — Я ничего, ничего не понимаю…
Секретарь сельсовета медленно поднялась, помахивая ресницами, словно под них попала соринка, пошла к Семеновне, но Павел Косой опередил ее — с размаху ударил ладонью по столу, вскочив, притопнул тяжелыми сапогами.
— Ты говори правду, мамаша, чего ты ее бережешь, ты правду говори, мамаша! — вскрикнул он.
В горячке Павел бросился к Семеновне, забывшись, уронил доску, что перегораживала комнату, остановившись, собрался закричать еще, но участковый вдруг властно остановил его. Преградив одной рукой путь Павла, Анискин второй рукой повел в сторону Семеновны, улыбнулся и сказал:
— Ты, кума, все же к Маньке иди… Мало что привычная. На улице такая дождина, что и корова может перепутаться…
Когда Семеновна встала и ушла, когда ее все облегчавшиеся шаги простучали по сенкам и затихли на улице, когда в доме опять сделалось тихо, участковый махнул рукой.
— А теперь, Павла, — сказал он, — ты для Анны Борисовны скажи правду…
Но произошло странное: Павел снова несильно рванулся к Анне Борисовне, решительно мотнул головой, но потом внезапно попятился и сел на прежнее место. Как и раньше, он жалобно скривил лицо и помигал рыжими ресницами. Затем Павел, не выдержав взглядов участкового и Анны Борисовны, отвернулся к окну.
— Молодца! — сказал участковый. — Молодца, Павла… Так что ты себе молчи, я и сам скажу правду Анне Борисовне! — Он подошел к ней вплотную и наклонился. — Вера сказала про Семеновну, будто она потому ее из детдома брала, что за огород боялась… — Участковый жестко улыбнулся. — Семеновна, ее Валентиной звать, с погибшим на фронте Валерием всего за месяц до войны ознакомилась и ничего такого с ним не имела, даже не расписались они. Вот гражданка Косая и говорит, что ее Валентина для того взяла, чтобы огород больше иметь… — Участковый сделал большую паузу и почти шепотом сказал: — Ты не смотри, Анна Борисовна, что Валентина на вид такая старая — ей всего сорок девять…
— Ц-ц-ц! — по-анискински поцыкала Анна Борисовна и так повела плечами, точно в комнате был большой мороз. — Ц-ц-ц!
— Вот оно и есть: «Ц-ц-ц!» — сухо сказал Анискин и погрозил пальцем притихшей Вере. — Вот ты теперь, гражданка Косая, стой на своем месте, молчи как проклятая и слушай, что буду говорить… Я сейчас буду длинное слово говорить.
4
Прежде чем произнести длинную речь, участковый Анискин окончательно перешагнул через доску на половину Павла, сел на его место и положил обе руки на стол, в одной из них, чудом появившись, была та бумажка, что исписана цифрами. Посидев секунду в неподвижности, отдышавшись от резких движений, он развернул бумажку, проговорил:
— Вы пока все тут ругались да ссорились, я все за гражданкой Косой доглядывал. Я насквозь и глубже в нее смотрел, так что теперь всеохватно знаю — никакой такой любви у нее к Павлу нету… — Он презрительно усмехнулся. — Какая это может быть любовь, если она на Павлу так глядит, как на врага лютого… Это я для вас, Анна Борисовна, болтаю, — словоохотливо объяснил участковый. — Вдруг вы на любовь нажимать начнете…
— Ах! — ответила Анна Борисовна. — Ах, я уж ничего не говорю…
— Вот и правильно! — жестко усмехнулся Анискин. — Чего гражданку Косую жалеть, когда мне фельдшер Яков Кириллович растолковал, что ушиб четвертой степени есть самый легкий ушиб! А во-вторых сказать, как так получилось, что у нее на руке синяк?… Ну-к, Павла, отвечай! Не молчи, не береги ее от стыда, раз она такая злыдень! — прикрикнул участковый.
— Она хотела в меня кринку… Рукой об стол…
— Ух! — ненавистно сказал Анискин. — Ух!.. Я бы этой кринкой ей обратно, обратно! — задохнувшись от гнева, участковый губы выпятил так, точно целовался с далекими родственниками, оглушительно прокашлялся и медленными движениями развернул бумагу с цифрами. — Ну вот, я эти цифры-мифры в конторе взял, так что они правильные…
Участковый подумал-подумал и все-таки полез в специальный кармашек на брюках — за очками. Свой почерк он, конечно, разбирал и без них, но цифры и числа стояли на бумаге очень густо. Вот он и достал очки, приставил их к кончику носа и весь переменился — со своим пухлым лицом и недовольно оттопыренными губами походил теперь участковый на директора маслозавода Черкашина, который очки носил постоянно, был так же толст, как Анискин, и всей деревне надоел тем, что без бумажки с людьми не разговаривал.
— Ну, так! — нудным голосом произнес участковый. — Поженились вы, Павла, в шестьдесятом году… За этот год ты, Павла, заработал, переводя все на деньги, тысячу восемьсот тридцать пять рублей шесть копеек… — Участковый поднял голову от бумажки. — Это она еще тебе житье давала, Павла… Дальше! В одна тысяча шестьдесят втором году ты, Павла, заработал меньше — тысячу семьсот сорок рублей, хрен копеек… Это она тебя уже прищучивать начала! — Анискин громко фыркнул. — Ну, а за шестьдесят вторым годом пошла уж совсем неоптимистичная картина, как говорит председатель Иван Иванович… Ты, Павла, в прошлом году заработал всего тысячу триста рублей, на пятьсот тридцать меньше, чем в шестьдесят втором… Это что же получается? — спросил участковый и придыхнул. — А?! Это как так получается, что ты, шофер при трехтонке, как она сама пишет в жалобе, в месяц зарабатываешь меньше, чем доярка, или, еще хуже сказать, неграмотный мужик… Это как так получается, а?
Участковый слоном повернулся к Вере и оглушительно постучал по столу костяшками пальцев.
— Вот как ты ответишь, Косая, почему Павла зарабатывает с каждым годом меньше, а другой народ после постановлений партии и правительства каждый год все больше и больше… А? Я тебя спрашиваю, Косая, а?!
Вера не отвечала, и участковый тоже помолчал.
— Вот как тихо стало, — после паузы с улыбкой заметил он. — В этом доме сроду, наверное, так тихо не бывало — крик да руготня…
Помолчав еще немного, участковый рачьими глазами покосился на Анну Борисовну.
— Нас, милиционеров, как учат в райотделе? — сказал он. — А вот так: «Помоги сохранить семью!..» Вот я два года и старался сохранить семью! Ну чего я только не делал, Анна Борисовна, чтобы эту Верку утихомирить… И уговаривал ее, и кричал, и пугал, и упрашивал, чтобы мальчишонку родила… Все напрасно. Ведь так, гражданка Казанская? — вдруг свирепо спросил он Веру. — Так я говорю, гражданка Казанская?…
Вера по-прежнему не отвечала — сжав губы, она смотрела в окно.
— Ее фамилия в девках была Казанская, — пояснил Анискин, — как их всех троих, то есть Веру, Надежду и Любовь, нашли на Казанском вокзале… Надежда теперь врачом в Томске, Люба замужем за Венькой Моховым и работает ударно дояркой… Да, да, работает ударно дояркой… Да-а-а!
Неожиданно для всех участковый быстро встал, застегнул три пуговицы на вороте распахнутой рубахи и валко пошел к дверям с таким видом, точно хотел безостановочно выйти в сени. Однако по привычке уходить из дому не сразу Анискин у дверей остановился и через спину сказал:
— Я их, Анна Борисовна, больше уговаривать не могу… Вы их теперь не расходиться уговаривайте — я вас на то и пригласил.
После этих слов участковый улыбнулся и стал спиной слушать, как Анна Борисовна прошлась по комнате, как стукотнул сапогами Павел и что-то шепотом проговорила Вера. Терпеливый, как кошка возле мышиной норы, участковый дождался все-таки, что Анна Борисовна тихо ответила:
— Я не знаю, Федор Иванович… Понимаете ли…
Она не договорила — загремели тяжелые сапоги, раздался шлепоток ладони о стол, все в доме затряслось и заскрипело. Потом раздался треск дерева, удар фанерной крышки и — не тяжелые, а облегченные шаги. Это Павел Косой схватил с пола фанерный чемодан, сорвал с гвоздей плащ, полушубок и простенький пиджак.
— Дядя Анискин, — загустевшим басом сказал он, — дядя Анискин, я ухожу… Восемь раз не мог, а теперь ухожу… Я хоть на улице ночевать буду, а ухожу…
Они теперь стояли так: Анискин стодвадцатикилограммовым телом закрыл широкую дверь, Павел с чемоданом в руках и вещами под мышкой другой руки стоял перед ним, за Павлом располагалась побледневшая от волнения Анна Борисовна, а в углу своей половины молчала Косая, медленно относящая ото рта кулак. Круглое тело женщины было до предела напряжено, ноги она держала расставленными, как бы собираясь сделать шаг вперед.
— Вона что, — задумчиво сказала Вера. — Сам бы он не ушел… А? — Она прошептала: — Ну, Анискин, Советская власть меня воспитала, Советская власть и на тебя управу найдет, что от меня мужа уводишь… Я вот на «Пролетарий» да в обком партии: заступитесь за детдомовскую сироту! — Вера мстительно улыбнулась. — Я, Анискин, тебя партийного билета лишу…
— Как лишишь? — испуганным голосом сразу же закричал Анискин, панически прижимая руки к груди. — Как ты меня, гражданка Казанская, партии лишишь, если Павел сам от тебя уходит!.. Анна Борисовна, Павла, подтвердите, ради Христа, что Павел сам, сам, сам…
— Я сам ухожу! — испуганно ответил Павел. — Сам, сам…
— Ах-ах-ах! — закудахтал участковый и стал торопливо выбираться из дома. — Ах-ах-ах!
Кудахтая и по-петушиному хлопая себя руками по бокам, участковый выбрался на улицу; надев на ходу зеленый армейский плащ, пошел так, чтобы Павел с чемоданом и Анна Борисовна могли догнать его. Это произошло возле дома деда Крылова. Здесь Анискин остановился совсем, неторопливо порылся под широким плащом и вынул из кармана большой амбарный ключ.
— Зачем ночевать где попадя! — сухо сказал участковый. — Ты, Павла, вали в мою кабинету… Там, правда, тараканов страсть сколь, но я большую надежду держу на то, что они, Павла, от твоего духа окочурятся!.. — Он позволил себе улыбнуться. — От тебя ведь, Павла, бензином вонят, как от керосиновой лавки… Так что ты ключ-то возьми, хоть кабинета и не запирается, да вали, вали себе, Павла, спать! Вали, вали, нам с Анной Борисовной еще словечком перемолвиться надо…
Когда Павел, ссутулившись и прикрывая рукой от дождя плащ, шубу и пиджак, скрылся в серости и мороке, участковый и Анна Борисовна пошли тоже. Из-за матерчатых сверху тапочек секретарь сельсовета двигалась по грязи осторожно, обходя лужи и придерживаясь руками за стойки плетней. Дождевые капли по ее тонкому плащу били звонко, весело, как маленькие шарики града.
— Дождишко-то, дождишко, — пробормотал участковый.
Оби за серой пеленой видно не было, березы на кладбище просматривались еле-еле, а кедрачи за крайними домами деревни казались густо-синими; грязь под ногами чавкала жадно и тоскливо, мычали коровы, в воздухе плавали запахи горького дыма, парного молока и бензина, который остался от машины, тяжело прошедшей к сельповскому магазину.
— Ты очень хорошая женщина, Анна Борисовна, — замедляя шаги, сказал участковый, — но тебе надо быть к народу добрее… Ну как ты могла пожелать, чтобы Павел жил с Верой? Он же с ней окончательно сгинет… — Он секундочку помолчал. — Тебе и то надо учесть, Анна Борисовна, что ты вот в деревне третий год живешь, а про то не знала, что Валентину Семеновну Верка из своего дома выгнала, хотя дом не ее, а колхозный, выданный ей как детдомовской сироте…
Тут участковый остановился совсем, сбросил с головы капюшон, и мелкие капли мягко зацокали по его седым, но густым волосам. Огромный, почти двухметрового роста, в зеленом армейском плаще, походил сейчас Анискин из отдаления на приземистую ель. Морочно было, серо на улице, но все равно Анна Борисовна увидела, как участковый улыбнулся крепкими белыми зубами.
— Ты, Анна Борисовна, — сказал он, — как вступишь в партию да как тебя выберут председателем сельсовета, лучше к народу приглядывайся… Нам, которые с людями работают, без этого нельзя, Анна Борисовна…
Шел дождь, клубились низкие тучи, непролазная грязь лежала на глинистых улицах деревни, но в шелесте дождя все-таки слышалось, как на Оби пыхтит невидимый буксир — волок баржи до Томи, до областного города Томска…
Кто уезжает, а кто остается…
1
По причине одышки, гипертонии и еще чего-то деревенский участковый уполномоченный Анискин водку пил один раз в год, на Девятое мая.
В этот день так было заведено, что милицейская жена Глафира поднималась на час раньше будничного, стараясь не греметь печными заслонками, чашками и поварешками, готовила большую еду: суп с потрохами и суп куриный, холодец из свиных ножек, баранье стегно и густой клюквенный кисель; холодец и кисель были приготовлены загодя, и милицейская жена успевала к шести часам накрыть стол.
Когда все было готово, Глафира вздыхала, пристегивала к никчемным бедрышкам праздничный цветастый фартук и садилась на табуретку возле печки. Глафира была черна и худа, на шее и руках вилюжились синие вены, но черные раскосые глаза смотрели на мир улаженно, сидела она терпеливо, вдумчиво — двигались только пальцы левой руки, которой она то расплетала, то заплетала косичку.
После шести часов в горенке раздавалось сопение, кашель и легкий стук; потом начинали ныть половицы и шуршать твердая материя, затем в горенке трещала цепочка часов-ходиков, трижды оглушительно кашляли и наступала тишина, выжидательная, готовящаяся. И уж потом раздавался веселый звон, хруст подметок и свист солдатского сукна.
Из горенки выходил участковый уполномоченный Анискин. Толстый, багроволицый, он был, как в броню, закован в парадную армейскую форму. Блестели покрытые целлофановой пленкой погоны старшего сержанта, сверкали лаком сапоги, радужно ударяли в глаза ленты орденов и медалей. Медлительный и громоздкий, тяжело дышащий и посапывающий, в этот миг Анискин был легок, двигался с офицерской изящностью, ноги ставил чеканно — пятки вместе, носки врозь.
— Ну, ну! — приветствовал он жену.
— Доброе утро!
Повертываясь на каблуках, прищелкивая ими, участковый осматривал стол, сводил брови на переносице, отрывисто кашлял.
— Водка?
— Купила.
— Квас?
— Четверть.
Опять бренча орденами и медалями, скрипя, Анискин для чего-то обходил кухню кругом — может быть, разминался, садился на гнутый венский стул и вытаращивал по-рачьи глаза.
— А!
Немного подумав и посидев секундочку, Глафира поднималась, двигаясь бесшумно, как летучая мышь в темном сарае, открывала настежь оба кухонных окна. Розовый отблеск падал на ее цветастый передник, черные волосы матово блестели.
— А! — опять выдыхал Анискин.
После этого наступала такая тишина, что ею можно было затыкать уши, — Глафира то смотрела на мужа, то на стол, то за окно, где уже высоко висело над Обью солнце, такое чистое и ясное, словно всю ночь купалось в реке. Задувал под занавески щекочущий майский ветер, проклевывались на черемухе почки — совсем еще наивно проклевывались.
— Календарь? — тонко шептал Анискин. — А!
Когда Глафира, снова выждав секундочку и как бы летуче, срывала с календаря листок и показывалась красная толстая цифра, Анискин передыхал, ставил глаза на место.
— В семь часов соберешь ребятишек и уведешь вторым ходом. Кеторы поменьше — к сестре, остатние — пусть у школы играют… Поняла?
— Но!
Анискин последним — настырным и длинным — взором оглядывал стол, перебирал тарелку за тарелкой, кусок за куском, шевелил губами, точно считая, потом поднимался и говорил:
— Ладно? Тащи водку и квас да беги за Лукой…
А когда жена ставила на стол водку и накидывала на плечи платок, чтобы бежать за Лукой, участковый бросал на нее короткий взгляд.
— Ну!
— С праздником, Анискин!
— Спасибо, спасибо!
Глафира смотрела на него снизу вверх, он непонятно морщил губы.
— Пускать тебя на службу или не пускать? — после длинной паузы спрашивала жена.
— Пускать!
— В форме или без формы?
— Сама гляди…
2
Весной тысяча девятьсот шестьдесят… года Анискин своим привычкам не изменил: все произошло так же, как происходило раньше, разве только весна на этот раз выдалась необычно теплой и спорой. Около семи часов утра, когда Глафира вернулась домой с Лукой Семеновым, солнце уже висело над деревней, желтое, как подсолнух, река Обь от него тоже была желта и потому молода для глаза, и хоть долго еще было до листвы, от черемух наносило молодым отчаянным запахом.
— Здоров, Анискин, здоров, Федор Иванович! — входя сказал Лука Семенов. — С дорогим праздничком тебя!
— Здорово, здорово, дорогой! И тебя с праздничком!
Был Лука Семенов стародавним дружком Анискина; из-за раненой ноги и простреленных легких он работал в колхозе пчеловодом, но лицо имел не пасечное, и никакого умиротворения не было в нем, никаким покоем черты Луки не дышали. Наоборот, он отпустил мушкетерские злые усики, подбородок носил с загогулиной, нос крючковатый, острый. Хромал Лука так весело, точно кого-то передразнивал, и всегда, а не только в праздник, как Анискин, носил солдатскую гимнастерку, перехваченную широким солдатским ремнем.
— Ждешь, Анискин, старый черт! — весело продолжал Лука. — Слюну уж пускаешь, варнак, глядя на благодать-то! Пузо-то, пузо-то отрастил — это ведь страсть! А ты что меня глазищами-то стрижешь, Глафира свет Андреевна, что смотришь как на чужого? Вон тебя как Федор-то иссушил! Говорил же — выходь за меня. Я человек легкий, веселый, тощий… Прогадала, прогадала, Глафира свет Андреевна!
Смеялся, балагурил, сверкал зубами стародавний анискинский дружок, но участковый и сам понять не мог, как и почему казалось, что не из собственного дома пришел Лука Семенов, а пришагал с передовой, где его только что чокнула в ногу пуля, но он сгоряча еще не чувствовал боли.
— Садись, садись! — сказал Анискин. — Всегда за тобой ходить надо!
— Сажусь, сажусь!
Посмеиваясь и гримасничая, Лука сел напротив Анискина, одним глазом подмигнул Глафире, другим — участковому, скособочив рот, потер руку об руку.
— Эх, Федор, Федор, время идет, Обишка все себе мельче становится, а ты все зубом нацыкиваешь. Хоть бы что другое придумал, черт ты этакий!
На черное от раннего загара лицо Луки ложились желтые солнечные блики, сушили его иссеченные ветром губы, глаза отливали кошачьей желтизной; весь-весь — от хромой ноги до лихого чубчика на лбу — был он приятен, радостен Анискину. Вспомнилась песня «Бьется в тесной печурке огонь…», на лицо и впрямь повеяло блиндажным теплом, тихонечко пропела хрипловатая гармонь, лязгнули буфера вагона, на правом берегу то ли Волги, то ли Немана, жуткий в одиночестве, дремал огонек…
— Наливай, Глафира, — тихо сказал Анискин. — Да смотри, в тонки стаканы.
Четыре стакана имелось на столе. Один из них, что стоял перед пустой табуреткой, отливал зеленым бутылочным стеклом, был неровен по краю, так как дружок Анискина и Луки Серафим Голдобин был мастером на все руки — вот и обрезал он в сорок втором году водочный стакан от пузатой немецкой бутылки. И каждый год девятого мая Глафира вынимала из буфета голдобинский стакан. Сейчас она налила в него водку, потом налила и в три других стакана.
— Ну, Серафим, — тихо сказал Анискин, — выпьем, Серафим!
Прямой, как на смотру, сидел участковый, во все стороны кособочился и вихлялся смешливо Лука, безмятежно молчала Глафира — над полными стаканами, над полным едой столом, обочь календаря с красным числом. Потом Анискин дернул нижней губой, звучно цыкнул зубом и начал медленно подниматься; вставал слон слоном, так надавливая на половицы, что скрипели, а посуда на столе мелко подрагивала. Ну, равным с русской печью, что в ширину, что в высоту, был участковый Анискин и в этой своей величественности четким офицерским движением поднес стакан к губам.
— За победу!
Два человека в деревне — Глафира и Лука — только и могли видеть, как пил водку участковый, только они могли видеть, как исчезали простоватость и добродушие, лениво-небрежные движения, как обычно расплывшееся, помидорно-красное лицо твердело. На одну цель, на единственное был нацелен Анискин.
— Закусывайте, товарищи! — сказал он. — Сало, селедка, огурцы…
Прямой, прямыми руками с прямыми пальцами Анискин поддел на вилку гриб, небрежно поднес ко рту, непонятно усмехнулся: что-то единственное видел он в грибе-рыжике, что-то свое подумал о нем. Незнаком, чужд был Анискин, и Глафира смотрела на него исподтишка, изучающе, словно он не сидел в кухоньке с шести часов утра, а только что пришел в нее из непонятности.
Потом Глафира перевела глаза на Луку Семенова и в нем увидела то же самое. «Мужики, они такие, они все про свое!» — подумала Глафира.
— Наливай по второй!
Далекие, чужеродные, словно на самом деле иноземцы, сидели за столом Анискин и Лука, недеревенскими движениями, отставив мизинцы, подняли стаканы с водкой, но по-свойски прищурились, по-непонятному похолодели глазами. «Ничего, после второй отойдут!» — подумала Глафира.
— За Кенигсберг, Лука!
— За Кенигсберг!
В Кенигсберге, в Кенигсберге были они — лежали на берегу закованной в гранит воды, прижимались щеками к холодной, гулкой шероховатости; немецкий граммофонный голос, треск автомата; шпили, буквы с обратными палочками, небо среди домов с овчинку…
— Я его за горло схватил, а у него кадык небритый, — сказал Анискин, приподнимая левую бровь. — Они бриться не успевали…
Лука достал из кармана белесых галифе коробку «Казбека», вынув папиросу, постучал ею о крышку; прикурил он неуловимо точным движением, папиросу перекатил из угла в угол рта.
— Он тогда здорово вскричал, — сказал Лука. — Как я услыхал, так чеку из «лимонки» долой! Ну, думаю…
— Наливай, Глафира, по третьей! — резко сказал Анискин.
Третий стакан они пили долго, так долго, что казалось, вечность висят стаканы над столом, вечность головы Анискина и Луки закинуты. Потом они враз поставили стаканы — Лука мягко опустил, Анискин пристукнул.
— Девятого мая вокруг меня все — гуляй! — вдруг трубно сказал он и пошатнулся. — Девятого мая вокруг меня — пой и пляши!
Участковый встал, скрипя половицами, подошел к окну, шальным движением рук раздвинул ситцевые занавески и уперся в оконный косяк. Опять было тихо, опять по кухне струился щекочущий майский ветерок, замешенный на молодом черемуховом запахе.
— Ну! — негромко проговорил Анискин и обернулся. — Ну!
Третий человек глядел на Луку и Глафиру — у этого Анискина были шальные, отрешенные глаза, стремительные движения, маленький, туго сжатый рот. Секунду он смотрел на жену и друга, затем широко открыл рот и пропел:
Расцвела сирень-черемуха в саду…Дальше Анискин песню не знал, сердито выпучив глаза, замер, но вспомнить не успел, так как Глафира плавно поднялась, набрав полную грудь воздуха, деловито открыла рот и оглушительно вскрикнула:
На мое несчастье, на мою беду Я в саду хожу, хожу, на цветы гляжу, гляжуСтарательно и истово, работяще встряхивая головой, Глафира пропела куплет до конца, опять набрала воздуха в грудь, чтобы начать второй, но Лука опередил ее:
Только я к цветку притронулся рукой…— Эх, гуляй, — ошалело закричал Анискин.
Они допели песню до конца, потом Глафира начала «Землянку», за ней спели «Каким ты был, таким ты и остался», «На рейде ночном легла тишина» и «Что ты, Вася, приуныл…». Когда же кончили, Глафира тихонько поднялась, молча и бесшумно скрылась в горнице. Лука и Анискин ее исчезновения не заметили, так как в воздухе все еще висел веселый мотив, еще подрагивала в ногах песня.
— Эх, Лука…
Через окошко участковый видел старый, голый еще осокорь, закопченную баню, оловянную от солнца реку и женщину, что несла на коромысле воду; все это подрагивало и расплывалось, словно в мареве, казалось маленьким и незначительным. И только Обь вздымалась, разлившись, захватывала у неба и земли все, что могла занять.
— Эх, Лука, Лука! — повторил Анискин.
Он повернулся к Семенову, разлепив веки, низко склонил голову. Снова медленным стал Анискин, но глаза поблескивали, губы влажно краснели; казалось, что в зрачках все еще отражается зеленая обская вода, пошевеливает листочками старый осокорь. Долго-долго молчал участковый, потом тихо сказал:
— Мне на тебя, Лука, глядеть — зависть берет! Ходишь по деревне веселый, все тебя по спине гладят, все тебе по сердцу. Ты так за сто лет заживешь, Лука, хоть грудь стреляна и нога косая. Вот с чего ты такой образовался? — Анискин спрашивал, требовательно вздергивал губой, но голос его звучал так, что отвечать не надо было: сам с собой разговаривал участковый. Вот тупым шагом прошел по комнате, тоскливо задрал на лоб левую бровь, посверкивая глазами, стал смотреть на календарь с красным числом.
— Вот как ты такой образовался, Лука? — медленно повторил он. — Как это так получается, что войне двадцать два года назад конец пришел, а как девятое мая да как ты за стол сядешь, то я себя ровно бы опять под гимнастеркой чувствую… Или в тебе что такое есть, Лука, или я такой человек, что нет мне на земле тепла-покоя? Вот отчего так получается, что ты сейчас от водки веселый, а я нет?
— А оттого, что ты дурной, Федор, — захохотав, ответил Лука. — Ты такой дурной, что не приведи господи! А отчего это так получается, я тебе рассказать могу…
— Расскажи, расскажи…
Опять весело засмеялся Лука Семенов — собрал на лбу морщины гармошкой, сверкнул металлическим зубом, руки сложил на груди под зазвеневшими медалями. Действительно, был он весел, как мальчишка на каникулах, хохотал звонко и просторно, сидел за столом легко, словно невесомо. И голос у Луки был приятный.
— Эх, Феденька, Феденька, голуба-душа! — сказал он. — Это верно, что ты вот сейчас скучный, а все оттого, что себе цену не знаешь. Это, как говорится, во-первых; а во-вторых, ты от своей доброты и ласковости страдаешь. Ты вот ребят Паньковых от тюрьмы увел, ты вот Панну Волошину за самогонку не штрафанул… Да что говорить, добрей тебя человека я не встречал.
— Врешь! — хрипло сказал Анискин и дробно постучал пальцами по столу. — Все ты врешь, Лука! А с Генкой Пальцевым…
— Вру? Нет, не вру… Ты вот сидишь бык быком, глаза на меня пучишь, а никто тебя не боится — через все видать, что ты добрый, что ты страх только для вида напускаешь… Ну, а с Генкой Пальцевым… Взять-то ты его взял, а переживал сколько? Конечно, ты преступника не упустишь, но ты после этого болеешь…
Продолжая посмеиваться, Лука деликатными движениями отрезал от стегна жирный, дожелта зажаренный кусок мяса, впился в него зубами, исподлобья глядя на Анискина, который тихонечно покачивался на табуретке и смотрел в даль далекую, в непонятность; что-то видел он там, что-то понимал, наглядевшись же, заворочался на месте, крестом сложил руки на груди.
— Ну, говори, говори, Лука!
— Хе-хе, Федор! Вот на вид ты каменный, а на самом деле не такой. Как с тем немцем, что небритый. Воевал ты хорошо, геройски, этого у тебя никто не отнимет, но немец-то вскричал, и вся разведка чуть этим делом не накрылась. Вот ты и сидишь скучный, хотя на твоем месте надо с утра до вечера песни играть…
— Это почему?
— А потому, что ты на деревне не последний человек. Начальства, Федор, ты над собой не знаешь, при нагане, при такой власти, что разлюли-малина. Эх, веселье! Тебе бы как надо? Встал попозже, лег пораньше, поел от души, выпил от души — наслаждайся! Народу без милицейской формы не кажись, разговаривай сквозь зубы, на человека гляди мимо него. Вот как жить надо, а не смотреть на меня грустным глазом, как у стельной коровы…
— Я ж такой и есть! — багровея, выкрикнул Анискин. — Я и есть такой, как ты расписываешь…
— Такой? — Лука всплеснул руками и, откидываясь назад, захохотал еще веселее, чем прежде. — Такой? Ну, врешь, Феденька, и не морщишься! Да не такой ты, а обратный. На народ смотришь не мимо, а в глубь его, кричишь от доброты, глаза по-рачьи таращишь опять же от доброты, милицейской формой не потому пренебрегаешь, что мала она тебе, а что выделяться не хочешь…
Лука положил руку на стол, заулыбался ясным солнышком, лихо, как красной девке, подмигнул Анискину.
— А человек ты обыкновенный, хоть и милиционер, — сказал он дурашливо. — Вот ты мне отвечай на вопросы, как на духу, и я тебе еще про тебя расскажу… Будешь отвечать?
— Спрашивай, Лука.
— Осокорь видишь, Обишку, солнце… Тебе хорошо на душе?
— Хорошо!
— Комар пищит, крыльями машет — про комара думаешь?
— Думаю, Лука!
— На небе звезды, кругом ночь, луна таращится — ты сласть под сердцем чувствуешь?
— Чувствую, сильно чувствую!
— Вот ты и есть обыкновенный человек! — сказал Лука и от радости похлопал ладошкой о ладошку. — Вот тебе и вся правда, Федор!
Анискин сидел, ссутулившись, потом едва уловимо вздохнул, зашарил пальцами по домотканой скатерти, того, чего искал, не нашел и опять притих. Душная стояла тишина, но где-то смеялись ребятишки, поплескивала вода, погуживал в деревьях майский ветер; над вихрастой головой Луки растопыривались серебряные солнечные лучи, вползали в кухню, высветляя календарь с красным числом, журнальную фотографию Красной площади и написанное детским почерком расписание уроков.
— Вот чудной! — приглушенно сказал Лука. — В пол смотрит, губа скучная, глаз вялый… Эх, Федор, Федор, вот я за то двадцать два года и молчу, что ты человек шибко совестливый… Я ведь знаю, чего ты сегодня такой шальной!
Семенов встал, тоже подошел к окну, уперся лбом в стекло, точно так, как прежде Анискин, стоял он и видел то же самое — как с шелестом течет Обь в берегах, как кривится осокорь на берегу, темнеет банька. И так же долго, как Анискин, стоял Лука у окна — притихнув, затаившись.
— Тебя двадцать два года то мучает, что мы Серафима Голдобина не уберегли! — совсем тихо сказал Лука. — Ты двадцать два года себя за то казнишь, что думаешь: «Вот не послал бы я Серафима в те кустики, он бы живой остался!» Так ведь, Федор?
— Так!
— Он бы сам в те кустики пошел! — после длинной паузы сказал Лука. — Только из них-то и можно было увидеть, где они есть, танки. Что, я неправду говорю?
— Не знаю, Лука, не знаю.
Под Орлом, под Орлом теперь были Лука и Анискин. Изгибалась Ока круто, как тетива, белела церковка на сердцевинке города, горел вокзал. И уходил налево, в рощицу, Серафим Голдобин; все шел и шел, а потом не стало его — фонтаном вздыбилась земля, сверкнуло, загрохотало. Не было Серафима Голдобина! И пробивался сквозь землю на краю воронки сухой стебелек полынь-травы.
— Вот за то я молчу двадцать два года, — сказал Лука, — что ты, Федор, ничего не забываешь. Другой, он плохое забывает, а ты — нет.
Лука вернулся на место, усмехнувшись, с хрустом съел огурец. А участковый медленно поднимал голову — вот исподлобья посмотрел на своего дружка, вот улыбнулся краешками губ, вот негромко спросил:
— Ты о чем молчишь, Лука?
— А о том, что ты человек шальной! — сердито ответил Лука. — Вот ты помнишь тот день, когда мы Сосновку брали?
— Ну, помню…
Он помнил, конечно. И сожженные дома, что косо бежали по увалу, и большой сарай за околицей, возле которого, словно швейная машинка у старательного портного, ровно и длинно потрескивал станковый пулемет, и голубое облачко в небе не по-сибирски высоком и тепловатом на вид, хотя пушистый снег таял на ладони. И помнил, конечно, как два немца ходили по голубому снегу, сами голубые от чистых отблесков. Не больше пяти метров было до них, и было видно, какое ясное и молодое лицо у первого немца. И мысль свою помнил Анискин, ту мысль, что пришла в голову, когда секунда оставалась до того, как он должен был беззвучно прыгнуть на спину немцу. «У фрицев по отчеству не зовут, — подумал он тогда, — это только у нас, русских, есть отчество».
— А ту гранату ты помнишь, Федор? — глухо спросил Лука. — Ту гранату, за которую ты меня чуть не убил, помнишь?
— Помню.
Убивать Луку, конечно, за гранату Анискин не собирался, но схватил его за шиворот шинели, клацнув зубами, приблизил к себе и — шепотом, шепотом: «Под трибунал пойдешь, Семенов!» Он шептал это, а в воздухе еще висел гранатный взрыв, стоял столбом снег, а из того сарая, где стрекотал пулемет, выскакивали один за одним зеленые немцы. Не то что снять пулеметный расчет, а и ноги-то уносить Анискину и Семенову было трудно. Потому и тряс Луку Анискин, потому и шипел про трибунал, что взрыв гранаты услышали немцы.
— Твоя это была граната! — внезапно захохотав, сказал Лука. — Ты, когда на молодого немца бросился, чекой от «лимонки» за сучок задел. У тебя ведь четыре гранаты на поясе-то висели, а ты все годы считаешь, что три… И про второго немца ты правду не знаешь!
Казалось, что хмель уходит из анискинских глаз — светлели изнутри, зрачки расширялись, словно в кухне темнело.
— Ты, Федор, вспомни, — волнуясь, сказал Лука, — как ты утром на ремень ругался: «Пропадем с такой кормежкой! Опять дырку на ремне протыкать надо!» И шило у меня просил.
— Просил шило, ну так что?
— Ремень-то Васьки Кустова был, — ответил Лука. — Это уж я вечером понял, когда Васька тоже материться начал: «Какая-то сволочь дырку проколола!» А Васька всегда четыре «лимонки» носил…
Это правда была, что Васька Кустов всегда носил на ремне четыре гранаты. Он, Васька, всегда-то был мужик ворчливый и скандальный, но в тот вечер ходил по землянке особенно злой. «Мама родная! — подумал Анискин. — Мама родная! Мне ведь в поясе-то легче стало, когда я молодого немца под себя подмял!» Опять перед глазами живым голубоватым светом полыхнул молодой снег, затарахтел пулемет и метнулся вправо, весь перекосившись, Лука. Потом рывок, вздыбленная рука Луки и грохот гранатного взрыва. «Под трибунал пойдешь, Семенов!»
А Лука, выходит, сорвал с его пояса гранату, что была без чеки, и ее, гранату, бросил. Она бы взорвалась на поясе, если бы ее Лука не сорвал.
— Ты чего же молчал, Лука? — приглушенно спросил Анискин. — Ты чего же двадцать два года молчал? Ведь тебя за это дело я сам чуток… Ты почему, Лука, молчал?
— Да потому, что ты шальной человек! — ответил Лука и подмигнул участковому. — Получалось, что я тебя от смерти спас, а когда так, то ты мне вроде бы обязанный был…
Лука опять захохотал.
— А уж какая дружба, если кто кому обязанный… — И вдруг на секунду стал серьезным Лука. — А мне о тобой было хорошо дружить, Федор! Без этого я бы на фронте пропал.
«Мама родная, — думал Анискин, — мама родная!»
— А что со вторым немцем? — спросил он. — Как же ты со вторым-то немцем, когда гранату бросил?
— Стрелял я, Федор. Ты выстрела не слышал; он под взрыв гранаты угодил…
Половицы кухонного пола поскрипывали — это возился на широкой табуретке Анискин. Зазвенели ордена и медали, круглая спина участкового выпрямилась, и потому ремень портупеи глубоко врезался в плечо под погоном. Анискин сидел, но казалось, что он стоит по стойке «смирно».
— А чего ты нынче об этом рассказал, Лука? — громко спросил он, краснея лицом. — Нынче почему рассказал?
Лука сразу не ответил. Он потянулся к бутылке с водкой, налил понемногу в стаканы, свой придвинул к себе и склонил голову. Минуту, а то и больше сидел Лука молча, потом поднял голову — лихо торчали мушкетерские усики, расплывался в улыбке большой иронический рот, острый подбородок торчал ехидно.
— А уезжаю я из деревни, — насмешливо сказал он. — В городе Томске теперь буду жить, у сына Володьки. Так что не пить нам больше водку девятого мая… — Нижняя губа у Луки скривилась, вздрогнула, но потом притихла. — Володькиных ребятишек буду стеречь! Они у него сахарные, так чтоб не растаяли…
Стоял на берегу Оби древний осокорь, темнела банька, за голубой излучиной реки щетинился молодой кедрач; кричали ребятишки, а на колхозной конторе громкоговоритель наигрывал одну из тех песен, что недавно пели Лука и Анискин, — «Бьется в тесной печурке огонь…». И врывался в открытую форточку свежий ветер, настоянный на черемуховых почках. И стены кухни казались зеленоватыми, так как зеленый свет отражала великая река Обь. Тихо, очень тихо было в кухне, но затем раздались летучие звуки — раздвинулась занавеска, из горенки не сразу, а как-то частями вошла в кухню Глафира, осмотрела стол, мужа, Луку, подняла левую руку и начала расплетать-заплетать косичку.
— Чего притихли, мужики? — после паузы спросила Глафира. — Вот и водку не пьете…
Затем она руку опустила.
— Федь, а Федь, — вдруг шепотом сказала она, — я-то ведь знала, что Лука уезжает! Все хотела сказать, да от жалости не могла…
3
Пустые бутылки стояли на столе, уж не было бараньего стегна и грибов, уж Глафира три раза лазила в подполье и бегала в сельповский магазин, уж солнце стояло высоко, а Анискин и Лука все сидели за столом.
Во втором часу Глафира вынула из русской печки чугунок с куриным супом, налила в эмалированные миски, густо поперчив, поднесла мужу и Луке, окончательно оглядев стол, мужа и Луку, опять исчезла.
— Вот и все, — протяжно сказал Анискин. — Во-о-от и все-е-е-е…
Блестела бутылка водки, дымились миски с куриным супом, тускло отсвечивали желтые куски масла, бродили по кухне розовые всполохи.
Анискин поднял голову.
— Уезжаешь? — спросил он.
— Уезжаю! — ответил Лука. — Володьке без меня трудно, а мне без внуков…
Розовость лилась в окошки, ветер втекал в них; входила, все заполняя, светлая по-вечернему Обь — то ли лодка, то ли катер плыл по ней, синее облако висело там, где должен быть левый берег; вода переливалась чешуйками, короткими и блестящими. И то ли на реке, то ли меж нею и небом висел прозрачный девичий голос: «Позарастали стежки-дорожки…»
— Дашка Луговцова, — хрипло сказал Анискин. — Она!
Поднимаясь, он уперся руками в стол, повалил пустую бутылку, но внимание на это не обратил — все поднимался и поднимался упрямо, пока не встал в полный рост. Ниже русской печки был еще Анискин, но уже стоял на ногах, сделал два шага к Луке, прислушавшись чутко, коротко рассмеялся.
— Дашка поет, — сказал он. — А я-то с кем теперь девятое мая петь буду?
Широко расставив ноги, несколько мгновений участковый передыхал, потом сделал шаг, второй, третий — ноги стояли косолапо и плотно, спина выпрямилась. Еще два шага вперед сделал участковый, еще шире расставил ноги — стоит, товарищи, стоит!
— Глафира! — крикнул Анискин.
— Но!
Жена вынырнула из-за ситцевой занавески, спрятав руки за спиной, плечом оперлась на косяк. Она молчала, но участковый в два крупных шага подобрался к ней, набычившись, шепотом спросил:
— Ну?
В третий раз за день на кухне стало так тихо, что было слышно, как, подмывая глинистые яры, течет Обь; Дашка уже не пела «Позарастали стежки-дорожки…», не гомонили ребятишки на берегу. Потом Анискин тоже в третий раз непонятно улыбнулся, высоко поднял голову и неверными, но тугими пальцами стал застегивать мундир. Все до единой пуговицы и два крючка на высоком воротнике застегнул он.
— Ну?
— Вот.
Глафира вынула из-за спины фуражку с красным околышем, Анискин ее схватил, надев на голову, приложил два пальца к носу.
— Так!
Звезда на фуражке смотрела как раз с середины лба участкового, фуражка не кривилась, мундир лежал как влитой, без единой складочки. Прочно стоял на ногах уполномоченный Анискин — спокойный, медленный, смотрел прямыми глазами, такой высокий, что был вровень русской печке. Потом он сделал шаг вперед.
— Кто уезжает, а кто остается! — громко сказал Анискин. — Кто уезжает, а кому надо службу справлять!
Четкими шагами, как на смотру, участковый прошел от Глафиры до дверей, повернул по команде «Нале-ево кру-у-гом!» и приложил руку к фуражке, козыряя.
— Службу, службу надо справлять! Сегодня большой праздник, так мало ли что может случиться. Вдруг кто в деревне неправильно напьется, а! А! — вдруг крикнул он. — Что тогда, а?
Строевым шагом Анискин вышел на улицу. Минуту, наверное, слышались его твердые, парадные шаги, потом затихли.
Три зимних дня
Глава первая
1
После ноябрьских праздников дочь участкового уполномоченного Анискина Зинаида слегла в постель. Температура была невысокой, но девушка молча лежала под одеялом, ежилась от озноба. «Да» и «нет» она произносила так тихо, что приходилось низко нагибаться к ней.
На четвертый день пришел фельдшер Яков Кириллович. Он около часа пробыл в комнате Зинаиды, выйдя, сел на первый попавшийся стул и зябко потер руку об руку.
— Почта-то опаздывает! — сказал Яков Кириллович. — Пятый день нет почты-то…
— Аэродром замело, — ответил Анискин, — не идут самолеты.
Хотя и шел одиннадцатый час утра, в горенке все было желтым от света тусклой электрической лампочки, на оконных стеклах лежал синий морозный узор, от печки-голландки струился волнистый теплый воздух. И тоже желтыми были лица участкового Анискина и его жены Глафиры, так как лежали на них желтые непрочные тени.
— Не могу поставить диагноз! — сердито сказал фельдшер Яков Кириллович. — Девочка похудела, пастозна, откровенно немобильна, но суть не ухватывается. Вот так-то, братец мой Анискин! Подождем день-два…
В кухне, надевая черную шубу на хорьковом меху, фельдшер Яков Кириллович сердито щурился, морщился болезненно, а перед самым уходом протянул Глафире серенькую бумажку. «Железо, железо!» — пробормотал он и, помахивая тросточкой, вышел. Было слышно, как Яков Кириллович резкими шагами двигался по сенцам, потом по крыльцу. Когда сердитые шаги Якова Кирилловича затихли, участковый Анискин посмотрел на жену, она — на него.
— Ничего вроде опасного нет! — задумчиво сказал Анискин. — Когда Яков Кириллович дает серый рецепт, то ничего опасного нет…
На ногах участкового были огромные валенки, одет он был в куртку из коричневого вельвета и стеганые брюки. От этого Анискин казался много толще, чем на самом деле, но, несмотря на теплые одежды, дышал ровно, легко и двигался проворно, как всегда в зимнее время. И лежал на щеках Анискина молодой зимний румянец.
— А ведь я пойду! — сказал он. — Вон уж скоро одиннадцать.
Участковый снял с вешалки форменный милицейский шарф, два раза обмотнув его вокруг шеи, концы забросил за спину, потом напялил на голову лохматую шапку из собачины и стал натягивать белый полушубок, на котором погон не было, но на плечах имелись поперечные полоски для них. Поверх полушубка Анискин наложил широкий ремень и сопя затянул его. После всего этого он вздохнул так облегченно, как вздыхает ребенок, которого мама собирает гулять и уже выставила одетого за дверь.
— Я пошел! — сказал Анискин. — Давай рецепт-то.
Однако он сразу не ушел, а еще несколько минут постоял у порога, искоса глядя на жену, — неподвижный, тихий, в своем белом широком полушубке похожий на снежную бабу. Глафира тоже молчала, и ее сложенные на груди руки тихонечко пошевеливались.
— Ты уж не перебирай картошку-то, — приглушенно сказал участковый. — Посиди с Зинаидой-то.
После этого Анискин вышел на крыльцо и неспешно огляделся.
Шла середина ноября, снега начали выпадать всего три недели назад, но пошли густо и часто, и потому с деревней уже произошло то, что происходило в прошлые годы к концу месяца: деревня, на взгляд, сделалась небольшой и низенькой. Висело над ней близкое серое небо, дома, заметенные снегом, уменьшились в размерах, а край обского яра приблизился к домам, так как не было за ним зеленой пространственности воды.
И везде, куда бы ни смотрел участковый, лежал легкий, пушистый и свежий снег. Ни вмятинки, ни точечки сажи не было на том пространстве, которое охватывал глаз, и казалось, что добрый, чистоплотный и заботливый человек нарочно укутал стылую землю, озябшие дома, голые деревья этим мягким снегом, нежной этой пеленой. А Обь под снегом лежала такая ровная, такая светлая, словно снежной лентой текла в океан. И стоял с ног до головы белый, с белой головой, на берегу Оби осокорь.
Зимней, неспешной жизнью жила деревня — прошли, громко скрипя валенками, возвращающиеся с фермы доярки; по-зимнему четко прогрохотал по улице трактор «Беларусь», волоча сани с навозом; от дома к дому по-заячьи проскакал простоволосый мальчишка с калачом в руке; потом прошел заспанным шагом клубный киномеханик, и уж потом над ухом Анискина четким, бодрым голосом сказали: «Доброе утро! Начинаем утреннюю гимнастику…» Это означало, что в Москве было семь утра, а на Оби одиннадцать, так как день в деревне приходил на четыре часа раньше, чем в столице.
Участковый сошел с крыльца. Он держал путь к колхозной конторе, потому неторопливо зашагал по центральной длинной улице деревни. Дышал он равномерно и с приятностью, зубом прицыкивал редко, руки за спину не закладывал. Под стодвадцатикилограммовым телом Анискина снег скрипел громко, как под тракторными санями, валенки на снегу оставляли крупные следы, меж воротником полушубка и шапкой клубился парок от дыхания.
Возле того проулочка, что вел к снежным кедрачам, участковый приостановился. Снег под валенками скрипеть перестал, и услышались взрывы моторов, комариный вой электропил и тугой стон замерзшей земли. Эти звуки были чужеродны деревне, отдельны от рева трактора «Беларусь», эти звуки деревне не принадлежали и принадлежать не могли, так как деревенскими не были.
Звуки издавали тайга, кедрачи, что клином шли в деревню с юга. Там, в кедрачах, вот уже второй месяц работал передвижной лесопункт, вырубающий мачтовый сосняк и кедры. Лесопункт, как и кедрач, наступал на деревню с юга, и с каждым днем все явственнее становились звуки. На лесопункте круглые сутки выли моторы, раздавались мужские голоса; с рассвета до темноты валились на землю деревья; днем и ночью горели костры, а только ночью врезались в темень и снег кинжальные лучи прожекторов. Круглые сутки выл и гремел лесопункт, похожий на парикмахерскую машинку, что оставляет за собой неровный след на зябкой коже. Всего второй месяц наступал лесопункт на деревню, но в снежном кедраче уже прореживалась серая полоса — пеньки, грязь, ямы да зола.
«Вот от такого безобразия тоже можно заболеть! — подумал Анискин. — И тишины не стало, и воздух тяжелый…» И опять в деревне услышался скрип его громадных валенок. Это участковый пошел дальше, заложив руки за спину и широко расставляя ноги. Он шагал по-прежнему главной улицей деревни и думал о том, что зимой ему, конечно, дышится и живется легко, но скучновато, так как зимой происшествий на деревне меньше, чем летом. Зимой в деревне только чаще варят самогонку. Вот Анискин и шагал неторопливо, вот и размышлял длинно, вот и останавливался возле каждого дома. Он смотрел на дымок, что шел из труб. Если дым был серый или черный, то участковый возле дома обычно только приостанавливался, если же дым из трубы не валил, а тихонечко струился, если цвет у него оказывался сизый, с легкой краснинкой, то Анискин качал головой и останавливался совсем. На пути до колхозной конторы только из одного дома валил бордовый дым, и Анискин минут пять простоял, глядя на него. В доме жил Дмитрий Пальцев. О том, что он собирается варить самогонку, участковый знал еще вчера, и теперь он неторопливо думал: «Во втором часу нагряну…»
Анискину оставалось прошагать метров сто до колхозной конторы, когда в морозном воздухе родился новый звук — по-волчьи завыла собака, а потом накатом пробежал от дома к дому женский крик. От неожиданности участковый вздрогнул и волчком крутанулся на месте. Он еще ничего не успел разглядеть на белой снежности, но уже понял, что крик и собачий вой происходят в доме Мурзиных. Потом Анискин увидел, как, стоя на крыльце в домашнем платьишке, заломив руки над головой, Марина Мурзина тонко и жутко кричала:
— Лю-ю-юди? — звала она. — Лю-ю-ю-ди!..
Когда Анискин подбежал, Марина вдруг спрыгнула с крыльца, грудью упала на собаку и обхватила ее руками за белый бок, покрытый темной кровью. Участковый на секунду остолбенел, затем кинулся к Марине, поднял ее и чуть не уронил, так как женщина опять страшно и тонко закричала. Марина кричала ровно столько, насколько ей хватило воздуха, а потом замерла в руках участкового с широко открытым ртом. Он тоже замер.
В тишине, которая легла окрест после крика, затаилась деревня, белел снег, текла к северу Обь. А на чистой этой белизне был распростерт окровавленный пес. Дико все, невозможно, странно! Потом и тишина кончилась — Марина качнулась как на волне, схватила себя руками за волосы и еще страшнее прокричала:
— Степана убили!
Деревня бежала к дому Мурзиных. На ходу надевая пальто, выскочил из конторы председатель Иван Иванович, за ним в одном пиджаке бежал парторг Сергей Тихонович, из клуба мчался киномеханик, от соседних домов — женщины и мужчины. И все бежали, и все кричали, и опять жутко завыл пес Казбек, и Анискину на мгновение показалось, что от этих криков снег посерел. И как бывает, громкоговоритель на колхозной конторе забубнил невпопад веселое: «А я иду, шагаю по Москве…»
Минут десять висел над деревней и снежной Обью человеческий крик, потом постепенно затих, и тогда Анискин, еще плохо понимая, что делает и говорит, крикнул:
— Собаку, собаку возьмите!
Несколько мужских рук протянулись к Казбеку, схватили, подняли его, пронесли над головами женщин и детей, и собака повисла на уровне груди участкового. Пес от страха закатил глаза, но Анискин жесткими от волнения пальцами стал прощупывать его, раздвигать шерсть, подергивать за лапы. Руки участкового мгновенно покрылись кровью, но он на это не обращал внимания, все торопливее и торопливее ощупывал собаку, потом отдернул от нее руки, словно обжегся.
— Собака цела! — бледнея, сказал Анискин. — Собака цела…
Потрескивал мороз, стонал снег под ногами участкового. Продолжая бледнеть, он медленными движениями распахнул на груди полушубок, опять запахнул его и приостановился. Медленной дрожью исходила Марина, кипела кровь в оскаленной пасти Казбека, не дышали люди, что тесно обступали участкового. Он еще несколько секунд стоял неподвижно, потом, выпрямляясь, торопливо застегнул верхнюю пуговицу на полушубке и вдруг по-рачьи выкатил глаза. В ту же секунду бледность схлынула со щек Анискина.
— Все оленьи лыжи, что есть в деревне, сюда! — крикнул участковый. — Марину уведите в дом, Казбеку принесите поводок… Ну, скорее! Иван Иванович…
Он не закончил: уши резанул крик Марины. Она на этот раз закричала так, что мальчишки и девчонки бросились врассыпную. Так не мог кричать человек, и Анискин стремительно подумал: «Все! Убили Степана!»
2
На девятом километре Казбек свернул в сторону, грудью осел на снег и тонко пролаял два раза. Потом собака затихла.
Среди маленьких сосенок лежал на спине Степан Мурзин. Телогрейка была расстегнута, рубаха задрана, и левая рука темнела на голой груди. Ноги мертвый Мурзин раскинул, словно собирался сделать еще один, последний шаг. Крови нигде видно не было, но, когда участковый, осторожно подойдя, отвернул разорванный край рубашки, под левым соском Степана увиделась пулевая рана. Жакан — самодельная пуля из свинца — вошел чуть ниже, прошел тело наискосок и вышел сбоку. Поэтому с другой стороны тела ледяными полосками лежала кровь.
Открытые глаза Степана Мурзина смотрели в серое небо. Лежал он в девяти километрах от родной деревни, но тишины вокруг Степана не было, хотя и стояли обочь голубые ели, небольшие сосенки, а над головой пошевеливал крупными иголками старый кедр. Тишины в тайге не было потому, что приглушенно пели моторы на передвижном лесопункте, над вершинами деревьев летел с треском почтовый самолет, а участковый Анискин дышал тяжело и с присвистом.
Молчание длилось долго, до тех пор, пока солнце, наконец, не прострелило последние клочки сизого тумана и мир не проявился так, как проявляется на бумаге переводная картинка. Солнце вышло из тумана, и с елей, сосен, с земли и самого неба словно бы сдернули серую пленку. Заблистав, мир сделался выше, просторнее, шире; осветившись, тайга как бы раздалась вширь и ввысь.
— Так! — сказал Анискин. — Эдак!
В телогрейке, туго перетянутой ремнем, Анискин был подвижен и легок, на лыжах передвигался с места на место споро. Сантиметр за сантиметром он оглядел убитого, собаку, мертво застывшую невдалеке от хозяина, след лыж за спиной и круглую цепочку неярких следов. Потом Анискин обернулся к расщелине меж соснами, где стояли тракторист Григорий Сторожевой и преподаватель физкультуры школы-восьмилетки Людвиг Иванович.
— Сюда! — позвал участковый. — Идите след в след.
Тракторист и учитель осторожно приблизились. Они встали рядом с Анискиным, и он стянул с головы лохматую шапку, прижал ее к груди и выпрямился. Они тоже сняли шапки, и потекли длинные, протяжные секунды. Потом послышался сухой шорох снега: собака, волнообразно изгибаясь спиной, подошла к мертвому хозяину, вытянув голову, положила ее на раскрытую ладонь окровавленной руки. Хвост Казбека выпрямился, затвердел.
— Три дня, — сказал Анискин, — три дня… И я найду убийцу!
Всего два часа прошло с тех пор, как участковый услышал крик Марины Мурзиной, но за это время Анискин похудел. Его щеки побледнели и обвисли оттого, что он пробежал безостановочно на лыжах девять километров; его глаза сухо поблескивали. Так все эти два часа время от времени думалось: «Беда одна не ходит!» И тогда возникали перед мысленным взором строгие глаза фельдшера Якова Кирилловича, а в ушах раздавался нечеловеческий крик Марины Мурзиной.
Наконец Анискин надел шапку.
— Первое убийство на моем веку! — медленно сказал он. — В тридцатых годах кулаки убили уполномоченного из области, так я еще милиционером не был. С тех пор в нашей деревне никого не убивали.
Он натянул на пальцы рыжие милицейские перчатки, туго забил каждый палец на свое место, сунув руки за ремень, вздохнул.
— Следов убийца не оставил, — сказал Анискин. — Снег шел с четырех до девяти. Вот глядите, даже Казбеков след присыпан… Пес-то долго надеялся!
Действительно, от ног Степана Мурзина шли частые собачьи следы, полузасыпанные снегом, а обратные — редкие. Это Казбек уходил от мертвого хозяина медленно, а возвращался бегом, скачками.
— Пес-то долго надеялся! — повторил Анискин. — Ну, что ж, давай, Людвиг Иванович.
Развернув лыжи, участковый и тракторист отошли в сторонку, а преподаватель физкультуры начал щелкать фотоаппаратом. Он сфотографировал труп Степана Мурзина сверху и сбоку, спереди и с ног. Было морозно, и Людвиг Иванович то и дело прятал аппарат под телогрейку, чтобы не прихватило затвор. Кончив, он тоже отошел влево, и участковый шепотом приказал ему и трактористу осмотреть со всех сторон место происшествия. Они разошлись в разные стороны, а возле убитого Степана Мурзина остался лежать неподвижный Казбек.
Минут через сорок трое сошлись на прежнем месте. Было два часа дня, на передвижном лесопункте начался обеденный перерыв, и в тайге было тихо. Только изредка падали мягко на землю снежные комья с сосен, деревья пошевеливали вершинками, да похрустывал снег под лыжами.
— Докладайте! — сказал Анискин. — Пыж нашли?
Пыжа нигде не было, но зато тракторист Сторожевой держал кожаными пальцами неожиданный среди снега, сосен, солнца и неба предмет — длинногорлую бутылку с яркой цветной наклейкой «Рислинг». На донышке бутылки поплескивало немного светлого вина.
— Лежала под сосной, — сказал Сторожевой. — Вон та, вторая справа… А вот еще бумажная гильза.
Под второй сосной справа в снегу темнело круглое отверстие. Осторожно приблизившись к нему, Анискин остановился сбоку, присев на корточки, принялся тихим, задумчивым взглядом осматривать сосну, снег и отверстие. Участковый прикидывал расстояние от бутылки до трупа, от бутылки до расщелины меж соснами, потом зачем-то глядел на солнце и вершины сосен, словно и меж ними измерял расстояние. Он прицыкивал зубом, качал головой и был уже таким, каким его редко, но все-таки видели в деревне. Глаза у Анискина были круглые и как бы сонные, движения медленные и раздельные, губы были сжаты тугой гузкой. Он все шаманил и шаманил над круглым отверстием, затем стал что-то бормотать про себя, и тем, кто глядел на него, было жутко, тревожно и маетно. Страшен, непонятен был человек, колдующий над круглым отверстием в снегу, но сейчас за его спиной лежал труп Степана Мурзина, стыла в неподвижности собака, первозданно шумели деревья. И по-прежнему было тихо, и тракторист Сторожевой и преподаватель физкультуры Людвиг Иванович ежились под пропотевшими телогрейками.
А участковый Анискин уже приподнимался с земли. Он посмотрел длинно на тракториста и преподавателя, дернув губой, сказал:
— Три дня осталось убийцу искать! Если в три дня не найду, то никогда не найду… — Он сделал паузу, потом продолжал громко: — А теперь будем Степана брать!
Вот таким, наверное, Анискин и был на фронте, каким был сейчас. Он сделался прямым и высоким, глаза похолодели и замерли, две складки пролегли у полных губ. Офицерскими, четкими движениями участковый снял перчатки, сунув их за ремень, раскачиваясь, как лыжник-десантник, в несколько плавных скольжений приблизился к мертвому Степану Мурзину. Голос Анискина был ровен, когда он сказал:
— Снимайте лыжи.
Они скрепили четыре лыжи, набросали на них сосновые ветки, а на них, осторожно подняв, положили Степана Мурзина. Затем участковый снял с убитого телогрейку, прикрыл ему плечи и голову.
Тихо было на снежной поляне. Не летел над тайгой почтовый самолет, молчал передвижной лесопункт; в молчании стояли сосны и ели, качалась кедровая ветка с голубой оторочкой снега. За соснами и елями стлались белые луга, за ними — кедрачи, а за кедрачами простирались Васюганские болота — сотни километров льда, присыпанного снегом, круглых кочек, похожих на пупырышки по озябшей коже. На много километров окрест лежала белая и твердая земля.
— Поехали! — сказал Анискин.
Они поволокли за собой лыжи с телом Степана Мурзина, но шагов через пять остановились, так как собака осталась на месте. Казбек лежал пластом на снегу, острые уши висели как перебитые, чуть желтоватая шерсть отчего-то голубела.
— Казбек! — позвал Анискин. — Казбек!
Слова шепотливым эхом отозвались в сосенках, усилившись, гулко пробежали по расщелине меж двумя большими соснами, но пес не пошевелился. Тогда в смятой и глухой тишине, побледнев от предчувствия, участковый тихо-тихо пошел к собаке. Лыжи не скрипнули, снег не прошуршал — так бесшумно возвращался участковый. Он нагнулся к собаке и долго не разгибался.
— Пес-то, пес-то…
Голова мертвого Казбека лежала на лапе.
— Пес-то сдох! — неизвестно для чего сказал участковый. — Пока мы Степана на лыжи клали, пес-то сдох… Казбек, Казбек, — прошептал он. — Что же я без тебя буду делать?… Ведь ты бы убийцу опознал!
3
Следователь районного отдела милиции и медицинский эксперт прилетели утром вертолетом, так как «газик» снегами не прошел. Поэтому часов в десять утра над деревней боком, по-стрекозиному промчался небольшой вертолет, стрекоча, повис над Обью и стал медленно, как бы нерешительно спускаться. Когда грохот винтов затих, из машины вышли следователь Игорь Качушин и с ним женщина небольшого роста.
Увязая в снегу, они пошли к высокому речному яру, на кромке которого неподвижно стоял участковый Анискин, окруженный молчаливыми ребятишками. Снег был глубокий и рыхлый, приехавшие то и дело увязали в нем и шли медленно, хотя вертолет не улетал: он должен был дождаться возвращения врача-эксперта. И не двигался с места участковый Анискин. Он знал следователя Игоря Качушина, помнил, что лейтенанту милиции всего двадцать пять лет, но Анискин все-таки сделал несколько шагов вперед, когда приехавшие поднялись на яр.
— Здравствуйте, товарищи! — негромко ответил участковый на приветствие Качушина и врача. — Здравствуйте, здравствуйте!
Они пожали друг другу руки, немного помолчали, а потом Анискин и следователь пошли в милицейский кабинет, а женщина-врач двинулась в сторону дома Степана Мурзина, окруженная ребятишками, которые показывали ей дорогу.
Было уже половина одиннадцатого, солнце за тучами взошло окончательно, и над деревней вызревал неяркий ветреный день. Как и вчера, облака висели низко и густо, обступали деревню со всех сторон, в них не было ни просвета, ни щербинки с кусочком голубого неба. И как понимал участковый Анискин, все это предвещало большой ветер, может быть, даже метель. Потому, шагая, участковый хмурился и недовольно хмыкал, но за всю дорогу ни разу не обернулся к следователю Качушину.
Участковый остановился на маленькой площади, что образовалась между сельповским магазином, детскими яслями и почтой. Он, наконец, повернулся к следователю Качушину, сдвинув брови на переносице, стал смотреть, как легко и ловко идет молодой лейтенант. Качушин помахивал чемоданчиком, в губах пошевеливалась сигарета, ноги были обуты не в валенки, а в теплые короткие ботинки. На плечах у него было широкое демисезонное пальто. С ног до головы молод и энергичен был следователь Качушин. Вот он подошел к участковому, вот остановился, вот сверкнул белыми зубами.
Участковый молчал. Он понимал, конечно, отчего возбужден молодой Качушин: не каждого следователя поздним вечером вызывают к начальнику милиции, говорят уважительные слова, сажают утром в специальный вертолет, чтобы отправить на чрезвычайное происшествие. И не о каждом следователе начальник райотдела милиции говорит те слова, которые были сказаны вчера вечером Анискину по телефону. «Качушин умница! — сказал далекий голос начальника. — Прими его хорошо, Федор Иванович!» Вот потому лейтенант Качушин и улыбался, потому и помахивал чемоданчиком.
— Привет вам от райотдельских ребят, — сказал Качушин, — а начальник, Федор Иванович, вас превозносит до небес. Анискин, говорит, не человек, а рентген… Это правда! — Следователь сдержанно улыбнулся. — Вы и на меня смотрите, Федор Иванович, просвечивающими глазами…
Так оно и было: участковый смотрел на Качушина тихими, задумчивыми глазами. У Анискина на лице было то самое выражение, когда нельзя было понять, о чем он думает и чего он хочет, когда казалось, что глаза участкового источают что-то неуловимое, но ощутимое, путающее и густое… Оно текло и текло из глаз Анискина, и следователь Качушин негромко рассмеялся.
— Да, — сказал он, — действительно…
— Ты на деревню посмотри, Игорь Валентинович, — негромко сказал Анискин, — ты на деревню посмотри…
Деревня приглушенно молчала; возле домов на лавочках сидели люди, а возле дома убитого стояла недвижная толпа. Под низким небом на сером от света снегу можно было насчитать человек сто, и следователь Качушин перестал улыбаться. Теперь увиделось, какой у него длинный и узкий лоб, как чиста и румяна кожа лица и какие странные губы — квадратные.
— Пойдемте, Игорь Валентинович, — сказал Анискин, — чего стоять.
В милицейском кабинете Качушин снял широкоплечее пальто, и в комнате сразу сделалось светлее: такой яркий голубой свитер был на следователе. Потирая озябшие руки, он прошелся по кабинету, и вслед за ним пробежал голубой отблеск по ободранному шкафу, по русской печке. Теплые ботинки следователя поскрипывали, светлые легкие волосы шевелились от движения.
— Поехали, Федор Иванович, — сказал он. — Давайте с самого начала и подробно.
Анискин стоял возле стола, а когда следователь сел, то участковый сделал еще шаг вперед и молча положил на стол несколько больших фотографий. Потом он отступил на прежнее место и замер.
В милицейской комнате уютно потрескивала раскаленными кирпичами печка, беззвучно переходил из угла в угол потревоженный кот Васька. Наблюдая за тем, как Качушин разглядывает фотографии, участковый стоял ровно, не шевелясь; он приподнял подбородок, глаза заузил, а спина казалась жесткой, деревянной.
Наконец Качушин отложил в сторону фотографии, выпрямился, и участковый увидел на его лице нерешительную, смущенную улыбку.
— Протокола есть! — доложил участковый. — Вот они!
Четкими движениями он вынул из потрепанной планшетки несколько листов клетчатой бумаги, исписанной крупными буквами, опять сделал шаг к столу и положил на него листки.
— И вещдоки имеются! — продолжал участковый, вынимая из кармана бутылку из-под рислинга, завернутую в газету, медное колечко и бумажную гильзу. — Вот. А это протокол осмотра трупа.
Качушин, охватив виски ладонями, читал протоколы, а Анискин неподвижно стоял. Ночь участковый не спал, глаза сами собой закрывались, по телу пробегала сладкая длинная волна, а мысли путались. Его покачивало, как на лодке, и он думал о том, что в протоколе есть слово «навылет», которое он написал отдельно, а утром приходил к его дочери Зинаиде фельдшер Яков Кириллович и сказал путано: «Видимо, болезнь не тела, но духа, хотя и сие еще известно приблизительно».
— Отлично! — как бы издалека донесся голос следователя. — Картина вырисовывается.
Качушин несколько раз прошелся по кабинету. Ходил он быстро, в углах повертывался резко и руки держал за спиной. Походив, он остановился, приподняв голову, посмотрел на участкового и начал понемножечку краснеть; он увидел, что участковый стоит перед ним навытяжку, что валенки Анискина по-солдатски приставлены один к другому. Следователь краснел отчаянно, тяжело; он так покраснел, что глаза поголубели, а квадратные губы сделались черными.
— Федор Иванович, — пробормотал он, — Федор Иванович…
Несколько секунд участковый молчал, а потом сказал задумчиво:
— Я тогда протокола не пишу, когда дело пустячное. А уж коли содеялось убийство…
Анискин сел на табуретку и приглушенно засмеялся.
— Ты меня тоже прости, Игорь Валентинович, — сказал он. — У тебя впервой убийство, а я стою как дурак, с надутыми губами… Вот слушай, Игорь Валентинович, как и что произошло.
В комнате было тепло, уютно, сквозь растаявшие окна виделся кусок снежной Оби, старый осокорь на берегу, угол сельского Совета с красным флатом на крыше. Участковый рассказывал медленно, останавливаясь, задумываясь; слушая его, Качушин то расхаживал по кабинету, то присаживался на табуретку, то останавливался возле печки со скрещенными руками на груди.
— Вот, почитай, и все, Игорь Валентинович, — закончил Анискин. — Первое убийство в моей деревне, и самое плохое дело, что сдох Казбек.
Участковый медленно подходил к Качушину; приблизился, нагнулся, ласково и просительно положил руку на плечо следователю.
— И последнее дело, Игорь Валентинович. Мне шестьдесят третий год, я в деревне сорок лет живу и каждого человека знаю до ниточки. — Он вздохнул и помолчал. — Так что среди деревенских я всякого человека знаю, какой к этому делу близкий, а вот среди леспромхозовских…
Вдруг что-то произошло с Анискиным: он ссутулился, словно умываясь, провел пальцами по бледному лицу, потом вяло опустил руки.
— Тут такая история, Игорь Валентинович! Как дело доходит до леспромхозовских, то я становлюсь хуже слепого котенка.
Анискин смотрел в окошко, но казалось, что не видит он ни Оби, ни осокоря, ни сельсоветского флага. В прошлое глядел Анискин, и в зрачках отражался перевернутый старый осокорь.
— Вот такая история, Игорь Валентинович, — повторил он. — Так что я тебе ничем не могу помочь по леспромхозовским.
Участковый и следователь сидели рядом, падал на их лица тусклый дневной свет, и Качушин, наконец, разглядел, что у Анискина серые глаза. Веки у него были пухлые и тяжелые, так что издалека не усматривалось, что глаза у него круглые, блестящие и теплые. И если кожа лица серела, у губ лежали глубокие старческие складки, то блеск глаз был молодым, чистым.
— Я так рассуждал, Игорь Валентинович, — сказал участковый. — Кто мог Степана убить? Конечно, браконьер. Им он житья не давал. Это про деревенских, а вот про леспромхозовских я ничего сказать не могу. — Он покачал головой, вынул из кармана небольшую бумажку, расправил ее на колене, прочел: — Михайла Колотовкин, Иван Бочинин и Флегонт Волков. Эти были ночью в тайге, когда Степан Мурзин погинул. Митрий Пальцев, кажется, в тайге не был, но это надо еще проверить. Все остальные жители, Игорь Валентинович, в ночь убийства сидели дома. Мала деревня, кажный человек на счету.
Участковый тоненько вздохнул, покачав головой, стал смотреть в окно на реку. Было слышно, как воздушные потоки надавливают на окна милицейского дома, как постукивает на крыше неплотно прибитая доска.
— А самое главное, Игорь Валентинович, что преступник — такой человек, которого хорошо знал Казбек. Это опять же Михаил Колотовкин, Иван Бочинин и Флегонт Волков. А из леспромхозовских…
Участковый печально прицыкнул зубом. Делал он это забавно: сперва приподнимался левый уголок губ, собиралась на щеке глубокая ироническая морщина, и уж затем раздавался протяжный цокающий звук. Одного зуба у Анискина не хватало.
— Вот так-то, Игорь Валентинович, — продолжал участковый. — Степан был самый ловкий мужик в деревне. Два ордена Славы имел, да при нем обретался Казбек. Сам посуди, кто его мог одолеть? А ведь перед смертью Степан с кем-то дрался. Это я теперь доподлинно знаю. Я прошлую ночь до самого рассвета на том месте, где Степана убили, просидел. Костер жег и про это дело думал. А утром колечко от ножа нашел. Так что я теперь знаю: Степана в драке убили. Большая драка была, Игорь Валентинович!
Анискин хотел сказать еще что-то, но не успел: по крыльцу пробежали быстрые легкие ноги, дверь торопливо отворилась, и в комнату вместе с клубом морозного пара влетела врач-эксперт. Она бросила на стол коричневый саквояж, распахнула мохнатую шубу, и, пока искала в карманах какую-то бумагу, участковый успел разглядеть возбужденное девчоночье лицо, плутовской, загнутый кверху носик и капризные губы. Торопясь, она, наконец, нашла нужную бумагу, протянула ее Качушину.
— Тут все написано, Игорек! Наши распрекрасные туземцы подрались. Выстрел был произведен вплотную или был самострелом. Это установит экспертиза.
Девушка, не спросив, взяла со стола ружье Степана Мурзина, пустую бутылку из-под рислинга, медное колечко и торопливо двинулась к дверям. Мягкие сапожки пробежали по щелястому полу, запрыгнули на широкий порог милицейской комнаты. Вот она была в комнате, вот она стояла на пороге, а вот ее не стало, словно и не было никогда, хотя по полу все еще стлался зябкий уличный воздух.
— Так! — сказал участковый. — Эдак!
Усмехаясь и покачивая головой, он подошел к столу, взял в руки бумагу и долго-долго читал неровные буквы. Брови участкового задрались на лоб, губы раскрылись, и дышал он тяжело, с присвистом. Анискин смотрел в бумагу, а сам видел желтые языки огня среди елей и сосен. Оседал подтаявший снег, синим воровским огнем тлели угли, лежала на отяжелевшей сосновой ветке большая ночная звезда, так как прошлой ночью небо вдруг ненадолго прояснилось и была даже луна, в свете которой разрытый пористый снег голубел и переливался. Была длинная, как вечность, ночь, были длинные, бесконечные мысли, но вот девчонка с задранным носом фыркнула: «Наши распрекрасные туземцы подрались!»
— Так! — повторил Анискин. — Как же она про драку-то узнала?
Он подошел к вешалке, снял с нее белый полушубок, замедленно натянув на плечи, застегнул все до единой пуговицы.
— Пойдем за туземцами! — усмехнувшись, сказал Анискин. — Надевай свое пальто, Игорь Валентинович!
4
Ветер час от часу усиливался. Приплыли с юга темные густые тучи, опустились над деревней, дыша снегопадом и оттепелью; уже весело пощелкивал он обтрепанным флагом на сельсоветской конторе, завивал легкие бурунчики в закутках улицы; на дороге сидели вихрастые вороны. На обском берегу ветер кидался в ноги, надавливал на спину, и по всему было видно, что идет на деревню метель, а может быть, первый в этом году буран.
Участковый и следователь еще только поднимались на крыльцо милицейского дома, а уж всей деревне было известно, что арестован Иван Бочинин. Они еще обивали снег метелкой с ног, а сплетница баба Сузгиниха уже бегала из дома в дом, сообщая, что именно Иван Бочинин убил Степана Мурзина. Следователь еще причесывался, участковый еще снимал полушубок, Иван Бочинин еще только боком садился на табуретку, а возле милицейского дома уже толпились ребятишки, прибежавшие посмотреть на убийцу.
Качушин садиться не стал. Он подошел к столу, бочком устроился на кончике и еще раз провел пальцами по волосам. Гладкие, блестящие, они теперь лежали ровно, словно пробором, были разделены полоской электрического света. Качушин несколько минут сидел молча, покачивая ногой, исподлобья глядя на Бочинина.
— Рассказывайте! — спокойно попросил он. — Записывать я буду потом.
Иван Бочинин часто-часто мигал. Электрическая лампочка на длинном шнуре светила ему в глаза, лицо было освещено так ярко, что виделась шероховатость кожи, задубленной солнцем и ветром. Бочинин был узкоглазый, большеротый, такой маленький и неприметный, что было трудно сказать, сколько ему лет: тридцать или пятьдесят. И молчал он так, как могут молчать только сибиряки, — привычно, длинно, отчужденно, когда совершенно нельзя понять, о чем человек думает.
— А чего мне рассказывать, товарищ милицейский? — удивленно сказал он. — Степана Мурзина я не убивал, а насчет лося дядя Анискин ошибочку дает.
Бочинин мелко-мелко засмеялся, громко почесал затылок пальцами и отвалил нижнюю губу; юродивое выражение наплыло на его круглое лицо, волосы он взлохматил.
— Ошибочку дядя Анискин дал, — убежденно повторил Бочинин. — Не то что лося, я в ту ночь, товарищ милицейский, из дому-то и по малой нужде не выходил.
Бочинин склонил голову на плечо, улыбнулся заискивающе в сторону участкового и перестал дышать. «Конечно, дядя Анискин хороший человек, — говорило лицо Бочинина, — но он ошибочку дал! Вы разберитесь в этом, товарищ милицейский!» Зубы у Бочинина были белые, блестящие, ровные.
Качушин поматывал длинной ногой. Он по-прежнему исподлобья глядел на Бочинина, вертел в пальцах бензиновую зажигалку и, казалось, был совершенно безучастен к тому, что происходило. Когда же Бочинин начал хихикать и дурашливо открывать рот, следователь поднял руку и стал поочередно разглядывать ногти — на одном недовольно поморщился, другому улыбнулся. Потом Качушин, не поднимая головы, сказал:
— Что же, товарищ Бочинин, вы свободны! Можете идти домой, но только подпишите два документа: ваши показания и подписку о невыезде.
Следователь с неохотой оторвался от ногтей, лениво сел за стол, продолжая не глядеть на Бочинина, небрежно бросил на кончик стола лист бумаги с печатными буквами. Затем Качушин щелкнул шариковой ручкой, быстро написал на чистом листе несколько слов. Этот лист он тоже бросил на кончик стола.
— Подпишите, товарищ Бочинин.
Протяжно зевнув, Качушин опять сел на кончик стола и принялся разглядывать ногти на второй руке. И снова на его лице было такое выражение, словно Качушин в милицейской комнате находился один. Он подмигнул ногтю на мизинце, озабоченно погрыз заусенец и покачал головой. «Вот беда! — говорило лицо Качушина. — Удивительно быстро растут ногти!»
— Ну, подписывайте, товарищ Бочинин! Берите ручку!
Не глядя на Бочинина, следователь протянул шариковую ручку. Он, наверное, думал, что Бочинин немедленно подхватит ее, но этого не произошло — ручка повисла в воздухе. Однако Качушин руку не убрал, а так и держал ее вытянутой.
— Ну, берите, берите!
Шуршали за русской печкой тараканы, шелестел за стенами дома ветер, на передвижном лесопункте гремели моторы. Ветер дул с юга, и потому явственно слышалось, как глухо ударяются о землю деревья, надсадно взревывают трелевочные трактора, хлопотливо работает мотор передвижной электростанции. Слышалось даже, как перекликаются таежные голоса.
— Ага! — театрально поразился следователь Качушин. — Вы не хотите подписывать?
Но уже начиналось то, с чем Качушин не раз сталкивался в сибирских деревнях и для чего, собственно, следователь с первых минут допроса вел нехитрую игру: началось замкнутое, сосредоточенное, молчаливое сопротивление. Услышав про документ, который следовало подписать, Иван Бочинин плотно сжал пухлые губы, шевеля пальцами пуговицу рубахи, уставился в пол. Виделся круглый прочный затылок, мягкие оттопыренные уши и сильная загорелая шея в кольчиках русых волос.
— Значит, не подпишете?
Никакого ответа. Иван Бочинин сидел истуканом, остановившимися глазами смотрел в пол, дышал ровно, спокойно и замедленно. Казалось, он весь сосредоточился на том, чтобы размеренно дышать и не сводить взгляда с широкой щели меж некрашеными досками. У него был такой вид, словно он не слышал ни голоса Качушина, ни ветра за стенами комнаты, ни напряженного сопения участкового.
— Вы обязаны подписать!
И опять никакого ответа, никакого движения, как всегда бывало у Качушина, когда он допрашивал жителей таких обособленных деревень, как Кедровка. Склонив голову, Бочинин молчал, и его круглый затылок, оттопыренные уши, сильная шея были враждебны.
— Значит, не хотите подписывать, не хотите давать показания?
Качушин, улыбаясь, подошел к участковому, наклонился и шепотом сказал Анискину несколько слов. Еще не закончив, следователь покосился на Бочинина и увидел то, что ожидал. Бочинин торопливо поднял голову, облегченно вздохнув, вытер пот со лба. Только теперь Качушин заметил, что виски у него светлее, чем льняные волосы, возле круглых глаз — лапки морщин. Шея Бочинина была чуточку искривлена; в том месте, где ее обхватывал воротник синей рубахи, начинался уголок звездчатого шрама.
— Федор Иванович, ведите следствие! — громко сказал Качушин, облегченно улыбаясь оттого, что Бочинин окончательно ожил: пухлые губы раскрылись, глаза повеселели, шея выпрямилась, а шрам упрятался за воротник рубахи. Потом Бочинин повернулся к Анискину, положил крупные руки на колени и прищурился так, как прищуривается человек на сильном ветре.
Участковый неторопливо поднялся, задумчиво прошел по кабинету, спокойный, замедленный, остановился перед Бочининым. Секунду-другую он внимательно, но безразлично смотрел на подследственного, затем укоризненно покачал головой.
— Я нашел срезанного лося! — сказал Анискин. — В конце Коломенской гривы, под старым кедром. Вот Игорь Валентинович тоже видел, что на дереве зарубка.
Участковый вернулся к окну, прислонившись плечом к косяку, стал смотреть на снежный берег Оби, на старый осокорь. Дерево раскачивалось, на голой от снега ветке сидела ворона и послушно, печально то поднималась, то опускалась.
— Будет метель! — недовольно сказал Анискин. — Так что не тяни время, Иван, рассказывай!
Еще несколько секунд прошло в молчании, а потом вдруг как-то сразу перестало существовать то, что разделяло участкового и Бочинина. Глаза охотника умно и остро блеснули, большой рот затвердел, и они — подследственный и участковый — стали похожими, как близнецы. Они по-одинаковому наполненно, напряженно думали, одинаковое видели сквозь оттаявшие стекла, по-одинаковому глядели друг на друга.
— Чего же Степан водку-то брал? — еще немного помолчав, спросил Бочинин. — Он ведь при мне…
— А вот брал! — недовольно ответил участковый. — Ты мне про выстрел скажи.
Участковый и Бочинин опять замолчали, и Качушин, затаившись, слушал это молчание. Всего полчаса назад следователь и участковый были на месте происшествия, видели разрытый снег, следы костра, ходили меж соснами, сидели на пеньках, и именно там, среди шумящих деревьев и темного снега, Качушин впервые подумал о том, что участковый Анискин что-то скрывает от него, следователя Качушина. Было такое мгновение, когда Качушину показалось, что Анискин знает, кто стрелял в Степана Мурзина.
Тогда, на снежной поляне, следователь заставил себя не думать о том, что участковый может скрывать истину, но вот теперь, когда Анискин и Бочинин, просто и спокойно глядя друг на друга, молчали, когда они сделались похожими, как близнецы, мысль вернулась, и Качушин внутренне сжался. Мысль была дикой, невообразимой, но то, что называется интуицией, кричало следователю: «Анискин знает!» Незаметно наблюдая за участковым, Качушин видел, что Анискин, подобно Бочинину, замыкается, когда следователь смотрит на него. О какой водке разговаривали участковый и Бочинин? Почему это было важно для охотника и почему Анискин на его вопрос ответил сердито? Оба что-то скрывали и вот теперь избегали глядеть на Качушина.
Качушин слушал Бочинина и участкового, он опять видел их похожесть, чувствовал одинаковость их мыслей и так напряженно ждал ответа Бочинина, словно от него зависел весь ход следствия.
— Выстрел был часа в три, — сказал Бочинин. — Мы с Михайлой уж закопали лося, пошли уж домой, как он стебанул. — Бочинин подумал, качнул головой. — Тебе, конечно, интересно, дядя Анискин, с какой стороны. Так ты стань лицом от Коломенских грив к деревне и возьми левее Семкиной балки. Вот оно и получается, что на девятом километре.
Простой, серьезный, действительно пятидесятилетний человек сидел на расшатанной табуретке. Думал Бочинин старательно, прищуривался значительно, и только теперь можно было поверить в слова участкового: «Иван-то — герой! Он весь орденами обвешанный, а войну кончил лейтенантом». И лицо у него было оживленное, подвижное, умное.
— Чего же вы на выстрел не пошли? — неторопливо спросил Анискин. — Вот ты мне это скажи, Иван.
Бочинин медленно думал, участковый покручивал пальцами тоже замедленно, и Качушин почувствовал, что он тоже начинает жить медленно: медленно повертывался, улыбался, мыслил. Он вместе с участковым и Бочининым, словно наяву, прошел к старому кедру, на котором была зарубка, надевая охотничьи лыжи, услышал трескучий выстрел, так как вместе с замедленностью от участкового и Бочинина ему передалась способность думать картинами, то есть так, как только и умели думать Анискин и Бочинин.
Наваждение продолжалось: Анискин задумчиво поглаживал пальцами лоб, Бочинин раздельными движениями доставал из кармана пачку папирос. Он со всех сторон оглядел этикетки, подумав, перевернул пачку, стал вынимать папиросу. Бочинин вынул ее до середины, остановился и сказал:
— Мы узнали Казбека. Он после выстрела шибко залаял…
Следователь Качушин тоже мысленно шел от кедра с зарубкой к темной просеке меж соснами; он только миновал полянку, как слева послышался собачий лай, позади приглушенно прошуршал снег.
— Мы, конечно, удивились, что лает Казбек, но потом Михайла говорит: «А ведь это Степша!» Ну, потом мы пошли правой дорогой…
Качушин тоже двигался правой дорогой: вышагал на лыжах под уклон березового взгорка, легко покатился вниз. Еще светила луна, еще только собирались тучи. На спину ему давило лосиное стегно, на плече стволом вниз покачивалось ружье. Скатившись вниз, Качушин пошел согнувшись, осторожно; время от времени он останавливался, прислушивался. На следующем взгорке…
— Кто-то на лыжах шел. Луна уж притишивалась, однако показалось, что Степан. Шапка вроде его была. Мы, конечно, присели.
Действительно, ползла, пересекая деревья, лохматая шапка, похрустывал снег под лыжами, луна пряталась за укромный край тучи, отороченный золотой каемкой.
— Казбек больше не лаял. Михайла и говорит: «Не должно быть, чтобы Степан!»
Неизвестный человек уходил в сторону деревни; в последний раз мелькнула шапка, похожая на шапку Степана Мурзина, притих шарк лыж. Потом луна упряталась за тучи, мраком дохнул овраг.
— Мы правой лыжней пошли… — заканчивая, сказал Бочинин. — Другого пути у нас не было.
С лица Анискина исчезло выражение суровой замкнутости, в его молчании больше не было враждебности, и все это объяснялось тем, что участковый за то время, пока Бочинин рассказывал, забыл о том, что Качушин зорко следит за ним. Анискин уже расстегнул все пуговицы на воротнике рубахи, стоял возле окна расслабленно, с тихим домашним лицом, на котором легко читалось: «Хоть я это все знаю, но все равно интересно послушать!» Забыв о необходимости отчуждаться от Качушина, участковый был самим собой, и следователь уже спокойно, без удивления и колебаний подумал: «Он знает!»
— А теперь я важное скажу, — негромко проговорил Бочинин. — Тот человек ушел в сторону леспромхозских. Если бы он шел в деревню, лыжня бы с нашей обязательно пересеклась. — Он вдруг коротко и зорко глянул в лицо Анискину. — Мы ведь на левый край деревни выходили.
— Знаю! С правого края вы меня боялись.
И произошло неожиданное: Анискин длинно и тоскливо прицыкнул пустым зубом. Выражение застарелой боли и глухой тоски появилось на лице участкового. Все еще стоя у окна, он прижался лбом к стеклу, ссутулился одиноко, и спина у него сделалась жалкая.
— Я и на правом конце деревни не был! — с тоской сказал Анискин. — Вот какая история, Ванюшка!
Во второй раз ощущение нереальности, фантастичности происходящего охватило следователя: призрачной, несуществующей показались комната с русской печкой, несуществующей река, как бы текущая снежной лентой мимо окон, выдуманный участковый уполномоченный, который браконьера, подозреваемого в убийстве, называет уменьшительным именем. Реальным было только одно — тоска, от которой сутулилась спина Анискина.
Долго-долго участковый стоял у окна, прижавшись лбом к стеклу, затем вздохнул и сказал:
— Метель-то началась! Теперь не то что убежать из деревни, на тракторе не пробьешься. Какая там подписка о невыезде!..
Ветер грозно выл за стенами дома; уже не было видно ни баньки, ни осокоря, да и река затягивалась пеленой — это мчались по насту простынные полосы снега. Метель началась, как всегда, неожиданно, собралась в одно мгновение и бушевала уже так, словно занималась привычным давнишним делом. Неплотно прибитые доски на крыше погуживали, постукивали.
Шаги Ивана Бочинина давно затихли на крыльце, перестала раскачиваться электрическая лампочка на длинном шнуре, которую он, уходя, задел плечом, а следователь и участковый все еще молчали. Качушин присел на край стола, покачивая ногой, ждал, когда Анискин заговорит. Наконец участковый поднял голову.
— Иван Бочинин — сродный брат Степана Мурзина, — сказал он. — Так что он Степшу, конечно, не убивал! Они шибко дружные были. И воевали в одном полку. Ванюшка командовал разведкой, а Степша — саперами.
Сделав паузу, Анискин прислушался: сенная дверь скрипела, открываясь.
— Вот и Михайла Колотовкин! — с внезапной улыбкой сказал Анискин. — Смешной мужик, скажу я тебе…
Веселые шаги прогремели по мерзлым доскам крыльца, загремев, распахнулась дверь, перевалился через порог грудастый клуб морозного пара, и в комнате возник мужчина в длинном теплом пальто, с неожиданно маленькой шапкой на маленькой голове. Беззвучно хохоча, он оглядел кабинет крохотными глазками, тоненьким голосом пропищал:
— Начальству привет от новых щиблет!
Затем мужчина в длинном дорогом пальто быстрым, торжественным шагом приблизился к Качушину, резко протянул ему руку:
— Болезня-грызь нам портит жизнь. Ни есть, ни пить, ни баб любить.
Круто повернувшись, он тем же манером подскочил к Анискину, пожал руку, затем, картинно остановившись посередине комнаты, стал бережно снимать дорогое пальто. Высоко приподняв, он пронес пальто до дверей, повесил на деревянный штырь и несколько секунд любовался им. Потом он повернулся на месте, как манекенщица, поправил ярко-бордовый галстук на синей рубахе и вольно сел на табуретку.
— На ногах стоять, стопки не видать! — пропищал он. — Полна посуда — живем покуда!
Маленькой была голова Колотовкина, крохотным личико, но посередь его торчал надутый, огромный, как бы резиновый нос, отливающий всеми цветами радуги. Мало того, на кончике носа сидела бархатная бородавка.
— Пришел на допрос, задавайте вопрос! — сказал Михаил Колотовкин и самодовольно засмеялся. Резиновый нос перекосился, вздернутые ноздри расширились. Колотовкин громко, пискливо чихнул. — За лосем ходил — нос простудил.
Все это — приход, раздевание, разговор в рифму — заняло не больше минуты, так как быстрым, энергичным человеком был Михаил Колотовкин. Усевшись, он благожелательно посмотрел на следователя, подмигнул ему и общительно сказал:
— Я, конечно, ни в чем не виноватый, но признаюсь… Ванька говорил, тут каки-то бумажки надо подписывать, так я согласный. Вот хоть нарочно проверь, товарищ милицейский: любую бумажку подпишу!
Замечательный колотовкинский нос зашевелился, раздулся, глаза сделались совсем крохотными, и Качушин негромко засмеялся: так смешон был Колотовкин, что следователь не мог удержаться. Смеясь, он покосился на участкового и увидел, что Анискин тоже похохатывает. Очень весело стало в милицейской комнате, и Михаил Колотовкин обрадовался; вскочил, размахивая руками, возбужденно продолжил:
— Я такой! Я шутник! Ну, давай бумагу, я ее с ходу подпишу. Ванька вот никаки бумаги не подписывает, а я обратный. Я всяку бумажку подпишу.
Колотовкин восторженно, дружески подмигнул следователю, попятился, шмякнулся на табуретку и немного тише сказал:
— Я любую бумажку, гражданин милицейский следователь, подпишу, только про смертоубийство я говорить несогласный. Степшу леспромхозовские убили, а мне своя жизнь дороже. Вы заарестуете убивца, а у него дружки остались… Кто, что, почему? Михайла Колотовкин? А ну, подавай сюда Михайлу! Тырк-пырк, и я, мертвый, скучаю.
Колотовкин вихлялся, припрыгивал на табуретке, радостно похлопывал себя руками по бокам, но сам зорко следил за Качушиным, стерег каждое его движение.
— Так что я про смертоубийство говорить не буду, а вот про лося — хоть пять пудов! — Он на секунду погасил улыбку. — Я этих лосей бил, бью и буду бить! Конечно, мы лицензии не имеем! Вот наша лицензия…
Плавно, волнообразно изогнувшись, Колотовкин медленно поднялся. Он так длинно вытянул левую руку, словно в ней лежало ружье, правой рукой взялся за несуществующую спусковую скобу, щекой приложился к невидимой ложе. Колотовкин замер, и Качушину показалось, что рядом с электрической лампочкой блестит мушка ружья, холодно посверкивают сдвоенные стволы. Потом щелкнул курок: это Колотовкин произвел языком металлический звук.
— Вот наша лицензия!
Страшным сделалось лицо Колотовкина. Каждую клеточку загорелой кожи пропитывала ненависть, похолодели глаза, обескровились губы, отчего-то уменьшился клоунский нос, и уж ни одной смешной черточки не осталось в облике Колотовкина. Весь он был ненависть, весь был приложен к несуществующему ружью, и казалось, что комната тоже пропитывается ненавистью. Бродили в углах опасные тени, таилась за печкой шуршащая тараканья темнота, холодом и сыростью дышал щелястый пол.
— Мы не городские, мы лицензий не имеем! — шепотом повторил Колотовкин. — Мы народ деревенский! Любую бумагу подписать — это мы можем, а вот показания на леспромхозовских давать — это дело не наше! Так что говорить про смертоубийство я отказываюсь. — Он неожиданно улыбнулся. — Деревенские всегда в дураках остаются, когда с городскими связываются. Хоть режь меня, товарищ милицейский, я ни словечка не скажу. А бумагу давай, бумагу я подпишу…
5
Дочь участкового Зинаида любила свою комнату, одиночество, тишину, ей было хорошо оттого, что уютно светила настольная лампа, приглушенно посвистывал ветер за окнами, по кухне тихонечко ходила мама.
Вечером ей стало легче, и она встала с постели. На столе лежала раскрытая книга, в глаза попадалась все одна и та же строчка: «…Вечером пришел пароход из Феодосии…» В словах чувствовалась грусть, вечернее настроение, сладкая тоска по несбыточному. Чеховская «Дама с собачкой» вообще была печальна до слез; в ней не было того, что казалось важным раньше, когда рассказ читала по школьной программе. Это тоже было удивительным: Зинаида знакомые книги теперь читала как незнакомые. «Вечером пришел пароход из Феодосии…» Зинаида видела этот пароход так ярко, словно он вышел из-за обского яра…
Все эти последние дни Зина чувствовала себя помудревшей, взрослой; она не стыдилась того, что произошло с ней в Томске, а, наоборот, думала о случившемся как о своей первой победе в новой, взрослой жизни. «Если я нашла силы понять собственные недостатки, — думала она, — то все будет хорошо!» Она вспоминала о прошлом спокойно…
Солнечным днем Зина приехала в Томск, разыскала общежитие, и, когда комендант привел Зинаиду в комнату абитуриентов, в ней было пусто, как на вокзале, когда только что ушел поезд. Но пока Зина умывалась, застилала постель и разбирала чемодан, начали собираться девушки.
Зина сидела на койке, чего-то ждала; она очень обрадовалась приходу девушки, койка которой стояла рядом. Соседка оказалась высокой, шумноватой и насмешливой девчонкой. Она сообщила, что все они только что с консультации по химии. Консультировал их известный в стране профессор, и если именно он будет принимать экзамен — это важно. Почему важно, Зина не поняла, а соседка — ее звали Валя — уже рассказывала какие-то смешные истории.
Потом, понизив голос, Валя рассказывала о девочках из их комнаты. Вон те двое, что пьют чай и едят колбасу, москвички, а вон та, что в очках и с толстыми косами, из Туапсе; рядом с ней — та, что хохочет, — медсестра из Колпашева. Самая интересная девчонка, которая обязательно поступит в институт, сидит у окна с книгой.
— Она готовилась, — шепнула Валя, — по вузовским учебникам…
Минут через десять в комнате снова сделалось тихо, точно все ее покинули: все девушки уткнулись в книги, а Валя накрылась одеялом с головой и мгновенно уснула, сказав перед этим, что она встает в четыре утра и уходит зубрить на лавочку в городском сквере.
Зинаида вышла из общежития. Город шумел, светился, двигался. Она села на скамейку под тополями, прижалась спиной к теплому дереву и почувствовала, что дерево мелко вздрагивает — оттого, что шли по асфальту машины, а недалеко от общежития погуживал завод. Воздух был теплый, густой, насыщенный незнакомыми запахами. Зина закрыла глаза, тесно прижалась спиной к дереву и так сидела долго-долго, пока не устало тело. Она думала о том, что ей будет очень трудно на экзаменах, хотя все лето она занималась и в аттестате у нее было всего три четверки.
Следующий день ушел на оформление документов, на библиотеку, а вечером Зина вместе со всеми пошла на консультацию. Валя провела ее по длинным и шумным коридорам института, где висели таблички с названием кафедр, где у стен стояли абитуриенты с книгами в руках, и подвела к высокой белой двери, ведущей в громадную комнату, в которой на скамьях, построенных амфитеатром, сидели молодые люди — будущие педиатры, стоматологи, терапевты, фармакологи. Внизу, как на арене цирка, стоял сухонький человек в белом халате.
Зинаида робко шла по ступенькам. Внизу все места были заняты, и они устроились наверху. Соседи, двое парней, подвинулись, чтобы девушки сели, и один из них внимательно и спокойно оглядел Зину с ног до головы. Это был не первый взгляд из тех, что смущали Зину. На ней были славный летний костюмчик, хорошие туфли, волосы были пострижены модно, но она не чувствовала уверенности в себе, двигалась и говорила робко, а когда садилась, то руки держала на коленях — юбка казалась короткой. В школе Зина считалась умной девушкой, много читала, и теперь она понимала, что с ней происходит: просто она чувствовала себя провинциалкой. Валя была такой же: она приехала на экзамены из деревни, — но у нее был легкий характер, избыток веселья.
Консультация началась с лекции. Сухонький человек в белом халате — почему в халате, непонятно, — говорил весело и звонко, почти не глядя на доску, писал красивыми буквами и цифрами физические формулы и, так как лекция была обзорной, за два часа изложил весь ученический курс электричества. Когда он кончил, Зина ощутила радость: она понимала все, о чем говорил лектор. Потом абитуриенты задавали вопросы. Все больше пустяковые. Ее занимало другое: поведение соседей. Ее сосед всю лекцию читал книгу, а когда пришла пора задавать вопросы, отложил книгу в сторону, покосился на Зину и шепнул:
— Надо задать профессору умный вопрос. Вы приготовили? Нет! Как же он запомнит вас?…
Зинаида видела, какое у него умное лицо, какие хорошие глаза. Он слушал вопросы абитуриентов, посмеивался, его нервные пальцы, лежащие на подлокотниках, беспрестанно двигались. Послушав некоторое время, он снова уткнулся в книгу, и Зина прочла заглавие «Записки врача». Осмелев, она вдруг шепнула соседу:
— А как же электричество?
— Плевать на электричество! — ответил он. — Когда дочитаю Вересаева, я пошлю к черту медицинский институт!
Впоследствии этот небрежный, независимый и забавный парень оказался в числе первых, зачисленных на лечебный факультет, но в день их знакомства он произнес речь против медицины. После лекции они вместе выбрались из аудитории, пошли по скверу. Парень — звали его Юрий Ванеев — поносил медицину. Когда он, попрощавшись, ушел, Валя решительно сказала:
— Интересный малый! Из таких получаются хирурги.
За две недели, оставшиеся до экзаменов, Зина поняла, что из двадцати двух абитуриентов, претендующих на одно студенческое место, по крайней мере десять интереснее и образованнее ее. Среди них встречались такие, что свободно говорили по-английски, порядочно знали латынь; были и такие, что слово «скальпель» произносили с профессиональной привычностью. Зина понимала, что ей не хватало общей культуры, широты, начитанности или того, чего было в избытке у Вали, — самоуверенности. Зину стесняла не только ее короткая юбка, но и ее нарымский говор, замедленная неуклюжесть, привычка к размеренности и простоте жизни. И этот большой город казался ей чужим. Последние два года — девятый и десятый классы — Зина училась в Колпашеве, но этот деревянный городок не поспевал за стремительно изменяющейся жизнью. Да и сам Томск менялся так быстро, что проспект Фрунзе она не узнавала, хотя год назад гуляла по нему с отцом, когда они приезжали за покупками.
Вступительные экзамены Зина сдала ровно, но не блестяще. Проходной балл был двадцать четыре, она получила его, но, когда в списке не нашла своей фамилии, не удивилась: проходной балл получили многие. У Зины были здоровые нервы, трезвый взгляд на жизнь, и она сказала Вале:
— Они правы!
Вернувшись домой, Зинаида три дня подряд устраивалась по-новому в своей комнате, еще три дня просидела в клубной библиотеке, а потом вдруг все забросила: спала, ела, читала да ходила в гости и на каждый новый фильм, который шел в деревенском клубе. Все чаще в их доме появлялась молодая веселая преподавательница математики Малыгина, забегал новый колхозный зоотехник, почти каждый день приходил Женя Старков — студент политехнического института. Он приносил обшарпанную гитару и хриплым голосом пел про то, что «всю ночь не наступало утро».
Анискину не нравилась жизнь дочери. До него доносился лишь голос гитары да смех Зинаидиных гостей, а остального отец не слышал: их разговоров о жизни. Отец не понимал, что дочери нужно общение именно с такими людьми, как учительница Малыгина, Женя Старков. И он с каждым днем все внимательнее приглядывался к Зинаиде, ворчал, когда она надевала модные кофточки, сердился, когда она просыпалась поздно.
До октября Зина с отцом поссорилась только раз; но уже в середине октября они помирились: она начала работать учетчицей на молочном заводе.
Отец видел, что Зина много занимается, читает, и успокоился, хотя однажды полушутливо сказал ей:
— Ты уж теперь беспременно должна во врачи выйти, чтобы оправдаться, почему на такой пустячной работе состоишь!
В ответ она засмеялась:
— Папка, ты смешной!
Зина любила отца, он любил ее, единственную дочку, и тем неожиданнее было то, что произошло после ноябрьских праздников. В середине октября Зина впервые встретилась с техноруком лесопункта Степановым. Они быстро подружились: он оказался тем человеком, который ей сейчас был нужен. Почти все свободное время Степанов проводил с Зиной. Было уже холодно, шли дожди, и земля готовилась принимать снег, но технорук каждый день приходил из тайги в милицейский дом и сидел допоздна. Он подпевал Старкову, посмеивался над Малыгиной, которая любила сидеть к нему боком, так как считала, что в профиль она интереснее, чем анфас, исподлобья глядел на Зину. Зина чувствовала себя легко, свободно, говорила умно и складно, когда в ее комнате сидел и помалкивал технорук Степанов.
В ноябре произошло неожиданное. Зина и Степанов сидели в комнате, разговаривали о чем-то, когда в дверь постучали и на пороге появился отец и посмотрел на Степанова милицейскими задумчивыми глазами.
— Зина, выйди-ка на час, — попросил отец.
Она вышла за отцом в горницу.
— Ты меня, конечно, извиняй, Зина, — трудно дыша, сказал отец, — но эту волынку надо прикончить… Жениться он на тебе не женится, а жизнь испортит. Ты так мыслишь, что это человек, а это второй Верютин! — Отцу не хватало воздуха, и он вдруг жалобно проговорил: — Ты неужто того не видишь, что из города приехала всему чужая? Ты ведь, Зина, у меня погибаешь!
Она почувствовала, что бледнеет: у отца глаза были полны слез. Кто такой Верютин, Зина не знала, но незнакомую фамилию он произнес с отвращением. Она схватила отца за руку, но он не остановился.
— Ты у меня погибнешь! — шепотом повторил отец. — Старков хулиганские песни поет, Малыгина третий год замуж выйти не может, а этот Степанов…
Отец вдруг отстранил Зину, на прямых ногах, словно они сделались деревянными, подошел к ее комнате и настежь открыл дверь. Хриплым, надсадным голосом он сказал:
— Товарищ Степанов, а товарищ Степанов!..
…Что произошло дальше, вспоминать было стыдно. Степанов навсегда выходил из их дома, и, когда захлопнулась сенная дверь, ее умный и добрый отец ссутулился и с вялыми руками и вялой спиной ушел в кухню. А она, похолодев, неподвижно стояла посреди тихой, вдруг потемневшей горницы. Под вечер у Зины поднялась температура, противно кружилась голова. Видимо, сказалось напряжение последних месяцев: бессонные ночи в дни экзаменов, неустроенность и непонятная ссора с отцом.
…Зина медленно прошла по комнате, притронулась пальцами к столу, к корешкам книг. За окнами воет ветер, шуршит снег, по кухне ходит мама. Отца дома нет, и придет он поздней ночью, а то и вовсе не придет. Она думала о том, что в ее жизни за последние месяцы произошло столько событий, сколько раньше не происходило за длинные годы: окончание школы, знакомство с городом, неудача с институтом, знакомство со Степановым.
Зина присела перед зеркалом. В зеркале она видела свое лицо: упрямый, как у отца, подбородок, изогнутую линию лба, четкие губы. Она так сидела до тех пор, пока в комнату не вошла мать. Увидев дочку одетой, причесанной, Глафира обрадовалась, но, как обычно, свое чувство выразила сдержанно: улыбнулась только.
— Ну, вот молодцом! — сказала она. — А у меня и ужин готов.
Они немного помолчали, спокойно глядя друг на друга, потом Глафира тем же тоном сказала:
— Отец-то вторые сутки ничего не ест… У меня все сердце за него изболело! Ему тяжелее, чем всем нам…
6
Метель бушевала. Снег завихряющимися полосами, вихорьками и пригоршнями бросался в лицо; ветер не завывал, а дико, оглашенно вопил, разметывая сугробы, срывая солому со стаек, перебирая деревянные крыши; ветер, упругий, как водяная струя, замешенный на колючих снежинках, просачивался за воротник, в рукава, схватив, остановив человека, прижимал к земле. Спрессованным воздухом, колючими снежинками деревня была набита до отказа, но все равно казалось, что воздуха для дыхания не хватает. Когда Качушин, прижатый ветром к забору, открывал рот, воздух набивался за щеки, раздувал их, а в легкие не попадал.
Боком, одной рукой придерживая шапку, другой — полы надувающегося на спине пальто, Качушин шел за участковым. Голову он втянул в плечи, так расположился в пространстве, что снежинки за воротник не проникали, и в щелочку меж опущенным козырьком шапки и шарфом видел, как в темноте покачивается широкая, круглая спина Анискина.
Качушин догнал участкового, когда начали проступать во мраке неподвижные силуэты людей, которые по-прежнему стояли и сидели на лавочке возле дома Степана Мурзина. Люди поворачивались к участковому и следователю, шевелились, и с их согбенных спин сваливались горбатые горушки снега. Жители деревни стояли и сидели в траурном карауле неподвижно, молчаливо; очень редко раздавался негромкий голос, вспыхивала спичка.
Качушин и участковый шли и шли: миновали клуб и школу, перебрались через сугробы переулка, увязая по колено в снегу, двинулись улицей, параллельной главной, и оказались в таком месте деревни, где не было ни одного светящегося окна, лежал цельный, нетронутый снег. Потом перед ними возник забор, залепленный ошмотьями снега. Неприступной бойницей высились ворота с двумя островерхими тумбами, проступали в темноте створки, окованные железом, могучая щеколда, опущенная на сварную поддержку.
— Собак у Митрия нет! — прокричал из мрака Анискин. — От жадности не держит.
Смутно видимый в темноте участковый, зазвенев металлом, открыл калитку, пропустил в нее Качушина и вошел сам. Он закрыл калитку, и сразу стало тихо, спокойно и светло, так как ни одна струйка ветра не проникала во двор пальцевского дома, а из трех окон на чисто подметенный двор лился яркий электрический свет.
Пальцевский двор походил на пчелиные соты. Виднелись бесчисленные сараюшки и чуланчики, стаечки и амбарчики, лари и навесы; с трех сторон двора на участкового и следователя глядели двери и замки. Двери были маленькие и большие, длинные и короткие, продольные и поперечные, двойные и одинарные. Двери были и такие, что поверх них лежал частый переплет железных решеток, имелись и такие, что два замка были прикреплены на створке — вверху и внизу.
— Вот какое дело! — вздохнув, сказал участковый. — Вот какой человек Митрий Пальцев! Весь народ обретается возле дома Степки Мурзина, а он дома.
Дмитрий Пальцев на самом деле был дома. В просторной, но низкой горнице с неоштукатуренными стенами и грязноватой печкой, на широкой лавке, опоясывающей почти всю горницу, сидел человек в майке и смятых брюках. В комнате было так жарко натоплено, что голые плечи Пальцева и лицо блестели, как отлакированные. В комнате густо пахло свежим хлебом и сухими травами, что пучками висели в углах.
Качушин никогда не видел такого человека, как Дмитрий Пальцев. И на самом деле, странный, необычный человек сидел на широкой лавке в жаркой и низкой горнице. Смотрели на участкового и следователя иконные глаза русской богородицы, стекала из них на грудь тонкая нежность и хворь, нежные подрагивали губы. Но чудо чудное начиналось ниже — немощную эту шею, ребячью эту голову подпирал могучий торс борца. Неохватные ширились плечи, сами по себе, неизвестно почему и неизвестно для чего вспыхивали и гасли на блестящем от пота теле мускулы; канцелярскими тумбами стояли на полу ноги.
— Здорово бывали! — громко сказал участковый. — Давненько я у тебя не был, Митрий!
— Давненько! — насмешливо ответил Пальцев. — Давненько!
Он сложил руки на груди, показал пальцем на два венских стула, расположенных возле стола, продолжая ярко улыбаться иконными глазами, забросил ноги на широкую лавку. Ему, видимо, так было удобнее сидеть, поглядывать на Анискина. Колени Дмитрий Пальцев обхватил руками, прижал к груди, чтобы не двигались. Секунду он молчал, потом неслышно захохотал.
— Хорошее дело кто-то произвел! — отчаянно весело сказал Пальцев. — Отняли вы тайгу у человека. Обишки его лишили, вот и зачали вас стрелять…
Задвигались потные мускулы на плечах Дмитрия Пальцева, ненависть, тугая, как ружейная пружина, обволакивала тело. Напряженный, каменный, сидел на лавке Дмитрий Пальцев, страстно прижимая колени к груди, такими глазами смотрел на участкового, что по спине Качушина прокатился озноб. На мгновение ему показалось, что Пальцев вот-вот вскочит, крикнув, с хриплым придыханием бросится на Анискина. Ощущение опасности было так сильно, что Качушин шагнул вперед, торопливо повернулся к Анискину и поразился: участковый превесело улыбался.
— Ты на это внимания не держи, Игорь Валентинович! — сказал он. — У меня с Митрием Пальцевым узелок еще в тридцатые годы завязался, так что ты не удивляйся на такие слова. Я ведь так считаю, что вот Митрий Пальцев — последний подкулачник в деревне…
Анискин склонил голову на плечо и вдруг посмотрел на Пальцева спокойными, задумчивыми глазами. Несколько секунд он не отрывал от Пальцева глаз, затем сказал:
— Давай-ка, Митрий, самогонный аппарат!
— Ой, да Федор Иваныч, ой, да что ты говоришь такое! — в то же мгновение напевным голосом ответил Пальцев. — Да как ты можешь придумать такое, что у меня самогонный аппарат, да как ты можешь говорить, что я власть обманываю, что отнимаю у нее, у Советской власти, монополью на водочку-то. Да как ты можешь такое говорить, да как тебе и в голову-то может прийти такое…
Напевая, Пальцев почти не делал пауз, слова лились с его красных губ, как струйка воды из дырявого ведра, взгляд затуманился, и синие глаза стали совсем такими, какими рисовали иконописцы глаза страдающего Христа. Библейское лицо было обиженным, молящим, а руки так и ходили на выпуклой груди. Он пел бы бесконечно, если бы участковый, вежливо, ласково улыбаясь, не перебил.
— Тут такое дело, Игорь Валентинович, — сказал он. — Вот если Митрий поет, это значит — во вранье ударился! Это значит — есть у него самогонный аппарат!
После этих слов участковый сделался быстрым и подвижным — на резвых ногах подбежал к русской печке, нагнулся к тому месту, где находилось отверстие для ухватов и кочерег, а сам косился левым глазом на Дмитрия Пальцева. Анискин, видимо, что-то заметил на лице и фигуре Пальцева, так как стремительно распрямился, придохнув, перебежал от печки к пузатому деревенскому буфету, но в метре от него опять остановился, косясь на Пальцева. Участковый что-то бормотал про себя, потешно надувал щеки и нервно подрагивал отставленной ногой. Толстый, сопящий, он откровенно походил на собаку, идущую по следу.
— Ах-ах! — внезапно радостно закудахтал Анискин. — Аппарат-то вот где!
Вольным, легким шагом участковый приблизился к шкафу, открыл нижнюю дверцу, вынул два пузатых мешка с мукой, а потом и медный змеевик самогонного аппарата. Аккуратно составив на место мешочки с мукой, Анискин поднес змеевик к носу, нюхнул его несколько раз и плотоядно покрутил головой.
— Нет, брат! — протяжно сказал он. — Митрий не дурак, чтобы после ноябрьских праздников самогонку варить! Нет, брат, он не дурак!
Участковый мелкой рысью подбежал снова к русской печке, раздвинул цветастую ситцевую занавеску над полатями и бережно снял оттуда пузатый бочонок с медным краном на боку.
— Бражка-то дешевле самогонки, — пробормотал участковый. — Она куда дешевше самогонки, если сахару положить поменьше, а бочку поставить на табачный лист…
Встав на цыпочки, Анискин пошарил рукой по припечке, сначала огорченно прицыкнул зубом, а потом очаровательно разулыбался: он держал в руке несколько сухих табачных листьев. Их он положил возле своих ног, подумав, приподнял пузатый бочонок и помотал им из стороны в сторону. Когда на дне бочонка что-то громыхнуло, участковый по-детски обрадовался.
— Так и есть! — сказал он. — Колобок!
Дом был сложен из таких толстых лиственничных бревен, что ни один звук с улицы не пробивался сквозь них и сквозь толстые двойные оконные рамы, выструганные из кедровых тесин. В горнице было так тихо, как только могло быть в доме, который стоит за высоким забором и располагается в двухстах метрах от самого ближнего дома. И в этой первобытной тишине набатом били потешные часы-ходики. На них был изображен милый усатый котенок, переводящий справа налево зеленые глаза — он то смотрел на журнальный портрет Валентины Терешковой, кнопками приколотый к стене, то на фотографию самого хозяина, стоящего на фоне гор в длинном пиджаке и с широким галстуком.
— Степка-то Мурзин тебя добрее был, Анискин! — шепотом сказал Пальцев. — Не его бы надо убивать-то…
Следователь Качушин затаенно передохнул, пошевелился и почувствовал, что ощущение времени пропало — от тишины, от усатого котенка, библейского лица Дмитрия Пальцева. Качушину с пугающей остротой показалось, что на земле нет ничего, кроме того, что лежит перед глазами. И словно из безвременья, из пустоты продолжал звучать голос участкового Анискина.
— Мне ордена и не надо, Митрий, — говорил он, — когда я тебя на плохом ловлю. Я вот тебя на самогонке поймал, я вот аппарат сничтожу, так у меня — праздник…
И точно так, как голос проявлялся из пустоты и безвременья, так проявлялся, выходил из затушеванности, из расплывчатости сам участковый Анискин — вот он укрупнился, вот опять занял грандиозной фигурой четверть комнаты. Уже реальный, живой, существующий во времени и пространстве, участковый пошел к дверям. Как всегда, он остановился возле них, тоскливо прицыкнув зубом, сказал:
— Вот и произвел я большой шум, но теперь знаю, что Пальцев не дрался со Степаном Мурзиным. Во-первых сказать, что он такой трус, что со Степшей схватиться не может, а во-вторых, он в ту ночь был пьян как последний сапожник! Колобок на спирту оттого и кладется в брагу, Игорь Валентинович, чтобы она с ног сбивала. И табак для того же. — Участковый засмеялся. — Когда брага дешевая, Митрий ее пьет много, так что в тайгу в ту ночь пойти не мог.
Вышедши на пальцевский двор, Анискин широко размахнулся, хрястнул змеевиком о толстые кедровые доски крыльца, хрястнул еще раз о железную щеточку для чистки ног и, когда от медной спирали остались обломки, наступил на них. Какой-то неистовый, сумасшедший танец проплясал на обломках змеевика Анискин, а затем издал хриплый самодовольный возглас:
— Так! Эдак!
Поскрипывали потихонечку тяжелые ворота, постанывали под ударами ветра плотные доски забора, над их острыми концами, уходящими высоко в небо, курились завивающиеся струйки снега. Участковый все еще приплясывал на обломках змеевика, когда в трех окнах дома одновременно погас свет — на дворе сделалось темно. Ну вот ни зги не было видно в шуршащем и подвывающем мраке, и следователь Качушин поднял руки — так делает слепой человек.
— Видишь, Игорь Валентинович, какая сволочь этот Митрий Пальцев, — раздался в темноте голос Анискина. — Это он ведь свет-то нарочно выключил! — Участковый хрипло засмеялся. — Вот такие дела, Игорь Валентинович! Тебе сейчас кажется, что хуже нашей деревни на свете нет. Так ты учти, что мы с тобой по самым плохим мужикам ходим. Вот этот Пальцев — настоящий подкулачник, а те двое — Бочинин и Колотовкин — тоже не сахар… Мы с тобой настоящего-то, трудового мужика не увидим.
7
Контора лесопункта не стояла на месте: два дня назад вагончик, в котором она размещалась, находился на краю опушки, а сегодня не было ни вагончика, ни опушки. Лесопункт технорука Степанова за два дня опустошил гектаров пять кедрача, прорубился через опушку и, выдвинувшись на горушку, с воем и громом наступал на деревню.
Над Васюганьем и Обью, над болотами и тайгой по-прежнему выла и бесчинствовала метель, гнулись и стонали громадные деревья, перемещались с места на место массы снега, но там, где работал лесопункт, метель смиренно притихала. Невидимые еще, взревывали моторами и хрустели ребрами кедров трелевочные трактора, выли пилы, яростно вопила электростанция, а в отдалении кузнечиками потрескивали моторчики бензиновых пил. Всем, чем мог, — электричеством и бензином, топорами и сучкорезками, тракторами и напряженными от усилия кранами — технорук Степанов вгрызался в тайгу.
И когда следователь Качушин и участковый Анискин, преодолевая ветер, вышли на опушку, взгляду открылось неожиданное. Среди марлевых полос и фонтанчиков завихряющегося снега, под низким, как крыша, небом, между раскачивающихся кедров, в свете нескольких сильных прожекторов переливалось разноцветное, радостное, веселое: красные, синие и зеленые вагончики, желтая электростанция, кремовые трелевочные трактора. Ярко, разнообразно были покрашены машины на лесопункте технорука Степанова, а когда следователь и участковый прошли еще метров сто, у них в зрачках полыхнул парадным огнем отблеск красного флага, что бушевал на высокой стреле голубого крана.
На пятачке развороченной, светлой и живой земли метели не было совсем — отступив под натиском машин, прожекторов и ярмарочного разноцветья, метель бесновалась со всех сторон пятачка, но ступить на его гудящую землю не осмеливалась. И здесь, на потеплевшей и смирной земле, в самом центре пятачка, заложив руки в карманы демисезонного пальто и дерзко выставив из-под меха шапки хрящеватый нос, стоял технорук лесопункта Евгений Тарасович Степанов. На него с четырех сторон били прожектора, справа и слева на технорука налезали трактора, а над головой разминал длинную руку голубой кран с красным флагом. Безучастный, как бы замерший, стоял технорук Степанов, но все, что видел глаз, сходилось на его широкоплечей, дерзкой фигуре: и торопливый бег тракторов, и прожекторные лучи, и направленный гром машин, и взгляды Качушина и Анискина.
— Здравствуйте! — сухо ответил на приветствие технорук Степанов. — Прошу следовать за мной в канцелярию.
Дверь красной вагонки вела в двадцатый век: уже в тамбуре узкоколейного вагончика пахло линолеумом и грушевой эссенцией, мягко светил под потолком матовый плафон, под ногами пружинил темный коврик; потом дверь распахнула фантастические цветы, выдавленные на зеленом линкрусте, цепочку плафонов под потолком и черный транзисторный радиоприемник с напряженным усиком антенны на затылке. Из переплетенной стенки транзистора просачивалась тихая музыка, блестело полированное дерево, цепочка плафонов уходила в длинную уютность, а посередь этого рая, этой современной пустоты валялись большие черные валенки.
— Прошу! — по-вежливому сухо и легко сказал Степанов. — Вот вешалка.
Технорук и следователь разделись, причесываясь, уже шли к столу, а участковый Анискин все еще стоял возле вешалки с полушубком в руках. Он исподлобья смотрел на висевшие пальто Качушина и технорука Степанова, переводил взгляд с одного на другое, и на лице у него было такое выражение, словно перед ним были не обыкновенные пальто, а нечто большее. «Вот она, какая история!» — думал Анискин.
Только сейчас, в вагонке, участковый наконец понял, кого ему напоминал следователь Качушин. Весь этот длинный и трудный день Анискин ловил себя на том, что ему казались знакомыми жесты и движения Качушина, чудились слышанными нотки в голосе, улавливалось виденное уже в фигуре и лице следователя. И только теперь, под матовым светом плафонов, глядя на два одинаковых демисезонных пальто, участковый понял, что Качушин похож на технорука Степанова. «Батюшки! — думал Анискин. — Они же вроде братьев!»
Повесив, наконец, полушубок, участковый повернулся к столу. Так и есть — технорук и следователь походили друг на друга. Одинаково забросив ногу на ногу, они сидели за низким столиком и одинаковыми глазами смотрели друг на друга. Они походили фигурами и лицами, спортивным разворотом плеч, длинными обтянутыми ногами и глазами, которые казались старше лица. Участковый еще утром заметил, что лицо Качушина моложе его глаз.
— Присаживайтесь, товарищ участковый! — пригласил Степанов.
Вагонка подрагивала — от земли, взбудораженной тракторами, от ветра, от глухих ударов бревен. Подрагивала пробка в хрустальном графине, поматывалась антенна на транзисторном приемнике, мелкой дрожью исходил цветастый линкруст, и от всего этого казалось, что вагонка медленно или, наоборот, быстро мчится сквозь ветер, снег и тайгу. Ощущение движения было настолько реально, что чудилось, как за непроглядными окнами бегут телеграфные столбы да с уханьем проносятся мостки — это погрузочный кран бросил на штабель мерзлое дерево.
— Задавайте вопросы! — сказал Степанов. — О происшествии знаю, переходите сразу к делу…
После этих слов технорук откинулся на подушки дивана, развалившись по-барски, выхватил из кармана пачку сигарет, зубами вытащил одну, громко щелкнув зажигалкой, прикурил. Затем пачка взлетела, описала дугу и повисла над носом у следователя. Коротко кивнув головой, Качушин взял сигарету, прикурил от непогасшей зажигалки, и с сигаретами в зубах технорук и следователь сделались такими похожими, что участковому стало весело. «Ах, леший вас побери!» — подумал он, тайно смеясь.
Потом Анискин коротко сопнул носом и перестал посмеиваться над похожестью технорука и следователя. Напряженный и тоскливый, участковый теперь следил только за тем, как Качушин и Степанов протягивали друг между другом тонкую, но прочную нить понимания. Двумя-тремя словами обменялись они, но одинаковые колечки дыма плыли над сигаретами, одинаковое выражение стремительности затаилось в губах.
— Что вас привело на лесопункт? — насмешливо и небрежно спросил технорук. — Я буду отвечать на вопросы только в том случае, если найду достаточными основания.
— Рислинг! — тоже насмешливо и небрежно ответил Качушин. — Никто из деревенских жителей не покупал в магазине рислинг.
Они вежливо поулыбались друг другу, затем технорук Степанов, прозванный деревенскими жителями «американцем», бросил в пепельницу недокуренную сигарету, сделал хлебосольный жест руками: «Ну, что же — у вас есть все основания!» На ногах Степанова были узкие вельветовые штаны, на плечах болталась куртка из теплого мягкого материала, а на синтетической рубашке лежал плотный, немнущийся галстук. Небрежно и, казалось, случайно одетый, технорук все-таки казался одетым дорого и красиво: так лежали вельветовые брюки, такими ловкими складками морщинилась куртка и так ловко обнимал шею тугой белоснежный воротник. Он был красив, технорук.
— Прошу рабочих от дела без моего согласия не отрывать! — сказал он. — Прошу сноситься с ними только через моего помощника Титаренко. Он сейчас будет здесь.
Посмеиваясь глазами, Степанов стремительно, широко, энергично подошел к вешалке, надев пальто и шапку, вдруг галантно склонил голову и проговорил еще более насмешливым голосом:
— Товарищ участковый, позвольте вам сказать несколько слов наедине…
Нисколько не удивившись, участковый неторопливо подошел к техноруку, тоже насмешливо улыбнулся одними глазами и тоже галантно склонил седую крупную голову. Затем Анискин выбрался в тамбур вагонки, дождавшись технорука, отодвинулся в угол, чтобы своей чрезвычайной полнотой и двухметровым ростом не занимать все пространство. А когда Степанов плотно прикрыл за собой дверь, участковый посмотрел длинно в его близкое лицо. Он увидел обветренную молодую кожу, дерзкие блестящие глаза, нежные волосы над верхней губой и почувствовал приятный запах сладких сигарет, одеколона и свежести. «Эх, жизнь, жизнь! — подумал участковый. — Вот она куда заворачивает!»
— Не смотрите на меня милицейскими глазами! — тихо, но насмешливо сказал технорук. — Я не гоню самогонку!
Да, технорук Степанов не гнал самогонку и не дрался с Мурзиным, не воровал в кузнице стальные листы и не стрелял в молодых лосей, но участковый Анискин смотрел на него такими задумчивыми глазами, такими, какими смотрел бы на человека, который всего час назад ограбил почтальона. Что-то невидимое, но ощутимое и тугое лилось из задумчивых глаз участкового, обволакивало Степанова, сковывало его движения и мешало думать. Наверное, поэтому технорук почувствовал сухость во рту, поперхнулся, но вслед за этим громко расхохотался.
— Ну, брат! — воскликнул технорук. — Феерия!
Однако смех не помог; участковый продолжал задумчиво глядеть на него, и технорук неожиданно для себя громко сказал:
— Вы домостроевец, участковый! Вы вовсе не добрый и не умный человек, как пытаются внушить мне многие.
Мимо дверей тамбура с воем проносились простынные полосы снега, ударившись о стены вагонки, завивались смерчем, притихнув, ложились горками сухих снежинок на ступеньки. Горки снега росли на глазах, и участковый почувствовал, как к валенкам подбирается плотное, холодное. Он переступил с ноги на ногу и удивленно приподнял брови, так как Степанов вдруг несвойственным ему мягким и плавным движением прижал правую руку к своей замшевой груди. Большие зрачки технорука сузились, непривычное выражение задумчивости и нежности легло на такие же квадратные губы, как у следователя Качушина.
— Эх вы, бурбон, бурбон! — с упреком сказал Степанов. — Где вам понять, толстокожему, какой человек Зина! — Он засмеялся незнакомо. — Смотрите, участковый, не погубите ее! Она не в вас: добра, умна и чутка.
Переломленно взмахнув рукой, технорук выпрыгнул из вагонки. Ветер с размаху ухватил его за полы пальто, выбросил из-под воротника шарф и защелкал им в темноте, наполненной снегом, гулом машин, колючим холодом. Через снег и колдобины, через пни и ямы технорук Степанов, спереди освещенный прожекторами, уходил в тайгу. Сперва он двигался медленно, борясь с пальто и шарфом, потом, усмирив их, пошел крупным, привычным шагом — вот он уже вложил руки в карманы, вот поднял голову навстречу метели, вот к нему уж потянулись прожектора и машины. А затем технорук остановился в центре эстакады, серебряный от света, занял свое прежнее место — высокий, широкоплечий, крепкий.
Вернувшись в вагонку, участковый неслышно сел на прежнее место, положив руки на подбородок, стал следить за тем, как следователь Качушин медленно вращал ручку настройки транзистора. В динамике попискивало, и верещали, звучали нерусские голоса, бубнила настойчивая морзянка; потом прорезался ясный русский голос, сказал вежливо: «Начинаем наши передачи…» Поблескивала в вагонке мебель, сладкое тепло источали серебряные батареи водяного отопления, а в добавление ко всему на столе лежала яркая книжка с иностранными буквами и иностранным же трактором на обложке.
— Игорь Валентинович, — сказал участковый. — Теперь от меня помощи как от козла молока! Еще вот с Титаренко, который сейчас прибежит, я могу словечком перекинуться, а вот как вы за Саранцева возьметесь, то тут уж я — до свидания!
Участковый задумался, опустив голову. Он не видел, как Качушин изумленно похлопал ресницами, как шутливо скривил нижнюю губу и перестал крутить транзистор.
— Какой Саранцев? — протяжно спросил Качушин.
— Да есть тут один! — неохотно ответил Анискин. — Он мало того, что недавно купил у продавщицы Дуськи «ижевку» двенадцатого калибра да пьет рислинг, а еще в ту ночь, когда Степшина смерть пришла, дома не ночевал. Вот это Саранцев и есть. Тот самый, что с Мурзиным на прошлой неделе в клубе чуть не до драки поругался и даже пригрозил Степше. «Эх, — говорит, — попался бы ты мне в тайге…»
Когда участковый закончил, сразу раздались два звука: опустошенно щелкнул выключатель транзистора и Качушин пораженно присвистнул. Затем он быстро вскочил, схватил с дивана свой крохотный чемоданчик и открыл его. Порывшись, Качушин вынул какую-то бумагу, заглянул в нее и еще раз свистнул. Потом Качушин мгновенно успокоился, закрыл чемодан и сказал спокойно:
— Почему вы об этом факте раньше не говорили, Федор Иванович? Разве вам не известно, что угроза…
— Известно, — неторопливо перебил его участковый и усмехнулся. — Это мне распрекрасно известно, Игорь Валентинович, но тут так получается, что я тебе об этом сразу сказать не мог…
— Почему?
Анискин положил руку на блестящий верх транзистора. Он пощупал пальцами гладкую маковку антенны, провел по белым рычажкам и, наконец, похлопал транзистор шершавой ладонью.
— А вдруг не леспромхозовские дрались со Степаном! — приглушенно сказал он. — А вдруг кто деревенский на него напоролся…
Лицо участкового застыло в непроницаемости и той самой загадочности, которая не давала покоя Качушину весь этот день. В четвертый раз на лице Анискина появилось точно такое выражение замкнутости и дремучей обособленности, какое Качушин видел на лицах Бочинина и Колотовкина.
«Что здесь произошло? — тревожно думал Качушин. — Что защищает Анискин? Что он скрывает?» Ему порой не верилось, что возможно такое, когда следователь районного отдела милиции с утра до вечера исподволь, осторожно и незаметно допрашивает участкового уполномоченного и следит за ним настороженными глазами…
— Титаренко скребется, — сказал Анискин, прислушиваясь. — Он все расскажет, Игорь Валентинович! Это такой мужик, что его уговаривать не надо…
8
Помощник технорука Михаил Васильевич Титаренко еще только входил в вагонку, а следователь Качушин уже улыбался про себя тому, что во внешности Титаренко забавно переплеталось деревенское и городское. На ногах Титаренко, в подражание техноруку, были теплые дорогие ботинки, но над ними висели широкие брюки из полусукна; плечи Титаренко обтягивала точно такая же куртка, как у Степанова, но галстука, как и рубахи, не было, и шею обнимал хлопчатобумажный свитер синего цвета. И если из кармана степановской куртки торчала автоматическая ручка, то из кармана Титаренко высовывался плоский плотницкий карандаш. И точно так же, как и во внешности, старое и новое насмерть боролись во внутреннем облике Титаренко. Он привычно и ловко шел по мягкой темной дорожке, но к стулу, на который кивком головы указал следователь, помощник приблизился робковато. Садясь, Титаренко шапку снял, а вот колени по причине низкого стула у него разъехались, да и шапку он не знал куда положить. Потому Титаренко смущенно улыбнулся шапке и своим ногам, вслед за тем Качушину и участковому, а уж после этого положил шапку на пол.
— Ну вот, устроился! — сказал Титаренко. — Раздеваться я уж не стану, так как Евгений Тарасович сказали, что я долго у вас не пробуду…
Приготовившись слушать, Титаренко склонил голову набок, опять улыбнулся, и от этой улыбки следователь мгновенно раскрыл секрет титаренковского бригадирства — старательность. Что бы ни делал помощник технорука — шел, сидел, говорил, помигивал светлыми ресницами и дышал, — все это он делал старательно. Титаренко выговаривал каждую букву каждого слова, добросовестно жестикулировал там, где было положено, сидел на стуле каждой частичкой той части тела, которой полагалось сидеть. Дышал он тоже старательно, как мог. Глядя на следователя преданными глазами, Титаренко за две-три минуты рассказал о том, что на лесопункте есть два ружья ИЖ-12, что в ночь смерти Степана Мурзина он, помощник технорука, работал во вторую смену и по этой причине точно знает, кто ночевал в вагонках, а кто нет. Не прерываясь и не дожидаясь вопросов Качушина, помощник технорука сообщил, что бывших заключенных на пункте шестеро, но, конечно, нужно разобраться, что и как. Сделав крошечную паузу, Титаренко старательно мигнул рыжими ресницами, поджал губы и осторожно сказал:
— Технорук Евгений Тарасович учат нас с каждым человеком разбираться в отдельности. Исходя из этого, товарищ следователь, идя на встречу с вами, я продумал ряд вопросов.
Титаренко сделал еще одну паузу, мысляще собрал на лбу морщины, поглядев направо и налево, опасливо приложил ладонь к губам.
— Саранцев не ночевал дома! — шепотом сказал Титаренко. — Но этим вопрос не исчерпывается. Технорук Евгений Тарасович требуют, чтобы рабочие сообщали, когда ночью уходят в деревню, а Саранцев сообщения не сделал. Благодаря этому мне пришлось с ним отдельно разобраться…
Помощник технорука приставил к губам вторую ладонь, испуганно оглянулся и еле слышно сказал:
— Саранцев отсутствовал вместе с ружьем!
Вагонка плыла бог знает куда… Постукивали на несуществующих стыках несуществующие колеса, мимо окон проносился густой снежный воздух, ветер раскачивал стены и трепетал под полом; мелькали огни светофоров и блокпостов — это трактора зажгли фары, — гремел мощный двигатель тепловоза, погуживала сирена — это кран предупреждал о повороте стрелы. Да, вагонка двигалась, и приходило такое ощущение, что вот широко откроется дверь, войдет с покачивающимся фонарем проводник и скажет: «На следующей станции не останавливаемся!»
— Разбираясь с Саранцевым в отдельности, — шепотом продолжал Титаренко, — я также установил, что он находился в состоянии среднего опьянения… Хотя технорук Евгений Тарасович не обращают внимания на выпивку рабочих в свободное время, я установил, что Саранцев вечером распивал в вагонке рислинг…
Журчал старательный бас словоохотливого Титаренко, мелькали в окнах огни тракторов, покачивался и вздрагивал пол; мягко горели под потолком матовые плафоны, и участковый чувствовал, как его уносит в дальность и круговерть. Одним ухом Анискин слушал рассказ добровольного сыщика Титаренко, а вторым слышал слова технорука: «Не погубите дочь!» Старательный таинственный Титаренко шептал о том, что Саранцев распивал в вагонке рислинг, а участковый слышал: «Где вам понять, толстокожему, какой человек Зина!» Сжимая губы обеими ладонями, помощник технорука уважительно шептал о том, что Евгений Тарасович сердятся, когда он, Титаренко, пристает к рабочим с расспросами по личным делам, а участковый видел грустное лицо дочери, ловил ее низкий голос: «Спасибо, папа, нет, мне хорошо, папа, ты зря беспокоишься, папа!» Родной, до слез близкий, похожий на тебя самого человек!
Тоскующий, ощущая холод и пустоту под сердцем, Анискин хотел, но не мог заставить себя слушать Титаренко. Он только видел его бледный, унылый нос, старательные глаза да раздражался оттого, что помощник технорука все чаще и чаще подносил ладони к губам, все чаще и чаще в его зрачках отражалось перевернутое лицо Качушина — это он преданно наклонялся к следователю. И все журчал его вкрадчивый бас, и все покачивался на голове смешной хохолок рыжих волос, и все слышалось: «Евгений Тарасович не велели, Евгений Тарасович позволили, Евгений Тарасович не любят…» Анискин чуточку вздрогнул, когда вокруг него произошло какое-то движение, свет полыхнул и померк. Участковый непонимающе прищурился, а потом сообразил, что Титаренко уже кончил рассказывать и поднимается, а Качушин вежливо говорит:
— До свидания, до свидания, товарищ Титаренко!
Осторожно подняв шапку с пола, помощник технорука попятился, улыбаясь часто, преданно и старательно, несколько раз прошептал: «До свиданья, товарищ следователь», — затем надел шапку и — спиной — вышел из вагонки. Дверь отворилась на секунду, но помещение наполнилось свистом и грохотом, проник резкий свет прожектора, прокатилась по полу синяя волна холода. Ураган, настоящий ураган бушевал над затаившимся в ночи Васюганьем.
— Почему поссорились Мурзин и Саранцев? — закрывая яркий блокнот, спросил Качушин. — Вам это известно, Федор Иванович?
— Очень даже известно, — задумчиво ответил Анискин. — Еще перед праздниками они схватились у попа Стриганова… — Участковый подумал, сам себе согласно кивнул головой и продолжил: — А в клубе они уже доругивались…
Анискин по-прежнему сидел скорчившись, опустив голову, широко и неловко расставив толстые ноги. Ему был неудобен низкий стул из тех, что стали делать в последние годы и на которых надо было сидеть боком, вытянув ноги. Участковый так сидеть не умел, и его колени неловко торчали, как несколько минут назад они торчали у бригадира Титаренко. И вообще со своей слоновьей полнотой, с большими руками и ногами, с крупной головой и по-домашнему распущенной рубахой Анискин казался лишним в вагонке. Он не входил, не вписывался в крохотную уютность помещения, не вмещался в яркий блеск лака, в матовый свет плафонов, участковому тесно было в вагонке, и потому все его движения казались оборванными, неоконченными. И казалось, точно такими же были растрепанные, обрывочные мысли участкового.
— Так что в клубе они уже доругивались, — повторил он, глухо кашляя. — Саранцев, опять же, был выпивши…
Участковый, снова не доведя мысль до конца, замолчал. Ожидая продолжения, Качушин напряженно смотрел на него, покачивая ногой и вспоминая, как начальник райотдела милиции говорил: «Анискину доверяйте: он бог в нашем деле!» И вот теперь следователь настороженно следил за участковым, посмеиваясь про себя, думал: «Он действительно похож на китайского загадочного бога!»
— Так что в клубе они поссорились во второй раз, — сказал Анискин, упрямо застрявший на одной и той же мысли. — А вот чего они ссорились, Игорь Валентинович, это сразу не расскажешь. Ты это потом поймешь, когда с попом Стригановым встретишься…
— Второй раз слышу о попе! — невесело хмыкнув, отозвался Качушин. — Поистине загадочный поп!
Анискин сразу не ответил — он разогнулся, застегнул на рубахе две верхние пуговицы, строго нахмурив брови, исподлобья посмотрел на Качушина.
— Нет! — резко сказал он. — Это не загадочный поп! Ты на эти мои слова, Игорь Валентинович, пока равнение не держи, веди себе следствие спокойно, но когда ты на меня подозрительными глазами смотришь и понять не можешь, что такое во мне происходит, так ты знай: я с попом Стригановым про себя разговариваю…
Участковый окончательно распрямился, задрал обе брови на выпуклый лоб и одно за одним проделал все то, что отличало его от других людей: Анискин прицыкнул зубом, по-рачьи выкатил глаза и положил тяжелые руки на выпуклое пузо. От этого он стал окончательно походить на загадочного восточного бога.
— Поп Стриганов сейчас тоже неспокойный! — властно сказал участковый. — Он сейчас обо мне думает.
9
Разнорабочий Саранцев в вагонку вошел быстро и весело. Попав в матовый свет плафонов, в тепло и блеск дерева, он в дверях ни на секунду не замешкался, на ходу снимая шапку и брезентовые рукавицы, пошел прямо к тому стулу, который для него поставил следователь. Шапку и рукавицы Саранцев положил на стол, боком сел на низкий стул и сам расположил лицо так, чтобы на него падал луч настольной лампы. Устроившись таким образом, Саранцев согнал с губ улыбку, покойно вытянул руки на коленях и насмешливо сказал:
— Долго же я ждал! Думал, что вызовете вчера…
Настольная лампа освещала сильное, значительное лицо: крутой и широкий подбородок, впалые линии щек, тупо обрезанный нос и большие, чувственные, африканские губы с ярко-красной кожей, словно они были напомажены. Кроме этого, у Саранцева был узкий интеллигентный лоб, умнейшие глаза, а в раскрытом вороте синего рабочего комбинезона, на крепкой шее с молодой кожей лежала массивная, видимо золотая, цепочка, которая кончалась неизвестно чем — может быть, крестом, а может быть, медальоном с фотографией женщины. И еще одно необычное для лесозаготовителя имел Саранцев — очки в красивой, современной оправе.
— Я готов отвечать! — сказал он. — Дождался!
И тут произошло странное — следователь сделался точно таким, как Саранцев. На Качушине не было синего комбинезона и громоздких валенок, не прилегали к черепу спутанные, мокрые от пота волосы, но участковый увидел, как следователь стал Саранцевым. Качушин насмешливо улыбнулся, задрал на лоб бровь, склонил голову так же набок, как и лесозаготовитель. Потом он сделался таким же быстрым и энергичным.
— Итак? — громко сказал Качушин. — Вы и есть Юрий Михайлович Саранцев! Вы двадцать пятого года рождения, образование незаконченное высшее, женаты, социальное положение — теперь рабочий. Вы пять лет работали на инструментальном заводе в Томске, год — на электромеханическом. К суду и следствию привлекались. Я хорошо все запомнил, Юрий Михайлович?
— Да! — ответил Саранцев. — Прекрасно!
— Последнее! — смеясь, сказал Качушин. — Явно нарушаю социалистическую законность, так как никаких оснований для беседы с вами не имею, Юрий Михайлович! Прошу нижайше простить меня! Вас устраивает по форме извинение?
— Вполне! — ответил Саранцев. — Можете и протокол писать.
— Без протокола, без протокола, Юрий Михайлович! — шутливо грозя пальцем, захохотал Качушин. — Хитрец! Я составлю протокол, а вы потом — хап! Ой, хитрец! Я ведь знаю, что вы сейчас думаете. — Качушин гибко поднялся, прошелся стремительно на длинных ногах по бесшумному ковру и потер руку об руку. — Вы сейчас думаете о том, что нарушен принцип презумпции невиновности. На эту мысль вас навел тот факт, что я еще в районе познакомился с вашим досье?
— Совершенно правильно! — согласился Саранцев. — Я еще за дверью собирался накричать на вас. Теперь я кричать не буду! — Он немного повысил голос. — Я ведь все-таки купил это проклятое ружье, и я все-таки не ночевал в вагонке в ту ночь…
Участковый Анискин удивленно хмыкнул и вертел головой, когда слова и фразы словно перепархивали с губ Саранцева на губы Качушина. Анискин и разглядеть-то хорошо не успел лесозаготовителя за то время, как он сел под свет настольной лампы, а уж следователь и Саранцев ушли так далеко вперед, что только огрызочки мыслей оставались на долю Анискина. Продолжая удивляться и хмыкать, участковый еще несколько раз быстро перевел глаза с лесозаготовителя на следователя, а остановился тогда, когда произошло еще более удивительное: Саранцев по-настоящему весело и облегченно засмеялся.
— Ну, брат! — сказал он. — Ни одного козыря в руках!
Только теперь можно было понять, что все прежнее в Саранцеве было игрой: и улыбался он через силу, и шел бодро потому, что ему надо было так идти, и садился на стул небрежными движениями потому, что все остальные движения не годились. Сейчас же Саранцев улыбался хорошей, всамделишной улыбкой, и у него было славное, чуточку усталое, но доброе лицо. Потом он так огляделся, что Анискин понял: Саранцеву хорошо и привычно сидеть в теплой уютной вагонке, пощуриваться от яркого света и держать вытянутыми длинные ноги.
— Так начинайте! — попросил его Качушин. — Этак не торопясь, по порядочку…
Саранцев только чуточку стал серьезнее, только немного пригасил славную улыбку, когда заговорил хрипловатым и приятным голосом. Слегка помогая себе рукой, необременительно для слушателей подбирая слова, он рассказал о том, что с семи часов вечера до половины третьего ночи он был в гостях у попа-расстриги. Этот факт, сказал Саранцев, могут подтвердить жители деревни Привалов и Филиппов, тоже гостевавшие у попа и ушедшие домой позже Саранцева. Затем, немного подумав, лесозаготовитель затрудненно сказал:
— Я вернулся в вагонку примерно в два пятнадцать, но этого никто засвидетельствовать не может: все спали. На лесосеке кончила работу вторая смена, но мне кажется… — Саранцев неловко развел руками, — мне кажется, что и сам Титаренко не заметил моего возвращения. Он считает, что я вернулся только утром.
Саранцев сдержанно вздохнул и замолк. Он тоже прислушался к тому, как метель бушует за вагонкой, почувствовал дрожь пола и, наверное, тоже ощутил иллюзию движения, так как лицо лесозаготовителя сделалось задумчивым, точно он смотрел в окно движущегося вагона.
— Вернувшись, я не смог уснуть, — тихо сказал Саранцев. — Меня возбуждают разговоры с попом. Видимо, в четвертом часу я встал, оделся и вышел из вагонки. До самого завтрака, то есть до семи часов, я бродил по тайге. Мне есть о чем подумать, оставшись наедине с самим собой.
Он неожиданно замолчал. Теплый воздух от батареи отопления поднимался с полу, ощутимо струился по коже лица, и было видно, как он осторожно пошевеливает подсыхающие тонкие волосы Саранцева.
— А ружье… — приглушенно продолжал он. — Оно было со мной. Вероятно, потому, что ночь, тайга, луна… И этот поп Стриганов!
Саранцев задумался, склонив голову. Уши у него были круглые и розовые, оттопыренные, как у подростка. Человек с такими ушами, думал Качушин, к сорока годам толстеет, заводит пятерых детей, после ужина с газетой в руках садится в кресло и дремлет, роняя газету. И вот поди ж ты… Качушин прошелся по вагонке, остановился.
— Серия вопросов! — улыбнувшись, сказал следователь. — Постарайтесь отвечать быстро…
Он сел так, чтобы видеть лицо Саранцева освещенным: загнув бровь, вдруг стал смотреть на лесозаготовителя странными глазами — в них, как у козы, вертикально стояли зрачки. Выражение лица у Качушина сделалось энергичным, быстрым.
— Гильзы выбрасываете? — стремительно спросил он.
— Да!
— Носите патроны в патронташе?
— Да!
Качушин торопливо передохнул, и после этого вопросы посыпались с молниеносной быстротой:
— Когда стреляли в последний раз?
— Три дня назад, утром.
— Ружье чищено?
— Да.
— Рислинг покупали?
— Да.
— Когда выпили последнюю бутылку? И где?
— У попа Стриганова. В тот вечер…
— Как были одеты в ночь происшествия?
— Пальто, сапоги, вот эта шапка…
— Обстановка на три часа ночи? Погода, освещение, звуки…
— Тихо, луна, лаяли собаки, собирался идти снег…
— Кого встретили на улице деревни?
— Никого.
— За что угрожали охотинспектору Мурзину? И когда?
И сразу оборвался стремительный поток слов, точно бы, взорвавшись, разлетелась на куски та прочная связь, которая была меж Юрием Саранцевым и Качушиным. Лесозаготовитель слегка побледнел, подавшись назад, замер в неловкой позе, а Качушин глядел на него внезапно вспыхнувшими, блестящими, как драгоценные камни, глазами. Зрачки, расширившись, перестали быть вертикальными. Минуту, наверное, длилась тугая, смятая и беспокойная пауза, потом послышался зябкий голос Саранцева.
— Всю жизнь я буду бледнеть при виде милиционера! — сказал он. — Живи я даже в Москве, убийство на другом конце города пройдется по мне, как нож по маслу… И некуда уйти, некуда скрыться…
Летел, покачиваясь, в пространстве ярко освещенный вагон; стучали несуществующие колеса на несуществующих стыках. Плохо, очень плохо было теперь в теплой и уютной вагонке Юрию Михайловичу Саранцеву! И уже лежала меж ним и следователем резкая, холодная грань отчужденности, словно меж теми двумя пассажирами, один из которых весело глядит на обещающе сужающиеся рельсы, а второй — на красный фонарь последнего вагона, бросающего отблеск на недремлющую фигуру кондуктора.
— Продолжайте! — попросил Качушин. — Я слушаю!
— Мне трудно! — по-прежнему зябко ответил Саранцев. — Надо вернуться к моему досье, чтобы понять, почему я хожу к попу Стриганову!
— Так и вернитесь!
Саранцев менял позу. Он подтянул ноги и поставил их ровно, колено к колену; голову выпрямил, а губы поджал, словно старался убрать все лишнее, мешающее, торчащее… Через несколько секунд он перед Качушиным сидел так, как полагается сидеть подследственному: прямо, настороженно и неподвижно.
— Меня арестовали за покушение на убийство одного подлеца. Это было на третьем курсе университета, — ясно сказал Саранцев. — Мне шел двадцать первый год, но я считался знатоком религии. Профессор Гриневич предполагал, что я займусь Египтом и Иерусалимом… Ими я, как сами понимаете, не занялся, но после тюрьмы меня повлекло к иррациональному. Понимаете?
— Да!
— Стриганов — любопытный человек. Его теория стара, как луна, но в полуневежественных устах попа она выглядит соблазнительной. Немного мальтузианства, добавка раннего христианства — и вот вам поп Стриганов, деревенский философ! В крайне опрощенном виде его доморощенная философия выглядит так: природа — бог, и нет бога выше, чем природа. Но Стриганов — просто сильная личность, и его интересно слушать.
Участковому Анискину казалось странным, что на Саранцеве синий хлопчатобумажный комбинезон, разношенные валенки, дешевая рубаха, что на лице ломтями лежит снежный ожог. Наверное, поэтому иностранные слова в устах Саранцева звучали непривычно, а через снежные ожоги с трудом пробивалось то выражение, с которым человек мог говорить такие слова. Вот и казалось, что Саранцев повторяет чужое, что на каждом иностранном слове он спотыкается. «Эх, жизнь, жизнь! — думал участковый. — Вот она что выделывает, жизнь-то!»
— Как же вы мне прикажете понимать сей сон? — внезапно живо спросил Качушин. — Вы угрожали Мурзину, поддавшись влиянию попа, или сами считаете противоестественной охрану природы?
— Много проще! — печально ответил Саранцев. — Когда я купил ружье, охотинспектор Мурзин пожаловал ко мне: «Ты почему не поставил ружье на учет?» Понимаете, когда является официальное лицо с начальственной складкой у губ и разговаривает на «ты»…
Саранцев замолк, удивившись вдруг наступившей тишине и тому, что плафоны и настольная лампа ярко вспыхнули. Оборвался рев и гул машин; вагонка как бы с размаху остановилась среди ветра, скрипа деревьев, ухающих смерчей — на глухом полустанке остановился вагон.
— Пересмена! — сказал Саранцев, загораживая лицо ладонью от яркого света настольной лампы. Потом он медленно продолжил: — В клубе я был пьян. После тюрьмы меня тянет не только к иррациональному. Напившись, делаюсь сентиментальным и напыщенным, как уголовник.
Вагонка стояла на месте. Лежал в окнах остановившийся желто-вафельный свет прожектора, пробегали человеческие тени — плечи, голова. Это шли мимо вагонки рабочие.
— Ну! — сказал Саранцев. — Доставайте заранее напечатанный типографским способом текст…
— Не буду! — подумав, ответил Качушин. — Не нужна мне ваша подписка о невыезде!
Их глаза встретились: следователь глядел на Саранцева весело и просто, а лесозаготовитель болезненно поморщился и стиснул зубы. Черты его лица заострились, и участковый почувствовал, как Саранцев весь напрягся под синим комбинезоном. Прошла еще секунда, а подследственный изменился до неузнаваемости — он весь перекосился от ненависти и отвращения.
— Ваше великодушие не стоит ломаного гроша! — вздрогнувшим голосом сказал Саранцев. — На дворе такая метель, что живое существо из деревни выбраться не может. Вы сами беспокоитесь, что из района не пробьется трактор и вы не получите данных экспертизы.
Ненависть Преступления к Закону, подследственного к следователю; ненависть человека, лицо которого освещено резким светом, к человеку, сидящему сейчас в тени, острыми зубчиками прозвучала в голосе Саранцева, сорвалась с губ нервным храпом и мгновенно отразилась на лице Качушина. Следователь медленно поднес к губам сигарету, крепко затянулся сладким дымом и холодно спросил:
— Кто вам сказал, что я жду данные экспертизы?
— Несчастье! — зло ответил Саранцев. — С той самой минуты, как стало известно о смерти Мурзина, я ищу алиби. Его нет, и я со страхом думаю о бутылке из-под рислинга, на которой могут оказаться отпечатки моих пальцев…
Ожидая удивленного вопроса, Саранцев сделал нервное, резкое движение, но Качушин спокойно выпустил дым из сложенных сердечком губ, подумав, небрежно сказал:
— Да, это возможный вариант! — Он покосился на участкового. — При опросе продавщицы сельпо Прониной мы установили, что вы купили три бутылки рислинга. Никто из жителей деревни рислинг не покупал. Естественно, что на каждой из бутылок есть отпечатки ваших пальцев… Моя задача — понять, как одна из бутылок оказалась на месте преступления.
Качушин встал, походил по кабинету, опять присел на кончик стола. Он был сосредоточенный, деловой, спокойный; следователь размышлял, сопоставлял, исследовал, и ему уже было не до того, чтобы разыгрывать простоту или производить впечатление своим загадочным молчанием. Он работал, и от этого был прост, понятен.
— Существуют два варианта, — продолжал Качушин. — Или вы на самом деле убили Мурзина, или случайно оказались на месте преступления. Пока факты против вас, хотя у меня еще нет данных экспертизы… — Следователь повернул лицо к Анискину. — Есть факты и обратного порядка. Федор Иванович нашел на месте преступления колечко от ножа, принадлежащего кому-то из охотников. — Он вдруг улыбнулся. — Одним словом, бутылка рислинга против колечка от ножа… Я не думаю, что вы могли оставить на месте преступления и бутылку и колечко, хотя и это возможно… Двадцатый век на дворе, Юрий Михайлович!
Следователь опять встал, походил по комнате, потом спокойно закончил:
— До свидания!.. До свидания! — повторил он, так как лесозаготовитель не двигался. — До завтра, товарищ Саранцев!
Качушин сделал ударение на слове «товарищ», голос у него был вежливый и дружеский, и Саранцев пошел к дверям. Следователь и участковый смотрели ему в спину, но лесозаготовитель не сутулился, не поводил плечами, не замедлял шаги. Саранцев шел так спокойно и так независимо держал спину, как мог уходить от следователя только тот человек, который это делал не в первый раз. Дверь за ним закрылась, на секунду стало тихо, потом стены вагонки качнулись, перекосились, словно ее переворачивали; бешеный воздух давил на вагонку со злобой и отчаянностью, стекла жалобно ныли, опять качался на стекле луч ожившего прожектора, и вагонка опять двигалась. Вот какой короткой была пересмена на лесопункте технорука Степанова!
— На кого покушался Саранцев? — спросил Анискин.
— В деле тысяча страниц, — задумчиво ответил Качушин. — На своего сокурсника. Все это было давно, в сорок девятом году.
На лесопункте технорука Степанова гремели трактора, свистели пилы, метался по низким тучам меловой свет сильного прожектора. Третья смена начинала работу на разоренном пятачке земли, и сам технорук Степанов, начавший трудовой день в шесть утра, забежал на секундочку в вагонку покурить и обогреться. Веселой, быстрой фигурой он вырос в коридоре, притопывая ледяными ботинками, проговорил насмешливо:
— Милые мои детективы, я вам не отдам Саранцева! Он, во-первых, никого не убивал, а во-вторых, не лишайте меня интеллектуального общения. Вы знаете, милый мой Мегрэ, в тюрьме и после нее этот человек прочел бездну книг. Он ходячая энциклопедия, хотя наотрез отказывается заменить Титаренко.
Степанов бросился на диван, хохоча, положил ноги в грязных ботинках на пупырчатый яркий материал и вдруг обратился к Анискину.
— А что вы думаете о Саранцеве? — вызывающе спросил он. — Какие мысли навеял этот образ?
— А ничего не думаю! — после небольшой паузы ответил участковый и непонятно улыбнулся. — Чего я могу про него думать, когда он говорит: «Мальтузианство»! — Иностранное слово участковый произнес медленно, осторожно, почти по слогам, но правильно. Потом он насмешливо задрал левую бровь, прищурился и сказал: — Вот поп Стриганов тоже чудных слов не знает, а Саранцев-то от него не вылезал. Как вечер, так сидит у Стриганова и ему в рот смотрит… Так что не в словах дело, товарищ Степанов! Дело в том, дорогой товарищ, что пустая-то гильза — от саранцевского ружья. Она бумажная, а у нас такими никто не стреляет. — Он сдержанно улыбнулся. — Это только городские охотники патроны-то покупают!
10
Чтобы идти против ветра, на его тугие струи нужно было падать. В свете уходящих назад прожекторов вальсировали снежные смерчи, взвихриваясь, горели костры; вихри в вальсе плыли медленно, один за одним, как на малолюдном балу. Снежный ветер колол и сдирал кожу, ботинки следователя выше щиколотки проваливались в сугробы, с которых буран сорвал поверхностную утреннюю пышность. Было темно, хотя за тучами жила полная молодая луна. Дышать было нечем. Когда Качушин открывал рот, ветер заталкивал в него твердый кляп, и дыхание останавливалось, воздуха не хватало, хотя бушующий и завывающий мир был наполнен только и только воздухом. Огни деревни светили желто, приглушенно, как угли потухающего костра.
Следователь и участковый миновали пустую, наполненную грохотом деревню, прошли по свистящему березовому колку и вышли в поле; буран пахнул в лицо разгульной свободой. На пути ветра не было препятствий, так что он обрушился на участкового и следователя с такой силой, с какой обрушивается на потерпевших кораблекрушение девятый вал.
Время остановилось, кончилась на земле жизнь. Вот ей-ей, следователю померещилось, что время пятилось назад, а в мире не осталось ничего, кроме ветра, на который надо было падать, и ног, которые проваливались в снег до колен.
Не было никогда и нигде тротуаров, бетона и стали, электричества, солнца, кинофильмов, кресел, гвоздей и смешной вещи, которая называлась часами. И не существовало человека, который назывался Качушин, так как не могло называться живым человеком существо, все мысли и чувства которого были сосредоточены на ветре, тропинке и ботинках. Качушин как бы растворился в темноте и безвременье; шел так, как, наверное, шагал по пустыне, бесконечной и мертвой, старый, усталый верблюд; может быть, придет к оазису, может быть, нет, безразлично верблюду. Шли секунды, минуты, и постепенно приходило такое чувство, когда остановка чудилась катастрофой. Качушину казалось, что если он перестанет падать на ветер, если ноги не провалятся по колено в снег, то в мире останется только пустота.
— Пришли, парнишша!
Белый, как привидение, участковый прорисовывался в темноте постепенно, громадный и шевелящийся от снега, который кипел вокруг него и на нем. Медленно подходя к Анискину, Качушин как бы собирался по частям: возвращал себе зрение, выволакивал из глубин желания, собирал по мелочам мысли. Когда оказалось, что в мире есть что-то, кроме ветра, тропинки и ботинок, Качушин обнаружил, что стоит возле забора, что сквозь щели его мягко светит окно небольшого дома, остроконечностью крыши и выступающими торцами бревен походившего на терем. Это значило, что они, наконец, пришли на заимку, к дому охотника и рыбака Флегонта Вершкова.
— Добрались, добрались! — подтвердил из темноты и голос участкового. — Шутка сказать: пять километров! Но Флегонт дома. Сильна метелишша!
Хозяин заимки рыбак и охотник Флегонт Вершков сидел на сапожном стуле посередь комнаты, от стенки к стенке перетянутой бечевкой, на которой болтались большие загнутые крючки. На Вершкове был кожаный фартук, на голове — зимняя шапка, на ногах — громадные бахилы. В комнате оглушающе пахло дегтем, рыбьим жиром, порохом и свежей кожей. Это были как раз те запахи, которыми пахла охота и рыбная ловля, и от них в носу щипало, но запахи были приятны. Под потолком горела керосиновая лампа, освещая неровно углы дома, хозяина и трех собак, лежавших за его спиной.
— Здорово, здорово, Флегонтушка! — поздоровался участковый, входя в комнату. — Ты внимания не держи на то, что я не один. — Он повернулся к Качушину. — Это мой дружок из району. Интересуется насчет охоты и рыбалки.
Эти слова Анискин проговорил быстро, незаметно подмигнул следователю и даже слегка пригородил его спиной от Вершкова. Потом участковый живо снял полушубок и шапку, повесил на деревянный штырь у дверей, хлопотливо пройдя в комнату, сел на боковую лавку.
— Дегтем у тебя, Флегонтушка, вонят, как в москательной лавке, — улыбаясь, сказал он. — Конечно, тебе без дегтю как борову без щетины, но я намедни в магазине был: дегтю нет! Не ты ли его скупил?
— Я! — тоже улыбнувшись, ответил Вершков. — Я, Феденька, хотя деготь нонче не товар. Это раньше им — и телегу, и чирки, и чирий, и плохой бабе ворота! А теперь деготь не товар.
Участковый на глазах следователя Качушина менялся: наплыло на его лицо мудрое философское выражение, крестьянская хитринка и сдержанность застыли в глазах, в фигуре появлялись солидность, основательность. Каждой частицей большого тела, каждым движением, выражением лица походил теперь участковый на рыбака и охотника Флегонта Вершкова. И сидел он на лавке так основательно и прочно, как умеют сидеть только охотники и рыбаки — настоящие мужчины, хозяева жизни, основа основ.
— На рыбаловку ладишься, Флегонтушка? — значительно, вдумчиво спросил участковый. — Думаешь, скоро метелишша-то сбавится?
— А к послезавтраму затихнет, — подумав, ответил Вершков. — Вон и по Белолобому видать, что гулеванье-то кончается. Ты глянь, как он облизывается и как коготь в открытости держит…
Огромный, как теленок, пес Белолобый действительно лизал красным острым языком бурую шерсть на груди, а лапы лежали на полу свободно, с выпущенными, как у кошки, когтями. Рядом с ньюфаундлендом Белолобым лежали лайка и молодая овчарка. Все три собаки сохраняли такую невозмутимость, точно в комнате никого, кроме хозяина, не было, но собачьи глаза зорко следили за пришедшими, двигались понемножку и порой вдруг светились колющим зеленым отблеском. Каждая собака лежала на своем половичке.
— Хорошо возят? — внимательно оглядев собак, спросил Анискин. — Овчарка-то с лайкой не грызутся?
— Чего им грызтися? Собаки грызутся, пока незнакомые, а как признакомятся да поробят вместях, их водой не разольешь.
В заимке было оглушающе тихо: так толсты были ее лиственничные стены, так давил на них бревенчатый нештукатуренный потолок, что ни один звук в дом не проникал. Тишина звенела и покачивалась, тишина желтела и светилась, и Качушин снова почувствовал, что время замерло. Анискин, вдруг заговоривший на чалдонском, местном наречии, крючки самоловов, которыми добывают самую древнюю на земле рыбу — стерлядь, медвежьи и лосиные шкуры на стенах, запах дегтя, звериная настороженность собак, закопченность нештукатуренных стен и трепет фитиля в керосиновой лампе — все делало мир призрачным, словно он снился. И только одно пятно отдохновения, легкости было в комнате — большой и дорогой радиоприемник, стоящий в углу комнаты на низком табурете.
— Флегонт, а Флегонт, — сказал Анискин, — ты, конечно, не любишь, когда к тебе приходит народ, но ты сразу скажи: возьмешь мово дружка на рыбаловку или без внимания оставишь?
Напильник перестал вжикать о металл — это Вершков оторвался от крючков самолова, которые он точил. Он поднял кудрявую голову, большими, черными, открытыми глазами на аскетическом лице внимательно и строго посмотрел на Качушина. Охотник как бы ухватил следователя за воротник куртки, повернул его, висящего в воздухе, перед керосиновой лампой и, усмехнувшись, положил на то место, с которого поднял.
— Не возьму твово дружка на рыбаловку! — ответил Вершков. — Его рыба не примет… Так что ты меня, Федор, извиняй, и вы, товарищ, тоже извиняйте…
Три собаки одновременно вздыбили шерсть на загривках; что-то почуяли они, услышали сквозь толстые стены заимки — поднялись шесть чутких ушей, сверкнули шесть звериных глаз. Затем собаки успокоились.
— Мыши в подполе! — вздохнув, сказал Вершков. — Это, как твои тараканы, Федор, не помыслишь, откудова завелись…
Качушин осторожно пошевелился, опасаясь спугнуть тишину и спокойствие собак, медленным движением положил руки на колени, а ухо повернул туда, где стоял радиоприемник. Из-под блестящего дерева доносился голос: «Большими трудовыми успехами радуют металлурги Запорожья…»
— Значит, не возьмешь мово дружка на рыбаловку и охоту? Не показался он тебе?
— Не показался. Извиняйте!
— Тогда мы пошли! — сказал участковый, поднимаясь. — Ты нас тоже извиняй, что помешали, извиняй.
Когда Анискин, стараясь не скрипеть половицами, пошел к дверям, собаки поднялись с половичков; каждая сделала по шагу вперед, но затем все остановились и сели, высунув языки. Участковый посмотрел на них, улыбнулся отчего-то и спросил:
— Флегонт, а позавчера ночью, когда ты в тайге был, второго выстрела не слыхать было?
Керосиновая лампа висела в центре потолка, сапожный стул стоял посередине пола, и потому лицо охотника виделось так четко, словно его специально осветили; каждая морщинка, каждый мускул были ярко освещены, но Качушин ничего не мог понять по умному и сильному лицу Вершкова: оно было бесстрастно и замкнуто, дремуче и первобытно, как коричневое лицо индейца из куперовского романа.
— Был второй выстрел! — наконец ответил Вершков. — Это обязательно правда, что был второй выстрел.
Участковый все-таки снял со штыря полушубок, держа его в руках, повернулся к охотнику, и собаки приглушенно зарычали. Лениво шагая, поблескивая шерстью на двигающихся мускулах, они подошли к участковому, полуокружив его, сели и опять вывалили жаркие языки. Натасканные на уход незнакомого человека, собаки только и ждали знака хозяина, чтобы, распластавшись в стремительном бесшумном прыжке, броситься на участкового.
— На место! — не повышая голоса, сказал Вершков. — Не дури, Белолобый…
Глаза собак потухли, шерсть опустилась, холки по-кошачьи прогнулись; псы отступили назад, легли домашние и ласковые, как кролики.
— Это чего же делается! — удивленно сказал Анискин. — Ты мне обязательно скажи, Флегонт, какой же это такой был второй-то выстрел? И почто я про него не знаю? И опять как же эти-то штукари, Бочинин с Колотовкиным!
Торопливо повесив полушубок на прежнее место, Анискин вернулся на лавку, сел, положил руки на пузо и давай туда-сюда и сюда-туда вертеть заскорузлыми пальцами. Потом он набычил голову, стал задумчиво прицыкивать пустым зубом.
— Это ведь дело менят! — холодно сказал участковый. — Это когда же выстрел был? До Степанова или позже?
— Раньше! — ответил Вершков. — Степанов выстрел, как сам знаешь, был глухой, как бы в подушку, а тот звонкий. Кто-то из леспромхозовских стрелял. — Вершков замолк, раздумывая, положил напильник на колено. Потом он тихо продолжил: — Из двенадцатого калибра стреляли.
— Ты почто знаешь, что леспромхозовский?
— Как не знать! — ответил Вершков и неожиданно весело улыбнулся. — Ты что, не разбирашь, какой заряд в магазинских патронах?
От улыбки лицо охотника помолодело, теперь увиделось, что ему только под шестьдесят, морщины на лбу и у рта неглубоки, губы свежи. Охотник улыбался, и на его лбу расправилась трагическая складка, такая, какая бывает у хороших актеров или у одиноких женщин.
— Так! — сказал Анискин. — Эдак!
Ясноглазый, большелобый и энергичный, сидел на лавке участковый; просторными, резкими движениями он расстегнул все пуговицы на вороте теплой рубахи, погладил седые волосы на груди ладонью, мечтательно прищурившись, с ног до головы оглядел охотника.
— Чего же ты не пошел на второй выстрел, Флегонт? — спросил Анискин. — Вот ведь понимаешь, что выстрел был диковинный, а не пошел? А, спрашиваю?!
По щекам Вершкова пробежала тень, веки вздрогнули, туго сжались губы. Это заняло мгновение, долю секунды, а потом лицо охотника опять бесстрастно застыло.
— А не хочу, Анискин! — приглушенно ответил Вершков. — Не хочу на выстрелы ходить! — Он еще понизил голос. — Что мне ходить, если леспромхозовские стреляли…
Собаки, уж было мирно задремавшие на половичках, тревожно вскинули головы: верно, в голосе охотника прозвучало что-то такое, что встревожило их. Снова поднялись острые уши, вздыбилась шерсть, оскалились пасти. Ньюфаундленд кляцнул зубами и глухо, как отдаленный гром, зарычал.
— Ишь что с ними делается! — сказал Анискин и внезапно обратился к охотнику: — У тебя ведь есть бескурковка, Флегонт? Дай-ка я на нее гляну.
Поднявшись, участковый снял с оленьих рогов новое ружье марки ИЖ-12 с двумя стволами, положенными друг над другом, и с гладким местом там, где у обычных двустволок стояли напряженные курки. Резким и сильным движением Анискин переломил ружье, щелкнув, вернул стволы в обратное положение и вдруг протянул ружье Качушину.
— Ты, Игорь Валентинович, такой расстроенный из-за рыбаловки, что молчишь как бирюк! — весело сказал участковый. — Так хоть погляди на эту сволочь бескурковку. Вот и скажи: на предохранителе «ижевка» или нет?
Тяжелое ружье удобно сидело в руке, ложа была гладкая и ласковая на ощупь, но, посмотрев на предохранитель, Качушин вспомнил притчу о сороконожке, которая обезножела оттого, что задумалась, какой ногой шагать. Минуту назад следователь твердо знал, что планку предохранителя полагается сдвинуть вперед, чтобы снять ружье с предохранителя, а вот сейчас сомневался: «А не назад?»
— Срамцы инженера! — рассмеялся Анискин. — Хоть бы написали или стрелочку сделали.
— Это страсть, Федор, до скольки разов я по птице на предохранителе стрелял! — сказал Вершков. — Подцепишь селезня на мушку, а она, сволочь, даже не чакнет! А в другой раз она сама подаст голос. Вот какая страма, эта бескурковка!
— Вот и поп Стриганов ее тоже не любит! — сказал Анискин.
Во второй раз лицо охотника утратило бесстрастность, но на этот раз не от улыбки. Полные губы Вершкова тоскливо сомкнулись, глаза повлажнели, опять глубокая тень прокатилась по аскетическим впадинам и выпуклостям лица. И опять чудное чудо вершилось на глазах Качушина: собаки вскочили. Как могли понять они, лежа за спиной охотника, что его лицо тоскливо посерело?
— На место! — не оборачиваясь, глухо проговорил Вершков. — На место!
Когда собаки успокоились, Анискин пошел к дверям. Он снял полушубок со штыря, надел его, ожидая Качушина, приостановился, большой, громоздкий, легко дышащий оттого, что была зима.
— А от кого ты, Флегонтушка, про смерть-то Степана узнал? — спросил Анискин. — Ты ведь в деревне-то редко бываешь…
— Баба Сузгиниха приходила. Беличью шапку младшему ладит…
Провожаемые собаками, участковый и следователь подошли к дверям, попрощавшись с охотником, закутавшись и подняв воротники, выбрались в темные сени. После керосинового света они ослепленно остановились, привыкая к темноте и вою бурана. В молчании прошли несколько секунд, затем раздался спокойный голос Анискина:
— Что ты думаешь про Вершкова, Игорь Валентинович?
Ветер взвыл и оборвался, опять взвыл и снова оборвался. Потом темень сказала насмешливым голосом Качушина:
— Что я могу знать про Вершкова, когда он говорит: «Страма»!
11
Качушин лежал в теплой анискинской горнице под пуховым одеялом. Руки и ноги ныли, побаливала голова, большой палец правой ноги опух, ощущался лишним, ненужным. Сон не шел. Он перевертывался с боку на бок, считал до тысячи, взбивал кулаками горячую подушку.
Шел третий час ночи, но из соседней комнаты время от времени доносился шорох страниц, сдержанный вздох. Это читала таинственная, непонятная дочь участкового Зинаида. Качушин ее не видел, участковый и его жена мимо комнаты дочери проходили на цыпочках. А перед ужином пришел забавный костлявый человек — деревенский фельдшер, — пробыл в комнате Зинаиды минут двадцать, выйдя, сказал мрачно и загадочно: «Болезнь духа, но не тела!» После его ухода участковый с женой долго молчали, а Зинаида в своей комнате стала казаться Качушину еще более таинственной, непонятной и — самое странное! — каким-то образом связанной с тем, что произошло в ночь смерти Степана Мурзина.
Качушин потому и не мог уснуть, что, мысленно переносясь из милицейского кабинета на заимку, с заимки в вагонку, а из вагонки опять на заимку, он непременно возвращался к дочери участкового Зинаиде, которая читала в соседней комнате. Была явная, но неуловимая еще связь меж нею и техноруком Степановым, меж Анискиным и охотником Вершковым, меж странным попом Стригановым и снова участковым Анискиным. В этом не было логики, но болезнь Зинаиды каким-то образом имела отношение к техноруку Степанову, а через него связь протягивалась к ночному происшествию, словно технорук Степанов в деле был не менее важной фигурой, чем поп Стриганов.
Ворочаясь в постели, страдая от бессонницы, следователь отчетливо понимал уже, что поп Стриганов, пожалуй, тот человек, вокруг которого вращается карусель всей этой странной, запутанной истории. Все: и голос Анискина, когда он говорил о Стриганове, и глаза Саранцева, и темные шорохи на заимке Вершкова — все вело к попу Стриганову. А дочь участкового Зинаида? А сам участковый? Отчего Качушин чувствовал их связь со Стригановым? Почему следователь думал, что Анискин знает не только того человека, который встретился ночью Степану Мурзину, но и причастен к происшествию глубоким, естественным и грозным образом? Что это могло все значить?
Шуршали за тонкой дверью страницы, расплывался на потолке желтый свет, бесновался вокруг дома ночной буран. Тревожно было в теплой горнице, и такими же тревожными были мысли Качушина, вышедшие из повиновения. И все-таки надо было спать, так как вечером из райотдела позвонили: трактор выходит на рассвете, водитель надеется к вечеру быть в деревне. С трактором выезжает капитан милиции Юлия Борисовна, и утром Качушину предстоит много работать, а он не может уснуть оттого, что приходят в голову дурацкие мысли.
В соседней комнате послышались шорох, скрип дерева, приглушенное сопение. Потом раздался шлепок босых ног об пол, шебаршание материи, а в паузе — тяжелый вздох, прислушивающийся шаг. Весь в белом, участковый Анискин выбрался из-под ситцевого полога, настороженно повернул голову в сторону Качушина, прислушался чутко, как зверь. Затем Анискин начал бесшумно, быстро одеваться: сунул ноги в стеганые брюки, влез в рубаху, стоя на одной ноге, аккуратно и плотно навернул портянки. Словно в дальнюю дорогу одевался он, затем, опять прислушавшись к дыханию Качушина, пошел к дверям. Открылась уличная дверь, хлынули звуки метели, оборвались, и — тишина, тишина.
За ситцевым пологом опять шуршало, двигалось. Жена участкового Глафира беззвучно вынырнула из ситцевой духоты, босыми ногами прошла к комнате дочери, как привидение, исчезла за дверью.
— Ушел! — донесся до Качушина шепотливый голос.
За стеной разговаривали приглушенно, с большими паузами.
В голосах матери и дочери не было тревоги, беспокойства; они звучали обыденно, словно ничего не происходило. В паузе прошуршала книжная страница, раздался вздох, кроватный скрип. Ничего не происходило в соседней комнате, хотя жена участкового проснулась, пришла к дочери. За стенкой молчали, и к Качушину возвращалось спокойствие, он опять приходил в то состояние, в каком был тогда, когда участковый допрашивал Бочинина.
Успокоившийся Качушин думал о том, что во всем повинна смена темпа жизни. Только год с месяцами отделял его от городской сутолоки, от открытого и беспечного существования в Томском университете, от общежития «Пятихатки», от молодой, бездумной жизни. А тут деревня во всю ширь и глубь, таежное дело, легендарный участковый уполномоченный; жизнь от земли, от пупа, от начала начал…
— Отца не вини! — вдруг громко раздалось за дверью. — Он сам кругом запутанный…
И опять — пауза, молчание, спокойствие. «Нарым, Нарым, — думал Качушин, — страна, где цветы не пахнут, а зима — девять месяцев!» Разноцветные круги вращались в глазах, бордовые точечки усеивали потолок мерцающими звездами. Качушин засыпал, думая о том, что спать ему сейчас не надо, так как он должен понять, что значат слова Глафиры: «Он сам кругом запутанный!» — и что все-таки происходит за стеной. Но он заснул, так и не поняв ничего. Он очень устал за день, двадцатипятилетний следователь Качушин.
12
Участковый уполномоченный Анискин минут десять тарабанил в двери стригановского дома, пока достучался. Замерзший, иссеченный ветром, недовольно посапывая, он, наконец, прошел в комнату, освещенную подвижным светом стеариновой свечи, так как поп Стриганов ни керосина, ни электричества не признавал.
Самую большую стену комнаты от потолка и до лавки занимали винные и водочные этикетки. Из угла в угол комнаты, как бельевые веревки, тянулись гирлянды из жестяных бутылочных пробок. Когда по комнате ходили, гирлянды раскачивались, звенели.
Удивительным, необыкновенным человеком был сам поп Стриганов. Стоя под пробочными гирляндами, на фоне стены, заклеенной этикетками, он, казалось, сам издавал переливающийся звон, был тоже пестр и весел, как веселая и пестрая стена. На плечах Стриганова была накинута вытертая поддевка, большое лицо с копной черных волос и ассирийской волнистой бородой весело ухмылялось. Стриганов клубился, переливался радостью, стоял на полу, пританцовывая, и в крылатой поддевке походил на ночную бабочку-однодневку.
— Какой гость! — говорил поп Стриганов, отступая назад и широко разводя руками. — Боже мой, какой гость!
Меж бородой и усами у попа ослепительно горели молодые частые зубы, был свеж и красногуб рот, большие, серые, влажные глаза смеялись откровенно насмешливо, а спина изгибалась издевательски-подобострастно. Для виду суетясь, поп делал такие движения, словно собирался обнять, усадить, обласкать участкового, но сам загораживал Анискину дорогу в комнату.
— Какой гость! Боже мой, какой гость!
Обойдя Стриганова, участковый сел на лавку, притих, дожидаясь, когда пробочные гирлянды перестанут звенеть. Запахивая поддевку, поп обернулся к нему, и несколько минут они внимательно смотрели друг на друга — взволнованные и как бы пораженные тем, что хозяин стоит в центре комнаты, а гость сидит на лавке. Наконец пробки перестали звенеть.
— Чего же будем делать, Василий? — спросил Анискин. — Ну, вот скажи ты мне, чего будем делать?
Анискин длинно вздохнул и посмотрел на попа такими тоскливыми, страдающими глазами, что поп поежился, бесшумно усевшись на лавку, зябко поджал ноги. Поддевка распахнулась, открыв синюю майку и выцветшие от стирки трусы, борода сморщилась, опала, волосы рассыпались по плечам.
— Федя, — тихо ответил поп, — хоть на кусочки меня режь, но я не знаю, кто убил Степана…
Потрескивая, горела свеча, на неровно оштукатуренных стенах колебались фантастические тени от пробочных гирлянд, острой поповской бороды, сутулых его плеч. Шел четвертый час ночи, и буран достиг предела, такой точки, когда в вое ветра нет ни просвета, ни слабинки. Ветер выл с обреченной напряженностью и тоскливым постоянством, с такой силой, что казалось, если вой на секунду прервется или еще усилится, то за окнами что-то с грохотом разлетится на части, рухнет безвозвратно. И такой же гибельной обреченностью веяло от всей потертой фигуры Стриганова. Казалось, что если он еще немножко ссутулится, если еще чуточку сильнее сдавит его плечи тяжелая поддевка, то поп рухнет на пол. В дремучей тоске сидел на лавке Стриганов, и участковый почувствовал вдруг, что в комнате нечем дышать. Весь воздух впитали в себя водочные и винные этикетки, пробочные гирлянды, иконы и растерзанная одинокая кровать в углу.
Стеариновая свеча освещала смятую, скрученную в мучительные жгуты простыню, подушку с судорожно закушенным углом, одеяло с ненавистно перекошенным пододеяльником. Кровать кричала о том, что ей ненавистен человек, который в пьяном угаре и похмельном ужасе страдал в ней от одиночества и тоски. И, как на лобном месте, на подушке темнела вдавлинка для головы.
— Васька, — шепотом сказал участковый, — что ты сделал с собой, Васька!
Поп Стриганов плакал. Слезы медленно катились по щекам, пропадали в бороде, которая все еще лихо торчала. Он едва уловимо вздрогнул, когда участковый подошел к нему, наклонившись, положил тяжелую руку на поповское плечо. В таком положении они были долго: рука Анискина лежала на плече Стриганова, а поп беззвучно плакал. Бродили тени по пестрым стенам, дом медленно и редко вздрагивал от напора бурана. Стриганов поднял голову.
— Вот видишь, Федька, — прерывающимся голосом сказал он. — Весь я износился, как эта поддевка. Ты на шесть лет меня старше, а моложе. Я всю жизнь веру искал, а ты в одной вере жил, и через это ты счастливый…
Стриганов снял с плеча руку участкового, усмехнувшись, выпрямился:
— Ни жены, ни детей, ни веры! Вот какие дела, Федька! Так сколь в этом можно жить?
Посмеиваясь, гримасничая, подрагивая бородой, поп прислонился спиной к пестрой стене, с белозубой улыбкой стал глядеть в угол, посверкивающий иконным золотом. Он переводил взгляд с Анискина на иконы, с икон на Анискина, и насмешливая улыбка прорезалась на его лице с полосками от слез.
— Ты, Федор, как святой, — наконец сказал Стриганов, — тебя власть должна иконой сделать. Это ведь с ума сдвинуться можно, что ты почти сорок лет милиционером служишь, а вера у тебя железная. Вот через это я тебе завидую, но теперь я в такую веру перешел, против которой ты слаб. Каждому, Федор, хочется быть протопопом, так что и я на старости лет за свою правду зацепился. Я теперь тоже радостно, как и ты, живу!
Строганов выпрямился; прямой была спина, торчала борода, на волнистых волосах лежал подрагивающий отблеск свечи, губы складывались в сытую, удовлетворенную загогулину. Он встал, запахиваясь в поддевку, как в халат, прошелся по комнате, прямой, насмешливый, крепкий.
— Я тоже свою веру нашел! — сказал поп. — Такого случая у меня больше не будет, когда я правый. Так что и я, Васька Стриганов, себя протопопом Аввакумом чувствую. Я, может, жизнь не зря прожил!
Силой, дерзостью веяло от Стриганова. Небольшого роста, он все-таки был прямоплечий и ловкий; подбородок поп имел прямой и энергичный, а глаза у него были такие смелые, что в них холодно было смотреть. Не верилось теперь, что мог плакать поп Стриганов, что под рукой участкового пять минут назад жалко и тоскливо подрагивали его плечи.
— Я теперь в радости живу! — звучно сказал поп. — Нужный я теперь жизни, вот что, Федор! Я, может, первый из всех понял, что правда — она в самой простой жизни. Рыбалки, охота, пашня — вот она правда, а все другое ложь. Человеку чем проще, тем оно лучше! А ты слепой стал, если не видишь, что мы скоро задыхаться станем, как стерлядь на воздухе. Коломенские гривы вон вырубили…
Стригановская борода непреклонно, весело трепыхала, тень от нее прыгала по стене, поддевка мела по полу, так как поп расхаживал энергичным, гневным шагом. Крепчал его голос, наливались умным светом глаза. Гирлянды из пробок, стена в этикетках, иконы в углах, церковный свет свечи, золотые руки, распятые в воздухе, — все теперь и Анискину казалось диким, невозможным, и участковый притаился, затих.
— Ты всегда был честным, Федька, — возбужденно продолжал Стриганов, — а вот сейчас молчишь, хотя сам выгнал из дома технорука Степанова… Есть такой мелкий народ — пигмеи, — торопясь, волнуясь, продолжал Стриганов. — Все они ростом с ребенка, но в лесу как дома. Так один из них, который иностранному языку обучился, сказал: «Мы, — говорит, — пигмеи, до той поры будем живы, пока жив лес!» — Стриганов зло взмахнул рукой. — Ну, а Ванька Бочинин может без тайги на земле обретаться?
Теперь перед участковым стоял тот Стриганов, которого Анискин привык видеть именно вот таким: с фанатично блестящими глазами, с волосами, казалось, подхваченными ветром. В первый раз за пятьдесят с лишним лет участковый слышал, как плакал Васька Стриганов, но зато десятки раз он видел его в такой позе и с таким лицом, как сейчас, когда Стриганов на самом деле походил на исступленного проповедника, нашедшего наконец истину.
— Так! — тихо сказал Анискин. — Эдак!
Он не мог смотреть в глаза Стриганову: сумасшедший огонек горел в них. Правая рука попа была вознесена над головой проповедническим, осеняющим жестом, фигура устремлена вперед, словно Стриганов задержался в падении, и от этого поп сделался вовсе призрачным, так как обычный человек не мог так стоять, так держать руку, так глядеть. Тоскуя, Анискин отвел глаза от Стриганова, глухо проговорил:
— Ты опять неправый, Василий! Я еще сам точно не знаю, почему ты неправый, но твоя вера однобокая. Этого не может быть, чтобы ты со всех сторон был правый, а технорук Степанов — ни с одной стороны. Так в жизни не бывает, Василий! — Анискин медленно покачал головой. Тяжело, длинно думал участковый, затем сказал: — Я был дурной, когда выгнал из дома технорука.
Участковый поднялся, на две головы выше Стриганова, остановился против него. Простой, понятный, незамысловатый был Анискин. Трудной была его мысль, трудным каждое слово, но в своей искренности, в своих сомнениях Анискин был открыт и честен.
— Ты, Василий, ни в каком деле не знаешь края! — горько сказал участковый. — Когда ты в молодости в курганах татарское золото искал, так ты только мозоли на руках набивал, а теперь ты поперек дороги Степана Мурзина стал. Это не от веры все, Василий…
Который уж раз в жизни, за пятьдесят с лишним лет, стояли вот так — друг против друга — Анискин и Стриганов! Подумав об этом, участковый непонятно улыбнулся, опять покачал головой, так как Стриганов смотрел на него величественно: по-царски падала с плеч вытертая поддевка, вдохновенно вздымались волосы, сверкали глаза.
— Бог тебе судья, Василий! — безнадежно сказал Анискин. — Что ты плакал, это я не видел, но ведь, Васька, жизнь наша кончается. Ты об этом мыслишь?
Свеча, треща, гасла. Вот фитилек покосился, осел, начал падать и упал бы, если бы Стриганов не успел подхватить его спичкой. Фитилек опять слабо засветился, заколебался и все-таки потух. В густой, непроглядной темноте раздался вдруг болезненный, смятый голос Стриганова:
— Стой на месте, Федор, подполье открыто.
Глава вторая
1
В небольшой горенке анискинского дома в свете электричества блестел крашеный пол, зеленели на окнах герани, больничной чистотой гордились занавески, накидки и подзоры на кроватях, льняная скатерть на столе; потолок в горенке был высокий, стены хорошо выбелены, и в комнате жил тот непритязательный уют, который придают любому помещению чистота, тепло, порядок. Бледные, невыспавшиеся, следователь и участковый сидели за столом, на котором пофыркивал самовар, стояли блюдца и тарелки с надписью «Нарпит», вкусно пах домашней выпечки пшеничный хлеб, чесночный запах источали куски твердого толстого сала. Следователь и участковый неторопливо ели, молчали, слушая радиоприемник.
Самолеты Народно-освободительной армии Вьетнама обстреляли американские корабли; Насер произнес речь на предвыборном собрании; Джонсон отправился в латиноамериканские страны, а ансамбль «Березка» — в восточные. То же самое количество стали, что и вчера, выплавили металлурги Запорожья, шахтеры треста Кемеровуголь завершили выполнение годового задания. Вот что делалось на теплой и круглой Земле, а за окнами анискинского дома лязгал гусеницами трактор, гудела автомашина, и, конечно, раздавался натруженный, механический свист бурана, похожий на звук мотора реактивного самолета, когда он прогревает двигатели. Вой, свист и шелест бурана покрывали все звуки в доме, и потому совсем неслышно ходила от стола в кухню и обратно жена участкового Глафира, а его дочь Зинаида вела себя так, словно ее и не было за столом.
Зинаида оказалась такой красивой девушкой, что Качушин ошеломленно молчал. Она вышла из своей комнаты минут десять назад, выпила уже два стакана горячего молока, но следователь все еще чувствовал прикосновение ее нежных пальцев к своей руке, слышал низкий мелодичный голос: «Меня зовут Зина!» Знакомясь, девушка подошла близко, внимательно посмотрела в лицо, пахнущая странными, незнакомыми духами, стояла рядом до тех пор, пока он смущенно не пробормотал: «Вот видите, гощу у вашего отца…»
Качушин вел себя явно глупо и теперь украдкой поглядывал на бледное лицо девушки, на каштановые волосы, на выгнутый ясный лоб и серые глаза, страшные тем, что были красивы необычно. Зинаида была в темном платье с застежкой «молния» на боку; оно ласково и плотно обнимало хрупкие плечи, изогнувшись вдруг, спускалось на выпуклые и длинные бедра.
А следователь Качушин не существовал для дочери участкового. Катая тонкими пальцами хлебный шарик, Зинаида отсутствующе глядела в темное окно. Она была там, где гремел гусеницами трактор и завывал буран, где всю ночь не гасли прожектора передвижного лесопункта технорука Степанова.
Еще раз украдкой поглядев на Зинаиду, следователь перевел взгляд на участкового и вдруг понял, что произошло в этом доме. Соединялись воедино обрывки фраз и мыслей, увиделось, как участковый с техноруком выходят в тамбур вагонки и как менялось лицо Степанова, когда он смотрел на Анискина. И вспомнился ночной голос за тонкой дверью: «Я отца не виню!»
Когда чай был допит, а пшеничные калачи съедены, участковый шумно выдохнул воздух и повернул голову к жене, которая уже присела за стол. Он несколько секунд молча глядел на нее, потом перевел взгляд на дочь, помедлив, громоздко поднялся. Идя к дверям, Анискин сказал:
— Мало что температура нормальная! Нельзя Зинаиде идти на похороны…
Он ушел в кухню, пробыл там несколько секунд, потом вернулся, держа в руках полушубок, а в горнице все стояла тишина, мать и дочь, склонив головы, все еще думали над словами отца. Затем Зинаида неслышно поднялась, усмехнувшись, пошла к своей комнате. Зашуршали, мягко прошли по крашеному полу длинные ноги в теплых сапожках, изогнулась тонкая талия, пронеслась плавно через всю комнату узкие напряженные плечи. В изгибе спины и талии сквозила подчеркнутая покорность. «Ты хочешь, папа, чтобы я сидела дома. Пожалуйста!» — говорила спина Зинаиды. Она открыла дверь, полувошла в нее, но обернулась резко и быстро. Брови девушки властно изогнулись, подбородок затвердел. Секунду она стояла неподвижно, потом бесшумно, как мать, скрылась. Через две-три секунды за тонкой дверью прошелестела книжная страница, раздался сдержанный вздох — и все.
— Ты этот полушубок поднадень, Игорь Валентинович, — в тишине сказал Анискин. — Замерзнешь, если пойдешь при своем пальтишке… Ты тоже одевайся, Глафира!
Когда они вышли на улицу, на крыльце колхозной конторы еще горели электрические лампочки, и в их свете красный флаг на крыше висел в воздухе прямой, как стрела — так его натянул ветер. Бушевал буран, не было у темного мира ни земли, ни неба, но в непроглядности слышались голоса людей, вспыхивали карманные фонарики, вдоль улицы, освещая фарами снег, медленно двигался гусеничный трактор с бульдозерным ножом — он пробивал дорогу от дома Мурзиных до кладбища на невысокой горушке. За трактором двигался грузовой автомобиль, а приглядевшись к темноте, Качушин увидел, что улица запружена народом, что людская толпа, протянувшись вдоль забора, загибается к переулку. Людей было так много, что следователь удивился — откуда они? Ему раньше казалось, что в деревне наполовину меньше жителей.
В темной толпе вспыхивали спички, освещая мужские лица, раздавался приглушенный женский говор, вскрикивали детишки, неподвижно стояли старики и старухи. Выл, бесился буран, лязгал гусеницами трактор; полосы эавихряющегося снега ложились на толпу, и на спинах женщин, мужчин и детей росли холмики снега, так как люди стояли спиной к ветру. По проложенной трактором дороге, двигаясь за Анискиным, Качушин и Глафира подошли к хвосту толпы, смешавшись с теми, кто пришел недавно, — трактористами, комбайнерами, шоферами, — встали лицом к плетню и тоже замерли.
Потекли медленные секунды, минуты среди тьмы, скорбного молчания, свиста бурана, равномерного, непонятного Качушину покачивания толпы. Одно овчинное плечо Качушина прикасалось к спине участкового, второе — к такому же овчинному плечу незнакомца, в зубах которого дотлевала махорочная самокрутка, освещая узкие глаза, небритый подбородок. Бульдозер уходил все дальше и дальше от центра деревни, свет фар мотался в синеватой далечине переулка, сигнальный фонарь буксующей машины горел тревожным, как крик о помощи, алым светом. А толпа все покачивалась да покачивалась, небритый сосед Качушина покачивался тоже, и следователь, наконец, понял, что сосед переступает с ноги на ногу, так как долго стоять неподвижно нельзя: мороз и ветер забираются под тулуп, ноги в валенках, казалось, ощущают железную стылость земли.
Тихо, медленно, незаметно, как все, Качушин начал покачиваться, и вскоре появилось такое чувство, точно и он, и толпа, и земля под ногами плывут. Неподвижным оставался только плетень, а все остальное двигалось, куда и зачем, неизвестно. Когда же Качушин повернулся к участковому, то он увидел, что Анискин смотрит туда, куда, рокоча, уходил бульдозер, на кладбищенскую горушку. Участковый видел, как пыльные лучи сильных фар полощутся среди берез, вальсирующие смерчи взвихривают голые вершины, опадают на темные оградки. Голова участкового была закинута назад, веки болезненно прищурены, нижняя губа прикушена; все полное и большое лицо Анискина было искажено гримасой молчаливой, затаившейся боли. Твердый горячий комок подкатил к горлу Качушина. Он вдруг почувствовал, о чем думает участковый, понял, как именно смотрит тот на кладбищенские березы, и ему непреодолимо захотелось обнять участкового за плечи, заглянуть в лицо, говоря бессвязные, утешительные слова. Холодея от жалости, Качушин думал о том, что участковому шестьдесят три, что ему осталось жить одно мгновение и что скоро вот такая же молчаливая и густая толпа будет стоять вокруг дома участкового. У Качушина остановилось дыхание и щеки помертвели, когда он подумал:
«Анискин всю жизнь провел в этой деревне!»
Вскоре начался рассвет, если можно было назвать рассветом то, что происходило в деревне, прижатой к земле неистовым бураном. И все-таки на улице становилось чуточку светлее, хотя восточный край неба не алел, лучи солнца не проливались сквозь тучи, деревья не пробуждались после ночного сна, чтобы распростертыми ветвями приветствовать новый день. Просто-напросто в мире становилось немного светлее, когда где-то вставало солнце. Оно все-таки существовало за плотными тучами, за многометровой массой несущегося и воющего ветра; в дымке уже можно было рассмотреть контуры плеча соседа, хрящеватое ухо с обмороженной мочкой, большой унылый нос. Это был Михаил Колотовкин, непохожий на себя тем, что сейчас ничего смешного не было в его лице. Прошло еще несколько затяжных минут, и толпа подалась, зашептала, зашелестела: «Выносят, выносят». На крыльце дома Мурзиных раздались тяжелые, редкие, как бы считанные звуки, затихли, в паузу ворвался вой ветра и опять — звуки.
Мужчины спускали с крыльца черный в тусклом свете, а на самом деле кумачовый гроб. Он проплыл над толпой, опустился на мгновение и снова поднялся — еще выше, чем прежде. Гроб замер в воздухе, как бы ожидая, когда толпа медленно, бесшумно и осторожно отступит от плетня, чтобы влиться изгибающимся потоком во всю длину улицы. Никто не командовал людьми, ни одного голоса не раздавалось, но жители деревни выстраивались в ровную, плотную и дисциплинированную колонну.
Метель неистовствовала. Взвыв, ветер сорвал с крыши дома бумажную полосу снега, разодрав ее на отдельные струи, бросил на головы и спины людей; под крышей заныло, загрохотало, а в толпе тонко и жалобно прокричал ребенок. Потом над колонной, над гробом, над людской плотностью раздались первые такты шопеновского траурного марша. Бил барабан, пела одиноко труба, захлебывалась, неизвестно откуда взявшаяся в оркестре флейта. Это играл клубный оркестр.
По глубокой, проложенной бульдозером в сугробах дороге толпа двинулась к горушке, на которой росли частые березы и всегда на одном из крестов летом сидела жестяная сова, а зимой — ворон с растрепанными перьями. Людская полоса поездом вписывалась в изгибы бульдозерной дороги, черная и плотная, лилась рекой параллельно Оби. Похоронный марш, женский плач, вой ветра, равномерный хруст снега под валенками…
Когда толпа огибала околицу деревни, участковый, склонив голову на плечо, нес передний конец гроба.
Гроб поднимался на горушку: проплыл меж крайними березами, вздыбился, потом медленно начал опускаться к холмику желтой развороченной земли. Толпа сперва лентой втекала в березы, затем, остановившись, начала сжиматься, как мехи огромной гармони, пока не превратилась в широкую дугу, охватившую березы и холмик желтой земли. Оркестр громко заиграл, накатом смолк, и тогда в звуках бурана под горушкой раздались живые человеческие звуки.
Мерным, тяжелым шагом шли к кладбищу лесозаготовители. Одинаковые от синих комбинезонов, высокие, сильные, они поднимались гуськом энергично и быстро, а впереди в демисезонном пальто, в теплых ботинках шагал с обнаженной головой технорук Степанов. Он поднялся на горушку, командирским жестом остановил рабочих, протолкался сквозь густую толпу и положил на гроб венок из восковых цветов.
Твердые комочки мерзлой земли застучали по крышке гроба, скрежетнула лопата, раздался приглушенный женский плач. Затем комочки застучали по дереву градом. Над Обью, над тем местом, где находилась река, высветлялся матовый кусок неба; на нем пересекались, путались стволы кладбищенских берез. На покатости горушки, свободной от людей, сидели, подняв морды к небу, собаки, брошенные хозяевами.
Когда люди по одному и группами начали расходиться, когда вершина горушки обнажилась, то стало видно, что возле свежей могилы мечутся темные крестообразные фигуры женщин. Они то нагибались, то распрямлялись, так как на земле, у могилы, лежала жена Мурзина. Женщины никак не могли поднять ее, чтобы поставить на ноги. Они метались над Мариной бесшумно, суетливо, как летучие мыши, и походило все это на немой страшный фильм. Потом на горушке раздался протяжный, тонкий крик, но ветер скомкал его, оборвав, вбил в расщелину меж соснами.
2
Положив ногу на ногу, легкомысленно посмеиваясь, Стриганов давал показания. При дневном свете лицо опохмелившегося попа казалось свежим, румяным, волосы сыто кудрявились. Следователь Качушин сидел на кончике стола, тоже посмеивался, катал в квадратных губах окурок погасшей сигареты; весь он был несерьезным, фатоватым.
— Когда же от вас ушел Саранцев? — спросил Качушин. — Хотя бы приблизительно, гражданин Стриганов.
— Ночью! — оживленно ответил поп. — Ночью, гражданин следователь, ибо свои действия и поступки не соразмеряю по времени. Сутки делю лишь на ночь, утро, день и вечер.
Стриганов коротко хохотнул, покачав добротным валенком, снисходительно прищурился. Благодушие, лень, издевка, насмешка лежали на разрумянившемся лице Стриганова, а его глаза странно походили на глаза участкового и его дочери Зинаиды — такие же большие, влажные, красивые и в этой красоте страшноватые.
— А нельзя ли поточнее, Стриганов? До полуночи, после полуночи?…
Задавая пустячные вопросы, чтобы выиграть время, Качушин чувствовал, что его охватывает холодок веселой дрожи и такое ощущение, словно он, наконец, выходит из глухого тупика на простор. Это такое же чувство, какое испытывает человек, когда, осваивая велосипед, он после бесконечных падений, ушибов, боли и страха вдруг обнаруживает, что едет. Ветер обдувает разгоряченное лицо, ноги ловко лежат на педалях, сужающаяся дорога пестрой лентой приникает к колесу. Восторг, крылатость полета, ощущение невесомости…
— Вы много выпили? — рассеянно спросил Качушин.
— По силе возможности, товарищ следователь! В числе прочих прегрешений лишен сана также за то, что не схожусь с отцами церкви в вопросе о крови Христовой. Питие, как и время, не соразмеряю в количестве.
Ощущение озаренности, крылатости не проходило, и, дождавшись, когда Стриганов перестанет улыбаться, Качушин слез со стола, театрально вздохнув, растерянно пожал плечами.
— Трудно вас допрашивать, Стриганов! — огорченно сказал он. — Опытный вы человек!
Качушин подошел к попу-расстриге, наклонился, глядя ему в глаза, медленно, четко сказал:
— Сегодня утром к вам приходил Саранцев. Зачем?
По-прежнему улыбаясь, Качушин ждал ответа на вопрос, хотя не знал, приходил ли действительно Саранцев к попу-расстриге. Этот вопрос и был вызван чувством озарения, которое пришло к Качушину в ту минуту, когда он в первый раз увидел Стриганова. Откуда пришло это чувство, ответить было так же трудно, как понять, что такое вдохновение. И, ожидая реакции Стриганова, по-прежнему твердо глядя ему в глаза, Качушин видел, что попал в точку: поп побледнел.
— Отвечайте, Стриганов!
За стенами порывами, утихая с каждым часом, еще прохаживался буран, хлестала в стекла снежная крупка, в те мгновения, когда ветер слабел, казалось, что в комнату накачивают тишину, напряженную и весомую.
— О чем вы говорили с Саранцевым?
Качушину только недавно исполнилось двадцать пять лет, он вел первое крупное дело, но он не выдержал: удовлетворенно, торжествующе захохотал, когда Стриганов отвел глаза и перестал выпячивать свою волнистую бородку. Качушин подошел к столу, сел, уверенно стал ожидать, когда Стриганов придет в себя. Глядя на опавшую, согбенную спину попа, следователь чувствовал себя легким, свободным, как воздушный шарик.
— Отвечайте, отвечайте, Стриганов!
Качушина с ног до головы пронзало ощущение того, что сейчас каждое его слово, каждая мысль умны, необходимы, что он ведет дело самым правильным, единственно возможным путем. В состоянии, похожем на опьянение, следователь повернулся к участковому, который сидел возле окна. Он увидел затуманенные глаза Анискина, его большие руки, тяжело лежавшие на коленях, необычный поворот головы, и восторг с новой силой прихлынул к горлу Качушина. Он вспомнил прошедшую ночь: шорохи за стенкой, тайный ночной уход участкового, разговор жены и дочери. Легкий, внутренне свободный, Качушин приподнялся над столом, соединяя во взгляде участкового и Стриганова, тихо, тускло, чтобы не сорваться, сказал:
— Федор Иванович, допрашивайте Стриганова. Он, наверное, вам охотнее расскажет, о чем они говорили с Саранцевым.
Восторг бушевал в груди Качушина, когда он увидел, как участковый отклонился назад, хмыкнул и снял руки с коленей. Одновременно с этим Стриганов торопливо повернулся к участковому, откровенно растерянный, посмотрел на него так, что лицо попа мгновенно опростилось: домашнее, деревенское выражение появилось на нем. Они оба — участковый и Стриганов — были растерянны.
— Садись на мое место, Федор Иванович!
Еще несколько секунд постояла тишина, а потом участковый засмеялся. Он в первый раз за все эти дни расхохотался при Качушине, и следователь увидел, как толстое лицо участкового покрылось забавными круглыми морщинами, а серые глаза сделались по-мальчишечьи веселыми. От хохота участковый изменился: не казался толстым и громоздким, не представлялось уже, что он похож на восточного загадочного бога. Милым, простым сделался Анискин, и, продолжая смеяться, он поднялся с табуретки, легко подошел к следователю, осторожно притронулся к его локтю.
— Игорь Валентинович, — ласково сказал участковый, — ты ошибаешься, если думаешь, что я точно знаю, кто убил Степана. Догадываться я догадываюсь, а вот в точности еще не знаю…
Участковый провел пальцами по руке Качушина и вдруг опустил теплую ладонь ему на плечо. При этом он сам приблизился, и Качушин ощутил, какой он весь добрый, мягкий, уютный, этот участковый Анискин, и какая легкая, добрая и дружеская у него рука.
— Не могу я допрашивать Стриганова! — сказал Анискин. — Он мой родной брат.
Участковый продолжал ласково, по-отцовски улыбаться, когда Качушин бросил шариковую ручку на стол, уронил голову на скрещенные руки и захохотал так неудержимо, весело и искренне, как может хохотать человек его лет. И пока Качушин хохотал, участковый стоял над ним и терпеливо ждал, когда следователь прохохочется, так как Анискин понимал, что Качушин не может вести себя по-другому. Он, Анискин, тоже бы хохотал, будь он на месте Качушина.
Участковый держал руку на плече вздрагивающего Качушина, ему было хорошо стоять рядом с молодым следователем, и он, не зная об этом, чувствовал то же самое, что и Качушин: дружбу, признательность. Дождавшись, когда Качушин прохохочется, Анискин заглянул в его заплаканные от смеха глаза, потрепав ласково по крепкому плечу, и негромко сказал:
— Тебе, Игорь Валентинович, про то, что мы братья, никто не сказал, чтобы меня не подвести. Люди, наверное, думают, что я брата защищаю…
Теплая рука участкового лежала на плече Качушина, серые глаза смотрели по-отцовски, пахло от Анискина свежим пшеничным хлебом, снегом и тем сладким домашним запахом, который издает недавно выстиранное белье. Все это было таким знакомым, что Качушин вдруг почувствовал себя так хорошо, как в детстве, когда над кроватью наклонялся отец. Утреннее желание обнять участкового охватило следователя, хотя это чувство было невозможным, смешным в положении лейтенанта милиции.
— У нас отцы разные, — негромко продолжал участковый. — Я произошел от Ивана Севастьяныча, а Василий — от Данила Павловича. Мать у нас одна, Мария Семеновна…
Анискин медленно пошел к окну, тусклому оттого, что было залеплено снегом; остановившись, ссутулился, голову втянул. Большая, тяжелая работа лежала на плечах участкового; что-то сложное появилось в лице Анискина, когда он, несколько секунд постояв неподвижно, обернулся к центру комнаты, к попу Стриганову.
— Ты вот чего хочешь, Василий! — сказал Анискин. — Ты целишь в мученики попасть. Я о нашем разговоре остатнюю ночь думал и так понимаю, что правды за тобой нет. Так что мне с тобой обидными словами придется говорить. Ты меня за это прощай, Васька!
Мелкими, пустячными казались Качушину собственные мысли и чувства перед тем, что происходило с Анискиным. Что значили догадки и мысли о бутылке из-под рислинга, о дрогнувшем мизинце Саранцева и о попе Стриганове перед тем, о чем говорил участковый! Жизнь и смерть, вечное и тленное, преходящее и суетное — что перед этим было секундное озарение Качушина?
Только смерть Степана Мурзина, только черные кресты на низком небе кладбища, стук комочков твердой земли о крышку гроба могли быть рядом с участковым и его братом Василием. Все остальное не вмещалось в пространство меж ними, и Качушин не вмещался ни краешком своего голубого свитера, ни мыслью. Десятилетия, дни и ночи страданий и радости, рождения и смерти — все стояло меж следователем и братьями.
— Тебе не правда нужна, Василий, а ты сам себе нужен возле правды, — сказал Анискин. — Ты своей правдой не греешься, а только блестишь от нее, чтобы тебя издалека было видать.
Крупным, недосягаемым для Качушина был участковый, но и Стриганов изменился. Как фальшивая позолота, стерлось с поповского лица все то, что можно было понять и объяснить, что относилось к сегодняшнему, преходящему. Мудрым, простым был поп оттого, что вернулось к нему земное, крестьянское выражение лица. Очень походил теперь Стриганов на старшего брата.
— Вот так я теперь это понимаю, Василий! — медленно продолжал Анискин. — Ты придумал себе веру, чтобы перед собственной совестью оправдаться… Ты город ненавидишь за то, что он тебя не принял.
Анискин остановился в темном углу, склонив голову, молчал, ожидая слов Стриганова. Участковый был спокоен, но он все-таки производил впечатление человека, который понял еще не все, терзается сомнениями и, говоря утвердительное, все ждет подтверждения собеседника. Вот и на Стриганова Анискин смотрел так, словно хотел сказать: «Ну, говори, Василий, что я неправый. Мне легче станет оттого, что я ошибаюсь». Анискин словно просил Стриганова опровергать, защищаться, и поп, вздохнув, поднял голову.
— В одном ты правый, Федор, — сказал он, — что у каждого своя правда. Еще я знаю: тебе про меня иначе, чем ты думаешь, думать нельзя. Так что ты за меня не майся, а лучше послушай, что моя правда тебе кричит. Она вон, за окном, моя правда!
Стриганов поднял руку и протянул ее к окну, сквозь которое доносились все усиливающиеся звуки лесопункта, так как лесозаготовители с утра клином выходили на деревенскую околицу. Всего несколько часов нужно было техноруку Степанову для того, чтобы повалить за огородами последний старый кедр. Выли, надрываясь и хохоча, бензиновые пилы, ревели мощные трактора, потрясая землю, валились деревья. И уже доносились до деревенских домов громкие, остерегающие голоса людей с пилами: «Бойся!» — предупреждая о том, что еще один кедр слабо покачивает вершиной, собираясь рухнуть.
— Послушай, послушай мою правду!
Участковый слушал; резкая морщина пересекала его выгнутый лоб, туго сжались губы, ресницы вздрагивали всякий раз, когда на землю глухо падало дерево. Он слушал голоса тайги до тех пор, пока очередной порыв бурана не приглушал все, что пропускали окна. Потом участковый на шаг приблизился к Стриганову, который, опустив руку, все еще стоял на ногах. Возвышенное, чистое выражение было на его лице, искренне глядели глаза, боль жила в сжатых губах. Попу-расстриге было так же больно, как и Анискину, когда падали на землю деревья, когда пилы, вгрызаясь в дерево, жадно и слепо выли.
— Так! — сказал участковый. — Эдак!
Участковый задернул ситцевые занавески на окне, прошелся из угла в угол комнаты, заложил руки за спину и, обращаясь только к Качушину, сказал:
— Мы о Коломенских гривах говорим. Их в прошлом году технорук по фамилии Верютин начисто вырубил, а гривы-то деревню от ветра спасали. Ты это сам почувствовал, Игорь Валентинович, когда мы с тобой к Вершкову шли.
Потом участковый резко повернулся к попу, задрал на лоб бровь и твердо продолжил:
— Технорук Степанов не вырубил бы Коломенские гривы. Вот это тоже правда, Василий.
Буран редкими, сдержанными порывами ударял в бревенчатые стены, тот несуществующий человек, который раньше, казалось, размеренным шагом ходил по потолку, теперь то и дело останавливался, затаивал дыхание, словно набираясь сил до новых вкрадчивых шагов. Дремучее, деревенское жило в комнате, и Качушин со странным чувством легкости и освобождения вдруг подумал о том, что вот именно сейчас начинается его следовательская биография. Откуда, почему пришли такие мысли, понять он еще не мог, но, сидя против попа-расстриги, глядя на медленного участкового, Качушин ощутил под ногами холод, словно стоял на земле. Все еще не понимая, что с ним происходит, следователь чувствовал такое, точно в нем, внутри его, были сосны Коломенской гривы, кедры деревенской околицы, предзакатное солнце над Обью, тихий посвист утиных крыльев над круглыми озерами и осенние пятна остывающих берез.
Анискин и Стриганов стояли друг против друга, тяжело молчали, и Качушин вдруг подумал: «Беспощадная драка была в тайге!» Он увидел снег, развороченный и смятый, двух человек, сцепившихся в клубок, услышал отчаянный, безнадежный вой собаки. Двое катались по земле, хрипели перехваченными глотками, тянулись к ножам и ружьям; блеснув медью, соскочило с ножа колечко, потом произошло еще что-то — и сверкнул выстрел…
— Сядьте, Стриганов! — резко сказал Качушин, вытирая со лба пот. — Садитесь и отвечайте: зачем к вам приходил Саранцев? И что вообще призошло у вас на квартире накануне убийства?
— А я ничего не скажу, — садясь, сказал Стриганов. — Вы уже всех допрашивали Колотовкина, Бочинина, Вершкова. И никто вам ничего не сказал! А теперь и Анискину не скажут: я такую команду дал!
Стриганов снова положил ногу на ногу, выставил бородку и посмотрел на Качушина просветленно-радостно.
— Вот видишь, Игорь Валентинович, — сухо сказал участковый, — какой он есть, этот Стриганов? Видишь, как он лезет в протопопы! — Он вдруг повысил голос: — Ну, ничего, Игорь Валентинович, мы Семена Привалова допросим. Этот мужик нам все расскажет… Ты его должен помнить: на него Саранцев ссылался.
— А Привалов не считается, — крикнул поп.
3
Когда Качушин допрашивал комбайнера Семена Привалова, участковый сидел в темном углу, положив руки на живот, методично вертел пальцами. Глаза у него были закрыты, лоб наморщен, и казалось, что Анискин дремлет. А допрос шел своим чередом…
Качушин. Что сказал Саранцев перед уходом?
Привалов. Ничего не сказал. Взял недопитую бутылку и пошел. До свидания, говорит…
Качушин. Вершков ушел раньше или позже?
Привалов. Как он мог уйти раньше, когда сперва его Стриганов хотел за водкой послать, а потом, когда ушел Саранцев, взял да и выгнал?
Качушин. Почему Стриганов выгнал Вершкова?
Привалов. Выпимши все были, чего там разберешь.
Качушин. Что-то же произошло?
Привалов. А ничего не произошло! Флегонт, он такой: молчит, молчит да скажет.
Качушин. Что же он сказал?
Привалов. Чего он мог сказать? Дурость!
Качушин. Все же?
Привалов. Я не записывал. Ну, примерно так говорит. Вы, говорит, попы, — дураки. Болтаете, болтаете, говорит, а толку от вас ни хрена: приезжие все равно тайгу портят, Обь изводят, бьют лосей, а вы все болтаете!
Качушин. Так, интересно! А что, из города действительно часто приезжают?
Привалов. По хорошей погоде — каждую неделю. У нас самое лосиное место. Вот они и приезжают с термосами.
Качушин. С какими термосами? И почему вы смеетесь?
Привалов. А чего мне не смеяться, я ни в чем не виноватый. Мне лоси — тьфу! Мне утку, глухаря, гуся или еще какую птицу подавай. Я на зверя не любитель, я зверя жалею. Лосиха, она вон плачет, если ее подранишь. Так что я только на птицу…
Качушин. Почему вы засмеялись?
Привалов. К нам один областной работник из торговой сети лосей бить приезжает. Возьмет лося, мясо, что получше, вырежет, а остатнее отдаст. Потом сидит на пеньке и чай из термоса пьет. Он человек хороший.
Качушин. Кто еще приезжает из областного центра?
Привалов. Да много… Директор большого магазина вон приезжает. Этот стреляет шибко плохо!
Качушин. Вернемся к делу… Что еще говорил Вершков?
Привалов. Он больше ничего не говорил. Тут в разговор Степаша Мурзин встрял.
Качушин. Как Мурзин? Он разве тоже был у Стриганова?
Привалов. Здрасьте! С самого начала сидел. При поллитре пришел, но вот мы теперь так соображаем, что Степша водку не пил. То-то я все примечал, что он к фикусу жмется. Это он не иначе как водку в горшок выливал.
Качушин. Зачем же пришел Мурзин?
Привалов. Мы теперь так понимаем, что обманно пришел. Он выпимши никогда в тайгу не ходил, вот Колотовкин с Бочининым и подумали, что погрешить можно.
Качушин. Не понимаю!
Привалов. Чего тут не понимать! Колотовкин с Бочининым того и сгреблись из гостей, чтобы шастнуть по лося, пока Степша водку пьет. Я же говорю: он обманно пришел. Мы так теперь понимаем, что Федор Иванович тоже в это дело замешанный.
Качушин. Почему?
Привалов. Они вместе со Степшей всю комедь разыграли. Когда Степша в тайге, никто за лосем не пойдет. Степша, он такой: сквозь деревья видит!
Качушин. Так… Мурзин с кем-нибудь ссорился?
Привалов. Со всеми ссорился. Он, конечно, мужик правильный, честный, шибко за государство стоял. Опять же Степша никого не боялся. Ну, говорит, друзья хорошие, нынче вы у меня попляшете: всех браконьеров сгребу!
Качушин. А что говорил Стриганов?
Привалов. Васька весь вечер говорил. Он против городских агитирует.
Качушин. Что именно он говорил?
Привалов. А что всегда говорит… Мужики, говорит, скоро вы будете жить на голой, безводной земле. Одно место я даже наизусть помню, как он эти слова громче всех шпарит: «И не останется на земле ни зверя, ни птицы, ни рыбы, и в реках не будет воды…» Одна железо, говорит, будет на земле. Интересно говорил!
Качушин. Что ему сказал Мурзин?
Привалов. Ну чего Степша мог сказать, когда он зарплату не от колхоза, а от государства получает? Я, говорит, тебя, Стриганов, в бараний рог сверну за то, что народ мутишь. Ну, тут Саранцев встрянул. Вот тоже хороший человек: сам городской, а на нашей стороне.
Качушин. Что сказал Саранцев?
Привалов. Он, когда выпимши, его понять нельзя. Мы, конечно, смеялись, когда он говорил.
Качушин. Почему смеялись?
Привалов. Смешно! Пусть, говорит, сама мать сыра земля разверзнется под твоими ногами, Мурзин. Доколе, говорит…
Качушин. Кто ушел раньше: Саранцев или Мурзин?
Привалов. Мурзин. Он самый первый ушел. Качался, будто пьяный…
Качушин. Не хочу вас обидеть, но почему Стриганов сказал: «Привалов не считается!»?
Привалов. Этим меня не обидишь. Я посередке стою. Они спорятся, а я ни к попу, ни к Степше Мурзину. Я сам по себе, я средний. Мне лоси и тайга — тьфу! У лося мясо твердое, жилистое. Я без него проживу, если утка и гусь. Тайга погибнет, Обишка, озерья-то останутся. Я так думаю: Обь помелеет, так на ней утки больше будет. Утка Обь не любит за быстрину. На стрежи утке сидеть плохо: покоя нет ей на стрежи!
Качушин. Ну, коли вы средний, Привалов, скажите: кто мог убить Мурзина?
Привалов. Здрасьте! Степшу, во-первых сказать, никто не убивал. Он в драке погинул.
Качушин. Почему вы так думаете?
Привалов. Тут и думать нечего. Никто из наших деревенских Степшу убить не мог. В драке — другое дело! Мы же не леспромхозовские…
Качушин. Значит, Саранцев мог убить Мурзина?
Привалов. Кто его знает, леспромхозовского… Он с Казбеком дружный был…
Качушин. Иными словами, Саранцев был из них, на кого собака не бросилась бы? Так я должен понимать?
Привалов. Саранцев через Фленку Вершкова с Казбеком дружный был…
Качушин. Ради бога, Привалов, говорите понятно.
Привалов. Уж куда понятнее! Саранцев и Вершков вместе на охоту и на работу ходили, а Флегонтова сука Вьюшка приходится Казбеку матерью. Когда Степан в прошлом году аппендицитом больной был, Казбек жил у Вершкова.
Качушин. Значит, Вершков и Мурзин дружили?
Привалов. Еще раз здрасьте! Они в одной роте воевали. Их вот четверо дружков: Федор Иванович, Лука Семенов, Степша Мурзин и Флегонт Вершков. Лука, конечно, в город уехал, так что их трое из одной роты осталось.
Качушин. Слушайте, Привалов, а если я вопрос поставлю так: Вершков или Саранцев? Кто из них дрался с Мурзиным?
Привалов. Саранцев.
Качушин. Почему?
Привалов. Леспромхозовский…
Качушин. Только потому, что леспромхозовский…
Привалов. Леспромхозовские — они такие…
Качушин. Какие?
Привалов. Всякие… Да чего вы меня все пытаете, товарищ следователь, когда вон Федор Иванович сидит? Он лучше меня знает, с кем Степша встрелся. Дядя Анискин, а дядя Анискин, ты не уснул ли? Ты не спишь ли, дядя Анискин?
…Открывая глаза, участковый улыбнулся и подумал о том, что тот звук, который комариным писком врывался порой в грохотанье машин, в шелест затихающей пурги, и есть голос долгожданного трактора, который, по всем приметам, проходил уже пустырем на месте Коломенских грив и раздвигал бульдозерным ножом трехметровые сугробы недалеко от деревенской околицы. Прислушиваясь, участковый выбрался из темного угла и подошел к Привалову — худенькому, маленькому мужичонке с растопыренными голубыми глазами. Да и весь он, Привалов, был раздерганный, вихляющийся, словно не было в человеке стержня, который мог бы удержать в прямизне голову, длинные руки и узкую спину. Участковый подходил к Привалову, и тот весь пошнулся к Анискину. Голубые глаза глядели на участкового преданно и ласково, рот кривился от удовольствия, а тонкая шея вытянулась.
— Я же правду говорю, дядя Анискин! — радостно сказал Привалов. — Кто еще со Степшей мог в драку встрять, как не леспромхозовские? Вчера в сельповском магазине об этом разговор шел, так все говорили, что это леспромхозовский Степана угробил… А вот Леха Заремба против всех спорился.
В комнате слышались звуки лесопункта и затихающей метели, потом раздался приблизившийся гул трактора, который теперь двигался по деревенской улице. Мягко позванивали гусеницы, мотор гудел натруженно, так как машина и на улице пробивалась сквозь сугробы. Несколько минут оставалось до того, как трактор будет возле милицейского дома, и участковый остановился, не дойдя двух шагов до Привалова.
Анискин еще замедлился и теперь производил впечатление человека, которому все безразлично: он пустыми глазами смотрел на Привалова, не замечая Качушина, и думал, казалось, не о том, о чем должен бы думать человек, когда ему рассказывают, что в магазине шел большой спор. Потом Анискин встряхнул головой, словно освобождаясь от навязчивого, неприятного, подняв глаза на Привалова, тихо спросил:
— Чего же Заремба говорил?
— Чего он может говорить! — ответил Привалов. — У него жена приезжая, так он за приезжих и заступается. Это, говорит, ваши охотники Степана загробили.
Теперь и Качушин понял, что за лязг и грохот слышен с улицы. Вскочив, следователь бросился к дверям, радостный, по-мальчишески быстрый, сделался таким, словно навсегда ушел из комнаты, где за печкой шуршали тараканы, синим замороженным сиянием светили окна и где все еще жили бархатный голос попа-расстриги, отчужденное молчание Ивана Бочинина, ненависть Михаила Колотовкина. Следователь Качушин, радостно подбежавший к дверям, был опять таким, каким увидел его участковый, — выходящим из вертолета.
В сенях гремели тяжелые сапоги, раздавался басовитый голос, приглушенный женский смех; легко, отдыхающе работал на малых оборотах трактор, но по-прежнему слышался лесопункт технорука Степанова, подвывала метель. Все эти звуки сливались в веселую кутерьму, а когда дверь широко распахнулась, пропуская тракториста Григория Сторожевого, то показалось, что он возник именно из этой кутерьмы, из этих новых звуков, нарушивших оцепенение милицейской комнаты. Тракторист держал на вытянутых руках закутанную в тулуп женщину, и это тоже было веселым, необычным. Лица женщины видно не было, но из-под заиндевевшего воротника доносился ее приглушенный смех.
— Получайте мороженую женщину! — смущенно улыбаясь, сказал тракторист. — Куда тут ее положить?
Через несколько минут в милицейском кабинете кипела работа: Качушин растирал снегом маленькие ноги женщины, участковый развешивал на печке портянки и шерстяные носки, а тракторист носил в комнату желтые футляры, пробирки и ящички. Женщина, прижимаясь спиной к печке, блаженно щурилась, а когда ее ноги сделались красными, встала, шагая зыбко, как китаянка; походила немножко по комнате, а потом исподлобья, но весело посмотрела на участкового. Две-три секунды она смотрела на него, а затем произошло неожиданное для Качушина: капитан милиции вдруг бесшумно подошла к Анискину, приподнявшись на носки, поцеловала его в небритую щеку и прижалась головой к толстой груди участкового.
— Здравствуй, хороший толстый человек! — сказала она, заботливо заглядывая в лицо Анискину. — Ах ты, хвастунишка несчастный! «У меня в деревне крупных происшествий не бывает!» Дохвастался! Тошно на тебя смотреть, хвастуна!
— Здорово и ты, мороженая женщина! — ответил участковый, целуя женщину в волосы. — Ты глянь-ка на Юлию-то, Игорь Валентинович, она ведь и волосы отморозила.
Действительно, у капитана Юлии Борисовны над маленьким детским лицом копной поднимались седые волосы, такие пышные, что казались чужими. Низкого роста — до груди участкового — Юлия Борисовна была худенькой большеглазой женщиной. Оторвавшись от груди Анискина, она посмотрела на него длинным внимательным взглядом, нахмурив тонкие брови, осуждающе покачала головой. Потом Юлия Борисовна сделала несколько шагов в сторону, и при убийственно правдивом зеленоватом свете окна ее лицо сделалось таким, каким было на самом деле, — лицом женщины, занятой мужской профессией. На ней был полувоенный костюм, кофта на боку приподнята — пистолет.
— Лейтенант Качушин, — негромко сказала Юлия Борисовна, — нужен ли вам еще Семен Привалов?
И тут все обратили внимание на то, что Семен Привалов по-прежнему сидит на табуретке и с улыбкой глядит на Юлию Борисовну. Он так глядел на нее, как смотрят на старого знакомого.
— Я вижу, что Привалов уже не нужен, — продолжала Юлия Борисовна. — До свидания, Семен!
Когда Привалов ушел, Юлия Борисовна подошла к печке, прислонилась к ней спиной и опять сделалась маленькой, похожей на подростка женщиной. Кошкой ластясь к кирпичам, она уютно поежилась, поправив волосы, закрывающие глаза, и сухо посмотрела на Анискина.
— Меня интересуют два человека, — сказала Юлия Борисовна, — лесозаготовитель Саранцев и охотник Вершков. Дело в том, что данные экспертизы… Федор Иванович, что с тобою?
Шагая широко и тяжело, участковый прошел к дверям, сняв с гвоздя полушубок, стал натягивать его, сопя и отдуваясь, прицыкивая пустым зубом. Натянув, наконец, полушубок на ссутулившиеся плечи, Анискин взял шапку, выправил ее, но на голову не надел. Он так и пошел дальше: с шапкой в руках. Он согнулся, чтобы вместиться в двери, громоздко переставил через порог валенки, еще больше ссутулившись от этого, исчез. В открытую комнату ворвался гром машин и свист ветра, пахнуло холодом и снегом. Потом дверь бесшумно закрылась, снежинки, покружившись, растаяли.
— Я так и думала! — после длинной паузы сказала Юлия Борисовна. — Я так и знала, что Федору Ивановичу, как никогда, тяжело…
Она вынула папиросу, закурила, задумчиво выпустив дым в потолок, подошла к тому окну, возле которого стоял Анискин. Юлия Борисовна долго курила молча, затем обернулась к Качушину, который опять сидел на кончике стола и поматывал ногой.
— Что здесь происходит, Игорь? — негромко спросила она. — Не нужна уже экспертиза?
— Нужна! — тоже после паузы, но почему-то громко ответил следователь. — Нужна, хотя я могу доказать, что лесозаготовитель Саранцев не убивал охотинспектора. Я рад вашему приезду, Юлия!
Они еще немного помолчали, затем на их лицах появилось особое, профессиональное выражение; они несколько раз переглянулись, и Юлия Борисовна, утвердительно качнув головой, сказала:
— Начнем с допроса Саранцева. А экспертиза такова.
4
Метель утишивалась, но холодному ветру с Васюганских болот надо было еще бороться да бороться с южным ветром, чтобы в мире наступило равновесие: тишина, мороз, солнце. А сейчас все еще было ветрено, облака висели низко, черные, клубящиеся, неслись в разные стороны, словно не знали, куда податься — к южному ветру или к северному. Потому и вагонка, в которой сидели участковый и технорук Степанов, тоже вела себя странно, непостоянно: то к югу наклонится гудящей стеной, то к северу и все дрожит-подрагивает от неизвестности.
В вагонке матово посверкивала лаком мебель, струилось из углов ласковое пахучее тепло и негромко пел транзистор, небрежно брошенный на диван. Он лежал на боку, косо, но из пластмассовой коробки проливался мучительно-низкий, берущий Анискина за душу голос Людмилы Зыкиной. Про семнадцать лет, про молодость, про седые волосы пела она, и когда просила-упрашивала: «…свои ладони в Волгу опусти», в груди участкового холодел подвижный комочек.
Не шевелясь, Анискин дослушал певицу, улыбнулся кривовато и первый раз прямо и долго посмотрел в лицо технорука. Участковый увидел квадратные, как у следователя, губы, карие спокойные глаза, и вдруг не холодно, а тепло сделалось в груди у Анискина. Голос певицы еще звучал в его ушах, и рвались наружу слова, которым было тесно в горле, и, боясь потревожить тепло под собственным сердцем, Анискин неожиданно для себя хрипло и безнадежно сказал:
— Вот какая история, Евгений Тарасович! Очень смешная история получается, когда один человек другого понять не может. От этого, Евгений Тарасович, хоть головой в прорубь.
Но технорук Степанов все понимал. Он поднялся с низкого диванчика, пересев на стул, оказался в метре от Анискина. Степанов смотрел понимающе, и просто, и терпеливо, и Анискин вдруг подумал такое, что, каралось, никогда не может прийти в голову. «Девчончишки, они всегда на отцов похожи, — подумал участковый, — так если у Зинки дочь родится, она на Степанова походить будет!» Пораженный этой мыслью, Анискин замер, ощущая духоту, натопленность вагонки, невольно для себя отодвинулся от технорука. Он еще ничего не понимал в самом себе, но уже злое, гневное волной подкатило к горлу. Видимо, лицо участкового перекосилось, так как в глазах Степанова мелькнуло удивление:
— Вам плохо?
— Нет! Ничего! — насильно улыбнувшись, солгал Анискин. — Пройдет!
На самом деле ему было плохо, очень плохо!
— Принести воды? — словно издалека донесся голос Степанова.
— Не надо воды! — испуганно ответил участковый. — Какая вода…
Через несколько минут Анискин пришел в себя. Он неловко, смущенно улыбнулся, сам себе укоризненно покачал головой и даже легкомысленно сказал:
— Ну, просто смешная история получается! Ах, ах! Вот просто со смеху помрешь!
Но технорук Степанов шутливый тон участкового не принял. Он сидел серьезный, сдержанный, по привычке прислушиваясь к гулу машин, так как он всегда был настроен, как радиоприемник на волну лесопункта. С ног до головы Степанов был официальным, лощеным, подтянутым, хотя трудно было понять, как, сутками находясь в тайге, он умудрялся сохранять на брюках острую складку, носить белоснежные сорочки, иметь чистые, аккуратно подпиленные ногти.
Степанов по-прежнему все понимал, и было видно, что техноруку сейчас нравится Анискин: и как сидел участковый, и как смотрел на транзистор, и как пытался скрыть растерянность, и как насильственно улыбался. Но голос технорука все-таки прозвучал официально сухо, когда он сказал:
— Мне известна история с так называемыми Коломенскими гривами.
Протянув руку к транзистору, Степанов выключил его. Голос Людмилы Зыкиной, которая пела уже другую песню, оборвался, и в вагонке сделалось пусто.
— Верютин снят с работы! — продолжал технорук, сделав рукой короткий энергичный жест. — Верютина полагалось бы судить, но я считаю, что это несправедливо. И знаете почему? — Технорук сухо поджал губы. — Верютин — неграмотный человек. В лесной промышленности, к сожалению, есть еще недипломированные руководители. У Верютина шестиклассное образование.
Технорук немного помолчал, как бы желая убедиться, что Анискин ничего не пропустил: ни интонации, с которой было произнесено слово «недипломированные», ни улыбки, которой Степанов снабдил свои последние слова. Участковый слушал внимательно, и технорук продолжал:
— Верютин — вчерашний день, а на дворе двадцатый век на вторую половину. В сорока километрах от вашей деревни найдена нефть. Через три-четыре года все в этих краях переменится.
Только сейчас участковый заметил, что Степанов тоненько, незаметно улыбается; он опять очень походил на следователя Качушина. Больше технорук ничего не сказал, хотя участковый ждал. Степанов задумчиво поднялся, надел пальто, лежавшее рядом с транзистором, подумав еще немного, попросил:
— Идемте на эстакаду, Федор Иванович!
Технорук выбрался из вагонки, сунув руки в карманы, не оборачиваясь, пошел к эстакаде. Несмотря на полдень, было морозно, яркая окраска машин казалась тусклой, а вырубленный кедрач походил на поле боя. Сиротливо торчали в рыхлом снегу пеньки, дымились высокие костры, похожие на догорающие танки; танковый лязг гусениц висел под низкими тучами.
Степанов ходко шел от пенька к пеньку. Он держал в руках прутик, которым звонко щелкал по пням, и говорил: «Напенная гниль!» Участковый двигался за ним и на тех пнях, по которым Степанов ударял прутиком, видел желтые трухлявые провалы, похожие на мякоть изгнившего яблока. Так они прошли метров триста и остановились. Технорук обернулся, расставив ноги, стал смотреть назад. Анискин — тоже. Он увидел, что на пустыре, похожем на поле только что утихшего боя, далеко друг от друга стояли три высоких молодых кедра. Деревья антеннами врезывались в низкое небо, тучи раздерганно метались над ними, казалось, что кедры хороводно плывут. Меж деревьями было равное расстояние.
— Современники! — негромко сказал Степанов. — Они восстановят кедрач!
Три дерева пошевеливали вершинами, словно озирались, удивленные просторностью раскинувшегося перед ними мира. Им была видна заснеженная излучина Оби, старый — анискинский — осокорь на берегу, деревня, раскинувшаяся подковой. И участковому все это было видно: дома, тесно бегущие улицей, два красных флага — на сельсовете и колхозной конторе, — маленькая площадь возле магазина.
— В области надо открыть еще сотню леспромхозов, чтобы брать только ежегодный прирост, — прежним тоном сказал Степанов. — Через пять лет этот кедрач погиб бы.
Анискин усмехнулся. Ведь и он знал, что этот кедрач лет через пять погибнет. Всего два месяца назад, в конце сентября, он шел кедрачом, ступал по мягким иголкам и с печалью думал о том, что нет уже в бору прежнего урожая орехов. Ни белки, ни бурундука не встретил Анискин, пройдя через весь лес, и вечером рассказывал Глафире об этом.
— Так! — сказал участковый. — Эдак!
Три самых сильных, молодых и здоровых кедра стояли перед глазами Анискина и не кланялись ветру, который порывами все еще набегал с южной стороны. И тому ветру, что мчался с севера, тоже не поддавались три сильных дерева.
— Ну ладно, Евгений Тарасович! — сказал Анискин. — Я тебя от дела ведь потому оторвал, что мне с тобой надо было о Верютине поговорить. Теперь я знаю, что ты о нем думаешь. А то в деревне есть человек, который считает, что он один за всю тайгу стоит…
Полуотвернувшись от Степанова, чтобы шагать дальше по своим милицейским делам, участковый по давней своей привычке сразу не ушел. Улыбнувшись в сторону, он сказал:
— А ведь ты правильно, товарищ Степанов, меня бурбоном обозвал. Чем я лучше Верютина, если не о завтрашнем дне думаю, а о вчерашнем? Так что ты меня извиняй, товарищ Степанов, за глупость! А теперь вот что: теперь я пошел. До свидания, Евгений Тарасович!
Участковый на самом деле пошел из лесосеки. Он по-прежнему глядел на родную деревню, так как теперь она была видна с той стороны, с которой Анискин ее никогда не видел: кедрач закрывал деревню. И вот теперь участковый смотрел на нее так, словно не узнавал. Он спотыкался о сучья и пеньки, дышал тяжело, надрывно, но так и не почувствовал, когда вышел из лесосеки. Ему просто стало легче идти, а деревня укрупнилась и уже не ярким пятном, а длинной полоской виделся красный лозунг на школе.
Как в чужую, входил Анискин в родную деревню. Ему вновь понравились молодые дома механизаторов, что шли по откосу, показались незнакомыми пять пустых и черных скворечников на доме Семенихиных, а потом привлек внимание самый крайний дом из тех, что были недавно построены. Дом тоже был механизаторский, но Анискину показалось, что он его никогда не видел. У нового дома не было еще ни ограды, ни палисадника, ни одно дерево не росло рядом, не лежал позади просторный огород. Доступный всем ветрам, обнаженный дом стоял на краю деревни; одинокое что-то было в окнах без ставен, в крыльце, которое бесстыдно выступало на прохожую часть улицы.
Этого дома Анискин никогда не видел. Как, когда вырос он? Это в родной-то деревне, где участковый знал каждого человека наизусть и мог сказать, что варят на ужин в доме под пятью скворечниками! Потом, трудно и долго раздумывая, Анискин сообразил, что в крайнем доме перед праздниками поселился Алексей Заремба с молодой женой. Ага! Заремба, тот самый…
— Так! — вслух сказал участковый. — Эдак!
Было, оказывается, и в его родной деревне такое, чего он не видел, не знал. Что это торчало над крышей дома Толоконниковых? По всем признакам — телевизионная антенна: значит, Васька Толоконников, вернувшись из армии, ладился принимать Томск, хоть и далеко до него. Анискин звучно прицыкнул зубом, опять усмехнулся. Ах, какой незнакомой казалась деревня со стороны нового пустыря!
— Интересно, интересно!
Неторопливо взгромоздившись на новое крыльцо, участковый смел снег с валенок, выпрямившись, немного постоял, чтобы разгоряченное лицо чуточку поостыло. Затем он приподнял левую бровь и, строго, по-милицейски посверкивая глазами, постучал в домовую дверь, так как сеней в доме еще не было.
— Здорово, хозяева! — приветливо сказал участковый, входя в дом и останавливаясь возле порога. — Здорово, Леха, здорово, Оксана!
Два очень молодых смущенных человека смотрели на участкового из глубины полупустой комнаты, пахнущей смолой, дегтем, свежим деревом. Стены дома еще не были оштукатурены, пол не крашен, не стояла еще тесовая перегородка, которой полагалось делить пополам большую комнату. Была выгорожена только кухня, из которой, отодвинув в сторону занавески, глядела на участкового девочка лет трех, белокурая, испуганная, видимо, ростом и толщиной Анискина.
— Здорово! — сказал и ей участковый. — Ты бы на меня не таращилась, а сказала: «Здорово!»
— Здорово! — еле слышно ответила девочка.
Приглашенный «быть как дома», участковый снял полушубок, повесил его на слабенький гвоздь, осматриваясь, неторопливо прошел к столу. В доме не было ничего, кроме двух стульев, двух кроватей — обычной и детской — и баяна, который стоял на подоконнике. Все это участковый зорко оглядел, хмыкнул несколько раз, а затем поднял руку и поманил к себе хозяина дома.
— Я тебя слушаю, дядя Анискин!
Заремба был типичный деревенский гармонист: лихой кудрявый чуб сваливался на дерзкие глаза, пестрая рубаха обтягивала плечи, а ноги он ставил так ловко, словно собирался пуститься в пляс. Руки у него были длинные, подвижные, тоже готовые взлететь.
— Вот я, дядя Анискин! — сказал он. — Стою как лист перед травой.
— Конечно, будешь стоять! — строго ответил Анискин. — Тут каждый будет стоять, ежели в доме всего два стула.
Участковый засмеялся, и засмеялись все, даже девочка. Громко топая голыми ножонками, она прошла по белому полу, ткнулась матери в подол. Она секунду прятала лицо в материнской юбке, а потом на Анискина уставила такой, как у Зарембы, курносый нос и один любопытный глаз.
Оксана Заремба была маленькой, тихой, незаметной женщиной. Свисали до пояса черные косы, по белому переднику шагали красные петухи; вся мягкость далекой теплой родины лежала на ее славном, добром, чернооком лице. Вот точно такой же была когда-то жена Анискина, в ее сундуке до сих пор нафталинился такой же украинский петушиный фартук, черные косы когда-то мели по полу. «Свои ладони в Волгу опусти…» — вспомнил участковый, и нежная волна пошевелилась под сердцем.
Так вот, значит, куда ушел от старой матери Алексей Заремба. Сменял огромный пятистенный дом, до отказа набитый вещами, на пустые стены, на одиночество деревенской околицы, ни сундука, ни пузатого шкафа не было в этом доме, молодо пахнущем стружкой и сосновой смолой. Из всех вещей, значит, унес только перламутровый баян да гору пузатых подушек, что одна на одну громоздились на супружеской кровати.
Анискин повозился на табурете, еще раз посмотрел на весело стоящего перед ним Зарембу и вдруг почувствовал себя так хорошо, как давно не чувствовал. Ну, все нравилось ему: сам Заремба, его жена, трехлетняя девочка. Свободные они были какие-то, такие же просторные, как их пустой дом. Понимая и не понимая себя, Анискин разулыбался, расцвел и совершенно неожиданно просто спросил:
— Леха, а Леха, почему ты думаешь, что Степана загробили деревенские?
Вопрос был неожиданный, необычный, но комбайнер не удивился. Он спокойно выслушал Анискина, кивнул головой, но, прежде чем ответить, повернулся к Оксане, словно не участковый задавал вопрос, а жена. Они переглянулись.
— Про это не меня надо спрашивать, а вот ее! — недовольно ответил Заремба. — Она лучше меня скажет.
— А чего я буду говорить! — подумав, сказала Оксана. — До мене не касается, кто там кого убив.
Женщина говорила неохотно, руки скованно держала под фартуком, смотрела в пол, и по всему этому участковый понял, что Оксана не отвечала ему, а продолжала прежний разговор. Нежная кожа Оксаны порозовела, руки под фартуком двигались нервно, беспокойно. Видимо, до прихода Анискина муж и жена разговаривали о смерти Степана. Поэтому Заремба и не удивился, когда участковый спросил его об этом.
Супруги молчали, отчужденно переглядываясь. Девочка выбралась из-за спины матери, тихонько села в уголок, напевая протяжное, стала перебирать яркие кубики. Значит, и она по тону отца и матери поняла, что родителям теперь не до нее.
— Ты не молчи! — угрюмо сказал жене Заремба. — Человек же ждет. Как со мной спориться, так ты можешь, а как дяде Анискину, так в кусты.
— Та я и не спорилась. Я правду говорила, что Маринина мужа прибив ктой-тось из деревенских. Ты и сам, Леша, к тому прийдешь, что я правая.
Маленькая, кругленькая, славная была жена комбайнера, и голос у нее был протяжный, музыкальный.
— Та я и не спорилась! — повторила Оксана. — Я только говорю, что которы приезжи, так стоят за леспромхозовских, которы местные — так за деревенских. Так и я приезжая…
Голос женщины успокаивал не только окружающих, но и саму Оксану. Ее руки под передником перестали волноваться, грудь дышала ровно, а на лице было такое выражение, которое тоже успокаивало: «И чего волноваться: я же правду говорю!» Настроение женщины, ее умиротворенность передавались Анискину, девочке, которая мирно и весело играла кубиками, и только сам Заремба не мог успокоиться.
— Чего плохого тебе сделали деревенские? — вызывающе спросил он. — Пять лет в деревне живешь, а все: «Приезжая, приезжая!»
Но Оксана и тут не стала спорить с мужем. Она улыбнулась сама себе, вздохнула протяжно, на щеках появились уютные, милые ямочки. А Заремба стоял угрюмый, неприступный.
— И чего он сердится! — пожав круглыми плечами, добродушно сказала Оксана. — Еще годков пять пройдет, так усе забудут, что я приезжая…
Участковый сидел неподвижно, прислушиваясь, так как он понял наконец, отчего ему показалось, что в доме сделалось выше, светлее, просторнее: за окнами утишился ветер. Он только легонько прохаживался по оттаивающим стеклам; в шелесте ветра уже чувствовались высокие звезды ясного вечера, безмолвная ночь, скованная холодом, скрипы колодезных журавлей, которые в морозные дни проносятся от одного конца деревни до другого.
— Метелишша-то перестала! — сказал участковый. — Вот ведь какие дела, Оксана ты свет Лукинична, на весь деревенский народ сердитая!
— Я не сердитая, — мягко ответила Оксана. — Я как у колхоз вступила, так мне усе помогали. Мне колхоз вот эту хату построил, теленка выделил, коров дою не хуже, чем другие.
Эта женщина всегда говорила правду и только правду: не мог лукавить человек, который на Анискина смотрел точно такими же глазами, как ее трехлетняя дочь на цветные кубики.
— Так что я всем довольная. А что меня народ у душу к себе не допускает, так я и есть приезжая…
Когда Оксана спокойно замолчала, Заремба сердито сбросил со лба чуб, удивленно всплеснул руками.
— Во, дядя Анискин! — воскликнул он. — Придумала про какую-то душу, и хоть кол на голове теши! В доме только и слыхать: «Душа да душа!» И седни про эту душу трастили и намедни…
Последние слова Заремба произнес в несколько раз тише, чем первые, руку опустил медленно, так как участковый с непонятной улыбкой прислушивался к Зарембе. Анискину было интересно, как звучат в устах Алексея Зарембы слова «седни» и «намедни». С участковым опять творилось странное: знакомые, родные слова звучали незнакомо, словно их до этого долго-долго повторяли. Они так же потеряли точный смысл, как теряли его любые слова при частом произношении.
— Так ты продолжай про душу-то, Ксюша! — попросил участковый. — Ты Лешку не слушай, он баламутит.
Женщина согласно кивнула.
— Как я за Лешу замуж вышла, — сказала она, — так мне легче стало. А раньше я совсем была одинокая. Вот приду в сепараторную, где доярки сидят, так сразу тихо. Ну, сразу усе разговоры заканчиваются! А Лешина мама на меня косится…
Все это было правдой. Анискин видел сепараторную, где перед дойкой собираются доярки, мать Алексея Зарембы — высокую, костистую Наталью. В сепараторной на самом деле шевелилась в углах враждебная тишина, висело под потолком туго спрессованное молчание, все еще тлели обидные, несправедливые слова: «Ходят тут разные!» Мать Алексея бродила по большому дому тяжелой, мужской походкой, не было на ее костистой фигуре местечка, к которому можно было бы притулиться с лаской и надеждой…
— Так! — вполголоса сказал Анискин. — Эдак!
За окнами было по-настоящему тихо. Буран сходил на нет так же быстро, как и начался, стекла просветливались, открывая заснеженную улицу и кусок речного яра с голубыми сугробами. Того и гляди могло выглянуть солнце, пасть на деревню лучами, чтобы увиделось, что натворил буран.
— Ну, беда с вами, ребята! — смеясь, сказал участковый. — Просто беда мне с вами — вот что я вам скажу!
Анискин начал подниматься со стула: уперся руками о стол, вздымая тяжелое тело, закряхтел, а когда поднялся, то был уже обычным Анискиным. Косолапо ступая толстыми ногами, он подошел к девочке, нагнувшись, пощекотал ее шею возле затылка и, когда она засмеялась, почему-то начальственно сдвинул брови. Ни на кого больше не обращая внимания, так, словно в доме он был один, участковый снял с хлипкого гвоздика тяжелый полушубок, напялил его, застегнулся на все пуговицы и остановился в раздумье — сейчас надевать шапку или на улице. Шапку участковый надел в доме, но, взявшись за дверную ручку, помедлил выходить. Несколько секунд он стоял неподвижно, потом сказал:
— Оксана-то правая! Деревенские погробили Степшу Мурзина.
5
В четвертом часу дня из-за синюшного рваного края туч выдвинулось большое, алое, как раскаленный пятак, солнце. Оно щедро осветило нежданное — маленькую, уютную, славную деревеньку. Как на картине доброго, веселого художника, стояли полузаметенные снегом дома, белоснежными веревками висели вдоль улицы провода, театральные деревья склоняли ветви под ажурным снегом; все, что видел глаз, было окутано чистоплотной и заботливой рукой снега. Ни одной щелочки не оставил он морозу.
Прямые дымы поднимались из печных труб, голубели оконные стекла, глубокие тени прихотливо расчеркивали снег. Ласковой, тихой, приветливой была анискинская деревня в лучах пробивавшегося сквозь тучи солнца, и, поднимаясь на крыльцо своего дома вместе со следователем и Юлией Борисовной, участковый вдруг подумал, что, может быть, все обойдется, все будет хорошо, хотя знал, что никто не может ему помочь. И все-таки, ощущая, как его пронизывает чистый и ласковый свет молодого снега, как на щеке лежит отблеск солнца, Анискин чувствовал облегчение и даже весело улыбался, наблюдая за тем, как Юлия Борисовна первой входила в горницу, а навстречу ей из-за уже накрытого стола поднималась его жена Глафира.
Жена участкового и Юлия Борисовна обнялись, прижались друг другу, так как не виделись, пожалуй, год. Потом они трижды поцеловались и стали вместе ожидать, когда к ним приблизится дочь участкового. Она тоже поцеловала Юлию Борисовну, обняв ее, и все трое стояли посреди горницы со слезами на глазах.
Капитан милиции Юлия Борисовна когда-то целых четыре года жила на квартире у Анискина, ее в его доме считали родным человеком, и Глафира со вчерашнего вечера готовилась к встрече гостьи. На белоснежной скатерти стояли большая фарфоровая миска со стерляжьей ухой, красивые глубокие тарелки для нее, поблескивал никелем прибор — перечница, солонка и горчичница; скатерть была туго накрахмалена, накрахмаленные салфетки лежали возле каждого прибора, а на отдельном столике, что стоял в углу горницы, громоздились мелкие тарелки для жаркого.
Юлия Борисовна, жена и дочь участкового все еще стояли обнявшись, Качушин все еще неловко топтался возле дверей, а участковый уже медленно шел к столу. Оглядев скатерть и посуду, темные бутылки с затейливыми этикетками, он высоко, как бы удивленно поднял плечи. Потом Анискин отвернулся от стола и стал смотреть на жену и дочь.
Участковый смотрел на них точно так, как смотрел на стол. Ему казалось, что он впервые видит черное платье на Глафире, пушистую вязаную кофточку на дочери. Анискин сам покупал в Томске материал на черное платье, шила его деревенская портниха. Глафира несколько раз надевала его в гости, но сейчас платье незнакомо лежало на покатых плечах жены, коротко открывало ее сухие ноги в блестящих чулках, а на груди у Глафиры — вот уж этого он никогда не видел! — поблескивала брошка. Совершенно незнакомой была кофточка на Зинаиде.
— Руки мыть, товарищи мужчины, — послышалось за спиной участкового. — Юлия, веди Игоря Валентиновича в кухню.
Голос принадлежал Глафире, но был чужим. И эти слова «товарищи мужчины», и интонация, с которой они были произнесены, и выражение глаз жены были так же незнакомы, чужды, как брошка на ее груди. Потом Анискин услышал, как скрипят туфли, — это прошла по комнате жена. Участковый хмыкнул, так как он только сейчас заметил, что Глафира в туфлях на высоком каблуке. Так вот почему ее ноги казались длинными, блестящими, незнакомыми…
Дождавшись, когда все уйдут в кухню, Анискин осторожно взял со стола приборчик с перечницей, солонкой и горчичницей. Он так и эдак повертел его в пальцах, покачав головой, прищурился. Когда появился в его доме судок? И когда, черт возьми, перестала его жена по-деревенски носить в левой руке чистый носовой платок? А туфли? Когда она надела в первый раз туфли на высоком каблуке, если ходила в них не спотыкаясь?
Три женщины во главе с повеселевшим Качушиным возвращались из кухни: высокая от каблуков Глафира, пугающе нарядная и красивая дочь, строгая в своем полувоенном наряде Юлия Борисовна.
— К столу, к столу! — чужими словами и чужим голосом пригласила Глафира. — Юлия сядет рядом со мной, а остальные как хотите.
Дочь села против участкового, и он увидел за столом чужого человека — она так держала руки, так смотрела, так двигалась. Рядом с ней сидел Качушин — тоже чужой, непонятный, не такой, каким был в милицейском кабинете. Наблюдая за обедающими, участковый машинально ел уху, не чувствуя ни запаха, ни вкуса, опрокидывал в рот ложку за ложкой горячую жидкость, и ему казалось, что он почему-то видит себя со стороны: свои стеганые брюки, расстегнутую на груди рубашку. Он видел свои корявые руки, держащие ложку, большую, круглую и лохматую голову, торчащую над столом. Он был невеселый, грубый, выпирающий.
Анискин понимал, что за столом что-то происходило, хотя он не слышал голосов обедающих точно так, как не ощущал вкуса ухи. Однако он заметил, что Качушин сидит с нарочито грустным лицом, что вокруг него водоворотом клубится веселье, оживление, что, видимо, идет какой-то очень интересный разговор. Заставив себя сосредоточиться, участковый убедился, что это так и есть: Качушин наигранно вздохнул, жалостливо посмотрел на Юлию Борисовну и пожал плечами.
— А главное: нет таланта! — печально сказал он. — Ваша Джульетта Мазина абсолютно лишена таланта. Я уж не говорю о том, что она и актрисой-то стала потому, что муж — режиссер. Но Феллини, Феллини, где были его глаза!
Качушин опасливо покосился на Юлию Борисовну, заговорщически подмигнул Зинаиде, а на Глафиру посмотрел так, словно просил у нее защиты, и не зря, конечно, так как Юлия Борисовна вдруг схватила следователя за ухо, потянула и зловещим шепотом спросила:
— Больно?
— Больно! Ой, больно!
Эх, как весело было за столом! Наплывал на щеки Зинаиды свежий румянец, ярко блестели серые глаза, подрагивали от смеха нежные губы. Вот, значит, какой была его, анискинская дочь. Она знала, кто такие Мазина и Феллини, умела держать вилку в левой руке, а на молодого, красивого, оказывается, следователя Качушина смотрела так просто, как не мог смотреть Анискин на собственную дочь. И откуда все-таки в доме накрахмаленные салфетки, красивые тарелки, вон та тумбочка под радиоприемником «Днепр»? Ну, хорошо, радиоприемник он покупал сам, а тумбочка полированного дерева?
— Вы меня извиняйте, — неожиданно для себя сказал участковый, — извиняйте меня…
Скомкав салфетку, Анискин бросил ее на стол, резко поднявшись, выпрямился во весь рост. Он опять увидел себя как бы со стороны: расстегнутую на волосатой груди смятую рубаху, свои по-рачьи выкаченные глаза, услышал тот протяжный, прицыкивающий звук, какой издавал его пустой зуб. Всего себя нелепого, как слон в гостиной, ощутил участковый!
— Вы извиняйте, извиняйте меня!
Войдя в комнату дочери, участковый сел на стул, положил руки на колени и медленно огляделся. Узкая кровать, застеленная одеялом тигрового цвета, журнал на одеяле, столик, заваленный книгами и тетрадями, полки с книгами и потешными игрушками, шкаф с платьями дочери и небольшая картинка, что висела над кроватью. Участковый и раньше знал, что над кроватью дочери есть яркое цветное пятно, но что это, не знал. Теперь он разглядел картинку. Среди красного неба, желтых и синих камней, недалеко от бревенчатой избушки сидела на красном камне женщина. В жизни никогда не бывало такого красного неба, красных камней, зеленой воды. Он нагнулся к картине, прочел: «Рерих. Ждущая».
«Я тоже виноватый в том, что Степшу убили», — вдруг подумал участковый. Он замер в прохладноватом воздухе комнаты дочери. Смотрела на него «Ждущая» с картины Рериха, смирно и тихо лежала за окном деревня, было слышно, как бьется сердце в собственной груди. Потом заскрипели половицы, приглушенно хлопнула дверь и, не оборачиваясь, он понял, что в комнату вошла Юлия Борисовна. Она боком прислонилась к его спине и долго стояла молча. Затем рука Юлии Борисовны обняла участкового за плечо, и он почувствовал негромкий запах духов.
— Ну, ну, хороший толстый человек! — сказала Юлия Борисовна. — Ты на Зину посмотри… Я ее всего четыре месяца не видела, а ведь это совсем другой человек! От меня она уезжала девчонкой, а сейчас…
Не глядя на Юлию Борисовну, Анискин снял ее руку со своего плеча, пожал легонечко теплые пальцы и остался сидеть в той же позе, думая о том, какой действительно была его дочь четыре месяца назад, когда из районного города Пащево, где она училась в девятом и десятом классах и жила на квартире у Юлии Борисовны, они провожали ее на экзамены…
— Девчонка становится современной! — весело сказала за спиной Анискина Юлия Борисовна. — Ты заметил, как на нее поглядывал наш лейтенант?… А на пароход входила этакая робкая провинциалочка.
Участковый не отвечал: он глядел на книгу, что небрежно валялась на столе и называлась: «В. Вересаев. Записки врача».
6
В милицейской комнате все было так, как раньше, но возле печки, грея об нее спину, стояла маленькая женщина в полувоенном наряде, близоруко прищуривалась и беспощадно разглядывала Саранцева. Все в ней было профессиональным, законченным, и хотя женщина помалкивала, держалась скромно, Саранцев сразу понял, что она самая главная здесь. Женщине было хорошо греть спину о печку, и в этом было такое, что настораживало; за спокойствием и умиротворенностью чувствовалось тоже профессиональное, уверенное.
На этот раз допрос был форменный: Качушин писал протокол, спрашивал имя и возраст, социальное положение, отношение к воинской службе. Быстро записав все это, следователь откинулся на спинку стула, посмотрел, хорошо ли висящая лампочка освещает лицо Саранцева, помедлил немножко и спросил обыденным тоном:
— Объясните, пожалуйста, гражданин Саранцев: как бутылка с отпечатками ваших пальцев оказалась на месте преступления?
Это был именно тот вопрос, которого Саранцев ждал и боялся. Все в комнате сразу поняли это, так как Саранцев побледнел. Перед допросом Качушин беспощадно низко опустил лампочку, она светила ярко, и шесть глаз сходились на Саранцеве. Несколько секунд он молчал, потом взял себя в руки.
— Этого я объяснить не могу, — ответил Саранцев. — Я предполагал, что одна из моих бутылок оказалась на месте преступления… именно поэтому я после похорон заходил к Стриганову. Пустых бутылок из-под рислинга не было.
Юлия Борисовна повертывала к печке левый бок. Она прижалась к теплым кирпичам, сыто пожмурилась и незаметно кивнула головой Качушину. Следователь встал, присел на кончик стола и начал профессионально молчать. Он покачивал ногой, думал будто бы о постороннем, но лицо у него было укоризненное: «Ну, что же вы, Саранцев, не можете ответить на такой простой вопрос? Ах, Саранцев, Саранцев, не ожидали мы от вас такого!»
В молчании прошла минута, а когда она кончилась, то все, включая Саранцева, поняли, что это была самая важная минута следствия. Юлия Борисовна теперь прислонилась к печке спиной, театрально зевнув, прикрыла губы ладошкой. Качушин вернулся на место, щелкнул шариковой ручкой и нагнулся над протоколом.
— Защищайтесь же, Саранцев, — посоветовала Юлия Борисовна.
Но Саранцев производил впечатление человека, который не способен защищаться. Безразлично, вяло сидел он на табуретке, завороженно глядел на пустую бутылку из-под рислинга, на горлышке которой блестел электрический отсвет.
— Так что же, Саранцев! Будете защищаться или нет? Отвечайте же!
Юлия Борисовна дважды повторила последние слова, но Саранцев ее не услышал. Тогда Юлия Борисовна и Качушин переглянулись быстро, значительно, решающе. Затем Юлия Борисовна неохотно оторвала спину от печки, лениво прошлась по комнате и остановилась против Саранцева:
— Посмотрите на этого пижона! Он не хочет защищаться!
Продолжая насмешливо улыбаться, Юлия Борисовна села напротив Саранцева и закинула ногу на ногу, обнажив худую, угловатую коленку.
Она обернулась к Качушину, кивком головы пригласила его подойти к ней и, когда следователь приблизился, сказала:
— Начнем, пожалуй, как говаривали в старину…
Следователь и Юлия Борисовна еще раз переглянулись, и участковый, сидящий в темном углу, переменил положение. Он выпрямился, сложив руки на животе, стал глядеть на троих тихими, задумчивыми глазами. «Вот какие дела!» — неопределенно подумал он. Ему было интересно, как Юлия Борисовна и Качушин поведут себя дальше, чтобы убедиться в том, что Саранцев не дрался с Мурзиным и не стрелял в него. Словно издалека, он стал слушать, как Юлия Борисовна и Качушин, заранее договорившись, вдвоем взялись за Саранцева…
— Итак, в семь часов вечера у Стриганова собрались несколько человек, — начал Качушин. — Колотовкин, Бочинин, Вершков, Привалов, Саранцев и некий Филиппов, который неинтересен: он с самого начала был безнадежно пьян. Люди, казалось бы, собрались на дружескую пирушку, но любопытны два факта: охотники Колотовкин, Бочинин и Вершков почти не пьют, чего-то выжидают — это раз; и среди присутствующих обсуждается вопрос об охотинспекторе Мурзине — это два… Ответьте, пожалуйста, Саранцев: что говорили о Мурзине?
Следователь легкомысленно, по-мальчишески сидел на кончике стола, спутанные волосы образовали на лбу вихорок, но участковый видел такого Качушина, какого не видел за все эти три дня: он вроде бы и постарше стал, и залегла у губ глубокая складка, и глаза построжали, потемнели. Совсем здорово походил сейчас Качушин на технорука Степанова.
— Так что говорили об охотинспекторе?
— Обсуждали вопрос, пойдет он в тайгу или нет, — ответил Саранцев. — Утром Мурзин купил в магазине бутылку водки, а это, по местным приметам, как раз такой случай, когда он собирается идти в баню…
На последних словах лесозаготовитель грустно улыбнулся, покривил губы, но он уже был не тем Юрием Саранцевым, который знал слово «мальтузианство» и сидел перед следователем, как равный перед равным. Опустив лысеющую голову, лесозаготовитель сейчас безнадежно уставился в пол, плечи у него были узкие, немужские.
— Поехали дальше! — сказал Качушин. — Из того факта, что охотники продолжали сомневаться, можно сделать вывод, что их еще что-то удерживало в деревне. Скажите, Саранцев, что их удерживало?
Участковый закрыл глаза: ему мешал яркий свет. Уж он-то, Анискин, знал, что удерживало охотников, и понимал, отчего Саранцев поглядывает в его сторону.
— Говорили об участковом уполномоченном Анискине, — наконец ответил Саранцев. — Высказывалось предположение, что пойдет в тайгу он.
Анискин открыл глаза и как бы вновь увидел, что Юрий Саранцев сидит в жарко натопленной комнате, страдает от жары и безнадежности, от беспросветности того, что называется его жизнью. У Саранцева нет сил сопротивляться, и не может быть их, так как в темном углу милицейской комнаты находился он, деревенский участковый уполномоченный, который еще два дня назад считал Саранцева виновным только потому, что Саранцев «леспромхозовский» и сидел в тюрьме.
Отключенный начисто от всего того, что происходило в комнате, переполненной тоской, участковый вдруг поймал себя на том, что он не только открыл глаза и смотрит на Саранцева, но и выходит из угла. Анискин обнаружил, что он уже стоит в трех шагах от лесозаготовителя и улыбается неприятной, скованной улыбкой. И точно так, как это было за обедом, Анискин видел со стороны всего себя.
Участковый видел толстого, растерянного, глупо улыбающегося человека, стоящего посередь комнаты с виновато опущенными плечами и всклокоченной головой. Это был он, Анискин, человек, который выгнал из своего дома технорука Степанова, который никогда не видел, как выглядит его родная деревня со стороны кедрача, и не помнил, с какого года в его собственном доме завелись крахмальные салфетки.
Анискин стоял неподвижно, опустив голову, и вчуже наблюдал за тем, как Юлия Борисовна предупреждающе машет ему рукой, а Качушин прикладывает ладонь ко рту. Он, конечно, понял их, но на знаки внимания не обратил и глухо сказал:
— Мы хотели вместе со Степшей пойти в тайгу, и он пошел, а я вот нет: у меня Зинаида заболела!
— Спасибо, Федор Иванович! — вежливо поблагодарил его Качушин. — Итак, мы знаем, что поимка браконьеров была подготовлена заранее, но для верности охотинспектор Мурзин сам появляется в доме бывшего попа Стриганова. Он делает вид, что пьет водку, а на самом деле выливает ее в подцветочник… Сначала идет мирная беседа, потом возникает ссора, суть которой такова: никто не имеет права мешать охотникам отстреливать лосей. Это утверждает бывший поп Стриганов, а за ним и все остальные, кроме, разумеется, Мурзина… Скажите, пожалуйста, Саранцев: с кем из присутствующих охотинспектор ссорился особенно активно?
— С Вершковым, — после паузы ответил Саранцев. — Я это объясняю тем, что Флегонт Васильевич считается лучшим охотником в деревне. Мурзин сказал ему: «На твоей совести, Вершков, не один десяток зверя!»
— Понятно!
Спустившись со стола, Качушин сел на следовательское место и решительным жестом придвинул к себе кипу белой бумаги. На верхнем листе он размашистым почерком написал несколько строк, поставил твердую точку и официальным тоном сказал:
— Пожалуйста, Юлия Борисовна!
Дождавшись, когда Качушин запишет первоначальные показания Саранцева, Юлия Борисовна поднялась, сунув руки в карманы своего полувоенного наряда, по-хозяйски прошлась вдоль милицейской комнаты. Она была так нетороплива и задумчива, как бывают следователи в тот момент, когда допрос приближается к самому важному, решающему моменту. Опытные следователи в это мгновение становятся непроницаемыми, настороженность тщательно скрывают, а голосу придают равнодушие. Вот и Юлия Борисовна неторопливо прошлась, скрестила руки на груди и сдержанно сказала:
— Вы, Саранцев, думаете, что найдена только бутылка с отпечатками ваших пальцев, но ведь это не все. Найдена и гильза от вашего ружья. На ней тоже есть отпечатки ваших пальцев, причем такие, какие можно оставить, вынимая гильзу из патронника.
Качушин, Анискин, сама Юлия Борисовна, не отрываясь, не дыша, смотрели на лесозаготовителя, а он медленно-медленно, словно в густой жидкости, оседал на табуретке. Сделалось большим, мгновенно опухло его бледное лицо, упали руки, сквозь стиснутые зубы прорвался тонкий стон.
— Все! — прохрипел Саранцев. — Теперь все!
Прошла еще секунда, и в жестокой тишине опять послышались мягкие, протяжные шаги Юлии Борисовны, которая двигалась к Качушину, и они смотрели друг на друга так, что Саранцев не мог видеть их лиц — Юлия Борисовна прикрыла его от следователя спиной. Они переглянулись длинно, значительно, и на лице более молодого, чем капитан милиции, следователя можно было прочесть: «Я же говорил вам, что Саранцев невиновен!» Но Юлия Борисовна все-таки дошла до Качушина, затем резко обернулась назад и энергично произнесла:
— Нам также известно о том, что вы не убивали Мурзина, гражданин Саранцев! Мурзин убит зарядом самодельной крупной дроби, а вы использовали заводской патрон.
Маленькими шажками, почему-то осторожно, Юлия Борисовна вернулась к печке, приложила к кирпичам ладони и сделала плечами такое движение, словно хотела сказать: «Нет, все-таки самое лучшее место в этой комнате — печка!» И вот так, держа руки поднятыми, грея ладони, она со вздохом сказала:
— Рассказывайте, рассказывайте, Саранцев: как это вы оказались на месте преступления? Нельзя, знаете ли, валять дурака!
Несколько минут Юлия Борисовна, Качушин и участковый были заняты тем, что старались не глядеть на Саранцева. И на самом деле трудно было смотреть на то, как здоровый, сильный сорокалетний мужчина тоненько, счастливо смеется, как он загораживает руками от света свое мгновенно покрасневшее лицо и как дрожат эти руки. Когда же Саранцев, наконец, справился с собой, в милицейской комнате опять было тепло, тихо, спокойно. Казалось, что электрическая лампочка светит мягче, чем раньше, в воздухе носилась свежесть. Не была узкой, немужской спина Саранцева.
— Все эти дни я ждал ареста! — полушепотом сказал лесозаготовитель. — Произошло столько совпадений, что…
Он не договорил, но и без того было ясно, что пережил за эти дни Юрий Саранцев. И наверное, поэтому следователь Качушин заговорил сам.
— Поехали дальше! — небрежно предложил он. — После ссоры с охотниками Мурзин ушел домой. Теперь ни у кого не было сомнений, и охотники решили: путь свободен! Что было дальше?
Но Саранцеву еще минут пять понадобилось на то, чтобы окончательно прийти в себя. Он вынул из кармана пачку недорогих папирос, ломая спички о коробку, закурил и несколько жадных затяжек сделал в молчании. Руки у него по-прежнему дрожали.
— Дальше события развивались так, — наконец заговорил Саранцев. — Едва только Мурзин ушел, охотники засобирались в тайгу, чтобы незаметно пронести в деревню дневную добычу. Одного лося убили Колотовкин и Бочинин, второго — Вершков…
В углу, где сидел участковый, раздался протяжный цокающий звук — это Анискин прицыкнул пустым зубом.
— Ах-ах! — пораженно воскликнул он. — Вот чего я не знал, так это про второго лося. Мы-то со Степшей думали, что завален только один лось, который Колотовкина и Бочинина. — Участковый торопливо выбрался на середину комнаты и взмахнул руками. — А ведь я-то думал, что Флегонт на помощь Колотовкину и Бочинину пошел. Думал, они врут, что вдвоем ходили! Вот до чего тайный человек этот Вершков, что даже мы со Степшей его лося не нашли!
Участковый еще раз взмахнул руками, неловко попятился и шумно опустился на прежнее место — удивленный, раздосадованный. Собираясь слушать дальше, он притих, но долго еще приглушенно поцыкивал, безутешно качал головой и туда-сюда вертел пальцами сцепленных рук. А Саранцев продолжал рассказывать:
— Минут через двадцать после ухода охотников пошел домой и я. Вагонки лесопункта той ночью находились на полпути меж деревней и местом происшествия… Не скрою, я был весьма пьян, в восемь часов начиналась моя смена, и бутылку с остатками рислинга я захватил с собой. — Саранцев вспоминающе помолчал. — Была лунная, светлая ночь, и в полукилометре от вагонов вдруг появился человек. Он быстро шел на лыжах в лес. Я сразу же узнал в нем Мурзина… Не знаю, как я поступил бы сейчас, когда трезв, но тогда я, не колеблясь, решил предупредить охотников.
Саранцев остановился, так как Качушин недовольно поморщился: он не успевал записывать. Поэтому Саранцев немного выждал, затянулся папиросой и продолжил:
— Сначала я пошел за Мурзиным, потом свернул в сторону, чтобы случайно не попасться ему на глаза. Через три-четыре километра я остановился и выстрелил в воздух — этого было достаточно, чтобы предостеречь об опасности. Потом я допил рислинг и выбросил бутылку… Все это произошло на том же месте, где потом…
Саранцев прикурил свежую папиросу от сгоревшей, не зная, куда бросить окурок, смял его в пальцах, но ожога не почувствовал.
— Когда я утром узнал о смерти Мурзииа и о найденной бутылке, — сказал Саранцев, — я еще надеялся, что это другая бутылка. Потому я и побежал к Стриганову. Две другие бутылки стояли на столе…
Юрий Саранцев смял пальцами вторую горящую папиросу. В комнате снова стало тихо, и все молчали долго. Потом Юлия Борисовна сказала:
— А вы все-таки пижон, Саранцев! Срок вы получили заслуженно… Так какого черта вы не верите людям? — Она разъяренно вздернула верхнюю губу. — Почему вы считаете, что принцип презумпции невиновности не относится к следователю Качушину? Кто вам дал право думать о нем как о преступнике? Или вы не считаете преступлением арест невинного человека! На дворе шестьдесят шестой год, вас допрашивают трое коммунистов… Вы посмотрите на участкового уполномоченного Анискина! Он болен оттого, что навел следствие на вас, хотя имел миллион оснований для этого…
Сердито отойдя от печки, Юлия Борисовна через плечо следователя заглянула в протокол допроса, перечитав последнюю страницу, сказала зло, медленно:
— Возьмите с Саранцева объяснение по поводу его поступка, Игорь Валентинович! Я буду рада, если руководство лесопункта влепит ему как следует. А теперь отпустите подследственного. Пусть напишет объяснение дома. Он нас извел, этот пижон. Отпустите его!
— Вы свободны, товарищ Саранцев! — сказал Качушин.
Лесозаготовитель провел рукой по давно не бритым щекам, покачал головой, словно от чего-то освобождаясь, частями набрав в грудь воздух, осторожно выдохнул его. Он поднялся, на секунду остановился в нерешительности, не зная, как попрощаться. Видимо, сказать «До свидания!» он не хотел, а «Прощайте!» не решался. Потом он подошел к вешалке, надел пальто, что-то пробормотав, начал открывать дверь и тут не выдержал: с дрожащими, перекосившимися губами, с гримасой счастья и боли на лице он так резко дернул дверную ручку, что стекла в окнах дрогнули, а лампочка на длинном шнуре покачнулась.
— До свидания! — из сеней крикнул Саранцев. — До свидания!
На дворе было тихо, безветренно, и шаги Юрия Саранцева слышались долго — веселые, звенящие, летучие.
— Пижон несчастный! — насмешливо сказала Юлия Борисовна. — Вы видели этого пижона?
Юлия Борисовна прижималась спиной к печке, Качушин, покачивая ногой, сидел на кончике стола, а участковый все еще стоял. У него было серое, больное лицо, так как Анискин не спал три ночи подряд, в течение трех суток почти ничего не ел. У него временами слегка кружилась голова, он по-прежнему не мог смотреть на электрический свет: резало глаза.
— Один Флегонт Вершков остался, — задумчиво сказал участковый, делая шаг в сторону. — Я потом сбегаю за ним, только есть такая дума, что надо бы еще поговорить со Стригановым. Ты не будешь возражать, Юлия, если я с Василием еще раз поговорю?
Юлия Борисовна ответила не сразу. Закинув голову назад, она стояла прямая, натянутая, напряженная. Седые пышные волосы обрамляли ее маленькое лицо, плечи были прямые, офицерские.
— Федор Иванович, — спросила она, — это тот самый Флегонт Вершков, который вернулся с фронта хромым?
— Он!
Юлия Борисовна опять помолчала.
— Давай Стриганова, Федор Иванович! — наконец сказала она, — Арестовать Вершкова мы всегда успеем. А ну давай сюда братца Василия!
7
Прямой, высокий, почти касаясь головой потолка, участковый прошел по комнате, протяжно отдуваясь, сел за стол. Он так двигался по комнате, так садился, так держал голову, словно в кабинете, кроме него, никого не было, а лицо участкового говорило: «Я Анискин, мне шестьдесят три года, я брат Стриганова!» Еще садясь, еще устраиваясь за столом, участковый измерил взглядом расстояние от себя до Стриганова, удовлетворившись им, прицеливающе, пробующе прицыкнул пустым зубом. Анискин был сух и официален, все пуговицы на воротнике рубахи были застегнуты, вертикальная складка пересекала его крутой лоб.
— Так! — звучно сказал Анискин. — Эдак!
Стриганов тоже садился. Усмехнувшись, он посмотрел на низко висящую электрическую лампочку, отстранил ее рукой, но табуретку отодвинуть не решился. Еще раз усмехнувшись, он сел, положив ногу на ногу и только тогда спокойно, уверенно огляделся. Увидев стоящую возле печки Юлию Борисовну, Стриганов приподнял бровь, подумав, кивнул ей головой. На Качушина поп-расстрига не посмотрел совсем.
— Ну, вот и сел! — сказал он. — Тепло, светло, тихо.
Дикое, цыганское, степное наплывало на лицо Стриганова. Вот он грозно выставил волнистую бородку, сжал длинные иезуитские губы, и показалось, что в комнате слышен конский храп и свист бича; пошевеливала звездами темная разбойничья ночь, полная запаха полыни и костров. Разгульем, ветром в лицо веяло от глаз Стриганова, смелых до отчаянности. Бледнела, сухо натягивалась кожа на его таком же выпуклом, как у Анискина, лбу.
— Допрашивайте! — сказал Стриганов. — Я сегодня веселый, разговорчивый…
Юлия Борисовна и Качушин, притаившись, молчали. Всей спиной вжалась в печку капитан милиции, сделавшаяся вдруг маленькой, тоненькой, по-женски беззащитной; осторожно дышал в своем углу Качушин, тоже ставший вдруг неприметным, юным, незначительным. Одно и то же чувство испытывали Юлия Борисовна и Качушин: что значили отпечатки пальцев на пустой бутылке от рислинга перед тем, что видели они? Чего могло стоить медное колечко от ножа перед тем, что жило на пяти метрах, разделяющих Анискина и Стриганова? Только смерть Степана Мурзина, березы над кладбищенской оградой да звезды на шелковом небе могли стоять вровень с тем, что происходило на пяти метрах! О жизни и смерти, о человеке, живущем на теплой и круглой Земле, молчали пять метров, разделяющие Анискина и Стриганова.
Шестьдесят три года было участковому Анискину, пятьдесят семь — Стриганову; десять лет лежала на кладбищенском взгорке их мать, по разные стороны жизни погибли их отцы. Революции и войны, счастливые весны и несчастные зимы, крик рождающихся детей и стоны умирающих родственников, меняющие русла реки и удушливый бред болезней — все лежало на пяти метрах молчания братьев.
Только жизнь и смерть могли стоять вровень с тем, что зрело, прорывалось в серых глазах Анискина. Просто и тихо, естественно и мудро он посмотрел на брата и сказал:
— Из-за меня погиб Степан Мурзин! Он потому неживой, что я в тот вечер ему навстречу не пошел. А это содеялось оттого, Василий, что я на тебя похожий…
Анискин был медленный, мудрый, простой. Он не жаловался, не просил сочувствия, ни к кому, кроме себя, не обращался. Только с самим собой разговаривал участковый, и разговор этот был похож окончательностью на приговор, словно Анискин вершил над собой суд.
— Я потому в тайгу не пошел, — медленно продолжил участковый, — что свою родную дочь до болезни довел. Я выгнал Степанова. Я ведь тем на тебя, Василий, похожий, что для меня земли, кроме деревенской, нет. Вся земля у меня клином на деревне сошлась.
Участковый положил обе руки на стол и несколько секунд слушал, как за окнами бодро, часто похрустывает под ногами неизвестного человека морозный снежок. Кто-то шел по улице.
— Еще я на тебя тем похожий, Василий, что за Верютиным, который Коломенские гривы взял, да за директором магазина, что лосей бьет, технорука Степанова не видал. Так что я тоже одну правду видел, а одна правда — она неполная… Жизнь-то, она больше деревни…
Анискин отстраняющими глазами посмотрел на Юлию Борисовну и Качушина, которые вдруг одновременно сделали такое движение, словно хотели или сказать что-то, или приблизиться к участковому. «Молчите, молчите, дорогие товарищи!» — взглядом остановил их Анискин и тем же тоном продолжал:
— Ты тоже убивал Мурзина, брат Василий! Твоя лживая вера против Степши оборотилась… Так что мы оба виноватые. — Теперь участковый обернулся к Юлии Борисовне и Качушину. По-прежнему не допуская их к себе, отстраняя всякие попытки пробиться словом или взглядом в то крупное и высокое, что жило в нем, Анискин сказал негромко: — Я про то, что Вершков стрелял в Мурзина, еще два дня назад понял. В этом деле бескурковка главная… Тут, видишь, какая история, Игорь Валентинович. Если Вершков бескурковку не любит, значит, он в тайге был с другим ружьем. А у второго вершковского ружья, у тулки, патронный выбрасыватель лет семь не работает, так что Флегонт патроны ножом вынимал. Вот тут-то он и потерял колечко: руки дрожали! — Участковый сдержанно улыбнулся. — Много всяких мелких доказательств есть… Вершков-то, когда при нас самоловы точил, напильник держал в левой руке: правая раненая или ушибленная. — Участковый передохнул, стерев с лица улыбку, повернулся к Качушину и сказал только для него: — Я не верил, Игорь Валентинович, в то, что деревенский мужик может убить деревенского мужика! Я не думал, как Стриганов, что от приезжих одно плохое идет, но внутри меня, значит, это жило, как воробей в скворечнике… Вот я и наводил тебя на леспромхозовских, Игорь Валентинович, хотя прямого умысла у меня не было… В это ты поверить и через то можешь, что я и собственную дочь к болезни привел. Вот что получается, дорогие товарищи, когда за деревней земли не видишь!.. Ты слышал, Игорь Валентинович, как Привалов сказал: «Мурзин не от колхоза, а от государства зарплату получает…» Это что же делается, товарищи? Выходит, Степан тоже был чужой деревне, как вот молодая доярка Заремба, которая ни в чем не виновата. Правильно Степанов сказал: «На дворе двадцатый век!» А мы жизнь Верютиным меряем, хотя на него сами похожи…
Участковый замолк. Опустив голову, он перебирал пальцами карандаш. Шаги за окнами уже затихли, и было слышно, как за печкой шелестят тараканы. Откуда они взялись в доме, как жили, голодные, этого Анискин никак понять не мог. Немного помолчав, он неторопливо поднялся.
— За твоим домом следили, Стриганов! — сказал он. — Учитель Людвиг Иванович следил… Вершков ночевал у тебя. Где он сейчас?
Родными братьями были участковый и Стриганов. Что из того, что Василий был на голову ниже Анискина и уже старшего брата в плечах, — умно глядели его глаза, неподкупно сжимались тугие губы, и, не отвечая на вопрос, Стриганов окружил себя такой же думающей, напряженной тишиной, какой умел окружить себя участковый.
Стриганов поднял голову, ясно заглянул в лицо Анискину и вдруг раскатисто захохотал. Заблестели белые молодые зубы, вздыбилась, затрепетала бородка, и, откинувшись, взмахнув руками, поп присвистнул, пригибнул, прищелкнул пальцами по-ямщиковски.
— Да разве ж я знаю, Федор, где Вершков! — воскликнул поп. — Не знаю я этого, хотя он мой первый друг. Коли я протопоп, так и ученики у меня должны быть! Как же я тебе Флегонта выдам!.. Не Иуда же я!
Страшным сделался Стриганов, и участковый торопливо поднялся. В три шага он перебросил тяжелое тело к дверям, махом натянул полушубок и обернулся — суровый, грозный, похожий опять на загадочного восточного бога. Следователь тоже поднялся и стал рядом с ним.
— Не попадешь в мученики, Стриганов! — сказал участковый. — Я от ошибки к правде пришел, а ты не хочешь. Крохобор ты! Дескать, хоть лживая правда, да моя…
Анискин резко открыл дверь, дождавшись, когда Качушин выйдет первым, приказал:
— Жди меня, Стриганов! Сиди вот на табуретке и жди…
8
Небо с крупными звездами висело над деревней, луна сверкала над заснеженной рекой; освещенное желтым светом пространство было пугающе громадно, звезды уходили в бесконечность, и туда же устремлялась лунная полоса, по которой участковый и Качушин торопливо шли к заимке Вершкова.
Пощелкивал ровный, крепкий морозец, воздух был сух и прозрачен, и шаги двоих слышались в деревне, на реке, за рекой. Когда до заимки оставалось метров пятьсот, участковый остановился, приподнявшись на носки, поглядел в глубь желтого пространства и еще быстрее пошел вперед. Его спина шаг от шагу делалась все беспокойнее, и через несколько минут Качушин тоже заметил, что в окнах заимки нет огня.
Они еще прибавили шагу, но возле заимки участковый пошел осторожно, стараясь не хрумкать снегом.
Луна светила ярко, хорошо был виден остроконечный домик, стоящий на сваях, как сказочное жилище на курьих ножках. Два деревянных петуха с длинными гребнями настороженно глядели с концов крыши, флюгер-щука, тоже вырезанный из дерева, раскрывал зубастую пасть. Сказочное безмолвие стояло вокруг заимки.
Участковый шел на полусогнутых бесшумных ногах, слюдой блестел снег, рассекала землю на две части желтая полоса, стоял дом на курьих ножках — все было жутко-сладко, нереально, как в страшной сказке о разбойниках и бабе-яге. Подойдя к дверям, Анискин послушал тишину дома, полуобернувшись к следователю, по-стариковски мелко потряс головой. Потом участковый осторожно вытащил щепочку, которой была заперта дверь, снял щеколду с петли и снова прислушался.
— Берегись, Игорь Валентинович! — прошептал Анискин. — Отойди в сторонку.
Когда участковый открыл дверь, на крыльцо бесшумно выпрыгнули две собаки — лайка и овчарка. Они наметом бросились к воротам, замерли на секунду, а затем, по-волчьи распластавшись, прижав острые уши, беззвучно и жутко понеслись по желтой лунной дорожке, разделившей землю на две части. Они мчались к луне, словно их притягивал ее гипнотизирующий древний и первобытный свет. С каждым мгновением все меньше и меньше делались их вытянутые тела, потом собаки исчезли, словно растворились в лунном свете.
— Белолобого-то нет! — хриплым от волнения голосом сказал участковый. — Белолобого-то Вершков с собой взял…
В заимке Анискин зажег керосиновую лампу. Когда фитиль разгорелся, они увидели разграбленную, полуопустевшую комнату: обнаженную лежанку, штыри в стенах, на которых уже не висели ружья и сети, сундук с открытой крышкой, пустой и гулкий. И так тихо было в доме, что слышалось, как горит керосиновая лампа.
— Флегонт-то ушел! — строго сказал Анискин, садясь на лавку. — Он ведь ушел, Флегонт-то!
Анискин прислонил голову к темному бревну стены и надолго замер в тишине, которая дважды в секунду взрывалась жестоким боем маятника. В пустой и холодной комнате Вершкова еще шли часы-ходики, еще ворочал глазами потешный котенок, нарисованный на циферблате. В двадцати домах деревни были часы-ходики с котенком, так как именно двадцать часов-ходиков с веселой кошачьей мордой однажды завезли в сельповский магазин. Так что в покинутой заимке Вершкова котенок все еще поводил глазами, хотя гиря висела уже низко. Примерно через полчаса цепочка кончится, и часы остановятся.
— Ну что же, — сказал участковый. — Сколь здесь ни сиди, а в деревню идти надо. А Вершкова я найду! Я ведь тоже охотник, Игорь Валентинович… Так что не уйдет от нас убийца!
Выйдя из заимки, участковый поднял с крыльца щепочку, наложил щеколду на петлю, запер двери. После этого он застегнул полушубок, натянул шапку и сошел с крыльца. Высокий, прямой, на широко расставленных ногах, участковый постоял немножечко, глядя в сторону деревни, потом наклонился вперед, сделал крупный шаг — и пошел-пошел, хрустя снегом, наступая на желтые блестки лунной полосы, что делила мир на две части.
Они были на полпути к деревне, когда в тишине раздался шум мотора и, освещенный прожекторами, на берег Оби выполз желтый трелевочный трактор, развернувшись на месте, как танк, словно на пьедестале, замер на кромке яра. Из трактора выпрыгнул человек в замасленной телогрейке, похожей на кожаную куртку, блестящий, посверкивающий, стал возле машины.
Прошло еще несколько мгновений, и на обский берег одна за другой начали выползать остальные машины. Грохоча, развертываясь, как на учениях, трактора пристраивались к первому трактору, и вскоре из машин образовалась яркая железная цепочка, грохочущая и неистовая в стремлении двигаться дальше.
Лесопункт технорука Степанова закончил рубку кедрача. Это произошло на четвертые сутки после того, как погиб Степан Мурзин.
На левом плече Анискина, идущего стремительно по лунной дорожке, лежали мерцающие огни деревни. Отсюда, со стороны заимки, деревня уже не казалась, как раньше, частью неба, земли, реки, а лежала отдельно от них — тихая и прислушивающаяся.
ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ
1
За два года до войны тихо жила деревушка Улым. Лесозавода еще не было, сплавного участка тоже, кирпичных домов и в задумках не имелось; в колхозе имени Ленина председательствовал умный, спокойный и простоватый мужик Петр Артемьевич Колотовкин, которого колхозники помоложе звали дядя Петра. В деревне был один велосипед — у продавца сельповского магазина, одни наручные часы — большие, с крепкой решеткой над циферблатом, переделанные из карманных, — у Анатолия Трифонова. Парикмахерской в деревне не было, стриг улымчан школьник Васька Коршунов, человек капризный. Если бывал не в настроении, то употреблял в дело бараньи ножницы, которые больно щипались; а если был весел, то доставал с припечка обыкновенные — эти шли мягче, веселее.
Стояла деревня в среднем течении реки Кета — притока Оби; кругом зыбилась темной стеной тайга, за ней — непроходимые Васюганские болота, а берег Кети, на котором жил Улым, висел над водой высоко. Возникла деревня недавно, в конце двадцатых годов, и была поэтому новенькой, добротной, чистой и веселой в солнечную погоду. Река тихо и плавно текла под яром, синие кедрачи бережно охраняли Улым от злых ветров, земля оказалась неожиданно богатой — чернозем с песочком.
В Улыме жило несколько староверческих семей, несколько родов переселенцев, появившихся здесь лет десять назад, — Сопрыкины, Кашлевы, Чаусовы да люди со странной фамилией Капа — Ванька Капа, Валька Капа, Борис Иванович Капа… Все остальные в деревне были коренными нарымчанами — охотниками и рыбаками, чалдонами. Так зовут русских людей, давно живущих на берегах Оби и ее притоков. Жили в Улыме и две остяцкие семьи — Ивановы и Кульманаковы.
За два года до войны ведро карасей в деревне стоило пятьдесят копеек, ведро стерляди — два рубля, метровый осетр тянул на десять рублей, но покупателей было мало: учителя да два медика — Владимир Иванович Буров и фельдшер Гедеонов, родом из дьячков. Медвежатину и лосятину деревенские интеллигенты получали бесплатно, в подарок, — если повалит кто из улымчан крупного зверя, то непременно несет в учительские и врачовы квартиры: «Не откажите, друзья-товарищи, зверь таежный, всехний…»
За два года до войны в Улыме пили мало и неохотно, водку не покупали совсем, а на праздники варили медовуху, так как самогонку колхозный председатель Петр Артемьевич изготовлять не разрешал. Слушались его беспрекословно, как слушаются старшего в староверческом роду.
Были в деревне семьи, в которых и не курили, а если кто заходил погостевать из курящих, то замечания не делали, но больше в гости не приглашали.
Полы в улымских домах не красили, а два-три раза в неделю скоблили острыми ножами, после чего кедровые плахи представлялись покрытыми желтым узорчатым ковром — выступал древесный рисунок.
За два года до войны жила в Улыме Рая Колотовкина — племянница колхозного председателя Петра Артемьевича. Приехала она к дяде из далекой неизвестности, так как отец ее, родной брат председателя, умер от старых ран, мать давным-давно погибла на колчаковском фронте, и никого из близких у девушки не осталось на земле, кроме дяди Петра Артемьевича.
Приехала Рая в деревню на пароходишке «Смелый», который заходил в Улым раз в два месяца, то есть трижды в навигацию, все по вторникам. Был этот вторник для деревни большим праздником, готовились к нему загодя, как к Первомаю или пасхе: начищались, перетряхивались, заранее наливаясь благодатной радостью.
К сентябрьскому «Смелому» деревня начала готовиться недели за две. Готовилась охотно, весело, так как давненько по летнему времени не было никаких праздников, а будни оказались тяжелыми — в августе все шли дожди, уборка затянулась. Но вот к сентябрьскому вторнику последней недели председатель Петр Артемьевич на собрании сообщил: с уборкой закончено и народу надо отдохнуть, повеселиться. Каждый, кто был на собрании, тут же и подумал о близком приходе «Смелого».
Встречу парохода улымские бабы начали с вытрясания перин. Первой вылезла на двор с полосатой, как арестантский наряд, периной молодайка Ульяна Мурзина, из тех Мурзиных, что жили на речном яру. Ульянина перина здорово пропотела и скаталась от молодой мужней жизни, сделалась от этого почему-то тяжелой, и выносить ее во двор молодайке помогал муж Васька Мурзин, но при этом испуганно оглядывался, так как по законам улымской жизни мужикам не полагалось возиться с бабскими делами.
Ульяна Мурзина молодую перину выбивала березовой палкой долго — около часу; пыль летела столбом; половина перины через прясло свешивалась на улицу, чтобы все видели, какова она и как старательна молодайка. Ульяна сама собой была коренаста, широкоплеча, икры ног у нее вздувались пузырями и были красными, ядреными, словно их натерли кирпичом. А грудь не колыхалась, когда молодайка, размахиваясь, била по перине березовой палкой килограммов на десять весу.
Размахивалась Ульяна по-мужски широко, ноги поставила прочно и палкой била так громко, что стало слышно всей деревне. Ну, тут, конечно, и другие бабы не утерпели; пошли одна за одной таскать перины на дворы, соревноваться, кто кого переперинит, а так как вся деревня состояла только из одной улицы, все перины оказались на виду. Полосатых, как у молодайки Ульяны Мурзиной, на деревню нашлось штук десять, пятнадцать перин были мышиного цвета, две оказались красными, как комарово брюхо, когда насосется крови. Одна перина — учительши Жутиковой — была клетчатой.
Шум в деревне образовался сильный: стучали палки, с писком бегали от одной перины к другой малые ребятишки, сами женщины через перины друг с дружкой перекликались. Мужиков в этой сутолоке видно не было: которые в домах затаились, которые на рыбалку сгоношились от бабьего гвалту уехать, которые сидели на кетском яру, свесив ноги.
На улымской улице в этот час находился только один мужчина — младший командир запаса Анатолий Трифонов, который пришел из армии недавно. Прослужил он три года, выучился играть на гармошке, носить хромовые сапоги, разговаривать вежливо. Носил Анатолий длинную гимнастерку — таких после войны не стало, — синие галифе, на голове у него, конечно, сидела бравая пилотка, сбитая набочок в меру, по уставу.
Младший командир запаса Анатолий Трифонов участия в бабском деле не постеснялся: сам вынес во двор перину для матери Агафьи Степановны, сам развесил на прясле, сам принес толстую березовую палку и только после этого пошел прогуляться по улице, соображая насчет женитьбы, так как отец Амос Семенович потребовал, чтобы младший командир запаса женился, и дал на это два месяца сроку: «Мать не лошадь, Натолий, чтобы на нас всю жизнь ломаться!»
Как только младший командир запаса показался на единственной улице Улыма, палочный стук сделался еще громче — это незамужние девки, предупрежденные матерями о выходе завидного жениха, взяв палки у матерей, по перинной мягкости начали стук производить сами. На Анатолия они пялились открыто, даже покрикивали, чтобы он на их перины обратил внимание; глаза у девок при этом были круглые, словно у галок, а сами девки — такие же коренастые и крепкие, как молодайка Ульяна Мурзина: на щеках арбузная яркость, меж каменными грудями можно зерно молоть, ноги на земле не стояли, а толстыми корнищами росли из нее.
Анатолий Трифонов по деревне шел неторопливо, наблюдения за девками и перинами производил степенно, обстоятельно, как и полагается солидному жениху, про которого в деревне недавно показывали кинокартину «Трактористы». Младший командир запаса тоже служил в танковых частях, демобилизовавшись, сел за руль харьковского трактора и на девок посматривал оценивающе. Глаза у него были прищуренные, коротко обрезанный нос задран, губы сжаты плотно, точно Анатолий вел вперед свой боевой танк.
Возле дома Капы младший командир запаса немного попридержал строевые шаги, кося глаза направо, стал выглядывать, есть ли на дворе Валька Капа. Сначала ее не было — перину выбивала палкой мать, но потом, заметив Анатолия, мать что-то шепнула младшему сынишке Ваньке, тот живо метнулся назад, в сенцы, и минуты через три, на ходу застегивая крепдешиновую кофту, выбросилась во двор сама Валька. Не поднимая глаз от земли, она взяла у матери палку и давай стегать перину с таким видом, точно и думать-то не думала о том, что Анатолий Трифонов прохаживается вблизи ее дома.
— Драсьте, Валентина Борисовна! — из отдаления поздоровался он и поклонился низко, по-деревенски, сняв при этом пилотку. — Бог, как говорится, помощь, хотя я неверующий.
— Ой! — как бы испугалась Валька Капа. — Ой! Это вы, Анатолий Амосович, а я и не вижу… Грех с этой периной: уж така тяжела, така тяжела… Дравствуйте!
Подумав, младший командир запаса неторопко перешел через улицу, еще раз поклонившись, положив локти на прясло, послушал, что делается на длинной улымской улице, — палки по перинам еще, конечно, постукивали, пыль все еще поднималась к солнцу красным столбом, но уже в ударах ощущалась некоторая заминка: во-первых, перестали стучать все девки, во-вторых, начали приглядываться и прислушиваться бабы помоложе, в-третьих, стали делать перерыв в стуке старухи, интересующиеся, на ком женится сын Амоса Семеновича Трифонова — колхозного бригадира. Кое-кто из старух утверждал, что на Вальке Капе, хоть она из кулацкого роду, другие держали сторону трактористки Граньки Мурзиной по прозвищу Оторви да брось… Так что много тише прежнего стало на розовой улымской улице.
— У меня вот какой вопрос к вам назрел, Валентина Борисовна, — сказал задумчиво младший командир запаса. — Вот вы называетесь Валя. Как же можно разницу увидеть, если, скажем, позвать: «Валя Капа, идите-ка сюды!» Кто тогда вы будете являться — парень или человек женского роду?
— Хи-хи-хи! Уж вы такие шутники, такие шутники…
— Шутками не займаюсь! — строго ответил Анатолий Трифонов. — У меня вопрос вполне сурьезный… С одной стороны, Валя Капа является женского роду, с другой — мужского… Значит, вас надо прозывать не Валя Капа, а Валентина Капа — тогда существенные отличья поимеют место. Скажем, Валентина Капа — это будете являться вы, а Валентин Капа — обратно будет являться парень мужского роду… Это я правильно вопрос веду?
— Ах, какие вы шутники! — опять воскликнула Валька волнующим низким голосом и засмеялась. — Образования у вас много, Анатолий Амосович… Ой, чего же я стою, чего же я перину-то не выбиваю! Наверное, на вас засмотрелась…
Еще раз захохотав воркующе и призывно, Валька Капа с новой силой набросилась на тугую перину, а младший командир запаса, еще строже нахмурив брови, начал внимательно глядеть на ее старательные действия.
— Второй вопрос у меня такой, — немного погодя, сказал Анатолий. — Имелся ли такой момент, Валентина Борисовна, чтобы вам учебную гранату бросать на дальность расстояния?
Валька остановила руку с палкой в воздухе и подумала.
— Храбрый вы очень, Анатолий Амосович, — вздохнув и потупившись, нежно сказала она. — Пропаду я пропадом через вашу храбрость…
После этого дубинка сама собой выпала из Валькиных пальцев, ноги у нее как бы подкосились и, ослабшие, привели Вальку к тому месту прясла, на которое опирался острыми локтями младший командир запаса.
— Вам бы усы, как у товарища Чапаева, — прошептала Валька, приблизив лицо к лицу Анатолия настолько, что он почувствовал ее теплое дыхание. — Вы на товарища Чапаева очень похожие, Анатолий Амосович…
Тут палочный бой в ближайших оградах совсем притих: девки и женщины так и полезли через свои перины, чтобы посмотреть на то, как Анатолий Трифонов и Валька Капа не то целуются, не то шепотом сговариваются насчет женитьбы. Однако младший командир запаса простору для любопытства не дал: опять поправил пилотку и, отодвигаясь от Вальки, сказал:
— Я про учебную гранату в том смысле, что рука у вас, Валентина Борисовна, при большой силе… Так что вы спытайте гранату бросить… А теперь позвольте с вами подосвиданькаться… До свиданьица, Валентина Борисовна!
— До свиданьица, Анатолий Амосович!
И младший командир запаса двинулся по деревне дальше, выглядывая через прясло трактористку Граньку по прозвищу Оторви да брось. Она, как и полагается комсомолке и трактористке, перины не имела, личное хозяйство не вела, а жила у тетки — одинокой глухой старухи Федоровны и дома бывала редко — то с трактором возится, то проводит в клубе агитационную работу, то сидит на совещании в райцентре. Проходя мимо ее дома, Анатолий во дворе заметил только бабку Федоровну, которая сидела на крылечке и курила толстую самокрутку из злого самосада. Лицо у нее тоже было злое и насмешливое.
— Драсьте, хозяюшка! — громко поздоровался с бабкой Анатолий. — Не имеется ли в расположении товарищ Мурзина?
— Здорово, Толя! — хрипло ответила Федоровна. — Гранька в районе обретается… Чаю не хошь?
— Спасибочки! Я прогуливаюсь.
Было около шести часов вечера, сентябрьский денек выдался прекрасным, теплым; стучали старательные палки, перекликались бабьи голоса, кричали веселые мальчишки, солнце краснело от перинной пыли, но все равно было оно еще ясное, хорошее, теплое. Река Кеть при низком свете была густо-коричневой, так как почти на всем течении пронизывала черные торфяные болота; чайки над ней казались белыми, как морская пена. И леса по горизонту вставали теплой домашней стенкой.
На речном яру, как ласточки, сидели тихие, задумчивые мужики.
— Драствуйте, друзья-товарищи! — поздоровался с ними Анатолий, приблизившись к кетскому яру. — Как живем-можем?
Не ожидая ответа, Анатолий сел на краешек яра, свесив ноги под кручу, вынул из кармана алюминиевый потсигар и стал неторопливо прикуривать городскую папиросу «Пушка» — очень солидную. Он уже курил и зорко оглядывал Заречье, когда его сосед слегка пошевелился, не изменив положения головы, задумчиво сказал:
— Здорово, Натолий!
— Бывай здоров! — степенно закивали и другие мужики. — Давай присаживайся, коли не брезговаешь…
Мужики задумчиво глядели на реку, лица у них были непроницаемые, грустноватые, самокрутки в губах не шевелились, хотя и дымили. В молчании прошло минут пять, потом тот мужчина, что первым откликнулся на приветствие Анатолия, негромко проговорил:
— Завтра, смекаю, дожжа не будет…
Река Кеть текла под яром смирно, чайки парили над ней бесшумно, вода под кручей была черной, как деготь, где-то поплакивал коростель, кыча странно, по-совиному; в темных речных заводях мерещились русалки и наверняка живали сомы-гиганты из тех, что могли проглотить теленка, хотя таких сомов никто из улымчан никогда не ловил и не видел. Солнечная сторона неба по необъяснимой странности была зеленой, словно заросла ровной молодой травой, и странность эта была приятной — небо казалось домашним… Младший командир запаса Анатолий Трифонов молчал охотно, легко. Он родился и вырос в Улыме, только на три года армейской службы уезжал из родной деревни, не успел ничего забыть, был таким же, как все улымские мужики.
Анатолий Трифонов молчал минут десять — все озирал небо и горизонт, тайгу и воду под ногами, потом нахмурился, собрав на лбу думающие морщины, несколько раз призывно покашлял.
— Ты почему так считаешь, дядя Гурий, что дожжа не будет? — спросил он. — Не оттого ли, что стриж высоко летат да осокорь лист не свертыват… Али, может, други приметы имеются?
Спрашивая, он не повернулся к дяде Гурию, выражения лица не изменил, и оно, как у всех, было тихое, грустное и задумчивое. А дядя Гурий по-прежнему глядел на реку, самокрутка в его губах не двигалась, и только по чуточку напряженной линии шеи можно было понять, что мужик к чему-то прислушивается. Наверное, минут десять слушал он деревенские звуки, затем самокрутка медленно приподнялась и подергалась.
— Бабы прямо озверели! — сказал он. — Моя-то, моя-то что выделыват!.. Вон как молотит! Вон как старатся! — И опять помолчал. — А против дожжа так надо сказать: воздух для языка легкий… Вот ежели у тебя, Натолий, язык тяжести не имает, ежели под языком у тебя просторность, ежели ты язык об зубы не обдирашь — это к вёдру… Смекаю, недели две хороша погода продержится… Ну, бабы озверели! Ну, как их карачит! Это просто страсть!
Действительно, березовые палки стучали весело и наперебой; перины висели на пряслах, как седелки на лошадиных спинах, пыль поднималась столбом.
Полна смеха, радости, ожидания была деревушка Улым, по-довоенному богатая, мирная, тихая и чинная. Хорошо готовились улымские жители ко вторнику, когда должен был прийти пароход «Смелый».
2
Кособокий пароходишко к берегу пристал почти вовремя, опоздав всего на два с половиной часа. Произошло это при ярком солнце и голубом небе, при таком тихом воздухе, что и маломощные звуки по Кети разносились километров за пять. Так что «Смелого» еще и видно не было, а уж деревенский народ на берегу ожидающе примолк, когда за речной излучиной, за синими кедрачами пароход тоненько и радостно пискнул.
Шел, шел долгожданный пароход «Смелый»!
На кетском берегу из улымского народа не было теперь только самых древних стариков, которые с полатей не поднимались, да совсем титешних ребятишек, за которыми присматривали немощные бабки; все же остальные грудняшки прибыли на берег с матерями и спали мирно до тех пор, пока насыщало материнское молоко. Когда же оно кончалось, грудняшки поднимали крик на весь берег, бушевали до тех пор, пока матери не затыкали им рты длинными коричневыми сосками.
Девки, молодайки, женщины средних лет и некоторые старухи были одеты хорошо. На молодых — модные в то время крепдешиновые и креп-жоржетовые кофточки, юбки сатиновые или плисовые, многие имели цветные береты с заколками-бонбончиками, а на ногах молодайки Ульяны Мурзиной сидели высоко шнурованные ботинки из «ранешных»; женщины средних лет оделись в кофты с оборками, в юбки до щиколоток, головы туго повязали платками с цветастыми бордюрами — васильки или на худой конец ромашки; старухи оделись потеплее — в кацавейки из плиса или бархата, в длинные, до земли, юбки, а головы украсили полушалками с кистями. Мужчины и парни были в яловых сапогах, в длинных рубахах, перетянутых витыми шнурами. Мальчишки — в темных косоворотках, гладко причесаны; девчонки бегали в широких ситцевых платьишках, простоволосые и нешумные.
Минут через двадцать пароходишко появился на острой кетской излучине. Другой народ — не улымский — закричал бы от радости «ура!», но улымчане, наоборот, совсем притихли, еще теснее сдвинувшись, улыбались застенчиво и робко.
«Смелый» забавно кренился на левый бок. Он был неустойчивым из-за узости, и на носовой части палубы стояла бочка с булыжником, которую матросы перекатывали с борта на борт, когда суденышко опасно кособочилось. Перекатив бочку, матросы подходили к борту, мерили взглядом расстояние до воды и уходили, сплевывая в реку, беззаботно смеясь.
Понятно, что матросов с берега узнавали.
— Который шеи нету — это Сережка Малининский, а кто рукава закатаны — Семен Вагин, — послышалось на улымском берегу. — Ну, вылитый он! Да ты лучшее, ты пуще глянь…
«Смелый» был ярко-белым, спасательные круги горели красным, труба ядовито-зеленого цвета, а сама надпись «Смелый» сделана черными полуметровыми буквами; на капитанском мостике стоял капитан Иван Веденеевич, держал в руках жестяной мегафон и показывал им рулевому, куда править. Пароход описывал плавную дугу, приближался, вырастал на глазах, и улымский народ все притихал да притихал. Матери прижимали к груди детишек, молодайки уже не перешептывались, старухи, вздыхая, придерживали подбородки щепоткой пальцев; стали серьезными парни, с непроницаемыми лицами молчали мужчины средних лет и ходячие старики.
— Охо! — вздыхали бабы. — Охо-хо!
За два года до войны в деревне не было еще ни почты, ни телеграфа, ни телефона, и кто мог поручиться за то, что кособокий пароходишко «Смелый» причаливает к берегу только с радостными новостями! Ведь это он, белый пароход, примотал на плицах колес весть о войне в Китае, это он, узкоплеченький, привез в деревню первого раненого с озера Хасан… Бог знает что таилось теперь на борту белого парохода «Смелый»!
Пароход шипел паром и стучал по темной воде плицами, разбивая ее до белой белости; капитан Иван Веденеевич подбоченивался рукой с мегафоном; матросы, перекатив бочку, стояли плечисто в пролете; пассажиры, конечно, толпились на палубе, любопытные к тому, что на берегу народу было так густо, словно наступал праздник Первомай.
— Тихай! — знаменитым на всю область басом прокричал капитан Иван Веденеевич и для приободрения улымского народа добавил: — Тихай, мать вашу за ногу!
Пароходишко сработал назад маленькими колесами, шипнул паром коротко, словно чихнул, и как-то разом прилип к яру, такому высокому, что верхняя палуба «Смелого» оказалась внизу, и только вершинка ядовито-зеленой трубы была с берегом вровень. Понятно, что улымчане от парохода невольно попятились, безмолвные, как темная кетская вода, начали с прищуром глядеть на капитана Ивана Веденеевича, который поднимался вверх по земляным ступенькам с дерматиновой полевой сумкой в руках — на этот раз совсем плоской. За ним шагал матрос с кипой газет и журналов под мышкой.
Вышедши на берег, капитан Иван Веденеевич остановился на самом краешке яра, вынув из кармана трубку, неторопливо пыхнул дымом — трубка была такая, что и в кармане не гасла.
— Доброго привету, мужики! — браво поздоровался Иван Веденеевич. — Доброго привету, бабоньки! Здорово, весь остальной честной народ!
И вынул из полевой сумки два письма:
— Обои товарищу Трифонову, Анатолию Амосовичу. Который тут Трифонов?
Тогда-то и вздохнул радостно кетской берег.
Первыми зашумели облегченно старики и старухи, знающие толк в горе, потом завизжали отчаянно парнишки и девчонки, затем заверещали сорочьими голосами молодухи, и сделался такой шум, что в нем и незаметно было, как младший командир запаса Анатолий Трифонов получил два письма. Так бы и дальше продолжалось, если бы что-то не случилось вдруг на кромке яра, где народ неожиданно пошатнулся, подавшись назад, оставил в одиночестве улымскую девчонку лет десяти. Она тоже пятилась и кричала тоненько:
— Ой, глядитя, глядитя!
По земляным ступенькам на улымский берег подымалась девушка не девушка, девчончишка не девчончишка, баба не баба, а просто не разбери-поймешь, кто такая: по высокому росту вроде бы баба, по волосам, что распущены, вроде бы девушка, но вот так тонка и голенаста, что вроде бы девчончишка. На груди у нее — ни-ни, сзади тоже — ни-ни, но на руке часы.
— Ой, глядитя, глядитя!
Эта самая, которая не поймешь кто, на крутой яр поднималась легко, на длинных ногах, юбка у нее была вся в мелких складочках, на ногах — туфли при высоком каблуке, волосы белые, как солома, а глаза — это невозможно: большие-пребольшие, зеленые-презеленые. Кофты на ней не было, а надета была такая же рубашка с синим воротником, какую носили матросы «Смелого». Под рубашкой — надо же! — тельняшка.
— Ой, глядите-ка!
В одной руке у этой самой был чемодан, в другой — патефон, точь-в-точь такой, как у учительши Капитолины Алексеевны Жутиковой. Чемоданчик, видать, легкий, а патефон, чувствовалось, тяжелый, так как эта, которая не поймешь кто, кособочилась на ту сторну, где патефон. А ресницы у нее были большие и загнутые, как у молодой коровы.
Ах ты, мать честная, кто же это такая будет?
— Товарищи, — спросила приехавшая, — а где Петр Артемьевич Колотовкин?
— А здесь я! — отозвался колхозный председатель.
Тогда эта, которая при тельняшке, поставила на землю чемоданчик и патефон, медленно приблизившись к Петру Артемьевичу, поглядела на него боязливо. Ресницы у нее вдруг сделались мокрыми, нижняя полная губа задрожала.
— Дядя, — сказала она негромко. — Папа умер…
Председатель сделал шаг вперед, открыл было рот, чтобы ответить что-то, да так и не ответил — обмер с перекошенной от ранения щекой.
Тихо было.
Пароход «Смелый» паром пошипливал осторожно, чайки по вечернему времени над рекой Кетью не галдели, и народ, любящий председателя Петра Артемьевича, стоял мертво, глядя в землю, — вот оно и пришло, несчастье.
— Раюха! — наконец сказал председатель Петр Артемьевич. — Племяшка моя! Да как же это, кровинушка?
Тут к ним подошел капитан Иван Веденеевич, встав посередке, проговорил тихо:
— Всем городом хоронили Николая Артемьевича. Оркестр, за ним — батальон красноармейцев. Впереди всего народу сам первый секретарь обкома партии товарищ Неедлов…
Ни один из грудников не плакал — затаились все, мальчишки и девчонки уткнулись в материнские юбки; старые старухи и старики лили медленные слезы; мужики средних лет привычно глядели в землю; парни не отрывали удивленных глаз от председателевой племянницы, а младший командир Анатолий Трифонов и про свои письма забыл — держал их в руках нераспечатанными.
— Племяшка моя!.. — тише прежнего сказал Петр Артемьевич. — Да чего ты стоймя стоишь, мать? Это ведь племяшка наша, Раюха…
После того метнулась неслышно к приехавшей жена председателя Мария Тихоновна, прижала девичью голову к своей груди, обхватила ее всю мягкими руками, но голосить при народе не стала; а потом выдвинулись вперед все три сына Петра Артемьевича, отгородив спинами от народа мать и двоюродную сестру, оглядев всех грозно — в каждом около двух метров росту, все погодки, — сказали поочередно:
— Драствуйте, Рая! С приездом вас! Счастливого прибытия! Милости просим к нашему шалашу!
А в самом центре улымской толпы, где сидел на бревнышке не разгибающийся в пояснице старый старик дед Крылов, послышалось не то кудахтанье, не то смех, не то кашель — это дед шибко взволновался происходящим. А когда председатель Петр Артемьевич с женой и сыновьями начали выводить из гущи народа дорогую племяшку, чтобы доставить скорее домой, дед Крылов пронзительным по задушевности голосом сказал:
— Того быть не может, чтоб это случилась племяшка. Это народ, племяш! Называется он шотландца, такех я до сколька раз на картинках у родного дядю видывал… У них, у шотландца, баба ходит при штанах, а мужик — при юбке… — И опять занервничал: — Да ты глянь на его, народ! Кака же это племяшка, когда у его сзади — одне бугорки… Шотландца — голову даю на отсек!
3
С тех пор и зажила в Улыме странная девица Раиса Колотовкина. На второй день после приезда в деревню она отправилась в райцентр кончать десятилетку — всего год оставался. А через зиму, в конце июня, Рая вернулась в Улым, чтобы готовиться к экзаменам в политехнический институт.
Пока племянница училась в райцентровской средней школе, дядя Петр Артемьевич с помощью лучших улымских плотников прирубил к своему большому дому еще одну комнату — окнами в палисадник. В прирубке густо покрасили полы, навесили тюлевые занавески, поставили этажерку для книг. Жена председателя Мария Тихоновна на станке собственноручно выткала для племянницы цветастую половую дорожку, каждый из трех братьев Колотовкиных выделил двоюродной сестре по подушке; ватное одеяло заказали в райцентре, а остальное у Раисы было, хотя Мария Тихоновна пришла в ужас, когда увидела войлочный потник, на котором Раиса спала. Сам войлок был тонкий и твердый, чехол на нем — из грубой парусины, а на чехол кто-то пришил пятиконечную звезду, видимо, снятую с боевого седла. Пахло от войлока густым лошадиным потом, сухими травами и еще чем-то таким, что заставляло чихать.
Поужасавшись, Мария Тихоновна живенько наладилась одарить племяшку периной — кой-какой пух был у нее в запасе, а все остальное она добрала, обойдя улымские дворы, хозяйки которых, узнав про войлочный потник, кривились от жалости к сиротинке. Пуха поэтому собралось перины на полторы, но тут случилось непредвиденное: Раиса заявила, что на перине спать не будет.
— То ись как? — отчаянно удивилась Мария Тихоновна. — Это с какой корысти ты на перине спать не желаишь, Раюха, когда у тебя от потника вся беда?… Кака беда? — еще больше удивилась она, когда племянница на нее поглядела исподлобья. — Да та беда, что на тебе бабьего мясу нету!
Тетка всплеснула белыми руками и, опустив их, застыла в горестно-задумчивой позе. Круглое ее лицо покрылось добрыми морщинками, глаза обесцветились, а губы сделались прозрачными, словно их пронзили насквозь солнечные лучи.
— Так вот я тебе выражу, Раюх, что это все от его, от потника, проклятушшего! — печально сказала она. — Потник мясу наращиваться не дает! Когда ты спишь, он, потник то ись, тебя только в длину расти пушшат, а в ширину мяса не дает. Еще сказать, от потника лошадем вонят! А это ладно ли, ежели тебе пора замуж выходить?
После выпускных экзаменов Раиса приехала в Улым усталая, в лице ни кровиночки; три дня она отсыпалась в своей большой чистой комнате, а на четвертый — вечером — снарядилась погулять по деревне. Из матросского костюма она чуточку выросла, но все же решила надеть его. Костюм целый год провисел в кедровом шкафу, а все равно пахнул городом, детством, просторной отцовской квартирой.
Прежде чем выйти на улицу, Рая походила по крашеному полу, потом присела на высокую кедровую табуретку и стала глядеть в распахнутое окно, за которым приглушенно чирикали сытые воробьи. У одного хвост был выдран — наверное, постаралась соседская кошка, у остальных хвосты были в целости, но перья серели от уличной пыли. Потом откуда-то непрошено прилетела чистенькая сорока, повертевшись на ветке, замерла, глядя на воробьев укоризненно, — надо полагать, думала, что воробьи еще большие сплетники, чем она сама.
Улымская улица была пустынна и тиха, пыль на дороге лежала шелковая и нежная на взгляд.
Солнце уже скатывалось на зареченский запад, было слышно, как позванивают боталами коровы…
«Надо, надо прогуляться, — подумала Рая, улыбаясь самой себе. — Выйду на берег, посижу, подумаю…» Улыма она еще как следует не видела — все бегом да рысью, и было любопытно, что ждет ее на длинной улице, какова деревня, в которой родился и вырос отец.
Сорока заверещала, затрясла хвостом и улетела, кренясь почему-то на бок, словно на улице был ветер, хотя в палисаднике листья на черемухах висели мертво, такие же серые от пыли, как воробьиные перья… «На берег не пойду, — подумала Рая решительно. — Лучше посмотрю, что делается в клубе…» После этого она поднялась с табуретки, взяла с этажерки томик Чехова и развернула книгу на рассказе «Ванька» — сразу стало жарко щекам и под тельняшкой сильно застучало сердце.
— «Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в учение к сапожнику Аляхину…» — басом прочла Рая и откинула назад прядь волос со лба точно так, как это делал герой фильма «Учитель»…
После этого девушка громко рассмеялась, бросила книгу на гору подушек — одна одной меньше, закружившись, надула юбку колоколом и, когда коленям стало холодно, сама себе погрозила пальцем: «Легкомысленна ты, Райка, на удивление. Я в твоем возрасте ротой командовал!»
Разгладив юбку, девушка чинным шагом вышла из дому.
Все в мире было так, как в тот сентябрьский день, когда «Смелый» привез Раю в деревню, — клонилось большое красное солнце, тайга заботливой стенкой окружала дома улымчан, над темной Кетью белыми гребешками волн парили спокойные чайки; над Заречьем еще при солнце вызревал остророгий месяц, похожий на смеющийся рот, прозрачный, как промасленная бумага.
По длинной желтой улице гуляла спокойная молодежь, лузгая кедровые орехи; старики и старухи, как только схлынул зной, уселись на лавочки возле своих домов и умиротворенно помалкивали. Мальчишки проволочными загогулинами катали по улице обручи от колесных ступиц. Быстро ездил на единственном в деревне велосипеде брат учительши Жутиковой — пятнадцатилетний Володька. За ним бежала стайка почтительных приятелей.
Прошагав метров двести медленными шагами, Раиса заторопилась, так как все не успевала поздороваться первой с вежливыми стариками и старухами: она только повертывала голову к оградной скамейке, только открывала рот, чтобы сказать: «Здравствуйте!», как те уже кланялись ей издалека, поднявшись со скамейки, говорили почтительно: «Драствуйте!» — и глядели на нее, как на солнце, сощурившись. Поэтому девушка ускорила шаг, но и это не помогло — старики и старухи опережали, считая долгом здороваться первыми с незнакомым человеком. Так, опаздывая, Раиса перездоровалась со всеми старшими Мурзиными и Сопрыкиными, Кашлевыми и Колотовкиными — ее разнообразными родственниками, с остяками Кульманаковыми и Ивановыми, похожими друг на друга стариками и старухами — у всех торчали из желтых зубов прямые длинные трубки с медными колечками на чубуках.
Едва Рая отдалялась от поздоровавшихся стариков и старух, они медленно повертывались друг к другу, помолчав для солидности, обменивались впечатлениями. Конечно, выход на улицу председателевой племянницы был делом необычным, событийным для тихого Улыма, и потому за девушкой катилась волна возбуждения, как перед новым кинофильмом или приездом в деревню районного начальства. У большого дома Сопрыкиных, например, сам родоначальник, дед Сысой, живущий на земле девяносто три года, проводив девушку взглядом, нюхнул воздух, пососав впалыми губами ус, сказал своей глуховатой старухе тихо:
— Не одобряю я Петру Артемича! Нет, не одобряю! Чего это он племяшку на инженершу сбирается выучивать, когда ее надоть обратно от грамоты ослобонить…
Старик помахал в воздухе палкой и обозлился:
— Ты думаешь, почему она така худюща? От грамоты… Ты не молчи, язва, кода с тобой мужик говорет! Я тебе кричать не собираюсь — у меня жила надорванная!
Дед Сысой был глуховат еще более, чем старуха, но считал себя слухменным.
— Как ты была язва-холера, так и осталася, — зашипел он сквозь бороду. — Надоть бы тебе укорот дать, но мне силы вредно спущать: я лажу утресь на рыбаловку съездить…
Потом дед обмяк и запечалился:
— В жир, конечно, девка войтить может, однако насчет ноги у меня большо сомненье. Ногу ты короче ей не дашь, а ежельше на такой ноге мясо нарастет — это срам! Нд-а-а! Придется ей при длинной ноге жизню мыкать… Жалкую я Петру Артемича!
Июньская река была светлой, вода сейчас походила на жиденький чай, хотя в иные времена бывала темнее чифиря; полетывали над рекой испуганные утки, присев на воду, сразу зазывали других на сытые забереги, густо обросшие травой. Бесшумно парили над коричневой водой чайки, ничего не высматривали внизу, а глядели вдаль, точно собирались улетать в жаркие края.
Возле бревенчатого клуба было еще безлюдно — сидели на замшелой лавочке три сонных парня, стояла в дверях, подбоченившись, сторожиха тетя Паша, а в самом клубе кто-то играл на гармошке «Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой…».
Клуб вовсе и не походил на клуб. Стоял большой дом из лиственничных бревен, обыкновенный жилой дом, в котором для пожарной безопасности прорубили запасные двери, сняли внутренние перегородки да покрасили желтой краской маленькое крыльцо; возле дома раньше, видимо, росли черемуха, рябина и акация, но деревья срубили, чтобы клуб было далеко видать, — торчали темные пеньки. На крыше клуба никнул в безветрии совершенно побелевший флаг, а над дверью висел такой же выцветший плакат: «Женщина в колхозе — большая сила», так как в начале июня в районе проводился слет доярок-ударниц.
Посмотрев на сторожиху тетю Пашу, Рая весело улыбнулась: эта женщина действительно была большой силой. Тете Паше, наверное, давно стукнуло шестьдесят, было у нее черное от времени и солнца лицо, но стояла она в клубных дверях так коренасто и могуче, что лицо казалось чужим, взятым от настоящей старухи. Тело же тети Паши, обтянутое цветастым ситцем, кичилось здоровьем, белой кожей и бугорками мускулов. Расставив ноги, подбоченившись, она глядела на девушку, и в глазах тети Паши вызревало то выражение родственности и заботы, к которому Рая еще не могла привыкнуть, когда видела его на лицах незнакомых людей.
— Ты, Раюха, на лавочку-то не садись, — сказала тетя Паша и отчего-то вздохнула. — Лавочка-то вся мазутом обляпана, а на тебе кустюмчик городской… Я тебе лучше табуретовку из клуба выну… Ты покуда стой на месте, никуда не поспешай!
Коренасто и тяжело ступая, тетя Паша вынесла из клуба могучую кедровую табуретку, поставив ее возле Раи, вернулась на прежнее место, но подбочениваться не стала, а, наоборот, горестно подперла рукой подбородок и опять тяжело завздыхала:
— Ты садись, садись, Раюха…
В клубе кто-то по-прежнему старательно играл на гармошке «Трех танкистов», врал напропалую, все сбиваясь на одну тоскливую ноту; три сонных парня на замшелой скамейке на Раю покосились без всякого любопытства, один из них по-мужичьи почесал затылок и тоже отчего-то вздохнул.
— Ты садись, садись, — повторила тетя Паша. — Тебе стоять без надобности.
Как раз в этот миг гармошка, жалобно пискнув, затихла, в маленьком клубном окне показалась лохматая голова гармониста, и Рая узнала Витальку Сопрыкина — приятеля двоюродных братьев. Он тоже узнал девушку, высунувшись в окно до пояса, помахал рукой:
— Драствуйте, Раиса Николаевна! Я скоро выйду, вот только доиграю…
Рая громко засмеялась, помахав ответно рукой Витальке, решительно села на табуретку и положила ногу на ногу, чтобы поматывать туфлей на высоком каблуке. «Хорошо! — легкомысленно подумала она, оглядываясь и вздергивая понежневший от удовольствия подбородок. — Буду сидеть и ничего не делать!»
С близкой реки — метров сто до берега — поддувал легкий ветер, трава под табуреткой зеленела бархатно, на высоком стебельке сидела жестяная стрекоза с отдельными глазами; было так тихо, что слышалось, как в висках пульсирует кровь, и «Три танкиста» не мешали тишине, как не мешал бы ей и многотрубный духовой оркестр: тишина жила отдельно, а «Три танкиста» существовали сами по себе.
— А ведь мы сродственники с тобой, Раюха, — задумчиво сказала тетя Паша. — Это дело так надоть выразить… Я сама собой буду не из тех Мурзиных, что баня в прошлом годе сгоревши, а я — те Мурзины, что корова вёхом объевшись… Ну теперь так будем на круг ставить, что мой-то мужик не тот Лавра Колотовкин, что нога другой короче, а тот Карпа, что цигарку из зубов не выпущат… А уж от его до тебя рукой подать, как мой Карпа твоему дяде Петра сродный брат по матери, как ихняя фамилия обратно же Мурзины… Однако это не те Мурзины, что медведь телку задрал, а те, что в погребе все лето лед, хоть целого лося клади, не протухнет…
Тетя Паша мучительно завела глаза под лоб, вспотев, зашевелила крепкими, свежими губами…
— Значится, я тебе, Раюха, два раза назад тетка. — После этого она быстро открыла глаза и покачала головой. — Всегда так: как зачну считать родню, то меня в пот бросат… Вот ты шибко ученая, так скажи: пошто это так? Деньги считаю — ничего, а родню — так прошибат… Может, у меня сердце заходится?
Ох, как хорошо было, как весело, как смешно… Рая только теперь начинала понимать, что значила строчка в автобиографии отца, начальника военного училища, писанная его крупным почерком: «Родился в деревне Улым бывшей Томской губернии…» Ей доводились родней все сорок семь улымских Колотовкиных, все пятьдесят два Мурзиных, переженившихся на женщинах из рода Колотовкиных, и даже ходили в родственниках остяки Ивановы и Кульманаковы, перемешавшие кровь с Колотовкиными и Мурзиными, по какой причине многие из мужчин русского обличья имели на подбородках жидкие и редкие волосы, их можно было и не брить.
Рая повертелась на табуретке, сморщившись, чтобы не засмеяться, начала действительно поматывать перед носом тети Паши городской туфлей на высоком каблуке. Кожа на туфле не успела запылиться и блестела хорошо, весело, отражая зеленую траву и розоватое солнце.
— Мой-то холера на рыбаловку вдарился, — прежним печальным голосом сказала тетя Паша. — Нет городьбу городить или дворову печурку перекласть, так он, язва, на рыбаловку… — Она презрительно пожала плечами. — Ты, Раюха, как взамуж выходить станешь, так сразу спроси, не рыбак ли, часом… Ну, ежельше ответит, что рыбак, ты его сразу под корень секи: «Поишши другу дуру!..» Ты моего-то мужика знашь? — И удивилась до изумления: — Это как же ты моего-то не знашь!.. А вот ежели мужик по деревне идет и на ем рубаха по колено? Или еще так: сидит мужик на лавке, а на ем зимняя шапка — одно ухо другого короче? Так вот это мой и есть… Теперь знашь? Ну, молодца!
После этого тетя Паша захохотала басом.
— Он седни у меня поимеет ласку! Ведь чего, язва, придумал! Нет ему, как все, вентерями ловить, так частушкой старатся… Чебака, вишь, жареного любит! Так ты сам, зараза, его и чисть! У меня рука не казенна… Чебак-то, он мелкий!
Рая помахивала ногой, наслаждалась. Трое сонных парней на лавочке, косясь на нее, спокойно молчали; Виталька Сопрыкин с «Трех танкистов» перешел на «Катюшу»; по реке плыло розовое сосновое бревно, на нем сидела грустная чайка и поправлялась крыльями, когда теряла равновесие. От воды поднимался желтоватый свет, а левобережье, заросшее осокорями, березами и тальниками, казалось наклеенным на голубое дремное небо.
— Кино седни приедет. Звуковое! — сказала тетя Паша, поглядывая на дорогу из-под руки, сложенной горбушкой. — Механиком счас Капитон Колотовкин, твоего отца, Раюха, сродный брат… Который уж раз, язва, это кино возит!.. Вот чего-то припозднился…
Виталька Сопрыкин вывел наконец неподатливую музыкальную фразу и, обрадованно прихлопнув гармошку, вышел на клубное крыльцо. Парень он был красивый, холостой, поэтому сразу начал зазывно глядеть на Раю и улыбаться кончиками губ.
Как у всех Сопрыкиных, у Витальки были тяжелые, сросшиеся на переносице брови, выгнутые и черные, а лицо медное, гладкокожее, опрятное, без пятнышка, без царапинки.
— Еще раз драсьте, Раиса Николаевна! — вежливо произнес Виталька и посмотрел на Раю добрыми, чистыми и невинно-светлыми глазами. — Очень мы все довольные вашему возврату с учебы, Раиса Николаевна! Теперь вам и погулять можно от всей души…
После этого Виталька подошел к девушке, ласково заглянул ей в лицо и вдруг, обняв ее, засмеялся. От неожиданности Рая опешила, не догадалась вырваться, а Виталька начал ее перегибать с боку на бок, играть с ней, стараясь как бы нечаянно прикасаться руками к маленьким грудям Раи.
— Не надо! — наконец вскрикнула она и выскользнула. — Ты что?
— Ничего!
Удивившись, Виталька забыл опустить руки и держал их на весу распростертыми, а брови у него оторопело поднялись да так и замерли; маленький, крепкий рот приоткрылся.
— Я ничего… — недоуменно пожав широкими плечами, сказал Виталька. — Я по-хорошему, Раиса Николаевна…
Теперь все смотрели на девушку удивленно — тетя Паша, трое сонных парней, впервые повернувшихся к ней, причем тетя Паша укоризненно качала головой и цыкала, а из глаз парней потихонечку уходила мирная сонливость.
— Ты чего брыкашься-то? — ворчливо спросила тетя Паша. — Ить Виталька-то по-хорошему, не со зла… Парень он холостой, работает славно…
Рая стояла трепетная, красная; было так стыдно, что в уголках век появились длинные слезинки, набухая, упали бы на щеки, если бы она не подхватила их платочком. Наклонив голову, девушка вытерла глаза, помедлив, повернулась и пошла прочь от клуба, сутулая от обиды, совсем тоненькая оттого, что плечи сделались узкими: походила она, наверное, на осеннюю цаплю, когда та из захолодевшего болота посматривает на южный край неба.
Сначала за Раиной спиной стояла удивленно-обиженная тишина, а потом раздался жалобный голос Витальки Сопрыкина:
— Куда же вы, Раиса Николаевна? А как же кино-то?
Но Рая все шла и шла и, наверное, завернула бы за угол клуба, если бы позади не раздались тяжелые и торопливые шаги — это тетя Паша догоняла девушку, крича на ходу:
— Стой, Раюха, погоди…
Клубная сторожиха тетя Паша бежала навстречу низкому солнцу, лицо у нее было медно-красным, и потому зубы казались белыми, молодыми. Догнав Раю, схватила ее за локоть и проговорила сурово:
— Стой, где стоишь, брыкалка!
Толстые и тугие тети Пашины губы уж было приготовились ругаться, но по щекам Раи все еще текли слезы, и клубная сторожиха смягчилась.
— Ты родного-то дядю пожалей, — сказала она. — По деревне и так разговоры бегут, что ты не девка, а шотланда — так ты не взбрыкивай… Виталька, он парень славный, добрый, веселый… Ты и в кино с ним иди, и на лавку при Витальке сядь, и людску беседу с им веди… Не позорь ты дядю-то родного, Раюха! Вы мне не чужие…
4
Кино приехало только в половине девятого. Привез фильм на самом деле Капитон Колотовкин, двоюродный брат Раиного отца; телега, темная от пыли и грязи, оглушительно скрипела, хотя на задке болталось ведерко с дегтем; от райцентра до Улыма киномеханик ехал три дня, ночевал под тальниками, кормил коня приножным кормом, устал, забурел, оброс щетиной. Лошадь шла в оглоблях медленно, понуро, за телегой двигались такие же медленные и понурые ребятишки, встретившие Капитона за километр до деревенской околицы. А впереди подводы шествовала высокая женщина с грудным ребенком на руках — жена киномеханика. Она держалась независимо и гордо, поглядывала по сторонам глазами мадонны, ноги под длинной юбкой переставляла величаво. Киномеханики в те годы считались рангом выше трактористов и шоферов; равными им, пожалуй, были только сельповские продавщицы. И потому двое Капитоновых мальчишек, едущие на отцовской телеге, тускло улыбались, пресыщенные славой.
Как только телега проехала, улымчане дружно двинулись к клубу — шли все те, кто встречал пароход «Смелый», все, кто мог двигаться. Подойдя к клубу, люди почтительно здоровались с Капитоном, покупали у его строгой жены билет и торопливо проходили в зал, чтобы захватить место получше. Первые ряды, как и полагается, занимали старики и старухи, середину первого ряда сохраняли незанятой для председателя Петра Артемьевича с женой, продавщицы сельпо Екатерины с мужем Иваном Капой, учительницы Капитолины Алексеевны Жутиковой и трактористов.
Младший командир запаса тракторист Анатолий Трифонов в клуб пришел своевременно — не рано и не поздно, то есть чуть раньше председателя Петра Артемьевича. На нем была желтая вышитая рубаха, черные брюки и брезентовые тапочки с белым верхом — знаменитая обувь конца тридцатых и начала сороковых годов. Верх у тапочек был брезентовый, широкий рант — резиновый. Когда тапочки пачкались, владелец разводил водой зубной порошок и, тщательно перемешав, щеткой покрывал брезент белой кашицей; после этого тапочки сушили, стряхивали лишний порошок и осторожно шли в них по улице, оберегаясь травы, чтобы не остались въедливые зеленые пятна.
Анатолий Трифонов ноги в белых тапочках переставлял бережно, широкие брюки имели острую складку, голова без привычной улымчанам пилотки казалась по-мальчишески круглой, несолидной. Продираясь сквозь толпу, он вел себя, как всегда, вежливо; здороваясь со стариками и старухами, низко кланялся, машинально прикладывая ладонь к простоволосой голове, с молодыми держался просто, без гордости, как равный с равными.
Проходя мимо Раи Колотовкиной, младший командир запаса приостановился, подумав, поклонился ей так, как кланялся старикам и старухам:
— С удачным прибытием вас, Раиса Николаевна! Дравствуйте!
Успокоившаяся, повеселевшая Рая стояла с Виталькой Сопрыкиным далеко от клубных дверей и слушала его рассказ о киномеханике Капитоне.
Рассказывал Виталька серьезно, вдумчиво, обстоятельно, улыбку на лицо не пускал, и поэтому все казалось смешным.
— У Капитона кила! — сочувственно говорил Виталька и поджимал губы. — Через это он на колхоз трудиться не может… Вот, скажем, надо ему за вилы браться, он бы и радый, но кила команду дает: «Не берись! Через меня, килу, погибель!» Тогда Капитон под куст ложится, килу успокаиват: «Ничего не боись, я тебя не забижу»… Вы осторожно смейтесь, Раиса Николаевна, Капитон шибко обидчивый. Если услышит, начнет кино верх ногами казать… А еще того хуже — взадпятки аппарату ход даст, от этого со смеху окочуришься! Скажем, человек бежит не передом, а задом… Вы лучшее поверните личико в тую сторону, чтобы на речку смеяться…
Рая действительно хохотала, уже без всякой опаски заглядывала в лицо Витальки и поражалась тому, какие у него славные, добрые глаза, похожие на незрелые шарики крыжовника; и пахло от парня так же хорошо, как от сторожихи тети Паши, — пшеничным хлебом и свежей холстиной, хотя он работал трактористом и должен был бы пропитаться керосиновым духом.
— Капитон через килу и динаму не крутит, — важно объяснял Виталька. — Счас вы, Раиса Николаевна, самолично узрите, какой разворот с динамой содеется…
И они начали смотреть на киномеханика Капитона, который устанавливал возле клубных дверей электродвигатель с бензиновым мотором. Капитон был высок, костист и сутул, глаза у него были по-совиному круглые и влажные от сознания собственной значительности, а движения такие, словно Капитон каждый свой жест ценил на вес золота. Устанавливая сложный агрегат, Капитон был решителен и самокритичен: сначала установил машину параллельно дверям, потом, отойдя от нее метров на пять, прищурился; заросшее щетиной лицо стало озабоченным. Капитон вокруг себя никого не замечал, ни на какие внешние раздражители не реагировал. Щурился он на машину минуты три, затем пробормотал:
— Надоть ей градус придать…
Однако когда машину повернули к дверям боком, Капитон снова остался недовольным:
— Так она вид не кажет!
Когда электроагрегат наконец установили правильно, Капитон, встряхнув головой, вернулся к реальной действительности — заметил мужиков, парней и ребятишек, которые почтительно наблюдали за его поступками и помогали устанавливать машину. Правда, спервоначала Капитон оглядывал всех людей сразу, как бы оптом, потом же стал глядеть на народ подробнее, детальнее, выделяя каждого в отдельности, пока не остановил блескучий взгляд на крупном белобрысом мужчине.
— Ты вот что, Валерьян, — задумчиво сказал он, — ты, Валерьян, по силе возможности подмогнул бы мне… Во-первых, надоть ручку провернуть, во-вторых, заметь, требовается мне халат на заду приспособить… Нам без халату кино гнать не положено. Вдруг пожар!
С этими словами Капитон Колотовкин неторопливо скрылся в клубе, пробыл там минут пять, а когда вернулся, то бережно нес за плечи синий уборщицкий халат с завязками на спине; халат был куплен за двадцать семь рублей в райцентре, какое он имел отношение к пожарной безопасности, никто понять не мог, но белобрысый богатырь Валерьян навстречу Капитону бросился охотно, перехватив ловко халат, помог киномеханику забраться в него грудью и аккуратно завязал тесемки на спине.
— Ладно! — озабоченно произнес Капитон. — Теперь, Валерьян, план у нас такой… Правой рукой ты, значится, берешься за эту вот загогулю, левой рукой ты, значится, вот в эту хреновину упирашься… Лева нога у тебя вперед идет, права нога от левой отставание имеет, но от нее правой ноге помощь… Это ты взял на замет?
— Ну, взял.
— Ладно!.. Теперь отвечай, в какую сторону загогулю крутить зачнешь? По сонцу или встречь сонцу?
— Ну, по сонцу.
— Ну, ты прямь инженер Кочин! — заявил Капитон и одобрительно улыбнулся. — Тако кино есть «Ошибка инженера Кочина». Видал?
— Ну, видал…
— Молодца, Валерьян!
Киномеханик Капитон, примерившись, с размаху заложил руки за спину, отставив в сторону длинную ногу, осмотрелся итогово… Стояли в прежних почтительных позах мужики и парни, молодайки и девчата располагались отдельными группками, деревенские ребятишки — человек сто, — притихшие и озабоченные, сидели амфитеатром вокруг электроагрегата. Впереди лежали на траве трехлетние и четырехлетние, за ними — парнишки и девчонки годика на два постарше, еще дальше — девятилетние, десятилетние и так далее, вплоть до четырнадцатилетних, за которыми уж шли пятнадцатилетние, люди солидные и работящие. Эти рассеянно бродили неподалеку от девичьих групп. Весь пожилой и старый улымский народ сидел в клубе, терпеливо дожидаясь.
— Давай сготавливайся, Валерьян!
Белобрысый Валерьян Мурзин от смущения покраснел, растерялся чуточку, но ноги вместе с тем поставил правильно, так, как велел Капитон, руки тоже привел в соответствие с указаниями и замер, ожидая дальнейших распоряжений. Роста он был двухметрового, плечи имел саженные и даже заводную ручку трактора «фордзон» крутил легко.
— С богом, Валерьян!
Белобрысый мужик в четверть силы подал ручку от себя, услышав, что мотор чихнул, стал вращать быстро-быстро, словно имел дело не с электроагрегатом, а со швейной машинкой, причем вид у Валерьяна был такой, словно не он крутил ручку, а она сама вращалась. Мотор еще несколько раз чихнул, пустил Валерьяну в нос сизый клуб дыма, и на этом дело кончилось: кроме поскрипывания, ничего не слышалось.
— Так! Стой!.. Раз не заводится, значься, не заводится… Потому не мельтеши, силы не показывай, подшипник не томи… Ты, Валерьян, отойди в сторонку, притихни, молчи, шибко не дыши…
Капитон так крепко почесал подбородок, что в зрелой тишине послышался канифолевый скрип щетины. Затем, важно оглядевшись, он нагнулся, помигал на агрегат и с некоторой опаской сунул пальцы внутрь.
Улымская толпа почтительно молчала, глядела на действия Капитона благоговейно, и в ней не было человека, который бы насмешливо улыбнулся или назвал бы киномеханика сапожником… За два года до войны моторы тракторов, автомобилей и динамо-машин все еще умели казаться таинственными, а трактористы, шоферы и киномеханики представлялись такими же непонятными и загадочными людьми, как попы деревенских церквушек. За два года до войны в сибирских деревнях трактор окружали плотной толпой, собравшись всем обществом, часами глядели, как бьется один на один с холодной машиной усталый, растерянный тракторист; это были те далекие времена, когда слух о том, что наконец завелся старый «колесник», передавался по деревне из дома в дом; это было еще тогда, когда шоферы ходили в кожаных куртках и перчатках, носили на кожаной кепке очки-окуляры и женились на учительницах, врачах и дочерях председателей райисполкомов.
Это происходило за два года до войны, в те дни, когда девчата слово «Москва» произносили с молитвенными глазами и умели за шесть секунд натянуть на лицо пахнущий резиной и тальком противогаз; это происходило в те далекие времена, когда в обских деревнях парней в армию провожали так, как сейчас встречают космонавтов, а старики мечтали научиться читать; это было еще тогда, когда на вельвет глядели как на чудо, а о шевиоте говорили как о лунных породах…
Киномеханик Капитон долго возился в моторе, щелкал языком и ожесточенно кряхтел, потом, выпрямившись, колдовски подмигивал в темнеющее уже небо, чесал затылок.
— Зажигание! — наконец воскликнул Капитон таким голосом, словно что-то прочел на сиреневом небосклоне. — Зажигание, будь оно неладно!
Мотор завелся только в одиннадцатом часу, завелся, как бывает всегда, неожиданно: вдруг что-то звякнуло, охнуло, из выхлопа показался черный дым, земля задрожала мелко, и мотор заработал яростно, судорожно, словно старался вознаградить за терпение; ребятишки восторженно завизжали, мужики гудели сдержанно, девчата с шумом хлынули к дверям — сделалось так оживленно, что на улице сразу появились председатель Петр Артемьевич с женой Марией Тихоновной, учительница Капитолина Алексеевна Жутикова (при шляпке и фильдеперсовых чулках), дебелая продавщица Катерина (в черном крепдешиновом платье и в белой шали с бахромой) и трактористка Гранька по прозвищу Оторви да брось. Избранные зрители шли по отдельности, зная об оставленных им местах и о том, что кино без них не начнется; влиться в ликующую толпу не торопились. Председатель Петр Артемьевич вел себя незаметно, скромно, старался идти по лунной тени, но учительница Жутикова, продавщица Екатерина и Гранька Оторви да брось держались фасонно, носы задирали, делали вид, что кино им неинтересно, а когда сошлись все-таки у клубных дверей, то стало заметно, что учительница Жутикова и продавщица Екатерина, перестав въедливо разглядывать друг друга, объединились против Граньки Оторви да брось, на которую посматривали одинаково свысока, словно спрашивали: «Это что за птица?»
— Здорово, честной народ, здорово! — говорил председатель Петр Артемьевич.
Огромное красное солнце давно спряталось за черные осокори и тальники кетского левобережья, сиреневая полоска на горизонте, остывая, линяла с каждой секундой, и носились над теплой землей острые, холодные запахи, похожие на запахи первого снега, хотя на дворе был июнь — теплый месяц в нарымских краях. Вызрела уже над стрехой клуба и налилась розовостью большая луна с вислыми хохочущими щечками, с прищуренным левым глазом, полнокровная и здоровая.
Когда страсти возле клубных дверей немного приутихли, Виталька Сопрыкин перестал рассказывать смешные вещи про трактористку Граньку Оторви да брось, взяв Раю крепко за локоть, повернул к ней желтое от лунного света лицо.
— Дозвольте проводить на место, Раиса Николаевна, — сказал он и солидно покашлял. — Петра Артемьевич уже прошли…
В клубе было душно и жарко, ослепительно светила крошечная электрическая лампочка, на бревенчатых стенах изгибались забавные человеческие тени — длинноносые, лохматые, — и было неожиданно тихо, словно человеческие голоса теряли силу за чертой клубных дверей. На красном занавесе крошечной сцены висела чистая простыня, но улымские зрители на нее не смотрели, так как дружно и бесшумно, словно по команде, повернулись к дверям.
Бог знает как люди узнали о том, что Рая и Виталька Сопрыкин вошли в клуб, но не было человека, который бы не глядел на девушку, — все повернулись к ней и смотрели бесцеремонно, добродушно, одобрительно, словно ожидая чего-то.
— Шагайте, Раиса Николаевна, шагайте! — жарко шепнул в затылок Виталька, но Рая, покраснев, растерянно стояла на месте.
Клубный народ молчал и не двигался, глаза не меняли выражения, не уходили в сторону, и это было так мучительно, что девушка перестала дышать. Потом в тишине послышался легкий шорох движения, приглушенно заскрипели скамейки, и лица улымчан одновременно и медленно повернулись в сторону второго ряда, где между трактористкой Гранькой Оторви да брось и учительницей Жутиковой зияло пустое пространство.
— Ваше местечко, Раиса Николаевна! — шепнул Виталька и, попятившись, отодвинулся в сторону.
С бьющимся сердцем, смущенная до слез, Рая проворно прошмыгнула между тесными скамейками, торопясь и нервничая, протиснулась на свое место, и в ту же секунду раздался важный голос киномеханика Капитона:
— Зачинаю казать кино «Если завтра война…». Прошу соблюдать себя!
Киносеанс длился два с половиной часа. Три раза рвалась лента, два раза киномеханик Капитон запускал фильм задом наперед — кассета оказывалась неперемотанной; раза три глох двигатель, перерывы между частями были огромными. Капитон медленно заправлял в аппарат пленку своими толстыми, негнущимися пальцами, а иногда путал ролики, и по всем этим причинам фильм кончился в половине второго. На экране мелькнуло яркое слово «Конец», киномеханик Капитон во всеуслышание облегченно вздохнул.
Минут пять после окончания фильма улымчане тихо и дисциплинированно сидели на местах, молчали, и у всех был такой вид, словно на экране должно было еще что-то произойти. Это продолжалось до той секунды, пока не поднялся с места председатель Петр Артемьевич. Он уже двигался к выходу, когда зал вдруг зашумел и поднялся — вот и окончилось кино…
5
От клубной духоты у Раи разболелась голова, ноги затекли от долгого сидения на неудобной скамейке; продираться сквозь толпу ей не хотелось, и потому она сидела на месте, терпеливо пережидая, когда зрители протиснутся к двери.
Когда в клубе никого не осталось, кроме киномеханика Капитона с семейством, Рая устало зевнула и, задевая сонно за концы скамеек, пробралась к выходу.
На улице было лунно и светло, над клубом шелестел серебряными листьями молодой тополь, река казалась собранной из желтых чешуек и текущей в противоположную сторону, так как легкий и теплый ветер гнал волны на север. Луна висела над деревней по-прежнему прозрачная, громадная, дорога по кетскому берегу бежала яркой слюдяной полосой, собаки лаяли глухо, а на лавочке кто-то смутно-белый и согбенный играл тихонечко на гармошке «Катюшу»; девчата подпевали вполголоса.
Других людей возле клуба не было, все куда-то исчезли, но на освещенной стороне молодого тополя, с ног до головы белая, стояла трактористка Гранька Оторви да брось, одетая так, как одевались героини фильмов «Учитель», «Трактористы», «Богатая невеста» и «Если завтра война»: на ней было длинное белое платье, перехваченное в талии лакированным поясом, на ногах — такие же парусиновые тапочки, как у Анатолия Трифонова, а на плечи была накинута цветная косынка, за концы которой Гранька Оторви да брось держалась разведенными руками с ямочками на локтях. Трактористку ярко освещала луна, и поэтому она стояла картинно, беззастенчиво выставив большую грудь, вычурно изогнув крутые бедра. Напевала Гранька Оторви да брось свое: «Мы с железным конем все поля обойдем…» — и была очень хороша, так как имела весь набор деревенской привлекательности: соболиные брови, алый рот, задорный нос, нежный подбородок, но при этом была коренаста, широкоплеча и коротконога.
Потягиваясь и держась руками за концы яркого платка, причесанная на гладкий пробор, Гранька неотрывно глядела на прозрачную луну. «Хороша! — медленно подумала Рая Колотовкина. — Вот бы подружиться с ней!»
Гармонист «Катюшу» играл душевно, девчата пели сердечно, а по слюдяной дороге медленно прогуливались Раины родственники — дядя Петр Артемьевич и тетя Мария Тихоновна. Они гуляли по-городскому, то есть дядя держал тетю под ручку, а это в Улыме было непривычным, так как даже молодые люди стеснялись городского обычая, под ручку не ходили, а делали так: девушка обнимала парня за талию, парень левой рукой обхватывал девушку за плечи, и вот в такой тесности они двигались как бы одним телом. Между тем председатель Петр Артемьевич вот уже полгода гулял с женой по деревне под ручку — на виду у всех вел Марию Тихоновну бережно, осторожно, как барыню-сударыню.
Рая вслед старикам глядела ласково, нежно, отчего-то вздыхала. Ночь была такая торжественная и светлая, такая теплая и уютная, что сердце покалывали сладкие иголочки; хотелось не то петь, не то плакать, горлу было узко от тополиного запаха, и ныли кисти рук, почему, отчего — неведомо! А Гранька Оторви да брось все выгибалась под луной, все напевала сквозь зубы про железного коня, одинокая и вызывающая.
— Стоишь, Раюха? — раздался за спиной знакомый голос. — Погуляшь или домой наладишься?…
Трое двоюродных братьев стояли рядом, сильные, светловолосые, безмятежные, улыбались сестре и были так же открыты, понятны, ясны, как лунное небо над головой, как тополь, как река, которая, казалось, перестала двигаться. У братьев, как у Раи, были квадратные нижние губы — семейная колотовкинская черта, — но она рядом с ними казалась совсем тонкой и такой зыбкой, что они дышали осторожно и говорили тихо, словно боялись, что сестренка рассыплется, хотя Рая была совсем немного ниже братьев.
— Так ты гуляй себе, Раюха, — ласково сказал старший брат Василий. — Если соскучишься, к нам подгребай…
Братья ушли, и почему-то сразу услышалось, как плещется под яром чешуйчатая Кеть, падают в воду с яра кусочки глины, бьет на плесе крупная рыба; девчата на скамейке тихо-тихо пели уже про рябину, которой надо перебраться к дубу, гармонист едва слышно подыгрывал им, свистели над головой крылья невидимых уток, кем-то потревоженных во время сна. Среди кустов левобережья пылал костер, похожий на звезду, что, бывает, ярче других звезд светится на краю небосклона. От костра на черную воду ложился колеблющийся отблеск.
Трактористка Гранька Оторви да брось вдруг скрестила на груди концы косынки, протяжно и грозно свистнув, пошла по темной земле, пятная ее белизной тапочек.
Было уже без пятнадцати два, до раннего нарымского рассвета оставалось не более часу, и уже по-утреннему резко пахло черемухой, влажнеющей травой, квакали дремотно лягушки в Гадючьем болоте, вдруг покатилась по небу светлая звездочка, ударилась обо что-то невидимое и, вспыхнув, сгорела… «Пойду-ка и я домой! — неожиданно решила Рая. — Чего я буду здесь стоять, если все ушли?…»
Белых парусиновых тапочек у Раи не было, шагая неторопливо, она ступала на мягкую траву невидимыми туфлями на высоком каблуке, и скоро ей стало казаться, что она бесшумно плывет в густом теплом воздухе, насквозь пронизанная им; руки сами собой волнообразно изгибались, и чувствовалось, какая у нее длинная, тонкая шея. Все это было странным, непонятным, но таким сладостным, что не хотелось, чтобы дорога к дому кончилась, — все бы плыть да плыть, как в ребячьем сне, когда по ночам растешь… «Я глупая! — неизвестно отчего думала Рая и улыбалась своим мыслям. — Я только думаю, что я взрослая, а я глупая и сама не знаю, чего мне надо…» Потом она подумала, что завтра проснется поздно, при большом и высоком солнце, но тут же решила совсем не ложиться спать, а, забравшись на сеновал, читать.
— Дурочка! — вслух сказала Рая.
В это время она проплывала мимо молодых елок, возле которых сидели на бревнышке парнишки лет четырнадцати-пятнадцати, тихие и грустные именно оттого, что были в таком возрасте, когда домой отцы и матери рано не загоняют, но и на дворе до рассвета делать нечего: во-первых, темно, во-вторых, хочется спать.
Когда Рая проходила мимо мальчишек, они бесшумно поднялись с бревна, глядя на девушку исподлобья, поклонились вежливо, по-стариковски низко. Она тоже поклонилась, засмеявшись, пошла дальше, но вдруг замедлила шаги, так как один из мальчишек за ее спиной громко спросил:
— Никак, Стерлядка?
Несколько секунд было тихо, потом другой мальчишечий голос солидно подтвердил:
— Она… Стерлядка…
6
За неделю Рая Колотовкина отдохнула и загорела, ноги покрылись царапинами, обветрились, густой здоровый румянец лег на втянутые щеки; всю неделю она спала на сеновале, просыпалась на рассвете и сразу видела сквозь щель зеленую большую звезду. Ходила Рая в коротком городском сарафане, односельчане уже стали понемногу привыкать к нему, не ворчали осуждающе: «Ровно голая!» Девушка уже знала, что в Улыме ее зовут Стерлядкой, что прозвище пошло с того самого вечера, когда старый рыбак Иннокентий Мурзин, человек спокойный, справедливый и мудрый, сидя на лавочке и глядя на проходящую Раю, покачал головой и сказал:
— Чисто стерлядка… Эта рыбина, то есть стерлядка, тоже длинна, тонка, куда хошь поплывет, в каку хошь сторону взбрыкатся. Нд-а-а-а, стерлядка и есть!
До конца недели стояли погожие денечки, на небе — ни облачка, отцветающая черемуха напослед как бы снова набралась сил — пахла густо и тревожно, палисадники были по-свадебному белы, улымские парни засовывали черемуховые кисти за кепки. Всю неделю деревня жила возбужденно, так как киномеханик Капитон Колотовкин еще четыре раза показывал кино «Если завтра война», и зрителей по-прежнему было много, и сеансы кончались за полночь.
В четверг Рая проснулась, как обычно, в пятом часу утра, потянувшись сладко, открыла глаза и сразу увидела в щели большую и зеленую звезду; луна еще не сошла с небосклона, при солнце казалась подтаивающей льдинкой; уже куковала за рекой кукушка, а по двору в белых кальсонах и белой рубашке по колено ходил дядя Петр Артемьевич, похожий на привидение. Он зевал и щурился, что-то искал на дворе с таким видом, словно не знал что. Тетя Мария Тихоновна уже хлопотала вокруг кирпичной дворовой печки — готовила ранний завтрак, и все вокруг радостно пахло дымом от березовых дров.
Полумрак на сеновале был проткнут пыльными солнечными иглами. Рая подставила под них ладонь и увидела сквозь розовую мякоть темные косточки пальцев; она играла с солнечными полосками до тех пор, пока не сделалось щекотно от их горячего прикосновения к коже. Рая вслух засмеялась и решительно начала спускаться с сеновала. На ней были длинные сатиновые трусики, синяя майка, прямые распущенные волосы по тогдашней моде обхватывал железный обруч.
— Здорово! — первым поздоровался с племянницей дядя Петр Артемьевич и поддернул белые кальсоны. — Вот ты мне скажи: куды мог деваться парсигар? Вот где он может обретаться?
Дядя начал курить на пятьдесят шестом году жизни, тетка в дом его с куревом не допускала, и он вечно терял кожаный портсигар, который прятал от Марии Тихоновны во дворе. Вчера портсигар нашли под крыльцом, позавчера — в пазе оконного наличника, неделю назад — в курятнике, а вот где он скрывался сегодня, надо было сообразить, и Рая задумалась.
— Под столешницей портсигар, — наконец сказала она.
— Ох-ох-ох! Сгину я через эту проклятушшу память!
Дядя подошел к столу, который был вкопан в землю посередь двора, пошарив, достал из-под столешницы пузатый кожаный портсигар и тоненько засмеялся, подмигивая племяннице. Потом он сделался очень серьезным, так как начал искоса глядеть на тетю Марию Тихоновну, которая переворачивала ножом жирных карасей на большой сковородке.
Тетка молчала, не обращала на мужа никакого внимания, но дядя обиженно поджал губы, шмыгнул носом и сказал:
— Вот ты заметь, Раюха, как она в любо дело встреват! Ты заметь, заметь, как она носом дышит, воздух в грудях затаиват, ежели я нахожусь при папиросе!.. Да ты мне ответь, а не ворочай своех карасей, язва ты сибирска! — вдруг обозлился дядя. — Ты мне ответь, коли я с тобой беседоваю…
Однако тетя Мария Тихоновна и ухом не повела, а перевернула с боку на бок очередного карася, довольно улыбнувшись.
— Во! — обрадовался дядя. — Ты гляди, Раюха, как она меня со свету сживат… Во!
Дядя еще раз поддернул кальсоны, сердясь, подошел к плите, вынул из топки яркий уголек и неторопливо прикурил от него, держа в пальцах.
— Вот ты гляди, Раюха, как она меня преследоват, изгонят и мученически мучит… Мне в речку головой — вот она чего добиватся.
После этого дядя с надеждой посмотрел на тетю, будучи уверенным, что она на этот раз ответит, загодя презрительно оттопырил нижнюю губу и прищурился едко. Однако Мария Тихоновна по-прежнему не слышала его, вела себя так, словно на дворе была одна, и дядя мгновенно увял — походив по траве меланхолически, он сел на первую попавшеюся чурку и поглядел по сторонам рассеянно.
— Вот чего я никак не пойму, так это собственну бабу, — пробормотал он. — Почему это так получатся, что для всего народу я — председатель, а вот для своей бабы — пусто место?… Вот через что это получилось — мне шибко интересно знать…
Дядя был такой печальный и обиженный, глаза так потерянно блуждали по небу, что Рая вдруг навзрыд рассмеялась, подбежав к дяде, обняла его за коричневую и шершавую, как наждак, шею, повиснув, опустилась на прохладную траву голыми коленями.
— Ой, дядя! — воскликнула Рая. — Ой, дядя, какой ты смешной!
— Вон чего! — крякнул дядя и покраснел. — Вон чего она говорет…
Дядя Петр Артемьевич совсем не умел обниматься и нежничать, он смущался и не знал, что делать, когда племяшка ласково обнимала его, и даже страдал оттого, что не умел отвечать на Раины ласки, но она-то видела, что у дяди счастливо подрагивали большие, квадратные губы, глаза влажнели и светились от радости.
— Ой, дядя, какой же ты смешной!
Рая расцепила руки, упала грудью на траву и краешком глаза стала наблюдать за дядей, который смущенно кашлял, теребил густую бровь и старался не глядеть на племяшку. Затем он отвернулся, чтобы никто не видел его счастливое, растроганное лицо.
— Вот сроду так, что папиросу помнут, — ворчливо сказал дядя и помолчал. — Радоваться-то радовайся, но ты с умом радовайся, чтоб папиросу-то не спортить…
После этого дядя рассердился:
— Ты чего же, Раюха, на траве лежишь, а братовьев-то не побуживашь… Вот чего не люблю — это когда все на траве лежат, все носы от моей папиросины воротют, все спят… Не-е-т, я скоро с вами строжиться зачну! Не-е-т, так у нас дело не могет дальше продолжаться!
Солнце успело подняться уже на вершок над сиреневой Кетью, левый берег реки был темен, таинствен; от земли поднимался, спешил вверх, к солнцу, чтобы согреться, сладостно-прохладный воздух.
Протяжно мычали коровы, звенели ботала и колокольчики, во дворах вырастали прямые столбы дыма от дворовых печурок. Было свежо, прозрачно и так празднично, как бывает ранним утром, когда происходит главное земное торжество — рождение нового дня.
— Побуживай братовьев-то, Раюха, побуживай!
Рая вспорхнула с прохладной травы, кружась и напевая, босиком побежала к высокому крыльцу, по теплым и ласковым кедровым доскам вбежала в большие темные сени и вдруг на мгновение остановилась, замерла оттого, что сердце сладко и больно сжалось, словно его схватили горячими пальцами. Рае показалось, что все это уже было в ее жизни: полумрак больших сеней, босые ноги, запах сухой травы и пшеничного хлеба, чувство беспричинной радости, полной до озарения; ей показалось, что она давным-давно, тысячу лет, ждала вот этого мгновения, готовилась к нему и знала, что оно настанет.
— Товарищи братовья! — удивляясь себе самой, радостно закричала Рая. — Вставайте, братовья!
Когда девушка пригляделась к темноте, в сенях появилась широкая лежанка, на которой спали трое двоюродных братьев; лежанка была широкая — метров на пять, — каждый брат лежал на отдельном бараньем кожушке, у каждого имелось ситцевое лоскутное одеяло, подушки у всех были одинаковые — красные. Братья храпели ровно, лица у них были совершенно спокойные, и не верилось, что это они храпят.
— Эй, просыпайтесь, братовья! — еще раз крикнула Рая и только тогда обнаружила четвертого человека: на самом лучшем кожушке, под новым лоскутным одеялом спал Виталька Сопрыкин. Заметив его, Рая смутилась, но как раз в этот момент младший брат Андрюшка перестал храпеть и открыл глаза.
— Ты вот что, Раюха, — деловитым и ясным голосом сказал он. — Ты иди-ка себе с богом, покудова я шворнем не зачал орудовать.
После этого Андрюшка перевернулся на бок, сладко улыбнувшись и подложив под щеку ладонь, захрапел сильнее прежнего, а Федор, Василий и Виталька Сопрыкин проснуться не изволили, хотя веки у них потоньшали и начали подрагивать — значит, все слышали.
— Ну ладно! — грозно сказала Рая и, поджав губы, вышла на крыльцо.
— Не пробуживаются? — сердито спросил дядя Петр Артемьевич. — Ну, значится, с первыми петухами пришедши: их надоть водой отливать…
Тут дядя пришел в такой восторг, что, взмахивая руками, стал приплясывать босыми ногами по траве:
— А не гуляй до рассвету, а не шляйся где попадя… Ты водой их, Раюха, водой!
И началось веселье.
Рая вытащила из дворового колодца со скрипучим воротом ведро ледяной воды, нарочно громко стукая им о сруб, перелила воду из деревянного ведра в металлическое, но сразу его к сеням не понесла, а побрякала дужкой.
— Давай не боись! — хохотал дядя. — Действовай, давай действовай!
Действовала Рая так: подхватив ведро и стуча по нему ковшом, неторопливо двинулась к сенцам; поднявшись на крыльцо, стучать перестала и прислушалась: в сенях уже не храпели, но лежали пока тихо, притаившись. Тогда она загромыхала железом сильнее прежнего и закричала по-базарному:
— А вот холодная вода! Кому нужна холодная вода?… Холодная вода…
В сенях было тихо, как в подземелье, братья и Виталька Сопрыкин теперь лежали лицом к стене, затылки у всех были сердитые, и, когда Рая приблизилась к лежанке, младший брат Андрюшка сказал задумчиво:
— Вот она какая есть зараза, эта Райка! Я, к примеру сказать, такой заразы еще никогда не встренул…
Беззвучно смеясь, Рая села на табуретку, а братья еще минуточку лежали тихо, потом Федор — средний — пожаловался:
— Мне холодная вода — тьфу! А вот у колодца надо бы вороток смазать… Я больше от скрипу побуживаюсь, чем от этой заразы Райки…
Затылки у братьев были такие же плоские, как у Раиного отца, светлые густые волосы были по-колотовски прямыми, и голоса у братьев тоже были родными: напевными, чуточку хрипловатыми и лесными.
— Райку надоть крапивой, — сказал старший брат Василий. — С одной стороны, больно, с другой — от крапивы полезность…
После этих слов трое остальных отчего-то разом повернулись на спину, не обращая внимания на сестру, стали коситься на Василия, который тоже лег на спину. Молчание длилось, наверное, минуты две, потом Андрюшка недоуменно хмыкнул:
— Это как же так, что от крапивы польза?
— А вот так, что от нее ревматизм проходит…
Теперь братья и Виталька Сопрыкин внимательно глядели на сенную балку, лбы у них были думающе наморщены, а глаза любопытно поблескивали; чувствовалось, что мысли у всех серьезные, по-мужичьи основательные, и от этого все четверо казались очень занятыми людьми.
Молчание длилось до тех пор, пока Витальке Сопрыкину на подбородок не села муха. Он согнал ее и сказал в потолок:
— С добрым утречком вас, Раиса Николаевна!
Опять наступила тишина, а затем Андрюшка нежно засмеялся.
— Витальку-то мы вчера еле от братовьев Каповских отбили… Ты глянь, Раюха, чего у Витальки-то под правым глазом светит…
Посмотрев на Витальку, девушка невежливо засмеялась и, выйдя из сеней, по-деревенски заботливо огляделась; она даже приставила ладонь ко лбу, как это делала тетя Мария Тихоновна, покачала головой озабоченно и деловито…
Солнце значительно уменьшилось в размерах, вращалось, млело; даль реки, неба, кедрачей была прозрачной, зеленоватой, по-утреннему бесконечной. «Хорошие будут погоды!» — удовлетворенно подумала Рая, но с крыльца все не спускалась, хотя дядя, маня ее пальцем, таинственно улыбался:
— Подь-ка сюда, Раюха. Подь-ка сюда…
Когда она подошла к дяде, он старательно, словно вдевая нитку в иголку, прижмурил левый глаз, втянув голову в плечи, зашептал:
— Ты глянь-ка, племяшка, какая чуда содеялась… Правых-то сапог нету… Это ж одни левы стоят!
На самом деле возле крыльца стояли четыре левых сапога, меж ними было пространство, которое должны были бы занимать правые сапоги, но вот их не было, и дядя изумленно глядел на пустоту одним глазом.
— Вот что интересно, — наконец прошептал он. — Четвертый-то сапог чей? Не мой ли это сапог?… Мать! — громко закричал дядя, хотя Мария Тихоновна уже стояла рядом. — Четвертый-то сапог мой или не мой? Голенишшем он вроде мой, а головкой — не кажет на мой.
— Не твой это сапог! — подумав, рассудительно ответила тетя. — Твои сапоги вон обои стоят, а этот сапог Виталькин…
Рая тихонько смеялась. Ей было хорошо на этом зеленом дворе, под этим голубым небом, в этом прозрачном теплом воздухе…
7
За стол Колотовкины сели около шести часов утра, когда прошло деревенское стадо и Мария Тихоновна проводила пастись комолую Пеструху. Стадо по деревне шло долго, пастух Сидор для авторитета часто щелкал кнутом, без нужды строжился на коров, голос у него был несмазанный, хриплый; коровьи ботала и колокольчики звенели и брякали, сами коровы от радости помыкивали — шумная жизнь происходила на длинной улымской улице, которая уж давно проснулась. Везде дымили дворовые печурки, пахло жареной рыбой и утятиной, свиными шкварками и картошкой; бабы перекликались через прясла веселыми утренними голосами.
У Колотовкиных завтракать сели так: в голове стола устроился важный Петр Артемьевич, натянувший шерстяные штаны, справа в сарафане сидела Рая, слева — гость Виталька Сопрыкин, а уж потом все остальные — бойкий Андрюшка, медленный Федор, солидный Василий. Андрюшка как только сел по правую руку от сестренки, так сразу начал щекотать ее голое плечо тоненькой травинкой, чтобы она подумала — муха. Глядел Андрюшка при этом в сторону, лицо у него было серьезное, точно это не он баловался травинкой.
Все Колотовкины и Виталька Сопрыкин были гладко причесаны, лица после умывания сделались розовыми; ожидая начала завтрака, они постно смотрели в столешницу с таким видом, будто не имели никакого отношения к предстоящему. Тетка стояла возле печурки в праздничном переднике.
— Надо бы зачинать, — негромко сказал дядя. — Если будешь сидеть, так, поди, ничего не высидишь.
На первое тетка подала в огромном чугуне скороварку из баранины — такой суп, в котором ложка стояла стоймя, картошка попадалась редко, как драгоценность, и вообще было непонятно, почему полпуда вареного мяса называется супом, но дядя Петр Артемьевич одобрительно почмокал:
— Вот это дело!
Похвалив жену, дядя приосанился, подвигав, поставил горячий чугун так, чтобы стоял ровно посредине, затем, облизав чистую ложку, посмотрел на нее сбоку и мотнул головой: «Ну, можно снедать, народ!» Он первый зачерпнул из чугуна полную ложку супа, поставив под нее ломоть пшеничного хлеба, осторожненько понес к заранее открытому рту, но возле самых губ ложку остановил и покосился на Витальку Сопрыкина, который, шибко нагнувшись, что-то шептал: это он молился. Глаза у дяди запламенели, но он тут же опустил взгляд в ложку, подумал нежножечко и только тогда занес в рот горячее мясо. После дяди в чугун полезла ложкой Рая — за ней была вторая очередь, а потом стали таскать мясо с безразличным видом все остальные, исключая тетю, которая стояла возле дворовой печурки и зорко наблюдала.
Суп ели в молчании, серьезно, деловито. Даже Андрюшка притих и погрустнел: сухо поджимал губы, глядел в даль дальнюю, спина у него была по-мужичьи сутулая, работящая, и вообще в нем нельзя было признать человека, который в райцентровской школе закончил на одни пятерки девять классов, умел читать и разговаривать на немецком и неделю назад декламировал Рае «Евгения Онегина».
За неделю Андрюшка с радостью выбросил из головы всю школьную премудрость, упрямые морщинки на лбу расправились, походка сделалась лениво-вкрадчивой, а ел он точно так, как это делают сибирские мужики: смачно, неторопливо, сосредоточенно, но с таким выражением лица, словно еда и Андрюшка ничего общего между собой не имели. Одним словом, Андрюшка не опускался до уровня еды, однако и не позволял еде подниматься до его уровня — он просто позволял еде быть съеденной, а еда позволяла себя съесть.
Рая густой суп черпала осторожно, горбушку пшеничного хлеба под ложку подставляла неловко, и на столе, конечно, пролегла мокрая дорожка, которой она стеснялась. Однако Рая ела охотно, хотя неделю назад суп утром есть не могла и тетя с дядей переживали за нее, говорили, что это все от учебы, которая человека лишает аппетиту. Теперь аппетит у девушки появился; ела она суп вместе со всеми, ни от кого не отставала, и если бы не мокрая дорожка на столе, была бы совершенно счастлива.
Когда суп съели, дядя Петр Артемьевич тяжело вздохнул, улыбнулся и положил ложку. Как только он сделал это, Андрюшка мгновенно переменил выражение лица и шепнул Рае: «Виталька-то молился!» Не получив ответа, Андрюшка снова взял тонкую травинку и стал щекотать голое плечо сестры, изображая муху. Смотрел он при этом на левобережье Кети и до тех пор мучил Раю, пока мать от печки не сказала:
— Вот тресну уполовником!
— Кого? За что?
Тетя Мария Тихоновна карасей подавать не торопилась, так как Петр Артемьевич собирал на лбу коричневые морщины, угнезживаясь на скамейке поудобнее, чужеродно кашлял — собирался завести серьезный разговор. Поэтому тетя засунула руки под передник, уперлась спиной о печурку и стала ждать, когда муж заговорит, а дядя все ворочался, строго сводил брови на переносице и кашлял уже грозно. Потом он гостеприимно улыбнулся и безмятежным голосом сказал:
— Нет, робяты, не знаю я, куды ваши правы сапоги подевались… Я уж так прикидывал, я уж этак прикидывал — ничего у меня не получатся!
Пока он говорил это, братья и Виталька Сопрыкин медленно, как бы поочередно повернулись в сторону крыльца, поглядев на левые сапоги, таким же макаром повернулись обратно к столу и начали молчать, посматривая друг на друга и пожимая плечами. Так прошло минуты три, затем старший брат Василий почесал кончик носа, в последний раз пожав плечами, раздумчиво сказал:
— Заметно интересное дело получатся… Андрюшк, а Андрюшк?
— Ну чего тебе?
— А ничего!.. Ты бы Раюху травинкой не мучил, ровно муха, а лучше бы сказал: когда ты калитку-то закрывал на вертушку, были на месте правы-то сапоги? Ты их на замет взял?
— Взял! Все сапоги были…
— Совсем любопытно дело получатся!.. А ты как вертушку-то закрывал? Толстый-то конец вертушки куда пришелся? К столбу или от столба?
— Это я упомнить не могу! — медленно ответил Андрюшка и стал глядеть в небо. — Постой, постой!.. Вот чего я тебе скажу: к столбу был толстый конец! — Тут он ухмыльнулся. — Вот интересно, кто таку неровну вертушку строгал? Как у него руки-то не отсохли?
Дядя Петр Артемьевич зашевелился, хмыкнул, но ничего не сказал, а только сердито посмотрел на младшего сына. Зато тетя Мария Тихоновна оторвала спину от теплых кирпичей, вынув руки из-под фартука, тоже посмотрела в голубое пространство и проговорила:
— Я такого ране не слыхала, чтоб родной сын желал отцу руки отсохнуть! Ты бы, Андрюшка, прежде чем говореть, подумал бы… Ить вертушку-то отец строгал!
— Ну и чего из того? Что отец, что другой, надо бы ровно строгать-то… Васьк, а Васьк? Посмотреть, как вертушка-то закрыта?
— Но!
Встав из-за стола, Андрюшка пошел неторопливо к калитке. Босые ноги оставляли на росной траве два темных следа, спина у братишки была озабоченная, деловитая, высоко подстриженный затылок круглел пятаком. Как только он приблизился к калитке, с земли лениво поднялись две здоровенные лайки — Верный и Угадай, позевывая и волоча по траве вялые хвосты, пошли за ним. Возле калитки Андрюшка остановился, склонив голову набок, посмотрел на вертушку слева, потом, перенеся голову на другое плечо, посмотрел на вертушку справа, затем выпрямил голову, чтобы посмотреть прямо. Когда он вернулся к столу и сел на свое место, собаки остались у калитки, а тетя Мария Тихоновна от плиты негромко спросила:
— Ну, чего, отец, подавать карасей-то?
— Так подавай!
Бесшумно двигаясь, тетя поставила на стол противень с огромными карасями, отойдя в сторонку, подбоченилась и стала внимательно глядеть на ленивых псов, которые от этого начали зевать и беспокоиться. Когда же псы, не выдержав человеческого глаза, поднялись, Мария Тихоновна поджала губы и сказала:
— Из этих собак надоть бы верхонки сшить! Ну, ни одна зараза ночью-то не залаила…
— И правильно сделала! — сердито откликнулся дядя Петр Артемьевич. — Чего это охотничьи собаки будут лаить, как ровно дворняги… У них что, других делов нету? — Он осуждающе покачал головой. — Ты, мать, тоже скажешь: чего не залаили? Нужда была им лаить! Это городски собаки лають почем здря, а наши-то чего бы с ума сдурели… Ну, Андрюшк, по тебе шворень скучат! Чего это ты опять над Раюхой выкамаривашь? Чего ты ее ногой-то под столом пихашь?
— Кто? Кого?
— Ну, ладноть! Ты мне театру не представляй, а лучше карасей ешь…
Караси на противне лежали огромные, целые, с золотистой шкуркой и так пахли, что щекотало в носу, но Колотовкины и гость Виталька Сопрыкин к еде приступать не торопились: во-первых, самый острый утренний аппетит уже был приглушен, во-вторых, на каждого едока полагалось по целому карасю и есть его можно было сколько угодно долго, не то что суп, когда надо соблюдать строгую очередность. К еде приступили лениво, переглядываясь и подолгу сидя без движения.
— Так чего вертушка-то, — наконец спросил старший брат Василий, отделяя карасиную голову от туловища, чтобы высасывать вкусный мозг. — Каким она концом к столбу-то?
— А тем же самым, что и вчера…
После этого все повернулись к калитке, начали глядеть на вертушку, а псы поднялись, постояли немного, потом тоже стали смотреть на вертушку, заострив уши.
— Жрут эти собаки — страсть сколько! — сказала Мария Тихоновна и пригорюнилась. — Это ж со смеху можно помереть, что простоквашу лопают…
Рая сидела тихо, прислушиваясь к самой себе, так как ей опять казалось, что все вот это уже когда-то было в ее жизни: сидела вот за таким же столом, шел точно такой же смешной разговор о вертушке и правых сапогах, а двоюродный брат Андрюшка уже когда-то шептал ей на ухо: «А здорово я выдал батяне-то за вертушку! А пущай не хвалится, что лучшее всех нас мастер!» Да, все это было когда-то в ее жизни, все это она любила, и ей опять было так хорошо, как не бывало давным-давно. Рая оживленно крутила головой, сдерживая смех, посматривала на левые сапоги, соображала, куда исчезли правые, и вместе со всеми ела карасей, вместе со всеми удивлялась тому, что охотничьи собаки едят простоквашу, и согласилась со старшим братом, Василием, когда он решительно сказал:
— Я так думаю, что дело не в простокваше, а вот в том, где правы сапоги… Может, вы, мама, знаете, куда они подевались?
— Нужны мне ваши сапоги!
— Каповски парни увели сапоги, — со вздохом сказал Виталька Сопрыкин. — Я на них еще с самого началу подумал, а теперь у меня и замет есть…
Сказав это, Виталька Сопрыкин неторопливо затолкал три пальца в широко открытый рот, закинув голову, вынул из-за щеки большую карасиную кость, осмотрев ее со всех сторон, положил на стол. Наблюдавшая за этой процедурой тетка Мария Тихоновна вздохнула:
— Вот через это я карасей и терпеть не терплю, а они все: «Караси да караси!» Вот заглонут кось, так узнают карасев…
— Но ить вкусны! — сердито ответил Петр Артемьевич.
— А кось?
— Торопиться не надо — вот что я тебе скажу за кось!
В метрах ста от завтракающих текла черная у яра при утреннем освещении Кеть, хищно-веселые, носились над ней голодные чайки, летали озабоченные сороки; на левом берегу реки догорал рыбацкий костер, и от него поднимался в небо прямой, как телеграфный столб, торчак дыма. Посередине реки в тихом обласке плыл задумчивый рыбак, не шевеля, держал весло в левой руке — спал сладким зоревым сном. Левобережье Кети, наоборот, серебрилось солнечными чешуйками, и казалось, что две реки притекают к подножию деревни Улым — светлая и дегтярно-черная.
— Какой у тебя замет про сапоги, Виталька? — осторожно спросил Василий. — Это ты нам должон непременно сказать, как мы без сапогов-то на гулянье не попадам… Походи-ка босошлепый по свежей кошанине!.. Так какой у тебя замет?
— А такой, что я видел, как каповски-то ребята сапоги уводили.
— Чего же не взбудил?
— Да жалко было… Вы тока уснули, тока в храп вдарились, как они сапоги-то повели… Вот и не стал взбуживать…
— Ну а сапоги где?
— Под пряслом сапоги… Как чаю-то попьем, я их возверну, раз видел, куда прятали.
Теперь все, кто сидел за столом, и Мария Тихоновна от своей печки в первый раз за весь завтрак посмотрели на Виталькин глаз, затекший синевой и напухший; дядя Петр Артемьевич при этом ехидно улыбнулся, трое Раиных братьев синяк осматривали деловито-профессионально, а Мария Тихоновна построжала.
— Кажную ночь дерутся! — сказала она и опять сунула руки под фартук. — Ты бы их, отец, приструнил, а то чего хорошего, если глаз выхлестнут…
— Была нужда! — ухмыльнулся дядя. — А вот ты бы лучше чай подавала, чем на синяки косоротиться!
После чая Петр Артемьевич на глазах Марии Тихоновны закурил вторую за утро папиросу, неумело выпуская дым из ноздрей, сел прямо и начал осматриваться по сторонам зорко и любопытно. Из конца в конец пробежал глазами всю деревенскую улицу, задержался на колхозной конторе, на школе-семилетке и всем, видимо, остался довольный, так как никакой председательской строгости в нем не появилось. Наоборот, дядя согнал со лба морщины, потрогал себя за подбородок.
— Ну, радуйся, молодой народ, — важно сказал Петр Артемьевич. — Я так смекаю, что за стахановску работу правленье вам выделит овцу… Ешь и веселись.
После этих слов парни опять сделались серьезными, задумчивыми, а тетка Мария Тихоновна, подойдя к столу в первый раз за все это длинное и медленное время, присела на кончик скамейки. Помолчав, она аккуратно вытерла кончики губ фартуком, славно улыбнулась и негромко проговорила:
— Седни девки в больших переживаньях… Во-первых сказать, не знают, чего получше поднадеть, во-вторых сказать, в старину старые старики говорели, что, дескать, кто на Ивана-купалу сердечна дружка поимеет, тот на покрова непременки обженится… Не знаю, правда это или брехня стариковская, но ты, может, Петра Артемьич, им не одну овцу, а двое выделишь. Робята-то ладно на покосах выложились…
— Это можно…
— Ну, вот и выдели двое овец, Петр Артемьич… За ими не пропадет!
Раиной тетке исполнилось пятьдесят три, но у нее на лице была удивительно гладкая и молодая кожа, а под нелепым старушечьим нарядом угадывалось еще сильное и крепкое тело; недавно Рая ходила с тетей в баню и так удивилась, когда увидела Марию Тихоновну голой, что не удержалась и воскликнула: «Теть, а зачем вы носите старушечьи платья?» В ответ на это Мария Тихоновна засмеялась и сказала: «А чего мне казаться? Мой-то знат, что у меня под одеждой имается». И прошла по бане, высоко держа голову, — крутобедрая, с глубокой ложбиной на спине, такая белая и чистокожая, какой бывают только очень молодые девушки…
— Тебе, Раюха, надоть пойтить на гулянье! — сказала тетя, не повертываясь к племяннице. — Только ты сарафан-то не поднадевывай… Я тебе вышиту кофту дам… — И на этих словах обняла племяшку за плечи. — Так ты подешь на гулянье, Раюха?
— Пойду, тетя, — ответила Рая и, толкнув под столом ногу Андрюшки, подмигнула ему тем глазом, который был не виден Марии Тихоновне. — Я буду иметь честь присутствовать на пикнике, который дает мой родной дядя по случаю окончания страды…
Сдерживая смех, Рая поджала губы, надула щеки, так как дядя Петр Артемьевич уже неодобрительно покачал головой; брови у него задрались на лоб, перекосились, а нос сморщился. Однако сразу он ничего не сказал — рот был занят папиросой.
Папироса вообще мешала дяде жить, поэтому он ее досадливо вынул из зубов, осмотрев со всех сторон, как Виталька Сопрыкин оглядывал карасиную кость, опасливо положил на край стола. Только после этого дядя наставительно произнес:
— Совсем непонятно разговариваешь, Раюха… Я-то тебя, конечно, еще понимаю, а вот тетка, поди, ни в зуб ногой… Я ведь верно говорю, мать? Это ить правда, что ты Раюху не понимаешь?
— Дурака!
— То ись как?
— А вот так! Дурака!
— Но ить это оскорбленье!
— Оскорбленье!
— А как ты могешь?
— А могу!
— А ежели шворнем?
— А у его два конца!
— А я обоими!
— Так и я обоими.
— Тебе останов будет?
— Не будет!
— То ись как?
— А вот так!
— Ну, ить у меня сердца не хватат!
— У меня тоже!
— Ну, кто-то должен же первый примолчать?
— Вот ты и молчи!
— Кто?
— Ты!
— Молчать?
— Молчи!
— Ну, молчу!
— Молодца!
Вконец обиженный дядя Петр Артемьевич по-мальчишески швыркнул носом, сердито повернувшись к жене спиной, нечаянно задел за горящую папиросу и уронил ее на свою босую ногу; видевшая все это Рая открыла уже рот, чтобы предупредить дядю, но поздно: он вдруг дернулся, сбивая со стола пустые чашки от чая, схватился руками за ногу, потерял равновесие и повалился спиной на мягкую траву, удивленно, трубно и отчего-то весело гудя:
— Ая-яяяя! Ой, болю-ю-ю-ю-ю!
Сначала, кроме Раи, никто ничего не понял, потом Андрюшка, качаясь, встал из-за стола, прошагав немножко по двору, мешком повалился на землю и принялся так хохотать, что обе лайки — Верный и Угадай — торопливо подошли к нему и начали нюхать оскаленное лицо парня. Тетка Мария Тихоновна медленно-медленно сползала со скамейки на траву. Рая упала грудью на стол, Виталька Сопрыкин хохотал басом, Федор — хриплым дискантом, а вот старший брат Василий не смеялся: воспользовавшись хохотом и паникой, он незаметно поднял с травы злосчастную папиросу и приложился к ней растрескавшимися губами. Сделав одну затяжку, Василий обморочно округлил глаза и тоже начал падать…
Пять папирос убивают лошадь, а Василий был здоров, как молодой конь.
8
В двенадцатом часу дня улымская молодежь под стон гармошек по разным дорогам и тропочкам двигалась на знаменитую Гундобинскую вереть; полчаса назад туда уже уехали две подводы с мясом и другой снедью, проплыла бочка с колодезной водой, на отдельной таратайке пропылил председатель Петр Артемьевич.
На Гундобинскую вереть девчата и парни шли отдельными группками, не перемешиваясь, старательно показывая, что не замечают друг друга. Девушки надели белые вышитые кофты, сохранившиеся в улымских местах издавна, как память о теплой Украине, которая много-много десятилетий назад заселяла нарымские края беглыми крестьянами и ратниками, каторжанами и революционерами. Парни надели темные брюки, заправленные в начищенные до блеска сапоги, на плечах имели рубахи-косоворотки, подпоясанные витыми шнурами. Волосы у парней были расчесаны на пробор, у кудрявых на лоб свешивался кок, похожий на виноградную гроздь.
Рая Колотовкина, тихая и чинная, шла на Гундобинскую вереть с трактористкой Гранькой Оторви да брось. Трактористка держалась руками за концы пестрой косынки, в зубах у нее пошевеливалась длинная травинка, выражение лица было постное, словно ей все равно: идти на гулянье или не идти. На Раю она глядела искоса, бегло и, когда их взгляды встречались, непонятно усмехалась.
Встретились Рая и Гранька на деревенской околице, возле осинового прясла, издалека заметив друг друга, медленно, словно насильственно, сблизились, так как и Гранька шла на вереть одна, и Рая отказалась от сопровождения братьев. Стайки девчат, конечно, с Раей и Гранькой здоровались вежливо и почтительно, кланялись им низко, но с собой прогуляться не приглашали — то ли боялись, что трактористка и племянница председателя погнушаются их компанией, то ли сами не хотели их. Таким образом, Рая и Гранька Оторви да брось сошлись на узкой тропке сразу за воротами околицы, пошли вместе, молчаливые и друг для друга загадочные.
Гундобинская вереть находилась примерно в километре от Кети, посередине сияло блюдцем голубое и круглое озеро Чирочье; берега обросли камышом с коричневыми набалдашниками, а по обе стороны Гундобинской верети грядками тянулись березовые колки, за ними, синея, поднимались кедрачи; слева верети росли кусты черемухи, малины, шиповника, рябины, калины и дикой акации. Все, что росло в нарымской стороне, росло и на Гундобинской верети; все цветы здесь цвели, все птицы пели, все ручейки журчали.
На берегу Чирочьего озера разостлали громадный брезент, на него положили домотканые половички, четыре костра запылали вдоль пологого берега; стоял уже шалаш из веток для хранения от мух снеди; телеги протыкали голубое небо оглоблями, фыркали стреноженные лошади; пожилые женщины, специально назначенные председателем Петром Артемьевичем, стояли возле четырех костров подбоченившись.
В голубой бездне висело полное солнце, ядовитые болотные туманы еще час назад выползли из ложбинок и летели в небеса, травы шелестели уже сухо, но не было жарко, так как Чирочье озеро изливало прохладу во все стороны — отдавало ночной холодок берегам, небу, траве. Утки безбоязненно летали над озером и садились на темную воду. Куковали в березах меланхоличные кукушки, свистели и верещали птицы попроще, сатанински хохотал в кедрачах потревоженный многолюдством сыч.
Мягкое домотканое полотно кофты, вышитой васильками и ромашками, доверчиво льнуло к плечам Раи, под широкую юбку поддувал ласковый ветер, гладил колени, и ей опять так хорошо было идти по теплой земле, что снова мерещилось: плывет, как в тот звездный длинный вечер. Рая шагала неторопливо, приноравливаясь к спутнице; ноги в белых брезентовых тапочках переставляла бережно.
Модные тапочки Рае дала тетя. Вынув их — совершенно новые — из большого сундука, протянула племяшке, округляя добрые глаза и посмеиваясь, сказала: «Я эту обужку не шибко уважаю, от ее нога сохнет, но ты поднадень, раз все носют…» Младший брат Андрюшка покрыл тапочки густо разведенным зубным порошком, дав им высохнуть, напомнил: «Ты в них поосторожнее, а то зазеленишь!» Рая надела тапочки охотно, хотя раньше в таких ходила только на стадион, а Мария Тихоновна еще раз оглядела племянницу и напутственно махнула рукой:
— Ну, с богом, Раюха!
Оказалось, что для ходьбы по травянистой верети тапочки были хороши: через тонкую резиновую подошву ласково прощупывалась каждая травиночка, каждый теплый бугорок, каждая ямочка; казалось, что идешь по земле босиком. Помня наказ Андрюшки, Рая выбирала местечки поглаже, поспокойнее, и от этого ощущение полета увеличивалось, сердце билось неслышно, ровно и тоже осторожно.
Рая и Гранька до Гундобинской верети добирались долго — и оттого, что не торопились, и оттого, что выбирали специальные тропки для своих тапочек, и оттого, что только приглядывались друг к другу. Сначала девушки обменялись мнениями о погоде, согласились, что день будет теплым, хорошим и безоблачным, потом обе заметили, что народ собирается на гулянье дружно, что председатель Петр Артемьевич молодец — проявил такую щедрость! Разговаривая, девушки медленно сокращали расстояние между собой — сразу за воротами околицы они шли примерно в двух метрах друг от друга, после разговора о погоде разрыв сократили на полметра, обменявшись впечатлениями о щедрости Петра Артемьевича, пошли почти рядом — в полуметре одна от другой. Теперь Рая видела близко крепкое, здоровое и красивое лицо Граньки Оторви да брось, ощущала запах дешевой пудры и озона от недавно выстиранной кофты. Глаза у трактористки были выпуклые и блестящие, подбородок круглый, крепкий, и вся она такая здоровая, что у Раи сами по себе расправлялись плечи и ноги становились сильными. До озера Чирочьего оставалось метров триста, когда Гранька совсем замедлила шаги, еще приблизившись к Рае, нахмурилась для порядка и спросила:
— Ты, говорят, на учебу ладишься? Кем желаешь быть: учительшей или агрономшей?
— Инженером хочу стать, — подумав, ответила Рая и тоже нахмурилась. — Отец всю жизнь мечтал, чтобы я была конструктором…
— Это ж надо! — удивилась Гранька, останавливаясь.
Гранька была коренной улымчанкой, происходила из потомственной чалдонской семьи Мурзиных, но оказалась единственной в деревне женщиной-трактористкой и часто ездила верхом на лошади к загадочному эмтээсовскому начальству, а когда-то почти год жила в райцентре и вернулась оттуда совсем смелой и бойкой. В будние дни Гранька ходила по деревне в замасленном комбинезоне, в сапогах, при окулярах на кожаной фуражке, и через месяц после курсов на одном из собраний, когда Гранька со сцены заявила, что женщина в колхозе — большая сила, рыбак Иннокентий Мурзин, человек мудрый, спокойный и справедливый, сказал: «Ну, не девка, а прямо оторви да брось!» Слова Иннокентия Мурзина в тот же вечер облетели всю деревню, старики и старухи согласно кивали, и трактористку с тех пор прозвали Гранька Оторви да брось…
Сейчас, наедине с Раей, в Граньке ничего залихватского не было, в белой кофте и темной юбке она выглядела обычной деревенской девчонкой, и Рая смотрела на нее ласково.
— Здря ты в инженера идешь! — наконец сказала Гранька, осторожно обходя большую белую кочку. — Совсем здря, вот что я тебе скажу…
Рая удивленно смотрела себе под ноги; то, что казалось белой кочкой, пошевеливалось и трепетало, переливалось и шелестело: тысячи бабочек-капустниц, теснясь так, что нельзя было расправить крылья, облепили небольшой бугорок, и было жутковато оттого, как мелко копошилась непрочная, неразумная жизнь.
— Ско-о-о-лько их! — тоненько протянула Рая и тем же голосом спросила: — Куда же мне идти учиться?
— На учительшу! — ответила Гранька, тоже рассматривая кочку. — Лучшее этого дела нету!
Рая понимающе кивнула. Она уже знала, что за два года до войны в Улыме парни и девчата об учительской работе мечтали как о деле, доступном только избранным. В те времена по всем деревням прошел фильм «Учитель», а сельские учителя-нарымчане вместе с северной надбавкой в те годы получали около четырехсот рублей — баснословно много в деревне, где деньги были в цене. В спальне улымской учительницы Капитолины Алексеевны Жутиковой стояла железная кровать с никелированными шишечками, ее братишка ездил по деревне на велосипеде, сама Жутикова носила шелковые чулки, а под шелковое платье, по слухам, надевала тоже шелковую рубашку. Была у Жутиковой и непонятная вещь — демисезонное пальто; летом в нем жарко, зимой — холодно, для чего эта одежина, неизвестно…
— Пошли, чего стоять! — задумчиво сказала Гранька. — Сколь ни стой, ничего не выстоишь.
Прибрежье Чирочьего озера потихонечку переполнялось шумом и смехом; слева бродили чинно девчата, справа сбивались в отдельные группки парни, столкнувшись головами в кружок, о чем-то тихонечко совещались; на четырех кострах уже бурлило и кипело, дымы взлетали в небо; единственный на деревне баянист Пашка Набоков, в соломенной шляпе, сидя на пне, играл вальс «На сопках Маньчжурии». Возле него стояли несколько парней помоложе, благоговея, следили за Пашкиными пальцами. Среди всех — отдельный — похаживал председатель Петр Артемьевич, покрикивал, огорчался, наводил порядок.
Приблизившись к левой — девчоночьей — стороне, Рая и Гранька пошли совсем медленно, потом, переглянувшись, остановились: девчата исподтишка наблюдали за ними, парни перешептывались, а Раины братья угрожающе сдвинулись, хотя никакой опасности не было.
— Посидим! — предложила Гранька.
Они сели на невысокий теплый бугорок, аккуратно расправив юбки, начали спокойно молчать и улыбаться… Солнце стояло высоко, в голубизне дотлевал голос жаворонка, утки носились над водой с тревожным кряканьем; на одинокой березе, разбитой молнией, нахохлился каменный коршун с горбатой стариковской спиной.
Рая и Гранька сидели теперь совсем близко друг от друга, при желании Рая могла коснуться локтем крутого бедра трактористки и только сейчас заметила, что Гранька Оторви да брось глядит на нее непонятно и длинно, точно так, как, бывало, смотрели на нее старухи, когда Рая шла улымской улицей. Потом Гранька легонько вздохнула, подперев подбородок растопыренными пальцами, сочувственно спросила:
— Ты чего така худюща? Ешь мало или еще что? Вот отчего ты тоща?
— Я вовсе не тоща, Граня! — мягко ответила Рая. — У меня сейчас, кажется, есть даже лишний вес…
— Это как так?
— Обыкновенно. В моем возрасте и при моем росте полагается весить меньше, чем вешу я. — Она тоже вздохнула. — Сейчас я очень много ем!
— Ну и что из этого?
— Из чего?
— Да вот из того, что много ешь?
— Боюсь, что пополнею…
Гранька приподнялась, похлопав длинными ресницами, недоверчиво округлила рот да так и замерла, пораженная:
— Это чего же делается!
Она и предположить не могла, что существует на свете девушка, боящаяся пополнеть, и у Граньки вдруг обидчиво вздрогнула нижняя губа, подбородок сморщился, а глаза сделались строгими.
— Ты мне мозгу-то не крути! — сказала она сердито. — Как это ты боишься пополнеть, когда на парнишонку схожая… — Гранька прищурилась. — А может, ты шуткуешь?
Недалеко от них гуляли девчата, щелкая кедровые орехи, шепчась, то и дело прыскали в загодя приставленные ко рту концы косынок. Они все, как на подбор, были коренастые и полные, округлые и тугие, будто теннисные мячи; девичьи груди едва помещались в широких, по-деревенски крепких лифчиках, плечи были прямы и размашисты, как у парней, руки висели тяжело, длинные и кулакастые. Эти девчата в результате естественного отбора рождались от таких же коренастых и широкоплечих матерей для того, чтобы жать хлеб, скоблить кедровые полы, вынимать из глубоких сусеков кули с мукой, носить в баню охапки березовых тяжелых дров, запрягая лошадь, затягивать тугой гуж, уперевшись ногой в хомут. Это были красивые, здоровые, скромные и веселые девчата довоенной поры. В нарымских колхозах таких девчат было тогда много. За два года до войны они действительно составляли здесь великую силу, так как замужние женщины в те времена домовитыми нарымскими мужиками не допускались до тяжелой мужской работы.
Трактористка Гранька Мурзина по прозвищу Оторви да брось была такой же здоровой, веселой, доброй и простодушной девушкой, как ее односельчанки, поэтому она быстро подобрала нижнюю обиженную губу, решив окончательно, что Рая Колотовкина шутит, охотно и весело засмеялась:
— Ну-у-у, ты шутница, подружка! Это ведь надо же: боюсь пополнеть!.. Ну-у-у, ты меня насмешила!
Смеясь и подрагивая всем своим тугим телом, закрывая рот концом яркой косынки, Гранька хохотала так весело и простодушно, глаза у нее были такие чистые и добрые, что Рая тоже засмеялась и тоже стала закрывать рот концом косынки, которую ей велела надеть тетя Мария Тихоновна.
Когда же смех прошел, Гранька сразу сделалась серьезной, сорвав новую травинку, начала покусывать ее голубоватыми зубами; на Раю она смотрела теперь исподлобья, потом, запечалясь, покивала собственным мыслям.
— В тебе, подружка, видать, жоркости нет, — сказала она бабьим, раздумчивым голосом. — Вот у нас такой же поросенок был. С виду длинненький, ногатенький, породный, а вот не жоркий… Ты ему пойло поставишь — он ополовинит. Ты ему картох с обратом намнешь — обратно ополовинит… Ты ему хлебушка с простоквашей — опять же ополовинит. Вот и бегал по деревне лихо, ровно охотничья собака, ухи болтаются…
Гремя ведрами, подскакивая на кочках, к ним приближалась подвода с белобрысым мальчишкой в кучерах — это везли посуду, стаканы для кваса и сам квас. Телега уж было промчалась мимо Раи и Граньки, но мальчишка вдруг заметил их, туго натянув вожжи, закричал на лошадь басовитым голосом:
— Тпру, холера! Тпру, баламошна!
Остановив лошадь, белобрысый мальчишка снял с головы кепку без козырька, вежливо и степенно поклонился Рае, солидно сказал: «Бывайте здоровехоньки!», сердито закричал на Граньку:
— Сеструха, язви тя в корень. Ты ить кофту-то зазеленишь! Сама стирать-то не стирашь, так чего мать-то будет руки ломать?… Походи, как весь народ, нога у тебя не отсохнет!
Парнишке было лет восемь, глаза и нос у него такие же, как у Граньки. И Рае опять сделалось хорошо, нежно и весело, как было утром во время завтрака; она заботливо посмотрела на братьев, которые уже не шептались, а с невинным видом похаживали вдоль берега, нашла глазами дядю Петра Артемьевича — стоя возле шалаша, он размахивал руками, потом тетю, которая помогала готовить баранину. «Я их люблю! — думала Рая о тете, дяде и двоюродных братьях. — Я их очень люблю!»
— Это мой младшой братан, Гришка, — сказала Гранька о белобрысом парнишке. — Не братан, а холера… Уж такой хозяйственный да заботливый… — И поднялась с земли, чтобы не запачкать праздничную кофту, хранящуюся, наверное, в таком же сундуке, в каком хранила вещи тетя Мария Тихоновна.
А Рая все сидела на земле, вдруг притихшая и грустная… Ее отец комбриг — начальник военного училища — домой приезжал только через день, всеми делами заправляла домработница Даша. Маму Рая не помнила, так как мама погибла на колчаковском фронте через семь месяцев после рождения дочери. Отец второй раз жениться не хотел, он очень любил маму, саратовскую гимназистку, и не раз рассказывал дочери, что мама знала французский язык, латынь, хорошо стреляла из нагана, так как тренировалась вместе с боевиками-анархистами; потом стала большевичкой, встретила Раиного отца и полюбила его…
Группки девчат и парней, стесняясь, уже приближались потихоньку к брезенту; народу было много, а парней больше, чем девчат, и за два года до войны это считалось естественным; старые старики, сиживая на лавочках, толковали, что войне быть обязательно, коли бабы рожают парней чаще, чем девчонок. «Вот, — говорили старые старики и старухи, — перед первой империалистической в деревнях тоже парней было больше супротив девчат, а чем это кончилось — известно. И теперь, при Советской власти, не к ночи будь сказано, из баб опять прут почти что одни мальчишонки: у Бориса Капы парней четверо, у председателя Петра Артемьевича — трое, а у Веденея Мурзина — так и вовсе семеро».
Белея вышитыми кофтами и рубашками, молодые чинно двигались к квадратному брезенту; на них щедро проливало тепло солнце, носились над головами вконец растревоженные утки, и даже горбатый коршун, слетев с разбитой березы, кружился высоко в небе. Рая Колотовкина шла вслед за Гранькой, вглядываясь осторожно в лица парней, чувствовала, как отчего-то беспокойно бьется сердце под теткиной кофточкой. Чаще, чем на других, она посматривала на младшего командира запаса Анатолия Трифонова — рослого, стройного, широкогрудого, с бровями, сросшимися на переносице.
— Сбирайся, сбирайся, народ! — покрикивала самая главная повариха, колотя уполовником в пустое ведро. — Садись, садись, молодой народ!
9
Позади уже была короткая и забавная речь председателя Петра Артемьевича, призвавшего молодых колхозников «четверить» и «пятерить успехи в самоотверженном труде», окончил речь дед Крылов, заговоривший неожиданно о том, что жатка — это тебе не лобогрейка, а лобогрейка — это тебе не жатка, так как «между ими така же разница, как между петухом и скворешней», уже самые удалые из парней и девчат съели мясо из алюминиевых чашек и подумывали о добавке, а за брезентом по-прежнему было тихо, как в дисциплинированном классе, — молодые колхозники речи слушали охотно, но сами молчали легко и весело, словно Петр Артемьевич и не призывал «поиметь слово от самого молодого народу, какой и является самоотверженным тружеником». Никто из молодых колхозников руку не поднимал, говорить не собирался.
— Это что же делается, молодой народ! — наконец обиделся Петр Артемьевич и поглядел жалобно на глуховатого деда Крылова. — Какое же соопченье я дам в исполком, когда съедены две овцы, а голоса молодого народу, который овец поедат, не слыхать… Протокола-то ведь надо писать!
Звон ложек сразу сильно поубавился, движения рук замедлялись, а лица молодых колхозников медленно, словно подсолнухи к солнцу, повернулись в сторону трактористки Граньки Оторви да брось и младшего командира запаса Анатолия Трифонова; при этом все девчата повернулись к Анатолию, а парни — к Граньке. И наступила тишина.
— Давай бери слово, молодой народ! — обрадовался Пётр Артемьевич. — Ежели нам два выступленья поиметь, то этого на обоих овец хватит…
От озера Чирочьего поддувал легкий свежий ветер, камыши поматывали коричневыми головками, утки снова начали садиться на тихую воду; опять сидел на разбитой березе коршун и задумчиво глядел вниз, теперь похожий не на старика, а на озабоченную старуху.
— Натольке надоть речу дожать! — решительно сказал старый старик дед Крылов. — Танка — это тебе не трактор, а трактор — это тебе не танка!
Анатолий Трифонов энергично поднялся с брезента, будучи, как и все, в белой рубахе, расправил ее под витым поясом, словно гимнастерку, прокашлявшись и порозовев скулами, осмотрел молодежь строгим взглядом. Он был заметно красив — широкий в плечах, тонкий в талии, светлоглазый, матоволицый, такой здоровый, что румянец лежал на щеках как бы отдельными пятнами.
— Товарищи! — воскликнул он и сделал паузу, наблюдательно огляделся, точно командир на поле боя. — Что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы имеем ударный труд на благо любимой матери-Родины, какую будем защищать до остатней капли крови, используя танки как на равнинной местности, так и на пересеченной… Кто, товарищи, трудится ударно? — спросил младший командир запаса и вынул из кармана бумажку. — Ударно трудятся товарищи, перечисляя по порядку, такие, как Николай Сопрыкин, Артемий Мурзин, Василий Мурзин, Семен Колотовкин, Антон Мурзин, Григорий Мурзин, Василий Колотовкин, Федор Колотовкин, Андрей Колотовкин, который находится при школьных каникулах, Зиновий Мурзин, Василий Петрович Мурзин…
И пошло такое длинное перечисление Колотовкиных, Мурзиных, Сопрыкиных, что голос оратора с каждой секундой увядал, а слушатели заскучали, так как Анатолию Трифонову предстояло перечислить всех присутствующих здесь молодых колхозников, исключая одного… За два года до войны в Улыме в колхозе имени Ленина почти не было плохо работающих парней и девчат: здесь все дружно и рано выходили на колхозное поле, трудились дотемна, работали весело, легко и охотно. Улымские парни и девчата унаследовали от отцов и прадедов хлеборобскую жилку и на неласковой нарымской земле выращивали отменные урожаи.
— Отличные результаты в самоотверженном труде имеют также товарищи Петр Ямщиков, Геннадий Ямщиков и Амос Ямщиков! — наконец закончил огромный список Анатолий Трифонов и повеселел. — Отстающий, товарищи, в колхозе имеется в наличности один. Это, товарищи, присутствующий на данном собрании Леонид Мурзин, который пополняет ряды лентяев, в стенной газете продолжает ехать на черепахе, которая ель-чуть ползет. Ему, товарищи, позор!
После этого молодые колхозники повернулись туда, где не на брезенте, а в двух метрах от него, на голой земле, поджав под себя ноги, сидел лохматый и рыжий Леонид Мурзин, спокойно и неторопливо ел баранину, хотя все остальные во время речей деликатно пережидали, держа ложки на весу. Когда Анатолий Трифонов предал позору лентяя, Леонид Мурзин поднял голову, держа в зубах большой кусок баранины, согласно кивнул и самодовольно улыбнулся; потом продолжал есть, чавкая и наслаждаясь.
— Леониду Мурзину, товарищи, позор и с другой стороны! — вскинув руку, продолжал младший командир запаса. — Ему с той стороны позор, что пьет, товарищи, водку…
За квадратным брезентом стало тихо и тревожно; все молодые колхозники по-прежнему глядели на Леонида Мурзина, а как только Анатолий Трифонов заговорил о водке, глаза у девчат сделались испуганными, парни укоризненно прищурились и поджали губы.
— На славный праздник Первомай Леонид Мурзин укупил в магазине бутылку водки, выпил почти всю, от чего качался, кричал и матерился, — вдруг обыкновенным голосом произнес Анатолий Трифонов. — Опосля же завалился в траву, где и находился до рассвету… За это ему, товарищи, всенародный позор!
Теперь лентяй и пьяница Леонид Мурзин сидел смирно — жевать баранину перестал, самодовольно не улыбался и вообще боялся поднять глаза. Уши и шея у него покраснели.
— Слово хочет поиметь товарищ Мурзина! — воодушевленно закричал Петр Артемьевич.
Гранька Оторви да брось уверенным и почему-то вдруг потончавшим голосом сказала примерно то же самое, что и младший командир; ей дружно поаплодировали и поулыбались, а когда Петр Артемьевич объявил прения закрытыми, снова деловито принялись за баранину с картошкой, квас и пшеничный духмяный хлеб. Сияло солнце над головой, смеялся чему-то в березовом колке разбуженный сыч, в несколько голосов куковали кукушки; телу было тепло от солнца, лицу прохладно от ветра с озера Чирочьего, и действительно было так хорошо, что думалось о счастье. Младший командир запаса Анатолий Трифонов все чаще и чаще поглядывал в сторону Раи, отводя глаза, когда она нечаянно перехватывала его взгляд, нахальноватый Виталька Сопрыкин смотрел на Раю неотрывно по две-три минуты подряд, и лицо у него при этом было таким, точно разгадывал загадку.
Рано позавтракавшая Рая ела охотно, баранина с картошкой была необыкновенно вкусной, когда же миска опустела, она ласково посмотрела на Граньку, которая сразу деловито спросила:
— Тебе тоже добавки? Теть Дусь, две чашки!
И перед Раей мгновенно появилась опять полная чашка картошки с мясом. Рая помедлила, затем решительно вздохнула и принялась есть, подумав как бы случайно: «Надо же набирать мяса!» Эта мысль была такой смешной и неожиданной, что она начала прыскать в чашку.
— Ешь, ешь! — заботливо сказала Гранька. — Не отставай…
Еще через полчаса медленной, обстоятельной и сосредоточенной еды молодые колхозники задвигались, повеселели: ложки стучали разнобойно и лениво, раздавался смех и сытые вздохи — все были довольны, веселы и благодушны. Вот вспорхнули с брезента две стайки девчат, начали перешептываться братья Колотовкины и враждующие с ними сыновья Бориса Капы. Баянист Пашка Набоков неспешно опробовал басы, а самые бойкие из молодых улымчан выбирали уже на берегу озера место поглаже — для танцев.
— Пошагали и мы! — сказала Гранька, поднимаясь с брезента, и опять заботливо оглядела Раю. — Ты вот сиживать-то не умешь на брезенте: всю юбку помяла. Ее бы надо вкруг ног обстелить. Дай-ка я юбку-то оглажу.
С добрым и встревоженным лицом Гранька разобрала складки темной Раиной юбки, пропустила сквозь пальцы измятые, потом, прищурившись, выровняла юбку на тонкой талии своей новой подружки, отойдя два шага назад, удовлетворенно покачала головой. После этого с тем же деловитым и добрым лицом Гранька крепко взяла Раю под ручку, прижавшись к ней тесно, повела вслед за девчатами на утоптанный пятачок земли, и Рая на ходу уже заметила, что все девчата теперь ходили тоже парами, тесно прижимаясь друг к другу, а парни, наоборот, собрались в одну большую группу, причем каждый подбоченился, отставил вперед прямую ногу, голову задрал, глаза — в чистое небо. Все это, наверное, объяснялось тем, что парней было значительно больше, чем девчат.
— На первый танец выходить не будем! — шепнула Гранька Оторви да брось. — На парней не гляди, ровно их и нету. А то подумают, что зовешь.
У Граньки было жаркое, каменное плечо, пахло от нее молоком, здоровьем и одеколоном «Ландыш»; щека, обращенная к Рае, была покрыта тонким персиковым пушком и от этого казалась детской; волосы у Граньки Оторви да брось были такими густыми, что прядь, упавшая нечаянно на плечо Раи, казалась литой. Рая тоже прижималась к Граньке плечом, тоже говорила шепотом:
— Почему не будем танцевать первый танец, а, Граня?
— Порядок такой.
Взяв еще несколько басовитых аккордов, баянист Пашка Набоков — тонкий, худой, маленький — кособоко проследовал от брезента к пятачку утоптанной земли, раздумчиво постояв, показал свободной рукой в землю; на это место услужливые руки немедленно поставили специальную табуретку, привезенную на последней подводе. Услужливые руки принадлежали Пашкиной любви — толстенькой и всегда веселой, как воробей, доярке Верке Мурзиной. В тот миг, когда Верка подставляла Пашке табуретку, взгляд у нее был набожно опущен, рот округлился, дышать она не решалась, так как ни учителя, ни трактористы не могли даже мечтать о такой славе, какой пользовались за два года до войны в нарымских деревнях гармонисты. А Пашка Набоков был баянистом, и Рая часто видела, как за ним молча, страдательно ходили по деревне мальчишки и девчонки, как при его появлении приподнимали тощие зады со скамеек самые древние старики, как туманно смотрели на Пашку Набокова все улымскне девчата, а парни даже не завидовали ему, как не могли, скажем, завидовать летчикам из фильма «Истребители» — те жили, конечно, на небе, а на землю спускались только для того, чтобы играть на пианино да жениться на красавицах.
Удобно расположившись на табуретке, Пашка Набоков поставил баян на колени и, строго посмотрев на озеро Чирочье, вдруг рванул мехи баяна с такой силой, что Рая зажмурилась, ожидая чего-то оглушительного, но баян неожиданно тихо и нежно заиграл модное в то время танго «Утомленное солнце нежно с морем прощалось…». Гранька Оторви да брось сразу же пригорюнилась, опустив голову, теснее прежнего прижалась к своей новой подружке, как бы приглашая ее переживать вместе. «Утомленное солнце нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви…» — выговаривал Пашкин баян и звучал хорошо, так как баянист был парнем талантливым — со слухом и вкусом; он сделался бы настоящим музыкантом, если бы знал, что на белом свете существуют ноты. «Утомленное солнце» он только один раз услышал в райцентре, но играл почти без ошибок, страстно и очень печально.
Пашка Набоков играл, парни и девчата сосредоточенно слушали его, но не танцевали: считалось нескромным с первого танца выходить на круг, а когда танго благополучно кончилось, Пашка что-то небрежным шепотом сказал стоящей за его спиной Верке Мурзиной, та в ответ радостно кивнула, и Пашка заиграл знаменитый за два года до войны в нарымских деревнях фокстрот «На рыбалке, у реки, тянут сети рыбаки…». Второй танец полагалось танцевать, и дело теперь было за тем, кто решится выйти на круг первым. Поэтому лица парней и девчат, как во время застольных речей, снова обратились к Граньке Оторви да брось и командиру запаса Анатолию Трифонову: они обычно открывали танцы.
Наступила тишина, в которой Пашкин баян звучал облегченно и чисто; старый коршун на березе беспокойно возился, теряя равновесие, помогал себе крыльями, а Гранька Оторви да брось дышала тяжело, и нижняя губа у нее тряслась. Наконец она решилась, хотя щеки побледнели.
— Пошли! — отчаянно шепнула Гранька и, грубо схватив Раю за локоть, потащила на круг, хотя Рая не сопротивлялась. — Пошли, пошли!..
У Граньки сейчас был такой вид, точно она бросалась в холодную воду с крутого яра, рука, обнимающая Раю, вздрагивала, губы она стиснула судорожно — так ей было трудно поддерживать репутацию отчаянной девчонки по прозвищу Оторви да брось. От страха она зажмурилась и поэтому не заметила, как девчата, глядя на нее, тонко, насмешливо и незаметно улыбались, а парни сделали вид, что ничего не замечают.
— Не боись, не боись! — шептала Гранька своей новой подружке. — Я тебя поведу, ты легкая…
Выдержав паузу, чтобы включиться в музыку, Гранька вдруг работяще ощерила зубы и быстро-быстро побежала по утрамбованной земле, высоко над головой держа руку Раи; затем резко, словно налетела на препятствие, остановилась и начала вращать Раю так быстро, что подружка как бы вспархивала в ее могучих руках.
Танцевала Гранька с таким сосредоточенным, суровым и деловитым лицом, с каким, наверное, заводила свой трактор, косила траву или копала картошку, но Рае от этого стыдно не стало, а, наоборот, она пожалела подружку.
— Ты не торопись! — шепнула Рая. — Ты хорошо танцуешь.
Скоро на круг вышли почти все девчата, танцевали они почему-то только друг с другом, а парни стояли в прежних позах, то есть подбоченившись и глядя в небо. Когда же фокстрот «На рыбалке, у реки» кончился, Рая по лицу своей новой подружки поняла, что наступил решительный момент: в следующем танце должны были выйти на круг парни.
Конечно, за два года до войны в Улыме парней было больше, чем девчат, казалось бы, выбирай, какого хочешь, но такое великое изобретение, как дамский вальс, когда девушки приглашают партнеров, еще не было сделано; нарымские девчата еще славились скромностью и послушанием, и родственники Раи Колотовкиной уже начали переживать за племяшку и сестру. Дядя Петр Артемьевич и тетя Мария Тихоновна, волнуясь, сидели на телеге, братья Раи исподтишка, но грозно посматривали на парней.
И вот началось! Пашка Набоков, посоветовавшись с Веркой Мурзиной, заиграл вальс «Дунайские волны», наступила стеснительная пауза, а потом все снова дружно повернулись к младшему командиру запаса Анатолию Трифонову. Он стоял спокойно, выдержанно, а как только молодые колхозники повернулись к нему, одернул, словно гимнастерку, рубаху и твердым шагом, глядя перед собой, пошел через пятачок утоптанной земли к Вальке Капе, которая уже, торопясь и нервничая, делала такое лицо, будто не видит приближающегося Анатолия, а, наоборот, увлечена своей некрасивой подружкой. При этом раскрасавица Валька Капа, пригибаясь к подружке, старалась выставить крутое бедро, а зубами покусывала губы, чтобы раскраснелись и напухли.
— Разрешите пригласить на танец! — громче, чем требовалось, сказал Анатолий и поклонился. — Просим прощения у вашей подружки.
Валька лениво, как бы просыпаясь, оторвалась от подружки, рассеянно посмотрев на Анатолия, пожала круглыми плечами.
— Пжалуста! — процедила она. — С нашим удовольствием!
Словно делая одолжение, Валька положила белую руку на плечо Анатолия, и они с места начали быстро кружиться. Анатолий обеими руками держал Вальку за талию, и ее широкая складчатая юбка раздулась, обнажив далеко голые ноги, покрытые ровным загаром. У Вальки Капы было все, что позволяло по улымским понятиям считаться красивой: высокий рост, широкие плечи, большая грудь, одинаково полные от колена до щиколотки ноги и могучие бедра; лицо у нее белое, на щеках два розовых пятна, брови соболиные, зубы крепкие, а рот был такой маленький, что походил на бантик.
Когда Анатолий и Валька закружились и у девушки наконец-то мелькнула на лице сладостная, победительная улыбка, Гранька Оторви да брось передернула плечами, ненавистно стиснув зубы, отвернулась от танцующих, и Рая сразу все поняла. «Вот оно что!» — подумала Рая и тоже отвернулась, хотя была секунда, когда ей показалось, что младший командир запаса хочет пригласить ее, — это было в тот миг, когда он обдергивал вышитую рубашку.
Потом в толпе парней опять послышался шум движения — это пошел приглашать партнершу Виталька Сопрыкин, который, оказывается, двигался прямехонько к Феньке Мурзиной, стоящей рядом с Раей и Гранькой, и на вид скромная Фенька Мурзина повела себя точно так же, как Валька Капа, — кокетничала и не замечала Витальку.
— Разрешите вас пригласить! — вежливо сказал он.
— Ах, поимейте удовольствие! — сухо ответила Фенька.
И как раз в тот момент на правом краю утрамбованной площадки раздались громкий смех и восклицания. Парни охотно разорвали плотную шеренгу, и вперед вышел преданный всенародно позору в речи Анатолия Трифонова лодырь и пьяница Ленька Мурзин — лохматый рыжий увалень с удивленно растаращенными глазами. Косолапый и потешный, он деловито осмотрелся, не обращая ни на кого внимания, словно был на площадке один, начал вразвалочку пересекать круг. Глаза у него были тоже рыжие, брюшко выпуклое, а руки длиннющие, как у обезьяны.
— К нам идет! — вдруг испуганно шепнула Гранька. — Ой, отвернись, отвернись, Раюха!
Ленька Мурзин действительно смотрел только на Раю, шел только к ней и был таким потешным, лохматым, растаращенным и симпатичным, что Рая заулыбалась и невольно для себя сделала короткий шаг навстречу Леньке, отпустив для этого руку Граньки. Однако в ту же секунду подружка потянула Раю назад, испуганно шепча:
— Откажись! Откажись!
Заклейменный лентяй и пьяница, как и все парни, был одет в вышитую рубашку-косоворотку, сапоги блестели и поскрипывали. Вблизи его лицо казалось еще более потешным, даже привлекательным — широкое, безмятежно-ленивое, доброе до последней складочки.
— Бывай здорова, Раюха! — еще на ходу ласково проговорил бархатным голосом Ленька Мурзин и улыбнулся хорошо. — Разрешите вас пригласить?
Снова засмеявшись, Рая высвободилась из горячих Гранькиных рук, чувствуя, как хорошо и весело живется людям на берегу Чирочьего озера, как дует ей в лицо счастливый молодой ветер и как добр рыжий увалень, открытым движением протянула к Леньке руки:
— Пожалуйста!
Но с Ленькой Мурзиным вдруг что-то произошло: он перестал улыбаться и ласково светиться, попятился от Раи и болезненно сморщился. Потом Рая перестала видеть Леньку: между ней и лохматым парнем появилось трое Раиных братьев; разделив их, начали молча глядеть на Леньку Мурзина, хмуря сросшиеся брови и напружинивая квадратные губы; глаза у них были холодные, жесткие, и только младший брат, Андрюшка, легкомысленно улыбался, но от этого казался совсем страшным. А Ленька Мурзин продолжал пятиться и делал это до тех пор, пока старший брат Василий не положил ему на плечо тяжелую руку.
— Ты чего же, Ленька, — угрюмо спросил он, — ты чего же, зараза, нашу сеструху позоришь?
— А чего я? Чего? — быстро и боязливо заговорил Ленька. — Чего вы на меня так поглядаете, когда я по-хорошему? В чем я виноватый, ежели со мной другие девки танцевать не соглашаются…
Он запнулся и замолк, тяжело дыша… С кряканьем поднимались с озера шустрые утки, два жаворонка тянули торжествующую трель в голубизне пустынного неба; уже струилось от земли кружевное марево, а кукушки все считали и считали длинные года для всех, кто был на берегу.
— Я невиноватый! — отчаянно крикнул Ленька Мурзин. — Я вашей сеструхе уваженье хотел сделать, раз с ней никто танцевать не будет… Стерлядка — кто ее пригласит! А мне она нравится!
Братья Колотовкины по-прежнему грозно молчали, баянист Пашка Набоков вальс «Дунайские волны» играл как можно громче, дядя Петр Артемьевич и тетя Мария Тихоновна страдали за племяшку на телеге, подружка Гранька стояла ни жива ни мертва, и даже раскрасавица Валька Капа не улыбалась торжествующе; все примолкло, кроме баяна, на Гундобинской верети. И Ленька Мурзин низко опустил голову, побледнев и осунувшись, сначала спиной, а потом боком-боком двинулся прочь от площадки.
— Леня! — жалобно крикнула Рая. — Подожди!
Ленька Мурзин, конечно, не остановился, и тогда братья Колотовкины — плечом к плечу, одинакового роста, тяжелые, как движущийся трактор, — медленной, но бесконечно терпеливой походкой двинулись вслед за ним. Это была такая походка, какой ходят пахари за плугом, — идут да идут до тех пор, пока вся земля не покроется гребешками жирной паханины. Братьям некуда было торопиться, Леньке Мурзину невозможно было уйти от них далеко, и трое Колотовкиных вышагивали тихохонько.
— Дядя! — тонко и страшно крикнула Рая. — Дядя, останови их!
Помедлив, тяжело вздохнув, дядя Петр Артемьевич поднял седую опозоренную голову, переглянувшись с тетей, не сразу отозвался на призыв племяшки.
— Вернитесь! — наконец приказал он сыновьям.
Улымские крестьяне за два года до войны считали последним человеком того, кто плохо работал и пил водку, стеснялись его, как позорной болезни, сторонились, словно от прокаженного, и жизнь лентяя, выпившего к тому же на Первомай почти бутылку водки, была очень тяжелой.
— Вернитесь!
Братья остановились. За два года до войны в нарымских деревнях отцов слушались.
10
Так Рая Колотовкина начала жить странной — обособленной и замкнутой в самой себе — жизнью, хотя внешне все обстояло прекрасно. Улымские жители всегда охотно, весело и уважительно здоровались с ней, все говорили о председателевой племяннице только хорошее, ее любили за образованость, ум и вежливость, но вот на гульбищах-товарочках, которые в будни собирались вечером под старым осокорем, Рае было плохо.
На товарочку Рая приходила под ручку с подружкой Гранькой Оторви да брось; они скромно становились в стороне, вели себя просто, как другие девчата, но происходило обычное: ни Раю, ни Граньку парни не приглашали, и тогда они танцевали вдвоем, старательно делая вид, что им на все наплевать. Они задирали носы и гордо усмехались, однако глаза у них были печальные.
В пятницу Рая и Гранька на товарочку решили не идти, а, посовещавшись печальным шепотом, отправились гулять по длинной улымской улице. Двигались они, как в день знакомства, в двух метрах друг от друга, глядя в землю, не разговаривали.
В этот вечер над Улымом полетывали гривастые темные облака, луна то пряталась за них, то вновь являлась потемневшей земле. Ветра, однако, не было, стояла такая тревожная и влажная духота, что кожа на лице горела, и, видимо, поэтому на скамейках было мало стариков и старух, ребятишки давно угомонились, и в деревне стало пусто, одиноко, нежило. Когда выныривала луна, дорога блестела, делалась похожей на реку, а река, наоборот, казалась похожей на корявую, раскисшую дорогу. Тревожно и длинно лаяли собаки; лай был визгливым, испуганным, а рыбацкий костер за Кетью лишь чадил, подмигивая.
Рая согбенно шагала по левой стороне дороги, Гранька — по правой; они по-прежнему глядели себе под ноги и видели одно и то же — как медленно менялись местами модные белые тапочки, смазанные зубным порошком. Каждая думала о своем…
Рая, например, удивлялась тому, что целых три дня не притрагивалась к учебникам: ей не хотелось брать в руки тяжелые и толстые книги, открывать серые страницы; потом она думала о том, что не понимает саму себя — ей и хотелось и не хотелось танцевать; ей нравился Анатолий Трифонов, но она могла представить себя гуляющей и с Виталькой Сопрыкиным; еще минут пять спустя Рая укоряла себя за то, что думает только о танцах, прогулках и кавалерах. «Какая-то я суетная, беспокойная!» — думала Рая и действительно чувствовала суетность, беспокойство.
Гранька Оторви да брось тоже думала о разной разности. И, между прочим, о том, что Анатолий Трифонов — глупый человек, если не понимает, кто такая Валька Капа. Работает она, конечно, споро, только к работе относится как-то без души, и коровы у нее не такие веселые, как у других доярок. «Коровы, они все чувствовать могут! — думала Гранька. И усмехалась: — Коровы знают, какой ты человек, Валька Капа… Их вкруг пальца не обведешь!»
Шли девушки бесцельно, куда глаза глядят, торопиться не торопились, разговаривать не разговаривали, жили друг от друга отдельно и сами не заметили, как забрели за околицу. Здесь росло несколько огромных кедров, под ногами пошумливала трава, а меж деревьями белела сосновая лавочка, неизвестно когда и кем врытая в песчаную землю. На лавочку присаживались усталые путники, чтобы войти в Улым на отдохнувших ногах; на ней любили сидеть улымчане, когда хотели секретно пошептаться — до деревни с полкилометра, кедры приглушают голос, до реки — рукой подать.
— Посидим, Раюха!
— Посидим!
Душно пахло кедровой смолой и земляной прелью, облака сбивались в рыхлые тучи, помаргивали на Кети два бакена — желто-красный и зеленый; была настоящая нарымская ночь — глуховатая, тревожная от таежной тишины. Донькала в ельнике одинокая ночная птица, река поблескивала затаенно, маслено, словно не вода текла под яром, а тяжелый мазут; над деревней в разрыве облаков таращилась большая звезда, такая же усатая и красная, как бакен. Трава по-степному шелестела, хотя ветра не чувствовалось.
— Ни седни, ни завтра дожжа не будет! — задумчиво сказала Гранька Оторви да брось, поглядывая на небо и прислушиваясь к плеску речной волны. — Дожжь, смекаю, послезавтра припустит… Мелок будет, как туман… Ничего хуже этого нет!
Проговорив все это, Гранька подняла голову, усмехнувшись, поглядела на усатую красную звезду. Профиль у трактористки действительно был энергичный, движения она делала порывистые, в развороте плеч читалась лихость. Секунду она сидела неподвижно, потом по-мужичьи смачно плюнула себе под ноги, растерев тапочкой плевок, вдруг подмигнула Рае, обняла жаркой рукой за шею.
— Не печалься, подружка! — весело сказала Гранька. — Будет и на нашей улке праздник! Седни наши дела, конечно, как сажа бела, но придет и нашенска пора… Не горюй!
И они крепко, по-деревенски, по-бабьи обнялись, начали покачиваться из стороны в сторону, словно баюкали друг друга; голова Раи лежала на плече Граньки. Трактористка обнимала Раю за плечи. Рая обнимала Граньку за талию, и обеим уже казалось, что все хорошо в этом мире, где на околице деревни есть старая скамья, где живут могучие кедры, течет темная Кеть; ничего плохого не могло происходить там, где дождь должен был пойти только через два дня, где в глухую и тревожную ночь донькала маленькая пичуга, ничего не боясь, ничего не признавая, кроме того, что жизнь продолжается, что скоро выведутся желтые пухлые птенцы, которые тоже будут донькать глухой ночью. Все должно было образоваться, все хорошо было в этом мире, где девушки сидели обнявшись, где люди понимали друг друга и жалели и еще два года оставалось до большой и самой страшной войны на родной земле.
— Меня мой характер сничтожил, — тихо и добродушно сказала Гранька. — Я с малолетства была бойка да языкаста, все с парнишонками игрывала да на рыбаловку бегала… Вот и выросла така, что меня на тракторны курсы выделили… — Она взглянула Рае в глаза, усмехнулась. — С курсов-то все и началось. Бабы в деревне стали говорить, что Гранька-то ни мужик, ни баба, а так себе — оторви да брось…
Гранька опять усмехнулась, повела плечом.
— А чего им так не говорить, ежели я при мужичьих штанах хожу, с мужиками возжаюся, по-мужичьи матерюся… Мне без этого, подружка, не обойтись, а бабы напраслину прут: «Гранька при одном мужике жить не пожелаит!..» Вот и горю я белым пламенем, подруженька ты моя сердечная, лапонька ты моя горькая!
Тишина сгущалась, струилась маревом, замолкла отчего-то ночная пичуга, и сделалось слышным, как под молодыми осокорями тревожно-сладко вздыхает баян Пашки Набокова; приглушенная расстоянием музыка была печальна и недосягаема, сердце от нее заходилось тоской, и думалось о том, что младший командир запаса танцует с Валькой Капой, а Виталька Сопрыкин сверху вниз томно глядит на Феньку Мурзину, а она, танцуя, как бы нечаянно прижимается к нему.
— А ты за свою худость страдаешь, подружка! — ласково и нежно сказала Гранька. — Красивей тебя с лица я девки не знаю, но вот надоть тебе мясов набрать…
Они по-прежнему качались из стороны в сторону, сидели, тесно обнявшись, были нежны друг к другу, и Рая засмеялась, посмотрев в ярко освещенное луной лицо подружки.
В разрыве косматых облаков, оказывается, сияла красным светом та самая звезда, которая ранним утром была видна с сеновала. Сейчас эта Раина знакомая была крупной и зловеще-красной, но все равно красива и одинока в своей обособленности; звезда висела прямо над головой Раи, и хотелось думать, что утром она опять заглянет на сеновал уже зеленым глазом, колыхаясь, кольнет в самое сердце утренней свежестью, здоровьем, погожим днем, который нескончаем. Неизвестно отчего Рая сладостно вздохнула, еще теснее прижавшись плечом к жаркой подружке, прошептала.
— Тебе нравится Анатолий? Не скрывай, нравится!
— Я его, поди, люблю! — просто ответила Гранька и потерлась щекой о Раино плечо. — У него ко мне тоже интерес, но он своего отца Амоса Лукьяныча пуще огня опасается… Амос-то Лукьяныч такой умный да рассудительный, такой добрый да работящий на семью, что Натолька-то его шибко уважат и слушатся… А как не слушаться такого отца? Кажный бы слушался… Ну а Амос-то Лукьяныч не хочет, чтобы Натолька со мной гулял…
В ее голосе не чувствовалось ни раздражения, ни печали; Гранька говорила о себе самой как о посторонней, и в этом было столько мудрого всепрощения и крестьянской терпеливости, что Рая замерла, притаилась. В теплом и густом воздухе усыпляюще жужжали комары, кусались больно, но Рая привыкла к комарам точно так, как к белым тапочкам, раннему вставанию, обильным завтракам; ей было жалко подружку, казался злым самодуром отец Анатолия Трифонова, а сам младший командир запаса представлялся глупым человеком, если мог из-за дурацких сплетен не любить такую девушку, как Гранька.
— Не нравится мне Валька Капа! — с кривой усмешкой сказала Рая. — Она, по-моему, хитрющая да ловкая… Как она тогда кокетничала, когда Анатолий пригласил ее на вальс «Дунайские волны»! Подумаешь, цаца! И голос у нее противный…
— Одна беда — красивая! — со вздохом откликнулась Гранька. — И нога под ней полная, и в теле она, и при белом лице… Вот у меня никак не хватает терпенья морду-то от солнца поберечь! А Валька, хоть ты лопни, на улку без платка не выйдет… Ты вот тоже дурака, Раюха! Зачем лицо от солнца не поостерегешь?
— Я загар люблю, Граня.
— А чего в нем хорошего! То ли дело, когда лицо белое, на щеке — румянчик, да еще печной сажей вроде мушку посадишь… Как у Вальки! Это она заслонку из русской печки вынет, палочкой сажу сосберет — и вот тебе мушка! — Гранька вздохнула. — А рубахи у Вальки кружевны… Она сама кружева вяжет, а у меня на это дело терпежу не хватат…
— Но ведь она противная, эта Валька Капа! — сердито сказала Рая, вспомнив, как во время танца из-под юбки Вальки проглядывал кружевной подол рубахи. — Грубая и нос задирает!
— А как ты нос не задерешь, если с тобой Натолий Трифоновский гулят?… — ответила Гранька и ойкнула: — Ой, ты даже и не знашь, Раюха, какой он культурный!
Гранька Оторви да брось сняла руки с плеч Раи, широко открыв глаза, посмотрела на нее как бы испуганно.
— Ой, какой он культурный — это страсть! — взволнованно повторила она. — Вот как с тобой потанцует, так сразу говорит «спасибо!», за ручку берет и на то место отводит, где взял… И вот еще что быват… — Тут Гранька приблизила губы к самому уху Раи, пронзенная удивлением, жарко зашептала: — Вот что еще быват — это ты не поверишь, Раюха! Он до того культурный, что целоваться разрешенья просит.
— Неужели?
— Ей-бо! Папироску, это, бросит, помолчит и спрашиват: «Дозвольте вас поцеловать?»
— А ты что?
— Нельзя, говорю, если вы с Валькой Капой гуляете! А он говорит: «Простите, если что не так. Большого вам досвиданьица!»
— Так и не поцеловались?
— Не!
— Ну и правильно! — решительно сказала Рая. — Уж пусть он решает — или ты, или Валька… Ишь какой хитренький! Хочет двух целовать…
— Он не хитренький, он запутался, — после паузы ответила Гранька. — Ведь ему Амос Лукьяныч и с Валькой гулять не разрешат.
— Почему?
— Кулачка! Как же Амос Лукьяныч разрешит ему на Вальке жениться, если сам партизан?… Вот как все получатся, Раюха! А тебе-то кто нравится? Слыхать было, что Виталька Сопрыкинский к тебе интерес поимел…
А луна между тем висела высоко, очищенная на несколько минут от туч, сияла ярко и упрямо, словно хотела наверстать упущенное, собаки лаяли дружно, повизгивал трусливый щенок, томно ржала недавно ожеребившаяся кобылица Весна, и голос ее был могуч. Тяжелая темная вода в реке не двигалась, реку как бы навечно пересекал зубчатый отблеск луны.
— Спать надоть, подружка! — легко вздыхая, сказала Гранька. — Мне утресь на тракторишку: картохи начинам окучивать… Айда спать, подружка моя славненька! Вон и у тебя глаза-то сами закрываются!
Не разнимая рук, они поднялись со скамейки, пошли по лунной улице вдоль всей деревни и темной Кети. И Рая опять была счастлива тем счастьем, которое дают человеку здоровье, молодость, дружба. Попрощавшись с подружкой, она, спотыкаясь, подошла к своей калитке, увидев в темноте Верного и Угадая, укоризненно покачала головой.
— Спали бы, черти! — сказала она, зевая и не находя пальцами вертушку калитки. — Спали бы, а то все ходят да ходят, словно им делать нечего… Ну, чего всполошились-то?
Боясь разбудить тетю и дядю, Рая пошла по мягкой траве на цыпочках, старалась дышать тихо и сама на себя зашикала, когда под ногами заскрипели доски крыльца, но вдруг остановилась: кто-то сидел на верхней ступеньке:
— Дядя?
— Я, Раюх! — откликнулся Петр Артемьевич. — Ты чего так рано прибежавши? Ребят-то еще не слыхать…
— Спать захотела.
Рая сонно плюхнулась на верхнюю ступеньку крыльца, посмотрела на дядю, увидела, что он не переодевался — был в сапогах и хлопчатобумажном пиджаке, в старенькой кепке с потрепанным козырьком. Рая заметила, как устал дядя, какое у него морщинистое и серое от пыли лицо, никлые плечи.
— Я с тобой, племяшка, хочу сурьезный разговор поиметь! — торжественно сказал он. — Ты почто это три дня книгу в руки не берешь? Это как так? — Дядя строго покашлял и помахал под носом у племяшки согнутым пальцем. — Я такого дела не допущу, чтоб ты инженершей не стала! Миколай мне старший брат, я его изо всех силов уважаю, его воля — мне закон! Если братко хотел, чтобы ты была инженершей — значит, ты ей и будешь… Ну-к, отвечай, така-сяка, что с тобой деется?… Да ты не улыбайся, не морщь нижнюю-то губу — я тебе за отца! Давай-ка отчет родному дядю…
11
Дождь пошел, как и предсказывала Гранька, на третий день, и действительно оказался мелким и нудным, похожим на осенний туман. Вечером окна клуба горько плакали дождевыми слезами, весь мир был холодным и неприютным, как нетопленая баня. Знаменитого баяниста Пашку Набокова увезли на свадьбу в Канерово, патефон сломался, на гармони Виталька Сопрыкин играл только «Катюшу» да «Трех танкистов». Девчата попробовали под Виталькину гармошку спеть, раза три начинали про то, что «на границе тучи ходят хмуро», но ничего не получилось.
Часам к десяти в клубе скучало человек пятнадцать, не больше; возле одной стены сидели парни, напротив — девчата. Щелкали кедровые орехи, зевали в кулаки и друг другом не интересовались — идти все равно некуда, везде дождь и слякоть! По стариковским прогнозам, дождь собирался жить до субботы, прополку и окучивание картошки приостановили, трактора вязли в черноземе — плохо все, ох как плохо!
Рая Колотовкина и Гранька Оторви да брось посиживали за крохотной сценой, в маленьком закутке, называемом «гримировочной», — здесь шла репетиция пьесы Чехова «Предложение». Постановкой руководила учительница Капитолина Алексеевна Жутикова, одетая по случаю дождя в тяжелое шелковое платье, такое темное, что казалось серым; на спине учительницы чугунной цепью лежала толстая коса, во рту блестел золотой зуб, на необъятной груди зияла полувершковая брошка-камея, и вообще Капитолина Алексеевна была роскошна, величественна и монументальна, как конная статуя. Досадливо поджимая губы, учительница расхаживала по крохотной комнате и говорила — учила Граньку драматическому искусству.
— Дорогая Граня, — важно и неторопливо выговаривала она. — Дорогая Граня, вы должны понять, как говорится, основное, если можно так сказать, если допустить такое выражение… Ваша героиня, то есть та женщина, которую вы играте на сцене… — Она так и сказала «играте», так как родилась и выросла в Улыме — …та женщина, которую вы играте, думает только об одном: как бы выйти замуж! Вместе с этим, как говорится, эта женщина, которую вы играте, если можно так выразиться, имеет привычку всегда и со всеми спориться…
Вот так говорила учительница Капитолина Алексеевна, а сама искоса посматривала на младшего командира запаса Анатолия Трифонова, стоящего дисциплинированно в противоположном углу. Анатолий в пьесе играл жениха, страстно хватался за сердце, когда спорил о Воловьих лужках, ежесекундно галантно кланялся, закатывал глаза под лоб и щелкал каблуками яловых сапог, но весь чеховский текст произносил на командной армейской ноте, чем смешил Раю до слез, — она глядела в темное окно и закусывала нижнюю губу.
Учительнице Капитолине Алексеевне только-только стукнул двадцать один год, она недавно окончила двухгодичный учительский институт в деревянном городе Пашеве, получив право преподавать русский язык и литературу в пятых — седьмых классах, и вернулась в родной Улым, чтобы сделаться несчастной. Беда была в том, что, имея неполновысшее образование, Капитолина Алексеевна уже не имела права выходить замуж за необразованного парня, а молодых людей с неполновысшим образованием в Улыме не было; возможными женихами для Капитолины Алексеевны являлись деревенские «аристократы» трактористы, из них самым привлекательным был младший командир запаса Анатолий Трифонов, наиболее образованный и понюхавший городской жизни. Поэтому через три дня после возвращения Анатолия из армии по деревне — с крыльца на крыльцо — передавались слова Капитолины Алексеевны, сказавшей под большим секретом своей подруге: «Анатолий Амосович — мой суженый! Ах, это мне судьба улыбнулась, Грушенька!» Подружка учительницы рассказала об этом своей матери, мать тут же — с крыльца — передала новость соседке Сопрыкиной, соседка Сопрыкина, бегавшая к Марии Капе за солью, шепнула про это Марии, которая через минуту рассказала о задумке учительницы тем Колотовкиным, у которых в прошлом году корова объелась вехом, а уж эти Колотовкины принесли слова Капитолины Алексеевны Жутиковой в дом Амоса Лукьяныча Трифонова, который тем же вечером сказал сыну:
— Натолька, слышь, чего учительша-то говорет… Выйду, грит, замуж за Натолия Трифоновского, дом поставлю, двое железных кроватей куплю, чтобы спать по раздельности…
С тех пор прошло много месяцев, Анатолий все не женился, все ждал чего-то, хотя отец его торопил и очень сердился, что сын живет в холостяках, а Капитолина Алексеевна перепробовала все средства: читала младшему командиру запаса стихи, диктовала ему для укрепления грамотности диктанты и даже пыталась обучить письму будущего свекра. Однако из всего этого ничего не получилось, и на деревне говорили, что учительшу «подвела нога». Дело в том, что сама Капитолина Алексеевна была толста до чрезвычайности, а вот ноги имела тонкие, как спички, что в Улыме считалось очень некрасивым.
Постановка чеховского «Предложения» была задумана тоже неспроста. Все, что делала и говорила Капитолина Алексеевна, было обращено только к младшему командиру запаса и должно было показать, как умна, культурна и образованна учительница. И шелковое платье было надето для Анатолия, и красненькие сережки в ушах поблескивали для него, и грудь вздымалась не без причины, и тоненькие ноги блестели шелком для суженого. Но главное-то заключалось в том, что говорила Капитолина Алексеевна, переживая и томничая.
— Вы поймите, дорогая Граня, — округляя глаза, вздыхала она, — что та женщина, какую вы играте, есть женщина сильно плохая. Во-первых, характер у нее визгливый, неуживчивый, во-вторых, брак она понимает неправильно, в-третьих, некультурная!
После этого Капитолина Алексеевна построжала и обратилась непосредственно к младшему командиру запаса:
— Вот и Анатолий Амосович, как говорится, здесь присутствующий, может, если разрешается так выразиться, подтверждение сделать, что в браке женщина есть главное! Жена мужу должна быть верная, во всем послушная, но умная, рассуждающая, заботливая… Как вы смотрите на такой вопрос, Анатолий Амосович?
— Я с этим делом согласный! — подумав, ответил Анатолий. — Из той женщины, которую играет Граня, путной жены не получится… Тебе, Граня, надо больше визгу давать, шибче голосу да вертучести… Может, еще разок опробуем, Капитолина Алексеевна?
— Конечно, конечно, Анатолий Амосович! — шурша шелком, воскликнула Капитолина Алексеевна. — Мы до той поры будем репетировать, пока не получится гладко, чисто, культурно… Пожалуйста, дорогая Граня, повторим, любезная!
Пошумливал за окном комнатешки медленный дождь, оконные стекла из синих сделались черными, и Капитолина Алексеевна прибавила огонька в двадцатилинейной керосиновой лампе с выщербленным стеклом; когда сделалось светло, все увидели, как насмешливо улыбается во всю свою физиономию третий самодеятельный артист — беспутный лодырь и пьяница Ленька Мурзин, играющий в пьесе папашу визгливой невесты. Посиживая в уголке и бездельничая, Ленька плотоядно усмехался, довольный участием в пьесе, глядел на Анатолия и Граньку снисходительно и опять очень нравился Рае Колотовкиной, хотя и опозорил ее на Гундобинской верети. Славный был такой, косолапый, умноглазый и растаращенный.
— А мне реплик давать? — спросил он учительницу. — Я нужный?
— Нет, нет! Пока без вас, милый Леонид!
Обреченно вздохнув, Гранька Оторви да брось села на тяжелый табурет, поставленный посередине комнаты. Анатолий заученно нагнулся к ней и сделал большие глаза; учительница Капитолина Алексеевна, продолжая сидеть, смотрела на него искоса прищуренными глазами, как бы пробуя младшего командира запаса на вкус и цвет, как бы разбирая на части. Потом она вдруг шумно вскочила, сделав шаг к Анатолию, остановилась резко, затем медленно всплеснула толстыми руками.
— Не с той стороны, Анатолий Амосович! — испуганно воскликнула она. — И голова нужна в другую сторону…
Сладостно-медленно подойдя к Анатолию, улыбаясь важно, Капитолина Алексеевна осторожными, как бы хирургическими руками взяла младшего командира за талию, повернув его в противоположную сторону, теми же руками, бережно-нужными, потрогала его за твердые загорелые щеки, чтобы придать голове нужный ей, режиссеру, наклон. Грудь у Капитолины Алексеевны при этом высоко поднималась и опадала.
— Вот в таком положении мы и начнем! — отступая назад и любуясь делом рук своих, сказала Капитолина Алексеевна. — Дорогая Граня, постарайтесь первую реплику подать Анатолию Амосовичу безупречно правильно… Что вам там надо говореть… то есть говорить?
— Помилуйте, Иван Иванович, Воловьи лужки наши, — осторожно прошептала из угла Рая, переживающая за подругу. — Помилуйте, Иван Иванович… Говори, Гранюшка!
Еще несколько раз работяще вздохнув, Гранька кивнула режиссерше, что можно начинать, и начала глядеть на Анатолия злыми, нахальными глазами, кривить рот; потом, когда учительница хмыкнула, Гранька подбоченилась, выставила ногу и выпятила подбородок, отчего у нее образовался такой вид, точно хотела сказать: «Смотри, по мордам получишь!»
— На-а-а-чи-и-инаем!
Но ничего не началось: правда, Гранька вскочила с места, хотя, по мысли режиссера, этого делать не полагалось, правда, она угрожающе взмахнула правой сильной рукой и выставила подбородок, но вот слов-то не получилось — вместо того чтобы произнести запальчивую реплику, Раина подружка зашипела на Анатолия гусыней, а затем, надув щеки, не удержалась и захохотала.
— Воловьи лужки наши, — сказала она, смеясь. — Наши Воловьи-то лужки…
— Ах, Граня!
Капитолина Алексеевна огорченно всплеснула руками, разочарованная, удивленная непонятливостью и бесталанностью артистки, вздохнула так тяжело, что под ней заскрипел кедровый табурет на толстых ножках. Несколько секунд она трагически молчала, смотрела в щелястый пол, затем, прошуршав платьем, обратила свои печальные глаза на младшего командира запаса. «Ах, Анатолий Амосович, — сказал интимный взгляд Капитолины Алексеевны, — почему вы не видите, как необразованна, глупа и некультурна эта девушка?… Ах, только мы с вами понимаем друг друга!»
— Моя дорогая, милая Граня! — продолжала она вслух. — Неужели вы не способны хоть одну реплику произнести правильно? Конечно, образование у вас семилетнее, с книгой вы работаете мало, из газет ничего не читаете, но ведь можно же, дорогая Граня…
Тут Капитолина Алексеевна осеклась, испуганно замигав, отстранилась от артистки, так как Гранька Оторви да брось вдруг выгнулась точно так, как ее учила Капитолина Алексеевна, прижала руки к груди — опять же таким жестом, как полагалось для роли, — и медленным движением освободила одну руку, чтобы сложить пальцы в большую фигу.
— А вот этого ты не видала, зануда? — злым шепотом вздорной чеховской барыньки спросила Гранька и бешено вознеслась над табуреткой. — Вот этого ты не едала со своей культурностью? Ах ты, мать твою… да какого ты хрена со своей культурностью носишься! Чего ты шелком шуршишь да серегами хвастаешься?… Ах, ах! Она одна культурна, а все други некультурны.
Гранька Оторви да брось подбоченилась точно так, как учила ее Капитолина Алексеевна, сделала тонкими и вздорными губы, визгливым голосом, с придыханием закричала на весь пустой клуб:
— Сойди с моих глаз, зараза! Пущай мои глазыньки тебя не видють, пущай мое сердце от тебя не заходится! Плевала я на твои постановки, начхала я на это дело, шкыдра ты шелковая. Ишь, брошкой поблескиват, ногой сверкат, буркалы вылупила. Да пропади ты пропадом!
Гранька очень смешно подпрыгнула на месте, крутнувшись волчком, плечом вышибла дверь и с такой силой захлопнула ее с той стороны, что стекла задребезжали, а двадцатилинейная лампа — можете себе представить! — моргнув, потухла. Учительница Капитолина Алексеевна исчезла в темноте вместе со своим черным шелковым платьем, в углу радостно хихикал лентяй и пьянчуга Ленька Мурзин, а Анатолий Трифонов укоризненно покачивал смутно белеющим лицом. Рая, беззвучно смеясь, пулей вылетела из гримировочной вдогонку за подружкой.
В зрительном зале — теперь совсем пустынном — Граньки не было, в сенках — тоже, на крыльце — хоть шаром покати, и на улице — пусто. Значит, подружка рассердилась на Капитолину Алексеевну так, что убежала домой, чтобы выплакаться в большую пуховую подушку, вышитую петухами. Это у Граньки такая привычка была — после криков и матерщины бежала плакать на мягкой материнской подушке.
Дождь падал на землю медленно, словно снежные хлопья, просвета в темных тучах не предвиделось, дорога раскисла до того, что под ногами прохожих грязь чавкала по-поросячьи; было тихо и безлюдно, и так как улымчане по случаю плохой погоды залегли рано спать, на всей длинной улице горело только три желтых, слезящихся огонька — в колхозной конторе, в председательском доме и у древней старухи Елены Мурзиной, которая сутками ткала на древнем станке цветные половики.
«Пойду-ка я спать!» — решила Рая, представив, как дождь будет шелестеть о крышу сеновала, как уютно будет лежать под пуховым одеялом, как славно замечтается в зажмуренной темноте.
— Раиса Николаевна! — послышался за спиной вежливо-жалобный голос. — Дорогая Раиса Николаевна…
На крыльце, смутная и необъятная, стояла Капитолина Алексеевна, кутая плечи в шелковый платок. Она была, конечно, обижена грубостью трактористки Граньки Оторви да брось, но все-таки показывала в улыбке золотой зуб, так как втайне все-таки опасалась Граньку как возможную соперницу. Трактористка груба и необразованна — это так, не читает газеты и не носит шелковые платья — это тоже так, но Рая замечала, что учительница сжималась, когда Анатолий в конце водевиля обнимал и целовал чеховскую героиню: ей, учительнице, доставляли страдания полные и ровные ноги Граньки, заметная талия и лицо с энергичным профилем.
— Раиса Николаевна, — проникновенно заговорила Капитолина Алексеевна. — Только вы, Раиса Николаевна, если можно так выразиться, имеете шанец спасти положение… Вы знаете роль, знакомы, как говорится, с писателем Чеховым… Ах, Раиса Николаевна!
— Призамените Граню! — суровым голосом попросил Анатолий Трифонов. — По комсомольской линии к вам обращамся.
— Сыграни! — сказал басом бездельник Ленька Мурзин. — Давай мне реплик!
Они, оказывается, тоже вышли из клуба, стоя за спиной учительницы, печально горбились. Однако Рая неприязненно покосилась на Капитолину Алексеевну, обиженная за подружку, принципиально поджала губы. На самом деле, зря эта Капитолина Алексеевна выдрючивалась, строила из себя цацу — ах, ах, вот мы какие! Считает себя культурной, а говорит «играте», вставляет в речь дурацкое «если можно так выразиться», хвастает шелковым платьем, хотя оно тоже дурацкое, это платье — и рюши дурацкие, и каемка на подоле дурацкая! Все дурацкое! А еще призывно смотрит на Анатолия Трифонова…
— Сами играйте, граждане! — насмешливо сказала Рая. — Не будете хороших людей зря обижать!
Капитолина Алексеевна застонала.
— Раечка, голубушка! — человечьим голосом сказала она. — Я же райкому комсомола обещала…
— Жить надо на взаимовыручке, — опять строго произнес младший командир запаса. — По-красноармейски выразиться: «Окажите помощь!»
— Сыграни, Раюха! — жалобно попросил Ленька Мурзин. — Мне шибко интересно это дело — реплик давать.
Минут через пять, испытывая угрызения совести, Рая сдалась, а еще минут через двадцать сидела на табуретке бочком, закатывала глаза, помахивала рукой так, словно держала веер; глаза были такими злыми и вздорными, что самой становилось сердито. Анатолий Трифонов, выставляя челюсть, покрикивал на партнершу командирским баском, а Ленька Мурзин — всепризнанный лентяй и пьянчуга — ходил по скрипучему полу барской походкой и плечи держал так, словно с них струился богатый атласный халат с шелковыми кистями.
— Ах-ах-ах! — восторгалась Капитолина Алексеевна, от волнения переходя на местный говор. — Ах, ах, все как следовает быть! Дорогой Леня, чего же вы не крутите пальцами то место на губе, где будто усы? Крутите! Крутите шибче!
Водевиль приближался к финалу: артисты уже благополучно отыграли сцену с Воловьими лужками, уже, подхватывая полы несуществующего халата, отец невесты возбужденно бегал по комнате, жених — слабый здоровьем — стонал угрожающим басом, одним словом, приближалась поцелуйная развязка. Дело это было серьезное, щекотливое, так как самостоятельные артисты обычно наотрез отказывались целоваться принародно, и поэтому Капитолина Алексеевна, повелев до отказа выкрутить фитиль двадцатилинейной лампы, глядела на жениха и невесту маслеными глазами. Однако ничего не говорила пока — мыслила.
— Гм! Гм! — хмыкала режиссерша.
Рая Колотовкина любовалась Ленькой Мурзиным. Ей-богу, лентяй и пьяница, выпивший на Первомай почти бутылку водки, был талантливым человеком; Раиной спине становилось холодно, когда Ленька Мурзин начинал, как он говорил, «подавать реплик» — парень мгновенно старился и бледнел, глаза линяли, руки покрывались старческими морщинками, плечи мягчели, а голос делался надтреснутым. Главное же было в том, что чеховский текст Ленька Мурзин произносил не только на правильном русском языке, но и снабдил его округлым московским говорком — то ли у кого из приезжих слышал столичную речь, то ли на проходящем пароходе «Смелый» посидел несколько минут возле радиоприемника.
— Начинаем, как говорится, подходить к финалу, — прежним культурным голосом сказала Капитолина Алексеевна. — Вам, Раиса Николаевна, нужно пересесть вот на эту табуретовку, а вам, Анатолий Амосович, следует подойти к табуретовке левым бочком. Тебе, Леонид, нужно быть посередке… Отлично! Замечательно! Хорошо, как говорится!
Капитолина Алексеевна предовольно потерла руки, восторженно посмеиваясь, отошла в самый темный дальний угол, склонив голову на плечо, посмотрела на артистов так, как любитель живописи разглядывает гениальное полотно, — щурилась и поджимала губы. Увиденным она, кажется, осталась довольна, так как вполголоса сказала:
— Ажур!
Режиссер-постановщик в этот миг была совсем не такой, какой ее видела Рая на прежних репетициях, когда невесту играла Гранька Оторви да брось; тогда Капитолина Алексеевна невесту и жениха ставила в некотором отдалении друг от друга, а целоваться их заставляла несерьезно, мельком, говоря: «Поцелуй должен быть, если можно так выразиться, слабым, как между ими серьезной любви нету…» Сегодня учительница по каким-то причинам финальную сцену решила играть в другом ключе: поставила Анатолия вплотную к сидящей Рае, помыслив, велела младшему командиру запаса положить руку на плечо девушки, в глаза ей глядеть пристально.
— Раиса Николаевна, Анатолий Амосович, — значительно произнесла Капитолина Алексеевна, — те люди, которых вы играете, в глубине души, если можно так выразиться, очень хотят пожениться. Особенно это можно сказать за невесту, которая есть перестарок… Значит, поцелуй должен быть настоящим, крепким, обоюдным… С другой стороны, невесте и жениху есть выгода войти в брак, чтобы жить одним хозяйством. Они, конечно, не очень богатые, не то что, к примеру, Троекуров, который в «Дубровском», но и не бедные… Так что поцелуй должен быть серьезным… Ну, будем давать продолжение!
Черная от загара рука Анатолия лежала на покатом плече Раи, стоял он, галантно изогнувшись, и заученно, то есть без всякого выражения, глядел в глаза Раи — ждал сигнала, чтобы поцеловать. Пахло от младшего командира запаса приятно: трактором, сухой травой и теплым дождем; сильная лампа хорошо освещала его резко очерченное, яркое от молодости и черных бровей лицо.
— Леонид Мурзин, подавай реплику.
Лентяй и пьянчуга шаркающей походкой приблизился к жениху и невесте, занавесив потешное лицо старческими складками, морщинами и брылями, посмотрел лукавым взглядом купчишки, сбывающего залежалый товар; и по Раиной спине опять побежали мурашки, когда водевильный отец сказал:
— Она согласна! Ну? Поцелуйтесь и… черт с вами!
— Целуйтесь! — закричала Капитолина Алексеевна. — Целуйтесь!
Анатолий послушно потянулся к губам Раи, она невольно слегка отстранилась, но, перехватив сердитый взгляд учительницы, резко придвинула лицо к губам водевильного жениха, и они поцеловались крепко, но со стиснутыми губами.
Рая почувствовала, как вдруг рука Анатолия, лежащая на ее плече, вздрогнула.
— Браво! Браво! — зааплодировала Капитолина Алексеевна. — Теперь скорее давайте реплики… Анатолий Амосович, ваша очередь…
Однако у Анатолия был такой вид, словно младший командир запаса забыл реплику, а Рая, прищурившись, глядела на Капитолину Алексеевну холодно. Она вдруг поняла, отчего это учительница разрешила им поцеловаться по-настоящему.
Капитолина Алексеевна Жутикова, недавно окончившая учительский институт и получившая право преподавать в пятых — седьмых классах неполносредней школы, внутренне оставалась обыкновенной улымской девушкой и потому не допускала мысли о том, что Рая Колотовкина может быть соперницей. Тонкая, стройная и высокая горожанка была не женщиной в глазах Капитолины Алексеевны Жутиковой.
— Ваша реплика, Анатолий Амосович! — нетерпеливо воскликнула Капитолина Алексеевна. — Делайте ровно в обмороке…
Анатолий снова не отозвался. Он стоял неподвижно, стиснув зубы, думал о чем-то далеком, чуждом происходящему; смелые синие глаза погрустнели, брови сошлись на переносице так трудно, словно Анатолий вспоминал важное, обязательное, но вспомнить не мог, и Рая, удивленная его молчанием, внезапно заметила, что Анатолий Трифонов похож на ее покойного отца. У младшего командира запаса были тоже синие глаза, квадратные губы, такой же выпуклый подбородок, как у всех Колотовкиных. Потом Рая перестала дышать, так как поняла, что они, Анатолий и Рая, тоже похожи, хоть и очень далекие родственники. И это было так интересно, захватывающе, словно она глядела в зеркало. «Он близкий, свой! — летуче подумала она об Анатолии и выдохнула воздух. — Он мне родной!» После этого она почувствовала, как легко стало ее плечу, — это младший командир запаса осторожно снял руку, отступив на шаг, тоже испуганно округлил глаза: наверное, и он заметил, что Рая походит на него.
— Что случилось? — негромко спросила Капитолина Алексеевна. — Что с вами, Анатолий Амосович?
12
По-прежнему старательно просеивался сквозь невидимые тучи дождь, деревня, убаюкавшись, спала, утомленные непогодью собаки молчали, ни единого огонька не виделось на шелестящей улице — все было прежним. Стараясь шагать только по траве, чтобы сапоги не разъезжались на раскисшей дороге, Рая возвращалась домой из клуба. На плечах у нее шуршал тяжелый брезентовый плащ дяди, голова была простоволоса, чтобы волосы, как советовала тетя, от дождя сделались мягкими.
Шел двенадцатый час ночи, видимой в темном мире была только Кеть, над которой дождь туманно курчавился, свисали близкие выпуклости рваных туч и облаков, а на том месте, где всегда пылал рыбацкий костер, расплывалось матовое пятно, словно там пряталась луна.
Уверенно ориентируясь в темноте, Рая отыскала дом Граньки Оторви да брось, прошла бесшумно по большому двору, нащупав ногой нижнюю ступеньку, начала подниматься по лесенке, ведущей на сеновал; поднявшись, она просунула голову в темень провала, прислушалась: подружка спала, дыша легко и ровно. Пахло свежей травой, горькой овчиной, молодым, здоровым телом.
— Грань, а Грань!
Подружка проснулась сразу; слепо зашарила руками в темноте, хрипло и длинно зевнула:
— Ты, что ли, Раюха?
— Я! Поговорить бы надо…
— Ну так влезай… Может, и переночуешь?
— Да я на минуточку…
Рая влезла на шуршащее сено, нащупав теплый край одеяла, придвинулась поближе к подружке, торопясь и хихикая, стала рассказывать ей на ухо про все то, что произошло в клубе, говорила Рая шелестящим шепотом, дождь мерно стучал по тонкой крышке.
— Я перед тобой виноватая, — шептала Рая, от темноты и нежности к подружке переходя на местный говор. — Я шибко перед тобой виноватая, Грань, но они так меня просили, так уговаривали… Ты на меня не серчай, ладно?…
Граня перевернулась на спину, невидимая, улыбнулась:
— Вот дурака-то… Да ты об этом и не думай… Ой, какой на тебе плащишко-то мокрый! Что? Посильнел дождина-то? Да ты ложись! Под одеялом-то теплынь…
— Не! Я побегу, Граня!
Они неторопливо договаривались о завтрашней встрече, поцеловались, и Рая начала спускаться с лесенки — успокоенная, добрая, разнежившаяся. «Лучше моей подружки ни у кого нет! — думала она. — Ох, какая славная у меня подружка!» Рае было опять хорошо… Спать хотелось так радостно и сладко, как это бывало в детстве, глаза слипались, и мысли были ленивые, сонно-добродушные. Сначала она думала о том, что завтра будет много заниматься, разберется наконец-то с рядом бесконечно малых величин, потом само собой стало думаться о следующий репетиции — ах, как получилось смешно, как потешно! Этот забавный, косолапый Ленька Мурзин, эта Капитолина Алексеевна, похожая на индюка, этот Анатолий, смешной оттого, что играет старательно, а когда целуется, то опасливо сжимает губы…
Подходя к родному дому, Рая твердо решила выпить сегодня все молоко, которое оставила тетя, съесть все сало — сонная-то она была сонная, но, оказывается, здорово проголодалась. Да, да, она все выпьет и съест, потом заберется на сеновал, ляжет на спину; зашуршит сено, запахнет васильками, от одеяла будет пахнуть ситцем. А утром, если не будет дождя, она пойдет на Гундобинскую вереть, на берег Чирочьего озера, станет заниматься математикой…
— Раиса Николаевна!
От неожиданности Рая поскользнулась, чуть не упала, но за плечо подхватила сильная рука, и она близко-близко увидела мерцающее лицо Анатолия Трифонова, который, оказывается, стоял возле калитки. Плаща на младшем командире не было, рубаха промокла до ниточки, волосы прилипли к голове. Подхватив девушку, Анатолий помог ей выпрямиться, проговорив заботливо:
— Чуть было не упали!
— Спасибо!
Тогда Анатолий еще на шаг отступил, выпрямившись и сделав руки по швам, сказал строгим военным голосом:
— Я вас по всей деревне искал, Раиса Николаевна, чтобы сопроводить домой. Во-первых сказать, дожж, во-вторых прибавить, такая грязюка, что и упасть недолго…
Рая приглушенно засмеялась. Уж очень все это было неожиданным — встреча на скользкой дороге, сильные руки Анатолия, его командирский голос, по-сиротски прилипшие к голове волосы…
— Я к Гране забежала, — кутаясь в плащ и улыбаясь, объяснила Рая. — А вам большое спасибо, Анатолий Амосович! Вы спать хотите? Нет? А я просто умираю…
Пошатываясь и длинно зевая, Рая подошла к калитке, просунув руку в специальное отверстие, нащупала новую вертушку — ее выстрогал Андрюшка, — открыла калитку.
— Спокойной ночи, Анатолий Амосович! Еще раз спасибо! Бегите домой… Вы ужа-а-а-сно мо-о-о-о-крый…
— До свиданьица, Раиса Николаевна! Вы завтра придете на репетицию?
— Приду, приду!
Прокравшись в свою комнату, Рая выпила и съела все, что было оставлено тетей, пошатываясь от усталости и сладкого желания спать, поднялась на сеновал, кое-как раздевшись, ткнулась головой в прохладную подушку. Она заснула мгновенно, но перед тем, как забыться, была секунда, когда Рае вдруг показалось, что в темном сеновале забрезжило шевелящееся сероватое пространство, какая-то продолговатость с земляным полом и высоким косым верхом, похожим на потолок; замкнутое пространство было причудливо заштриховано пыльными, вращающимися, как сверла, солнечными лучами; в замкнутом пространстве нереального мира пахло воском и гречишным медом, в углу жил убаюкивающий полумрак, истекающий медленной, густой радостью. «Что это такое?» — удивленно подумала Рая, но в это же мгновение уснула, так и не поняв, что это было…
13
Дождь перестал идти примерно к часу, то есть к полудню, когда у Колотовкиных уже отобедали и все разбрелись на работу; оставшись с теткой, Рая помогла ей вымыть посуду, потом взяла учебник математики, надела любимый сарафан и, немножко побеседовав с грустными Верным и Угадаем, пошла неторопливо на Гундобинскую вереть. Из-под ног фонтанчиками брызгали зеленые кузнечики и маленькие лягушата — кузнечики на лету сжимались, а лягушата, наоборот, растопыривали лапки; травы подсыхали и уже пробовали тихонечко шелестеть, солнце окончательно выпуталось из суетливых туч; все в мире прояснивалось, вырастало и свежело, дышало уже по-солнечному цветочной пыльцой и вязилем-травой.
Через полкилометра от околицы Рая свернула к березняку, двинулась едва приметной тропочкой, по которой ходила в тот день, когда познакомилась с Гранькой. Было бы совсем тихо, если бы в начале Гундобинской верети не работали два трактора, но они гудели с раннего утра, и Рая еще на сеновале прислушивалась к шуму моторов, а сейчас издалека узнала красную косынку подружки и большие окуляры Анатолия Трифонова.
Трактора поднимали полоску целины, на которой дядя Петр Артемьевич собирался посеять гречиху. Машины работали на одной деляне, но двигались навстречу друг другу, чтобы участки вспаханной земли не соединялись: Гранька Оторви да брось и младший командир запаса соревновались. На колхозной конторе четвертый день висел громадный фанерный щит, на котором по вечерам появлялись меловые цифры, и вся деревня уже была разделена на сторонников Граньки и Анатолия. За Граньку, конечно, переживали молодые мужики и женщины средних лет, за Анатолия — девчата и самые старые старики, участники русско-японской и первой империалистической войн.
Машины пахарей гудели ровно, весело и молодо, так как Жемтовская МТС возникла совсем недавно и у нее было все новое, молодое — трактористы, трактора, директор, начальник политотдела и бригадиры.
Гранька и Анатолий работали старательно, гарцевали на своих пятнадцатисильных тракторах лихо, но все равно сразу заметили приближающуюся Раю — подружка помахала ей рукой, а Анатолий для чего-то снял окуляры.
Рая Колотовкина была городской девушкой, большую часть жизни провела в Ромске, но смотрела она те же фильмы, пела те же песни, читала те же книги, которые смотрели, пели и читали Гранька и Анатолий. Горожанка Рая восхищалась фильмами «Трактористы», «Богатая невеста» и «Учитель», пела тоненьким голоском «Мы с железным конем все поля обойдем…», снопы пшеницы ей представлялись на самом деле золотыми, белые украинские хаты из кино вызывали умиление… За два года до войны деревенские парни и девушки не стремились уехать из деревни в город, а городские девушки по книгам и кинофильмам влюблялись в своих деревенских ровесниц; за два года до войны девушки мечтали о трактористах и комбайнерах, красноармейцах и учителях, а Сельскохозяйственная выставка в Москве для них была прекрасной, как сказка…
Влюбленными, ласкающими глазами смотрела Рая Колотовкина на два колесных трактора — ей казались прекрасными их контуры, блеск колес на солнце, гул моторов чудился песней. Раина подружка сидела за рулем трактора необъяснимо грациозно, на Граньке была тугая красная косынка, острые концы которой пошевеливал ветер движения, глаза у подружки устремлены вдаль, трактор, приближаясь, гудел все громче, злее, отчаянней, и Рае вдуг показалось невероятным, что девушка в красной косынке, сидящая за рулем трактора, стала ее подружкой. Неужели она, эта девушка, могла гулять с Раей, обнявшись, пить молоко, спать на сеновале, кричать и ругаться в присутствии культурной учительницы? А младший командир запаса — неужели это он вчера вечером казался таким смешным?
Глаза Анатолия фантастически поблескивали круглыми окулярами с дырочками по бокам, чтобы не запотевали стекла. На нем была высокая кожаная фуражка, новый чистый комбинезон туго обтягивал стройное тело, руки лежали на руле округло и мощно, квадратный подбородок напоминал подбородок актера Крючкова из фильма «Трактористы» — ну разве могла быть знакомой Рая с таким человеком? А торжественный гул моторов! А блеск зубастых колес! А стремительность движения!
Сближаясь, трактора переваливались с боку на бок, фырчали друг на друга, волнистое марево подымалось над горячими капотами, зубцы колес казались жадными. Грачи ходили по бороздам важно, скучные от обилия пищи — и там червяк, и здесь червяк, — ни на кого не обращали внимания. Они быстро привыкли к тракторам, пугались только тогда, когда моторы замолкали, — поднимались с криком и улетали.
— Здорово, Раюха! — закричала Гранька. — Давай подгребай сюда…
Остановив машины, Гранька и Анатолий спрыгнули с металлических сидений, неловко, тяжело и косолапо пошли по неровной земле к Рае, которая и не догадывалась, что от долгого сидения на жестком металле болят ноги, ноет живот и неприятно погуживает в ушах.
— Здравствуйте, Раиса Николавна! — сняв фуражку, поздоровался Анатолий.
— Здорово, Раюха! — опять закричала Гранька, показывая белые зубы. — Вот и дожжишка прошел, как мы с тобой мечтали…
Рая смотрела на них недоуменно, не понимая, почему Гранька, спустившись с высокого металлического сиденья, сразу стала проще и мягче, а младший командир запаса стоял в усталой позе и по-мальчишески оттопыривал губы. У Раи было такое чувство, какое возникает у человека, когда он выходит на улицу после дневного сеанса кино: будничным и неинтересным кажется все окружающее после темного зала, где он жил иной, приподнятой жизнью.
— Пошла заниматься, — скучным голосом объяснила Рая. — Вы еще долго будете работать?
— До шести…
— Не буду вам мешать, — сказала Рая. — Пойду…
— Вали! — одобрила Гранька. — Как пошабашим, я тебя покличу. Трактором поедем на деревню… Хочешь?
— Хочу!
Рая пошла по свежей борозде. Ноги в стареньких туфлях проваливались в мягкое; густо и сладко пахнул чернозем, грачи облетали Раю, косясь опасливо. Она минут за десять дошагала до озера Чирочьего и огорчилась тем, что на самом сухом и возвышенном месте берега сидел с тальниковыми удочками дед Абросимов — старик с лохматой трехцветной бородой. Увидав Раю, дед оживился.
— Бывай здорова, внучатка! — зашамкал он провалившимся ртом и вдруг застыдился. — Чего, поглядать хошь, как твой дедушка ребячьим делом займается? Ну, сама ты поглядай, тока никому об этом не докладай… Это ить со смеха помрут, если узнают, что я вудочкой стараюся…
В Улыме уженье рыбы считалось ребячьей затеей, над теми, кто сидел на берегу с удочками, смеялись, но у деда Абросимова не хватало уже сил для настоящей рыбалки, и он приспособился тайком от соседей и старухи уходить на Чирочье озеро; садился здесь на то место, которое любила и Рая из-за того, что оно было скрыто густыми тальниками.
— Сядай, сядай! — радовался старик, делая рукой царственный жест. — Сядай, тока про меня никому не сказывай! Я за это дело тебе, внучатка, буду стории говореть…
Борода у деда была разноцветной: с подбородка и щек стекала до блеска белая седина, на шее росли длинные рыжие волосы, а у самых глаз курчавились совершенно черные. Это у деда образовалось еще до коллективизации. Сейчас старику Абросимову было девяносто восемь, и, значит, он уже лет десять носил смешное прозвище Трехшерстный, чем кичился, говоря: «Ежели трехшерстна кошка удачу дает, то человек трехшерстный — эта сплошная радость! Вот и бабы до меня прилипучие…»
— Коли ты села, внучатка, так я тебе всю правдень объясню! — сказал дед и поплевал мимо червяка. — Ежели ты к дедушке своему в ласковости, то и дедушка к тебе в ласковости… Я оттого здеся, внучатка, томлюся да пробавляюся что ко мне, трехшерстному, рыба сама на крючок прет. Ты ток глянь, сколь я рыбешки-то понапластал…
Рая посмотрела и охнула: в большом садке ходило с десяток здоровенных карасей, над ними возвышались черные хребты линей, а всякой мелочи — чебаков да окунишек — было невпроворот.
— Вот сколь я их напластал! — хвастался дед, шамкая и хихикая. — Я ить в молодых-то годах был такой рыбак, что обо мне сам Кухтерин-купец разговор имал. Дескать, говорет, если рыбу хорошу брать, то надоть непременно Ульяшку Абрасимовского кликать… Да-а! Я, бывалыча, рыбешку-то и броднем ботаю, и межеумком тягаю, и духову рыбу не обойду, а ежели вожателем иду, то тожеть — завозня полная. Я такой ловкой был, что не приведи господи…
Говоря это, дед осторожненько дернул правую удочку, другой рукой в это время ловко и как бы исподтишка вытащил из озера здорового ленивого карася. Дед на леске подтянул его к себе, покачав головой, неодобрительно сказал:
— Силов в тебе от лености нет, а жадный ровно чушка: хваташь что ни попади…
Дед осторожно — двумя пальцами — взял карася, прищурившись от дальнозоркости, приложил его к довольно длинной тальниковой палочке и, так как карась оказался сантиметра на два короче, досадливо забросил в озеро.
— Я такех карасев из ердани-то не брал! — сердито сказал он. — Это рази карась, это одно надругательство!
Дед Абросимов говорил на том говоре, какой употребляют жители среднего бассейна реки Оби, отличном, скажем, от говора жителей низовья, и Рая Колотовкина плохо понимала его, так как не знала, что ердань — это прорубь для подледного лова рыбы, межеумок — сеть с ячеёй в три пальца, духовая рыба — это рыба из непроточных водоемов, ботать — ловить рыбу бреднем, а вожатель — это проводник плота. Дед разговаривал как бы на незнакомом языке, и от этого Рае было чуточку грустно, но ей все равно хотелось сидеть на берегу озера, слушать деда, смотреть, как он с присказками таскает карасей и хвастливо задирает трехцветную бороду. Дед был высок и сутул, под ситцевой рубахой просторно дышала могучая грудь, шея была покрыта толстой, как у слона, морщинистой кожей.
— Я об прошлый раз от учителев цельных три рубля поимел, — заносчиво сказал дед Абросимов. — Я такех карасев приволок, что не приведи господи… Я еще хрустенек, внучатка!
Озеро Чирочье лежало вогнутой чашей, сплетничая, покачивали коричневыми головами камыши, утки со свистом проносились в голубизне, прибрежная вода была прозрачна — там опасно извивались зубастые щуки, стояли на страже неподвижно пестрые окуни, зарывались в тину глупые караси, висели где придется ко всему равнодушные лини. Садясь на озеро, утки поднимали грудью крутой бурунчик воды, отряхивая крылья, зорко оглядывались, ища знакомых. На небе уже не было ни единого облачка, и от этого оно казалось приблизившимся к земле.
— А ты ведь мне сродственница! — прищурив глаз, сказал дед. — Мы, Абросимовски, всем Колотовкиным — родня… Как это получается, я тебе обсказывать не буду — это шибко длинно, но ты мне — какая-то внучатка… Кака, это я в точности знать не могу, но внучатка…
Открыв глаз, дед заботливо пояснил:
— Это голец клюет, я его имать не буду — лучше пущай на его окунишка возьмется… Да-а-а-а! Вот с чем я не согласный, так это с тем, что все люди — братовья! Какой я, к примеру сказать, тебе братан? Я тебе дедушко, вот такая стория! А согласный я с тем, что все люди — сродственники!
По-праздничному куковали за Кетью кукушки, в березняке хохотал сыч, тракторные моторы звучали приглушенно. Рая глядела на поплавки стариковских удочек, они монотонно покачивались от донных течений, белея, убаюкивали, а кукушки куковали трудолюбиво, безостановочно, словно решили накуковать бессмертие.
— Ты чего примаргиваешь-то? — обернувшись, спросил дед. — Чего с тобой деется, что ты шею кажешь длинну и тонку? Скучно тебе с дедушкой-то?
— Мне заниматься надо, — жалобно сказала Рая, — а я лентяйничаю…
— Славно делать! — внезапно обрадовался старик. — Книги читать — голове болеть! Так что ты лучше сосни… Вот тебе кожушок, ты на его прилягни да и сосни…
Дед хлопотливо достал пахучий кожушок, беззвучно смеясь, расстелил его рядом с собой, и Рая, не понимая, что с ней происходит, и уже не думая о занятиях, легла на теплую от солнца овчину, глядя в бесконечное небо, осыпанное бордовыми точками, закрыла глаза; теплая волна прокатилась по телу, затуманив голову, зазвенела в ушах, и Рая провалилась в теплое, зыбкое, подумав на прощание: «Их трое, кукушек-то…» Потом что-то ласковое приступило к боку, кто-то приложил пухлые мальчишечьи губы к пионерскому горну, рассыпалась барабанная дробь, услышался строгий голос: «Будь готов!» — «Всегда готов!» — ответила Рая, и сразу появился второй голос: «Ишь как заспалась!» В глаза полыхнула желтизна, лицу сделалось жарко, щекотно, и Рая открыла глаза…
Рядом с ней, положив голову на тот же кожушок, спал дед Абросимов, между ним и головой Раи прямо из земли вырастали сапоги — это стояла Граня и смеялась: «Вот позанималася! Вот наработала!» За ее спиной виделось загорелое лицо Анатолия, который, глядя на Раю, улыбался сдержанно. Потом Гранькины сапоги отъехали в сторону, лучи низкого солнца полоснули Раю по глазам, и она окончательно проснулась.
— А дедуля-то, дедуля-то! — хохоча, кричала Гранька, нагибаясь к старику. — Вы только поглядите на него — взял моду во время рыбаловки спать!
Проснувшись, дед огорченно крякнул, схватив себя за трехцветную бороду, неожиданно бодро и басовито закричал:
— Гранюшка, Натоленька, родны мои людишки, ударнички мои! Ну, чего вам полезного будет, ежели вся деревня над дедушкой Абросимовым почнет животы рвать? Не сказывайте, бравы ребятушки, про вудочки-то, не сказывайте… — Тут он резво вскочил, льстивой походочкой подбежал к Граньке. — Хочешь, травиночка, я тебе всех карасишек отдам? И копеюшки мне не надо, копеюшки…
Рая неторопливо огляделась: солнце совсем приблизилось к Заречью, все вокруг было розово-желтым, прозрачным по-вечернему, таким приглушенным, каким бывает незадолго до заката солнце перед ясным безветренным днем. Трактора работали на малых оборотах, и Рая чувствовала покой, уверенность в себе, несуетность. Откуда это все пришло, ей было безразлично, в себе копаться не хотелось, но такой умиротворенности она давно не чувствовала. Учебник сиротливо лежал на земле — никаких угрызений совести, короткий сарафан высоко обнажил голые ноги — нет стыда перед Анатолием; волосы растрепались, а к щеке прилипли травинки — не возникает желания прихорашиваться. «Я совсем взрослая, — подумала Рая, и опять было неважно, отчего возникла эта мысль. — Да, я совсем взрослая!»
— Поехали в деревню, Раюха!
Новым, незнакомым самой себе человеком поднималась с земли Рая Колотовкина. Она была замедленной, неторопливой, на губах лежала уютная улыбка — словно на овчинном кожушке осталось все лишнее: поголубели и опростились глаза, плечи стали тверже, прямее. Рая новым, плавным шагом пошла прочь от озера; шагая по паханине, не разбирала, куда ставит ногу; смятый сарафан она не разгладила, он тоже казался отдельным от нее, как суетность, как ряд бесконечно малых величин из учебника.
Новыми показались Рае и трактора, и сами трактористы: она теперь заметила, что машины грязны и запыленны, что у подружки на лбу расплывается мазутное пятно, руки дрожат от усталости; разглядела, как сутулился Анатолий, когда подходил к трактору.
— Залезай, Раюха!
Рая села на подрагивающий кожух тракторного колеса, взявшись крепко за теплый край металла, спокойно улыбнулась подружке: «Поехали!» Машины загудели, фыркнув, одновременно двинулись под горку; они прыгали по бороздам, от тряски чакали зубы, но Рая держалась цепко, глядела вперед прищуренными глазами. Гранька посматривала на нее искоса, как бы не узнавая; потом ясно улыбнулась — ей, наверное, понравилась новая Рая.
— «На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят…» — обняв Раю свободной рукой, запела Гранька.
Гудели моторы, дребезжал металл, вился синий дымок… До самой страшной войны оставалось еще два года, но в деревенском клубе шли фильмы, в которых пограничники, девушки-подростки и старики ловили шпионов, взлетали в небо тупоносые истребители, шли танки, скакали, сверкая саблями, остроголовые от буденовок всадники; горела и обливалась кровью земля Испании, рычал Китай, умирала Абиссиния — чувствовалось уже, чувствовалось дыхание войны…
— «В эту ночь решили самураи перейти границу у реки…» — пели девушки, и лица у них были суровыми, решительными, холодными. Рая Колотовкина была по необъяснимым причинам спокойна, просветленно-мудра. Она поднялась с тряского металлического полукружья и, обняв Граню за плечи, стояла лицом к ветру, пела громко, решительно, угрожающе:
— «И пошел командою взметен…»
Ох, как они любили землю, по которой мчались два колесных трактора и ходили важные грачи!
14
После происшествия на берегу озера Чирочьего Рая переменилась так резко, что порой сама себя не узнавала; она много думала над тем, что случилось, но понять не могла, да и не хотела, и продолжала жить спокойно, безмятежно, неосознанно счастливо, как птица, — вставала по утрам в половине пятого, умывалась ледяной водой, съедала за завтраком все, что давали, вечерами выпивала полную кринку молока, полюбила бродить по лесу, не зная куда, не думая зачем. У нее, как у младшего двоюродного брата Андрюшки, сошла с переносицы упрямая морщинка, походка сделалась лениво-надменной, рот затвердел. Говорила она уже напевно и медленно, вместо «да» и «нет» отвечала «но» и каждое утро, открыв глаза, сразу глядела в сеновальные двери — интересовалась погодой.
Рая загорела до черноты, длинные и крепкие ноги покрылись звездчатыми трещинками, кожа облупилась; лицо тоже потемнело, отчего глаза казались совсем синими. Стоя по утрам перед зеркалом, Рая глядела на себя как на постороннюю — были безразличны облупившийся нос, ссадины на ногах и чужое, темное лицо. Пожав плечами, она строго улыбалась незнакомой девушке в зеркале, чувствуя себя мудрой, спокойной старухой. Наверное, поэтому Рае теперь нравилось неспешно беседовать с дедом Абросимовым, следить за его удочками и подремывать; она соглашалась, когда дед утверждал, что внучатке «надоть набрать мясов, что это одна страмота, если она ходит така худюща»; потом старик охотно и поучающе рассказывал про «свою перву бабу, которая померши от старости», и про «втору свою бабу, которая померши тоже от старости», и гордился тем, что к бабам относился хорошо — ни разу пальцем не тронул и мужскую работу справлять не дозволял, хотя женскую работу требовал, на что Рая ответила: «Ну и правильно, дедушка!»
Дядя Петр Артемьевич снова серьезно говорил с племяшкой об учении, она пообещала исправиться, но занималась мало и неохотно — прочтет несколько страниц, ничего не поняв, захлопнет книгу лениво и опять слушает, как кукуют отдельные от нее, совершенно посторонние кукушки. И вот это чувство отделенности от всего вещественного, предметного было, пожалуй, самым сильным и поэтому понятным. Рае казалось, что не только книги и одежда, мебель и жилище, но и солнце, земля, закаты, восходы — весь этот мир — существовали отдельно от нее. А все равно жилось Рае хорошо, время летело не быстро и не медленно; бежало так, как ему полагалось бежать.
На предпоследней репетиции чеховского водевиля «Предложение» Рая и Анатолий играли вяло и плохо, свои реплики произносили тонкими голосами. Капитолина Алексеевна гневалась, лодырь и забулдыга Ленька Мурзин орал, что «в таком разе реплик давать не будет», и усмехался обидно, когда режиссерша от огорчения впадала в столбняк.
На предпоследней репетиции Капитолина Алексеевна была в лиловом шелковом платье, с дутыми браслетами на толстых руках, со стеклянными бусами на груди и в модных белых тапочках, делающих ее ноги совсем тонкими и короткими. Она часто прижимала правую руку к груди, дышала тяжело и порывисто, словно поднималась в гору, — очень волновалась за себя и артистов.
— Живее! Громче! — покрикивала она и огорченно замирала. — Боже мой! До показа остается всего два дня… Что вы играете? Ну, что вы играете, Анатолий Амосович?
Репетиция на этот раз проводилась на высоком берегу Улыма, между старыми осокорями, в затишке, скрытом от посторонних глаз. Табуреток на берегу, естественно, не было, поэтому Рая сидела на пеньке, Анатолий, изогнувшись, стоял над ней, мрачно усмехался и на самом деле играл плохо: вздыхал там, где надо было кричать, а там, где Капитолина Алексеевна требовала «дать чувства», мямлил, и в тусклом его голосе пробивались командирские интонации. Все это кончилось тем, что Ленька Мурзин, выбрав траву помягче, лег на брюхо и заявил:
— В таком разрезе я комедь представлять не желаю…
Поклокатывала под высоким яром Кеть, тальники, березы и осокори левобережья казались такими близкими, что хотелось потрогать; рыбацкий костер пылал ярко, возле него на корточках сидел сам рыбак, помешивая ложкой в котелке, и слышалось, как ложка постукивает о стенки котелка.
— Не балуйтесь, Мурзин! — прикрикнула на лентяя и забулдыгу Капитолина Алексеевна. — Искусство — оно… Оно — не в бабки играть…
Манерно поджимая губы и колыхаясь, Капитолина Алексеевна подошла к водевильным жениху и невесте, приложив обе руки к груди, посмотрела на них так насмешливо, словно хотела сказать: «Эх вы, такого пустяка не можете сделать! Поцеловаться не можете…»
— Где ваша рука, Анатолий Амосович? — вкрадчиво спросила Капитолина Алексеевна. — А вы почему не сгибаетесь к жениху, Раиса Николаевна? Как же вы будете целоваться, если промеж вами три метра дистанции?… Делайте сближение, делайте!
Вот тут-то Капитолина Алексеевна наконец заметила, что Анатолий боится встретиться с Раей глазами, краснеет неизвестно отчего, а Рая, наоборот, на Анатолия смотрит пристально, бесцеремонно и даже усмехается над растерянностью такого смелого человека, как бывший танкист.
— Товарищи, товарищи! — засмеявшись басом, сказала Капитолина Алексеевна. — Вы не маленькие, товарищи, вы с образованием, не как некоторые… Делайте сближение, делайте!
Капитолине Алексеевне минул двадцать первый год, у нее были чистые девичьи глаза, добрые губы, и она вообще была хорошим человеком — бесхитростным и честным, но не очень умным.
— Продолжаем, продолжаем репетицию! — захлопала она в ладоши. — Вам, Анатолий Амосович, надо положить руку на плечо невесты, а вам, Раиса Николаевна, дать сближение… Ах, какие вы стеснительные!
Она решительно, с насмешливым лицом подошла опять к Анатолию и, приподняв его вялую руку, положила на плечо девушки.
— Рука обязана находиться вот в этом месте… На какой реплике мы остановились?
По реке плыл легкий обласок, на котором спускался вниз по течению остяк Николай Кульманаков, пробирающийся, вероятно, на Любинские пески, чтобы ловить осетров и нельм плавежной сетью. Течение быстро несло обласок, и Николай весло в руке держал неподвижно — только рулил. И от всей этой картины веяло таким покоем и безмятежностью, что Рая на секунду закрыла глаза — в темени тоже плыл серебряный обласок, улыбался морщинисто Николай Кульманаков, отражение лодчонки в Кети было нежно-розовым. Кульманаков негромко поздоровался с хозяином костра, тот ему ответил: «Ни пухи ни пера, Миколай!», и от этого в груди у Раи сделалось так тепло, словно с реки подул жаркий ветер.
— Продолжаем, продолжаем репетицию!.. Рука, Анатолий Амосович, остается тут. Ваша нога, Раиса Николаевна, располагается, если так можно выразиться, тут…
Рае было щекотно от лежащих на ее плече пальцев Анатолия, так как они едва прикасались к кофточке. Младший командир запаса боялся положить пальцы твердо, и это было так смешно, что хотелось расхохотаться вслух — ликующе и громко. Рая чувствовала, что лицо у нее становится гордым, заносчивым, брови властно сдвигаются, а кончики губ тронуты загадочной улыбкой; она не мигая смотрела на Анатолия, видела, как его лицо под загаром краснеет, и торжествовала: «Влюбился, голубчик! Влюбился!.. То-то же!» Ей казалось, что она старше Анатолия, хотя ему было на пять лет больше, и это тоже приносило спокойствие, безмятежность: «Попался, голубчик!»
Она перевела взгляд на удаляющийся вниз по течению обласок Николая Кульманакова, проводив его немножко глазами, сама подняла плечо, чтобы рука Анатолия сделалась тяжелой, потом прижалась к нему боком и удовлетворенно отметила, что пальцы младшего командира запаса вздрогнули, губы сжались, а глаза сделались тревожными, словно ударил колокол на пожарной каланче.
— Давай реплик! — обозлившись, крикнул Ленька Мурзин. — Давай, репетировай, а то я весь чешуся от нервности…
Знаменитый деревенский лентяй и забулдыга кричал возмущенно, взмахивая руками от нетерпения, но глаза у него были по-кошачьи затаенными, вкрадчивыми и губы расгягивались — он давно понял, что происходит между Раей и Анатолием; похаживая вокруг них, он от удовольствия высоко задирал ноги, словно перешагивал большие лужи. «Доигралися!» — было написано на круглом Ленькином лице, и Рая снова подумала о том, какой он талантливый и умный.
— Репетировай! — опять закричал Ленька. — Репетировай, мать вашу за ногу!
Лежащая на плече Раи рука Анатолия была теплой, словно он ее подержал на раскаленной боковине русской печки. Младший командир запаса тусклым голосом проговорил очередную реплику, снова отведя глаза в сторону, стал ждать, когда папаша — Ленька Мурзин — прикажет им целоваться. И конечно, сорвал этим всю сцену, в которой они с Раей должны были безостановочно кричать друг на друга, впадать в истерику.
— Я в таком отчаянии — работать не могу! — сердито сказала Капитолина Алексеевна и с размаху села на широкий пень. — Раз никто в деревне не желает целоваться на сцене, я в райкоме комсомола так и скажу.
Рая ее не слышала. По-прежнему прижимаясь плечом к теплой руке Анатолия, она глядела на излучину реки, за которой скрывался серебряный обласок остяка Кульманакова, сделавшегося похожим на карточную фигурку: один Кульманаков упирался головой в ясное небо, другой — касался головой речного дна. Через секунду оба Кульманакова скрылись за сиреневой излучиной, и от этого показалось, что прозвенели маленькие колокола — почему, отчего, неизвестно, но звон был печальный. Уронив руку Анатолия, Рая осторожно поднялась с пенька. Больше она ни о чем не думала, никуда не глядела, а сказала спокойно:
— Перенесем репетицию на завтра…
И пошла по крутому берегу так тихо, осторожно и тяжело, словно несла на коромысле полные ведра; ее не волновало то, что происходило за спиной, голос Капитолины Алексеевны прозвучал тихо, как бы из далекого прошлого, Раино имя, произнесенное Анатолием, ей тоже не принадлежало.
Хотелось увидеть обласок Николая Кульманакова, скрывшийся за речной излучиной, подойти к нему близко, чтобы убедиться — и на самом деле он серебряный?
Возле новой бани тех Мурзиных, у которых старая баня сгорела, на низкой лавочке сидели старик со старухой, по-одинаковому подперев подбородки руками, смотрели туда же — на сиреневую излучину Кети. Старик и старуха были мужем и женой и сидели на лавочке, видимо, давно — может быть, триста лет. Рая подошла к ним, не поздоровавшись и не обращая внимания на стариков, тоже села на кончик скамейки, вздохнув, подперла рукой подбородок. И только после этого перестали звенеть колокола. «Странно!» — безмятежно подумала Рая.
Тишина была громкой: в ней охотно и много квакали лягушки, побулькивала омутами река, тоненько ржала кобыла Весна, хохотали под яром мальчишки; от всех отдельный, страдательно ухал сыч.
— Николай-то на Любинские пески гребется, — сказал старик. — Больше ему некуда гребстися, Николаю-то…
— На них… — сказала старуха, — на них…
Рая с минуту помолчала, а потом согласно кивнула.
— Правильно! — сказала она. — Куда же ему еще гребстися…
«Буду сидеть здесь на лавочке долго, — подумала Рая. — Сто лет просижу…»
15
На деревенскую товарочку парни и девчата собрались к дому деда Абросимова. Здесь росли четыре осокоря, седых и коренастых, в палисаднике на черемухе завязывались зеленые ягоды, встревоженный музыкой, полетывал над крышей расфранченный скворец.
Как всегда на деревенской товарочке, парни и девчата вели себя солидно и основательно, соблюдая приличие, потому что именно на товарочке происходили все главные события в жизни улымской молодежи — здесь определяли симпатии и антипатии, ссорились и мирились, сводили счеты, сколачивали враждующие группы, составляли заговоры, демонстрировали наряды, находили женихов и невест, друзей и подруг. На деревенской товарочке события развивались не стихийно, а все было как бы плановым, традиционным — порядок чередования танцев, распределение мест, разговоры; этикет здесь блюли строго.
На сегодняшней товарочке благодаря недавней победе над братьями из рода Капы самое выгодное место на сосновом бревне занимали братья Колотовкины и постоянный их союзник Виталька Сопрыкин. Поверженные Капы теснились на завалинке. На скамейке сидела девичья аристократия, среди которой находились неразлучные теперь подружки Рая Колотовкина и Гранька Оторви да брось. Они, как и все девчата и парни, щелкали каленые кедровые орехи, шелуху бросали под ноги, посмеивались, перешептывались; по правую руку от Граньки оказалась гордая красавица Валька Капа, а рядом с Раей радостно щурился на угасающий закат дед Абросимов — хозяин товарочки.
С запада тянуло вечерней прохладой, река тут же, на глазах, из выпуклой делалась вогнутой, косой стрежень покрылся рябью — все в мире становилось вечерним и строгим. Потом же, когда начала вокруг разливаться розовость, когда мир из написанного масляными красками сделался акварельным, тонко и ласково пропел возле околицы пастуший рожок — это дед Сидор сообщил, что нашлась телка Вутка, забредшая по-молодой глупости в зыбкие тальники, где и застряла между кустов.
Пастуший рожок пел в тишине. Баянист Пашка Набоков уже проиграл два первых необязательных танца, шепчась с Веркой Мурзиной, готовился к самому главному танцу — вальсу «Дунайские волны». Все смотрели на него серьезно, таж как вальс «Дунайские волны» на самом деле был главным танцем — его танцевали те пары, которые с товарочки уходили вместе, обняв друг друга.
Пока Пашка Набоков протирал белые лады баяна, его разлюбезная Верка Мурзина от гордости ни на кого не обращала внимания; девчата на завалинке дышали осторожно, с перерывами, забыв про орехи, усиленно глядели в землю; Гранька Оторви да брось зло теснила бедром раскрасавицу Вальку Капу и при этом злодейски усмехалась, а Рая Колотовкина ни о чем суетном не думала, ничего особенного не чувствовала, ничего важного в происходящем не видела — она все еще жила серебряным обласком Николая Кульманакова, звоном маленьких колоколов, вековым покоем стариковского молчания, сладкого и дурманящего, как бесконечность.
Рая знала, что вальс «Дунайские волны» Анатолий Трифонов будет танцевать с ней, понимала, какой переполох вызовет это на завалинке, скамейке и бревнах, но думать об этом ленилась, да и себя не чувствовала, словно это не она, а действительно незнакомая Рае женщина — мудрая и безмятежная — сидела вместо нее на лавочке и грызла орехи, наловчившись их щелкать не вдоль, как горожане, а поперек.
Первым вальс «Дунайские волны» начал танцевать с Любкой Колотовкиной ветреный Виталька Сопрыкин, потом разобрали с завалинки всяческих Мурзиных четверо братьев Капы, закружились многие привычные пары — близкие к свадьбам. Робко топтались на месте и не решались кружиться очень молодые девчонки с очень молодыми парнями, только недавно начавшие посещать товарочку. А Анатолий все медлил, стоял возле короткого пенька в задумчивости, нахмурившись и вяло пошевеливая пальцами опущенных рук. От этого раскрасавица Валька Капа, конечно, начала волноваться, то есть усиленно разговаривать с завалящей подружкой, а Гранька Оторви да брось вдруг села прямо, твердая и горячая.
— Ой, Раюха! — шепнула Гранька. — Ой, подруженька!
Рая была спокойна и неподвижна, хотя чувствовала кожей, что младший командир запаса весь как бы лучится в ее сторону, а подружка Гранька не дышит… Рая, конечно, любила ее, но сейчас тихо думала о том, что вот и Гранька — сердечная подружка — похожа на учительницу Капитолину Алексеевну, если не допускает мысль, что Анатолий может полюбить Раю. Да, Гранька Оторви да брось была дружна с Раей, хотела Рае только хорошего, но никогда не думала о ней как о сопернице…
Рука Раи сама собой соскользнула с плеча подружки, квадратный колотовкинский подбородок затвердел, губы плотно сдвинулись — все это без ее участия по каким-то бабьим, чуждым Рае законам. И так как все эти действия были внешними, механическими, то во внутреннем мире девушки никаких изменений не произошло: там царили покой и улаженность, мудрость и прозрение, словно Рая становилась ясновидящей. Она, например, глядела в землю, но видела, что у раскрасавицы Вальки Капы некрасиво сморщился белый носок на правой ноге. Плохо вела себя за спиной Раи и подружка баяниста Пашки Набокова: насмешливо глядела на Граньку Оторви да брось, считая, что Анатолий не хочет танцевать с Валькой ради трактористки.
Пришел синий дымчатый вечер. Уже висела в небе строгая от прозрачности луна; поднималась, чтобы к рассвету прийти на сеновал, Раина звезда — зеленая и тихая; река уже казалась бордовой, как густой клюквенный кисель; плакал и дергался от горя коростель за Кетью, свистели крыльями невидимые утки, а в трехцветной бороде деда Абросимова запутался розовый блик заката. Ласково мычали подоенные коровы, носились, играя, по пыльной дороге, щенки, поднимались со дворов светлые дымки…
Младший командир запаса Анатолий Трифонов встряхнул головой, одернул вышитую белую рубаху так, словно это была гимнастерка, и, улыбнувшись криво, насильственно-решительным шагом двинулся через весь круг прямо к скамейке. Удивленно глядящие на него пары танцующих охотно уступали дорогу, даже останавливались. Когда Анатолий миновал середину круга, по его шагу и глазам уже было понятно окончательно, что он не идет к Вальке Капе, — она активнее прежнего затараторила с бросовой подружкой, и все начали глядеть на Граньку, которая немедленно сделала вид, что занимается складками юбки. Однако еще через два-три шага Анатолия все затаили дыхание — нет, Анатолий направлялся не к трактористке… Братья Колотовкины, перестав танцевать, смотрели на младшего командира запаса исподлобья, сурово и угрожающе, баян дал ошибочный аккорд — вот до чего все были удивлены тем, что Анатолий, оказывается, шел к Рае.
— Разрешите пригласить вас на танец вальс! — поклонившись, сказал Анатолий и, подумав, добавил: — Дозвольте, Раиса Николаевна!
Склонив голову, Рая не мигая смотрела на него, размышляла о чем-то, непонятно улыбалась; подчиняясь все тому же по-бабьи мудрому, подспудному, она вдруг вернула себе способность видеть себя со стороны и, наблюдая за собой пристально, но критически, обнаружила, что не только загадочно молчит, но и сидит в неприступно гордой позе, чуждая всему происходящему. Она по-прежнему совершала такое, чего никогда не могла совершить та Рая Колотовкина, которая не спала на берегу Чирочьего озера, не видела серебряного обласка, не сидела на стариковской скамейке и не знала, куда поехал остяк Николай Кульманаков. Сегодняшняя Рая, продолжая глядеть в глаза Анатолия, по-давешнему улыбнулась кончиками губ, выпрямив голову, сделала усталую гримасу — такой штуки она раньше не знала.
— Спасибо, Анатолий Амосович! — сказала Рая. — Спасибо, но мне не хочется танцевать… Устала…
В глубине души прежняя Рая удивилась тому, что произошло, но сегодняшняя Рая нисколько не сомневалась в правильности содеянного ею: она была мудра, как все женщины мира, вместе взятые. Отказав Анатолию, она, не догадываясь об этом, поднялась на такую высоту, с которой уже нельзя было заметить копошащуюся внизу девушку по прозвищу Стерлядка, голенастую и наивную. Не догадываясь об этом, Рая совершила поступок, который был единственно правильным в ее положении и который она не совершила бы двадцать лет спустя.
На танцевальной площадке начался тихий переполох. Торжествующе откинули головы Раины двоюродные братья, грозно обернулись назад, где сидели братья Капы: «Плохо ваше дело, ребята, если у нас и сеструха вон какая!» Мстительно хихикали всякие Мурзины, покраснев яркими пятнами, растерялась Валька Капа, а дед Абросимов восторженно щерил зубы.
— Молодца, внучатка! — захохотав, сказал он. — Сразу видать, что наши кровя… Танка, она, конечно, не трактор, а трактор, конечно, не танка…
Анатолий Трифонов, которому впервые отказали на товарочке, медленно отступал; спина его была согнута, руки увяли, белые тапочки шаркали по пыльной земле и от этого делались серыми, а мудрая, как змий, Рая, наблюдая за ним, думала о том, что вот таким Анатолий ей нравится больше, чем тот, у которого прямые плечи, зычный командирский голос и пустовато-вежливые глаза. Этот Анатолий был таким человеком, которого можно было жалеть, и Рае, конечно, было досадно, что он пачкает пылью новые белые тапочки, хотя это такой пустяк, что и думать о нем не стоит. Вообще ни о чем беспокоиться не надо, жить следует медленно и бездумно, как осокори над головой, как вечернее небо, как темнеющая река.
В этом мире все было правильным, естественным. Согбенная спина Анатолия была такой же необходимой, целесообразной, как свет ранней луны, посвист утиных крыльев над головой, сухость теплого воздуха, пропитанного запахами позднего вечера; все было целесообразно на этой земле, где щенки, играя, купались в мягкой дорожной пыли, луна сменяла солнце, а солнце — луну, где дед Абросимов на Раю Колотовкину глядел счастливыми, родственными глазами, а подружка Гранька Оторви да брось незаметно отодвинулась от Раи, что тоже было естественным и целесообразным.
Гранька сидела неподвижно, как бы закостенев, смотрела за реку, где мерцал рыбацкий костер, не потухающий ни днем, ни ночью; глаза у нее странно поблескивали, казались совсем выпуклыми от неподвижности, спокойствия и походили на драгоценные камни. Потом Гранька поднялась, делая механические движения, сорвала листок с черемуховой ветки, поднесла его ко рту. Спина у подружки была прямая, голова прочно сидела на короткой сильной шее, было видно, как между плечом и щекой пошевеливается черемуховый листик — она зубами кусала горьковатый стебелек.
Младший командир запаса Анатолий Трифонов двигался по направлению к северной околице деревни, Гранька избрала южный путь, а Рая Колотовкина все еще сидела на месте, полная мудрости и стариковской созерцательности, по-прежнему ни о чем особенном не думая. Наконец она тоже поднялась, повинуясь тому, что было выше и мудрее ее самой, пошла в третью сторону — в переулок, ведущий прямехонько в темные и душные кедрачи.
Баян Пашки Набокова, наигрывающий про то, как утомленное солнце нежно с морем прощалось, постепенно утишивался за спиной, глохли и другие звуки деревни, воздух влажнел, под ногами ковром пружинил мох — глухая тайга обступала девушку, идущую по знакомой узкой тропинке. Было тихо и уютно, как на сеновале; давно спали в потаенных гнездах деловитые лесные птицы, ночные еще молчали, дожидаясь настоящей ночи, и пахло в тайге только кедрами. От этого все казалось понятным, простым, знакомым, как ноготь указательного пальца на правой руке. Сухие кедровые иглы шуршали под белыми тапочками, кофта на Рае тоже была белой, и чудилось, что она вся светится, как лесной светлячок.
Рая медленно углублялась в лес, кедры все росли и все темнели, потом кроны деревьев сомкнулись над ее головой, совсем затмив лунный свет. Тогда девушка на мгновение остановилась, оглядевшись, почувствовала, как больно и сладко заныло сердце… Она опять видела серое замкнутое пространство, продолговатое и низкое; в нем — сон ли это, явь ли? — вращался пыльный солнечный луч, пахло стариной и мышами, пол был короче потолка, а стены перекошены… Горло сжалось, стало трудно дышать, но это и было счастье, ослепительное и дремучее, необъяснимое, как пробуждение на рассвете.
«Где я видела это? — подумала Рая. — Где?»
16
Наутро весь Улым знал о том, что Анатолий Трифонов, бросив Вальку Капу, гуляет с председателевой племяшкой, что на покров они собираются играть свадьбу, что Петр Артемьевич дает в приданое телку Вечерку, отец Анатолия собирается ставить для молодых дом, а городская далекая родня невесты сулит два шерстяных костюма и один полушерстяной.
Анатолий Трифонов и Рая Колотовкина еще ни разу не танцевали вальс «Дунайские волны», а деревенская молва уже поставила дом для молодых между школой и теми Мурзиными, у которых в подполье все лето — лед; Анатолий и Рая еще ни разу не посидели на лавочке под двумя кедрами, а улымские бабы уже говорили, что на свадьбу будут звать всю деревню; Анатолий и Рая еще ни разу не прошлись в обнимку по длинной улице, а деревня уже гадала, что будет делать брошенная младшим командиром запаса раскрасавица Валька Капа, так как тогда же утром стало известно о том, что мать Вальки Капы уже приготовила для дочери и ее будущего мужа богатое приданое. Часть улымских баб считала, что Валька Капа «это дело так просто не стерпит», а другие утверждали, что «ничего путного Валька от этого дела не поимеет».
Деревня клокотала и бурлила, шепталась и замирала от удивления; бабы сразу после завтрака сходились в тесные группки возле прясел, старики и старухи на свои лавочки выползали в полном составе и раньше времени, недавно ожеребившаяся кобыла Весна от всеобщего волнения и переполоха ржала громче обычного и разнесла в щепки кедровое стойло. Большой-большой шум происходил в тихом Улыме. А в десятом часу стало известно о том, что мать Анатолия Трифонова, будущая Раина свекровь, ходившая полчаса назад в сельповский магазин за керосином и хозяйственным мылом, сказала Виринее Сопрыкиной, которая брала в магазине конфеты-подушечки, следующие слова:
— Мой-то Амос Лукьяныч — партизан, у него именна сабля, через котору он грызу и нажил… Так что ему без мяса жизни не быват! — Тут она вздохнула и пригорюнилась. — Вот ты и прикинь, кума, что три чушки мы имем, корова у нас одна, но телки-то двое, овечек десятеро да собак трое… Вот ты и гляди: картохи сварить надо, помять, обратно, надо, поднесть надо — сами чушки, заразы, не бегут, как шибко нравные…
После этих слов мать младшего командира запаса — женщина бровастая, сырая и слабоногая — заковыляла домой, качая головой и стараясь больше не задерживаться, а деревня зашумела еще пуще прежнего, так как Виринея Сопрыкина из магазина до дома шла целый час — останавливалась возле всех калиток и передавала слова будущей свекровушки.
Шум, гам и переполох продолжались целый день. На следующее утро деревня проснулась уже сравнительно спокойной. А еще через сутки разговоры совсем притихли, так как произошло новое волнующее событие: вечером с пятницы на субботу лентяй и забулдыга Ленька Мурзин опять купил в магазине бутылку водки и, выпив ее почти всю, ходил под окнами учительницы Капитолины Алексеевны Жутиковой, не допуская, правда, матерков, ругался насчет того, что постановка чеховского «Предложения» не состоится. Ругался и грозился он больше часу, но учительница не вышла, в окно не выглянула, и дело кончилось тем, что Ленька, сев на скамеечку под враждебными окнами, уснул незаметно для самого себя. Проспал Ленька на учительшиной скамейке до утра, проснувшись, так, как был, — не позавтракавши и не умывшись, — пошел на работу, и деревня от страха притихла: в Улыме появился первый «подзаборник». Дело было такое серьезное, что родители Леньки в субботу на колхозное поле не пошли — прятались от позора, а председатель Петр Артемьевич принял решение вызвать лентяя и забулдыгу на правление колхоза.
Все эти три дня Рая и Анатолий не встречались, Гранька Оторви да брось уехала в МТС, Валька Капа из дому не выходила, да и Рая спускалась с сеновала только затем, чтобы поесть и переменить книгу; с дядей и тетей она почти не разговаривала, братьев молча обходила и по-прежнему чувствовала себя мудрой, очень взрослой и одинокой.
В субботу Рая к семейному ужину вышла в том самом наряде, в котором приехала в деревню, то есть в матроске, короткой синей юбке и в туфлях на высоком каблуке. Почему она сделала это, Рая сама не знала, но чувствовала, что надо одеться именно так, хотя тетя и дядя матроску носить не советовали, а высокие каблуки считали неприличными. И причесалась Рая по-прежнему: уничтожила прямой пробор, волосы свободно распустила, на лоб падала короткая челка.
Рая неторопливо спустилась с крыльца, привычно оглядев вечернее небо, длинно усмехнулась, зная, что она сейчас, как говорили в деревне, необычно «красива с лица». Наверное, поэтому ее двоюродные братья притихли, тетя и дядя переглядывались, а у самой Раи раздувались тонкие ноздри. Она чувствовала себя гибкой и высокой, слышалось, как ровно и покойно бьется собственное сердце. Очень хотелось сесть, но было бы хорошо не садиться — так она себе нравилась стоящей.
— Добрый вечер! — наконец сказала Рая, подойдя к столу. — Простите, что припоздала.
Нарымское словечко «припоздала» Рая произнесла певуче, гладко, безударно, и вся она была тоже певучей, медленной, безударной; одетая по-городскому, Рая казалась почему-то такой деревенской, такой улымчанкой, какой не бывала в белой вышитой кофте и модных брезентовых тапочках. Она осторожно села на лавку, взяв ложку, неторопливо осмотрела ее со всех сторон, дождавшись, когда дядя первым зачерпнет уху, опустила ложку в чугун ловко и осторожно. Ломоть хлеба был заранее приготовлен, висел в воздухе как раз в том месте, где с ложки могло капнуть, и, конечно, ничего не пролилось на стол. «Вкусно!» — подумала Рая, обстоятельно пережевывая и уже чувствуя, что лицо у нее такое же бесстрастное, бездумное и тихое, какое бывает у улымчан, когда они едят.
Вечер выдался обычный — негромко опускалось солнце, река Кеть розовела умеренно, кедрачи синели, привычно висела над стрехой дома прозрачная ранняя луна, стояли над дворами торчки дымов, осокори на берегу казались коричневыми. Да, все это было знакомым, обычным, как и ужин, — после ухи Колотовкины поговорили о погоде, дружно решили, что не надо бы торопиться с окучиванием того картофельного поля, которое выходит на Желтую гриву, обменялись сплетнями о Леньке Мурзине, поудивлялись тому, что Верный и Угадай куда-то запропастились; после картошки с салом и малосольными огурцами мужчины поразговаривали о среднем брате Федоре, которому надо бы сшить суконные штаны — старые уж плохи, затем стали пить чай. А когда и с чаем покончили, дядя Петр Артемьевич, подвигав со значительностью бровями, сказал сыновьям:
— Вы давайте-ка валите своей дорогой, а мы с матерью да Раюхой еще побеседовам.
Хитро посматривая на сестру и подмигивая, братья вышли за калитку, тетя Мария Тихоновна села на кончик скамьи, а дядя Петр Артемьевич, закурив тоненькую папиросу «Норд», чужеродно кашлял и угнезживался на скамейке, что предвещало серьезный разговор. Не обращая на него внимания, Рая неторопливо прихлебывала чай из фаянсовой чашки, держала ее в растопыренных пальцах, а на лице стыло мудрое бабье выражение, делающее Раю похожей на тетю.
Усевшись наконец за стол, тетя Мария Тихоновна бесшумно хлебала уху, посмеиваясь чему-то, глядела вдаль, за реку, где горел непотухающий рыбацкий костер. Гладкое загорелое лицо тети было добрым, счастливым тем счастьем, которое прошло по улице вместе с тремя парнями, сидело за столом в обличье грозного мужа, улыбалось лицом племяшки. Все в жизни тети Марии Тихоновны было ладным и правильным, никакого горя она не знала с тех пор, как муж вернулся из партизан, и никакого горя не мерещилось на чистом небе, в той стороне реки, где розовел костер. Вот и была она счастлива, вот и улыбалась невесть чему, безмятежная и ласковая.
Иногда дядя и тетя косились друг на друга, встретившись глазами, опускали взгляды, и Рая понимала, как им хорошо вместе, как они дружны, согласны, по-молодому привязаны друг к другу. У дяди было узкое темное лицо, светлые усы торчали лихо; весь он был здоровый, крепкий, широкоплечий, такой же молодой под одеждой, как тетя. Петр Артемьевич и Мария Тихоновна спали всегда вместе, крепко обнявшись, но никогда не целовались, и если хотели показать нежность друг к другу, то дядя прикасался рукой к плечу тети или тетя как бы невзначай толкала мужа плечом.
— Ты чего помалкиваешь, Раюха? — сощурившись от папиросного дыма, спросил дядя. — Может, слово дала с нами не говореть или важная стала, что в невесты выбилась? Это, конечно, дело большое, но ты нам хоть словечко-то подари…
Выслушав дядю, Рая аккуратно поставила чашку на край стола, подумав, сдвинула темные колотовкинские брови.
— Я вас люблю! — сказала она громко, но не улыбнулась, когда тетя и дядя, как и следовало ожидать, смутились. Петр Артемьевич только крякнул, а Мария Тихоновна прикрыла рот концом цветастого фартука. Поэтому Рая поглядела на них совсем сердито, недовольная поведением дяди и тети, хотела было построжиться над ними, но вдруг смилостивилась — уж очень они были смущенные, уж очень терялись от обыкновенного слова «люблю»…
— Вы у меня шибко хорошие, язвы-холеры! — поджимая губы, сказала Рая. — Вы у меня такие холеры, что просто не знаю какие…
Тетя и дядя засмеялись; переглянувшись быстро, опять засмеялись… А закат все розовел да розовел, река, наоборот, темнела, кедрачи становились густо-синими, а на обласках и лодках, которые пересекали Кеть, рыбаки веслами работали старательно, так как все-таки сильный стрежень имела коричневая Кеть — приток великой реки Оби, и, чтобы пересечь ее, рыбак Николай Кульманаков делал двести сорок гребков узким остяцким веслом, доводил себя до легкого пота, но причаливал к противоположному берегу как раз напротив деревни — не давал стрежню ни на метр сносить легкий обласок…
— Тебе не надо ходить взамуж, Раюха, — глядя на Заречье, сказал Петр Артемьевич. — Чего тебе торопиться, когда надо образование поиметь, в инженерши выйти… Ты ведь взамуж всегда успешь, племяшка!
Проговорив это, дядя нерешительно повернулся к Рае, помигав, жалобно скукожился — заузил плечи и опустил голову, а лицо у него сделалось такое, словно дядя знал, что из его слов никакого толку не выйдет. «Ты меня, конечно, не послушаешься, Раюха, — сказали согбенные плечи и печальные глаза дяди. — Ты, конечно, выскочишь взамуж, но кто-то же должен тебя попросить не торопиться?… Вот я и прошу!»
— Ты бы все-таки вышла в инженерши, Раюха! — повторил дядя. — Ежели брат Миколай об этом думку имал, ты постаралась бы… А?
Рая затаила дыхание, затем, подняв невесомую руку, пощипала себя пальцами за нижнюю губу.
— А, Раюха? — переспросил дядя.
Девушка по-прежнему не дышала, сидела неподвижно, но ее ладная головка медленно поворачивалась в сторону улицы и реки… С миром что-то случилось: подпрыгнув в гофрированном мареве, увеличился в размерах соседний дом, потоньшал и возвысился старый осокорь, берега Кети раздвинулись, точно хлынуло полноводье. Потом в мире совершились мелкие изменения: кедрачи стали только синими, луна оказалась совсем прозрачной, а собственные руки приобрели вес… «Я не знала, что могу стать женой, — замедленно подумала Рая. — Я не знала, а вот дядя говорит…» И тут она услышала досадливое восклицание тети, почувствовала на плечах теплую и сильную руку.
— Ну, это не человек, а одна напасть! — сердито проговорила тетя. — Ну вот, чего же ты произвел с Раюхой, что она вся обмерла? Да какие же ты имашь права на такое, старая ты дурака!
Рассердившись окончательно, Мария Тихоновна погрозила мужу большим кулаком и, обхватив племяшку обеими руками, заговорила напевно и ласково:
— Ой, да не слушай ты, Раюха, что этот злыдень говорет! Ой, да не обращай ты, племяшка, на него вниманья! — Тут она шмыгнула носом и прослезилась. — И приданое тебе, Раюха, слажу, и свадьбу сготовлю, и обряжу тебя, и все, как у людей, будет… Так что не слушай ты дядьку-то, Раюха! Не слушай…
Руки у тети были сильные, Рая под их тяжестью сгибалась все ниже и ниже — до тех пор, пока не уткнулась лицом в теплую и большую грудь тети, и, чувствуя, что другого выхода нет, медленно и сладко заплакала. Чтобы удобнее делать это — плакать, Рая обхватила Марию Тихоновну руками, прижалась к тете щекой.
— Ой, да что вы со мной производите! — тоже запричитала Рая, не подозревая о том, что причитает. — Ой, да за что мне такие мучения!.. То идти замуж, то не идти замуж… Да кто вам сказал, что я собираюсь замуж? Кто вам наврал такое, если я вовсе и не хочу идти замуж… Не собираюсь я идти замуж — вот что…
После этого Рая почувствовала, что под щекой уже нет мягкой груди, на которой так удобно плакать, что руки тети разжались и что вообще Рая плачет не в Марию Тихоновну, а в пустоту, тетя, оказывается, отодвинулась и сурово покачивала головой, а дядя задрал на лоб обе брови.
— Это почему ты не собираешься взамуж? — спросил дядя и замигал. — Как это не собираешься, ежели гуляешь с Натолькой?
Дядя посмотрел на тетю, тетя — на дядю, оба пожали плечами. Тетя, въедливо поджав губы, проговорила осторожно:
— Уж не жалашь ли ты, Раюха, просто так гулять с Натолием?
— Это позоришша! — стукнув кулаком по столу, загремел Петр Артемьевич. — Это не то что стерпеть, это я помыслить не могу!
— Правильность! — тоже разгневалась тетя. — А ты чего, Раюха, глаза-то воротишь?… Ох, девка, ты эту моду — глаза воротить-то — бросай… А ну глянь на меня прямо… Глянь, глянь!.. Ты вот что, отец, — обернулась она к дяде. — Ты вали-ка по своим мужчинским делам… Вали, вали, пока греха нету! Улепетывай, отец… Вон и Раюха над тобой улыбатся, такой ты есть заполошный… Ишь, чего про нашу Раюху удумал!
Когда дядя, сердито оглядываясь и ворча, удалился, тетя опять придвинулась к племяшке, обняв ее, сказала:
— От этих мужиков один грех! С ими повяжешься, Раюха, так голова у тебя кругаля дает… С мужиками строгость нужна, но и обхожденье. Вот ты думашь, что мой-то Петра всегда такой славный да пригожий был? Да ни сроду! Он в парнях такой выжига был, что сразу тебя лапать! Сколько я об него рук отмочалила — это тебе не рассказать! — Она тихонечко засмеялась. — Конечно, побаловаться парень должон, на то он и парень, но ты его — по носу! Вот таким макаром делан кулак — и по носу!
Тетя сжала пальцы и показала ядреный, темный от загара и блестящий кулак.
— Ты его по носу, Раюха!
17
И был субботний вечер, и снова жаловался на скуку в тальниках коростель, и снова солнце садилось при луне, словно они не хотели разлучаться — солнце и луна, свет и темень. Пылал всегдашний костер на левобережье, всходила зеленая звезда, с которой начинался каждый день Раи Колотовкиной, и эта звезда была большой.
Баянист Пашка Набоков играл грустный вальс «На сопках Маньчжурии», шаркали по твердой земле подошвы сапог и тапочек, девчата смеялись приглушенно, а младший командир запаса Анатолий Трифонов тоненькую Раю Колотовкину в руках держал бережно, откинув голову, смотрел ей в лицо так, как учили на военной службе, — прямо, искренне и смело. Рая сквозь зубы напевала вальс «На сопках Маньчжурии», смотрела на младшего командира из-под опущенных ресниц, улыбалась загадочно, на манер Моны Лизы.
— «Спите, герои русской земли, отчизны своей сыны…» — напевала Рая и тоже откидывала голову.
Вместе с Раей кружились дома и Кеть, проплывали синие кедрачи и прозрачная луна, старые осокори и закопченная баня, хороводился палисадник дома деда Абросимова и сам дед, довольный за внучатку. Глядя исподлобья на Анатолия, она видела, как он красив и здоров, понимала, что он добр, по-деревенски хорошо воспитан; глаза у него были влажны и чуточку печальны, губы сжимались осторожно, нежно, брови выгибались, когда она усмехалась. Складчатая юбка девушки широко развевалась, утоптанная земля звенела под ногами — было ощущение полета, невесомости, доброты.
Танцуя, они еще не проронили ни слова, но Рая уже вопросительно поглядывала на Анатолия, ободряя его улыбкой, ждала, когда он начнет говорить.
Однако Анатолий молчал, хотя и глядел на нее смело, и Рая, не выдержав, капризно спросила:
— А почему мы не кружимся в левую сторону, Анатолий Амосович?
Ей было забавно ощущать власть над Анатолием, казаться старше его.
— Так вы умеете кружиться в левую сторону, Анатолий Амосович?
— Не умею!.. Пробовал, но не выходит.
— Сейчас выйдет!
Уверенная в том, что все ей теперь удается и будет удаваться, Рая, переменив положение рук, взяла Анатолия за талию, смешливо заглянув ему в глаза, стала кружиться в левую сторону, и сразу же все — небо, земля и дома — поплыло в обратном направлении, в голове образовалась сладкая пустота, и Рая беспричинно засмеялась, — наверное, оттого, что ей все удавалось, что девчата и парни глядели удивленно, так как в Улыме никогда не танцевали вальса в левую сторону. От Анатолия пахло трактором, у него, как от солнца, суживались зрачки, подбородок был мальчишеский, нежный.
— Вот мы и научились танцевать в левую сторону! — протяжно сказала Рая. — Теперь возьмем меня по-старому и поведем сами… Вот так, вот так… Ах, какие мы молодцы!
Кружась то в правую, то в левую сторону, они изредка прижимались друг к другу, и в эти секунды Рая чувствовала, как мускулиста грудь Анатолия, какие могучие у него руки, а он видел, как хороша Рая — какие у нее красивые глаза, рот, шея.
— «Спите, герои русской земли, отчизны своей сыны…» — пела Рая.
После вальса «На сопках Маньчжурии» они танцевали фокстрот «Рио-Рита», после чего плыли медленно под «Утомленное солнце нежно с морем прощалось», потом опять кружились в обе стороны под вальс «Дунайские волны»… Этот вечер на деревенской товарочке казался Рае бесконечным, как ее жизнь, напевным, как вальс, и немножко грустным оттого, что Рая и Анатолий чувствовали себя одиноко на танцевальной площадке, хотя народу там была тьма-тьмущая. Однако они никого и ничего вокруг себя не замечали — Рая так и не узнала, была ли на товарочке раскрасавица Валька Капа, об отсутствующей Граньке Оторви да брось вспомнила мельком, братьев сразу потеряла из виду; она не слышала, как перешептывались девчата, пораженные тем, что Стерлядка танцует, не видела улыбок парней, не одобрявших Анатолия.
Вечер длился вечно, и уж потом, когда Пашка Набоков устал и начал делать длинные перерывы, когда стали незаметно исчезать с товарочки обнявшиеся пары и когда дед Абросимов, привалившись к стене, захрапел громко, Рая пришла в себя и обнаружила, что стоит ночь, настоящая ночь…
Луна уже потеряла прозрачность и светила ярко, хотя время от нее откусило четвертушку, небо сделалось черным, и в мире остались светлыми только дорога-улица да лунная полоса на Кети — все остальное было темно, как ночь: чернели палисадники, ельник, заречный лес и кедрачи за огородами, а вокруг желтого рыбацкого костра сгущалась такая темень, что брала жуть.
— Проводите меня домой, Анатолий Амосович! — тихо попросила Рая. — Пора уже…
Она давно усвоила патриархальную привычку улымских молодых людей обращаться друг к другу по имени-отчеству и на «вы»; больше не удивлялась этому, а, наоборот, чувствовала особую прелесть выдуманной отчужденности.
— Идемте, идемте! — повторила Рая.
Они пошли отдельно друг от друга, пошли медленно, сдержанными, укороченными шагами, так как за два года до войны в Улыме еще не было заведено обычая брать девушку под руку, а обняться Рая и Анатолий пока не имели права. Под ручку с женой по деревне разгуливал только дядя Петр Артемьевич, но и он это не сам придумал, а был научен кем-то, чтобы показывать пример культурного обхождения с женщиной.
В тишине тревожно лаяла молодая собака, кто-то смеялся за спиной, на дороге похрюкивала свинья тех Мурзиных, у которых брат в тюрьме; она, свинья, была такая вздорная, что никак не хотела ночевать в собственном дворе, а все норовила поспать на деревенской улице да под чужим пряслом, и свинью прозвали Гулеванная. Она и сейчас лежала посреди дороги, постанывая, дрыхла в свое удовольствие — пузатенькая, солидная и такая спокойная с виду, что и не подумаешь про нее: «Гулеванная!»
Сначала Рая и Анатолий шли просто прямо, не задумываясь над тем, куда ведут их натанцевавшиеся ноги, но метров через триста-четыреста поняли, что приближаются к околице, к тому самому месту, где между двумя кедрами стояла скамейка для усталых путников, одинокая и желтая от луны. Скамейка относилась к тем местам в мире, которые были светлыми, и Рая, конечно, заметила, как между бровями Анатолия появилась стариковская морщина. Она вздохнула и сказала:
— Вот и пришли. Вот и сели.
Было безветренно, глухо, но кедры пошумливали кронами, кто-то шуршал травой, наверное, лесная мышь; младший командир запаса дышал аккуратно, сдержанно, лунный свет сделал его глаза фиолетовыми, руки на коленях лежали неподвижно, словно восковые. Мир постепенно собирался в одну небольшую светлую полоску — скамейка, кедры над головой, два молчаливых человека. Рая чувствовала, как река, небо и деревня постепенно исчезают, тьма заботливо окутывает их жутью, точно рыбацкий костер на левобережье; потом, когда мир окончательно сошелся на ней и Анатолии, время остановилось, покачиваясь, как маятник старинных часов… Рая подобрала ноги, устроившись на скамейке как на широком диване, спиной привалилась к плечу Анатолия, прислушиваясь к тишине, окаменела. Не было ни желаний, ни мыслей, ии ощущения самой себя, ни пространства, ни времени — только светлая полоска среди тьмы.
…Две недели назад Рая проснулась на рассвете со слезами на глазах, посмотрев на зеленую звезду, растопыренную по-паучьи, подумала: «Пропала я!» За мерцающей звездой, в паутине и серости, голубела Гундобинская вереть, шаталось, готовое пролиться, Чирочье озеро, перекатывалось в березах эхо: «Стерлядка!» Глотая безмолвно горячие слезы, Рая увидела умирающего отца, услышала сдавленный болью голос: «Не хочу оставлять тебя одну! Не хочу!» По пергаментной щеке отца катилась одна-единственная слеза, маленькие от болезни — детских размеров — пальцы беспомощно комкали простыню, умирающие волосы сами по себе лежали на подушке: «Не хочу оставлять тебя одну!» На глазах у растопыренной звезды Рая судорожно вздрагивала, руки разбросала в стороны, чтобы пальцы случайно не нащупали тоненькую талию, узкие бедра, крошечную грудь. «Пропала я! Пропала!» Зеленая звезда все пошевеливалась да пошевеливалась, паучьи ноги вырастали и махрились, тянули острые коготки к Раиному лицу; потом паук исчез — слезы застлали глаза…
Очнувшись, Рая затрясла головой, потом засмеялась хрипло — Анатолий по-прежнему сидел рядом, боясь переменить положение плеча, на которое опиралась Рая, смотрел на нее странно-отчужденно и робко, словно подглядывал в щелочку. «Кто ты такая? — спрашивало лицо младшего командира запаса. — Как случилось, что ты опираешься на мое плечо, а я не могу понять, кто ты есть? И почему я, Анатолий Трифонов, сижу с тобой?» И он ошеломленно молчал и боялся дышать, так как, наверное, предчувствовал, что рядом с ним сидит такая девушка, какие несколько десятилетий спустя пойдут десятками по улицам советских городов и сел, заполнят экраны кинотеатров, аэродромы и танцплощадки, а иностранцы нехотя признаются в том, что на московской улице Горького красивых современных девушек больше, чем на Елисейских полях, итальянки и француженки полнеют рано, американки мужеподобны, а русские девушки семидесятых годов будут стройны, вальяжны и современны. Однако за два года до войны, всего через два десятилетия после революции, призвавшей к власти коренастых, широкоплечих пахарей и кузнецов, таких девушек, как Рая, было мало. Два десятилетия должно было пройти до той поры, когда у пахарей и кузнецов начнут рождаться дети космического века, а пахари и кузнецы, не поняв сразу, как прекрасны их дети, будут ворчать и огорчаться, что юбки на их длинных ногах коротки, что небрежные прически юношей закрывают высокие лбы атомщиков и кибернетиков.
— Обеими меня, Толя! — прошептала Рая, сжавшись и вздрагивая от того, что было в глазах парня. — Обними меня, мне холодно и страшно…
Утренняя Раина звезда висела на кедровой ветке, зацепившись за хвою, пульсировала ровно, замедленно.
— Раюха! — волнуясь, прошептал Анатолий. — Ах ты, Раюха-краюка, ах ты, Раюха-матюха…
18
Когда шаги Анатолия эатихла, когда луна начала затуманиваться, а звезды, наоборот, предрассветно засветились ярко, когда в утренней тишине остался только один звук — лая молодой собаки, Рая Колотовкина протяжно засмеялась и упала грудью на калитку собственного дома, на теплое и шершавое дерево — так и замерла надолго, дыша запахами земли и речной влажностью.
Молодая собака все лаяла да лаяла, река шелестела, как бумага, по которой осторожно проводят пальцами, под крышей дома возился воробей, не зная, что делать — спать дальше или упасть в теплый воздух, и так бы ни на что не решился, дремал бы только, если бы вдруг ошалело не загорланил эаполошный мурзинский петух. Он прокукарекал трижды, потом замолк, набираясь сил, и уж тогда завопил во всю моченьку.
Рая от петушиного крика вздрогнула, подняв голову, укоризненно посмотрела на мурзинский двор и, подумав, передразнила петуха:
— Кука-ре-ку!.. Ишь, разорался!
И опять протяжно засмеялась, так как вся — с головы до ног — была потрясена теплым деревом, тускнеющей луной, запахом дегтя, которым пахли сапоги дяди и братьев, стоящие возле крыльца; шаги Анатолия давным-давно затихли, но ей казалось, что он все еще идет рядом, что его рука лежит на ее плече, а он все растерянно повторяет: «Ах ты, Раюха-краюха, ах ты, Раюха-матюха!» И все это было таким смешным, радостным и неиспытанным, что Рая, обнимаясь с калиткой, ласкала пальцами теплые ее доски, прикасаясь мизинцем к новой вертушке, смеялась тому, что Верный и Угадай молчали сконфуженно — не могли понять, почему стоит возле калитки, а не идет в дом пахнущий родным запахом человек; они такие были забавные и растерянные, что Рая снисходительно похлопала их по глупым мордам, потом, сняв туфли, на цыпочках вошла в дом.
В сенях, конечно, оголтело храпели братья, на отдельном кожушке опять лежал Виталька Сопрыкин, что означало драку с парнями каповскими, и Рая осуждающе свела брови, подумав: «Каждый вечер дерутся!» В комнате с раскрытым настежь окном спали, обнявшись, тетя и дядя, во второй комнате — горнице — посередине пола лежала кошка, умудряющаяся спать сутками. А следующая комната была Раиной. Здесь на столе матово поблескивала кринка с молоком, лежали хлеб, сало и кусок холодного вареного мяса. Под столом сидела вторая кошка и неотрывно глядела вверх. Ей Рая сказала:
— Хитренькая какая!.. Это для меня приготовлено… Понятно?
Минут через десять, выпив все молоко и все съев, Рая на цыпочках выбралась из дому, остановившись на крыльце, увидела, что ночь быстро бледнела и таяла, луна, сливаясь с небом, словно впитывалась в него, а рыбацкий костер окутался синим дымом, неподвижным и волнистым. Выпала роса, трава блестела и едва приметно шевелилась, сделалась зеленой до того, что казалась синей, и вот от этого — синюшности и тусклого блеска — в лицо Раи подуло холодом и тревогой. «Надо идти к Граньке! — внезапно подумала она. — Надо обязательно пойти!»
Больше ни о чем не думая, не разбираясь в причинах своего поступка и почему-то по-прежнему на цыпочках, Рая вышла на улицу и быстро-быстро зашагала к дому подружки, хотя не знала, что скажет Граньке, для чего бежит к ней на рассвете и почему роса вызывает тревогу и беспокойство.
Бледная заря чуточку высветливала темень сеновала, можно было уже видеть одеяло из разноцветных кусочков, хотя оно казалось серым; полный и круглый локоть закрывал лицо Граньки — лежала она на спине, и было понятно, что не спала долго, все ворочалась да ворочалась — так измученно был перекошен угол подушки, одеяло сбилось… Действуя по-прежнему инстинктивно, Рая проскользнула под одеяло, обняв Граню за твердые плечи, прижалась щекой к щеке подружки и заплакала.
Плакала Рая осторожно и тихо; поздно уснувшая Гранька спала на рассвете крепко, и в одиночестве можно было всласть поплакать. Рая плакала оттого, что у нее убили на колчаковском фронте мать, что умер от старых ран отец, что Анатолий полюбил ее, но не любит Граньку, что братья каждый вечер дерутся с каповскими парнями, что долго стоит хорошая погода, после чего, конечно, начнутся дожди, что за летом последует осень, что Ленька Мурзин выпил почти всю бутылку водки, что ей не хочется читать учебник тригонометрии, что Анатолий уходил домой так неохотно, словно его вели в тюрьму, что он не умеет говорить слово «любовь», что плечо Граньки пахнет полынью и что жить на белом свете хорошо.
Рая уже затихала, уже только крупно вздрагивала, когда проснулась Гранька; долго, наверное минуты три, подружка лежала в полной и слепой неподвижности, затем плечи Граньки затряслись, и она тоже заплакала так громко и ровно, словно еще с вечера приготовилась плакать и только ждала момента, чтобы начать. Плача, подружка жарко прильнула к Рае, и Рая тотчас же заревела белугой, как бы обрадовавшись возможности плакать громко и коллективно.
Гранька Мурзина плакала потому, что ее не полюбил Анатолий, которого любила она, что в соревновании на Гундобинской верети она победила младшего командира запаса, что тяжело крутить заводную ручку трактора, что все в деревне называли ее Гранькой Оторви да брось, что она зарабатывала больше любого мужика в Улыме, что вслед за летом придет осень, что на самом деле она добрая, тихая, деловитая девушка, а вовсе не Оторви да брось и что жить на белом свете все-таки хорошо.
Подружки плакали долго, проливали слезы друг другу на плечи, лежали тесно, горячо обнявшись, и смотрела на них утренняя зеленая звезда, которая и звездой-то не была, а планетой — самой яркой и крупной из тех, что бывают видны в благословенных нарымских краях. Сладко и беззастенчиво плакали подружки, и слезы их смешивались как два ручейка, были горькими-горькими, а обе плачущие были счастливы молодостью, дружбой, здоровьем, зеленой звездой и сеновалом, на котором пахло покосом; плакали они, не подозревая об этом, от счастья, так как не знали, что всего через два года и с ними, и с Анатолием Трифоновым, и с деревней, и с сеновалом, и с цветастым одеялом, и с зеленой звездой произойдет страшное. Всего два года оставалось до самой большой и жестокой войны в истории человечества, после которой от их сегодняшнего счастья ничего не останется: падет смертью храбрых младший командир Анатолий Трифонов, потеряет левую руку Граня — медсестра саперного батальона, утратит дядю и двух братьев Рая Колотовкина, а деревня Улым превратится в поселок с леспромхозом и сплавконторой…
Кричали на деревне петухи, выходили на крылечки старики в белом, справив надобность, длинно и сладко зевали, поглядев на белесое небо и зеленую звезду-планету, решали, что долго продержится еще хорошая погода. На востоке было светло, и роса чисто сверкала на листьях подорожника, и петухи пели бодро, и воздух ходил над землей легкий, прозрачный, словно ранней весной.
— Ой, Граня, Граня! — плакала Рая Колотовкина. — Да почему я такая разнесчастная да такая неудачливая?… Ой, Граня, Граня, подружка ты моя сердечная!
— Ой, Раюха, Раюха, — вторила Гранька низким бабьим голосом, — да почему такое деется, что нет мне счастья-удачи, да отчего я такая невезучая?… Ой, подруженька моя ясная!
Плакали они до тех пор, пока были слезы, потом же начали затихать так же медленно, как утишивается нудный осенний дождь, — тучи уже разошлись, солнце уже дважды или трижды проглянуло, а откуда-то еще каплет, что-то еще шелестит и хлюпает. Затихая, подружки швыркали носами, вздыхали, не разжимая рук, старались сделать так, чтобы каждая могла видеть большую зеленую звезду. Наконец они замолкли совсем.
Деревенские петухи разнобойно кричали, мурзинский горлодер, конечно, старался перекукарекать всех, довел себя до пропойного хрипа, но все равно не сдавался: настырный был петух и злой, как супоросая чушка.
А немного спустя на колхозной конюшне, проснувшись, заржала каурая кобылица Весна.
— Скоро вставать, — осипшим голосом сказала Гранька. — Вот и ноченька прошла…
Она осторожно вынула руку из-под Раиной шеи, перевернувшись на спину, трижды вздохнула так, словно ей не хватало воздуха. Гранька молчала долго — минут пять, потом сказала в темный потолок сеновала:
— Ты не обижайся на мои слова, Раюха, но трифоновская-то мать не хотит, чтобы Натолий на тебе обженивался… У их хозяйство само большое в деревне, так она сомневается…
Выпуклые глаза Граньки блестели.
— Самого-то Амоса Лукьяныча неделю в деревне нету, так его возвращения ждут не дождутся… — Она снова вздохнула. — Натолькина-то мать ногами больная… Вот все и сомневаются…
Граня обратила лицо к подружке, сморщившись, закрыла глаза.
— Сама-то хотит в снохи Вальку Капу. Валька, она шибко удалая, работящая да старательная — лучше ее доярки во всем районе нету… Вот они ждут не дождутся Амоса Лукьяныча — его слово последнее…
Пахло росой и влажными травами, выцветшее небо казалось застиранным, мурзинский петух уж не кричал, а хрипел перехваченным горлом — прохладно было, тревожно и беспокойно, точно на сеновал заглянул посторонний человек.
— Как это сомневаются? — шепотом спросила Рая. — Что это значит: сомневаются?…
Она поднялась, отряхнув с волос сенную труху, уставилась в белесое небо.
— Как это сомневаются?…
19
Весь тот длинный день Рая ходила по деревне и по двору безостановочно, как чумная, все из рук у нее валилось, губы сохли, глаза блестели, и нигде она не находила покоя — вдруг останавливалась, поднявшись на цыпочки, чутко и болезненно прислушивалась, чтобы уловить гул тракторного мотора, но его не было, так как трактора давно ушли с Гундобинской верети.
Ничего хорошего Рая придумать не могла. Минуты две-три подряд она понимала, что ей не надо так рано выходить замуж, что это безумство, — став женой на девятнадцатом году жизни, отказаться от института; в следующие две-три минуты Рая решала, что погибнет, если не выйдет замуж за Анатолия Трифонова, и уже собиралась бежать к Капитолине Алексеевне, чтобы договариваться о месте учительницы первых-вторых классов, которое ей могли предоставить как человеку со средним образованием, а еще через две-три минуты она хотела только одного — зарыться лицом в подушку и ни о чем не думать.
Встревоженная Мария Тихоновна несколько раз перехватывала племянницу на дворе, насильно усадив на скамейку, пыталась разговаривать, но при виде тетки Рая начинала улыбаться лихо, хохотала угрожающим, варнацким смехом и вообще сбивала Марию Тихоновну с толку отчаянностью и бабьей злостью. Рая искусала до дыр маленький носовой платок, вырядившись с раннего утра в сарафан, так затянула пояс, что из-под оборки виделись начала маленьких грудей, и после обеда, когда дядя и братья ушли на работу, найдя пачку дядиных папирос «Норд», закурила, чем перепугала тетю до смерти. Тетя от этого обессиленно шмякнулась задом на крыльцо и, забыв о том, что муж ее — человек партийный, председатель и бывший партизан, мелко закрестилась: «Свят, свят!»
Анатолий появился в этот день рано, в шестом часу вечера, тоже начал торопливо прогуливаться по улице, и, когда Рая выбежала к нему, ей вдруг показалось, что день был коротким, как мгновение. Потом они о чем-то говорили, куда-то шли — в голубое и прозрачное, с ними происходило что-то такое, что сделало все вокруг зыбким и нереальным, и Рая не поняла, как они внезапно оказались на берегу озера Чирочьего. Однако это было так — вон оно, озеро! — и день, оказывается, уже умирал. Значит, он действительно промелькнул обидно быстро, а как хотелось, чтобы солнце сейчас было ярче, трава зеленей, вода прозрачней и утки летали чаще! Ах, каким коротким оказался день, если солнце уже цеплялось за синие кедрачи, по земле бродили на мягких ногах сонные тени, камыши грустно кивали, а утки, сытые и розовые, нехотя окунали головы в теплую воду!
Рая и Анатолий прилегли на траву, пронизанные тишиной и грустью, замолчали надолго, до тех пор, пока солнце не занизилось настолько, что озеро и берег начали окутываться серостью и прохладой. Тогда Рая и Анатолий, не сговариваясь, одновременно поднялись с земли, сцепив пальцы, отдаленные друг от друга на длину вытянутых рук, медленно пошли в деревню. Метров через двести они снова, не сговариваясь, одновременно остановились, исподлобья посмотрев друг на друга, сблизились, чтобы поцеловаться. Когда им не хватило воздуху, они просто обнялись.
— Ты любишь меня, Толя? — закидывая голову назад, спросила Рая. — Скажи, ты любишь меня?
— Люблю! — помолчав, ответил он. — Ты моя Раюха-краюха!
Дальше они пошли, по-деревенски обнявшись, то есть Анатолий обхватил рукой шею девушки, она обвила рукой его талию, и так шагали тесно, слитно, как бы один человек. До самой деревни они ни разу бы не остановились, если бы Рая могла вспомнить какие-то очень важные слова Анатолия, сказанные им в первые минуты встречи. Однако она забыла, о чем он говорил, а только помнила, что это было что-то значительное, тревожное и обязательное. Поэтому Рая остановилась, заглянула Анатолию в лицо.
— А что ты мне сказал тогда, когда я уронила на землю платок? — спросила Рая удивленно. — Ты мне что-то сказал, а я не слышала.
— Я сказал, что под вечер вернется отец, — ответил Анатолий и выпрямился. — Он сейчас, поди, уже дома…
Рая ойкнула, уронив голову, тяжело привалилась к Анатолию — было темно и страшно, как на Гранькином сеновале, а потом произошло такое, что Рая опять почувствовала себя проснувшейся: заметила, что они давно подошли к деревне, уже осталась позади скамеечка под двумя кедрами, и даже начались первые дома, палисадники и лавочки, на которых сидели старики и старухи.
Дома, палисадники и улица тоже казались серыми, как Гундобинская вереть, только окна чуточку розовели, прозрачные тени были глухими; мир переживал как раз те минуты, когда день переходит в вечер и на короткое время все вокруг теряет цвет. Несколькими мгновениями позже мир приобретет новые, вечерние краски, но сейчас все серо, бесцветно, бесприютно…
— Ой, Толя, — шепнула Рая, — ой, Толя, почему они так смотрят?
Старики и старухи действительно глядели на Раю и Анатолия необычно, то есть глаза у них были добрые, ласковые и безмятежные, но на лицах можно было прочесть терпеливое ожидание печальной неизбежности; старые старики и старухи на Раю и Анатолия смотрели так, как немой глядит на слепого, когда тот делает последние шаги к зияющей яме.
— Отец приехал! — тоже прошептал Анатолий, инстинктивно прижимая к себе Раю. — Отец, говорю, приехал…
Деревня Улым состояла всего из одной длинной улицы, прямой по той причине, что река Кеть до излучины была тоже пряма, как натянутая леска, и поэтому можно было видеть, что от околицы до околицы деревни нет ни одной пустой скамейки — на всех сидели старики и старухи, выбравшиеся на улицу в полном составе оттого, что полчаса назад на жеребчике Ваське по пыльной дороге проехал решительной иноходью Амос Лукьянович Трифонов, спрашивая на ходу, где сейчас находится его единственный сын.
— Ой, Толя!
Сера и бесцветна была улымская улица, висело над ней серое небо с серой половинкой луны, и даже низкое солнце в эти мгновения казалось серым. Стариковские скамейки, делающие деревенскую жизнь публичной, стояли возле каждого дома, и поэтому идти по улице было так же страшно, как сквозь строй солдат с визгливыми розгами.
Рая побледнела, осунулась, у Анатолия на скулах набухали желваки.
— Ну, поглядим! — шепнул он с угрозой. — Ну, погоди!.. Пошли, Раюха, не боись!
Еще вчера и позавчера старики и старухи, заметив Раю и Анатолия, дальнозорко прищуривались, склоняли головы на плечо, притихали так, словно вглядывались в самих себя, вспоминали, наверное, молодость, своих женихов и невест, свою молодую Кеть и свой молодой месяц. Сегодня старики и старухи жили только в настоящем, в предчувствии печальной неизбежности, и поэтому были преувеличенно вежливы — привставали со скамеек, отвешивая Рае и Анатолию поясные поклоны, ласково морщили губы: «Бывайте здоровехоньки, Раиса Николавна! Всего вам хорошего, Натолий Амосович!»
Дом Трифоновых приближался, уже были видны подробности тальникового прясла и резных наличников, уже проглядывал сизый дымок дворовой печурки, и уже можно было заметить кривоногую по-кавалерийски и сутуловатую фигуру Амоса Лукьяновича, энергично расхаживающего меж крыльцом и колодцем. Его жена Агафья Степановна — женщина с толстыми прозрачными ногами — стояла возле печурки, так как пришло время ужина. И на колотовкинском дворе тоже можно было наблюдать оживление, хотя до него было в два раза дальше, чем до дома Анатолия.
— Ничего, не боись! — опять прошептал Анатолий и остановился, чтобы снять руку с плеча Раи. — Не боись, Раюха-краюха!
Он, как гимнастерку, одернул белую вышитую рубаху, выпятив квадратный подбородок, расправил грудь, а Рая почувствовала, что ей холодно без руки Анатолия на плече и что она сделалась от этого легкой, как дымок над печурками, и серой, как все вокруг. Она зябко поежилась, задрав голову, смотрела на Анатолия доверчиво, сразу поняв, что ей сейчас надо делать только одно — подчиняться Анатолию, ни о чем не думая, ничего самостоятельно не предпринимая. Неожиданно она обнаружила, что у Анатолия холодные серые глаза и по-мужичьи широкая шея с продолговатыми выпуклыми мускулами. Он хмурил брови, зубы стиснул, потом взял жесткими пальцами Раю за локоть, больно сдавив, молча повел за собой — с неласковым лицом, с угрюмыми глазами.
— Бывай здоров, батя! — пройдя вместе с Раей в калитку, спокойно поздоровался Анатолий. — Дравствуйте и вы, мама!
Давно заметившие сына и Раю, муж и жена Трифоновы подчеркнуто медленно обернулись, вежливо ответив на приветствие, начали глядеть на Раю бесцеремонными немигающими глазами, отчего девушка сначала чуточку попятилась, затем, освободив локоть от пальцев Анатолия, напряглась, вытянулась, сделалась особенно высокой и тонкой — так и замерла перед беспощадным бабьим взглядом Агафьи Степановны и мужичьей въедливостью Амоса Лукьяновича. Что думали муж и жена Трифоновы о Рае Колотовкиной, ей знать было не дано, так как ничего нельзя прочесть на лицах коренных нарымчан, если они, нарымчане, думают об отвлеченном. Поэтому на лицах родителей младшего командира запаса ничего ровнешенько не было, плохо или хорошо они относились к Рае, установить было невозможно, и дело кончилось тем, что Рая все-таки опустила голову, а хозяин дома Амос Лукьянович вежливо сказал:
— Чего же это мы стоймя-то стоим? Ведь проходить надо, усаживаться как следоват…
Сразу после этих слов вперед выступила Агафья Степановна, вытерев уголки губ фартуком, поклонилась Рае в пояс.
— Ты прохаживай, касатушка! — ласково сказала она. — Ты садись-ка вот на скамеечку-то, нога под тобой не казенная… Натолий, ты прими у своей крали-то косынку; чего она ее пальцами-то мучит…
Теперь у родителей Анатолия были добрые и хорошие лица, по которым понималось, что они по-настоящему рады гостье, что готовы сделать все, чтобы Рае было уютно в их чистом дворе. Агафья Степановна суетилась, смахивая со скамейки пыль, сам Амос Лукьянович, стыдливо прикрывая волосатую грудь ладонями, отступал задом, задом, чтобы взять незаметно сатиновую рубашку да надеть ее при гостье. От суматохи и шума на крылечко торопливо высыпали сестры Анатолия, любопытные и многочисленные, разных возрастов, жадно рассматривали на Стерлядке городской нахальный сарафан, но лица у них были почтительные.
— Присаживайся, касатушка, бывай гостенькой, славная, не побрезгуй простым угощеньем, милая! — напевала между тем Агафья Степановна. — Девки, чего же вы стоите! Тащите рушник да мыло…
Натянувший на плечи сатиновую рубаху Амос Лукьянович уже причесывал перед осколком зеркала лихой кавалерийский чубчик, Агафья Степановна тоже незаметно поменяла будний фартук на праздничный, а сестры уже выносили вышитое красными петухами домотканое полотенце и кусок туалетного мыла. И сестры успели переменить кофточки, причесались наскоро, втиснули полные ноги в тапочки, отчего вид приобрели праздничный.
— Отужинай с нами, касатушка, — все приглашала Агафья Степановна, суетясь. — Чем богаты, тем и рады!
Весело, уютно, славно сделалось на трифоновском дворе, но Рая не могла понять, почему Анатолий все еще озабоченно хмурится, глядит исподлобья, стоит так, словно не знает, что делать, приглашать Раю за стол или уводить ее со двора. Поэтому Рая наклонилась, чтобы взять Анатолия за руку, нашла было уже его твердые пальцы, однако они ускользнули.
— Погоди! — шепнул Анатолий.
За спиной Раи раздались шаркающие шаги и кашель, потом послышался скрип и тяжелый вздох. К трифоновскому двору подошел дед Абросимов, молча положив руки на прясло, не здороваясь, начал разглядывать хозяина и хозяйку, сестер, Раю и Анатолия; дед загибал на лоб тяжелые брови, покусывая запавшими губами клок трехцветной бороды, не произносил ни слова и, видимо, не чувствовал неловкости от того, что приплелся непрошено. Еще минуточкой позже к пряслу пришагал старый рыбак Мурзин, прозвавший Раю Стерлядкой, и молча повторил все то же, что делал дед Абросимов. Потом на ватных ногах прибыл третий дед — прародитель всех улымских остяков Иван Иванов. Старики сопели, помаргивали и были серьезны, как на колхозном собрании. Изредка дед Абросимов косился утешительно на Раю: «Ничего, ничего, внучатка! Обойдешься как-нибудь…»
А мир, превозмогая унылую серость, бросался с размаху в разноцветье и вечернюю запашистость; всего на волос приспустилось к западу солнце, только несколько крохотных лучей, выпроставшись из серости, брызнули в стороны, как произошло то, что происходит с переводной картинкой, когда с нее сдергивают мокрую бумагу, — засияло, заблистало и заторжествовало все вокруг. Каким высоким и голубым оказалось небо, какой настырно-коричневой была река, какими синими тонами ударили во все стороны кедрачи, словно бы выпрыгнув из самих себя! О, мир был ярким, как кровь, только что хлынувшая из раны, а как пахнул он, этот вечерний мир! В нем благоухало все, что хотело и умело пахнуть.
— Шу-шу-шу! — вдруг зашептались старики возле тальникового прясла и головами закачали так, как это делают тальники, когда с озера неожиданно срывается теплый ветер. — Шу-шу-шу!
Подбочениваясь и закидывая голову назад, шла к трифоновскому двору раскрасавица Валька Капа. Она около часу таилась за бревенчатыми стояками, с тех пор терпеливо дожидалась своей минуточки, как проехал по Улыму решительной иноходью сам Амос Лукьянович Трифонов, вернувшись с дальних полей. Все-все стерпела Валька Капа: и как Рая с Анатолием шли обнявшись, и как не сразу вошли во двор, и как Рая уже было обрадовалась тому, что на дворе стало весело и уютно. Все это выдержала Валька Капа, но после прихода стариков к тальниковому пряслу поняла, что вот пробил и ее, Валькин, торжественный час, пришел праздник и на ее, Валькину, улицу.
Шагая с такой неторопливостью и праздничностью, что приходилось некрасиво выворачивать наружу носки белых тапочек, держась руками за концы косынки, Валька приближалась к тому месту прясла, где молчали старики, выпуклыми бедрами покачивала открыто, нахальную грудь выпячивала. «Нам терять нечего, наше дело все одно пропащее!» — говорили зеленые Валькины глаза, и незагорелое ее лицо было таким же белым, как тапочки, начищенные зубным порошком.
Подойдя к пряслу, Валька встала неподалечку от старика Ивана Ивановича Иванова, обнажив белые зубы, ровным голосом поздоровалась со всем честным народом:
— Бывайте здоровехоньки, Амос Лукьяныч да Агафья Степановна, доброго вам вечеру, Маняшка, Груня, Лена, Поля да Зинаида Амосовна! И вы здравствуйте, Анатолий Амосович!
Судя по выражению глаз и по напряженным рукам, Валька Капа должна была закричать страшным бабьим голосом, визгливым и оглушительным, но в Улыме кричать было не принято, и брошенная красавица заговорила так тихо, что сразу стало слышно, как плещет под яром кетская вода.
— Ты бы заздря не радовалась, Стерлядка, что тебя за стол зовут, — сказала Валька Капа. — Ты бы не лыбилась загодя, когда на шотландца схожая…
Набрав полную грудь воздуха, Валька частями выпустила его сквозь стиснутые зубы, сдерживаясь, совсем побледнела.
— Конечно, мы не инженерши, — продолжала она. — Конечно, мы для трифоновских неподходящие, но и ты, Стерлядка, в этом деле сбоку припека… Во-первых сказать, ты, поди, чахотовкой больная, во-вторых сказать, Натолий-то с тобой погинет! Ха-ха-ха! — вдруг раскатилась Валька. — Ха-ха-ха! Откудова ты взялась такая, что в снохи набиваешься, а тела в тебе нету! Ха-ха-ха! Под тобой нога подломится… Ха-ха-ха!
Незнакомые, темные и слепые силы поднимались, захлестывали Раю, отнимая разум и способность владеть собой, заставили девушку сделаться низкой, сутулой, коренастой; перед глазами на мгновение возникло серое замкнутое пространство неизвестного происхождения, сердце заныло от тоски и безнадежности, а потом случилось такое, чего никто не ждал и ждать не мог.
— Дура! — вдруг сдавленно крикнула Рая и метнулась змейкой к тальниковому пряслу. — Гадина!
Рая по сравнению с Валькой казалась лозинкой рядом со столетним кедром, но колотовкинская кровь и колотовкинский квадратный подбородок бросили девушку на соперницу, сделав мускулистым ее тонкое тело. Испуганно заморгав, отшатнулись от прясла старики, не ожидавшая нападения Валька инстинктивно присела, чтобы прясло помешало Рае ударить ее в лицо.
— Убью! — голосом комдива Колотовкина закричала Рая, перегибаясь через прясло. — Я тебе покажу Стерлядку!
Но уже бросился к девушкам младший командир запаса Анатолий Трифонов, перепрыгнул через прясло к Вальке Капе сам Амос Лукьяныч, да и старики сдвинулись, залопотали.
— Раюха, погоди! — испуганно кричал Анатолий. — Раюха, удержись!..
Разбросав в стороны мужчин, Рая звонко хлестнула Вальку ладонью по щеке и сделала опять неожиданное — перемахнула пушинкой через прясло, захохотала, пошла стройненько по длинной улице. Метров пятьдесят она двигалась безостановочно, затем медленно повернула голову назад:
— Плевала я на вас! На всех плевала!
После этого Рая ссутулилась, разжала кулаки и как-то бочком, застенчиво и вяло засеменила в сторону Гундобинской верети — плакать и отчаиваться, страдать и бояться возвращения в деревню.
Рая уже скрылась, когда дед Абросимов по-петушиному хлопнул себя длинными руками по коленям, широко раскрыв рот, захохотал беззвучным стариковским смехом.
— Ну, чистая шотланца… Ну, это не внучатка, а одна удовольствия! Ах, ах, пойти народу рассказать…
20
Чтобы не возвращаться в деревню засветло, Рая просидела на берегу озера Чирочьего часа полтора, то есть до той минуты, пока от заката осталась только крошечная бледная полоска. Потом со вздохом поднялась с захолодавшей земли и потихонечку двинулась домой, решив идти не улицей — черт бы ее побрал! — а задами деревни.
До родной калитки девушка добралась благополучно, никого не встретив, и уже радовалась тому, что в доме все спят: свету в окнах не было, никакого шевеления на дворе не наблюдалось, одним словом, тишь да покой. Проскользнув в калитку, Рая, как всегда, по траве пошла на цыпочках, смотрела она при этом, конечно, под ноги, чтобы не споткнуться и не загреметь чем-нибудь, дышала аккуратно и уж начала было подниматься на крыльцо, как спиной почувствовала что-то постороннее, мешающее, но легкое, словно на плечи упала паутинка.
Обернувшись назад, Рая поджала губы — за столом неподвижно и молча сидели все Колотовкины: дядя, тетя и братья.
— Здравствуйте! — от неожиданности сказала Рая и спустилась ступенькой ниже.
Во главе стола хозяйствовал, дядя Петр Артемьевич; на Раином месте сидела тетя, а все остальные располагались так, как им было положено, то есть привычно, хотя все остальное было новым: младший брат Андрюшка не улыбался, дядя не курил перед сном, тетины руки не лежали мирно под фартуком, а устало белели на коленях, освещенные лунным блеском. Старший брат Василий из лавки торчал прямо и крепко, как гвоздь.
— Драствуй! — за всех ответил дядя Петр Артемьевич. — Ты бы присела, племяшка…
Рая осторожно подошла к столу, аккуратно расправив на коленях складки юбки, села и начала внимательно смотреть на лицо дяди — оно у него было озабоченное и серое, уголки рта опустились, руки лежали на столе непрочно, зыбко, словно не на своем месте. Он тоже неотрывно глядел на племяшку, задумчиво пошевеливая губами, не кашлял чужеродно и не угнезживался на скамейке, как это делал обычно перед серьезным разговором.
Тогда Рая по-трудовому озабоченно вздохнула, склонив голову набок, и, основательно подумав, сказала:
— Сопрыкинская-то корова нашлась… Я домой задами шла, так видела ее, корову-то…
После этих слов родственники немного оживились: тетя разжала стиснутые губы, братья переглянулись, дядя собрал в кулак пальцы правой руки, а Рая спокойно подумала: «Теперь вы у меня разговоритесь!» Голова у нее слегка побаливала, отчего-то ныла поясница, и, наверное, поэтому не хотелось ни волноваться, ни торопиться, и было такое ощущение, словно она, Рая, распухнув, сделалась большой, крупной и от этого на скамейке сидела тяжело. «Пусть себе помолчат!» — подумала она и положила руки на колени точно так, как тетя Мария Тихоновна.
— Сопрыкинская корова, она шалопутная! — наконец с неудовольствием сказал дядя Петр Артемьевич. — Я, к примеру, еще такой коровы не видывал, чтобы заместо дома — на колхозные дворы! Ну вот каждый раз ее от колхозного стада гони… Одно слово: шалопутная!
— А может, она за обобществление, — сказал Андрюшка, но не улыбнулся. — Может, она самая сознательная…
Наполовину откушенный месяц забрался на кончик колотовкинского скворечника, покачиваясь, висел на тонких ниточках растопыренных лучей, перед кончиной был уж совсем бледен и немощен, и собаки на него лаяли без ярости, равнодушно, скорее всего по привычке — надо же на кого-нибудь лаять ночью, когда улицы пусты и вся деревня спит. На болотине поквакивали лягушки, в хлеве сонно возились овцы, чувствующие присутствие хозяев на дворе в неурочный час.
— Амос-то Лукьяныч, когда домой ехал, меня на полях встретил, — сообщил дядя Петр Артемьевич. — Все, говорет, работы на луговине прикончены, рожь стоит хороша, а пашеничка, говорет, подгуляла… Рано, говорет, мы пашеничку-то посеяли… Да-а-а! А потом и спрашивает: «А чего, спрашиват, твоя племяшка на учебу не сбирается?» Он повернулся к тете, помигал на нее значительно. — Ты бы не молчала, мать, а словечко бы вставила… Дело это бабье, так ты и рассуди…
Тетя ответила не сразу: долго сидела неподвижно, потом, не меняя положения ни рук, ни ног, ни туловища, медленно повернула к Рае только голову, посмотрев в ее синее от луны лицо, возвратилась в прежнее положение.
— Трифоновские-то, они сроду были невезучие, — сказала Мария Тихоновна таким тоном, словно разговаривала сама с собой. — В Улыме другого такого роду не было, чтобы одне девки рождались… Ты, конечно, Раюха, не знашь, что у Амоса-то Лукьяныча двенадцать сестер, сам он по счету восьмой, так что до революции беднее их дома в Улыме не было… — Она помолчала. — Лукьян, отец-то Амоса, бывало, лося завалит — на три дня… Голоднущи все, одежонка худа, девкам красну ленту купить не на что… Вот Амос-то и обженился неладно — его Авдотья еще в девках на ноги сяла, как слабые они были, жидкие.
Тетя сняла руки с коленей, поочередно осмотрев их, сунула под фартук — так было привычнее.
— Амос за революцию шибко хорошо воевал, — другим, фартучным голосом сказала она. — И саблю именну принес, и пораненный, а вот беда опять приспела: одне девки почали рождаться… Натолий у него пятым выродился, а ведь это поздно — четверо сестер уже взамуж ушли… Теперь еще двое взамуж ладятся…
Говоря все это, тетя ни к кому не обращалась, вид у нее по-прежнему был такой, словно беседовала сама с собой, но все остальные Колотовкины ее слушали внимательно и так напряженно, словно не знали о том, что у Трифоновых на одного сына приходится восемь дочерей.
— После революции Трифоновы хорошо разжились, — продолжала тетя, пошевеливая пальцами под фартуком. — Девки работящие, покуда взамуж не выскочат, трудодней ладно получают, да и сам передыху не знат — вот и разжился большим хозяйствием…
Шевеля губами, она про себя сосчитала:
— Ну, корова у них одна, телок двое, овечек десятеро да собак трое… А вот с чушками наказанье — цельных четверо!
Как только тетя Мария Тихоновна закончила это перечисление, семейство Колотовкиных опять оживилось: дядя начал искать папиросы «Норд», чтобы закурить, младший брат Андрюшка презрительно оттопырил нижнюю губу, а старший брат Василий согласно кивнул. Что касается среднего брата Федора, то он, только вздохнув, сложил руки на груди.
— Теперь ты, отец, говори, — сказала тетя Мария Тихоновна. — Твое слово последне…
Дядя повернулся к Рае, живо и твердо сказал:
— Мы тебя, Раюха, порешили взамуж трифоновским не отдавать. Дочка у нас одна — чего ее к чушкам ставить. Пущай других дур поишшут!
Было понятно, что эти слова Петр Артемьевич приготовил давно, а решение не отдавать Раю замуж Колотовкины, наверное, приняли коллективно, так как за столом, судя по всему, сидели давно — и дворовая печурка совсем погасла, и чугуны на тычках прясла просохли.
— Отец абсолютно прав, — словами образованного девятиклассника сказал Андрюшка, выбитый из деревенской колеи ответственностью момента. — Надо в институт поступать, а не со свиньями возиться… Погубишь ты себя, Райка, честное слово! Хотела же в политехнический — вот и поступай…
Пока родственники говорили, молчали и подсчитывали, Рая обнаружила, что если прищурить глаз и сделаться неподвижной, то можно заметить, как луна по отношению к скворечнику медленно-медленно, но перемещается. Открыв это, Рая затаила дыхание, стараясь не слушать серьезных Колотовкиных, добилась все-таки своего: дождалась, когда луна острым краем села на конек скворечниковой крыши; это ей доставило большое удовольствие, настроение от лунных штучек-дрючек возникло легкомысленное, и она захохотала бы, если бы не услышала сердитый голос тети.
— Ты чего это выкамариваешь, Раюха? — спросила тетя. — Тебе про серьезное говорят, а ты пришшуривашься да не дышишь… Чего это с тобой деется?
— Ничего со мной не деется! — все-таки улыбнувшись, ответила Рая. — Чего со мной может деется, если я не хо-о-о-очу выхо-о-о-о-дить замуж за вашего Натолия?
Голос у Раи был звонкий, мальчишеский, тонкие руки, взлетев, остановились в отрицающем жесте.
— Не нужен мне ваш Натолий! — насмешливо продолжала Рая и показала ровные зубы. — Вон чего еще придумали: Натолий! Да кто это замыслил? Кто, я вас спрашиваю?
Рая хотела совсем грозно встряхнуть руками, расхохотаться презрительно, но голос у нее вдруг сорвался, руки опустились, и слезы медленно потекли по щекам. «Что-то я часто плачу!» — мельком подумала она, затем вскочила и опрометью бросилась к лестнице на сеновал; она спотыкалась и падала, так как руками закрывала лицо, и очень долго не могла подняться по лестнице, переступала ногами безрезультатно, как в кошмарном сне, а луна тщательно освещала ее.
21
И опять деревня Улым жила в нетерпении и любопытстве, так как все узнали, что Амос Лукьянович заезжал к Петру Артемьевичу, что Мария Тихоновна до этого на скамеечке беседовала с Агафьей Степановной, что Стерлядка измордовала — кто мог ожидать! — раскрасавицу Вальку Капу и что Анатолий Трифонов после нападения Стерлядки на Вальку пообещал отцу жениться на Рае обязательно, хотя бы и убегом.
А на следующее утро не спавшая всю ночь Рая к отзавтракавшим родственникам спустилась по лесенке в семь часов, то есть еще до ухода соседей на колхозную работу, держась сухо и официально, сказала так громко, чтобы все окрест слышали:
— Я все обдумала! Выхожу замуж за Анатолия, остаюсь в деревне… Буду работать учительницей.
Соседи эти слова, конечно, услышали, передавая с крыльца на крыльцо, в десять минут разнесли во всю длину Улыма, и началось уж было обсуждение этой новой новости, как случилось еще одно выдающееся событие — по деревне проскакал на веселом жеребчике сам Амос Лукьянович, сидя бочком на казацком седле; от сосредоточенности он ни с кем из встречных не поздоровался; спешившись у сельповского магазина, купил — батюшки! — четвертинку водки и тем же аллюром пропылил обратно, оставляя за собой недоуменный шум да стариковское оханье.
И совсем уж растерялась деревня и притихла, как перед грозой, когда через полчаса после мужа прошла в сельповский магазин на раздутых водянкой ногах Агафья Степановна. Развязав засаленные концы носового платка, чтобы достать деньги, она купила килограмм конфет-подушечек, граненую бутылочку уксуса — не к пельменям ли? — полкилограмма сахара-рафинада, пачку праздничного цейлонского чаю и — бабы в очереди онемели — зеленую наркомовскую фуражку.
Еще минут через пятнадцать по улице прошла в сарафане и белых тапочках сама Стерлядка. Она, конечно, кланялась гордо — задирала нос, прищуривалась, передергивала плечами, на которых лежал цветастый платок, и даже напевала: «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве…» Волосы у нее были уложены на русский пробор.
После появления на улице Раи Колотовкиной никаких больше событий до самого вечера не произошло — Амос Лукьянович на жеребчике не скакал, младший командир запаса вообще не появлялся, председатель Петр Артемьевич, видать, с утра заседал в колхозной конторе, а раскрасавица Валька Капа на улицу и носа не казала. Одним словом, к вечеру деревня успокоилась, вошла, как говорится, в будничный ритм, и старики на своих скамейках посиживали, как им полагалось, смирно, не шевелясь, чтобы не растрачивать солнечное тепло.
В девятом часу вечера, ожидая возвращения Анатолия с работы, Рая сидела под двумя безмолвными кедрами, вздернув на лоб бровь, считала на пальцах: «От Хвистаря до Гундобинской верети — пять километров, на Березаньке мосточек унесло, значит, прямой дорогой не поедешь, надо объезжать с километр… От Гундобинской верети до меня километра два… Так чего же я волнуюсь?» Успокоившись на этом, Рая прижалась спиной к теплому стволу кедра и занялась обычным делом — начала ни о чем не думать, хотя мысли время от времени все-таки вкрадывались. Во-первых, думалось о том, какой она будет учительницей, во-вторых, о том, что погода через два-три дня может испортиться, и, в-третьих, о том, что тетя утром в колодце утопила ведро. То ли оно было плохо привязано, то ли незаметно перетерлась веревка, то ли в колодце что-то случилось, но веревка внезапно ослабла, тетя заохала, вытащив ее остатки, закручинилась. Дядя тут же решил достать ведро багром, тужась и краснея, полчаса шарил в черной воде и ничего не нашел — ведра не было, словно корова языком слизнула.
Вспомнив о ведре, Рая вздохнула, положила ногу на ногу и стала без интереса наблюдать за тем, как к ее скамейке и кедрам, переваливаясь уткой и блистая черным шелком, поспешала Капитолина Алексеевна… Конечно, им предстояло работать вместе, стать коллегами, но это не значило, что Капитолина имела право нарушать Раино уединение; если человек сидит на лавочке под кедрами, значит, ему нравится сидеть уединенно. «Вот кого мне еще не хватало! — раздраженно подумала Рая. — Надо же!» Потом, когда Жутикова сделала на пути к Рае небольшой зигзаг, обходя кочку, за ее необъятной спиной обнаружился еще и припрыгивающий от нетерпения забулдыга Ленька Мурзин.
— Раиса Николаевна, голубушка, что вы со мной делаете? — еще на бегу зачастила Капитолина Алексеевна. — Неужели у вас нет сердца?
Запыхавшись от быстрой ходьбы, толстуха дышала хрипло, свистела горлом и безостановочно взмахивала руками в ямочках.
— Как вы можете сидеть, Раиса Николаевна, когда в девять часов начинается концертная программа! — ужасалась она. — Как вы можете быть спокойной, ежели по деревне развешаны афиши? Боже мой! Боже мой!
На ее груди поднималась и опадала брошка величиной в пол-ладони, за пять метров пахло пудрой и одеколоном, а на афише, что висела возле клуба, почерком школьных прописей, то есть самой учительницей, было выведено: «Товарищи! Внимание! Силами художественной самодеятельности будет дан большой концерт. В программе: пение, ритмические и народные пляски, художественное чтение, пьеса А.П. Чехова „Предложение“. Начало концерта в девять часов, вход свободный. Руководитель художественной самодеятельности К.А. Жутикова».
— Не надо волноваться, — лениво сказала Рая, жалея о том, что придется отрывать спину от теплого кедра. — Волнения напрасны, если нет жениха… Анатолия-то, говорю, нету…
Как раз в эту секунду из-за спины учительницы возник Ленька Мурзин, перекосив рот, посмотрел на Раю такими умоляющими глазами, словно предполагал, что младший командир запаса сидит в кармане у девушки. Ради большого концерта художественной самодеятельности на Леньке был суконный пиджак с чужого плеча, яловые сапоги блестели, красная рубаха, усыпанная белыми пуговицами, походила на клавиатуру баяна.
— Где Анатолий Амосович? — прижимая ладони к пылающим щекам, вскричала Капитолина Алексеевна. — Где он, когда мы имеем полный клуб колхозников?
— Побегли, Раюха! — жалобно сказал Ленька Мурзин. — Может, Натолий нас в клубе обыскался.
Когда они торопливо шли в сторону клуба, Рая заметила, что стариков и старух на лавочках нет, мальчишки и девчонки на улице не галдели, собаки, задрав хвосты, бежали туда же, куда спешили все жители Улыма, то есть к клубу, и даже рыбацкий костер на левобережье не горел, а чадил, так как и рыбак отправился смотреть большой концерт. Так что тесный клуб народом был набит до отказа, но в нем — тишина, как на берегу Кети, когда приставал кособокий пароходишко «Смелый».
Пробиться через клуб на сцену оказалось трудно, однако в задних рядах дружно закричали: «Пропущайте артистов, пропущайте!» И все трое, быстро пройдя в так называемую гримировочную, печально переглянулись — Анатолия Трифонова здесь не было, хотя другие участники большого концерта оказались в наличности: сидел с баяном на коленях Пашка Набоков, стоял, выставив ногу и выпятив грудь в блестящей рубахе, Виталька Сопрыкин, взгромоздилась на подоконник веселая медсестра Варенцова, чтец-декламатор.
— Где же Анатолий Амосович? — страдая, спросила Капитолина Алексеевна. — Без водевиля мы пропали! Боже мой! Боже мой!
Она покачнулась и села на кедровую табуретку, запахнув сильнее прежнего пудрой и одеколоном, предалась окончательному унынию — начала покачиваться, театрально заламывать руки и стенать:
— Пропали мы пропадом, пропали!
— А кто и не пропал! — нагло улыбнувшись, заявил Виталька Сопрыкин и выступил вперед в своей переливающейся цыганской рубахе. — Я могу все сполнить, что вы пожелаете… Схочете «Цыганочку» — сполню «Цыганочку», схочете «Ритмичну чечетку» — получай «Ритмичну чечетку», зажелаете «Барыню» — я «Барыню» каблучу… Меня народ уважает, хоть весь вечер сполняй…
— Я могу прочесть большой отрывок из «Хаджи-Мурата», — предложила веселая медсестра Варенцова. — А пока мы пляшем и читаем, отыщется Трифонов.
Медсестра Варенцова человеком была городским, образованным, в Улым она приехала жить с досады, после того как то ли сама ушла от мужа, то ли муж ушел от нее, но что-то такое произошло, и Варенцова оказалась в деревне, где, несмотря на веселый нрав, вела себя замкнуто и нелюдимо — все сидела в крохотном медпункте, что ела и пила, неизвестно, куда ходила по ночам, — загадка. В деревне даже поговаривали о том, что Варенцова вовсе и не медсестра, а врачиха, то ли ушная, что ли глазная. Сейчас же Варенцова, сидя на подоконнике, посмеивалась легкомысленно, болтала ногами и наблюдала за Капитолиной Алексеевной.
Режиссерша между тем понемножечку приходила в себя: во-первых, перестала раскачиваться, во-вторых, расцепила руки, а в-третьих, поправила на груди брошку.
— Значица, начнем концерт? — с туманной надеждой спросила она, повертываясь к Варенцовой. — Так что вы предполагаете зачесть?
— Вступление из «Хаджи-Мурата»…
Капитолина Алексеевна нахмурилась, собрала на подбородке четвертую складку, сделав рот ижицей, стала невидяще смотреть на Раю Колотовкину, которая хоронилась в темном углу гримировочной.
— А что-нибудь другое вы можете зачесть? — наконец спросила Капитолина Алексеевна. — Концерт должен быть в разнообразии, в целенаправленности…
Варенцова тоже задумалась. У нее было забавное неправильное лицо, большая голова, выпуклый, почти круглый лоб; одета она была в черную длинную юбку и белую блузку с бантом на груди, из-за чего походила на тех городских комсомолок, которых показывали в кино. Размышляя, веселая медсестра Варенцова морщила лоб, щурилась, наконец, не глядя на режиссершу, сказала:
— Могу прочесть сцену с броневиком из романа Алексея Толстого «Хлеб».
— Ой, спасибо, дорогая Лидия Стефановна!
Когда Капитолина Алексеевна, зачем-то пересчитав участников концерта и громогласно прокашлявшись, пошла открывать концерт, Рая последовала за ней, чтобы притаиться за кромкой ситцевой кулисы — слушать, смотреть и ждать Анатолия.
Ленька Мурзин и торжествующий Виталька Сопрыкин раздвинули половины ситцевого занавеса, не стесняясь того, что видны залу, медленно ушли со сцены, освещенной восемью керосиновыми лампами. В первом ряду, как и было положено на концертах самодеятельности, сидели старики и женщины с грудными ребятишками, во втором располагались Мария Тихоновна, Петр Артемьевич и колхозное начальство помельче: счетовод, два бригадира, учетчица Полина Мурзина, кузнец Сопрыкин с обнаженными до локтя руками и черной каймой вокруг глаз; конюх, доярки и председательский кучер занимали третий и четвертый ряды.
Как только занавес открылся, в клубе установилась сплошная тишина: спали мирно грудные ребятишки, мальчишки и девчонки постарше, схлопотав от родителей подзатыльники, сели на пол между сценой и первым рядом, замолчали с открытыми ртами; слышалось хриплое стариковское дыхание, треск сухих скамеек и редкий осторожный кашель.
Тишина длилась минуту, потом на сцену бабочкой выпорхнула на тоненьких ножках Капитолина Алексеевна. Она улыбалась сладко, руки на манер оперных певиц держала сложенными на груди, ногами переступала так, словно под ней был лед.
— Начинаем ба-а-а-альшой концерт! — пропела Капитолина Алексеевна незнакомым голосом. — На-а-а-шу обширную программу открывает Лидия Варенцова! О-о-трывок из романа товарища Алексея Толстого «Хлеб»! Пра-а-шу-уу!
Зал онемел от восторга, так как Капитолина Алексеевна на саму себя походила только шелковым платьем и брошкой, а все остальное у нее изменилось — походка, голос и лицо. Если брови учительницы раньше изгибались нормально — вверх, то теперь, нарисованные черным гримом, изгибались вниз, а рот у нее сделался таким маленьким, словно его и не было, так как Капитолина Алексеевна, закрасив губы гримом тельного цвета, посередке сделала красным маленький бутончик — сердечко. Ценя в артистах больше всего непохожесть на самих себя, зрители от удовольствия аккуратно захохотали и начали шептаться: «Это ж надо! Ну просто не узнать учительшу-то… Бровь-то, бровь-то, а волос-то какой кудрявый… Ну чуда!»
— Просим, просим, товарищ Варенцова! — уходя со сцены, выкрикнула Капитолина Алексеевна.
Городская медсестра вышла на сцену, выбрав такое положение, чтобы лампы хорошо освещали лицо, вдруг решительно и заученно спрятала руки за спину, словно дисциплинированная ученица, вызванная к доске. Голос у нее оказался грудной, спокойный, простой, выговор был старомодным: она говорила не «деремся», а «деремса», не «сердечный», а «сердешный». Имя наркома Ворошилова веселая медсестра произносила с любовью, с такой теплотой, словно знала наркома лично, белогвардейцев рисовала беспощадными разоблачительными красками, и Рая Колотовкина слушала ее очень внимательно, видела все то, о чем рассказывала медсестра, переживала и так увлеклась, что высунулась из своего тайника, когда вместе со всеми горячо аплодировала медсестре. Раю, конечно, сразу заметили, поразившись, зашушукались.
— Стерлядка-то тут! — заговорили женщины с грудными детьми. — Все слушат, глядит, в ладоши колотит… А Натолия-то нету!
Смутившись, Рая торопливо закрылась ситцевой кулисой, полная еще впечатлений от прочитанного отрывка, вдруг почувствовала, как сжалось сердце. Сначала она не поняла, что произошло, потом все стало ясно. Она только на секунду вывалилась из-за кулисы, но, оказывается, успела увидеть и запомнить выражение лица Амоса Лукьяновича Трифонова, который бурно аплодировал медсестре Варенцовой, щурясь от удовольствия, что-то шептал благодушной по-праздничному жене, и по всему этому было понятно, что они совсем не беспокоятся о пропавшем сыне. «Странно!» — подумала Рая.
— Сыледущим номером на-а-а-ашей ба-а-а-льшой программы будет пляска «Цыганочка», которую под баян товарища Набокова сполнит товарищ Сопрыкин!
Словно через туман Рая увидела, как ленивой и небрежно-томной походкой на сцену вышел Виталька Сопрыкин с занавешенным волосами лицом. Естественно, что он ничего не видел, и женщины с грудными детишками испуганно отстранились, когда Виталька догулял до конца сцены. Здесь он все-таки остановился, выставив ногу, сквозь зубы приказал:
— Маэстров, давай!
После этого Виталька знаменитым головным жестом забросил волосы назад, встав на цыпочки и угрожающе заблистав рубахой, прошелся по сцене на тигриных бесшумных ногах; потом оглушительно свистнул, грянул баян, и началась такая пляска, от которой у Раи потемнело в глазах; охваченная тревогой и больными предчувствиями, она вскочила, открытая всем взорам, бросилась в гримировочную, распахнув окно, вылезла на улицу.
Было время лунного яркосияния, весь мир состоял только из белых и черных тонов, словно передержанная в проявителе фотография, а оттого, что все были в клубе, Улым казался вымершим. Окрест не слышалось ни звука, не виделось движения, и съежившаяся от прохлады Рая подумала, что цокот конских копыт в такой тишине слышался бы километра за два до околицы. Однако деревня лежала под луной немая и от этого страшная — стояли на берегу неживые осокори с жестяными листьями, лунная полоса на воде казалась вставной и тоже металлической, сама луна висела одиноко, словно над выжженной зноем пустыней; все вокруг было первобытно, дико, и Рая оглохла от тишины. Так продолжалось до тех пор, пока стены клуба не просочили сквозь себя далекий мотив «Цыганочки». Услышав музыку, Рая подумала: «А Райка-то Колотовкина пропала! Пропала Райка…»
— Река называется Кеть! — неизвестно почему и для чего прошептала она. — Течет река Кеть…
Рае на мгновение показалось, будто стало легче оттого, что за Кетью непрошено гугукнул сыч, но это было обманное ощущение, так как несколькими секундами спустя она поняла; нельзя неподвижно стоять на месте. Если бездействие продлится еще две-три секунды, она зарыдает и упадет грудью на траву, чтобы биться и задыхаться.
Инстинктивно оберегая себя, Рая начала действовать. Бросившись к дверям клуба, она растолкала сгрудившихся в дверях парней, пробившись сквозь них, требовательно крикнула:
— Дядя! Петр Артемьевич, выйди на улицу! Выйди скорее!
Дрожа от нетерпения, Рая ничего не видела — перед глазами по-прежнему висела в пустоте луна, стояла черно-белая деревня, на реке лежала металлическая полоска; поэтому Рая не заметила, как Виталька перестал плясать, как зрители расступились перед дядей Петром Артемьевичем. Рая пришла в себя только тогда, когда дядя схватил ее за руку и спросил испуганно:
— Ты чего?
— Где Анатолий? — шепотом спросила Рая. — Дядя, ради бога, скажи, где Анатолий? Я тебя прошу, дядя, скажи мне… Скажи!
Последние слова Рая произнесла почти неслышно, отступая и почему-то усмехаясь. Она увидела, что дядя опустил голову, переминаясь с ноги на ногу, потемнел лицом, то есть покраснел; плечи у него сделались узкими и жалкими; мало того, он начал ковырять носком сапога сырую траву, как мальчишка, пойманный на огородах с чужим огурцом.
— Ну! — крикнула Рая. — Ну, говори!
— Ты не жди Натолия, племяшка! — страдая, сказал дядя. — Он две недели в деревню казаться не станет… Его до той поры не будет, пока ты в город не съедешь… «Смелый»-то проходит через пять ден…
Густая черная тень клуба падала на дядю, он был бы почти не виден, если бы не белая рубаха под пиджаком да не седые волосы; за спиной дяди под завалинкой сидели тихие собаки, глаза у них горели желтым светом, и, наверное, от этого они — молчаливые и добрые — походили на сытую волчью стаю.
— Ну, ладно! — спокойным, холодным голосом произнесла Рая. — Все это прекрасно, но вот сейчас ты мне скажешь, где Анатолий… Ну-ка, подними голову, дядюшка, и говори, где Анатолий… Быстро!
— Знать не знаю! — пробормотал дядя и, помолчав, сказал тоскливо: — До чего же ты, Раюха, на брата Николая схожая! Тебе бы дивизией командовать…
— Где Анатолий? Говори!
— На заимке! — тихо ответил дядя. — На Васютинской заимке…
Рая четко повернулась, прижала локти к бокам и по-спортивному легко побежала к дому Граньки Оторви да брось, которая на концерт из-за ссоры с Капитолиной Алексеевной не пошла и спокойно спала себе на душном от сенных запахов сеновале. Рая бесцеремонно растолкала ее, дрожа от нетерпения, крикнула:
— Поехали на Васютинскую заимку! Поехали, поехали!
22
На дальнюю Васютинскую заимку они прискакали на рассвете. Так как Рая не умела ездить верхом, пришлось запрячь Тренчика и трястись в жесткой безрессорной двуколке. Застоявшийся жеребчик рвал и метал в коротких оглоблях, летел по темной тайге смело, за несколько минут до рассвета завязил двуколку в трясине, но, понатужившись, выволок на простор и поскакал дальше неумелым галопом. Молодому жеребчику, наверное, передалась тревога девушек; взволнованный, он мчался напропалую, прижав уши к костистому черепу, распушив хвост, бренча накладной уздечкой. Незадолго до заимки Тренчик, видимо, почувствовал горячими ноздрями медвежий дух, перепуганный, задрожал так, что по широкому крупу прокатилась блескучая волна.
Гранька и Рая всю дорогу молчали, но сидели тесно, одна к одной, как патроны в обойме. Рая с каждым часом все отчаянней бледнела, Гранька, наоборот, злилась, фыркала от нетерпения; она правила лошадью умело, вожжи держала широко, хорошо зная тайгу, выбирала тайные тропки — все спрямляла и спрямляла путь. Когда Тренчик почуял ноздрями медвежий дух, Гранька выхватила из-под сиденья одноствольное ружье, положила рядом.
Васютинская заимка показалась все-таки внезапно, хотя за полкилометра до нее Тренчик заржал, ему тут же ответил лошадиный голос, а скоро появилась и сама лошадь, прыгающая навстречу Тренчику спутанными ногами, — это был известный Рае жеребчик Васька, веселый и резвый иноходец.
Под замшелыми раскидистыми лиственницами стоял дом не дом, сруб не сруб, а небольшая крепость, сложенная из очень толстых бревен, защищенная от медведей и волков островерхим частоколом — тоже из толстых бревен; вместо окон — щели; наверху росла трава и торчала жидкая осинка. Строение топили по-черному, как баню или курную избу, поэтому над дверью бархатилась сажа и пахло дымом пожарища.
Рая осторожно вылезла из двуколки, разминая затекшие ноги, подняв голову, прошлась вдоль городьбы. Дойдя до ворот, она остановилась, провела ладонью по лицу, словно умывалась; лицо у нее было туповатое, глаза остекленели… Не сон ли это? Не выйдет ли из-за лиственниц подпоясанный лыком мужичок с ноготок, не проскачет ли на сером волке Аленушка с Иваном-царевичем, нет ли под домом курьих ножек? Стояли сказочные деревья, обросшие бородами мхов, солнце сквозь ветви не могло пробиться, тишина была особой — вязкой и липучей; птицы — молчаливые, скучные; высоко-высоко в макушках лиственниц пошумливало, погуживало, но шум этот был не земной — небесный.
Рая замерла. Опять увиделось серое замкнутое пространство с перекошенным полом и потолком; оно мерцало и покачивалось, уютное и одновременно жутковатое, вызывало сладкую боль под сердцем, туманило голову… Что все это значило? Почему видение серого пространства так часто приходило к ней, доставляя радость и страдание?
Вокруг гудели миллиарды комаров, подружка Гранька уже надела накомарник, от этого походила на лиственницу — такая же слепая, глухая, дремучая, и Рая затаила дыхание — первобытное существо в накомарнике в серое пространство вошло, как в собственный дом, принадлежа ему, заняло центр, захватило все главное. «Что это?» — подумала Рая и почувствовала, что кожа лица, рук, шеи запылала — тысячи комариных жал вонзились, сладострастно замерли.
— Надень накомарник-то! — голосом из прошлого сказала Граня. — Они тебя до кости обгложут…
Надевая накомарник, Рая подумала, что без комариного гудения тишина была бы непереносимой, так как в мире время от времени возникал только один звук: Тренчик бренчал уздечкой, видимо, потому, что морда лошади покрылась шевелящейся толстой шерстью из насекомых; только глаза просверкивали через комариную бахрому.
— Надо взбудить Натолия-то! — деловитым шепотом произнесла Гранька. — У него в заимке дымокур.
Из щелей дома на самом деле струился сизый дымок, выползал исподволь, неохотно, точно его выгоняли насильно, но, выбравшись на волю, тут же расстилался по земле — таким неподвижным и сырым был воздух. Когда Рая медленно пошла к дому-крепости, она ощутила, что воздух густ и тяжел. Она остановилась в трех метрах от задымленных дверей, собираясь с силами, внезапно отстраненно подумала: «Зачем?»
— Не боись! — прошептала за спиной Гранька. — Входи, не боись…
Рая вошла. В темени и дыме сначала ничего разглядеть было нельзя, но через несколько секунд она легонько подалась назад, сорвав с головы накомарник, прислонилась спиной к дверной стойке… Вот оно — ее серое замкнутое пространство! Уходил к невидимой стене скошенной земляной пол, бревенчатый потолок был изогнут в противоположную сторону, все серое пространство было уютным, трепетным, как щелочка между сложенными ладонями, что-то убаюкивающе помаргивало, переливалось, а потом из перекошенной серости возник молодой голос: «Ах ты, Раюха-краюха, ах, как плохо мы себя ведем…» Голос не принадлежал Анатолию, хотя было сказано «Раюха-краюха». Голос шел издалека, из такого необозримого прошлого, что сердце замерло, но затем ударило четко, с болью — сквозь дым запахло свежей кожей, махоркой и горящей газетой.
Боже мой! Рая уже была когда-то в доме-крепости, прижималась спиной к дверному косяку, видела сквозь щели-окна; она ходила по косому полу, спала под кривым потолком, вдыхала запах гари и жирной сажи. Хотелось попятиться, исчезнуть, но мешала дверь, и сквозь боль пробивалась непонятная сладость, словно к сердцу прикладывали теплое. Боже мой! Отчего хочется радостно плакать, почему так притягательно, но и страшно серое пространство?…
— Взбуживай Натолия-то, взбуживай!
В обретенном пространстве, оказывается, спал Анатолий. Рая встряхнула головой, несколько раз зажмурилась.
Анатолий спал на громадной лежанке — от стенки до стенки; слева темнела банная печь-каменка, из стен торчали деревянные штыри, на них висели ружье, два мешка с продуктами и мешок с бельем; на столе стояла эмалированная кружка, чугунок с картошкой в мундире, высилась горка крупной соли, лежала коврига черного хлеба; в середину стола сильным ударом был вогнан длинный охотничий нож. Анатолий спал в одежде, лежал на спине, дышал трудно, весь был напряжен, натянут, словно видел плохой сон.
— Толя! — позвала Рая.
Он проснулся по-таежному быстро, сразу встал на ноги и надолго закашлялся, сгибаясь и держась за грудь руками — от дымокура, от сырости, от мгновенного пробуждения.
— Дравствуйте, Раиса Николавна… Дравствуйте, Аграфена Петровна… — посмотрев запавшими глазами на Раю и Граньку, сказал Анатолий.
Рая молчала. Заспанный, грязный, несчастный человек стоял перед нею, весь он был не таким, к каким людям привыкла Рая Колотовкина, но все в нем было родное, любимое — и эти сросшиеся брови, и этот ясный лоб, и эти морщинки у губ, и этот квадратный подбородок… Перед Раей стоял нелепый и жалкий человек, которого можно было взять за руку, повести чиститься и умываться, кормиться и отдыхать; глядя на этого человека, Рая чувствовала потребность стирать его белье и пришивать заплаты на рваные штаны, варить ему щи и жарить карасей, накормив, укладывать в кровать и убаюкивать, напевая детскую песенку.
— Я прогульнусь, — сказала за спиной Гранька.
Когда подружка ушла, Рая приблизилась к Анатолию, осторожно положив руки на его плечи, приникла головой к пахнущей дымом груди.
— Чего же мы будем делать, Толенька? — по-бабьи обреченно вздохнув, спросила Рая. — Как дальше-то будем жить?
Он молчал так, как умеют молчать только сибиряки, жители таежного Нарыма, — тяжело, с опростившимся лицом, с пустоватыми глазами. И молчал он долго, и дыхание у него сделалось ровным, и грудь затвердела выпуклыми мускулами. Потрескивал сырыми хвоинками дымокур, позванивал на дворе уздечкой Тренчик, на скривленном потолке стенали бревна.
— Мне пулю в лоб себе послать надо, — так тихо, что могла услышать только Рая, сказал Анатолий. — Все поглядаю на централку… Все поглядаю… До того предела дошел, что патроны с жаканами в озерке утопил…
В горле у Анатолия что-то клокотало.
— Мы друг дружку сгубим, — прежним голосом продолжал он. — Ты в инженерши не выйдешь, а я отца-матери лишуся… Обои отцы против нас! Мой опасатся, что мать ране времени в могилу сойдет, а Петра Артемич тебя хочет в инженерши вывести… Так что погинем мы друг от дружки… А я не хочу, чтобы тебе плохо было, Раюха… Ты мне любая!
Понимая, что надо снять руки с плеч Анатолия, Рая однако, не могла сделать ни одного движения, а все сжималась да сжималась в плечах.
— Мне радости не будет, если ты от домашности в старуху сгорбатишься, — говорил он еще тише, — я себя за это всю жизнь топтать буду…
Рая наконец отклонилась от его твердой груди, беззвучно шевеля губами, выбралась из дома, оставив Анатолия в той же позе, в какой она его обнимала. В последний раз мелькнуло перед глазами искривленное замкнутое пространство, в лицо пахнуло сладким, потом прикоснулся к щекам тусклый луч, так как солнце все-таки пробило в двух-трех местах тесность лиственничных ветвей, рассеявшись, казалось вечерним… Плакать не хотелось, было одно желание — навсегда запомнить дом, стену лиственниц, комариный гул, Тренчика, позванивающего уздечкой. Как и серое пространство заимки, все окрест казалось знакомым, обжитым, сто раз виденным и любимым, и вдруг возникло такое чувство, словно Рая не прощалась с этим дремучим миром, а, наоборот, наконец-то вернулась к нему после длинных и печальных блужданий по свету.
Она улыбнулась — от любви ко всему, что видела и слышала. Рая любила нежно и преданно мох под ногами, гномьи бороды лиственниц, дремучесть и тишину; она любила робкие голоса птиц, Граньку Оторви да брось, плутавшую по тайге, Анатолия Трифонова, оставленного в заимке; она любила и саму себя — несчастную, растерянную, искусанную комарами. Она была дома, дома, дома…
23
Пароходишко «Смелый», по предположениям улымчан, должен был прибежать близко к обеденному времени, до его прихода оставалось несколько часов; Рая Колотовкина, давно собравшая вещи и по-дорожному одетая, оставшееся до прихода «Смелого» время считала не коротким и не длинным — обыкновенные несколько часов из обыкновенных суток. Запеленав в юбку колени, она сидела на высоком крыльце, позевывала отчего-то, иногда, поддавшись дорожному настроению, щупала на талии матерчатый широкий пояс, надетый на голое тело, — в него были зашиты деньги, выданные дядей на всю зиму учения и проживания в городе. Пояс сдавливал ребра, мешал дышать, но она думала, что привыкнет. И дядя с тетей утверждали, что пояс пообомнется.
Наряженный в праздничный суконный костюм, дядя задумчиво разгуливал по двору, досадливо сморщившись, чесал в голове, но Рая не говорила, что кожаный портсигар лежит за наличником сенного окна. Молчание Раи не значило, что она сердита на дядю, что хочет ему зла. Рая была никакой — не сердилась и не радовалась, не любила и не ненавидела, не испытывала страданий, но и не была счастливой. Молчаливой ее тоже назвать было нельзя, так как она на все обращенные к ней слова отвечала охотно, да и сама могла вести деловой разговор — о том, где чемодан, почему не положена серая юбка, кто переварил курицу, почему нет ключей от чемодана…
День был не солнечный, но и не пасмурный, как раз такой, какого ожидали к приходу «Смелого» деревенские старики, — висела в небе какая-то дымка, что-то сизоватое плавало над рекой, какая-то муть затемняла кедрачи. Тщательно подготовившийся к приходу «Смелого», Улым — вычистившийся и праздничный — переживал минуты затишья, казался пустым и от этого большим; улица бесконечно простиралась в обе стороны, тайга деревню не сдавливала, небо — не ограничивало.
Двоюродные братья сидели за столом, положив на столешницу руки, помалкивали, хотя тоже знали, где лежит отцовский портсигар. Младший брат Андрюшка на Раю иногда поглядывал весело, подмигивал одобрительно, старший брат Василий молчал невозмутимо. Печальным был только средний брат Федор — этот хлопал ресницами, рассуропливал длинные губы, на сестренку старался не смотреть. Тетя Мария Тихоновна возилась у дворовой печурки — варила другую курицу. Спина у тети была сутулая.
Так и не найдя портсигар, Петр Артемьевич сердито плюнул, перекосился, но ничего не сказал, а подумав, сел на отдельный чурбачок и затих — спокойный, с выражением честно выполненного долга на лице.
Минут через десять, прошедших в тишине и благодати, на улице возникла одинокая человеческая фигура; размахивая руками и останавливаясь, двинулась в сторону колотовкинского двора. Старики и старухи в этот час на лавочках не сидели, так как загодя уплелись в полном составе на кетский берег ожидать «Смелого», и вихляющийся человек по улице двигался беспрепятственно. Скоро сделалось понятным, что это лентяй и забулдыга Ленька Мурзин, опять, наверное, купивший бутылку водки.
Рая со своего высокого крыльца Леньку увидела первой, заинтересовалась, чего это он такой разболтанный и неспокойный, решила, что да — водка была куплена и выпита. Потом лентяя и забулдыгу приметил дядя Петр Артемьевич, повернувшись на чурбачке лицом к улице, стал глядеть неодобрительно и кашлять; на этот сигнал, конечно, обратили внимание и сыновья, узрев Леньку, зашушукались. Одна только тетя Мария Тихоновна ничего не видела и не слышала.
Через полминуты выяснилось, что лентяй и забулдыга направлялся именно к дому Колотовкиных — заранее выстраивал юродивое лицо и сыто надувал щеки. На нем был пиджак с чужого плеча, яловые сапоги так же ярко блестели, как в день большого концерта художественной самодеятельности, рубаха была пестрая, в горошек. Он неторопливо, выставляя брюшко, подковылял к колотовкинскому пряслу, положив на него руки и грудь, поздоровался необычно, по-дурацки.
— Драствуйте, леди и жентельмены! — проговорил Ленька картавым голосом, и отчего-то показалось, что он помахал в воздухе шляпой, хотя руки лежали на прясле, а Ленька был простоволос. — Желаю вам драствовать, господа адмиралтейство! Барометра падает!
Зрачки у Леньки были рыжие, располагались вертикально, как у кота, и морда была такая нахальная, наглая, что дядя Петр Артемьевич вторично плюнул и даже растер сапогом плевок, но опять промолчал. Братья же сдвинулись и закивали друг другу.
— Мы из Кронштадта! — сказал Ленька. — Привет от наших щиблет! Барометра поднимается!
Рожа от водки у него была даже не красной, а бордовой, как хорошо обожженный кирпич, длинный рот был искривлен волнисто, а на подбородке — ямочка. Поэтому Ленька вдруг сказал женским голосом:
— Воловьи лужки мои… Мои, мои!
Голос у него не только был женским, но чрезвычайно походил на голос Раи Колотовкиной, и дядя Петр Артемьевич пораженно завертел головой, глядя то ни крыльцо, то на прясло: «Чего это деется, прости господи?» А лентяй и забулдыга опять преобразился — навел на подбородок волевую складку, глаза сделал серыми, рот маленьким, твердым, словно кожа на губах укоротилась. Теперь он походил на того киноактера, который играл главную роль в кинофильме «Великий гражданин».
— Я вас в упор не вижу! — сказал он трибунно. — Чего это вы произвели с Натолием и Раюхой, когда промеж ними любовь? Меня лично вы интересовать не можете, а вот государствие к вам интерес поимеет!
И по-купечески рассудительно, погладив брюшко, объяснил:
— Упала барометра!
Сказав все это, лентяй и забулдыга не стал дожидаться отклика, а немедленно задрал голову в небо, чужеродно покашлял и голосом колхозного председателя Петра Артемьевича Колотовкина напевно проговорил:
— Если до послезавтра дожжа не будет, то мы беспременно с покосами на Хвистаре покончим… Вот такая у меня прямая линия, товарищи колхозный народ… Так что ответим на линию ударным трудом!
Ленька по-дядиному сутулился, в пальцах держал невидимую папиросу, примаргивал значительно и был так похож на председателя, что можно бы помереть с хохоту, если бы сам дядя, поняв, кого изображает Ленька, и обозлившись, решительно не поднялся с чурбачка.
— Ты сколь выпил, язва-холера? — сердито спросил он Леньку и погрозил пальцем. — Ну, теперь тебе правленья не миновать!
— Полбутылки я выпил, — после паузы ответил Ленька и задумчиво добавил: — Пойти остатнее допить…
И действительно, пошел прочь, заплетаясь ногами и что-то бормоча, но скоро остановился, не оборачиваясь, произнес собственным голосом:
— А эта дурака Натолька к заимке присосался, ровно к мамкиной титьке… Ну, дурака, ну, дурака! Непроходимая…
Он ушел допивать бутылку водки, дядя с гневным шипением опять занял место на чурбачке, братья успокоились, тетя варила сосредоточенно курицу, а Рая думала о Васютинской заимке, хотя раньше старалась о ней не вспоминать и не вспомнила бы, если б не Ленька… Там гудели комары и пошумливали бородатые лиственницы, перекошенно серело меж полом и потолком знакомое замкнутое пространство, лежали в тихом озерце патроны с жаканами, задирал спутанные ноги веселый жеребчик Васька… Рая осторожно пошевелилась, скосив глаза на дядю, долго думала, прищуриваясь и как бы примериваясь.
— Дядя, а дядя? — наконец спросила она тихо. — Ты не можешь ли, дядя, сказать, почему мне кажется, что я когда-то уже была на Васютинской заимке?… Нет, я понимаю, что я там быть не могла, но вот мне кажется…
Рая замолкла, смущенная невозможностью объяснить дяде необъяснимое, сурово поджала губы, чтобы родственники не подумали, что она такая же чумная, как Ленька Мурзин. Как это так: была и не была, понимала и не понимала?
— Была ты на Васютинской заимке, — вдруг сказал дядя спокойно. — Да не только была, а прожила на заимке недели три…
Он поднял голову к небу, шевеля губами, сосчитал:
— Двадцать пять ден ты проживала на заимке, Раюха…
После этого тетя в первый раз за все время обернулась к племяшке, продолжая оставаться деловитой и суровой, сказала:
— Тебя от бандюг на заимке упрятывали… Отец-то твой, Миколай Артемич, тогда полком командовал, где-то далече был, а ты у нас проживала… Да неужто тебе об этом деле Миколай Артемич не говаривал? Ты в те поры совсем тютельная была, двух годков не сполнилось…
Тут Рая почувствовала себя такой усталой и серенькой, что у нее и сил-то не хватило на то, чтобы поразиться услышанному, — она только для приличия, для спокойствия родственников удивленно вытаращилась: «Ах, чего только не бывает на свете!» Потом она окончательно пришла в равновесие, еще плотнее укутала колени юбкой и перестала думать о Васютинской заимке.
Прошло десять, пятнадцать, двадцать минут, и Рая подумала: «Скорее бы уже!» Хотелось забиться в душную каюту «Смелого», накрывшись серым пароходным одеялом, уснуть; нет, перед сном надо было бы поесть, чтобы до утра не просыпаться. Утром «Смелый» окажется в большом речном поселке Тогуре, похожем издалека лесозаводской трубой на город, хотя вблизи увидится, что это не город, а только поселок с домами из брусчатки. Но все-таки…
Пароходишко «Смелый» к улымскому берегу начал приставать ровно в полдень, когда день разгулялся настолько, что вся хмарь и дымность рассеялись, небо прояснилось, кедрачи торжественно засинели и кетская вода сделалась коричневой. Приставая к яру, пароходишко взбивал воду до сметанной белизны, паром шипел угрюмо, но мощно, и праздничная толпа на берегу стояла спокойно, так как «Смелый» с верховьев Кети никаких дурных новостей привезти не мог. Поэтому его встречали радостно; пока «Смелый» прилипал к яру, улыбались, шумели, узнавали знакомых речников: «Вот и Петька Канеровский, вот и Ваняшка из Брагина!»
Пассажиров, кроме Раи Колотовкиной, из улымчан не было, поэтому вокруг Раи и ее родственников образовалась почтительная пустота, такая просторность, в которой можно было и попрощаться толком, и вещи поберечь, и осмотреться, что к чему.
— Прими чалку, мать вашу за ногу! — прокричал знаменитый капитан Иван Веденеевич в железный раструб и улыбнулся открыто. — Прими чалку, не задерживать, мать вашу под бок.
Улымский народ всегдашней шутке засмеялся охотно, но осторожно, негромко, чтобы ничего не упустить из того, что еще скажет Иван Веденеевич, как еще пошутит.
— Трап давай, кось вам в горло! Трап давай, матрозня хорошая!
Матросы, на самом деле хорошие и веселые, подали на верхотинку яра широкий трап, встали по обе стороны от него, заботливые, как медсестры, стали дожидаться пассажиров, а Иван Веденеевич, сойдя на берег, пошел прямиком здороваться с председателем Петром Артемьевичем, но не дошел: поняв обстановку, остановился на свободном пространстве, издалека снял форменную фуражку.
Рая заботливо огляделась. Родственники стояли подле нее, сердечная подружка Гранька торчала из толпы отдельно, как бы усредненно между родственниками и прочим людом, дед Абросимов тоже в толпе не терялся. Подальше от них, но недалеко стояли муж и жена Трифоновы, нарядные и тихие, глядели на всех Колотовкиных добрыми, растроганными глазами.
— Зачинаю посадку! — прокричал Иван Веденеевич.
Рая стала прощаться. На виду у всех поцеловала дядю и тетю, прикоснулась губами к щекам братьев, затем подошла к Граньке, обняв, легонько похлопала по спине: «Не горюй, подружка! Все перемелется, мука будет!» Рая чувствовала себя взрослой, устало-старой; по-прежнему хотелось полумрака каюты, медленного покачивания, сна. Когда Гранька тихо заплакала, Рая перешла от нее к деду Абросимову, неожиданно для старика поцеловала его в мягкую щеку, пахнущую старостью и от этого приятную.
— Внучатка! — сказал дед и усиленно замигал. — Внучатка ты моя… Сродственница!
Спиной Рая чувствовала тетю, дядю, двоюродных братьев — все они по-прежнему скрывали печаль и жалость к девушке, в душе не хотели, чтобы Рая уезжала, но ей надо было уже идти к широкому трапу, чтобы отправиться в дальний путь, так как обратным рейсом «Смелый» всегда торопился. Он много терял времени, когда шел из Колпашева в верховья Кети: на каждой пристани стоял долго, терпеливо продляя праздник; теперь же капитан Иван Веденеевич ждать не мог.
— Заканчиваю, заканчиваю посадку!
Братья пронесли Раины вещи на пароход, капитан легким бегом поднялся на верхнюю палубу, Гранька кусала губы, дед Абросимов крякал и мотал головой, а Рая все еще стояла на месте, хотя ничего и никого не ждала. У ее односельчан были печальные и добрые лица, они хранили глухую тишину, смотрели мимо Раи, тоже жалея девушку и печалясь за нее. «Надо садиться на пароход!» — подумала Рая и боком двинулась к трапу.
— Погоди, Стерлядка! — вдруг раздался в тишине басовитый вопль. — Погоди, не торопись!
Протаранив толпу, на свободное пространство берега вывалился лохматый и багроволицый Ленька Мурзин. Качаясь и беспорядочно размахивая руками, он начал было падать к Раиным ногам, но все-таки удержался, выгнулся и пьяно закричал:
— Хотишь, я в Кеть брошуся! Хотишь, я песню заиграю!
Опять начал падать, опять удержался на ногах.
— Не уезжай, Стерлядка, — неожиданно тихо попросил Ленька. — Не уезжай, я тебе реплик давать буду! — И заорал: — Хотишь, я с тобой поеду! Хотишь?
Рая по-старушечьи сморщилась, боясь делать лишние движения, по-прежнему бочком пошла к трапу; считая перекладинки, начала спускаться все ниже и ниже, укорачиваясь на глазах улымчан, так как берег был очень высок. Идти ей было трудно, словно не спускалась, а поднималась.
Пароходишко «Смелый» дал один длинный гудок и три коротких, по палубе зачастили матросские каблуки, капитан Иван Веденеевич негромко приказал снять трап; зашипел пар, «Смелый» вздрогнул, отцепившись от яра, сразу перекосился так сильно, что уже надо было перекатывать с борта на борт тяжелую бочку. Своевременно ее, эту бочку, матросы перекатить не успели, и пароходишко подхватило сильное кетское течение, потащило вниз в жалком виде — скособоченного, безвольного, старенького.
Рая Колотовкина на палубу почему-то не вышла, знать, сразу забилась в каюту и поэтому не увидела, как в тот момент, когда пароходишко все-таки выровнялся благодаря тяжелой бочке, на кетский яр выскочил двухголовый конь, похожий на Змея Горыныча.
Анатолий Трифонов на веселом иноходце Ваське не сидел, а почти лежал, вытянувшись вдоль лошадиной спины и шеи, волосы младшего командира запаса путались с лошадиной гривой — вот поэтому конь и казался двухголовым и смахивал на Змея Горыныча.
На берегу Васька встал как вкопанный, головы коня и человека разделились, но секундой спустя снова слились — это Анатолий Трифонов и Васька кинулись догонять кособокий пароходишко «Смелый». Стучали копыта, казалось, что слышно, как свистит вокруг человека и лошади воздух, головы Змея Горыныча были хищными…
…За два года до войны молодые жеребчики умели бегать быстро, но и пароходишко «Смелый» вниз по течению черепахой не ползал…
СЕРАЯ МЫШЬ
1
Дни стояли хорошие. Целую неделю в небе ни облачка, солнце над рекой сразу поднималось желтое, вычищенное и промытое, и казалось, что он так и создан, этот мир, — с голубым небом, с прозрачной Обью, с жарой, не обременительной из-за речной прохлады…
Воскресным утром над поселком Чила-Юл солнце висело вольтовой дугой, река в берегах чудилась неподвижной, как озеро, кричали голодные чайки.
Присоединившись с раннего утра к трем постоянным приятелям, Витька Малых как начал улыбаться, так и продолжал до сих пор растягивать длинные губы, по-шальному щурить глаза и на ходу приплясывать, точно чечеточник. Сам он был длинный, как жердина, суставы у него как бы от рождения были слабыми, и весь он вихлялся, напевал про то, как «на побывку едет молодой моряк, грудь его в медалях, ленты в якорях», и при этом поглядывал на дружков луково, с подначкой.
По длинной деревенской улице они шли гуськом — Витька Малых посередине, впереди него торопился шагать Ванечка Юдин, позади — Устин Шемяка, а Семен Баландин шел отдельно, на особицу. Он, конечно, весь был вялый и темный, стонал сквозь стиснутые зубы, глаза были стеклянными. Устин Шемяка шел с напружиненными скулами, а Ванечка Юдин морщил лоб, прикидывал, как обернется сегодняшнее воскресенье — радостью или печалью.
Собрались дружки в условленном месте к восьми часам. Первым выбрался на свет божий Семен Баландин — дрожащий и черный, с погасшими глазами, с мертвенно-бледной кожей лица; вторым появился злой Устин Шемяка; третьим хлопотливо прибежал Ванечка Юдин, забыв поздороваться с приятелями, сразу начал глубокомысленно морщить лоб и соображать. Витька Малых присоединился к приятелям уже на ходу. Он с каждым поздоровался за руку, каждому пожелал хорошего воскресенья, а потом от молодой утренней радости начал напевать про моряка, про то, как «за рекой, на косогоре, стали девушки гурьбой…»
Они шли по улице, где все было по-утреннему, по-воскресному. Отсыпаясь за всю неделю, женщины не торопились топить дворовые печурки, мужчины еще спали, старики с палками в ожидании далекого завтрака терпеливо сидели на лавках. По улице, опустив хвосты, шли охрипшие за ночь собаки, коровье стадо уже позванивало боталами возле околицы, поперек дороги лежала здоровенная свинья с кокетливо прищуренными белыми ресницами, курицы безопасно гуляли серединой дороги, словно знали о том, что воскресным днем проезжих автомобилей не случается.
Поселок Чила-Юл располагался на крутом обском берегу, стоял он на таком веселом месте, что в погожий день все восемьдесят домов казались новенькими, словно сейчас были рублены; сама река Обь была такая пространственная и высокая, что делалось щемяще-пусто под сердцем; на речном яру росли задумчивые осокори, за околицей то синели, то зеленели кедрачи, рощица берез — неожиданная и посторонняя — выбегала к воде сноровисто, как телята на водопой. Так было весело, словно над Заобьем пела медная труба…
Миновав середину длинной чила-юльской улицы, четверо приятелей начали замедлять шаги и недовольно морщиться, так как увидели поспешавшую им навстречу самую древнюю и бойкую старуху в поселке — бабку Кланю Шестерню. Согнутая годами в дугу, она костистой головой, горбом, торчащими лопатками и локтями действительно походила на зубчатую шестерню; старая старуха бабка Кланя Шестерня при ходьбе всегда глядела в землю, распрямиться не могла, но каким-то образом видела все, что творилось вокруг нее.
Заметив четверку, бабка Кланя Шестерня тоже замедлила шаги, ворочая низко опущенной головой, принялась сопеть и хмыкать, потом остановилась как вкопанная и, подперев подбородок короткой палкой, стала разглядывать след копыта на пыльной земле. Бабкино плоское лицо располагалось параллельно дороге, по бокам его висели пряди седых волос, согнутая спина торчала верблюжьим горбом, ног под суконной юбкой было не видать.
— А вы, соколики, опять лакать ее, бесовскую? — насмешливо спросила бабка Кланя Шестерня. — Ну, мне теперича заходу домой не будет…
После этого бабка пошла было дальше, но потом изменила направление: решила зайти к жене Ванечки Юдина, а заодно через прясло поразговаривать с женой Устина Шемяки. Двигалась бабка так, словно ее подталкивали сзади, словно она падала вперед, но березовая палка ей совсем упасть не давала, и на всю улицу было слышно, как бабка хмыкает и недовольно сопит, — такая кругом стояла утренняя тишина, такой был покой и такая воскресная сонная радость.
— Хоть бы зашиблась! — зло прошептал Устин Шемяка вслед бабке. — Вот если я кого терпеть не могу, так у меня аж в скулах больно!
— Самая язва и есть! — торопливо добавил Ванечка Юдин. — Ее бы в анбар запереть! Все одно целый день ничего не жрет… Как она проживает — вот этого я понять не могу!
Прошагав еще метров пятьдесят, приятели остановились возле тенистой скамейки, переглянувшись, тревожно, разом сели на прохладное дерево. Отсюда хорошо был виден сельповский магазин, на крыльце которого стояло несколько женщин, а над дверями висело красное полотно: «Да здравствует 1 Мая — день международной солидарности трудящихся всех стран!»
— Минут через десять откроет! — радостно сказал Ванечка Юдин. — Варфоломеевская баба завсегда ходит при часах, так вот она уже приперлася… Ну, мужики, давай соображать!
Он хлопотливо повернулся к товарищам, весь возбужденный и озабоченный, стал укоризненно глядеть на приятелей, так как уже заранее знал, что последует за его призывом «соображать», и уже был готов к тому, чтобы ничему не удивляться.
— Давай, давай, мужики!
Они сидели на затененной, скрытой от человеческих глаз скамейке, над ними шумели в черемуховых ветках веселые по-утреннему воробьи, лучи низкого солнца пестрили кроны деревьев золотыми кружочками. Болезненно перекосив лицо, обморочно закатывал глаза дрожащий Семен Баландин, презрительно и зло усмехался Устин Шемяка, возбужденно вертел головой Ванечка Юдин, а Витька Малых, любопытный, как сорока, не спускал сияющих глаз с товарищей. Рот у парня был полуоткрыт, под распахнутой на груди рубахой незащищенно торчали ключицы, лоб у Витьки был ясный, как у вихрастого мальчишки. Две-три секунды он помолчал вместе со всеми, потом, пропев вслух: «…потихоньку отдыхает у родителей в дому…», радостно и медленно, чтобы все видели, полез в карман брюк.
— У меня рупь! — восторженно сказал Витька, вынимая кредитку. — Анка дала!
Расправив ассигнацию, Витька перестал счастливо улыбаться и посмотрел на приятелей удивленно, словно хотел спросить: «Чего же вы не радуетесь моему рублю? Ведь его Анка дала!» Однако трое не только молчали, но и отводили глаза от Витькиного рубля, а Ванечка Юдин даже осторожно вздохнул. Молчание продолжалось, наверно, целую минуту, потом Ванечка вздохнул громко.
— У меня тоже рупь! — сказал он. — Где достал, дело не ваше!
Прибавив к глубокомысленным морщинам на лбу две трагические складки, Ванечка Юдин аккуратно расправил рубли, перегнул их пополам, пропустил через сложенные пальцы и повернулся к Устину Шемяке.
— Ну!
Огромный, краснорожий, короткошеий Устин Шемяка насмешливо и зло усмехнулся. На его грубом, тупом и важном лице розовела нежная детская кожа, под лохматыми свирепыми бровями прятались голубые глаза, на подбородке синел звездчатый шрам, похожий на снежинку.
— Ты чего же, Устин, отмалчиваешься-то? — удивленно спросил Ванечка Юдин. — Ну Семен рупь не имеет, это по его жизни закон… А ты чего помалкиваешь, когда двести пятьдесят в месяц гребешь? Ты-то чего бычишься, когда при деньгах?
Дул легкий береговой ветер, река Обь светлела по-утреннему, шли с удочками мальчишки, бодро прошагал с портфелем директор шпалозавода Савин, двигались к сельповскому магазину три солидные женщины с городскими авоськами… Хорош был поселок Чила-Юл! Как славно обнимала его излучина Оби, как уютны были все восемьдесят домов, как чисто было на длинной улице, расположенной на высоком яру, с которого дождевой поток уносил грязь и мусор. Славно было, просторно, весело, обжито…
— Нет у меня грошей! — наконец сказал Устин Шемяка. — Копеек пятьдесят наскребу…
Еще раз зло и надменно усмехнувшись, он снова примолк, соображая, в какой карман штанов были положены три рубля, а в какой — мелочь; вспомнив, он долго копошился пальцами в левом кармане: перебирал пальцами монеты, что-то отсчитывая, отсортировывая, и лицо при этом у него было такое, какое бывает у очень голодного человека.
— Пятьдесят три копейки, — сказал Устин. — Вона тут еще медяк примостился…
На скамейке снова наступила напряженная тишина; время как бы замедлилось, остановилось, и стало слышно, как хрипло, задушенно, с перерывами дышит Семен Баландин, которого уже не держала спина — он упал боком на серые доски забора. Бледный, с трясущимися губами, обмякший, как пустой мешок, Семен Баландин из-под смеженных ресниц с суеверной надеждой и тайным неверием глядел на деньги. Когда Ванечка Юдин еще раз пересчитал монеты, он судорожно глотнул воздух, закашлялся и уронил голову на грудь: это был обморок.
— Тридцать четыре копейки не хватает! — торопливо сказал Ванечка Юдин. — А ну давай, народ, шукай скорей тридцать четыре монеты, как бы Семен богу душу не отдал!.. Витюх, гони двадцатник, а у меня пятнадцатушка имеется…
Было около половины девятого, солнце уже перевалило через молодой осокорь на обском яру, река на глазах делалась сиреневой и прозрачной, словно ее подсвечивали со дна; по улице две девчонки несли на загорбках молодую траву — они, наверное, собирались кормить шкодливых коз, которые в стаде пастись не умели.
Девочки завернули в переулок, сделалось совсем тихо и пустынно, но через несколько секунд из того же переулка, где скрылись девочки, выкатилось один за одним десять солнц разного размера — четыре больших, четыре средних размеров, два солнца были маленькими. Это ехали на велосипедах пять человек: двое взрослых, двое мальчишек десяти-одиннадцати лет и девочка лет семи-восьми.
— Цыпыловы! — шепнул Витька Малых. — Цыпыловы в лес поехали!
Велосипедные солнца медленно катились по длинной улице.
2
Магазинные двери открывались наружу, как в пожарном депо, в помещении пахло свежим пшеничным хлебом, мышами, слежавшимся ситцем, хозяйственным мылом и рогожей; здесь светились во всю стену два больших окна, стояли неструганые сосновые полки, висела табличка «Покупатели, будьте взаимно вежливы с продавцом», а у хмурой, всегда строгой продавщицы Поли было сурово-иконное, фанатичное лицо. Обнаженные по локоть руки продавщицы не брали товар, а хватали, не клали хлеб на весы, а швыряли, не снимали товар с весов, а злобно сдергивали. Глаза у продавщицы Поли были постно опущены.
Первой в очереди стояла толстая и важная жена рамщика шпалозавода Варфоломеева — при часах на сдобной руке; за ней с мечтательным видом выжидала свой черед солдатка Ляпунова в пестром мужском свитере; за спиной Ляпуновой толпились бабы попроще, всего человек десять, включая двух девчушек, держащих мелкие деньги в потных кулаках. Очереди было на полчаса, а то и больше.
— Не топочите! — шепнул Ванечка Юдин. — Иди тихой ногой… Это Поля уважает!
Остановившись в хвосте очереди, четверо приятелей начали ловить взгляд продавщицы Поли подхалимскими, трусливыми и молящими глазами; даже звероподобный Устин Шемяка кривил губы, задыхающийся Семен Баландин глядел на продавщицу со страхом, Витька Малых и Ванечка Юдин улыбались просторно, наперегонки, словно устроили соревнование — кто лучше улыбнется. Улыбка Ванечки Юдина была льстивой и подобострастной, а Витька улыбался продавщице так радостно, как ранним утром улыбался взошедшему солнцу, белым черемухам, голубым елям на взлобке яра.
— Полкило конфет-подушечек, триста грамм мырмеладу, полкило соевых, — поматывая толстым пальцем, важным голосом говорила жена рамщика Варфоломеева и косилась на соседок, чтобы видеть, какое впечатление производит на них. — Пожалуйста, не забудьте, Поля, чтобы мырмелад шел на вес целенький… Мой не любит, если половинки!
Потом гордая Варфоломеиха стала брать развесную халву, манную крупу, геркулес в пачках, сахар-песок и муку. На фанатичном лице продавщицы Поли ненавистно розовели скулы, губы вытянулись в ниточку; она бренчала и стучала всем, чем можно стучать и бренчать, а на важную Варфоломеиху за все время ни разу не посмотрела.
— Терпи, народ! — успокаивающе зашептал Ванечка Юдин. — Видали, как она на меня зыркнула? Значит, беспремен отпустит…
Водка в сельповском магазине продавалась только после десяти часов, очередь стояла мертво, толстая Варфоломейха все держала указующе поднятым жирный палец, и Семен Баландин, судорожно всхлипнув, вытянув длинную и тонкую шею навстречу продавщице Поле, умоляюще попросил:
— Поль, а Поль, отпусти! Поль, а Поль!
Помещение магазина было полупустым, высоким, женщины, сердито наблюдающие за гордой и важной Варфоломеихой, мертво молчали, и болезненный голос Семена звучал в магазине так громко, словно он кричал:
— Поль, Поль, пожалей!
Не обращая внимания на Баландина, точно не слыша, не видя его, продавщица вернулась к прилавку и, не изменив выражения лица — глаза постно опущены, скулы крутые, подбородок спокойный, — закричала так громко и визгливо, что зазвенело в ушах:
— Ходют тут всякие!.. Нет того, чтобы мне благодарность принесть за то, что магазин на полчаса раньше открываю, так они еще водку просют до сроку! Они еще через прилавки лезут к материальным ценностям!.. Вот счас всех вытурю, закрючу магазин да пойду досыпать… Здоровье у меня подорванное, жирного целый день не ем, один чай пью… А тут ходют всякие! А тут сами не знают, кого брать: то ей крупу, то ей мырмеладу, то еще каку холеру!
Вот так кричала продавщица Поля, надувая до красноты жилистое горло, трясясь от злости. Одновременно с этим она привычным движением выхватила из-под прилавка бутылку с зеленой наклейкой, размахнувшись ей, как гранатой, бросила ее на грудь Ванечки Юдина, а второй рукой выдрала у него из пальцев бумажные деньги с завернутой в них мелочью.
— Сойдите с моих глаз, пьяницы! — надрывалась Поля. — Это дело для меня могет судом кончиться, но глядеть на вас мне от сердца противно, а тут еще сумки животом к прилавку прижимают, культурность свою показывают да по четыре веса берут, чтобы я хворобой изошла…
Она все кричала и кричала, хотя четверо приятелей на цыпочках уже выбирались из магазина боком-боком да поскорее-поскорее, так как с продавщицей Полей шутить не приходилось — на поселке она была большая сила. Работала Поля в Чила-Юле лет уже пятнадцать, на воровстве и махинациях никогда поймана не была, магазин у нее почти круглые сутки бывал открытым, но жизнь человека становилась плохой, если на него сердилась продавщица Поля: во-первых, хорошего товару тебе не видать как своих ушей, во-вторых, настоишься в очередях так, что с лица почернеешь, в-третьих, потеряешь в поселке авторитет…
— Ходют тут всякие! Водки им надо, мырмелад им подавай, а сами не знают, каку им холеру надо… У меня на это дело сердца не хватат, я от этого скоро на больничный сойду — жрите тогда свой мырмелад, только где вы его укупите…
Четверо приятелей на цыпочках вышли из магазина, в молчаливой суете двинулись быстрым шагом к обскому яру, на самом взлобке которого — на тридцатиметровой крутизне, над сиреневой утренней водой — росла подкова веселых молодых елок. Земля под ними была такая чистая и желтая, словно ее раза три на день прометали тщательно метлой, подкова елок выпуклостью изгиба была обращена к деревне, и поэтому за ней можно было прятаться, как за плотной оградой.
Молчаливые приятели торопливо сели на теплую землю, образовав маленький кружок, начали блестящими глазами смотреть на то, как Ванечка Юдин осторожными, бережными движениями достает из глубокого кармана лыжных штанов бутылку водки. Он, Ванечка Юдин, вообще весь был спортивный: лыжные брюки, лыжная куртка, футбольные бутсы, а под курткой майка с надписью «Урожай».
— Вот она, родимая, вот она, хорошая!
Ванечка поставил бутылку в центр круга, потерев рука об руку, кивком головы дал команду вынимать из карманов закуску, и четверо приятелей стали доставать и класть возле бутылки всякую еду. Витька Малых положил большую луковицу и два бутерброда с толстыми кусками сала, сам Ванечка вынул кусок тощей колбасы и две шанежки, Устин Шемяка достал три смятых яйца, тряпочку с солью и стрельчатый лук, свернутый в три раза, чтобы не высовывался из кармана. Семен Баландин из карманов ничего доставать не стал.
— Не торопись, не торопись, народ! — сладострастно приговаривал Ванечка Юдин, вытирая травой граненый стакан и ежесекундно разглядывая на свет зеленое стекло. — Устинушка, ты бы не валил яйца-то на хлеб! …А ты, Витюх, сальцо-то порежь. Семен, ты себя не беспокой, заботу себе не давай, в сознанье себя держи… Да куда ты, Витюх, хлеб-то тычешь? Сюды, сюды давай…
Слышно было, как поплескивает у берегов вода, кричат в небе чайки, что-то свистит в горле у Семена Баландина, который опять обморочно дремал. На щеках Устина Шемяки костром разгорался яркий румянец, шрам-снежинка на подбородке, наоборот, бледнел, мускулы под рубахой ходили ходуном, а Витька Малых, даже сидя умудрялся приплясывать, пританцовывать и, щелкая тонкими пальцами, пел: «…как проснусь, то сразу море у меня в ушах шумит…»
— Устин, открывай! — наконец скомандовал Ванечка Юдин. — Давай, давай, душа горит…
Схватив бутылку лапищей, Устин Шемяка сорвал зубами пробку, выплюнув ее на землю, бережно передал бутылку Ванечке:
— Наливай, зараза!
Ванечка на секунду благоговейно замер… Он всегда разливал водку, среди пьющих мужиков славился тем, что умел разливать на глаз любое количество спиртного с такой точностью, что промеры спичкой показывали абсолютную равность, и пьющие уважительно шептали: «Глаз-алмаз». Был случай, когда Ванечка разлил три бутылки «Столичной» в одиннадцать стаканов так, что в последней бутылке не осталось ни капельки, а стаканы содержали ровно по сто тридцать шесть граммов.
— Зачинаю!
Ванечка начал священнодействовать. Он ногтем прочертил на бутылке только ему видимую черту, зачем-то встряхнув и взболтав водку, обвел приятелей значительным, важным, надменным взглядом. Он уже было наклонил бутылку к стакану, чтобы наливать, но Витька Малых задержал его руку.
— Ты ровно не разливай, Ванюшк! — сказал он. — Ты мне чуть плесни, а Семену поболе набухай…
— Хрена ему! — злобно закричал Устин Шемяка и погрозил Витьке волосатым кулаком. — Я на свои кровные кажного поить не хочу… Хрена ему, пьянюге несчастному!
Семен Баландин этого вопля не услышал: привалившись к плечу Витьки спиной, закрыв глаза и свистя горлом, он находился в полуобмороке, в полузабытьи; пористое, вздутое водянистой подушкой лицо Семена с прозрачными мешками под глазами, с чернотой обуглившихся губ и дрожащей кожей было таким страшным, что Витька, махнув рукой, потупился.
— Ты бы не кричал, Устин! — после небольшой паузы рассудительно сказал Ванечка Юдин. — Ты бы не орал, ежели в этом деле ни бельмеса не понимаешь… — Он поставил бутылку на землю, покачал головой. — Семен могет запросто помереть, если ему дозы не дать… Небось помнишь парикмахера Сашку? Отчего он перекинулся? Вот то-то же!.. Сашка оттого перекинулся, что дура-баба ему опохмелиться не дала! — Ванечка осуждающе пожал плечами, посмотрел на сиреневую руку. — Ушной врач так и говорил: «Дай, говорит, дура-баба Сашке опохмелку, он, говорит, меня бы попреж под бобрик стриг»… Так что ты дура, Устин!
Четырех приятелей обнимала подкова веселых от солнца молодых елок, над ними сияло яркое и тоже молодое небо, под ними тихо-тихо текла великая сибирская река Обь, вздымающаяся к небу, как море; шел по реке буксирный пароход «Литва», на деревянных баржах вращали крыльями ветряки-насосы, пароход деловито бил по воде плицами и шипел паром; ходил под яром по песку пожилой человек в красных плавках на загорелом теле — то приседал, то пружинисто вскакивал, то падал грудью на землю. Это делал утреннюю зарядку директор шпалозавода Савин.
— Семен Василич, держи! — великодушно сказал Ванечка. — Грамм сто семьдесят тебе набухал…
Однако Семен Баландин и на этот раз не услышал — сидел неподвижный, бледный как смерть, и Витьке Малых пришлось пошевелить плечом, чтобы он пришел в себя. Почувствовав толчок, Баландин выпрямился, медленно повернулся к Ванечке Юдину и вдруг испуганно и нервно расширил мутные глаза — увидел водку. Глядя на бутылку, он делал мелкие глотательные движения, стиснув губы, вздрагивал так, словно его колотила лихорадка.
— Похмелись, Семен Василич!
Еще раз вздрогнув, Баландин неожиданно для всех вскочил, прикрыв рот ладонью, бросился в гущу молодых елок, извиваясь и стеная, начал блевать на землю; он три дня ничего не ел, только пил, и сейчас Семену рвотой выворачивало внутренности, из желудка поднималась ядовитая желчь, пузырилась на губах, дыхание прерывалось, и все это было так тяжело, что приятели Баландина, отвернувшись от него, стали глядеть на утреннюю реку.
— Ну, чего, Семен Василич, проблевался? — деловито спросил Ванечка, когда судорожные звуки чуточку ослабли. — Приложись… Разом полегчает!
Еще через минуту Семен Баландин повернулся лицом к приятелям, наклонив голову и плечи, пошел на Ванечку и стакан с водкой таким шагом, точно его подталкивали в спину острым штыком; в обморочных глазах Семена светилась яростная решимость, подбородок задрался, руки были по-солдатски прижаты к бокам.
— Ставь на землю! — хрипло попросил Семен и осторожно лег грудью на землю. — Поближе ставь!
На землю Семен Баландин лег потому, что не мог держать стакан в руках — так они тряслись. Нацелившись, он схватил край стакана зубами, закрыв глаза, сгорбатив худую спину и затаив дыхание, начал пить водку так, как теленок в первый раз сосет мать. И опять все это продолжалось мучительно долго, и трое снова отвернулись от товарища — Витька Малых с жалостью и состраданием, Ванечка Юдин с расчетливой целью не помешать человеку «принять дозу», а Устин Шемяка со злобой к алкоголику Баландину.
— Прошла? — заботливо спросил Ванечка. — Гляди, Семен, не дай ей обратным ходом пойтить! Это для тебя хуже беды…
Распластанно лежа на земле, Семен еще несколько томительных мгновений боролся с собственным организмом, потом все услышали такой протяжный и долгий вздох, какой издает расседланная лошадь; вздрогнув в последний раз, Семен оторвал грудь от земли, хватанув воздух широко открытым ртом, сел прямо.
— Ну вот! — удовлетворенно сказал Ванечка. — Полный ажур! А что могло получиться? Да вот что — бряк, и нет человека! Ну, тут милиция, доктора… Кто водку разливал? Ванечка Юдин. Так! Позвать сюда товарища следователя! Тот прямо ко мне: «Ты как так водку разливал, что человека до смерти довел?» Я, конечно, молчу…
Произнося эти слова, Ванечка наливал стакан для Устина Шемяки, приставляя ноготь к стеклу, выверял правильность разлива, поглядывая на остатки, соразмерял их с налитым, и вид у него опять был важный, величественный, недоступный.
— Держи!
Устин Шемяка стакан с водкой взял не сразу, а сначала выбрал из снеди самый крупный кусок Витькиного сала, положив на него заранее облупленное яйцо, обернул все это тонким ломтем хлеба, еще немного подумав, наложил сверху половину молодой луковицы. Только после этого Устин, не глядя, принял стакан из рук Ванечки и сказал недовольно:
— Чего жалею, так это пятьдесят три монеты… Ведь ты мне налил-то мало!
Поднеся к носу стакан, он жадно вдохнул запах водки, улыбнувшись всей кожей нежного лица, начал мелкими, дробными глотками цедить спиртное в красногубый рот. Крупный кадык на его короткой шее двигался мерно, горло оставалось гладким и нежным, хотя время от времени по коже пробегала сладострастная волна. Допив стакан до конца, Устин жалеючи вздохнул, облизал губы и громко сказал:
— Брошу я с вами гужеваться! Не для того ломаются на шпалозаводе, чтобы алкоголиков отпаивать…
Витька Малых протяжно вздохнул. Водку он на вкус и запах терпеть не мог, пригубливая стакан, всякий раз чувствовал отвращение, а закусывал неохотно потому, что сытно поел за ранним завтраком с женой Анкой. Зато Витька Малых любил сидеть на земле, слушать, как бранятся Ванечка и Устин, наблюдать, как оживает Семен; ему нравилось ходить с ними по улицам, доставать деньги, слушать приятелей, когда они напьются, мирить их, когда поругаются, а потом провожать заботливо домой. На это у Витьки уходило целое воскресенье, ему никогда не бывало скучно, и он уже со вторника ждал, когда же придет воскресное утро.
— Держи, Витюх!
Восемьдесят граммов водки Витька Малых выпил спокойно, проглотив горькую жидкость, плюнул на землю и неохотно закусил крохотным куском сала, а когда все эти скучные процедуры были выполнены, принялся с любопытством наблюдать, как пьет водку Ванечка Юдин.
— Дай бог не по последней! — озабоченно проговорил Ванечка, потер руки и шутливо перекрестился стаканом. — Желаю вам болезней, напастей, холеры, голода, мора и смерти… избежать!
Прохохотавшись, Ванечка озабоченно выпил, закусив всем, что лежало на земле, начал деловито вытирать травой пустую бутылку, а когда она сделалась прозрачной и голубой, опустил ее в бездонные карманы лыжных штанов, предварительно посмотрев на горлышко — не выщерблено ли?
— Двенадцать копеек… — напевно проговорил Ванечка. — Лиха беда начало!
Теперь, когда главное дело было закончено, четверо приятелей молча погрузились в собственные переживания. Отделившись друг от друга, уже ничем не спаянные, они внимательно прислушивались и приглядывались к самим себе… Первым, конечно, начал заметно пьянеть Семен Баландин — настоящий алкоголик, пропитая душа. Минут через пять-семь после того, как был им выпит почти полный стакан водки, Семен мягко выпрямился, встряхнувшись, с таким видом поглядел на реку и небо, деревья и землю, словно только теперь обнаружил их присутствие. Одновременно с этим он обирающимися движениями пальцев стряхивал с одежды пыль, хвоинки, комочки земли. Опухшее лицо Баландина понемногу теряло блеск.
— Прекрасная погода! — окрепшим голосом произнес он. — Видимо, и на будущее прогнозы благоприятны…
Остальные приятели водку переживали тоже каждый по-своему. Витька Малых от восьмидесяти граммов еще немножко ускорился в движениях и любопытстве к миру; Ванечка Юдин сделался еще более озабоченным и хлопотливым: считающе прищуривал левый глаз, безостановочно потирал руку об руку, собирал на лбу думающие морщины; у Устина Шемяки зло дергались огромные негритянские губы, опасно алела девичья кожа лица.
— Молчал бы про погоду-то! — презрительно сказал Устин Баландину. — Что ты, пьянюга, можешь в погоде понимать, когда всю жизнь в начальниках обретался? Вот уж кого из всех силов терпеть не терплю, кто сам начальник, а погоду ему подавай…
— Молчи, дура! — немедленно ответил Ванечка Юдин. — Чего ты можешь в начальстве понимать, ежели сам никогда в руководстве не ходил? Вот за что тебя не уважаю, так за то, что говоришь, а сам не знаешь, про что говоришь!
Как и Устин Шемяка, хлопотливо-заботливый Ванечка Юдин говорил на диалекте жителей среднего течения Оби, все еще употреблял старинные слова; он никогда в мирное время не выезжал из Чила-Юл, кончил в школе всего пять классов, за всю жизнь прочел три книги — роман В. Шишкова «Угрюм-река», «Иван Иванович» А. Коптяевой и «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, — а газеты читал только в годы войны. Лицо у Ванечки было типично обское — чуточку узкоглазое, загорелое, с жидкой растительностью, так как коренные обские жители издавна мешались кровями с безбородыми аборигенами-остяками; однако на голове у Ванечки росли густые, кудрявые и такие черные волосы, что думалось о его далеких предках с теплой Украины.
— Вообще, я хуже тебя человека не видел! — сердито сказал Ванечка звероподобному Устину Шемяке. — Во-первых сказать, жаден, как поп, во-вторых выразиться, с лица страшон, ровно какой цыган, в-третьих обсказать, водку четвертями заглатываешь… И еще с нами гужеваться не желаешь! Да мы на тебя — тьфу!
Вот и началось веселое, забавное, любопытное, то самое, чего давно ждал Витька Малых, — смешной разговор, общение, беседа, ругань. Поэтому Витька радостно повернулся к Семену Баландину, посмотрев на его оживающее лицо, увидел, как распрямились глубокие складки на лице, делалась все более прямой спина, руки все тщательнее обирали соринки с одежды и стряхивали пыль. Ожидая от Семена Баландина справедливых, умиротворяющих слов, Витька Малых ласково смотрел на его лысеющий покатый лоб, очень добрые губы, заглядывал просительно в ореховые глаза. Он любил Семена Баландина, всем рассказывал, какой это чудесный человек, и всегда добавлял, что ходит с приятелями по поселку только из-за того, что не может бросить Баландина, когда тот сильно пьянеет и становится беспомощным, как ребенок. Сейчас Витька нежно улыбался Баландину, вопросительно глядел на него, и Семен сказал специально для Витьки:
— А все-таки погода хорошая!
День на самом деле образовывался приличный. Солнце подскочило еще на вершок над горизонтом, лучи выпрямлялись, становились прозрачнее, над рекой кончалось безостановочное кружение белых чаек, насытившихся рыбешкой; за ельником шли девчата, смеялись чему-то, вспоминали какого-то Вальку Ступина и от этого смеялись все громче и все тревожнее. Когда девчата прошли, веселые елки осторожно раздвинулись, и сквозь синие ветви проглянула макушка головы и палка бабки Клани Шестерни. Глядя в землю, старая старуха затрясла головой, словно заклевала зерно, звонко засмеявшись, радостно сказала:
— Вон вы где обретаетесь, миляги! Ну я пошла!
Бабка мгновенно скрылась в шелестящем ельнике, закудахтала уже невидимая, и Витька Малых навзрыд хохотал: появление бабки Клани Шестерни, ее кудахтанье, торопливый уход, привычная фраза — все говорило о том, что воскресная жизнь четырех приятелей началась и продолжалась нормально, обычно, правильно и что у Витьки Малых все еще впереди… Шатание по деревне, доставание денег, перешептывание, ссоры, примирения, пьяные разговоры и само пьянство…
3
Медленно, осторожно, как бы принюхиваясь, приглядываясь, четверо снова двигались по длинной чила-юльской улице: у Ванечки Юдина оттопыривался карман с пустой бутылкой, Устин Шемяка оглядывался хищно, Семен Баландин по-прежнему удивленно смотрел на мир, а Витька Малых, замыкая шествие, продолжал петь про моряка, который приехал на побывку. Четверка пока еще шла по улице бесцельно, Ванечка Юдин только глубокомысленно морщил лоб, что-то соображая, но все равно в кошачьих движениях приятелей ощущалась подспудная осмысленность, в отрешенной задумчивости читалась предопределенность действий, в осторожном шаге — вкрадчивость.
Четверо приятелей, как выражался Устин Шемяка, «шакалили», то есть искали возможность еще раз выпить… В уютных, веселых от солнца, спокойных по-воскресному домах скрывались рубли и трояки, таилась самогонка, старела до кондиции хмельная брага, остывали на льду погребов заранее купленные бутылки водки. Поселок Чила-Юл походил на крепость, которую четверке надо было взять — где длительной осадой, где хитростью и коварством, где измором и угрозами. Поселок Чила-Юл был богат, как всякий поселок, где жили рабочие шпалозавода, получающие ежемесячно по двести-триста рублей, держащие коров и свиней, большие огороды, умеющие рыбачить и охотиться; люди в поселке не любили считать деньги, охотно их тратили, хотя зарабатывали нелегким, а иногда и опасным трудом. Жители рабочего поселка Чила-Юл были по-сибирски щедры и размашисты; если гуляли, то гуляли широко, если одаривали, то щедро.
Приятели шли теперь так: впереди шествовал Ванечка Юдин с озабоченными морщинами на лбу, за ним грозно двигался Устин Шемяка, на шаг отставал от него удивляющийся миру Семен Баландин, а еще шагов на пять позади всех напевал про моряка Витька Малых, и это было такое расположение четверки, какое можно было наблюдать каждое воскресенье после первой бутылки водки.
Поселок Чила-Юл уже проснулся. Почти во всех дворах дымились летние печурки, бегали по улицам ребятишки, перекликались через заборы женщины, старики на скамейках вели уже довольно оживленный разговор, а во дворе у рамщика Василия Сопрунова все семейство уже сидело за дощатым, врытым в землю столом.
Мимо двора Сопруновых четверка прошла тихо, безмолвно, с опущенными в землю глазами; когда дом их за высоким забором остался позади, Ванечка Юдин, захихикав, сказал:
— Василь-то Егорович-то — бухгалтер! Его-то баба кажный раз в орсовском магазине концерву берет, что называется «Сиг»… Три банки берет, чтоб кажному по полбанки… А заместо чая они какаву… Значит, стакан, в него — три ложки какавы да три ложки сахару… И давай пить!
Устин Шемяка злобно усмехнулся.
— Не бреши! — сказал он. — Об прошлое воскресенье Сопруниха концерву «Мелкий частик» брала! Это тебе как?
— А никак!.. Почто бы она стала брать «Мелкий частик», когда Василь-то Егорыч с четверга бонами займался и, значится, дома был. А ему «Мелкий частик» и не кажи — ему «Сига» давай!
— Опять же не бреши! В четверг Василь Егорыч на погрузке был.
Четверо остановились, сгрудившись в кружок, стали глядеть друг на друга вспоминающе и задумчиво, словно что-то потеряли; в молчании прошла, наверное, минута, потом Ванечка проговорил хлопотливо:
— Как же это Василь Егорыч в четверг был на погрузке, ежельше сто восьмую баржу кончили в среду вечером? Вот это ты мне беспремен растолкуй, Устин!
— А чего тут толковать! — обозлился Устин. — Ты ежели ум пропил, то молчи… В четверг сто восьмую кончали!
— Как это в четверг, ежели премия?
— Какая еще премия?
— А за досрочну погрузку! — обрадованно запищал Ванечка. — Сто восьмая судострой брала, а Савин на рейд пришел, на часы позыркал и говорит: «Ежели вечером кончите — всем премия выйдет!»
— У тебя ум за разум заходит, дура! Будь у меня под рукой срезка, я бы тебя огрел…
Устин Шемяка действительно начал оглядываться по сторонам, однако ничего не нашел и грозно ощерил зубы.
— Сто восьмую закончили в два часа ночи, ребята! — ласково улыбаясь, сказал Витька Малых. — Поэтому вы обои правые… Если смотреть с одной стороны, то вроде в среду, если с другой — то в четверг… А за премии Ванечка прав! Я сам пять семьдесят получил…
— Так где же они? — шепотом спросил Устин.
— Эти пять семьдесят пропиты! — считающе проговорил Ванечка Юдин. — Сегодня рупь — это рупь, в то воскресенье Витюха трешку вынес — это четыре… Ну, рупь Анке пошел… Ты вот лучше скажи сам, Устин, где твои два трояка? Ты ведь тоже за сто восьмую премию огреб…
После этих слов четверо перестали глядеть друг на друга, опустив головы, долго рассматривали носки своих пыльных сапог, шарили по земле глазами с таким видом, словно искали пропажу, а когда молчать сделалось невмоготу, Устин Шемяка медленно поднял руку, сложив пальцы кукишем, поднес их к носу Ванечки Юдина.
— А вот этого ты не видал, пьяница несчастный?! У меня небось семья! Детишки образование получают… Не все пропивам, как некоторые…
Семен Баландин молчал. Он оторопело глядел на поселок Чила-Юл, выражение лица у него снова было такое, точно Семен недавно проснулся и обнаружил, что находится в незнакомом месте. Над поселковыми домами, оказывается, тысячесвечовой лампой горело солнце, возле околицы строились пять брусчатых домов, подле конторы шпалозавода стоял новенький «газик», чистый, уютный и веселый поселок обнимала река. Глаза Семена с заузившимися зрачками были широко открыты, плечи удивленно приподняты, а стоял он на тротуаре так робко, отстраненно, словно не знал, что такое тротуар.
— Так! — шептал он сухими, потрескавшимися губами. — Вот так!
Когда совмещение миров закончилось и Семен Баландин снова ощутил себя стоящим на простом деревянном тротуаре, плечи у него ссутулились, глаза погасли. Он болезненно сморщился, но спросил довольно громко:
— А почему мы стоим? Ты нас куда ведешь, Юдин?
Всего три года назад Семен Баландин был директором Чила-юльского шпалозавода. Тогда он именовался Семеном Васильевичем, ездил на «газике», сидел в просторном кабинете подле стального сейфа, подписывал бумаги и был любим рабочими за доброту, знание дела, простоту и ясный ум. Теперь же спившийся Баландин только несколько утренних минут, следующих за первым опохмелением, походил на прежнего директора.
— Итак, какой у тебя план, Юдин? — переспросил Семен Баландин и поскреб грязными ногтями рукав заношенного пиджака.
Трое молча глядели на Баландина, и в их глазах читалась почтительность к Семену Васильевичу, уважение к его образованию, прошлому высокому положению, а главное, к тому, что сейчас перед ними стоял почти тот самый человек, который несколько лет назад был главным в поселке. И в том, как Семен разговаривал с Ванечкой Юдиным, и в его голосе, и в приподнятой голове, и в слове «план» было прежнее положение Баландина, его прошлая, хорошая жизнь.
— Я достану трояк! — почтительно выступив вперед, сказал Витька Малых. — Прошлую субботу у моей Анки занимали трешку Колотовкины, так обещали через неделю отдать…
— Что ж, пошли к Колотовкиным!
Они пошли быстро — узкими и тайными переулками, в тени заборов и деревьев, согнувшись и стараясь не шуметь, чтобы не мозолить глаза жителям поселка в такое раннее, трезвое время; минут за десять они добрались до большого дома Колотовкиных, подкравшись к нему, схоронились за палисадником, затаились в тени черемух, как ночные тати; у всех четверых возбужденно блестели глаза, ноздри раздувались, по коже лица струился похмельный тяжелый пот.
— Давай, Витюх! — прошептал Ванечка Юдин. — Ежели Данила и тетка Марея будут вместях, долг не проси… Ты тетку Марею отдельно отзови, да — на ушко ей, на ушко…
— Знаю, знаю…
Витька Малых воровато проник сквозь зеленую калитку, остерегаясь большого лохматого кобеля, молча рвущегося с цепи, прошел по песчаной дорожке к высокому резному крыльцу. Свежее и молодое лицо Витьки выражало истинное удовольствие, двигался он на цыпочках, втягивая голову в плечи. Он был похож на мальчишку, который играет в индейца, крадущегося по тропе войны.
Войдя в просторные сени, Витька нарочно затопал сапогами, так как стучать в дверь в нарымских краях было не принято. Потом он ввалился в темную горницу, посредь которой за столом сидело все семейство Колотовкиных.
— Желаем здравствовать, хозяева! — вежливо поздоровался Витька и вытер о половичок чистые и сухие подошвы сапог. — Приятного вам аппетиту, Данила Петрович, Мария Стратоновна, Лизавета Даниловна и все прочие!
Колотовкинская горница была неоштукатуренной, но стены были сплошь оклеены газетами «Красная звезда», которые выписывал Андрюшка Колотовкин, год назад демобилизованный из армии. Он сейчас вместе во всеми сидел за столом, вежливо поглядывая на гостя, хлебал суп. Ради воскресенья Андрюшка был наряжен в тугой солдатский китель, хромовые офицерские сапоги, на груди у него блестела медаль и туманились разные значки.
— Здоров, Андрюшка! — отдельно поздоровался с ним Витька и широко улыбнулся. — А не жарко тебе при кителе-то? Не сопрешь?
Забайкалец Витька Малых старательно осваивал нарымский говор, знал уже много здешних слов и даже умел произносить их напевно-слитно, как это делали местные жители; разговаривая, Витька старался делать такое лицо, которое бы тоже ничего не выражало.
— Не сопрешь в кителе-то, Андрюшка? — повторил он.
Семейство Колотовкиных сидело за столом молча, основательно и серьезно; сам Данила Петрович занимал головную часть стола, по левую руку от него сидела жена, по правую — престарелый отец, за ним — дочь Елизавета, работающая преподавательницей немецкого языка; потом располагался Андрюшка; стол венчала теща Данилы Петровича старуха Рыбалова. Все Колотовкины смотрели на гостя вежливо, но молчали, и привыкший к этому Витька тоже молчал, безмятежно улыбался.
— Надо бы посадить Витюху-то за стол, — после двух-трех минут молчания сказал Данила Петрович, внимательно оглядывая собственную ложку. — Я так смекаю, что его надо бы промеж Андрейкой и тешшой пристроить. А как он пристроится, то ему надо бы ухи-то налить… — хозяин дома медленно повернулся к Витьке, померцав ресницами, продолжил: — Ты бы присел, Витюк, за стол-то! Анка-то, баба-то твоя, рыбы-то не варит… У ей рыбы-то нету! У твоей Анки-то! Во-первых сказать, сам ты не рыбалишь, во-вторых сказать, никто вам рыбу-то не продаст, как народ еще опасатся, что рыбинспектору соопчите. В-третьих сказать, рыбу-то, ее ведь надо уметь сготовить… Ты, мать, приглашай Витюху-то к столу! Ты, Андрейка, тожеть свое слово скажи!
Неторопливо проговорив все это, Данила Петрович склонился над миской, зачерпнув ложкой уху, понес ее к громадным зубам. А его жена Мария Стратоновна напевно произнесла:
— Ой, да ты откушай с нами, Витюшк! Лизавета, ты чего сидишь? Кто будет табурет гостю подавать?
— Садись, Витька! — сказал Андрюшка, отдуваясь от жары. — Уха-то стерляжья!
Витька улыбнулся.
— Я напитый да наетый! — по-местному сказал он. — Кроме того, у вас своя беседа, свой разговор. Когда еще будет новое воскресенье, чтобы всем собраться… Спасибо, Данил Петрович! — Витька поклонился и вежливо добавил: — Мне бы вот только словечком перемолвиться с теткой Марией Стратоновной…
Пока он произносил эти слова, семейство Колотовкиных продолжало спокойно завтракать — почти одновременно опускались в тарелки ложки, медленно поднимались, замирали возле губ, опрокидывались, опять опускались; темп еды был медленный, но ровный, и еда поступала в размеренно жующие рты с постоянностью неторопливого конвейера. Так длилось минуты три, потом Данила Петрович, глядя в полупустую тарелку, сказал:
— Я смекаю, что Семен-то Васильевич-то скоро должон от водки сгореть. У него уже организм пишшу не принимат, а без пишши человек от водки горит… Это все одно, что фитиль без карасина… — Данила Петрович зачерпнул уху, задумчиво остановил ложку возле самых губ. — Ежельше карасин идет по фитилю, то он, фитиль, карасином горит. А ежельше фитиль без карасина, он сам сгорат!.. А Марею отчего не позвать на полсловечка? Небось не оголодат за это время… Марея, а Марея?
— Но?
— Ты перекинься с Витюхой-то полсловечком, ежельше он куда торопится… Поди, не оголодашь?
— Да ничего, Петрович!
— Но так поговори с человеком-то!
Мария Стратоновна бережно положила ложку возле тарелки, подумав, перенесла кусок пшеничного хлеба с правой стороны на левую, еще раз подумав, напевно произнесла:
— Ванечку Юдина тожеть жалко… Во-первых сказать, баян наново разбил, во-вторых добавить, ползарплаты пропиват, в-третьих сказать…
— Мама! — сердито перебила ее учительница немецкого языка Елизавета Даниловна. — Не держите, пожалуйста, человека у порога! Или приглашайте к столу, или…
— А ты бы не встревала! — решительно поднял голову Данила Петрович. — Каждый будет встревать в материнский разговор, так это что? Это изгал! С этим делом мы далеко не уедем, Лизавета… Но ты, мать, пойди все ж таки, пошопчися с Витюхой-то!
В темных сенях Мария Стратоновна молча и быстро выкопошила из-под передника завязанный на два узла носовой платок, поминутно оглядываясь на двери, быстренько сунула Витьке три рубля.
— Ты ток молчи, Витюх, ты ток Петровичу ни полсловечка!
— Да что я, дурак, что ли тетка Мария! Спасибо вам и до свиданьичка!
На дворе Витька Малых опять опасливо посторонился задыхающегося от злобы кобеля, радостный и приплясывающий, скорым шагом обогнул большой палисадник колотовкинского дома и пошел навстречу приятелям таким счастливым шагом, что даже Устин Шемяка сразу все понял, обрадовался. Но сказал совсем другое:
— А я уже думал, что Данил тебя по двору водит, нажитое показывает… Вот уж кого терпеть не терплю, так это Данилу!
Семен Баландин голову все еще держал довольно высоко, но кожа на лице снова начинала поблескивать, глаза западали, губы серели. Зато Ванечка Юдин был весь ласковый, задумчивый и мирный.
— Вот что интересно, народ! — философски медленно проговорил он. — Почто это так получатся, что утром трояки легче добываются, чем к вечеру?… Может, оттого, что утренний народ добрее вечернего, или еще отчего?… Вот этого я никак не могу понять…
С глубокомысленным лицом, со смятой трешкой в кулаке Ванечка пошел впереди приятелей, а они двинулись за ним не сразу — тоже, наверное, размышляли о том, что трояки утром достаются легче, чем вечером. Торопиться им теперь было некуда: деньги есть, магазин еще открыт, впереди почти весь день.
Вскоре приятели остановились, потолкавшись и помолчав, подошли к забору, за которым сочно чавкали топоры, повизгивала продольная пила, со сладким стоном впивался в сухую кедровую доску рубанок — это рубил пристройку к дому рабочий шпалозавода Сопрыкин, а два его приятеля — собригадники Устина Шемяки — помогали… Сейчас сам Федор Сопрыкин сидел верхом на смолистом бревне, внимательно прицеливаясь, осторожно рубил замысловатый замок.
— Бог помощь! — сказал Устин Шемяка, приваливаясь грудью к забору. — Сруб-то седни кончите?
— Надо бы кончить, — ответил Сопрыкин и воткнул топор в бревно. — Если седни не кончим — это нам укор! Всего-то и осталось что два венца!
Помощники Сопрыкина тоже остановились, один поднес к глазам рубанок, чтобы убедиться, что железка стоит правильно, второй положил рядом с собой пилу. Потом оба внимательно посмотрели на Устина, на Ванечку Юдина и Семена Баландина, а на Витьку Малых как-то не обратили внимания.
— Тройной замок — оно хорошо! — сказал Устин. — Только долго…
— А чего нам торопиться? — подумав, ответил Сопрыкин. — Какой замок ни руби, к сентябрю поспеем…
Он поплевал на руки, взявшись за топор, долго высматривал, куда нанести удар, и Устин Шемяка тоже прищурился, тоже глядел в то место, куда должно было упасть острое лезвие, а когда удар рассчитанно, точно упал на нужное место, Устин коротко передохнул.
— Славный топоришко! — сказал он. — Это который Пашкин, что ли?
Сопрыкин не ответил — выцеливал новое место. И пила с рубанком тоже подали голоса. Пахло сосновой смолой, молодой стружкой, сырыми опилками.
4
Опять короткий и толстый ноготь Ванечки Юдина отмеривал миллиметры на граненом стакане, опять отупело лежал на земле Семен Баландин, опять Устин Шемяка ревниво следил за виртуозными пальцами Ванечки, опять Баландин выпил на пятьдесят граммов водки больше, чем другие, и опять он давился водкой, снова бегал в кусты не в силах сдержать рвоту — все было обычным.
Когда вторая бутылка была выпита, четверо приятелей, повернувшись лицами к реке, легли на животы, и это тоже было обычным — они всегда после второй бутылки отдыхали, повертывались лицами к реке и ложились на животы.
Внизу, под яром, мелодично поплескивала Обь, подтачивая высокий глинистый берег. Четверо приятелей лежали на такой возвышенной точке земли, с которой мир открывался воздушно, широко; только на высоком берегу громадной реки у человека возникает ощущение крылатости, безграничности мира, возникает тяга к полету. С высокого яра реки хочется взмыть плавной дугой, медленно и сладостно взмахивая крыльями; пусть остаются слева и справа зеленые верети, пусть проплывают под грудью голубые озера, частоколы сосняков и кедрачей, пусть впитывается в глаза речная сиреневость…
Притихнув, не двигаясь, лежали на теплой земле четверо, глядели на обское левобережье, щурили глаза на солнце, дышали, думали… Смутно улыбался собственным мыслям Семен Баландин, пощипывая грязными пальцами верхнюю губу, не спуская глаз с противоположного берега Оби, где остро желтела полоска ослепительного, как лезвие ножа, песка; притих Устин Шемяка, мечтательно напевал сквозь зубы Витька Малых, а Ванечка Юдин все вздыхал и вздыхал.
— На рыбаловку бы съездить… — не выдержав, сказал он. — Сетчишки у меня есть, обласишка на дворе лежит…
На реке появился пассажирский пароход «Козьма Минин» — большой, сияющий, сверху донизу облитый веселой музыкой; ходили по верхней палубе нарядные пассажиры, сверкали красным цветом спасательные круги, наклоненную трубу венчал лихой дымок, а по верхнему мостику расхаживал белоснежный, с позолотой капитан. Репродукторы на палубе «Козьмы Минина» — вот совпадение-то, вот чудо-чудное! — пели голосом Людмилы Зыкиной Витькину песню про моряка: «…Каждой руку жмет он и глядит в глаза, а одна смеется: „Целовать нельзя…“».
— Поплы-ыыы-л! — протянул Витька. — Поплы-ы-ы-л!
Когда пароход исчез за сияющей излучиной Оби и снова стало тихо и грустно, когда музыка затихла, а взбаламученная носом парохода волна, добравшись до берега, с шелестом накатилась на песок, Ванечка Юдин решительно сказал:
— Значится, еду я на рыбаловку! Вот первого августа завязываю, маненько себе отдых даю — и на рыбаловку!.. Тока меня и видели!
Накатившись на берег с шуршанием, вода тут же с плеском отхлынула назад, помедлив и как бы собравшись с духом, снова угрожающе двинулась на коричневый песок, но на второй раз у нее сил забраться на возвышение не хватило — только подступила к песку, только жадно лизнула кромку…
— Ты три года завязываешь! — с усмешкой сказал Устин Шемяка.
Он хотел что-то еще добавить, но только махнул рукой и перевернулся на спину. Ситцевую рубашку в горошек Устин уже снял, голубая майка туго обтягивала его волосатое тело, грудь выпирала горой, живот западал; лежал он тихо, черный и беспомощный, как навозный жук.
— Сопьешся ты с кругу, Ванечка! И я тоже сопьюси… — насмешливо сказал он, глядя в небо.
Набрав в широкую грудь как можно больше воздуха, Устин Шемяка не дышал так долго, что Витьке Малых тоже не хватило воздуха: он старательно подражал Устину.
— Ты зря каркаешь, Устин! — продышавшись, сказал Витька. — Вот Ванечка завязывал же на Первомай… Тридцатого не пил, первого не пил, второго не пил…
Витькины слова падали в тишину бесшумно, как овальные камни в спокойное озеро… Скрылся окончательно за крутой излучиной белоснежный пароход «Козьма Минин», утихомирилась вода. За стеной молодых веселых елок понемножку оживала позавтракавшая деревня: прошли, разговаривая и смеясь, несколько знакомых грузчиков с рейда, хлопотливо пробежали девчата, пересвистывались тальниковыми свистками мальчишки, важный голос областного диктора объяснял, сколько подкормлено хлебов в колхозах и совхозах области; диктор говорил так раскатисто, что все слова казались состоящими из буквы «р».
— Не надо ссориться, товарищи! — негромко сказал Семен Баландин. — Ссоры никогда не приводят к установлению истины.
Круто взмыли с прибрежного песка две белоснежные чайки, бесшумно начали подниматься ввысь на белоснежных крыльях. Белые, с веретенообразными телами, с огромным размахом крыльев птицы поднимались все выше и выше и были так спокойны, точно покидали землю навсегда.
— Полете-е-е-ли! — тихо протянул Витька Малых.
Семен Баландин снял драную засаленную кепку, огрызком гребешка расчесал волосы, открыв солнцу высокий незагорелый лоб. Приподнявшись на локте, он долго смотрел туда, куда ушел пароход, где расплавились в небе чайки. Одутловатое, водянистое лицо его немного разгладилось, мешки под глазами уменьшились, на губах появилась славная, грустная улыбка.
— Человек — странное существо, — негромко сказал он. — Что определяет его судьбу? Кто может это понять? Вот послушайте историю, которая произошла много лет назад, когда я работал главным инженером Осиновского завода. Тогда я был молод, только женился на Лизе и был самым счастливым человеком на свете… — Он усмехнулся. — Да, не верится, что я когда-то был счастлив, что у меня была жена, семья… Порой мне кажется, что это было в какой-то другой жизни, а может, это был не я? Или это теперь не я?… Я хочу рассказать вам историю о серой мыши. Может, я уже и рассказывал ее… Она все время почему-то у меня в голове торчит… Вот и сейчас я о ней вспомнил… А может, и не было этого вовсе, а я сам когда-то придумал!.. С той поры столько выпито водки, что реальность путается с фантазией…
Рассказ Семена Баландина
— Так вот. Я работал главным инженером Осиновского завода, когда в поселок к нам приехал Борис Зеленин. Не успел этот Зеленин приехать в поселок, как явился ко мне участковый милиционер предупредить, чтобы я не брал его на работу. Какой-нибудь месяц в поселке, а уже милиции успел надоесть: там избил кого-то, там подрался с геологами, здесь разбил витринное стекло, а там, понимаете ли, облил с головы до ног грязью девчонку в шелковом платье… Оказывается, была у него судимость за хулиганство, но он вышел — и опять за свое. Меня почему-то заинтересовал этот Зеленин, и я попросил секретаршу направить его ко мне, как только он придет в контору… И что же?… Является. Косая сажень в плечах, голубые глаза. Характеристику с Кетского шпалозавода подает, где сказано, что имеет среднее образование, что выдавал на-гора по две с половиной нормы… «Простите, Зеленин, — спрашиваю я его, — нельзя ли узнать причину вашего ухода из коллектива Кетского шпалозавода?» — «Пожалуйста, — отвечает. — Я ушел оттуда после драки с мастером…» — «А не изволите ли объяснить, чем была вызвана драка?» — «А мне морда мастера не нравилась!» Забавно! «И вы хотите работать на нашем заводе?» — «Не только хочу, но и буду — у вас трех рамщиков не хватает, а найти хорошего рамщика не так просто…» Ну и нахал! «А если вам мое лицо не понравится, тоже полезете в драку?» — «Да я сейчас дал бы вам в морду, если бы деньги не кончились. А я деньги люблю!» — «Значит, только деньги и любите?» Ухмыляется. «Давай-ка волынку не тяни, Баландин, а принимай или пошли меня куда подальше, где кочуют туманы!» А мне, дорогие друзья, действительно позарез нужны рамщики. И, дорогие мои друзья, я принимаю его на работу, и Борис Зеленин начинает свою трудовую деятельность… Длинно расписывать его художества я не буду, так как главное — в финале… Коротко все это выглядит так: только за три первые недели Борис Зеленин затеял две крупные драки с парнями, а в начале четвертой недели учинил в клубе такой дебош, что участковый пришел ко мне домой рано утром и сообщил с торжеством, что Зеленин сидит в отделении и уж теперь-то для суда материала достаточно. Однако милиционер со мной советуется, так как во вчерашнем номере районной газеты в списке лучших рамщиков района Борис Зеленин числится первым… «Что будем делать? — вежливо спрашивает участковый. — Все ли воспитательные меры исчерпаны?» А я сижу и читаю сорок восемь листов протоколов… Боже ты мой! Чего здесь только нет! «Сажайте, — говорю, — к чертовой матери!» А сам тоскую: ведь такого работника отдаю под суд! «Зайдите, — говорю, — с ним ко мне еще разок… Чем черт не шутит!» …И вот происходит чудо! Настоящее чудо, друзья мои, ибо ничем иным, кроме чуда, не объяснишь такой крутой загиб человеческой натуры, который привел Бориса к исцелению… Часа через два приходят они ко мне, усаживаются, молчат. «Ну что, Зеленин, — говорю, — довоевался? Опять в тюрьму?» А он молчит. Сидит печально на стуле, глядит на меня исподлобья, и лицо у него бледное. Естественно, я говорю: «Струсили, Зеленин? Испугались, когда запахло тюрьмой?! А ведь предупреждали же вас…» Молчит. Кривится, но глаз с меня не сводит. И вдруг тихо просит: «Не сажайте меня! Слово даю, что ничего плохого никогда обо мне не услышите! Не буду больше драться и хулиганить!» Мы с участковым переглядываемся, ничего понять не можем: верить ему, не верить?… А он опять: «Не буду я больше!» — «Почему мы вам должны верить?» — «Из-за мышки…» — «Что?… Из-за какой мышки?…» — «Серенькая мышь, она сегодня под утро в камере из норки вылезла…» — «Слушайте, Зеленин, не морочьте нам голову! Какая мышь? Откуда вылезла? При чем тут мышь?» — «Серенькая… — говорит, — маленькая, видно, как под кожей сердце бьется…» — «Вы что, убили эту мышь?» — «Нет, — отвечает, — убежала в нору, а хвост тонкий, членистый, как у ящерицы… И сквозь кожу видно, как сердце бьется…» — «Ну и что, Зеленин? Какая связь между мышью и вашим поведением?» Молчит. Переглянулись мы с участковым, видим, с человеком что-то творится, какая-то перемена в нем… «Последний раз, Зеленин… Больше веры не будет…» И что вы думаете, друзья мои? Проходит месяц, другой, третий, Борис работает, в драки не лезет, никого не задирает, не обижает. Что вы на это скажете, друзья мои? Обыкновенная серая мышь! Вылезла из норки, поднялась на задние лапы, дрожит, хвост членистый, как у ящерицы, под кожей видно, как бьется сердце… Чертовщина какая-то, а не дает мне покоя. Была бы у нас водка, друзья мои, предложил бы я тост за маленькую серую мышь… Человеку знать не дано, когда и где она вылезет из норки… Стоит на задних лапах, нюхает воздух, хвост членистый, под кожей видно, как бьется сердце…
В безветрии неподвижно лежала река, пересекала ее молчаливая лодка, на левой стороне поселка в синих кедрах начала отсчитывать кому-то длинные годы жизни кукушка. Колыхалось над теплой землей волнистое марево, остроконечные ели вонзались в прозрачное небо, из уличного радиоприемника лился голос все той же Людмилы Зыкиной… Бывший директор шпалозавода Семен Баландин, охватив колени руками, глядел на Заобье, а трое лежали — тихие, молчаливые, немые. Витька Малых, скорчившись, ковырял пальцем ямочку в дернине; ему было нехорошо, тревожно, хотелось уйти домой, но он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой.
— Сейчас деньги трудно достать, ребята! — прошептал Витька. — А в одиннадцать Поля закроет магазин…
По солнцу было половина одиннадцатого: именно в это время оно повисало лучами на кроне старого осокоря, что стоял на кромке яра, именно в это время река из сиреневой начинала делаться желтой, а у берегов просветлялась настолько, что прибрежная полоса, казалось, расширялась за счет донного песка.
Именно в половине одиннадцатого деревня окончательно приходила в себя после длинной предвоскресной ночи. Уже по всей улице разносились мужские и женские голоса, где-то подхрипывала гармошка, звенели велосипеды, на которых катались деревенские ребятишки. Голос Зыкиной исполнял уже четвертую песню, и от него в воздухе разливалась вечерняя грусть, хотя слова песни были обыкновенными.
— У меня есть рупь! — не открывая глаз, сказал Устин Шемяка. — Ничего не поделашь: приходится каждого пьяницу поить… Уж така наша доля горемычна!
Устин сунул руку в карман брюк, не копошась пальцами, вынул новую, чистенькую, хрустящую бумажку. И это было проделано так ловко, что можно было понять — рубль давно ждал пальцев хозяина.
— Гони и ты, Ванечка, рупь! — насмешливо потребовал Устин. — Ты седни у Брандычихи два рубля с копейками брал взаймы… Он на секунду открыл глаза. — Брандычиха про это дело говорила Груньке Столяровой, а Грунька у моей гадости ложку перца брала, так я сам слышал, как она в сенцах мою бабу упреждала… Ты, говорит, свово-то седни держи, Ванечка-то, говорит, с ранья у Брандычихи два рубля с копейками брал…
Витька Малых беззлобно рассмеялся, когда Ванечка Юдин, застигнутый врасплох, беспрекословно вынул из кармана смятый и грязный рубль и, хлопотливо присоединяя его к первому, быстро затараторил:
— А больше у меня нету! Рупь пятнадцать копеек я уже давал, а те сорок три копейки, что у меня еще были, пришлося бабе отдать, как хлеба на обед нету… Да чего ты лыбишься, Устин, да чего ты перекашивашься, когда я у Брандычихи-то на сахар брал… Вчерась моя баба-то ей говорила: «Хорошо бы до зарплаты рубля два одолжить!» А я этот разговор услыхал, да вот утресь и пришел к Брандычихе. Раз обещала моей бабе, говорю, два рубля, так давай их сюда, я по бабиному слову к тебе пришедши, но ты, Брандычиха, дай мне не два рубли, а дай два с копейками как сахару тоже нету… И что же это означат? Это то означат, что восьмидесяти семи копеек не хватат… Ах, ах, где же их брать?
Ванечка Юдин не глядел на Семена Баландина, озабоченный, обращался только к Устину и Витьке, но бывший директор шпалозавода густо покраснел… Придя в себя окончательно, сделавшись на короткое время прежним человеком, Семен Баландин страдал оттого, что пьет на чужие деньги, и вот сейчас сидел съежившись, туго отвернув голову.
— Достанешь, Ванечка, восемьдесят семь копеек! — по-прежнему насмешливо сказал Устин. — Вот чего это у тебя в правом кармане брякат, когда перевертывашься с живота на спину?
— Ключи!
Устин весело захохотал.
— Ключи? А ну, еще раз перекатися-ка с брюха на спину… Нет, ты перекатися-ка, перекатися-ка… Не хочешь?
— Ну, есть у меня полтина, — после паузы сказал Ванечка. — Так все равно тридцати семи копеек не хватат!
— Добавлю тридцать семь копеек! — ответил Устин. — Почто мне тридцать семь копеек не добавить, ежели ты, гадость, полтину кладешь!
Снова весело и незлобиво рассмеявшись, Витька Малых резво поднялся с теплой земли. Ему было хорошо и счастливо оттого, что Ванечка и Устин поладили, что нашлись восемьдесят семь копеек, что Семен Баландин, справившись со смущением, опять грустно глядел в сторону Заобья. Витька Малых был счастлив тем, что остался позади страх от рассказа о маленькой серой мыши, что с лица Семена сошла смертная бледность и что Устин Шемяка уже доходил до той стадии опьянения, когда казался не таким звероподобным, как обычно. Все было хорошо в этом солнечном мире, и Витька Малых протянул руку к Ванечке.
— Давай деньги! — смеясь от радости, потребовал Витька. — Я живой ногой в магазин сбегаю…
Крепко зажав деньги в кулаке, поддернув штаны, Витька уже было приготовился бежать в сельповский магазин, как услышал тонкий призывный свист Ванечки Юдина, а потом заметил и другое — из синих елок показалась наклоненная макушка и суковатая палка бабки Клани Шестерни. На этот раз старуха появилась не одна, вслед за ней ветви раздвинула могучая рука жены Устина Шемяки, известной скандалистки и матерщинницы тетки Нели. Она была могуча и дородна, все лицо у нее было усажено волосатыми бородавками, на жирной шее висели громадные бусы, похожие на кандальные цепи.
— Вот они, соколики, вот они, болезные! — радостно запищала бабка Кланя Шестерня, тыча палкой в сторону приятелей. — Вот они где обретаются, Нелечка, вот какой разворот дают себе… Ты их сведи на нет, касатушка!
— Здорово, здорово, мужики! — басом сказала тетка Неля. — Вот ты, Семен Василич, драствуй, вот ты, Ванечка-гадость, драствуй, вот ты, Витька-подлюга, дравствуй! Все драствуйте!
Жена Устина стояла подбоченившись, бусы на ее шее побрякивали, широко расставленные ноги были увиты толстыми синими венами.
— А ну, подь-ка сюда, Витька-подлюга! — сказала мужским басом тетка Неля. — Чего это у тебя в кулаке зажато? Покажь, гадость, чего ты за спину прячешь?
— Витька, тикай! — тонко закричал Ванечка. — Тикай, Витька!
Не доверяя собственному крику, Ванечка кенгуриными скачками бросился к Витьке, разделив своим худеньким телом его и тетку Нелю, толкнул парня в спину, и это было сделано своевременно, так как толстуха с неожиданным проворством вдруг прыгнула вслед за ними, стремясь поймать Витьку за руку, но, на счастье четверых, промахнулась, пробежав по инерции дальше, эапнулась о незаметно протянутую ногу мужа. Некрасиво задрав юбку, тетка Неля растянулась на земле.
— Оп-ля! — радостно воскликнул Устин Шемяка. — Держись за землю, гадость, не то упадешь!
Он злорадно захохотал и хохотал до тех пор, пока жена не поднялась с земли и, отряхнувшись, не пошла на мужа такой медленной и деловитой походкой, какой следует за своей литовкой усталый косарь: он не отрывает подошв от земли, глядит в одну точку, глаза у него разрушительные, так как вжикающая сталь за один взмах кладет на землю тысячи живых стеблей. Толстые ноги тетки Нели, как ноги косаря на росе, оставляли два глубоких следа на травянистой дернине.
— Остановись! — сквозь зубы сказал ей Устин. — Я тебя счас изуродую… Я тверезый…
Сделав еще два-три шага, тетка Неля остановилась — с перекошенным лицом, с гудящими от злости руками, с пустыми глазницами; в груди у нее клокотало и хрипело, зубы скрипели, точно меж ними перемалывался речной песок. Они — муж и жена — стояли друг против друга и были похожи, как брат и сестра. Все-все у них было одинаковое: злобное выражение глаз, мускулистые руки, широко расставленные ноги. И слово «гадость» они произносили одинаково — на коротком продыхании, словно бы мельком, как бы приговорочкой.
— Ну, погодим до вечера! — сказала тетка Неля.
5
В первом часу дня, когда солнце, войдя в зенит, палило немилосердно и тупо, когда река казалась по цвету такой же, как белесое марево над ней, когда над Обью вдруг строгим клином пролетели неожиданные журавли — куда, почему, неизвестно! — когда деревенский народ управлялся с хозяйством, сидел по домам, четверо приятелей энергичным шагом двигались по деревянному тротуару.
Дремали на скамейках молчаливые старики, оживала река — сновали по ней катера и лодки, добрых полчаса шел от одного конца излучины к другому небольшой буксирный пароход «Севастополь», пересекали блестящий плес легкие осиновые обласки, и люди в них казались сидящими прямо в воде: не было видно бортов.
Деревня неторопливо готовилась к обеду — опять пылали среди дворов невидимым пламенем уличные печурки, ходили женщины. Громкоговоритель на конторе шпалозавода рассказывал голосом московского диктора о вьетнамской войне, на крыльце конторы сидели несколько рабочих и, тихо беседуя, курили.
По выражению лиц четверых приятелей, по их шагу и стремительным спинам было видно, что пыльная дорога и деревянные тротуары ведут их к ясной цели; решительные, углубленные в свое, не замечающие внешнего мира, они были пьяны каждый по-своему, каждый на свой лад… Воодушевленно светились глаза Семена Баландина, изменившегося уже так резко, что было трудно узнать в нем того человека, который голосом нищего выпрашивал бутылку водки у продавщицы Поли. Сейчас Семен Баландин был не только прямой, но и вызывающе надменный. Перестали дрожать руки, а кожа на его щеках лихорадочно горела… Ванечка Юдин, наоборот, как бы распухал в лице, сосредоточенная складка меж бровями расправлялась, глаза тускнели, важно и вздорно напружинивался подбородок, выпячивалась узкая грудь… Замедливался и понемногу терял хищное выражение лица Устин Шемяка, он становился вялым, мускулы под ситцевой рубахой опадали, руки неприкаянно болтались… Ярче июльского солнца сиял Витька Малых, выпивший все-таки около трехсот граммов и опьяневший так, что выделывал ногами по тротуару веселые кренделя. Витька теперь уже не замыкал шествие, как два часа назад, а шел сразу за Ванечкой.
Скоро приятели начали понемногу замедлять шаг. Ванечка озабоченно обернулся, поднеся палец к губам, предупреждающе прошипел: «Тсс!» Когда сделалось тихо, стали слышны слова песни: «В жизни раз бываа-ает восемнадцать лет…» Дом, в котором пели, был могуч и велик, сложен из толстых кедровых бревен, сочащихся до сих пор янтарной смолой. На улицу выходили четыре просторных окна, они были распахнуты настежь так широко, чтобы вся улица могла слышать песню и видеть, что происходит внутри дома.
— Заметят! — шепотом сказал Ванечка. — Опять зачнут изгиляться! Небось окна нарочно пооткрывали…
— Сволочи!.. — прошипел Устин. — Сроду пройти не дадут…
В могучем доме жил рамщик шпалозавода Варфоломеев, тот самый, жена которого утром стояла в очереди. В доме Варфоломеева каждое воскресенье собирались гости — играли в лото и карты, хором пели песни, а вечером вместе с хозяевами отправлялись в кино или шли глядеть, как играют в футбол местные команды.
— Эх, огородами тоже не обойдешь! — вздохнул Ванечка Юдин, втягивая голову в плечи и сгибаясь. — Давай, народ, шагай по-тихому! Да не греми ты сапожищами, Устин!
Тревожно переглядываясь, четверка тесной кучей двинулась к заветной цели серединой улицы, и, конечно, произошло то, чего все ожидали: песня оборвалась, веселый рамщик Варфоломеев неторопко вышел на крыльцо, а гости, налезая друг на друга и толкаясь, высунулись в окна, заранее хохоча, готовились к веселому представлению, которым их угощал хозяин всякий раз, когда удавалось перехватить знаменитую на весь поселок четверку забулдыг-пьяниц.
— Драсьте, Семен Василич! — раскатисто закричал с крыльца рамщик Варфоломеев. — С трудовым праздничком воскресенья вас, Семен Василич!
Руки Варфоломеев засунул в карманы отглаженных светлых брюк и весело, сыто щурился на солнце.
— Драствуйте, вся остальна честна компания! — радостно гремел рамщик Варфоломеев, спускаясь с крыльца и неторопливо преграждая путь четверке. — Как живете, как работаете, как руководите? У тебя, Семен Василич, може, каки замечания к нам имеются, може, каки указания поступят… Но я тебе заране скажу, Семен Василич, что мы отдыхам! Отдыхам мы, Семен Василич!
Четверка молча глядела в землю, не двигалась. Затаил дыхание Семен Баландин, шумно дышал раздувшимися ноздрями Ванечка Юдин, с непонятной улыбкой разглядывал рамщика Устин Шемяка, болезненно морщился, переживая за Баландина, Витька Малых.
— Отдыхам мы седни, Семен Василич! — наслаждался Варфоломеев и смотрел на гостей игриво. — Люди мы простые, Семен Василич, и отдыхам по-простому… Никто, как Ванечка Юдин, по пятнадцать суток не получат, никто смирну жену не колотит.
Решившись наконец обойти Варфоломеева, четверка двинулась дальше по длинной и пыльной деревенской улице. У бывшего директора шпалозавода Баландина крупно вздрагивала прямая, высоко поднятая голова, Ванечка Юдин возбужденно дрожал и щерил мелкие зубы, Устин тускло усмехался, Витька Малых все глядел да глядел в прямую спину Баландина.
Двигались четверо приятелей медленно, примерно в метре друг от друга, как бы опасаясь расстаться, но и не желая касаться локтями. Палило солнце, поддувал жаркий ветер, река Обь казалась почему-то зеленой. Катеришко «Синица» клевал носом рябой плес, хотя крупной волны не было, но он уж так был устроен, этот катеришко «Синица», что все качался с носа на корму.
— Не могу! Не хочу! — вдруг зашептал Семен Баландин. — Скорее! Скорее! Ну скорее же!
А заветный дом был уже рядом. Краснела четырехскатная крыша, в палисаднике росли крупная малина, смородина, северные низкие яблони, дикий виноград; двор, словно ковром, зарос аккуратно подстриженной травой, скамеечки у ворот не было, а серая овчарка на гостей не лаяла. Громадная собака была добродушно-весела, узнав четверых приятелей, сначала ткнулась влажным носом в руку Семена Баландина, потом повиляла хвостом Устину Шемяке и зубасто улыбнулась Витьке Малых, но почему-то не обратила никакого внимания на Ванечку Юдина.
— Здорово, Джек! — ласково сказал собаке Витька Малых. — Дома хозяйка?
В ответ на эти слова Джек поднял радостную морду, осклабившись, трижды пролаял, что означало: хозяйка дома, сейчас выйдет на крыльцо, будет рада гостям.
Действительно, в тенистых сенях послышалось скрипение пола, задрожав, забренчала дужка ведра.
— Ах, это вы? — раздался насмешливый хриплый голос, и на крыльцо мужской походкой вышла маленькая женщина с закушенной папиросой в зубах. — Здорово, мужички!
Директор Чила-юльской средней школы Серафима Матвеевна Садовская была знаменита тем, что никогда и нигде, кроме классных комнат, никто не видел ее без папиросы в зубах. Шла ли Серафима Матвеевна по улице, сидела ли в задних рядах клуба, заседала ли на сессии поселкового Совета, ругалась ли со школьниками в коридоре школы, таскала ли воду для поливки огорода, стояла ли в очереди за хлебом — у нее изо рта всегда торчала закушенная желтыми зубами папироса «Беломорканал». Но еще большую известность Серафима Матвеевна приобрела стремлением накормить каждого человека, переступавшего порог ее дома. Гость еще только здоровался, еще только искал глазами вешалку, а из соседней комнаты уже торопливо выходила на зов Серафимы Матвеевны ее мать Елизавета Яковлевна, оглядев гостя с головы до ног, приказывала ему идти в столовую, где остывал грибной суп или перестаивала положенный срок нежная рыба.
Зная обо всем этом, четверо приятелей опасливо сгрудились возле крыльца, и, когда учительница уже повертывалась, чтобы закричать матери: «Накрывай на стол!» — Семен Баландин умоляюще загородился от нее вытянутыми руками.
— Мы не будем есть, Матвеевна! Нам… нам опять надо три рубля…
Заглянув в глаза Семена, учительница переместила папиросу из одного угла рта в другой. Минуту она молчала, потом проговорила, усмехнувшись:
— Ну да! Сегодня же воскресенье…
У Садовской было волевое лицо с двумя складками у губ, большие немигающие глаза, мужской разлет бровей; закушенная папироса придавала ей начальственность, интеллигентность, но руки были черные, крестьянские. Она сама таскала воду на огород, колола дрова, возила тачкой назем на грядки, ухаживала за коровой Люськой, хотя во всем этом необходимости не было: зарабатывала директор школы достаточно, молоко в поселке было дешевое, печь можно было топить сухой, как порох, срезкой, а не колоть березовые чурки.
— Опять три рубля! — помолчав, сказала учительница и опустилась на ступеньку крыльца. — Опять три рубля!
Бог знает, как хорошо было во дворе Серафимы Матвеевны Садовской! Зеленый ковер подстриженной травы бахромой обрамлял неяркие северные цветы, посередине горела яркая клумба, было так чисто, словно двор каждодневно мели, и он казался на самом деле покрытым ковром. На крыльце славно и тихо сиделось, спокойно думалось, мирно курилось…
— Опять три рубля! — повторила Садовская, поднимая отяжелевшую голову. — Когда это кончится, мужики?
Она снова замолкла, опустила голову и приобрела от этого такой вид, словно ушла со двора собственного дома, хотя по-прежнему сидела на ступеньке крыльца. Ее молчание, ее отсутствие длилось минуты две, потом седоголовая учительница вздохнула и сказала тихо:
— Позавчера, мужики, мой Володька впервые пришел домой пьяненьким.
Она медленно оглядела четверых приятелей — одного за другим — и, крепко закусив папиросу, сказала неожиданно жестко:
— Не дам я вам сегодня трешку, мужики. Старая я дура! Мне нужно было сына увидеть пьяным, чтобы подумать об этих трешках, которые вам даю каждое воскресенье… Не дам!
Молча, не глядя в глаза учительнице, Семен Баландин повернулся, чтобы идти к калитке.
— Что ж, Семен Васильевич, — с горечью сказала Серафима Матвеевна, глядя в его сутулую спину. — Дальше пойдете? Я не дам, так другие дадут? Где рубль, где стаканчик… Так, что ли, Семен Васильевич?
Семен Баландин стоял ссутулившись, глядя в землю.
— Опомнись, Семен Васильевич! — страстно сказала учительница и в тоске стиснула на груди руки. — Опомнись, посмотри вокруг себя!
Да, хорошо было вокруг! Зеленый цвет травы был так пронзителен и густ, что резал глаза, но бахрома северных цветов успокаивала и смягчала эту яркость…
— Поздно уже меня воспитывать, Серафима Матвеевна… — угрюмо сказал Баландин.
— Поздно?! — Учительница вскочила со ступеньки. — Хочешь сказать, что раньше надо было воспитывать? Мало с тобой на заводе возились? Мало предупреждали?
Она вдруг остановилась, глядя на Баландина, и чем дольше она глядела на него, тем больше жалости и печали появлялось в ее только что воинственном лице. Помолчав, она тяжело вздохнула:
— Теперь-то уж тебе самому не справиться… Слабый ты, всегда был слабым… Теперь уж тебе лечиться надо…
Семен Баландин тяжело пошел к калитке. Приятели двинулись за ним.
А старая женщина с папиросой в зубах все смотрела со страхом и болью вслед Семену Баландину — бывшему директору Чила-юльского шпалозавода, бывшему своему другу…
6
В половине третьего приятели опять целеустремленно двигались по длинной улице, хотя всего час назад, выйдя от Серафимы Матвеевны, Витька Малых покаянно думал: «Больше не пойду шакалить! Устин Шемяка собирался разводиться с женой Нелей, Ванечка Юдин принял решение на полгода уехать рыбачить, а Семен Баландин улыбался с тихой надеждой: „Полечусь и буду здоров!“».
С тех пор прошло только шестьдесят минут, а они уже успели достать три рубля у бакенщика Семенова, быстро пропили их, и вот уже опять вышли на охоту, так как после полудня темп жизни четверых приятелей всегда резко возрастал. В их поведении уже не было утренней созерцательности и неторопливости, обожженные солнцем и водкой лица обострились, движения приобрели судорожность, глаза горели в заплывших веках неутоленно и зло.
Приятели приближались к трем самым опасным домам поселка, в которых жили братья Кандауровы. Три брата работали на шпалозаводе рамщиками и были такими дружными, что все у них было одинаковое: дома, одежда, зарплата, судьба. В тот момент, когда приятели приближались к их домам, братья с одинаково серьезными лицами сидели на зеленой скамейке и разговаривали.
Остановившись за двести метров до кандауровских домов, четверо вопросительно поглядели друг на друга, не проговорив ни слова, осторожным шагом перешли улицу. Здесь они молча посмотрели на Витьку Малых, парень ласково улыбнулся и, перескочив через забор, пошел меж грядками чужого огорода. А приятели замерли в ожидании — не залает ли собака, не выбежит ли на крыльцо злая женщина, не заметит ли их, выйдя до ветру, сам хозяин большого огорода. Однако Витька благополучно прошел от городьбы до городьбы, и сразу же после этого стали преодолевать пространство остальные.
Зорко поглядев по сторонам, согнувшись, с ожесточенным лицом бежал меж грядками Ванечка Юдин, сделавшись вдруг таким ловким, умелым, опасным, что в нем сразу можно было узнать бывшего фронтовика; бежал Ванечка сложным зигзагом, провел перебежку так, что использовал все скрытые места — густую грядку мака, горох на тычках, высокую коноплю, посеянную на утеху ребятишкам. Оказавшись на другой стороне огорода, Ванечка Юдин распрямился и одернул спортивную майку, как гимнастерку.
Устин Шемяка двигался по огороду с ленивой медвежьей грацией. Лицо у него теперь было красное и блестящее, глаза поголубели, в них уже не было прежнего тупого, жестокого выражения.
Последним двинулся Семен Баландин. Он тяжело и неловко перелез через городьбу, будучи уже изрядно пьяным, все норовил упасть в крапиву, но чудом удержался на ногах, а когда пошел меж грядками, то заложил руки за спину, подняв голову, надменно прищурился. Он шел по огороду барской походкой, вызывающе насвистывал «Тучи над городом встали», а приятели, ожидая его, смотрели на Семена умоляющими глазами — боялись, что выдаст себя. Однако и Семена Баландина никто не заметил, и он перелез через второй забор, покачнувшись, спросил:
— Где тут дом Медведева?
— Да вон он, вон!
Они находились в коротком и широком переулке, расположенном перпендикулярно Оби и поэтому как бы соединяющем реку с высокой тайгой, которая начиналась сразу за пряслами огородов — входила в деревню лобастым мысом, над которым сейчас висело белое кружевное облако, похожее на кокошник.
— Цыпыловы! — восторженно охнул Витька Малых. — Посторонись, Семен Васильевич!
Во всю ширину и длину переулка по зеленой травушке-муравушке катились десять солнц; четыре солнца были большими, четыре — поменьше; и два солнца были совсем маленькими. Солнца медленно вращались, ослепляя, млели в серединочке, и глядеть на них было больно, и приходилось отворачиваться, отступать под натиском десяти солнц, так как им было все-таки тесно в широком и коротком переулке, покрытом зеленой травушкой-муравушкой. Это возвращалось с прогулки семейство крановщика Бориса Цыпылова. На двух взрослых велосипедах ехали сам Борис и его жена Лена, на велосипедах поменьше катили сыновья Генка и Сережка, на маленьком двухколесном велосипедишке поспешала за ними сестра Наташка.
Широкий переулок был тесен Цыпыловым, хотя они ехали гуськом. На Борисе были светлая тенниска и белые шорты, так же была одета его жена, мальчишки щеголяли в красном, а Наташа имела на бедрах только узенькие полоски плавок. Все они были такие загорелые, что вспоминался плакат «Отдыхайте на Южном берегу Крыма!». Велосипеды под Цыпыловыми не скрипели, не скрежетали цепями, трава под колесами была ровной и мягкой, и почему-то казалось, что десять медленных солнц скатились с верхотинки тайги, оттуда, где белел кружевной кокошник.
Спрятавшись за поседевшие от жары тальники, четверо, не мигая, смотрели на Цыпыловых. У Витьки Малых было точно такое лицо, с каким глядел он на чаек и белый пароход, когда говорил протяжное: «Поле-е-ете-ли!», «Поплы-ы-ли!» И когда Цыпыловы проехали мимо тальников, Витька протянул:
— Поеха-а-а-ли-и-иии!
Тупо и бессмысленно, потеряв собственное выражение лица, глядел на велосипедистов Устин Шемяка. Он видел, что Цыпыловы появились из белого и зеленого, чувствовал, что кружение спиц ослепляет, но реального объяснения происходящему дать не мог, так как понятия «отдыхают», «катаются», «развлекаются» были для него такими же туманными, как слово «гемоглобин» в справке, которую он недавно принес с медицинской комиссии. И по мере того как велосипедисты приближались, на лице Устина Шемяки окончательно затвердевала одна мысль, одно выражение.
— У Цыпылова в кране четверть спирта, — сказал Устин, когда велосипедисты проехали. — Чего-то там промывать… Второй год стоит нетронутая!
И в этом для него излилось все то яркое, праздничное, счастливое и свободное, что катилось по травушке-муравушке десятью слепящими солнцами.
Волновался, нервничал, полыхал болезненным румянцем Ванечка Юдин — невольно для себя ссутуливался, втягивал голову в плечи, светлые глаза Ванечки стекленели, проникались бутылочным цветом, приобретали неживой блеск, словно он засыпал с открытыми ресницами. Когда Цыпыловы проезжали мимо тальников, рука Ванечки сделала в пустоте резкое хватательное движение, но тут же обвисла.
Семену Баландину казалось, что он едет на новеньком бесшумном велосипеде… У него были длинные загорелые ноги, обутые в кеды, плечи мягко обнимала тенниска, позади ехала женщина, пахнущая солнцем; пальцами ног он давил на тугие и сладостные педали, на руле велосипеда сам собой дребезжал звонок.
Потом Семен Баландин увидел себя сидящим в низком и удобном кресле с газетой в руках. Читать газету!.. Медленно развернуть шелестящие страницы, вдохнуть запах типографской краски! Газету можно свернуть пополам, можно сделать из нее узкую полоску, можно положить перед собой на стол… Едут куда-то премьер-министры; нападающие, обыграв защитников, забивают гол; через подмосковное шоссе переходит дикий лось… Семен Баландин крепко зажмурился, опустив голову, старался прогнать видение белого газетного листа, ощущение прохладности от бумаги…
Когда Цыпыловы проехали — перестало веять теплом от кружения велосипедных спиц, — Баландин встряхнул головой, открыл глаза.
— Пошли к Медведеву! — сказал он. — Скорее пошли к Медведеву!
Дом рамщика шпалозавода Медведева походил на скворечник. Был он высоким и узким, удлиняя строение, на крыше торчали две антенны, окна были маленькими, подслеповатыми, словно хозяин не любил яркого света; огорода при доме не имелось, и на том месте, где он должен быть, паслась комолая корова с громким боталом на шее. Жилище рамщика располагалось несколько в стороне от улицы, видимо, нарочно было повернуто окнами на несуществующий огород, и по этой причине дом стоял как бы отдельно от деревни, но вместе с тем возвышался над другими домами своей колокольной высотой.
— Давай, давай, Семен Василич! — шепнул пересохшими губами Устин Шемяка. — Чего зазря-то стоять?
Скоро они уже поднимались на высокое крыльцо. Крыльцо и сени были совсем глухие, толстостенные, здесь было так глухо и темно, что приходилось чиркать спичку, искать друг друга в темноте растопыренными руками.
— Осторожней, народ, осторожней!
Посередке высокой горницы стоял чудовищно громадный кедровый стол, обставленный полдюжиной титанических табуреток, слева высился самодельный посудный шкаф с маленькими окошечками на створках, похожими на глазки в тюремной двери, три стены опоясывали кедровые скамейки двадцатисантиметровой толщины. В горнице было еще глуше, чем в сенях, тишина здесь звенела и обволакивала паутиной мертвого безмолвия, возникало чувство, словно человек спустился в глубокий колодец.
И таким же приглушенным, подземельным был человек, сидящий за столом. У него была толстая, тяжелая голова, глаза за увеличивающими стеклами очков были велики и тоже толсты. Негромко ответив на приветствие нежданных гостей, Прохор Медведев отложил в сторону газету, сняв очки, помассировал пальцами веки.
— Теперь вы сделайте так, граждане, — подумав, сказал он. — Потрите ноги об тряпку да садитесь-ка на лавку, чтобы я вас всех мог видеть. А ты, Семен Василич, садись подле меня… Вы садись, садись на лавку, пьяный народ! Бог стоячего человека только в церкви любит…
Рамщик Медведев внимательно оглядел гостей большими дальнозоркими глазами, поразмыслив, свернул газету на восемь долек, прогладил ее по сгибам и положил по левую руку от себя, так как очки лежали на правой стороне. После этого он с легкой улыбкой постучал ногтями по глухой кедровой столешнице, еще раз поразмыслив, задумчиво сказал:
— Я тебе завсегда рад, Семен Василич. Ты у меня — желанный гость. Вот и садись на хорошее место, займай стул по чину, а остальной народ пусть на лавочке обретается… Вот такое дело, граждане-товарищи! Я тебе, Семен Василич, еще больше скажу… На улке дожж, грязь, молонья, ты ко мне иди! Обишко все вкруг себе облила, рыбешки нет, зверь в далечину подался — ты ко мне иди! Шпалозавод сгорел, в народишке мор, война поближе — ты ко мне иди!..
В глухой, темной комнате, на фоне титанической мебели стояли на тонких ножках дорогой радиоприемник «Рига» и лучший из лучших телевизор «Темп-6»; оба агрегата были прикрыты тонкими кружевными салфетками, на салфетках стояли вазы со свежими цветами, а прямо перед глазами рамщика Медведева, между очками и газетой, проливал тихую музыку «Маяка» транзисторный радиоприемник «Спидола», протертый до блеска фланелевой тряпочкой, которая лежала за радиоприемником и для удобства пользования, чтобы не махрилась, была обшита темной каймой.
— Ты завсегда ко мне заходи, Семен Василич, — задумчиво продолжал рамщик, прислушиваясь к сладкой музыке из транзистора. — Я тебя водочкой завсегда угощу, хороший ты человек, но пошто, спрошу тебя, должон я вот этих нахлебников поить на свои кровные?… Вот ты мне на это ответь, мил друг Семен Василич!
Произнося эти медленные, задумчивые слова, рамщик Медведев поднялся с места, выпрямился, и сделалось видно, как он до смешного непропорционален: при большой, толстой голове у него было тщедушное, маленькое тело, тонкие ноги, узенькие бедра и отдельные от всего этого руки, которые, как и голова, могли принадлежать только телу другого человека — такие они были большие и сильные. Эти руки заросли темными вьющимися волосами, мускулы на них не перекатывались, не двигались, а лежали каменными буграми, металлическими литыми извивами; свои удивительные руки тщедушный рамщик держал по-обезьяньи широко.
— Ежели ты мне не отвечаешь, Семен Василич, пошто я должон этих нахлебников поить, то я тебе сам на это отвечу, — продолжал рамщик Медведев, подходя к шкафу с тюремными глазками. — Я их по той причине пою, Семен Василич, что они с тобой всю пьяную дорогу обретаются и на тебя, Семен Василич, своего рубля не жалеют, как ты завсегда без денег…
Он замолчал. Солнечные лучи в горницу проникали осторожно, упав на некрашеный пол и неоштукатуренные стены, приглушались до оранжевости; толстые кедровые стены не пропускали ни звука, высокий потолок вместо того, чтобы делать комнату просторнее, окончательно впитывал в себя остатки пространства. В этой беззвучной, глухой тишине подземелья рамщик Медведев неслышными пальцами открыл неслышную дверцу кедрового шкафа, достал хрустальный графин, тоже неслышный и с неслышной пробкой, и понес его к столу.
— Варвара, а Варвара! — не повышая голоса, позвал Медведев. — Надо бы закуску сгоношить, Варвара.
В боковой комнате послышались приглушенные шаги, зашуршала материя, и в горнице появилась сестра хозяина — высокая женщина в длинном монашеском платье и черном, глухом платке. Она молча подошла к гостям, сложив пальцы лодочкой, почтительно и с приятной улыбкой подала каждому руку, а Семену Баландину поклонилась в пояс, но руку подать не решилась.
— Спасибо, что зашли, Семен Васильевич! Не забываете нас.
Жена рамщика Медведева погибла в годы войны, детей у них не было, и вот уже около двадцати пяти лет Прохор Емельянович жил с сестрой. Они были дружны и согласны, сестра работала медсестрой в поселковой больнице, дом Медведевых считался одним из хлебосольнейших в поселке. Рамщик зарабатывал около четырехсот рублей в месяц, сестра получала шестьдесят и пенсию за мужа, погибшего на фронте.
— Ты накрывай на стол-то, накрывай, Варвара!
Рамщик Медведев неслышно поставил на стол графин с водкой, заняв свое царственное место, положил руки на столешницу.
Стена над его головой была самой светлой и веселой: ее от лавки до потолка заклеили почетными грамотами. Девяносто три грамоты висело на стене, начиная от грамоты Президиума Верховного Совета СССР и кончая грамотой поселкового Совета, — вот каким знаменитым рамщиком был щупленький и большеголовый Прохор Медведев.
Его слава была так велика, а положение было таким прочным, что на старости лет рамщик позволил себе роскошь сделаться открыто и вызывающе религиозным, хотя не верил в бога и редко думал о нем. Раз в три месяца он отправлялся за пятьдесят километров в Тогурскую церковь, где шикарным жестом разбрасывал пятерки и трояки, а потом, во время службы, стоял впереди всех богомольных старух. А вечером с бутылкой дорогого коньяка шел к попу отцу Никите и до поздней ночи вел с ним тайные и медленные беседы.
Иконы занимали всю левую стену горницы.
— Вот такие-то дела, Семен Василич! — тихо сказал знаменитый рамщик. — Новому директору Савину шибко не потрафило, что я его не полюбил… Нет, не полюбил! Мужик он, конечно, работящий, умный, непьющий, но я его не полюбил, бог знат почему… То ли глаз мне его не нравится, то ли директорска баба сильно в кости тонка, то ли директорски очки мне душу воротят? А может, мне то не ндравится, что он кажно утро купатся да физкультуру делат?… Конечно, кажному подольше жить охота, но ты при мне, при Медведеве, рукам не маши, в трусах по песку не бегай, свою бабу при всем народе в ушко не целуй… Да ты слышишь ли меня, Семен Василич?
Семен Баландин, оказывается, ничего не слышал и не видел. Что-то бормоча и пошевеливая пальцами беспомощно висящих вдоль тела рук, он смотрел в пол бессмысленными глазами, опухнув лицом, потел так сильно, что брови казались лохматыми от влаги. Для понимающего человека было ясно, что Семен Баландин вступал в ту стадию опьянения, когда внешние раздражители действуют отрицательно.
Рамщик Прохор Емельянович Медведев, повидавший на своем веку немало пьяниц, легонько вздохнул.
— Ты не ставь разносолов-то, Варвара! — сказал он. — Давай что скорее…
После этого Медведев поднялся, подойдя к Баландину, протянул ему хрустальный графин и красивый фужер.
— Сам наливай, Семен Василич!
Баландин выпрямился, встряхнув головой, посмотрел на графин с водкой испуганно и отчужденно, потом медленно-медленно, страстно и тупо потянулся к водке. В его фигуре, выражении лица, тусклом блеске глаз не было ничего осмысленного, человеческого, и походил он на отупевшее от жажды животное, которому подносят к морде воду. Семен Баландин вдруг схватил графин, прижал его к впалой груди.
— Есть! — хрипло проговорил Семен. — Есть!
У него опять дрожали руки, его так трясло, колотило, что он не мог, как и утром, взять в пальцы фужер. Поэтому он поставил его на стол, бормоча и колыхаясь, обморочно бледнея, сначала налил полфужера, затем, попридержав горлышко графина, дробно стучащее по краю посуды, по-мальчишески тонко вздохнул, потупился и добавил еще на палец толщины; потом Семен попытался унять руку, самопроизвольно наклоняющую графин к фужеру, но не справился с желанием и добавил еще на палец. Остановился Семен тогда, когда тонкий фужер до краев наполнился водкой.
— Ну хватит! — шепнул Семен. — Хватит!
Нервно пошевеливались под передником руки сестры Медведева, сидел лицом к стенке Витька Малых, морщился Устин Шемяка, презрительно усмехнулся Ванечка Юдин, рамщик разглядывал толстые ногти на своих пальцах… Потом раздалось прерывистое бульканье, страдальческий вздох, звук горловой спазмы, и наступила тишина, длинная, страдальческая, выжидательная и обнадеживающая.
— Готово! — насмешливо сказал в тишине Ванечка Юдин. — Изволили выпить…
Семен Баландин несколько раз бессмысленно мотнул головой, сделал знакомые, обирающиеся движения пальцами по бортам грязного пиджака, затем как бы взорвался — сел на табуретке прямо, глаза заблистали, мускулы налились оставшимися в теле силами, прямая спина напряглась, и заносчиво задрался маленький, безвольный подбородок.
— Ты Савина в моих глазах не порочь, дорогой Емельяныч! — грозно сказал Семен Баландин и по-детски погрозил рамщику грязным пальцем. — Ты меня хочешь поссорить с ним, но тебе это не удастся… Не удастся, Емельяныч, хотя я тебя люблю и уважаю… но ты меня с Савиным не поссоришь… — Он покачнулся на табурете. — Савин — человек тоже хороший… А тебе я уж говорил, Емельяныч, что ты самый хороший человек на все-е-е-й земле.
Он качался из стороны в сторону устойчиво, как маятник.
— Ванька, ты чего улыбаешься? Не веришь, что Емельяныч хороший человек?… Так я тебе докажу! Емельяныч, дай я тебя поцелую… Ты просто не знаешь, Емельяныч, как я тебя люблю и уважаю. Ты мне брат, Емельяныч. Не веришь? Дай я тебя поцелую… Только раз поцелую — и все…
Еще несколько раз покачавшись маятником, Семен упал грудью на стол, застонав от удара об острое дерево, забормотал приглушенно:
— Я всех уважаю, и меня все уважают… Ты дурак, Ванька, если не веришь… Ты ду-у-рак!.. Все дураки, кто не верит… А во что не верит? В серую мышь. Маленькая такая, хвост тоненький, сквозь кожу видно, как сердце бьется… бьется… сквозь кожу видно…
И захрипел перехваченным горлом, полууснул, ушел в полузабытье, в полуобморок…
— Пьяницы, они хорошие люди! — важно сказал рамщик Медведев. — Вот ты на Семена погляди, сестра, как он зашищат Савина, хотя тот севши на его место… Ах, беда, какой славный человек гибнет!.. Нет, сестра, не здря, не здря граф Лев Николаевич Толстой, говорят, тоже любили пьяниц, как вот я их люблю… Однако, родна ты моя сестра, меж пьянюгами тоже встречатся шибко паскудный народишко…
Рамщик угрожающе медленно повернулся к кедровой лавке, пробежав по лицам троих, задержал пронизывающий взгляд на Ванечке Юдине, смерил глазами его с головы до ног, прищурившись остренько, сказал холодно:
— Вот это как получатся, Иван, что тверезый ты человек славный, добрый, а как насосешься водки, то злей тебя в поселке нет? А вот Устинушка наоборот: в трезвости он зол, а в пьяности — добрей его мужика нет… Это как так получатся, что ты в пьяном безобразии жену бьешь смертным боем, а Устина при его пьяном обличии жена сама колотит? Вот ты мне это объясни…
Это рамщик Медведев заметил правильно. Выпив очередную порцию водки, Ванечка Юдин действительно весь наливался тупой и бессмысленной ненавистью к миру, а злой, как цепной пес, в трезвости Устин Шемяка сидел на лавке с блаженно-красным и добрым лицом.
— Ну коли ты мне по-хорошему не отвечашь, гражданин-товарищ Ивашка Юдин, — продолжал рамщик, — то покедова Семен Василич дремлет, я такое дело объявляю: тебе, гражданин-товарищ Юдин, водки больше нет, а всем остальным — хоша залейся!.. А ты, сестра, не стой. Ты, сестра, присядь, где желашь… Нам сейчас Устинушка Шемяка зачнет рассказывать, как на областно совещание передового народу езживал… Ты давай-ка, Устинушка, призакуси чем бог послал да обскажи, как дело-то было…
Устин Шемяка пошевельнулся, застенчиво улыбнувшись, сказал неуверенно:
— Да чего там рассказывать-то. Во-первых, сказать, все знают, во-вторых, объяснить, ты здря, Емельяныч, на Ванечку-то взъелся… Он вот молчит, не перебиват.
— Нет, уж ты рассказывай, Устинушка! Ты уж потешь народ, добрый молодец!.. Я вот даже радиво выщелкну, чтоб тебя послушать… Начинай с богом, Устинушка!
Рассказ Устина Шемяки
— Про это дело ежели рассказывать, то надо подробне рассказывать, чтобы склад был, а ежели склада не будет, то лучше и не рассказывать… Так что сидеть вам надо спокойно, перебивать меня не следоват, я и сам собьюси, когда на город переезживать стану… Ну, ежели по порядку соопчать, то это еще в тот год было, когда из рамщиков я само первым стахановцем был, меньше сто сорока процентов нормы не давал, с Доски почету не слезал, кажный месяц да квартал мне — премия! Когда сто рублев старыми, когда — двести, а когда и все пятьсот… Одним словом, давно это было, еще при старых деньгах, когда мы с Петрой Анисимовым, Кешкой Мурзиным да Аникитой Трифоновым на совещанье передового народу в область поехали. Я еще тогда ни разу в городе-то не был, как на фронт меня не брали, что я рамщик… Главне этой специальности в войну только одна специальность была — пилоправ!.. Ну, в город мы едем сразу опосля майских гулянок, пароход называтся «Пролетарий», мы — кажный при каюте, матрац под тобой мягкий, полосатый, ровно зверь зебра, на пароходе два буфета, в один всех запущают, в другой — только нас, стахановцев… Теперь вопрос заострям так, что на кажной пристани еще народ присаживается. Скажем, в Кривошеине гляжу: Степша Волков! «Здорово, парнишша, ты это откудова и куда, чего на пароход громоздишься при бостоновом костюме?» — «Тоже, — отвечат, — премию лажу получить, я счас на лесопункте механиком, мне зарплата — три тысячи пятьсот! Пошли-ка, парнишша, в буфет, мы за это дело разговор поимем…» Ладно! Хорошо! В область бежим пароходишком быстро, а народ все подваливат да подваливат! Обратно гляжу: Виталька Веденеев из Молчанова, назад глаз ворочу: Ивашка Балин из Парбигу… Ну, просто шею извертел — так знакомого народу шибко!.. Быстро ли, медленно, но приезжам в областной город, с пароходу сгружамся — мать честна! Тут тебе духовой оркестр, тут тебе плакат «Привет стахановцам!..». Тут тебе прям на берегу барышня сидит и командировочну деньгу дает. Я, к примеру, на стары деньги триста восемьдесят получил — рупь к рублю! Теперь надо за город объяснить… Дома, конешно, пребольшущи, транвай по рельсу бежит, названиват, в магазинах — коверкот! А в гостинице — абажур… Сам он, значится, круглый, розовый или зеленый, внутре проволока, кругом кисть! В самой гостинице три этажа, а на первом этаже — ресторан с музыкой. Даешь мужику, который меж столами бегат, двадцатку, говоришь: «Катюшу!» — получать «Катюшу»! Ну, тут, вам правду сказать, мы и начали при командировочных деньгах куражиться, разгул душе давать!.. Скажем, я за «Катюшу» двадцатку выброшу, Петра Анисимов, Кешка Мурзин, Аникита Трифонов, Степша Волков обратно же выбросят… Ну, вот тут ребята из Тогура, где церковь, претензию к нам имеют… Один, скажем, подходит, губу набок свертыват и так говорит: «Вы бы, — говорит, — чила-юльские, себе отдых дали, совесть поимели, как и, окромя вас, есть народ. Мы, говорит, всего три раза „Каким ты был, таким ты и остался…“ сполнили, а вы, говорит, „Катюшей“ по второму кругу идете… Как так? Может, вы, — спрашиват, — по тридцатке мужику бросаете?» Я ему и говорю: «Да нет, Марк, двадцатку!» Ну, тут Степша Волков возьми да и захохочи. Все сразу к нему: «Что? Как? Почему?» А он и говорит: «Да вот энтот, что на длинной трубе играт, — это мой свояк! Я ведь на городской теперь женат!» — «Как на городской, когда ты это успел, Степша, ну-к расскажи!» Тут все тогурские — человек пять — к нам за стол валят… Да!.. Вот, значится, тогурские к нам за стол валом валят, и мы решенье принимам такое, чтобы «Катюшу» вперемежку с «Каким ты был, таким ты и остался» сполнять. Ну, конечно, Степшу слушам, а он ничего, он молчит, а потом и скажи: «Хватит в этим ресторане пить. Айдате, — говорит, — в другой — в сам ресторан „Север“». Ладно! Переходим в ресторан «Север», садимся за самы лучши столы, водку заказывам, начинам пить без торопливости, и опять то «Катюшу», то «Каким ты был, таким ты и остался» нажваривам… Ну, все хорошо было бы, если бы не Марк Колотовкин. Этот, как захмелился пошибче, так сразу взял моду кричать: «Мы кетски, мы тогурски, мы лучшее всех!» Он, конечно, мужик фронтовой, грудь у него вся в орденах, но к нам мильционер раз подходит, два подходит, а на третий раз говорит: «Так и в отделенье можно угодить, граждане! Пообстереглися бы!» А Марку это одна сласть! «Кого, — говорит, — в отделенье? Меня? Ах ты, кила милицейская, ах ты, тылова крыса!» — «Кто кила милицейская? Младший лейтенант милиции? При сполнении служебных обязанностев? Да за это ведь срок!» Ну и берут нас всех, голубчиков, за грудки, из «Северу»-ресторану выводят на простор и ладят вести подальше, а Марк просто надрывается: «Ах гады, ах предатели, ах тыловы крысы!» Он так до тех пор вопит, пока нас всех, миленочков, в большой автобус не содют и не везут в обтрезвитель. Едем, значится, мы, а Аникита Трифонов мне шепчет: «Прячь деньгу в сапог!» Конечно, я, сразу разумшись, остатние двести семьдесят рублей заместо стельки кладу — и кум королю! А в обтрезвителе, братцы, порядок, строгость! Кажному — отдельна койка, простыни, пододеяльник, две подушки, байково одеяло, кажному от головы пирамидон выдают. Ладно! Хорошо! Утром нас чин чином побудили, кажному расписаться в книге велели, а потом говорят: «С кажного семьдесят рублев!» Вот тут-то, братцы, самый смех и есть. А почему? Да потому, что мы отвечам: «А у нас денег нету!» — «Как так нету? Вы же вчера командировочны получали?» — «А вот так и нету, что мы их пропили». — «Это по триста рублей-то?» Ну а мы свое: «Нам триста рублей — тьфу! Мы поболе вашего получам, мы деньги не считам». Успех?… При деньгах один Марк оказался, он их в сапог-то не спрятал, как всю дорогу орал: «Тыловы крысы!» Он, Марк-то, с утра тихий стал, все смущатся да извинятся, семьдесят целковых без словечка отдал и смирный такой пошел с нами на совещанье…
Устин Шемяка застенчиво улыбнулся, не зная, куда спрятать большие черные руки, незаметно засунул их под столешницу.
— Ты дальше, дальше сказывай, — проговорил Медведев. — Про то скажи, как на совещанье пришли…
— Как пришли? Обыкновенно пришли…
— Ты подробность дай, Устинушка, подробность дай!
— Ну, дальше так было… — медленно произнес Устин. — Приходим, это, мы на совещанье, хотим зайтить это, где сидеть, а нам: «Вы куда? Кто такие?…»
— Ты не останавливайся, ты дальше иди…
— «Кто такие?…» — печально повторил Устин. — Ну, мы и отвечам: «Стахановцы!» — «Как ваши фамилии?» Ну, мы и говорим: так и так наши фамилии… А они…
— Вот это интересно, что они-то?
— Они и говорят: «Вот это кто!» Вы, говорят, теперь шибко известные. О вас, говорят, утром сообщенье было, что в милицию попали…
— Ну…
— Ну и не пустили…
Рамщик улыбнулся, расцепил руки.
— Теперь скажи, а на совещании-то в это время кто на трибуне выступат?
— Ты на трибуне, — ответил Устин. — Ты на трибуне, Прохор Емельянович! Это я в дверь видел.
Рамщик Медведев откинулся на спинку стула, хохоча, широко разинул рот, но смех его был вкрадчив, негромок, как бы осторожен. Смеялся он все-таки долго, минуты две, потом сделался серьезным, нахмурив брови, сказал только для сестры:
— Вот ты видишь, какой он есть, твой брат Прохор! А ты вчера: «Не буду пельмени лепить!»
И опять повернулся к Устину, спросил строго:
— Ну а что я с трибуны говорю?
— Этого я не могу сказать, Прохор Емельянович!
— Правильно! — обрадовался рамщик. — Что я говорил, этого ты услышать не мог, коль за дверью стоял! Ах ты, господи, Семен Василич просыпается…
Однако Медведев ошибся, так как Семен Баландин только немного поднял голову, сделал попытку открыть глаза, но не смог — опять уронил голову на мягкие руки.
Минуту было тихо, потом рамщик сказал:
— Слабый он человек, Семен-то Василич! Я бы на его месте-то да при его-то грамоте — министр! А вот сейчас я умный, а он дурак!.. Характера у него нет, у Семена-то Василича! А у меня — характер… Я правильно говорю, сестра?
Сестра рамщика ничего не ответила, а только посмотрела на брата большими блестящими глазами.
7
После медведевского щедрого угощения, после хорошей и крепкой водки знаменитого рамщика четверо приятелей, достигнув той стадии опьянения, когда, как в народе говорят, хмельному и сине море по колено, никого и ничего на свете не боялись. Молчаливые и вздрюченные, с вызовом шли они по поселку. Свесил голову на грудь и покачивался пьяный Семен Баландин, опять потерявший ощущение места и времени, опухший, как вурдалак, страшный мертвенной белизной незагорелого лица; блаженным и радостным был Устин Шемяка, скрежетал зубами в необъяснимой злобе ко всему человечеству тщедушный Ванечка Юдин.
Поздно отобедавший, славно отдохнувший, по-воскресному свободный поселок Чила-Юл следил за четверкой десятками глаз — любопытными и укоризненными, хохочущими и печальными, осуждающими и завистливыми, неприязненными и ободряющими, сердитыми и подначивающими. Вслед приятелям мудро улыбались довольные послеобеденной жизнью старики, сравнивающе глядели на них пожилые женщины, отстраняюще — молодки, с испуганным любопытством осматривали их девчата, непонятно прищуривались мужчины средних лет, посмеивалась легкомысленная молодежь. Некоторые чилаюльцы смешливо здоровались с приятелями, другие — присвистывали, третьи звонко щелкали пальцами себя по тугому горлу, а шпалозаводской бухгалтер Власов, заметив приближающуюся четверку, вышел в одной майке на крыльцо своего нового дома, скрестив руки на груди, усмехнулся саркастически.
— Здорово бывали! — насмешливо сказал он пьяным, когда они поравнялись с ним. — Вань, а Вань, тебе помнится, какой завтра день? А понедельник, гражданин хороший… Будет предельно плохо, если утром не вернешь трешку…
Четверка остановилась… Ванечка Юдин на самом деле занимал под хлеб три рубля у Власова, клялся и божился вернуть не позже понедельника и забыл, конечно, об этой трешке, выпустил ее из виду, как и многие другие трешки, которые одалживала ему сердобольная деревня. Сейчас он вспомнил о деньгах, увидев бухгалтера Власова, и как-то вдруг, без всякой подготовки неистово заорал:
— Вор! Ворюга! Вор, ворюга!
Детские щеки Ванечки покрылись красными пятнами, грязные пальцы сжались в кулаки, глаза выкатились из орбит.
— Жулик! — сладостно орал на всю улицу Ванечка Юдин. — Народ грабишь, подлюга! Кто Гришке Перегудову шесть рублей не доплатил? Кто товар у Поли с-под прилавка берет? Ворюга! Гад! Подлость!
Покачивая головой в такт Ванечкиным крикам, бухгалтер Власов неторопливо вышел из калитки, стараясь не пропустить ни одного бранного слова, слушающе выставил в Ванечкину сторону волосатое ухо, присев на скамейку, сладостно почмокал губами. Вслед за этим торопливо перешли улицу два мужика, что сидели на лавочке у противоположного дома, задержалась в стремительном беге по поселку баба-сплетница Сузгиниха, специально пришагал на шум старик Протасов с марлевыми тампонами в ушах, прикатили на велосипедах трое мальчишек, не слезая с седел, поставили ноги на тротуар. Подошел кособокий мужик Ульев и деловито сел на траву, чтобы было вольготнее.
— Каждый бухгалтер — вор и жулик! — кричал Ванечка. — Все гады! Все подлюги! Все ворюги! А ты, Власов, хужее всех… Вор! Гадость! Подлюга! Я тебя в упор не вижу! Я тебя через колено ломаю… Вор! Жулик! Подлюга!
Хохотали и свистели мальчишки, кособокий мужик Ульев согласно кивал, из окон соседних домов выглядывали любопытные старухи в белых платочках, на скамейках, густо обсаженных отдыхающими стариками, царило оживление; на крылечки всех соседних домов высыпали женщины… Только братья Кандауровы по-прежнему отдыхающе сидели на своей зеленой скамейке, положив большие руки на колени, беседовали с таким видом, словно ничего не слышали.
— Тебя надоть сничтожить, Власов! — кричал Ванечка Юдин. — Тебя надоть с двустволки, тебя надоть… Вор! Жулик! Гадость!
Продолжая неспешно разговаривать, братья лениво поднялись, тяжелым шагом могучих людей пошли навстречу крикам Ванечки Юдина.
Братья Кандауровы были высокими, черноволосыми, с крутыми подбородками и квадратными ушами, а руки у них были такие же длинные и толстые, как у рамщика Медведева. В молодости братья Кандауровы наводили страх на деревню сплоченностью, мужеством в драке, привычкой, даже обливаясь кровью, никогда не отступать; сами братья драку никогда не начинали, но, если их принуждали драться, били жестоко. В годы войны братья Кандауровы были знаменитым танковым экипажем, прогремели на всю страну, а, вернувшись с фронта, принесли на троих двенадцать орденов и множество медалей. Все они работали рамщиками, славились рассудительностью и трезвостью, справедливостью, много лет подряд были членами партийного бюро завода и депутатами райсовета.
Братья шли к пьяным спокойно, касаясь друг друга плечами, одинаково глядели на кричащего Ванечку Юдина, переговаривались вполголоса. Ванечка заметил их поздно, когда братья уже выстроились за его спиной, когда Витька Малых и Устин Шемяка, бросившись к разбушевавшемуся приятелю, схватили его за руки.
— А, братовья! — восторженно закричал Ванечка. — Братовья Кандауровы! Вот по кому плачет срезка! — Он обморочно закатил глаза, на губах запузырилась сумасшедшая пена. — Чего глядите, гады? Не вы одне, гады, раны имеете. И у других есть!
С неожиданной пьяной силой Ванечка вырвался из рук Устина и Витьки, отскочив в сторону, рванул на груди спортивную майку с буквами «Урожай». Слабая материя поддалась так легко и охотно, словно давно ждала этого: с треском разъехавшись от горла до пупа, майка обнажила чудовищный, невозможный шрам на животе Ванечки Юдина: казалось, что желудок вынули, а вместо него возле самого позвоночника бугрилась клочковатая кожа, похожая на свежеразрезанное коровье вымя.
— Гляди, гады, каки раны у других имеются! — кричал Ванечка. — Гляди, как народ воевал!
Сидел на травушке-муравушке наслаждающийся ссорой мужик Ульев, топтался старик Протасов с ватой в ушах, пригорюнившись, стояли две женщины в платочках, заглушил мотоцикл только что подъехавший на шум парень в кожаной куртке и мотоциклетных очках на лбу, толпились мальчишки, спокойно наблюдали за происходящим красивые, здоровые, по-городскому одетые жены братьев Кандауровых.
— Гляди, народ, что Ванечка Юдин с фронту привез!
Глядели на изуродованного человека притихающее солнце, по-вечернему шелестящие тополя, красные рябины, мягкоцветные черемухи; заглядывали на смертельные раны река Обь, желторожие подсолнухи, дома, небо, белое облако; глядели и три брата Кандауровых, изуродованные лица которых были такими же, как Ванечкин живот. Они, братья, горели в танке, носящем имя «Смерть Гитлеру»; на теле братьев не было живого участка кожи, как и на лицах со сгоревшими веками без ресниц. Спокойно, безмятежно глядели братья на Ванечкину рану, и Ванечка понемногу затихал — перестал кричать, сделал попытку запахнуться в разодранную до пупа майку с отдельными буквами «о» и «ж», протрезвленно встряхнул головой.
— Не вы одне воевали! — тихо проговорил он. — Не вы одне в орденах да медалях!
Вот что говорил Ванечка Юдин, чтобы оправдаться перед братьями Кандауровыми, с которыми вместе учился, дружил, вместе пошел в армию; ехали они в одной теплушке, вместе писали письма домой, вместе вспоминали родную Обь — все было одинаковым в их судьбе, пока война не развела по разным подразделениям! Ванечку зачислила в пехоту, братьев — в танковые войска. А после войны еще одно разделение — сержанты Кандауровы вернулись на шпалозавод, а уволенный из армии старший лейтенант Юдин пошел скитаться по мелким начальственным должностям: был председателем ДОСААФ, артели «8 Марта», заведующим клубом, уполномоченным по сбору лекарственных растений, заведующим магазином, а сейчас работал в спортивном обществе «Урожай».
Тихо было на улице. Славно было. Солнце уж присело заметно к горизонту, лучи потеряли резкость, приглушились, и теперь было еще заметнее, чем утром, как хорош этот поселок Чила-Юл. Ласково и мило светились окна домов, чистота улицы под мягким солнцем казалась комнатной, деревья пошевеливали свежей листвой, река катилась бесшумно, мирно, по-равнинному.
— Поднадень, Ванечка, другу майку! — раздался в толпе тихий и робкий голос. — Я вот принесла…
Из толпы осторожно вышла женщина с маленьким птичьим лицом, подталкиваемая в спину суковатой палкой бабки Клани Шестерни, приблизилась к Ванечке Юдину, протянула ему застиранную майку с надписью «Урожай». Это была жена Ванечки, счетоводша шпалозавода Вера Ивановна. Отдав мужу майку, она снова скрылась в толпе, незаметная и серая, как соловьиха, согнутая и уже старая-старая, хотя ей не было и пятидесяти.
— Поднаденься, Ванечка! — сказал из толпы старик Протасов. — Поднаденься, чтобы брюхо-то не застудить…
— Прокричался, Ванечка? — негромко спросил старший из Кандауровых, брат Иван. — Надорвал, поди, горло-то!
Пьяные молчали. Давно привалился к забору и подремывал Семен Баландин, сидел отдыхающе на свежей траве Устин Шемяка, улыбался растерянно испуганный и бледный Витька Малых. На крыше шпалозаводской конторы радиодинамик пел про Волгу, на которой есть утес, смеялись на огородах женщины, собирающие к ужину белобокие огурцы, в отдалении скрипел колодезный журавель.
— Наше терпенье кончатся! — прежним тоном сказал старший брат Иван. — Ты, конечно, человек раненый, геройский, Ванечка, но тебе надо укорот дать. Семена Василича будем в больницу класть, Устина мы, конечно, из бригады сволим, ежели будет продолжать, а с тобой что?… Как на тебя управу найти, если ты от району работашь?
Голос Ивана Кандаурова был тих, заботлив, серые глаза в меру жестоковаты и в меру печальны, обожженное лицо казалось особенно страшным оттого, что было спокойно. Братья по-прежнему стояли тесно, загораживая весь тротуар, касались плечами друг друга, а пьяные, слушая неторопливую речь Ивана, понемногу повертывались к Семену Баландину с таким упрямством и необходимостью, как повертывается к солнцу желтый подсолнух.
— Семен Василич, а Семен Василич! — громко позвал Устин. — Очнись, Семен Василич!
Снижающееся солнце било в опухшее, водянистое лицо Семена Баландина, высветляя громадные мешки под глазами, растрескавшиеся до крови сухие губы, щербатый рот. Приплюснутый к забору, раздавленный собственной тяжестью, Семен все-таки оторвал голову от лацкана грязного пиджака, поглядев на братьев стеклянными глазами, заученным, механическим голосом спросил:
— Ты меня уважал, Иван, когда я был директором? Нет, ты мне прямо скажи, уважал? Ты меня уважал?
— Уважал.
Семен Баландин выпрямился, найдя мутными глазами сидящего на земле мужика Ульева, торжественно показал на него пальцем.
— А ты, Ульев, меня уважал?
— Шибко уважал, Семен Васильевич! — ответил Ульев, продолжая сидеть. — Мы от тебя, кроме пользы, ничего не видели…
— А что ты мне сказал, Ульев, когда я к тебе на первомайскую гулянку отказался прийти?
— Зазнался, говорю, Семен Васильевич.
— Во! Правильно!
Оторвав спину от забора, Семен Баландин опасно покачнулся, начал падать, но не упал, а побежал вперед и повис на плече Ивана Кандаурова. По инерции Семен прилег щекой на грудь Ивана, удержав равновесие, оттолкнулся от Ивана руками и снизу вверх заглянул в страшное лицо бывшего танкиста.
— Хорошие ребята меня приглашали, чтобы поделиться радостью, — сказал Семен, — а вот такие, как Ульев, из подхалимажа… А откажешь ему, на всю деревню крик: «Баландин не уважает рабочего человека!»
Семен Баландин еще раз опасно покачнулся, задержав падение на плече Витьки Малых, пронзительно посмотрел на приятелей и так зачмокал губами, точно сдувал муху с подбородка.
— Ты зачем меня приглашал, Ульев? — тоненьким голосом спросил Баландин. — Тебе чего от меня надо было? Ты отвечай! Чего тебе от меня надо было?
Ульев поднялся с земли, отряхнул с брюк сухие травинки, стал боком отходить в сторону.
— Стой, Ульев! — тонко крикнул Семен Баландин. — Ты зачем меня в гости приглашал? Чего тебе от меня надо было?… Не отвечаешь?! Тогда дай мне трешку, Ульев! Сейчас дай трешку, когда я не директор шпалозавода!.. Дай трешку! Дай!
Радиоприемник на конторской крыше сообщал о том, что Черное море — самое синее в мире, по улице катили на велосипедах с десяток мальчишек, на западной стороне неба загорелось красным светофорным светом маленькое неподвижное облако, и кожаный парень на мотоцикле мчался к нему с девчонкой на заднем сиденье. Девчонка обхватила парня за талию трепетными руками, ее длинные волосы не успевали за мотоциклом и казались соединенными с клубами каштановой пыли.
— Давай и мне трешку! — выпучив глаза, истерично заорал Ванечка Юдин. — Давай и мне трешку, Ульев! Рази не я играл тебе на баяне? Гони и мне трешку, раз сидишь, как в кино, и на нас глядишь… Давай деньги!
Не обращая внимания на визжащего Ванечку Юдина, Иван Кандауров неторопливо повернулся к братьям и тихо сказал, кивая на Баландина:
— Вот до чего человек дошел, не то что здоровье, а и совесть у него водка отняла… Вся деревня виновата, а он сам правый… Все перед ним в ответе… — Он грустно покачал головой. — Так-то оно, конечно, полегче…
Толпа понемногу расходилась. С треском и ревом клаксона унесся на мотоцикле «Ява» парень в кожаной куртке; пошли, семеня ногами под длинными юбками, словно плывя по тротуару, две печальные женщины; рассеивались по переулкам ребятишки, старики на скамейках снова занялись молчанием, перевариванием пищи, своим собственным стариковским разговором. На улице стало пусто, и только мужик Ульев по-прежнему сидел на траве.
8
И снова по поселку Чила-Юл шла четверка пьяных приятелей. Они двигались в том направлении, куда концентрическими лучами сходилась сейчас вся воскресная поселковая жизнь, — к большому деревянному клубу. Здесь приближался семичасовой сеанс, жужжал киноаппарат, киномеханик Гришка Мерлян уже покуривал на перилах, рядом на футбольной и волейбольной площадках ухали мячи, на клубных лавочках сидели старики, гуляли по тротуарам парами девчата, ездили вокруг клуба на велосипедах мальчишки. Возле клуба было шумно и весело, под лучами приглушенного солнца сверкали разноцветные одежды, празднично зеленело футбольное поле, уже висел над домами прозрачный месяц.
Отделенная от всего воскресного мира, похожая на людей, возвращающихся из плена, приближалась пьяная четверка к нарядному и веселому многолюдью клуба. У приятелей били такие бледные лица, словно не существовало на земле солнца, кожа была так суха и припорошена пылью, точно на земле не было воды, одежда была такой серой, словно над землей никогда не выгибалась разноцветной дугой радуга. Грязным с головы до ног был нище одетый Семен Баландин, потеряла разноцветье клетчатая ковбойка Устина Шемяки, в волосах опьяневшего Витьки Малых путались желтые хвоинки, оброс за день рыжей жидкой щетиной Ванечка Юдин. Серо-темные, качающиеся, они казались движущимся мрачным пятном на чистом и светлом разноцветье воскресного поселка.
С жалостью и ужасом глядел клубный народ на бывшего директора шпалозавода Семена Васильевича Баландина — самого грязного, опустившегося и несчастного из знаменитой четверки. Когда он подошел к веселому клубу, два старика на крашеной скамейке переглянулись, покачав головами, и неторопливо обменялись впечатлениями:
— Семену бы Васильичу надоть бы в баню сходить! — неторопливо заметил рыжебородый дед и положил подбородок на палку. — Вот ежели ты возьмешь, Флегонтыч, купца, то он через баню себя блюл…
— Твоя правда, Макарыч, — согласился второй старик, костистый и совершенно лысый. — Баня ему не помешат, но и воздух нужон. Через это ему бы надоть в тайгу податься!
Насмешливо, зло и неприязненно смотрел клубный народ на блаженно-красного, счастливого собой и опьянением, всем миром и друзьями Устина Шемяку, которому поселок не прощал того, что сильный, здоровый мужик, как говорили в поселке, «смущал на пьянство» Семена Баландина, Ванечку Юдина и совсем молодого Витьку Малых.
С состраданием и виной перед его фронтовым прошлым смотрел поселковый народ на Ванечку Юдина, о пьянстве которого говорили давно устоявшейся, привычной фразой: «Ванечка-то, он ведь на войне спорченный».
Равнодушно глядел клубный народ на чужака забайкальца Витьку Малых, которому ничего не приписывалось, за которым ни вины, ни добра не числилось, а упоминался он всегда только в связи с Семеном Баландиным, да и то мельком.
Пристально и по-деревенски дотошно глядел клубный народ на четверых приятелей, но уже можно было заметить, что глаза наблюдателей постепенно сходятся на Ванечке Юдине, так как именно он возле поселкового клуба проявлял особую активность: фыркал и нетерпеливо переступал ногами, кривил нижнюю губу, выпячивал грудь.
Отлично зная, что за этим последует, старики на скамеечке прервали беседу, мальчишки останавливали велосипеды, не занятые волейболом и футболом парни подходили поближе, а киномеханик Гришка Мерлян переместился на более удобное для наблюдений место.
Ванечка Юдин продолжал наливаться злобой. Вот он ненавидяще поглядел на футболистов, вот злобным зверьком ощерился на волейбольного судью, вот хищно наклонился вперед, как бы собираясь прыгнуть на ближнего к нему парня, а пальцами сделал такое движение, словно выпускал когти. Потом Ванечка сорвался с места, подбежал к волейболисту, подающему мяч, схватил его за руку.
— Ты откуда подаешь, гадость?! — визгливо закричал Ванечка. — Было же говорено, что надоть отходить два метра от черты! А ты чего делашь, кила бычачья?! Ты чего делашь?… А это кто играт? Это кто играт, я вас спрашиваю?!
Всплеснув руками и тут же забыв о подающем, Ванечка, шатаясь, подошел к высокому белоголовому парню, издевательски улыбаясь, начал поигрывать отставленной в сторону ногой.
— А тебе кто позволил выйтить на площадку? — тихо спросил Ванечка и начальственно-важно огляделся по сторонам. — Я рази тебя не дисви… Я рази тебя не дискви… Я рази тебя не прогнал с площадки? — выпучив глаза, заорал Ванечка. — Я рази не запретил тебе, гадость, ходить на площадку, как ты спортил волейбольный мяч?! А ну, подь ко мне! Второй раз повторяю: подь ко мне… Да не ты, не ты! А вот ты, Сметанин, подь ко мне…
Ванечка Юдин еще раз начальственно и насупленно посмотрел по сторонам, саркастически улыбнувшись, неторопливо вынул из кармана грязный блокнот и огрызок карандаша.
— Такие будут распоряжения, Сметанин! — сквозь зубы процедил Ванечка. — Во-первых, ты, Сметанин, с капитанов свольняшься, во-вторых, вон тот Неганов, который мяч спортил, от игры отстранятся на полгода, в-третьих, сымай сетку… Седни игры не будет! Лишаю вас игры, как вы не сполняете вышестоящие приказы спортивного руководства… Давай, давай, сымай сетку!.. Кроме того, ты завтра подойди ко мне, Сметанин… Подойди ко мне утречком — я с тобой по отдельности разберусь.
Поигрывающий отставленной ногой, жесткогубый, с выкаченными глазами, Ванечка Юдин сейчас не был смешон. В глазах Ванечки блестели все фронтовые ордена и медали, выглядывала из них вся его послевоенная мелконачальственная жизнь, сверкал огонь до сих пор не погасшей жажды командовать, приказывать, увольнять.
— Пошли, Ванечка! — тихо сказал Витька Малых, страдая за товарища.
Но Ванечка Юдин не услышал приятеля. Он еще раз саркастически улыбнулся, поглядев на Сметанина, как на пустое место, сам пошел к волейбольной сетке, чтобы снять ее, и в том, как он шел, как двигался и как нес плечи, тоже не было ничего смешного, ничего легкого.
Ванечке Юдину оставалось всего несколько шагов до волейбольной сетки, когда от футболистов отделилась спокойная фигура в длинных трусах. У приближающегося человека были незагорелые рыжие ноги, обутые в разноцветные бутсы, на голове проглядывала сеточка, надетая для того, чтобы не путались волосы, на футболке белели буквы «Динамо».
— Морщиков! — испуганно вскрикнул Витька Малых. — Тикаем, Ванечка!
Участковый инспектор милиции старший лейтенант Морщиков, играющий в поселковой команде центральным защитником, был таким неторопливым и вальяжным человеком, так берег свои футбольные силы, что до сетки дойти не изволил: остановившись на краю футбольного поля, он поднял руки и показал Ванечке десять растопыренных пальцев.
— Десять суток! — обмирая, охнул Витька. — Тикаем, тикаем, Ванечка!
Юдин сник так быстро, как сникает человек, если его, швырнув наземь, придавливают коленом. Он болезненно сморщился, выронив из пальцев блокнот и карандаш, попятился, прикрываясь Витькой Малых, ибо милиционер глядел на Ванечку так, точно еще не решил, возвращаться ли на место центрального защитника или надевать форму, висящую на стойке правых ворот. Когда же Витька и Ванечка допятились до Семена и Устина, милиционер помахал им рукой: «Вон с площадки!»
Четверо пьяных медленно отступали, все пятились и пятились, и Семен Баландин не спускал глаз с вратаря, который стоял у ворот, привалившись спиной к штанге. Это был крановщик Борис Цыпылов — опять весь белый, горячий от закатного солнца. Боже, какой он был здоровый, молодой, счастливый!.. Поиграет в футбол, примет в клубной кочегарке душ, пойдет домой на длинных легких ногах. Перешагнув порог, поцелует жену, детей, поеживаясь от счастья, усталости и здоровья, ляжет в кровать. Чистые простыни! Пододеяльник! Боже, какой он был здоровый, молодой, счастливый!
— От клуба не надо бы уходить! — озабоченно шепнул Устин Шемяка, когда приятели благополучно выбрались из клубной ограды. — Якименко сегодня шибко гулят… У него сын из армии возвернувшись…
В доме рамщика Якименко действительно праздновали весь вчерашний вечер и сегодняшний день, сменилось за это время четыре очереди гостей, но к семи часам вечера гулянка уже совсем распалась — сын Васька шастал в кедрах с Шуркой Петровой, жена Якименко так ухайдакалась с гостями, что непробудно спала, гости разошлись, а Георгий Якименко, оставшийся в одиночестве, принес отцовскую радость клубному крыльцу, буфету и шампанскому, которое очень любил.
Теперь он стоял возле клубного буфета, не протрезвившись еще, лучась радостью здорового и благополучного человека, курил привезенную Васькой из Германии заграничную сигарету и просыпал пепел на черный выходной костюм.
— Я уж не говорю за то, что Васька — кругом классный специалист! — рассказывал Якименко хитрованному старику Пуныгину. — Я уж на то вниманья не обрашшаю, что он от генерала три благодарности имет, а я за то хочу тебе, Гаврилыч, сказать, что сын у меня к родителям уважительный. Факт, Гаврилыч, такой… Как это мы зачали гулять, так он, Васька, сразу: «Вы, говорит, папа, и вы, говорит, мама, себя по неправильности ставите, как на обычные места сели… Вы, говорит, в этом доме самы главны! Вам, говорит, надоть поперед всех сидеть»… Вот те палец на отруб, что так и говорит! Хощь у кого спроси…
В этом месте рассказа рамщик Георгий Якименко, конечно, восторженно хлопнул ладонью по плечу старика Пуныгина, старик Пуныгин, конечно, от тяжелой руки рамщика покачнулся, но ничего супротивного не сказал, и Георгий Якименко продолжал бы и дальше свой восторженный рассказ, если бы сбоку не послышался знакомый голос Устина Шемяки.
— Здоров, Жора! — восторженно закричал Устин Шемяка и тоже звонко шлепнул рамщика по широкому плечу. — Здорово, черт собачий! Чего ж это ты от народа утаиваешь, Жорка, что Васька-то весь в медалях из армии пришедший?! Жорка, дай я тебя поцелую, черт собачий!
И так хорошо сияло доброе лицо Устина, такими искренними были его глаза и радость за Жору Якименко, что рамщик сразу понял: пришел тот человек, которого он, Якименко, ждал со вчерашнего вечера. Устин Шемяка не станет морщиться и недоверчиво покачивать головой, как хитрый дед Пуныгин, Устин Шемяка не будет жеманно отказываться от выпивки, как солидные гости, Устин разделит с рамщиком каждую капельку его счастья и радости.
— Устинушка, родна кровинушка! — в рифму заорал обрадованный рамщик. — Да где ж ты был, где ж ты пропадал, ласточка моя! Ой да ты Устинушка, родна кровинушка! Да ведь мы с тобой, Устинушка, ровно братья… Уж сколь мы с тобой лесу переворочали, сколь мы бревен на себе перетаскали! Виринея, ну, где ты есть, Виринея, когда мой самолутший друг пришел?
Рамщик Якименко разметал в стороны очередь возле буфета, до пояса просунувшись в окошко, заорал в краснощекое лицо буфетчицы Виринеи Колотовкиной.
— Шанпанского нам, любушка, шанпанского!
Выдравшись из окошка обратно, рамщик взасос поцеловал Устина Шемяку, хохоча и приплясывая, кинулся обнимать старика Пуныгина.
— И дружков своих сюда подавай, Устинушка, родна кровинушка! — кричал рамщик. — Весь поселок сюда давай! Виринея, дышло те в горлышко! Шанпанского… Ха-ха-ха! Рамщик Георгий Петрович Якименко гулят! Сын у него вернулся из армии!.. Васька вернулся!.. А ну подходи, который там народ… Батюшки! Да и сам Семен Василич тута! Мать родненька, да это мой родной племяшка Ванечка, сестры моей родной сын!.. Держись, народ, Гошка Якименко гулят!.. Виринея, шанпанского!.. Семен Василич, дай я тебя поцелую. Да ты и сам не знашь, какой ты есть человек, Семен Василич!.. Виринея, три плитки шиколада!.. Жорка Якименко гулят!
9
Солнце понемножечку спускалось к луговым озерам и веретям, бежали по сорам фиолетовые тени, предзакатно розовела Обь, и мерно постукивал мотором катер на зеркально-гладкой воде. На поляне было уже сумрачно, над землей струился прохладный воздух, висели уже над Заобьем две крупные звезды, а луна, набрав силу, сверкала холодно, словно льдинка. На потемневшей поляне валялись пустые бутылки от шампанского, станиолевые обертки от шоколада, пустые консервные банки…
Минут десять назад ушел домой вдруг отчего-то заскучавший Георгий Якименко, и на поляне оставались только четверо приятелей. Валялся на захолодавшей земле Семен Баландин, подремывал с открытыми глазами Ванечка Юдин, радостно и тупо улыбался Устин Шемяка, а Витька Малых время от времени задирал голову, обнажая белые, молодые зубы, громко хохотал. От шампанского, которое Витька пил жадно, как ситро, лицо у него порозовело, движения замедлились, и не было уже в парне ничего от того утреннего Витьки Малых, который лучился радостью, вихляясь из стороны в сторону, пел песню про моряка, что едет на побывку.
Устин Шемяка сладостно улыбался. Он сидел, по-восточному скрестив ноги, покачивался из стороны в сторону, как на молитве; лицо пьяного сладко морщилось, глаза тонули в чувственных морщинах, мускулистая фигура сделалась вялой, бескостной. Из могучего мужика сейчас можно было вить веревки и плести лапти, завязывать его узлом, волочить за собой на уздечке. Сейчас Устин Шемяка никаких перемен состояния не хотел; ни разговоров, ни песен, ни водки, ни движений, ни сна, ни бодрости.
Ванечка Юдин сидел с открытыми остановившимися глазами, совершенно слепыми и по-мертвому остекленевшими, хотя со стороны можно было подумать, что Ванечка видит закатывающееся солнце, сиреневую, как утром, реку и серых по-вечернему чаек.
— Ой, братцы, умру! — медленно захохотав, сказал Витька Малых. — Ну до чего смешно!
Смех его волной пронесся над ельником и поляной, заглохнув в траве, эхом побродил под яром; было тихо, жаловалась иволга за деревенскими огородами, молчал воскресный шпалозавод, пошипливала паром локомобильная электростанция.
— Я просто от смеха помираю! — пожаловался Витька Малых, прикрывая хохочущий рот ладонью. — Ой, чего я вспомнил… Вы от смеха на землю ляжете, братцы!
У пьяного Витьки были детские интонации, нижняя губа капризно оттопыривалась, глаза сияли, а щеки щипал пьяный румянец; смеясь, парень отклонился назад, всплеснув руками, завлекающе повторил:
— Ой, что я вспомнил, братцы! Устинушка, Ванечка, Семен Васильевич… Семен Васильевич, да ты слышишь ли меня?
Оторвался и упал в воду с яра большой кусок ослизшей глины, услышав всплеск, зорко глянула на реку ближняя к яру чайка, помедлив, на всякий случай спланировала туда.
— А я все равно расскажу!
Витька вскочил, встав на колени, расширившимися глазами обвел приятелей — полуобморочного Семена Баландина, закаменевшего Ванечку Юдина, улыбающегося Устина Шемяку.
— А я все равно расскажу! — повторил Витька и снова нежно засмеялся. — Я возьму да и расскажу… Ой, братцы, что я вам расскажу!..
Описав два плавных круга, чайка поплыла вверх и вверх, словно ее поднимали на невидимой ниточке.
Рассказ Витьки Малых
— Ой, братцы, я вам такое расскажу, что вы со смеху помрете… Я не то чтобы пьяный, но голова у меня кружится, а ты, Устинушка, моя кровинушка, не сиди как турок — я уже от хохоту помираю… Ну, дело было на родине, в Забайкалье. Как-то раз ко мне приходит Федька Голицын. Черный такой, из полубурятов, здоровается, просит попить. Ну я ему даю ковшик воды из речки Ингоды… Ох и вкусная же вода, братцы! Ну Федька Голицын выпивает ковш воды, садится на мою кровать — я тогда при мамке и папке жил — и говорит: «Витька, а Витька, айда-ка на танцы, там все наши бабы будут, если хочешь, я тебя с Веркой Тереньевой познакомлю, она на тебя глаз кладет!» Ладно! Надеваю я вельветовые штаны, белую рубаху, надрючиваю туфли. Приходим мы в горсад, музыка играет, Федька меня с ходу к трем бабам подводит. Одна баба — его симпатия, то есть Женечка, вторая — кто, неизвестно, третья — Верка Тереньева… Ростом с меня, здесь — порядок, здесь — будь здоров, ноги — во! «Чего вы, — говорит, — Витенька, на танцы не ходите? Если не умеете, я вас — мигом!» Я говорю: «Ладно!» А тут Федька шепчет: «Давай с Веркой от третьей лишней откалывайся! Потанцуем маленько и пойдем ко мне в общежитку. Я сегодня один — все на линию уехали!» Федька на железной дороге работал, бригадиром, рельсы менял… Ладно! Мы с Веркой от той бабы, которая не знаю кто, откалываемся, гуляем по горсаду, она меня, как зайдем в тень, обнимает да целует. Она за меня замуж хотела! Это сейчас мне двадцать два, а тогда и двадцати не было, я из себя был ничего — молодой, волос у меня был кудрявый… Ладно! Верка, она так: здесь у нее — порядок, здесь — будь здоров, ноги — во, но мне она не сильно нравилась. У нее верхняя губа толще нижней, когда целуется, мне воздуху не хватает… Ладно! Значит, она обнимается, целуется, я терплю, чтобы не обидеть, — она баба хорошая, а тут и Федька: «А не прогуляться ли нам?» Верка, конечно, спрашивает, куда гулять, и Федька прямо режет: «Возьмем, — говорит, — чего-нибудь выпить да и пойдем ко мне в общежитку!» Ну, Верка, конечно, сразу за меня цепляться, лакированными туфлями — цок-цок! Значит, ей со мной хоть на край света, а Федькина Женька — ни в какую! То да се — идти не хочет… Тут Верка ее в сторону отводит, на нее сердится, а Федька — мне: «Ты не теряйся, Витька! Ты чего краснеешь?» Ну, тут подходят Верка с Женькой, говорят: «Согласны!» Ладно! Идем мы, значит, в общежитку, идем, значит, через вокзал, так как водку только и можно достать как на вокзале… Ну, приходим на вокзал. Федька — в буфет, а мы — на перрон. Я это дело люблю. Один поезд туда, другой сюда, а тут — нате вам! — приходит экспресс Владивосток — Москва. Ресторан в нем, через окно видать, что у буфетчицы на голове кружева. Ладно! «Вы — говорю, — бабы, стойте на месте, я бананы куплю!» Я эти бананы сильнее других фруктов люблю — ах и сладки, ох и мягки! Ладно! Иду я в вагон-ресторан, покупаю два килограмма бананов, спускаюсь с подножки, а тут драка… Что такое? Почему? Один мильтон свистит в свисток, двое бегут слева, четвертый — майор — сверху по мраморным ступенькам спускается… Дальше гляжу: ужасть! Еще дальше гляжу: мать честная! Один пассажир при пижаме кровью обливается, три пассажира — эти без пижам — на него наскакивают… Что такое? Почему? Он один, вас трое, милиционеры еще бегут, а майор неторопливо спускается… Ладно! Вижу: один — без пижамы — обратно размахивается и трах по сопатке того, что в пижаме. «Вор! Поездной вор!» Ладно! Хватаю того, что без пижамы, за руку, спокойно говорю: «Чего ты его по сопатке хлещешь, когда она уже разбитая?» Тут слышу: меня — хрясть по голове! Оглядываюсь: это второй, который тоже без пижамы, да еще и орет: «Сообщник! Где милиция?» Ладно! Подбегают. Разом три мильтона, майор с мрамора спускается и говорит: «Садите-ка всех их в вагон, на месте преступления разберемся…» Ха-ха-ха! Значит, девки наши стоят, ничего понять не могут, а потом Верка, — вот за что я ее уважать стал! — ка-а-а-к бросится к нам, ка-а-а-а-к схватит милиционера за руку: «Не троньте его! Витенька чистый, как стекло!» Ха-хаха! Руки мне назади шнурком вяжут, я со смеху помираю, но кричу: «Да я же читинский, на Большой бульварной родился… Чего вы меня волокете, когда я только к поезду подошел?» А майору не до смеха: «Разберемся, на какой ты улице родился!» Ха-ха-ха! Ну, дальше вы вообще от смехотни концы отдадите!.. Два милиционера заталкивают меня в купе, третий приводит проводницу и на меня: «Он?» А она… ой, не могу, ой, дайте просмеяться… Ха-ха-ха! Проводница-то и говорит: «Он!» И начинается такая потеха, что я совсем обезживотел… Везут меня до Хилки, а мне завтра к восьми на работу, а ключ от экскаватора у меня в кармане… Вот умора, братцы! Ха-ха-ха! Ну, отчего я такой пьяный, что луна-то… Их ведь две, братцы, вот смех-то! Одна — слева, другая — справа… Ну, отчего я такой пьяный! Да, не молчите вы, ребята!.. Мне одному скучно, мне одному холодно…
Витька Малых упал грудью на землю, вздрагивая и пьяно икая, потом постепенно затих, косо и неловко положив голову на траву. Ресницы у Витьки смежились, синеватое глазное яблоко увлажнилось, и это сделало его совсем похожим на сонную птицу.
— И почему это так всегда получается, — прошептал он, — что я сбоку припека… В какое дело ни вмешаюсь — и мне хуже, и другим плохо… Майор-то мне в Хилке и говорит: «Мы этого поездного вора давно приметили, а когда тебя увидели, решили: сообщник!» И чего это я всегда сбоку припека?
В тишине и молчании прошло минут десять. По-прежнему каменно сидел Ванечка Юдин. Не двигался, чтобы не пролить радости опьянения, Устин Шемяка. Медленно, как бы по частям возвращался в мир солнцезаката Семен Баландин, обморочно-бледный, опухший, тоненько стонал: невыносимо болела звенящая, как бы стиснутая пыточными обручами голова, пустой желудок — Семен Баландин три дня не ел — терзали острые спазмы, в ушах гудело, трещало, выло, как при настройке радиоприемника, над глазницами время от времени вспыхивали колющие острые молнии, больные, как укол тонкой раскаленной иглой.
Поддерживая немощное тело руками, уронив голову на грудь, Семен Баландин исподлобья глядел на то, как славно и тихо опускается на землю лунная ночь. Солнце уже пряталось за сизую дымку, устав за длинный жаркий день, накрывалось ею, как пуховым одеялом, все краски мира походили на размытую акварель, и, наверное, от этого чудилось, что в теплом воздухе пел тоненький и грустный пастуший рожок, хотя в безмолвии по-прежнему существовало два звука: все еще стонала иволга, да поплескивала под яром розовая обская вода.
— Утопиться бы! — медленно сказал Семен Баландин. — Утопиться бы!
В его голосе звучала тоска по теплой вечерней воде, извечному плавному ходу реки на север, покою берегов, блаженству вечного движения, бесчувственности, беззаботности, сладости всегдашнего неба над зелеными холмиками кладбища… Как хорошо дереву, воде, розовому горизонту… На речном дне покачивались водоросли, ходили сытые и сонные рыбы, донный нежный песок отражал розовость тихой воды. Вечность, медленные движения, покой…
Молодые сине-розовые ели как бы сами собой раздвинулись, показалась седая макушка бабки Клани Шестерни, но дальше бабка не продвинулась — остановилась, пропуская вперед жену Устина Шемяки тетку Нелю и серенькую бессловесную счетоводшу Веру Ивановну Юдину. Женщины двигались бесшумно, их появление казалось таким же естественным и необходимым сейчас, как закат солнца, прозрачный свет луны над рекой, тонкий звон комариных крыльев; их появление было таким естественным и необходимым, что Витька Малых печально улыбнулся, Семен Баландин вздохнул, а Ванечка Юдин и Устин Шемяка глядели на жен совершенно спокойно.
Дальнейшее произошло в тишине и неторопливости. Тетка Неля положила одну ручищу на плечо мужа, второй схватила его за волосы и потянула вверх таким движением, словно выдергивала из земли крупную редиску, и пьяный Устин начал медленно приподниматься, как бы вырастая, как бы возникая из ничего. Тетка Неля подняла его лицо до уровня своего лица, повернув к себе, встряхнула, точно полный мешок перед тем, как завязать его.
— Нажрался до отвала, гада? — неторопливым шепотом спросила она мужа и наотмашь ударила его ладонью по щеке. — Нажрался, гада, а огород не огорожен, картошка из погреба не достата…
Она во второй раз хлобыстнула мужа, не отпуская, вытерла ладонь о свое согнутое колено.
— Нажрался, гада, сверх покрышки, а дрова не колоты, огород неполитый, корове ботало не достато!.. На тебе! На тебе!
Замедленно улыбаясь, помолодев, покрасивев, тетка Неля заскорузлой железной ладонью била мужа по нежной розовой щеке.
Загубленная пьянством мужа молодость — на тебе! Припадочный сын, зачатый в пьяную ночь, — на тебе! Тысячи пропитых рублей, бабье одиночество в холодной кровати, дом без хозяина, дети без отца, насмешки соседок, позор и поношение — на тебе, на тебе, на тебе!
— На тебе! На тебе, гада такая!
Теперь уже три звука существовали в вечерней тишине: стон иволги, плеск обской волны, звонкие удары по живому телу… По-прежнему призывно глядел на темную реку несчастный Семен Баландин; страдая и боязливо втягивая голову в плечи, смотрел на избиение Витьки Малых, а очнувшийся Ванечка Юдин хохотал.
— Давай, тетка Неля! Валяй, тетка Неля! — кричал Ванечка. — Жги, тетка Неля, жги!
Но дело уже шло к концу. Широко расставляя ноги, тетка Неля двинулась к ельнику, волоча за собой обмякшего мужа. И только тогда обнаружилось, что на поляне нет жены Ванечки — так она незаметно исчезла. А сам Ванечка Юдин, оказывается, уже стоял на ногах, ощерившись, глядел в ту сторону, куда ушли Устин с женой, и выражение лица Ванечки было такое, точно он продолжал кричать: «Жги его, тетка Неля, жги его!»
Маленький, хилый Ванечка Юдин казался неожиданно крупным на фоне неба, левобережья и прозрачной луны. Лицо Ванечки было покрыто мелкими морщинами, кожа на скулах натянулась, нервно шевелил увядшую кожу шеи острый кадык. Ванечка покачивался, скрипел зубами.
— Нечего сидеть! — крикнул он сдавленным голосом. — Надо дальше иттить… Подымайся, Семен! Витька, гадость, тоже вставай… Чего расселся, губастик чертов!
10
Солнце только что спряталось за синюю дымку, голубые задумчивые тени лежали на гладкой дороге, по-ночному мычали доеные коровы, бегали по тротуарам обрадованные вечерней прохладой собаки. Поселок отужинал и посмотрел кино, отыграл в футбол и волейбол, отсидел на лавочках; понемногу пустело на улицах, исчезали последние человеческие звуки, во всем, что видел глаз, уже жил длинный рабочий понедельник, о котором не думали только молодые.
Накинув подружкам на плечи свои пиджаки, прогуливали возлюбленных парни, тесно сблизив головы, сидели на свободных от стариков и старух лавочках; те, что постарше, уводили девчат за околицу деревни — целоваться и шептать на ухо ночные слова. Мотоциклисты с девчатами на заднем сиденье давно унеслись в луга и верети; шли в обнимку со своими девчонками волейболисты и футболисты в майках с надписью «Урожай».
В пьяной тройке снова произошла перестановка: впереди, как утром, энергично шагал Ванечка Юдин, за ним — Семен Баландин, он сейчас почти не покачивался, но двигался зыбко, неуверенно, словно ощупывая подошвами каждый сантиметр деревянного тротуара. Витька Малых побледнел, осунулся, то и дело ежился, точно ему было холодно. Замыкая пьяную тройку, Витька заботливо приглядывал за Семеном Баландиным, хотя сам волочил ноги, по-старчески шаркал подошвами.
Приятели шли в никуда, шли только потому, что надо было двигаться… Давно закрылся магазин, в домах гасли огни, считанные минуты оставались до конца работы клубного буфета… Тройка шла как бы на ощупь. Они вяло прошли от ельника до сельповского магазина, обреченно постояв возле закрытых дверей, двинулись дальше. Теперь их мог выручить только счастливый случай. Иногда случалось, что в одном из домов горел огонек позднего застолья, иногда на пути пьяных встречался тоже пьяный односельчанин, не допивший спиртные домашние припасы, иногда…
Счастливый случай на этот раз явился в облике мужчины средних лет явно не чила-юльского происхождения. Мужчина прогуливался между крохотной поселковой гостиницей, называемой заезжей, и сельповским магазином. Счастливый Случай Благоприятный к Пьяным держал в руке тальниковый прутик, беззаботно помахивая им, наслаждался деревенской тишиной, теплым вечером, молодой луной. По внешнему виду мужчина был из командированных, которые на шпалозавод приезжали часто: что-нибудь проверять или расследовать, изучать какой-нибудь вопрос, чем-нибудь помогать. Счастливый Случай был облачен в хороший костюм, туфли отражали последние блики заката, в галстуке затаенно поблескивала булавка.
— Рубль идет! — шепнул Ванечка. — Стойте на месте!
Продолжая злобно скалить зубы, Ванечка журавлиными ногами подошел к незнакомому мужчине, низко поклонившись, вдруг кокетливо улыбнулся и сделал ручкой так, как делают кавалеры в полонезе.
— Драствуйте! — ласково сказал Ванечка. — Прощайте меня великодушно, товарищ командировочный, но терпежу нет, когда я такое дело вижу…
Ванечка потянулся к высоко вознесенному над ним лицу незнакомого мужчины, поежившись как бы от страха, показал пальцем на дымящуюся в полных губах мужчины папиросу:
— Я, дорогой товарищ из областного центру, апрелем в больнице лежал, как раненный на фронте, так врач сказал: «Вы, товарищ раненый, еще пить-то пейте, но вот это дело ни-ни! Курить, — говорит, — много вредне, чем пить!» Прощайте великодушно, товарищ командировочный, только мое фамилие Иван Спиридоныч Юдин. Будем знакомы!
Ванечка торопливо сунул темную ладошку в большую руку незнакомого мужчины, который повел себя неожиданно странно: не слушая Ванечку, он поверх его головы вопросительно вглядывался в неясную фигуру Семена Баландина, полузакрытого Витькой Малых.
— А ваше фамилие как будет? — развязно спросил Ванечка Юдин и мелко расхохотался. — Два колечка на руке носите… Одно, что женатый, второ — что холостой! Ох, знаем мы этих командировочных! Им баба не попадай!
Высокий незнакомец по-прежнему, тревожно вытянув шею и приподнявшись на носки, вглядывался в серую фигуру Баландина.
— Баландин! — тихо окликнул он. — Семен!
Было темно и глухо. Постояв еще немножко в напряженной позе, мужчина разочарованно опустился на пятки и, спрятав в карман ту руку, которую пожимал Ванечка Юдин, веселым басом спросил:
— Так что вам надо, товарищ?
— Рупь! — ласково ответил Ванечка. — Дайте рупь раненому фронтовику, как за народ пролившему кровь… Гоните рупь, гражданин из областного центру!
— Держи! — весело сказал мужчина и двумя пальцами подал Ванечке металлический кружок. — А теперь марш-марш, герой!
Еще раз кинув взгляд в сторону Семена Баландина, мужчина недоуменно пожал плечами, резко повернувшись, пошел в заезжую, так как хорошо погулял по широкой и короткой чила-юльской улице. Длинные и крепкие ноги уверенно уносили от пьяных сильные прямые плечи, гордо посаженную голову с седыми висками, ясную улыбку на полных губах.
— В клуб! — скомандовал оживший Ванечка. — Скорей бежим в клуб…
Возле буфетного окошечка стояли трое мужчин в брезентовых спецовках и пожилая женщина с кожаной сумкой; она уже укладывала в сумку каменные пирожки, а мужчины — рабочие рейда — ожидали очереди.
Ванечка Юдин с торопливой злобностью влетел на крыльцо, остановившись, зачем-то попятился назад, словно ему был нужен разбег. После этого Ванечка сделал обратное движение, то есть подался на полшага вперед, стиснув зубы, поочередно оглядел троих рабочих… Из клуба доносился вальс «Амурские волны», доски крыльца мерно подрагивали, ярко светилось окно буфета, похожее на окно квадратного прожектора.
— Дайте двадцать три копейки! — съеживаясь, крикнул Ванечка Юдин. — Дайте двадцать три копейки!
Маленький, хилый, израненный человек сейчас был страшен. Сквозь щелочки опухших век светились злобные глаза, налился кровью шрам возле уха, тело трепетало, извивалось, зубы — мелкие и острые — были оскалены, а туловище так наклонено вперед, словно Ванечка был готов с урчанием и визгом впиться в ногу ближайшего мужчины.
— Дайте двадцать три копейки! — дрожа, повторил Ванечка. — Дайте, дайте!
В молчании получив деньги, Ванечка купил черную бутылку плодово-ягодного вина и медленно сошел с крыльца, прижимая бутылку и стакан к несуществующему животу. Он двигался боком, оглядываясь, как двигался бы крохотный, но отважный зверек, не только избежавший смертельной опасности, но и уносящий в нору кусок шкуры врага. Дрожащий Ванечка спустился с крыльца, продолжая двигаться боком, завернул за угол клуба, чтобы оказаться в тени, в одиночестве, в радостном безлюдье.
— Идите за мной! Не стойте, идите!
Продолжая мелко дрожать, Ванечка сорвал зубами с горлышка металлическую пробку, наклонив бутылку правой рукой к стакану, стоя начал наливать. Он тяжело дышал, по лбу стекала толстая и прямая струйка пота. Налив полный стакан, Ванечка снова бережно и хищно прижал бутылку к пустоте желудка, ощерившись, хрипло крикнул:
— Давай, Сенька, принимай!
Семен Баландин пошел к стакану падающими, поскальзывающимися шагами, руки и ноги у него не дрожали, а ломились в суставах, как перешибленные, рот западал, зрачков не было — все глаза казались зрачком, утонувшим между толстыми, тяжелыми веками.
— Ты знаешь, кто тебе дал рубль? — хихикнув, спросил Семен. — Борис Прокудин… Мы с ним вместе учились…
— Пей! — заорал Ванечка. — Пей, через колено ломанный!
Стакан с плодово-ягодным вином Семен Баландин держал на уровне пояса. В тишине было слышно, как стекло постукивает о нижнюю пуговицу пиджака, потом рука начала медленно вздыматься, и о стакан застучала следующая пуговица, потом еще одна, и так до тех пор, пока стакан не прижался мягко к обросшему щетиной подбородку Семена. И, наконец, донышко стакана медленно задралось. Пил Семен мучительно долго, стеная и задыхаясь, судорожно втягивая пустой живот. И когда донышко стакана сверкнуло пустотой, Баландин медленно начал падать спиной на Витьку, который успокоенно шепнул:
— Ничего, ничего, Семен Васильевич!
После этого Витька Малых привычно уложил Семена Баландина на захолодавшую траву, повернув его вверх лицом, чтобы не задохнулся, отрицательно покачал головой, когда Ванечка протянул ему полный стакан плодово-ягодного.
— Я больше не буду! — озабоченно сказал Витька. — Мне хватит, Ванечка! Ты гляди, что с Семеном Васильевичем-то делается…
И как раз в этот момент на западной оконечности небосклона погасла последняя светлая точка дня, похожая на раскаленный, остывающий пятак. Он сначала был желто-белым, затем все краснел и краснел, потом края подернулись синеющим холодком, а уж затем холод растворил в себе все красное и оранжевое. По-ночному сделалось на улицах поселка, отданного во власть прозрачного месяца.
— Ну, видел, кила поросячья, как деньги достают? — выпив полный стакан плодово-ягодного вина, вызывающе произнес Ванечка Юдин. — Видел, как с народом надо обращаться?! А ну, садись, я тебе буду случай рассказывать, какой со мной был, когда я еще такую соплю, как ты, пополам перешибал одним мизинцем… Садись, мать твою так, когда тебе старший начальник приказывает… Садись!
Было удивительно, что самый маленький, хилый и тщедушный из четверых приятелей пьянел медленнее всех, до сих пор сохранял ощущение реальности и даже чуточку трезвел, когда выпивал очередную порцию спиртного. Однако все это было так, и Ванечка Юдин, скомандовав Витьке Малых садиться, вдруг прошелся перед ним и лежащим на спине Семеном Баландиным цепкой кривоногой походкой.
— Ну вот слушай, кила коровья, кого я тебе стану рассказывать, — грозно сказал Ванечка. — Слушай, гада ползучий, да сиди тихо, ровно тебя тут и нету… Я это терпеть не люблю, когда меня всяка прокудина на ровном месте перебиват!
Рассказ Ванечки Юдина
— Случай этот самый произошел почти в самом начале войны, когда в точности произошло, того тебе знать не надо, как ты в сурьезном деле разбираешься так же хреново, как баба в рыбаловке. Мы, сказать тебе, сопля ты зеленая, тогда не то что в обороне стояли или наступление вели, а так себе — середка наполовинку, пришей нашей собаке хвост, подари ихней рыбе зонтик… Я тогда старшим лейтенантом был, френч у меня полковничий, на боку два пистолета — один вальтером прозывается… Значится, стоим мы не то в обороне, не то еще в какой холере, но только мне комбат утром по телефону звонит, я трубку левой рукой беру, четко отвечаю: «Чулым слушат, товарищ комбат, какие будут ваши распоряжения, товарищ Кеть?» Это я оттого так выражаюсь, что наш полк много обского народу имел — комбат и тот был колпашевский, так мы все родны реки себе забрали. Я, к примеру, «Чулым», комбат, как ты сам, гадость, понимаешь, «Кеть», комроты три, к примеру, «Ягодная»… Ну ты этово тоже, через колено ломанный, понимать не можешь… «Чулым слушат, товарищ комбат!» Это я ему через телефонну трубку говорю, а он мне сразу укорот дает. «Ты, — грит, — не слушай, а поглядай по сторонам, не ори, — грит, — зазря по телефону, как немцы у тебя под носом. Ты хоть, — грит, — и геройский человек, что за восемь месяцев прошедши от сержанта до старшего лейтенанта, но ты, — грит, — у меня арест или чего еще похужее схлопочешь!» Вот так комбат беседу со мной ведет, а мне это в приятность, это мне в радость — я сам был сурьезный, строгий, так и чужу строгость любил… «Этого, — говорю, — товарищ комбат, больше не повторится, стреляйте, — говорю, — меня из того вальтера, который я вам достал, если, — говорю, — такое повторенье будет место иметь. Простите, — говорю, — виноват, — говорю, — ваше замечанье принимаю, — говорю…» Он на это дело в трубку, видать улыбатся. «Ладно, — грит, — стрелять я тебя из вальтера не буду, тебе, наоборот, за него спасибо. Сам полковник Студеникин такого вальтера, — грит, — не имеет». Вот так мы разговор с майором, что из Колпашева, ведем, обои улыбамся, а потом он на приказанья переходит. «Ну, — грит, — подбери мне пяток обских ребят. Я, — грит, — с ними с ходу — в небольшу разведку. Надо, — грит, — немцев за вымя пошшупать, чего это они молчат, голосу не подают, словно их и нету, мать их за ногу!» Я отвечаю, как надо, по уставу: «Есть, — говорю, — товарищ майор, сполнить ваше распоряженье! Только, — говорю, — мне ребят нечего подбирать, как они, — говорю, — счас возле меня сидят и спорятся, кому остатний раз бычка курить. С куревом, — говорю, — так плохо, товарищ майор, что надо бы хужей, да некуда. У меня пулеметчики с утра не курены…» Он грит: «Знаю! Сделам! А кого ты со мной пошлешь, Юдин?» — «Как кого? Да Федьку Мурзина, да Петьку Колотовкина, да Генку Шабалина, да Анатольку Трифонова, да Олега Третьякова! Все, — говорю, — товарищ майор, наши чила-юльские, один другого охотник да рыбак лучшее, все, — говорю, — в орденах, как кедра в шишках!» Он говорит: «Это мне подходит! Хороший ты собрал контингент, Юдин!» Вот так он мне говорит, а я ему: «Будет сполнено!» После этого телефонну трубку швырк и тихонечко к тем ребятам подгребаюсь, которые из-за бычка спорятся. Ка-а-а-к гаркну: «Смирна! Пятки вместе, носки врозь!» Ну они взвились, н-н-у-у они подскочили, розно их крутым кипятком ошпарили! Однакоть стоят ровно, на меня геройским глазом зырят, сыколики, пятки вместе, носки врозь, а я перед ними хожу, тоже весь бренчу орденами да медалями. «Вот что, — говорю, — орлы-птицы, дело скучное, не разбери-поймешь: то ли мы в обороне стоим, то ли наступленье ведем. Не разбери, — говорю, — поймешь, пришей нашей собаке хвост, подари ихней рыбе зонтик». Они, само собой, молчат, дисциплину блюдут, но по зыркалкам вижу: заговорят в строю. «Вольно, — говорю, — вопросы имеются, не стесняйся, боевой народ, не боись своего командира — спрашивай». Ну, Анатолька Трифонов и спрашиват: «А чего ты смекнул, товарищ старший лейтенант?» — «А то, — отвечаю, — что в разведку вас подошлю. Сам, — говорю, — не пойду, как у меня наблюденья и командованья много, а вот майор из Колпашева, тот с вами пойдет». Они, само собой, говорят: «Ура!», «Да здравствует старший лейтенант Иван Юдин!» — говорят. И тут как раз прибегат колпашевский майор, и я, конечно, своему боевому народу даю дисциплину: «Пятки вместе, носки врозь!» А он: «Давай закуривай, ребята!» И вынает из кармана золотой парсигар — во такой! На-а! Значит, вынает парсигар и мне: «Закуривай, — грит, — Юдин, это тебе за то, что ты мне геройский народ собрал!» — «Спасибо, — отвечаю, — благодарю!.. Это же, — говорю, — довоенны „Пушки“!» Ладно! Он повдоль строю идет, народ осматриват, кого надо, проверят. Шустрый такой, веселый, одно слово, городской, колпашевский… А я «Пушку» курю — ну тебе как весело!.. Опосля того майор команду дает: «За мной, — грит, — по одному! Выходим, — грит, — к дороге Котбутс-Финстервальде…» Вот ты тако слово можешь выговорить — «Котбутс-Финстервальде»? Да ты и не старайся, дура богова, ты тако слово не то что сказать, а и понять не можешь! Ддд-а! Вот, значит, майор впереди, они — за ем, я — на месте. Стою, «Пушку» докуриваю, кругово наблюденье через стереотрубу произвожу, сквозь зубья матерюсь, как промеж нашей позицией и лесом место открытое. А он, немец, начинат оживать: постреливат, мины бросат, разные штуки производит. Это, конечно, плохо, но хорошо! «Кульманков, — кричу, — лутший снайпер моей роты, кричу, давай!..» Кульманков, конечно, из остяков, тоже наш, обской, белку дома в правый глаз бил… Ну, подгребат он ко мне с оптикой, тоже во все горло кричит, как был контуженый. «Кого, — кричит, — батька-матка, бить будем? Офицерье одно, — кричит, — или всех сподряд?» Он меня «батька-матка» звал, как я ему — командир. «Всех сподряд бей, — кричу, — давай не тяни, ребята через чисто поле бегут, а с имя колпашевский майор!..» Н-да! Начинат он немцев выцеливать, одного срезал, второго, третьего и кричит: «Батька-матка, дай, пожалуйста, закурить! У вас в парсигаре папиросы бар-бар?» «Бар-бар» — это по-ихнему, по-татарскому или по-остяцкому, вроде как бы «имеются»… «Бар-бар, — говорит, — хорошу папиросу…» Мать честна! Гляжу: колпашевский майор парсигар у меня забыл! Ты это пойми, како страшно дело произошло! Парсигар-то колпашевский майор у меня забыл! Стою я ни живой ни мертвый, на парсигар гляжу, и тут меня психическа мысля за ухо берет. Вот, смекаю, колпашевского майора смертельно убили, он умирать собиратся, перед ей, перед смертью, закурить хочет. В один карман — толк, в другой карман — толк, в остатний карман — толк! Парсигара нету! Ах ты, гадость, старший лейтенант Юдин! Это ведь ты, гадость, у меня парсигар увел! Дддд-а! Надо бы хужее, да некуда! «Ладно, — думаю, — где мой помкомроты?» — думаю. А он, гадость, в окопе сидит, храпит, гадость, в обои норки. «Как так, — кричу, — взбуживайся, — кричу, — примай командованье, Петька!» Помкомроты взбуживается, конечно, ни хрена не понимат, глазами лупат, но у меня — строгость, у меня — порядок, у меня — не моги! «Ладно, — грит, — примаю командованье, что, — грит, — прикажешь делать, Иван?» — «Как что? Веди наблюденье, Кульманкову давай заданье, дисциплину блюди, чтоб ни-ни»… Беру три гранаты, вальтер, каску вздеваю — и пошел!.. Бегу, само собой, зигзагой где надоть, к земле припадаю, в упавшем виде перекатываюсь, обратно бегу кривой зигзагой. Пули — вжиг-вжиг, миномет — ах-ах! Одна мина так близко взрыватся, что у меня морда вся в грязе, как утресь дожжина шел. Потом гляжу: двое немцев мне наперекосяк! Нда-а! Двое немцев, значит, мне наперекосяк шпарют, три немца, гляжу, с другой стороны заходють, а еще один чуток справа берет. Шесть человек на одного, а мне парсигар отдавать… Ну дела! И вот послушай, дура ты фенькина, како действия я произвожу, чтоб непремен майора достигнуть… Я, сопля ты зеленая, в лошшину не бегу, а наоборот, лезу на горушку, чтоб он, немец, — за мной! Кульманков-то, остяк-то нижневартовский, их в лошшине достигать не может, а на горушке — отдай! Нда-а! Покуда я по горушке кривой зигзагой шнырил, он-то, Кульманков, троих срезал. Значится, один немец теперь у меня слева, остатние наперекосяк лезут, но это мне — тьфу! «На кой хрен, — думаю, — он есть, старший лейтенант Юдин?!» Залегаю, автомат на одиночные ставлю и того немца, что слева, промеж глаз срезаю, второго — бью в грудя! Значится, теперь у меня один немец, который наперекосяк… Ну, этот шибко опытный! Издаля видать, что на возрасте и рыжий, а колпашевский майор с ребятками уже до лесу подбегают. «Это чего же, — думаю, — я их через этого рыжего не достану, образина ты фашистская?!» И тут я тако мероприятье произвожу, что мне бы надоть Героя Союза, а не то дело каблучить, что со мной колпашевский майор выстроил… Я, сухой ты немазаный, руки вверх вздеваю, встаю во весь росточек и немцу кричу: «Рус капут, бери меня шнель-шнель плен! Сдаюся, дескать, твоя взяла, образина ты немецкая, бери меня, дескать, с потрохами!» Ну, немец, гада рыжая, сперва боится на горушку вздыматься, соображат, сука, что его Кульманков срежет, а потом и смекает, гадость, что он мною, то есть старшим лейтенантом Юдиным, от Кульманкова, как щитой, прикроется. Ну, ползет ко мне немец скрытно, кривой зигзагой, перекатыватся, все, черт рыжий, умет и знат!.. Это тебе как? Это тебе, сопля ты зеленая, не с бабой вожжаться, не щеколад-кофе пить, не в кресле сидеть! Это тебе — война, это тебе — старший лейтенант Иван Юдин, это тебе — смерть в глаза заглядат! Способный был немец, умный, как утка, только отруби не ел. Он того скумекать не мог, что Кульманков-то белку в правый глаз бил, что Кульманков-то в мою измену сроду поверить не мог, что остяк-то нижневартовский мою хитрость с ходу понял… Ну, немец голову-то поднял, чтоб мне показать, как за ним в плен ползти, да вдруг и дернулся. Он только чуть-чуть дернулся, а я гляжу: заместо глаза — дыра! А с затылку шерстяна шишка. Ну, как быват, когда из овечьей шубы клок выдрали. Ддд-а! Догоняю колпашевского майора у самого лесу, за плечо его хвать, докладам: «Так и так, товарищ майор, разрешите парсигар вручить! Не мог я его, — докладаю, — ваш парсигар при себе держать, как курить вам тут с ребятами нечего, а вы подумать можете, что я парсигар нароком утаил!» Это дело у дальнего лесу было, здеся немец нас достать уже не мог. Майор на боку лежал, а тут на брюхо перевертыватся, на меня зырит и грит: «За парсигар спасибо!.. Ребята, — грит, — давай закуривай, а ты, — грит, — старший лейтенант Юдин, получи благодарность командования, что нас прикрыл!» Я, само собой, отвечаю: «Служу советскому народу!» Тогда майор опять: «Теперь дальше, — грит, — слушайте, Юдин! За одно дело вы, — грит, — благодарность получили, а за другое дело, — грит, — десять суток аресту! Па-а-а-а-вторить!» Я, само собой, режу: «Есть получить десять суток аресту!», а сам на него гляжу, как дите на мамку. Тогда он объяснят: «Это за то, — грит, — Ванька, что ты разрешенья на выход не имел!»
Теперь ты мне вот и скажи, на хрена мне этот арест был нужон? Вот ты мне и объясни, сопля морожена, по какой такой радости меня колпашевский майор до селезенок при народе припозорил? Рази я помкомроты не оставил, рази я курево не принес? А он «дисциплину нарушил!». Я по сию пору, как колпашевского майора встрену, голову на девяносто градусов ворочу, его в упор не вижу… Вот ты мне и скажи, где справедливость? Я ему парсигар, он мне десять суток! Это рази не гад? Вот ты скажи мне, рази он не гад, хоть счас завоблоно? Поди, думат, что я его с сердца снял, когда он мне сам орден на грудь вешал?… А я — нет! Я ему все помню!..
11
Разгоревшись, рассветившись напропалую, висела над сонным Чила-Юлом чуточку выщербленная луна, стояли на высоких ногах плоские тополя и осокори, и было видно уже, как хороша и прозрачна ночь, как сияет небо, как славно лежит под ним чистый, новенький поселок Чила-Юл, спокойно спящий перед длинным рабочим понедельником. Покой и мир, радость отдыха и счастье здорового утреннего пробуждения — все это легкими тенями лежало в притихших палисадниках, струилось в воздухе ночной прохладой, лунной желтизной прикасалось к посветлевшим бревнам домов, дышало снами за темными стеклами. Отдыхали до семи часов утра уставшие машины шпалозавода, река была недвижна, как озеро, сама луна ленилась, сонная, передвигаться по небу, и работящая земля перед ней вращалась медленно-медленно.
Окончательно протрезвевший Витька Малых ночного великолепия не замечал. Взволнованный и растерянный, он стоял на коленях между Семеном Баландиным и злобно усмехающимся Ванечкой Юдиным, переводя взгляд с одного на другого, не знал, как поступить, что сделать… Витька Малых не мог оставить на холодной земле бывшего директора шпалозавода, но ему было жалко и Ванечку Юдина, так взбудораженного собственным рассказом, что майка на нем была темна от пота, а лицо перекошено яростью.
Ночь, как нарочно, сияла великолепием. Луна была прозрачно-желтой, тени деревьев резки, словно начерченные китайской тушью, несколько разноцветных бакенов светились на реке неправдоподобными драгоценными камнями, дома казались плоскими, как декорации, тополя, березы и черемухи — вырезанными из жести, а трава — наклеенной на блестящую от луны ровную землю.
— Вставай, ты! — злобно крикнул Ванечка Юдин и пнул ногой бесчувственного Семена Баландина. — Вставай, чего развалился! Айда водку доставать!
Но Семен Баландин не шевелился, а сидевший возле него на траве Витька Малых с ужасом смотрел на кривляющегося Ванечку Юдина.
— Не хотите — один пить буду! — скрипнув зубами, прошептал Ванечка Юдин. — Один буду!
Он легко, не пошатываясь, злобно набычившись, пошел на Витьку Малых, начиная с этого свое грозное шествие по ночному поселку. Теперь Ванечка Юдин до трех-четырех часов утра будет голодным волком шастать по улицам, останавливаться возле всякого дома, где светится огонь, задираться с каждым, кто встретится на пути, гоняться за собаками, пинать коров, ночующих возле прясла, ломать молодые деревья в палисадниках. В поисках остатков водки или браги он станет врываться в дома, стучать кулаком по столу: «Я за вас, гады, кровь проливал!» И дело может кончиться тем, что его задержит участковый инспектор милиции Морщиков, страдая за Ванечку, до слез жалея его, оформит третий арест на пятнадцать суток, а после третьей отсидки…
— Ванечка, Ванечка, постой!.. — крикнул Витька Малых.
Но Ванечка Юдин уже уходил в сияющую лунность походкой пластуна-разведчика. Он шел так, словно намертво вцеплялся в землю кривоватыми ногами, подошвы отрывал от земли с таким усилием, точно сапоги были металлическими, а земля магнитной; голова у Ванечки была втянута в плечи, уши стояли по-волчьи остро, руки были глубоко забиты в карманы. Опасный он был, страшный, по-звериному неожиданный…
Витька Малых поежился, швыркнув носом, потер лицо двумя ладонями так, словно умывался. После этого он длинно-длинно вздохнул, ссутулился по-рабочему и озабоченно нагнулся над последним из приятелей:
— Семен, а Семен, давай будем вставать…
Семен Баландин, оказывается, не спал. Он неподвижно лежал на спине, глядя блестящими глазами в светлое небо. Сейчас у Семена Баландина было лицо умирающего старика, прожившего длинную и спокойную жизнь. Сперва старик умирал неохотно и тяжело, тоскуя, ворочался и ворочался, борясь с костлявой, а потом вдруг притих, присмирел, согласился умирать от такой смерти, которая походила на жажду сладкого сна. И вот уже обобрал себя старик прозрачными пальцами, приукрасился перед вечным покоем и, желая смерти, как сна после длинной жизни, в последний раз мирно глядел в небо — какое оно останется, когда он сладко заснет…
— Будем подыматься, Семен!
— Сейчас, Виктор! Повремени еще минуточку…
— Я бы погодил, да Анка ждет…
Была ночь перед рабочим понедельником. Давно затихли суетные мотоциклы, полчаса назад бесшумно укатил домой последний велосипедный мальчишка, парочки на скамейках сидели мертво, шла по тротуару на бесшумных подошвах девчонка из тех, кого никто не провожает, стояла мягкая тишина…
— Идти надо, Семен Васильевич…
Витька зашел за спину Баландина, просунув руки под мышки, поставил его на ноги, затем ловким движением забросил руку Семена себе на шею, обняв бывшего директора шпалозавода за талию, сделал первый пробующий шаг — все было хорошо! «Минут за десять доберемся!» — весело подумал Витька и одобрительно сказал:
— Вот какие мы молодцы! Теперь нам подня-я-я-ться на тротуарчик, пойти ро-о-о-о-вненько… Вот так! Молодца, Семен Васильевич!
Они пошли по белому от лунного света тротуару. Конечно, Семен Баландин все-таки немножко покачивался, ноги у него подкашивались, тело обвисало, но разве можно было сравнить сегодняшнее с прошлым воскресеньем, когда Витька Малых тащил на загорбке неподвижное тело бывшего директора! Сегодня была не ходьба, а разлюли-малина, одно блаженство, пустяковые пустяки, и Витька Малых улыбался, радуясь за Семена, зорко следил за тем, чтобы доски тротуара под Баландиным были ровные, чтобы шел он гладким путем. Ах, как было все хорошо, как удачно!
— А вот и аптечка, Семен Васильевич! Вот и до аптечки дошли!
Остановившись возле ярко освещенного окна аптеки, Витька снял руку с талии Семена Баландина, выполняя привычные операции, осторожно зашел вперед, чтобы Семен мог опереться на его плечи.
— Иди смело, Семен Васильевич! Не бойсь: не упадешь!
В аптеке было светло и чисто, пахло всеми лекарствами сразу, а аптекарша Клава отсутствовала — она целовалась в соседней комнате с Володькой, сыном учительницы Садовской.
Витька заботливо приставил Семена Баландина к высокому прилавку, слегка придерживая его рукой, стал терпеливо ждать, когда аптекарша нацелуется. Слышно было, как Клава смеялась, как Володька называл аптекаршу «ласточкой», а в перерыве между поцелуями пел что-то очень веселое.
— Здрасьте, Клава! — очень вежливо поздоровался Витька Малых, когда аптекарша наконец вышла. — С благополучным дежурством вас!
Аптекарша Клава была такая красивая и голая, что Витька боялся на нее глядеть: грудь аптекарши была обнажена чуть ли не до сосков, юбки почти не существовало, а губы всегда были влажные, словно Клава постоянно целовалась. Сейчас аптекарша беззастенчиво закалывала растрепанные волосы, а пуговицу на груди застегивать не спешила.
— Мы вот пришли, — тихо сказал Витька. — Я и Семен Васильевич…
— Ничего спиртного продаваться не будет! — заученно проговорила Клава. — Без рецептов ничего не отпускается, не продается. Если есть рецепт, лекарство продается, отпускается, выдается…
Выслушав это, Витька застенчиво улыбнулся, но ничего не сказал, чтобы не помешать Семену Баландину, который уже начал делать то единственное, что можно было делать в его положении, — глядеть на Клаву глазами смертельно больной собаки. Подбородок бывшего директора лежал на растопыренных ладонях, ноги он широко расставил, чтобы не упасть, спина у него торчала остро, как у конька-горбунка. Семен Баландин опять зябко дрожал, и от этого высокий прилавок раскачивался.
— Без рецептов… — бормотала аптекарша Клава, — …ничего не выдается, не отпускается, не про… Бог же мой, Семен Васильевич, что вам сегодня надо?
— Флакон одеколона «Ландыш» и две бутылочки аралии или стланика… — очень четко произнося слоги, медленно проговорил Семен. — Если есть календула, то… две бутылочки настойки календулы!
Семен Баландин снял дрожащие руки с прилавка, вытащил из кармана потертый и грязный замшевый бумажник. Раскрыв его, он достал завернутую в клочок газеты стопочку монет, сложенных аккуратно: двадцатник к двадцатнику, гривенник к гривеннику, пятак к пятаку, трешка к трешке, двушка к двушке.
— Девяносто семь копеек, — сказал Семен.
— Правильно! — согласилась Клава. — Одеколон «Ландыш» — пятьдесят семь копеек, два пузырька календулы — сорок… Девяносто семь копеек!..
Минут через десять Витька Малых и Семен Баландин осторожно подошли к дому бывшего директора шпалозавода. Крупное здание опоясывала мрачная темнота, на уличной стороне дома окна были крест-накрест заколочены досками, в палисаднике не осталось ни одного живого кустика — все высохли. Болтались под скатом крыши два провода, так как у Семена Баландина отрезали домашний телефон, а забора вокруг дома не было, надворных построек тоже — их бывший директор сжег в зимней жадной печке.
Дверь дома была не заперта; из сеней они попали в длинный, широкий коридор — со скрипучими полами, пылью, запустением, запахом тлена и гниющих овощей. Потом пыльная лампочка без абажура осветила грязную, захламленную комнату — одну из четырех; серый, в жирных пятнах матрац без простыни, щелястый пол, стол без скатерти, на котором стояли бутылочки из-под одеколона и настоек календулы, аралии и стланика; здесь же стояла глубокая тарелка с отломанным краем и закопченный чайник без ручки.
— Вот и доехали! — весело сказал Витька Малых. — Пузыречки мы поставим вот сюда, ботиночки надо сразу снять, пиджачок тоже, а носочки… Их надо простирнуть, Семен Васильевич… Давайте я их Анке отнесу.
Приговаривая и улыбаясь, Витька уложил Баландина на грязный матрац, не получив согласия насчет грязных носков, завернул их все-таки в газету и заторопился домой.
— Спокойной ночи, Семен Васильевич, бывайте премного здоровехоньки!
Выключив свет, Витька Малых на цыпочках вышел из дома Семена Баландина и быстро-быстро помчался по деревянному тротуару — спешил очень к своей молодой жене Анке, давно дожидающейся его возвращения. Витька бежал так быстро, что луна тоже не удержалась — побежала вслед за ним, подпрыгивая именно тогда, когда подпрыгивал Витька, исчезая в тот миг, когда он проваливался в ямины неровной дороги.
12
Жена Анка еще не спала, а, наоборот, сидела на крылечке казенного дома, тихонечко беседовала с кем-то и даже воркующе смеялась; сначала — издалека — Витька не мог понять, с кем это Анка мурлычет, но когда приблизился к калитке, то удивился: рядом с Анкой сидела старая старуха Кланя Шестерня, опираясь на палку.
Веселая Анка старуху слушала внимательно, хохотала охотно, отклоняясь назад и, освещенная крылечной лампочкой, показывала два ряда белых зубов. Считающий бабку Кланю Шестерню смешной и забавной, Витька радостно остановился в калитке, загодя бесшумно смеясь, услышал скрипучий голос старухи:
— Твой-то взрачный, работяшший, наживной, все при нем, голуба моя льдиночка, но он у тебя сопьетси в само коротко время… Вот ты на меня, Анют, веселым глазом глядишь, зубы перламутровы кажешь, а он у тебя сопьетси как пить дать…
Набегавшаяся за день по деревне бабка Кланя Шестерня казалась все такой же шустренькой и даже голову держала выше обычного, хотя по-прежнему походила на громадную шестерню — эта сгорбленная спина, эти локти, эти лопатки, этот острый затылок…
— Давай, бабуль, давай! — весело закричал Витька старухе. — Давай наводи критику. Это я расчудесно люблю!
Закрыв за собой скрипучую калитку, Витька было побежал к жене и старухе, но неожиданно для самого себя приостановился, зачем-то поглядев в землю, пошел к крыльцу медленно. Он приблизился к Анке, хихикнув, ткнул ее пальцем в круглое колено и сказал:
— Здоров, Анка!
Было понятно, что Витька стесняется при свете долго глядеть на высоко открытые ноги жены, робеет при виде ее немного обнаженной маленькой груди. Поэтому он совсем смутился от присутствия бабки Клани Шестерни, сев рядом с Анкой, сказал развязно:
— Ну ты давай, бабуль, дальше рассказывай, как я сопьюся. Это мне шибко интересно будет послушать…
Ночь стояла сказочная. Небо теперь было бархатисто-зеленым, звезды тонко розовели, горизонт отливал голубоватым, луна была похожа только на луну и больше ни на что, а с рекой Обью произошло ночное чудо: вздыбившись к нему, она аркой отраженных звезд стояла над поселком Чила-Юл. Мирно и тихо — по привычке — лаяли собаки, и голоса их были по-сонному хрипловаты.
— Ты, льдиночка моя зеленая, дурак! — неожиданно сердито сказала бабка Кланя Шестерня. — Мало того, что ты самолично дурак, ты, окромя того, дураком, ровно одеялом прикрывашься, лежишь на дураке, ходишь под дураком и унутрь дурака потребляшь. Ты, льдиночка моя, знашь, как быстро сопьешьси?… В два года! Вот дай-ка я тебя глазом окину… У бабки Клани Шестерни на того, кто быстро спиватся, глаз-алмаз! Ну-кось, придвинь к бабке мордоворот и руку мне дай…
Скрюченными, костистыми пальцами бабка схватила Витьку за руку, отталкиваясь от крыльца палкой, еще немного выпрямила перегнутый старостью позвоночник, и Витька Малых впервые увидел глаза бабки Клани Шестерни. От неожиданности он всплеснул руками, восторженно захохотал:
— Ну, ты, бабка, даешь! Ну, ты шустра!
Серые глаза бабки были веселы и молоды, за восемь десятков лет не потеряли яростного цвета, были драчливыми и мудрыми одновременно, смешливыми, как у конопатой девчонки, и пронизывающими, как у знахарки; это были такие глаза, от которых становилось весело-превесело, спокойно-преспокойно, уютно-преуютно.
— За два года сопьешься, парнишша! — спокойно сказала Кланя Шестерня. — Грудка у тебя не так широка, как узка, нерв не такой сильный, как слабый, головеночка не так кругла, как дынечкой… Ко всему ты, Витюшк, в жизни интерес имеешь, все тебе мило, кажно дело старательно производишь… Значит, сопьешьси! Ты это, Анют, возьми на замет…
И тогда, захохотав навзрыд, упала грудью на крыльцо действительно светлая и прозрачная, как льдника, жена Витьки Малых — нарымчанка Анна. Молодая женщина смеялась от души, вытирая в уголках глаз восторженные слезы, — так тешило ее предсказание бабки Клани Шестерни. Да как было и не хохотать Анке, если она выросла в доме, где без водки не садились за стол. Родной отец Анки, старый сплавщик, всю жизнь выпивал перед едой здоровенный стакан водки, на праздники уничтожал по две бутылки, но никто не видывал его пьяным. Старик до сих пор не ушел на пенсию, хотя достиг шестидесяти девяти годов, был здоров и могуч, как старый осокорь; водка доставляла ему отдых после трудной работы, зверский аппетит и радость, и Анка за много лет привыкла к тому, что от ласкового, доброго, веселого отца остро попахивает алкоголем, и этот запах ей был привычно мил, как запах детства.
— Ты тоже скажешь, бабуся! — нахохотавшись, воскликнула Анка. — Сопьется! Разве Витюшка не мужик? Так чего же он не может в нерабочее время выпить? На свои пьет, не на чужие!
Распрямленная бабка Кланя Шестерня глядела на Анку грустно. У старухи было такое выражение лица, словно она хотела укоризненно покачать головой, но не могла сделать этого из-за неподвижной шеи.
— Твой сопьетси! — печально сказала бабка. — Он на моего второго мужика смахиват: тоже такой открытый, как русска печка при гостеванье… — Она вдруг светло улыбнулась. — Ежели желаити, я вам про своих мужиков расскажу… Вот почему я за пьяными доглядаю да спуску не даю? А через то, что я трех мужей от водки потеряла, через нее сиротой бездетной осталась… Может, на всю область другой такой нету, как я, бабка Кланя Шестерня. Я всегда с пьяными сражаюсь, как знаю, какое горе от водки быват…
Рассказ бабки Клани Шестерни
— Я, может, одна така на всю область, что мои три мужика от ее, проклятой, на нет свелись, мне детишек не заделали, сиротой оставили, до временного-времени сгорбатили… Мне теперь, по слухам, поболе восьмидесяти годков, но я горбата на сотню или того похужее, а ведь это все от нее, от проклятой!.. Первым мужиком у меня купца Кухтерина приказчик был. Богатый не богатый, но дом в Чила-Юле об двенадцати окон держал, трое коней в санки закладывал, на жилетке — цепа, а как революция содеялась, к генералу Колчаку ушел, я — чуждый алимент!.. Первого моего мужика звали Федюха, сам белый с головы, ус длинный, черный, закругленный, а споился он от моей красоты и веселого нраву… Это я не шуткую — мне шутковать гнута спина не разрешат! Однако в молодости красиве и веселе девки не было, чем Кланька Мурзина! Волос у меня до колена, глаз у меня крупный да серый, нога подо мной круглая, прямая, щека — захоти да не ушшипнешь! Хожу я по бережку, ровно пава, на каждого мужика не поглядываю, на кофте у меня пуговица не держится. Мой Феденька от радости кажный день язык глотат, меня княгинюшкой зовет, всем за меня хвастат и такой веселый, что за стол без водки не садится. Я ему кажный завтрак, кажный обед, кажный ужин песни пою, хожу при шелковой шале, ботинок на мне — до колена, кофта белым-бела, на груде — кружев, на бедре — шелковый панталон, как у городских купчих. Голос у меня звонкий — самой ушам больно! Я и городски песни знала, про то пела, как соловьем залетным или про рысаков… Где я этим песням научилась, сама не знаю, а Федька-то прям алмазной слезой исходит, как я пою: «Были и мы когда-т рысаками…» Я ему кажный день пою, мы из постели до полудня не вылезаем, губы у нас побитые, глаза у нас провалились, мы обои с лица чернем, но я все пою, я все пою да пою… «Были и мы когда-т рысаками…» Скоро сказка сказыватся, не скоро дело делатся, только начал мой Феденька при любой погоде пить и, льдиночка ты моя прозрачная, в одногодье до того с кругу спился, что меня узнавать под утро не желаит. Все ходит по горнице да так жалобно кличет: «Где ты есть, моя княгинюшка, где ты есть, моя соловушко?» Я ни жива ни мертва лежу, ему про то, где я есть, сказываю, но он мои слова во вниманье не берет, в печку и подпол заглядыват, глаз у его нету — одни белки. И вот мово родного Феденьку к купцу Кухтерину везут, на три дня в баню садют, паром и квасом пользуют, но это дело Феденьке не помогат — он все меня ишшит, а найти не может и на людей уже бросатся… Потом совсем пропал пропадом мой мужик. Где обретался, неизвестно; полтора года я все реву да плачу — нет его. А тут генерал Колчак и с ним мой Феденька объявлятся ночью при офицерских штанах. Я к нему на грудь от радости пала, реву, как недоена корова, а мой родитель да братовья — за берданы и топоры, как они есть красны партизаны… Я от родителя и братовьев Феденьку спиной горожу, хочу за лапушку смерть на свои грудя принять, а он, не будь дурак, сиганул в окно — и нет его, Феденьки… Я его год ждала, второй хотела ждать, как сообчают, что он, Феденька-то, застрелимшися от перепою… Его партизанска пуля не взяла, мой родитель с братовьями его не достигли, а она, проклятая, его порушила… Плакала я сподряд три дня и три ночи, белы щеки расцарапала, волос клочком с головы драла, тонки пальцы ломала, да что поделашь, льдиночка, когда любый-разлюбый в сырой земле полеживат… Одним словом, как церковно время прошло, на мне партизанский повар Еремей обжениватся… Этот мужик славно-тихой был, все больше дома сидел, возле печки рану грел, бывало, все возле пупа чешет поверх рубахи, а на меня, ровно на икону, глядит. Работал он с утра до вечеру, на одной хромой кобыленке десять десятин поднял, а вот песни мои не любил. Как я, бывало, про рысаков запою, он сразу с лица белый делатся и зубьем скрипит: «Не могешь ты его, гниду колчаковску, забыть!» А ежель я из дому куда уйду, он от ревности зеленет… Ну и почал пить! Раз — пьяный, друго раз — пьяный, третий — пьяней пьяного. Я себя держу, но сладу мне с собой нет: все Феденьку вспоминаю, какой он веселый был. Я Еремею про милого Феденьку слова не говорю, но он сердцем чувствоват, когда я прежнего мужика в память беру, и еще пуще прежнего запиват… Еремей быстро спился! Я от его сама убегом убежала — он меня поколачивать начал. Я три весны в холостяцкой жизни обреталась, на все гулянки хаживала, хахалей имела, но до себя на кровать не пущала, как мне это дело после Еремея хуже смерти было… Ну а в двадцать шестом годе меня взял партейный. Сам из городу, все книжки прочел, с товарищем Калининым за ручку ручкался, кажно второ слово у него — не понять, а сам сурьезный да расчудесный. Я его шибко уважала да любила, как он и мужик был, и при авторитете, и детишек хотел от меня иметь, хотя не поспел… Этого мужика звали Есиф, по фамилии он прозывался Кацнельсон, из евреев, а они ее, проклятую, в рот не берут. Однако, льдиночка ты моя золотистая, это те из евреев ее, проклятущую, в рот не примают, какие меня, дуры, не прикасаются! Я, льдиночка ласковая, себе дурой за то покликала, что свого родного Есифа сама сгубила… Я-то, с двумя пьянюгами намучившись, при родном мужике Есифе такой манер завела, что, как про водку речь, так я — на дыбки! Скажем, приходит мой Есиф домой, я нюхну — вроде самогонкой шибат! И вот я на родного моего Есифа криком кричу, ногам топочу, суседей сзываю. А ему от этого дела — позор! Он партейный, он с товарищем Калининым за ручку ручкался, он в светлую коммунизму идет. А мне останову нету! Ну, нету мне останову, как слепой кобыле, когда ее шоршень под хвост чокнет! Он, скажем, на собранье, а мне грезится — пьет, он, к примеру, агитацию разводит, а мне обратно — пьет! Бегу это по улице, сама простоволоса, его до черных глаз люблю, над ним, голубчиком, вся дрожу, а у самой рот до ушей: «Ратуйте, народ, у меня третий мужик спиватси!» А кулака тогда много было, ему, кулаку, Есиф — нож вострый, он кулаку — кость в горле. Вот и приезжат на субботу городской мужик при коже да при нагане… Вот приезжат он — и ко мне: «Как пьет? Скоко пьет? Шибко ли напиватся?» А позади меня семеро мужиков из кулачья, бороды вот каки, сами пьяны, а говорят: «Кажный день пьет!» А мужик при коже и нагане головой качат: «Ах, ах, товарищ Кац-нель-сон! Не думал, что тебя мел-ко-бур-жу-азна стихи-я одолет!» И грозит мово родного Есифа сключить с партейных, и велит ему ехать отсюдова… С тех поров я взамуж не выходила. В деревне уж известно было, кто с Кланькой сойдется, тот станет горький пьяница. Вот оно каково быват, льдиночка ты моя светлая… А остатнюю жизнь так живу, что за чужими мужиками доглядаю. Я им покоя не даю, я на их баб натравливаю, сна-покоя лишаю, когда какой мужик много пить начинат… Я, может, одна така на всю область, что от водки трех мужиков лишилась!
Луна висела неподвижным фонарем, аркой стояла река, тишина была такой полной, что собачий лай растворялся в ней, как капли чернил в море, и на крыльце, где сидели трое, было тоже тихо, уютно. Молодые глаза бабки Клани Шестерни блестели, руки на палке лежали спокойно, голос к концу рассказа потерял обычную ворчливость.
— Вот каково быват, ластонька! — повторила Кланя Шестерня. — А ты говоришь: твой не сопьетси!
Славно улыбался Витька, славно смеялась его жена Анка. Сидели они рядом, тесно прижавшись плечами друг к другу, похожие друг на друга — толстогубые, простые, открытые, такие молодые, что моложе быть невозможно, и такие добрые, что казались детьми.
— Береги свово! — ласково сказала бабка Кланя Шестерня. — Он парнишша хороший, душевный. Тебе с им долго жить, остерегай его, Анют, пушше глазу…
Еще немного помолчав, Кланя Шестерня согнулась, застукотив палкой по дереву, пошла домой. А Витька и Анка еще сильнее прижались друг к другу, перестав дышать, долго сидели неподвижно. Потом Витька повернулся к жене, засмеявшись, поцеловал ее в лоб тихим поцелуем; затем он взял ее руки в свои, поглядев в светлые глаза, начал гладить гладкую щеку пальцами, приговаривая:
— Ах ты, Анка, моя Анка! Ах ты бабеночка моя, ты бабеночка!
Она ласково и нежно ежилась, вытягивала губы, прижималась к мужу плечом и коленями, все ниже и ниже наклоняла голову, затем, наоборот, подняла ее, усмехнувшись по-детски, прошептала Витьке в подбородок:
— Ты у меня ласковый, когда выпьешь… Вот всегда был бы такой…
Она положила голову мужу на плечо, затихла. Ночное время струилось медленной Обью, движением размашистого хвоста Большой Медведицы, падающими звездами — вот одна упала, вот покатилась вторая… Июль! В конце июля и начале августа в нарымских краях звезды падают часто…
13
На кривых ногах, ссутулившись, шел по ночному Чила-Юлу пьяный Ванечка Юдин. Сунув руки в карманы, он плотно прижал локти к бокам, подошвы дырявых ботинок к земле прислонял осторожно, словно пробовал, крепка ли земля, способна ли удержать маленькое, жилистое тело.
Чила-Юл давно спал беспробудно: по всей длинной улице уже не светилось ни одного огонька, не чуялось ни одного движения; лаяли собаки, мычали по-ночному коровы, овцы коротко мекали, отчего-то просыпаясь, чего-то боясь. Из открытого окна ближнего дома, забытое, проливало звуки полуночное радио.
Все спали в Чила-Юле.
Страшный в одиночестве, с блестящими, неутомленными глазами двигался по поселку Ванечка Юдин. Бесшумно миновав четыре темных дома, он начал замедлять шаги перед пятым; еще больше ссутулился и сжался, когда заметил, что окна пятого дома доверчиво и широко распахнуты. В палисаднике шелестела рябина, свечечками стояли голубые ели, иглы их были маслеными от лунного света. В открытых окнах пошевеливалась сонная тишина, медленно выползало из них мерное покачивание маятника больших часов, и мерещилось, что дом дышит сонно и глубоко.
Ванечка бесшумно подошел к окну, приложив ухо к невысокому подоконнику, прислушался — трещало сухое дерево, стучали часы, ударяло сердце в груди самого Ванечки. Прислушиваясь, он поднял голову к небу, увидел, как вдруг скатилась с вершинки Большой Медведицы звезда, чиркнув по темному небосклону, погасла, как сырая спичка. Ночь еще потемнела, стало видно, как набухает Млечный Путь, похожий на бесконечную дорогу.
Сердце стучало в груди звонко, часто, громко, словно не принадлежало Ванечке.
— Вера! — позвал он. — Вера!
Удары собственного сердца отдавались в висках, пронизывали все тело, словно через Ванечку пропускали медленный электрический ток.
— Вера!
Удары сердца сливались с ударами маятника больших часов. Ванечке уже казалось, что он весь начинает раскачиваться из стороны в сторону, как маятник, и задевает за голубые ели, за пышную рябину. Он закрыл глаза и подумал: «Я шибко пьяный!»
— Вера! — тонко крикнул Ванечка. — Вера!
Темный дом был пуст, как лунная река: в нем жил только длинный маятник больших старинных часов, а жена Ванечки, боясь возвращения пьяного мужа, ушла с детьми ночевать к соседям. Можно было только гадать, какой из десятков сонных домов приютил их.
— Вера! — в последний раз шепнул Ванечка. — Вера!
Дышать было нечем. Он по-рыбьи открыл рот, царапая пальцами грудь, наконец-то хватил глоток свежего ночного воздуха, до тех пор держал его в легких, пока не прояснилось в глазах. Ванечка хрипло засмеялся, медленно, осторожно развернувшись, начал выламывать из городьбы осиновую стежину. Забор скрипел и шатался, высохшее дерево хрустело, но не поддавалось. Ванечка долго не мог разодрать мягкую осину, все скрежетал зубами, широко расставлял ноги, чтобы не завалиться на спину, когда отломит стежину.
— Есть, — наконец прохрипел он.
Постояв на месте несколько секунд, Ванечка широко размахнулся, хэкнув, забросил в огород осиновую палку и только тогда почувствовал, что стало легче — можно было дышать и даже двигаться, и он пошел по улице, не понимая, куда идет, зачем идет.
Только метров через двести, в том переулке, который вел самым коротким путем к реке, Ванечка вспомнил десять велосипедных солнц, тупой голос Устина Шемяки: «У Цыпылова в кране четверть спирта. Чего-то там промыват…»
Четверть спирта! Ванечка ускорил шаг. Теперь у него была цель, надо было скорее ее достичь. Искать больше было нечего, и походка у Ванечки переменилась — он шел теперь четким, ровным, деловым шагом, безошибочно сворачивал в нужные переулки, ловко перелезая через плетни, и наконец вышел к реке, туда, где работал на кране Борис Цыпылов, где была четверть спирта.
Но, достигнув наконец этого желанного места, выбравшись из узкого проулка на берег реки, Ванечка вдруг остановился так резко, словно наткнулся на препятствие. Он даже попятился, опасно пошатнувшись, едва не потеряв равновесия.
Казалось, к чила-юльскому берегу причалил навсегда дневной белый пароход, облитый солнцем и музыкой, а между рекой и серой туманностью Млечного Пути навсегда остановились белые чайки. Из лунной воды вздымалось в небо металлическое и ажурное, подвижное и живое. Недосягаемую его вершину венчал красный огонек, ниже — посередине между огоньком и водой — над бездной висел белый человек. Трудно было понять, на чем он сидит, за что держится вытянутыми руками, что делает, паря в воздухе.
Это сидел в стеклянной сквозной кабине крановщик Борис Цыпылов. Над головой его слепящим глазом горел прожектор, а когда Цыпылов прикасался к чему-то рукой, все металлическое, ажурное всей громадой повертывалось, наклонялось, вздымалось, двигалось.
Вот огненный глаз увидел на кромке рейда белые, как раскаленные куски металла, шпалы, ощупав их со всех сторон, нацелился, опустилась стрела, и поплыли раскаленные полоски сквозь холодный воздух. Затем огненный глаз увидел в темной воде огромную пустую баржу, раскалив и ее добела, небрежно бросил горячее на горячее. А через секунду равнодушно и бегло озирал пустое небо, пустую реку и пустой берег.
В кране что-то жужжало и вспыхивало, что-то билось и помаргивало; каждой своей металлической частичкой громадный и ажурный кран был связан с просквоженной кабиной. Стоило Борису пошевельнуть пальцем, как мог умереть огненный глаз, опасть хобот с красным огоньком, обреченно распластаться по воде.
Съежившись, согнувшись, Ванечка Юдин медленно приближался к погрузочному крану, боясь, чтобы прожектор не нагнулся к нему, Ванечка сначала крался под высокими штабелями, потом боком, осторожными ногами наступил на конец трапа, соединяющий берег с краном. Огненный глаз по-прежнему занимался раскаленными полосами шпал, заботился только о том, чтобы они укладывались в раскаленное нутро баржи.
Ванечка почувствовал дрожащий, теплый металл, запах краски и электрического напряжения. Подрагивающие лесенки вели вверх и вниз, металлические поручни переплетались, металл двигался во все стороны, вращался и соединялся, разъединялся и вращался; все вокруг гудело и шелестело, отовсюду струилось тепло, все казалось опасным — болты толщиною в руку, зубчатые шестерни, сверкающие маслеными плоскостями, скольжение металла по металлу, снующие рычаги и светлая медь.
Поручни узкой лестнички, ведущей вверх, дрожали, как деревья на ветру, по металлу катились электрические отблески, и казалось, что лестница сама движется вверх, как эскалатор, и что к ней опасно прикасаться. Однако Ванечка чувствовал, что именно эта узкая и опасная лестница ведет к Борису Цыпылову, к сквозной кабине, к теплому красному огоньку и к тому, что влекло Ванечку на кран, — к большой четверти со спиртом.
Опять сжавшись, согнувшись в три погибели, чтобы не мешать вращающемуся, гудящему, скользящему, соединяющемуся металлу, он сделал два осторожных шага вперед, наступив на кромку движущегося круга, поплыл в темень и пустоту, инстинктивно ухватившись за какой-то металлический выступ. Его понесло на металле к черной воде, вознесло над бездной, повлекло дальше в ночь, в редкие огни обского левобережья. Потом металл остановился, вызвав у него головокружение, секунду постоял неподвижно — послышался стук шпал, падающих в трюм баржи, затем раздалось легкое гуденье, и Ванечка поехал в обратную сторону. Прильнув к металлу, судорожно держась руками за какой-то теплый выступ, Ванечка ездил вместе с поворотным краном до тех пор, пока кран не остановился.
«Катаюся!» — пьяно подумал Ванечка.
— Катаюся! — крикнул он крану, реке, темному небу. — Катаюся!
Ванечка заторопился, бросился к подножию лестницы, ведущей наверх, схватился за вибрирующий металл обеими руками, начал торопливо переступать ногами. Но скоро он понял, что наверх подняться не может: ноги скользили по металлу, срывались, дрожащие поручни сами отталкивали руки назад, и Ванечка скрежетал зубами, обливался потом — лестница не пускала наверх. Он было кинулся к ней снова, собрался вцепиться руками выше прежнего, но мелькнула тревожная мысль: «Не успею». В кране опять назревало движение, что-то опасное, неуловимое происходило вверху, готовно гудело, и он попятился, сошел с вращающегося круга. Трубно прогудела сирена, огненный глаз равнодушно глянул в пустое небо, и кран опять поплыл, задвигался.
— Цыпылов! — закричал Ванечка. — Цыпылов!
Крановщик висел в густом и темном воздухе — светлый и легкий, насквозь просвеченный.
— Цыпылов! — кричал Ванечка. — Цыпылов!
Крановщик не слышал его. Он и сам не слышал себя в гудящем воздухе.
Опять сдвигался и раздвигался металл, зияла бездна. Ванечка пошатнулся, держась за трап руками, пополз к берегу, извиваясь и чувствуя, как на затылке поднимаются от страха волосы.
14
Витька Малых, укладывая спать Семена Баландина, забыл поставить в изголовье кровати стакан с водой, и в третьем часу ночи, очнувшись от забытья, Баландин ощутил такую жажду, что стало узко в горле. Боясь пошевелиться, открыть глаза, он перестал дышать и продолжал лежать неподвижно.
Кожей он чувствовал лунный свет на лице, большой желтый квадрат давил на ноги, покрытые грязным пикейным одеялом, одинокий лунный блик распрямил ладонь правой руки. Было душно, сыро, пахло водочным перегаром, изгнившей селедкой и пустотой. Самыми живыми, освещенными предметами, видимыми через плотно сжатые веки, были стоящие на табуретке одеколон «Ландыш» и настойка календулы; бутылочки ярко светились белыми кружевными колпачками, от них было спокойно левому плечу, левой, безлунной щеке, сжатым в кулак пальцам.
Хотелось умереть. Вспомнилась полуденная река, услышался гортанный крик чайки, рассыпалось искорками по лесу солнце… Тихонечко опуститься в зеленую воду, не двигаясь, с открытыми глазами пойти ко дну, прикоснуться щекой, роговицей зрачка к прохладной водоросли, поежиться от прикосновения медленной рыбы; тело исчезнет, растворится боль, отодвинутся от сердца концы острых иголок… Сделаться теплым, как вода, уходить все дальше и дальше от солнца, крутого обского берега, людей, домов, бесконечной улицы с деревянным тротуаром… Он застонал, зашевелился, услышал, как на мягких звериных лапках сходится в темный угол комнаты тишина.
— Плохо! Ох как плохо!
Стоит тонким иглам вонзиться еще на миллиметр, придвинуться к центру, покачаться из стороны в сторону…
Он открыл глаза.
— Охо-хо-хо!
Окно сладострастно изогнулось, медленно встало на дыбы, пол, наоборот, оставался горизонтальным, но приподнялся, как бы вспухая, приблизился к подбородку Семена; еще через секунду-другую начал медленно падать на грудь щелястый, с балкой-крестом, бесконечно вытянутый в длину потолок. Комната сдвинулась, суживаясь, хотела сомкнуться вокруг головы и глаз, но вот движение замедлилось, так как среди сближающихся стен, потолка, пола возникло дрожащее, как марево, волнообразное существо без конечностей.
— Аа-а-а!
Голова пухла, раздвигалась, увеличивалась с той же медленной скоростью, с какой уменьшалась комната. Ожидая, когда они со звоном встретятся, Семен отстраненно наблюдал за волнистым существом. Оно мерцало зеленым фосфоресцирующим сиянием, струилось, было полупрозрачным, поэтому сквозь него все видимое казалось искаженным — окно радостно изогнулось в обратную сторону, луна перестала быть кособокой, а черемуха за окном, потеряв ветви, сделалась прямой и гладкой, как телеграфный столб. Широко и старательно открывая губастый рот, волнистое существо пело: «На побывку едет молодой моряк…» Семен перевел взгляд в темный угол — угол пел басом: «…грудь его в медалях, ленты в якорях»; он поглядел на спинку кровати — она запела тенором: «Над рекой, на косогоре, стали девушки гурьбой…»; он глянул на спокойно приближающийся потолок — тот пропел дискантом: «Здравствуй, — все сказали хором, — черноморский наш герой…»
Комната все уменьшалась и уменьшалась, голова все увеличивалась и увеличивалась…
Шатаясь, Семен поднялся, держась руками за спинку кровати, досадливо отмахнулся от волнистого, прозрачного существа — оно мгновенно присело на стол, заколебалось. Скользя по стенке спиной, крестообразно раскинув руки, чтобы не упасть, Семен приблизился к ведру с тухлой водой, зачерпнув кружкой, снова по стенке вернулся к кровати. «Я сегодня не умру! — подумал он, когда удалось удержать в пальцах бутылочку с мутной жидкостью. — А пробка? Ну что пробка?… Я ее выну!»
Волнообразное пропело: «Ходит-бродит он меж ними, откровенно говорит…»
Отвинтив зубами пластмассовые пробки и вылив содержимое бутылочек в кружку, Семен перестал смотреть на видение и подумал: «Мало осталось пробкового дерева… Однако и заменители неплохи!» Потом он закинул голову, широко открыв рот, начал выливать в него смесь так, словно наполнял замкнутый сосуд, то есть боялся глотать, но и тревожился за то, что может пролить мимо. Когда же рот наполнился достаточно, он заставил себя проглотить сразу все, и это ему удалось. «Я сегодня не умру!» — снова подумал он и, повременив, вылил в рот остальное…
Положив голову на ладони, Семен стал терпеливо ждать облегчения. Волнистое существо неохотно расчленивалось на маленьких, деловитых и суетливых подводных жителей без определенной формы; все они не знали, куда девать себя, — тыкались в стены, в темный угол, устраивали кучу малу под столом, заузившись, пытались проникнуть сквозь щели пола, а зачем? Была открыта дверь, настежь распахнуты окна… Подводные жители хором пели: «Где под солнцем юга ширь безбрежная, ждет меня подруга нежна-ая-я…» У них были свежие мальчишеские голоса, пели они старательно… «Очень жарко! — подумал Семен. — Может быть, будет дождь…»
Он лег, натянув на плечи пикейное одеяло, тоненько вздохнув, расширил глаза… Стены, пол и потолок, оказывается, вернулись на прежние места, окно сделалось вертикальным, подводные жители исчезли так мгновенно, словно их никогда не существовало. И тьма в углу рассеялась, теперь было видно, что возле плинтуса чернеет отверстие в полу…
Семен умиротворенно улыбнулся, подумав о том, что вот наконец впервые за сутки сможет на два-три часа уснуть по-настоящему, счастливо подтянул ноги к животу — так он делал в детстве, на теплой и сонной постели, под большим блестящим фикусом. Потом он медленно решил: «Полежу с открытыми глазами минут десять-пятнадцать… Торопиться ведь мне некуда… Буду лежать, ни о чем не думать, смотреть в угол…» Он представил, как из черного отверстия выходит мышь — маленькая, серенькая, под кожей видно, как бьется сердце… Она поднимается на задние лапы, рыльце подрагивает, усы моржиные, хвост членистый, как у ящерицы… Все наладится, все обойдется…
Свернувшись в комочек, совершенно счастливый, сонный, с доброй улыбкой на черных губах, Семен лежал на кровати и глядел в угол комнаты…
Вдруг выйдет серая мышь — самая маленькая, шустрая, глаза бусинками, под кожей видно, как бьется сердце…
Но в доме Семена Баландина не живут маленькие серые мыши, им нечего есть…



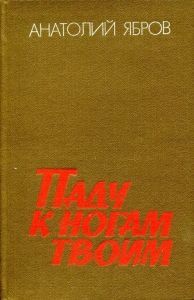
Комментарии к книге «Деревенский детектив. Ещё до войны. Серая мышь », Виль Владимирович Липатов
Всего 0 комментариев