Юрий Рытхэу Молчание в подарок
Осечка
Люблю рассматривать старые фотографии, листать семейные альбомы. Они не только возвращают нас в навсегда и безвозвратно ушедшее прошлое, но иногда дарят удивительные находки, воскрешают, казалось бы, напрочь забытое. Так, однажды в семейном альбоме старого Гэмауге, художника и морского охотника, я нашел необычную почтовую открытку, выпущенную федеральным почтовым ведомством Соединенных Штатов Америки. На фотографии был снят сам Гэмауге в полном охотничьем облачении в торосах неподалеку от Уэлена. На ногах его были снегоступы «вороньи лапки», сплетенные из сыромятных лахтачьих ремней, непромокаемые, непробиваемые морозными ветрами штаны из нерпичьей шкуры, кухлянка из шкуры молодого оленя, поверх которой надет балахон-камлейка из белой бязи для маскировки на белом арктическом льду. Капюшон был откинут, на голове виднелся зимний малахай с опушкой из росомашьего меха. За плечами охотника висел винчестер в чехле из выбеленной тюленьей кожи, а руки заняты посохом с острым наконечником, которым и пробуется крепость морского льда. Фотография была не только хорошо сделана, но и отлично напечатана на плотной, солидной бумаге. На обороте, как и полагалось быть на серийной почтовой открытке, было обозначено место для адреса и почтовой марки. Здесь же была типографским способом оттиснута надпись; «Дикарь северо-восточной Азии на дрейфующем льду Чукотского моря». Но это был именно Гэмауге, а не кто-то другой, и сам хозяин фотографии узнал тут себя, молодого, крепкого, способного проходить десятки километров по льду в поисках тюленя или белого медведя.
— Этот снимок был сделан до революции, — вспомнил Гэмауге. — Тогда в наше селение часто приходили американские шхуны. Большинство из них торговали, выменивали пушнину, моржовые бивни на всякие безделушки, тайком предлагали спиртное в темных плоских бутылках… Но были и такие, которые фотографировали. Мы и не верили тогда, что с помощью аппарата, похожего на ружьецо с коротким стволом, можно так снять тень с человека, что его образ будет запечатлен на бумаге. Не верили, пока нам не прислали через знакомого торговца Олафа Свенсона несколько фотографий, в том числе и мою.
Этот разговор происходил в старинном чукотском селении Уэлен, в домашней мастерской знаменитого художника. На низком столике, поставленном впритык к небольшому окошку, обращенному к морю, лежали заготовки из моржового бивня, куски китового уса. Гэмауге иногда мастерил морские суда, старинные парусники и шхуны.
Сам Гэмауге до преклонных лет сохранил силу и выносливость морского охотника. Он был высок ростом, на его выразительном и резко очерченном лице светились пытливые, умные глаза.
— Я знаю английский, — продолжал Гэмауге, — и прочитал эту обидную надпись на открытке… Но что поделаешь? Они все смотрели на нас как на дикарей.
Когда я покончил с семейным альбомом, Гэмауге достал простую канцелярскую папку, в которой тоже были фотографии, но уже более позднего времени. Первая первомайская демонстрация в Уэлене на льду лагуны, строительство полярной станции, электрического двигателя, группы школьников вместе с учителями, прилет первого самолета в Уэлен, улыбающийся Водопьянов в окружении ребятишек, рядом — Гэмауге.
И вдруг снимок, сделанный явно в тундре: пожилой чаучу у яранги, с широко открытыми глазами, в кухлянке из снежно-белой шкуры оленя, в таких же белых штанах из камуса, в белых торбасах. Обычно так одеваются глубокие старики, давая своим внешним видом знак, что они закончили все свои земные дела и готовы при первом же удобном случае отправиться в другой мир, куда принимают именно в таком виде. Но мужчина, снятый у тундровой яранги, явно еще был в цветущем возрасте, да и по выражению лица он скорее был смертельно напуган, нежели покорился своей печальной участи.
— Кто это? — спросил я Гэмауге.
Гэмауге отложил кусок моржового бивня, который он собирался зажать в небольшие тисочки, взял фотографию и с улыбкой сказал:
— Это мой дальний тундровый родич.
— Вроде бы он собрался «туда»? — спросил я.
— Да, — кивнул Гэмауге. — Думал, что конец ему… Но вышла осечка.
И Гэмауге засмеялся.
Он окончательно отложил кусок бивня и поведал мне удивительную историю.
Это произошло где-то во второй половине тридцатых годов. По всей Чукотке победно шествовала новая жизнь, строились новые школы, создавались колхозы. Неподалеку от угодий оленных людей стойбища Пананто, на южном берегу залива Кытрын, построили Чукотскую культбазу с больницей и другими удивительными домами из дерева. Был даже такой, который с помощью натянутых на высоких столбах проводов ловил летящие слова аж из самой Москвы.
Слухи о новой жизни доходили и до тундры, но в основном жизнь здесь не менялась до поры до времени. Но вот приехал молодой безусый парень и сказал, что будет учить детей различать и наносить на бумагу следы человеческой речи. И будто бы без этого умения нынче чукча не может существовать. В стойбище посоветовались с мудрыми стариками, с шаманами и решили — школу открыть. Ибо это было куда более безобидно по сравнению с тем, что происходило на побережье, где в больницах русские доктора кромсали людское тело, вырезая испорченные органы, выискивая болезни в разрезанном человеческом теле, словно это морж или лахтак.
Дальше — больше. Приехали люди из Уэлена и сказали, что надо организовать колхоз.
Так и повелось: что ни месяц, то обязательно кто-нибудь приезжал. И каждый приезд оставлял после себя долгие и удивительные разговоры, многочисленные вопросы, на которые не было ответов даже у тундровых мудрецов.
Ранней весной приезды еще больше участились. Время было горячее: телились важенки, все мужчины круглые сутки находились в стаде.
В тот день в стойбище из мужского взрослого населения оставался один Гэмакэргын. Два дня назад, собирая стадо после короткой весенней пурги, он вывихнул лодыжку и лежал в чоттагине, с беспокойством думая о том, как без него справляются в стаде.
Послышался отдаленный лай собак, женские и ребячьи крики. В ярангу вбежала жена Гэмакэргына и сказала, что со стороны Уэлена идут упряжки.
Превозмогая боль, Гэмакэргын выбрался на улицу. Упряжек было две, и, когда они подъехали, он узнал дальнего уэленского родича Гэмауге.
Они сердечно поздоровались, и, согласно обычаю, Гэмакэргын позвал гостей в ярангу. Всего их было трое. Одного в стойбище уже видели: он приезжал рассказывать про колхоз. Гэмауге и так был хорошо известен, а вот третий был совершенно незнакомый человек с маленькими черными усиками, как бы вытекающими из ноздрей.
— Это фотограф, — сказал Гэмауге, показывая на усатого. — Он хороший человек, не бойтесь его.
Почему Гэмауге призывал обитателей стойбища не бояться фотографа, выяснилось позже, а пока женщины быстро вскипятили чайник, сварили свежего мяса и принялись потчевать гостей. Гэмауге рассказал о том, как на полярной станции зажгли электричество — новый, совершенно небывалой силы свет, заключенный в стеклянную бутылку. Гэмакэргын, человек рассудительный и умный, догадывался, что Гэмауге иногда для пущей важности привирает, рассказывая о всяческих чудесах на берегу, но как человек рассудительный и гостеприимный, делал вид, что верит каждому его слову, время от времени вставляя возглас удивления:
— Какомэй!
Гости поели, выпили весь чайник, и тут Гэмауге повел речь о том, за чем, собственно, и приехали в стойбище втроем. Вернее, говорил один из русских, не фотограф, а Гэмауге переводил.
— Чукчи отныне, как и все жители большой общей земли, которая называется Советский Союз, являются равноправными гражданами трудового государства… — сказал Гэмауге и пространно и непонятно попытался объяснить, что это такое — государство, потом махнул рукой: — Словом, мы как бы все поселились в одной большой яранге или в одном стойбище. И все у нас стало общим, как и ваше оленье стадо…
— Постой-ка, — перебил его Гэмакэргын, — наше стадо принадлежит только нашему стойбищу.
— Это верно, — сказал Гэмауге, — но и в то же время и всем советским людям.
— Это как понимать? — засомневался Гэмакэргын. — Значит, каждый житель Уэлена может считаться хозяином стада?
— Правильно! — обрадовался Гэмауге догадливости своего тундрового родича.
— Так дело не пойдет! — решительно сказал оленевод. — Что же, как захотят оленины, придут и поедят все мое стадо?
— Ну, это не совсем так, — после совещания с русским сказал Гэмауге. — Ведь и ты, в свою очередь, тоже являешься хозяином добычи уэленцев.
— Мне бы не хотелось этого, — скромно ответил Гэмакэргын. — Пусть каждый владеет своим и не зарится на чужое.
— Когда ты политически созреешь, — сказал Гэмауге, — тогда ты и поймешь. А теперь приготовься, сейчас этот человек снимет с тебя тень.
«Снять тень» — теперь такое выражение каждый понимает — значит сфотографировать человека. А тогда это прозвучало зловеще, тем более, что до стойбища доходили слухи о сопротивлении богатых оленеводов, у которых отбирали стада и делили между бедными. Доходило и до вооруженных стычек. Если с него, Гэмакэргына, хотят снять тень, то не иначе это из-за того, что он отказался признать хозяевами оленьего стада жителей прибрежного селения Уэлен.
— Погоди, — стараясь казаться спокойным, сказал Гэмакэргын. — Ты всегда успеешь снять с меня тень. Но пусть сначала придут другие пастухи. Стадо принадлежит не мне одному, а всему стойбищу.
— Да не бойся! — весело и с усмешкой сказал Гэмауге. — Мы со всех снимем тень, потому как граждане нашей страны все должны иметь паспорта, а на паспорте должна быть приклеена твоя тень.
— А что это такое — паспорт? — на всякий случай спросил Гэмакэргын, в слабой надежде, что Гэмауге снова примется пространно объяснять и хоть это продлит последние мгновения жизни Гэмакэргына. А там, гляди, кто-нибудь из старших пастухов придет.
— Паспорт — такая книжечка, в которой начертано твое имя и к чему приклеена твоя тень, — важно сказал Гэмауге. — По такой бумаге всем будет ясно, что ты гражданин Советского Союза.
— А что, слову не поверят, что я этот самый гражданин? — спросил Гэмакэргын. — Да и кто будет смотреть, если грамотных у нас нет?
— Будут грамотные! — уверенно заявил Гэмауге и заторопил. — Давай скорее, а то надо и остальных пастухов поймать и с них тоже снять тени.
Тем временем возле яранги фотограф с вытекающими из ноздрей усиками готовил свое «оружие». Сначала он установил треногу, крепко воткнув в подтаявший весенний снег заостренные металлические наконечники, а потом достал из темного плотного мешка похожий на ружьецо аппарат, который установил на треногу. В маленьком дуле сверкало стекло, но внутри была бесконечность тьмы, как ни вглядывайся. Фотограф достал довольно большой кусок черной материи и накинул себе на голову, скрывшись вместе с головой под ней. Женщины и детишки с затаенным страхом наблюдали за приготовлениями фотографа, ловили каждое его движение, как он нацеливал маленькое застекленное дуло на стену яранги.
А в яранге тем временем Гэмауге продолжал уговаривать оленевода, посмеиваясь над ним.
— Ну хорошо, — сделал вид, что согласился, Гэмакэргын. — Но мне надо соответственно одеться.
— Ну хорошо, одевайся, — сказал Гэмауге. — Только быстро! Времени мало! Погода портится, а без солнца снимать тень невозможно.
— Это верно, — поддакнул Гэмакэргын, — когда нет солнца, и тени нет.
С помощью жены нашлись и белые камусовые меховые штаны, белые торбаса и белая кухлянка, опушенная длинным белым волосом с шеи матерого быка-оленя. В глазах у жены стояли слезы, но Гэмакэргын незаметно шепнул ей:
— Может еще обойдется… Погляди, не идут наши?
На воле ослепительно сияло весеннее солнце, в подтаявшем мягком снегу тонули белые торбаса, оставляя глубокий синий след. Гэмакэргын зажмурился от яркого света и в эту минуту с особой, пронзительной силой подумал о бренности жизни, о ее хрупкости и вечности… Да, его через мгновение не станет, а вся эта ослепительная красота останется и будет повторяться каждую весну, возвещая о постоянном круговороте жизни. Сказывают, что жизнь человека, покинувшего этот мир, может повториться в другом человеке, в другом существе. И даже очень возможно, что еще в лучшем виде, с более счастливой судьбой. Но тогда откуда такая мысль, что не было и не будет более счастливой доли, чем та, которая выпала тебе, несмотря на трудности, на холод и голод? Почему так не хочется повторяться в другом, даже в самом лучшем? Может быть, оттого, что все-таки это будешь не ты, а кто-то другой, пусть с твоей несчастной душой?
Фотограф, как и долженствует быть палачу, стоял возле своего оружия, накрытого плотной черной материей. Гэмакэргын с неприязнью глянул на его острое, худое, покрытое коричневым тундровым загаром лицо и как вытекающие из ноздрей короткие черные усики и отвел взгляд: негоже готовящемуся к путешествию в вечность омрачать свои мысли. Гэмауге вышел вслед и хлопотал вокруг, помогая фотографу выбрать лучшее место.
— Может, лучше отойдем от стойбища? — робко предложил Гэмакэргын.
— Нет, так не пойдет, — возразил фотограф, когда Гэмауге перевел слова обреченного. — Здесь хороший фон. А на снегу все может слиться… Пусть только уберут детишек, чтобы не мешали.
Гэмакэргын с оттенком благодарности воспринял слова фотографа, если вообще можно испытывать какие-то благодарные чувства к собственному палачу. Детишек загнали в яранги, ушли и женщины.
Наконец фотограф нашел подходящее место у стены, попросив только отодвинуть в сторону нарту.
— Она мне будет мешать, — сказал он непонятно для Гэмакэргына.
Гэмауге прислонил Гэмакэргына к стене, а сам отошел в сторону, пряча улыбку. Странный он парень. А не был таким еще совсем недавно, когда батрачил у большого байдарного хозяина, носил за ним большое рулевое весло и мечтал жениться на его племяннице.
Фотограф залез под черное покрывало. Прищурившись, Гэмакэргын смотрел на него и думал, что парень с усиками, должно быть, не растерял окончательно остатки совести и стесняется, видимо, смотреть жертве в глаза. Гэмакэргын глубоко вздохнул и прикрыл глаза. Но почему он так долго целится? Неужто в пяти шагах трудно попасть в большого человека? Или он непривычен? Гэмакэргын мог похвастаться тем, что попадал в бегущего зайца из тугого лука, за две двадцатки шагов мог накинуть аркан на мчащегося оленя. Теперь кому нужны его ловкость и сила? Но почему он так медлит? Тишина стояла над стойбищем. Лишь под ногами топчущегося фотографа слабо попискивал подтаявший снег да из глубины яранги доносились сдерживаемые стоны и всхлипы жени.
Гэмакэргын глубоко вздохнул и прикрыл глаза.
И вдруг он услышал:
— Открой глаза!
Это крикнул из-под черного покрывала фотограф. Гэмакэргын в испуге открыл глаза и уставился да черный, бездонный, зловеще поблескивающий глазок.
— Открой глаза шире!
И тут вдруг у Гэмакэргына мелькнула мысль: а почему бы не убежать? Пока они погрузятся на нарты, поднимут собак, он успеет уйти далеко…
И тут он услышал щелчок. Похожий на звук, который слышен в ружье, когда случается осечка. Да, именно такое и случилось, потому что вдруг из-под черного покрывала показалась голова фотографа и он обрадованно произнес:
— Все! Готово!
Какое-то удивительное чувство охватило Гэмакэргына. Он и верил и не верил в то, что больше не будет выстрела или как еще там называлось действие этого маленького ружьеца, которое все еще оставалось накрытым черным покрывалом.
— Все? — переспросил он на всякий случай.
— Все, — подтвердил фотограф, ставший вдруг неожиданно симпатичным, хорошим парнем. И эти его усики вовсе не вытекали из ноздрей, а так искусно были подбриты, образуя как бы две черные аккуратные полоски над верхней губой.
— Ну вот! — обрадованно произнес Гэмауге, подходя к Гэмакэргыну. — А ты боялся!
Гэмакэргын ничего не сказал в ответ на это. Только подумал: а как бы ты сам себя вел, если б твоя жизнь была под угрозой?
Из яранги выглянула жена, потом показались ребятишки, Гэмакэргын подошел к жене и тихо сказал:
— Все. Больше ничего не будет.
Он помог погрузиться на нарту, сам тщательно увязал груз и фотоаппарат, аккуратно уложенный в мешок из нерпичьей кожи, но все же решился спросить:
— А где же она, моя тень?
— Еще надо проявить ее, потом закрепить на бумаге, — со знанием дела ответил Гэмауге. — Несколько дней на это потребуется.
После отъезда фотографа Гэмакэргын чувствовал себя не совсем привычно. Шутка ли — где-то в Уэлене неизвестно в каком состоянии пребывала его тень. Ведь какому-нибудь недоброжелателю достаточно навести порчу на тень, и он может заболеть или даже умереть.
Летом, когда стойбище Пананто прикочевало к Уэленской лагуне, на байдаре приплыл Гэмауге. При большом стечении народа он вытащил из черной бумаги изображение Гэмакэргына и пустил по рукам.
Да, это был настоящий Гэмакэргын, в белой кухлянке, белых меховых штанах, белом малахае, по своему внешнему виду собравшийся покидать этот мир. Правда, его лицо было несколько испуганным: но ведь с человека впервые в жизни снимали тень! Как тут можешь быть спокойным?
Гэмакэргын взял бумагу и долго вглядывался в свое изображение, снова вспоминая и переживая мысли, одолевавшие его, когда он стоял у стены тундровой яранги перед бездонным стеклянным глазом фотоаппарата, навсегда прощаясь с жизнью.
— А мне можно взять это? — спросил Гэмакэргын.
— Бери! — великодушно ответил Гэмауге. — Для паспорта нужна маленькая тень, а эту я попросил сделать фотографа лично для тебя как подарок.
— Спасибо, — сердечно, от души поблагодарил Гэмакэргын и спрятал собственную тень в укромное место, где хранились семейные реликвии и священные предметы для ритуальных обрядов.
— Лет десять как нет в живых Гэмакэргына, — с сожалением в голосе сказал Гэмауге. — Его дети выросли. Кто в тундре остался оленеводом, а кто и выбрал для себя другой путь. А эту фотографию подарил мне его внук. Костя Гэмакэргын, фотограф нашей районной газеты. Он переснял ее с той, давней. Когда я смотрю на нее, я вспоминаю нашу молодость и как бы обозреваю мысленно тот огромный путь, который мы прошли… Великий путь!
Телефон
Установка телефона происходила в учебное время, и мы из класса слышали, как там стучали, что-то прибивали. Аппарат прикрепили к стене нашей столовой в Анадырском педагогическом училище. На перемене мы с нетерпеливым интересом разглядывали провода, изоляторы, идущие в ряд под самым потолком, и сам аппарат, пока еще безмолвный, с ручкой сбоку и двумя блестящими шляпками звонков на крышке. Монтер, веселый веснушчатый парень, охотно объяснил нам, что к чему, да и сами мы, люди уже образованные, прошедшие еще в семилетке курс элементарной физики, вполне разбирались и в устройстве и в принципе работы телефона. Правда, второклассником я ходил в Уэлене на радиостанцию, чтобы собственными глазами увидеть, как из районного центра летят телеграфным переводом деньги: у нас в семье ждали плату за зимние перевозки на собаках. Я проторчал под антеннами весь день, намерзся так, что даже разговаривать не мог, но летящих денег так и не увидел. Они каким-то чудом миновали меня, или же мои глаза просто не уследили за ними: словом, когда я пришел домой, телеграфный перевод уже был доставлен почтальоном Ранау, и моя мать собиралась в магазин.
Где-то ближе к обеду у нас был последний урок: рисование. Этот предмет преподавал Самсон Осипович Корышев, маленький худенький старичок в больших роговых очках… На первых занятиях он с увлечением объяснил нам, что такое натюрморт, и поставил на подставку ведро из нашей кухни. Для придания объемности изображению преподаватель научил вас наносить правильно штриховку и вообще немудреным хитростям. За несколько уроков мы так наловчились рисовать ведро, что даже у самых бездарных и неспособных к изобразительному искусству это обитое, помятое цинковое ведро выходило как живое, если так можно сказать о неодушевленном предмете. После овладения «мертвой» натурой приступили к живой. Натурщиком нашим был училищный истопник и каюр Варфоломей Дьячков, уроженец Анадыря, который он по старой привычке называл Мариинским постом. Варфоломей Дьячков вел свою родословную от первых русских землепроходцев, но наличие в нем туземной крови явно преобладало. На рисунках это почему-то становилось особенно заметным, что явно не нравилось нашему натурщику, и, рассматривая рисунки, он презрительно ухмылялся и замечал: «Ничего-то вы еще не умеете, недоспели еще… Одним словом, натюрморда получилась…»
Многие из нас, обделенные изобразительным талантом, особенно любили уроки рисования на свободную тему. Да и сам наш преподаватель явно был склонен к тому, чтобы предоставлять ученикам больше свободы для творчества. Объявив о предоставлении нам свободы для художественной фантазии, Самсон Осипович погружался в сладкую дремоту. Разумеется, в нашем классе были и такие, что любили пофантазировать на белой бумаге. Чаще рисовали покинутые родные селения и стойбища, оленей, собак, по памяти воспроизводили родных и знакомых, изображали сцены охоты, оленьей пастьбы…
Такие же, как я, обращались к испытанному и хорошо освоенному ведру. И поныне я могу изобразить его на бумаге почти что с закрытыми глазами, обозначив умело положенными штрихами его выпуклость, тщательно выписать приклепанные ушки с дужкой, вмятины и другие особенности, делающие изображение не просто воспроизведением какого-то абстрактного ведра, а того, конкретного, которое в настоящее время несло свою предназначенную судьбой службу на кухне.
Обычно те, кто изображал ведро, получали пятерки, очевидно, за верность предмету и реализму.
Обеспечив таким образом хорошую отметку, каждый из нас остальную часть урока мог заниматься чем угодно: читать или же готовиться к следующим урокам, где уже фокус с ведром не проходил.
Урок был в самом разгаре. В тишине слышались лишь шелест карандашей по грубоватой шероховатости рисовальной бумаги да сладкое посапывание нашего преподавателя. И вдруг из коридора раздался громкий, пронзительный звонок, непохожий на звон нашего медного колокольчика, явно снятого с шеи какого-то оленя.
Вслед за звонком до нашего слуха донесся полный глубокой значительности голос нашего директора, произнесший слово, которое мы слышали только в кино:
— Алло!
Я никогда не думал, что это простое слово может звучать так многозначительно.
— Алло! Директор Ланкин слушает!
От звонка Самсон Осипович проснулся и, обведя мутноватыми, еще не проснувшимися глазами класс, провозгласил:
— Урок окончен!
В ответ послышался смешок, и кто-то сказал:
— Это телефон зазвонил.
Глаза у Самсона Осиповича прояснились.
— В таком случае урок продолжается, — и с этими словами он снова закрыл глаза.
К сожалению, пока продолжался разговор с преподавателем, беседа нашего директора по телефону закончилась, и в коридоре снова воцарилась тишина, которая потом в конце концов была нарушена звоном нашего привычного колокольчика…
Мы высыпали из классов и сгрудились возле телефонного аппарата. Он висел довольно высоко, важно поблескивая никелированными шляпками звонков и другими блестящими металлическими частями на трубке и на ручке сбоку.
Честно говоря, у меня страшно чесались руки, чтобы хоть дотронуться до этого чуда. В свое время я разобрал патефон в нашей яранге, пытаясь доискаться «маленьких человечков», спрятанных внутри волшебного ящика и там поющих и играющих на разных музыкальных инструментах. Мое первое близкое знакомство с техникой закончилось крупными неприятностями, воспоминания о которых живо воскресали в памяти.
Рядом с телефоном была прикреплена бумажка с указанием номеров абонентов. Тогда их в Анадыре было не больше десятка. Первым стоял номер председателя окружного исполкома Отке, секретаря окружкома партии, потом шли номера милиции, пожарной части и других малоинтересных для нас учреждений.
Оставалась одна надежда — на вечер. Вечером преподаватели расходились по своим квартирам, повариха закрывала свою кухню, дежурный воспитатель заваливался спать, и здание училища до самого утра переходило во власть тех, кто жили в комнатах, превращенных из классов в общежитие.
В этот вечер, когда здание затихло и из учительской, где стоял продавленный диван, послышался храп нашего воспитателя, мы собрались у телефона, пока не зная, что будем с ним делать.
— Сначала надо повертеть ручку, потом снять трубку и сказать «алло», — произнес Емрон, науканский эскимос. Он сегодня дежурил по кухне, носил воду в ведре-натюрморте и насмотрелся на испытание аппарата.
— Ну скажешь «алло», а потом? — спросил его Энмынкау.
— Соедините меня с товарищем Отке…
— Почему обязательно с Отке? — спросил Энмынкау.
— Не знаю, — пожал плечами Емрон. — Он тут первым стоит в списке.
Но почему-то никто не решался позвонить председателю исполкома, хотя на бумажке был указан и его домашний телефон: ноль-ноль четыре.
— Позвони-ка ты! — вдруг обратился ко мне Энмынкау. — Он же твой земляк!
Да, это верно, Отке был родом из Уэлена. В той части старинного чукотского селения, которая называлась Тапкаран, стояли яранги его многочисленных родичей. Правда, когда я пошел в школу, к тому времени Отке уже работал в районном центре, в бывшей Чукотской культбазе в заливе Лаврентия. Оттуда он часто приезжал на вельботе в Уэлен и сходил на берег в негнущемся кожаном пальто с вместительным портфелем из нерпичьей кожи. В отчей яранге он переодевался в обычную кухлянку и переставал внешне отличаться от своих земляков.
Здесь, в Анадыре, Отке ходил в зимнем пальто, в валенках и пыжиковой шапке. Но рукавицы у него были оленьи, я это сразу заметил.
— А что я ему скажу? — спросил я, чувствуя невесть откуда взявшийся зуд в пальцах, заставивший меня в свое время залезть в нутро патефона.
— Скажешь, что земляк звонит, — подсказал Энмынкау. — Да мало ли какие могут быть разговоры между земляками? Обменяетесь новостями…
— Какие у меня новости? — слабо сопротивлялся я, чувствуя приближение решающего мгновения.
— Давай! Давай! — встрял в разговор Харлампий Кошкин, наш лучший рисователь ведра. — Сколько тебя уговаривать? Не стыдно? Ломаешься как девка какая-то, тьфу!
Харлампий в самом деле плюнул, но куда-то в сторону.
Я подошел ближе к телефону.
— Ну, смелей!
Емрон стоял рядом.
— Вот, поверти ручку.
Я взялся за ручку и несколько раз повернул ее, с удивлением ощущая какое-то сопротивление внутри ящика.
— Сильнее, сильнее! — подбадривал Емрон.
— Крутани еще несколько раз! — крикнул Энмынкау.
— А теперь снимай трубку! — командовал вошедший во вкус Емрон. — Прикладывай к уху. Вот этой частью! Черпало надо ко рту приставить!
В трубке я услышал сонный женский голосок:
— Какой вам номер?
— Какой нам номер? — громко спросил я ребят. — Она спрашивает; какой нам номер?
— Скажи: ноль-ноль четыре! Ноль-ноль четыре! — подсказал Емрон.
— Ноль-ноль четыре! — крикнул я в ту часть трубки, которую Емрон назвал черпалом. И на самом деле ею вполне можно было черпать, скажем, суп из тарелки.
— Соединяю! — сказала женщина из телефона, и через несколько мгновений я вдруг услышал голос Отке.
Председатель Чукотского исполкома сказал;
— Алло!
От неожиданности я ответил:
— Алло!
— Кто говорит?
Несмотря на расстояние и некоторые искажения, все же определенно можно было узнать голос Отке, чуть глуховатый, низкий. Мне показалось, что я воочию его вижу: широкое улыбающееся лицо, добрые глаза, спадающую на лоб непослушную прядь.
— Это говорит ваш земляк, уэленский житель, — я назвал себя, и Отке вдруг обрадованно произнес:
— Ах вот кто говорит! Ну, здравствуй, как поживаешь?
— Да хорошо, — ответил я. — Живу неплохо.
— Как идет учеба?
— Нормально.
— Как кормят вас?
Шел второй послевоенный год. В училище, прямо скажем, было голодновато, особенно в середине зимы, когда кончалась рыба, которую мы сами ловили и заготавливали летом в Анадырском лимане. Но я все же бодро ответил:
— Кормят хорошо, — и добавил. — Не голодаем.
— Не голодаете? — мне показалось, что Отке несколько удивился, но я его окончательно заверил:
— Совсем не голодаем!
Я уже довольно осмелел, несколько успокоился, тем более, что ребята смотрели на меня широко раскрытыми глазами, в которых явно читалось восхищение, смешанное с завистью.
— Из Уэлена есть новости?
Как раз недавно я получил письмо из дому, написанное моей теткой. В нашей семье она тогда была единственным по-настоящему грамотным человеком, закончила семилетку. Остальные, хоть и тоже считались грамотными, но читали лишь по складам да умели расписываться.
— Письмо получил из Уэлена, — солидно ответил я. — Карточную систему отменили.
— Вот это хорошо! — похоже, обрадовался Отке. — Только как мне показалось, что карточки отменили везде.
Конечно, председатель окрисполкома был прав: карточную систему отменили по всей стране, но все же это очень хорошо, что и в Уэлене это произошло. Там, где жили люди, которых ты хорошо знал, помнил в лицо и мог узнать по голосу каждого, всякое малейшее событие обретало особую значимость.
— И что же еще тебе пишут из дома?
— Четырехглазый умер, — сообщил я с сожалением.
— Это жалко, — вздохнул вместе со мной по телефону Отке.
Четырехглазый — это был старый вожак нашей семейной упряжки, хорошо известный на побережье от Уэлена до Ванкарема. Хорошие собаки, как и хорошие люди, пользовались тогда широкой известностью, и ничего удивительного не было в том, что председатель окружного исполкома знал нашу собаку. А Четырехглазым я его назвал сам, когда он только родился с большими белыми пятнами над каждым глазом. Он вырос в большого, сильного пса, и издали казалось, что у него на лоб надвинуты большие солнцезащитные очки.
— Ну хватит! — вдруг сказал Энмынкау и протянул руку. — Теперь я хочу поговорить!
— Товарищ Отке! — сказал я. — Вот тут Энмынкау из Янраная хочет с вами поговорить.
— Ну хорошо, — сказал Отке, — передай ему трубку. А ты, как захочешь, звони. Буду рад тебя слышать.
Энмынкау почти что вырвал у меня трубку и закричал в черпало:
— Товарищ Отке! Товарищ Отке! Вы слышите меня? Это говорит Энмынкау. Янранайский… Ильмоча племянник. Вы знаете его? Вот как хорошо!
Энмынкау победно посмотрел на нас загоревшимися глазами.
— Учусь я не очень чтобы хорошо, но и не совсем на последнем месте…
Очевидно, Отке интересовался у Энмынкау, как и у меня, его успехами в учебе.
— Особенно хорошо я рисую! — вдруг вспомнил Энмынкау. — Сегодня рисовали ведро! Да, наше училищное ведро из кухни. Мы его все хорошо научились рисовать, даже на память. С портретами тоже справляемся. Варфоломея, нашего каюра, рисовали. Да, ведро все же легче изображать… Оно же натюрморт. Натюрморт! Это нам так сказал наш учитель рисования Самсон Осипович… А Варфоломей Дьячков — живой. Вертится, когда позирует, и трубку свою курит… Да, учиться нелегко, но стараемся…
Теперь трубку потребовал Емрон:
— Хватит! Дай и другим поговорить! По делу надо, а ты — натюрморт! Нашел о чем толковать с председателем округа!
— Товарищ Отке! Вот тут Емрон из Наукана хочет с вами говорить. Передаю ему трубку.
Энмынкау с явным сожалением уступил телефон.
— Здравствуйте, товарищ Отке! — начал Емрон, и вдруг на его лице возникло выражение крайнего удивления. Он закашлялся, запнулся, а потом как заговорит по-эскимосски! Он улыбался, замолкал, а потом снова начинал. Из эскимосов среди нас был еще Тагрой, и он вполголоса стал переводить:
— Емрон говорит, что учится он хорошо… Отличником собирается стать…
— Ты бы уж не врал по телефону, — тихо заметил Энмынкау, — чего зря обещаешь? Сначала стань отличником, а потом хвастайся… Эх, как это я не догадался поговорить по телефону по-чукотски?
Мне почему-то тоже сначала показалось, что по телефону можно говорить только по-русски. А вот Емрон, выходит, всех нас обошел! А все-таки хорошо, что Отке, как настоящий уэленец, знает и свой родной чукотский, и эскимосский, ну и, конечно, русский язык. Это объяснялось не столько врожденными способностями моих земляков, а главным образом тем, что Уэлен — селение смешанное, в большинстве семей говорили на двух языках.
Захваченные телефонным разговором, мы и не заметили, как открылась дверь учительской и оттуда вышел взлохмаченный, заспанный воспитатель.
Поначалу он ничего не мог понять, хлопал глазами и озирался вокруг, пытаясь понять, что тут такое происходит, почему ребята не ложатся спать и непонятно с кем разговаривают.
Он подошел. Толпа ребят расступилась, и воспитатель увидел счастливого Емрона, разговаривающего на своем родном эскимосском языке.
— Ты с кем это говоришь? — грозно прошипел воспитатель. — Кто тебе разрешил пользоваться телефоном?
— Он говорит с Отке — почувствовав опасность, пришел на помощь Энмынкау. — С председателем!
— Немедленно прекратить! — крикнул воспитатель и подскочил к Емрону. Он схватил трубку, вырвал ее с силой так, что больно задел черпалом за подбородок. Емрон со стоном отошел в сторону.
Воспитатель повесил трубку.
— А ну — по спальням!
Мы поплелись к спальням, но не успели далеко отойти от телефона, как услышали звонок. Воспитатель схватил трубку.
— Митрохин слушает!
Митрохин странно и удивительно разговаривал с невидимым собеседником, будто видел его перед собой, где-то на расстоянии вытянутой руки, улыбался ему, кивал и даже кланялся.
— Хорошо… Слушаюсь… Очень хорошо… Обязательно передам. Большое спасибо. Учтем… До свидания, спокойной ночи.
Он бережно повесил трубку черпалом вниз, поглядел с некоторой опаской на аппарат и направился к нашей комнате. Прикрыв за собой дверь, он сказал:
— Вообще-то товарищ Отке передал вам привет и благодарность за то, что позвонили. А также пожелал вам хорошей учебы и спокойной ночи… Но я вам покажу, если вы еще дотронетесь до телефонного аппарата!
Воспитатель погрозил нам кулаком и ушел досыпать в учительскую.
Все же он не испортил нам удивительно хорошего настроения. Мы долго не спали, обменивались мнениями, впечатлениями, мечтали о том, что придет время и вот отсюда, из Анадыря, можно будет позвонить и в Уэлен, и в Янранай, и в Наукан, а может быть, даже в Москву… И говорить на русском, и на эскимосском, и на чукотском языке со своими близкими, родными, знакомыми…
За заиндевелыми окнами стояла морозная зимняя ночь. Начиналась пурга, ветер гремел по крыше, шарил по стенам, а мы горячо мечтали о будущем.
На следующий день с утра пришел монтер и перенес телефонный аппарат в учительскую. Когда мы вышли на большую перемену, на стене лишь виднелись следы шурупов, которыми был привинчен к стене аппарат, а на полу валялось несколько обрывков тонкого цветного провода и осколки белого изолятора.
Смерть Атыка
С. Наровчатову
Атык проснулся и понял все. До этого еще была какая-то надежда и порой появлялась даже уверенность. Особенно когда приходила Татьяна Лаврентьевна — врач сельской больницы. Это была полная и очень уютная женщина, с большим красивым лицом и мягкими руками. Она нежно дотрагивалась до усохшего тела, и старик не мог сдержать вздоха сожаления.
— Вы еще станцуете Танец Кита, — уговаривала она Атыка, хотя он ни на что не жаловался.
А приснилось Атыку вот что. Будто долетел он до окрестностей Полярной звезды в Зените неба, и встретились ему Боги и ушедшие из жизни космонавты на берегах Млечного Пути, иначе называемого чукчами — Песчаной рекой.
Помощник Бога заметил с неудовлетворением, что приход Атыка несколько преждевременен. Словно он слышал заверения Татьяны Лаврентьевны, что помирать рано…
Бог был с виду простой и озабоченный человек, похожий почему-то на секретаря райкома. Он принял Атыка у себя. Отчетливо вспоминался длинный стол, покрытый зеленым сукном, как будто графин с водой, с граненым стаканом и телефоны на отдельном столике… Может быть, это был другой сон, наложившийся на этот?.. Бог, играя толстым красным карандашом, вдруг сказал:
— Помню. Иногда ты думал о том, как бы подольше пожить. Но вот какое дело: эту жизнь ты прожил всю. Больше продлевать ее не можем. А новую… Фондов на такую, как твоя жизнь, больше нет. Дефицит. Заново стать певцом, да еще таким знаменитым, чтобы поэты писали о тебе, — это, знаете, товарищ Атык, большая редкость. Мы тут посоветовались между собой и с вышестоящими органами (а может быть. Бог сказал — Внешними Силами) и решили предложить тебе обыкновенную, простую жизнь. Долгую. Такая у нас есть на примете. Но без песен и танцев, без всего. Без волнений, без взлетов и падений, без соперничества и без той большой радости, когда ты все забывал в танце…
— Можно подумать? — попросил Атык.
— Даю пять минут, — строго сказал Бог и посмотрел на ручные часы. (А может быть, этого не было, и часы — из другого сна.)
Атык за эти небесные пять минут заново пережил всю свою жизнь: с отрывочных воспоминаний детства до вчерашнего дня. И представил себя другим. Таким, каким предлагал ему стать этот странный Бог с красным карандашом, с телефоном и ручными часами. И вдруг он понял, что стать другим — это тоже смерть. Быть может, более страшная, безысходная и мрачная, нежели своя естественная смерть.
И тогда Атык сказал:
— Нет, другой жизни мне не надо. Я хочу дойти до конца своей собственной жизни таким, каким я был всегда.
— Можете идти! — сказал Бог, и Атык проснулся.
В его рождении, поговаривали, была тайна. Будто он и Мылыгрок, житель крохотного островка Иналик в проливе Ирвытгыр, — братья по старинному обычаю, корни которого терялись в сумерках прошедших веков. Суть этого обычая была в том, что отцы Атыка и Мылыгрока на какое-то время поменялись женами…
С детства Атык хорошо говорил по-эскимосски, а потом, нанявшись на китобойное судно, научился английскому и часто служил переводчиком в торговых делах, когда приходили американские шхуны.
Словом, он был обыкновенным жителем Уэлена, если не считать того, что песня и танец вошли в его сердце вместе с рождением. Атык чувствовал, что эти способности у него в крови, и он просто не мог чувствовать вкуса жизни без песен и танцев. Исподволь он учился нелегкому искусству выражения глубоких мыслей скупыми жестами и движениями, постигал завещанные предками загадочные мистические танцы и свой любимый — Танец Кита.
Он впервые исполнил его поздней осенью, после долгого дня погони за китом. Атык стоял на носу байдары, а сзади, полный ветра, упруго звенел парус. Кит был виден в прозрачной воде издали и походил на гигантскую птицу, парящую в воде. Его удлиненное блестящее тело стремительно неслось к поверхности воды, показывалось из нее, и в это мгновение Атык бросал гарпун. Уже три его гарпуна торчали в теле кита, и на концах ременных линей болтались надувные поплавки из тюленьей кожи — пыхпыхи.
Этот кит был первой настоящей добычей. Отныне Атык входил в число избранных, тех, для кого нет знаков отличий, но все знают, кто они.
Потом долго буксировали загарпуненного кита к берегу. Усталость разливалась по всему телу, но она радовала, была сладкой, как сладостный сон или усталость после женщины. Атык понимал, что отныне он стал немного другим: нет, не потому, что он загарпунил кита, а потому, что он чувствовал настоятельную, почти болезненную потребность исполнить древний Танец Кита.
Он знал, что на берегу уже готовятся. Вытаскивают из укромных уголков разрисованные растительной краской ритуальные весла, искусно сделанные чучела китов, маски и большие бубны, способные звучать громко и далеко.
Первый танец будет на виду у моря, у Священных камней. Эти камни, издали похожие на спины моржей, лежали в ряд у конца галечной косы.
Все было так, как предполагал Атык. Он вышел из лодки и прямо так, в нерпичьих торбасах, в шуршащем плаще из сушеных моржовых кишок с откинутым капюшоном, исполнил Танец Кита.
Потом люди вспоминали и говорили, что это было удивительное зрелище. Скупые на похвалу, они утверждали, что давно не было такого исполнения священного танца. Сам Атык в душе понимал это, и ликование души смешивалось с тревогой за будущее. Он знал, что отныне его жизнь не будет жизнью обыкновенного человека, в ней существенной и главной будет невидимая внутренняя жизнь — сочинение новых песен, танцев, осмысление движения времени, ее вершин и глубин…
Иногда пугающе отчетливо было ощущение того, что все приходит извне. Словно кто-то избрал именно его, Атыка, проводником, вестником новых песнопений, новых сочетаний слов и движений. Открытия и озарения приходили часто в самых неожиданных местах, тогда, когда Атык бывал занят делами, далекими от возвышенных размышлений.
С годами Атык понял, что это чувство, особое состояние души, отнимает очень много внутренних сил. Только огромная радость от мысли о содеянном, созданном возвращала утраченные силы. Он понимал, что ему не стать великим ловцом китов. Ведь это тоже требовало всего себя, надо было оставлять немалые силы для творчества.
Иногда они сходились втроем — Атык, Мылыгрок и науканский эскимос Нутетеин. Люди приплывали в Уэлен из самых отдаленных селений Ирвытгыра: из Наукана, Инчоуна, Нэтена, Пинакуля, Кытрына, Янраная и даже Уныина и Авана. Из тундры приходили кочевые люди. Они оставляли свои стада за лагуной и кружным путем притаскивали свои легкие нарты по мокрой тундре.
Ветер тихо звенел в туго натянутой коже бубнов. Атык чувствовал необыкновенный подъем. Перед песенно-танцевальным торжеством он иногда не ел сутками. Тогда тело становилось легким, упругим, послушным мысли.
Всех песен и танцев, которые сочинил Атык, не перечесть. Тогда не было магнитофонов. И все же некоторые он хорошо помнил. Танец Челюскинцев, который исполнял вместе с Кымыиргыном. Это был вдохновенный танец. И Танец Победы, который он танцевал на Священных камнях вместе с Мылыгроком, в последний раз приехавшим на советский берег Ирвытгыра. Потом началась холодная война, путешествия через Ирвытгыр прекратились…
В конце пятидесятых годов приехал русский из Москвы и сказал, что он — поэт. Это было его основное, главное дело в жизни. Он больше ничего не делал, только писал стихи. Атык познакомился с ним и стал заходить к нему в школьный домик, где поместился приезжий.
Он был очень любопытен Атыку. Не потому, что некоторые русские тоже называли Атыка поэтом. Дело было в другом. В чувстве какого-то подсознательного родства, тайных струн, которые вдруг протянулись и напряглись между ними.
Атык не так хорошо знал русский язык, но понимал и ценил хорошо и красиво сказанное слово. Быть может, в этом было что-то особенное; в том, что Атык иной раз даже не различал отдельных слов в потоке речевой музыки, в отзвуках смысла в интонации, в глубинном значении, которое отражалось в настроении читающего стихи поэта. Кто-то сказал поэту, что Атык исполняет Танец Кита. И поэт очень заинтересовался этим и попросил показать. И тогда Атык засомневался: у поэта, по всему видать, была богатая и изменчивая душа. Человеческая душа. И Атык опасался, что русский не поймет или не почувствует всей силы древнеберингоморского танца только потому, что Атык не был так силен, как в молодости и в зрелые годы. И в то же время он понимал, что должен показать русскому поэту древний танец. Хотя бы в благодарность за стихи, которые тот читал.
— Сначала тебе надо добыть кита, — сказал Атык.
Поэта нарядили в нерпичьи штаны, в торбаса, надели ему на его куртку непромокаемый плащ из моржовых кишок и посадили в вельбот.
Атык сам провожал его ранним утром, когда солнце вынырнуло из-за Дежневского мыса.
Весь день Атык не находил себе места. Он тревожился: поэт может пресытиться впечатлениями, устать от сырой стужи Ирвытгыра. Ну что же… Если так, значит ему не понять Танца Кита, и Атыку не надо его будет исполнять.
После полудня Атык поднялся на холм, увенчанный световым маяком, и, свесив ноги с обрыва над океаном, приладил окуляры к глазам.
Даже в мощный бинокль вельботы казались лишь белыми черточками на горизонте. Атык понял, что они взяли уже на прицел кита, а может быть, даже вонзили в него несколько гарпунов. Значит, есть добыча. Эта мысль согрела сердце Атыка и вызвала давно не испытываемое волнение.
Он долго смотрел на море, на медленно плывущие к берегу вельботы, вслушивался в надрывный вой моторов и горько сожалел, что нет больше на берегу Священных камней.
Было время… Какое-то странное поветрие. Вдруг заговорили о том, что все прошлое, все свое, исконное, теперь никуда не годится и не соответствует духу нового времени. Во всем искали проявления шаманизма. Люди старались одеваться во все привозное, хотя страдали от холода и часто простужались. Торопились переселиться в холодные, продуваемые ветрами деревянные домишки, наспех сколоченные приезжими строителями. Когда начали строить новую пекарню, эти же строители пригнали трактор и вывернули из гальки Священные камни. Их положили в фундамент и замазали цементом.
Когда в вельботах уже можно было невооруженным глазом разглядеть людей, Атык ушел домой.
В мешке из хорошо выделанной нерпичьей кожи хранилась тщательно оберегаемая одежда: мягкие нерпичьи штаны, легкая кухлянка. Пока он не спеша все это на себя надевал, по крикам, раздававшимся снаружи, представлял, как трактор тащит на берег огромную тушу и люди встречают добычу ликующими возгласами.
Атык танцевал перед клубом, прямо на улице. Его друг Рыпель пел, близко держа перед разинутым ртом бубен, и это усиливало его ослабевший с годами голос. Пели и молодые — Гоном, Эттэкемен, Умка, Танат.
Поэт стоял в толпе и молча смотрел на древний танец, внимал хрипловатому пению.
Ведя медленную часть древнего танца, Атык с тоской думал, что немного людей даже здесь, перед крыльцом клуба, понимают истинную суть в значение каждого жеста, движения. Он ревниво следил краем взгляда за поэтом: интересно, что же он думает обо всем этом? Как он перенес многочасовое плавание на студеном морском ветру? Поэт неотрывно следил за танцем. Похоже, он был заинтересован, полон любопытства, но взволнован ли он? Медленная часть танца — это как бы размышление, примерка, подготовка к главной его части. Там уже нет времени думать о постороннем. Резкий слаженный удар бубнов чуть не застал Атыка врасплох. Но неуловимой частицей мгновения он определил время и вошел в стремительный водопад музыки чуть раньше, готовый к быстрому танцу всем телом и сердцем. Теперь для него ничего не существовало, кроме подчинения себя ритму, страстному желанию выразить и себя, и суть великого Танца Кита.
Берингоморский танец во временном протяжении не долог. Он кончается быстро, на высокой ноте, на стремительном движении. Атык, возвращаясь в бытие, в действительность, едва удержал себя на ногах. На мгновение мелькнула мысль: больше мне так не танцевать…
Зрители, воспитанные у Священных камней, не аплодируют. Хлопки раздались с той стороны, где стояли восхищенные и потрясенные увиденным русские — работники полярной станции, учителя, их дети…
А поэт стоял молча, и по его виду Атык догадался, что его Танец Кита дошел до глубин сердца сочинителя стихов и потряс его.
Это обрадовало Атыка, вернуло ему силы, и он подошел к поэту.
— Я никогда и нигде ничего подобного не видел, — сказал поэт. — Я объездил весь мир и могу сравнивать. Мне долго казалось, что такое со мной было когда-то очень давно, может быть еще задолго до того, как я родился, и даже до того, как был зачат…
Поэт улыбнулся.
Они пошли рядом, минуя ряд домов, отдыхающих собак.
В комнате поэт выудил из-под кровати сильно отощавший рюкзак и достал бутылку коньяку.
В тот вечер Атык и поэт не говорили ни о танцах, ни о поэзии. Это только в книгах да в кино поэты говорят о стихах, обсуждают литературные проблемы. Атык и поэт говорили о жизни, об охоте на китов, вспоминали разные смешные случаи, и, если бы кто-то извне прислушался к этому разговору, он был бы глубоко разочарован. Но за внешними обыкновенными словами кипела настоящая жизнь.
Главное было в том, что русский поэт понял то, что хотел сказать Атык своим танцем. И понял не просто как зритель, как любопытный наблюдатель, понял как поэт.
Русский уезжал на почтовом катере «Морж». Кораблик пришел из Инчоуна среди ночи и отходил утром, после открытия магазина.
По шаткой доске, переброшенной с берега на палубу, поэт поднялся на катер. В одной руке он держал потертый портфель, а за спиной болтался пустой рюкзак.
Атык стоял среди провожающих. Он завидовал поэту и мысленно проделывал с ним путь: мимо скалы Сенлуквин, мимо мыса Пээк, который русские называют мысом Дежнева, через пролив Ирвытгыр на виду островов Инэтлин и Иналик в Тихий океан.
Поэт долго стоял на палубе и, сколько мог видеть Атык сначала глазами, а потом в бинокль, смотрел на удаляющийся Уэлен, на галечную косу, где он в первый и последний раз видел Танец Кита.
Приблизительно через год Атык услышал по радио стихи:
…Из диковинного плена Я в Москву к себе увез Летний вечер Уэлена С близким блеском дальних звезд. Там тогда из бурь крылатых Неизведанных времен Появился старый Атык, Словно дух явился он. И несла нас вдаль поэма, В незнакомые концы. Где забытые дороги Нас вели к забытым снам И неведомые боги Открывали тайны нам. И была в нем суть раскрыта, Смысл искусства воплощен От времен палеолита Вплоть до нынешних времен.Потом кто-то достал книжку, в которой полностью были напечатаны стихи, которые так и назывались «Танец Кита». Атык украдкой часто перечитывал их.
Его кровать стояла под окном, и, приподнявшись на подушках, можно увидеть небо и море. Рассветало. Из смежной комнаты доносилось сонное дыхание домочадцев. Где-то на окраине Уэлена лениво лаяла собака. Кругом был мир, предутренний сумрак и тишина.
Атык вспоминал красочное сновидение, путаницу, странные привычки современных Богов. И подумалось ему: если и есть Боги, то ведь они в своем развитии тоже не стояли на месте, чего-то перенимали даже от земной жизни. Не все же здесь так уж плохо на их божественный взгляд. Скажем, телефон и даже часы. Атык протянул руку и достал с тумбочки свои, марки «Слава» — подарок внука.
Сон рассыпался, улетучивался, уходило что-то существенное, самое главное, и на первый план назойливо лезли графин, закрытый граненым стаканом, стол с зеленым сукном. Да, про стихи сказал Бог. Верно, было такое…
Всю свою жизнь Атык не только сочинял песни и танцы. Он был хорошим охотником, искусным резчиком по кости, мог смастерить нарту, натянуть новую кожу на остов байдары, словом, умел и делал все, что полагалось делать морскому охотнику. В этом отношении его жизнь ничем не отличалась от жизни остальных жителей Уэлена.
Атык посмотрел в окно. Он видел лишь небо и край моря. Снова вспомнился чудной сон, заставив его усмехнуться: плохо знает его Бог! Никакой другой жизни настоящему человеку не надо — только ту, которую прожил, отдав все силы и все способности своему предназначению.
За окном промчалась грузовая машина. Где-то далеко затарахтел трактор.
Жизнь продолжалась. Такая, какую хотели построить себе люди здесь, на галечной косе Уэлена.
Атык прикрыл глаза: он очень устал, и усталость разливалась по всему телу, заставляя опускать отяжелевшие веки. Атык мысленно увидел старый жирник в яранге. Его давным-давно не было в доме — как перебрались сюда, тогда и расстались с древним светильником. А тут он явился перед закрытыми глазами. Последний язычок пламени цеплялся за усыхающий моховой фитиль. Еще совсем немного, и он оторвется, улетит в небытие и погаснет. Навсегда.
Атык последний раз глубоко вздохнул.
Зоопарк
Петр Анканто о больших городах знал слишком много, чтобы не думать о том, что он будет чувствовать себя там уверенно. За свою в общем-то недолгую жизнь он перевидал множество кинофильмов, пересмотрел картинок в журналах, перечитал книг, и скопище каменных домов для него было хотя и далеким, но чем-то привычным, знакомым.
Был еще один источник знаний о городах — рассказы друзей, которым довелось провести отпуск «на материке». Но в этих рассказах главный упор делался на то, что город на самом деле совсем не такой, как в кинофильме, на цветном фото и даже в книге. Прежде всего — это сплошные очереди. Об этом говорили все. Чем больше город, тем длиннее хвост людей, стоящих в затылок друг другу — в магазин, в очередь за билетом в кинотеатр, на поезд, на автобус, а то и просто непонятно за чем. И еще — оказывается, асфальт совсем не зеркальный и не блестит, как на экране. Ну и другие упущения, отличия, которые можно почувствовать, только столкнувшись вплотную с городом, чудным местом, где столько народу живет, что полчища тундровых комаров едва ли могут сравниться с ним.
Петр Анканто почти всю свою жизнь провел на острове в Ледовитом океане. Правда, три года жил на мысе Шмидта, учился в семилетке. Все три года не было дня, чтобы он не вышел на мыс — взглянуть в молочно-белую даль Ледовитого океана в тщетной попытке увидеть родной остров, открытый только в конце прошлого века и населенный уже в советское время эскимосами из бухты Гуврэль.
Родители Анканто любили рассказывать о покинутой родине, тосковали по ней, но крепко держались за этот остров, который они первыми заселили и освоили.
На мысе Шмидта Анканто тоже тосковал по острову. Его угнетало сознание того, что за его спиной нескончаемая твердь, огромный Азиатский материк, который смыкается с Европой и кончается уже где-то в немыслимой дали, за Испанией, за Португалией, за теми пустынными кастильскими равнинами, по которым ехал добрый, нисколько не смешной Дон-Кихот со своим верным Санчо Пансой. А прямо за спиной, на юг — Индокитай, где идет война…
Непостижимо! И хотя все это можно рассмотреть на карте, можно даже указкой ткнуть в Цейлон, в Мадрид, большие расстояния убивали реальность.
То ли дело на родном острове. Границы земли там были доступны даже семикласснику. От южного берега острова до северного, где гнездились белые канадские гуси, где у западного мыса Блоссом вылегают моржи в осенние штормовые ночи, где мысленно поднявшись над всем островом, легко можно обозреть его границы, его берега, окруженные льдами, застрявшими на мелких местах обломками айсбергов.
После семилетки Петр Анканто вернулся на остров и заявил огорченным родителям, что больше не желает учиться и хочет стать настоящим охотником на морского зверя, какими были отец Анканто, его дед и все его предки в ту сторону, которая терялась в глубинах начала истории человечества. В подтверждение своего решения он показал отцу районную газету, где был напечатан призыв к выпускникам школ идти в тундру оленными пастухами.
— Так это про тех, кто окончил десять классов, — попробовал возразить отец, — и в тундру, а не в море.
— Если хочешь — пойду пасти оленье стадо, — с готовностью предложил Петр.
Но островное оленье стадо пас старик Тымкыльын. Это была его работа и забота. Да и олени на острове не нуждались в такой охране, как материковские, ибо на острове не было комаров, овода и волков. Оттого и здешние животные были огромными и жирными, и дрейфующие станции снабжались оленьим мясом с родного острова Петра Анканто.
Петр облачился в отцову кухлянку, в его камусовые штаны, надел белую камлейку и отправился на морской лед.
Он шагал от берега по льду, и позади него оставался родной остров, голубеющий тем более, чем дальше отходил от него человек. Дышалось легко и просторно, а над головой было такое небо, какого нет даже на мысе Шмидта — высокое, заполненное причудливыми облаками, которые к вечеру опустятся ближе к земле и превратятся в ураганный ветер. Но к тому времени Анканто уже вернется домой, в свой поселок, войдет в родной домик и крепко закроет дверь, чтобы ни одна снежинка не прорвалась в сени, где лежат собаки.
Анканто шел к полынье, где предполагал добыть нерпу. Ноги сами несли его к открытой воде, а глаза шарили по торосам, примечая все значительное, достойное внимания. Вон прошагал белый медведь. Сейчас начало зимы. К весне появятся детишки и будут любопытствовать, подходить к охотникам. А это опасно. Медведица может вступиться за своих несмышленышей. А стрелять нельзя — запрет. Штраф пятьсот рублей. Может быть, верно, а может быть, и нет. Три дня назад два огромных белых медведя пришли в поселок и забрались в склад. Разбили шесть ящиков с тройным одеколоном, припасенных заведующим торговой точкой. Медведей отогнали выстрелами из ракетницы, но даже сегодня, если внимательно принюхаться, можно уловить легкий запах одеколона с той стороны, куда ушли медведи.
Говорят, что в Канаде до сих пор стреляют белых медведей. Анканто читал в газете, как богатые охотники на маленьких самолетах гоняются за медведем, пока тот не падает в изнеможении на снег. Тогда пристрелить его не стоит никакого труда.
На острове до запрета тоже охотились на медведя. Не для себя, а чтобы шкуру продать. Полярники покупали, летчики, разные приезжие. Самим медвежья шкура была вроде ни к чему: жили в домах, пологи не шили, а для одежды она была слишком тяжела. Били медведей и не думали, что их мало осталось на земле. Правда, стали замечать, что умка начал остерегаться населенных мест, человека обходить далеко. Приходилось гнаться за ним по торосистым льдам, изводить на него патроны. А потом пришел запрет. После запрета цена шкуры так подскочила, что бить стали бедного умку пуще прежнего, пока несколько человек не поплатились пятьюстами рублями и не предстали перед судом. Вот тогда охота на умку по-настоящему прекратилась, а медведи осмелели так, что стали приходить в селение и задирать собак.
Сейчас так, словно умку никогда не стреляли, и он стал вольным и не пугливым жителем Арктики, каким был много-много лет назад.
Когда Анканто встречал умку, он смело шел ему навстречу, и белый медведь всегда уступал дорогу человеку.
Так продолжалось долго, много лет подряд. Женился Анканто, родились у него дети, и однажды встревоженная жена ворвалась к председателю сельского Совета и закричала, что Анканто как ушел позавчера во льды, так до сих пор его нет.
Подняли тревогу, вызвали вертолет с полярной станции.
Летчик, покружившись над торосами, быстро нашел Анканто и взял его на борт. У охотника была покусана нога, но раны были неглубокие. Только много крови он потерял и едва не лишился ноги, которая застыла, как кусок строганины. Ногу анадырские доктора отстояли, и Анканто вернулся на родной остров, привезя рассказы об анадырских новых домах, где из стенки течет горячая вода, которую, однако, не рекомендуют заваривать, может быть потому, что она такая ржавая, словно в нее высыпали мешок кирпичного чая.
Анканто снова стал охотиться в море.
Так бы текла размеренно его жизнь, если б он не повстречался с одним человеком, который всколыхнул ее.
Это был представитель зооцентра, приехавший на остров отловить белых медведей для зоопарков. Виктор Новиков был человек молодой и знал о животных столько, сколько было написано в книге Брэма «Жизнь животных», которую Анканто получал по подписке. Новиков окончил биологический факультет Московского университета, путешествовал по многим странам от Арктики до Африки. Парень сразу понравился Анканто, и охотник, недолго думая, согласился ему помочь отловить зверей. Новиков занимался отловом не впервые, и у него было много способов. Перебрав несколько, остановились на том, что выслеженную медведицу с выводком надо «застрелить» пулей, которая на полчаса усыпляла зверя, а выводок выловить и унести в поселок.
В эту весну белых медведей у берегов острова было множество. Берлоги, вырытые в сугробах, просматривались невооруженным глазом. Привыкшие к безопасности медведи расположились всего в трех километрах от селения.
Отлов прошел по намеченному плану, и Виктор Новиков заплатил Анканто столько денег, сколько тот не получал и за два месяца.
Медвежат погрузили в самолет, и они улетели в Москву.
Перед отъездом Виктор Новиков стал уговаривать Анканто приехать в Москву:
— Дорога — всего пятнадцать часов! Ну что тебе стоит? Посмотришь Московский зоопарк. Всех зверей мира увидишь!
Последнее запало крепко в память Анканто. Этими словами Виктор Новиков как бы осветил несознаваемую им самим мечту увидеть всех зверей земли сразу, в одном месте.
За многие годы Анканто накопил отпусков столько, что, вздумай он их использовать разом, пришлось бы ему находиться в отпуске года два, а то и три. Поэтому директор совхоза без разговоров выписал ему отпуск и только спросил, куда бы хотелось поехать Анканто.
— Есть путевки в Крым, на Черноморское побережье Кавказа, а если не хочешь уезжать далеко, на курорт Талая недалеко от Магадана.
— Мне только в Москву съездить, — сказал Анканто.
— Ну почему только в Москву? — со знанием дела сказал директор совхоза. — Можно на юг. Бархатный сезон начинается. Молодое вино и фрукты…
— Мне только зоопарк посмотреть, — упрямо повторил Анканто.
— Мало тебе тут зоопарка, — покровительственно проворчал директор и выписал Анканто отпускные, сумму довольно значительную, которую охотник получил в кассе без всякого трепета, ибо не питал к деньгам никаких чувств и не понимал других людей, которые придавали этим в общем-то нужным бумажкам такое большое значение.
Мыс Шмидта напомнил Анканто школьные годы и даже в сердце что-то защемило. Хорошие были годы. Каждый школьный день широко раздвигал мир, ощущение собственного непрекращающегося роста пугало его, и он часто видел себя в снах стоящим на краю бездны.
Отсюда самолеты летели прямо на Москву с посадками в Тикси и в Амдерме. Анканто купил билет и на следующий день сел на Ил-18.
Земля провалилась вниз. Анканто посмотрел в окошко и постарался увидеть остров. С морской стороны далеко виднелись открытая вода, белые пятнышки льдин, а ближе к кромке земли — четыре грузовых теплохода, стоящие на рейдовой разгрузке.
Потом земля исчезла, а под самолетом протянулась серая пелена облаков, похожая на вату из старого интернатского матраса. Жаль, что так быстро исчез остров.
И Амдерма и Тикси были типичными северными поселками с такими же плохонькими и неустроенными аэропортами, как и по всей трассе. Хорошо хоть погода была отличная и нигде не пришлось задерживаться.
Анканто прямо из аэропорта позвонил Виктору Новикову. Биолог заорал, чтобы Анканто брал такси и ехал к нему, вдобавок выругал, что не дал телеграмму, а то бы он приехал его встречать.
— Ну что я, делегат какой, — смущенно пробормотал в трубку Анканто. — И так сам доберусь.
Он вышел на привокзальную площадь, увидел машину с зеленым огоньком и уверенно подошел к ней.
— В город, на Фестивальную улицу, — сказал он шоферу.
Анканто сидел рядом с шофером и с интересом наблюдал за цифрами, выскакивающими на счетчике. Перед отъездом он видел кинофильм «Три тополя на Плющихе». Там была женщина, которая тоже впервые приехала в столицу. Она жалела деньги, хотя их у нее и у ее мужа было, по всему видать, достаточно… Каждый километр — двадцать копеек. Разве это дорого? На собаках стоит дороже.
Когда везешь какого-нибудь командированного, то, если плату перевести на километраж, будет куда дороже, чем на такси.
Критом деревья, зелень, домики за заборами. Зачем огораживать дом? Зимой все равно навалит столько снегу, что никакой забор не отгородит дома. Да нет, здесь не бывает столько снегу, сколько на острове. Выйти бы из машины, потрогать руками живые деревья. Не растут они на острове и даже на мысе Шмидта. Только в западных районах Чукотки да в верховье Анадыря.
Величину города можно было представить по счетчику. Почти на три рубля ехали среди домов, это не считая окраин. Быстро промелькнул Кремль, знакомые издавна башни, красная кирпичная стена.
— Зоопарк отсюда далеко? — спросил Анканто.
— Да нет, — встрепенулся шофер. Он не ожидал такого вопроса от молчаливого пассажира. — Завернуть туда?
— А до Фестивальной еще далеко?
— Порядочно, — ответил шофер.
«Новиков будет обижаться», — подумал Анканто и попросил шофера ехать на Фестивальную.
От центра города ехали все время прямо, никуда не сворачивая.
— Если не останавливаться, — сказал шофер, — то можно доехать прямо до Ленинграда.
— Нет, до Ленинграда не поедем, — попросил Анканто.
— А вы не из Средней Азии? — спросил шофер, обрадованный тем, что пассажир, наконец, заговорил.
— Нет, с другой стороны, — ответил Анканто.
— А с какой, если не секрет?
— Секрета нет. С Чукотки.
— О-о! — уважительно протянул шофер. — Люблю ваш край.
— Вы там бывали?
— Много читал, — ответил шофер. — Люблю про Север читать. Как там насчет охоты?
— Зверь еще есть, — ответил Анканто.
— Хорошо, — удовлетворенно протянул шофер. — Вот бы приехать к вам с ружьем.
— Можно приехать с ружьем, — кивнул Анканто. — Только на гуся нельзя охотиться, на белого медведя нельзя, на моржа ограничение, да и на других животных тоже.
— Черт знает что! — выругался шофер. — Охотнику житья не стало. Кругом запреты! Хоть ружье выкидывай.
Анканто сочувственно поглядел на шофера.
Действительно, что это за жизнь! Целый день сидишь в тесной машине, ноги ноют, а выйдет вот такой шофер на охоту — и ничего нельзя.
— Песца можно ловить капканом, — утешил его Анканто. — Моржа немного на лежбище. И уток на пролете.
— А вот вы кто? Охотник или оленевод? — спросил шофер, демонстрируя северную эрудицию.
— Охотник, — коротко ответил Анканто.
— А интересно — где вы так хорошо научились говорить по-русски?
— В школе, — ответил Анканто. — Да у нас все говорят хорошо по-русски. Еще знают эскимосский и чукотский.
— Полиглоты! — восхищенно произнес шофер.
Он искоса поглядел на Анканто и удовлетворенно произнес:
— По внешнему виду не скажешь, что вы охотник.
— Да я все оставил дома, — ответил Анканто. — Ведь в зоопарк собрался, а не на охоту.
Фестивальная улица представлялась Анканто веселой, нарядной, праздничной, но она оказалась унылой, застроенной одинаковыми домами. Правда, зелени было много, и первые этажи полностью скрывались неведомыми Анканто растениями.
Виктор Новиков стоял возле дома.
— Наконец! — закричал он и заключил в объятия вышедшего из машины Анканто, чем очень смутил его.
В большой комнате уже был накрыт стол и расставлено угощение, среди которого господствовали красные помидоры.
— Позавтракаем для начала, — объявил Новиков и представил гостя жене.
Новиков налил по рюмке и предложил выпить за встречу.
— Может быть, после зоопарка? — спросил Анканто.
— Успеем в зоопарк, — ответил Новиков.
Анканто ел и думал, как хорошо живут москвичи, если они вот так завтракают каждый день, словно в праздник. Такой стол бывал на острове только на полярной станции в большой праздник, в Октябрьскую годовщину, в Первомай или в Новый год.
— Может быть, сначала город посмотрим? — предложил Новиков.
— Сначала зоопарк, — тихо, но упорно сказал Анканто.
— Ну, хорошо, — вздохнул Новиков. — Поехали.
Анканто в первый раз спускался в метро, почувствовал себя так, словно он уже много раз это делал: опускал монету в прорезь, садился в переполненный вагон, где вопреки газетным статьям и художественным рассказам никто не уступал места ни старикам, ни старухам, ни женщинам.
Новиков громко рассказывал о каждой остановке, но Анканто не то что был нелюбопытен, ему просто неинтересны были эти названия, которые ничего ему не говорили, — Белорусская, Аэропорт, Сокол, Водный стадион. Он только мысленно представлял, что Водный стадион — тот же стадион, но покрытый водой. Аэропорт — это понятно, а Сокол — вроде птичьего базара, скал, на которых гнездятся гордые, литературные птицы — соколы.
Вход в Зоопарк представлял непримечательную арку. Сбоку были окошечки для касс, а в проходе стоял контролер.
С некоторой робостью Анканто прошел на территорию зоопарка и остановился в разочарованном изумлении: перед ним был если не пустырь, то место, так непохожее на сложившееся представление о зоопарке, что ему показалось, будто Виктор Новиков привел его совсем в другое место.
— Это зоопарк? — спросил он спутника.
— Зоопарк, — ответил Новиков.
Анканто огляделся. Кругом шли люди. Огромное количество людей, множество детей всех возрастов, Люди как люди, ничего в них особенного, интересного, такие, как Анканто, может быть, только живущие не на островах. Попалось несколько негров, но и они не заинтересовали Анканто. Были еще несколько человек, причудливо одетых, явно иностранцев, но и они были знакомы Анканто по журналам, кинофильмам и книгам.
Ему пришла в голову горькая мысль: а не обокрал ли он себя, жадно читая, жадно перелистывая иллюстрированные журналы, просиживая долгие вечера полярной ночи в сумраке кают-компании полярной станции? Весь этот мир был знаком ему до мелочей, и он чувствовал себя не чужаком, а только вернувшимся после долгого отсутствия. Ожидание чудесной встречи, неожиданности, оказалось обманутым, и он был в положении человека, который по необходимости съедал второй обед.
— А где же звери? — нетерпеливо спросил он.
— Будут звери, — ответил Новиков, но Анканто уже увидел его.
Слона. Серая громада стояла на небольшом возвышении, окруженная толпой любопытных людей. Слон лениво помахивал хоботом, похожим на ветку плавника, и пошевеливал огромными, серыми, как мешки из-под сахара, ушами.
Слон был до неправдоподобия живой, и можно даже было разглядеть маленькие глазки, которые с таким равнодушием и презрением смотрели на людскую толпу, что Анканто стало как-то неловко, и он постарался быстрее выбраться из тесного кольца жарко дышащих, возбужденных зрителей.
Следующим был обезьянник. Здесь было много детей с родителями. Один папаша старался разговорить большого шимпанзе, который грустно глядел в одну точку, словно погруженный в воспоминания.
Анканто долго смотрел на него и сказал Виктору Новикову:
— Родину вспоминает.
— Он родился в зоопарке.
— Правда?
— Точно.
— Значит, что-то другое вспоминает, — утешил сам себя Анканто.
Он медленно шел мимо обезьянника, мимо клеток, где содержались другие виды этих удивительных животных, и его охватывало непонятное чувство раздвоенности. Может быть, он просто не привык к этому, как не верил, что в ресторанах есть специальные люди, которые поют перед едоками, играют на музыкальных инструментах. Но было немного стыдно за людей, которые развлекались тем, что глядели на пойманных зверей.
Анканто теперь понимал, почему его родичи никогда не держали вольного зверя у жилища, хотя до запрета всегда можно было сколько угодно наловить белых медвежат или обрезать крылья у гусей и привязать их к столбикам. Что-то было в этом кощунственное, нечестное. Во всяком случае, для человека, который живет лицом к лицу с природой.
Большие жирафы грустно смотрели на охотника из-за высокой ограды и медленно двигали огромными, пухлыми губами серого цвета.
Над ухом Анканто гудел веселый, громкий голос Виктора Новикова, который взахлеб рассказывал о достижениях Московского зоопарка, о замечательных зверях, которые содержались здесь. Анканто старался внимательно слушать, но в мозгу стучала одна и та же мысль, которая не давала возможности воспринимать не только слова его спутника, но и веселую, оживленную толпу.
— Что с тобой, Анканто? — участливо спросил Новиков. — О чем задумался?
— Прежде чем человеку пришла мысль лишить другого свободы, он посадил в клетку зверя, — сказал Анканто и грустно огляделся.
— Дорогой мой, — развел руками Новиков, — да если мы будем каждое явление так рассматривать, жить невозможно будет. Вот сейчас увидишь своих родных белых медведей.
К белым медведям надо было пробираться с трудом. Поднялись по лестнице к сооружению из серого камня, и когда поравнялись с верхней его частью, Анканто услышал знакомое сопение.
В огромной каменной чаше, где в одном конце блестела лужица воды, распластавшись в изнеможении лежали три белых медведя. Они были не очень большие, может быть даже не старые, а молодые, этого года.
— Те самые, которых ты помог мне поймать, — сказал Новиков и огляделся, словно намереваясь сообщить всем, кто внимательно наблюдал белых медведей, что вот приехал человек, который живет как раз там, откуда вывезены эти удивительные звери, которые не выносят московского тепла.
То ли такого намерения у него не было, то ли он отказался от него, но Новиков перегнулся вместе с Анканто через металлическую оградку и глянул вниз.
— Ну как? — весело спросил он охотника.
— Худо им тут, — тихо произнес Анканто, — гляди, как тяжело дышат.
— Ну полно, — Новиков потянул Анканто. — Пошли отсюда.
Анканто понуро последовал за Новиковым. Ему было неловко перед товарищем, искренне хотевшим показать ему зоопарк, к которому он приложил свой труд. Не надо было так откровенно обнажать свои чувства. Ведь если призадуматься, то что он сам, Анканто, собой представляет? Всю жизнь он бьет зверей, бьет моржей на лежбище, в открытом море, на льдине. Терпеливо караулит нерпу в полынье, выпускает заряд сразу из обоих стволов по утиной стае, ставит капканы по тундре и на припае и палкой убивает песцов, чтобы не повредить драгоценную шкурку… Что лучше — бить зверя или ловить и держать на потеху в зоопарке?
Новиков повез Анканто в центр города.
Прошлись по Красной площади, посмотрели смену караула у Мавзолея и отправились обратно на Фестивальную улицу, проехав весь огромный город под землей.
— Ну что ты такой грустный? — спросил Новиков Анканто. — Да неужели зоопарк тебя так расстроил?
— Дело не в зоопарке, — тихо ответил Анканто. — Наверное, у меня такой возраст.
— Интересно.
— Я хочу сказать, что никогда я не думал, кто я такой. Просто был человек — и все. Не знаю, хорошо это или плохо. Знаешь, я родился в хорошем доме, не видел ярангу, кроме как на картинках. То, что мне рассказывали мои родители, было как сказка или такое прошлое, о котором можно только в учебнике прочитать. Это прошлое было молодостью и зрелостью отцов, а для меня представлялось дальше, чем война, дальше, чем революция. Но об этом я никогда не думал. Нет, может быть, мысли и были такие у меня, но я не обращал на них внимания, они проходили, как облака в хорошую погоду — тихо и незаметно… И вот вдруг появились.
Они сидели в кухне, широкое окно которой: было обращено в обширный зеленый двор, заросший деревьями и высокими пышными кустами.
Издалека доносился шум большого города, несколько напоминающий рокот океанского прибоя перед приходом ледовых полей.
— Наверное оттого, что я проделал такой большой путь, — продолжал задумчиво Анканто.
Новиков не перебивал гостя, только изредка подливал в стакан легкое кавказское вино.
— Я всегда боялся Большой земли. Потому что родился на острове. Мне нравилось, что есть предел, которого я могу достигнуть своими силами, своими ногами, на худой конец, могу проехать на своей собачьей упряжке. Теперь я одолел расстояние, которое даже вообразить трудно. И все равно одолел, пролетел, и мой родной остров очень далеко. Вот если я выйду один отсюда на Фестивальную улицу и решусь дойти до моего острова, — я буду идти, может быть, до конца моих дней, и все равно не дойду, помру где-нибудь на дороге. Но я все равно буду на острове. Потому что есть самолет, потому что есть другие люди, которые возят, которые прокладывают дороги для других людей, которые знают, что трудятся на общее благо…
Анканто подбирался к чему-то важному в своей жизни, к большой мысли, и Новиков чувствовал ее приближение сам, словно думал одной головой вместе с охотником.
— Я жил худо, — понизив голос, твердо произнес Анканто. — Я был одинок. Но мне было все равно — есть вокруг меня люди или нет. То, что я делал, мне казалось, что делаю для себя, — и это очень хорошо, и это самое важное. Я видел в песцовых шкурках, которые добывал, муку, сахар, чай, табак, одеяла, одежду, керосин, радиоприемник, нужные мне вещи. Мои песцовые шкурки становились вещами, которые потом служили мне. А что было с самими шкурками — это меня не интересовало. Не мое это было дело. Так было, пока ты не взял меня ловить белых медведей. Даже когда ловил, не думал ни о чем, кроме большой платы. И радовался большим деньгам.
Но когда ты уехал и увез маленьких белых медвежат, я вдруг затосковал. Все время думал о них, словно это мои близкие родственники — белые медвежата. Ты мне рассказывал про зоопарк, и так мне захотелось посмотреть на это скопище зверей, что я даже попросил отпуск. И вот приехал. Видел зверей, видел зоопарк, видел множество людей. Не знаю, почему это так случилось, что у меня вдруг словно заново открылись глаза. Я вдруг подумал — а ведь так и должно быть и иначе не может, что земля должна быть большая, зверей множество, и людей тоже. Только тогда можно одолевать большие расстояния. И не надо бояться дальней дороги — ты ведь не один идешь. Верно я говорю?
Новиков даже вздрогнул от этих слов. Он не ожидал, что Анканто вдруг спросит его, и не был готов ответить, хотя мучительно переваривал в собственном мозгу эти нескладные, тревожные слова арктического охотника, выросшего в вечном одиночестве среди льдов и девственной тишины.
— Ну, а что же тебе дало знакомство с зоопарком? — решился все же спросить Новиков, хотя сознавал, что вопрос этот бестактный, неуклюжий.
— Чего дало? — переспросил Анканто и с удивлением поглядел на своего собеседника, словно видел его впервые. — Ничего, — ответил он. Помолчал и повторил. — Ничего. Я сам взял, что надо. Понял, что надо.
— Неужели тебе надо было лететь десять тысяч километров, чтобы прийти к этой мысли — что одному худо?
— Надо было, — уверенно ответил Анканто. Он чувствовал, что это легкое вино затуманивает мозг и легкие поначалу мысли тяжелеют, как дождевые тучи.
— Может быть, мне еще надо долго думать, — задумчиво произнес Анканто. — Но думать, чтобы человек, как и зверь, жил вольно. Чтобы не было зоопарков на земле — и для людей, и для зверей.
— Не понимаю, — потряс головой Новиков.
— Чтобы человек не жил в клетке, подобно зверю, — пояснил Анканто.
— То, что ты говоришь — это всем людям ясно, — ответил Виктор Новиков.
— Разве? — переспросил Анканто. — Но зачем тогда зоопарк?
— Это совсем другое, — уклончиво ответил биолог, чувствуя смутное беспокойство от рассуждений и вопросов охотника, которые были наивными, прямолинейными, но какими-то беспокойными, словно Анканто подразумевал что-то другое, более важное, ускользавшее от внимания Новикова. Ему не хотелось признаваться, что важным этим и было то простое, прямолинейное и наивное, что говорил захмелевший Анканто.
— Мне теперь надо ехать обратно на свой остров, — сказал вдруг Анканто.
— Но твой отпуск на два месяца, — напомнил Виктор Новиков. — Ты можешь поехать в Крым, на Кавказ, посмотреть страну. Грех будет не воспользоваться такой возможностью.
— Когда льдина плывет по теплой воде, она тает, — ответил Анканто. — Я чувствую, что таю. То малое, что я увидел, хватит мне обдумывать целый год.
— Ты мне скажи прямо — не понравилось тебе в Москве? — спросил Новиков.
— Почему ты меня так обижаешь? Когда иные приезжие ругают мой остров, он от этого не становится хуже так же, как и не улучшается от похвал. Каждая земля по-своему хороша. Как человек. Только понять его надо, примерить к себе.
— Ну все-таки неразумно так — приехать на два дня и улетать. Ведь сколько стоит билет! — напомнил Новиков.
— Не дороже, чем на собаках. Даже дешевле, намного дешевле, — с улыбкой сказал Анканто. — Не надо жалеть деньги. Разве они по-настоящему мерят жизнь? Для жизни есть другие мерки, которые не обманывают.
— Какие же?
— Радость, горе, любовь, ненависть — одним словом, собственное сердце.
— Ну-ну, — неопределенно произнес Новиков, то ли поощряя, то ли осуждая гостя.
Ранним утром Новиков провожал гостя в обратный путь. В переполненном вагоне метро доехали до городского аэровокзала.
Когда Анканто садился в экспресс-автобус, он крепко пожал руку Новикову и сказал:
— Приезжай еще раз. Поговорим.
Тяжелый автобус медленно развернулся, и Новиков еще раз увидел в окно темное, словно слепленное из холодной коричневой северной глины, лицо охотника Анканто, человека, который посеял в его разуме семена смутного беспокойства. Он смотрел с тоской вслед автобусу и думал, что кончилась для него спокойная жизнь, которой он был доволен, считал образцом, жизнь, в которой он достиг многого, что было доступно не каждому: у него была отличная работа — он ездил в интересные места земли — в тропики, в Арктику, посещал по служебным командировкам зарубежные знаменитые зоопарки в Вене, Лондоне, Берлине, он защитил кандидатскую диссертацию, готовил докторскую, у него была отличная квартира у метро «Речной вокзал», красивая, добрая, верная жена…
Но Анканто… Что же он говорил? Чтобы человек не жил в клетке, подобно зверю? Так это каждому ясно… Чтобы не было зоопарков на земле — ни для людей, ни для зверей… Чушь какая-то!
Новиков огляделся. Он уже был у входа в метро «Аэропорт». Кругом растекался нарядный людской поток — счастливые, разные, хорошо одетые, сытые, словом, люди как люди.
А где-то в невообразимой вышине, далеко за легкими облаками летел на свой холодный остров арктический охотник, эскимос Анканто.
Они придут
На берегу лежало много плавника: искореженные, выбеленные соленой водой целые стволы деревьев, доски, пустые деревянные ящики, обломки бочек с клепкой, раскрывшейся наподобие расцветшего цветка, и среди всей этой серовато-белой массы, иногда отливавшей мертвенной синевой, ярко выделялись разные пластмассовые изделия — бутылки, фляжки, флаконы и даже канистры. Преобладал ярко-оранжевый цвет, видимый издалека.
Все это богатство лежало нетронутым у среза воды, невдалеке от того места, где когда-то располагались яранги старого Уназика.
Анахак вышел на мыс. На старых картах он назывался Индиан-Пойнт, а эскимосы этого берега называли его по-своему — Уназик, точно так же, как называлась эта длинная коса, идущая с материка наперерез морскому течению.
Вездеход тарахтел, удаляясь в сторону полярной станции. Там он заправится и на обратном пути заберет районного инспектора охраны природы Анахака.
Ветер дул с моря, и глаза слезились: то ли от соленых капель, то ли от волнения…
Лет двадцать Анахак не был здесь. С тех пор, как переселились в бухту Тасик в начале пятидесятых годов в пору укрупнений и реорганизаций.
Новое место было рядом с районным центром, и, когда вдруг кому-то хотелось выпить, он просто бежал через Красивое ущелье, выходил на Гнилой угол бухты и даже невспотевшим врывался перед закрытием магазина «Снежный» в винный отдел, расположенный для удобства прямо у входа.
У места своей старой яранги вдруг стало трудно дышать, хотя Анахак шел медленно, часто останавливался, чтобы отдышаться и вытереть заслезившиеся глаза.
Здесь не было развалин. Отчетливо виднелось очерченное уже невидимыми стенами пространство земли, внутри которого можно было легко угадать места очага, кладовки, полога… От полога остался плотно уложенный тундровый мох. Он еще не весь был унесен ветром и лежал голубым ковром, чуть мокрым от соленой влаги, принесенной ветром с моря.
Анахак взял горсть мха и понюхал.
Пахло детством.
Вокруг невидимых стен лежали большие камни, которые когда-то держали моржовые кожи — крышу яранги.
Анахак присел на один из камней и посмотрел на море.
Волна еще была мелкая, но к вечеру ветер наберет силу, и море обрушится на галечный берег тяжелыми холодными валами.
Далеко на мысе виднелись причудливые антенны полярной станции. В детстве таких не было. Были другие — высокие и простые. А эти какие-то колючие.
Почему-то хотелось заплакать, как в детстве, и услышать ласковый материнский голос.
Но голоса матери нет, как нет вот этих яранг. Мать похоронена на кладбище в Анадыре, в окружном центре. Она умерла в больнице, и Анахак, тогда еще студент Анадырского педагогического училища, хоронил ее с земляком Пиура, который сейчас где-то в Ленинграде, в аспирантуре. Отец из-за непогоды не смог приехать. Анахак и Пиура сидели в бортовой машине, держась за обитый красным сатином гроб, и оба плакали, не стыдясь слез. Смерть напомнила им родину. Не ту, где они теперь жили, а вот эту косу и соленый ветер над ярангами.
Мать перед смертью вспоминала косу, мыс, птичьи стаи, пролетающие над ярангами, вечную музыку морского прибоя и моржовое лежбище… Да, моржовое лежбище вот за тем поворотом.
Анахак встал и посмотрел туда. Словно что-то изнутри его толкнуло, и он зашагал вперед, отворачивая лицо от секущего холодного соленого ветра.
Тогда, в эту пору года, в Уназике устанавливалась непривычная тишина: моржи подходили к берегу и резкий звук или шум мог их отпугнуть.
Поначалу на берег вылезали моржи-разведчики, огромные, часто с обломанными клыками. Они долго купались в прибойной пене, потом осторожно выбирались на гальку, зорко поглядывая вокруг.
Через какое-то время к ним присоединялись другие животные, и последними вылезали на умятую гальку моржихи с молодняком.
В селении разговаривали вполголоса, и учитель на уроках сам объявлял перерыв.
Люди ждали, пока лежбище не заполнялось моржами так, что рев стада долетал до яранг. Животные, кому не досталось места на пляже, лезли прямо поверх других, дрались за каждое место, ломая друг другу длинные белые бивни.
Наблюдатель — обычно человек пожилой, но сохранивший зоркость — с рассвета до заката сидел на возвышенности и смотрел за лежбищем. Иногда к нему присоединялись старики. Они и решали, когда бить моржа.
Это был воистину священный праздник. К нему готовились загодя. Тайком от секретаря парткома в одной из яранг совершалось священное действо. Приносились жертвы морским богам.
Маленький Анахак, дрожа от ночной предзимней стужи, стоял поодаль со своими сверстниками и молча наблюдал. Иногда он видел, как возле школы маячила русская учительница. Она утверждала на уроках, что бога нет. Анахак с ней соглашался. Также она говорила, что нет и множества богов, которым поклонялись когда-то жители Уназика и окрестных эскимосских селений. И с этим Анахак тоже был согласен.
Однако здесь, на берегу моря, он чувствовал, что есть нечто или некто, где-то там, далеко, за темным пологом, укрывавшим морскую даль, кипевшую моржами, тюленями, огромными морскими великанами-китами.
Уже потом, в Анадыре, читая множество книг, Анахак стал понимать, что в действиях его земляков было далеко не слепое поклонение неведомым и невидимым богам. Это было поклонение природе, которое на родном языке называлось торжественно и просто — Внешние Силы. Причем эти Внешние Силы действовали и в самом человеке. И перед трудным и торжественным актом заклания моржей на лежбище охотник обращался больше к себе самому, к своему нутру, к глубинным источникам душевных сил. Ибо заклание моржей требовало и высоких душевных сил, которые сообщают твердость руке, держащей копье.
Анахак уезжал в Анадырь, в педучилище, поздней осенью, когда снова вылезали на сушу моржи. Их уже не было так много, как раньше; в море вели интенсивный промысел суда Приморского морзверокомбината. Это название звучало зловеще. Главным для таких добытчиков были моржовый жир, кожа и бивни. Остальное просто выбрасывалось в море, и иногда на Уназикской косе после шторма появлялись уродливые ободранные туши. Обычно уназикцы пользовались дарами моря. Но эти трупы почему-то не радовали людей, и их старались обходить далеко, не приближались к ним.
Скудело с годами уназикское лежбище, все меньше приходило моржей к галечному пляжу.
О том, что потом случилось, Анахак узнал из отцовского письма. В ту осень лежбище было скудное. Долгое моление Внешним Силам не помогло.
Склонялись даже к тому, чтобы моржа вовсе бить, а вместо того зимой заняться нерпичьим промыслом, используя древний способ — ременную сеть.
Но на моржа, как оказалось, был спущен план. Полагалось добыть определенное количество туш.
В тот год Наблюдателем был отец Анахака. С наступлением темноты он покидал место на возвышении и с утренней зарей отправлялся на дежурство, неся на груди старый морской бинокль, подарок полярного капитана.
Отец проснулся среди ночи от смутного беспокойства. В тишине ночи, которая никогда не бывает полной тишиной, ибо в ночной шумовой фон вплетаются и шум прибоя, и редкие вскрики чего-то испугавшихся птиц, и, главное, отдаленный, глухой шум моржового лежбища, он вдруг услышал пронзительный звук сирены.
Сон отлетел мгновенно, Амтын даже и не помнил, как он оделся и выскочил наружу.
Из морской темноты в сторону лежбища двигалось какое-то судно, время от времени издавая пронзительный звук.
Сердце у Амтына упало куда-то вниз, он отчетливо это почувствовал, и ноги отказались повиноваться. Так он стоял некоторое время, а из яранг выходили люди и бежали к берегу, пытаясь криком отогнать судно.
Это была одна из промысловых шхун, которые считали свою добычу на «хоровины» — снятые вместе со слоем жира моржовые шкуры.
В медленно наступающем рассвете обозначились очертания корабля. Загремели выстрелы, и моржи, давя друг друга, устремились от галечного пляжа. Звуки выстрелов смешивались с громким глухим моржовым хрюканием, в котором слышалось отчаяние и недоумение.
Когда поднялось позднее осеннее солнце, на лежбище уже было пусто: корабельные стрелки били моржа в воде и тут же вылавливали и поднимали туши лебедкой на палубу. С палубы в море текла кровь, и судно плыло в красной воде, окрашенной блеском утренних солнечных лучей.
Как писал Амтын, капитан потом понес наказание. Очень строгое наказание. Но от этого не стало легче жителям Уназика: моржи больше не возвращались на косу, оставив навсегда свой любимый студеный пляж.
Анахак читал письмо и представлял себе пустынное море, пустой берег, и холодная тоска разливалась по всему телу. Почему-то даже не было гнева против капитана, расстрелявшего древнее лежбище. Быть может, и он имел план, который надо было во что бы то ни стало выполнить…
После окончания педучилища Анахак в числе лучших студентов должен был поехать в Ленинград, в педагогический институт имени Герцена, но за четыре года он так истосковался по родным местам, что попросился в родную школу.
В конце пятидесятых годов кому-то вдруг пришло в голову, что эскимосский и чукотский языки достаточно послужили людям и пора отказаться от них.
Выпуск учебников прекратили. К счастью, это продолжалось недолго.
Но Анахак уже ушел из школы. Уназик переселяли в бухту Тасик. На общем собрании жителей селения председатель райисполкома — худая с низким голосом женщина и секретарь райкома, такой же худой человек, словно оба были близкими родственниками, обрисовали будущее нового селения. Близко — вода. Сколько хочешь пресной воды, и можно даже провести водопровод. Бухта со всех сторон защищена, и пароход с товарами можно выгружать без помех.
Главное же — близкое соседство районного центра: есть даже грунтовая дорога, по которой за полчаса на «газике» можно доехать до любого из четырех магазинов. Почему-то приезжие упирали именно на магазины. Предполагалось построить большую звероферму, на которой будет занято большинство людей.
— Не надо больше ходить в тундру на охоту! — соблазнял секретарь райкома. — Пушнину выращиваете под боком, а когда приходит время — забиваете. Корм вам будут привозить.
— Скажите, а в бухте есть зверь? — спросил кто-то из охотников.
— Бухта очень красивая, — заверил секретарь, — не может быть, чтобы туда не заходили нерпы и моржи.
Анахак тогда загорелся идеей переселения и уговаривал колеблющихся. Впереди была новая жизнь. Уже не в ярангах, а в настоящих домах, с комнатами вместо пологов, с окнами и кирпичными печками взамен жирников.
И в самом деле было так. На живописном берегу в два ряда стояли новенькие домики. Одни были готовы, другие еще строились. Работали строители из районного центра, умелые, опытные. За один рабочий день они подводили под крышу домик, и оставалось лишь поставить печку и вывести трубу наружу. На берегу возвышались кучи каменного угля.
Здания школы и клуба снаружи были окрашены в зеленое и смотрелись нарядно, празднично.
В день переселения, в утешение тем, кто все еще тосковал по покинутой косе, в новеньком клубе устроили песенно-танцевальное представление.
Первым в круг вышел Геннадий Умиак. Высокий парень с томным взглядом. Одним казалось: Умиак такой потому, что он в душе поэт, композитор, сочинитель новых танцев и один из лучших исполнителей, непременный участник всех смотров и конкурсов. Ему даже удалось раза два съездить в большой город. Впечатления у него были довольно-таки странные: «Там можно спиться в два счета: водка бесстыдно выставлена не только на полках магазинов, но даже в больших витринных окнах!» Другие, особенно заведующий отделением совхоза, считали, что Умиак попросту лодырь.
И вправду, Геннадий работал лишь тогда, когда ему этого хотелось. Может быть, по этой причине он оставался холостяком и жил с матерью, которую уважительно называл Магнитофоном за то, что она прекрасно помнила все напевы и танцы, когда-либо сочиненные и исполненные на этих берегах. Однако все заведующие сельским клубом, которые менялись чуть ли не каждый год души не чаяли в Умиаке, и, так как это были женщины, он не был обделен лаской.
Звон бубнов и хриплые голоса певцов успокоили сердца, но с новой тоской вызвали в памяти длинную галечную косу, соленый ветер и шум морского прибоя. А здесь волна была низкой: высокие горы защищали бухту от набравшего скорость настоящего морского ветра.
Но самое грустное выяснилось впоследствии: бухта была мертвой. Ни нерпа, ни лахтак, ни тем более морж сюда не заходили. Никто — ни старики, ни экспедиция из биологического института — не могли назвать причину. На охоту приходилось ездить на старое место, затрачивая на это иногда целый день.
Некоторые охотники переселились в районный центр, заняв вакантные места дворников и кочегаров. Иногда Анахак видел их — они часто были навеселе, довольны хорошими квартирами, большой зарплатой: получали северные надбавки, коэффициенты и имели право ездить раз в три года на любой курорт страны.
И все же в них уже не было чего-то существенного. Анахак не мог объяснить, в чем тут дело. Может быть, оттого, что они больше не смотрели в сторону моря и утратили осанку свободных морских охотников?
Звероферма оказалась убыточной, и если бы из колхоза не сделали совхоза, то она съела бы последние скудные общественные доходы. Летом шхуна приволакивала убитых морских зверей, и их оставалось только разделать. Это было странно и непонятно: охотники разделывали чужую добычу, пряча друг от друга глаза. Раньше, когда убивали зверей, после разделки обязательно устраивали большой праздник… Из чужих зверей праздника не получалось: было недоумение и тоска по старой галечной косе.
Анахак некоторое время работал в сельском Совете и даже раз был избран его председателем. Приезжие уважительно называли его мэром, а он бился за пристройку спортивного зала к школе, за новый детский сад и не понимал, почему такие очевидные вещи надо еще доказывать.
Когда в районе организовали службу охраны природы, Анахак попросился туда работать. Но в этом учреждении все места сразу же были заняты, и, если бы не один прискорбный случай, Анахаку ни за что не попасть бы на это место.
После года работы нового учреждения выяснилось, что «охранители природы» тайком били моржей на Аракамчеченском лежбище, вырубали клыки и продавали на сторону. Ловили рыбу в запрещенных, нерестовых местах, перегораживая от берега до берега мелкие речки. Терпение милиции лопнуло, когда был убит белый медведь и составлен липовый акт якобы о нападении его на вооруженного «охранителя природы».
Расследование кончилось тем, что чуть ли не весь аппарат службы охраны природы сел на скамью подсудимых.
Тогда и вспомнили об Анахаке и позвали его.
С нескрываемой радостью Анахак сдал дела своей землячке и дальней родственнице Ларисе Саникак и переселился в райцентр, заняв квартиру бывшего старшего инспектора районного отделения охраны природы, посаженного в тюрьму.
В окно были видны вся бухта, противоположный берег и дальние, подернутые голубой дымкой горы.
Анахак с таким рвением взялся за дело, что в первый же месяц восстановил против себя сразу трех больших начальников: директора кожевенного заводика, начальника гидрографической базы и капитана морского порта.
Каждому в отдельности он сказал:
— Рано или поздно вы уедете на материк. А мы здесь будем жить столько, сколько будет продолжаться жизнь. Мы любим эту землю и хотим видеть ее чистой, красивой, такой, как она была всегда. Такова политика нашего правительства и нашей партии, — добавлял он для убедительности.
Он оформил дела на директора кожевенного завода, очень милой и полной женщины, которая даже в теплое время года ходила в мехах, на начальника гидробазы, осетина по национальности. Этот неожиданно быстро согласился с Анахаком и обещал строго спросить со своих подчиненных — капитанов гидрографических судов. Директор кожевенного завода долго сопротивлялась и даже ходила жаловаться на Анахака в райком, но поддержки там не получила и скрепя сердце должна была заплатить из своего кармана за слив сточных вод в бухту.
Призвав к порядку местных руководителей, Анахак взялся за капитанов заходящих в бухту судов.
И тут он обнаружил, что люди как-то переменились. Что-то сдвинулось в их сознании. Капитан огромного ледокола «Ермак», на котором была даже баня с бассейном, долго разговаривал с Анахаком, пригласил его попариться и долго уговаривал поплавать в бассейне с подогретой морской водой. Анахак вежливо отказывался: как и большинство жителей Севера, он не умел плавать.
Капитан показал приказ. В нем строго запрещалось сливать в порту неочищенные воды, остатки горючего, сбрасывать мусор за борт.
— Вот видите, и мы боремся за чистоту Арктики, — веско сказал капитан. — У нас, к счастью, еще есть время уберечь этот прекрасный уголок земли от загрязнения.
Анахак согласился и выпил с капитаном две бутылки вьетнамского пива.
Пиво было крепкое и неожиданно ударило в голову. Хмелея, Анахак с нарастающим испугом думал, что за последнее время он частенько стал выпивать и находить в этом странное удовольствие.
Чаще всего это случалось, когда он огорчался. То узнает от оленеводов, что геологи постреляли оленей, либо взрывчаткой оглушили рыбу в заповедном озере, или лесовоз вылил в акваторию бухты тонну мазута…
Галечный пляж еще был пуст, но за линией прибоя Анахак увидел моржей. Они резвились в студеной воде, и среди них было немало самок с подросшими за лето детенышами.
Анахак замедлил шаг и, стараясь не шуметь, стал осторожно приближаться к покинутому лежбищу.
Неужели они придут?
Он остановился и присел на камень так, чтобы его не было видно с морской стороны. Щека, обращенная к морю, покрылась холодной соленой влагой, и она невольно затекала в рот, вкусом своим напоминая слезы. Анахак вдруг с удивлением вспомнил, что со времени смерти матери он больше не плакал. Были горькие обиды, страшная боль, разочарования, сочувствие, горе — а вот слез не было. Анахак старался не плакать с тех пор, как сам поверил, что стал взрослым. С тех пор, как убил своего первого тюленя, на этой галечной косе, и мать помазала его лоб свежей кровью. Эту отметину Анахак постарался сохранить до следующего дня, чтобы все в классе поняли, что он стал настоящим мужчиной, охотником. Только новая учительница велела Анахаку умыться. «Нельзя таким грязным приходить на уроки», — сказала она и строго посмотрела сквозь очки.
Сердце ликовало, когда он смотрел на моржей. Вот так бы сидел и сидел, как сидели старые Наблюдатели, чтоб видеть своими глазами, как на берег выползает первый морж-разведчик.
Но моржи не спешили на берет. Они плескались, купаясь в пене студеного прибоя, иногда касались холодной разноцветной гальки, но тут же отплывали, словно чего-то испугавшись.
«Ну что же вы! — мысленно уговаривал их Анахак. — Это же берег ваших предков! Разве вы не узнаете его? Тут жили ваши родичи, отдыхали, растили своих детей… Здесь, в глубине гальки, на границе вечной мерзлоты лежат кости ваших предков. Выходите, не бойтесь! Теперь никто не тронет вас, никто не спугнет!..»
Но словно в опровержение этих увещеваний Анахак чутким ухом уловил приближение вездехода. Он еще тарахтел далеко, у самой полярной станции. Если он подойдет сюда, моржи будут распуганы и ни за что не вылезут на берег.
Анахак вскочил на ноги и бросился навстречу вездеходу.
По гальке было трудно бежать, ноги разъезжались. Застучало в висках, дыхание стало резким, будто в глотку кто-то сунул раскаленный прут.
Чтобы остановить вездеход, Анахак замахал руками. Но водитель понял его совсем по-другому и прибавил скорости.
Анахак чуть не плакал.
Он едва не кинулся под гусеницы.
— Там они! Они придут! — произнес он, тяжело дыша. — Моржи.
— На лежбище? — понял водитель.
— Там, — Анахак кивнул.
— Полярники мне сказали, — сообщил водитель. — Они видели даже одного вылезшего. Обещали смотреть за лежбищем и не беспокоить моржей.
Анахак отдышался и сел рядом с водителем.
— Давай, — сказал он. — Только потише.
Водитель вырулил на тундровый дерн, чтобы не так грохотали гусеницы.
Вездеход приближался к горам. А там тундровой речной долиной — прямая дорога в поселок.
Анахак, погруженный в свои мысли, взглядом скользил по отцветающей тундре, примечая красные пятна морошки, лакированные шляпки грибов. Грибов в этом месте было множество.
Водитель цокал языком, ахал и восклицал:
— Вон глядите! Ух, какой! Нет, надо в выходной выбраться сюда с женой! Такое добро пропадает! А вон — целое семейство!
Тут он не выдержал, затормозил и выскочил, сорвав прямо у гусениц десяток прекрасных, крепких подберезовиков.
— Надо же! — сказал он, тронув машину. — Вот уж никогда не думал, что на Чукотке может быть столько грибов! И каких! Ни одного гнилого, ни одного червивого! Видно, червяк не выдерживает здешнего климата… А здешний подберезовик! Вернее его, конечно, называть надберезовиком…
Это уж верно. Здешние грибы шляпками гордо возвышаются над стелющейся березкой, над листьями, распростертыми на кочках и сухих возвышенностях.
Возле Красивого ручья выехали на каменистую тундру. Здесь речка проложила себе путь, разрезав скалистый уступ, стеной обрывающийся к потоку. Гладкая каменная стена была испещрена надписями, сделанными разноцветной масляной краской. Анахак еще помнил ее чистой. Какая сила тщеславия! Ведь это ж надо: за много километров притащить сюда банку масляной краски, кисти да еще вскарабкаться на почти отвесную стену. Без альпинистского снаряжения не обойтись. «СЕМЕН КОСТРОВ 1971 год», «ВАСИЛИСА ГОЛУБЕВА И АНТОН ГОЛУБЕВ» — красовалось на уступе. Видать, Антон держал свою Василису, пока она выводила надпись: почерк был женский, аккуратный и красивый. Кроме имен, были тут и две надписи, так сказать со смыслом. На первой было: «ПРИВЕТ ЧУКОТКЕ», на второй: «ПРОЩАЙ, ЧУКОТКА!»
Анахак вспомнил другую надпись, сделанную выбеленными кирпичами на целый километр у подножия сопки, выходящей на бухту: «СЛАВА СОВЕТСКИМ ПОГРАНИЧНИКАМ!» Она была видна издалека, с самолета, заходящего на посадку.
Поселок показался сначала башенными кранами в порту, а потом на одном из поворотов возникли ряды аккуратных пятиэтажных домов, выгнувшихся дугой по очертанию набережной. Поселок был красив и вблизи и издали. Он заслуженно считался одним из самых благоустроенных на Чукотке.
За нефтехранилищем, в будке с надписью «ГАИ», в которой обычно никого не было, стоял человек и размахивал красным флагом.
Водитель встревоженно посмотрел на Анахака.
— Что бы это могло значить?
Милиционер подбежал к вездеходу и возбужденно крикнул:
— Глуши мотор! Или объезжай выше, к гаражу!
— Что случилось? — спросил Анахак.
— Моржи, товарищ инспектор! — милиционер явно был возбужден. — Прямо у продовольственного магазина «Снежный».
— Какие моржи? Что ты говоришь? — удивился Анахак.
— Самые натуральные, клыкастые! — весело сказал милиционер. — Секретарь райкома распорядился: не шуметь, машины и вездеходы — в обход!
Анахак выскочил из машины.
Он бежал мимо покосившихся сараев кожевенного завода к продовольственному магазину, туда, где неправдоподобно тихо и молча колыхалась толпа.
Анахак пробивался вперед.
На крохотном кусочке земли, на гальке, среди всякого мусора — бутылок, консервных банок и пластмассовых флаконов, лежали четыре моржа и не обращали никакого внимания на возбужденную, вполголоса переговаривавшуюся толпу. Многие из этих людей лет по двадцать пять жили на Чукотке, уже собрались уходить на пенсию и уезжать и вот впервые видели живых моржей.
— Тише, товарищи, тише, — неслось по толпе. — Посмотрели и хватит, дайте другим взглянуть…
Люди отходили, безмолвно и вежливо уступая друг другу радость созерцания животных, доверившихся человеку.
Анахак замер, потрясенный увиденным.
Стоял тихий, осенний вечер. Здесь, в бухте, окруженной горами, ветра не было и не было волн на гладкой воде. И все же Анахак вдруг ощутил кончиком языка каплю соленой влаги на щеке, торопливо слизнул ее и сам себе улыбнулся: они пришли!
Для берегов отчизны дальной…
Когда собаки тянут хорошо, и дорога идет по ровному, укатанному снегу, и полозья скользят, долго не стирая нанесенного на них льда, когда нет ветра и погода ясная, путешествие на нарте доставляет настоящее удовольствие. Можно спокойно обозревать окрестности, неторопливо рассматривать береговые утесы, дальние, тонущие в голубой полутьме мысы, бесконечные нагромождения торосов. Можно слушать шелест полозьев по снегу, тяжелое дыхание собак и редкие покрики каюров. Но главное — чувствовать великий покой, когда все окружающее как бы входит в тебя не через разум твой, а через твои ощущения — через кожу, ноздри, глаза…
Михаил Павлов сам управлял упряжкой. Ему, прожившему большую часть своей жизни в Арктике, не привыкать к нарте и к долгим переходам через снежные пустыни, торосистые кромки ледовых припаев, прилепившихся к крутым скалистым берегам.
Упряжка Павлова шла средней в караване: впереди каюрил председатель островного сельского Совета Яков Ыттувги. На последней нарте ехали зоотехник местного колхоза эскимос Спартак Кантухман в егерь нового заповедника Афанасий Малышев, сын знаменитого охотника с мыса Северного. Весь же собачий караван официально именовался экспедицией Арктического заповедника, организованного совсем недавно специальным постановлением правительства.
Территория первого в мире Арктического заповедника включала в себя остров, по которому двигались сейчас три упряжки, и примыкающее морское пространство, или, как было написано в документе, акваторию. Директором был назначен Михаил Николаевич Павлов, местный житель, биолог по образованию…
Путешествие длилось уже третью неделю. Были обследованы места обитания белых медведей, пустые еще птичьи базары в прибрежных скалах. Сейчас держали путь на знаменитое моржовое лежбище на мысе Блоссом, а оттуда — в тундру Академии, на гнездовья белых гусей… А пока на всем пространстве вверенного Михаилу Павлову заповедника не было ни птиц, ни моржей. Белые медведи не выразили никакого желания вылезать из своих снежных берлог, где они вылеживались в ожидании потомства. Не многие заповедники могут похвастаться таким почти полным отсутствием живности. И все же Михаил Павлов был счастлив.
Арктика и должна быть такой — на первый взгляд пустынной, может быть, даже напрочь подавляющей новичка своей немотой. А на самом деле это земля, полная деятельной жизни. В ином пригородном лесу не встретишь столько живого, сколько в зимней тундре или в Ледовитом океане. Сейчас нарты идут по припайному льду, а под его толщей живут рыбы. Если пробить лунку и опустить крючок с приманкой из яркой тряпицы, можно поймать навагу, треску или бычка. Присмотришься повнимательнее к, казалось бы, девственному снегу и на твердом месте узришь цепочку следов: это песец отправился во льды, чтобы подкормиться остатками обеда умки — белого медведя. Или вот еще… Но эти следы может увидеть лишь тот, кто родился и вырос в здешних местах, кто воспитывался не в современном школьном интернате, а в яранге. Это следы полярной мыши — лемминга — главной пищи полярного песца.
Кое-где на фоне голубых айсбергов, словно чуть облитые синевой, темнеют следы самого царя полярных льдов и снегов — белого медведя… А ведь это только следы живого, увиденные за несколько минут с нарты, идущей по припайному льду вдоль скалистого берега острова.
До предполагаемого места ночлега часа четыре ходу, или, точнее, одна чаевка и войдание полозьев. Если метеорологический домик в порядке, можно отдохнуть с комфортом и даже снять с себя одежду.
Последний раз раздевались в охотничьей избушке Ульвелькота. Неделю назад Ульвелькот встретил гостей приветливо, как полагается тундровику. Угостил моржовой мороженой печенкой и знакомыми с детства Михаилу Павлову лепешками, жаренными на нерпичьем жире.
Комнатка охотника была оклеена газетами «Советская Чукотка». Листы располагались так, что газеты можно было читать в хронологическом порядке. Павлов со спутниками долго топтался перед стенами, наслаждаясь чтением полузабытых новостей. Тем более что все книги, взятые с собой, были давно прочитаны: это томик рассказов Джека Лондона у Кантухмана, том из собрания сочинений Салтыкова-Щедрина, принадлежащий Ыттувги, и труд профессора Андреева по биологии северного оленя, лежащий в походной сумке Михаила Павлова.
Охотник постелил гостям стерильно чистые оленьи шкуры, провисевшие всю зиму на вешалах рядом с убранной байдарой. Когда в избушке погасили свет, Михаил разделся донага и блаженно вытянулся на оленьей шкуре, мягкой, теплой, ласковой… От шерсти пахло ветром и соленым морским льдом. Радио передавало последние известия о положении в районе Суэцкого канала, о подготовке к весеннему севу на Кубани.
Это было последнее воспоминание о теплом ночлеге. Все остальные ночи проводили в спальных мешках, снимая только верхнюю кухлянку и обувь.
Брезентовая палатка защищала лишь от ветра, по холод беспрепятственно проникал внутрь временного жилища, за ночь оседал вокруг лица белым инеем, склеивал ресницы так, что утром было трудно открывать глаза.
В особенно морозные ночи, когда от холода не гнулись пальцы в суставах, Михаил Павлов вспоминал избушку Ульвелькота, комнатку, оклеенную газетой «Советская Чукотка», полную тепла, запахов горячей пищи, круто заваренного чая и подтаявшего хлеба…
Заря уже занимала полнеба. Сегодня, согласно календарю, после полярной ночи впервые должно взойти солнце. Погода ясная, значит, есть возможность увидеть восход. Ыттувги, по всему видать, хочет приурочить привал к этому моменту.
За мысом, когда передняя нарта повернула на северо-запад, Ыттувги притормозил, и собаки послушно улеглись на снег, спрятав головы между лапами и животом.
Зашумел примус. Медный чайник, набитый льдом, покрылся сверху белой изморозью. Спартак Кантухман принялся рубить топором хлеб. Белая буханка превратилась в кучу тонко нарезанных кусков.
Нарты опрокинули, и каюры принялись войдать полозья. Павлов вытащил из-за пазухи плоскую бутылку с водой, смочил кусок медвежьей шкуры и быстро провел по полозу, стараясь, чтобы ледяная пленка была ровной и гладкой.
Кантухман, исполняющий обязанности кока экспедиции, разлил чай и выдал каждому по два ломтя мороженого хлеба, проложенных крошевом застывшего сливочного масла.
— Солнце! — крикнул Афанасий Малышев, отставив кружку с чаем.
Сначала проклюнулся краешек, словно усталая собака высунула на мороз кончик красного языка, а потом показалась половина диска, распространив свет по всему небу, размыв синюю чернильную полутьму алым светом первого солнечного дня, взошедшего над заполярным островом.
Привал чуть продлили, чтобы налюбоваться первым солнцем. Через четверть часа оно полностью скрылось за горизонтом, оставив в небе долгую вечернюю зарю.
Нарты поставили на полозья, и экспедиция двинулась, держа направление на мыс Блоссом, на погребенное подо льдом и снегом моржовое лежбище. Где-то на подступах к нему должна быть избушка.
Павлов пристально всматривался в густеющую тьму, стараясь не пропустить домик. Правда, Ыттувги уверял, что точно знает его местоположение, но зимний пейзаж часто обманывает глаза, и иной раз долго приходится блуждать по снежной равнине. Однообразие белизны, пусть даже окрашенной зарей и свечением неба, превращает какой-нибудь камешек в человеческую фигуру, в одинокую ярангу… В детстве, когда Михаил Павлов учился управлять упряжкой у деда Паата, на коротком пути от Уэлена до Кэнискуна чего только не померещится! Тогда возили уголь в мешках, и выпавшие на снег черные угольки казались оленями, волками, ярангами, людьми и даже стойбищами, если просыпалась целая горсть… Трудное было время, военное, холодное и голодное, хоть война шла за десять с лишним тысяч километров от этих берегов.
Глянув на торчащую из-под снега трубу и краешек крыши, Павлов понял, что здесь большого уюта не жди: домик, может, забит снегом и внутри.
Достали лопаты и принялись откапывать дверь.
Она была хорошо и ладно пригнана. В железной скобе вместо замка торчал кусок гладко оструганной палки. Павлов вынул палочку и потянул дверь на себя. Она с трудом открылась, впуская путника в небольшой тамбур. К радости всех, снега в тамбуре почти не было, и следующая дверь в комнату, высоко поднятая над земляным полом и обитая оленьими шкурами, довольно легко открывалась.
Из комнаты пахнуло долгой нежилью и еще чем-то знакомым, но непонятным.
Павлов зажег спичку и при свете короткого и тусклого пламени успел разглядеть то, что его поразило и заставило тут же зажечь вторую спичку: все стены небольшой комнатушки были сверху донизу заполнены аккуратно расставленными на стеллажах книгами!
— Какомэй! — воскликнул Кантухман. — Академия наук.
— Ты смотри! — прищелкивал языком Малышев, проходя с зажженной спичкой вдоль рядов слегка заиндевелых корешков. — Вот это богатство! Вот почитаем! Да тут можно годами жить и не скучать!
На столе стояла керосиновая лампа с тщательно протертым стеклом. Стылый фитиль долго не зажигался. Но когда комната осветилась устойчивым и ярким светом, Павлову показалось, что он попал в сказку.
Не раздеваясь, позабыв о том, что надо первым делом устроить собак, почистить трубу и разжечь печку, путники с лампой в руке обошли всю комнатку, высвечивая чуть припорошенные инеем названия книг: Норденшельд «Плавание на «Веге», Визе «Моря Советской Арктики», пятитомник Руаля Амундсена, выпущенный еще до войны издательством Главсевморпути, комплект магаданского альманаха «На Севере Дальнем» и еще одна редкость — подшивка журнала «Советская Арктика»…
Откуда же этакое богатство? Романы, повести, стихотворные сборники… Кто же собрал эту удивительную библиотеку? Здесь, казалось, было все, что могло насытить любопытство каждого: художественная литература, история исследования Советской Арктики, мемуары полярных исследователей, философия и даже научная фантастика, которую Михаил Павлов не любил за то, что авторы этих произведений укрывали тундру пластмассовым колпаком и всячески «утепляли» Арктику. В комнатке лишь слышались вздохи и возгласы восхищения.
— Ты знал об этом? — Павлов кивнул на книжные полки и спросил Ыттувги.
— Знал. Первые книги здесь появились еще во времена Георгия Ушакова. Потом каждый человек, который приезжал, оставлял книги. Так мне рассказывал отец. Метеостанция открывается только с началом навигации. На зиму ее консервируют. Каждый год новый человек приезжает. И оставляет свои книги.
С трудом оторвавшись от полок с книгами, затопили печку, поставили чайник, кастрюлю со льдом, чтобы согреть воду и сварить пельмени.
Когда хозяйственные дела были закончены и на деревянных топчанах расстелили оленьи шкуры и спальные мешки, Павлов снова вернулся к книжным полкам.
Тесно прижавшись, стояли в ряд шесть томов довоенного академического собрания сочинений Александра Сергеевича Пушкина. Павлов вынул один из них, разлепил промерзшие, покрытые инеем страницы и прочитал щемящие строчки, такие знакомые, сразу же вернувшие Михаила Павлова на много лет назад. Эти стихи Миша впервые прочитал в чукотской школе в Уэлене, едва владея своим родным русским языком.
Отец Миши Павлова приехал на Чукотку в конце тридцатых годов директором пушной фактории. Миша еще был слишком мал, чтобы помнить высокий прибой, на котором вельбот с приезжими влетел на берег и опрокинулся. Но зато он хорошо запомнил круглый сборный домик, мало отличающийся от окружающих яранг, стоящий на берегу и обложенный дерном до самой крыши. В нем были две квартиры. Одну, окна которой выходили на лагуну, занимали Павловы. Когда задувал ураган с юга, бывало, что стекла со звоном вдавливало внутрь, и ветер подхватывал белье, бумаги, куски меха. В такие дни Миша старался улизнуть из дому в вместе со своим другом Гономом отправиться на лагуну. Сгибаясь под ветром, ребята забирались на противоположный берег и оттуда, подставив ветру матерчатую камлейку, словно на парусах, мчались на санках с полозьями из расщепленных моржовых бивней. Санки смастерил Мише старик Рычып, живший в своей яранге рядом с круглым деревянным домиком. Старик славился мастерством и сделал русскому мальчику такие санки, каких ни у кого не было: деревянные планки были гладко обструганы и отполированы, а на костяных полозьях Рычып изобразил в картинках сказку о добром великане, который помогает охотникам преодолевать бурю и тяжелые льды.
Когда пришло время Мише идти в школу, в селении появились еще двое русских — девочка Римма Широкова и Володя Пенкин. И тогда Миша понял, что русский язык он едва-едва знает. Правда, он считал, что его родным языком является чукотский, на котором в селе говорили все, даже его родители. В школе учитель Иван Теркинто с улыбкой заметил Мише:
— Какой же ты русский, если русские слова произносишь так, будто ты чукча?
Мише был непонятен упрек учителя, но почему-то стало стыдно.
Он рассказал об этом дома.
Отец сказал:
— Не горюй, по-русски ты научишься быстро говорить. Верно, что он тебе родной язык. Но и чукотский тебе тоже родной, потому что первые свои слова ты сказал на нем…
И все же Миша Павлов решил про себя, что научится русскому языку так, что в будущем его никто не сможет больше попрекнуть. Через год он говорил уже не хуже своих русских сверстников — Риммы и Володи.
В остальном же его детство протекало так же, как и у его чукотских друзей. Он ходил на охоту. Зимой — на дрейфующий лед, пересекая припай напротив мыса Дежнева, на изрезанные разводьями движущиеся ледяные поля Берингова пролива. Весной — на утиную охоту к Пильхыну, проливу, соединяющему лагуну с морем, бил нерпу с ледяного берега. Летом на вельботе в открытом море гонялся за моржами, плывущими меж льдин, преследовал китов и белух, а поздней осенью крался с длинным копьем бить зверя на галечном пляже у кипящего прибоя.
От своих земляков он перенял неторопливость в разговоре, отличное знание примет погоды, выносливость и силу.
Но в школе рядом за партой сидела Римма Широкова, которая насмешливо и снисходительно посматривала, когда Миша дремал на уроках, возвратившись под утро после весенней утиной охоты на разломанном припае у Кэнискуна.
На переменах он рассказывал ей о долгом солнце, от которого трескалась кожа и слезились глаза, о блеске льда, о шорохе осыпающихся в воду кристаллов фирнового снега, о шуме тысячекрылых птичьих стай.
А девушка перебивала его, говоря о том, что на ее родине, в теплом и ласковом крае, уже цветут яблоневые сады, зеленеют травы, сеют хлеб и ветер из дальнего леса несет аромат весны и лесных трав… Миша чувствовал, что Римма старается пробудить в нем тоску по никогда не виданной родине, о которой у него даже не было воспоминаний. Иногда это ей удавалось, и Миша накидывался на книги, где описывалась природа русской земли, раздольные поля, леса, широкие реки, полные теплой, медленно текущей воды, волнующиеся поля пшеницы, разные крестьянские работы, так хорошо и любовно описанные писателями России.
В те годы Миша много читал Пушкина. И с каждым годом великий поэт становился ближе этому русскому мальчику, выросшему на Чукотке.
Перед самой войной в селении появился шеститомник Пушкина, прекрасное академическое издание, с обширными комментариями, с рисунками самого поэта, его автографами, с цветными репродукциями, проложенными тончайшей папиросной бумагой. Каждый раз, выдавая книгу для прочтения, учительница Зоя Герасимовна, на попечении которой находилась библиотека, строго предупреждала, чтобы не вырывали на курение папиросную бумагу, и демонстративно пересчитывала листы.
Пушкинские тома читали по очереди. И следующую книгу Миша Павлов получил уже тогда, когда от берегов ушел припай и Римма Широкова собралась уезжать на материк.
Ребята прощались на высоком мысе, возле маяка. Оттуда открывался вид на морской простор, на далеко выступающий в море Инчоунский мыс. Небо было чистое, большое и светло-голубое от обилия солнечного света. Миша молчал, а Римма, захлебываясь, все говорила и говорила о том, как она будет босиком гулять по луговой траве, спать на сеновале, ходить в лес за грибами, купаться в речке, в озере.
— Это такое счастье — уехать отсюда на материк! — сказала Римма с таким отчаянным выражением облегчения, словно вырывалась из неволи.
— Здесь тоже неплохо, — обиженно буркнул Миша, — грибов в тундре поболее будет, чем в лесу.
— Что ты, Миша! — усмехнулась Римма. — Как можно сравнить тундру с лесом!
Сердце парня так защемило от обиды, что он чуть не заплакал.
Широковы продали Павловым железную панцирную кровать и еще кое-что из вещей. Отец Риммы, работавший бухгалтером в фактории, на прощальном ужине долго отчитывал Мишиного отца за то, что тот не показывает сыну настоящей родины и держит парня в некультурном окружении. Отец только ерзал на скрипучем табурете и все порывался что-то сказать. Но так и не проронил ни слова и вместе со всеми пошел на берег провожать отъезжающих на буксирном пароходике «Водопьянов».
Кораблик поднял якорь и дал неожиданно долгий для такого малого суденышка солидный гудок. Со скал сорвались кайры, чайки поднялись со своих гнездовий, с гребня прибоя вспорхнули кулички.
«Водопьянов» завернул за мыс Дежнева и скрылся из глаз.
Вечером Миша Павлов сидел на панцирной кровати, оставленной семьей Широковых, и читал Пушкина, переживая с неожиданно возникшим чувством грусти удивительные слова:
Для берегов отчизны дальной Ты покидала край чужой…Да, для Риммы Широковой эта земля так и не стала родной.
Она тосковала по зеленому лесу, по полям, по городу Рязани, от которого до Москвы так же близко, как отсюда до залива Лаврентия.
После отъезда Риммы Мише стало казаться, что девушка была права. Что же хорошего, если за все лето от силы было полтора десятка солнечных дней, а в конце июня выпал такой густой снег, словно вернулась зима. Осенние штормы не дали подойти к селу пароходу-снабженцу, и он разгрузился в Кэнискуне. Всю зиму на собачьих упряжках возили уголь. А много ли навозишь на нарте? А тут отец захворал. Попутным самолетом полярной авиации из Кытрына прилетел врач, осмотрел больного и что-то сказал матери. Миша не слышал, но понял, что отца уже нет смысла везти в больницу.
Отец умер рано утром, когда установилась удивительно ясная погода.
Его похоронили на новом кладбище, на холме, где из каменистой тундры торчали фанерные пирамидки с жестяными звездами, вырезанными из консервных банок.
Мать, убитая пережитым горем, все чаще заговаривала об отъезде на материк. Она списалась с братом, который жил недалеко от Иркутска и работал на строительстве нефтехимического комбината.
Павловых провожали всем селением. Ни один вельбот не вышел в море, никто не ушел в тундру. Женщины не скрывали своих слез, мужчины сурово жали руки отъезжающим. Матери на прощание преподнесли куртку, сшитую из птичьих перьев, — древний наряд, нынче такой редкий, что его нет даже в Анадырском краеведческом музее. Мише — пыжиковую шапку и украшенные бисером перчатки для танцев.
— Если будешь с девушками плясать, надевай на счастье, — сказал Гоном, школьный товарищ.
Материковые города поразили юношу. А самое приятное свидание было со знакомыми лишь по книгам да по кино лесами, полями, теплой водой в реках и озерах.
После десятилетки Мишу призвали в армию.
В отпуск пришлось ехать на похороны матери. На лесном кладбище, оставшись один, Миша вдруг ощутил в сердце такую тоску по Чукотке, что, будь у него возможность, он немедленно пустился бы в дальний путь.
После службы Михаил Павлов поступил в ветеринарный институт, а по окончании учебы комиссия по распределению удовлетворила его просьбу и направила в распоряжение окружного сельскохозяйственного управления в Анадырь.
Десять лет не был Павлов в столице Чукотки и, пересекая на катере лиман, удивился высоким городским домам. По улицам, покрытым бетонными плитами, бежали автомобили. Павлов шагал к гостинице и вспоминал это место десять лет назад, когда в жидкой, вязкой глине оставались галоши и тундровые кочки качались под ногами.
Через две недели Павлов уже кочевал со своим бывшим одноклассником Вакатом на полуострове, гнал стадо к стойбищу на забой. В начале августа оленьи пастухи готовили себе зимнюю одежду, забивая молодых телят на теплые кухлянки и пыжиковые нижние рубашки.
Когда темнота окутала яранги и олени подошли к жилищам в поисках потерянных телят, Миша почувствовал, что окончательно вернулся на родину, на то место, которое ему снилось в незапоминающихся снах. И тут он вспомнил еще раз эту строчку:
Для берегов отчизны дальней…Его отчизна простиралась от здешних дальних берегов до зеленых лугов над Ангарой, от тундры Чукотского полуострова до дальневосточной тайги.
В тундре кипела новая жизнь. Сновали вездеходы, оснащенные радиостанциями. Вакат заказывал продукты по телефону на центральной усадьбе. Неподалеку от стойбища располагалась стационарная геологическая партия с буровой установкой, а на границе района строился мощный золотодобывающий прииск.
Все это было прекрасно, и было бы глупо обижаться на шум мотора, который иной раз будил Мишу Павлова в яранге. Но все чаще он останавливался над колеей, проложенной вездеходом, над развороченной землей, которая так и не зарастала ничем, залитая черной торфяной водой. Она казалась незаживающей раной на теле земли. Колея тянулась от горизонта до горизонта, пересекая тундру, как глубокий шрам.
Но хуже всего было возле строящегося прииска и буровой: земля там была разворочена, замусорена — проржавевшие бочки, куски бетона, железный лом, обрывки проводов, кабеля, резины… Все это густо пропитано машинным маслом, нефтью, бензином, соляркой. Даже зимний снег не мог закрыть изуродованную землю: только кончалась пурга, и все снова проступало наружу, отравляя зловонием окружающий воздух. Это вселяло тревогу в сердца тундровых жителей.
Павлов написал гневную статью в окружную газету.
Он писал о том, что тундру надо беречь, потому что это уникальное явление в природе, живой организм, возникший на границе живого и мертвого, знак победы над смертельным дыханием стужи.
Совершенно неожиданно Павлов получил сотни писем, а газета отвела откликам на статью целую страницу.
Были приняты специальные меры по охране тундры, а окружной Совет посвятил этому вопросу очередную сессию. Видимо, дело было назревшее. Места скопления зверей оградили от шума и ограничили к ним вольный доступ.
Опустевшее было несколько лет назад Инчоунское лежбище снова заполнилось по осени моржами.
Павлов приурочил свой отпуск к этому времени и вместе с Гономом отправился пешком посмотреть моржовый пляж. У подступов к скалам, откуда открывался вид на берег, их остановил строгий оклик.
Милиционер, узнав Гонома, пропустил их, строго наказав:
— Не шуметь и по возможности не кашлять.
Гоном по дороге рассказывал, как несколько лет назад проходящий корабль дал гудок у лежбища, и моржи кинулись в море.
— Старые, сильные моржи давили молодых… На следующий год моржи не вернулись. Бросили они это оскверненное место и, нам уже казалось, навсегда. А в этом году вернулись. Мы все радуемся. Специально выставили пост. Другой пост у маяка, чтобы заметить проходящий корабль и предупредить его. В лоции вписали, чтобы не подходили близко к берегу. Знают об этом и летчики. Словом, охраняем природу.
Весь галечный пляж был занят серыми, бугристыми хрюкающими телами. Те, которым не хватило места на суше, купались в студеном прибое с таким удовольствием, словно это была теплая, ласковая вода.
Павлов смотрел на это торжество жизни, и в душе у него звенела радость. Как приятно видеть в этом суровом краю любой признак жизни, знак теплой крови…
На обратном пути Гоном признался:
— Когда моржи ушли, нам стало страшно. А я представил: вдруг на ледовитом побережье и в тундре не останется ничего живого — только голая, мерзлая земля, лед и камень… Что тогда тут делать человеку?.. И вот еще что я читал: Север, мол, надо осваивать так — прилетел на самолете, на вертолете, хватанул, что тебе надо, и обратно в теплые края. Так мне обидно стало, чуть не заплакал.
— И мне такое обидно читать и слышать, — ответил Михаил Павлов.
Когда Павлову предложили возглавить Арктический заповедник, он ни минуты не колебался.
И вот первая поездка по новым владениям, по острову, расположенному севернее мыса Шмидта, и встреча с далекими юношескими волнениями…
Для берегов отчизны дальной Ты покидала край чужой…Для кого чужой, а для кого свой и родной край. Ведь все зависит от того, откуда посмотреть.
Ты говорила: в день свиданья Под небом светло-голубым, В тени олив любви лобзанья Мы вновь, мой друг, соединим…А небо здесь в хорошую погоду тоже светло-голубое. Олив нет, это верно. Чего нет, того нет. Ни одного деревца, только низкорослый кустарник в долинах.
Спартак Кантухман позвал ужинать.
После долгого чаепития каждый взял по книжке.
Павлов аккуратно переворачивал проложенные нежной папиросной бумагой страницы пушкинского тома, вспоминая, как в детстве спорил с Гономом, был ли Пушкин буденновцем, потому что очень часто на страницах пушкинских рукописей встречался нарисованный острым пером человек верхом на коне.
Утром Павлов проснулся раньше всех. Конечно, неплохо бы остаться здесь на несколько дней, отдохнуть, всласть поспать в тепле, начитаться вдоволь, но… Пока есть погода, надо ехать. Недели через две, когда солнце высоко поднимется над горизонтом, задуют ураганные южные ветры. Тогда можно остановиться и отдохнуть.
Павлов еще раз оглядел книжные полки, вытащил из своей походной сумки книгу профессора Андреева о биологии северного оленя и поставил ее на полку. Разжег печку и вышел нарубить мерзлого хлеба для завтрака.
Занималась заря. Вся южная половина неба пылала, словно на материке горел огромный пожар. Мороз чуть отпустил — ехать будет хорошо.
Перед тем как тронуться в путь, тщательно прибрали в комнате, загасили печку, чтобы в ней не оставалось ни одного тлеющего уголька. Потом закрыли дверь и для уверенности завалили ее снаружи плотными кубами снега.
Павлов обошел домик и только удостоверившись, что все в порядке, сел на свою нарту и тронул собак. На этот раз он ехал, замыкая караван, следуя за нартой Спартака Кантухмана.
Домик скрылся сразу же. Только труба еще некоторое время торчала над сугробом, чуть потемневшим от двух топок за многие месяцы.
На сердце у Павлова было покойно и светло от встречи с удивительным домиком, в котором хотелось остаться надолго, от встречи с книгой.
Солнце поднялось над горизонтом. Никто не остановился, чтобы наблюдать восход. Это было необычным вчера. А сегодня, и завтра, и всегда — до следующей полярной ночи восход солнца уже будет неизменным, привычным.
От собак, от торосов, от сидящих на нартах протянулись длинные тени.
Оставалось еще раз повойдать полозья — и впереди покажется мыс Блоссом и погребенный под снегом галечный моржовый пляж.
А солнце будет подниматься все выше и выше.
Сначала снег начнет таять на южных склонах гор, в защищенных от ветра долинах. К середине лета большая часть тундры зазеленеет низкой травой, с пятнами голубых и красных цветов. Прилетят птицы, заселят скалистые берега, а белые канадские гуси усеют тундру Академии, словно ненароком летним снегом.
А ближе к осени на мыс Блоссом придут моржи. Сначала одинокие разведчики, старые самцы с обломанными и пожелтелыми клыками, а за ними — самки с детенышами.
Белый медведь начнет выходить на берег.
Словом, жизнь будет бить ключом.
И это будет счастьем для земли и для человека.
Молчание в подарок
Андрей ступил на самолетный трап и на миг остановился, пораженный красотой. Вокруг высились покрытые чистым, белым снегом сопки. Они матово отсвечивали, отражая яркое весеннее солнце: снег слегка подтаял, образовав корку. Она и служила зеркалом солнечным лучам.
На обочине посадочной полосы стояла упряжка, и молодой парень в камлейке с откинутым капюшоном пытливо оглядывал спускающихся на землю пассажиров.
В районном центре Андрея предупредили о том, что до стойбища придется добираться на собаках: в эту пору, перед вскрытием рек, пускаться в путь на вездеходе опасно. «Это прекрасно! — сказал Андрей. — Я так мечтал когда-нибудь проехаться на собачьей упряжке!»
Председатель райисполкома, худая, энергичная женщина, почти не вынимавшая сигареты изо рта, чуть улыбнулась и сказала: «Ну вот и попробуете».
Андрей Хмелев, выпускник ветеринарного института, приехал на Чукотку в конце прошлого года.
Его оставили работать в окружном сельскохозяйственном управлении, где он просидел над бумагами всю долгую зиму, и нынешняя поездка для него, в сущности, была первым знакомством с настоящей тундрой. Надо было обследовать стада Провиденского района перед отъездом.
— Я Андрей Хмелев, — представился он каюру, сбежав по трапу.
— Очень приятно, — хмуро ответил парень и выпростал из оленьих рукавиц теплую ладонь с прилипшими к ней белыми шерстинками.
— Едем! — весело сказал Андрей, бросив рюкзак на нарту и усевшись на громко скрипнувшие две неширокие доски-сиденья.
— Сейчас поедем, — спокойно ответил парень, — только сначала встаньте.
Андрей послушно поднялся. Каюр принялся увязывать груз.
— Больше у вас ничего нет?
— Все мое хозяйство в рюкзаке.
Каюр выкрикнул что-то гортанное, выдернул из снега плотно пригнанную палку с железным наконечником, и собаки, отряхиваясь, начали подниматься из уютно примятых снежных ямок. Нарта двинулась вперед, в гору, и Андрей бросился вслед, закричав:
— Послушайте! Подождите! Вы меня забыли!
— Бегите за мной, — бросил на ходу парень, держась за дугу посередине парты.
Андрей потрусил вперед, проваливаясь по колено в снег, ругаясь про себя. Он совсем иначе представлял себе езду на собаках: снежный вихрь клубится за мчащейся партой, звонко лают собаки, выбрасывая из-под лап комья снега. Сколько раз он видел такое в кино, по телевидению… А тут нарта едва ползла по косогору, собаки, вытянув хвосты и высунув розовые языки, медленно перебирали лапами, поминутно оглядывались и смотрели на каюра и на Андрея ненавидящими глазами.
Андрей чувствовал, что задыхается: давненько ему не приходилось так бегать. Но не хотелось показывать свою слабость этому неприветливому каюру. Ему-то что: он привычный да еще держится за дугу.
Андрей собрал силы, догнал нарту и вцепился обеими руками в дугу. Сразу стало легче. Каюр покосился на Андрея и улыбнулся. Улыбка у него была добрая, чуть застенчивая.
— Как мне тебя называть?
— Оттой — по-чукотски, а по-русски — Андрей.
— Тезки, значит, мы с тобой.
— Выходит, так.
— Я тебя буду называть Оттой, можно?
— Почему нет? В тундре все меня так зовут.
Оттой внимательнее поглядел на приезжего. Чуть постарше его, а уже окончил институт. А вот Оттой не попал в прошлый раз, не прошел по конкурсу. Не захотел воспользоваться льготами для северян, решил сдавать, как все, в Дальневосточный государственный университет. Профилирующие предметы сдал хорошо, сочинение написал на четыре, а по устной литературе схватил двойку. Неожиданно для самого себя. Главное, когда вышел из аудитории, все вспомнил. Но, как говорят спортивные комментаторы, гол в ворота уже был засчитан… В этом году Оттой собирался сделать вторую попытку, упрямо отказавшись и на этот раз от внеконкурсного поступления. Старший брат, пастух оленеводческой бригады, у которого Оттой зимовал, предрекал ему новый провал. Ну и пусть! Если надо, Оттой пойдет и в третий раз сдавать и в четвертый! Всю долгую зиму он читал, готовился к экзамену по литературе. И не жалел об этом. Он понял, что, пренебрегая на школьных занятиях уроками литературы и предпочитая физику и математику, он прошел мимо волшебной горы, не заметив ее, не оглянувшись на нее… И теперь он был по-настоящему потрясен новым прочтением и Пушкина, и Лермонтова, и Тургенева, и Толстого, и Чехова, и Горького… Видимо, в школе у них была просто никудышная учительница по литературе, которая только и умела требовать от учащихся, кого и с какой силой изобличил в своем произведении изучаемый писатель. А ведь, кроме обличения, было и другое — внутренняя красота человека, то, что не видно снаружи, неуловимо даже в разговоре, но оно, это прекрасное, трепетное, всеобщее для всех людей, чудесное, как рождение первого теленка…
Нарта поднялась на перевал. Собаки почти выбились из сил, да и люди тоже. Надо передохнуть. Оттой тихо произнес:
— Гэ-э-э-э! — И собаки тут же остановились и залегли. — Привал.
Андрей глубоко вздохнул и сел на нарту. Сердце бешено колотилось, и парню казалось, что стук его слышен далеко вокруг.
— Устал с непривычки, — виновато произнес Андрей.
— Я тоже устал, — признался Оттой, садясь рядом с Андреем. Движением плеч он передвинул висевший на спине малахай на грудь и меховой оторочкой вытер вспотевшее лицо.
Отдышавшись, Андрей огляделся. С высоты открывался широкий вид на долины, еще полные снега. Но уже кое-где обнажился синий лед, под которым чувствовалась готовая вырваться на волю вешняя вода. Синева неба отражалась в снежных сопках, густо ложилась на затененные склоны. Прозрачный воздух открывал Дальний хребет, словно нарисованный неумелым художником на стыке неба и земли. Все кругом было наполнено величайшим спокойствием, возвышающим душу человека.
— Как здесь прекрасно! — громко произнес Андрей, и его слова разорвали воздух, спугнув собак и заставив вздрогнуть Оттоя.
Андрей нагнулся, взял пригоршню снега и только открыл рот, как услышал:
— Не смейте этого делать!
Андрей испуганно выронил снег и недоуменно посмотрел на каюра.
— Снегом не утолите жажду, — мягче сказал Оттой, — только разожжете ее. Вот, если хотите пить.
Оттой выпростал из поклажи термос. Чай был крепкий, горячий и сладкий. Андрей с удовольствием выпил два стаканчика-колпачка.
— Мне здесь безумно нравится, — произнес он громко. — Такая величественная, спокойная красота! И все кругом так девственно чисто, нетронуто. Как хорошо!
Андрей шумно вдохнул и выдохнул воздух.
Оттой отошел к собакам поправить постромки, но ему хорошо был слышен голос Андрея.
— И как подумаешь, что скоро доберутся и до этой красоты, — грусть берет… Как хорошо, что загрязнение окружающей среды еще не достигло этих мест…
Оттой поправил алык у передовой пары, осмотрел лапы собак. В эту пору снег острый, колючий, с растущими кристалликами, образовавшимися от солнечного тепла, и псы часто ранят подушечки лап до крови. На этот случай Оттой держал на нарте несколько пар кожаных чулочков.
— Даже такие огромные водные пространства, как океан, уже нельзя считать чистыми, — продолжал Андрей. — Тур Хейердал, плывя на своем папирусном корабле «Ра», прямо посреди океана встречал загустевшие комочки нефти, пластмассовые бутылки и разный мусор… Это поразительно! Человечество может утонуть в собственных нечистотах, если не принять решительные меры!
Осматривая лапы собак, Оттой дошел до нарты, и голос Андрея теперь гудел у него над самым ухом.
— Понимаешь, сейчас уже почти нет естественно чистых продуктов за очень редкими исключениями. Все надо подвергать предварительной очистке перед потреблением. В Центральной Европе вы уже не можете просто вот так наклониться над лесным ручьем и напиться: а вдруг где-нибудь поблизости химическое предприятие спускает неочищенные стоки или проходит канализационная труба? А продукты? Все выращивается с помощью химических удобрений, и даже в животноводстве для форсирования привесов мы вынуждены обращаться опять же к химическим добавкам…
— Поехали, — коротко произнес Оттой.
Андрей, замолкнув на секунду, вскочил на ноги.
— Сейчас можно сидеть, — сказал Оттой, — под гору поедем, собакам легче будет.
«Жалеет животных», — уважительно заметил про себя Андрей.
Собаки бежали не спеша, легко, и нарта катилась — здесь был уклон, хотя и не очень крутой.
— Ты сколько классов кончил? — спросил Андрей.
Оттой ответил.
— В институт не подавал? В университет?.. Ничего, не огорчайся, со второго захода должно получиться… Нынче в вузы большие конкурсы, но если у человека цель — он своего добьется. Нужно только упорство. Любишь животных?
Оттой пожал плечами. Он никогда над этим не задумывался. Просто олени и собаки были рядом с ним с самого детства.
— Я это заметил, — с торжествующей улыбкой сказал Андрей. — Вот когда мы ехали в гору, ты не позволил сесть на нарту. Жалко тебе было собак, верно?
Может быть, действительно ему было жалко собак. Только Оттой прекрасно знал: если бы они оба уселись на нарту, собакам просто не под силу было бы сдвинуть груз с места. Только при чем тут любовь?
— Хороший человек познается по его отношению к природе, к животным… Ты читал статьи Сергея Образцова о любви к животным? Нет? Надо почитать! Очень поучительные рассуждения.
Собаки чуть замедлили бег: упряжка выехала на речной лед, на котором лежал набухший водой снег. В следах от полозьев вода не исчезала, оставаясь двумя голубыми ленточками.
Оттой думал о своем. Через месяц-полтора ему снова плыть во Владивосток. Прекрасный город, такой неожиданно волнующий, встающий из сопок и зеленых склонов белоснежными высокими домами. Он снова поселится в общежитии и вечером, когда голова загудит от занятий, будет бродить по ярко освещенным, оживленным улицам, пройдет в морской порт и долго будет сидеть в ресторане, где прямо в большие окна заглядывают океанские корабли.
Ему всегда хотелось жить в городе. Столько людей вокруг, весело, словно живешь в непрерывном празднике…
— Город, — словно отзываясь на его мысля, продолжал Андреи, — по мнению многих авторитетных социологов — среда, вредная для человека. Излишняя урбанизация, ты понимаешь это слово?
— Какое слово? — переспросил Оттой.
— Урбанизация.
Оттой кивнул.
— Так вот. Излишняя урбанизация лишает человека его естественных связей с природой, его единения с окружающей средой, — продолжал Андрей. — Интересно отметить, что пастушеское скотоводство, куда входит и оленеводство, невозможно без того, чтобы человек не ощущал себя частью природы, естественным продолжением всего живого…
«Интересно, — подумал Оттой, — когда он устанет и замолчит?»
Но ветеринару казалось, что он нашел благодарного и понимающего слушателя. Когда собаки потянули нарту на склон и пришлось идти, держась за дугу, Андрей все равно не умолкал. Он рассказывал о себе, об учебе в ветеринарном институте, о радости, когда узнал, что ему придется работать в таком романтическом краю, как Чукотка…
Солнце уже давно перевалило за полдень. До стойбища оставалось еще километров десять. Оттой поначалу опасался, что дорога займет больше времени: вдруг пассажир вздумает все время сидеть на нарте? Но Андрей к середине пути втянулся, знал, когда надо соскакивать с нарты, помогал собакам. Одно было плохо: он не умолкал. Добро бы говорил сам, но все время пытался втянуть Оттоя в разговор, заставлял его отвечать на вопросы и даже понуждал высказывать свои суждения.
— Понимаешь, здесь даже чай имеет другой вкус, чем в городе. И причина этому — особая чистота воды. Ведь основная масса воды на Чукотке — это талая снеговая вода, богатая ионами, полезными для здоровья…
Показались яранги. Раньше их почуяли собаки, туго натянув постромки и позволив Оттою и Андрею подъехать к стойбищу на нарте.
Андрей впервые видел чукотское оленное стойбище. Три яранги стояли на возвышении, увенчанные столбиками синего дыма. Вокруг расстилалось огромное чистое пространство голубого воздуха, белого снега, обнажившихся кое-где моховищ и синели ленты набухших готовых вскрыться рек.
Андрей чувствовал необыкновенный подъем, восторг. Поздоровавшись с бригадиром, ветеринар, пригнувшись, вошел в древнее жилище тундрового кочевника. Сначала в глаза бросились предметы, выделявшиеся на общем фоне: книжная полка, забитая потрепанными, зачитанными томами, радиостанция, установленная на ящике из-под болгарских фруктовых консервов, и целая батарея примусов. Потом Андрей разглядел типичные предметы тундрового обихода: чааты, деревянные кадки, какие-то непонятные приспособления, похожие на теннисные ракетки, и несколько тщательно вычищенных, поставленных в ряд ружей.
— Как доехали? — спросил бригадир.
— Отлично! — восторженно ответил Андрей. — Я даже ничуть не устал. У вас тут так хорошо, просторно, чисто…
— Извините, но вам придется поместиться в пологе.
— Это же прекрасно! — воскликнул Андрей.
— Мы пологи целый день держим на снегу, так что можете не бояться, — продолжал бригадир.
— О чем разговор! — сделав обиженное лицо, заметил Андрей.
У костра хлопотали женщины. Молодая девушка поставила столик. Вошел Оттой, распрягавший собак, и молча примостился у столика.
— Когда мы подъезжали к стойбищу, мне вдруг стало ясно, почему ваш народ так любит свою землю: такой простор, такие величественные, широкие горизонты и ощущение неограниченной свободы… Это так прекрасно, не правда ли?
Бригадир вежливо отозвался:
— Это правда.
Девушка поставила небольшой тазик с вареным мясом. Соль лежала отдельно, на пластмассовой тарелочке. Бригадир протянул Андрею нож.
— Только осторожнее, он очень острый.
— Вы знаете, — проглотив первый кусок, заговорил Андрей, — оленье мясо по своим питательным свойствам стоит на первом месте. И это научно доказано. В книге известного специалиста по северному оленеводству профессора Андреева есть сравнительная таблица питательности мяса разных животных…
Бригадир что-то сказал, девушке, и та, порывшись на книжной полке, достала книгу Андреева.
— Вот-вот! Именно в этой книге, — обрадованно сказал Андрей и принялся дальше рассуждать о свойствах оленьего мяса. — Оно легко усваивается организмом. В желудке оно не давит, вы не ощущаете его тяжести…
Оттой слушал и с некоторой завистью думал о том, что будь у него так же ловко подвешен язык, запросто сдал бы экзамен по литературе. И откуда у гостя берется столько слов? Все говорит и говорит, а на лице никакой усталости.
— Вот почему человек, живущий в тундре, с точки зрения современной медицины, ведет наиболее оптимальное существование: здоровая, полноценная пища, чистый воздух и постоянное движение позволяют ему находиться в состоянии полного телесного и душевного равновесия…
Девушка убрала мясо и поставила на стол огромные кружки.
— Вам кофе или чай? — спросила она гостя.
— Конечно, чай, — отозвался ветеринар. — По последним данным медицины, кофе способствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, а чай, наоборот, полезен. Это хорошо, что вы предпочитаете чай.
Бригадир, воспользовавшись тем, что гость сделал глоток, спросил:
— Какие новости в Анадыре?
— Анадырь строится, — живо ответил Андрей. — Сдали два новых жилых дома, новую школу…
— Гостиницу достроили?
— Достраивают, — ответил Андрей. — На мой взгляд, строительство идет не так, как надо бы, не по-научному. Понимаете: ведь дома-то возводятся по материковым проектам…
— Разве это плохо? — осторожно спросил бригадир.
— Для Севера, — торжественно заявил Андрей, — нужны специальные проекты зданий с максимумом комфорта! Только такие жилищные условия могут закрепить специалиста в этих суровых, экстремальных условиях…
«Прямо как по радио говорит», — восхищенно подумал про себя Оттой.
Он выбрался из-за стола и вышел из яранги. Из-за кожаной стены наружу доносился голос ветеринара:
— Сейчас в печати идет дискуссия о том, какое жилище нужно в районах Крайнего Севера. Есть различные мнения по этому поводу…
Оттою придется уступить свой личный полог гостю. Так каждый раз. Когда кто-нибудь приезжает, Оттою приходится вместе со своими книжками и учебниками перебираться в общий полог. Там рано тушили свет, и Оттою не удавалось почитать перед сном. А это так приятно, особенно когда попадалась хорошая книга. После чтения снились удивительные, необычные, красочные сны, которые почти не запоминались, но оставляли долго не проходящее впечатление пребывания в ином, непривычном мире. Проснувшись поутру, Оттой чувствовал себя вернувшимся из путешествия в волшебную страну. Сегодня этого не будет. Все постараются пораньше уснуть: утром надо отправляться в стадо. А туда километров пятнадцать. Придется гонять упряжку. Значит, и завтрашний день пропал для занятий… Оттой почувствовал досаду. И, чтобы отвлечься от недостойных мыслей, он стал смотреть вдаль, за холмы, куда ушли олени. Через день-два стадо разделится: важенки, ожидающие телят, будут пастись на лучшем пастбище южного склона. Кое-где там уже растаял снег, и камни, покрытые мягким мхом, держат до утра дневное тепло долгого весеннего солнца… Если на этот раз удастся поступить в университет, тогда навечно прощай, тундра. Оттой уже не вернется в стойбище. И не будет больше вот так стоять у яранги и смотреть вдаль… Да, он будет приезжать на каникулы, а потом в отпуск, но уже как гость, как временный житель, который может уехать в любой день, в любой час. И у него уже не будет ощущения простоты и естественности, всего того, что его окружало с детства. У него появится потребность в осмыслении всего: и этого убегающего вдаль ряда холмов, южного теплого склона водораздела, яранги, оленей и своих родичей. Может быть, он научится так же чувствовать и восхищаться, как это хорошо делает гость… Он, Оттой, станет другим, и его отношение к тундре, ко всей здешней жизни, тоже изменится.
Ему вдруг стало зябко и неуютно. Но он уже видел себя в воображении другим: шумливым, многословным, имеющим множество полезных сведений на все случаи жизни. И так же, как приезжий ветеринар, он будет поражать земляков своей осведомленностью и умением упоминать нужное.
Солнце садилось за Дальний хребет, удлиняя тени от пустых бочек, стоящих на другом берегу речки и казавшихся издали группой людей, направлявшихся в стойбище. Протянулись тени и от яранг, и даже дым от костров имел свою подвижную тень на покрасневшем от закатных лучей снегу.
— От-той! — услышал он голос.
В чоттагине горели свечи, пробивая светом расходящийся дым догорающего костра. Чаепитие продолжалось.
— Оленеемкость пастбищ — это, конечно, сдерживающий фактор, — рассуждал Андрей. — Но есть другие пути: улучшение структуры стада, увеличение живого веса оленя. На острове Врангеля, где нет овода и гнуса, где столетия моховища оставались нетронутыми, вес одного оленя часто в два раза превышает материкового…
— Олень там большой, как корова, — кивнул бригадир.
Оттой разделся в чоттагине и нырнул в полог. Некоторое время он прислушивался к несмолкающему голосу ветеринара. Это было как шум бегущего по камням ручья. Он усыплял усталого Оттоя.
Звонким ранним утром две собачьи упряжки побежали в оленье стадо. Солнце еще не успело размягчить затвердевший на ночном морозе наст, и полозья катились легко. Собаки, словно чуя, что дорога недолгая и беречь силы ни к чему, бежали резво.
— Я познакомился с интересными цифрами в окружном центре, — говорил Андрей. — Одна собака в среднем съедает в день два килограмма мяса или рыбы. Содержание одной упряжки в год обходится приблизительно в девятьсот рублей. Это большая сумма. Так что проблема легкого транспорта для северных районов нашей страны сейчас встала во весь рост. Разве не лучше было бы тебе сейчас сидеть за штурвалом какого-нибудь снежного мотоцикла?
— Наверное, это было бы хорошо, — нерешительно ответил Оттой.
— Это было бы здорово! — воскликнул Андрей. — В считанные минуты ты у оленьего стада. Надо тебе в райцентр смотаться — каких-нибудь два часа на это!
Собаки подняли морды и натянули постромки: почуяли оленье стадо. Олени паслись в залитой солнцем долине.
Навстречу уже бежали пастухи, размахивая свернутыми чаатами.
Упряжки остановились в отдалении от стада, но собаки долго не могли успокоиться: повизгивая, они смотрели в сторону оленей.
Ветеринар взял сумку и в сопровождении бригадира отправился к оленям.
Оттой остался караулить упряжки.
Люди растворились среди оленей, словно сами превратились в них. В неожиданно наступившей тишине, свободной от голоса Андрея, можно было услышать отдаленное хорканье оленей, поскрипывание снега и какой-то далекий звон, словно где-то в бесконечной дали на легком ветру звенела тонкая струна. Оттой часто ее слышал, когда один оставался в тундре или в предвечерний тихий час выходил из яранги. И чем тише и яснее погода, тем явственнее и чище этот звон, выше тон… Интересно, будет ли он слышен в городе? Оттой как-то раньше не задумывался над этим, считал, что такой звук присущ только тундре. А, может быть, он есть и в городе, только у него не было времени прислушаться… Большие города… Скоро они будут и здесь, может быть, даже в этой долине, точно так, как выросли города в Западной Чукотке. И все-таки тундра останется тундрой с ее бесконечными просторами.
Прошел час, другой. Оттой подремал на нарте. Сквозь далекий звон и хорканье оленей он услышал знакомый голос, и сон улетучился. К упряжкам возвращались бригадир, ветеринар и пастухи.
— Сегодня биология как наука по значению выходит на первое место, — различил слова Оттой. — Особенно исследования на молекулярном уровне, генетика. Живая клетка оказалась подлинным окном в таинства жизни… Верно, Оттой?
— Может быть, — уклончиво ответил Оттой.
— Это надо знать, — твердо сказал Андрей. — На определенном этапе биология обязательно состыкуется с физикой. Это неизбежно, ибо полностью согласуется с материалистическим взглядом на единство мира, на единство природы…
Попрощавшись с пастухами, уселись на нарты и помчались в стойбище. Снег подтаял, собаки, однако, тянули хорошо, торопясь на кормежку.
— Я бы на твоем месте, — сказал Оттою ветеринар, — выбрал специальность поближе к занятиям твоих родителей. Покидать такую красоту неразумно. А вдруг из тебя не получится большого ученого? Тогда придется довольствоваться преподаванием в школе…
Этого и хотел, между прочим, Оттой. Открывать скрытые чудеса окружающего мира для любознательных и пытливых глаз — что может быть приятнее? Он видел себя хозяином школьного физического кабинета, человеком, который может с помощью хитроумных приборов продемонстрировать ученикам все великие опыты прошлого, воссоздав величественные ступени знания, по которым восходило человечество к нынешнему состоянию. Оттой считал это своим призванием. И не любил, когда это обсуждали люди посторонние.
— Профессиональная ориентация — вопрос государственной важности. Сколько мы недополучаем только от того, что человек работает не на своем месте, трудится вполсилы, потому что не любят своего дела, потому что когда-то ошибся в выборе профессии, поддался минутному увлечению, не послушался разумного совета…
Оленье стадо скрылось в долине, и тишина накрыла упряжки.
Пришли долгие солнечные дни. Если и задует теперь пурга, то ненадолго, и сквозь летящий снег будет пробиваться солнечный луч, не то, что в глухую зиму, когда во тьме бури смешиваются ночной мрак и дневные сумерки.
Итак, если Оттой на этот раз выдержит экзамены, то долго ему не видеть оленьего стада и не испытывать удивительной радости при виде новорожденного теленка, с трудом поднимающегося на дрожащие, еще слабенькие ножки. Конечно, Оттой будет тосковать по тундре, вспоминать не только хорошие, но и ненастные дни, но это тоска о покинутом прошлом ради лучшего будущего. Оттой так погрузился в свои мысли, что перестал слушать пассажира, пока тот не подтолкнул его локтем.
— Ну что ты думаешь об этом?
— О чем? — растерянно переспросил Оттой.
— Да ты что, спал? — удивился ветеринар. — Я говорив о полувольном выпасе. О том, чтобы предоставить оленю свободу.
— Они разбегутся, — ответил Оттой.
— Но дикие олени не разбегаются, — возразил Андрей.
— Они совсем другие, — ответил Оттой, дивясь непонятливости дипломированного животновода. — Наши разбегутся, а потом пропадут. Они привыкли к тому, что их охраняет человек.
— А все-таки попробовать не мешало бы. Надо избавить человека от необходимости быть вечно привязанным к оленьему стаду.
Оттой понимал разумом, что все рассуждения приезжего ветеринара правильные, но в душе его неожиданно для него самого зрело глухое раздражение. Будто долго слушаешь радио, которое нет возможности выключить.
— Тундровый быт нуждается в коренной перестройке, — продолжал Андрей.
«Одну ночь поспал в яранге и уже по-другому запел», — со злорадством подумал Оттой.
— Разве оленный пастух не заслужил права жить в комфортабельном жилище — с ванной, с горячей и холодной водой, с паровым отоплением? И чтобы пищу готовить не на дымном костре, а на газовой или электрической плите? Ну что ты молчишь, будущий Эйнштейн?
Оттой сделал вид, что не слышал последних слов ветеринара. Он резко притормозил парту и принялся осматривать лапы собак. На снегу четко выделялись яркие пятнышки крови. Так и есть, передовой пес порезал лапу. Оттой вытащил из поклажи чулок и приладил на собачью ногу.
— Проблем множество, — заговорил ветеринар, когда нарта тронулась. — С той же противооводовой обработкой. Намучается пастух, пока таскает на себе помпу. А почему не сделать это, скажем, с вертолета? Загнать стадо в кораль, опрыскать один раз — и все готово.
Возле яранги Оттой распряг собак, посадил их на цепь и спустился к ручью. У проруби он опустился на колени и увидел в воде отражение своего загорелого лица: обыкновенное лицо обыкновенного чукотского парня. Оттой улыбнулся своему отражению, опустил голову и долго с наслаждением пил вкусную воду тундрового подледного ручья.
У яранги он услышал голос ветеринара. Андрей говорил по радиотелефону:
— Отклонений от нормы нет. Признаков заболеваний некробациллезом не обнаружил. Стадо хорошо упитано… Надо благодарить пастухов, особенно бригадира Тутая. Завтра буду в аэропорту… Конец.
Положив черную трубку радиотелефона, Андрей заговорил другим голосом, видимо, продолжая:
— Историки утверждают, что первыми одомашнили оленя коряки. Потом и чукчи завели себе домашних оленей. С этого и пошло чукотское оленеводство, которое впоследствии распространилось по всей чукотской тундре…
— А как раньше жили чукчи? — с любопытством спросил бригадир.
— Как свидетельствуют древние казачьи отписки, или, если сказать по-современному, донесения, чукчи били мигрирующих оленей, когда животные проходили большие реки, — ответил Андрей. — Между прочим, таким образом охотились на оленей еще в начале нынешнего века канадские материковые эскимосы, живущие на пустынных землях Барренс…
Оттой вышел покормить собак. Таз с оленьей требухой несла двоюродная сестренка Номнаун, не захотевшая после восьмилетки учиться дальше. Она пока числилась чумработницей, грозилась уехать в Провидения и поступить в профтехучилище. Но для всех было ясно, что она скоро выйдет замуж за пастуха Аканто.
Собаки, почуяв еду, поднялись со своих лежек, звеня цепями, громко, до хруста и визга зевая огромными пастями со снежно-белыми рядами острых клыков.
Оттой поставил таз у ног и принялся бросать куски в разверстые собачьи рты.
— Какой гость к нам приехал! — восхищенно заметила Номнаун. — Я таких интересных разговоров давно не слушала: ни от приезжих лекторов, ни даже по радио. На все случаи жизни у него есть полезные сведения. Очень умный человек. Сразу заметно, что у него высшее образование.
Оттой был почти согласен с Номнаун.
— И еще, — продолжала сестренка, — он выносливый человек: столько говорит и не устает.
До позднего вечера в яранге звучал голос ветеринара. И во время вечерней трапезы, и в продолжение долгого чаепития, и даже после того, как все забрались в полог и Тутай высунул голову в чоттагин, чтобы выкурить последнюю папироску.
Так и заснул Оттой, убаюканный голосом ветеринара. Под утро ему приснилось, что он сидит в аудитории Дальневосточного университета и пятый день подряд слушает лекцию. На кафедре Андрей Хмелев…
Выезжали рано утром, чтобы поспеть к двухчасовому самолету. Погода стояла такая же ясная, как и три дня назад. Только ехать было легче: снег еще не подтаял, дорога шла под уклон, с водораздела, где паслись олени.
Когда под полозьями выступила вода, Андрей попросил остановиться и зачерпнул из следа крышкой термоса.
— Где еще, скажи, Оттой, можно сделать вот так: зачерпнуть воды прямо под собой? Чистейшей, холодной?
Андрею и впрямь было хорошо в тундре. С того момента, как увидел упряжку и этого молчаливого парня в живописном наряде тундрового кочевника, его не покидало приподнятое, какое-то удивительное жизнерадостное настроение. Все вокруг виделось ему прекрасным. Может быть, оно и вправду было так. Андрей никогда и нигде не чувствовал себя свободно и раскованно. Застенчивый по натуре, он вдруг ощутил в себе потребность общения, потребность долгого и интересного разговора. Он видел на лицах пастухов открытую, широкую улыбку, чувствовал, как им интересно его слушать, и это внимание распаляло его, разжигало в нем огонь костра общения. Хотелось бы подольше побыть в стойбище, глубже окунуться в эту необычную жизнь, где все так открыто, просто и чисто… Конечно, про ярангу такого не скажешь, но ведь придет время, и вместо тундровой яранги придумают что-нибудь другое…
— Как ты думаешь, можно чем-нибудь другим заменить ярангу? — спросил Андрей каюра.
Оттой молча пожал плечами.
— А эти домики, в которых живут полярники дрейфующих станций, подойдут?
Оттой еще раз молча пожал плечами.
Отчего он такой неразговорчивый? Это Андрей заметил сразу. Может, у него такой характер или он чем-нибудь обидел парня? Спросить у него прямо? Плохо, что не видно его лица. Оттой сидит спиной к пассажиру и время от времени что-то говорит собакам. Вожак оглядывается на голос, понимающе моргает и поворачивает в нужном направлении, удивляя Андрея своей понятливостью.
Начался подъем, и пришлось соскочить с нарты. На ходу трудно разговаривать, и Андрей поневоле замолчал. На перевале Оттой остановил упряжку. Вытащил из поклажи хлеб, масло, термос и молча протянул Андрею. Сам он есть не стал. Собаки отдыхали, иногда оглядываясь на жующего человека.
— Я слышал, что собак в пути не кормят, — заговорил Андрей, плотно завинчивая крышку термоса, — интересно, чем это объясняется?
Не дождавшись ответа, он продолжал:
— Очевидно, собака, знающая, что ее накормят лишь в конце пути, хорошо тянет. Словом, тут играет роль условный рефлекс, павловское учение…
Оттой молча встал, осмотрел лапы собак. Осторожно стянул с лапы вожака надетый вчера кожаный чулок, осмотрел ранку и надел чулок.
Тронулись в путь.
Демонстративное молчание каюра и его явная неприязнь угнетающе подействовали на Андрея, и он замолчал.
Раза два пришлось вставать и помогать на подъеме собакам, но зато всю последнюю треть пути сидели на нарте — ехали под уклон. Оттою иной раз даже приходилось пускать в дело тормозной остол.
В аэропорт прибыли задолго до прилета самолета. Оттой сгрузил с нарты рюкзак ветеринара и протянул ему на прощание руку.
— Нет! — резко сказал Андрей. — Пошли в буфет, выпьем по стакану чаю.
В буфете Андрей сам принес чай, пирожки и сел напротив Оттоя.
— А теперь скажи мне прямо, чем я тебе не угодил? Может, я тебя обидел или твоих родичей? Могло и такое случиться: ведь я еще не знаю всех ваших обычаев… Скажи мне, я не обижусь. Наоборот, скажу тебе спасибо.
— Да ничего такого нет, — просто ответил Оттой. — Все было очень хорошо. В стойбище вы всем понравились. Тутай жалел, что вы так скоро уезжаете.
— Ну, а почему ты тогда всю дорогу молчал, словно немой? Может, у тебя какая-нибудь обида на меня?
— Да нет же! — горячо возразил Оттой. — Просто я… просто я хотел сделать вам приятное.
— Сделать приятное? Ничего не понимаю!
— Я хотел подарить вам молчание… Тишину… Долгое молчание…
Андрей с удивлением уставился на Оттоя и потом, когда смысл сказанного дошел до него, медленно с удивлением произнес:
— Ну, спасибо тебе, Оттой!
Золотозубая
Они шли рядом с южной стороны, оттуда, где нагромождения коричневатых валунов напоминали вылезшее на берег стадо моржей. Это сходство особенно усиливалось в нынешнюю осеннюю штормовую погоду, когда с неба беспрерывно сеялось нечто мокрое — не то дождь, не то морось какая-то, порой превращающаяся в чистый, редкий снегопад. И все же это еще не был настоящий зимний снегопад, потому что снежинки, даже еще не долетая до черной сырой земли, таяли.
Мужчина и мальчик, плотно затянутые в непромокаемые с капюшонами куртки, в высоких резиновых сапогах, медленно шли вдоль кромки берегового припая, мимо сельской бани с большой кучей каменного угля, старого полуразрушенного, завалившегося набок корпуса железного катера, к белым вельботам под высоким дернистым берегом.
Каждый день я их видел, здоровался с ними, но не решался заговорить, хотя по пытливому и любопытному взгляду мужчины угадывалось, что он не прочь отвлечься от постоянного общения с ребенком, завести настоящую мужскую беседу. Но мужчина, по всему видать, был из той же породы, что и я: внутренне застенчив и робок в общении с первыми встречными и незнакомыми. И до сих пор попытка вторжения в новый, незнакомый мир нового человека для меня мучительно трудна.
А заговорить очень хотелось, особенно из-за мальчишки, беленького, какого-то нездешнего своим обликом и поведением, хотя он говорил по-чукотски, и, судя по произношению, язык этот для него был родным.
В сельской столовой, оставшись за утренним стаканом крепкого чая, я осторожно осведомился об этом человеке у местной поварихи, которая одновременно была и официанткой и судомойкой в этом крохотном заведении общественного питания.
— А это Рэмкын с сыном, — сказала повариха. — Чудак-человек все ждет, надеется…
— А чего он ждет? На что надеется? — полюбопытствовал я.
— Надеется, что она вернется, — сказала повариха, — его Золотозубая!
В ее топе послышалось какое-то неодобрение и даже презрение к мужчине и к той, неизвестной мне Золотозубой.
— Мальчишку жалко, — вздохнула повариха.
Она вытирала мокрой тряпкой зеленый пластик на обеденных столах, кружась вокруг меня:
— Уж больно хороший мальчик, прямо ангелочек!
Повариха приблизилась к моему столу, смахнула со лба отсыревшую прядь волос и заговорщически продолжала:
— Прямо не верится, что такая любовь может быть! Три года ждет, и хоть бы на кого глянул.
— А кто она такая, эта Золотозубая? — осторожно спросил я, поневоле завораживаясь звучанием то ли прозвища, то ли фамилии.
— Была одна тут, — скривив губы, произнесла повариха. — В магазине работала.
— А где же она теперь?
Повариха с удивлением посмотрела на меня:
— Как где! В тюрьме, разумеется. Куда же еще оттуда попадают? В этом году кончается срок, так Рэмкын все ждет, когда она вернется.
Я допил свой чай и, поднимаясь из-за стола, задал последний вопрос:
— А что, красивая она была, эта Золотозубая?
— Да какая там красота! Белобрысая, волосы жиденькие, глазки синенькие…
В совхозной конторе я узнал, что Рэмкын уже шесть лет работает на местной электростанции, а родом он из тундрового стойбища. Закончив десятилетку в районном центре, ушел в армию, а отслужив, вернулся в село с хорошей специальностью механика-дизелиста. Женат был на продавщице местного магазина Зое Никульковой, которая отбывает наказание за хищение…
Сама по себе жизненная ситуация внешне казалась довольно банальной, простой до схематичности: наивная, но в общем-то решительная предприимчивая девчонка искала, как быстро и легко разбогатеть. Для этого она избрала, как ей показалось, прямой и простой путь: приехать в отдаленное чукотское село, где покупатель, по ее представлениям, был не шибко грамотный, и контроль не бог весть какой… А так как одной, здоровой и молодой девахе, все же тоскливо, решила пока выйти замуж за местного пария.
Примерно такая картина сложилась у меня в голове, но что-то было во всем этом недосказанное, какой-то намек на тайну.
Все же было бы интересно поговорить с самим Рэмкыном. Сначала мы здоровались, затем стали обмениваться замечаниями по поводу погоды, потому что именно она и держала меня в селении, из которого в эту пору можно было выбраться только вертолетом.
— Неделю еще посидите, — уверенно сказал Рэмкын, присаживаясь рядом на полузанесенные галькой и песком китовые челюсти. — Сейчас такое время. А перед самыми морозами дней десять постоит ясная, тихая погода — только летай.
— Откуда вы все это знаете? — с невольной усмешкой спросил я его.
— Все знают, — просто ответил Рэмкын. — Так бывает каждый год, и все об этом знают.
Рядом, чуть поодаль, играл мальчик. Он не вмешивался в наш разговор и вообще был на удивление тихим и послушным. Он что-то мастерил из мокрого песка, передвигал куски плавника, камешки и при этом все время что-то говорил, погруженный в собственный, созданный детским воображением мир. Я хорошо помнил этот оставшийся в далеком детстве мир: только в нем я был по-настоящему свободен, был кем угодно: и действующим лицом, и всесильным распорядителем, и даже создателем. Такого ощущения свободы и могущества я больше никогда и нигде не испытывал, кроме как во время детских игр наедине с собой.
Рэмкын смотрел в море, слегка прищурившись, как человек, которому зрение никаких хлопот не доставляет — видеть хорошо доступное глазу для него так же естественно, как дышать, ходить…
— Жаль, что в этом году пароходов больше не будет, — сказал он с тоской в голосе. — Все что надо, все привезли: и топливо, и стройматериалы, и товары разные…
Сказав это, он сразу оборвал фразу и, пытливо всмотревшись в мое лицо — знаю ли я его историю? — замолчал, а потом тихо сказал:
— Она совсем не такая…
И еще раз глянул на меня. А что мне сказать? Не собирался я затевать разговора о ней, не спрашивал его.
— Все, что говорят о ней плохого — неправда, — продолжал Рэмкын.
Я не знал, что делать. В моем представлении уже сложился облик Зои: невысокая, плотная девчонка со светлыми тонкими волосами. Ничем особенным не примечательное лицо, может быть только веснушки. И крупный рот с тонкими полураскрытыми губами, за которыми блестят золотые зубы… Иначе откуда у нее такое прозвище — Золотозубая?
Чтобы хоть что-то сказать, я спросил:
— Думаешь, ее неправильно осудили?
Рэмкын ответил сразу:
— Да нет! Осудили ее правильно. Больно много наворовала. Могли и больше дать, да из-за ребенка срок уменьшили… И все-таки она не такая. Она очень хорошая! Когда ее судили, так жалко было, что я чуть не плакал. Может, даже и плакал внутренними слезами, но внешне не показывал…
Это был первый порыв к откровенности у Рэмкына. Но продолжался он недолго. Он вдруг словно бы спохватился, умолк, и на его лице появилось выражение недовольства. Несколько минут он так молчал, наблюдал за играющим сыном, и понемногу лицо его менялось, светлело, будто на хмурую осеннюю тундру вдруг упали пробившиеся сквозь облака солнечные лучи. Он смотрел на ребенка, и такая любовь светилась в его глазах, что даже весь его собственный облик преобразился, переполненный нежностью и теплотой. Обычно угрюмый на вид, он сейчас выглядел совершенно другим, и я, грешным делом, позавидовал ему, потому что у меня тоже были дети, но они как-то незаметно и быстро превратились из вот таких вот прелестных малышей в чуть ли не моих сверстников со множеством взрослых проблем. Позавидовал прежде всего его пока незамутненной надежде и ощущению того, что он как бы видел собственное продолжение в будущем, еще верил в то, что может руководить этим будущим, превратить свою веру в действительность.
— Никитка! — позвал он мальчика, и я понял, что и в звучание имени он вкладывает только одно, присущее вот только этому одному мальчику значение.
— Я играю, — ответил малыш.
Ему, по всему видать, трудно было оторваться от игры, возвратиться из воображаемого мира в повседневную действительность, в которой он уже не был таким полным властелином.
Мальчик подошел к отцу, протянул ему испачканную в песке руку и с любопытством посмотрел на меня.
Рэмкын глянул на часы и заторопился:
— Нам пора домой.
Но прежде чем уйти, он некоторое время потоптался, а потом неуверенно сказал:
— Если хотите, приходите к нам в гости. Я сейчас в отпуске. А живем мы с Никитой вон в том новом доме.
Это был двухэтажный штукатуренный деревянный дом на возвышении. Он стоял так, что его большие окна по фасаду смотрели прямо в море.
— Квартира четыре, — уточнил Рэмкын, беря за руку своего малыша.
В первый же удобный вечер я воспользовался приглашением, заглянув по пути в сельский магазин. Ожидая, пока продавщица взвесит мне конфеты для малыша и выдаст бутылку болгарского сухого вина, я как-то по-новому оглядывал ничем не примечательную внутренность сельского магазина с полками, уставленными консервными банками. На другой половине торгового помещения — одежда, хозяйственные товары, среди которых важно и вызывающе стояли холодильники и два застекленных зеркальных серванта. С потолка свешивалась хрустальная люстра с умопомрачительной ценой на этикетке. Отдельно была оформлена «Полка охотника» с японскими лакированными туфлями на видном месте и складным зонтом. Я попытался представить Золотозубую за здешним прилавком, но не получилось: первоначально сложившийся образ расплывался, уходил в туман противоречивых описаний. Вместо нее я почему-то все чаще вспоминал беленькое личико Никиты, его звонкий голосок, произносящий чукотские слова. В юности, когда я жил в уэленском интернате, в последнем, седьмом классе с нами учился Игорь Маркевич, сын школьной учительницы из Энурмино. Он так хорошо говорил по-чукотски с характерной для жителей северного побережья протяжностью, что многие уэленцы специально приходили в интернат посмотреть на удивительного парня и услышать из его уст наш родной, чукотский разговор. Почему-то это казалось совершенно необыкновенным, граничащим с чудом, хотя в овладении чужими языками жители Уэлена довольно преуспели: многие говорили по-русски, старики хорошо помнили английский, а эскимосский в доброй половине смешанных семей был вторым родным языком. Но чтобы иноплеменник, да еще русский, так прекрасно, ну как настоящий чукча, говорил по-нашему, это и впрямь было необыкновенно и чудно.
Со своими нехитрыми подарками я постучался в четвертую квартиру двухэтажного дома. Рэмкын открыл мне дверь и впустил в довольно просторную прихожую со встроенными шкафами. Из прихожей в открытую дверь виднелась внутренность чисто прибранной кухни.
Рэмкын взял из моих рук намокший плащ, повесил его и повел меня в большую комнату с телевизором. Никита лежал на разостланной на полу оленьей шкуре и смотрел детскую передачу. Он поднял голову и торопливо поздоровался с вошедшим гостем.
— Еттык! — сказал он по-чукотски и снова уставился в экран.
Ответив мальчику, я заметил:
— Хорошая квартира.
— Даже очень хорошая, — с оттенком гордости согласился Рэмкын. — Есть еще одна комната — спальня.
И все же в этом подчеркнуто чисто прибранном жилище чувствовалась временность, неустоявшийся быт, какая-то неполноценность. Я отнес это за счет того, что в доме отсутствовала заботливая женская рука, но Рэмкын, отведя меня на кухню, где уже был накрыт стол и стояла бутылка сухого вина «Старый замок», сказал:
— Здесь было очень красиво и уютно. Кругом — ковры, полированная мебель, хрусталь… Все конфисковали. Приговор был такой: с конфискацией имущества.
Мне не хотелось говорить на эту тему, и я только молча, понимающе кивнул головой.
Рэмкын открыл бутылку, разлил вино по стаканам и виновато произнес:
— Фужеры тоже конфисковали.
Мы молча выпили. На столе вдобавок к чисто чукотской закуске — свежей и соленой рыбе, кускам вареного моржового мяса — стояла глубокая тарелка со свежими яблоками.
Надкусив яблоко, Рэмкын тут же снова наполнил стаканы. Поймав мой вопросительный взгляд, поспешил меня успокоить:
— Я, правду сказать, почти и не пью. Иногда только за компанию сухого вина. Но у меня сегодня такое настроение. Не знаю даже, как это можно объяснить. Наверное, не может человек так долго держать в себе сокровенное. Хочется рассказать. Не просто рассказать, а как бы заново вспомнить. Если вам станет скучно и неинтересно, сразу скажите, я не обижусь.
— Да нет, что вы!
Я не знал еще, как отнестись к такому порыву доверия и откровенности. Но втайне, в глубине души я ожидал или надеялся, что вдруг откроется что-то такое и неведомая мне Золотозубая окажется невиновной, жертвой темных сил…
— Нет, — словно возражая моим смутным надеждам, повторил Рэмкын, — она кругом виновата. Могли еще больше дать, да из-за ребенка пожалели ее… И все-таки она очень хорошая.
…Рэмкын уже работал на местной электростанции, когда Зоя Никулькова появилась в селе. Это случилось ранней весной, когда у берега еще стоял ледовый припай, но снег таял вовсю, и речка, разделявшая селение на две части — старую и новую, вздулась от талой воды, грозя смыть ветхий деревянный мосточек, который здесь наводили каждую весну.
Поначалу были только разговоры о том, что в магазин приехала новая продавщица. Каждый год в селе появлялись новые люди: учителя, менялись конторские работники в совхозе, в других сельских учреждениях, и ничего в этом не было такого уж особенного, из ряда вон выходящего, тем более, что о предстоящем отъезде старой продавщицы, точнее о ее переводе в районный центр, шли разговоры еще зимой.
И то, что приехала молодая девушка, — в этом тоже не было ничего такого примечательного: село богато невестами, и приезжими и местными, и среди них даже на строгий и требовательный вкус немало настоящих красавиц.
Так что, когда Зоя Никулькова заняла свое место за прилавком, никто особенно этим не заинтересовался, кроме одного-единственного человека в селении — Романа Рэмкына.
Зайдя в магазин и увидя за прилавком Зою, Рэмкын от неожиданности даже на время забыл за чем пришел. Он стоял и смотрел на девушку, на ее слегка нахмуренное, словно чем-то недовольное лицо. Иногда она чуть приоткрывала рот и Рэмкыну казалось, что от блестящих ее зубов исходит золотое сияние. «Золотозубая», — тут же мысленно назвал девушку Рэмкын.
Чтобы как-то занять себя, Рэмкын стал разглядывать разложенные на полках товары, пощупал яркие непромокаемые японские куртки из какого-то непрочного пластика, довольно дорогие по цене, постоял перед витриной «Полка охотника», потом перешел к «Полке для новобрачных».
— Эй, жених! — услышал он сзади и обернулся. — Иди, помоги, — попросила продавщица, приглашая его за прилавок.
Рэмкын послушно двинулся за девушкой в холодную, сырую подсобку и помог ей выкатить деревянный бочонок с медом, который ему пришлось и открывать. В тесном помещении он невольно касался ее, встречался руками, и каждый раз его пронизывало странное возбуждение, будто какой-то, сродни электрическому, ток пронзал его. Он замирал, и приходилось делать над собой усилие, чтобы двигаться, помогать, отвечать на короткие вопросы.
Рэмкын вышел из-за прилавка и уже на улице, на пронзительном весеннем ветру вспомнил, что так ничего и не купил, хотя шел за чем-то определенным, а вот за чем, об этом никак не мог вспомнить.
В ту ночь, ворочаясь на своем холостяцком ложе в общежитии, он долго не мог уснуть, потому что каждый раз, когда закрывал глаза, видел перед собой девичье лицо, ослепительную улыбку и невольно повторял каким-то неведомым образом возникшее имя — Золотозубая. Рэмкын считал себя человеком достаточно взрослым, и, хотя с женщинами был не очень смел, нельзя сказать, что он совершенно не знал, как с ними обращаться. Но эта девушка… Как же другие не видят ничего такого, что удалось в ней рассмотреть Рэмкыну? Ее славное, какое-то притягательное своим внутренним задумчивым выражением лицо, светлые волосы, голубые глаза, в зрачках которых, в глубине, светился далекий, крохотный огонек. А голос… Немного хрипловатый, как будто она простужена. Рэмкын почему-то сразу догадался, что эта легкая хрипотца — прирожденное свойство ее голоса. И, хотя между ними не было сказано ни одного значительного слова, Рэмкыну казалось, что в эту весну ему было особенно тепло и светло.
Рэмкын еще несколько раз заходит в магазин, иногда брал себе какие-то совсем ненужные вещи, только бы не торчать подозрительно в торговом помещении, пока однажды продавщица не заметила этого и не спросила:
— Послушай-ка, парень… Как тебя зовут?
— Рэмкын… А по-русски Роман.
— Роман? А Рэмкын — фамилия?
Рэмкын молча кивнул.
— Вот что, Рома, — продолжала продавщица, — я заметила, что ты тут частенько околачиваешься.
Услышав это, Рэмкын густо покраснел.
— Может, выпить хочешь?
Спиртное в сельском магазине продавалось только раз в неделю: вечером в пятницу после рабочего дня. Но это не значило, что в другие дни недели в селе царил строжайший «сухой закон». Как и всякий запрет, этот имел множество путей обхода и лазеек. У кого-то день рождения, у другого семейное торжество, знаменательное событие. Кроме того, если у тебя имелись какие-то подходы к продавщице, то это считалось настоящей удачей. Но Рэмкын особой тяги к спиртному не испытывал: выпивал, но очень редко.
Услышав отрицательный ответ, Зоя удивленно вскинула глаза и медленно протянула:
— Вот оно как… Интересно. А что же ты тогда сюда чуть ли не каждый вечер ходишь? Постой-ка, постой-ка… Нет, это невероятно!
Она перешла на хрипловатый шепот. Рэмкын был готов броситься вон из магазина, но на него напало какое-то оцепенение, и он даже не мог сделать шагу. Хорошо хоть в это время не было покупателей.
Продавщица вышла из-за прилавка, подошла вплотную к замершему Рэмкыну, обошла его вокруг, словно он какой-то столб.
— Нет, не могу поверить… Неужели понравилась? Вот это здорово! Нарочно не придумаешь… А ты знаешь, парень, девка я не простая. В законном браке уже раз была, а уж парней временных у меня перебывало — ой-ой-ой! От Тулы до Владивостока и от Владивостока до бухты Преображения! Так что поостерегись, парень!
Она была на целую голову ниже Рэмкына, и вблизи он только видел ее косынку и ощущал тепло ее плотного, упругого тела, смешанный, но очень приятный и уютный запах, который потом вспоминался с ее обликом. Рэмкын боялся пошевелиться, ненароком дотронуться до нее. Почему-то казалось, что если он ее коснется, то обязательно что-то случится.
— Иди, иди, парень, гуляй! — строго произнесла продавщица, слегка подталкивая Рэмкына к двери.
Он вышел из магазина и незаметно для себя оказался на берегу моря, за угольной кучей возле сельской бани. Рэмкын бездумно шел по чистому галечному берегу к скоплению темно-коричневых валунов, за которые цеплялись редкие голубые льдины. Над спокойной водой летели весенние птичьи стаи, и где-то далеко в море, за ледовым полем, слышались далекие хлопки выстрелов. Вельботов не было видно, они сливались с плавающими льдинами. С дернистого берега к морю отлого спускался снежник, изъеденный волнами так, что по-над берегом опасно нависал просвечивающий холодной синевой заледенелый козырек, с которого на гальку звучно и звонко капало множество капель, рождая удивительную, странную музыку. Рэмкын любил сюда ходить и под музыку тающей воды часами смотрел на морскую даль, на синеющий на юго-востоке мыс Беринга. Он ни о чем не думал, просто созерцал окружающее, изредка с невольным испугом очнувшись, обращался к себе, желая удостовериться в том, что еще жив, что не растворился в воздушной синеве.
Но в этот раз он явно ощущал себя, и все его мысли были обращены на самого себя, внутрь. И Рэмкын был настолько поглощен собственными мыслями, что не слышал звона тысячи капель и даже не заметил купающегося невдалеке от берега молодого моржа. Что же такое случилось? Неужели так вот странно, непонятно и даже отчасти глуповато начинается то, что называется любовью? Почему так мучительно сладко вспоминать весь ее облик, ладную, крепко сбитую фигуру, ее хрипловатый голос и запах, в котором был смешан аромат духов, шампуня и разных пахучих товаров от сушеной петрушки до чеснока и бражного запаха тонких стружек из винных ящиков.
Значит, она догадалась о его чувствах. Даже раньше его самого она распознала, почему его тянуло в магазин, словно он действительно был одержим неодолимым желанием выпить. Но до сих пор Рэмкын даже как следует и не задумывался-то над тем, что с ним такое происходит. Он просто шел в магазин, стоял, глазел на развешенные и разложенные товары, перекидывался словами с покупателями и даже не очень смотрел на продавщицу. Для него достаточно было ощущения ее присутствия и нескольких взглядов в ее сторону. И только вот сейчас, на берегу, он задумался о том, что с ним случилось, и удивился, как это его так угораздило. Это было совсем непохоже на то, что раньше с ним случалось. Ему иногда нравились девушки, и даже несколько раз он был совершенно уверен в том, что влюблен. Даже казалось, что страдал, глубоко переживал и, бывало, ночей не спал. Но потом все проходило, и удивительно, что в душе и в памяти никакого следа не оставалось. Это как после пурги. Вдруг куда-то исчезает и ветер, и летящий снег, и облака, и не верится, что еще несколько часов назад не было видно собственной протянутой руки, соседнего дома, морской дали. На этот раз Рэмкын точно знал: нынешнее — совсем другое, ранее неизведанное, даже чем-то пугающее.
Несколько дней после этого Рэмкын не заходил в магазин, даже если ему действительно надо было что-то купить. В этом случае он просил товарища. Продавщицу он видел только издали и прятался, чтобы она не догадалась, что он наблюдает за ней. В сердце чувствовался и ныл какой-то остро-сладкий осколок, и Рэмкын ловил себя на том, что он думает о ней и переживает боль с непонятным и мучительным удовольствием.
Но день ото дня это мучение становилось все сильнее, и однажды в пятницу, пересилив отвращение, Рэмкын выпил стакан водки для храбрости и отправился в магазин. Продажа вина уже закончилась, но все же некоторые жаждущие еще толпились у прилавка, обращаясь с мольбой к продавщице.
— А! И ты явился! — с каким-то радостным удивлением воскликнула Зоя, завидя Рэмкына.
— И я! — храбро ответил Рэмкын.
Потом, когда он протрезвел и вспоминал происшедшее, вместе с чувством жгучего стыда приходило незабываемое ощущение отъединения от самого себя, словно в твою телесную оболочку влез кто-то другой, который и куражился и выкрикивал:
— Золотозубая! Я тебя люблю!
И даже пытался, перегнувшись через прилавок, схватить Зою за руку.
Он вспоминал ее испуганные, широко раскрытые глаза, ее глухой шепот: «Да ты что? Что с тобой случилось? Я тебя не узнаю! Иди проспись, потом придешь…»
— А я спать совсем не хочу! Послушай, Золотозубая! Такого еще со мной никогда не было! Никогда в жизни, понимаешь?
— Понимаю-понимаю, — несколько раз повторила продавщица и вдруг заторопила покупателей. — Товарищи! Магазин закрывается! Идите, идите! Больше ничего не будет!
Покупатели, ворча и вполголоса поругивая продавщицу, нехотя потянулись из магазина, кроме Рэмкына, который, привалившись к прилавку, глупо ухмылялся, чему-то своему смеялся и время от времени заплетающимся языком произносил:
— Золотозубая! Ты — моя жизнь!
Очистив магазин от покупателей, продавщица подошла к Рэмкыну, схватила за плечи неожиданно сильными по-мужски руками, встряхнула и прокричала прямо в лицо:
— Ты что, сдурел? Захотел меня на всю деревню опозорить?
Хмель мигом сошел с Рэмкына. В голове осталась только какая-то муть, сухость во рту и страшное чувство жгучего, непереносимого стыда. Он медленно побрел в сторону двери, неловко пятясь, спотыкаясь о неровности пола, которые он раньше не замечал. Зоя давила на него своим телом, мягкими округлостями, туманя его мозг еще другим, сладко жгучим чувством. Он уже не мог сдержать себя и, подумав на мгновение о том, что ему терять теперь нечего, зажмурился и крепко поцеловал Зою, замерев в ожидании чего-то ужасного… Но удивительно: ничего за этим не последовало. Рэмкын только услышал то ли вздох, то ли сдержанный стон.
Зоя жила рядом с магазином, в небольшом, разделенном на две половины домике. В просторном тамбуре стоял холодильник «ЗИЛ», а кухня с большой плитой была превращена в довольно уютную столовую, стены которой были оклеены яркой цветной клеенкой.
Рэмкын молча следовал за продавщицей с видом побитой собаки, терзаясь мыслью: почему она его не прогоняет? Хоть бы ударила, что ли, или сказала что-нибудь. А то ведь кроме того «пошли!», что она произнесла в магазине, не было сказано больше ни слова.
Молчала Зоя и в доме, указав жестом на табуретку возле стола, приткнутого к небольшому окошку. В окно было видно море и ледовое поле, дрейфующее на виду селения все лето. Рэмкын с тоской посмотрел в окно и подумал о том, как было бы ему хорошо сейчас там, на вольном морском просторе, в светлом воздухе, пронизанном долгим вечерним солнцем, переживать случившееся, думать о том, что, быть может, он испортил навсегда то прекрасное, что, казалось, пришло к нему, озарило его жизнь и вселило надежду на будущее.
Зоя включила электрический чайник, быстро собрала на стол и ушла в комнату. В эту минуту и решил Рэмкын сбежать. Он осторожно встал и сделал шаг к двери. Но то ли еще вино действовало, то ли от тесноты, он зацепился за угол стола. На шум выглянула Зоя и спокойно произнесла;
— А ну вернись на место!
Молча выпили чаю. Зоя, правда, вела себя так, словно ничего такого не случилось, и почти не замечала присутствия Рэмкына. Сначала это несколько подбодрило, но потом стало обидно: что же он, вообще ничто? От этой мысли еще больше захотелось уйти, и жалко было, что упустил удобный момент, пока Зоя переодевалась в комнате.
После молчаливого чаепития, изгнавшего из головы Рэмкына последние остатки хмеля, Зоя сполоснула чашки, заперла входную дверь и ровным голосом произнесла:
— Переночуешь у меня.
С этими словами она ушла в комнату, оставив Рэмкына в недоумении и смятении. Через какое-то время он услышал:
— Иди сюда!
В полутьме, при слабом свете, пробивающемся сквозь плотные занавески, он увидел ее, лежащую на кровати, призывно улыбающуюся в сиянии прекрасных зубов.
Некоторое время он растерянно смотрел на нее, не зная, что делать: в комнате другой постели не было.
— Ну что? — тихо произнесла она. — Долго будешь так стоять?
— А что… мне… с вами… — язык заплетался, перехватило дыхание.
— Устраивать скандал в магазине у тебя хватило смелости, — насмешливо произнесла Зоя, — а вот лечь…
Когда Рэмкын робко и осторожно улегся рядом и ощутил обнаженное, горячее женское тело, он едва не потерял сознание от нахлынувших на него противоречивых чувств. Блаженство, чувство небывалого, сказочного счастья смешивалось со страхом, невесть откуда взявшейся робостью. Иногда он впадал в полную уверенность, что все происходящее с ним — это сон, чудные грезы, которые мигом развеются, когда придет пробуждение.
Но когда настало утро и Рэмкын открыл глаза, он увидел рядом мирно спящую Зою. Сквозь полураскрытые губы светились зубы. Некоторое время Рэмкын боялся пошевелиться. Почему-то он думал, что, проснувшись, Зоя прогонит его грубыми словами, и он старался как можно дольше продлить уходящие мгновения счастья. По свету, пробивающемуся сквозь плотные занавески, трудно было угадать время. Летом, когда стоит почти сплошной день, время можно узнать только по часам.
Рэмкын искоса поглядывал на спящую, и сердце наполнялось такой горячей нежностью, что он боялся невольным движением расплескать ее. Он даже прикрыл свои глаза в блаженстве… И вдруг в тамбуре раздался такой грохот, что он вздрогнул, открыл глаза и от неожиданности даже вскрикнул в испуге: кто-то колотился то ли в дверь, то ли в стену.
— Да это холодильник включился, — не открывая глаз проговорила Зоя. — Погляди на будильник, сколько времени.
— Половина восьмого, — сказал Рэмкын, приподнявшись на локте и поймав взглядом циферблат на прикроватной тумбочке.
Настороженная напряженность медленно отпускала, и Рэмкын мысленно ругал и себя, и холодильник, шума которого он раньше не замечал.
— Ты идешь сегодня на работу? — спросила Зоя.
— С половины девятого мое дежурство, — ответил Рэмкын.
Зоя лежала у стены. Она, наконец, открыла глаза, улыбнулась, сверкнув зубами, Рэмкыну и мягко и невесомо перевалилась через него. В смущении Рэмкын прикрыл глаза, хотя успел мгновенным взглядом охватить обнаженное тело при ярком свете наступившего полярного дня, когда Зоя раздернула оконные занавески. Некоторое время она так стояла у окна, слегка потягиваясь, даже чуточку приподнимаясь на цыпочках, напоминая пробудившуюся от долгого сна собаку.
Потом она накинула халат и принялась готовить завтрак.
Когда Рэмкын поднялся, она подала ему чистое полотенце и новую зубную щетку в целлофановой обертке.
— А обедаешь где? — деловито спросила она.
— В столовой…
— Приходи сюда, — простым и будничным тоном произнесла Зоя.
Так Роман Рэмкын зажил у Зои Никульковой, перетащив к ней свои нехитрые пожитки.
Событие это вызвало некоторые пересуды в селении. Особенно среди женской части, которая осуждала продавщицу за якобы какие-то тайные умыслы по отношению к парню. Поздней осенью Роман и Зоя зарегистрировались в сельском Совете и переселились в новый дом, что тоже вызвало новую волну разговоров, хотя квартира в этом доме Рымкыну была давно обещана, да и к тому же беременность Зои стала заметна.
Рэмкын переменился не только внешне. Он был одет по последней моде, самой непрактичной для Севера: в короткую дубленку, противно мокнущую от снега, и финские джинсы, в которых мерзли колени и незащищенный зад. Рэмкын тосковал по длинной кухлянке, матерчатой камлейке и нерпичьим штанам. Но не смел перечить жене, когда она подавала по утрам вместо чая ненавистный растворимый кофе, пахнущий бездымным порохом, и опостылевшие вареные яйца. Но все эти мелкие неудобства искупались огромным, ни с чем не сравнимым счастьем, безостановочным праздником души и тела.
После работы на электростанции Рэмкын спешил домой, иногда по пути заворачивая в магазин, чтобы прихватить кое-каких продуктов. После закрытия магазина и ужина или позднего обеда супруги отправлялись в кино или же усаживались на толстый ковер перед телевизором. Зоя питала слабость к коврам и без конца их приобретала, обвешав все стены в новой квартире и устлав полы. Однокашник и друг детства Рэмкына, как-то заглянув в дом, заметил; «Как в юрте Чингисхана живешь». Где он видел эту юрту? В кино или вычитал о ней в книге? Но Рэмкыну неуютно стало от этого замечания. Правда, друзья Зои не оставляли вниманием гостеприимный дом, часто собирались, слушали магнитофонные записи, смотрели телевизор и угощались разными деликатесами. Рэмкын готовил строганину из жирной северной рыбы чира, а Зоя колдовала над какими-то известными только ей соусами, пекла невероятные пироги в духовке новейшей электрической плиты «Электрон-1». Сама Зоя, оберегая будущего ребенка, не брала в рот ни капли спиртного, а Рэмкын, равнодушный к вину, никогда не был пьяным, не считая того памятного дня, с которого началась их совместная счастливая жизнь с Зоей Никульковой.
Иногда до Рэмкына доходили разговоры о том, что Зоя не совсем честная на своей работе. Особенно часто об этом говорили Рэмкыну на электростанции, где собрались ребята острые на язык, наблюдательные, независимые и в большинстве своем почему-то не ладящие с начальством. Но Рэмкын эти замечания пропускал мимо ушей, точно так же как не обращал внимания на сплетни о том, что своим зарегистрированным союзом с представителем местного населения Зоя прикрывает свои неблаговидные дела. Но любовь была выше, чище и сильнее всех сплетен и пересудов!
Никита родился на переломе зимы, когда солнце начало выглядывать из-за горизонта. Зоя наотрез отказалась ехать в районную больницу и благополучно разрешилась от бремени в сельском медпункте к исходу того же дня, куда она пришла поутру сама, почувствовав приближение родов.
Для Рэмкына рождение сына было равносильно появлению второго солнца. Он взял очередной отпуск и все время отдавал роженице и сыну. За большие деньги ему достали размноженную фотоспособом книгу доктора Спока, несколько отечественных руководств по уходу за ребенком, которые он проштудировал с такой добросовестностью и вниманием, что по объему знаний он вполне мог бы поспорить с дипломированным медиком.
Благодаря такой заботе Зоя довольно быстро вернулась на работу, хотя заработка и нерастраченных отпускных Рэмкына могло хватить еще надолго.
— Где ты видел работника торговли, который живет только на зарплату? — с усмешкой ответила Зоя, когда Рэмкын сказал ей об этом.
То ли Рэмкын стал поневоле больше интересоваться делами жены, то ли розовый туман любви, застлавший все вокруг него, несколько поредел, но стал замечать муж, что Зоя о чем-то тайком и подолгу совещается то с заведующим складом, то с бухгалтером… Когда в село с очередным пароходом пришли первые мебельные «стенки» из крошащихся древесных плит, покрытых сверху полировкой, первым таким мебельным сооружением украсилась квартира Рэмкына. Многочисленные полки, шкафчики заполнились посудой, хрусталем, на вешалках-плечиках повисли новые костюмы, платья и две шубы: норковая и каракулевая.
Было несколько неприятных ревизий, о которых каким-то неведомым образом становилось известно загодя. Начиналась тревожная суета, что-то прятали, уничтожали или, наоборот, писали какие-то бумаги. Но проходила непогода, снова сияло солнце, и в семье воцарялся мир, спокойствие и довольство.
Правда, в последнее время Зоя все чаще заговаривала о домике где-нибудь у тихой речки, садике, хотя от этих разговоров Рэмкына кидало в дрожь: он отлично понимал, что ему трудно будет привыкать к жизни в новой обстановке, вдали от родной и любимой Чукотки. Но он заприметил, что такие разговоры зарождались накануне предполагавшейся проверки, а потом еще некоторое время продолжались как бы по инерции, потом вовсе затихали, заменяясь другими: каким образом достать новый японский стереомагнитофон, кассеты к нему, пыжиковые шкурки, лисьи воротники, золотые кольца. Вскоре Рэмкыну стало совершенно ясно, что его жена если не ворует грубо и прямо, то каким-то образом берет довольно ценные вещи, далеко превышающие по стоимости ее зарплату.
Раз Рэмкын попытался поговорить с женой, но Зоя, догадавшись, о чем пойдет разговор, сказала прямо:
— А ты что думал? Что я святая? Где были твои глаза, когда ты женился на мне?
Зато во всем остальном она была прекрасна. Она была внимательной и любящей женой, нежной и заботливой матерью. И часто ночью, прижавшись, разгоряченным телом к мужу, она шептала:
— Как я тебя люблю! Как мне с тобой хорошо!
Как-то раз она даже призналась, что Рэмкын самый лучший из мужчин, которых она когда-либо знала за свою жизнь.
Но это признание пришлось далеко не по вкусу мужу, и сомнительная похвала не прибавила ему ни капли превосходства перед неизвестными ему мужчинами, о которых он совсем не хотел звать.
Квартира все больше заполнялась разными хорошими и дорогими вещами, становилась похожей более на склад, чем на человеческое жилье. В какое-то мгновение она потеряла обретенный было уют и даже передвижение по комнатам стало небезопасным, особенно для малыша.
Наверное, все же люди, которые вместе с Зоей Никульковой — Рэмкыной занимались нечестными делами, чуяли, что рано или поздно все раскроется и придется нести ответственность за содеянное. Это было видно по поздним, каким-то судорожным по настроению сборищам то у Рэмкынов, то у заведующего складом, то у бухгалтера. Сначала молча пили, пока не доводили себя до такого состояния, что можно и песню запеть или рассказать анекдот, либо вдруг кто-то пускался в воспоминания, вызывая из закоулков памяти беззаботные годы, голодное студенчество, затерянных где-то родителей.
Занятый ребенком, Рэмкын редко посещал эти сборища, да и не нравилось ему там, и порой он до рассвета ждал Зою, сидя у окна, пытаясь читать какую-нибудь книгу либо коротая время за поздними телевизионными передачами.
Зоя никогда не бывала пьяной так, чтобы ничего не помнить, не соображать. Но от нее сильно пахло вином, когда она входила в комнату, говорила громко, не обращая внимания на предостерегающий шепот мужа: ребенок спит…
— Эх! Ведь один раз живем! — нарочито удалым голосом произносила она и просила заварить крепкого чаю. Первые минуты в такой ситуации Рэмкын испытывал брезгливое чувство к ней, словно она в чем-то замаралась, но стоило ей обнять его, прижаться головой к его груди, как он начисто забывал все, что собирался ей сказать, и его охватывало чувство жгучей нежности, смешанной с жалостью. Он гладил Зою по голове, приговаривая:
— Ну, ничего, моя Золотозубая…
Зоя отнимала лицо от груди, смотрела прямо в глаза мужа благодарным, слегка затуманенным, влюбленным взглядом, и часто в ее глазах блестели слезы.
Беда пришла вроде бы неожиданно, но Рэмкын в первую же минуту подумал: ну вот, наконец, она и пришла…
Зою вместе с сослуживцами увезли в районный центр, а магазин опечатали.
А потом был суд, опись и конфискация имущества.
Парню шел второй год, и он еще ничего не понимал. Рэмкын после всего этого забрал сына и на все лето уехал в тундру, а когда вернулся и вошел в опустевшую квартиру, стало так горько и больно, что он впервые не выдержал и заплакал, напугав Никитку.
Рэмкын сочинил красивую сказку для сына об отъезде матери на далекую красивую землю, откуда она непременно возвратится. Для обоих мужчин — большого и маленького — она была самой красивой, самой желанной мечтой…
— Для других она, быть может, совсем другая, чем для нас, — сказал Рэмкын, закончив свой рассказ. — Но главное ведь: какая она для нас. И мы ее любим, вместе с Никиткой… Может быть, если бы я был один, могло черт знает что случиться. А вдвоем мы выдержали это испытание.
Всю хмурость и сырость унесло в море вчерашним ветром. Ледовое поле приблизилось к берегу, заблестели заполненные осенними дождями ручьи, небо огласилось криками прощающихся птиц.
Вертолет прилетал в середине дня.
На бетонированной площадке, отмеченной по краям красными флажками, собрались отлетающие и встречающие. Рэмкын с мальчиком стояли рядом со мной.
— Вчера Зоя позвонила, — тихо сказал мне Рэмкын. — Она будет первым вертолетом.
Из-за высокого мыса, нависшего над селением, вынырнула машина и нацелилась на вертолетную площадку, прижимая ветром пожухлую тундровую траву.
Замерли винты, отворилась дверца, и над краем кабины повис короткий в три ступеньки трап. Из вертолета выпрыгнул второй пилот, сделал знак мелькающему тенью за стеклом летчику, и только после этого позволил пассажирам выходить.
Я ее сразу узнал.
Она вышла, щурясь от яркого осеннего солнца, в темном шерстяном платке. Обведя глазами встречающих, она увидела Рэмкына и Никитку, улыбнулась, и тут я понял, почему Рэмкын называл ее Золотозубой: у Зои были собственные прекрасные зубы, подсвеченные алостью полных, неподкрашенных губ. И вся улыбка была такой прекрасной, такой лучезарной, что казалась и впрямь золотой, и только этот солнечный осенний день мог сравниться по яркости с ней.
Она шагнула навстречу мужу и обняла его. Никитка, продолжая держаться за отцову руку, видимо понимая детским сердечком всю значительность момента, стоял тихо и важно, глядя по-взрослому в пространство.
Возвращение на Землю
Космический корабль Сверхдальней Земной Экспедиции возвращался домой.
Он был еще умопомрачительно далеко, но вожделенная, любимая, единственная в своем роде планета уже сияла в кварцевый иллюминатор видимой простым глазом звездочкой среди мириад светящихся точек на черном, бездонном полотне неба. Она притягивала взор каждый раз, когда глаза обращались к иллюминатору или же на экран Звездного локатора, увеличивающего тот участок пространства, где находилась Солнечная система.
Уже все мысли участников экспедиции, длившейся не один год, были там, на Земле, в зеленых джунглях Индостанского полуострова, на заснеженных полях Подмосковья, на заледенелых озерах Таймыра, на бархатно зеленеющих берегах великой реки Вьетнама — Красной, каждый член экспедиции давно уже мысленно был там, откуда происходил, где жили его родные, близкие и друзья.
Сверхдальняя Земная Экспедиция занималась исследованием погибших цивилизаций.
Занятие, прямо скажем, не очень веселое, но Человечество планеты Земля, вышедшее из труднейших испытаний конца двадцатого столетия, не хотело повторения тех судеб, которые привели к исчезновению многих внеземных цивилизаций.
Роми Сахни, космический исследователь Гималайского Института изучения Космоса, порой испытывал некое чувство, вроде древнего чувства зависти, к тем своим коллегам, которые занимались живыми Внеземными цивилизациями, устанавливали с ними контакты, искали пути общения с разумными существами, многие из которых совершенно не походили на людей Земли. Но он глубоко и отчетливо понимал нужность и полезность работы, которую проводила Сверхдальняя Земная Экспедиция. «Это не должно повториться на Земле» — таков был главный девиз всего комплекса исследований, которые вели космические исследователи, коллеги Роми Сахни — русский Владимир Чулков, уроженец маленького подмосковного городка Кимры, вьетнамец Нгуен Тхань, часами готовый рассказывать о своей родине — маленьком селении на южной оконечности Индостанского полуострова с коротким названием Муи, о маленьком саде на самом берегу Сиамского залива, где росли посаженные еще дедом кокосовые пальмы. Четвертым в группе космических исследователей был уроженец Таймыра, ненец Григорий Тайбарей. Его главной специальностью было определение причин физических столкновений небесных тел, приводящих к катастрофе. К сожалению, и такое случалось на громадных просторах Вселенной.
Во время предыдущих экспедиций были открыты следы цивилизаций, погибших в ядерной катастрофе, развязанной самими обладателями этих планет. Таких было сравнительно немного, но кровь стыла при мысли, что и подобное могло когда-то случиться на планете Земля, в те тревожные времена, когда угрожающе росло число смертоносных ядерных зарядов, когда иные обезумевшие стратеги всерьез поговаривали о первом ядерном ударе, об ограниченных и затяжных ядерных войнах, с леденящим равнодушием рассуждали о возможной смерти десятков и сотен миллионов, нет, не врагов, а своих сограждан! В те же годы готовилось и химическое оружие, тайно испытывалось бактериологическое, вынашивались планы тотального влияния на психику людских масс. В те годы Советское государство и все социалистические страны возглавили борьбу за мир, за сохранение жизни на планете Земля. Это был трудный период в жизни человечества. Порой создавалось впечатление, что во главе некоторых государств засели пришельцы из других миров, вознамерившиеся уничтожить человечество. Такое всерьез утверждал дед Григория Тайбарея, оленный пастух, кочевавший с оленьим табуном по просторам Таймырской тундры.
Григорий Тайбарей каждый раз, сталкиваясь с цивилизациями, уничтожившими друг друга, чувствовал горечь и запоздалое сострадание к исчезнувшим разумам, частицам особого неповторимого света во Вселенной, пронзившим огромные расстояния и беспредельные пространства. Особенно больно было видеть мертвые планеты, где жизнь была похожа на земную и разумные существа походили на людей. Словно виделась собственная судьба, своя, к счастью, не состоявшаяся гибель… А ведь в том случае кто-то из других разумных миров так же, как Сверхдальняя Земная Экспедиция, прибыл бы на Землю и увидел в руинах когда-то прекрасные города, выкипевшие зловонные русла рек, вавилонские башни из щебня, кирпичной крошки и железных конструкций, покрытые стекловидным налетом, бывшие когда-то прекрасными дворцами, фабричными зданиями, жилыми домами, школами, университетами, а между обломками — высохшие, мумифицированные тела мужчин, женщин, детей, стариков…
Отгоняя от себя эти мрачные мысли, Григорий Тайбарей обращал взор на крохотную звездочку, такую родную, желанную, теплую, хотя на Таймыре климат оставался таким же сурово холодным, но это была теплая стужа родной Земли, Земли, сохраненной для прекрасного разумного создания — Человека.
Нгуен Тхань не впервые участвовал в экспедиции. Он одним из первых исследовал и описал внешний облик погибших в результате космических катастроф цивилизаций. Разные это были существа, во всех объединял разум, способность познания окружающего мира, самого себя, реальная, удивительно мощная материальная сила.
Он согласен был со своим другом Григорием Тайбареем, когда тот говорил об особых чувствах, испытываемых им к разумным существам, похожим на людей, погибшим из-за своей, как ни странно, неразумности.
Роми Сахни сидел в своем кабинете, облицованном легкими бамбуковыми панелями, такими теплыми и приятными. Четыре громадных кварцевых иллюминатора смотрели на звезды, а Большой локатор, настроенный на Землю, мерцал синеватым экраном. Освещение в кабинете было приглушено, и от этого казалось, что помещение заполнено звездным светом межпланетного пространства. Большой локатор еще не давал такого увеличения, чтобы можно было рассмотреть Землю, найти на ней родной Дели… Там, в невообразимом отдалении — родной город, та его любимая часть, которая когда-то называлась «старый Дели», но целиком перестроенная, точнее заново построенная дедом Роми, известнейшим индийским архитектором конца прошлого века.
Сейчас, в начале ноября, уже прохладно. Идут приготовления к древнему празднеству огня и света — Дивали. Уже кое-где возводятся временные храмы для богини Кали, люди запасаются бенгальскими огнями, ракетами, шутихами, разного рода устройствами, способными производить как можно больше шума и разноцветного огня. Роми немного жалел, что опоздает на это древнее, но такое любимое празднество, давным-давно потерявшее старинный религиозный смысл, но до сих пор доставляющее людям искреннюю радость.
Роми нажал на кнопку внутренней связи и произнес:
— Чулков, ты где?
— В спортивном зале.
— Жду у себя.
— Хорошо, иду.
Григорий Тайбарей и Нгуен Тхань тоже сразу же отозвались.
Чулков пришел в спортивном костюме. Его светлые волосы были слегка влажны и на висках плотно прилипли к коже.
К приходу товарищей Роми разложил на столе материалы посещения системы северо-восточного угла Млечного Пути, где была обнаружена и исследована обитаемая планета.
При приближении к ней, когда были получены анализы атмосферного воздуха, произведены гравитационные измерения и взяты предварительные дистанционные пробы почвы, состава воды в океанах и реках, все в один голос воскликнули: «Да это же наша Земля!»
Григорий Тайбарей шутливо спросил Главного штурмана:
— А не повернул ли ты тайком обратно? Сознайся!
Но это действительно была новая, неисследованная планета, и ее удивительная схожесть с Землей только подогревала растущий интерес, волновала участников экспедиции.
— Я читал, — начал вспоминать Тхань, — в какой-то старинной книге: вполне возможно такое, что в беспредельности Вселенной может в точности повториться Земля, со всеми климатическими, географическими и прочими физическими характеристиками и с таким населением, то есть с людьми…
— Да, я тоже вспоминаю, — заговорил Роми. — В ней даже предполагалось, что где-то в это же самое время живут наши двойники, существа в точности такие же, как мы, с нашей родословной и биографией, то есть полное зеркальное отражение нас самих, нашего окружения, нашей жизни.
Чулков неопределенно хмыкнул:
— Вот будет забавно встретить на этой планете двойника моей Марии.
Владимир Чулков имел в виду свою жену, большой портрет которой в голографическом, объемном изображении висел у него в кабинете-каюте.
— Психологически это было бы весьма интересно, — задумчиво произнес Тхань. — Я имею в виду их сторону. Мы-то как-нибудь перенесли бы такое испытание, а вот они… Представляете себе — сваливаются неведомо откуда их двойники… Твоя Мария смотрит то на тебя, то на твое зеркальное отражение, то есть своего настоящего мужа. Ты представляешь, что будет твориться в ее душе?
Как утверждал Роми, по теории вероятности такое вполне могло случиться, но в душе мало кто верил такой возможности: слишком уж мала была численно выраженная вероятность встречи со своими двойниками.
А многократные анализы почвы, атмосферы и состава воды, произведенные бортовой машиной-анализатором, все больше подтверждали сходство неведомой планеты с Землей, которой дали рабочее название Зеркальной.
— Можно выходить без скафандров, — решил Начальник экспедиции, — но в гигиенических масках.
Гигиенические маски применялись, чтобы избежать неожиданной инфекции, проникновения в человеческий организм незнакомых микроорганизмов. Это строгое правило существовало с самого начала эры космических полетов и исследований других планет.
Космический корабль занял круговую орбиту с наклоном в сорок пять градусов к экватору Зеркальной, и через несколько витков бортовые компьютеры получили ответ на свой запрос и расшифровали его.
Да, планета была населена. И, похоже, близкими к земным людям существами. На экране дисплея возникли сначала расплывчатые, а потом вполне отчетливые очертания двуногих, прямоходящих существ с огромными круглыми глазами, которые то закрывались какой-то пеленой, то открывались широко и светились как бы изнутри, словно мощные объективы старинных фотографических аппаратов. Хотя температура поверхности планеты по показаниям приборов космического корабля составляла около двадцати двух градусов по Цельсию, зеркаляне были одеты в серые, глухие одеяния, в такого же рода шаровары, заправленные в высокую обувь темного цвета. У каждого из них на груди, на шнурке или на цепочке, болталось нечто вроде бирки со знаками, над расшифровкой которых пока еще работали бортовые компьютеры космического корабля.
— Они запросили все данные о корабле, — сообщила человеческим голосом Главная машина. — Все параметры, откуда прибыли, с какой целью… А также просят данные о каждом члене экипажа. Вопросники будут переданы дополнительно.
На этом первый сеанс связи с новой планетой был прерван, и четверо земных суток космический корабль Сверхдальней Земной Экспедиции кружился на орбите, безуспешно пытаясь вызвать на связь зеркалян. Тем временем участники экспедиции собирали сведения о планете, пользуясь средствами, имевшимися на корабле.
Планета была довольно густо заселена. Все города на ней соединены между собой дорогами, разными коммуникационными системами. Среди зеленых полей и лесов проглядывались населенные пункты, которые по земным меркам можно было бы назвать селами или деревнями. Кое-где виднелись и крупные промышленные центры, энергетические установки. Порой можно было увидеть летящую на небольшой высоте машину, видимо, такой же летательный аппарат, который в свое время на Земле назывался самолетом. По поверхности морей плыли корабли. Но для такой большой и прекрасной по климату планеты как-то удивительно мало было знаков деятельности, и создавалось впечатление, что планета, точнее ее жители, находились в странной спячке, предпочитая сидеть дома, почти не общаясь друг с другом.
— Странный народ, — бормотал про себя Тхань. — Может, у них какая-то болезнь?
— Да нет, наши машины-анализаторы об этом не сообщают.
— Тогда что же с ними такое?
— Может, у них такой характер, — возразил Роми. — Зачем им обязательно быть психологически похожими на нас? Разве не достаточно того, что они почти как люди, если не считать безволосых голов и таких огромных глаз?
На четвертый день Главный компьютер принял анкеты-вопросники для членов экспедиции. Они содержали около полусотня вопросов, касающихся не только самых интимных свойств организма каждого человека, но также требующих сведений о родственниках, о контактах с другими цивилизациями, о своих предках, от чего они умерли и где похоронены. Около десятка вопросов касалось служебного и научного продвижения, полученных наград и премий, а также почетных званий.
Чулков, взглянув на вопросник, присвистнул:
— Где же я возьму сведения о далеких предках?
И впрямь некоторые вопросы поражали бессмысленностью. Ну, например, такие: имеются ли у вас родственники среди инопланетян, если есть, укажите, какие связи с ними имеете… Надлежало также указать принадлежность к земным политическим и общественным организациям, точное местожительство, состав семьи, перечислить живых и умерших родственников.
— По-моему, они решили поиздеваться над ними, — осторожно предположил Тхань.
— Я помню что-то вроде этого, — задумчиво сказал Тайбарей. — В оставшихся от моего деда бумагах хранится что-то вроде такой анкеты…
— Неужто у нас было такое? — недоверчиво заметил Чулков.
— Ну, конечно, там предлагалось поменьше вопросов, — припомнил Тайбарей, — но я запомнил удивительно краткие ответы деда: не был, не состоял, не имел…
— А это выход из положения! — обрадованно воскликнул Чулков. — На большинство вопросов можно так и ответить!
— А мне кажется, — раздумчиво произнес Роми, — раз наши новые знакомые запрашивают эти сведения, то надо отнестись к их обычаю с должным уважением.
— Вот еще! — воскликнул Тхань, продолжавший между тем изучение вопросника-анкеты, — требуется еще приложить по двенадцать голографических снимков лица. Причем требуется представить и правую и левую стороны лица.
— Не считая роста в метрических мерах и веса, — ворчливо заметил Чулков, — в начале дня и вечером.
Конец спорам положило распоряжение Начальника экспедиции:
— В первую группу включены космонавты-исследователи — Роми Сахни, Нгуен Тхань, Григорий Тайбарей и Владимир Чулков. Всем тщательно и без пропусков заполнить вопросники-анкеты и приготовить голографические изображения.
С помощью бортового Большого компьютера в общем-то справились с анкетами. Он затем и размножил вопросники-анкеты, и перевел в знаки существующей на Зеркальной письменности. Вопросники-анкеты в готовом виде заняли по целому портфелю. В переданном с планеты сообщении предписывалось передать эти сведения на Зеркальную, а с собой кроме того взять по шесть экземпляров заполненных анкет-вопросников. Начальник экспедиции должен был иметь при себе документ, удостоверяющий его полномочия, звание, почетные титулы, полученные награды и премии.
У Начальника экспедиции имелась титановая пластинка, на которой в двоичном коде содержалась информация о его полномочиях. Но и ему пришлось, как и другим, изготовить голографические снимки и заполнить анкеты.
После передачи данных на Зеркальную снова наступила пауза, и новая планета не отзывалась на вызовы космического корабля ровно шесть дней.
На седьмой день на очередной запрос пришел краткий ответ:
— Ваши документы изучаются соответствующими инстанциями и комиссиями. О решениях вам будет сообщено дополнительно…
В томительном ожидании прошло еще три дня.
Наконец, с Зеркальной сообщили, что группа землян может быть принята на планете. Указывались координаты, куда мог сесть челночный корабль-паром. На предварительной схематической карте планеты, составленной бортовыми приборами, отыскалось указанное место. Оно располагалось в лесистой местности, на берегу обширного водоема, неподалеку от большого населенного пункта, размером с добрый земной город. Скорее всего, это и был главный город Зеркальной. Еще раз упоминалось о том, чтобы земляне имели при себе все требуемые документы.
Собрались довольно быстро, перешли в челночный корабль и на соответствующей расчетной точке орбиты отделились от космического корабля и начали снижение.
Несмотря на то, что информации за время вынужденного ожидания на орбите было получено более чем достаточно и вроде бы не предполагалось каких-либо неожиданностей, на челночном корабле были приведены в полную готовность все меры безопасности. Все, кто готовился высадиться на незнакомую планету, находились в том особом состоянии духа, которое называлось старинным земным словом — волнение.
Роми Сахни стоял позади Нгуен Тханя и через его плечо смотрел на приближающуюся поверхность планеты. Поначалу она казалась огромной, прекрасно раскрашенной в естественные цвета географической картой, кое-где накрытой мягкими обрывками легких облаков, а потом по мере снижения орбиты челночного корабля эта географическая карта становилась все более и более похожей на земную поверхность. Сходство было так велико, что опять возникла мысль; а не возвратились ли они обратно на Землю?
Но это все же была не Земля. Во-первых, у новой планеты орбита вокруг своего Солнца была почти идеально круговой. Зеркальная не имела спутников, так что лунные ночи на ней полностью исключались.
Челночный корабль мягко приземлился на указанной поляне, возле красивого, полноводного озера. В большой иллюминатор хорошо была видна рябь на поверхности воды, солнечные блики, напомнившие Тханю вид на Западное озеро в Ханое со стороны старого здания гостиницы «Гавана».
Бортовые анализаторы снова взяли пробы воздуха, грунта, величины гравитации, температуры, подтвердив данные, полученные еще на орбите.
Прежде чем перейти в шлюзовую камеру для выхода на поверхность планеты, все надели гигиенические маски, предохраняющие дыхательные пути и слизистые оболочки глаз, носа и полости рта. Маски были легкие, прозрачные и отнюдь не искажающие привычного внешнего вида землян.
Первым ступил на почву Зеркальной Начальник экспедиции. Он хотел было двинуться к фигурам, стоявшим поодаль, но тут на его пути выросли два довольно рослых зеркалянина, вооруженных какими-то приспособлениями, отдаленно напоминавшими сохранившиеся в земных музеях винтовки. Анализатор и преобразователь сигналов на груди у Начальника экспедиции тут же перевел команду:
— Предъявите документы!
Начальник экспедиции хотел было возразить, что все требуемые документы, а также голографические снимки космонавтов-исследователей, давно переданы на Зеркальную, но вовремя сдержался, подумав, что не следует ему здесь спорить и устанавливать свои порядки. В конце концов принцип невмешательства во внутренние дела других государств, политических систем, общественных устройств и этнических групп, установленный на Земле, распространялся и на космическое пространство за исключением случаев, когда обитатели других миров проявляли явную агрессивность и готовность уничтожить людей. Но и в этом случае предписывалось всячески избегать столкновений и оставлять в покое существа, не желающие общаться с землянами.
Начальник экспедиции расстегнул папку и подал одному из стражей требуемые документы. Тот тщательно изучил каждый документ, внимательно сверил голографические изображения с каждым прибывшим человеком, подходя так близко, что Роми казалось, будто он глядит в глубину подзорной трубы или фотообъектива — такими глубоко-бездонными казались глаза зеркалян.
Закончив процедуру, страж-зеркалянин понес документы стоящей в отдалении группы и передал их одному из них, невзрачному на вид, низкорослому, даже несколько кривоногому существу с такими же глубоко сидящими, светящимися темным блеском изнутри глазами.
Процедура знакомства с документами явно затягивалась, давая время землянам оглядеться.
За группой зеркалян виднелись экипажи, напоминающие своим внешним видом старинные земные допотопные автомобили эпохи двигателей внутреннего сгорания. За автомобилями просматривалась довольно ровная и широкая дорога, когда-то покрытая подобием асфальта, но теперь сильно выбитая, в ямах, в проплешинах, заросших ярко-зеленой растительностью, похожей на траву.
Наконец изучение документов было закончено, и анализатор речи сообщил человеческим голосом: — Правительство нашей планеты приветствует собратьев по разуму. Просим следовать за нами.
Оба стража сопровождали землян справа и слева, держа в руках голографические снимки и время от времени сверяя их с осторожно шагающими людьми, будто те вдруг могли неожиданно исчезнуть или же изменить свой облик.
Землян рассадили порознь. Начальник экспедиции не стал возражать. На крайний случай у людей имелась тайная система связи, и они могли общаться друг с другом даже на большом расстоянии.
Не проехали они и четверти часа, как перед вереницей машин вырос шлагбаум. Ехавший впереди один из стражей понес папку с документами землян к вышедшему из придорожной будки третьему зеркалянину-стражу, одетому так же, как первые двое. Тот долго изучал бумаги, а потом прошел вдоль машин и сверил изображение каждого землянина с сидящим в машине оригиналом. Завершив процедуру, страж вернулся к себе в будку и поднял шлагбаум.
То же самое повторилось и при въезде в город, но никто из землян уже не удивился. Только Тхань заметил вслух:
— По-моему, они чего-то боятся.
— Это меры для нашей безопасности, — предположил Тайбарей.
Роми тем временем внимательно изучал устройство автомобиля, дивясь сходству этого устройства с такого рода земными машинами конца двадцатого и начала двадцать первого века. Колеса экипажа в точности повторяли далеко не ровный и гладкий дорожный профиль, и ехать было довольно тряско. Привыкшее почти за два года космического путешествия к мягкости, порой невесомости, тело довольно чувствительно отзывалось на толчки и тряску.
Показались городские строения. Первое впечатление — все это заброшено, давно не ремонтировалось и не обновлялось. И на самой улице, и на домах, и на редких прохожих, робко жавшихся к высоким даже по земным масштабам строениям, лежала печать запустения и равнодушия обитателей города.
Чулков подумал, что это, быть может, так выглядит окраина города и в центре будет повеселее… Кто знает, что тут за общество, возможно, классовое, и машины едут через кварталы, населенные бедняками и отверженными?
Но вот машины выехали на большую площадь, окруженную зданиями, по виду явно общественными. Возможно, что это были правительственные здания. Но и они, быть может даже в большей степени, выглядели запущенными, изношенными, давно не подновляемыми. По всей площади легкий ветер гнал кучу каких-то зеленых листков, оказавшихся при ближайшем рассмотрении обрывками бумаг с письменными знаками.
Машины подъехали к зданию. Это была гостиница. Анализатор речи передал Начальнику экспедиции слова зеркалянина:
— Здесь вы будете жить.
Но прежде чем земляне получили ключи от номеров, им снова пришлось заполнять анкеты-вопросники, нисколько не меньшие, чем те, которые были посланы на космический корабль.
— По-моему, они издеваются над нами, — недовольно произнес Роми, пытаясь вспомнить, где был кремирован его прадед, чтобы ответить на вопрос в анкете.
— Ровно полтора часа ушло, — вздохнул Тайбарей, любивший точность.
— Мы изучим ваши документы, — сказал кривоногий зеркалянин, — а потом встретимся с вами.
Особенности его голоса хорошо передавались анализатором речи. Тон его речи был высок, и на Земле он вполне мог сойти за женский.
«Может, это женщина?» — подумал Чулков.
В комнате над довольно удобной кроватью висел лист, испещренный письменными знаками. Чулков настроил на него свой карманный анализатор и прочитал целый свод правил поведения жильца гостиницы. Прежде всего многое запрещалось: передвигать по своему усмотрению мебель, сверлить стены, наносить на них надписи, менять мощность и силу освещения, более двух раз в сутки пользоваться ванной, устраивать собрания, приводить в номер знакомых без согласования с администрацией и так далее, без конца. Многие из запретов относились к таким действиям, о которых мало кто мог бы догадаться. Так, не разрешалось устраиваться на ночлег в ванной комнате или под кроватью или разбирать устройство, напоминающее старинный земной телевизор.
Усевшись в кресло, Чулков включил устройство и настроил свой речевой анализатор.
Передавали новости. Зеркалянин-диктор с огромными черными глубокими глазами как бы в окуляры вбирал зрителей, и испытывающий при этом неприятное ощущение Чулков уже хотел было выключить экран, как вдруг услышал:
— На сегодняшний день самоубийством покончили жизнь еще семьдесят тысяч человек в разных частях планеты, на тысячу человек больше, чем вчера, — бесстрастно сообщал диктор. — Среди ушедших из жизни в основном люди зрелого, среднего возраста. Меньше всего ушло из жизни детей. Участились случаи ухода из жизни целыми семьями… Сообщение о прилете космического корабля с планеты Земля Солнечной системы будет передано завтра после согласования, редактировании и отбора фактов Главным Управлением Фильтрации Новостей…
Изображение диктора медленно погасло на экране, и комната наполнилась звуками удивительной музыки. Она была грустная, напоминающая чем-то сочинения древних земных композиторов, творивших до двадцатого столетия. Тоска охватывала слушателя, обволакивала его странным ощущением безысходности, тоски по далекому, ушедшему навсегда. Чулков скорее почувствовал, чем догадался, что музыка, очевидно, была как бы реквиемом, посвященным тем семидесяти тысячам ушедших из жизни на этой зеленой планете.
Что за тревожная, тягучая атмосфера окружает жизнь этих очень похожих на земных людей существ, что же в них происходит такое, что десятки тысяч зеркалян уходят из жизни?
Чулков принял душ и соединился с товарищами по системе внутренней связи, о которой подробно объяснялось в Правилах поведения постояльца гостиницы.
Номер Начальника экспедиции был попросторнее, и все собрались вокруг большого овального стола, окруженного полукреслами, напоминающими остатки мебели старинного европейского дворца на планете Земля.
— Итак, каковы ваши первые впечатления и суждения? — спросил Начальник экспедиции, адресуясь сразу ко всем.
Некоторое время в комнате царила тишина, свидетельствуя о том, что определенных суждений пока ни у кого из членов экспедиции нет.
— Ну, что скажешь, Чулков?
Владимир Чулков отозвался не сразу.
— Меня заинтересовало сообщение о том, что за сутки на планете самоубийством покончило жизнь более семидесяти тысяч жителей…
— Мало ли что могло случиться? Может, стихийное бедствие? — пожал плечами Роми Сахни.
— Они все покончили жизнь самоубийством, — сказал Чулков. — И сообщено об этом было так, словно это обыкновенное, рядовое явление, уже ставшее привычным.
Чулков догадался, что никто из членов экспедиции не включал телевизионное устройство в номере, и он рассказал, каким образом он узнал об этом, сказал и о музыке, прозвучавшей вслед за грустным сообщением.
— Интересно, — проронил Григорий Тайбарей, — как это самоубийство может стать привычным?
— Во всяком случае, так мне показалось, — сказал Чулков.
— Меня поразила общая атмосфера запустения и какого-то застоя, — задумчиво произнес Тайбарей. — Словно здешняя жизнь остановилась и даже пошла вспять.
— Жизнь есть жизнь, и какая бы она ни была, она не может пойти вспять, — философски заметил Роми. — Исчезнуть в катастрофической ситуации может. Мы уже довольно насмотрелись такого.
— Фактов пока маловато, — вздохнул Начальник экспедиции. — Будем добиваться того, чтобы нам дали возможность подробнее ознакомиться со здешней жизнью.
— В номерах по нашим правилам запрещено устраивать сборища! — Голос исходил откуда-то из стены, и все от неожиданности вздрогнули. — Просим вас разойтись по номерам!
Через несколько дней, после многократных напоминаний и просьб, в гостиницу явились новые, незнакомые ранее зеркаляне. Только два стража, встретившие людей у космического челночного аппарата, были теми же.
— А где же те, которые встречали нас? — спросил Начальник экспедиции.
— Они ушли из жизни, — бесстрастно сообщил выделявшийся ростом и осанкой зеркалянин.
Из осторожности Начальник экспедиции не стал задавать дальнейших вопросов и приступил к обсуждению возможности совершить экскурсию по планете.
— У нас принципиальных возражений нет, — сказал старший зеркалянин. — Изложите ваши намерения, укажите районы, которые вы хотели бы посетить, и наши соответствующие инстанции рассмотрят ваше заявление.
Надо было прежде всего достать карту планеты. Это оказалось не так легко. Потребовалось специальное заявление: для каких целей и на какое время требуется карта, кто будет ею пользоваться и так далее. Общими усилиями заявление было составлено, и вручено высокому статному зеркалянину.
Потянулись дни ожидания. В назначенное время слушали новости, и каждый раз главным сообщением было растущее число самоубийц. Передали новость и о прибытии космического корабля с планеты Земля, но похоже, что это сообщение никого особенно и не взволновало. Во всяком случае, никто не побежал на поляну, чтобы своими глазами увидеть космический корабль, на улицах города также не наблюдалось толпы, глазеющей на висевший на орбите большой космический корабль землян, очень хорошо видимый в ясном небе.
— А не спросить ли нам здешних жителей о причинах массовых самоубийств? — высказал пожелание Роми Сахни. — Может быть, сможем чем-то помочь?
Время от времени к землянам приходил высокий статный зеркалянин, выслушивал просьбы и уходил их согласовывать. Отказов, правда, почти не было, но каждый раз на то, чтобы получить разрешение даже на небольшую прогулку неподалеку от гостиницы, уходил целый день. Причем гостиничный страж придирчиво сверял голографические изображения землян с их оригиналами, хотя, похоже, в гостинице кроме них никто больше не жил.
Когда в очередной раз в гостинице появился высокий зеркалянин, Начальник экспедиции как бы невзначай спросил его:
— Отчего так много здешних жителей уходит из жизни?
— На нашей планете не все выдерживают здешний образ жизни, вот и уходят добровольно, — коротко ответил зеркалянин.
— А этот уход тоже надо согласовывать, получить на это разрешение?
Вопрос застал врасплох зеркалянина, и он с неожиданной откровенностью ответил:
— Уход из жизни ни с какими инстанциями не согласовывается… Им, умирающим, уже все равно. И они это делают легко и просто, может быть потому, что это единственное, что не надо ни с кем согласовывать…
Наконец разрешение на путешествие по Зеркальной планете было получено.
По просьбе гостей с Земли для передвижения выбрали наземный транспорт, чтобы иметь возможность попристальнее вглядеться в здешнюю жизнь, постараться понять, что же здесь происходит.
Поездка началась пересечением большого водного пространства, показавшегося настоящим морем. На корабле, напоминающем старые земные пароходы, пассажиров было совсем немного, и они лишь изредка мелькали на дальних концах просторных палуб. Природа восхищала землян, и они старались большую часть своего времени проводить на свежем воздухе, наблюдая мгновенное исчезновение солнца за горизонтом, что объяснялось вертикальностью оси вращения планеты по отношению к экватору.
Сопровождающие зеркаляне редко появлялись среди людей. О том, чтобы вести с ними непринужденную беседу, не могло быть и речи, ибо на каждый мало-мальски серьезный вопрос им надо было время, чтобы согласовать с кем-то ответ, получить санкцию. Тот неожиданно разоткровенничавшийся высокий зеркалянин больше не появлялся, и похоже, что откровенная беседа с людьми обошлась ему недешево.
Земляне посетили несколько городов, находящихся в таком же упадке, как и Главный город, побывали на остановившихся промышленных, предприятиях. Иногда среди механизмов и машин попадались относительно недавно изготовленные, но больше было старых, заржавленных.
На вопрос о возможности выпуска новых машин после долгого согласования и консультаций старший инопланетянин ответил так:
— У нас как раз первыми из жизни и стали уходить разного рода изобретатели, сторонники реформ, изменений. Не выдерживали они, когда, скажем, на согласование нового промышленного проекта или проведение какой-нибудь реформы тратились целые десятилетия… Это им не нравилось, влияло на их физическое и душевное здоровье…
У Роми на языке вертелся один вопрос, но он не знал, как его задать так, чтобы не вызвать неудовольствия или не поставить в неловкое положение сопровождавших. Как же они сами относятся к сложившейся ситуации, понимают ли, что из-за всего этого цивилизация Зеркальной повернула вспять и идет к гибели?
Посоветовался с товарищами, с Начальником экспедиции. Решено было найти подходящий случай.
Произошло это в небольшом, страшно запущенном городишке, где вместо привычного электрического освещения на главной, центральной площади горели какие-то чадящие факелы. Зеркаляне пригласили гостей с Земли на музыкальный концерт в здание, отдаленно напоминавшее старые земные театры. Но здесь вместо привычного ряда сидений для зрителей каждому предоставляли нечто, похожее на персональную ложу, устроенную так, что зритель не видел остальных и как бы один на один оказывался с исполнителями. Играл небольшой оркестр — восемь зеркалян с незнакомыми музыкальными инструментами.
Едва гости заняли свои места, уединившись один от другого, как зал наполнился странными, щемящими звуками. Порой чудилось, что звуки с помощью инструментов музыканты извлекали из самих слушателей, точнее вызывали ответное звучание в них, рождая печальные чувства. Музыка была вместе с тем удивительно мелодична и приятна.
На пути в гостиницу один из зеркалян, нарушив привычное молчание, вдруг спросил:
— Как вам понравилась ваша музыка?
И Роми ответил:
— Музыка прекрасна… Но мне показалось, что она разбудила воспоминания о прошлом в ваших сердцах, в вашей памяти. Что-то в ней есть такое… тоскующее по другим временам, когда здесь кипела настоящая, созидательная жизнь и жители вашей планеты не уходили из жизни. Строили новые города, прокладывали новые дороги, изобретали новые машины, возводили заводы и фабрики, смотрели далеко вперед, в будущее, которое им виделось счастливым, свободным, деятельным, совсем не таким, какое оно сегодня… Неужели никто из вас не понимает, что это уже не жизнь?
Зеркалянин выслушал слова Роми в полном молчании и у входа в гостиницу сказал:
— Я передам ваши слова в соответствующие Инстанции…
На следующее утро землянам было объявлено, что власти прерывают их пребывание на планете.
Начальник экспедиции попытался было протестовать, просил свидания с самыми главными правителями Зеркальной, но все было безрезультатно.
— В чем причина? — спросил он нового зеркалянина, появившегося на смену исчезнувшему.
— Вы пытаетесь постичь нашу жизнь, — невозмутимо ответил зеркалянин. — А это категорически запрещено на нашей планете. Вам надлежит возвратиться на свой космический корабль и удалиться от нас.
По его виду было ясно, что пытаться убедить его или просить связать с вышестоящим начальством совершенно бесполезно. С упрямством испорченной машины он продолжал повторять:
— Вам надлежит возвратиться на свой космический корабль и удалиться от нашей планеты…
Пришлось подчиниться. На этот счет существовало предписание: не только не вмешиваться во внутренние дела внеземных цивилизаций, но и не навязывать силой своего присутствия.
Земляне возвратились на свой космический корабль Сверхдальней Земной Экспедиции и, сделав пару витков для выбора наилучшей траектории движения в сторону Солнечной системы, взяли курс на Землю.
Расшифрованные выводы лежали на столе у Роми Сахни, и он только ждал, когда соберутся его товарищи.
Первым пришел Владимир Чулков, явно неохотно оторвавшийся от спортивных занятий, за ним следом явился всегда аккуратный и точный Нгуен Тхань, потом вошел Григорий Тайбарей.
Все уселись в глубокие кресла перед письменным столом.
— Итак, — произнес значительно Роми, — машина считает этот тип цивилизации во многом сходным с земной. По физическому типу и по спроецированной в прошлое схеме эволюции очень многое похоже. Они, зеркаляне, почти достигли того уровня цивилизации, который существовал на нашей планете в конце двадцатого столетия… Но дальше произошел какой-то сбой. Все пошло, как говорится, наперекосяк. Одним словом, наша Главная машина определила цивилизацию Зеркальной как цивилизацию, клонящуюся к упадку. Пока только выявлена одна главная причина. Вот слушайте, как это сформулировано. Никакого внешнего влияния не было, и жители Зеркальной, можно сказать, сами кругом виноваты. Это — чрезмерная, доведенная до абсурда регламентация производственной, экономической, общественной и даже личной жизни жителей этой планеты. И отсюда — пренебрежение не только к отдельной личности, но и к целым народам, попытка свести все существующее разнообразие жизни к надуманным схемам и регламентациям…
— Вот это да! — не выдержал Григорий Тайбарей. — Да я же знаю, как это называется! В свое время земляне с трудом, но сумели избавиться от этого!
— Так что же это такое? — с интересом спросил Тхань.
— Это называлось — бюрократизм!
— Да ты что? Чтобы бюрократизм погубил цветущую цивилизацию? — с оттенком недоверия произнес Чулков.
— Но ты же сам видел! — возразил Тайбарей.
— Да, ты прав, — растерянно пробормотал Чулков. — Хотя, честно сказать, если бы своими глазами всего этого не увидел, не испытал на собственной шкуре — ни за что бы не поверил.
— Тем не менее это так, — продолжал Роми, — и я склонен согласиться с предварительными выводами нашего бортового компьютера.
И вдруг всех одновременно охватило чувство глубокой жалости и сочувствия к человекоподобным существам, оставшимся там, на зеленой планете, уже невидимой даже в самый мощный телескоп космического корабля Сверхдальней Земной Экспедиции.
И еще раз все одновременно вздрогнули, когда послышалась музыка. Та самая музыка, которая исполнялась небольшим оркестром зеркалян в маленьком умирающем городке на исчезнувшей в космической дали планете. Музыка напоминала о встречах, о расставании, о чувстве глубокого сожаления и подлинно человеческого участия в гибнущим братьям по разуму…
Когда наступила тишина, Роми Сахни сказал:
— Мне удалось записать эту музыку тогда…
Радость возвращения на Землю понемногу вытеснила грустные мысли об оставленной далеко, на окраине Вселенной, Зеркальной планете.
Накануне посадки на Главный Земной Космодром в районе пустыни Сахары по всем уголкам космического корабля Сверхдальней Земной Экспедиции был услышан голос Начальника экспедиции:
— Всем научным сотрудникам: подготовить отчеты в трех экземплярах! Сверить идентичность копий! Всем членам экипажа — приготовить личные документы, сертификаты о состоянии здоровья! Техническому персоналу — держать наготове документацию о состоянии двигательных установок, уровне радиации…
Все участники слушали, и огромная радость переполняла их: они уже, можно сказать, дома, на своей родной зеленой Земле!
Об авторе
В одном из лирических отступлений своего юношеского рассказа Юрий Рытхэу, еще только вступавший на литературный путь, доверительно писал: «Будем говорить откровенно: какой из советских писателей, пишет ли он по-украински, по-грузински, по-эстонски или на другом языке — какой из писателей всего необъятного нашего Союза не мечтает в глубине души о том, чтобы его книга была переведена на великий язык России? Каждому, каким бы скромным он ни был, хочется, раз уж взялся он за перо, чтобы книгу его прочитали и в Мурманске, и в Севастополе, и в Ленинграде, и во Владивостоке, и в Сталинграде, и в столице нашей Родины — славной Москве. Не скрою, что и я лелею такую гордую мечту».
Эта мечта чукотского писателя уже давно осуществилась. Его книги, переведенные на десятки языков, читают не только в нашей стране, но и во многих странах Европы, Азии, Африки и Америки, а его творчество все больше привлекает внимание литературоведов и критиков.
Прошло свыше тридцати лет с того памятного для писателя дня, когда из родного Уэлена он пустился в смелое путешествие к берегам Невы, с того времени его путевые маршруты пролегли во многие страны: с творческими поездками, дружескими, культурными и научными визитами он побывал во Франции, в Дании, Испании, Польше, Греции, Индии, Вьетнаме, Японии, Канаде, Соединенных Штатах Америки, Анголе, Эфиопии, Кении, на Филиппинах, Кипре и в других странах, встречаясь со своими зарубежными читателями: рабочими, крестьянами, студентами, учителями, писателями, политическими и общественными деятелями. На международных конгрессах, симпозиумах и встречах с зарубежными коллегами Юрий Рытхэу говорит не только о своем творчестве, но и рассказывает о новой судьбе народов советского Севера, развитии их национальной культуры и литературы.
Писатель коммунист ведет большую творческую работу в Ленинградской писательской организации, секретарем которой он избирается на протяжении нескольких лет, в Совете по литературам народов Севера Союза писателей РСФСР, он является также членом правления Союза писателей СССР.
Разумеется, значение творчества художника не зависит от количества пройденных миль и посещенных стран. «У каждого писателя свой мир… Чем этот мир значительнее, чем глубже писатель показывает отношения между людьми, тем больше воздействие его произведений на разум и сердце читателя», — утверждает Сергей Воронин в своей книге «Время итогов».
У Юрия Рытхэу время подведения итогов еще не наступило, он находится в поре творческой зрелости. Его романы «Сон в начале тумана», «Иней на пороге», «Конец вечной мерзлоты», «Белые снега» и «Магические числа» свидетельствуют о больших художественных возможностях чукотского писателя, открывают для него новые творческие горизонты.
Духовная и творческая эволюция Юрия Рытхэу продолжается, но уже сейчас можно со всей очевидностью утверждать, что его художественное творчество, являясь неотъемлемой составной частью литературы социалистического реализма, играет важную роль в развитии искусства и культуры народов Севера. «Скажу откровенно, — свидетельствует Владимир Санги, — Рытхэу наметил для всех нас, стартовавших чуть позже него, перспективные пути творческого развития. Работал он истово, самоотверженно, и ему, как первопроходцу, приходилось многое брать на себя, нащупывать, открывать, отвергать».
Творчество Юрия Сергеевича Рытхэу получило высокую оценку. Он лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького, награжден орденами «Знак Почета», Дружбы народов и орденом Трудового Красного Знамени.
Юрий Рытхэу полон новых замыслов, он не расстается с многолетней мечтой — написать свою самую лучшую книгу о Чукотке.
Ю. Шпрыгов




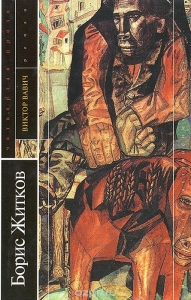
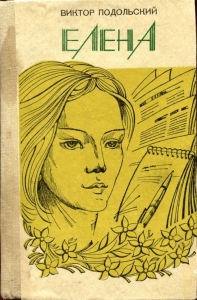
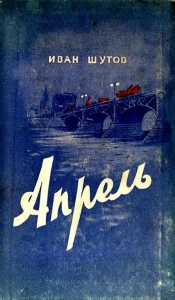
Комментарии к книге «Молчание в подарок», Юрий Сергеевич Рытхэу
Всего 0 комментариев