Борис Мисюк Час отплытия
И будем горевать…
Искомый результат путешествия — это параллель между чужим и своим.
И. Гончаров, «Фрегат «Паллада»Длинный — вагонов семьдесят — товарняк дико, как от боли, вскрикнул, заставив сосны на склонах отряхнуть с испугу снежную пыль, и отчаянно вонзился в гору, увлекая в туннель болтающийся из стороны в сторону хвост. На оконце точно набросили черный платок, и в вагоне наступила ночь. Светились только апельсиновые бока печки да бледно-оранжевые блики на черном от угля полу. Воздух рвался в клочья, обдавая вагоны ревом водопада. А на фоне этого рева четко тараторили колеса. Передние: все будем там — все будем там… Задние: нет, никогда — нет, никогда…
В этом перестуке вообще услышишь, что пожелаешь. Севка слышал сейчас так, потому что холод настроил его философски. Дед перед туннелем все торчал враскоряку у окошка, глазел вприщур на глухонемые сосны, на белое сибирское неприютство и думал: «Нэма дуба — зямля, значить, хряновая». Вот потому колеса теперь тарахтели деду — передние: дуба нэма — дуба нэма… задние: дед, нападай — дед, нападай…
Поезд вылетел из туннеля, и дед с Севкой будто вынырнули из омута, непроизвольно и дружно вздохнули. Белый свет ворвался в оконце, слизнул с полу оранжевые пятна. «Водопад» сгинул, колеса звонко зарезвились: так-перетак — так-перетак… «Шастыя сутки матярять нас», — подумал дед и хитро усмехнулся в седую щетину недельного росту. Спина отдохнула за туннель, и он снова было пригнулся к окошку. Но тут звякнули алюминиевые миски, и Севка возгласил радостно:
— Дед, нападай!
На завтрак у них был рыбный суп. На обед — тоже. Когда и на вечер оставалось. А нет, так чаевали.
Во Владивостоке им дали десять свечек, фонарь — немудрящую коробку, кое-как слепленную из тонкой — почти фольга — жести, оцинкованное ведро под воду, совок для золы, штампованный из вороненого железа, крепкий, как штыковая лопата. Дали точный список всего, чего не дали: тонна угля, кубометр дров, килограмм гвоздей — и пожелали счастливого пути.
А пути из Владивостока ведут, как известно, на запад: десять тысяч километров! И вагон им попался «ой хряновый» — расхлябанный, щелястый, холодный, как Сибирь, по которой звонко стрекотала сейчас восьмерка его колес.
Когда вагон уже загрузили — полторы тысячи картонных ящиков с рыбными консервами, — у деда с Севкой не было еще и куска угля. Рыбпортовский плотник аршинными гвоздями пришил доски крепления к изгвозданным вдрызг стенкам вагона. Севка собрал обрезки досок и, ликуя по-щенячьи, затопил маленькую, по пояс, «буржуйку». А дед, неодобрительно покосившись на веселое пламя в дверцах, пошел к диспетчеру и заявил, что никуда не поедет, «и усё тут». Ошарашенный диспетчер оторвался от разнарядки, крутнулся на вертящемся стуле, вперил в деда усталый взор.
Дед трижды повторил про уголь, добавив в последний раз;
— Ня дашь вуголь — злязаю з вагона, и усё тут!
Он держал под мышкой солдатские рукавицы и дышал на пергаментные руки…
Их вагон долго и зло шпыняли по путям, пока не загнали в угольный тупик.
Дед отворил толстенную дверь, повернулся к свету поджарым задом, осторожно спустился по ржавым ступенькам подножки. Их окружали Гималаи угля. Севка взял ведро с совком и спрыгнул на черный, усыпанный угольной мелочью снег, едва не зацепив ведром деда.
— Тьху ты, бес! — отпрянул дед с завидной реакцией. — На шо скопишь? На шо?! Спустивсь собе потихоньку. Куды отак спяшить?
Севка вытаращил на него ясные зеленые глаза, и дед смягчился, ласково оглядел гору антрацита, поблескивающую ювелирными гранями аспидных самородков.
— От эта вуголь! — В подслеповатых зрачках искрился восторг. — Давай, Сева, давай, милай, мяшков з пятнадцать возьмем, и тады нашое дело у шляпе.
Севка лениво и молча пошел к подножию черной горы, ковырнул совком смерзшуюся россыпь. Затем руками в рукавицах вывернул полупудовый кусок, победно вверг его в ведро и деланно небрежно зашагал к вагону. Окованная жестью «палуба» вагона была на уровне его подбородка. Он рванул ведро одной рукой, поставил в проеме и повелительно крикнул в черноту, откуда доносилась возня;
— Дед, нападай!
Дед возник в дверях, невнятно ворча и шамкая сухими губами. Седые брови решительно шевельнулись. Он исчез с ведром и появился только через минуту. За это время Севка успел закурить сигарету и мысленно окинуть все, что оставлял за «кормой» и что лежало прямо по курсу. Все вместе казалось бесконечной прямой, а на самом деле было лишь частью круга-исполина, который тюка не вмещался в сознании. Позади были 19 лет жизни. Впереди заманчиво светился маяк Дороги…
Дед оставил ведро в вагоне, а вынес с полдесятка джутовых мешков, мятых, грязных, смерзшихся. И пока Севка заполнял совком один мешок, дед руками без рукавиц насыпал два. Один утвердил в ямке, скрутив и примяв верх, а второй взвалил, сопя, на спину и бодро зашагал к вагону. Севка потащил свой по земле. Дед подошел к дверям, прицелился и ловко, по-грузчицки свалил мешок на «палубу» вагона. Подошел к Севке.
— Ну шо ото ты робыш? — сказал твердо, спокойно. — Мяшок издерешь, и усё.
Севка молча продолжал тащить. Дед пошел за ним, ступая в широкий след волока. У «трапа» Севка поставил мешок, собрал края в горсть и, чуя деда за спиной, но не удостаивая взглядом, глубоко вдохнул, выдохнул и рванул двумя руками вверх. Дед, стопроцентно серьезный, сделал стойку, вытянув коричневую жилистую шею.
Мгновение неподвижности, затем кряхтенье, подставленное колено и, наконец, полное слияние Севки с мешком — модного светло-серого костюма с увоженной дерюгой. Коротко выругавшись, дед бросился под мешок. Вдвоем едва водворили ношу в проем.
— От на хряна! Стольки насыпать! Милай! — еще не отдышавшись, выговорил дед. — Ты, пока молодый приглядувайсь! Вчись!
Следующий мешок Севка заполнил, как и дед, наполовину. Потом исчез куда-то, приволок доску-сороковку, установил ее сходней. Дед молчаливо одобрил «рацию», поднявшись с мешком по доске.
Теперь Севка сам наполнял и таскал мешки. Дед ссыпал уголь в закрома, торопясь возвращать пустые мешки, чтобы Севка не остыл, и каждый раз подбадривая его:
— Какая вуголь! Це-це-це! Ище мяшочков пять–семь, и усё. Ня вуголь — золото, истинный хрест!..
Предчувствие дороги полнило Севкину душу бесшабашной радостью. Он жадно глотал воздух, обжигая рот, и шептал:
На пороге открытий стою. Сад грядущего пенится хмелем… Засвищу я в кровавом бою Соловьиною трелью.Стихи он писал еще со школы, и друзья звали его футуристом.
Андрей был прост душой, он откровенно смеялся над «вывихом» друга. Димка считался толкователем стихов. Давненько не видел Севка друзей. Запылило из-под колес, замелькали города, моря, лица. А Димка уже второй курс политехнического в Одессе кончает. Андрюха как ушел после 8-го класса, так 4 года на одном заводе, в одном и том же цехе и, кажется, постоянно на одном станке токарит. Может, уже и женились. Ни того, ни другого. Севка голову кладет, в товарняк не заманишь. А приключениями, островами и прериями тогда, на рыбалках, на Днестре, вместе бредили…
«Эх, парни, были б вы здесь сейчас! Мы бы всю эту черную гору в вагон перетащили, а потом бы вместе — ту-ту…»
Дед обстоятельно, с раскладкой — лучинки, щепочки, полешки — затопил «буржуйку» и теперь не спеша распаковывал свой деревянный чемодан, приобретенный еще в молодости. Поставил на печь дюралевый, военных времен, котелок с водой. В вагоне запахло жильем. Севка сидел на «нарах»: ящики с консервами специально для проводников были сложены уступом. Ровно 108 ящиков — дед самолично считал при погрузке — ушло на нары. Светло-серый пиджак висел в головах нар, на одном из сотен гвоздей, усеявших дощатую стенку вагона. Севка только сейчас добыл из зеленого туристского рюкзака новехонькую фуфайку и влез в нее. Теперь он чувствовал себя этакой растопырой, но в тепле, так как вигоневый свитер, несмотря на развеселившуюся «буржуйку», грел не больше набедренной повязки. Синее нейлоновое пальто еще с погрузки валялось на нарах. Дед все беспокоился: «Склади пальто, впакуй. Такого пальта берегти надо, милай!» Севка, в пику деду, сгреб пальто одной рукой, впихнул не глядя в рюкзак. Подумал: ночь, мороз, спать хочется, а на чем, скажите, спать… Вспоминалась каюта на спардеке плавзавода-краболова, каюта с видом на море, левый борт, как любил говорить он. Там была уютная коечка, чистые простынки, Любаша-буфетчица через десять дней меняла…
Дед втащил в вагон доску, захлопнул дверь и сейчас возился в куче тряпья на «палубе», сортируя его на предмет утепления вагона и других грядущих нужд. Мешки, рваная роба, брошенные грузчиками рукавицы — все это дед незаметно собрал по рыбпорту, пока ждали подачи вагона. Собрал и припрятал у рампы портового холодильника с консервами. А когда успел сюда притащить. Севка и не засек. Увидал бы днем, не миновать деду морских подначек. А сейчас не до того — согреться бы, поспать…
Севка то опускал голову на грудь, то поднимал, едва слыша сквозь сон, как шебаршит тряпьем дед.
— Ня спи, ня спи, милай!
Севка вздрогнул, но не от громкости — дед говорил довольно тихо, — а от веселой бодрости в его голосе:
— Вставай, милай. Чаювать будем.
Зевнув, встряхнувшись — холод успел забраться под фуфайку, — Севка огляделся. Свеча уже была вставлена в фонарь, он висел на «переборке», подслеповато сияя жестяным серебром. Печка резво потрескивала углем. Севка соскочил с нар, выгнул спину. Жизненного пространства было 3×3×3 метра. Из них треть занимали угольные закрома, образованные глухой дверью вагона и перегородкой в три доски, поставленной дедом. С двух сторон, с «носа» и «кормы» — картонные ящики под крышу, обшитые досками крепления. Пока Севка таскал уголь, дед в закромах, сбоку, предусмотрительно установил большой фанерный ящик. Сейчас в нем покоились две алюминиевые миски, две ложки, кастрюлька, чистый мешок с дедовыми припасами, стеклянные банки с крышками, обвязанными белыми тряпочками. По диагонали, в углу «каюты», у действующей двери, стояла бочка из-под селедки. Еще при погрузке, когда дед, не доверяя портовому тальману, сам считал ящики с консервами. Севка добыл рыбацкий полиэтиленовый мешок-вкладыш и принес на горбу, шатаясь, ведер пять воды в нем.
Дед достал из ящика мешок, стянутый поверху шпагатом, торжественно развязал его на нарах. Из мешка показались краюха черного хлеба, старая дюралевая кружка, розовый тряпочный мешочек с сахаром. Севка дотянулся до своего рюкзака, сунул наугад руку внутрь, покопался, глядя в сторону на свечку, и вынул белую хлорвиниловую кружку. Дед пристально следил за его манипуляциями.
— Хэ! — воскликнул он с досадой. — Я ж учера табе пытал; «Кружку узял, милай?» Говорит — узял. А шо то за кружка?! Граться нею тольки, и ниче больше!
Севка полусонно отмахнулся:
— Да черт с ней, с кружкой, дед. Давай попьем и будем, ради бога, спать устраиваться.
— Бог, черт, — ворчал дед, снимая с печки котелок. — От повидишь, как у дороге, бяз кружки-ложки, от повидишь, милай.
Сна у деда ни в одном глазу. Севка невольно и сам заразился его бодростью. Они пили «чай» — чистый кипяток с сахаром и хлебом — и разговаривали.
— Сколько нам до этого Ирмино пилить? — спрашивал Севка. И дед, выдержав паузу, ответствовал:
— Пилить, милай, не перепилить… Тот раз на двадцать вторые сутки у Москве были. О как!.. А у Донбасси, ув Ирмино этим, може, й того больше.
Они чаевали стоя, как в баре, перед стойкой-нарами, где были разложены на листе картона припасы. Севка критически оглядел нары и доски крепления над ними, оглянулся на печку, уперся взглядом в стену ящиков. «Да, метра три, не больше, от палубы до подволока. Неужели в этой «каюте» жить целый месяц? Кошмар…»
— Десять тысяч километров, тридцать дней… Тысяча на три, это значит, по триста тридцать километров в сутки? Ну пусть по четыреста — двадцать пять дней… Это что ж, по шестнадцать-семнадцать километров в час? Не-е, дед, ты что-то напутал.
— Путав-распутав, а поедешь, милай, и повидишь. До Москвы ровно девять тыщ триста тридцать… шесть километров. — Дед кивнул сам себе, словно поставил точку подбородком. И сердито стал размешивать новую порцию сахару, столовая ложка с трудом поворачивалась в тесной кружке.
— Ты считай так, — добавил он отчужденным тоном, — а она получатся ня так.
После чая Севка снова уселся на нары и закурил. Дед с крестьянской обстоятельностью сложил все в мешок, завязал его, бережно опустил в ящик. Свою кружку с ложкой, зачем-то поднеся предварительно к свече и осмотрев, отправил туда же. К Севкиной кружке он протянул было руку, да отдернул, точно боясь обжечься. «Ну и де-е-ед, — подумал Севка. — Видать, куркуль из куркулей». Это соображение почему-то придало ему бодрости. Он соскочил с нар, решительно запахнул фуфайку, приоткрыл плечом взвизгнувшую дверь, гупнул вниз, минуя ступеньки.
Ясная морозная ночь. Тихо в порту. Вьется парок над котельной, чуть слышно пришепетывая. И от этого уже не так неуютно и зябко. Севка задрал голову и невольно ахнул: горящие крупные звезды — каждая с морскую — согласно подмигивали ему.
Севка зябко встряхнул плечами и быстро зашагал к пирсам, где высилась гора картона — заготовок под ящики для рыбы.
Дед стоял в раскрытых дверях, колотя молотком гвозди в косяк. Севка сунул пачку картона ему под ноги, сказал безрадостно:
— Принимай постель, дед.
— Га, эт-та добра постеля! — развеселился дед.
Разложив листы в три слоя по нарам, Севка стащил с себя фуфайку и засопел, мостясь в левом углу: в правом лежали дедовы тряпки.
Дед подошел к фонарю, чиркнул спичкой, задул свечу. Долго и сосредоточенно щурясь и обжигая пальцы догорающей спичкой, сощипывал нагар с фитиля. Снова затеплил свечу и тихим, домашним голосом сказал у самого уха свернувшегося в углу Севки:
— Давай, Сева, давай, милай, приладим дверь, а тады вже будем спать лягать.
Дверь. Севка и забыл про нее. Хотя полдня они потратили на это дело, когда ждали вагон. Дверь — это особь статья для проводников. Можно не взять даже хлеба (купишь потом, на первой станции), но дверь проводник внесет в вагон вперед мешка или чемодана. За три дня ожидания в рыбпорту Севка наслушался от бывалых проводников уйму историй «про дверь». Они с дедом притащили тогда с пилорамы пару длиннющих досок-двадцаток и стали делать легендарную дверь, дверь к вагону, которого еще не было. У деда в мешке оказалось три брезентовых рукавицы, набитые разнокалиберными гвоздями; толстые зеленые пальцы оттопыривались в стороны, а сверху рукавицы были крепко стянуты обрывками пеньки. К чемодану была приторочена сбоку старая ножовка с отполированной мозолями дутой железной рукоятью, топор, невидный такой, ржавый, но удивительно острый. Топор дед на что-то выменял в портовой плотницкой, а топорище к нему наскоро выстругал ножом из обрубка полена. С полчаса, наверно, он примеривался, мостил доски на импровизированные козлы — раму от ЗИСа, прицеливался ножовкой. Потом дело пошло быстрее. Севка не заметил, как стал подручным деда. А ведь целый год «начальником плавал», как сам говорил: пятым помощником капитана по пожарно-технической части, или попросту, по-судовому, пожарником.
А было дело так. Сразу после школы Севка отправился «покорять Москву» — поступать в МГУ на факультет журналистики. Через месяц возвращался домой с сумбуром в голове и неизменным горячечным спутником крушений — чувством лихой свободы, необычайной легкости в душе. Встреча в самолете окончательно утвердила здоровую мысль — с разбегу нырнуть в жизнь, познать мир, самостоятельность, любовь. С последней Севка и начал: когда Лиля, отдохнув месяц на Днестре, собиралась снова в столицу, он предложил ей «руку и сердце».
— Сердце у тебя действительно ручное, — смеясь, сказала Лиля, — но начинать, мы уже договорились, нужно с другого.
Вот когда он особенно почувствовал разницу в годах — Лиля была на пять лет старше и часто смотрела на него, как молодая мать на несмышленыша, влюбленно и с юморком. Говорила ему: он уедет на край света, увидит, что кроме речки Днестра есть моря и океаны, заодно убедится, что лучше Лили и там никого нет, вернется к ней мужественным, обветренным, умудренным.
— Убедиться? — пытался противиться Севка. — Да я сам могу кого хочешь убедить, что ты единственное, настоящее чудо во всей вселенной. Зачем мне край света?..
Во Владивостоке все опять началось не с того. В управлении океанских флотилий Дальморепродукт очень нужны были матросы-рыбообработчики, но Севка познакомился в отделе кадров с одним разбитным парнем, который сразу взял над ним шефство. Этот парень плавал пятым помощником капитана краболовного плавзавода. Он только что возвратился из десятимесячного промыслового рейса и рвался в отпуск, но не было замены.
— Ты поэт, — говорил Севке парень за стаканом вина на второй день знакомства, — а у меня работа — мечта поэта: 24 часа в сутки можно стихи писать.
Он устроил Севку на какие-то молниеносные курсы в рыбпорту, после которых его и произвели в судовые пожарники…
…Желая порадовать деда. Севка раздобыл в полуснесенном домишке у портовой проходной форточку, пыльную голубую форточку с петлями и защелкой. Дед тогда еще похвалил его: «Хозяйский ты хлопец. Сева, молодец. Ни в кого такой двяри не було ще!»
Дверь и вправду удалась на славу — двухметроворостая, из плотно пригнанных досок, обшитых с внутренней стороны картоном, с прорезью посередине, в которую вставили голубую форточку.
Час ушел на приладку «двяри». Севка снова был подручным — придерживал, подпирал, передвигал, прижимал, при этом зевал до хруста челюстей и мысленно костерил медлительного, обстоятельного деда. Одну створку вагонной окованной двери они раскрыли настежь и привязали проволокой к раме вагона. Вторую пришили досками — вверху к «переборке», внизу к «палубе». Дед достал из кармана полушубка две петли в промасленной газете. И Севка снова — в который раз! — подивился дедовой предусмотрительности.
Дверь пришлось снизу подпиливать, сбоку стесывать, но вот наконец она повисла на петлях и уже выскребла на «палубе» свой сектор.
Севка сложил между нарами и печкой обрезки досок, сел на них и закурил, переживая еще одно забытое чувство — покойную радость свершения. Дед подбросил угля в пригасшую топку, и «буржуйка» ожила: защелкал, как орех, уголек, затрещала, прогреваясь, труба, уходящая вверх, в крышу, заиграли в поддувале тени и блики, вначале темно-бронзовые, потом апельсиновые и соломенные.
Оба молча смотрели в огонь — Севка сидя, дед стоя, прислонившись к нарам. Куда девался сон? «Смотришь на огонь — не оторваться»… — думал Севка.
Совсем недалеко на путях вскрикнул тепловоз. Дед оживился.
— О! Щас, може, й повязуть…
Оба прислушались — действительно шум работающего дизеля, вначале тихий и четкий в морозной тишине, как тиканье часов, быстро нарастал.
— Ну шо ж, — удовлетворенно заключил дед, — таперь можно й у путь-дорогу. Вуголь есть, двяри нашей тож позавидуйтя. — Дед улыбался. Севка слышал по голосу. — Печка горить, дым идеть… Самая главная — вуголь! Вуголь в нас есть, и будем горевать…
— Тук-тарак, тук-тарак, трак-тарарак!.. — стучат колеса. Севке покуда и это интересно — слушает, словно стыки считает. Дед напялил очки с веревочными петлями вместо дужек — взнуздал ими поочередно жесткие, непослушные уши я принялся ремонтировать рукав полушубка. Оба сидят на только что сработанной из сороковки скамье. Она отлично вписалась в «каюту» — сиди себе, как барин, ногами к печке, откинувшись на нары. Севка разглядывает собственные руки с любопытством и не без удовольствия; побитые, поцарапанные, с иссиня-черным «голубцом» на большом пальце, в угле, саже, в занозах, они куда живописнее и интереснее тряпочных рук «начальника». На кошачьи мягких подушечках уже наметились твердые бугорки.
А ведь только двое суток в пути…
Вчера в Спасске случилось первое дорожное приключение. Часов в восемь вечера, а было уже темным-темно, остановились на задворках товарной станции. Севка узнал у вагонников, что стоять не меньше часа (будут менять подшипник на одном из вагонов), и двинул в поселок. Здесь явно жили огородники. В одной хате теплился огонек. Севка зашел, спросил картошки и за красненькую получил пять ведер — небольшой мешок. Для города неплохая сделка: он знал понаслышке, что на рынке картошка сейчас по трояку ведро. Предвкушая дедовы восторги, он взвалил мешок на спину и поспешил на станцию.
Из дверей товарной конторы вывалила подгулявшая компания — четыре женщины и парень. Севка шел медленно: все-таки полцентнера на плечах, и темень. Компания нагнала его, и он услышал за спиной:
— Глянь, глянь, вот нагрузился.
— От нашего пакгауза идет…
— Сейчас я проверю, — доверительно и негромко сообщил женщинам парень и храбро шагнул к «расхитителю».
— Что несешь?
Севка разозлился: и без того тяжело, а тут еще сопляк пристает.
— Тебе какое дело? Свое несу, не со склада.
— А ну-к дай посмотреть.
— Пошел ты! — рявкнул Севка, не сбавляя шага.
— Дай посмотреть! — не отставал парень, на ходу пытаясь ухватиться за мешок.
Севка увернулся и оттолкнул его плечом.
— Дай посмотрю! — уже с просительной интонацией сказал юнец и добавил для самоутверждения: — Я общественный контролер.
Он был совсем зеленый, под легким хмельком, и его тянуло на подвиги. Из Севки давно, как ему казалось, выветрилась такая романтика. Не отдавая отчета в своей невольной зависти к пареньку. Севка с досадой огрызнулся:
— Дуй, контролер, спать. Тут тебе делать нечего, — и прибавил уже миролюбиво; — Гляди, дамы твои заскучали.
— Дай посмотрю, и все, — уговаривал юнец.
Севка из упрямства дернулся и мешком нечаянно сбил «контролера» с ног. Опустив мешок наземь, он бросился на помощь парню. Женщины, видно решив, что он собирается «добить» их сослуживца, налетели, как квочки, и устроили кучу-малу. Взъерошенный Севка со смехом выбрался из свалки и тут же увидел, как одна из женщин, присев, ощупывает его мешок. На миг в Севке проснулся озорник. Одним прыжком он очутился возле женщины и пощекотал ее под мышками. Звонко рассмеявшись, она вскочила на ноги. И Севка близко увидел симпатичную задиристую мордашку.
— Ха, братцы! — задорно крикнула женщина. — У него картошка в мешке. А мы думали — рыба. — И добавила уже для Севки: — У нас сегодня рыбу сгружали. Понимаешь, вот мы и…
— Понимаю, — сказал Севка, весело глядя прямо ей в глаза. — День рождения небось справляли после работы? Кто именинник?
— Вот он же и именинник, Юрик наш, — радостно сообщила она.
Компания двинулась своим путем, а новая пара отстала и скоро исчезла в темноте.
— Люда, ты идешь? — неуверенно крикнули спереди.
— Идите, я вас догоню, — ответила Люда так, что больше ее ни о чем не спрашивали…
Севка целовал ее податливые губы, забыв о картошке, вагоне, деде. Все было неожиданно и прекрасно. Захлестнутая шальной волной его ласк, молодая женщина не скоро еще спросила, откуда он свалился и куда держит путь.
— Я провожу тебя, охальник, — сказала она и с полчаса простояла у дверей вагона, обвив Севкину шею теплыми руками и целуясь с ним. Молча. И только когда зашипели тормоза, и они оторвались друг от друга, Севка спросил ее адрес. Она торопливо назвала улицу, дом. Он повторил, слабо веря в чудо новой встречи, поцеловал ее и, присвистнув: «Н-но!», схватил уплывающую вагонную дверь и вспрыгнул на «трап»…
…Ритм колес сбился, они зачастили, звонко и беспорядочно. Севка кинулся к форточке, впустил в вагон вкусную, словно молоко, морозную струю, нырнул в нее головой.
— Закрый, Сева! — услышал за спиной. — Выхолонешь вагон! Только з ночи мало прогрели, ён хвортку отчиняет…
— Какую-то «Березай» проехали, — дохнув паром, бодро объявил Севка, — не успел прочитать.
— Гэ-э, милай, — осклабился дед, сосредоточенно вытягивая длинную нитку с иголкой, — скольки тых «березаив» ище напереди, усех не переглядишь.
На печке приплясывает котелок с водой. Он проволокой приторочен к трубе, но все равно ёрзает по печи, и Севка нетерпеливо шпыняет его пальцами, передвигая к центру, где погорячее. Ломаются привычки: в море он не курил, пока не позавтракает, а сейчас — уже третья папироса с утра. Да, папироса. Еще вчера он перешел со «Столичных» на «Беломор»: пальцы в угле-саже, а не станешь мыть каждый раз, как закуривать.
Дед все шьет, уткнувшись носом в потертый до основы материи рукав. «Дедов полушубок вполне можно в краеведческий музей, — думает Севка. — Зимняя одежда дореволюционных крестьян такой-то губернии…»
— Дед, ты из какой губернии родом?
— Чярниговьской! — с готовностью отвечает дед, блеснув очками. — До тыща девьятсот… двадцать второго.
Несколько мгновений дед молчит, испытующе смотрит. Севка любит слушать. А дед любит рассказывать.
— Потом, — он делает короткую паузу и длинно выдыхает, — Го-омельска область, — двигая головой, точно подталкивает слово губами. — До тыща девьятсот двадцать… четвертаго году. Потом… — в подслеповатых зрачках, крепко увеличенных толстыми линзами, сквозит хитрая интригующая улыбка, — Смоле-е-енська область. До… двадцать шестого…
— А теперь? — не выдерживает Севка.
— Таперь — Брянська область! — радостно дернул головой дед.
— А как деревня называется?
— Дяревня? Сяло Дянисковичи, милай. Новозыбковського уезду. Таперь, по-новому — району. От так!
В котелке запрыгало-забурлило. Севка схватил брезентовые рукавицы, лежавшие на ящике в угольных закромах (дед выделил на хознужды), раскрутил проволоку, снял котелок.
— Ты корочку з хлеба одрежь, поклади на печку — чай заварим, — объяснял дед, не отрываясь от шитья.
Севка недоверчиво на него покосился, но дедово лицо таило в коричневых морщинках спокойную мудрость сфинкса, и седая щетина пробивала кожу, как трава асфальт.
Лечь дышала жаром, и корочка обуглилась в момент. Севка смахнул ее в котелок, вода сразу обрела подобающий чаю цвет. Дед не спеша закончил ремонт рукава, полушубок сложил на нары, любовно примял его. Севке не терпелось полить чаю, а дед, как нарочно, возился — развязывал мешок, потом мешочек… Севка поклялся себе на первой же остановке купить кофе, хлеба, конфет.
Чай вышел на славу, не чай — парной хлебный квас! Оценив дедову мудрость. Севка подобрел. Захотелось как-то отблагодарить его. И он спросил наугад:
— А как там у вас в Белоруссии до войны жилось? Помнишь, дед? Расскажи, а?
И угодил в точку. У деда медленно сползло с лица довольство. Он коротко прихлебнул и отставил кружку, не допив. Снял очки, и забыл положить в карман, опустил на колени.
— Действительну отслужив у тридцатом, — начал таким тоном, что в вагоне вмиг стало пусто, гулко и холодно, — захотев крестьянствовать… Ожанился, хату купив… Хозяйство тольки подняв, а тут тайе — тридцать третий, тридцать четвертый год. Сама голодовка! — Дед прискорбно тряхнул головой, да так и остался, уперев взгляд в «палубу». Задумался, медленно почесал затылок и продолжал: — Сяло в нас дворов с восямсот… Я извозничав… У колхоз не йшов…
Вагон неожиданно резко тряхнуло: подъезжали к Хабаровску, и поезд начал тормозить.
В низкое небо упирались столбы пара и струнки дыма, расползаясь, расплющиваясь о него, как о потолок. Все было серо вокруг, точно в рассвет, а не в полдень: пепельный воздух, закопченные пакгаузы и депо сортировочной, сотни серых, хоть и разноцветных вагонов, станционный снег, похожий на золу. Казалось, солнце вообще ушло из этого мира.
Дед, крякнув, вскочил с лавки, засуетился;
— Покуда стали, суп сготовить надо. Давай, милай, бяри ножа, картошку лупить будем.
Но Севка уже втискивался в фуфайку:
— Сбегаю, дед, посмотрю — может, буфет рядом. Молочка, курева…
Дед невнятно буркнул, затрудняясь решить, что лучше — молоко или Севкина помощь.
А Севка прыгнул на черный смерзшийся снег, застыл на мгновение, втянул, раздув ноздри, полную грудь острого вкусного воздуха и улыбнулся.
Впереди прорезалась закопченная вывеска «Буфет». Севка встряхнулся и перешел на рысь…
Дед начистил миску картошки, получилось с горой, и осторожно высыпал ее в кастрюлю на печке. В холодном углу, за бочкой с водой, у деда был склад, о котором не знал пока и Севка. Что-то большое и тяжелое было упрятано в грязный джутовый мешок, затянутый большущим узлом. Дед извлек оттуда мешок, развязал на скамье и, не то щурясь, не то ухмыляясь, принялся копаться в недрах его. Он доставал то голову палтуса, то хвост камбалы, то полураздавленную мороженую селедку, подносил к форточке, нюхал.
Едва дед успел привязать кастрюлю к трубе, как тепловоз рванул. Из-под крышки выплеснулась вода, зашипела на печке, превратилась в облако. Состав не набрал еще полной скорости, но оркестр колес и стыков уже повел свою мелодию. Запыхавшийся, взъерошенный Севка догнал вагон и вспрыгнул на подножку. Из-за пазухи у него торчала буханка хлеба.
— Что-то, дед, ты вкусное смастерил! — он повел носом. — Уха?
— Уха з пятуха! — дед хитро ухмыльнулся и, глядя поверх очков, подступился к кастрюле, осторожно снял крышку и спокойно держал ее сучками-пальцами, не боясь ожечься. Севка разделся, сел на нары, ногами на скамью, и теперь разбирал покупки. Дед достал мешок из закромов и возился внизу, явно борясь с любопытством. Но уже на третьем свертке не выдержал, вроде ненароком взглянул в Севкину сторону и, узрев колбасу, бросил мешок, выпрямился.
— На шо от деньги вытрачаешь? Суп в нас есть. Хлеба узяв у бухвети — и бягом у вагон. То ж мало не отстав… А деньги у дороге — эгей, милай, берегти надо!
Уха подоспела. Севка достал миски, ложки; Внезапно состав резко тормознул. Деда бросило на Севку, оба прилипли к нарам. На печке свирепо зашипело. Ящики верхнего яруса в «корме» вагона с такой силой ударили в крепление, что верхняя доска оторвалась с одного конца и закачалась под потолком, хищно поблескивая торчащими зубами гвоздей.
— Скорей, Сева, скорей бяри топора, — тревожно зачастил дед, — лази уверх, я внизу буду дяржать, прибьем доску. Щас, видать, на «горку» повязуть.
Дед едва доставал снизу, и Севка сам держал доску и колотил обухом по гвоздям и неумелым пальцам. Спустился мокрый и красный, но довольный собой.
Поезд дернулся и остановился. В форточку видно было десятка два путей, сходящихся и расходящихся, словно играючись.
Дед размешивал ложкой уху и приговаривал:
— Таперь скорей, скорей поядать надо, а то на «горке» — о-ёй, милай…
— Да что за «горка», дед, что ты на нее молишься? — спросил Севка, хотя и знал, что это наклонные пути для рассортировки составов.
Дед наливал в миску уху, но даже среди этого важного занятия на секунду остановился, чтобы взглянуть на дикаря, не ведающего о «горке».
— Эгей, милай! Ты «горку» не знаешь? — дед улыбался. — Тады, считай, табе повезло.
Севка приготовился слушать и потянулся за беломориной в накладной карман модных брюк, изрядно уже за двое суток потерпевших. В этот момент мягкий, но сильный толчок обил с ног обоих.
— Дяржи! — рявкнул дед и ткнул пальцем в миску на скамье. — Дожидаешь грецкия пасхи!
Севка подхватил наполовину расплескавшуюся миску и улыбнулся: он не переставал удивляться чудному дедову говору.
Вагон катился под уклон, медленно набирая скорость.
— Давай скорей поядать, а то он щас как шарапне! — Дед примостился на скамье, расставил для упора ноги, держа миску на весу и вовсю работая ложкой.
С ухой расправились вовремя: «шарапнуло» так, что снова затрещали доски крепления. Потом удары спереди и сзади следовали один за другим. «Горка» и в самом деле смахивала на бомбардировку: Севка видел в кино, как бомбили станцию, и вагоны подпрыгивали, разъезжались, валились набок. Сейчас было не до чаю. Но колбасу, сыр и конфеты «Радий» можно было есть. От сыра дед наотрез отказался. Физиономия его при этом отражала не то застенчивость, не то насмешку. Так крестьянин откажется от рябчика, не зная, каким манером его взять.
Севка заставил его взять конфету, и дед, откусив половину, вторую завернул в бумажку и спрятал в заеложенный нагрудный карман.
Часа два шла сортировка на «горке». Дед с Севкой, сидя на скамье, упирались в нары всеми четырьмя конечностями. А когда все стихло, вылезли, как из окопа, осмотреться. В новом составе появился еще один такой же, как у них, зеленый ледник с проводниками.
Он был вагонов на десять впереди, и сейчас Севка с дедом не рискнули идти знакомиться. В голове состава красовался новенький синий тепловоз.
Хабаровска они так и не увидели. Новый тепловоз так дернул с места, что доска, теперь с «носа» вагона, отскочила, а ящики с консервами грохнулись на нары, едва не на толовы Севки и деда.
«Дед как в воду глядел, — думает Севка. — Точно «горевать». Седьмое сутки, считай, в холодильнике. В Африку бы, хоть на часок…»
Раннее утро. Вернее, ночь. Шесть часов в феврале, в Сибири — какое утро? Оба — дед и Севка — не спят, сидят на нарах как сычи: холодно. Свечку не зажигают. Севка проснулся оттого, что фуфайка на спине превратилась в лист кровельного железа, трико и брюки — тоже, а шапка съехала. Похоже, ее столкнули встопорщившиеся от мороза волосы. Теплые ботинки… Сюда бы того юмориста, что назвал их теплыми. У деда вон «прощай молодость» дырявые и то, наверное, больше греют.
Севка проснулся первым, живо вскочил с мерзлых нар, забросил угля в погасшую топку. Звяканье совка о дверцы подняло деда. Севка по привычке проверил было, горяча ли печка: царапнул спичкой по трубе — темно, чиркнул о крышку — дохлая малиновая царапина. Плюнул в сердцах — зуб на зуб не попадал — и зажег спичку о тарахтящий коробок. Потом налил котелок, поставил чай. В бочке — лед. А стоит в метре от печи! Правда, у самой двери. Но дверь-то — как в банке. Да и обшили (еще в Хабаровске) дополнительно картоном с нар. А сколько всяких щелей и дыр законопатили! Все искали, все мечтали найти дыру, закрыв которую, сразу учредят «Ташкент» в вагоне. Уже были надежды на дверь, на люки и спускные трубы из карманов для льда. Зимой, по идее, это вагон-теплушка, а летом — ледник, для этого в «носу» и «корме» отгорожены под лед два трехкубовых кармана. В крыше над карманами есть люки, а под вагонами — трубы, которые закрываются поддонами с противовесами. Люки они уплотнили мешковиной и задраили намертво, едва выехав с места. Трубы забили снизу тряпьем, а поддоны залили водой — льдом схватило, и шабаш. Вчера в Чите стояли. Севка лазил на крышу, уплотнял трубу стекловатой. А один черт — ледник. «Ты думав — раз, и готово? — ворчал дед. — А ён увесь у дырках!» — «Да, — думал Севка, — и бороться нам с ними до последней станции». Он читал как-то в журнале, что ледниковые периоды на Земле — не только прошлое, но и будущее, они повторяются через несколько десятков тысяч лет. Шесть суток пути — шесть суток борьбы с мифическими дырками и до посинения реальным гиперборейским холодом. «Может, уже наступает оледенение Земли? — ворочал Севка смерзшимися полушариями. — И вот вместе с миром гибнем мы. Вымираем, как динозавры».
Печка между тем зарумянилась сверху, ожила: на ритм колес наложились новые звуки — минорное гудение поддувала и мажорное потрескивание трубы. Закряхтел, зашевелился и дед, сполз с нар, принялся растирать ляжки. В окошке чуть засинело. Севка чиркнул о трубу спичкой, она радостно вспыхнула. Он зажег о нее свечу и задымил новой беломориной.
«Ни черта не вымираем! — подумал бодро. — А воткнуть в «буржуйку», хоть на ночь, форсунку с соляром — и можно «горевать». Ничего, придумают и для Земли форсунку».
Дед уже у окошка устроился. Глядит на чахлую, как больная девочка, зарю, на бескрайнюю белую равнину с редкими пучками сосен да берез.
— Скольки някультивированной земли! — дед закачал головой, зацокал языком. — Скольки едем — не пашется, не сеется.
— Зато лес растет!
«Некультивированной, — передразнил Севка. — Ишь ты! Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Дай этому кроту волю, он ботанический сад под картошку перероет».
— Какой же то лес? — дед не отрывался от окна. — Горе — не лес!
Но тут потянулась сосновая роща, и дед спешно отвернулся от окна. Севка усмехнулся и сменил его. Сосны держали на протянутых к путям лапах бледно-розовые караваи снега, словно понимали: сюда, в студеный, неуютный мир не заманить проезжих, их можно лишь одарить, как говорится, чем богаты…
Дед снял закипевший котелок, соорудил чай.
— Чого туды смотреть? Сёмыя сутки у дороге…
Он ткнулся в форточку, зацепив Севку по носу болтающимся ухом шапки.
— Щас станция буде. Завод Пятровский называется. Знаешь? — Не дождавшись ответа, продолжал: — …де эти, декабристы, их человек семь було, горевали.
— Ну, дед! — улыбнулся пораженный Севка. — Ты и в университете мог бы лекции по истории с географией читать.
— Хо-го, милай! — просиял дед. — Историю, може, й не, а от ограхвию могу у ниверштет сдавать. Сёмый год ездию. Как от на пенсию выйшов…
Бледнолицее солнце, с трудом одолев завалы снеговых туч на горизонте, скользнуло сзади по оголтело несущемуся товарняку водянисто-желтыми лучами. В ответ ему слабо улыбнулись два стеклышка в вагонах с полузамерзшими проводниками, снежная русская пустыня да подслеповатое оконце станционной будки с черным, выжженным на стесе сруба знаком: 6047.
— О! — заорал дед. — Шастую тыщу почали. Шесть тыщ сорок семь километров отселя до Москвы-матушки. Третью часть, считай, проехали, милай.
— Станция Хилок! — гаркнул Севка, перекрывая звон стыков разъездных путей.
Он после чая не отрывался от окна, курил, зачарованный необозримой пустыней, космической далью белой равнины…
Хилок проскочили не останавливаясь. Он сгинул, растворился в миллионе белых кубометров неба, воздуха, снега, словно и не было его вовсе на свете. Кто о тебе знает в мире, Хилок?
Севке представилось, что он один несется в ракете черт знает к каким далеким звездам, летит в надежде встретить человека, рассказать ему о людях, оставшихся на Земле. Эта надежда мала, как песчинка, как сама ракета в космосе, но сильна и неистребима, как жизнь, как душа.
Кучка темных, словно литых, елок у дороги. Точно приземлились на разведку. Верхушки нацелены в небо — скоро снова взлет. А вон аборигены — сосны. Они ростом куда выше гостей. Раскидисты, спокойны, вечны. Лесок потянулся журавлиным клином. Превратился в лес, в настоящую сибирскую тайгу.
Дед ожесточенно пилил сороковку, перекрестив ею по диагонали их трясущуюся обитель. Он не умел прожить без работы и десяти минут. Эта непрестанная колготня уже было начала раздражать Севку, сына города.
— Дед, а как тебя старуха отпускает в такую дорогу? — неожиданно спросил Севка.
Дед отпилил кусок, бросил к печке, потом повернулся на вопрос.
— А чого меня видпускать — сев и поехав. Дочка ище учится. Деньги надо? Надо. Сыны, правда, сбое работают. А ув отпуск — все одно до батька едуть. А я от щас туды-сюды съездию, тому туфли привязу, тому рубашку чи там брюки. Отак, милай… А зимой на печи чого здря боки пролежувать?
Дед сунул ножовку под скамью, сел. Словно вмиг его сморила усталость. Севке даже не поверилось, и он внимательно заглянул ему в лицо. Деда и в самом деле разморило, но он не устал. В свои 67 годов он еще не научился уставать. На лице его теплилась счастливая улыбка. Ясно, как по писаному, на нем сейчас можно было читать простые крестьянские мысли: родная хата, сработанная своими руками; старуха у печи, румяная от жаркого духа; бухтящие в казанке густые щи; яснолицая внучка-малютка за столом болтает ножонками, не достающими до пола; на дворе в теплом хлеву возится сытая скотина; в погребе картошка, всякий овощ в кадушках, и всего хватит до следующей осени, а потому можно ехать, и ехать себе спокойно…
— А где сыны работают, в городе? — спросил Севка, не глядя на деда.
Тот с охотой, не без гордости, ответил:
— Старшой редахтуром у газети, меньшой инженер, по радиву.
— Внуки, наверно, уже в студентах?
— Не, маненьки ище, — улыбка затопила все морщинами на дедовом лице. — Онук от тольки у школу пишов, онучка в нас с старухою. У городе таперь погано малятам.
— Почему погано?
— А потому, — удивился его непонятливости дед. — Загорчевали дитенка. Молока стопочку стограммову и то не пьеть. Козиного. Она посля козения. Литра три на день даеть. Куды яго? А воно не пьеть.
Дед огорчился, и Севка невольно позавидовал даже этому чувству, столько в нем было искренности. Сам он за полгода научился таиться, стесняться искренности. «Эх, Лилька!..»
Севка шагнул к окну, оставив деда наедине с милыми ему образами.
Поезд тормознул раз, другой, третий и плавно остановился посреди леса. Далеко впереди состав выгибался на дуге поворота, беззлобно мерцал красный огонек семафора.
Севка спрыгнул на обледенелый рыжий гравий насыпи и встретил лицом ветер. Он дул привычно, ровно, сильно. Было видно по обнаженной земле, что он здесь частый гость. После жаркой печки и спертого воздуха вагона ветер казался Севке не ледяным, а освежающим, как прохладительный колкий напиток. Севка пропел одними губами: «А лес стоит загадочный…» Меж сосен, елей и корявых берез блистал коркой наст, манил вглубь.
«В каком кошмарном воздухе обычно спит человек! — поражался Севка, все еще не стряхнувший до конца овчинно-угольный запах вагона. — Спать бы в тайге, под небом, вдыхая ветер, а не нафталин, чуя, как дышит под тобой земля…»
Отходить от вагона нельзя: семафор мог зазеленеть в момент, а насыпь крутая — не разгонишься. Севка стоял у двери, дышал в полную грудь, радовался жизни…
Допиливал сороковку уже Севка. Да так разошелся, что стянул с себя свитер, остался в тельняшке и взял еще доску. Все еще непривыкшие руки быстро уставали, но Севка ершился (деду шестьдесят семь, ему девятнадцать!), багровел и, допиливая очередной кусок, диким темпом сбивал дыхание. Он менял руки, но не останавливался, пока не кончил доску.
Максимыч — оказывается, так звали деда — тоже не отдыхал. Он тут же распускал чурки топором на три части, и делал это по-мастеровому, этакими экономичными старческими ударами.
За работой отлично думается. Вот только старик покою не дает: кем плавал да что получал?
— Большим начальником, Максимыч, плавал, — привычно, без улыбки отвечает Севка, — три золотых лычки носил, на пожарах зарабатывал. В общем, немало — то по шее схлопочу, то пониже.
— Эт-та, милай, серьезна работа, — уважительно говорит дед, пропуская юмор мимо ушей, — от ея усё зависить… У тридцать восьмом в нас у колхози анбар сгорев, увесь труд пропав. — Дед опустил топор, в задумчивости сел на скамью. — Може, й подпалив хто… А председателя увезли, только мы яго й видали. Добрый був человек, а тады строго дуже було!
— Вот и сейчас, Максимыч, «строго», — Севка бросил ножовку, тоже сел, закурил. — У старшего помощника капитана сгорел кабинет, а пятый виноват. Тоже, может быть, кто подпалил, да только вот плитка с курицей там была, а сам он в спальне с любовницей занимался. Ну и пока она не смоталась, на вахту не сообщал. А потом и тушить было нечего.
— Так тута ж доказать можно було: от табе горить плитка, от и кабинет горить!
— Точно, Максимыч! — в тон дедову живому участию подтвердил Севка. — За доказательства я и поменял свой краболов на вагон.
— Гэ, дорогой Сева, так вже у нашому мире — ласкове телятко две матки сосеть…
Севка рывком поднялся со скамьи, почти выхватил из рук деда топор. С каменным, далеким лицом он жестоко колол чурки и думал о том, как во время последнего перегруза, когда он с бригадой работал в трюме — бросал такие же вот ящики с консервами, старый рабочий сказал ему на перекуре: «Молодой парень, а в пожарники пошел. Тебе бы в самый раз сейчас душу потом прошибить, а то потом поздно будет».
Севка оглянулся. Дед медленно, как краб, влезал на нары. «Умаялся наконец, — подумал Севка. — Вот уж у кого душа на поту замешена. А толку?.. Эх, дедову бы мудрость — да не в скобарство!»
Поставив новую чурку и прицеливаясь. Севка метнул быстрый взгляд по сторонам — на форточку и печку. Он вдохновенно колол дрова — удивительная, забытая человеком города работа. А в городе нынче больше пол-России живет. И он, разгорячившись, шептал между ударами:
— Мне бы дедову мудрость… Я вернул бы людям огонь и ветер… Дал бы им живое солнце… вместо мертвецкого неона… черную душистую землю… с травой и росой… вместо сухого чахоточного асфальта.
Севка бросил топор на уголь, отер рукавом тельняшки пот со лба.
«Душу потом прошибить…»
Мимо окна полетели домишки-боровики. Раздвоились, расчетверились, расплелись маневровые пути. Показались дымы и трубы Петровского завода. Состав начал тормозить, и за окном медленно потянулись горы кокса и прессованного металлолома.
Дед проснулся, закряхтел, сел на нарах, свесил на скамью ноги в серых трубках штанов и серых же носках из грубой шерсти (ложась днем, они еще разувались). Севка торопливо натащил на себя свитер, влез в фуфайку.
— Схожу, Максимыч, гляну, где там декабристы горевали.
— Давай, давай, милай, ходи. Може, хвонаря знайдешь.
Дед привык уже, что его молодой напарник не пропускал и минутной остановки, а возвращался то со свежим хлебом, то с доброй доской, годной в дело, то с мотком медной проволоки. Деду оставалось только каждый раз направлять его поиски. А добыть у железнодорожников аккумуляторный фонарь, чтоб экономить свечи, было ясной его мечтой.
Севка, хрумкая снегом, подошел к вагону, где проводницами были тетя Паша и тетя Катя: с ними познакомился два дня назад. Выходили они из вагона редко, потому что из страха отстать в пути запаслись всем во Владивостоке. Дверь и сейчас у них была закрыта, а когда Севка поравнялся с нею, стекло отодвинулось, и одна из теть спросила, стараясь перекричать близкое шипение пара и грохот колес встречного, невидимо несущегося по ту сторону:
— Какая станция?
— Завод Петровский! — Севка остановился под дверью.
— Ты в магазин? — заговорщицки мигнула тетя Паша. Она была постарше второй проводницы и подобрей лицом.
— Купи нам хлебушка. Сева, свеженького. И еще, — усиленное мигание, знаки молчать, — еще молочка бутылочку.
Последнее слово было произнесено так красноречиво и недвусмысленно, что тетя Паша исчезла, как сраженная «злодеем» кукла в кукольном театре, и в окошко высунулась заспанная всклокоченная голова тети Кати:
— Не слушай ее. Сева! Никаких бутылочек! Всю дорогу ей только дай, дай, дай…
Но Севка уже и не слушал. Тетя Паша успела ему сунуть пятерку, и он быстро шагал к станции, мимо бригады вагонников, стучавших буксами, льющих туда масло, пятнающих снег клочьями черной, отработавшей в буксах пакли с острым запахом жареной конопли.
За неделю они с дедом обрыдли друг другу. Узники вагонной «каюты», они то и дело натыкались в темноте один на другого: дед до самой ночи не давал зажигать свечу. А потом натирал ее мылом (чтоб дольше горела), и едва Севка мостился с книгой у самого язычка ее, в желтом пятне, прыгающем в такт колесам, дед «запалювал триску» — лучину, задувал свечу и сощипывал корявыми пальцами нагар. А порой, когда дед стоял у окна, глядя на сотни гектаров белой сибирской степи-пустыни или черного лесного пала, Севка вначале удивленно, а потом ревниво замечал, что, и дед бренчит губами его мелодии.
С полными карманами и купленным за трояк железнодорожным фонарем в руке несся Севка к своим вагонам. Состав залязгал сцеплением и начинал раскручивать колеса. До деда было далековато; и он вскочил в вагон к старухам.
В вагоне было тепло и уютно, чисто и прибрано. А за выпивкой зажурчал разговор. Тетя Паша, оказывается, знала все краболовы, всех старых капитанов и сама когда-то «ходила на краба» на древнем паровом, стоящем теперь на мертвом якоре в качестве брандвахты «Всеволоде Сибирцеве». Она рассказывала, время от времени прикуривая упорно гаснущую папиросу «Север»…
…Осень тридцать четвертого года. Северо-западное побережье Охотского моря. От борта краболова отваливает кавасаки. В нем пятеро девушек. Их списали с «Сибирцева». Они с сумками, чемоданами, в которых имущество и харч — фунтовые банки крабовых консервов. Разделка и укладка краба в эти самые банки и была их работой на плавучем заводе. Четверых списали за брак в работе. Пятая, Рябая Верка, — жертва любви. Ее соблазнил старшина кавасаки Федор, с которым состояла в гражданском браке Пашка.
Нелегко было Севке вообразить ровесницей красноносую старуху пьяницу, представить ее влюбленной, ревнующей, насмерть борющейся за свое счастье. Тогда, сорок лет назад, она сумела победить; Рябую Верку, беременную седьмой месяц, красную от стыда, принародно заклеймили развратницей, моральной уродкой и вместе с бракоделами высадили на берег, за триста миль от Магадана. Здоровущая баба была эта Верка, на кавасаки ловцом работала, а вот не смогла дойти, не одолела горбатые мили по сопкам, смушковым от стланика.
— Жалко мне было ее… — скрипуче пропела тетя Паша.
Фанерный ящик, на котором лежали куски хлеба, колбаса, стояли две кружки и пустая бутылка, трясло так, как будто внутри его работал дизель.
— Они месяц шли, — хлюпая багровым носом, плакала старуха, — целый месяц, слышишь. Сева? И трое, только трое дошли до Магадана…
Потрясенный рассказом. Севка истуканом сидел на лавке и дымил беломором. Все трое молчали. Слышно было лишь всхлипывание тети Паши да треск угля в печке. Привычным фоном грохотали колеса. Наконец встала со своей маленькой переносной скамеечки тетя Катя и молча убрала со «стола» пустую бутылку, хлёб, колбасу. В углу, у нар стоял еще один большой фанерный ящик с марлевой занавеской. Хозяйственная старуха спрятала все в этот «буфет» и, уронив: «Ну, будет уже, будет, Паша, хлюпать», повернулась к окну.
Пятнадцать лет проплавали на «Сибирцеве» Пашка с Федором. Потом сошли на берег, построили хату, расписались в загсе. Но бог не дал им детей, так сказала сама тетя Паша. И поэтому ее потянуло к водке. Федор работал в порту, шкипером на барже. В прошлом году погиб. Его баржа стояла под бортом новенького краболова, который готовился в рейс. Там прибирали палубу и выбрасывали за борт мусор, ненужные доски. Одной доской и сломало ему позвоночник. Федор помучился с неделю и помер. Молча, без стона.
Глаза тети Паши блестели в вагонном полумраке, но были уже сухими.
Кончался трехчасовой прогон. В февральских сумерках блеснули желтые огоньки станции. Голова тети Кати в пуховом платке закрыла окошко: она всматривалась. И наконец объявила радостно:
— Улан-Удэ!
Зашипели тормоза. Поезд еще не остановился, а Севка уже спрыгнул и, махнув тете Кате рукой, пошел навстречу вагону с родным номером 840–1438.
Дед ликовал, точно встретил друга после долгой разлуки, болтал без умолку:
— Давай, милай, поядать, давай, а то я вже думав, шо ты отстав.
Севка залег прямо в ботинках на нары, зарылся лицом в холодное одеяло и подумал о тете Паше: «Нет, не в краболовах тут дело. И не в давности… В людях… В людях! Черствость… Откуда она? От бедности в доме, в душе?..»
Полчаса они простояли в Улан-Удэ, и Севка за это время не пошевелился. Судьба Рябой Верки, мерзлое одеяло, в которое он уткнулся холодным носом, ледяные ботинки, стылые ноги, неподвижность студеного вагона питали его мысли о холодном мире. Максимыч же, пользуясь остановкой, вычистил поддувало, выскреб совком золу и в одиночестве ужинал у развеселившейся печки. В его мире зло с добром давным-давно расплелись, и, как в возвращенном детстве, день и ночь делила четкая грань.
…Ледник 840–1438 огибал Байкал. Чудо-озеро, живущее в воображении Севки в виде густо-синего пятна на школьной карте, мертво спало сейчас под мутным белым льдом, едва различимым сквозь полузамерзшее стекло.
Максимыч, видя, что парень не в духе, сидел на скамье молча, не шевелясь.
Севка отыскал во тьме свое приобретение — аккумуляторный фонарь, щелкнул им, и широкий ясный луч оживил их «каюту». Мелко тряслась бочка с водой, весело подпрыгивала на стыках «буржуйка», а вокруг нее пытались плясать летку-енку стопки дров, напиленных дедом за день. Все в вагоне жило и дышало. Ящики с консервами мотались и ерзали в клетках креплений, шевелился уголь в закромах, банки, ложки, котелок тихонько позвякивали в ящике. Максимычу эта картина явно что-то напоминала.
— Как у птичнику! — неожиданно для себя сказал он и смущенно улыбнулся.
Севка сел рядом, закурил и вдруг рассказал деду, не в силах долее держать в себе, про Рябую Верку. Максимыч слушал с горьким лицом, молчал и только изредка качал головой.
— Тридцать четвертый год… — Севка достал новую беломорину, прикурил. — Максимыч, а ты верил тогда в правду?
Дед медленно помотал головой.
— А что ж так? Сколько уже народу вон живет в социализме! Да и Рябую Верку сейчас никто не высадит. Наоборот — дадут декретный, ясли… — Севка вызывал деда на спор с какой-то тайной мыслью.
— То усе так, милай, — раздумчиво продолжал дед. В нем пробуждалось забытое, наболевшее, давно решенное про себя, невысказанное. — А ты от скажи, за шо щас у милицию забирають Верку або Нюшку, как ото сядуть воны коло своей хвортки торгувать чим бог послав? Помидоры, або картошка, або лук, або ище там шо. Вона ж усё надо людям. То ж — не! Нехай лучше пропадае! По-хозяйски так?..
— Ну, Максимыч, ты от своей «хвортки» и коммунизма не разглядишь, — зло спорил Севка. — Ведь это мелочи. Наладит государство закупку, транспорт от села до города, и будет порядок.
— З мелочи, милай, руб складается! — рассердился дед. — И мы з тобой тож из мелочи изделаны. Поняв?
Севка умолк, мысленно еще раз припаяв Максимычу пословицу про горбатого.
Севка уже не замечал на руках ссадин и царапин. Потом, разглядывая их, удивлялся, когда и откуда они появились. Один раз, когда электровоз рванул на уклоне, Севка не устоял (он, согнувшись, распускал чурку на щепки) и, чтобы не свалиться на печку, невольно коснулся ее рукой. Боль от ожога достала до пяток. Раньше он заорал бы, помчался в лазарет. А сейчас, ругнувшись, плюнул на больное место, потер, размазав угольную грязь, и продолжал работу, только ноги расставил пошире и уперся в скамью бедром. Работал упрямо, по-бычьи нагнув голову, не видя ничего, кроме чурок, вязнущего в сучках топора и маленького участка пола с прыгающей на нем угольной крошкой. Неожиданно захотел мяса. Даже запах и вкус его почувствовал и на миг, занеся топор, увидел в слоях расщепленного дерева кусок волокнистой жаренной на костре говядины.
Проскочили Ангарск, потом минут десять постояли на станции Зима. Выйдя из вагона, Севка осмотрелся и подумал с оптимизмом: «Клондайк. Аляска. А вообще — не так страшна Сибирь… На Северном полюсе, ясно, потяжче. Но вытерпеть и он сможет. Сможет!»
В девять вечера остановились в Нижнеудинске. Поместному было семь часов, и солнце только-только сбежало за снежный горизонт, к Москве, где сейчас было лишь два часа пополудни, — привычно высчитал Севка. Они с дедом приучились жить в трехмерном времени. То один, то другой постоянно прикидывали, а сколько сейчас там, в Москве. Спрашивали чуть не на каждой станции местное время, но часы до самого финиша с владивостокского не переводили. Максимыч — по трудности отвычки, Севка — из преданности городу, который стал ему второй родиной.
Внезапно зашипели тормоза. Севка рванулся в тревоге к двери.
— Максимыч! — крикнул он.
Он увидел, как присевший было у столба дед запутался в штанах… и в этот момент проклятый электровоз рванул. Тронулся неожиданно, не простояв и пяти минут на станции.
Поезд с ходу набирал скорость…
Точно стегнул вдруг кто-то Севку. Он сиганул из вагона, в три прыжка на пружинистых ногах очутился возле деда, подхватил его на руки, словно ребенка, и помчал вслед убегающему вагону. Наверно, это заняло не меньше минуты. Но ему показалось мгновением.
В вагоне он отдышался, на удивление, быстро и легко. Поезд шел полным ходом, колеса трещали свое: «Тут — не там, гнать — не догнать», в окне мелькали четкие, графического рисунка стволы берез с темно-синими лоскутками неба между ними. Севке представилось, что он спал всю свою жизнь и вот в один миг проснулся. Вдруг, сразу проснулся от внутреннего толчка. Как старый вулкан, давно уже считавшийся просто холмом.
Щелчок — фонарь озарил их обитель, и в вагоне будто стало теплее. Севка теплыми глазами смотрел на его согбенную спину и думал о нем, как о родном отце. Ни разу, до самого конца, он не назвал его больше дедом.
— Максимыч, а ты вот в тридцатых годах молодой был, — продолжил Севка будто на минуту прерванный вчерашний разговор. — Ну вот скажи, если б ты работал на краболове рядом с Веркой, заступился б за нее? Прямо там, на собрании.
Максимыч задумался, сел на скамью, мотнул ухом шапки, точно сказал «ишь ты», снова задумался. И наконец ответил, помогая словам кивками:
— Ежли б работав из ними уместе, заступив бы!
Максимыч сообразил чайку. Благо котелок с водой всегда был на печке. Севка с жадностью курил беломорину.
— Дюже ты много куришь. Сева, — с укором сказал старик. — За усю жизнь я одной папиросы от не скурив, веришь?.. Годочков восемь мене було, хлопци большие приучали: «Купи махорки, на кони провезем». А я возьму у курятнику два яйца, куплю за их махорки и давай курить. Один-единый раз накурився, мене сорвало. И усё.
Севка кивал в знак того, что слушает, а на лице его играла едва уловимая саркастическая усмешка — он внутренним зрением рассматривал собственную душу. Вначале, по привычке ерничать даже наедине с собой, он пытался оправдать свой поступок эгоизмом: страшно, мол, одному в вагоне было остаться с грузом, да, да, просто ответственности испугался, тоже мне герой-спаситель. Но юная здоровая душа Севки встала на дыбы. Насмешливая гримаса ушла с его лица, в зеленых глазах всплыла добрая улыбка.
Ночь была холодная и бесконечная. Максимыч несколько раз вставал подкочегарить. А Севка, ворочаясь с одного замерзшего бока на другой, видел сны.
Черно-синее штормовое море, соленая горечь ветра, леденящего ноздри, рев и свист его, сливающийся с шумом волн, которые проносились, полыхая, вдоль стального борта, у самых ног Севки. Впереди по курсу терпел бедствие крошечный мотобот. Капитан смотрел в бинокль, а Севка и так видел, знал, что там пять женщин, и больше никого, и среди них беременная Рябая Верка. Скорлупа то исчезала в провалах черных волн, то косо взлетала на белые гребни, и казалось, что море жестоко забавляется ею, прежде чем раздавить белыми зубами и заглотнуть черной пастью. Севка хотел крикнуть, но слова застряли в глотке, и он понял, что страшно опоздал, и увидел, как огромный лохматый гребень, свернувшись в рулон, подмял мотобот, завертел его, покатил по склону волны в бездну. Крики женщин покрыли гром шторма, и Севка тоже закричал, разрывая душу и голосовые связки…
Он очнулся, потер замерзший лоб, стеариновые от холода ноздри, несколько раз глубоко вздохнул, переживая сон, подтащил одеяло на голову и вновь нырнул в удивительный мир видений, чтобы и там кричать, сражаться, отстаивать правду — в общем, жить…
Севка проснулся. Грохотало и трясло так, словно не поезд по рельсам, а вездеход по торосам ледяной пустыни мчался, спасаясь от катастрофы.
Холодно синел рассвет в окошке. Печка ярилась, рдея пунцовыми пятнами с боков и сверху. Видно, Максимыч недавно подшуровал ее. Он теперь крепко спал, завернувшись в кокон полушубка и заразительно сладко храпя. Севка встал с нагретой картонной постели, чтобы встретить новый день, чтобы пилить дрова, кочегарить, готовить пищу, топтать снег станций и полустанков, зрить чудеса мира и уже не оставаться к ним равнодушным, а удивляться по-новому, так, словно вдруг увидел привычный мир не с палубы, на которой живешь, а с мачты. Удивляться, восхищаться, горевать, думать, открывать…
В Пензе Севка отстал от поезда… Он стоял, окаменев, на рельсах, и смешное выражение детской обиды было в его глазах. Час назад, всего час, черт побери, а не обещанных два, здесь стоял его состав. Где он? Куда он? Почему?
На все эти вопросы в диспетчерской ему ответил довольно быстро, но видом своим сей интеллигентный проводник товарного вагона насмешил оператора и диспетчера. Под мышкой Севка держал ворох свежих газет и журналов, белый батон и колбасу в желтой оберточной бумаге, а из карманов синего нейлонового пальто выглядывали ядовито-зеленые крышечки кефира.
— А что же теперь делать? — спросил Севка.
— Ха-ха-ха! — зло и услало расхохоталась женщина-оператор, толкнув на середину стола осточертевший ей лист разнарядки. — А ты разувайся и — по шпалам, может, догонишь. Да оставь здесь кефир свой с булочкой, не пропадут. Ха-ха-ха!
«Беда у человека, а она, дура, ржет», — оказали Севкины глаза.
— Нет, ты глянь, Миша! Как будто мы ему должны! Смотрит! — улыбка мгновенно исчезла со скуластого лица оператора, словно отключенная одной из кнопок пульта. — Проловил мух, дуй теперь пехом, тебе говорят!
Придержав левой рукой батон. Севка изобразил правой у лба «сдвиг по фазе» и молча вышел.
— Ишь, сопляк! — толкнули его в спину слова диспетчера Миши. — Сейчас вот сержанту звякну, еще и пилюль получишь.
Севке захотелось повернуться, подойти к Мише… Но он сдержался. «Нет на прорву карантина…»
В кассовом зале вокзала он узнал, что попутный пассажирский будет через три часа, что до Ртищево он не нагонит товарняк, а в Поворино не останавливается, и потому придется брать билет до Георгиу-Деж. Цена билета раза в три превышала Севкины возможности, и он пошел к дежурному.
Узкая боковушка за кассами напоминала траншею: справа высилась глухая стена, слева, под самый потолок, простиралась коричневая штора, отделяющая кассы, а в глубине, у глухого простенка, стоял, как нездешний, залитый синими чернилами канцелярский стол, на нем — молочная бутылка и веер грязных бумаг на скрепке. Безжалостные лампы дневного света наголо высвечивали траншею. Суета и гул вокзала казались отсюда инопланетными. На лавке сидела женщина в черной шинели и простых сапогах. Облокотившись на стол, она спала. Из-под черной ушанки видна была уходящая в воротник шинели коса — мягкие рыжие волосы с проседью. Она устала от поездов, пассажиров и этого неуютного, больничного света. Воинственно влетев сюда. Севка теперь топтался на месте, смотрел на дежурную и добрел лицом. Потом повернулся и на цыпочках пошел к двери.
— Чё ты хотел? — догнал у выхода ее голос.
Голос был теплый. Он напомнил мать. Севка забыл из-за этого, зачем пришел, и мгновение медлил, не оборачиваясь. Потом подошел к столу и еще с минуту не мог рта раскрыть; глаза у женщины были светло-голубые…
…Солнце в лужах, куча умытого щебня (с год как завезли для ремонта двора), однорукий клен — вторую сломало бурей, воробьи орут в кроне, голубое после дождя небо, запах озона, невольно заставляющий раздувать ноздри. Радость скорого полета полнит грудь. Мама. Голубоглазая, простоволосая. Лучики у глаз в последний момент сливаются в горькие складки — мама плачет…
— Чё тебе, паренек?
Будто раздвинулись шторы и стены, мертвый неоновый свет ожил, стал солнечным…
Через три часа дежурная с Севкой-хвостом металась по перрону от одного вагона к другому, уговаривая проводников, ругаясь, упрашивая, чуть не плача. Бесполезно. Закончилась чемоданная суетня, «одна минута до отправления» была объявлена, как показалось Севке, час назад, тормоза пассажирского зашипели. Женщина в сердцах махнула рукой, но вдруг рванулась к мужчине в железнодорожном кителе, едва не обняв его. Это был начальник поезда.
— Миленький, родненький, — запричитала она, держа его за рукав кителя, — возьми сынка! Христом прошу, подвези. Ему всего-то до Георгиу-Деж…
Поезд шевельнулся, тихо звякнув сцеплением, и пошел. Севка стоял на подножке, рядом с начальником поезда, держал под мышкой завернутый в газету полусъеденный батон и едва не ревел.
А дежурная стояла на перроне, поправляла рыжую прядь, выбившуюся из-под черной шапки, и улыбалась ему.
Вагон оказался купейным. В нем были места, но проводник велел сидеть на откидном стуле в конце коридора. И Севка просидел так всю ночь, глядя меж раздвинутых плюшевых занавесок на небесные и земные огни.
…Севка вскочил, громко трахнув откидным стулом. Глаза блестели, табачный дым окутывал его. Рождалось стихотворение о поэте:
Мне кажется, тысячелетья Тому назад Он богом был на этом свете, Пока набат Не возвестил, что людям нужен Совсем не бог. И вот обходчиком он служит Людских тревог…На стук вышел в коридор сонный проводник и отматерил, как водится, за непорядок пассажира, к тому же еще и безбилетного, взятого за-ради Христа, что называется. Севка с видимой радостью выслушал его и щедро улыбнулся.
— Ладно, давай закурить, — снизошел проводник.
В купейном вагоне, даже в коридоре, было жарко, несмотря на двадцатиградусный мороз за окном. Севка ладонью стер со лба пот, улыбнулся, вспомнив о товарняке, где холод и крошечная розовобокая «буржуйка» заставляют быстрее течь кровь в жилах, работать остервенело и радостно.
— Ты только послушай… Как тебя зовут?.. Леша, ты только послушай, чем человек занимался до 19 лет! Лил воду, фонтанировал!..
Сгустились сумерки. И звезды На клумбе неба расцвели. Благоухает медом воздух, И льется песня с губ Земли. И та, что в небе всех затмила. Покинув бархатную синь. Сошла к земле, услышав: «Милая, Ты светишь в капельке росы?»Глубоко презирая сейчас себя за эти стихи, Севка декламировал их все же вдохновенно, но с тонкой шаржевой издевкой над собой, что Леша непременно, по его мнению, должен был оценить. Но проводник крутнул пальцем у виска, зевнул, едва не вывернув челюсть, и сказал:
— Ты шо, кореш, чокнутый?
Севка покраснел, а проводник, почесав густую макушку, ушел к себе в служебку. Севка увидел в оконном стекле свое отражение — это был законченный портрет дурня, и они улыбнулись друг другу. В этот момент, визгнув на роликах, снова приоткрылась дверь служебки, и проводник Леша позвал:
— Ну ты, Пушкин, заходь!
До Георгиу-Деж оставалось часа два, и Севка всласть проспал их на мягкой Лешиной койке. Хотя минут десять, пока не уснул, разорванная цепь мыслей звенела и извивалась в горячем мозгу, силясь замкнуться. О боже, чего только не прошло за эти десять минут по Севкиным извилинам!
Он побывал даже в Ясной Поляне. Перед ним промелькнули картины: саженные сосны в старинном парке простирают кроны, словно крылья вечности, над сырой землей и цепочкой экскурсантов, идущих чуть заметной в зелени тропкой; они болтают, смеются, но эта суета не достигает вершин, она остается на уровне голов, стелется по траве; у могилы Льва Толстого все смолкает; Севка поднял с земли несколько желудей и, вернувшись домой, посадил их под окном.
И уже совсем засыпая под мягкую музыку колес пассажирского (колеса товарняка в сравнении с ней — негритянский джаз), Севка успел подумать, что комфорт, при всех его минусах, обладает замечательной способностью освобождать мысль для полета.
В Георгиу-Деж пассажирский прибыл на рассвете. Часа через два под мартовским солнцем закапало с крыш, запахло огурцами и молоком — так разложил Севка весенний аромат на составные. А воробьи посходили с ума и подняли такой галдеж и возню на проводах и крыше киоска, что Севка едва не оглох. В это самое время прибыл с грохотом и лязгом коричневый, мокрый от росы поезд, в центре которого лучились незабвенные цифры 840–11438.
Максимыч обнял Севку, деранул щетиной его гладко выбритые (еще в Пензе) щеки и пошел молоть на своем белорусско-украинском:
— Георгиу-Деж… Я вже еду й гадаю: Георгиу-Деж — де ж це мой дорогой Сева запропав? Как ото ёму догонять мене из триклятой Пензы, черты б ея загребли? Дивлюся: раз зостанавлюемся — час стоим, другой раз — знов час, а табе нема й нема…
Севка сидел на нарах и сладко курил. Вагон, оказывается, влез прямо в его сердце, без спроса, со всеми потрохами: громом колес, шорохом ерзающих в клетке ящиков, подслеповатым окошком-форточкой, «буржуйкой», запахом угля, который пропитал всю «каюту», полупустой бочкой, где слышно плещется вода, невольно напоминая о том, что под свитером Севки — тельняшка. Севка уже решил: по возвращении во Владивосток он идет морячить на СРТ, на средний рыболовный траулер, в 9–10-месячный рейс.
— Взавтра будем в Ирмино, Сева. — Старик обвел «каюту» грустно-веселым взглядом: лавка, закрома, дверь, доски крепления, даже сам теплый воздух вагона — все было делом их рук. — Взавтра разломають увесь наш колхоз, здадим усе тыщу чотыреста семьдесят четыре ящика и — домой, до хаты.
Севка кивнул, подумав: «Вот и Максимыч теперь тут же, в сердце».
Севка не выспался в пассажирском и теперь быстро заснул, вытянувшись на холодном картоне нар. Максимыч подоткнул под его бока одеяло и, взнуздав уши веревками очкор, взялся за пензенские газеты. Там писали про пиво, производство которого надо увеличить за счет сокращения выпуска водки, про мир во Вьетнаме и меры ООН по охране природы. Газеты всегда очень развлекали Максимыча, но сейчас он почему-то остался равнодушным и загрустил.
Часов в шесть вечера (было еще светло) поезд затормозил на станции Переездное. Севка спал, как пахарь после работы, и не слышал разговора Максимыча с рабочими-вагонниками. Старик сначала справился, что за станция, долго ли стоять. Потом опустился на землю, увидел меж вагонов речку и пролез под сцеплением на другую сторону состава, чтобы всласть полюбоваться раскованным по весне Донцом.
Он стоял на теплой украинской земле, с удовольствием втягивал носом ее ласковый запах, смотрел, как закатные солнечные блики от воды скользят по противоположному отлогому склону берега, и ему чудилось воркующее журчание речки. Кудрявый лес рос на том берегу, а в лесу стояла красивая зеленая беседка. Старик думал о том, что хорошо бы продать хату «ув Арсеньеве» и поселиться здесь в теплом краю с тучной землей, где «дуб растеть», с близкой речкой и станцией. Он уже стал было расспрашивать пожилого рабочего, почем тут коровы и хаты. А один молодой, черноголовый сказал вдруг, что в Донце совсем нету рыбы, и Максимыч расстроился.
Окончательно нарушив буколику грохотом, на соседний путь прибыл встречный товарняк. Шагов за двадцать от Максимыча остановилась платформа, груженная какими-то ящиками. Старик подошел и любопытствующим хозяйским оком оглядел клейма на них. Они стояли на платформе в два ряда, и один ящик с внутренней стороны был взломан. В проломе видна была бумага — промасленная вощанка. Максимыч подобрал брошенный вагонниками стальной шкворень и, поднявшись на цыпочки, шевельнул бумагу в проломе. Круглый раструб мясорубки блеснул матовым серебром.
Там, в далеком Арсеньеве, был большой спрос на мясорубки, угодившие почему-то в дефицит. Даже в доброй, хозяйственной хате Максимыча мясорубка была уже так ветха и разболтана, что котлеты приходилось домалывать зубами. Глаза старика на миг зажглись, но он лишь сглотнул слюну и подумал: «Не, державное добро ня наше. Була б кругом отакая зямля, а мясо з мясорубкою нарастуть. В онуков зубки молоденьки, а нам з старухою вже небогато треба…» И вслух проворчал: «Треба ня треба, а так собе дорожче…»
В этот момент остро зашипели тормоза его состава, и Максимыч ринулся в просвет сцепления. Сердце-воробей угомонилось только в вагоне. А состав еще с полчаса проторчал на Переездном. И Максимыч снова сполз по трапу и походил по жирной, богатющей земле, проводил солнышко, утонувшее в верховьях Донца, поразмыслил о том, что «добре було б на отакий зямле сробить хату, а коло хаты — ставок з рыбкой та садок вишневый…»
Когда наконец поезд тронулся, Максимыч подшуровал печку, забрался на нары, бережно перенеся к стенке Севкины ноги в башмаках, и до полночи не спал, соображая, отчего ж это так всю жизнь: зубы были — мяса не было, мясо есть — зубов не стало. «Не, — решил старик, уже зарываясь в черную пашню сна, — нема того человека чи бога, шо б усем по зубам и мясо давав, а по розуму — силу, нема, и усе тут. И будем горевать…»
А поезд натужно пер в гору, последнюю гору перед станцией назначения. Севка съехал на край лежанки, рука свесилась, и он проснулся.
Раскаленный уголек провалился сквозь колосники в поддувало и озарил «каюту». Перед глазами на картоне пульсировали две черные строчки какой-то давнишней записи. Сколько начатых и незаконченных стихотворений только вот здесь, на нарах, подумал Севка, сколько мелькнувших и тут же, как этот уголек, угасших мыслей, недодуманных, незавершенных. Жить вполсилы, черт-те чем заниматься (кем работал? Пожарником. Жуть!) — и это на пороге двадцатилетия… Сладко слышать, когда тебя называют поэтом, но если это незаслуженно…
И если эта устремленность вызвана всего лишь на-всего едким и вкрадчивым голоском тщеславия, который жжет и поддразнивает и тычет тебя носом в самые таинственные и тщательно упрятанные уголки твоей души, где копошится то, чего ты сам страшишься и осуждаешь и хотел бы выдавить из себя? Можно же, наверное, быть «скобарём» и в литературе?
Стало быть, надо себя ломать и чистить, вышелушивать из себя плебейскую мелочь, обосновывая в себе крупные начала, чтобы иметь право носить звание не только человека, но и поэта, в чьих словах — совесть народная.
Резко тряхнуло на стыке. Словно целая комета рассыпалась в поддувале. «Жить с напряженьем и праздником в сердце», — успел прочитать Севка строчки на «подушке». Он найдет настоящее дело, будет работать в полную силу, чтобы затем и слово его обрело мощь, необходимую для одоления цели. А цель стоящая — научиться поэтическим словом корчевать в дремучих душах замшелые пни, сеять в них добро и красоту.
А талант? С этим сложнее. Говорят: или его нет, или он есть. Может статься и так, что его нет или он замешен чем-то другим, не тем, и нет в тебе «искры божьей». И будешь ты тогда в стране Поэзии только приобщенным… Невеселая перспективочка!
Но молодость берет свое. А Севка был молод и многого еще не знал о себе и о молодости. Где-то подспудно все уже было решено, все уже созрело и уже был лишним этот робкий и бережный к себе опыт самоанализа.
Как знать, может быть, на исходе этого незамысловатого путешествия он обрел себя, открыл в себе еще одну грань, которой суждено было стать главной во всей его жизни?
Севка снова ушел в сновидения…
— Вставай! Вставай, Сева! — теребит за плечо Максимыч. — Вставай, милай, щас повязуть вже до места.
Севка свесил ноги с нар, разогнул замерзшую спину. И вдруг резко, напугав Максимыча, кинулся шарить в головах, нашел карандаш и быстро-быстро начал записывать…
Дорасти до детства
Тридцать лет — это возраст вершины,
Тридцать лет — это время дерзаний,
Тридцать лет — это время ошибок.
За которые нет наказаний…
Ю. КукинСаша поет, перебирая струны гитары с потемневшей, в царапинах и трещинах декой.
Саша ходит на судах-рефрижераторах за тихоокеанской треской и сельдью, минтаем и скумбрией. Раньше жил «на западе» (так называют дальневосточники всю европейскую часть Союза), работал на. Черном море.
— Я больше был в рейсах, чем на берегу, — говорит он, кладя гитару на подоконник. — Черное море, ясно, не океан, но там снуешь, как челнок, по расписанию. Крымско-Кавказская линия, или, как ее одесситы прозвали, — «крымско-колымская», — ни в море, считай, ни дома. — Вот я взял отпуск за два года и — ну, говорю себе, путешествовать будем! Друзей моих раскидало после мореходки по всем морям-портам… Короче, побывал в Ленинграде (с Аничкова моста часа три не сходил), в Мурманске северное сияние посмотрел, бродил с парнями по знаменитой Соломбале в Архангельске, слушал концерты Магомаева и Кристалинской в Москве. Сам написал две песни, — Саша, пряча смущение, кивнул гитаре, как другу, — это уже по пути сюда, на Дальний, на Камчатку. Отличный парняга в Петропавловске живет. Чуть не остался у него… Короче, только здесь, во Владивостоке, остановился — понял, что излечился наконец от тоски по Афалине…
Он замолк.
— А кто это? — не удержался я.
— Первая моя любовь, — Саша сказал это светло, и все же чувствовалось — тяжелый вздох, подавленный и готовый вырваться, засел в его груди. — Потом когда-нибудь расскажу… Может быть… Короче, я на Черном ведь из-за нее остался, меня там больше ничего не держало. Вот так… Ну, а здесь уже вдохнул океан, увидел, как туман валами ходит по сопкам, сам по ним полазил — да и возвращаться не стал…
* * *
Уже вечерело, а я спал от безделья, когда Саша вернулся из «конторы», как называл он управление рефрижераторного флота. В отделе кадров пусто, резерва никакого, и потому ему дали лишь десять дней отгулов. А он второй год без отпуска. Пришел чуточку выпивши, в глазах — покорность, и принес большую бутылку портвейна, завернутую в газету.
— Вставай, Сумитомо, — невесело сказал он, придумав мне прозвище по названию популярной здесь марки японского подъемного крана, потому что вчера, когда мы знакомились, я назвался крановщиком. — Вставай, мой друг Сумитомо, сейчас «гудеть» будем, плясать будем, а смерть придет — помирать будем. Вставай. Нельзя спать на закате… Так мама моя говорила…
Саша совсем не похож на суровых рыбаков, живущих в межрейсовой гостинице. Наверное, океан не успел еще просолить его так, как их. Лицо Саши отливает более светлой бронзой. Такие лица бывают у спортсменов. Молодость и мужество нивелируют возраст, и восемнадцатилетнего уже не назовешь мальчишкой, а в двадцать восемь он еще молод для «дяди».
Я поднялся. В окне царил печальный, особенный, дальневосточный закат. Закаты здесь — совершенно космических спектров. И только черные пятна туч над ними да огни по сопкам говорят, что ты на Земле.
Мы выпили портвейну, закурили, и Саша стал рассказывать о своей жизни «на западе», о том, как в школе смеялись над его детской привычкой писать букву «ё» непременно с точками, тогда как обычно все перестают это делать еще в начальных классах. Он же упорно ставил точки, и его стали считать дурачком.
Может быть, именно благодаря этому Саша ушел после восьмого класса в мореходное училище.
— Однажды Афалина… — он уронил голову в ладони, — мы сидели с ней за одной партой. — Он взглянул на меня, но тут же, словно боясь пропустить новые кадры на экране, уперся взглядом в лиловеющий квадрат окна. — Мы писали диктант: «Перепёлка вьётся над ручьём, в чёрно-зелёных вётлах щёлкает соловей». Слово в слово помню… Она написала раньше меня, заглянула в мою тетрадь и — я аж покраснел, думал, нашла ошибку, — быстро поставила две точки над «соловьем». И засмеялась… Нет, даже не засмеялась, а улыбнулась…
За окном ночь уже мерцает россыпями далеких точек-светляков. Это ожили сопки на другом берегу залива. А беззвездное небо кажется залитым густыми «чернилами» вспугнутого гигантского кальмара. Саша продолжал:
— Всю жизнь я ставил над «ё» точки. — Он откинулся на спинку стула и скептически хмыкнул, словно насмехаясь над собой. — И вот до двадцати шести своих не знал, не ведал, что тут, на другом конце света, тоже есть одна живая душа…
Мы допили вино, и Саша потянулся за гитарой. С минуту тренькал, настраивая. Потом заиграл мелодию, напоминающую старинный задумчивый романс, — одну из тех, что слагают не композиторы, а простые люди, далекие сердцем от больших современных городов. Такие мелодии нигде еще не записаны и известны лишь гитаристам-любителям, ревниво оберегающим их от вездесущего магнитофона, как хранят в заповедниках цветы и травы от копыт и подметок.
Попробуй разберись, что нас свело, Какой-то случай или чья-то воля. Куда фортуна поверяет весло, О том узнаешь, друг, ты только в море, —пел Саша, перебирая струны.
По асфальту дождь дает леща,
Крыши звонко под дождем трещат.
Плачет, льется, хлюпает вода…
Ну, куда ж ты без плаща, куда?
Через неделю я увидел ту, которую Саша назвал «живой душой».
Я вошел без стука.
За столом, опустив голову, сидела девочка — черный бант в светло-русых волосах, широкие, но все равно беззащитные, детские плечи. Она посмотрела на меня. Я назвал свое имя.
— Тома, — ответила она так, словно мы были знакомы сто лет, и протянула мне ладошку.
Я предложил зажечь свет. Она нехотя согласилась. Зажмурившись, она смущенно улыбалась.
Я мог бы долго смотреть на нее. Бывают такие удивительные лица — в них есть что-то неуловимо родное. И глаза…
— Закат-то какой неземной… Может, выключим свет? — говорю я.
— Включим-выключим, идем-сидим, любим-не любим, — раздался сердитый голосок. — Все вы такие!
Я спросил;
— Саша, а сколько лет этому сердитому ребенку?
Мне показалось — пятнадцать. Показалось. Это я понимал и ожидал услышать что-нибудь вроде: «Да уже семнадцать стукнуло». Саша открыл рот, но, как в кинокомедии, слова зазвучали с другой стороны:
— Двадцать пять!
В голосе был вызов, детский, отчаянный.
— А язык. Тома, вы тоже умеете показывать?
— Она «заводная», — с улыбкой предупредил Саша, — может и глаза выцарапать.
— Могу! — уже не на шутку зло парировала Тома. — Твои! Лживые! Змеиные! Предательские!..
Она в упор смотрела в растерянные глаза Саши. В ее резкости чувствовались уже созревшие слезы. Сашу — теперь мне было ясно — она любила той удивительной, самоотверженной любовью, которая редко бывает взаимной.
Мне хотелось немедленно сделать что-нибудь приятное ей, и я поймал себя на том, что злюсь на Сашу вместе с ней, злюсь на пшеничный пласт его спортивной прически, на гитару, — которую он взял зачем-то в руки, на зеленые глаза, ставшие сейчас грустными и далекими, злюсь за то, что он любит какую-то мистическую Афалину и не может этого скрыть.
— В Москве, Тома, есть девушка, — нарушил я тяжелое молчание, — она чем-то похожа на вас. Она…
Мне было очень грустно возвращать к жизни тот теперь бесконечно далекий февральский вечер в нашей комнатке на Таганке, когда потолок, казалось, придавил нас черным сводом — тысячей причин, приведших к разлуке, причин, наполовину от нас не зависящих.
Я подошел к окну. Закат уже погас, и темные деревья в сквере зашумели, заволновались под ночным ветром.
Саша стоял, опершись на гриф гитары, как на шпагу или трость. Тома сидела и, полуобернувшись ко мне, напряженно ждала продолжения.
— Она… была моей женой, — сказал я и вдруг ни с того ни с сего продекламировал: — И до тех пор, пока ты не пройдешь через это, — умри и стань!..
— …ты только печальный гость на темной земле, — в унисон продолжила Тома не поднимая глаз.
Скрыв удивление (эти стихи Гёте редко кто знает), я спросил:
— Вы, Тома, студентка?
Молчание.
— Простите меня за любопытство, где вы занимаетесь?
— Я работаю. На пароходе! Уборщицей!
«Это правда?» — взглядом спросил я у Саши. И он кивком подтвердил: «Правда». Потом шумно и очень красноречиво вздохнул, точно сказал «надоело это все», и бросил гитару на койку.
— Ну и что ж вы не договариваете? — быстро сказала Тома, демонстративно отвернувшись от Саши. Нервная улыбка не портила ее лица. — Вы разлюбили или она вас?
В ее тонком задиристом голоске сквозило желание причинить боль, почувствовать рядом кого-нибудь, кому так же, как ей, тяжело и больно.
Я стоял у окна, чувствуя на себе ее напряженный взгляд, и смотрел на первые капли, расплющенные ветром о стекло. Вот так же тогда я стоял в нашей комнате, только за окном свистела пурга.
Я непроизвольно нащупал в кармане плоский теплый ключик от комнаты на Таганке. А там, тогда, рядом с ним лежал массивный, с двойной бородкой, ключ от моей московской тюрьмы — квартиры знакомого, который укатил с женой в Крым и любезно предоставил мне крышу вместе с пухлой рукописью — я должен был ее «чуть-чуть подработать». На это у меня уходило все свободное время. А днем дома я не мог работать, потому что бывший муж Наташи регулярно наведывался туда, «чтобы не потерять прописки», да не один, а с собутыльниками. Все было страшно плохо. И было изумительно прекрасно. Мы встречались почти тайком. Оба усталые, измученные и счастливые. А потом…
Я встряхнулся и увидел: у фасада гостиницы выхваченный светом одинокого фонаря уже скакал по щербатому асфальту длинноногий дождь. И я ответил Томе словами Маяковского:
— Любовная лодка разбилась о быт.
— А почему вы не боролись с ним? — она словно ждала моего голоса, чтобы задать уже готовый вопрос.
— Устал бороться, Тома, — сознался я и посмотрел в ее раскосые глаза. Но они тут же перепрыгнули на Сашу.
— Бабы вы оба! — выпалила Тома.
Саша улыбнулся, но не ей, а своим, далеким мыслям и отчасти мне, словно извиняясь за ее выходки.
— Неправда, Тома. — Я отошел от окна и остановился у стола, рядом с ней. — Просто строить трудней именно свое, чем…
— Вы Иисус Христос, да? — глядя на свои пальцы, теребящие скатерть, бросила она.
— Нет, — мягко возразил я, — думаю, еще…
— А этот Иудушка, — она кивнула в сторону Саши, который по-прежнему грустно смотрел на мокрое черное стекло, — он… спит со мной, а любит другую!!!
Последнее слово она выкрикнула уже вместе с прорвавшимся рыданием, но в нем прозвучали и незаурядный по силе гнев, и страшная, незаслуженная обида.
— Тома! — Саша выпрямился.
А девушка, судорожно прижав кулачки к щекам, вскочила, метнулась к двери.
Убежала, умчалась…
Саша снял с вешалки плащ и, не справившись с ним до конца, сорвался с места и тоже исчез за дверью.
Пусто и даже как-то звонко стало в нашей комнате — ни голосов, ни взглядов, ни запахов. Словно задернули занавес и включили свет в театре. И только за окном, как за кулисами, лопотал дождь да мурлыкал, замирая, мотор случайной машины.
Здесь летают чайки над домами,
В окна рвется ветер океана.
И такие плавают туманы,
Что бери стакан и пей стаканом.
Дня три Саша занимался тем, что писал «на запад» письма и рвал их в клочки. Потом стал пропадать по целым дням, возвращаясь за полночь. Раза два приносил с собой водку. Вообще он здорово изменился за это короткое время. Гитара на стене уже покрылась пылью. Я молчал, я ждал, когда он заговорит сам.
И вот в один из вечеров он пришел слегка под хмельком. Ночь мы просидели с ним за столом, пока не затеплился в окне синий океанский рассвет. Я читал ему стихи, чужие и свои, показывал «Стрелу в небо», единственную свою книжку с двумя десятками стихотворений о докерах, говорил о жене, о планах заслужить ее любовь, выстрадать.
Он снял с гвоздя гитару и прикоснулся к струнам, но не дал им допеть, прикрыл их ладонью.
— Вот и все! Завтра — в кадры. Отгулы, загулы, прогулы — все кончилось. За кормой остается Россия, а по курсу лежит океан…
«А где же Тома?» — так и рвалось у меня с языка.
Как часто бывает в таких случаях, собеседник в конце концов ловит своим радаром твое излучение и опережает вопрос.
— А Томки нет, — грустно сказал Саша после паузы. — Нигде нет. В кадрах узнавал — уволилась, из гостиницы выбыла.
— Дурак ты, Сашка, — вырвалось у меня.
«Идиот, — продолжал я в мыслях. — Потом когда-нибудь поймешь, что ты потерял!»
— Наломают люди дров — страшно смотреть, — проговорил я вслух, — а потом себе в утешение афоризмы сочиняют: что ни делается, мол, все к лучшему.
— В точку угодил, — глухо отозвался Саша. — Моя любимая пословица. По ней рулить стараюсь в последнее время.
Он встал, койка взвизгнула всеми своими пружинами, подошел к окну, с шумом втянул в себя ночь с ее ароматами, небесными и земными огнями, прозрачным черным пространством, даже плечи раздались, и сказал, как накрест зачеркнул все сказанное раньше:
— Хреновина, правда, выходит! Бабы мы — права Томка… Уйду я тоже из «конторы», пойду искать ее. Плевать на высокий мостик. На сейнер колхозный прыгну и — вперед.
Он сел за стол напротив меня и выложил:
— Она в море. Чувствую. В море. Я найду ее. Найду!.. «Колхозники» на промысле ко всем подряд швартуются — к плавбазам, «жирафам», плавзаводам, — сдают рыбу, бункеруются, берут снабжение. У них всегда дела найдутся даже к пароходским «рысакам» — пассажиров, почту перебросить. Сейнер — это и трудяга, и извозчик, и флагманский гонец. Так вот, я поднимусь на каждый борт и везде узнаю, разнюхаю, буду спрашивать одно и то же: «Есть у вас Серегина Тамара?.. Да, это моя жена, черт возьми! Да, потерял! Да, ищу и найду!»
— Держи! — Я протянул над столом руку, и наши ладони встретились.
Проспали мы до обеда. Саша вскочил как по звонку, собрался и побежал в отдел кадров. Я пошел бродить по городу, залитому по самое небо натуральным молоком. Владивостокский туман, наверное, и лондонцам показался бы чудом. Идешь по улице, буквально разгребая его ладонями, как водолаз по дну. Собственные ботинки кажутся тебе чужими и далекими. Сталкиваешься по, рой с незримо плывущими навстречу такими же сомнамбулами, отводишь их руками, спотыкаешься, беззлобно чертыхаясь, жуешь пресную влагу — как ни сжимай губы, она набивается в рот и тонкими родниковыми струйками стекает по верхнему небу в легкие.
К переправе я вышел на слух; слева и глубоко внизу застучал по невидимой поверхности бухты дизелек катера, плюхнулся в воду швартов, стукнула сходня, затарахтели каблуки по настилу пирса — все где-то там, и близко как будто, и далеко, за плотным занавесом. По нескончаемым ступеням виадука я спустился к катеру — и тут же почувствовал, как вздохнул океан — запенилось, заклубилось по бухте молоко тумана. Катер отвалил, и я, облокотившись на планширь, увидел в разрывах тумана сизую воду и пену у борта. Потом сверху начали пробиваться серебряные лучи, вода засветилась синевой, а вот уже вынырнула из тумана и вершина Орлиной сопки. Великанские белые клубы ворочались по склону сопки, то пряча, то открывая домики, купы деревьев, желоб фуникулера. Мы шли самым берегом, вернее, под носом частокола кораблей и судов, стоящих кормой к пирсам. И корабли глазами клюзов пристально следили за нашим кургузым катеришком.
Туман здесь почти космическое явление, я думал о том, как легко заблудиться в дальневосточных туманах, легко потеряться, разойтись в трех метрах с судьбой. И чувствовал себя от этого маленьким и одиноким. Сойдя с катера, я грустно плелся вверх по скверу (здесь все — даже скверы — не в двух измерениях, а в трех) и вдруг, подняв голову, увидел впереди Тому. Черный бант, светло-русые волосы, порывистая походка.
— Тома! — окликнул я.
Девушка обернулась; курносый нос, круглые глаза с голубыми веками и россыпь веснушек. «Надо же! — поразился я. — Полная противоположность!»
— Вы тоже Тома? — вырвалось у меня.
— Нет, Света.
— Так почему же вы обернулись?
— Хм, — передернула она Томиными плечами, — но вы же меня позвали?
Сам себе не сознаваясь, я шел к почтамту. «2Ж-23-159», — стучало в мозгу и в сердце.
Заказав на последние деньги Москву и получив из окошечка свое «ждите в течение часа», я успокоился, закурил и перелетел в комнатку на Таганке: предрассветное синее окно (здесь уже полвторого, там только 6.30 утра), Наташа спит, в обрамлении черных волос на подушке покоится любимое лицо. Она спит, а по проводам, через десять тысяч километров, уже летит к ней стук моего сердца. Вот сейчас зажурчит звонок (он не трезвонит, а именно журчит — нежно и мелодично), и я скажу ей; «С добрым утром! В майском небе Владивостока давно расцвело солнце, погода летная. Я жду тебя, встречаю, потому что нет, оказывается, такого слова «забыть», его нет, нет, нет! Без тебя не только слова теряют смысл». А дальше, я знал, стану вдохновенно врать, что работаю в газете (на радио, в издательстве), нашел квартиру (снял, купил в кредит, получил) с видом на Тихий океан, на чаек-крикух… Да, так.
— Алло, Москва? Алло, кто это?
— А вам кого, собственно? — сонный голос мужчины, преодолев десять тысяч километров, вмиг испепелил бикфордов шнур. Взрыв. И мир оглох.
— Алло! Алло! — надрывался в окопе телефонист. — Алло! 2Ж-23-159?! Наташа! Мне нужна Наташа! Где Наташа?..
Быстрей. Быстрей подальше отсюда. Асфальт уже просох. А в желобках рельсов — вода. Трамвай. Жаль, что не танк. Или марсианская машина уничтожения. Тупорылая стеклянная морда трамвая, озверело трезвоня, проносится мимо моего плеча. Звони, звони, динозавр. «Наташа спит». Ясно? «А вам кого, собственно?» Ха-ха-ха. Собственно. Идиот. Три месяца прошло всего. Собственно. Трижды идиот. Вождь идиотов, собственно.
Раздай долги,
И утром ранним
Аэропорт или причал
Дохнут ненастьем расставанья
И растворят твою печаль
Мы прощались с Сашей. Мне три месяца, ему десять дней была эта комната кровом. Оба мы что-то оставляли здесь. Что? Свою наивность, свои иллюзии, точки над «ё»? Я ведь тоже всегда их ставлю, мысленно прикусив кончик языка, и неизменно испытываю удовлетворение от этого. Нет, нет, точки остаются с нами.
Эти добрые стены, квадрат стола, две железные койки с круглыми копытцами ножек, как будто вросших в крашеные половицы, два вафельных полотенца на спинках. Почему же грустно расставаться с ними? Значит, кроме боли еще что-то оставляем мы здесь? Везде оставляем, где побывали, где жили, трогали руками вещи, дышали, думали. Нечто удивительное, какое-то незримое тепло, невесомое вещество сердечной доброты оставляют бродяги там, где прожили хоть день, хоть час.
— Вот так. Сева, — впервые назвав меня по имени, говорит Саша, — завтра мне на пароход. А то пригрелся, сказали, в «ночлежке». И правда. Привыкаешь к каюте, уходить потом не хочется.
Он обвел «каюту» потеплевшими глазами:
— Это только в романтических книжках так бывает — гитару через плечо, прыгнул и полетел. Так вот, посылают меня на «Космонавта» вторым помощником.
Он покачал головой, вздохнул звучно и продолжал уже почти сердито:
— Я им — заявление. А они — дуй, говорят, к начальнику. Пошел. А там, ясно, «ковер»: чем тебе у нас плохо? Куда собираешься? Ах, в колхоз! За длинным рублем? Да нет, говорю, рублей хватает. Но вижу, не верит он. А как ему объяснишь? Короче, орать на меня начал: бегите! Рыба — где глубже! Я бы тоже в Москву, в министерство сбежал, а кто работать будет?.. Ну и в таком стиле завелся. Потом по шерсти давай меня гладить: ты третьим, мол, работал, сейчас вторым пошлем и хороший пароход подберем тебе…
Саша поставил на стол стаканы и принялся открывать мускат и банку рыбных консервов.
— Я упирался, как краб. Но чем он меня взял — джентльменством. Безвыходное, говорит, положение: «Космонавту» срочно надо в спецрейс, а их ревизор или в отпуске, или заболел. А рейс — на восточную Камчатку, брать с плавзаводов консервы — лосось, красная икра. Какой капитан без ревизора возьмется за такой груз? И вот он мне: ты пароход, говорит, выручи, на этот рейс только сходи, а потом отпущу. Куда тут денешься, согласиться пришлось. Джентльменский уговор…
Саша махнул рукой, но отчаяния в этом жесте не было.
— Давай, Сева, за нашу «ночлежку», за соль, что схарчили вместе, за то, что с тобой нас свело, с Томкой…
— За Тому! — я поднял к свету наполненный стакан. — За тех, кто упрямо ставит над «ё» точки и не задает идиотского вопроса: а, собственно, зачем?
Я был голоден, но к рыбе не притронулся, потому что этим проклятым «собственно» сам убил себе настроение. «Уеду. Завтра», — внятно сказал кто-то во мне. «А куда? — заинтересовался я. — Магадан, Камчатка, Сахалин?» — «Не важно. Главное, подальше».
Саша тем временем продолжал свой рассказ.
Я слушал как через стенку, потому что думал; «Умри и стань… Вот и наступило мое «умри»… Наташка… Ты действительно оторвалась от живой земли, прикипела к московским асфальтам, запуталась в сетях комфорта, тепла. Плюнуть на свой коммунальный мирок ты уже не в состоянии, я это знал еще там, на Таганке».
Утром я уже знал: еду дальше на восток, на край света — точнее, на Сахалин.
Мы обнялись с Сашей под мокрым небом Владивостока, и он, уже садясь в такси, что-то сунул в карман моего плаща, коротко бросил шоферу: «В рыбпорт» — и умчался.
Я сжимал в кулаке зеленую пятидесятирублевую бумажку и едва не ревел.
Когда смещаются предметы
И бродит теней хоровод.
Когда борта дрожат от ветра.
Жду — наступает мой черед…
В Невельске я сразу пошел в рыбную «контору» и в течение часа был произведен в матросы-рыбообработчики на плавбазу с милым названием «Весна». До вечера проходил медкомиссию, и Невельска почти не увидел. Самое первое и незабываемое впечатление произвели на меня… сахалинские лопухи. Зеленые придорожные лопухи, покрытые пылью. На Украине, допустим, листом лопуха едва прикроешь детскую головку. Здесь же растет лопух-феномен. Его «листочек» преспокойно укроет от солнца полдюжины взрослых людей. Я не удержался и оторвал от толстого, мясистого стебля один такой лист, он был не меньше метра в диаметре. Чтобы уложить его в чемодан, пришлось складывать вчетверо. Пахнет он бесподобно — бором, грибами, травами, дождями. Буду нюхать его в море.
На «Весну» нас набралось пять человек, и ранним июньским утром мы улетели на самолете в Оху: плавбаза стояла под разгрузкой где-то там, неподалеку. Оха — одноэтажный городок на севере Сахалина. Базар и ресторан «Северный олень» — вот все, что мы увидели. Возле железнодорожной станции, правда, посмотрели мы нефтепромысел — несколько трубчатых 20-метровых вышек буквой А, под которыми качались коромысла с противовесами, смахивающие на вечный двигатель. Сходство усиливало то обстоятельство, что возле этих вовсю работающих насосов не было ни души.
До порта Москальво, где стояла наша «Весна», мы ехали на «пятьсот-веселом» — четыре вагончика и игрушечный тепловозик на узкоколейке.
Порт Москальво представлял собой дощатый причал с четырьмя кранами, двумя катерами и небольшим суденышком. Далеко на рейде высилась серая громадина. Это и была плавбаза «Весна».
Катеришко подбросил нас на рейд, и мы по засаленному веревочному штормтрапу поднялись на высокий борт отныне нашего морского дома.
Рыбообрабатывающая плавбаза — это мир, состоящий из железа, рыбы, бочек и соли. Бочки громоздились на палубе в пять-шесть этажей, они были темными и мокрыми от сочащегося сквозь клепки рассола-тузлука. Мешки с солью закрывали от нас всю кормовую надстройку этакой седой сопкой. Крепкосольный запах селедки плотным облаком поднимался над плавбазой куда выше ее мачт, а серебряная чешуя, как листопад в тайге, укрывала шуршащей периной не только палубу, но и коридоры главной надстройки и даже каюту с табличкой «Пом. капитан-директора по производству».
Массивная, но очень живая женщина лет сорока пяти обтерла о заднюю часть комбинезона мокрые от тузлука руки и вытащила из ящика стола толстую тетрадь.
— Садись, гвардейцы! — скомандовала она, кивнув на диван, тоже усеянный селедочной чешуей.
Карандаш в ее красной, набрякшей руке выглядел по меньшей мере так же странно, как, допустим, на голове кита чепчик. Она оглядела нас быстрым, наметанным взглядом.
— Меня зовут Катерина Романовна, — сказала она с достоинством. — Как вас?
И карандаш заработал, выстраивая нас в хвост длинной гирлянды имен и фамилий. Против каждой, я видел, стояло: «слес.» или «техн.-стр.», «шоф.» или «учитель», «трактор.», «бух.» и даже — «адвокат». Из нас двое тоже оказались шоферами; двое, в том числе я, крановщиками, и только один работал раньше в море матросом.
«Пом. капитан-директора» вложила карандаш в тетрадь, закрыла ее, потом похлопав руками по столу, заваленному ворохами разных бумаг, обнаружила под ними пачку беломора и закурила.
— Слушать меня. — Она потерла пальцами виски с рыжими, с сединой в корнях прядями волос. — Здесь вам не берег. Работа в две смены по двенадцать часов. Будете на совесть вкалывать — заработаете, будете халтурить — выгоню. Ноги в транспортер совать тоже не советую, нянчиться здесь с вами некому, все работают. Ясно? Расписываться!
Она снова раскрыла тетрадь и пододвинула ее ко мне, я сидел у самого стола. И пока мы расписывались за инструктаж по технике безопасности, она приговаривала:
— Вот так, гвардейцы, теперь каждый отвечает за себя. Море любит сильных. А сильные, говорят, любят выпить?..
Мы нестройно хохотнули.
— Так вот зарубите себе: будете «балдеть» — сразу гон с парохода. Ясно?
Мы молчали.
— Не поняли?
— Все ясно, Романовна, — сказал матрос.
— Че не понять-то? — хмыкнул один из шоферов.
— Вы, шоферюги, и ты, крановщик, — она ткнула пальцем в парня, который расписался последним и протягивал ей тетрадь, — пойдете в бригаду Насирова, она сейчас работает в день. Вы двое, — палец указал на меня и матроса, — в бригаду Иванова, в ночь. Ясно? Все!
Она дала нам пять бумажных квадратиков. «Приходный лист», — прочел я.
— «Углы» свои, — она кивнула на наши пожитки, — можете оставить здесь, и дуйте к четвертому помощнику. — И бросила взгляд на большие круглые часы на переборке. — Он сейчас на вахте и расселит вас. Все.
— А как с робой? — поинтересовался шофер.
— У завснаба, — не повернувшись, устало сказала женщина. От ее живости не осталось следа. Видно было, что ей не приходится высыпаться и теплая каюта сейчас сморила ее. Она бросила погасший окурок в консервную банку, зевнула, крепко зажмурилась, насильственно широко раскрыла глаза и взяла белую телефонную трубку.
— Алло, мостик. Завхима ко мне.
И тотчас щелкнул динамик на переборке и зычно объявил:
— Внимание! Завхимлабораторией зайти к завпроизводством!
Мы, стараясь не греметь своими чемоданами-«углами», внесли их в каюту и двинулись вслед за матросом по коридорам и бесчисленным трапам огромного парохода.
Первый помощник капитана занес наши фамилии и даже даты рождения в толстый альбом, выяснил, что никто из пятерых не поет и на духовых инструментах не играет, расписался пять раз на наших квадратиках и сразу потерял к нам интерес. Четвертый помощник расселил нас по каютам, матрос и я попали в одну четырехместку на корме. Пятый помощник, который ведал пожарно-технической частью (так было написано на двери его каюты), спал. Густой овчинно-селедочный запах валил от радиатора, где были развешены серые шерстяные портянки, рабочие штаны и свитер. Кто-то из нас со шкодливой смелостью громко постучал в открытую дверь еще раз. Скрипнула койка, отдернулась шторка, показалась рука с часами и помятая физиономия.
— О, спасибо, на чай разбудили. А-а… откуда вы взялись посреди моря?
— Современная техника, — сказал матрос, — аэроплан, дрезина и сапоги-скороходы. Вот эти, — он был действительно в сапогах. — Вы «бегунки» нам подпишите, а то мы тоже чаю хотим.
Он протянул к койке пять наших квадратиков.
— Все члены профсоюза? — заинтересованно зевнул пятый помощник.
— С пеленок, — за всех ответил матрос.
— Ну, придете как-нибудь потом, я на учет вас поставлю.
И он дважды расписался в каждом квадратике, против «пятого помощника» и «предсудкома».
Пошли искать столовую. Нашли быстро — по хлебному запаху, светлой струей, как ручей на болоте, пробившемуся сквозь селедочный крепкосол, и по звону ложек-кружек. «Кино-столовая команды», — значилось на широкой двустворчатой двери. Вошли. Девчата-официантки с марлевыми коронами на головах убирали с длинных столов посуду: алюминиевые кружки, эмалированные миски с рыбьими скелетами, большие столовые ложки, горы хлебных огрызков.
— Девчата! Новенькие! — крикнула одна в раздаточное окошко.
— Не трави! — откликнулся в гулкой глубине камбуза низкий, грудной голос. — Откуда?
В двери показалась рослая повариха, вся в белом, лицо молодое и красивое.
— Пра-а-вда, — сказала она удивленно и долго, улыбаясь, с любопытством рассматривала нас. Мы — ее.
— Ни-че-го краля, — вполголоса заметил один шофер. — Я б закрутил с такой…
— Есть квас, да не про вас, — отрезала она. — Крали! Ха!
И исчезла в двери.
Мы ели вкуснейшее в жизни блюдо — свежую, только из моря, селедку, запеченную в духовке с лавровым листом и перцем. Причем нам дали две полных миски. А когда запили эту царскую еду крепким сладким чаем, матрос сказал, обращаясь к шоферам:
— Вот теперь, дело прошлое, крали, рулите на камбуз и поцелуйте у нашей королевы фартук.
Кличка «крали» пристала до конца путины к шоферам.
После сытного чая мы закончили поход с «бегунками» в кладовой завснаба. Со свертками робы х/б и оранжевой проолифенки разошлись по каютам.
Юра-матрос сориентировался быстрее меня и молча водворил свой спортивный чемоданчик на нижнюю койку: наша четырехместка состояла из двух двухъярусных коек, короткого кожаного дивана и стола. Вторая нижняя койка и та, что над ней, были заняты, их хозяева, очевидно, сейчас работали. Я безразлично, как в поезде, хотел уже было расположиться на оставшейся верхней койке, но Юра с неожиданным великодушием предложил:
— Хочешь, уступлю тебе нижнюю?
— Да мне все равно, — я пожал плечами.
— Не скажи так никогда больше, — Юра сделал шутливо-страшные глаза, — а то будут яд тебе с кормы на нос воду возить.
— А какая разница? — улыбнулся я.
— Потом оценишь, друг Сева. — Он положил ладонь на мое плечо и добавил совсем уже серьезно: — Я ведь, дело прошлое, на полметра тебя длиннее, раз — и там. Кстати, там и теплей, так что жертвы никакой нет.
Живые черные глаза его искрились. Я заглянул в них, и вновь — в который раз уже в моей жизни — свершилось чудо контакта, самое короткое замыкание душ. Юра словно взял меня под свое покровительство, потому что во мне сидело мое «умри», и в эту секунду он увидел его. За эту огромную, емкостью в год или кубический километр, секунду я узнал о нем, а он обо мне больше, чем иные друзья детства, не терявшие связи всю жизнь.
Он молчал, и я был признателен ему за это. Мы распахнули иллюминатор над диванам, впустили солнце и морской ветерок в каюту.
Ночью, с ноля часов, мы с Юрой вышли на смену. Поспать успели часа два, только разомлели, и сейчас под холодной белой луной, ежились в своих проолифенках. Селедочный запах поутих, забился в норы между штабелями бочек, покорился царственному аромату ночного моря. Нежная сила его исполинского дыхания веяла под звездами над миром, даря бодрость и ощущение превосходства над спящими. Под бортом «Весны» сонным китенком терся о кранцы небольшой рефрижератор. На носовом трюме плавбазы застучали, как трактор, паровые лебедки. Пробираясь узким коридором между бочками и солью, мы пошли туда. Нас встретил бригадир, коренастый, ладный, лет около сорока, в коричневом рыбацком свитере, шапке и сапогах.
— Парни, на первый трюм идите, на тот борт, — кивнул в сторону рефрижератора, задумался, оглядывая нас. — Сейчас я перчатки вам принесу, ждите у трапа.
Лебедчик застропил на гак сетку из стальных тросов, и лебедки, тарахтя, смайнали ее в черное жерло трюма. Мы заглянули через высокий комингс внутрь и увидели глубоко внизу тусклый свет и двух человечков, оттаскивающих тяжелую сетку в сторону с просвета. Затем они стали накатывать на нее бочки. В это время к нам подошел бригадир и протянул каждому по паре полотняных рабочих рукавиц.
— Как вас звать, парни? Меня — Валентин.
Познакомились.
— На базах работали?
— В палубной команде, — сказал Юрий.
— Где?
— На «Карле Марксе».
— Нормально. — Голос у бригадира спокойный, уверенный.
— Первый раз на рыбе, — сказал я, не дожидаясь вопроса.
— А на берегу где работал?
— На кране.
С равным правом я мог бы сказать, что работал мотористом, слесарем, корреспондентом газеты, грузчиком, даже тренером по стрельбе, и все это было бы правдой. Но еще в Москальво я решил, что назовусь крановщиком — по последней записи в трудовой… Жизнь иногда по-божески мудро подсказывает верное решение, и потом только диву даешься, сколь счастливой оказалась эта случайность.
Черный квадрат звездного неба, перекрещенный стальной дубиной грузовой стрелы, — вот все, что мы видели до самого рассвета из глубины трюма рефрижератора. Где-то очень далеко, словно за горами, строчил пулемет паровых лебедок, а прямо над нашими головами вторили ему мягким рокотом и низким гудением электролебедки «жирафа». В трюме горели подслеповатые лампочки, зарешеченные ребристым дюралем. Дневная смена поработала здесь до нас: дно трюма едва просматривалось сквозь два этажа («шара» — говорят рыбаки) осклизлых и вонючих бочек. Шар накрывался досками, так называемой сепарацией, над ним вырастал другой, третий шар, и так — до победы. Нас было четверо в трюме. К нам спускалась стальная авоська с дюжиной, а иногда и больше бочек. Один из нас сбрасывал с гака стропы и кричал: «Вира!» Лебедки наперебой принимались гудеть и тарахтеть. А мы раскатывали бочки по углам. В сетке они стоят «на стакан». Ты валишь бочку «на пук», то есть набок, и катишь до места, где снова ставишь ее стоймя. Причем ставить нужно плотно, одна к одной, без сноровки — это не простое дело. То у тебя остается просвет, то — наоборот — навал, бочка стала с креном. И вот ты ворочаешь ее, как косолапый: все же сто сорок килограммов. А в это время тебе уже наступают на пятки — шевелись! Пока раскатывали, в трюм смайналась вторая строп-сетка с новой дюжиной бочек. Освобождаешь гак и цепляешь на него за одно ухо — оно называется «гаша» — первую авоську.
— Вира! — И она взлетает к звездам.
Снова валим, катаем и ставим «на стакан» сельдь тихоокеанскую жирную. Так гласит трафарет на донышке каждой бочки.
— Севка, гляди! — Юра, оказавшись рядом, кричит мне прямо в ухо.
Я уже свалил свою бочку, но останавливаюсь и смотрю. Юра быстрым, почти неуловимым движением раскручивает бочку, и она волчком вылетает за сетку, ложится набок и послушно катится по доскам прямо в нужном направлении.
— Ишь! — угрюмо восхищаюсь я и собираюсь катить свою поваленную бочку.
— Посмотри! — снова останавливает он. И уже медленно показывает: чуть наклоняет бочку на себя и так, на ребре, выкатывает за пределы сетки, потом быстро раскручивает и, наклоняя сильнее, запускает ее на орбиту. Я почти с восторгом смотрю, как она подкатывается точно к месту, к краю нашего нового шара, и теперь остается только пройти за ней эти десять-пятнадцать метров по скользкой от тузлука сепарации, чтобы поставить ее там «на стакан». А когда катишь сам, то без конца скользишь и спотыкаешься.
«Век живи…» — говорю я себе и вспоминаю, как учился когда-то брать мешок с мукой на живот, а не на спину. Казалось невыносимо тяжело и неудобно. Потом дошло, что на большое расстояние — да, лучше на спине, а там, из вагона на автопогрузчик — три или четыре шага — нужно именно так и только так, если хочешь отработать смену и остаться человеком.
Хватаю бочку, как быка за рога, — кррруть. Она выскальзывает из мокрых рукавиц, делает короткий тур вальса на ребре и снова становится на проклятый «стакан». При этом наваливается на другую бочку, за которую только было взялся один из парней.
— Ты чё, мать твою так?! — орет он. — Глумишься?
Он трясет кистью и дует на нее, а рукавица его торчит, зажатая между бочек. Я ее вытаскиваю и извиняюсь:
— Да нет же, я ж нечаянно.
— За нечайно бьют отчайно! Ясно?
— Да он же не нарочно. — Юра подошел, взял его за руку. — Лапа цела? Ну, дело прошлое, такой лапой, чадо, ты еще не одну невесту приголубишь.
Я откатываю на ребре другую бочку и экспериментирую уже за пределами сетки. Ничего, получается. Катится, как колобок. Догоняю ее, разворачиваю, примеряюсь, обхватываю с торца — хлоп! — и она на месте, даже и подправлять не пришлось.
— Фи-и-ить! — соловьем-разбойником свистит нам сверху лебедчик. — Перекур!
— Коля, наверх пойдем? — впервые слышу я голос четвертого нашего товарища по трюму.
Это мужик лет сорока с черной густой бородой, слившейся с усами.
— Погоди, счас гляну, сколь время. — Коля стряхивает с рук на бочку рукавицы, сосредоточенно лезет под робу, недолго шарит где-то в недрах ее, достает часы.
— Четыре часа. Ровно, — сообщает нам и снова деловито прячет свой хронометр.
— Самое то, — удовлетворенно бросает бородатый и идет в угол трюма.
Там лежит разбитая бочка: с нее соскочил обруч, и во время приземления она рассыпалась, а мы оттащили ее с просвета, чтоб не мешала. Бородач кладет на выбитое донышко с десяток крупных селедин и так, держа этот поднос в одной руке, поднимается по скоб-трапу на палубу.
Ух ты! Наверху, оказывается, совсем другая погода — дует свежий бриз, гонит по лунному лику темные клочья облаков. Над высоким и черным сейчас бортом «Весны» — мы опустились, а он поднялся за четыре часа перегруза — уже горит Венера, скоро рассвет. После застойного трюмного запаха нюх у нас обострился, и мы наслаждаемся ароматам незримых и теплых морских глубин — живых моллюсков, водорослей, рыб, медуз. Живое море пахнет совсем не так, как у берега, где-нибудь возле рыбозавода. Здесь оно даже не пахнет, а благоухает самой жизнью.
Я стою у люка, нос по ветру, и беззвучно, полушепотом напеваю.
— Ты чего? Пошли! — окликает Юра.
Бородач с Колей уже открыли какую-то дверь, и видно, как шагают по ярко освещенному внутреннему коридору рефрижератора.
В столовой, на удивленье, полно народу. Четыре мужика по-хозяйски хлопочут, собирая на стол. Да нас вот четверо подошло. Донышко с нашей селедкой тоже лежит на столе, и бородач уже разделывает ее кухонным ножом. Появляется полуведерный чайник — горячий кофе с молоком, две тарелки — на одной гора белого хлеба, на другой желтый брус масла. Оказывается, это сменившаяся вахта завтракает, та, что с ноля до четырех стоит. Я уже сто лет не видел желтого сливочного масла и, глотая слюну, невольно придвигаюсь к нему поближе. За кофе оживает разговор.
— А селедочка в порядке! — хвалит моторист (его роба в масле, не чета матросской, стираной).
— Всякая есть, — басит наш бородач.
— Нонешний год — мелкота, — по-вологодски жмет на «о» Коля.
— Это мелкота-а-а? — удивляется молоденький парень, подняв за хвост над донышком тридцатисантиметровую селедину.
— Таких штук десять — пятнадцать на бочку, не больше, — поучительным тоном говорит штурман, прихлебывая из стакана в желтом, под золото, подстаканнике. — Так, ребята?
Бородач авторитетно кивает, физиономия его непроницаема, и тянется ножом за маслом. Юра тоже кладет на свой ломоть плотный желтый слой и говорит:
— В позапрошлом я на нерестовую сюда ходил, так почти вся была вот такая.
— Селедку теперь, как цунами, предсказывают, — глядя чуть поверх стакана, почти сердито роняет штурман и ворчит: — Пойдет не пойдет, поймается не поймается.
Потом застучали на палубе лебедки, раздался протяжный разбойничий свист, и мы дружно подхватились, поблагодарили за чай-сахар и потопали к своим бочкам.
До полвосьмого утра — солнце уже запустило в наш трюм теплые свои щупальца — мы закончили второй шар. До верха, до палубы, оставалось, поставить еще два, не больше.
— Днем зашабашат, — сказал бородач. — Отвалим к вечеру.
Мы все устали за ночь, как ломовики, всех явно тянуло в сон. Я даже на завтрак не пошел, вяло помылся и завалился на нижнюю койку, помянув добром Юру, уступившего ее мне.
Обед я проспал тоже, хоть Юра и пытался меня поднять, и проснулся лишь к чаю, то есть к 16-ти часам. И это было очень здорово. Во-первых, я выспался, а во-вторых, снова на чай было то же царское блюдо, которое мы впервые отведали вчера. От пуза, что называется, наевшись парной селедочки, мы с Юрой вышли на палубу. Там вовсю суетились матросы — убирали штормтрап и страховочную сетку из-за борта, разбрасывали бочки, завалившие кнехты со швартовами. На палубе рефрижератора тоже беготня. И голос, усиленный спикером:
— Отдать кормовой!
В воду плюхается толстый капроновый швартов.
— Отдать прижимной!
И снова — плюх.
— Отдать носовой!
А под кормой «жирафа» уже вскипает странного — лимонного цвета вода, он дает полный ход и берет курс на материк. Все стоящие на палубе провожают его долгими задумчивыми взглядами. «Николаевск-на-Амуре» — написано на его корме, это порт приписки судна. Ему туда ходу всего несколько часов, по карте так совсем рядом. Кстати, лимонный цвет у воды здесь оттого, что она не морская, а амурская. Говорят, и глубины тут малые — опять же из-за речных наносов. Во мощь! Считай, в открытом океане — материка и в бинокль не увидишь — царствует река.
«Жизнь, — думаю я, — это океан. И сумей пройти по ней вот так же — рекой. Сумей остаться самим собой. И нужна для этого не просто сила, нужна мощь».
— Боцману на бак! — разносится рык спикера уже над нашей палубой. — Вира канат!
С удивлением прислушиваюсь… Да, на носу пыхтит паром брашпиль, полновесно позвякивают звенья якорь-цепи. Тащу Юру поближе к баку. Смотрим, прижавшись к борту, как медленно вползает цепь в клюз, как мокрые, блестящие звенья — каждое в полтора пуда весом — легко соскальзывают с барабана брашпиля и с мелодичным звоном исчезают в недрах канатного ящика.
Так вот почему «канат»! Это архаизм, пережиток парусного прошлого, когда действительно были еще канаты вместо цепей. И все же «Вира якорь!» куда приятнее на слух, романтичнее, да и традиционнее, чем «Вира канат!» В последнее время часто слышишь, как сами моряки современный теплоход, лайнер величают старинным «пароход», «корвет». В этом есть и особый шик бывалости, и легкая тоска по ушедшей романтике, прикрытая скептической усмешкой, и что-то еще…
22 часа. Мы давно должны быть на смене, но работы в цехе сейчас нет: после окончания перегруза успели даже пустые бочки с палубы в трюм убрать и «марафет» везде навести, то есть окатить морской водой палубу и твиндеки. Поблескивает мокрый вороной металл, селедочная чешуя вся смыта за борт, кругом тишина и покой. Ну а когда работы нет, вся «промтолпа», то есть мы, матросы-обработчики, смотрим кино в столовой, кое-кто режется в карты по каютам, а кое-кто и «балдеет», те, кому удалось правдами и неправдами раздобыть спирту в Москальво.
Мы с Юрой, надев фуфайки — ветрено и холодно, хоть и июль, — сидим наверху, на шлюпочной палубе, удобно так, с комфортом расположились на каких-то снастях, накрытых брезентом, и молча созерцаем стихии.
«Весна» идет полным ходом, вразрез волне. Ветер — «по зубам», как говорит Юра, нордовый, баллов семь. Глянцево-черный океан в пепельных сумерках вскипает каждым гребнем, и голубая пена барашков походит цветом на подсиненное крахмальное белье. И лимонная вода у борта — чуть перегнись за леер — и увидишь — возвращает детство: отец всегда бросал в ванну большие круглые хвойные таблетки, и вода становилась точь-в-точь такой же. «Весна» ныряет великанской уткой с волны на волну. Сталкиваясь у борта, волны рассыпаются пеной, и она шипит и шуршит, как по гравию где-нибудь в Гаграх.
И цепочка мыслей струится и вьется в проветренной морем и первой рабочей сменой голове: Саша — Тома — поиски друг друга… в океане — поиски себя.
Мечутся люди, ищут дела для души и тела. Занесло вот и меня в море. Не в первый раз уже. А нашел ли я себя? В тридцать-то лет… Стихия и стихи — что ж, в этом должна родиться гармония. Должна! И почему бы и не сложиться…
Тихий, огромный, как небо,
Сине-стальной великан.
Буйный, взлохмаченный, гневный.
Ласковый, трепетный, нежный…
Сердцем я твой, океан!
Рефрижератор «Космонавт» и рыболовный сейнер «Персей» — это слон и моська. Из ревизорской каюты «Космонавта» даже на клотик РСа нужно смотреть сверху вниз, а мостик «Персея» — как раз на уровне палубы «жирафа». Экипаж — там сто человек, здесь пятнадцать. Каюты на РСе есть только у капитана и стармеха, да еще у радиста коротышка диван в крошечной радиорубке. Койка старпома «раскинулась» в шестиместном кубрике, в носу. И как дань уважения — нижняя. Матрос ночью, без пяти четыре, толкнет под бок: «Сергеич, на вахту», ты ноги на палубу — и сразу в сапоги попадаешь. Комфорт — это самая относительная штука в мире. В ширину палуба РСа составляет восемь шагов, а от носовой тамбучины, где кубрик, до кают-компании, где все остальное, — чуть больше десятка. Вот, считай, и весь пароход. За две недели Саша привык уже к новому ритму жизни. А ритм-то простой — ритм охотоморской волны. Ты ее шкурой начинаешь чувствовать: слева больше поддает, значит, идти по правому борту. Выглянул через пятачок дверного иллюминатора — ага, волна рядом. Шасть на палубу, хлоп дверью и — к тамбучине, да пошустрей: РС меж двумя волнами в самый раз умещается. Протабанил, не поспел — шмутки суши потом. Июль июлем, а лед всего полмесяца назад еще выгоняло ветром из бухты Нагаева. Так что печка-киловаттка в кубрике все время врублена. А отдельная каюта и правда здесь ни к чему. «На хрена волку жилетка — он в кустах ее порвет» — так сказал капитан инспектору портнадзора, когда тот требовал записывать в судовой журнал количество пройденных миль на промысле. «Работаешь на кошельке, — объяснял капитан, — дергаешься туды-сюды, как паралитик. Какие ж тут мили писать? Вот когда селедка уже в трюме, бежишь на сдачу к базе миль десять — двадцать, тогда другой коленкор».
За две недели промысла «Персей» раз тридцать метал кошелек, а сдавал раз семь, не больше: рыбалка пока никудышная. Обрабатывающий флот тоже наполовину простаивает. Поэтому начальник охотоморской сельдевой экспедиции распределил между базами добывающие суда поровну. «Персей» приписан к камчатской плавбазе «Северное сияние». И вот за все это время Саша только и успел побывать на ней да еще на приморской базе «Шота Руставели». Тамары Серегиной там не оказалось. Саша у обоих четвертых помощников судовые роли смотрел. На «Северном сиянии» четвертый не очень любопытный парень, а вот на «Руставели» — как начальник отдела кадров: кто да что, зачем да отчего? Саша вспомнил беседу «на ковре» во Владивостоке. Джентльменский уговор, заключенный на отходе «Космонавта» месяц назад, закончился едва не выговором вместо премии. В конце концов кадровик, видя, что парень не думает уступать, обозвал его ишаком, подмахнул подпись на заявлении, едва не разорвав бумагу своей шикарной семицветной ручкой, брезгливо отодвинул его на край огромного стола и не проронил притом ни звука. А Саше от него большего и не требовалось.
В рыбколхоз устроился, на удивление, быстро, легко. И здесь специалистов только давай — штурманов, механиков. Как почти везде на Дальнем Востоке. Морская интеллигенция льнет к черноморским да балтийским берегам, норовя прожить по старым пословицам вроде «рыба ищет где глубже…» и придумывая новые: «лучше Северный Кавказ, чем южный Сахалин».
Сто десять суток в море — это норма для рыбаков. Саша это уже усвоил. И все-таки трудно поверить, думает он, что составители этих норм проводила испытание на себе. Хотя такой срок, поверить можно, был бы вполне им по плечу, с их математическим складом ума и незыблемой, как окала, психикой. Ну а как насчет трехсот шестидесяти пяти суток?..
Да, кроме космических спектров восхода есть на Дальнем Востоке и космические «сроки». Год без берега, без семьи, без друзей, год на крошечной палубе, день и ночь проваливающейся под ногами, встающей стеной. Целый огромный год, состоящий из полновесных трехсот шестидесяти пяти суток, помноженных на двадцать четыре часа непрерывного напряжения нервов и мускулов, напряжения, ставшего нормой.
В свое время с высоких мостиков «жирафов» Саша насмотрелся на такие траулеры и сейнера; на бортах уже нет и следов краски — борта промыты морем до железа, кранцы изодраны в клочья, флаг закопчен трубой до совершенной черноты и истрепан ветром так, что стал короче наполовину. Говорили, что эти скорлупки уже по году в море, но вообще воспринималось все это как фантастика, как «Кон-Тики».
И вот пошел уже второй месяц на «Персее». Кое-кто успел отрастить бороды «по-охотоморски», другие пока держатся, хоть через день, но берутся за бритву. Кстати, на судне только две электробритвы — у Саши и у радиста, у остальных безопаски, а дед — стармех — всю жизнь, говорит, верен своему ремню и клинку фирмы Золинген.
К концу июля селедка пошла хорошо. Ну а сейчас, в августе, пустых заметов и вовсе не случается. Возникла другая проблема — сдача. Добытчики все с рыбой, и обрабатывающих плавбаз теперь — позарез. Раньше, бывало, зайдешь в конурку радиста, так на всех частотах одно в эфире:
— Суда промысловые, суда промысловые, кто с рыбой на борту, прошу на сдачу!
— Рыбы, рыбы надо! Рыбки!..
Теперь же все наоборот — надрывают охрипшие глотки, предлагая рыбу «крупную, свежую, вот-вот поймали», радисты, штурманы и капитаны РСов и СРТ.
— Мандрата пупа! — незло ругается Осипович, капитан «Персея», вешая на переборку трубку радиотелефона.
Можно позавидовать такой сдержанности, думает Саша.
В двадцать часов Саша сменился с вахты, а рыба по-прежнему болталась в трюме. «Персей» рыскал по валам могучей зыби и кричал на все Охотское море;
— Рыба! Кому нужна рыба? Крупняк! Всего пятьсот центнеров! Дешево отдадим! — не гнушался черным юмором морковка[1].
Саша заканчивал ужин, с наслаждением потягивая из эмалированной кружки (бьющейся посуды на РСах не держат) божественно вкусный кисло-сладкий квас, фирменный напиток «Персея». В это время из радиорубки вывалился взмокший от духоты и крика радист и уныло сообщил:
— Все! На сегодня — финиш. Начальник экспедиции дал плавбазам на завтра лимиты — по двести центнеров с носа принимать.
Вот так… Слезы, чиф. А еще говорят: маленький пароход — большие деньги…
День был жарким — бабье лето в Охотском море. Оно тут бывает в августе и обычно меркнет в два-три дня под наплывом низких туч, под властным натиском осенних штормов и холодов.
Саша на несколько секунд задержался у трюма, а когда снова двинулся к носовой тамбучине, слоноподобная волна, коварно подкравшись к борту (ветра нет, тишина), с кошачьей легкостью запрыгнула на палубу и пересчитала бы кости старпому, покатав его по палубе, лебедке и ребристой стали фальшборта, если б он в то короткое мгновение не слился с трюмным люком, не вцепился в него окаменевшими руками.
В кубрике, развешивая над киловатткой мокрую робу, он подумал: «А шторм, видно, рядом, недалеко где-то ходит, раз такие слоны, как кошки, прыгают на палубу». Из-под койки, сочувственно тявкнув, вылез Бич, большой черный пес, гладкошерстный, красивый, хоть и беспородный. Он явно симпатизировал Саше и всегда, как только старпом входил в кубрик, стремился засвидетельствовать свое почтение.
С мыслью о Томе, о новой плавбазе, на высоком борту которой они сейчас, быть может, встретятся, Саша быстро влез в полусырую робу, натянул чьи-то сухие сапоги, потрепал по холке лизнувшего руку Бича и взлетел по трапу. На палубе — ночь, на крыльях мостика горят два разноцветных глаза — ходовые огни, над ними, на верхушке мачты, чуть мерцает белый топовый огонек. Помня о своем приключении, Саша выглянул из тамбучины, осмотрелся и только тогда «рванул десятиметровку». Так зовут на «Персее» пробежку с носа в надстройку. На бегу спиной ощутил ветер, нехолодный, но плотный, и вполглаза увидел разлохмаченную гриву шипящей волны в полуметре от борта, на уровне лица.
В рулевой рубке кроме вахтенных — третьего штурмана и матроса — был капитан. Он снова говорил с кем-то по РТ — радиотелефону. Саша услыхал конец разговора:
— Ясно, на правый борт швартоваться. Через полчаса ждите.
— Да порезвей сдавайте! — проскрипела рация.
Капитан спокойно повесил трубку на крючок и, подернувшись, увидел Сашу.
Саша приник к лобовому стеклу, жадно вглядываясь в огни плавзавода. Они сказочным ночным цветком сияли справа по курсу, милях в пяти от «Персея», плавно взлетая и опускаясь вместе с черным морем и небом. Саша, напрягая воображение, мысленно раздвигал их, видел просторные палубы, пятиэтажные надстройки, твердил название «Томмазо Кампанелла». Отличная традиция на флоте, мельком отметил про себя, называть морские гиганты именами великих философов, столетия назад думавших об устройстве вселенского счастья. Почему-то всегда, когда думаешь о счастье, становишься суеверным. Вот и сейчас Саше показалось потрясающе символичным, что в названии плавзавода есть любимое имя — Тома.
— Право на борт! — Капитан точно обрубил его мысли. — На эту «клумбу» держи.
Матрос завертел штурвал, и «Персей» уставился носом на плавзавод. Ветер крепчал, теперь это особенно стало заметно: волна била в левый борт, валила суденышко, а ветер добавлял, толкая в Надстройку, и привычный шум его за дверью рубки уже переходил в разбойничий свист. Натурально осенний холод проник сквозь щели в рубку. Кончилось в Охотском море лето.
— Иди к боцману, — капитан положил на плечо рулевого медвежью лапу, — скажи, пусть готовится к сдаче.
Третий помощник стал к штурвалу. Саша ни о чем не спрашивал, стоял молча.
Минут через десять улеглась зыбь, а ветер перестал звереть, лишь бессильно посвистывал в снастях над головой, на крыше рубки — зашли под прикрытие невидимого в ночи мыса. Здесь и стоял, точно щука в заводи, плавзавод.
Боцман и два матроса показались из тамбучины. Капитан щелкнул пакетником на переборке — на палубе зажглись огни. Парни открыли трюм, прицепили к шкентелям «ложку» — сачок с длинной рукоятью для вычерпывания рыбы, запустили лебедку. Один из матросов притащил шланг, опустил концом в трюм и открыл воду.
«Персей» прильнул к высокому черному борту плавзавода. Доверчиво, как ягненок к волку, ряженному в овечью шкуру, подумалось Саше. Не успели еще закрепить швартовы, как плавзавод закогтил каплером левый борт сейнера.
Первая порция россыпью серебра булькнула в каплер. В рубке повисло похоронное молчание. Но ненадолго.
— «Персей» — «Ориону»! — вскрикнула рация.
Капитан взял микрофон:
— На связи. Что хотел?
— Здорово, Осипович! — узнал его голос капитан сейнера «Орион». — Ну как ты там, сдал рыбу?
— Сдаю, — проворчал в ответ Осипович. — А ты как?
— Сдал уже! — неприятно весело отозвалась рация.
— Кому?
— А ему же — подшкиперу! Нас тут пятеро уже, подгребай, все веселей будет.
— Да уж веселья невпроворот, — громко выдохнул Осипович. — Где стоишь?
— А тут, сразу за маяком. Смотри, сейчас мигну топовым.
— Давай; До связи.
Справа милях в двух трижды мигнул огонек. Небо было беззвездным, безлунным. Весь мир, казалось, погрузился в черную штормовую ночь. Лишь эта светлая живая точечка проникла в душу, согрела ее. И теперь уже не такой заброшенной виделась палуба «Персея» и суета на ней, выхваченная из мрака прожектором.
Ложку за ложкой выплескивали рыбаки морские дары в ненасытно чавкающую пасть каплера.
— Схожу, Осипович, взгляну на этого крокодила, — Саша мотнул головой кверху, где в черном небе холодным заревом светились огни плавзавода.
— Дуй, — безразлично откликнулся капитан, — только гляди не заикнись там про наши обиды. — И добавил уже ворчливо: — Пусть хоть двести нарисует, змей.
По скользким от чешуи веревкам штормтрапа Саша поднялся на высоченный борт плавучего завода. Непривычно просторно и светло было на его палубе. Натужно гудели лебедки, лилась «персеева» рыбка в утробу «философа», который крепко, видать, за прошедшие столетия перелопатил свои взгляды на счастье. Тщедушный мужичонка, утонувший в несоразмерном полушубке и шапке, тоже вроде бы снятой с головы великана, стоял у приемного бункера и покрикивал на лебедчика, торопил:
— Давай, давай шевелись! Мух ловишь хлебалом!
— Кто это? — спросил Саша у проходившего мимо матроса.
— Рыбак и не знаешь? — удивился тот.
Саша пожал плечами. Матрос, оглянувшись на мужичонку, доверительно потянулся к Сашиному уху, прошептал:
— Да это чучело весь флот знает. Завпроизводством наш.
Саша пригляделся к «чучелу»: породистые, лохматые брови, умные, сосредоточенные глаза.
— Да-а-а, — только и сказал Саша тихо, закурил и пошел к носовой надстройке.
Через полчаса, прочитав семьсот фамилий, среди которых — увы — Серегиной не было, Саша спустился на «Персей». Шкиперский — вот какую фамилию носил завпроизводством, а его инициалы — Г.Г. — несколько развлекли приунывшего было старпома. Прошло еще полчаса, и порожний сейнерок отвалил от «философа».
За мысом по карте была небольшая открытая бухта.
«Персей» круче переложил руль и вскоре скользил уже словно по черному маслу. Ветра как будто и вовсе в мире не существовало. Вдоль берега бухты, прячась от шторма, цепочкой стояли сейнеры и траулеры, а справа, под самым маячком, сияла палубными огнями какая-то плавбаза. Подошли ближе к плавбазе, отдали якорь. Когда развернулись вдоль ее высокого борта, Саша прочел над толовой: «VESNA». Под этой ярко освещенной надписью на крыле мостика стояли люди, кто-то рассматривал «Персей» в бинокль. «Нет, — решил старпом, — здесь ее нет. Короче, надо отсюда уматывать. Вот только где теперь ее искать?..»
До следующей вахты Саше оставалось четыре часа, я он пошел спать. Проходя по палубе, заглянул в пустой трюм. Там в желтом свете подслеповатой лампочки, где недавно слитками серебра лежали рыбачьи сокровища, трудились матросики — зачищали закрома.
В кубрике у печки-киловаттки было по-домашнему тепло. Саша медленно разделся, повесил робу, лег, но до вахты так и не заснул.
Что ни делается, все к лучшему, снова вспомнил он гостиничный разговор. Как можно было жить по такой гнилой пословице? Впрочем, можно привыкнуть ко всему. А я не хочу привыкать, не буду! Привыкать — значит стареть. Стареть — привыкать. Мир, действительно, голубой и розовый: рассветы, закаты, глаза младенцев. Остальное зависит от ума и рук человеческих. И то, что ты видел в детстве, не меняется. Меняешься ты сам, твой взгляд на мир. Точно пеплом глаза себе засыпаешь. И они становятся, как сказала тогда Тома, лживыми, змеиными, предательскими. Глаза… Спать хотят глаза… Першит в глазах, как в горле… Томка. Вот у кого чистые глаза, без пепла. Тома. Том Сойер. Она видит, мир ясно, по-детски прямо и не хочет, наотрез не хочет смотреть по-другому. А нам нужно теперь переламывать себя, чтоб голубое не казалось фиолетовым, а розовое бордовым. Нам нужно… дорасти до детства.
Да, да, да! Дорасти до детства.
В 30 лет обозвали папашей.
Мертвецом показался себе…
Эй, Фортуна, катись-ка подальше!
Я вернулся для жизни, к борьбе.
Я стою на вибраторе, на укладке сельди в бочки. Вокруг меня на палубе цеха полно пустых стодвадцатилитровых бочек с заправленными в них полиэтиленовыми мешками-вкладышами. Я беру одну и ставлю на площадку вибратора, креплю ее захватами, откидываю заслонку лотка, что расположен на уровне моих глаз, и по нему ртутной струей льется с конвейера рыба. Включаю свою «трясогузку» и, когда бочка заливается доверху, выключаю. Полную бочку кантую на транспортер, его рубчатая стальная лента медленно и непрерывно ползет рядом, в метре от меня. В конце ленты стоит парень, который принимает бочки от моего и двух других вибраторов и кантует их в сторону, к бондарям. Там мелькают бондарные молотки, зубила, обручи, донники. Рядом с ними со шлангом стоит тузлучник. Дальше трафаретчики орудуют валиками, смоченными в черную краску, оформляя, так оказать, титульную страницу нашего коллективного произведения с помощью круглых, по размеру почти с донник, трафаретных листов из плотной жести. За стрекотом «трясогузок» я не слышу даже бондарей, хотя вижу, как они от души машут молотками.
На днях я уронил в бочку свои часы, струя селедки их тут же завертела, и в мгновение они оказались погребенными в дрожащей ртутной массе. Останавливать конвейер, а тем более копаться в рыбе было некогда, я лишь мельком взглянул, как лихо забондарили мои часы, и улыбнулся, представив удивление продавщицы какого-нибудь сельпо на Брянщине или на Украине.
А часы были одни на каюту. Юра свои, говорит, еще в Невельске подарил невесте, когда улетал, чтоб не забывала. «Невеста» на его языке значит просто знакомая. В Магадане и на Камчатке, во Владивостоке и в Находке у него есть минимум по две «невесты», которые, если верить этому балагуру, любят его и ждут.
В море часы, впрочем, и не нужны. Как и календарь. Каждое утро в динамике на переборке раздается звучный щелчок, и привычный уже тенор четвертого штурмана вещает:
— Доброе утро, товарищи! Судовое время семь часов. Сегодня 13 августа, вторник. Команде — подъем!
Суббота ли, четверг или вторник — нам абсолютно все равно. У нас нет вообще понятия недели, а есть десятидневки. Каждая из них начинается тоже с «доброго утра», но с торжественной прибавкой. Четвертый, надуваясь, произносит почти Левитановым басом:
— Вниманию матросов-обработчиков! Сегодня… пересмена бригад.
После этого объявления четвертый обычно выдерживает полуминутную паузу и ликующе возглашает, взлетая до жизнерадостного тенора:
— По судну объявляется банный день!
Это значит, что пресная вода будет открыта не по расписанию, как всегда, а целый божий день, и прачки сменят нам простыни, наволочки и полотенца.
Такой вот радостный день был позавчера. А сегодня у нас рядовая ночная смена. В восемь вечера заступили, в восемь утра пошабашим. В полночь в столовой нас поят чаем. Но это опять же весьма условное название ночного разгула обжор. На бригаду в семьдесят человек выставляют кроме чая и хлеба с маслом трехведерную кастрюлю борща, что остался от ужина, и два противня — каждый площадью в квадратный метр — с запеченной селедкой. Борщ я по ночам не ем, а вот от селедки просто не в силах отказаться.
Ночной перерыв длится до часу. И пока бригада пирует в столовой, я выхожу покурить на палубу. Черное небо прозрачно, далекие созвездия равнодушно, не мигая, уставились на Землю со всеми ее морями и островами.
«Весна» стоит в нескольких милях от острова Завьялова. Видна коротенькая цепочка огней его рыббазы — миниатюрное земное созвездие. Под бортами у нас качаются на невидимой зыби четыре траулера, сдают улов. На палубе «Весны» стучат лебедки, перекрикиваются матросы. Грузовые стрелы развернуты — одна над нашей палубой, другая смотрит за борт. На тросах, на мощном гаке висит умное устройство — каплер; трубчатая рама и на ней длинная авоська из капроновой сети, стянутая понизу шкертом-шнурком. Суденышко отделено от «Весны» на толщину двух пневмокранцев. Лебедчик опускает каплер за борт базы и вешает его на фальшборт траулера. Тогда в борту его открывается специальное отверстие — шпигат, и рыба, которой завалена палуба, потоком струится в каплер, а ей помогают, поливая ее из шланга. Авоська вмещает ни много ни мало — две тонны сельди. Когда она повисает над бункером плавбазы, приемщик распускает шкерт, и раздутая авоська в несколько секунд худеет. А рыбу в бункере снова поливают забортной водой, чтоб она быстрей скользила по лоткам в цех, на посольные столы.
Час-два, и траулер уходит на промысел, чтобы через полсуток-сутки вернуться с новым уловом.
Под бортами у нас светло от прожекторов, и я долго не могу оторвать глаз от темно-малахитовой воды с загадочными пузырьками в глубине. Бесшумными летучими мышами над водой низко проносятся чайки-глупыши. Их называют так за доверчивость: они почтя не боятся человека и в буквальном смысле легко попадаются на удочку, заброшенную с борта кем-нибудь «ради спортивного интереса».
Некоторое время я занят глупышами, провожу параллели между людьми и птицами. Они тоже страдают от собственной наивности, чистоты и легковерия, они тоже из племени тех, кто ставит точки над «ё», думаю я. Потом ухожу на корму, подальше от шума и прожекторов. Ночь черная, и, ослепленный этой абсолютной чернотой, я озираюсь вокруг. И вдруг замираю, слыша трепет собственного сердца: на горизонте, вернее, просто на уровне моих глаз — мистичеокое голубое окно в небе. Его причудливые разводы — проталины слегка подкрашены снизу туманно-багровыми мазками. Это приполярная заря, призрачное окно неба. Оно так резко ограничено чернотой ночи, что кажется вырубленным в монолите черного мрамора.
До восьми утра перекуров больше не было. Рыба шла рекой. Стоишь у вибратора, как аист, на одной ноге, чтоб дать временный отдых другой, и думаешь о каюте, о нижней койке и больше ни о чем. Время от времени подходит Валя Иванов, бригадир. Я не в состоянии даже поднять глаз на него, но чувствую совершенно ясно, что он смотрит уже не на мою работу, а на меня, и не просто смотрит, а видит сидящего сейчас во мне маленького, сонного и обессиленного котенка. Он кладет мне на плечо руку, и от одного этого хочется заплакать или обнять его. Я поднимаю голову. В его усталых глазах — ободряющая улыбка.
— Нормально, — спокойно говорит он. И это слово внушает такую уверенность в себе, что, откуда ни возьмись, берутся силы, а вместо рук-плетей и ватных ног с удивлением ощущаешь теплое, работающее сердце в груди, и жизнь, которую минуту назад ты мнил беспросветной, неожиданно наливается, как зреющее яблоко, соком и красками.
В шесть утра Романиха, как зовут на «Весне» завпроизводством, уже на ногах.
— Что, гвардеец! — слышен ее крик возле тузлучников. — Мать твоя — женщина! Шланг перегнуть не можешь? Видишь, пистолет не держит, тузлук льется — перегни!
Через минуту она уже у посольного конвейера.
— Ну кто так делает? Кто, я спрашиваю?! Кто тебя учил столько соли сыпать?.. Ах, мастер! Где он, козел патлатый? Под хвост бы вам обоим столько соли!
Вслед за этим по палубе и по цехам разносится зычный глас спикера:
— Мастеру Козлову — срочно к посольной линии!
Тут же, у конвейера, Романиха «несет по кочкам» мастера, крестит его вдоль и поперек, не слушает робких оправданий и, наконец, божится сегодня же перевести в матросы-обработчики.
Только что откатив на транспортер полную бочку, я ставлю на вибратор пустую и слышу над головой:
— Спишь, крановщик? Это тебе не на кране… облака разгонять! — Романиха держит на ладони селедину с разорванными жабрами, которую я проглядел, что немудрено, когда десятки часов видишь перед собой не рыбу, а сверкающую ртуть, хлещущую сплошной струей из лотка. Я молча смотрю в глаза Романихе, они у нее ясные до прозрачности, чуть навыкате, с тем характерным бесстыжим наивом, по которому я научился почти безошибочно определять ярых ругателей. Меня впервые в жизни материт женщина, а я улыбаюсь, потому что чувствую еще на своем плече теплую тяжесть руки Валентина и слышу его сурово-нежное «нормально»…
В следующую ночь меня поставили на выливку полуфабриката. Селедку солят в два приема: пересыпают солью, заливают тузлуком и забондаривают в бочки, это — полуфабрикат, он семь–десять дней должен зреть, то есть выдерживаться при нулевой температуре, затем бочки вскрывают, рыбу высыпают (это и есть выливка) и после промывки возвращают в бочки, вновь заливают тузлуком, забондаривают, и это уже — готовая продукция.
Итак, я стою на выливке. Разбондаренная бочка подходит по транспортеру ко мне, и я вытряхиваю из нее селедку на резиновую ленту конвейера. На пути к вибраторам рыба принимает душ, ну а дальше следует то, что было у меня раньше. Премудрости посола со всей его терминологией — слой омыления, бестузлучка, температура в теле — постиг я гораздо позже. А сейчас я представлял собой деталь автомата, маятник с жестко ограниченной амплитудой колебаний: шасть влево, хвать полную бочку, дерг на себя, круть вправо, бух рыбу вниз, швырь пустую бочку в сторону. И так час за часом, час за часом. Уверен, что, подкати ко мне бочка с молоком или живыми котятами, я выполнил бы свою операцию так же четко.
Под утро Романиха снова подошла ко мне, постояла с минуту молча, что-то ей, видно, не понравилось. Она исчезла, а вместо нее появился старший мастер и перевел меня на транспортер готовой продукции — кантовать к бондарям бочки, идущие от вибраторщиков. Первым моим движением было — опрокинуть бочку, то есть после обычных «шасть» и «круть» сделать «бух» и «швырь». Остановило меня только отсутствие резиновой ленты перед глазами.
До конца смены Катерина Романовна еще раза два навещает меня. А уже в раздевалке-сушилке Валентин подходит и говорит:
— Завтра станешь на посольную.
И точно князь Потемкин, сказавший о царице «не приведи бог под бабой ходить», добавляет вполголоса:
— Что-то Романиха неравнодушна к тебе.
Новая ночь — новые перестановки. За смену я да и другие обработчики по пять-шесть раз меняем места.
Но мне ее придирки и причуды — как град о трехнакатную крышу землянки. Для всех же остальных Романиха — предмет и причина разговоров, горячих дискуссий, ссор.
— Вот ведьма! — ругаются одни.
— Что ты хочешь — у бабы климакс, — объясняют другие, — в эту пору они все чумные, как сентябрьские осы…
Дни проносятся словно чайки-глупыши за иллюминатором, ночи ползут одна за другой, как бочки по транспортеру. С привычным уже отупением по утрам сбрасываю с себя мокрую, всю в чешуе, проолифенку, стаскиваю сапоги, а в каюте гляжу в зеркало и даже не удивляюсь старой, вечно небритой роже, сонным и будто пылью запорошенным глазам…
Однажды утром я задержался после смены в сушилке, перекуривал с парнями и слушал, как рассуждали они о Романихе, которая перевела-таки мастера Козлова в, матросы-обработчики, перемывали кости и капитану, ее мужу, потому что он, по их словам, боялся ее, как Карась Одарку, во всем слушался и был, оказывается, на целых десять лет моложе. Говорили, Романиха женила его на себе в море, и он развелся из-за нее с молодой женой. Над этой великодержавной парой втихомолку посмеивалась вся плавбаза, а «Весна» из-за них, говорят, стала мишенью для насмешек в Невельске: «Тебя куда направили, на «Весну»? Ну, смотри не заглядывайся там на Катю Шахрай. Красотка? Спрашиваешь! Так что полегче с ней, а то капитан Шахрай ревнивый, может и шпангоуты твои пересчитать». На деле же, по рассказам «весновских» старожилов, случалось как раз обратное. Капитан приударил однажды за симпатичной буфетчицей, так Романиха ее в момент, говорят, схарчила и с первым же попутным пароходом в кадры отправила, а ему такой тайфун закатили, что он неделю из каюты не вылазил — пластыри заводил.
В таком вот духе протрепались мы с полчаса, и когда я шел в каюту, то встретил двух девчат из нашей бригады, уже возвратившихся из душа. Розовые, распаренные, у каждой на голове чалма из махрового полотенца, аппетитные, как шанежки, что судовая пекариха к чаю по воскресеньям пекла. Спешат по коридору, смеются, чирикают.
— С легким паром, ласточки! — выпалил я наигранно бодро.
Девчонки быстро взглянули на мою, видно кирзовую после смены, старую физиономию, и одна, что побойчей, звонко, мне в тон, стрельнула:
— Спасибо, папаша!
Они прыснули и бросились бежать, громко щелкая шлепанцами по синему пластику коридора.
И вот я снова в каюте изучаю в зеркале собственную лысину, она кажется мне вдвое обширней, чем всегда. Ухищрения расчески еще способны скрыть ее, но я безжалостно, пятерней обнажаю белый, незагорелый череп, с грустью созерцаю его. Ну что ж, говорю я себе, чем дальше человек отходит от обезьяны в процессе эволюции, тем меньше остается у него покровов…
Между прочим, экипажа на «Весне» две с половиной сотни человек, из них сорок женщин, В нашей бригаде их не больше пятнадцати. Столько же, говорят, в бригаде Насирова. Остальные — в обслуге: повара, буфетчицы, уборщицы. Я почти месяц на «Весне», а всех пока даже и не видел, не говоря уже о знакомстве. Сплетен, правда, наслушался чуть не обо всех. Умеют ведь мужики сплетничать! А на поверку только две из сорока жгли мосты за собой, причем одной посчастливилось в береговой жизни иметь двух мужей-пьяниц, второй — одного, но ей перевалило уже за сорок, и это была ее лебединая песня. Этих двух уравновешивали несколько недотрог, по мужской классификации, в их число входила и та красавица повариха, с которой мы познакомились в первый день на «Весне». Десять или двенадцать женщин плавали с мужьями: он — моторист или матрос, она, как правило, обработчица. Ну, а остальные избрали себе каждая по парню и держались особнячком. Я видел в столовой, как они всегда садились рядышком и, наивно пряча нежность, заботились друг о друге куда более трогательно, чем «земные» пары. В общем, сфера деятельности судовых донжуанов была ограниченной…
«Женская проблема» волновала всех. Плавбаза пятый месяц работала в море. Во мне же омертвело что-то, я был противен себе и чувствовал, что скоро, очень скоро это что-то должно окончательно умереть, сломаться.
Глядя под ноги, сомнамбулой бреду по коридору. И в мыслях вот что: сейчас, в конце коридора, наткнусь на дверь, это будет столовая, там надо сесть за стол в углу и поесть, надо, да, так надо…
— Это вы?
Поднимаю голову.
— Да, Тома, я, — говорю голосом робота.
— Как вы сюда попали?! — тормошит меня Тома. — Что вы здесь делаете?! Господи, да вы спите на ходу!
Она в коричневых брюках, розовой теплой кофточке, а в волосах неизменный черный бант. Ясное лицо, ясные глаза… Бог ты мой, словно из другого мира! Я почувствовал, как шевельнулось в моей груди сердце. По-моему, оно стояло, даже неприятный холодок ощущался внутри, и я понял, что, не случись вот сейчас этой встречи, я умер бы незаметно для себя и, может быть, для окружающих.
Тома тащила меня за рукав, и я послушно шел за ней по коридору, поднимался по трапу, шагнул в ее каюту, сел на диван и стал вместе с ней удивляться тесноте Тихого океана и необъятности «Весны», на палубах которой можно жить и ходить целый месяц, ни разу не встретившись.
— Нет, а правда, Сева, — смеялась она, — как это могло случиться?!
Тысячу лет я не видел такой искренней радости, такого живого, милого лица, не слыхал такого звонкого смеха. И вдруг все мое существо словно пронзило током. Яркая картина, неожиданно воскресшая в памяти, на миг швырнула меня за тысячи миль и заставила пережить во всей остроте былое счастье и его утрату.
Смех и музыка голоса Томы снова, как когда-то во Владивостоке, вернули мне Наташу.
— Томка! Откуда, с какого неба ты свалилась?
— Да я третий месяц здесь работаю и полчаса уже вам твержу об этом! — Возмущались, не переставая улыбаться, ее глаза.
— Как третий месяц? Где? Кем?
— Да уборщицей! Здесь же! В носовой надстройке! — явно пародируя меня, шутливо выпалила Тома и покачала из стороны в сторону черным бантом; — Ну и мужики-и-и. Да мы в тыщу раз вас сильнее! Как так можно — работать в море и спать? Да ведь первая же бочка, которая свалится со стропа, будет ваша!
— Томка, неужели я стал так похож на собственного дедушку? — сказал я как можно шутливей.
— Полчаса назад там, в коридоре, — да, я еле вас узнала. А сейчас, — и что-то засветилось в ее глазах, — сейчас вы… ну, нормальный парень.
— Спасибо, Тома. А зачем ты меня на «вы» зовешь?
— Хм! — встрепенулась она с живым и веселым возмущением. — Вы же писатель, а как я могу Толстому сказать: ты, Лев Николаевич?..
— Ну, мне до него, положим, как «промтолпе» до капитан-директора.
— До Шахрая?! — снова возмутилась Томка. — Да тут есть парни из обработчиков… куда вашему капитану до них! Сильные, красивые и по два института позаканчивали. Один, например, после института физкультуры в мореходке заочно учится, так что тоже скоро будет на мостике стоять. А Шахрая вашего Романиха по каюте, говорят, мокрым полотенцем гоняет.
Я рассмеялся, но не очень весело, потому что вдруг испытал ревность к физкультурнику, который учится на капитана. Томка взглянула на меня с таким юмором, что у меня, кажется, уши загорелись.
— Сева, а свою книжку вы мне дадите прочесть?
И я, оживший уже настолько, чтобы бегать, сорвался с места и исчез. Промелькнули под руками поручни трапов, и вот я лихорадочно ворошу свой чемодан, выхватываю тощую книжечку в родной и словно чужой полосато-голубой обложке. Это пока все, что я написал, но теперь я знаю, что еще напишу о море, о «Весне», о том, как женщина дважды на нашем веку дарит нам жизнь, о том, как… Томка… о том, как Томка, Томка, о том, как!..
Напевая это на манер индейского военного марша, раскрываю книжку и быстро, радостно царапаю в ней: «Томке Серегиной, спасшей меня из-под бочки со стропа. «Весна»-76. Охотское море».
Я услышу еще дифирамбы.
Много истин открою земных.
Стану преданным солнцу арабом.
Разделю белый свет на двоих…«Весна» стоит на якоре у безымянного охотоморского мыса, глухо переваривая в своем железном чреве принятые за день уловы. В беззвездном, безлунном небе над ней вспыхивает жизнерадостная звездочка маяка на сопке. «Весна» спряталась от шторма, который шалается по морю, копытит воду, свистит в три пальца. Но это там, за мысом, под черным небом, задраившим, как сказал бы Саша, все горловины и люки, чтобы не зрить разбой. А здесь, в укромной бухте, под рукотворной звездочкой, течет спокойная человеческая жизнь. Десятка два добывающих судов цепочкой выстроились под берегом и спят в ожидании промысловой погоды. Проветренная штормом бухта чуть дышит зыбью, баюкая рыбаков.
Только на «Весне» кипит жизнь: скользит по конвейерам селедка, трясутся на вибраторах бочки и потом, точно пингвины, вперевалочку толкутся друг за дружкой на транспортерах, а на лифтах брюзжит зуммер и вспыхивают красные лампы.
Без четверти полночь все стихает. Ночной обед. Заглядываю в свою каюту и вижу Юру, он одевается на вахту.
— Как ныне сбирает все вещи Олег…
— Окстись, неразутый хозяин! — вторит он в стиле нашего ритуала, имея в виду мои серебряные от чешуи резиновые сапоги.
— На службу-с, белая кость? — говорю я, идя к умывальнику.
Дело в том, что уже полмесяца, как Юра перешел в палубную команду, а для нас, рыбообработчиков, сезонников, «промтолпы», даже палубный матрос — белая кость, потому что он не мантулит по двенадцать часов в цехе, а стоит два раза в сутки четырехчасовую вахту на мостике, шаровую вахту — «час на руле, час на кнехте». И платит мне Юра той же монетой:
— Так точно-с, мой друг хомут, схожу собак погоняю.
Вот он — морской фольклор; вахта с ноля до четырех утра называется собачьей вахтой. Так же, как следующая за ней — королевской (старпом на вахте), а утренняя — с восьми до двенадцати — детской или пионерской.
Совершенно дивное отношение к слову, великолепные способности к творчеству у рыбаков. Старпом, старший помощник, Здесь, на «Весне» — страшный помещик. Это за то, что он сурово командует матросами и уборщицами, заведуя всем огромным судовым хозяйством. Кстати, уборщица по-весновски — чертежница, кок — лепило, электрик — штепсель, сварщик — варило или сварной, токарь — точило, слесарь, разумеется, — зубило. Того, кто живот отрастил, кухтылем величают.
Сегодня вахта у Юры спокойная: плавбаза на якоре, судов под бортом нет и не ожидается, потому что все бункера забиты рыбой, и принимать ее больше некуда. Остается только бдить — слушать скучные скрипы якорь-цепи в клюзе да отвечать на редкие телефонные звонки из цеха или машинного отделения. Неплохо бы созвездия поизучать, штурманское дело, но небо сегодня как в мазуте. И если бы Юрин шеф, второй помощник, не привел бы с собой на мостик корреспондента радио-телевидения, можно было бы и подремать, облокотившись на подоконник, в нише иллюминатора.
Корреспондент небольшого роста, поджар, как нерестовая селедка, шустр, восторжен и, видимо, молод — до тридцати. Лица Юра не может рассмотреть, потому что ходовая рубка затемнена: иначе не разглядишь ночью забортный мир. Корреспондент и шеф продолжают разговор, начатый, видно, в каюте:
— Ну так вот иду я, значит, по Охотску, плакаты читаю. А наглядная агитация там, надо вам сказать, на высоте. «Собирайте дикоросы! Премия сдавшему 2 тонны грибов — 100 рублей». Во, думаю, наши, дальневосточные масштабы! Плакаты с рисунками — под острогой извивается красная рыба в ручье — зовут бороться с браконьерами. Прекрасно! Кампания священной борьбы за природу разворачивается во всю мощь! Направляю стопы в редакцию «Охотско-эвенской правды», в голове уже зреет очерк о мудрых стражах кладовых природы: грибы — да, разумная эксплуатация флоры, лосось — нет, рыба редкая, надо беречь. И вдруг — глядь, а она висит с лучинками распорок в брюхе, все как положено, вялится на солнышке. Иду дальше — еще одна висит на окошке, еще и еще… Представляете?!
— Представляю, — не шибко сочувственно отзывается второй помощник. Он, слушая корреспондента, прохаживается по рубке. — Вот идите сюда, вы хотели видеть живых рыбаков, посмотрите, — зовет он его к двери левого борта.
Юра тоже подходит и, заглянув через их плечи (благо бог не обделил ростом), видит, как под самым бортом базы разворачивается на якоре только что подошедший сейнер. На его ярко освещенной палубе и в раскрытом трюме вовсю трудятся матросы — скребут, драят, моют свой пароход.
— Ух ты! Отлично! Я сейчас, мигом! — восклицает корреспондент и исчезает.
— Чего это он? — Юра глядит на светлую щель незахлопнутой двери.
— А вот! — ревизор крутит у виска пальцем и смешно передразнивает. — Представляете?! Иду себе в редакцию, а она на окошке висит… Тьфу! Да сто лет в Охотске едят горбушу и кету, а не арбузы и виноград.
В коридоре на трапе послышались торопливые шаги. Корреспондент, увешанный аппаратами в чехлах, еле пролезает в дверь.
— Сейчас мы их, голубчиков, увековечим, — приговаривает он, настраивая фотокамеру у бортовой двери.
— А разве ночью получится? — наивно спрашивает Юра.
— У нас все получится! У нас есть пленочка на пятьсот единичек. Ночь — день!
Он выходит на крыло мостика, выбирая ракурс пооригинальнее. Ревизор дает своему матросу шутливого пинка под зад, чтоб тот не корчился и не прыскал за спиной спецкора. Юра убегает, давясь от смеха, в рубку, а через минуту туда возвращается и ревизор с корреспондентом, который заталкивает камеру в чехол.
— Дождались, — ворчит ревизор, — в Красной книге сегодня уже сотни зверей и птиц, а завтра и селедку туда запишут.
— Вы забываете, что в мире существует пресса, — корреспондент поднял палец.
— Не забываю, дорогая пресса, — с улыбкой в голосе отвечает ревизор. — Но зачем глубоко нырять за примерами? Вот нам недавно привезли сепарацию, это такие тонкие досочки должны быть, из отходов. Хотите, сходим прямо сейчас на ростры, покажу. Лиственница, кедр, дуб (!) — брусья сечением 20 на 20 сантиметров. Ведь где-то они позарез нужны. Тысячи детских игрушек сделали б из них… А мы ее, эту горе-сепарацию, только за борт смайнать можем, она нам не нужна и даже мешает: складская площадь на судне ограничена бортами. Да, а брать заставили. Можете мне, как второму помощнику, верить: я принимаю и сдаю груз. И отвечаю за него.
— Что значит «заставили»? — зевнув, поддерживает разговор корреспондент. — Где ваша принципиальность, ревизор?
— Сепарация — это в нашем деле такая мелочь…
И ревизор ныряет за шторку в штурманскую рубку заполнять вахтенный журнал.
Спецкор, пожелав Юре спокойной вахты, покидает мостик с решительностью сапера, увешанного боевым снаряжением. Рванув дверь, он вываливается в коридор.
Холодное и ясное августовское утро. Багровая, словно закатная, заря раскинула крылья над сопками, подняла в небо чаек, окрасила гладкую нейлоновую зыбь бухты. Половина восьмого. Тишина, если не считать визга птиц, дерущихся у борта из-за рыбьих кишок. Свежий, пахнущий уже снегом воздух точно падает на тебя сверху, с темного еще неба, прозрачной, невесомой глыбой. Подставляю ладони и ощущаю его скольжение кончиками пальцев. Смена была не из легких, да нет, пожалуй, самая трудная за путину. Через эти руки ночью прошли сотни тяжелых, почти в полтора центнера каждая, скользких бочек с рыбой. Часа три назад каждый из нас много дал бы за сон, за минутку сна, а сейчас смена кончилась, и полбригады моей, смотрю, бродит по палубе — дышат, ждут из-за сопки солнца, задирают головы и молча пьют падающую с вышины свежесть.
— Ты из бригады Иванова?
Оборачиваюсь — Романиха, в своей «форме»: фуфайка, резиновые сапоги с отвернутыми краями, простой голубой платок. Я киваю.
— Сколько сделали?
— 870 бочек.
— Гварде-е-ейцы! — голубые глаза Романихи сразу теплеют. Потом она разгоняется дальше, но тут же резко, точно стукнувшись лбом, останавливается у дверей бондарной мастерской. Гляжу, под ногами у нее валяется банка с пролитой трафаретной краской — дегтеобразная масса очковой змеей поползла по палубе и спрятала хвост под штабель досок.
— …бога …душу …мать! — очень складно, почти стихами, говорит Романиха.
Я знаю, что краска дефицитная, и сочувствую ей. Она еще пуще крестит неизвестного растяпу, и тогда я говорю:
— Смотрите, Катерина Романовна, какое красно солнышко на сопку выкатило.
Она глядит на восход, молчит и не шевелится.
— А вы ругаетесь в такой час, — продолжаю я.
Романиха поворачивается и обалдело смотрит в упор на меня. Потом бросает хрипло:
— Ты думаешь, я родилась с матом? Жизнь научила!
Она беззлобно пинает сапогом банку, расквасив голову очковой змее, и идет дальше, уже не глядя по сторонам.
Я брожу вдоль озаренного восходом правого борта, пока не просыпаются лебедки, лифты и транспортеры. Это значит, уже восемь часов, взялась за дело дневная смена. Но в столовой, я знаю, сейчас еще — битком, и потому не спешу. Поднимаюсь на шлюпочную палубу. Отсюда превосходно видна бухта и черно-синяя сопка с пламенным шаром, взошедшим точно над вершиной конуса. Чайки реют на уровне моих глаз и ниже, над самыми палево-гнедыми волнами, ждут своей доли.
Перехожу на левый борт. Здесь ветерок и запах холодной смолы от шлюпочного брезента. Почему-то глотаю слюну и вспоминаю: летними вечерами в детстве мы, мальчуганы, отрывали застывшие на завалинке нашего барака лепешки смолы, которая днем текла с толевой крыши, и жевали ее до судорог в челюстях. Это было на Украине, на Днестре. Прошло двадцать лет. Тот барак уже сгнил, наверно. Мама года три назад писала, что дали комнату с ванной в каменном доме.
Что же остается от детства? Вкус смолы, утреннее «ку-ка-реку» под слепым окошком, добрые мамины руки. Еще пятилетняя соседка-синеглазка, с которой «за ручки» уходил в Днестр, а она трусила, упиралась, задирала к солнцу нос и заразительно смеялась, осыпая тебя голубыми искрами. И последнее — непонятная грусть с широко распахнутыми глазами, разбитые носы, точки над «ё»…
Я поймал себя на том, что смотрю на сейнерок, заякорившийся рядом с базой, и слушаю, что говорят о нем два голоса над моей головой, на мостике.
— Вот я их, щелк — и увековечил, — заливисто пропел один. — Теперь бы не мешало и познакомиться.
— Могу его свистнуть к борту, — ответил резкий голос Шахрая.
— Да мне бы, знаете, Геннадий Алексеевич, хотелось поснимать его с различных ракурсов, — залебезил голосок. — И вас бы, кстати, запечатлеть. Капитан-директор плавучего гиганта в гостях у добытчиков… Неплохо звучит, а?
— Ладно, — растаял Шахрай, — после обеда спустим бот, заодно, пожалуй, и поохотимся на мысу.
— Очень, очень буду вам признателен, Геннадий Алексеевич…
И я услыхал шаги по трапу, а затем и увидел корреспондента с кинокамерой на плече и капитана в черной кожанке.
Восход состоялся, гнедые волны стали голубыми, как небо. На далеком горизонте умирала луна — бледная долька дыни. Я спохватился, что могу опоздать на завтрак, и поспешил в корму.
Томка, скоро я увижу тебя, мелькнуло в мыслях, пока бодро шагал по палубе, услышу твой голос…
У нас уже вошло в распорядок встречаться каждое утро после чая. Мы делились радостными открытиями и сомнениями. «Их миллион еще впереди! Какая жизнь бесконечная, правда, Сева?!» Тома, оказывается, рисовала, и очень неплохо, в своеобразной манере. Я влюбился в ее акварели — море, небо, звезды, сказочные острова, птицы и крылатые люди. Черная тушь и нежные акварельные краски — больше она ничего не признавала и презрительно морщила нос, когда я заговаривал об «академическом» масле. Я мог часами рассматривать ее картинки, как она их называла, на четвертушках ватмана. Уже засыпая на стуле и собираясь уходить, я обычно первым заговаривал о Саше, рассказывал, какую радиограмму дал на «Космонавт», какой получил ответ, как потом запрашивал отдел кадров, а оттуда — вторая неделя уже — ни звука, но это ничего, я буду еще радировать начальнику Сашиного управления, все равно мы его найдем. «Или он нас», — это я говорил уже стоя в открытой двери. Да, я говорил «нас», а думал — «тебя». И ощущал, как сжимается сердце.
«Господи, да ты влюблен в нее! Сознайся!» — сказал вдруг громкий голос во мне, и я от неожиданности остановился посреди палубы.
После чая я не пошел в носовую надстройку. Задернув синие ворсистые шторки, лежал на койке и думал. Юра вкусно похрапывал сверху, он сменился под утро, а следующая вахта у него — с обеда. Перед глазами у меня была сетка из синей проволоки с провисшим под тяжестью Юры пузом.
Так, До дневной смены, значит, осталось три дня. Три дня… Ха! Ты подсчитываешь дни до пересменки! Во времена «умри» такие мелочи тебя не волновали. Ночь, день, закат, рассвет, спать, работать, жить, не жить — все равно, вот что такое было «умри». А теперь и бочка, слетевшая со стропа, мне не страшна, потому как я чувствую, — во мне уже воспрянул неубиенный, вечный инстинкт жизни. Оживание, жизнь… Жизнь научила… Романиху она научила материть лебедчиков, когда со стропа падают бочки. А другой — ну я, допустим, — как юный козел, отпрыгнет вбок и шутливо погрозит в сторону лебедки пальцем: «Шалишь!» И с восторгом ощутит под робой звенящие струны мышц…
Я сладко потянулся под одеялом, провел ладонью по теплому животу (прекрасный спортивный пресс, ни грамма жира) и шепотом сказал: «Вот это и есть — «стань!» Когда ты, пройдя через мертвую точку, вновь обретешь жажду борьбы, желание работать, страсти, ощущения, чувства, — это означает одно: ты уже не «печальный гость на темной земле»…
И вдруг страшная мысль: а что если суждено на веку пройти еще раз или, может быть, несколько раз через «умри»? С ума сойти… И уже засыпая, я подумал: боже, как мучительно прекрасна жизнь!
Если солнце красно к вечеру, моряку бояться нечего. Солнце красно поутру, моряку не по нутру.
Я вышел утром на палубу — туман. «Весна» рокочущими гудками то и дело заставляла вздрагивать этот молочный кисель и с непонятным упорством куда-то неслась. Воду можно было разглядеть, перегнувшись через фальшборт. Какое бледное море — напившееся тумана… И все равно оно прекрасно: перламутровое море с мелким жемчугом пены от форштевня.
Да, я побывал на баке, но к Томе опять не пошел. Почему? Не знаю. Позавтракал и нырнул в свою каюту. Но спать не ложился. Уселся на диван, ощущая приятный холодок его черной кожи горящими после долгой смены ногами, и стал читать.
Под иллюминатором у нас всегда стояла трехлитровая банка с томатным соком.
Налив в кружку сока, я заглянул в поисках соли в ящик стола. Свежая горсть лежала там на какой-то полусогнутой фотокарточке. Я взял щепотку и стал пить вкусный прохладный сок — как помидоры только что с грядки.
Когда пьешь или жуешь, всегда хочется занять чем-нибудь и глаза. И вот я уставился на сломанную фотокарточку с солью. Там мужики в робах толпились на палубе. Я узнал Шахрая. Он был в своей кожанке и стоял в центре. Я взял и ссыпал соль прямо в ящик. Снимок словно притягивал меня…
Что ни говори, а именно в ту секунду, когда я увидел на снимке — у меня перехватило дыхание, — увидел лицо, до каждой точечки знакомое и родное, именно в этот миг раздался легкий стул в дверь. Будто пойманный на преступлении, я вздрогнул и выронил карточку. Тома вошла, и я увидел в ее глазах отражение своего испуга.
Я стоял спиной к столу, на котором лежало фото, и не мог прийти в себя. Сердце бухало в ребра, и я прислушивался к его глухим толчкам, точно механик к работающему дизелю. Тома подошла и заглянула мне прямо в глаза. Нет, она неверно, теперь я понимаю, совсем, совсем неверно истолковала мой испуг. Она меня успокаивала материнским взглядом, а я уже пьянел от нежности, переполнявшей ее глаза.
Огромная и в то же время легкая, как дуновение, сила повлекла меня к ней, и я очнулся только тогда, когда ощутил, что эта ослепительная сила вливается в меня прямо через губы, мои запекшиеся от многодневной, от тысячелетней жажды губы, припавшие к роднику ее губ…
Преступление свершилось. Но какое чудесное оно, сколько в нем волшебной, живительной силы. Я переживал этот миг еще и еще, с закрытыми глазами отклонившись назад, опершись ладонями на стол, чуть шевеля губами, словно продолжая пить чистый напиток счастья.
— Почему вы не приходите? — возмущенно и тихо спросила Тома.
Я посмотрел в любимые глаза и с неожиданной для себя твердостью произнес:
— Тома, я нашел Сашу.
Черная трубка, голос.
Чуть различимый в тумане.
Тоненький и далекий
Голос пловца в океане…
— Томка!.. Я с ума сойду! — Саша держал микрофон у самых губ, чтобы не говорить громко. — Нашлась. Сама нашлась… Томка, слышишь меня? Прием!
Он отпустил тангенту микрофона и ждал ее голоса.
— Да слышу, слышу! Саша! — почти сердито пропищала рация.
Но он знал, что сердитые нотки — лишь знак волнения, наивный и смешной щит.
— Тома, я искал тебя все эти месяцы. Я тебя люблю. Я больше тебя не отпущу. Никуда! Никогда!
Кажется, затихли, затаились радисты на всем Охотском море, боясь неосторожно спугнуть в эфире Ромео и Джульетту. Суда прервали разговоры о рыбе, о сдаче, трепачи вроде нашего морковки заткнулись на полуслове. Все слушали только этих двоих, и каждому казалось, что только он один слышит их сейчас.
— Саша, здесь Сева работает, матросом-обработчиком. А я… как всегда. Тебе слышно?
— Слышно отлично, Томка. — Он говорил тихо, а ему хотелось кричать: «Счастье мое! Да если б ты не нашлась, мне бы и жизнь не нужна была. Какой я был дурак!» Он думал: «Как всегда… Значит, с пяти утра — со шваброй…»
— Саша, «Весна» еще полгода будет здесь. А твой «Персей» сколько?
— К утру заловимся и на сдачу постараемся — к вам. Я заберу тебя, слышишь? Короче, ты приготовься, соберись. Прием!
— Что ты, меня не отпустят, Сашка!
— Значит, я выкраду тебя, слышишь? Умыкну, понятно? Прием!
Юра и его шеф молча стояли поодаль от рации, у лобовых стекол рубки, и глядели на мерно качающиеся звезды: плавбаза лежала в дрейфе в районе лова, принимая рыбу. На трапе за дверью послышались шаги капитана. Ревизор властно забрал из рук Томы микрофон:
— «Персей» — «Весне»! Ну, ладно, ждем утром на сдачу. Не больше двухсот центнеров. Ясно? Все! До связи!
Юра быстро вывел Тому на крыло мостика, к трапу, махнул рукой на ее признательное «спасибо» — не стоит, мол, ерунда — и вернулся как ни в чем не бывало в рубку.
— На кой он нам нужен на сдачу?! Своих мало? — «долбал» капитан ревизора. — Какого черта вы его зовете? Что за самодеятельность?!
— Геннадий Алексеевич, у них есть дело к вам, — нашелся ревизор. — Им штурман нужен. Может быть, вы стажера нашего им отдадите?
— Дармоеда этого? — Шахрай сразу отошел. — Отдам, отдам. Возьмут ли сами?..
…Саша после разговора с Томой в кубрик уже не пошел.
— Иди отдыхай, — сказал он второму помощнику, молодому, но толстому парню, известному любителю «придавить клопа». — Я все равно спать уже не буду.
— А я с удовольствием, Сергеич!
Исполненный благодарности толстяк, прежде чем уйти в теплый кубрик, счел долгом маленько развлечь старпома разговором.
— Ты как думаешь, Сергеич, тот корреспондент не нагадит нам? Ведь кто-то проболтался ему про нашу последнюю сдачу.
— Да нет, не думаю. — Весь мир сейчас казался Саше сотканным из добра и счастья.
— А зачем он фотографировал?
— А-а, ну это, — Саша улыбнулся невидимой в темноте улыбкой, — чтоб моя Томка меня нашла. Ты ж слыхал?
— Угу. Ну, лады, Сергеич, пойду ударю по сну, раз тебе не спится.
Дверца, что вела с мостика вниз, в кают-компанию, захлопнулась за вторым помощником, спружинив прибитым к косяку куском автопокрышки, и старпом с матросом остались одни. Спал весь мир, мерно вздымалась и опадала грудь океана, качая на себе неугомонный сейнерок, бегущий под звездами.
Саша стал слева от рулевого так, чтобы можно было смотреть в лобовое стекло на звезды и не выпускать из виду самописец эхолота, с присвистом ширкающий по бумажной ленте, как сверчок или жук-древоточец. Все звуки на судне монотонны: плеск и шорох волн по обшивке, гул дизеля, шум вентиляторов, похрипывание и писк рации. К ним быстро привыкаешь, как к собственному дыханию, они становятся равнозначными тишине.
Вон над горизонтом — неровный пятиугольник из семи звезд — Персей. Саша еще раз пересчитал их — все семь на месте. Вообще, семь — это цифра счастья. Говорят ведь «на седьмом небе». Сегодня двадцать седьмое августа — самый счастливый день… А вон восходит Орион, яркий, трехзвездный. Три — это тоже божья цифра. А чуть повыше серебряными брызгами шпор на черно-хромовом небе вырисовались Стрелец, Близнецы, Волопас. Саша снова улыбнулся от прилива нежности: Том Сойер, как тебя здесь недостает. Ты так любишь рисовать небо и звезды… А вот. Томик, смотри — как подвенечная алмазная диадема Северной короны. Она тоже из семи звезд.
Уже под утро, когда море, словно подсвеченное со дна, чуть-чуть пустило синего в нефтяную чернь и с востока потянуло знобящей свежестью, которая мгновенно проникает в рубку даже сквозь задраенные иллюминаторы и двери, эхолот прописал косяк сельди. Саша моментально выскочил на крыло мостика и бросил за борт буй — деревянную крестовину с шестом и лампочкой. Глянул — буй лег как надо, на зыби за кормой закачался сиротливый светлячок. Теперь ложиться на циркуляцию.
— Лево на борт! — бросил рулевому и включил тумблер аврального звонка.
Резкий, тревожный звон пронзил суденышко от киля до клотика, подбросил на койках матросов. Рыба! Аврал! Всем подъем! Прыг с койки прямо в сапоги, хлоп дверью, бух-бух-бух по трапу наверх, на палубу. Три минуты — и все на местах. Замет. Капитан встал у штурвала, стармех — у дизеля, остальные — на палубе. Предрассветный озноб и охотничий азарт сжали тела в пружины. Все ждут команды.
— Пошел!
Стуча и звякая наплавами и стяжными кольцами, змеей повился с кормы в воду кошелек. На заметах Бич обычно с лаем носился по корме, хватал зубами убегающие наплава. Однажды он так увлекся, что вместе со снастью вылетел за борт. Замет есть замет, судно не остановишь. Боцман, который любил пса, как меньшого брата, метнул ему спасательный круг. Когда скольцевали невод и спустили шлюпку. Бича подобрали: он без всякой истерики, положив передние лапы на круг, спокойно подгребал задними к шлюпке. Теперь же, всем на диво, он сидел у кормовой переборки, высокомерно глядя на проблескивающие в луче прожектора стальные колечки и шарики.
— Сон доглядает, — оказал боцман, — похоже, про береговую сучку.
— Ага, подняли да не разбудили.
— Может, чувствует чего пес, — тихо сказал кто-то.
— Каркай, ворона! — прикрикнули на вещуна.
Беду, однако, даже боцманский мат не остановит.
Как говорится, открывай ворота…
Тысяча центнеров рыбы на морской, наметанный глаз было в неводе, когда вдруг он весь напружинился и тут же опал, пошел легко-легко, легче пустого. Подняли на палубу, короче, одни лохмотья: подводную скалу вместе с косяком затралили.
— Вот и еще одна сдача, мандрата пупа! — смиренно, как вечный неудачник, выругался капитан.
В трауре «Персей». Молча сошлись все в кают-компании оттереться. В пятаках иллюминаторов уже мерцал серый утренний свет. Осипович закрылся в своей каюте, достал карту Охотского моря и обвел чернильным кружком точку, где похоронили кошелек. Кок молча поставил на стол полуведерный чайник с черным кофе, дюжину эмалированных кружек. Морковка включил трансляцию.
— Да выруби ты ее! — рявкнул боцман.
— И то верно, — проворчал Осипович, выйдя из каюты и поднимаясь на мостик. — Ты, морковка, соображение имей.
На мостике было уже светло: с правого борта, с востока, заглядывала в рубку молочно-розовая заря. Саша склонился над картой, делая прокладку курса.
— Сергеич, рули пока в бухту Рассвет, — в голосе старого капитана — усталость, — скоро капчас, там скажут, как дальше жить.
Сменившись, Саша похлебал горячего и черного, как мазут, кофе и спать не пошел. В ожидании капчаса в кают-компании сидело еще двое.
— На вас тоже кофе не «давит»? — сказал Саша, и все трое улыбнулись.
Дело в том, что боцман утверждал, будто кофе и снотворное есть одно и то же. «За двадцать лет на морях как-нибудь спытал, — доказывал он неверующим. — Дунешь кружку — одно око задраивается, а врежешь вторую — сразу давит, прямо к подушке. Проверено!»
Вскоре в морковкиной каюте громко заскрипело-завизжало, и все навострили уши.
— Внимание! Говорит плавбаза «Жан Жак Руссо». Говорит плавбаза «Жан Жак Руссо». Доброе утро всем присутствующим. Начинаем капитанский час! «Альтаир», прием!
Где-то очень далеко, за сотни зыбастых миль от флагманской плавбазы капитан и радист «Альтаира» ждут этого мига, как правофланговый в строю: их судно, их звезда — на «А», с них всегда начинается перекличка. Задавая тон, капитан «Альтаира» с привычной гордостью и задором в голосе четко докладывает обстановку; свои координаты, погоду, улов, куда и сколько рыбы сдал накануне, сколько пресной воды и топлива осталось на борту. В экспедиции десятки судов, даже по полминуты на брата — уже полчаса. Это когда все без сучка, а разве ж так бывает в море? Вот и сейчас, не дойдя еще до «Персея», радиоперекличка споткнулась: РС «Павлин» тоже потерял невод.
— Эх, мандрата пупа! — с горькой радостью воскликнул Осипович. — Еще один брат-акробат…
Саша тоже почувствовал что-то вроде нежности к «Павлину» и подумал: неужели все неудачники — эгоисты и радуются чужой беде?
— «Персей»! — отрывисто и сурово, как показалось Саше, выкрикнула рация.
И Осипович покаянным тоном пробубнил в микрофон:
— Идем в бухту Рассвет, в координатах… норд… ост, на подводной скале оставили кошелек, запасного на борту нет, по обстановке все, прием.
Рация молчала в ответ так долго, что капитан успел дать морковке шпынька под бок: проверь, дескать, не барахлит ли твоя техника. Но вот послышался щелчок, потом начальник экспедиции покашлял, затем сказал:
— Невезучим все до кучи, Анатолий Осипович. Собирайся за кошельком в Магадан. Заодно поручаю тебе и для «Павлина» невод взять. Ясно?
— Ясно, Аристарх Ионыч…
И начальник экспедиции сказал, обращаясь ко всем:
— Вот что, товарищи, лимиты строго соблюдать! Приемных мощностей не хватает. Возможно, скоро подойдут еще плавбазы. Так что лимит — мера временная. Поберегите невода для большой рыбы. «Сириус», прием!
Любить корявую, как зыбь.
Как все двенадцать баллов, правду.
Короче, жить не для парада,
А просто — жить…
Транзистор стоял на лазаретной, крашенной белилами тумбочке и громким треском грубо нарушал покой медсанчасти. Правда, кроме нас с Юрой, тут не было ни души. Темно-мышиного цвета больничный халат, полы которого все обычно задевают на ходу пятками, ему был по колено, а на обеих икрах сияли белизной бинты. Говорить нам мешал транзистор. В нем сидел, похоже, сам бог-творец и производил утреннюю поверку звезд и созвездий:
— «Альтаир»… «Андромеда»… «Возничий»…
«Звезды» моментально откликались и рапортовали градусы координат, центнеры уловов, тонны воды и топлива.
Тоскливый диалог бога-творца с капитаном «Персея» мы слушали в унылом молчании. Я, как прощения, ждал встречи «Весны» с «Персеем», Томы и Саши, Ромео и Джульетты, а она снова отодвинулась вдаль, в будущее. Юра же, видно, думал совсем о другом.
— Ты замет когда-нибудь видал? Бывал на сейнерах? — с непонятной горячностью заговорил он, когда бог, покончив с «Персеем», выкликнул «Сириуса».
Я помотал головой.
— Эх, до чего ж азартное дело рыбалка! Бегаешь, бегаешь по зыбайлу, полсуток тебя штивает, а то и больше, дело прошлое, и вот наконец косяк нашел. Хоп его! — Юра округлил ладонями воображаемый косяк. — Ну а вообще рыбалка — в радость. Как с удочкой на речке. Правда, и такая ж темная: крючок забросил и жди приключений, рыбка плавает по дну…
— Море, получается, насквозь надо видеть?
— Ясно, надо! — Юра понял меня буквально. — Да мозги, видно, у наших умников салом заплыли, как у нерпы, никак до эхолотов не доберутся. А вот на Балтике, говорят, есть уже аппараты — чуть не каждую рыбку видишь в отдельности, когда она в трал входит.
— А начальник экспедиции мудрый малый, — продолжал Юра, закурив. — Рыбак! Сразу видать, за милю! А мой шеф, ревизор, «травил» как-то на днях; не-е-кому здесь руководить, поря-а-док наводить. Критиковать, дело прошлое, мы все асы, но как до дела — тут мухи в руках у нас топчутся. А сам бы на его месте только пузыри б пускал. Шахрая вон, как терпуг акулы, боится, а ведь не матрос — второй помощник…
Я спросил, кивнув на бинты:
— Что с ногами? Давай наконец рассказывай, а то мне бежать надо, я ведь теперь на дневной. Сейчас перекур, бочку из трюма ждем.
— Да что рассказывать, ты ж слыхал, говоришь.
— Не ломайся, Юраха.
— Ну, дело прошлое… ты кокшу знаешь, Маринку?
— Конечно! — Я сразу вспомнил рослую и красивую повариху с ожиданием счастья в глазах, которая в первый день кормила нас печеной селедкой.
— Ну вот она, — Юра щелкнул окурок в раскрытый иллюминатор, — уже наша вахта кончилась, дело прошлое, я домой собирался — сиганула за борт. Вроде. Романиха ее допекла, я так слыхал потом. Мы как раз с шефом на мостике стояли, на левом крыле, замеряли на сдачу вахты температуру, силу ветра. Слышим — девки визжат. Глянь, а она уже плавает. Бот, кричу, майнай. А сам — вниз. Вот, — Юра показал ладони с запекшимися до синевы мозолями, с побагровевшей кожей, — руки пожег о релинги трапа. К борту подлетаю, дело прошлое, сапоги, ватник с себя рванул и — туда. Вода — как из холодильника. Поймал я ее за робу, за воротник (она в свитере была) и тащу на себе. Она поначалу бульки пускала, а после, видать, и хвост набок, сознание потеряла. Тяжело тащить неживое, да еще она, ты ж знаешь, девка здоровая, дело прошлое, килограммов на семьдесят пять. Волоку, а сам маты гну. Бот, бот где, думаю, так вашу растак! Уже к самому борту подгреб, дело прошлое, задубенел весь, челюсть — каменная. А это чадо, — Юра кивнул вверх, где тремя палубами выше жил ревизор, — так бота и не смайнал. Капитану звонить стал, разрешения испрашивать. Ну, а пока Шахрай расчухался, парни штормтрап сбросили и нас выволокли на палубу. Да, а там, внизу, было темно (четыре, полпятого — ночь), я искал за что уцепиться, трос нашел от пневмокранцев да ногами, дело прошлое, в нем заплелся, как осьминог. А трос-то ржавый, рванье одно, ну и вот, — Юра показал глазами на бинты. — Пусть мой дорогой шеф теперь без меня вахту тащит.
— Ну ладно, я бегу. Юра. Чего тебе принести? В обед загляну.
— Чтива притащи! Любого.
— Добро. Выздоравливай!
Спускаюсь в цех, бригада моя, гляжу, в прежнем положении, на соломенных мешках с китайской солью сидит. Курят, «травят», ждут бочку из трюма. Оказывается, лебедчика нет, его забрали на вахту вместо Юры.
— Садись, Сева! — Валентин, наш бугор, хлопнул ладонью по мешку рядом с собой. — До обеда, один хрен, делов не будет. Валяй, Гоша, дальше!
— Ага, так про шо я балакав? — продолжил Гоша, рыжий звонкоголосый хлопчина, забравшийся с правого берега Днепра на Тихий океан, чтобы «заробить на хату».
Так бы и просидели мы на мешках до обеда, если б Валентин вдруг не вспомнил:
— Слушай, Сева, да ты ж крановщиком работал, ежли моя память не барахлит!
— Отличная память, — подтвердил я.
— И молчит! — Он посмотрел на бригаду и весело-сердито скомандовал мне: — А ну-ка марш на лебедки!
— Так они же паровые! — пытался я сопротивляться судьбе, которая с этого момента была решена — я стал матросом-лебедчиком.
Поверьте мне, прекрасней специальности нет на рыбном флоте! Всегда на палубе, на крепком, как добро заваренный чай, морском воздухе, всегда видишь весь мир вокруг.
Я встал за рычаги. Чуть утопил их вниз, и лебедки загрохотали, как два трактора. Я вздернул рычаги вверх, и трактора взревели, бешено вертя барабаны уже в противоположную сторону. Пока ты не привык к грохоту паровых лебедок, он кажется оглушительным и страшным, приковывает и поглощает внимание. Нужно сразу пересилить себя и постараться забыть о нем… Затравленно озираясь на громыхающие барабаны, я забыл о гаке и шкентелях. А когда наконец вспомнил и взглянул вверх, было поздно: массивный, кованый гак легкой пташкой вознесся в небо и закрутился вокруг центральной оттяжки. В ужасе я резко нажал на рычаги, мои трактора заглохли.
— Нормально, — спокойно сказал Валентин, чуть улыбаясь одними глазами. Похлопал по лопаткам и добавил: — Ас лебедчик будешь, поверь мне.
И я поверил и стал работать. На обед я шел качаясь. А после обеда — что за странная любовь с первого взгляда — мне не терпелось вновь встретиться с лебедками. Они празднично грохотали в моей хмельной от радости голове, а руки горели, не руки, а какие-то совершенно самостоятельные и сильные существа, вдруг осознавшие свою независимость и силу. Почему же раньше, на кране, я не чувствовал всего этого?
— Где, — кричу, — наш герой?
И замечаю, что в приемной врач не один — в углу у стола сидит Маринка. Она в цветастом байковом халате, с распущенными волосами, с обнаженной для укола левой рукой. Глаза — точно у вспугнутой лани.
— Привет, Мариша! — бодро, чтоб скрыть смущение, здороваюсь я.
Она кивает мне, пытаясь улыбнуться.
В палате-каюте, которая солидно называется «Мужской стационар», остро пахнет карболкой, йодом, эфиром. Я фыркнул, и Юрка тут же проснулся, сел на койке и, как котяра, выгнул спину.
— Ох и лодырь, — говорю. — Будешь теперь сутками спать?
— А где они? — спрашивает лодырь, зевая.
— Кто «где»?
— Да сам же сказал; с утками спать.
— Ну и балаболка! — смеюсь я. — Держи вот книжку. Точь-в-точь про такого же шалопая, как ты.
Вручаю ему «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, из судовой библиотеки. Юра любит книги и, обожая в «чтиве» пружины сюжета, не пропускает и пейзажей.
— Падай, — он хлопает по стерильному пододеяльнику возле себя, — покурим.
— Нет, Юраша, — я показываю на свою робу, — куда в такой шкуре? Да и мне уже, наверно, пора. Поздравь меня: отныне я лебедчик.
— Правда? — радуется он вместе со мной. — Ари-стокр-а-ат. Так с тебя, дело прошлое, пузырек!
— Ладно, Юраха, вечером забегу. Пошел я. Дрыхни.
Да, солнце и в полдень уже не греет в этих широтах. Передернув плечами, я бодро зашагал к лебедкам. Скользкая от тузлука и чешуи стальная палуба блестит под солнцем, как лед. Лохматые тучки, видно, уже беременные снегом. Магаданские мальчишки, наверно, коньки точат. А на Кавказе начинается бархатный сезон. Велика мать Россия! А до чего превосходная сейчас пора в Подмосковье… На палубе возле трюма — пушистый ворох высушенной ветром чешуи. С шелестом ворошу ее сапогами и представляю осенний лес: живую мозаику осени: солнечные березы, осины, а сосны с елями — как стражи в черно-зеленых мундирах.
Пронзительный свист доносится из трюма. И я становлюсь за рычаги, и мои трактора грохочут. Гак ныряет вниз, в чрево парохода. Снова свист — стоп. Крик «Вира»! И я вместе с лебедками тяну вверх строп-сетку с дюжиной бочек. Шкентели — как струны. Строп степенно, как кит, всплывает из трюма и движется на левый борт. Правая рука — вниз, и один трактор глохнет. Опускаю строп на палубу и откатываю бочки с селедкой в сторону, а пустую сетку подаю в трюм за новой партией. Там, в гулкой глубине, на десяток метров ниже палубы, парни из моей бригады расстилают сетку, накатывают на нее бочки и ставят. Я жду.
Надо мной, горланя, проносятся чайки, слева по борту закатывается багровый шар, и свежая киноварь расплескалась по бугристому морю, по облакам, по белым надстройкам «Весны».
Если солнце красно к вечеру, моряку бояться нечего.
Подходит Насиров, бригадир заступающей смены. Ростом он ниже Валентина, но тоже крепко обит, коренаст и, в отличие от нашего доброго бугра, резок в движениях, угрюм и напорист.
— Много еще?
— Да нет, — говорю, — стропов пять-шесть.
— Кончайте! Нам трюм нужен, будем забивать готовой продукцией! — в черных восточных глазах проблескивает холодная улыбка. — Задел приготовили?
Сдавая смену, бригада должна оставлять задел — несколько десятков бочек с вложенными в них полиэтиленовыми вкладышами, чтобы работа по посолу рыбы не прерывалась. Валя Иванов всегда строго следит за этим. Иной раз мы увлечемся: к концу смены взвинчивается темп — хочется «добить» сотню или просто забондарить лишний десяток бочек. Но он снимает одного или двоих с процесса — мы обычно ворчим — и сам вместе с ними готовит задел. Насиров нередко «забывает» о нем. Романиха благоволит Насирову. Он бегает к ней за советами и внимательно выслушивает ее ЦУ, без которых может прекрасно обойтись. Он ходит в передовиках, его недавно снимал для газеты корреспондент. «На память, Насиров, подпиши, — приставал к нему наш Гоша, — я нею тараканов травить буду, над койкой повешу — ни один не пробежить».
— Мы-то для вас всегда готовим, — отвечаю я Насирову, — чем объяснить, что вам на задел так часто не хватает времени?
— Не твое дело! — бросает он и уходит.
Но мне сегодня нелегко испортить настроение.
Сменившись и поужинав, иду в носовую надстройку, к Юрке. Он в халате сидит на койке, читает Сэлинджера и явно ждет меня: на тумбочке стоит тарелка из-под супа, нетронутая котлета, кружка компота и мензурка с прозрачной жидкостью.
— Я дока расколол, — говорит Юрка. — Док — старый мариман. Для поднятия, говорит, тонуса. Чистоган, медицинский.
Мы опорожнили мензурку, залили огонь холодным компотом, закусили котлетой, а после этого целый час усердно накачивали табачным дымом «мужской стационар», и я слушал историю о том, как ревнивая Баба-Яга — Романиха сживала со свету Аленушку — Маринку.
Жалость, гнев, обида, жажда борьбы за справедливость клокотали и пенились во мне, когда я покинул лазарет и вышел под черное, в проколах звезд небо. На миг оно показалось мне душным бархатным колпаком, нахлобученным на пустыню палубы. Я стоял у трапа, ведущего в небо, а точнее, на верхнюю палубу носовой надстройки, еще просто стоял и смотрел, но уже понял, что сейчас поднимусь по нему, пройду под желтками плафонов узкого коридора и тихонько постучу в дверь.
— Да! Войдите! — раздалось звонкое, хотя изнутри голоса всегда звучат глухо и о них говорят «как из бочки».
И я вошел уже с невольной улыбкой, подумав: вот настоящее, человеческое.
— Добрый вечер, мой друг Том, — сказал я, может быть, с излишней нежностью.
— Здравствуйте, Сева, — просто ответила она.
Было довольно поздно, я извинился, но Тома едва уловимым движением какого-то мускула лица словно сказала: какая ерунда. Ее обычная реакция на формальность, условность.
— Был тут, внизу, у Юрки, — я не мог молчать, смущенный улыбкой, праздничностью всего ее облика. — Мы говорили… Ты знаешь, конечно… этот случай прошлой ночью… Там, в лазарете. Маринка и мой Юрка… Он столько всего мне рассказал об этом. Не могу в себя прийти…
— А я к Саше в Магадан еду, — с детским эгоизмом выпалила она. — Вот!
Господи, как светилось ее лицо, как сияли глаза, когда она протянула мне листок радиограммы.
«Жду Магадане гостинице «Центральной» люблю».
О, как ликующе гудели
Лебедки, волны, пароход,
В глазах качались мачты, стрелы.
Вертелся бочек хоровод…
«Весна» по самые мачты забита рыбой — бочками с готовой продукцией. Больше их ставить некуда. Уже несколько дней у всех на устах слово «перегруз». И вот наконец нынешней ночью, пока мы спали, плавбаза вошла в бухту Рассвет и заякорилась. Под утро меня разбудили крики и беготня матросов по палубе, резкий металлический скрежет, зычный глас старпома по спикеру:
— На корме! Крепите швартов! Так стоять будем! Выбирайте прижимной! На баке! Шевелись!
Что-то огромное навалилось на наш борт, затмило свет в иллюминаторе. Я встал, быстро умылся, нырнул в робу и вышел на палубу.
У борта стоял теплоход-перегрузчик с неожиданным названием «Оленёк». С другого борта был остров. Под сине-белыми снежными тучами, под лимонной рекой рассвета громоздились сопки — сваленные в кучу египетские пирамиды, но увеличенные в несколько раз. В глубине бухты меж сопок светлым клинышком виднелся распадок. В распадке пенилась на перекатах маленькая горная речка. Она впадала в море, и здесь, в ее устье приютились одноэтажные деревянные постройки — с десяток домиков, навесы для бочек с рыбой, крытый причал для катера-жучка и несколько барж-плашкоутов. Это была рыббаза одного из приморских комбинатов.
После завтрака объявили всем лебедчикам собраться на мостике. Впервые за три месяца я поднялся в эту морскую святыню.
В просторной — от борта до борта — и насквозь высветленной благодаря огромным лобовым стеклам рулевой рубке стояла лазаретная тишина, сияли надраенной медью и никелем приборы, рукоятки, детали. Капитан и вахтенный штурман были одеты по форме.
Я спросил, зачем вызывали лебедчиков, и вахтенный молча кивнул на дверь штурманской. Она была открыта, я вошел и увидел сидящего на диване старпома с развернутым на коленях журналом. Вблизи «страшный помощник» оказался добродушным с виду конопатым увальнем моих лет, а то и моложе. Ему по должности и традиции полагалось быть суровым, и он нахмурил лоб и строго спросил:
— Фамилия?
Я назвался. Старпом, склонив голову, как ученик, записывал в журнал, а в двери показался капитан и внимательно принялся меня разглядывать. Старпом продолжал анкетные вопросы, я отвечал, а сам, поборов смущение, тоже в упор начал изучать Шахрая. Властный, чуть ироничный взгляд, волевая нижняя челюсть, неестественно прямые, будто вздернутые плечи — он тянулся, чтобы казаться выше.
— «Весна»! Говорит «Оленек»! — рявкнула басом рация. Капитан дернулся как ужаленный и исчез за дверью. Через мгновение там что-то щелкнуло.
— «Весна» на связи! — резко выкрикнул Шахрай.
Бас тут же утратил начальственные нотки.
— А, это Геннадий Алексеевич у микрофона? Доброе утро. Говорит капитан «Оленька». Прием!
— Спите долго! — Шахрай на миг прислушался, словно ожидая эха. — Почему у вас трюма до сих пор закрыты?! У меня уже стропа с бочкой стоят! Прием!
«Оленек» начал оправдываться, но тут в штурманскую вошли лебедчики, и увалень старпом встал с дивана, кашлянул, нагоняя на себя суровость, и словно продиктовал, как учитель классу;
— Шкентеля не рвать! Больше шестнадцати бочек на стропе не поднимать! Гав не ловить! Расписывайтесь!
Он отодвинул, на край штурманского стола журнал, и мы, торопливо, передавая друг другу шариковый карандаш, расписались за технику безопасности. Я вспомнил первый день на «Весне» и подумал; такая уж здесь традиция. Но тут же понял разницу; Романиха инструктировала новичков, старпом — специалистов.
Перегруз намечено было вести сразу на три точки, то есть из трех наших трюмов в три трюма перегрузчика. Одновременно нужны были, выходит, шесть лебедчиков. Расставляя нас по трюмам, старпом записывал в журнал: Байрамов А. — «Весна» IV, Волнов В. — «Оленек» III. Я обрадовался «Оленьку», потому что хотел попробовать электрические лебедки. Так значит, третий трюм «Оленька», повторил я про себя. Отлично. Он напротив четвертого нашего, и я буду работать в паре с Алимуратом Байрамовым, асом лебедчиком. Это прекрасно!
Старпом продолжал записывать: «Весна» III — «Оленек» II… Каллиграфический школьный почерк у такого морского слона… И вдруг — я едва не подпрыгнул — он написал «Оленек» и вернулся карандашом назад, чтобы уверенно поставить две продолговатые упрямые точки над «ё». Его веснушки-конопушки засветились изнутри, так мне показалось в тот момент. И я вспомнил, что мне рассказывали про старпома. Говорили, что Романиха кричала на него «тюлень», а Шахрай называл Димой, уважал и даже побаивался.
Зыбь в бухте как будто небольшая, но «Оленька» с его пустыми трюмами раскачивает, как пластмассового утенка. Его мачты и стрелы, ни на миг не останавливаясь, скользят по утреннему небу, шкентеля, соединяющие мои и Алика лебедки, надраиваются и струнно звенят, когда строп с шестнадцатью бочками (каждая — сто сорок килограммов) плывет с борта на борт. Правда, Алик мгновенно реагирует, то придерживая, то потравливая шкентель в ту самую секунду, когда вот-вот, кажется, последует страшный рывок или, наоборот, строп заденет фальшборт во время крена. И как он успевает, черт, восхищаюсь я, следить за всем сразу: за грузом, двумя своими шкентелями, двумя барабанами лебедок (чтоб не ослаб разматывающийся трос, не свернулся колышкой) и в придачу еще за моим шкентелем и стрелой, которая выписывает вензеля по небу…
— Обед! — крикнул Алик через два борта и поднял над головой скрещенные руки: крест, шабаш, кончай работу.
Я был поражен: до чего стремительно пронеслось время! Выключил лебедку, расслабился, ощутив напряжение, которого во время работы абсолютно не чувствовал, и вдруг увидел, что сопки острова заметно порыжели. Хотя чему там рыжеть? Похоже, сплошь кедровый стланик. Но, видно, скрытая жизнь есть везде и всегда.
В столовой хвост до самой двери — вся моя бригада в очереди. Выхожу снова на палубу, на корму. Кто-то сидел уже тут: на бухту капронового троса положен кусок доски, а сверху мешок из-под соли. Сажусь, закуриваю. Море ослепительно сверкает, дробя солнце тысячью зеркал. В тени, у борта, поигрывают друг с дружкой перламутрово-зеленые волны. Изредка покажется на поверхности безухая собачья морда сивуча или нерпы. Неожиданное чувство — нежность. Мне вдруг захотелось погладить по голове собаку, даже ладонь потеплела. Одна из нерп вынырнула близко-близко, я встал, перегнулся через фальшборт и успел заглянуть в черные пытливые глаза-маслины. Нерпа громко фыркнула и в страхе спешно нырнула, блеснув упитанной левиафановой спиной. Как будто я хотел ей зла!..
Обидевшись на нерпу, иду в нос, в лазарет.
— Салют героям! — Я застаю Юру в койке. — Опять с утками спишь?
Но он сегодня не расположен шутить, лежит задумчивый, невеселый, глаза — в подволок, на груди — раскрытая книжка.
— Болят? — я киваю на ноги его, — торчащие за краем одеяла.
— Нет, — и досадливая гримаса — спрашиваешь, мол, о всякой ерунде. — Эх, Севка! — вздыхает Юра и резко поднимается с подушки, садится. — Какие гады!..
— Кто?!
— Все! — Черные молнии в глазах, сверкнув, пропадают. — Не все, конечно, но… е-е-сть.
И прорычав это «есть», умолкает.
— Ну давай выкладывай! — бодро говорю я.
— Да что выкладывать? Списывают Марину. Романиха сказала помполиту, что она по пьянке за борт упала.
— Ну и что? Ты думаешь, он послушается вздорную бабу? Не верю.
— Верь не верь, а приказ уже накатали. Усек?
— А она знает? — кивнул я на переборку, за которой находился женский стационар.
— Угу, — снова помрачнел Юра и добавил: — У нее воспаление легких.
— Зайдем? — я опять показал на переборку.
Юра с готовностью встал, обнажив свои волосатые забинтованные жерди, всунув их в расплюснутые байковые тапки, влез в халат.
— Мариша, не спишь? — заглянул он в приоткрытую дверь.
Мы вошли. Маринка была одна. Она лежала на спине, закинув руки за голову, до шеи укрытая простыней.
— Как самочувствие? — спросил я.
— Да помирать не собираюсь! — в ее голосе была лихорадочная бодрость.
— Ишь, — Юра взглянул на меня, — раздухарилась наша пацанка! А ну…
Он положил ей на лоб громадную ладонь, даже не ладонь, а попросту медвежью лапу, и закачал лохматой черной башкой.
В этот момент в коридоре лазарета послышались шаги и звуки голосов. Я поспешно сказал:
— Маринка, ты умница, молодчина, держись только так и не ниже. Мы сегодня идем сражаться за тебя. К помпе.
Вошла санитарка, держа в руках судки с обедом. Белая — от крашенных перекисью волос до сапог на белых змейках. «Докова супружница», — щекотнул мое ухо Юркин шепот. Я вспомнил о своем обеде, пожелал лазаретным узникам приятного аппетита и, выходя, взглянул на Маринку еще раз и встретил теплый взгляд.
— Мне срочно за рыбой надо, — хрипел транзистор голосом Шахрая, — а перегрузчик трюма открывает три часа, тальмана ищет…
«Дневной капитанский час», — отметил я, проходя мимо приемной лазарета, где док, как всегда, курил после обеда и подслушивал «богов».
В столовой уже было пусто. Зато мне не хватило компоту: кто смел, тот два съел, гав не лови, не раскрывай коробку… За первым столом, возле раздатки, сидели камбузницы, обедали и вполголоса болтали. Проглотив борщ, я грызанул холодную котлету, губы тут же покрылись парафином.
— Девчонки! — я развернулся в их сторону. — Привет вам из лазарета.
Они разом замолкли, как по команде, испуганно воззрились на меня.
— А мы у ней вчерась были, — сказала одна из них так, точно оправдывалась, и поджала губы.
— То вчерась, — передразнил я, — а нынче у нее воспаление легких. Знаете?
Они молчали, и я подумал, что они уже все знают — и про болезнь Маринки, и про списание, и про слова Романихи.
— Выручать Маринку надо, — сказал я, — Романиха хочет ее списать за «пьянку». Кто с ней живет? Давайте сходим к помполиту.
Молчание.
— Она вот из ейной каюты, — наконец произнесла деваха, кокетничая, и ткнула пальцем в подружку.
— Ну я, — разжала та две тонкие резинки губ. — А че говорить лада?
Я разозлился.
— Вот ты запнешься за порог на камбузе да нос расшибешь, а про тебя набрешут, что ты пила и не закусывала, да еще выгонят с работы, как это тебе понравится?
Невинный овечий взгляд был мне ответом. Лишь раза два сморгнуло это «чадо», как сказал бы Юрка.
— Да, а Марина, можешь поверить мне, тебя б не бросила, утерла б нос и заступилась.
Слова мои ее не смутили. Она еще разок затяжно моргнула и задала вопрос:
— Дак када нада ити?
— После смены, конечно, — сказал я уже в тарелку, дожевывая котлету с парафином, — после ужина.
Выходя из столовой, затылком почувствовал сверляще любопытные взгляды, невольно «услыхал» мысли камбузниц: так вот он какой, Маринкин хахаль, ишь, а мы и не знали, вот потайная-то…
Боже, до чего ароматный воздух на палубе! Это после противной котлеты и камбузных запахов. Газированный воздух!
— Ну как? — Алик Байрамов уже возле своих лебедок. Донник от бочки положил на цилиндр (он горячий, под паром) и сидит перекуривает.
— Отлично! — Я щурюсь на солнце, потом гляжу в его горячие дагестанские глаза, черные, а такие добрые — по доброте голубым не уступят — и улыбка в них совершенно детская, хотя Алику тридцать лет.
— Мне что? — говорю я и тоже улыбаюсь. — Всего одним шкентелем работать — сплошной перекур. Да еще и электрическая, — я похлопываю по мятому, ржавому кожуху лебедки, — зудит себе потихоньку, никакого пара, никакого грома.
— Э-э, — морщится Алик, — не люблю электрические, — и обеими руками гладит паровой цилиндр, на котором сидит. — Старый друг!..
Гуськом к штормтрапу потянулась моя бригада.
Пора, обед кончился. Алик поднимается, достает из кармана фуфайки зеленые брезентовые рукавицы.
— По коньям?! — улыбается.
И вот снова в воздухе плывет строп за стропом. Рычажок контроллера — на себя, и все, жди, когда барабан смотает метров двадцать шкентеля, подтянет строп. Третья скорость — последняя на электролебедке, большего из нее не выжмешь. Если б еще не бросало на зыби, то и Алик бы заскучал, а так я тяну ровно, а он все время корректирует ход стропа. Наблюдать за ним, если ты знаешь что к чему, истинное наслаждение. Вот «Оленек» валко кренится к «Весне», а строп как раз проплывает над коробом рыбоприемного бункера. Стрелы судов сходятся быстрее, чем выбирает шкентель моя лебедка, а это значит, что бочки сейчас неминуемо зацепят бункер, сомнут его. Я вижу, как чуть-чуть, почти неуловимо дрогнула правая рука Алика, и строп в дюйме от короба застывает, как приземляющийся орел, пойманный в объектив и запечатленный классным фотографом. Волна зыби прошла под «Оленьком», он стремительно валится на другой борт, а строп норовит вознестись под облака, но глаз горца-охотника зорко следит за орлом, вновь чуть вздрагивают руки, короткой пулеметной очередью отзывается его лебедка, и строп-орел зависает в небе и плавно скользит вниз. Тут уже мои владения — бочки вышли на жерло трюма, я перевожу рычажок на «майна», и груз исчезает в утробе судна. Пока оттуда не послышится свист, я майнаю. А к концу смены могу уже и без свиста работать: приходят чувства дистанции, времени, рабочего ритма и что-то еще. Благодаря этому у тебя вырастают крылья, и вот уже ты способен, кажется, взмыть… Но — стоп! Если ты воспаришь, знай — вслед за чудесной способностью интуиции явится та самая небрежность, что ведет к беде. И вот что главное — угрожает она не тебе, лебедчику, а людям в трюме, твоим товарищам.
Зыбь не плещет в борт, не вздымает белые султаны, не рассыпается жемчугами, она выгибается круглой и гладкой китовой спиной, медленно ныряет под судно, то поднимая его, то опуская. Весьма нежно. Но этого хватает для того, чтобы раскачать строп в трюме, превратить его в мячик на резинке, двухтонный мячик.
— Полундра! — кричит лебедчик в трюм, когда груз на шкентеле только приближается к жерлу.
— Полундра!! — орет он, видя, что строп из-за качки пошел «гулять» от борта к борту или, еще хуже, по кругу.
— Полундра!!! — вопит лебедчик, заметив «плохую» бочку на снижающемся стропе, бочку, неустойчиво поставленную на сетку там, в трюме плавбазы, или мокрую от тузлука и выскользнувшую из своего шестнадцатирядья во время подъема.
Двухтонный мячик на резинке, не видимый тобой, мотается по трюму, норовя сбить уже стоящие там бочки, врезаться в борт, зацепить и сорвать доску обшивки или стальной трап на трюмной переборке. Смертоносный летающий мячик…
Ты стоишь наверху, на верхней палубе, а печенкой чувствуешь, как оно там, в трюме, в гулкой глубине, и гак — будто кончик твоих нервов.
Путь — катать бочки по трюмам и лишь потом становиться к лебедке — единственно верный путь, что называется, от господа бога.
Я сказал; гак — кончик твоих нервов. Это так, поуправлять им в полной мере можно только на паровых лебедках. Почему? Да просто потому, что они бесхитростнее электрических. Ты оживаешь, работая на них, руки ощущают пульс лебедки, живой трепет пара. И этот пульс, как все живое, вызывает в тебе ответный звук, взаимность. Здесь же, на электролебедке, ты — почти безучастный нажиматель кнопок: щелкнул рукояткой контроллера, и в нем защелкали десятки релюшек, контакторов, затрещали, заныли под током, одни катушки намагнитились, другие размагнитились, и вот, наконец, противно гудя, лебедка набирает скорость. Рукоятку — на «нуль», и снова трещат челюсти контроллера, клацают зубы контактов и, наконец, тормозят электромотор.
Нет, зовите меня как угодно — консерватором, мракобесом, но мои симпатии останутся там, на «Весне», на стороне живых паровых лебедок. Теперь я понял, почему не испытывал хмельной радости великана — обладателя всемогущих рук, когда работал на кране, а сразу почувствовал это, став за рычаги паровых «скорострельных» лебедок. Меж ними такая разница, как между юношеской и стариковской любовью.
Вираю пустую сетку из трюма, она застроплена одной гашей, вторым концом болтается, и поэтому приходится поднимать ее под самый блок. Алик в это время набивает, то есть выбирает, натягивает свои шкентеля. Я слежу. Как только исчезает слабина, перевожу рукоятку на «майна», на третью скорость, и для меня на полминуты, пока сетка доплывает до Аликиного блока, наступает перекур.
С утра островной катер-жучок пошел в Магадан. Он подходил к борту «Весны» и взял пассажиров, в том числе и Тому. Отсюда пять часов ходу до бухты Нагаева. Так что они уже встретились. Понятно, я ревную к Сашке, завидую ему. Но это — так, без всяких.
Сетка нырнула в трюм плавбазы. Стопорю лебедку и успеваю додумать свою мысль: молодец, Томка, дождалась своего счастья.
Еще до ужина я заглянул на минуту в лазарет. У Юры сидел усатый матрос-лебедчик, который заменил его на вахте и которого, в свою очередь, заменил я.
На тумбочке лежали луковицы и яблоки. Это усатый получил с материка ко дню рождения.
— Садись! — широким жестом пригласил именинник. — Скажи хоть, как мои лебедушки там без меня?
— Спасибо, хлопцы, по не могу; к помпе сейчас идти. Он знает, — я кивнул на Юру.
— Ага! — подхватился он, захлестывая пояс халата. — Я тоже с вами гребу туда.
— Куда? — я увидел, что повязка у него осталась лишь на правой ноге, а на икре левой бугрились красно-синие пересекающиеся шрамы. — Людей пугать. Лежи, успеешь еще, без тебя пока справимся. Скажи лучше, где доктор?
— А только вот слышали! — кивнул он на усача, словно призывая его в свидетели. — Вот сейчас с супружницей в коридоре аукался.
— Точно, минут пять тому, — подтвердил усатый. — А ты лежи, лежи, наскачешься еще, какие твои года…
Юрка послушно расслабился, снова сел на койку и порекомендовал, будто для собственного успокоения:
— Док — старый мариман, он пойдет, пойдет, — и мотнул черной шевелюрой на переборку, на «женский стационар», — за нее пойдет. Она девка что надо!..
В столовой я подсел к матросам, изложил план похода, и двое без всяких уговоров согласились идти защищать повариху, которая пользовалась, надо сказать, самой бескорыстной любовью у экипажа «Весны» — за вкусный харч, за то, что была свой парень.
Втроем было веселей. Мы позвонили из красного уголка доктору в каюту, и нас не обескуражило даже то, что он пробубнил в трубку с явной неохотой:
— Я предварительно позвоню ему, — это о помполите. — Я все-таки не понимаю, что, собственно, от меня требуется. Я всего только врач…
Честно говоря, о нашем походе мне и рассказывать не хочется. Камбузница была, конечно, «всего только» камбузницей, и резинки губ ее так и не разжались за все время разговора. Матросы клялись, что Маринка, когда они ее подняли на палубу, «ничем, кроме моря, не пахла». Но клялись слишком горячо, и веры им, я видел, почти не было. Зато док, «всего только» док, когда на него чуть-чуть придавили авторитетом Романихи, пробормотал с бараньей искренностью и наивно вылупленными рыжими глазами:
— Да вроде винцом маленько попахивало.
Это и решило дело, хотя я много и, по-моему, очень доказательно говорил и договорился до того, что сам стал доносчиком, ляпнув, что в лазарете, дескать, вообще держится стойкий запах «спиритуса вини» и потому немудрено ошибиться в источнике попахивания.
— Приказ я еще не визировал, — после тягостного молчания четко проговорил помполит, напряженно задумчивый, с грустными черными бровями, сведенными на переносье. — И пока воздержусь. Советую вам, — он посмотрел на меня, — сходить к капитан-директору. Смелее! — его глаза тронула улыбка. — Он не съест.
В глубокий трюм спустись.
Взойди на мостик.
Прислушайся к работе дизелей —
И ты на корабле не будешь гостем,
А будешь дома ты на корабле.
Проходя по палубе, я услыхал шум возни, заглянул в трюм. Дрались двое. А отсюда, сверху, хорошо было видно: в занесенном кулаке Насирова блеснул комок скоксовавшейся от влаги соли, и руки их окрестились над головами — они сошлись в клинче. Вологодский Коля не уступал кавказцу, даже опередил сейчас. И дивно было видеть его, северянина, всегда уравновешенного, всегда вразвалочку, таким быстрым и порывистым. Я хотел криками остановить их, но не тут-то было, и я рванулся к трюмной тамбучине. Внизу, в трюме, стояло человек пять парней из нашей бригады. Они серьезно наблюдали драку, и один спокойно сказал мне:
— Не мешай.
Другой прибавил, кивнув на чужого бригадира:
— Ему это на пользу. Может, в другой раз свиньей не будет. А то, глянь, «забывает» все.
Дрались они за дело. Кровным делом бугра было расставить людей так, чтобы перегруз и выпуск готовой продукции — эти две работы — одна другой не мешали. Насиров же опять не оставил нашей смене задела, сославшись на перегруз.
— Коля сдавил руку Насирова так, что камень выпал из его пальцев. Выпустив руки противника, Коля отпрыгнул назад и изготовился к удару. Но Насиров неожиданно рухнул Коле в ноги и прижал их к груди, как нечто самое дорогое. Хохоток взметнулся из трюма. Но ржали наши преждевременно.
— Коля! — крикнул я. Но он уже упал на спину, и я поспешил ему на помощь.
Насиров прямо с корточек бросился на грудь поверженного врага и вцепился бы, наверно, зубами в его глотку. Но, ухватив жесткий от соли воротник, я оторвал Насирова от Коли. И Коля с трубным кличем «глумишься?!» вскочил на ноги. Насиров ударил меня, что называется в боксе, вразрез, лицо мгновенно загорелось. Я тряхнул кавказца за воротник и затем швырнул на палубу. Во мне загоралось бешенство, трепетало забытое живое чувство гнева. Насиров не поднимался. Подлая лиса! Но вот он привстал на одно колено и как ни в чем не бывало принялся отряхивать штанину от соли. Наверное, он отлично видел сейчас всю сцену со стороны: Коля и я стоим в стойке, сжав кулаки и широко расставив ноги (чтоб уж теперь не обхватить!), а он, командир-бригадир, являет собой жертву агрессии.
— Хватит! — привычно властным тоном бросил Насиров, все еще не поднимаясь, и чтобы окончательно охладить, обезоружить противников, сменил ногу и тщательно очистил от соли вторую штанину.
Колины кулаки разжались. Наивный и великодушный боец наш всем своим видом сейчас будто говорил: «А че он? Я — за дело, а он меня — за ноги!» Тем временем Насиров медленно поднялся, но для верности еще раза два, не разгибаясь, провел руками по чистым уже штанам, повернулся, словно невзначай, спиной к нам и подчеркнуто спокойно пошел прочь. Пересекая невидимую черту арены, полуобернулся и бросил через плечо:
— Ладно, в другом месте разберемся!
В трюме появилась широкоплечая фигура Валентина, нашего доброго бугра. Он быстрым взглядом окинул ристалище, оценил обстановку.
— Хорош, парни, бузить! Некогда! Сегодня нам не меньше семисот бочек надо сделать. По местам!
Я покинул поле боя и, уже спускаясь по штормтрапу в клокочущее ущелье между стальными бортами, услыхал бодрый голос диктора из динамика на мачте:
— Во Владивостоке шесть часов. Доброе утро, товарищи!
Охотоморская сельдевая экспедиция живет по «питерскому», то есть по петропавловск-камчатскому времени, и значит, у нас — ровно восемь.
Клепаные стальные стены, как и вчера, медленно сходились и расходились. Под ногами, под страховочной сеткой, дергались на цепях, взбрыкивали черные туши пневмокранцев, угрожающе всхрапывало зажатое в тиски море. Противное, сосущее чувство всегда на миг возникает где-то внутри, когда вот так, в одиночку, ползешь по штормтрапу с судна на судно. Кажется, старуха-смерть берет тебя за шиворот холодными костяшками пальцев и скалит черный щербатый зев. «Жить! — кричит в это краткое мгновение все твое существо. — Жить! Жить!»
В трюме «Оленька» моя бригада уже катала бочки, при этом на редкость дружно поминала имя господа бога, тесно повязав его с Насировым. Я вгляделся и понял, что и тут — за дело, потому что ночная смена натворила вот что; во-первых, забила бочками просвет трюма, то есть сделала самую легкую работу, оставив нам тяжелейшую — катать под забой; во-вторых, и эту их работу нужно было теперь переделывать, так как они не оставили нам даже площадки, на которую майнается строп; а в-третьих, здесь стояла полная бочек строп-сетка, опущенная, видно, уже в последний момент для того, чтобы вздуть цифирь, внести ее в наряд, короче говоря, урвать. Дюжина бочек — это мелочь, но она была той каплей, что переполняет чашу. И вот мужики теперь раскатывали эту дюжину и по-рабочему громко и прямо судили о совести сменщиков. А надо вам сказать, что это чертов, кусок работы — катать бочки под забой. Под забой — значит, в три погибели, в пространство-щель между последним поднявшимся шаром и палубой, которая низким сводом нависает над тобой, когда ты почти на коленях, как забойщик в старой шахте, ползешь по мокрым доскам, катя перед собой одну, за ней вторую, потом десятую, сотую бочку. А докатив до места, ее нужно еще поставить «на стакан», и это-то труднее всего: ведь сам стоишь на коленях да и бочка уже цепляет головным обручем свод, откуда сыплется за шиворот лед и снег, потому что трюм не сухогрузный, а рефрижераторный.
Качает сегодня сильнее, чем вчера. Зыбь набрала мощь, стала круче. Видно, подошла пора осенних штормов, и в открытом море ночью уже вовсю, как говорят моряки, кордебалетило. В бухте ветра нет, но вон на мысах кажет белые зубки, щерится под солнцем добродушное издалека море.
Даже на электрической лебедке сегодня надо быть внимательней. Стрелы «Оленька» резвятся, как рожки юного игривого оленя, а рога матерого вожака — стрелы «Весны» медленно и неодобрительно покачиваются. Я вираю полный строп уже не на третьей, а на второй скорости, чтобы в трудный момент, когда «Оленек» неожиданно даст свечу на особо крутогорбой волне, выправить дело с помощью этой, оставленной про запас, третьей скорости. Потому что Алику теперь, даже с его «скорострельными» лебедками и опытом аса физически невозможно одному справиться с пляшущим стропом.
Мы с Аликом отлично сработались. Я понимал его с первого слова, он меня — с полуслова. Алик порой как бы «подталкивал» меня, этак легонько, точно мать детеныша, который учится ходить.
— Внимание! — ожил спикер на борту «Весны». — Радиомолния! Новая трудовая победа на перегрузе. За прошедшую ночь бригада Насирова перегрузила на борт рефрижератора «Оленек» 1300 бочек готовой продукции. Поздравляем вас, дорогие товарищи, с высоким трудовым достижением! Так держать!
Это говорил помполит, и передо мной невольно возник черный ежик бровей и упорный, волевой взгляд. Если б вы знали, товарищ комиссар, цену этой победы. Ведь из сводки, которую Романиха исправно каждое утро кладет вам на стекло стола, очень многое не видно. Как вот сейчас мне отсюда, с высоких ростров, не видать парней в трюме, ползающих под забой на коленях.
Обед у нас с двенадцати до часу, но уже полпервого объявили нашей бригаде собраться в каюте завпроизводством. Парни «трясли мозгами», за что же такая честь. И лишь когда мы набились в просторную приемную Романихи и увидели сидящего там Насирова, все стало ясно.
Романиха смотрела на нас красными от бессонницы глазами (перегруз — работа ответственная, ей не до сна).
— Кто был при драке в трюме, остаться.
Бригада зашевелилась, затопала в дверях, и скоро в каюте осталось всего несколько человек.
Романиха, не садясь, рванула белую телефонную трубку, набрала двухзначный номер и сказала всего одно слово!
— Зайди!
Через минуту вошел Шахрай. Как всегда, он был в капитанской форме, но необычно жизнерадостен. Улыбка в серых стальных глазах совершенно преображала его нервное, бледное лицо и очень гармонировала с золотополосыми капитанскими погонами на прямых, как рея, плечах. Он сел у стола, рядом с Насировым, продолжая улыбаться далекой улыбкой, отзвуком какого-то приятного и веселого разговора. И даже крабий взгляд Романихи, холодный и укоризненный, не смог до конца погасить ее.
— Ну что, гвардейцы, — начала Романиха, — два в драку, третий — в с…?
Мне показалось, она смотрела при этом только на меня, и я по обыкновению ответил ей пристальным взглядом. Моложавое для сорокапятилетней женщины лицо ее напомнило мне мордашку одной девчонки-сортировщицы из нашей бригады. Та точно так же, хоть и на четверть века была моложе, умела материться с совершенно целомудренной физиономией, ругалась за дело, и это ей даже шло. «Не заглядывайся на Катю Шахрай», — вспомнил я совет Невельских старожилов и непроизвольно улыбнулся.
— Чего лыбишься? — тут же вскинулась на меня Романиха.
— Вспоминаю, — соврал я, — как Насиров обнимал его ноги.
Я кивнул на Колю, и она обратилась к нему:
— Что, бугай, кулаки чешутся?
Коля исподлобья с вызовом взглянул на нее, снова потупился и медленно, вперевалку, сменил ногу.
— Чем ты недоволен? — не отставала Романиха. — На берег захотелось?
— Да списывай, че уж, — раздув ноздри и не поднимая глаз, проговорил Коля.
— Романовна, — поспешил вступиться Валентин, — я говорил вам раньше, что его смена, — он мотнул головой в сторону сидящего Насирова, — не оставляет задела? Говорил.
— Не помню, — сказала Романиха.
Валентин замолчал. Молчание было грозным. Стал слышен перестук бондарных молотков за иллюминатором.
— Ну ладно. — Романиха опустила глаза и занялась ногтями, давно не знавшими маникюра. — Дальше что?
— А дальше вот что! — продолжал бригадир, хрипло рубя фразы. — Мы каждую смену! Не дорабатываем сколько-то бочек! Чтоб подготовить сменщикам цех! И сделать задел! А они нам — вот! — Валентин свернул мощный кукиш и ткнул в сторону Насирова. — Они «забывают»!..
— Они, так и есть, азартней вас работают. — Романиха почти с любовью глядела на черную насировскую голову, — что ж тут удивительного?
— Да они оборзели! Азарт на чужом горбу! — не выдержал один из парней. — Вот идем сейчас в трюм, Романовна, сами поглядите: просвет забили — где полегче, за рекордом гонят, а нам — под забой…
— А ты молчи, гвардеец! — обрезала Романиха. — Тебя пока не спрашивают.
— А че затыкать? — поддержал другой, сорокалетний матерый мужик. — Совесть он на Кавказе оставил, — кивок на Насирова, — а тут работать надо, не рвать!
— И ты помолчи! — привычно огрызнулась Романиха.
Насиров при упоминании о Кавказе встрепенулся, поднял голову. И это словно разбудило всех сразу. Заговорили нестройным возбужденным хором.
— Совести нету!..
— Всю путину — одно…
— Гнать таких из бугров!
— С флота вообще…
— Тихо! — рявкнула властно Романиха.
И тогда встал Шахрай. Простер руки перед собой, и восемь золотых капитанских нашивок, по четыре на каждом обшлаге, как Нептунов жезл, вмиг усмирили зыбь.
— Базар, ребята, кончайте, — спокойно и твердо сказал он. — Идите работать. А ты, Катя, накачай мастеров, чтоб смотрели за сдачей смены, за этим, — он кивнул на Насирова, — «рекордсменом».
Глаза у Романихи побелели. И все же она сдержалась, только отвернулась к столу и сплюнула (на ее «тьфу» уже никто не обратил внимания) и принялась нашаривать под бумагами свои папиросы.
Мы гуськом протолкнулись в дверь и двинулись по узкому коридору к трапу. Передние, загрохотав сапогами по ступенькам, уже смеялись, радуясь быстрой разрядке. И вдруг за моей спиной раздалось;
— Волнов!
Я остановился, как пригвожденный. Капитан подошел, глядя мне в лицо с откровенным любопытством в упор, как вчера на мостике. И неожиданно взял меня под руку.
— Зайдем, — Шахрай указал на дверь своей каюты. И мы пошли. Домыслы одолевали меня все эти два десятка шагов.
Быстрым взглядом окинул я шикарную каюту — панели и стол красного дерева.
— Садись, — сказал Шахрай.
Я опустился на край дивана.
— Не знал я, что у меня на борту свой, так сказать придворный, поэт есть, — с улыбкой продолжал Шахрай. И тут я увидел в его руках свою «Стрелу в небо».
— Придворным никогда не был, — пробормотал я в палубу, но быстро поднял голову, услышав звук, похожий на приглушенный зуммер. Это заработал репитер руля на переборке, стрелка его ползла по циферблату: плавбаза разворачивалась.
— Ладно, ладно, я пошутил, — сказал капитан. — А пишешь ты — молодец… Особенно этот вот, «Бригада нулевого пирса», мне понравился. Отличный стих! — Он открыл страницу:
— И смотрит грузчик Робинзоном на выходные маяки… Работой, потом стихи пахнут. Хорошо… И море чувствуется настоящее, не взбитое, как сливки, из пены и чаек…
— Мерси, — бормотнул я.
— О рыбаках, наверное, новую книжку задумал, да?
Я кивнул.
— Ну, если что надо будет, — серьезно и даже чуть застенчиво сказал он, — приходи прямо ко мне, без всяких. Хорошо?
Меня вмиг осенило; Маринка! О ней! Именно сейчас! Я поднялся:
— Очень благодарен, Геннадий Алексеевич. Как раз кстати ваше предложение. Я к вам именно и собирался…
Резкий телефонный звонок вонзился в мягкую тишину каюты. Шахрай поднял трубку, а я уставился в светлый квадрат иллюминатора, выходящего на бак, где боцман возился у брашпиля.
— А «Оленек» предупредили, что ход даем? — говорил капитан. — Добро. — Он положил трубку и посмотрел на меня. — Слушаю!
Пока смотрел в иллюминатор на боцмана, я вспомнил весь разговор в каюте помполита, слова доктора о «винце» и, решив, что борьба за Маринку предстоит нелегкая, начал издалека:
— Геннадий Алексеевич, что вы скажете о Рублевском?
— Это который рыцарь-то-спасатель? — глаза Шахрая опять тронула легкая ирония. — Объявлю ему благодарность. Стоящий моряк… А вот что с его «крестницей» делать, право, пока не знаю…
— Мы дружим все трое, — обрадовался я. — Я хорошо знаю Марину, Геннадий Алексеевич, и поверьте мне, это бессовестная сплетня, что она пьет.
Капитан сел за стол, придвинул скользнувшую по стеклу бумагу, стал молча перечитывать. Мне сверху видно было, что это приказ о Маринке.
— Коновал заявил, что от нее пахло вином, — почти скорбно сказал капитан, не поднимая от бумаги глаз.
— Да он в этом, Геннадий Алексеевич, как золотарь в духах разбирается, — выпалил я.
Он взглянул на меня и снова уткнулся в приказ. И вдруг точно черт дернул меня за язык.
— Он Романихи боится, — ляпнул я, осекся и уже по инерции добавил: — Вот и врет.
Шахрай медленно поднял на меня удивленные глаза. Несколько бездонных секунд стальные глаза сверлили меня. Я выдержал этот взгляд и увидел превращение холодной стали в живое воробьиное тепло.
— А если она еще раз сиганет за борт?
— Я вам могу гарантировать, честное слово, этого не случится! — поспешно сказал я.
— Ишь ты! — Шахрай улыбнулся.
«Ура! Победа!» — радостно всплеснулось во мне и вылилось наружу несолидной улыбкой.
Он встал, прищурился, подвигал рыжими бровями, покачался с пяток на носки и раздельно, но словно обращаясь к самому себе, сказала:
— На флоте, слава богу, существует еще принцип единоначалия.
С этими словами Шахрай взял приказ, торжественно разорвал его вдоль, затем несколько раз поперек и протянул маленький пухлый квадратик мне.
— Держи на память, поэт… Ну а шефство над шефом, — и он подмигнул мне, — не оставляй: добрая дивчина.
В море просто нельзя иначе.
Не прожить стороной.
Если камень на сердце прячешь.
Тянет сердце на дно.
Послеполуденное сентябрьское солнце косо ударило в глаза, когда я вышел на палубу. Шары бочек, стоявшие здесь, перекочевали уже в трюмы «Оленька». Здесь ждали аврала желтые разбитые донники, сплющенные обручи, щепа от сепарации, клепка и раздавленное серебро селедин. Обильно политая тузлуком, палуба парила. Встречный морокой ветер трепал ядовитое марево, уносил за корму. «Весна» под ручку с «Оленьком» топала за рыбкой. Молчали лебедки, раскачивался над трюмом гак на шкентелях, поскрипывали швартовы, и было слышно, как кипящая пена от форштевня, шипя, бежит вдоль борта.
Я подошел к планширю, перегнулся, поймал лицом ветер. «Наташка, я думал, что излечился от тебя… Полгода… Уже полгода разделяют нас… У нас оставалась последняя пятерка, помнишь, и неделя до получки? Настроение было под стать февральскому небу. Небо заглядывало в окно, серое, сумеречное уже в пять часов. Наше раздражение искало выхода. Мы поругались. Как всегда, из-за ерунды. Ты надела синее свое пальтишко (как шло оно к голубым глазам) и хлопнула дверью. А через час вернулась, словно побывала в весеннем лесу, живая, веселая. В руках у тебя обернутая шарфом была японская лилия в горшке, великолепный белый цветок. На сдачу ты принесла пачку сигарет и два плавленых сырка. Как я целовал тебя тогда!.. Наташка, Наташка, твердил я, в то же время чувствуя, что это имя, все еще дорогое, уже не вызывает спазмы, как раньше. — А назавтра, я помню, Наташка, нас с тобой пригласили на день рождения, и я терзался: что же подарить? А ты молча подошла к цветку и без колебания срезала его. И наш подарок вызвал детскую улыбку на лице именинника…»
Закрыв глаза, я глубоко вдохнул холодный йодистый настой и пошел в свою каюту.
Едва тронул дверь, как она сама открылась. Была, похоже, под давлением: в каюте «травля» на полный ход и, разумеется, дымзавеса. Здесь и Ромка, и Юрка, которого сегодня только выписали из лазарета, и вдобавок оба брата-акробата не спят. Братья — аборигены каюты, наши с Юрой сожители. Утром я ухожу, а их еще нет, вечером возвращаюсь со смены, а они уже ушли, так и видимся — в дни простоя, то есть когда нет рыбы, да иногда в обед. Иван и Лешка их зовут. Они походят на близнецов, но Иван на три года старше, ему 27. Лешка его почему-то зовет Малыш, и с легкой руки младшего брата прозвище закрепилось за Иваном. Рыбачат братья уже третий год. У младшего на «Весне» есть даже зазноба. Между прочим, та самая камбузница, что живет с Маринкой: «Дак када ити нада?»
Малыш и Юрка устроились на койке, играют в шахматы. А Лешка с Ромкой болтают. Юра обращается ко мне:
— Что там вас Романиха трясла?
Четыре пары глаз ждут от меня последних известий, и я выкладываю все, что было в каюте завпроизводством.
— Насиров молодец, — тут же делится своим убеждением Лешка. — Бугор такой как раз и должон быть.
— Но он же подлый! — возмущаюсь я.
— А это его дело, — невозмутимо отвечает Лешка. — Главно, чтоб толпе было хорошо…
— Насиров такой, — говорит Ромка, — если закурить попросил, так ты ему всю пачку отдай.
— Бугра, Пацан, поважать надо. Секешь? — И Лешка пускает в Ромку вихрастый конус голубого в солнечном луче дыма. — Хотя и в кино, к примеру, стул ему уступишь, с тебя не отвалится.
— А скажет: жену давай, — хмыкает Ромка, — так ты тоже уступишь?
— Овцу-то свою? — индюком надувается Лешка. — Пожа-а-луста.
Каждый получает то, что заслужил, мстительно думаю я об «овце». Потом резко выдергиваю из-под койки чемодан (с месяц, наверно, не открывал). Под рубашками, под папкой со стихами лежит зеленый лист сахалинского лопуха, сложенный вчетверо, сморщенный, ссохшийся. Но весь чемодан от него пропах чудесными земными запахами — дождями, грибами, осенней листвой. Достаю его, осторожно — прячу за пазуху и выхожу.
Все так же мерно качается гак на шкентелях, ветер усилился и гоняет по палубе кору и щепки от горбылей сепарации, слышнее шумит пена вдоль борта. Соленый дух моря сразу перешибает волшебные запахи лопуха.
Лазаретную тишину нарушает лишь хлюпанье волн в бортовую обшивку. Низкий, грудной голос Маринки звучит непривычно звонко:
— Проходи, Сева, чего стал? Садись.
Она в байковом халате лежит поверх одеяла с журналом в руках. Я сажусь на койку напротив.
— Господи, — спохватился я, — да я ж тебе принес чего-то.
И извлекаю из-под свитера лопух. В ее глазах — удивление. Маринка нюхает лист, закрывает глаза. За сотни миль от того места, где рос, лист одним своим запахом мгновенно воскрешает землю, сырую от только что прошедшего дождя, и здесь, посреди моря, в судовом лазарете, это кажется волшебством.
«Эх, на берег бы! На землю! Хоть на час!» Я подавляю вздох. А Маринка, мечтательно улыбаясь, прижимает лист к груди, снова нюхает, зарывается в него лицом. Она садится, на койке, запахивает на коленях халат. Ослепленный мелькнувшим на миг белым видением девичьих ног, ощущаю, как перехватывает дыхание, судорожно сглатываю комок и смотрю ей в глаза невольно жадным, бесстыжим, наверное, взглядом.
— Че уставился, — сразу реагирует Маринка, и в глазах уже никакого неба, а только обычная насмешка. — Ох мужики! Хоть водолазом одевайся с вами. Бабье колено увидят и трясутся.
Я хохочу, чтоб скрыть смущение. Откровенная девка, думаю, молодец. И чувствую, как все больше и больше мне нравится эта крепкая, розовощекая дивчина с ее непосредственностью.
Потом рассказываю ей о разорванном приказе, о Романихе, о драке. И она слушает с таким живым интересом, что мне хочется ей рассказывать еще и еще.
— Спасибо, комиссар надоумил сходить к Шахраю. А то твоя подруга, — и я сжимаю губы, передразнивая ее сожительницу, — рта не раскрыла. Вот была бы Томка Серегина на ее месте… Жаль, уехала…
— Куда? — удивляется Маринка, и я тут же выкладываю ей всю историю Саши и Томы, начиная с межрейсовой гостиницы во Владивостоке, где мы сошлись тогда все трое, каждый со своей болью, и кончая романтической радиовстречей Влюбленных, Сашкиной радиограммой и отъездом Тамары в Магадан.
Слушает она, буквально раскрыв рот. Глаза у нее совершенно синие, не голубые, а именно густо-синие, как предзакатное небо над морем.
Я чувствую, что говорю не то, замолкаю…
Раздаются шаги в коридоре, стук в дверь. В палату входят девчата — Маринкины подруги. Я прощаюсь и ухожу, почти счастливый.
Волна без сна плескала в днище,
Нептун-старатель дело знал —
Он души промывал до дна,
И наши души стали чище.
С неделю уже идет снег. И это в октябре. Сильный ветер, хвост тайфуна «Рита» (970 миллибар, 20 узлов к норд-осту), гонит по морю приземистые, но могучие зеленые холмы со снежными вершинами и белыми змеями вдавленной в воду пены. Под скалами дикого полуострова Кони укрылось от шторма больше десятка плавбаз и около сотни траулеров и сейнеров. Один из них — PC «Персей», невезучий пароход.
Когда стоишь носом на волну, качает только килевой качкой. Но столы в кают-компании сейнера расположены вдоль судна, и потому пустые кружки, позвякивая, вперегонки гоняются по клеенке то в одну сторону, то в другую. Саша пьет свой предвахтенный чай и слушает травлю.
— Ну, считай сам, — выступает морковка, он загибает пальцы. — Июнь — рыбы не было, раз! Июль вот только нормально сработали, это два. Август — уже сдачи не было, три! Сентябрь — в диком прогаре: кошель гробанули? Гробану-у-ли. В Магадане — неделю выдре под хвост? Под хво-о-ост. Это уже будет четыре. Так? Октябрь — пожалуйста, только новый кошель обмакнули, погодка пошла, вон, — кивнул морковка на иллюминатор и скрутил крепенький кукиш, — пять! Вот тебе и весь толстый морской заработок.
Точно подтверждая слова радиста, взвыла «Рита» за бортом, свистнула в два пальца, тряхнула «Персей» с борта на борт и понеслась дальше. Третьи сутки чинит разбой в Охотском море. «Золотая стала рыбка, не серебряная», — думает старпом. Позавчера в тридцати милях отсюда в пятнадцать часов по камчатскому времени погиб рыболовный сейнер «Сириус». Он был полон рыбы и вдруг намотал сеть на винт.
В течение считанных минут неуправляемый сейнер, захлестнутый мертвой, тогда еще безветренной зыбью, перевернулся и затонул. С ближайшей плавбазы видели, как несколько мгновений еще держались на плаву бочки, ящики и исчезли в семибалльном штормовом море…
На мостике сейчас не вахта — скука. Даже рация на переборке, всегда живая, орущая на все голоса, сейчас лишь сонно похрипывает разрядами, молчит. И создает особый, тоскливый уют.
Вахтенный матрос привалился боком к электрогрелке на левом борту и через ветровое стекло, в котором бешеными металлическими опилками вызванивают снежинки, смотрит вниз, на бак, завороженно следит, как изредка подергивается в клюзе туго натянутая якорь-цепь. Саша достает из ящика бинокль. Седые космы «Риты» низко несутся над смятым, раздавленным ведьмой морем, но даль светла, точно акварельный мазок, словно выход из пещеры. Пляшут в окулярах такие же, как «Персей», малыши беспризорники, глыбятся на могучих якорях, будто врытые, плавбазы. Саша ищет контуры «Весны», знакомые теперь до каждой черточки-вантины. Во-о-он она, милях в трех, чуть мористее.
Саша кладет бинокль на место, а чтоб болтанка не донимала, тоже приваливается к борту и смотрит в голубеющую полоску дали, усеянную черными продолговатыми силуэтиками судов.
В тысячный раз, наверное, вспоминается Магадан, город на семи холмах. В центре, у почтамта, где высится здание треста Северовостокзолото, разбит сквер. Медная листва кустов выстелила землю, скамейку. Теплый осенний день конца сентября был словно отпущен им с Томой по милости самого колымского бога. Тома не сразу привыкла к нему. И Сашке порой становилось страшно от ее пристального взгляда: что если она прощается с ним?..
Как он возмужал на своем сейнере, думала Тома, чувствуя себя неожиданно маленькой и слабой в его руках. Он с каждым часом, с каждой минутой любил Тому все сильней, удивлялся, каким же он был слепым там, во Владивостоке.
Однажды вечером в гостинице он сидел в глубокой задумчивости, весь ушедший в себя. Тома на диване читала книгу. И вдруг он услыхал сдавленные рыдания. Мгновенно обернувшись, увидел прижатое к коленям, к книге ее лицо. Бросился к ней, опрокинув стул, в страшном испуге выдохнула.
— Том, глупый, что? Говори же!..
Она резко отняла от книги лицо в слезах.
— Ты не меня! Ты ее любишь! Я все вижу! Я смотрела сейчас на тебя! Да! И не ври! Я вижу!
— О море в Гаграх! — Он облегченно вздохнул, улыбнулся и провел ладонью по ее теплым волосам.
За его спиной ожила рация — заскрипела, закурлыкала. Шевельнулся в своем углу матрос, проговорила.
— 19 часов, Сергеич. Капчас начинается.
Саша вздохнул, окинул взглядом бухту, ископыченную «Ритой», увидел, как «Весна» расцвела огнями, а за ней и другие базы включили палубное освещение, щелкнул пакетником на кормовой переборке — на баке вспыхнула лампочка якорного огня, удобно облокотился на штурманский столик, застланный рабочей картой Охотского моря, и приготовился слушать радиоперекличку.
Хлопнула дверь, дохнуло снизу теплом, в рубку поднялся капитан. И в ту же секунду из рации раздалось:
— Добрый вечер, товарищи! Начинаем капитанский час!
И снова, как всегда, звезды и созвездия в строгом порядке рапортовали своему небесному пастырю координаты стоянок, просили воды и топлива, жаловались на «Риту», на рваные невода.
— Все рвем и рвем, — не удержался Осипович, когда третий сейнер доложил, что его кошелек требует ремонта, потому что выбирали его, «когда уже вокруг свистело» и был он полон рыбы.
Подошла очередь «Персея», и Осипович взял микрофон:
— На связи «Персей». Добрый вечер всем. Как слышно нас? Прием!
— Отлично вас слышу, Анатолий Осипович! Как самочувствие? Надеюсь, в добром здоровье? Прием!
— А, спасибо, Аристарх Ионыч. — И капитан улыбнулся в трубку. — Слышу вот, кошельки рвем без пользы. Обстановка: стоим на якоре, в прежнем положении, топливо есть, вода тоже. Настроение рабочее. Была бы погода да сдача. Прием!
— Все будет, Анатолий Осипович, уже могу обещать. Циклон смещается на норд-ост, уходит «Рита» двадцатиузловым ходом. Прогноз на завтра отменный. Все слышали? Но предупреждаю: на лов не торопиться, зыбь уляжется только к вечеру. Повторяю: не рисковать. Теперь относительно сдачи — идет на промысел плавбаза «Анатолий Луначарский». Так что, товарищи, у кого нелады с планом, не отчаивайтесь, работайте спокойно, можете брать обязательства к полста восьмой годовщине Октября. Всем дадим выполнить! Ясно? «Си…»
— Нету его, Ионыч, — тихо проговорил капитан, печально глядя в светящийся полукруг шкалы, — погасла звездочка.
— Да, товарищи, — после короткого, но тяжелого молчания сказал начальник экспедиции, — «Сириуса» нет. И я еще раз всех предупреждаю: людьми и судном вы не имеете права рисковать. Не и-ме-е-те. Ясно?.. «Стрелец»!
Осипович приглушил регулятором громкость, расправил спину и сказал, всматриваясь в потемневшую, расцвеченную сотнями огней бухту:
— Рвать — это мы наудились, мандрата пупа. Вот гляди, Сергеич, примечай. Завтра с утра начнут якоря поднимать, вперегонки побегут. Она уже вон послабже стала, — капитан кивнул на дверь, в щелях которой теперь минорнее и с перерывами раздавались бандитские посвисты «Риты». — Но Охотское море я уже двадцать пятый годок знаю. Это всем морям море. Глубины тут небольшие, но простору хватает — океан рядом. Ветра уже в помине нет, а зыбайло еще трое суток бьет. Так вот. Когда сам капитанить будешь, не рвись к медалям и рвачей не слушай; на флот всякий народ идет, есть и такие, что за копейкой в прорубь полезут, будут под бок тебя шпынять — айда, мол, капитан, за рыбой, заработок пропадает. А сам еще узлы по-бабьи вяжет. Таких не любит море. Гляди, вот «Сириус», э-эх, — капитан в сердцах выдохнул весь воздух до дна. И тихо добавил. — Я не бог, чтоб судить их.
— Не мне судить, — повторил Осипович, — сам ведь по молодости не так еще взбрыкивал. Да… Но когда человеку каждая селедка в кошельке двугривенным блестит, а сеть собственной мошной кажется… Нет, с таким на рыбалку лучше не ходи.
Матрос стоял, держась обеими руками за колонку штурвала, и слушал буквально с открытым ртом.
— Закрой, — сказал ему Осипович, — а то еще муха влетит.
Матрос улыбнулся, сдвинул казенную ушанку на затылок, покачал головой, как ученик, восхищенный неожиданно юной выходкой учителя, и спросил;
— Осипыч, а сколь вы лет уже рыбачите?
— А с фронта как пришел, так и начал. Считай сам. Дед уже, мандрата пупа. Может, потому теперь и думаю о внуках, что дожил до них. А и нельзя про них забывать, Сергеич, — снова повернулся он к Саше, — им тоже надоть рыбки оставить после себя. Верно? И пятилетка на то пятилетка, чтобы не за год ее делать, а за пять лет. Люди ученые над ней кумекали, все посчитали: сколько рыбы в море, сколько можно взять без греха, с какой ячеей должна быть сеть, как долго молоди расти, все-все.
Все-то оно верно, Осипович, подумал Саша, когда дверь хлопнула за спиной капитана.
Кто не мечтал, думал старпом, о чудесном рывке? Рывок — и ты взлетел, покорил планку на рекордной высоте, пробил над волейбольной сеткой крученый мяч, совершил научный подвиг, рискуя жизнью…
Вахта кончалась, и Саша взял судовой журнал, быстро заполнил все графы: третьи сутки ничего не менялось — ни погода, ни координаты. За бортом по-прежнему выло, свистело, плескало, и в темно-серых сумерках бухта казалась пепелищем, где от пожара уцелели лишь редкие фонари да ветер гонял черные хлопья пепла.
Всю ночь старпому снились ярко-зеленые долины, обрызганные красными маками.
— Сергеич! Сергеич! Вставай, на вахту пора! — тряс его за плечо матрос.
Еще не открыв глаза, Саша почувствовал, что качка усилилась. То ноги, то голова упирались в борта койки. Он поднялся, сладко зевнул, улыбнулся сну.
Поднявшись на мостик, заметил, что уже светает, «Рита» ночью обежала, поняла, что здесь ей больше нечего делать, унеслась дальше, разболтав море мертвой зыбью. Наконец состоялся восход. Крылатый восход слева по борту. Два густо-розовых крыла в голубом оперении облаков. Размах — в полнеба. По очертаниям — альбатрос.
Заскрипела расстроенной скрипкой рация — кто-то включил передатчик. И тут же послышался сонный голос:
— Коля, ты куда это собрался? Вроде якорь, гляжу, вираешь, а?
— Ты, Леха, что ль? Прием! — резко, почти испуганно раздалось в ответ.
— Я, я. Чего, говорю, надумал?
— Ну и глаз у тебя! — с нервным смешком и каким-то вороватым, показалось Саше, тоном ответил Коля. — За милю ночью видишь… Да, попробую схожу, может, рвану детишкам на молочишко. До премии, Леша, центнеров пятьсот осталось. Схожу… Прием!
— А-а-а, — задумчиво-сонно протянул другой капитан. — Ну, мне тоже осталось… Да зыбайло-то, глянь, какое ходит. Не-е, я постою. Лучше дождусь вечера. Счастливо!
— А, Леш, спасибо. Схожу. Сдача, во всяком разе, с гарантией. Ну, всего!
«Домой, домой!» — поет попутный ветер,
И мы стоим не отрывая глаз.
Ведь ничего милее нет на свете.
Чем дом родной, где ждут и любят нас.
М. МатусовскийНаша бригада уже вторую неделю твердо держит первое место. Оба бригадира взяли обязательство к Седьмому ноября вывести свою бригаду в чемпионы. Бочкотары под рукой, в трюме, осталось мало, поэтому на каждой смене выделяются «греки» — носить кадушки из кошары, воздвигнутой еще в начале рейса на вертолетной площадке. Путь этот — полсотни метров по палубе вдоль борта, потом вверх по двум трапам на вертолетку и обратно с бочкой на спине — называется путем «из варяг в греки». Но вот позавчера Романиха сказала Насирову: «Бери всю бочку из трюма, некогда сейчас в кошару бегать, людей гонять». И за две ночи они чуть-чуть нас не обставили, выбрав трюм до дна. Тогда старпом Дима на своей ночной вахте изобрел канатную дорогу для спуска бочек с вертолетки прямо к трюму. И сегодня рано утром боцман с матросами проложил трассу «Медео», как мгновенно окрестили наши ребята эти два туго натянутых параллельных троса. Первые две бочки, запорошенные снегом, как горнолыжницы, со свистом пролетели вниз, трахнулись о комингс трюма и рассыпались на клепки. Романиха, присутствовавшая при испытании трассы, отпрыгнула в сторону и завопила: «Убрать эту дребедень! Последние бочки побьете! Изобретатели! Сейчас же снимайте свою Медеу!» Все раскрыли рты.
Ромка и оба шофера, с которыми я добирался от Невельска на промысел, стояли в толпе зрителей. Многие из насировской бригады остались после смены поглазеть, хоть и явно мерзли на открытой палубе в своих свитерках и проолифенках. Пока Романиха орала, эта тройка шепталась. Потом исчезла, и вскоре каждый из них прикатил по скату. Эти списанные, истертые автопокрышки боцман припас для изготовления кранцев, он десятками нанизывал их на трос, вывешивал за борт, и такие гирлянды хорошо предохраняли во время швартовок судов — «весновские» борта от царапин и вмятин. Под гул толпы, «под одобрительные возгласы собравшихся» шоферы и Ромка пристроили скаты у подножия «Медео», старпом ногой, обутой в лыжный ботинок 45 размера, опробовал сию «рацию» и гаркнул вверх, на вертолетку:
— Пошел!
— Дураки, — бормотнула Романиха рационализаторам, — в своей смене ни хрена не придумали, а врагам помогаете. Во! — она постучала пальцем по виску, где из-под платка выбилась серая от седины прядь. — Вы ж с ними соревнуетесь!..
Кадушка мягко шваркнулась в отражатель и, так как он стоял под углом, отпрыгнула в сторону и затихла возле самой строп-сетки. После третьей бочки всем стало ясно, что «Медео» будет жить, и толпа постепенно растаяла.
Сейчас у моего трюма, у лебедок, лежит с полсотни бочек, припорошенных нежным искристым снежком. Я вираю из цеха полный, тяжелый строп, бережно ставлю его на палубу (трюмы уже забиты готовой продукцией), двое парней быстро — на морозе работается весело — раскатывают бочки, а я набрасываю на сетку два десятка «горнолыжниц» и майнаю в цех.
Правильно рыбвод делает, что прикрывает путину, думаю я, ежась от ледяных мурашек, забравшихся под полушубок. Селедка с каждым днем все трудней дается рыбакам. То ли уходит с холодами в иные края, то ли и в самом деле так мало ее уже осталось в море. Сейнера все чаще в неводах, унизанных жемчужными ожерельями, поднимают медуз и чистые «пустыри». И если раньше суда по два часа толклись у борта «Весны», сдавая полновесные уловы, то теперь пять-шесть каплеров стало для них нормальной сдачей.
Все чаще случаются простои в сменах. Вот и сейчас до чая, до 16 часов, мы выработали всю рыбу. В приемных бункерах — только снег. Приемщик лепит из него увесистый снежок и швыряет в меня.
— Айда пузо греть! — приглашает на чай. — Ревизор сказал: рыбу к шести подвезут, не раньше…
После чая в нашей каюте устраивается генеральный перекур: здесь братья — Малыш и Лешка, Ромка, как всегда, ну и мы с Юркой, который только что сменился с вахты. Потом заходит наш бугор Валя Иванов сказать, что старпом велел закрыть трюм, потому что снег повалил валом, а сейнер с рыбой подойдет только к семи часам, к концу смены. Я бегу к лебедкам, опускаю крышку трюма и быстро возвращаюсь.
— Да, с полста восьмого года, считай, — говорил Валентин, — семнадцатый раз октябрьские в море у меня.
Ромка, который в названном году еще ходил в ясли, смотрит на него, как на живого Петра I. Лешка толкает брата в плечо: — От ты, Малыш, к примеру, смогешь в море столько? Страх!
— Норма-а-льно, — чуть прищуривает глаз наш добрый бугор. — Здоровей будешь. Верно, Сева?
Я тоже вспоминаю, как однажды, восемь лет назад, встречал этот праздник в море. Точнее, в чужом порту — в Роттердаме. Голландские таможенники опечатали все наши запасы спиртного. А отмечали тогда как раз полвека Октябрю. Помполит дал добро, мы наскребли по нескольку гульденов и — в магазин. Дело было уже вечером, на улице пустынно, в магазинчике скука, владелец позевывает. А у нас на душе праздник, Москва грезится в огнях и салюте. Ворвались мы туда с горящими глазами, с шумом, чуть не с песнями. Приценились — на ящик сухого хватает. Расплатились и с восторгами стропим ящик в четыре руки. Владелец не выдержал, спросил по-английски, что у нас за торжество такое. Объяснили ему как смогли: Россия, Петербург, 1917–1967 годы, пятьдесят лет революции. Он спрашивает, а что за революция? Лет тридцать ему, а не знает ни хрена. Спрашиваем, как зовут тебя, знаешь? Питер, говорит. Мы ему: эх ты, Петя, Петя, учиться надо! Привет!
Так он уже в дверях догнал нас и, видно, в благодарность за добрый совет вручил с улыбкой еще три бутылки бесплатно.
И тут пошли воспоминания — кто как на берегу Седьмое ноября встречал.
— А у меня все праздники, пока в ПТУ на матроса не пошел учиться, прошли кувырком, — задумчиво и с неожиданной грустью говорит Юра. — Со шпаной начал корешовать, босяком стал… Короче, не отправь мать тогда меня в ПТУ, точно б уже сидел, — закончил Юра.
Вечером, в ожидании собрания (рыбы так и не подвезли), я сидел с книжкой. Мне попалась новелла — «День судьбы» американца Стэнли Эллина. Герой новеллы, звали его Игнац Ковач, однажды в детстве был крепко обижен. И тот роковой день предрешил его судьбу. Уязвленный в сердце несправедливостью, Ковач становится гангстером.
До чего похожие истории, думал я, но вот стал же один бандитом, другой — человеком. В голове сплеталось и расплеталось: человеческая ограниченность — зло, мудрость — добро…
На собрании эти мысли по-прежнему держали меня в плену. Всегда одетый по форме, сегодня Рэм Михайлович лишь сменил защитную рубашку на белую, но оттого выглядел особо торжественным и сияющим. Он говорил о наступающем революционном празднике, и я думал о детстве Родины, о том светлом времени, когда жили родители нашего помполита, назвавшие сына именем, которое воплотило мечты народов: РЭМ — революция, электрификация, мир.
Взяла слово Романиха. Она сегодня приоделась: темно-синяя суконная юбка, черный галстук на белой блузке, форменная тужурка с лычками на обшлагах — всего на одну меньше, чем у капитана.
— Дорогие товарищи! — с улыбкой щедрой, но строгой хозяйки сказала она. — Путина заканчивается. Пришла пора подводить итоги. Особо я хочу отметить бригаду Иванова. Молодцы! Подтянулись здорово в октябре. Но первое место в соцсоревновании все же необходимо присудить бригаде Насирова. Мое мнение такое: насировцы работали устойчивей. Желаю вам, дорогие товарищи, новых успехов. С наступающим праздником!
С праздничной улыбкой, под хлопанье насировцев, Романиха, скрипнув ступенькой, сошла с трибуны. Ее место сейчас же занял комиссар.
— Катерина Романовна права, — он раздвинул в улыбке чернокрылые брови и ясно, чуть с хитринкой, смотрел в зал. — Смена Насирова почти всю путину шла впереди, и мы уже привыкли отмечать ее на наших итоговых собраниях. Однако бригада Иванова сработала в этом месяце лучше. Только что закончилось в моей каюте заседание судового комитета… Вы вот не пришли, — комиссар склонил голову в сторону президиума, где рядом с капитаном сидела Романиха.
— Так вот, мы подсчитали, и на ноль часов первого ноября вышло, что ивановцы на 450 центнеров выпустили готовой продукции больше, чем их партнеры по соревнованию. Я рад сообщить вам об этом, товарищи, и от имени партийного, комсомольского и судового комитетов плавбазы приветствовать новых победителей предоктябрьского социалистического соревнования!
Шахрай первым ударил в ладоши, на один хлопок опередив всех. И теперь, аплодируя, все смотрели в его сторону, словно привороженные мальчишьей задорной улыбкой, которая на миг осветила лицо капитана. Романиха ерзала на стуле и порывалась что-то сказать, но аплодисменты звучали очень уж громко и долго, и она смирилась.
В какой-то миг мне даже жалко стало нашу лупоглазую властолюбивую «бога мать», как иногда называли ее обработчики.
Закончилось собрание, как водится перед праздниками, раздачей грамот и премий под оглушительно бодряческую молотьбу туша.
Затем оркестр в том же составе переключился на вальсы и шейки…
Мы танцуем с Маринкой уже третий танец и не замечаем, что камбузницы дружно следят за нами. Вечер длится за полночь. И когда духовой оркестр, любимец помполита, заканчивает последний вальс, только тогда выходим и мы с Маринкой. Камбузницы давно ушли спать. Я в ударе, физиономия моя пылает, живые необъятные силы во мне ищут выхода. Горячей рукой я держу сухую шершавую ладонь Маринки, и мое состояние, видно, передается ей.
— Вот здесь я живу, Мариша, — я кивнул на дверь каюты. — Зайдем?
Мимолетное колебание, улыбка, и девушка быстро и неожиданно громко, как мне показалось, отвечает:
— Зайдем!
Я больше ничего не вижу и не слышу, кроме гула крови в собственных жилах. Юрка до четырех на вахте. Малыш и Лешка на смене. Мы заходим в темную теплоту каюты. Не зажигая света, я веду Маринку к иллюминатору, озаренному снаружи, как луной, бортовыми огнями. Садимся на диван. Я притягиваю девушку за плечи, нежно обнимаю и жадно целую в прохладные губы.
— Включи свет, Сева, — вдруг тихо говорит Маринка.
— Зачем? — удивляюсь я.
— Хочу смотреть на тебя.
И я почему-то послушно встаю и щелкаю включателем. Два плафона взрываются светом, он режет глаза, но мы все равно смотрим друг на друга. Обоим смешно — оба похожи на слепых котят. Я снова сажусь к Маринке, целую синие глаза с крошечными зрачками и смуглые теплые губы. Она отстраняется и говорит мечтательно:
— Расскажи лучше про Томку Серегину и про ее парня. — Маринка смотрит на свои часы. — Полтретьего!
Она встает с дивана. Напротив, на переборке, висит зеркало. Она приводит в порядок блузку и пепельно-голубые волосы.
Я подхожу сзади и обнимаю ее.
— Мариша, милая, — говорю тихо и умоляюще, — останься.
Но она ловко увертывается.
— Нет, что ты! Вставать через три часа.
— Маринка! — и я влюбленно смотрю на нее, отступающую к двери. — Не уходи, пожалуйста.
— Спокойной ночи, — ласково говорит она. И вдруг просто, по-дружески добавляет: — Не обижайся. Севка, До завтра!
Дверь тихо закрывается. Я выключаю свет, забираюсь с ногами на стол и надолго замираю, уставясь в иллюминатор…
Семь часов утра. Время у нас уже владивостокское. На горизонте с правого борта проблескивают родные маяки — входим в залив Петра Великого. Радио уже никто не выключает, и по судну, по коридорам и каютам, все утро празднично звенит музыка. Быстро светает. Снега на берегах почти нет, и алое солнце словно будит целый оркестр — медью отзываются сопки, покрытые маньчжурскими дубками. Это удивительные деревья — маленькие, невидные, обманчиво-слабые на первый взгляд, но одаренные непостижимой силой противостояния: над ними ревут свирепые тихоокеанские тайфуны, всю зиму их хлещут ледяные вихри, снежные бураны заносят их с головой, а они, не потеряв ни одного листа, встречают весну в звенящем боевом наряде.
«Персей» пришел в порт неделей раньше «Весны», и потому на пирсе Диомида, пестром от букетов и одежд встречающих, мы сразу увидели Сашу. Вернее, первой его увидела Тома (после Магадана она сразу вернулась на судно).
Сашка стоял в стороне, под портальным краном, и держал в руке огромный букет цветов.
«Весну» швартовали к причалу кормой, поэтому на юте было многолюдно и шумно. Швартовка большого парохода — дело долгое, нудное и бывает, когда у стенки тесно, затягивается на три-четыре часа. Уже встречающие, промерзнув на ветру, успевают объединиться и согреться, уже порхают через борт на пирс и обратно записки и кое-что посущественней (на веревках-выбросках), трижды обновляются и в конце концов редеют ряды на корме. Ухожу в тепло, в каюту и я. Возвратившись, вижу прежнюю картину.
Наконец подан трап…
Подхватывает и кружит меня живая волна встречи. Мне некого обнимать и целовать, а все же радуюсь и я. Сиротливость в какой-то миг цыпленком тюкнула в сердце и пропала.
Крепкий хлопок по спине, оборачиваюсь и попадаю в Сашкины объятия.
— С приходом, Всеволод Ростиславович! С при-хо-дом!.. О море в Гаграх, да у тебя лапы совсем рыбацкие стали!
— Здравствуй, Сашка, здравствуй, дружище!
Наши глаза встречаются. И мы идем в, каюту и поднимаем тосты за встречу, благо Сашка прихватил с собой бутылку шампанского.
Через час мы уже в городе.
Первое возвращение с путины. Главное чудо — подмерзшая, твердая земля под ногами и люди, которые звонко выстукивают по ней каблуками, совершенно незнакомые, неведомые люди, прожившие эти полгода совсем в другом мире. Наверно, мы глядим на все сейчас сумасшедше жадными глазами, потому что на лицах прохожих я то и дело замечаю улыбки.
Неожиданно рванувшись в сторону, Саша взмахом руки останавливает «Волгу». Визжат тормоза, тихо урчит мотор — земные звуки слышишь сейчас ушами марсианина. Тома с Сашей садятся сзади, я — рядом с шофером.
В машине тепло и очень уютно.
— Куда поедем? — шофер, повернувшись к нам, облокачивается на спинку сиденья.
В самом деле, куда, думаю я и вижу, что шофер прекрасно понимает наше состояние. Наверное, он мой ровесник, но сейчас я чувствую себя юношей, который отработал первую в жизни смену на заводе и возвращается домой, плевать ему на разговоры взрослых о зарплате, на мелочные мысли, все жилы в нем струнами поют.
— Куда-нибудь! — говорит Тома и торопливо добавляет. — Туда, где есть лес, где елки в снегу!
— Слушаюсь! — в тон ей с улыбкой отвечает шофер, и «Волга» рвет с места так, что нас отбрасывает на спинки…
…В межрейсовой гостинице было холодно и весело. Старуха-дежурная, сидевшая в шубе, хоть у ног ее и калилась электроплитка, объяснила нам, что «с позавчера» не топят, потому что в подвале лопнула труба водяного отопления, а слесарь запил, ну вот народ и «греется».
Рыбачий народ напропалую грелся по старинке — водкой. То и дело хлопали двери комнат, и коридор оглашался ревом охрипших глоток, музыкой, женским визгом, звоном бутылок. Парняга в сингапурском пестром свитере прошел по коридору с обезьянкой на поводке, их сопровождала целая свита — две девахи, кутающиеся в байковые одеяла, и разудалый мальчишка в джинсах, рыбацких сапогах с отворотами и в одной тельняшке. Обезьянка была грустной от холода.
— У нас тут как в зоопарке, — оживилась дежурная, — один на днях петуха принес, говорит, будильник искал у магазинах, да не сыскал. А и точно — нету их, — удивленно подняла брови старуха. — А в воскресенье девки ездили куда-то прогуливаться, так привезли трех котят, купили по двадцать копеек, это значит, усех трех за шестьдесят. — И она засмеялась, радуясь то ли дешевизне котят, то ли рыбачьей нежности к животным.
— Так где же ваша директорша?
— А лешак ея знает, где она обедает, может, у рес-тора-ане? — улыбнулась дежурная.
— Ну вы бы нас пока поселили, — простодушно сказала Тома.
— Без ея не можем, дочка, нету прав, — дежурная развела руками и еще раз внимательно нас оглядела. — Вам сколько мест надо?
— Двухместный номер, — сказал Саша.
— Вы муж и жена будете?
— Точно так.
— А ну покажь паспорта! — с неожиданным лукавством искоса взглянула на него старуха.
Саша протянул ей два паспорта. Она их быстро, со знанием дела пролистала и вернула.
— Не-е, дружок, такие номера в гостинице не проходют, — дежурная улыбнулась доброй, понимающей улыбкой, словно сказала; не моя воля, а я бы пустила, мне не жалко.
— А есть двухместные, мать? — спросил я.
— Есть, — заговорщицки зажмурилась старуха. — Но как она, — боднула головой на сторону, — схочет даст, не схочет не даст.
— Понятно. Бери, Саня, на нас двоих, — я достал свой потрепанный паспорт, — ту нашу с тобой «каюту», помнишь? А я пока слетаю за Маринкой.
— Кто такая? — удивился Саша.
— Томка расскажет…
На «Весне» было по-настоящему празднично. С трудом узнавал я «коллег» по трюму, по бригаде: все с торжественными, какими-то нездешними лицами, в костюмах только что из-под утюга, при галстуках. Маринку отыскал в бутовке — стирала с двумя девчонками белье. Еле оторвал, пристыдив: дескать, грех работать в праздник.
И вот уже мы сидим вчетвером в межрейсовой гостинице, в «нашей каюте». Те же две железные койки с копытцами ножек, словно вросших в крашенные чуть не судовым суриком половицы, на окнах те же желтые шторы с арабесками, квадратный стол с неизменным графином (как в нем вода не замерзла!) и единственный стул. Где-то шампанское пьют со льдом, а мы добыли чайник горячей воды, опустили в нее бутылку и ждем. Пока я делал покупки в гастрономе. Маринка набрала газет и журналов в киоске, и сейчас все их листают. У Томы — «Юность», Сашка «Советским спортом» шуршит, у Маринки в руках, кажется, «Знание — сила». Я сервирую стол — открываю консервы, нарезаю колбасу, высыпаю из кульков конфеты. В таком холоде оберточная бумага шелестит, как жесть.
И вдруг ни с того ни с сего всем сразу становится весело. Холод пробирает сквозь пальто, из коридора доносятся дурашливо-дикие вопли, а мы глотаем теплое шипучее вино, и все это кажется нам очень смешным.
— Заруливаю я к директорше, — рассказывает Сашка, жуя шоколадную конфету, — а она, — кивает на Тому, — за угол нырнула, я рапортую: товарищ капитан-директор, два рыбака-студента прибыли на зимнюю экзаменационную сессию, просимся в ваш ледник на постой. Она с ходу: паспорта! Глянула: а этот, заявляет, вообще не наш, сахалинец. Да наш, говорю, красный, вот обратите внимание на фото, один только нос у него белый (а там, действительно, пятнышко у тебя на носу), непьющий, толкую, а за спиной — вот как сейчас, вопли. Все вы, говорит директорша, непьющие, все как один ангелы, когда селитесь, а потом — вон что, и пальцем в дверь тычет. Короче, нету, говорит, двухместных. Врет и не сморгнет. Ну, а я заправляю: вам в вашем норковом манто (а шуба у нее нейлоновая), конечно, тепло, а вот как нам уроки делать, если в такой кубрик попадем, и тоже на дверь киваю. А она — про свое: с вами, говорит, на норку заработаешь, вон все графины за два дня переколотили…
— Саша, может, хватит? — Тома, приоткрыв рот, изображает пальцем болтающийся язык.
Я разливаю вино, и Маринка тут же выхватывает свой стакан, поднимает и с улыбкой смотрит на выпрыгивающие пузырьки.
— Давайте за молодых! — наклоняется к Томе, целует ее. — Пусть у вас будет дом и радость в нем и дети, много детей.
Но вот он осушает стакан, резко так встряхивается, внутренне собирается и говорит серьезно и с восхищением:
— Какая девчонка за этой переборкой живет, — показывает пальцем на стену за моей спиной, — вы бы видели!
— Да, девчушка — прелесть, маленькая герцогиня. Представляешь, — обращается Тома к Маринке, — директорша с Сашей выходит в коридор и спрашивает у дежурной: а эта, из семнадцатого, не выехала еще? Бабка: не знаю, говорит, штой-то не слыхать ея. И они без стука — туда. А девчонка — лет пять ей — остановилась в дверях и говорит: почему вы не стучали? С каким достоинством она это сказала! А потом уже совсем по-детски: разве мы вам не заплатили? Неужели, говорит, мы с мамой вам мешаем?..
— Дети, вообще, чудо, — задумчиво роняет Сашка. — Каждому из нас нужно еще дорасти до собственного детства.
Меня как током пронзило. Дорасти до детства… Да ведь совсем недавно, на «Весне», и я думал о том же, почти теми же словами!..
Лет шестьдесят назад Александр Грин писал о «детских пламенных» глазах женщин… И увидел он их такими в городах грез — в Гель-Гью, в Зурбагане. И пройдитесь сейчас по городу, любому из городов — по Москве, Риму, Владивостоку или Сан-Франциско, и поймете, как безумные скорости нашего века, дела, заботы, суета глубокими бороздами ложатся на лица, гасят пламя в «детских пламенных» глазах женщин. И мужчин, разумеется, тоже. Почитайте современных поэтов — все, во всяком случае настоящие, утверждают чистоту помыслов, сожалеют об утраченном умении удивляться, мечтают, короче говоря, дорасти до собственного детства…
…Сашка ставит в остывший чайник третью бутылку шампанского. Но в комнате уже почти тепло, мы обжили ее.
Вдруг я неожиданно для себя воскликнул:
— Идея! А ну-ка, Саня, продиктуй-ка Маринке свой диктант.
Маринка сделала кругло-удивленные глаза.
— Перепёлка вьётся над ручьём… — диктует Сашка. Мы с Томкой заглядываем Марине под руку.
— Стоп! — кричу я. — Хватит! — и чмокаю Маринку в щеку.
Она ничего не понимает, но смеется вместе с нами. Трижды, исправно расставлены над «ё» продолговатые точки, мы тычем в них пальцами и закатываемся:
— Сво-о-ой, свой парень!..
До позднего вечера мы веселимся в гостинице. Наши пальто давно сняты и свалены на койке. Мы пляшем под гитару и слушаем Сашкины песни, которые он привез с моря. Мы говорим о родстве, о братстве тех, кто ставит точки над «ё», о том, что должна существовать особая телепатия, что ли, у таких людей. И я рассказываю, как Тома спасла меня «из-под бочки со стропа», когда я подыхал, переживая свое «умри и стань».
— Умирать легче, — завожу я излюбленную свою пластинку, — ей-богу, ребята, легче, чем оживать! Воскресаешь в судорогах, в муках, почти родовых. А умереть… Вот у Астафьева… «Пастух и пастушка» читали? «Успение» помните? Герой просто погас, как лампада с выгоревшим маслом, с улыбкой умер…
— А я верю, — в наступившем молчании звучит упрямый голос Томы, — верю в то, что наступит век новой революции в науках, — кажется, ей не хватает воздуха, — и родится много-премного гениев — писателей, музыкантов, ученых, правителей. Да! — глаза ее вспыхивают. — Эта эра Нового Открытия будет в миллион раз талантливей и прекрасней нашей эры! Это будет Открытие… не атомов, не дробления мира, а… наоборот! …слияния! …синтеза!
«Боже, что за глаза у нее», — успел подумать я.
— Откроют, например… — и она обводит нас взглядом, точно соединяя, и выпаливает: — Синтез душ!
В этот краткий миг я все же успел войти в контакт с ее взглядом и понял сейчас, что слова «синтез душ» пришли к ней в самую последнюю секунду, может быть, как раз в ту, когда ее глаза на миг встретились с моими.
1973–1975
Час отплытия
Сыну Виктору
I
Маленькие гладкие волны, играя под пасмурным неподвижным небом матовыми бликами, казалось, неслись куда-то с бешеной скоростью. Витька-Витос завороженно смотрел на них и размышлял: если можно себе представить такие странности, как ожившие вдруг бриллианты, изумруды и всякие другие драгоценные камни, их бег и стремительные прыжки, — это и будет море, волны морские — в разное время дня, года, на разных широтах…
Но тут мысли его совершали крутой, неожиданный поворот. Это часто бывает, когда смотришь на море. А особенно, если тебе предстоит решить для себя что-то важное.
Решил — сделал. Вот так жить надо. Так теперь и будет. Все! Заметано, как боцман говорит. А то ведь три года (и враз загорелись уши) думал-раздумывал, ехать к отцу или нет, «решал»… Мамкино любимое слово. «Летом уезжаем, Витька. Совсем, слышишь! Я решила: к тете во Львов». Назавтра уже это решение забыто и вместо переезда намечается отпуск на Рижском взморье. Затем взамен отпуска планируются шубы, костюмы, какие-то гарнитуры, «как у Любарских», а отпуск — решено — на следующий год проводится в лесу под Харьковом: ягоды, грибы, цветы и, главное, воздух…
Витос глядел на белые скалы чукотского залива Креста, на серебристую равнину тундры с далекими голубыми холмами и думал: главное воздух, а здесь он холодный и вкусный, как студень, его можно резать ножиком и есть, глотать кусками. А грибы и ягодки-цветочки от меня не уйдут. Надо так и написать мамке. И про эту гору, похожую очертаниями на лежащего моржа. Отец сказал, она называется Линглингэй. А это еще ничего. Тутошные названия вообще звучат не шибко музыкально: гыр-гвын-ткын. Письмо передам с отцом, и дней через десять-двенадцать, когда плавбаза «Удача» придет в Находку, оно полетит на запад, к мамке. И она поймет, почему я остался тут, а заодно перестанет, может быть, ревновать к отцу… Он говорит: «На траулере работа гораздо тяжелей». А я и хочу тяжелей. Я решил. Надо проверить себя до упора.
Витос хмыкнул, тряхнул головой, улыбнулся: батино словечко. Он сидел на рострах (это такая надстройка для лебедок), оседлав мешок с солью, и выполнял ответственное задание боцмана — делал гашу, то есть петлю на конце стального троса. И по привычке «беседовал» с матерью.
Этот тросик, мамочка, толщиной почти что в руку, и чтоб его согнуть, надо хорошо пообедать.
Витос неловко орудовал свайкой — железным Г-образным шкворнем, втискивал его острием между упругих прядей троса, раздвигая их, и в желобок свайки, в щель проталкивал свободные концы прядей, встопорщенные и колючие, неподдающиеся. Витос-матрос учился такелажному делу. Нехитрый инструмент свайка вот уже третий раз срывается, вспрыгивает из рукавиц, воробьем вылетает, когда спружинит трос. Ищи ее потом под лебедками, среди соли, мешков, железа. За два месяца руки Витоса из бледных щупальцев — так сказал отец — превратились в руки мужчины. Порезы, ссадины, мозоли, не знающие зеленки и вазелина, до локтей усеяли их, кожа зашершавилась, потрескалась и потемнела…
Солнце шло с залива и, как межпланетный корабль на посадку, заходило на белое поле тундры, обрызгав щербатые зубы скал и купола холмов разведенным вишневым соком. Отец как-то угощал его таким соком. Вместо витаминов, говорил. Витамины в море и в этих краях — дефицит. Витос частенько видел, как в матросской столовой во время обеда многие достают из карманов то луковицу, то чесночину и делятся только с самыми близкими товарищами, с друзьями. Отец как-то тоже сунул ему в карман робы целую пригоршню чеснока, но Витос не стал его есть, а раздал матросам и плотнику дяде Грине, с которым обедал за одним столом. Стол отца был сзади, за спиной Витоса, и парень часто ощущал на себе взгляд отца. В тот раз он тоже почувствовал, как грустные глаза внимательно смотрят в его измазанный мазутом затылок (коснулся троса, пролезая под лебедкой), и торопливо, точно черт дернул за руку, достал чеснок и демонстративно высыпал на стол. Дядя Гриня взял головку последним, отщипнул зубок и оказал:
— Спрячь, тут этим делом сорить не надо, грызи поманеньку и не будешь зубами маяться. Он от зубов крепко помогает.
— А я не люблю чеснок, — громко ответил Витос. — Он вонючий.
— Шо с земли, Витя, то не воняет, то пахнет, — возразил плотник.
— Эт, Гриня, точняк! — отозвался боцман из-за батиного стола. — Вонь, она от человечков идеть.
Почему взрослые (в свои восемнадцать он по детской привычке делил мир на взрослых и себя), почему они так часто ругаются между собой? Человечков — это такая странная фамилия у старпома. Боцман схватился с ним в полседьмого утра, когда матросы в ожидании завтрака перекуривали у дверей столовой. Их подняли в пять на отшвартовку судна-перегрузчика, и вот, закончив работу с тяжелыми, мокрыми швартовами на промороженной палубе, они отогревались и мирно беседовали в коридоре, светлом, теплом, ужасно уютном после обжигающего ветра. Старпом, совершая, как обычно, утренний обход, остановился возле боцмана и молча указал пальцем в белой вязаной перчатке на мусорные бачки. Они еще с вечера, видно, были полны с горой. На бумагах и хлебных огрызках окурки уже не держались и падали на затоптанный, потертый пластик палубы, когда-то зеленый, а теперь бесцветный. Белый палец старпома смотрел как раз на эти белые окурки. За бачками обязана следить уборщица, но сегодня она, наверное, проспала.
— Вынести! — чуть сузил красивые глаза Эдуард Эдуардович, видя, что боцман не хочет замечать его протянутого пальца. Сказал и сделал было шаг прочь.
— Матросы у меня все при деле, — ответствовал боцман, — а коли уборщицы не желають работать, нехай за них работають ихние хахали.
Сказано это было с прямым и коротким, как боцманский нож, намеком: про то, что старпом вокруг Лизки «круги вьет», знали все. Эдуард Эдуардович на миг застыл (даже вроде воздух в коридоре сжался и волной отразился от широких плеч старпома), но, не обернувшись, зашагал дальше — тень его то растягивалась, то сбегалась под редкой цепью коридорных плафонов. Матросы, выдержав каменную, напускную тупость на медных лицах, заулыбались, когда прямая, высокая фигура старпома исчезла за дальним поворотом коридора. А дядя Антон, старый рыбак, дорабатывающий на базе последние до пенсии годы, нежно прикрыл ладонью серебристую с прозеленью бороду, похожую на пучок морской травы, и с всегдашним шебутным выражением в цыгански-лукавых глазах съязвил:
— Вот кому не спится в ночь глухую!..
Пацан-хулиган, подумал про него Витос, не в первый раз уже поражаясь этому седому бесшабашному человеку, большую половину немалых лет своих прожившему в море, бездомному и бездумно легкому на подъем: пароходы и рыбачьи «конторы», по собственному его выражению, дядя Антон менял чаще, чем робу.
— О! Он и на помин легкий… Витос улыбнулся, заметив спускающегося с мостика дядю Антона, который отстоял свою дневную четырехчасовую вахту и следовал полным ходом в столовую команды на заслуженный чай.
Проходя мимо ростров, он поднимет шапку, блеснув густым серебром полубокса, и крикнет: «Привет племяшу!», а минуя камбуз, обязательно ущипнет кокшу Жанку, отпустит что-нибудь стыдное насчет «филейной части» и в ответ получит неизменное: «Старый хрен! Жизнь прожил — ума не нажил». Три-четыре часа между чаем и ужином Антон Богданович проиграет в «козла» за журнальным столиком в красном уголке, после ужина посмотрит кинофильм в столовой, часто по третьему и четвертому разу, особенно если кинокомедия. До ночной вахты останется один час, и он его проспит или «протравит» в каюте с мужиками. С ноля до четырех утра — опять рулевая рубка, ходовая вахта у штурвала, а если база в дрейфе или на якоре, то просто у телефона, изредка звонящего по всяким служебным надобностям из цеха или машинного отделения. Скучает ночами матрос на стояночных вахтах. Днем у него обычно бывает «капитанская» приборка — тряпка, швабра и мыльный раствор в деле, да и все судовое начальство на ногах — «стой там, иди сюда», говорит дядя Антон. А ночью как-то поднялся Витос на мостик, и старый матрос так был рад этому, что целый час водил «племяша» по затемненной рубке, показывал машинный телеграф, измеритель силы ветра — анемометр, табло пожарной сигнализации с цветными огоньками в квадратиках и кружочках — каждый кружочек с номером, обозначающим каюту или другое помещение судна. Даже штурвал дал повертеть, показал шевельнувшуюся картушку гирокомпаса и пытался на пальцах объяснить принцип его работы. Витос не перебивал, хотя теорию гироскопа отлично знал из школьной физики.
Вот так ночь за ночью и пройдут для матроса 1-го класса А. Б. Герасименко последние три года так называемой трудовой деятельности, насмешливо думал Витос, покидая мостик. Чем же, интересно, он будет на пенсии заниматься? Лодочкой, удочкой, водочкой? Не-ет, нет! Я никогда таким не буду! Прожить такую жизнь — значит просто отбыть свое на земле…
— Но ты уже начал с того же, — возразил Спорщик. — Он матрос и ты матрос. Ну, а в восемнадцать лет, откуда ты знаешь, может, и ему виделись неоткрытые земли и мировые революции…
— Ох и зануда ты, спорщик, — одними губами прошептал Витос. — Хоть бы здесь, на рострах, оставил в покое…
Свайка снова сорвалась, но на этот раз не улетела, а просто описала короткую, молниеносную дугу и больно ударила по носку кирзового сапога. Гримаса, отчаянный плевок под ноги, мстительный удар по свайке — и новая гримаса боли и обиды.
Усевшись на место, верхом на мешок. Витос как с личным врагом стал расправляться с непокорной гашей. Продернув очередную прядь, он остановился, прикинул взглядом: заплетенная стальная коса показалась ему достаточно длинной. Но, чтобы убедить себя окончательно, Витос руками попробовал гашу на разрыв, точно это был бумажный шпагат, а не дюймовый стальной трос.
— Заметано! — с видимым удовольствием сказал он вслух. Отыскал под ногами зубило и бондарный молоток и только было пристроился рубить хвосты прядей, как услыхал прямо над собой:
— Да шо ж ты, голубь, надумал? Свою ж работу спортишь.
Витос застыл с поднятым в руке молотком, потом, раскрыв рот, покосился на ноги-кнехты, словно вросшие в палубу.
— От глянь, — кивнул боцман в сторону трюма, над которым поднимался тяжелый строп с дюжиной бочек. — Вот и прикинь теперь, смогеть твоя гаша выдюжить тот строп разов, к примеру, сто, а? Сдается мне, Витя, не смогеть, на десятом разе распустится, шо косичка у дивчины.
Боцман присел на корточки, голыми руками взял трос и свайку, ловко вплел по разу каждую прядь, обтянул, а потом обстучал молотком, так что не осталось ни малейших зазоров, и хотел уже делать новый стежок. Витос, завороженный неспешными, но до чего же точными, экономными движениями боцманских рук, вдруг очнулся и запротестовал:
— Василь Денисыч, я сам, давайте, я умею.
— Погляди, погляди еще, сынок.
Боцман плел в охотку, с наслаждением мастера. Трудно было оторвать взгляд от заразительной этой работы. И Витос в восхищении следил за тяжелыми, набрякшими кистями боцманских рук, споро и прямо-таки красиво работающих. И эта простая вроде работа только что коробилась в его собственных неумелых руках, позволяющих свайке откалывать цирковые номера.
— Чай пил? — Василь Денисыч поднялся и одернул всхолмившийся на пруди ватник.
Витос отрицательно помотал головой.
— Бросай. Завтра время будеть. Пойдем.
— А я не пью чай, — вырвалось у Витоса, — я компот люблю, — добавил он для натуральности. И это, в общем-то, было, правдой, но сейчас, после нескольких часов сидения на рострах, ему вдруг очень захотелось горячего чаю, да отрабатывать задний ход было не в его правилах.
Боцман спустился на палубу — уплыла вниз, колыхаясь над скоб-трапом, его каракулевая кубанка с синим верхом, перекрещенным пурпурным крестом. И Витос остался один. Он целый час еще возился с непослушной свайкой, на совесть доделывая клятую гашу. Матросская работа — все-таки отупляет, решил он, покидая ростры.
II
13 августа
Чудеса! Мое заветное, или, как пишут в старинных книгах, феральное, число опять совпало с историческими событиями в моей жизни. Кроме маленького Рени, где я родился, Львова и Харькова, где живут мамкины тетки, да еще Одессы, откуда вчера вечером вылетел мой ИЛ-18, я увидел сегодня сразу семь городов — Киев, Челябинск, Новосибирск, Читу, Хабаровск, Артем и Находку! В Артеме после восемнадцати летных часов самолет приземлился в последний раз, и я вступил на приморскую землю. Отец встречал меня, и мы сначала по-мужски пожали друг другу руки, а потом обнялись. Три года я не видел своего отца. Какой же он маленький и лысый! Три года назад он еще казался мне большим, а теперь я смотрю на него сверху. Тетя Тома, его жена, и то как будто выше его. Их десятилетний разбойник Серега загорает где-то в пионерлагере, а маленькая дочка Маринка уже спит. Здесь одиннадцать часов вечера. Это значит у нас — минус семь — четыре часа дня. Вылетел я из Одессы вчера в семь вечера, летел навстречу солнцу, потерял, то есть совсем не заметил ночь, в бешеном гуле быстро пронесся и день, спрессованный скоростью полета, и вот вместо обеда я попал на ужин, следы которого и заметает сейчас отец со своей женой.
Все, больше писать не могу. Бросает в сон.
14 августа
Проснулся — шторы задвинуты, но солнце бьет сквозь них напролом. Отдернул, и оно ворвалось ослепительной рекой, залило комнату, и я увидел, что я не дома. В душе, как флаг на ветру, затрепетал праздник, я вскочил с дивана и неожиданно почувствовал какую-то пустоту, неясный холодок внутри. И понял — это кончилось детство и вместе с ним кончилась юность. Ведь я прилетел на Дальний Восток работать!
Продолжаю уже поздно вечером. Утром отец не дал дописать, вошел и начал тормошить. Да и было уже не утро — двенадцатый час.
По-быстрому сделав зарядку и перекусив, пошел с отцом в город. Чудесный и, во всяком случае, ужасно необычный город — Находка, настоящая находка для человечества. Идешь, идешь среди домов обыкновенной вроде улицей, и вдруг прямо на дорогу выдвигается коричневая скала, совершенно дикий утес, который «мохом оброс», а еще — травой, цветами, деревьями. Это с одной стороны улицы, а с другой — обрыв и синяя бухта, а на горизонте чуть виднеются таинственные голубые берега и горы, «далекие, как сон». Мы свернули с дороги и зашли в скверик: клумба, обложенная побеленными камушками, песчаные дорожки, скамейка, каменный парапет. Оттуда виден весь залив. А называется он тоже очень необыкновенно — Находка.
Отец подошел и положил мне руку на плечо. Это здорово, когда у тебя есть отец, который вот так иногда, в хорошую, может, даже лучшую минуту жизни кладет на твое плечо тяжелую теплую руку. И не маленьким сразу чувствуешь себя от этого. Нет, просто — хорошо. Но я подумал о том, что целых четырнадцать лет из моих восемнадцати его не было рядом. Хорошая минута пропала, испарилась в облака. Он сказал:
— Эх, сынище, и заживем мы с тобой в море-океане!..
И тогда я ответил ему жутко ледяным тоном:
— А я в море, может быть, и не собираюсь. Посмотрю вот на него с горки и обратно поеду, на наш голубой Дунай.
Отец ничего не сказал. Рука его дрогнула и стала невесомой. Потом он убрал ее и медленно пошел вдоль парапета. Остановился метров через двадцать и так грустно-грустно стал смотреть вниз по склону обрыва, где узенькими, беспорядочно разбросанными террасками росли маленькие елочки, тонкие дубки и что-то вроде наших акаций. Ниже шла каменная стенка забора, ограждавшего причалы порта, смехотворная, казалось сверху, стенка, которую ничего не стоит, разбежавшись отсюда, с горы, перескочить, как детсадовский заборчик. Пароходы, стоящие у пирса, были большие, настоящие океанские суда, каких на Дунае не увидишь. И краны, сотни журавлей, клевали носами и, кружась на одной ноге, таскали из их трюмов авоськи с мешками, ящиками, бочонками, медленно так, спокойно, деловито. Здесь, над портом, на вершине горы стояла тишина, чуть звенящая, как где-нибудь на кукурузном поле или в дунайских плавнях. И только воздух, пронизанный солнцем, был здесь другой, голубой и подсоленный на вкус. Чувствовалось, что это дыхание океана, Тихого океана, о котором я столько лет мечтал.
— Пойдем, отец, — сказал я, проходя мимо него, и он сразу двинулся за мной. Я шел и чувствовал затылком его печальный, укоряющий взгляд.
— А где сопки? — спросил я равнодушно.
— А вот ты по ней шагаешь, сынок, — ответил отец.
И действительно, остановившись, я увидел, что мы идем по самой вершине горы-сопки, а дорога-улица скатывается по обоим склонам к домам города, впустившего эту сопку прямо в центр, как великанскую клумбу. Куда ни поверни голову, сколько видит глаз, переходят, плавно переливаются одна в другую, будто застывшие океанские волны, величественные сопки. На ближних растут нормальные зеленые деревья, а далекие покрыты манящим голубым лесом. Мне ужасно захотелось попасть туда сейчас же, и я сказал отцу;
— Сходим вон в тот лес?
— А почему?
— Что почему?
— Почему бы не сходить?
И мы оба рассмеялись. Мгновенно передо мной пронеслись картинки: мы бежим с отцом по густой траве, по цветам над Дунаем и по очереди кидаем с обрыва камешки в реку. Я совсем вроде малыш, а он здоровенный, сильный и красивый, совсем не лысый. Он кинул без очереди (хотел попасть в плывущую по течению корягу), и я кричу ему; «Сто ты свыляес, ну, папка!» А он в ответ: «Где?» Я показываю пальцем на бульку-всплеск; «Вон где, вон!» — «Почему?» — кричит он. «Сто поцему?» — я останавливаюсь. Он закатывается от хохота и бежит к кустам, с разбегу падает в кусты, и оттуда доносится мамкин писклявый голос: «Испачкаешь! Помнешь! Слон! Я же в костюме! Ай-ай, спасай, сыночек!» Когда я подбегаю, они целуются, а мамкина вышивка, натянутая на фанерное кольцо (она с ней никогда не расставалась), откатилась в сторону.
Будто сейчас услышал свое «сто поцему» и ясно-преясно увидел, как прямо передо мной катится с горки вышивка-колесо. А ведь это было ужасно давно. А может, и не было никогда?..
Только мы спустились вниз, к домам, как у обочины, прямо возле нас, остановилось такси. За рулем сидела женщина. Отец рванулся на мостовую, к ее окошку.
— Нам срочно, вот так надо, — он показал «по горло», — на перевал.
— Срочно садитесь, — в тон ему ответила шоферша и улыбнулась.
— Вашу руку, сеньора, — серьезно ответил отец и, когда она, словно показывая поворот, выбросила в окошко руку, поймал ее кисть и, элегантно изогнувшись, поцеловал.
И всю дорогу, а мы ехали минут двадцать, они любезничали про то да про се и меня пытались втянуть. Вообще отец у меня абсолютно не старый, вот что я понял там, в такси. Он моложе мамки на целое поколение! Жуть.
Заехали мы в дикие горы, то есть в сопки, и остановились. Дорога пролегала в седловине, и нас окружали купола вершин, заросшие негустым, но кудрявым и пахучим лесом.
Тропинок никаких нигде не оказалось, и мы взобрались прямо по склону почти на четвереньках, цепляясь за кусты то с гладкими, то с колючими веточками, оставляющими в ладонях занозы.
На самом куполе сопки была поляна, вся в желтых, белых и голубых цветах. Здесь здорово пахло сухими солнечными настоями из трав, жужжали, возясь в цветах, шмели, перепархивали с места на место огромные, с воробья, бабочки, отливающие синью каленой стали, реликтовые, сказал отец, махаоны водятся только здесь, на Дальнем Востоке. Действительно, я таких на Дунае не видел. Далеко-далеко, за десятками таких же крутолобых сопок, синел океан — словно там, на горизонте, кто-то поставил стоймя декорацию ультрамаринового цвета.
— Здравствуй, Тихий океан, — прошептал я, но отец услышал и сказал, что это еще только Японское море, а океан дальше, за невидимыми японскими островами.
Потом мы вошли в лес. Солнце пронизывало его до травы, но земля под ногами была мягко-упругая и дышала влажной свежестью. Хоть и древняя, но ужасно молодая, подумал я, неистоптанная земля здесь, и как хорошо, что я приехал на Дальний Восток. Большинство парней из нашего класса бросились на штурм институтов. Они боялись растрясти по жизни бесценный школьный багаж. Отец же боялся как раз обратного. Он писал мне: парта — отличная, удобная штука, вроде ползунков, но не пятнадцать же лет безвылазно в них сидеть. И еще: море, пароход — это тоже парта, только не для детей, а для настоящих мужчин. Мамка рвала эти письма и ругала отца болтуном, совратителем, подлецом, а бабушка ей вторила, бубня: сломал, мол, жизнь матери, а теперь норовит и ребенку испортить будущее.
Не ругайся они так неистово, я бы, может, еще и передумал. Ну а потом, позже, когда ручьями полились слезы и мне самому до слез стало жаль покидать их, вот тогда-то я и задумал то, зачем я здесь.
Сейчас, когда я, пристроившись в углу дивана, пишу дневник, отец со своей женой сидят за столом и пичкают Маринку салатом со сметаной. Тетя Тома иногда взглядывает в мою сторону. До чего же у нее молодое, прямо юное лицо. Бедная мамка по сравнению с ней старуха, а ведь разница всего в четыре года (мамка про нее сразу, говорит, все узнала). О, вот опять на меня смотрит.
Знала бы она мои планы! Четырнадцать лет отец отдал ей. Сережке и этой малой писклявке. Хватит, наверное. Теперь он должник перед нами, вернее, перед мамой. Мне думается, она тоже могла бы помолодеть с ним.
Ладно, всему свое время. Вернусь к тайге. На южном склоне мы наткнулись на здоровущую сосну. Старую, видно, престарую: ствол у нее, как у пальмы, оброс седыми волосами. Сторона, обращенная к морю, атаковалась, я понял, штормовыми ветрами: даже если смотреть снизу, вдоль ствола, сквозь нее просвечивало небо. Противоположная сторона кроны была дремучей, а самая нижняя лапа, росшая перпендикулярно к стволу, простиралась над подлеском на добрый десяток метров. Далекая вершина сосны ловила нездешний, заоблачный, наверное, ветер и с царственной медлительностью раскачивалась там, будто говорила деревьям, неподвижно стоящим внизу: вы, мол, покрепче держитесь за землю, вращайтесь вместе с ней, как вам велел Коперник, ну а я послежу маленько за движением небесных, космических сфер, по-раз-мыш-ляю… Мне хотелось скорей нарушить колдовскую тишину, и я обрадовался, услышав, этот говорящий, негромкий скрип ствола: по-раз-мы-шля-ю. Я принял его как зов. Сразу с места подпрыгнул, но до ветки не достал. И подумал: да, не дорос ты еще даже до самой ее нижней лапы. Подошел отец, измерил высоту взглядом и, неожиданно легко оттолкнувшись, взлетел, точно сама земля его подбросила, и цепко, обеими руками ухватился за ветку. Рывок всем телом — и вот уже он лег на нее грудью, оперся о ствол, подтянул одну ногу, вторую и встал на ветке во весь рост. Чтобы не посрамить свой разряд по боксу и метр семьдесят пять роста, я разогнался, прыгнул и тоже ухватился за лапу. Пока выжимался и подтягивался, как на перекладине, отец забрался еще выше. Словно папуас за кокосами, он ловко лез по стволу, захватывая его ногами в черных туфлях, бросая тело вверх, стремительно перебирая руками по древней, изборожденной глубокими морщинами коре. Веток не было метров пять, но он запросто одолел эту дистанцию и стал, расставив ноги, на толстой косой ветке высоко надо мной и испустил победный клич, достойный вождя апачей. Я полез за ним. Должен сознаться, что, не будь наверху отца, я бы вернулся с полдороги: сосна была в полтора обхвата, и я ободрал о кору лодыжки и сломал ноготь, пока добрался до него. Зато весь склон, весь лес открылся моим глазам.
Мы словно летели над ним на воздушном шаре или на планере. Парили. Здорово было, ничего не скажешь. И море мы оттуда увидели со всеми мысами и островками.
Я держался за ствол, а отец стоял за моей спиной, держась за отросток ветки. Запах леса, моря и неба накрыл нас прозрачной волной. Далекий голос большого, наверное, парохода долетел сюда шмелиным гудочком.
Хотелось обнять весь этот огромный голубой мир и засмеяться или заплакать.
— Спасибо тебе, — тихо сказал я.
Спустившись с сосны, мы долго еще бродили по лесистым склонам сопки, отец все расспрашивал, а я рассказывал ему про школу, про Вальку и Славку, которые сейчас поступают — один в мореходку, другой — в университет, про то, как разросся и расцвел наш маленький придунайский городок Рени за эти три года.
Говорил я о Рени долго и вдохновенно, и, конечно, с умыслом.
— Хорошо, что ты любишь свой родной город, — сказал отец, — но в мире так много всего, что нужно стараться, пока молод, увидеть побольше… О, седьмой час! — спохватился он. — Пошли, а то влетит нам от тети Томы.
— А ты ее боишься? — вырвалось у меня.
Он только взглянул в ответ, но я по одному этому взгляду понял, что он, во-первых, вовсе ее не боится, а любит, во-вторых, догадывается о настоящих целях моего приезда, в-третьих, корит меня за это, в-четвертых, тоже любит, а в-пятых, вообще своими карими глазами умеет глубоко-глубоко проникать в душу.
III
В матросской двухместке было темно, чуть мерцал над столом замерзший кружок иллюминатора, преломляя в кристаллах инея рассеянный палубный свет. Нижняя койка пустовала: Коля Худовеков досматривал кино в столовой или «забивал животное», как именовали ярые «козлятники» свою игру. В уютном домике на верхней койке, отгороженной от мира синим бархатом штор, Витос перечитывал свой дальневосточный дневник. Приподнявшись на локте, он достал с полки над собой авторучку и сделал в тетради запись:
«14 ноября.
Пошел третий месяц жизни в море и четвертый — на Дальнем Востоке. Что значат каких-то девяносто дней в человеческой жизни? А событий в них уложилось немало. И каких событий!»
Витос остановился. В дверь постучали.
— Да! — Витос выглянул из убежища, резко звякнув роликами штор.
В светлом проеме двери возникла мальчишеская фигурка в спортивном трико. В груди Витоса что-то большое на миг провалилось и тут же взлетело голубем.
— О-о! — воскликнул он и забыл закрыть рот, уставясь на Светку, глядевшую в полумрак каюты круглыми от испуга глазами.
Светлана Александровна Курилова на год была старше Виктора Александровича Апрелева — ей уже исполнилось девятнадцать. Скучно-правильный овал лица, нос, что называется, кнопкой делали ее совершенно неприметной не только в толпе, но и в микроколлективе из двух человек, то есть попросту рядом с подружкой, любой, безразлично — красавицей или дурнушкой. Спасали, а может, наоборот, топили Светлану Александровну все те же глаза, стоило только ей улыбнуться. А улыбнуться и даже расхохотаться ей ничего не стоило. И тогда глаза ее чудесно оживали и совсем мимо воли самой Светланы Александровны сбивчиво тараторили о чем-то, звали куда-то. И вот это что-то и куда-то сразу заставляло мужиков делать стойку, забыть о том, куда и зачем они бежали, и немедленно атаковать. Она была перворазрядницей по спортивной гимнастике, чем и объяснялась ее привычка к синему спортивному трико, перевидавшему немало спортзалов родного Иркутска, застиранному маленькими, но работящими, мозолистыми ладошками Светланы Александровны. Трико делало ее похожей на парнишку, а парнишка и свой парень — это, считай, одно и то же. И Светку-камбузницу (она работала на камбузе подсобной) нередко норовили дернуть за руку, притиснуть в коридоре. Даже старпом Эдуард Эдуардыч, приметив однажды Светкину улыбку, когда она беседовала с коком на сравнительные темы любви и картошки, остановил ее как-то в коридоре, положил ей на плечо руку в белой вязаной перчатке и сказал, не спускаясь с высоты положения, благожелательным, но сохраняющим дистанцию тоном (особый, верховой стиль судового донжуанства):
— Вам, Света, очень пошло бы красное шерстяное платье. Зайдите как-нибудь ко мне, и мы с вами всесторонне обсудим этот вопрос. Ведь скоро Седьмое ноября, а мне, как старшему помощнику капитан-директора, небезразлично, как будет представлен на праздничном вечере мой штат.
Светка зарделась, опустила глаза и смущенно улыбнулась. Чиф, который именно этого и ожидал, тут же снял руку с ее плеча и, не имея более сомнений в близкой победе, зашагал по коридору. Он вроде даже и взгляд ее ощущал спиной, только вот мыслей улавливать не умел. А Светлана Александровна, глядя вслед чифу, коротко подумала: «Индюк». А дальше и вовсе поступила несолидно — показала язык.
Голосок у Светланы Александровны, надо сказать, подкачал — тоненький, нежный, но с чуть пробивающейся хрипотцой, вроде мальчишеского дисканта, ломающегося в баритон. И оставалось впечатление, что она говорит с трудом, как будто что-то в горле ей мешает. А может, и в самом деле у нее ломался голос. Наверно, поэтому, а возможно, по свойству натуры говорила Светлана Александровна немного, будто взвешивая каждое слово. И лишь сказав то, что хотела, поправляла прядку на лбу, как бы от легкого смущения.
На плавбазе «Удача» были девушки с совершенно неприступной внешностью. Перед ними поначалу робели и самые бойкие хлопцы. Для донжуанов же типа Эдуарда Эдуардыча такие не были загадкой. Они как-то сразу понимали друг друга, словно были давно знакомы и отлично знали, чего хочет каждый из них. В общем, это была вроде одна каста, исповедующая единую веру. Но Светлану Александровну трогали все. Даже шалун завпрод Степа Бессильный. В свои пятьдесят шесть годков он разбойничал, как парубок, буквально: не давая проходу девчатам, охмуряя, как и положено завпроду, вином и кондитерскими изделиями. У Степы многое выходило само собой: легкие излишки и тяжелые недостачи, коровьи легкие по цене филейной части и тяжелый сахар, влажность которого измерялась не в процентах, а в ведрах. Само собой как-то получилось и то, что Степа вроде бы специализировался на камбузницах. Вначале он смотрел на Светку воловьим глазом и потихоньку вздыхал, тоскуя по сдобной, как ватрушка, ее предшественнице. Потом смирился и начал, предварительно оглянувшись, пощипывать Светку.
Праздничным вечером Светлана Александровна задержалась на камбузе, отдирая от сковород пригоревшую картошку. Жжих-жжих! — кричал скребок, в ее руках, а сама Светлана Александровна зарозовела, разогрелась от работы. Степа, довольный жизнью по причине долгожданного и полного схождения сальдо с бульдо (праздничный ужин экипажа перекрыл двухмесячные расхождения), вышел из каюты, которая, как и положено каюте завпрода, соседствовала с камбузом, и услыхал «жжих-жжих». Приоткрыв камбузную дверь, он неслышно подплыл к Светке и крепко ухватил мясистой пятерней упругую девичью грудь. Светка дернулась, но вырваться не смогла.
— Дядя Степа! Отпустите! — пропищала она. — Мне больно!
— П-пончик! — чмокнул губами Степа, не разжимая пятерни и уставившись в пунцово-смуглые щечки растерявшейся было Светки.
— Ну что вы в самом деле! — с трудом и возмущением выдавила она из себя столь длинную тираду ломающимся мальчишеским голосом. И тут увидела, что глаз-то у Степы уже не воловий, а бычий глаз, налитой. Боль от клешни ускорила реакцию. Светлана Александровна очень быстро подняла и опустила чугунный черный блин сковороды на Степин кумнол, украшенный «ежиком из чистого серебра». Колокольно гуднуло под сковородкой, клешня разжалась, Степа, отвесив челюсть, остался стоять, а Светлана Александровна выругалась страшным словом «гадость» и покраснела.
Через час в столовой команды начался торжественный праздничный вечер. Витос еще вчера подготовился к нему: вынул из чемодана джинсовый, в голубых разводах, костюм, свой любимый, отутюжил его, приготовил кремовую рубаху и к ней запонки с британскими львами. А уже перед самым вечером они с Колей Худовековым подправили друг другу гривы на затылках, и Витос добрые четверть часа строго изучал себя в зеркале, что над раковиной, делая вид, будто занят исключительно прической — жесткими, непокорными волосами, антрацитно черными, блестящими. Он отрабатывал непроницаемость лица и взрослую бесстрастность взгляда. Оценив джинсовый костюм и «ежик» с гривой, Коля похлопал по плечу Витоса и предсказал ему бешеный успех у девчонок на предстоящем вечере. Витос чуть зарделся.
Грянул магнитофон под низкими сводами матросской столовой отделанного «под березку» плоского ящика с пространной палубой, грянул и, многократно отразившись от палубы, подволока и переборок, враз наполнил столовую праздником, хмельным и шумным духом танцплощадки. Все возрасты покорны танцам на редких судовых вечерах. И вея парфюмерией, закружились пары — толстая бухгалтерша с дедом-стармехом, безусый штурманок с молодящейся буфетчицей, кадровик, увешанный медалями, с юной рыбообработчицей в клетчатой макси-юбке. Он держал ее по-старинному, на дистанции, как хрупкую хрустальную вазочку. Штурманок же, наоборот, буквально влип в пищеблок. А дед с трудом сдерживал чугунной пятерней центробежную силу могучей финансистки. Витос не танцевал вальсов — не умел. Избегая кучкующихся молодых матросов, он приткнулся спиной к одному из иллюминаторов, положил локти на высокий подоконник и замер в позе орла на вершине. Ледяным взором обводя долину, внешне бесстрастный, он выслеживал цель. Джинсовый костюм в голубых разводах тоже был замечен, и на «да-а-мский танец» Витоса пригласила клетчатая макси-юбка. Пророчество матроса первого класса Николая Худовекова начинало сбываться, а надо сказать, женщины плавбазы «Удача» были избалованы мужским вниманием. Неблагодарный Витос, однако, лишь мельком взглянул в голубые и чуть выпуклые, как у рыбы минтай, глаза напарницы и, за весь танец не сказав ни слова, блуждал орлиным взором поверх сдобного золотистого начеса, невольно избавляя кадровика от мук ревности.
Когда разразился под сводами долгожданный шейк и ноги у молодежи непроизвольно задвигались — стали притопывать и подергиваться в заразительном ритме. Витос только чуть изменил позу, медленно спустив с подоконника правый локоть. В непроницаемых дотоле — глазах зажглись этакие крохотные яркие плафончики, дрогнули ноздри. И в самый этот миг в двери напротив возникла маленькая смуглянка в неброском салатного цвета платье, словно увитом лентами, идущими вкось серо-зелеными полосами, составленными из мириадов черных и изумрудных точек. Платье как бы озаряло лицо смуглянки нежной зеленью весеннего луча. А смущенная улыбка уже тараторила в ее золотистых глазах совершенно непонятно о чем, но звонко и радостно. Одновременно с трех концов столовой шагнуло ей навстречу три пары быстрых, молодых ног. Витоса словно толкнула мощная чья-то рука. Спортивная реакция не подвела его — дала как раз ту долю секунды, которая на ринге да нередко и в мирной жизни приносит победы.
«Ай, молодец, сынище!» — удовлетворенно отметил про себя Александр Кириллович, куривший в коридоре и в проем двери наблюдавший молниеносную сценку борьбы. Те двое, что промахнулись, теперь заняли активно-выжидательную позицию, потрясая мослами друг против друга рядом с Витосом и Светкой, не различающими их, увы, в упор. Тысяча чертят, похоже, вселились в Витоса и ровно столько же маленьких бесенят плясали в Светкиных глазах и в беззастенчивой, казалось, улыбке. Их ноги и руки летели и выделывали ритуальные колена будто сами по себе, а чертята с бесенятами тем временем очень оживленно болтали на своем искрометном бессловесном языке. Где-то внутри уже звучало то странное, чему потом Витос будет удивляться, с улыбкой качая головой. «За эту девчонку я нырну, если надо, в прорубь и взлечу, если она захочет, к Большой Медведице» — вот что звучало в Витосе.
Наверное, он не кончится, этот танец. Никогда бы он не кончался!.. И все-таки он закончился. Ударник поставил звонкую, ликующую точку, теннисным мячиком запрыгала она от подволока к палубе и снова вверх-вниз, покатилась и затихла у ног Витоса и Светки. Они очнулись с улыбкой. И те двое, что промахнулись, сейчас увидели их глаза и, ослепленные, покорно ретировались по своим углам — кратковременный союз «друзей по несчастью» распался ввиду явного исчезновения цели.
— Откуда вы… взялись? Где вы были раньше? — спрашивал Витос, осознав себя и смуглянку уже в танго.
В ответ шевельнулись ее ладони, лежащие на его плечах, и она пропищала ломающимся голоском;
— Оттуда, — и показала болтливыми глазенками: с неба.
И эти шевелящиеся ладошки, и голос с трогательной хрипотцой, и дыхание ее — все это дружно подхватило Витоса и понесло, хоть и старался быть он ироничным;
— С какой звезды вы, из каких чертогов?
И Светка пропищала свое тоненькое и насмешливое:
— С камбуза я.
Витос тряхнул черной гривой, и странно — это помогло: он вспомнил заморыша в огромном грязно-белом халате с плечами на локтях и рукавами, закатанными в чудовищные валики. Картинка эта обычно мелькает, когда пробегаешь на палубу мимо камбузных дверей. Мелькнуло перед ним и синее спортивное трико мальчишки-камбузника, тоже виденное не раз в коридоре плавбазы.
«Ну и да-а-а, — затянул про себя Витос, мысленно совмещая, как фотоснимки, два образа. — Это ж гадкий утенок. Он, — все больше узнавая, поражался Витос. — Натуральный, живой гадкий утенок».
— Я думал, — Витос прыснул, — я считал, что камбузник — мальчишка. А это — вы?
Он даже остановился, забыв, что танцует. Благо такты уже затухали, как робкий дождик перед шквалом нового шейка.
Они сплясали еще два или три танца и вышли на палубу. Тихая стылая ночь висела над морем, над еле различимым контуром скал, над тундрой, чуть мерцающей снегами. Морозные лучики звезд пронзали Светкино платье, муравьями, тысячами крошечных челюстей впивались в спину. Девушка поежилась. Витос мгновенно сорвал с себя джинсовую куртку, неловко набросил ей на плечи.
— А вы? — пискнула она.
— Да мне жарко!
— Трудно верить…
Ему и правда было жарко в рубашке — ночью, посреди моря, у Чукотки, считай, зимой. Да и кому на его месте не было бы жарко в восемнадцать, рядом с Золушкой — царицей бала. Кровь бешено неслась в жилах, рождая желание взлететь. Хотелось немедленно совершить что-нибудь такое… И он, не зная этому выхода, не ведая, чем укротить порыв, стал декламировать стихи — первое, что пришло на память:
Я изнемог от мук веселья, Мне ненавистен род людской, И жаждет грудь моя ущелья, Где мгла нависнет над душой!и всплеск восторга, переполнявшего его сердце, звучал такой радостью в молодом, звонком голосе, что — странно — угрюмые стихи зазвенели прямо-таки празднично, мажорно.
Она улыбнулась, вся во власти его восторгов, и лишь спросила:
— Чьи это стихи?
Вдохновленный ее тоненьким голоском, он лихорадочно перебирал в мыслях любимые строки любимого поэта. И торопясь, боясь остановиться, как будто ночь, мороз и звезды могли обрушиться на них от этого молчания, он снова начал читать.
— Ну, чьи же это стихи? — требовательно и нетерпеливо спросила она.
— Байрон, — сказал он, уже явно дрожа и не справляясь с челюстями, сведенными судорогой.
— Ты же замерз! — Она окинула взглядом его фигуру со скованными, вибрирующими под кремовой рубахой мышцами.
— Н-нет! — ответил он твердо, глядя на нее преданными глазами.
— Д-да! — передразнила она и засмеялась тихим смехом.
— Да нет же! — стоял он на своем, хотя и сейчас, как ни старался, зубы сжались, и вместо «же» у него получалось «джи». И она снова рассмеялась, на этот раз по-другому — тоненько и звонко, как Маленький Принц. А он даже не улыбнулся — так замерз.
— Как зовут тебя? — спросил он, не заметив, что оба уже перешли на ты.
— Света, а тебя?
— В-виктор.
— Ты обработчик или матрос?
— М-м-матрос.
— Да у тебя же зубы стучат, Витя!
Она шагнула к нему и потрепала ладошкой его «ежик». Он, словно ждал этого, схватил ее, неуклюже ткнулся ледяными губами ей в щеку. Она уперлась кулачками в его окаменелую грудь, высвободилась из рук его и, повернувшись к двери, сказала решительно:
— Пошли!
— Н-н-н! — опять не согласился он. И она медленно вновь повернулась к нему, чувствуя, как этот упрямый парень нравится ей все больше.
Несколько секунд они молча смотрели друг другу в глаза, не видя глаз, начерно затененных бровями. Он, ощутив, как приливает тепло к его губам, щекам и ушам, шагнул к ней, обнял бережно и сильно поцеловал. Впервые в жизни поцеловал девушку прямо в губы.
IV
Лебедчики на плавбазе «Удача» — народ, как на подбор серьезный и в годах. Александр Кириллович Апрелев, наверное, самый молодой среди них. Хотя здесь возможна ошибка, потому что он, несмотря на лысую и круглую — натуральная луна — голову, в сорок лет так порой на мальчишку смахивает, что принимаешь его за чудо вечной молодости. Пожелай он соврать лет на десять, и вы поверите без всяких. Но врать он не любит, а забавляется тем, что после явно мальчишеской какой-нибудь выходки (спустится из лебедочной кабины на перекур и по палубе на руках пройдется), веселый и раскрасневшийся, на «подкожный» вопрос, сколько ему лет, ответит задорно и будто сам не веря:
— Сорок, а что? — и улыбнется юно, доверчиво и непременно проведет ладонью по лысине.
— Твой ли это сын, Саша? — с веселым искренним удивлением сказал начальник радиостанции, когда они еще там, на стоянке в Находке, впервые зашли в радиорубку плавбазы — «на экскурсию».
Отец и сын, они просто на диво были непохожи: рослый черноволосый юноша с темными, почти черными глазами, не по годам серьезный до угрюмости, напряженно, даже как будто судорожно замкнутый, и — открытый, распахнутый, что называется до сердца, живой, веселый даже этой сиятельной плешью человек, коренастый и невысокий. Черты же — неуловимые что-то в рисунке губ, форме и посадке головы, выпуклостях лба, легкой курносости — явно выдавали родство светлого духа отца и сына. Аминь.
Когда Александр Кириллович служил на Черноморском флоте, было это (подумать только!) двадцать лет назад, он сумел однажды подобрать по слуху «Яблочко» на баяне, потом научился брать басовые аккорды и за четыре года флотской срочной службы поднялся до вершин «Во саду ли, в огороде». На том бы, возможно, все и кончилось, потому что жена могла потратиться на сервант, импортный гарнитур, а в апогее достатка — на мутоновую шубу и люстру «как у Любарских», но баян, о котором время от времени робко заикался муж, считала недозволенной роскошью. И хотя Александр Кириллович ни пьяницей, ни игроком не был, жена с тещей на всякий случай регулярно справлялись в портовой кассе насчет его зарплаты, и таким образом утечка, даже рублевая, была исключена. Короче говоря, баян он купил лишь через год после побега из семейного лона. Баян действительно был роскошный — стобасовый, с переключением регистров, с инкрустацией по панелям, с душистыми ремнями из мягкой толстой кожи, певучий и звучный, марки «Орфей». Руки сами к нему тянулись. И за четыре месяца путины матрос траулера «Дружба» Александр Апрелев поднялся от «Яблочка» до виртуозного исполнительского мастерства. И когда капитан «Дружбы» Герман Евгеньевич Семашко поехал в Японию принимать плавбазу «Удача», матроса-баяниста он увез с собой: уж очень душевно, просто щемяще играл Апрелев его любимую «Раскинулось море широко».
Там, в Японии, в порту Иокогама после подписания приемо-сдаточного акта в каюте капитан-директора был устроен традиционный банкет с «рашен-водкой». Судостроительная фирма, желая сделать приятное русскому капитану, презентовала ему стереомагнитофон с записями эмигрантов. Там были и «Вдоль по Питерской», и «Коробейники», и «Казачок». Но каким же холодом, неуютом, бездомностью веяло от них! От самых родных, русских песен! И то, что записи были высококачественные, еще больше усугубляло впечатление чего-то отболевшего, но не зажившего: из горла певца рвался плач, безысходная тоска по утраченной Родине. Вряд ли это слышали в песнях иностранцы, но для русского слуха все было предельно ясным.
Герман Евгеньевич уже третий месяц жил в Йокогаме, и ностальгия без того давала себя знать. Он слушал эти чистейшие стереозаписи и все больше хмурил лоб. И в конце концов встал, включил спикер и объявил: «Матросу Апрелеву зайти к капитану!» Через минуту раздался телефонный звонок.
— Мы с боцманом в питьевом танке сидим, проверяем цементацию, — говорил Александр Кириллович. — Куда ж я сейчас такой, в робе?
— Не могу, — прорычал в трубку капитан, — понимаешь, Саша, не мо-гу… Вылезай, бери баян и — ко мне. Да, да и побыстрей!
— Один момент…
Японцы потеснились, освободив матросу край дивана, и вот уже баян разливает по просторной капитанской каюте:
Раскинулось море широко, И волны бушуют вдали, Товарищ, мы едем далеко. Подальше от нашей земли…Не скрывая слез, капитан победно глядел на гостей, да японцы и сами, видно, почувствовали разницу и одобрительно кивали черноволосыми головами, прикрывая узкие глаза желтыми веками.
Вообще у Александра Кирилловича оказался редкий, природный, видно, нюх на вечные, неувядающие песни. Притом играл он их всегда своеобразно, интонационно углубляя, вольно обходясь с мелодией, всякий раз как будто по-другому, по настроению.
— А во-о-о-о-лны бегут… — он мог протянуть эти «волны» так далеко, что у слушателей останавливалось дыхание.
Эх, жаль, не было Витоса на «Удаче» Девятого мая, когда праздновали тридцать два года Победы и его отец в затемненном зале вот этой самой столовой исполнял «Землянку» при коптилке, сделанной накануне им самим в судовой слесарной мастерской! Потом он играл и пел «Темную ночь», «На позиции девушка», «Заветный камень», а когда его просили повторять, пел новые и после каждой песни со смущенной улыбкой смотрел, как горячо хлопают тяжелые рыбачьи ладони. А через несколько дней, проходя по палубе, услыхал, как молоденький матрос в джинсах и с «хипповой» гривой, словно бурлак «Дубинушку», напевал «Играй, мой баян, и скажи всем врагам, что жарко им будет в бою», расплетая при этом тугой трос на пряди, пыхтя и делая круговые рывки руками в такт песне.
Бахнула стальная дверь с палубы, и в конце коридора, похожего на вагон метро, показались Витос с камбузницей. Медленно, слегка раскачиваясь под низкими плафонами, приближались они к дверям столовой. Поглощенный собой и спутницей. Витос не заметил отца, и Александр Кириллович спрятался за спины болельщиков — в основном пожилых ровесников, не без блеска в очах созерцающих праздник молодости.
Столовая, как ящик «Фитиля», вновь взорвалась шейком, а Витос первым вывел Золушку на середину.
— Твой малый мимо не стреляет, — ткнул локтем Апрелева в бок Антон Герасименко.
Александр Кириллович, поглаживая лысину, ответил ему сияющим взглядом. Все существо его сейчас словно наливалось светом. И когда закончился танец, юный задор уже переполнял душу Апрелева-старшего. И тут — вальс «На сопках Маньчжурии». Стрелять мимо — это вообще не по-апрелевски. Александр Кириллович пружиной рванулся из своего убежища и через мгновение уже кружил в вальсе девчонку-сортировщицу из своей смены. Они хорошо знали друг друга еще и по самодеятельности, где под его баян она не раз срывала призы в польках и мазурках.
«Ловелас», — заключил тут Витос, следя за стремительной этой парой, и склонился к Светлане, когда отец проносился мимо:
— Дает мой батя, гляди!
На миг мелькнула мысль о матери, далекой, забытой отцом, старящейся. И отразилась, видно, эта мысль в глазах Витоса. Голова Светланы была на уровне груди Витоса, и потому, наклоняясь к ней, он невольно смотрел на отца исподлобья. Острый, корящий взгляд сына льдинкой толкнул Александра Кирилловича прямо под сердце.
В оглохшем, пустом пространстве он по инерции еще сделал несколько оборотов. Вальс оборвался, руки опустились. Он поклонился партнерше, тут же снова обрел способность слышать, увидел на лице девчонки недоумение, понял, что танец не кончился, пробормотал извинение и шагнул в избавительную прохладу коридора. Все сорок лет вмиг опустились на его плечи. Ноги приняли эту тяжесть, сердце приняло этот груз и заныло.
— Шо, задохся? — спросил Антон. — Это не на лебедках ручки дергать, парень.
«Парень, — мысленно повторил Александр Кириллович, — какой, к черту, парень? Дед! Сыну вон восемнадцать. Парень… Паренье кончилось. Пар выходит». Только сейчас он почувствовал, что действительно дышит тяжело. Спускаясь по трапу на палубу, где живут лебедчики, Александр Кириллович снова пережил миг, когда зазубренная льдинка сыновьего взгляда толкнула его в сердце.
Каюта была пуста. Дверь захлопнулась резко и гулко. Неприятно отозвалось в спине. Койка вяло скрипнула, когда он уронил на нее отяжелевшее свое тело.
Он невидяще уставился в переборку. За сорок лет мысли о смерти, естественно, не один раз приходили к нему. Но сейчас они будто зазвучали — голосом сына, зазвучали, заострились, укололи точно в сердце, тюкнули коротким и острым словом «все».
Все, вся твоя жизнь с огромным прошлым, с бесконечным, казалось, будущим, вот с этим горячим клубком, что называется настоящим, все твои вселенные с миллионами звезд и угольной крошкой в глазу, которую судовой фельдшер целый час добывал оттуда, с чудом звуков и созвучий, открытых, или услышанных тобой, все твои добрые и злые (а были они, злые?) дела, — в общем, все, что вмещает в себя это коротенькое слово. Все неожиданно сливается в узкий луч, он летит, точно проваливается в звенящую даль.
Глаза склеиваются, спать хочется. Оп! Что-то снова шевельнулось прямо в сердце. Боль шевельнулась. Отдыхать, спать, умирать… Смерть приходит в покое. Лень и смерть — вечные не разлей союзники. Не останавливайся, не закрывай глаза, не прерывай мысли и будешь жить, рождать цветы и песни. Ясно? Ясно. Ну вот и прекрасно.
Александр Кириллович встал с койки, вынул баян из рундука, просунул в ремни руки. Боль сразу отдалилась, ушла.
— Играй, мой баян, и скажи всем друзьям…
Это так, для пробы. А сейчас вот эту, любимую;
— И старость отступит, наверно, не властна она надо мной, когда паруса «Крузенштерна» шумят над моей головой!
Тамаре тоже эта песня очень нравится, а Сережка вообще без ума от нее: дня на берегу не проходит, чтоб не просил сыграть. Даже малышка Маришка, только-только осилившая «В лесу родилась елочка», уже мурлычет, пеленая кукол, про паруса и старость.
Баян запел. Мужественные басы, словно поддерживая снизу на вытянутых руках живое и нежное тело мелодии, понесли, понесли его, качая в такт шагам, будто на волнах. Вот так, в прибойной пене звуков, неожиданно подумал Александр Кириллович, да, именно так, из стихии и рождается песня. А музыка — доктор сердец. Вот и боль прошла совершенно. А то, понимаешь, расфилософствовался.
Миллионы голубых звезд, дрожа, яркими росинками висят в небе над живым, чудесным миром. За бортом плещется под звездами живое море, за морем — свет в окошках, деревья перешептываются на ветру, на берегах, где дым Отечества… Звезды…
— Нет, Витька, — неожиданно вслух сказал Александр Кириллович, — мы еще поживем, порыбачим. Я еще тебе пригожусь, как говорят печка и яблоня в сказке.
Слова эти прозвучали в пустой каюте с такой бодростью, что баян сам, как живой, тут же откликнулся мажорным аккордом. И сама собой полилась мелодия. В ней было что-то и от «Землянки», и от «Раскинулось море широко», и еще что-то — его, апрелевское, внесенное его душой.
V
Разве мог дневник вместить события этого дня?
В дорогу мать справила Витосу «министерский» чемодан — под цвет темно-синего костюма, с мягким верхом, округлыми углами, ярко-желтыми ремнями внутри и двумя золотыми ромбами замков снаружи. На самое дно, на голубой в полоску шелк подкладки. Витос уложил четыре общих тетради в дерматиновых переплетах. Одна тетрадь станет дальневосточным дневником, три других вместили жизнь Витоса с седьмого класса.
Он хорошо помнит момент, когда раскрыл первую тетрадь. Все существо его тогда переполнила Тайна. Даже Валька и Славка, знавшие до тех пор о нем все, не должны были узнать о ней. Убежище — начертано вверху страницы, а чуть ниже потекли бисерные строчки, среди которых, порой по нескольку раз в строке, мелькают две буквы, выписанные с трепетом.
Во второй тетради главный знак Тайны был уже написан по-русски, но с неменьшим старанием — В.Л. Третью тетрадь, жизнеописание десятиклассника, занимал преимущественно светлый квадрат ринга. Все реже мелькало В.Л., зато по три-четыре страницы кряду заполняли бои, первенства, чемпионаты, с глубоким анализом тактики и самой скрупулезной разработкой стратегии прядущих поединков. Мечты, об олимпийском ринге здесь соседствовали с описанием домашних сражений — от бабкиного ворчанья по поводу разбитых носов до банальных материнских запретов: не пойдешь, мол, на тренировку, пока не расскажешь толком про Пьера Безухова, или: забудь про областные соревнования и вообще про свой мордобой, я запрещаю тебе заниматься этим в ущерб школе. Знала бы она, сколько «консультаций» по физике и математике прошло в спортзале! Любовь к В.Л. не то чтобы была забыта, но потускнела заметно: В.Л. если и ходила в спортзал, то только на вечера танцев, к которым Витос был почти равнодушен.
Но одна дата, в самом начале третьей тетради, сияла в разноцветных лучах.
«Такого никогда и ни с кем не случалось, — писал Витос. — Я абсолютно убежден в этом, потому что об этом писали бы и пели, а я до сих пор не читал и не слышал о таком. Произошло это со мной сегодня днем, в самую жару, в городском парке. Я шел с тренировки. Как обычно, после душа чувствовал легкость и бодрость и удивлялся, что город спит, сморенный солнцем. И в этой тишине я подумал о В.Л. Как всегда, чувство тоски по ней пронзило всего меня, но в этот раз оно длилось всего одно-единственное мгновение. Все мое существо быстро стало заполняться чем-то большим и легким. Как будто весь простор ввысь и вширь начал вдруг переливаться в меня, в мою грудь, в мою душу. Я ощутил в себе огромность и силу. Если б захотел, я мог запросто перешагивать через самые высокие деревья, мог поднять одной рукой круглый каменный фонтан к самому солнцу, лишь бы он уместился на моей ладони. Я искал глазами ту самую точку опоры, чтобы повернуть земной шар, чтобы разбудить сонное царство и сказать всем: «Я люблю ее и для нее поверну Землю!» И вдруг я подумал, что люблю В.Л. совсем не так, как обычно любит человек, я подумал, что людям не понять моей любви. Я почувствовал совершенно ясно, что никакой другой любви, ни-ка-кой другой мне не нужно от В.Л. Моей душе необходима ее душа, и только! Они должны встретиться там, в синем эфире, и там летать в солнечных лучах. Я понял вдруг самую суть Великодушия. Абсолютно ничего, связанного с телом, телесного! Вот сказали бы мне сейчас: она — твоя, даже сама В.Л. сказала бы: Витя, я люблю тебя, обнимай меня, целуй, делай со мной что хочешь, и я бы только улыбнулся и только чуть-чуть покачал головой: нет.
Я медленно плыл по парку, улыбался и чуть покачивал головой. Я смотрел в густую синеву и видел витающие там светлые, бесплотные наши души. Со стороны я, наверное, смахивал на блаженного…»
Этот день стал переломным, и любовь Витоса стала приземляться и медленно гаснуть с этого дня. Но ракета гаснет бесследно, а Витос отныне без конца будет возвращаться памятью к этому дню, к этому чувству.
Да, первая любовь не проходит без следа. Она навеки остается с тобой. Живет и дышит в тебе, и грудь твоя потому порой и вздымается внезапно высоко: знай, это вздохнула живущая в твоей душе Первая Любовь. И никогда она не вздохнет без причины. Ты взрослеешь, мужаешь, даже черствеешь под суровыми норд-остами жизни, ты можешь этого и не замечать, а она все видит и слышит. Порой она не дает тебе покоя, я ты пытаешься утопить ее в вине, выкурить табачным дымом, а она, ясноглазая и застенчивая, вдруг, в самый неподходящий миг, встанет во весь рост, вскрикнет пронзительно, и заноет болью душа, и ты по первому этому зову выйдешь на волю — в парк, на палубу, на балкон, запрокинешь голову в небо, и глаза твои, теперь глубокие и грустные, отразят звезды, луну или солнце…
Как все хлопцы-одноклассники, Витос умел смотреть сквозь девчат, не давал им спуску, не лез никогда за словом в карман. Но эта легкость в обращении с прекрасным, слабым, непостижимым, бог его знает каким, в общем, противоположным полом была у него напускной. Он вздрагивал от случайного прикосновения девичьей руки, он втайне считал себя ущербным, на танцах выбирал самые темные углы и почти никогда не танцевал. Он был уверен, что в объятиях любимой девушки немедленно расплавится от собственных чувств. Порой, представив на миг совершенно невозможное — девичьи руки, обвившие его шею, — Витос целыми днями ходил словно ослепленный. Случись это на самом деле, он сошел бы с ума или умер от счастья.
И вот случилось. Четырнадцатого ноября тысяча девятьсот семьдесят седьмого года. И он не умер, а наоборот — будто воскрес, почувствовал новую, необычную силу, радость, которую нельзя даже сравнить ни с чем… И все это пришло в тот день со Светланой Александровной, Светой, Светланкой, Золушкой с камбуза.
В светлом проеме двери возникла мальчишеская фигурка в спортивном трико.
— О-о! — воскликнул Витос и забыл закрыть рот, уставясь на Светку, глядевшую в полумрак каюты круглыми от испуга глазами.
Дневник остался на подушке раскрытым. Сердце Витоса, обгоняя самые свихнувшиеся часы на свете, рванулось вперед, замолотило идущим вразнос дизелем, сбросило его с койки, толкнуло к выключателю. По пути он чуть не сбил с ног тоже перепуганную не на шутку девушку, внезапно раздумал зажигать свет, остановился возле нее как жердь и выдавил:
— Проходи, садись.
Светка, тихохонько ступая и косясь на нижнюю койку, скрытую шторой, прошла к дивану и села в темный угол под иллюминатором, мерцающим морозными кристаллами.
После праздника они почти не виделись. Но если вы думаете, что это по их собственному желанию, то страшно ошибаетесь. Просто им ужасно не везло: днем оба на работе, на людях, а вечером…
В первый же послепраздничный вечер помполит вызвал к себе ремонтного механика — молодого парня, недавно закончившего политехнический, матроса-обработчика, щеголявшего на танцах в пиджаке с университетским ромбиком, и почему-то Виктора Апрелева. Загадочно улыбаясь, товарищ Бек Махмуд Рамазанович, которого все на судне звали Михаил Романович, сообщил собравшимся, что в системе заочного обучения рыбаков наступил новый учебный год. Заочная школа плавсостава, сказал он, располагает ограниченным штатом водоплавающих учителей. «Удачу» в этом смысле постигла неудача (при этих словах помполит обворожительно улыбнулся, а вместе с ним осторожно улыбнулись механик и матрос). А посему, сказал товарищ Бек, в парткоме управления посоветовали самим организовать на базе УКП — учебно-консультационный пункт. Так обработчик с «поплавком» на пиджаке стал учителем русского, механик — математики и химии, а на Витоса, который еще до конца не смыл чернила с пальцев, возложили должность учителя физики.
Часа два в каюте помполита разрабатывались грандиозные планы привлечения в школу великовозрастного рыбачьего народа, составлялись графики консультаций, высказывались оптимистические и скептические соображения, рождались и гасли споры, в которых Витос по молодости участия не принимал, а лишь глазел на всех троих, изобразив на лице заинтересованность и думая о своем. Когда же все разошлись наконец по каютам. Витос кинулся к камбузу и напоролся на огромный амбарный замок. Он поднялся на шлюпочную палубу, где жила Светка, с минуту постоял у двери ее каюты и, услыхав голоса за дверью, молниеносно бежал с этой палубы. Нет, нет, не подумайте, что он трус. Победить робость и войти в каюту, где жила с тремя обработчицами его Золушка, Витос сумел бы, можете поверить. Но разве в нем дело, когда ставится под удар девичья честь! Витос уже давно понял, что плавбаза — вроде небольшой деревни, где нос и корма — близкие околицы, и сплетни здесь распространяются со скоростью звука. За два месяца на судне он слышал их, наверное, десятками. Правда, они скользили мимо ушей Витоса.
Даже и вечера теперь у Витоса были заняты одинаково. Днем боцман гонял его по морским узлам — шлюпочный, прямой, шкотовый, а вечером Витос гонял Василия Денисыча по трем правилам динамики, закону Бойля-Мариотта, бесчисленным «постоянным». И боцман, двадцать лет отдавший палубе, спокойно и серьезно долдонил законы физики, миновавшие его в юности, когда подпаском в кубанских степях приходилось ему зарабатывать на хлеб. Матросский учитель и заступник, он всегда говорил тихо, ровно настолько, чтобы услышали. В шторм все орут на палубе так, что жилы выпирают на шее, а он спокойно скажет тебе в самое ухо, и ты ясно услышишь, и шторм тебе уже не шторм. Но именно за это не любил Денисыча старпом, убежденный, что боцман должен быть горлопаном. И именно за то, что без крика и суеты держался порядок на палубе, уважал боцмана капитан-директор «Удачи».
Вышла ошибка в формуле силы тяжести, и Василь Денисыч усмехнулся над собой. Усмешка у него хороша — в усы, хоть их и нет. Витосу приоткрылась загадочная дотоле психология школьного учителя и с новой, необычной стороны виделся этот очень симпатичный ему человек, старый моряк, проживший огромную жизнь — сорок два года. Он сам нередко помогал своему юному преподавателю глубже познавать те же законы физики, неожиданно и крепко, морскими узлами повязывая их с морем, с жизнью на палубе. Витосу было интересно с ним. Но…
За всю эту бесконечную неделю лишь раза три-четыре, случайно. Витос встречал в коридоре Светку. Оба смущенно улыбались и говорили незначительные какие-то слова, тогда как в Витосовых глазах плавились угли, а золотоглазая Светка особенно сбивчиво и бестолково тараторила взглядом о чем-то и невольно звала куда-то. О чем? Куда?
Витос наконец пришел в себя, сдернул со спинки стула свитер, одним движением надел на майку и сел на диван, прижавшись плечом к рундуку.
Свет надкоечной лампочки, горящей в изголовье Витосовой койки, выхватывал через полураскрытые шторы как раз тот прямоугольник дивана, что разделял сидящих на нем. Оба были в спасительной тени и каждый радовался этому важному обстоятельству.
— Сейчас, наверно, рано, — прервал наконец Витос невыносимое молчание, — часов девять, да?
Придвинув руку к светлому пятну, она осторожно отвела пальцем краешек рукава кофточки, склонила голову над маленькими часиками — синим вороньим пером блеснули гладко зачесанные волосы — и тихо сказала, почти прошептала;
— Без пяти десять.
И снова спряталась в тень, опасливо покосившись на нижнюю зашторенную койку. Он поймал ее взгляд, и у него тут же вырвалось:
— А Колька в кино пошел, шестой раз на «Бриллиантовую руку».
— Я тоже два раза смотрела, — оживилась она. И для него музыкой прозвучал ломающийся ее мальчишеский голос с трогательной хрипотцой. Он помолчал немного, но испугался молчания и выпалил:
— После кино «козла» пойдут забивать!
— Витя, — осмелела она, — почему ты не приходил ко мне?
— Приходил! — сказал он, удивившись сразу и ей и себе. — Но у тебя в каюте столько народу…
— И ты их побоялся? — в голосе ее была насмешка, еле-еле уловимая, может быть, невольная, но — насмешка. Она попала в цель.
— Я? Их? Побоялся?..
— Ты! Их! Побоялся! — она старательно прятала улыбку.
И оба наконец рассмеялись, свободно, раскованно, как где-нибудь на лугу, после долгого бега запыхавшись и упав в траву. Маленькая матросская двухместка, ячейкой втиснутая в соты судовых кают, словно раздалась во все стороны, вместив луга и травы их детства.
Она бойко пропищала что-то про девчонок из своей каюты. Он о чем-то, тоже незначащем, спросил ее и, не дожидаясь ответа, принялся рассказывать про Василя Денисыча и уроки физики. Она засмеялась над чем-то. Над чем, он не уловил, но засмеялся вместе с ней и осознал вдруг себя в этот миг стоящим возле нее, у столика. — Казалось, его заворожила морозная сказка мерцающего иллюминатора — так пристально он всматривался в него, наклонившись вперед и опираясь на подшивку «Огонька», что с месяц уже валялась на столе.
В этот момент распахнулась дверь за его спиной, в каюту вошел Коля Худовеков, матрос первого класса, рулевой старпомовской вахты. Витос, как на выстрел, обернулся на звук и свет. И Коля, милый Коля — не зря ты прожил на свете на целых пять лет больше — поздоровался, при секунды, не дольше, покопался в своем рундуке, объявил доверительно: «На «козлика» иду» — и исчез.
— Он тоже матрос, как и ты? — опять чуть охрипшим звоночком прозвучал ее голос.
— Да, только он не в рабочей бригаде, а вахту стоит со старпомом.
— А мне не нравится ваш старпом, — сказала она.
— А мне ваш старпом не нравится, — отпарировал он. И снова оба рассмеялись.
Они не преминули поговорить и о том, чем жила последние дни «Удача»: ледовая обстановка на промысле позволяла работать, и уход плавбазы в родной порт отложили до декабря — планы на отпуска и отгулы у всех менялись, и огромный экипаж гигантского судна здорово смахивал оттого на потревоженный пчелиный рой. Декабрь обоим казался сейчас далеким, как третье тысячелетие. И хотя оба твердо решили: она — по приходе в порт расстаться с морем и поступать в институт физкультуры, он — наоборот — остаться в море, перейти на траулер — никто сейчас не говорил об этих планах, отодвинувшихся в незримое будущее. Потому что в их душах как раз вовсю цвели подснежники и кричали скворцы. Ну а кто же весной думает о грядущей зиме!
Как случилось, что на столике, рядом с «Огоньком», оказалась ее рука? Как случилось, что его рука там, во тьме, сама нашла нечаянно ее руку? Как все это случилось, он не знал и даже не задавался этими вопросами. Он лишь вздрогнул. Руки их уже не могли расстаться. И он глубоко-глубоко вздохнул, а она затаилась, как птаха в гнезде. На миг закрыв глаза. Витос вдруг поцеловал ее. И сел рядом, зажав руки коленями. Она неожиданно погладила его обеими ладонями по голове. Боясь прикоснуться к ней рукой, он наклонился и поцеловал ее в губы.
Она положила ему на плечи невесомые руки. И тогда он вновь поцеловал ее, сильно и неумело прижавшись пылающими губами к ее губам, тоже горячим и неумелым. Он провел ладонями по ее волосам, щекам, подбородку и только после этого отважился обнять ее за плечи. Снова и снова целовал он ее губы и щеки, целовал в глаза и опять возвращался к губам, совершенно завороженный нежными ощущениями.
И вдруг оглушительно зашипел динамик над головами — это вахтенный штурман включил принудительную трансляцию с мостика:
— Судовое время двадцать три ноль-ноль. По судну — отбой. Спокойной ночи, товарищи!
Опустились руки у Витоса, соскользнули с его шеи руки Светланы. На мгновение оба словно застыли. Потом она встала и попросила далеким-далеким, тоненьким голоском включить свет. Витос-матрос, словно это был приказ самого капитана, приказ, от которого зависело спасение судна и экипажа, бросился к выключателю. Плафон-солнце вспыхнул и затопил каюту ярким, летним светом. У двери, над раковиной, было зеркало на переборке. Светлана подошла к нему и стала поправлять волосы. В золотистых глазах ее плавал невинный и в то же время бесстыдно-хмельной напиток, рдели щеки, губы полны были соком, они цвели спелыми, смуглыми черешнями, которых так много весной там, в Рени, на родном голубом Дунае. И Витос подошел к ней, заглянул сбоку в ее глаза, улыбаясь при этом совсем как блаженный: он переживал запах спелых черешен…
Глаза у них закрылись одновременно: что-то невыносимое, неведомое, бесконечное было сейчас в глазах у обоих. А поцелуй спасал от непонятного и бездонного, лежащего за пределами человеческого рассудка. Если бы они пересилили себя и бесстрашно заглянули друг дружке в глаза, то увидели бы там, в глубине, все-все, о чем пока не знали, не догадывались и даже не предчувствовали. Вот ведь где чудо из чудес — глаза! Они не только зеркало души, они еще обладают способностью отражать будущее, близкое и далекое. Глаза… Не зря их прячут от стыда и смущения, не зря говорят, добиваясь правды: «А ну посмотри мне прямо в глаза», А сколько у нас поговорок и пословиц «с глазами!» Глаза яснее ясного отражают боль и ненависть, нежность я любовь и еще тысячи оттенков всех мыслимых и немыслимых чувств. «Буйство глаз» с годами уступает спокойной мудрости, смирению или бессильно ворчащей непримиримости со злом. Прожитые годы могут наполнить мешки под глазами, налить свинцом козырьки век, обрамить глаза сеткой горестных морщин, а миллионы улыбок могут украсить лучиками углы глаз, не утративших юной яркости, и тогда молодость, покинувшая больное, старое тело и лицо, изрубленное, точно шрамами, морщинами, вся сосредоточится в глазах. И как они поражают всегда, взглянув ясным, юным взглядом из-под черных бровей, что так необычно контрастируют с серебряной головой или снежной бородой патриарха. Глаза, два крошечных окошка в окружающий мир, словно «магические кристаллы», вбирают этот мир в себя, полнятся содержанием и обретают с годами все новые и новые формы. Пройдитесь по городской улице, вглядитесь в лица: горестные ромбы, суровые и непокорные прямоугольники, дьявольски ненастные чечевицы, насмешливые щели — глаза, глаза, глаза…
И юной яркости глаза до самой смерти не утратят, если живет в них любовь. Земная любовь, которая родилась в море.
VI
Витосу снова «повезло»: по приказу старпома он и Коля Худовеков были откомандированы с палубы в распоряжение старшего механика для покраски машинного отделения. А что такое машинное отделение плавбазы? Это ужас что такое! Отсюда, сверху, где сидят сейчас на подвесках Витос, Коля и практикант-моторист, до низа, до палубы машинного отделения, которую все зовут здесь просто «плиты», потому что там и в самом деле настелены стальные рифленые плиты, черно-синие, блестящие от соляра, которым их протирают на каждой вахте — по шесть раз в сутки, — так вот до этих плит от световых машинных люков-капов не меньше двадцати метров! Столько же, если не больше, занимает машинное отделение в длину и, пожалуй, не меньше в ширину — этакий «кубик». В самом центре куба высится собственно машина — главный дизель зверской мощности — в семнадцать тысяч лошадиных сил. Слон, мамонт, паровоз — все это игрушки по сравнению с судовым дизелем. Скорее, это дом, трехэтажный железный дом с наглухо забитыми дверьми и окнами. Семнадцать тысяч лошадей, которых сумели загнать в него, похоже, сбесились там от тьмы, тесноты, угара, они ржут, мечутся, бьют копытами во все стороны, хором утробно вздыхают и чихают. И от всего этого их темница не переставая дрожит и раскачивается. Вокруг железного дома-дизеля, на высоте трех-четырех метров, по всему машинному отделению — от носа до кормы и от борта к борту — идет прозрачная палуба. Это так называемые вторые решетки, натуральные дюралюминиевые решетки, по которым вначале и ступаешь-то со страхом, пока не обвыкнешь. На них полно электромоторов, вспомогательных механизмов и ящиков. Стены машинного отделения, поднимаясь, здесь несколько сходятся, идут с наклоном внутрь, отчего третьи решетки по площади вдвое меньше вторых. Тем не менее на них просторней и светлей, но и тут по переборкам натыкано железных ящиков-цистерн с табличками: масло, топливо, вода.
Вот и сравните теперь… Да, Колонный зал наверняка проще красить. К тому же его не надо перед покраской мыть. А здесь предстояло еще все эти сотни квадратных метров, увешанные черт-те чем и увитые, что лианами, сотнями труб, отдраить от липкого, маслянисто-крупитчатого налета.
— С-с-с-с, — протяжно свистнул сквозь зубы Коля Худовеков, смешно очертив головой все это сверху донизу, — да нам здесь с неделю сидеть, братишки.
— Я вам дам «с недевю»! — раздалось откуда-то сверху. И все трое, как по команде, задрали головы. С палубы в раскрытые машинные капы заглядывал стармех.
— Вячеслав Юрьевич, — вскричал Мотылек (так звали в машине практиканта-моториста), — а чего нам резиновых перчаток не дали?
— Я вам дам «с недевю», — повторил свое стармех. — Чтоб через три дня бвестево мне! Вы ж — комсомовьская бригада!
Он улыбался, похоже, каким-то своим мыслям. На круглом, кошачьем лице его сидели добрые и хитрые глаза, умевшие вот так уйти внутрь и одновременно по-хозяйски окидывать свою вотчину — машинное отделение. «Шкодный стармех», — весело подумал Витос. А как он смешно картавил!
— За недевю, комсомовьцы, я один бы все сдевав. День — он двинный, за сегодня помоете, а завтра и посвезавтра — цевых два дня вам — мавярам!
— Да ведь тут только одних ящиков и электромоторов — за три дня не выкрасить, — застрочил Коля со свистом.
— Ну и пувемет! — сказал стармех, и все дружно грохнули. Он посмеялся вместе со всеми и продолжал: — Ты погоди пуви пускать, узнай сначава, что девать надо. Эвектричество вас не касается — покрасят эвектрики. Там, — он ткнул пальцем вертикально вниз, — на пвитах все сдевают мотористы. Так что вам всего ничего оставось.
Он продолжал хитро улыбаться, как бы говоря: «Ну что, хороший я организатор, умею убеждать?»
— Вячеслав Юрьич! — снова возопил Мотылек. — Резиновые перчатки! Антинакипином ведь моем!
— Я бы тебе, говубь, вайковые дав, кабы у меня быво, — ласково сказал стармех, словно прося сочувствия: вот, мол, нищета в машине, а с меня требуют, войдите тоже в, мое положение.
— Хитрован он еще тот! — сказал Мотылек, когда стармех ушел. — Все у него есть, я-то знаю — я в машинной кладовке недавно работал.
— Скажешь тоже, — вступился Витос за симпатичного ему стармеха. — Для чего ему «зажимать»? Что он, в резиновых перчатках на берегу в театр пойдет?
— Понима-а-ал, бы ты, — зло затянул Мотылек. — Он медные электроды на них выменяет. «Ченч» сделает на другой базе. Усек? Я-то знаю. А электроды — еще какой дефицит, ему за них на любом судне что хочешь дадут — и иглы к форсункам, и плунжерные пары, и какие захочешь прокладки. Усек?
— Ну ты, гусек, хватит тебе машинные байки рассказывать, — прервал диспут Коля. — Слыхал — три дня на все нам — малярам. Давай работать.
— Кончай «пуви» пускать! — огрызнулся Мотылек. И бригада весело взялась за дело: выпустил пузыри и едкую пену антинакипин, растворяясь в горячей воде, заширкали по копченым машинным переборкам капроновые щетки, первозданными белилами засветились первые отмытые квадратные метры. Работалось здесь хорошо: снизу, от дизеля, идет приятное тепло, а сверху, через раскрытые капы, падают волны свежего морского воздуха. До чего же он, оказывается, вкусный, подумал с удивлением Витос, а ведь там, на палубе, совсем этого не замечаешь, не ценишь.
Вольные пространства под капами, где могли разгуляться щетки, быстро кончились. Пришлось брать тряпки в руки, чтобы лавировать в переплетениях труб и кабелей, в узких коридорчиках между подвесными цистернами и бачками. Там особенно много скопилось грязи и пыли, круто замешенной на машинном масле. Похоже было, не один год в эти темные места не заглядывали ни тряпка, ни кисть.
Грязная вода каскадами сбегала из-под рук на переборке, оставляя широкие светлые борозды: антинакипин разъедал даже старую краску. Когда закапало и потекло на плиты, к ним наверх поднялся вахтенный моторист, или по-машинному мотыль.
— Эй, бригада, вы че не предупредили, что мыть начали? Нам же на плешь капает!
Он застелил края решеток брезентом, и с минуту смотрел, как орудуют ребята щетками и тряпками. Коля опустил свою подвеску ниже всех: он работал, как и говорил, проворней других. Моторист, встав на цыпочки, заглянул в его ведро.
— Это ж антинакипин!.. А я думал, мылом моете. Во даете, гвардейцы! А че ж без перчаток? Руки небось не у завснаба получили?
— Да-а, — заныл Мотылек, — дед не дает. Говорит, нету.
— Че ж ты, корешок, сразу к нам не спустился? Не-е, парень, так вы много не наработаете, — покачал головой мотыль, — так у вас к вечеру все руки язвами пойдут. Вы ж матросы, — обратился он к Коле с Витосом, — вот и сходили б к старпому — давай, мол, чиф, перчатки, мы ж твои кадры…
Коля спрыгнул с подвески, юркнул по трапу куда-то вниз. Мотылек вынул сигареты, царски щедрым жестом протянул Витосу:
— Кури, пока наш «бугор» бегает.
— Не курю, — отрезал Витос.
— Здоровье бережешь?
— Берегу.
Мотылек успел сделать всего две-три затяжки, как появился Коля, развел руками:
— Тю-тю, хлопчики. Эдуард Эдуардыч к деду послал. У него, говорит, есть точно, хорошо, говорит, попросите.
— Все понятно, — скорчил гримасу Мотылек. — Пошел я вниз.
Он съехал по релингам трапа. Витос, задумчиво глядя вслед ему, сказал:
— Я раньше тоже так катался, по школьным перилам, пока…
— А я и сейчас так катаюсь, — успел вставить Коля и улыбнулся.
— …пока один раз не располосовал обе ладони. — Он отер руки о штаны и стал разглядывать белые, уже разбухшие от едкого раствора ладони. — Кто-то повтыкал в перила обломки лезвия…
— Есть же такие подлецы! — выпалил Коля. — А деда возьми, чем он лучше? Тоже хорош, шельмец!..
— Лучше, — убежденно сказал Витос.
— Тем, что подсунул нам это, — Коля кивнул на ведро с раствором, — и перчаток не дает, да?
Перед внутренним взором Витоса возникла веселая кошачья физиономия деда, губы его, произносящие «ну и пувемет».
— А может, у него их и в помине нет, может, он давно их выменял на эти самые форсунки. Может, без них и двигатель бы «скис», и база бы стояла, и никто б ничего не заработал…
«Оттого, что в кузнице не было гвоздя», — мысленно добавил Витос.
Вчерашнее свидание подняло душу счастьем, и какие перчатки, какой антинакипин могли сейчас затмить этот солнечный свет!
— Может, может, — проворчал Коля и брезгливо взял в руки тряпку.
Они вдвоем успели вымыть изрядный кусок переборки, когда на третьих решетках появился наконец Мотылек. В руках у него была яркая консервная банка из-под ананасного сока, который на днях продавался в судовой лавке. В банке был солидол.
— Налетай, ребята! — сказал Мотылек, словно угощал всех соком, и сам первый поддел на палец кусок повидла-солидола. Коля с Витосом соскочили с подвесок и намазали себе кисти рук. Поверх натянули рыбацкие вязаные перчатки, и работа пошла веселее. Вначале еще перекидывались короткими репликами, шутками, а потом увлеклись и засопели в одиночку. Объединялись, лишь когда передвигали подвески.
Два часа прошли в работе незаметно. На перекур Мотылек предложил спуститься в машину. Стащили с рук набрякшие солидолом и отбеленные раствором перчатки, соскользнули по двум крутым трапам и очутились в грохочущем машинном мире.
Наверху куда тише. А здесь грохот окружает тебя со всех сторон — с уханьем бомбит сверху, из гигантских цилиндров главного дизеля, двигатели-вспомогачи обстреливают с флангов, хищно чавкают отовсюду бесчисленные клапана и насосы, В этом бешеном грохоте, чиханье и чавканье нет ничего не только человеческого, но и звериного. Тигриный рык, леденящий душу, по свидетельству охотников, здесь наверняка показался бы им приветом из живого, милого сердцу мира природы.
Сложный машинный мир. В нем попросту глохнешь, думает Витос, невольно тряхнув головой. А молодой здоровяк механик, тронув за локоть моториста, показывает пальцем на очумелых матросов, что-то кричит прямо в ухо мотористу, и оба, довольные, улыбаются. Внезапный трезвон прерывает машинную идиллию, пронзает даже грохот. Механик бросается прямо на Витоса, толкает его плечом и хватает какую-то ручку над головой. Насмерть перепуганный Витос отпрыгивает в сторону и круглыми глазами следит за его действиями: поворот ручки прекращает звон, стрелки машинного телеграфа, так напугавшего парня, сходятся на надписи «стоп». Механик уже стоит у подножия главного двигателя и снова улыбается. Раз — и он одним движением укрощает ревущую стальную громаду. Что-то где-то оглушающе шипит, всхлипывает, всхрапывает и, наконец, угомоняется, смолкает. Треск вспомогачей кажется теперь игрушечным. Можно и оглядеться.
Заснувшее чудовище-дизель дышит на тебя через все поры горячим маслом, запахом жареной конопли — неживым, хоть и жарким, машинным потом. Витос осторожно прикладывает ладонь к его крашенному под слоновую кость боку и отдергивает — горячо. Коля рассматривает приборы на пульте управления. Мотылек подходит к Витосу:
— Айда, покажу тебе судовую электростанцию.
Витос с готовностью шагает за ним. Через овал клинкетной двери они, а следом и Коля Худовеков, попадают во второй зал, размерами ненамного уступающий первому. Здесь «молотят» полдюжины дизель-генераторов, дающих ток на лебедки, транспортеры, насосы, освещение и на другие нужды плавбазы.
— По-нашему, «динамки» называются, — гладит дизеля Мотылек. — Каждая на пятьсот «лошадок». Здорово, а?
Ему приходится кричать, а слышно его как сквозь вату. Да-а, думает Витос, работа здесь не подарок. В это время подходит здоровяк механик, поднимает одну из плит рядом с «динамкой». Под плитами оказывается пространство в метр высотой, заполненное сплетениями труб. Стоя на коленях, механик отыскивает нужную ему трубу, нащупывает под ней краник, возится с ним. Перед мысленным взором Витоса на миг появляется родной дунайский берет — кусты, бурьян я бульдозер, роющий котлован под фундамент будущего дома. Рыча, как вот эта «динамка», бульдозер срывает с земли покров, и обнажаются под ним сплетения разноцветных и разнокалиберных корней. Машинный мир, оказывается, так же сложен, как природа, думает Витос. Додумать ему не дает Коля, дергает за рукав, показывает на часы, машет — пошли.
— «Невегко на свете пастушонку Пете, трудно с хворостиной управлять скотиной» — так встретил их наверху дед и, когда Коля заулыбался, добавил: — Чего увыбаешься? Я уже повчаса тут стою, а комсомовьской бригады свед простыв.
— Что, и покурить нельзя? — это Мотылек.
— Кури, но, гвавное, не забывай: отчет по практике я подписывать буду. Чтоб это посведний раз быво! — погрозил он пальцем и отчалил вниз, в машину.
После обеда перешли на вторые решетки, в тесноту и духоту, насыщенную угарными парами. Двигатель снова гремел и дрожал, как вулкан: плавбаза носилась по Берингову морю за траулерами, а те — за рыбой. Работали почти без перекуров, и, изрядно очумев на вторых решетках, бригада к концу дня, себе на удивление, осилила помывку машины.
Наутро надо было красить, а «бестолковки» трещали по швам у всех троих. Мотылек не выдержал первым:
— Схожу я в лазарет, братцы, возьму каких-нибудь пилюль.
— И на нас захвати, — вяло согласился Коля.
Жизнь катила дальше ледяные синие волны свои.
Плавбаза «Удача» по-прежнему мерила мили, гоняясь за рыбой. Дизель то ревел, то замолкал, и трое маляров, обалдев от грохота и испарений, видели сквозь решетки, как мечутся по плитам механик с мотористом у десятков насосов, компрессоров и прочих механизмов, кормящих и поящих гремучее сердце гигантского судна.
На последний перекур, уже по уши в белилах, ребята выбрались наверх, на вертолетную площадку. Сидели, прижавшись спинами к теплой дымовой трубе, глотали вкусный мороженый воздух, молчали. Каждый думал свою угрюмую думу. Витос размышлял о том, что человек создал машинный мир по образу и подобию природы, но, уставясь на чаек, повисших в небе за кормой, он выводил: природа совершенна, а вот машинному миру до совершенства ой-е-ей как далеко.
Не оторвись Коля Худовеков от теплой трубы. Мотылек так и вообще бы задремал. И бригада, приходя в себя и с неохотой расставаясь с синим морем, предзакатным солнцем и ядреным воздухом, двинула в машину на подвиги, расписанные дедом по «пвану» на три дня. После чего Коля возвращался в старпомовскую вахту на руль, а Мотылек с Витосом — по своим службам для дальнейшего прохождения нелегких морских наук.
VII
Витос опять сидел на рострах, вентилировал легкие, отравленные краской и машинной гарью, и занимался талрепами. Талреп — это нехитрое устройство, с помощью которого натягиваются тросы — ванты, леера и прочее. Витос сразу вспомнил, что такими же приспособлениями в школе крепили на уроках физкультуры турник. Трубчатый цилиндрик и с обеих концов ввернутые в него на резьбе штыри с крючьями на концах — вот и весь талреп. Цепляешь трос за гаши этими крючьями, и вращаешь цилиндр, штыри сходятся и натягивают трос. Все просто, но железяк этих у Василя Денисыча чертова прорва, и все ржавые. Вот и нужно их вертеть — расхаживать да мазать солидолом. Инструмент — байка да тряпка. Мура, короче, а не работа. Ни душу, ни тело не греет. Греет другое.
Вчера весь вечер они со Светкой целовались. Коля до полночи не приходил, и каюта принадлежала влюбленным. Как и во все прошлые вечера, здесь был полумрак — горел лишь маленький светильник над зеркалом, и от дивана его отделяли рундуки. Когда устали целоваться и Светлана смущенно пожаловалась, что у нее болят губы, показала: вот, м-м, видишь, опухли. Витос заговорил о школе, о Рени, о друзьях, с которыми ходил в шлюпочные походы по Дунаю, просиживал ночи у костров, строил планы: открыть остров в океане и основать на нем спортивное общество людей и дельфинов. Света слушала очень серьезно, а он сам, похоже, подсмеивался над собственным рассказом. И вдруг она спросила:
— Витя, а любовь у тебя была в школе?
Всего на несколько секунд он замешкался с ответом, успев прикинуть все «за» и «против» правды, успев испытать и побороть искушение лжи.
— Неужели ты соврешь? — решительно спросил Спорщик. «Конечно, нет, никогда!» И Витос ответил, глядя Светлане прямо в глаза!
— Была.
И медленно и трудно поведал ей всю историю любви к В.Л., не скрыв и 13 августа и рассказав о спасительных колокольчиках. По-прежнему слушая очень серьезно, тут Света неожиданно улыбнулась. Она вспомнила о своих колокольчиках — кастрюлях, когда бесстыжая Жанка заводила с поварихами разговоры о мужиках. Света всегда открывала на всю катушку кран в судомойке и начинала греметь совершенно чистыми кастрюлями. В улыбке припухшие Светины губы раскрылись, и Витос вновь припал к ним, словно искал прощения за рассказ о любви к другой. И поцелуй этот был долгим, как сам рассказ, и прошлое тонуло, растворялось в настоящем, и губы о чем-то спрашивали, и губы отвечали что-то. Света прижалась к Витосу, и он услышал на миг, как трудно они дышат оба, и почувствовал, как высоко поднимается у нее грудь, впервые всем существом своим, звенящим, как тетива, ощутил это чудо — грудь девушки.
Он запрокинул голову и прошептал едва повинующимся языком;
— Елки… Светланка… Да что же это?..
— Милый, — шептала она, — милый…
И он с новой силой сжимал ее в объятиях, и все повторялось снова и снова…
На рострах ветер — прямо в лицо, ледяной ветер высоких, зимних широт океана, но уши и щеки Витоса рдеют, а губы дышат жаром небывало счастливых воспоминаний. Тем временем вот уже третий талреп выходит из его рук обновленным, ложится по правую сторону, на расстеленную мешковину. Слева, прямо на палубе, лежит куча ржавых железяк, в сухих охряных пятнах-плевках моря. А справа покоятся три темных, играющих в смазке стальной синевой, совершенно новеньких талрепа. И Витос любуется ими: ишь ты, как будто только со склада.
Неожиданно ветер заходит слева, такой же ровный, напористый ветер, но подозрительно плавно берет он все левее и левее. Витос отрывается от работы и видит, что по курсу теперь уже не чистое море, а лед и берег, похожий на рисунок человеческого мозга — черные скалы со снежными прядями в расщелинах и распадках, берег, который до сих пор скользил по горизонту с правого борта. «Удача» повернула к берегу, на перегруз. Будто подтверждая Витосовы наблюдения, зашипел динамик на мачте, и оттуда послышалось привычное:
— Ффу, фу-у-у, — это Михаил Романович Бек продувал микрофон. Кроме него, никто этого не делает, а говорит сразу: «Вахтенным матросам принять концы с правого борта, заходит на швартовку СРТМ» или «Завмагу звонить по 35». Помполит же непременно сделает продувку и лишь потом объявит:
— Внимание, товарищи! Наша плавбаза подходит к району бухты Угольной на перегруз готовой продукции — пищевого мороженого минтая и кормовой рыбной муки. Это последний перегруз минтаевой путины. Вы хорошо поработали, товарищи. Особенно надо отметить работу морозильных бригад обеих смен, которые регулярно, стабильно давали по полторы, а иногда даже и по две нормы. Трюмы наши полны, и сейчас, товарищи, наша задача — в короткий срок перегрузить продукцию на борт транспорта и снова выйти в район промысла.
Витос уже знал, что помполит нерусский, что правильно его зовут Махмуд Рамазанович, а Михаил Романович — это, так сказать, русский перевод его имени. Помполит, помпа — это тоже неправильно, это придумали для краткости, а правильно должность называется — первый помощник капитана. Об этой морской специальности Витос раньше не слыхал. Когда оформлялся на «Удачу» и Бек подписывал ему бумаги. Витос спросил у отца, а что это такое первый помощник и чем он занимается. «Всем, — сказал тогда отец. — Он за порядком на судне следит, лекции читает… А кое в чем он даже главней капитана, сынок. Сам потом увидишь».
Витос промолчал, хоть и не поверил отцу: как это — главней капитана? Но ему суждено было убедиться в этом, и довольно скоро.
В обед «Удача» стала на якорь во льду бухты Угольной, и тут же к ней пришвартовался транспорт «Посейдон», здоровенный пятитрюмный рефрижератор. Пришел он в экспедицию почему-то порожняком, хотя весь флот ждал его с нетерпением, надеясь на свежие овощи: даже на базе давно уже перешли на квашеную капусту и сушеную картошку. Витос всегда подолгу молча вылавливал и выбрасывал из борща сомнительные темные лапшины, безвкусные и скользкие от полу-окислившегося крахмала, — но думал, что это свекла, которую он не любил с детства. Матросы уныло матерились и ворчали за обедом.
— Да в Приморье нынче вообще картошка не уродилась, — подал голос отец. — Мы ж в августе выходили, уже ясно было.
«Он для меня это всегда говорит», — успел подумать Витос. И тут на отца набросились со всех сторон:
— А ты думаешь, они там на берегу сухую жрут?
— Как бы не так!
— Да вот мне сеструха с Сахалина письмо прислала, она там секретаршей в райкоме работает, пишет, что у них триста тысяч тонн картошки гниет на складах, девать некуда, в Европу ж ее не повезешь. А ваши, приморские, пишет, отказалась покупать, потому что сахалинская картошка на девять копеек дороже — островная.
— Ну да, я ж говорил — им там на берегу на плешь не капает.
— Нам что сейчас нужнее, перегруз или картошка? — «причесывая» ладонью лысину, не сдавался отец. — Да если этот «Посейдон» загнать на Сахалин под картошку, он там неделю простоит. А транспортов больше в экспедиции нету. Вот мы бы забились рыбой до упора и сейчас лапти б сушили. Так? А потом бы он еще неделю эту картошку по экспедиции развозил.
— Так пусть она лучше гниет? — уже неуверенно спросил кто-то.
Проблема эта Витоса не волновала, он только подумал об отце: тоже мне политик, старается вроде уберечь меня от «картофельного бунта»… И тут объявили: всем собраться в сушилке на инструктаж по технике безопасности.
Сидя на деревянной лавке, сработанной руками дяди Грини, Витос, зажатый матросскими плечами, слушал о том, как девушка потеряла ногу в шнеке только из-за спешки: три метра в сторону, и можно было спокойно его обойти, а она шагнула прямо через вращающийся вал. Во время перегруза такая неосторожность может стоить жизни — поспешишь, пойдешь напрямик через просвет трюма, а в это время со стропа над головой свалится мешок с мукой, который весит сорок килограммов, и все.
Вот это куда нужнее разговоров о картошке, думал Витос, исподлобья поглядывая на отца, сидящего рядом, на соседней лавке. И Александр Кириллович размышлял о том же, но по-другому. Спешка — поганое дело в работе, думал он. И там, в столовой, пожалуй, он был не совсем нрав. Забивали рыбой трюма, спешили на перегруз, морозили тяп-ляп, гнали сырье, а «Посейдон» тоже спешил и пришел пустой. Что хорошего?
Помполит каждый день продувал микрофон, напоминал, как детям, что ноябрь — одиннадцатый месяц, что вот пятнадцатое, а вот уже шестнадцатое число, вторая половина, план горит, а план — это еще, мол, и премия, товарищи. Берите, значит, пример с бригады Ляпина, они, значит, за смену заморозили семьдесят тонн, на двадцать больше паспортной нормы. Да, заморозили, но как? Ляпин — рвач и бригаду себе сколотил на свой копеечный аршин. Время не выдерживают, гонят в трюм сырые блоки из морозилки. Их, как бракоделов, раздолбать бы, а он в пример ставит. Они ведь и в самом деле думают, что бога за бороду взяли; «Мы, морозилы, все в тельняшках. Нам чирик дай и не мешай!» Чирик — это червонец, десятка, которую они привыкли зашибать за смену. С двойным, беринговоморским коэффициентом это двадцать рублей. Причем «чирик» у них выходит, если работать нормально, не гнать сырую, непромороженную рыбу, которая может пропасть уже в пути, не дойдя до покупателя.
Александр Кириллович ходил по цеху с народным контролем как член комитета, смотрел и видел, как Ляпин работает, и сказал ему: «Что ж ты, змей, делаешь!» А те, которые «в тельняшках» (они и впрямь как один пижонили на смене в тельняшках с закатанными до плеч рукавами), заступались за своего вождя:
— Ты нашего бугра не трожь, Кириллыч, он дело знает.
— Так вы ж сырье гоните!
— А-а, Рязань все съест.
— Да не дойдет оно до Рязани, поймите вы!
— А эт забота не наша, выше есть головы, — кивали вверх, на капитанский мостик.
— Так вы же, хмыри, эти головы и дурачите!
— Ха-ха-ха! — ржали довольно. — Авось проскочит до Рязани, скоро БАМ пустят, не дрейфь, Кириллыч!
— По башке бы вам «бам» сделать, рвачи.
И тут они меняли тон на доверительный, почти интимный:
— Гляди, Кириллыч, сам — на рябухи (это на такси, значит) накинули сейчас рупь на рупь. На берег сошел, сел, проехал всего ничего, отдай чирик, а он ведь вот как достается, — и хлопали себя по хребту, — горбом. Согласен?
— Согласен, — спокойно злился Апрелев-старший, гладя себя по лысине. — Да только ради твоей «рябухи» я бы, к примеру, совесть свою в морозилке не оставлял. Понятно?
— И-эх, жизнь ты наша!.. Ты, Кириллыч, не отбивай хлеб у Бека, он без тебя справится.
Народный контроль молча слушал эту пикировку, а он хотел ответить «на Бека», да не успел.
— По-береги-и-ись! — рявкнули за спиной и покатили, покатили тележки с блок-формами, забитыми будущим браком, в разверстый зев морозильной камеры, по-драконьи дышащей ледяным кристаллическим паром…
Инструктаж он не слушал. За четырнадцать лет море достаточно само наинструктировало так, что в любой мореходке без всяких конспектов он мог бы читать курс техники безопасности в рыбной промышленности. Пусть сын теперь слушает.
А Бек что, думал Александр Кириллович, в двадцать восемь лет зеленый он еще для этой высокой должности. Хоть и говорят в таких случаях: «Гайдар в шестнадцать полком командовал», это не довод. Потому что Бек — не Гайдар, потому что время сейчас другое, потому что, наконец, не зря говорят: ломать — не строить. Перевоспитать рвача, поднять одного-единственного человека, пожалуй, потрудней, чем положить целый эскадрон белых. Вот на «Дружбе», на траулере, где они с капитаном, с Евгеньичем, вместе работали, помполит был — да, бывший дед, механик первого разряда. Все звали его просто Филиппычем. Он, может, из механиков и не ушел бы, да партком сказал — надо. И получилось, кстати, дай бог. Шкура у него соляром дубленная, корма, как говорится, в ракушках. Такой кит на блесну не клюнет. Ляпин у него бы в бригадирах не задержался. А план и без «тельняшек» делали.
Да, есть чем вспомнить «Дружбу»…
Инструктаж закончился, и матросы разом завозились в рундуках — со стуком обували сапоги, натаскивали на себя рыбацкие свитера, какие-то мгновения маяча коричневыми распятиями. Почти все подпоясывались широкими ремнями, как штангисты: такой ремень здорово помогает, когда берешь мешок «на пупок».
Витос уже застегивал ватник, когда к нему подошел отец:
— Витя, ты где работать будешь?
— В пятом трюме, — буркнул Витос, не отрывая взгляда от нижней пуговицы, никак не пролезающей в тесную петлю.
— А ну-ка дай гляну, — отец взялся за подол его ватника, — что за ремешок у тебя.
— Да брось! — вырвался тот, стрельнув исподлобья вокруг — не смеются ли над отцовской опекой. Но каждый был занят собой, и тогда Витос взглянул на отца.
«Сынок, сынок, зря ты так со мной», — говорили глаза его, грустные, совсем уже немолодые, оказывается. Шевельнулось что-то в груди Витоса, разжалась вроде какая-то пружина.
— Да вот какой, — он задрал ватник и показал школьный ремешок, — обыкновенный.
— Махнем? — и отцовы глаза вмиг зажглись лукавинкой. — Не глядя, как на фронте говорят.
Витос покосился на флотский ремень, ладно перетянувший фуфайку отца, согласно кивнул. Обменялись.
— А ты где будешь? — уже дружелюбно спросил Витос, глядя с невольной улыбкой на отца.
— Я тоже на пятом, — и Апрелев-старший подмигнул младшему. — Встретимся на баррикадах.
Через десять минут один из них уже сидел за рычагами лебедок, а другой таскал в трюме мешки на строп-сетку, таскал неумело, держа мешок у колен, невольно семеня за ним и спотыкаясь. Ничего-ничего, научишься, наука нехитрая, мысленно подбадривал сына Александр Кириллович. И представлял, как разохалась бы мать Витоса, окажись она сейчас здесь: «Мальчику трудно, мальчик надрывается, мальчик, мальчик…» Для матери, это понятно, он и в тридцать будет мальчик, но до чего все же нужно быть эгоистом, чтобы написать такое…
Десять лет назад, когда у Александра Кирилловича, уже во Владивостоке, родился второй сын, Сергей, у них с Тамарой не было ни кола ни двора. Жили в разных общежитиях и два месяца бродили по городу, по адресам из справочного бюро. Так называемым малосемейным — пожалуйста, даже на выбор квартиры — в разных районах столицы Приморья. Ну а с намеком на прирост в семье, да когда «намеку» восьмой месяц, к частникам на выстрел не подходи. И не то чтобы беспокойство от младенца, нет, хозяев квартир, времянок и дач волновало, как он узнал потом, совсем другое — они опасались за свою недвижимость: ну как заживутся квартиранты, пропишутся, не выгонишь потом с дитем, закон будет на их стороне и оттяпают твою кровную времянку или другую квадратуру, нажитую горбом, а ты ж не верблюд, горб у тебя один, так что извините, поищите в другом месте, а мы сдаем студентам.
— Вир-р-ра! — рявкнули в трюме. И Александр Кириллович, очнувшись, плавно поднял строп — полсотни мешков, из которых десять погрузил сын. Аккуратно вывел из трюма и, поставив рычаги враздрай, на полной скорости повел к борту «Посейдона». Подхваченный напарником, строп с мешками поплыл над бортом транспорта, нырнул в трюм, а через минуту пустая сетка, застропленная за обе гаши, уже возвращалась на «Удачу» за новой порцией. Шевелись, грузчики!
Да, так и не удалось тогда найти крышу молодоженам. Тамару увезли в роддом прямо из общежития. Ну а что оставалось делать ему, без пяти минут отцу Сережки? Парни посоветовали идти работать в домоуправление. И он пошел, устроился слесарем-сантехником, на восемьдесят три рубля, зато с квартирой, служебной однокомнатной квартирой в цоколе пятиэтажного дома.
Интересно, оказывается, взглянуть на город даже с этого ракурса — с семиметровой глубины канализационного колодца. Город видится оттуда не джинном с каменным сердцем, а живым и теплым, несмышленым человеческим дитятей, наложившим, извините, в штанишки и напрудившим в постель. И ты, как бабушка, ворчишь на него и по-быстрому делаешь свое дело.
А Витос-то, Витос, ну, молодец! Витос обнял мешок, который лежал повыше, и лихо, совсем по-грузчицки, бросил на плечо и понес на строп, перебив тем самым урбанистические мысли Апрелева-старшего. «Правильно, мой мальчик, — шепчет отец, — ты у меня умница; тот мешок, что под ногами, выше пупка и не надо дергать, а этот — точно — на плечо в самый раз. Никак, сынище, у тебя талант докерский прорезается. Ну, что ж, талант в любом деле — талант. Действуй, сын! Учебники подождут, да потом тебе и легче с ними управляться будет, увидишь сам. Сейчас они тебе обрыдли, а через годок-другой в охотку пойдут».
Второй строп, груженный сыном, уплыл, покачиваясь, в чрево «Посейдона». За вторым — третий, четвертый. А отцу в лебедочной кабине, на верхотуре, просвистанной северными ледовитыми ветрами, по-прежнему хорошо вспоминалось-думалось.
Даже и небо города из глубины колодца было стократ милее, голубее. Бездымное, с ночи метенное синей океанской метлой небо города Владивостока. Вот только не портила б его Юлия Михайловна Пятых, управдом, или домоуправ, как она сама величала себя в официальных бумагах. Стоит над колодцем, застит небо и изрекает «вечные» истины: «Все оттого происходит, что унитаз используют как мусоропровод». Справки она выдавала только по средам и пятницам. По этим дням домоуправление, разместившееся в обычной двухкомнатной квартире-секции, превращалось в форпост исполнительной власти отцов города. «Юноши, девушки, бабушки, дедушки, папы и мамы и я», как поется в лесенке, выстраивались с челобитными в длинный хвост, а Юлия Михайловна Пятых священнодействовала — выписывала «официальные документы» о жилплощади, квартплате, составе семьи и др. и пр. Вдоль хвоста то и дело проскальзывали на бывшую кухню, переделанную под кабинет домоуправа-управдома, какие-то шустрые, озабоченные личности. И если очередь роптала, домоуправ резко распахивала дверь кабинета-кухни и властно усмиряла ропот:
— Тише! Вы мешаете мне работать.
— А что ж они идут и идут без очереди? — слышалось робко-возмущенное из угла коридора.
— Они, — четко чеканила Пятых, — идут по делу.
— А мы без дела? — не унимались в углу.
— Они, — Юлия Михайловна чуточку повышала голос, но в нем уже звучала угроза, — по служебному делу. Понятно? А вы, — и она пристально всматривалась в недовольного, — надо еще разобраться!
Хвост покорно смолкал, внеочередная личность юркала в кабинет и там, за плотно пригнанной дверью, шепотом решала с управдомом «служебные» вопросы. Решение нередко затягивалось, ропот возрождался, как огонек в тлеющих углях, и тогда вновь распахивалась дверь, и все повторялось сначала. Жители района, или жилмассива, как говорят в домоуправлениях, в большинстве своем боялись Юлии Михайловны почти мистически, как человека, наделенного непонятной, тайной властью. Когда она проходила по «своему массиву», ей улыбались заискивающе бабушки, кланялись подобострастно дедушки, ласково здоровались мамы, приподымали шляпы папы. А благополучно миновав ее, многие отводили душу шепотом: «С-стерва, чтоб тебе…» У тех же, кто с управдомом был неучтив в глаза, нередко (и никто тому не удивлялся) не ладилось в квартире со светом, водой, забивалась вдруг канализация. И тогда на квартиру виновника приходил техник домоуправления и предлагал платить штраф. И если жилец отказывался, являлась сама Юлия Михайловна со свитой из инженера, дворника, уборщицы и слесаря-сантехника. Тут уже по всей форме составлялся акт, и штраф взимался через райсуд. Расправляясь с нарушителем, Пятых невозмутимо изрекала: «А все оттого, товарищи, происходит, что вы унитаз используете как мусоропровод».
Однажды слесарь-сантехник Апрелев отказался подписывать такой акт, заявив, что «нарушитель тут ни при чем, потому что в подвале, под канализационной трубой-стояком он только что обнаружил кирпич». Жилец штрафа миновал, а сантехник Апрелев на ближайшем заседании месткома был лишен месячной премии «за беспорядок и отсутствие профилактики на участке».
Он проработал в домоуправлении год, но так и не научился принимать трехрублевые гонорары от жильцов за ремонт бачков, кранов и трубопроводов. Этот год был труднейшим в его жизни, потому что Сережке не было места в яслях, Тамара не работала, а он из своих восьмидесяти трех рублей (премиальных до конца работы он так и не увидел) платил алименты на Витоса. У маленького Сережки порой не было вволю даже простого молока. Это было страшнее всего. Именно в это время Александр Кириллович и получил от бывшей жены сразу три письма: на домашний адрес, на общежитие, в котором жил раньше, и на базу тралового флота, где работал до рождения Сережки. Все три послания были совершенно одинаковы и написаны в один и тот же день. «Уж не дворником ли ты устроился, что я стала получать по двадцать рублей алиментов? — язвительно спрашивала бывшая жена. — Мне известно, что на Дальнем Востоке даже дворникам платят больше. Знай же, что если ты потерял совесть, то я сама сумею найти источники твоих побочных доходов».
Пустая сетка, покачивая веревочными бедрами, подплывала к трюму базы. Александр Кириллович без участия мысли переключал рычаги, ни разу между тем не оплошав. Но вот он смайнал сетку в жерло трюма и не увидел никого, как обычно, встречающего сетку, чтобы тут же сбросить гаши и расстелить ее в яме, выбранной среди мешков за три часа работы. Наверно, перекур у ребят, подумал он. И медленно, на первой скорости, опустил сетку на мешки. Она косо легла на край ямы. Можно было оставить пока и так, а самому тоже спуститься перекурить с парнями, отогреться после промороженной кабины. Но руки не могли остановиться, враз отойти от рабочего ритма. Они продолжали играть рычагами: вира, левая — майна, правая — стоп. Нет, так не идет. Снова — вира левую, порезче, на третьей скорости.
Лежа с бригадой на мешках под забоем трюма. Витос отдыхал после первой в жизни настоящей трудной работы, мужского, морского труда. Этот короткий отдых назывался перекур, он знал, но не курил, потому что не сказал еще своего слова в боксе и помнил, как тренер расправлялся с курцами. Он ставил их в спарринг с Витей Капустиным, курсантом мореходки, который боксировал по первому разряду, а через год стал мастером спорта. И вот Капустин, зная, что от него требуется, так «давал прикурить» спарринг-партнеру, что тот после обычных трех раундов полчаса не мог отдышаться. В это время тренер и подходил к курцу, не знающему, как унять расходившиеся бока.
— С такой «дыхалкой», парень, ты дальше своего разряда не уедешь. Ну и ну! Дышишь, как заядлый куряка. А ведь не куришь, так? Не-е-т, так не пойдет дело. Да тебя и новички скоро бить начнут. Надо срочно что-то делать… Во сколько ты встаешь, в семь? Та-а-к. Значит, с завтрашнего дня ставь будильник на шесть тридцать и — вокруг квартала, пока людей на тротуарах немного. Один кружок, и достаточно, послезавтра — два, потом — три. Когда дойдешь до десяти, скажешь. Снова поставлю с Капустиным, погляжу. А то, может, в секцию пинг-понга пойдешь? Нет? Ну, тогда давай делай, как я сказал.
У Витоса «дыхалка» была в норме, но все равно третий раунд спарринга всегда для него был «потолком». Такая уж, видно, натура — выкладываться сразу, в первом раунде. Он и в беге не любил потому стайерские дистанции, обожая в то же время спринт. Рывок — вот что было ему по душе, короткий, мощный рывок, небывалое и неожиданное свершение, подвиг.
В трюме они работали впятером, каждому приходилось погрузить на строп десять мешков. Когда кто-то сказал о предстоящем перекуре, строп только начали грузить. Витос стал считать. Мысль об отдыхе придала сил, он лихо сдергивал самые верхние мешки с уступа и в два прыжка, используя инерцию и едва коснувшись плеча, швырял их на строп. Когда тальман крикнул «хорош», Витос как раз бросил тринадцатый мешок. Значит, кто-то кинул десять, а остальные — по девять. Витос был доволен собой, но сейчас, полулежа на локте и наслаждаясь полной расслабленностью ноющих мышц, он понял, что устал зверски, и удивлялся, как мужики могут еще курить, когда так необходимо отдышаться после трехчасового «раунда». Он видел, как огромным пауком, застя небо, опускалась в трюм пустая сетка, как легла она, беспризорная, на край уступа, помедлила и поднялась снова. Сетка плыла над мешками, едва не касаясь их и словно выбирая место для посадки. Вот она качнулась, плюх — и прямо в яму, но гаши легли неловко, вдоль трюма, а нужно поперек. Будто понимая свою оплошность, сетка вновь снялась, подлетела кверху и вдруг стала подпрыгивать в воздухе, раскачиваться с борта на борт. Теперь уже вся бригада с интересом следила за «живой» сеткой. Раскачиваясь, она одновременно и вращалась на гаке. И вот когда гаши ее развернулись как надо, поперек трюма, сетка резко метнулась влево, потом пошла вправо и на бреющем полете, нырнув под забой, к борту, четко выполнила посадку точно в то место ямы, куда бригада всегда стаскивала ее с просвета вручную. Теперь оставалось только отстропить ее с гака, и можно было нагружать.
— Молодец Кириллыч, мастер, — с улыбкой качнув головой, восхитился один из грузчиков.
В это время сетка, как будто похвала была адресована ей, шевельнулась, и гаши поползли обратно, к просвету. Гак подпрыгнул вверх-вниз, явно стараясь сбросить их с себя. Раз, другой, третий комично подпрыгивал гак, но ничего у него не получалось, и даже Витос наконец заулыбался вместе со всеми: да разве можно, мол, без рук расстелить сетку да еще и отстропить гаши? Гаку надоели безрезультатные прыжки, и он медленно, серьезно, с достоинством опустился и лег набок, на мешок, торчащий ребром из штабеля. Но нет, отдыхать он, оказывается, не собирался, пополз, пополз по мешку, и вдруг шкентеля разом ослабли, и гак скользнул по ребру мешка вниз — шлеп, и одна гаша, спружинив, освободилась. От радости гак резво подпрыгнул, видимо полагая, что совсем свободен, но вторая гаша надежно висела на его лебединой черной шее. Тогда он пошел на хитрость — нежно повел ее к борту, прижал, потерся с ней вместе о мятую латунную обшивку комингса и вдруг резко бросился вниз и в сторону. Гаша, не ожидавшая такого коварства, слетела с гака, спружинила по примеру подруги и, описав в воздухе величественную дугу, легла к противоположному борту.
— Во даеть! — не сдержал восклицания один.
— Да-а, ли-и-хо, — протянул другой грузчик.
— От ты черт! В цирке может выступать, — подытожил третий.
— А шо! Антракцион на лебедках, — поддержал первый. — Жонглер матрос Александр Апрелев! И пошел манежить. А?! И шо ты думаешь, будуть дывыться в оба. А?!
— Точняк будут.
Витосу было приятно слышать свою фамилию и видеть, как гордятся рабочие мастерством отца. Но он все еще был под впечатлением заключительной сцены. Чем-то она как будто нарушила равновесие в его душе. Неприятный вроде осадок оставило это впечатление. Гак спокойно, в такт пологой зыби, раскачивался на шкентелях, и Витос не мог оторвать от него взгляда. И вдруг эта сценка с неожиданной яркостью вновь возникла перед его мысленным взором: гак нежно трется вместе с гашей о щеку комингса и внезапно — раз! — предательски бросает ее и, выскользнув из объятий, взмывает по мановению рук отца, а гаше ничего не остается, как с достоинством удалиться в одиночество. Вот он, весь отец, в этом коварном, предательском жесте. А ведь, наверное, и он когда-то объяснялся матери в любви, нежно обнимал и целовал ее, как вчера сам Витос обнимал и целовал Светлану.
«Он предатель, — смягчаясь, незло подумал Витос. — Но я плевать хотел на всякую там наследственность, я таким не буду. Никогда!»
— Тогда женись на Светлане, — откуда ни возьмись, тихо сказал Спорщик.
— И женюсь.
— А как же бокс, море? — Спорщик издевался самым утонченным образом, дошлый, противный Спорщик.
— А мы, — Витос напряг мысли, чтобы получше ему ответить, — а у нас будет, — он испугался этого взрослого слова «семья» и пропустил его, — у нас будет не по старинке, по-другому — без кастрюль и пеленок. Понятно? Столовые и прачечные, и полная свобода! Это будет союз мастеров спорта — гимнастки и боксера.
Витос даже лицом пояснел, так понравилась ему собственная отповедь Спорщику. И ты, умудренный читатель, не смейся над Витосом: ты был таким же в лучшие свои годы. А в том, что светлые мечты и мысли не стали твоей жизнью, отчасти виноват ты сам. «Тот, кто верой обладает в невозможнейшие вещи, невозможнейшие вещи совершить и сам сумеет», — поэт Гейне знал, что говорил!
VIII
Вячеслав Юрьич Перепанский стоит на мостике «Удачи» рядом с Эдуардом Эдуардычем Человечковым. Старшего механика и старшего помощника капитана плавбазы связывает еще дофлотская дружба. Точнее, они просто учились в одной мореходке, а сдружились уже здесь, на борту «Удачи». Дневная вахта чифа (и это вошло для обоих в привычку) стала временем встреч и курсантских воспоминаний друзей. В отличие от старпома, старший механик вахты не стоит, и если база не на ходу (не в проливе, не в тумане) и в машине хотя бы относительный по: рядок, дед волен распоряжаться своим временем. Чифов матрос Коля Худовеков уже привык к гостю на мостике, привык к его веселому кошачьему лицу, к постоянным подначкам;
— Что, Никовай-нидворай, опять будешь нас гонять по рубке дипвомом? — это о швабре, которой Коля шурует по линолеуму рулевой рубки. — Он у меня вот замовотив повста ковов на покраске, — это уже обращаясь к старпому, — теперь у тебя мовотит. Так и миввионером можно сдеваться, а?
Эдуард Эдуардович словно не замечает шкодливой улыбки кореша-деда. Он никогда не разделяет его шуток с матросом, не изменяет правилу дистанции с подчиненными. Дед всегда смешит его неисчерпаемыми хохмами времен «бурсы», порой доводя до слез, но, как бы чиф ни изнемог от смеха, стоит только Николаю обратиться к нему, Эдуард Эдуардыч вмиг перевоплощается, чтобы весомо уронить: «Ну конечно» или: «Нет, этого можешь не делать», и тут же напрочь забывает о матросе, снова как будто включает смех и басит, отвернувшись к деду:
— Ну, уморил. Славка, ну хохмач!
Сегодня у них разговор идет о водке. Дед рассказывает, что один из его мотористов ходит пьяный, «как дохвая севедка», и после допроса с пристрастием признался, что достал на перегрузчике две бутылки по пятнадцать рублей. А нет ли там, на «Посейдоне», кого из «бурсы», закидывает дед, но чиф с величественной безнадежностью поводит кудрявой головой из стороны в сторону: нет, уже все проверил. И выдает встречную «идею»; проведи, мол, разведку по механической части. Дед идею ловит влет, и вот уже щелкает передатчик «корабля», вспыхивает красная лампочка на щитке, и дед вызывает «Посейдон» на канале ближней связи. Но нет, фамилии механиков перегрузчика его не радуют. Тем временем Коля подбирается с «дипвомом», кладя по зеленому пластику ровные влажные мазки. Излюбленное место корешей — за радиолокатором.
— Ты водку пьешь? — внезапно озадачивает Колю дед.
Коля, смешно гримасничая, распрямляет затекшую спину:
— В море не пью.
— Свою! — блудя круглыми глазами, соглашается дед, — а кабы кто навив?
— Даже если б налил, — невольно улыбается в ответ Коля. — Только на берегу — по праздникам, ну еще за приход в порт можно.
И краснеет, поймав короткий строгий взгляд старпома.
— Пвохие моряки пошви, Эдуард Эдуардыч, ты согвасен со мной? Не пьют, курят не взатяжку, мышей не вовят…
Чиф отрешенно смотрит вдаль, на чукотские сопки. И дед продолжает, теперь уже будто сам с собой:
— А я с шестнадцати вет уже по-черному гвушив. Считай, стаж — двадцать годов без мавого…
— Соловья баснями не кормят, — обрывает чиф дедовы откровения, берет микрофон, и спикер разносит по палубам и каютам его командирский глас:
— Мотористу Шестерневу подняться на мостик!
Заканчивая приборку, Коля протирает старым полотенцем узкий подоконник и видит в лобовом стекле, за которым уже воцарилась ранняя чукотская ночь, отраженного Шестернева, квадратного битюга-моториста с огромной лохматой головой, прозванного в экипаже Шестеркой за добровольную роль денщика при стармехе; видит, как дед что-то шепчет ему, склонившись, в ухо. Шестерка исчезает так же бесшумно, как появился…
В старпомовской каюте дым висеть коромыслом не может: три иллюминатора в каюте, даже не иллюминаторы, а окна — большие, квадратные, с видом на главную палубу и на правый борт. Да два вентилятора по переборкам, японские, с клавишами. Вообще у чифа в каюте собрано все самое лучшее по базе — телевизор, магнитофон, часы с боем, настольная лампа с абажуром в виде аквариума, кофейный сервиз. Собственно, ничего удивительного, потому что в ведении старшего помощника — все судовое хозяйство. А стереомагнитофон он выпросил еще на стоянке у капитана, который собирался отдать «эту дрянь» кому-то на берегу. Для капитана плебейская гармошка — музыка, а стереозаписи «русских соловьев» — эмигрантов нехороши. Ну, что ж, одному по вкусу попадья, а другому — попова дочка…
Залихватский «Казачок» скачет по каюте, прыгая из двух динамиков, висящих над вентиляторами, которые неутомимо кромсают сигаретный дым трех персон, ужинающих «тет-а-тет».
Сам Эдуард Эдуардыч утопает в своем любимом низком кресле и «ловит кайф», отвесив нижнюю челюсть, а в зубах его зажата с умелой небрежностью гаванская сигара. На диване напротив расположились стармех и девушка в полной экипировке — в перламутровой помаде, сиреневых «тенях», декольтированной импортной кофточке. Она похожа на сестру стармеха — высокий коктейль прически не может скрыть кошачьи черты круглого лица. Старпом ее так и зовет — Киса:
— Киса, поухаживай за нами, видишь, в тарелках скучновато.
Девушка послушно выгребает в тарелки остатки гуляша из вместительной супницы.
— Вот так, Киса, — говорит чиф тоном дрессировщика.
— Что ты все Киса да Киса, — игриво возмущается дед, — мама дочку, надо повагать, не так называва?
— Конечно нет! — девушка улыбается деду. — Это все он, он выдумал мне кошачье имя.
Кокетливое «он», выдающее их близость, вызывает едва уловимое самодовольное движение красивых ресниц старпома.
— Меня зовут Луиза, — продолжая кокетничать, говорит Киса и рассчитано обнажает коленки, усаживаясь на свое место рядом с дедом.
— Вуиза, — повторяет дед в упоенье. — Вуиза — коровева стриптиза.
Ее зовут просто Лизой, и старпом чуть приметно улыбается, думая: «Да, Киса-Лиза, в Голливуд тебя, конечно, не возьмут, это здесь, на безрыбье, ты за первый сорт сходишь. Впрочем… — Он неожиданно вспоминает камбузницу Курилову, Золушку последнего бала, — впрочем, и на безрыбье иногда кое-что по-па-да-ет-ся. — Чиф мечтательно выпускает кольцо дыма, которое тут же хватают и треплют вентиляторы. — Да, эту крошку чуток образовать бы — привести в порядок прическу, туалет: одеть во французскую батистовую ночнушку и красное макси-платье с блестками и глубоким, как вот у Кисы, вырезом. Тогда с ней не стыдно будет показаться».
Размечтавшись о береговых гостиных, в которых доводилось ему блистать, Эдуард Эдуардыч вдруг с неодолимой страстью захотел очутиться сейчас там, среди хрустального блеска и хрустального звона званого ужина, он даже, как бывало, услыхал восхищенный ропот за спиной: «Какая пара… Ах, какая милая пара — этот моряк с Золушкой…»
Дзынь-н-нь!.. Это разбились хрустальные мечты старпома — он явственно увидел сияющий взгляд камбузницы Куриловой, адресованный мальчишке, сыну лебедчика Апрелева. Весь праздничный вечер этот сопляк не отходил от нее, ни одного танца не дал ей ни с кем станцевать, а она была хороша — просто розанчик, правда, платье на ней, зеленое в полосах, было невыразительно, но… розанчикам необходим садовник, а не мальчишка-вор, сигающий через забор на клумбы. А она глядела на него как на принца. Долго ли девчонке засуричить мозги…
— Эдик! — Киса смотрит на него удивленными, кошачьими глазами. — Что это сегодня с тобой?
Дед улыбается иронически и самодовольно:
— Наш Эдуард Эдуардыч, надо повагать, экскурсию в свои детские годы совершав…
Дернувшись, старпом чуть не выронил изо рта сигару, подхватил ее и положил на край стола. По-прежнему орет динамик, в приоткрытый бортовой иллюминатор противно тянет рыбой. Ничего не изменилось вокруг — осточертевшая каюта, обрыдлое море за бортом, кошачья морда изрядно приевшейся Кисы…
Дед с Кисой обмениваются улыбками. «Прекрасно, — думает чиф, — они очень подходят друг другу, кошка и кот». Он механически повторяет про себя эти слова: кошка и кот, кошка и кот… И вдруг, будто его осенило, рывком поднимается с кресла, делает два решительных шага к письменному столу, над которым в красивом, под красное дерево, ящике спрятан спикер, и объявляет:
— Шестерневу зайти к старпому!
Две пары кошачьих глаз недоуменно смотрят ему в рот.
— Извини, Киска, — говорит деловито чиф, — я забыл, нам с Вячеславом Юрьичем нужно срочно решить одно дело. Ты займись пока чем-нибудь в его каюте. Славка, проводи ее к себе, включи приемник там, пластинки и приходи.
— Пойдем, Вуиза, — дед с видимой радостью исполняет просьбу кореша. Их каюты — напротив, через длинный коридор, идущий от борта к борту. Дед заводит гостью к себе, усаживает на диван и, склонившись, целует взасос. Киса не сопротивляется, но потом говорит почти строго:
— Бессовестный, Вячеслав Юрьич. Разве так можно? Мы с вами почти ведь незнакомы.
— Вуизочка, — щебечет сияющий дед, — вы просто превесть! Будьте хозяйкой. В буфете, на верхней повке, есть конфеты и кофе, сыр в ховодивьнике, чайник в ванной, радиова вот, я постараюсь надовго не задерживаться.
Возвращается дед заметно оживленный и напропалую, с энтузиазмом болтает о какой-то «идее». Чиф, невольно заражаясь дедовым возбуждением, смотрит на него почти восхищенно: «Ну и котяра! Выключить сейчас свет, его глаза гореть будут».
— Свушай, какая у меня идея, Эдик! — дед даже побагровел от распирающей его «идеи». Ведь тут до посевка Беринговского добраться — раз пвюнуть, вёд еще нетовстый, так?
Чиф утвердительно кивает, но в глазах у него («идею» дедову он схватил на лету) играет ирония: мол, близок локоток, мол, видит око…
— Ну, свушай, — многозначительно прикрыв глаза, говорит дед. — Идея такая: ты идешь к капитану и говоришь, что вот, мов, провизионка пустая, мясо, мов, на исходе, работать нам еще довго, месяц почти… Секешь? — дед ухмыляется все хитрей и хитрей и, видя, что выражение чифова лица меняется соответственно, продолжает: — Капитан подзывает СРТМ, и ты посываешь на нем за мясом товарища завпрода. Во-от, — переводит дед дыхание, — а я снабжаю его вавютой, рубвиков шестьсот… и Степа привозит нам коньячок. Ни много ни маво — ящичка три. Ну как, согвасен?
— Ну ты даешь. Славка, ну и аппетит! — В глазах чифа смешиваются испуг и восхищение. — А где столько денег взять?
— А вот! — дед, как фокусник, выхватывает из внутреннего кармана растрепанную пачку десяток, в ней рублей шестьсот-семьсот, не меньше.
— Ты их сам печатаешь, что ли? — шутит чиф и непроизвольно глотает слюну, представив ящик с коньяком.
— Хм, печатать пока не научився, — хмыкает дед, — а вот мышей вовить могу.
Чиф раскалывается от смеха: так неожиданно и точно подходит дедовой физиономии эта фраза о мышах.
— Ну, Славка! Ну молодец! — отдышавшись, говорит чиф.
А дед все еще не поймет, чем же он так уморил его, и симпатично хлопает рыжими ресницами.
— Юмори-и-ист, — чиф, все еще в восторге, качает головой. Взгляд его останавливается на пачке денег, и он спрашивает, кивнув на них:
— Нет, а откуда все-таки?
Дед прячет пачку обратно, цыкает зубами, в которых застряло мясо, и говорит, с улыбкой глядя прямо чифу в глаза:
— А ты акт на покраску машины подписывав?
— Да, — соглашается чиф, тщетно пытаясь сообразить, — я подписывал и капитан подписывал.
— Ну вот, а кто ее красив, знаешь?
— Знаю только, что ты у меня двух матросов брал в помощь.
— Во-от… С ними еще мой практикант трудився. И все. Поняв? А наряды я выписав еще на двоих — на Пашку Шестернева и на третьего механика. Секешь?
— Ну, и по сколько вышло на каждого?
— Всем по семь, своим по восемь, — пытается улыбнуться дед, но вместо обычной кошачье-обаятельной улыбки на его лице мелькает и тут же исчезает вороватая ухмылка. — Никоваю твоему и пацанам — по повста ковов, ну а третьему и Пашке — по шесть сотен.
Глаза у чифа на мгновение округляются. Мелькнувшие в них страх и удивление заставляют деда отвести взгляд. Где-то глубоко-глубоко, на самом дне души Эдуарда Эдуардыча, в этот миг произошло шевеление — вроде как пятимесячный детеныш повернулся в материнской утробе. И не только шевельнулся, но и успел пролепетать что-то едва внятное: нехорошо, мол, плохо это, остановись… Но это длилось лишь мгновение, и голосок, повторяю, был не внятнее лепета. Чифов бас легко заглушил его:
— Ну и жук ты. Славка! И в самом деле мышей можешь ловить, да еще и каких жирных… Силе-о-он…
— Не зря меня, Эдик, в «бурсе» прозвави так — Пан, — серьезно, но уже с облегчением заговорил дед. — Помнишь, как маявись в «бурсе»? Выпить все хотят, а грошей тю-тю — ни у кого нет. Где достать? Никто не знает. Одни предков трясут, другие невест… А Свавка Пан знает. У Свавки предки — из них бвохи не вытрясешь. Ну вот, — дед глубоко, вкусно затягивается. — Придешь с занятий, в экипаже — тоска зевеная: кто штаны на койке ватает, кто в окошке торчит… А тут как раз рябчики привезви…
— Тельняшки, что ли?
— Ну да, мы их рябчиками называви. Ну вот, привезви, значит, новые рябчики, и комроты раздает всем. Я им — идею: не спешите напявить, в старых проходим, давайте загоним и устроим сабантуй. Идея прошва на ура. А кто загонять будет? Опять Свавка Пан… Ну и пошво, и пошво… На практике в море потом и водкой торговав — как вот на «Посейдоне», товько на нем бутывка — пятнадцать ковов, а мы по двадцать и даже по тридцать брави, а в Бристовьской экспедиции один раз до сорока догнави. Сорок ковов за бутывку водки! Представвяешь?
— Да был я в Бристоле, знаю, — угрюмо подтверждает чиф, пожевывая кончик потухшей сигары.
— Эх, Эдик, — хлопает дед по чифову плечу. — Загубит она нас, родимая.
— Это уж точно, — чиф трет лоб, потом бьет себя кулаком по колену. — Если б не она, я давно бы капитан-директором был!
— Да, сгубива она тавантов немаво, — вторит корешу дед. — Кабы не она, я кандидатскую точно б сдевав, а может, и докторскую… Доктор технических наук Вячесвав Перепанский! А?
Открывается дверь, заходит унылый Шестерка. В руках у него ничего нет.
— Что, Пашка, пустой номер? — скисает дед.
— Угу.
— Садись, Паша, — ласково говорит чиф.
С минуту все молчат, как будто задумчиво, но в конце тягостной этой минуты взгляды всех сходятся на пустом столе. Пустота словно повисает в каюте. О чем говорить?..
— Ну, что — по домам? — спрашивает у пустоты дед.
— Да нет, — торопливо возражает чиф, — у меня еще есть дело к Паше.
— Я не нужен? — дед встает.
— Нет, — чиф отрицательно качает головой.
— Тогда — будьте здоровы, я пошев. — Дед медленно, словно крадучись, идет к двери, и пока не выходит в коридор, на финишную прямую, его не оставляет чувство, что вот-вот чиф окликнет его и спросит про Кису. Всеми помыслами дед уже там, у себя в каюте, где «Луиза — королева стриптиза» целый час пьет в одиночестве кофе и курит в ожидании коренной перемены в судьбе.
А в чифовой каюте в это время происходит вот что.
Чиф. Паша, ты седьмого был на вечере?
Шестерка кивает утвердительно.
Чиф. Танцевал?
Отрицание — тоже головой.
Чиф. Ну а пацана апрелевского знаешь?
Снова утвердительный кивок.
Чиф. А камбузницу Светку Курилову?
Неподвижность и молчание.
Чиф. Ну, маленькая такая, в спортивном трико бегает, видел?
Кивок.
Чиф вздыхает. Ну так вот, Паша, нужно, чтоб апрелевский пацан оставил ее в покое, понимаешь?
Опять кивок.
Чиф. Он седьмого, на вечере, закрутил с ней. Может, видел?
Нет — мотнулась лохматая голова.
Чиф. Ну, в общем, Паша, с меня магарыч. Ты понял?
Кивок.
Чиф, поднимаясь. По рукам?
Шестерка, видя занесенную чифову ладонь, встает и медленно, будто нехотя, выдвигает лапу, похожую на кочегарскую совковую лопату.
Хлопок, скрепивший еще один военный союз, совпадает с первым ударом часов. Оба вскидываются на них, чиф плюет: тьфу! Шестерка покидает каюту. Часы бьют полночь.
IX
Остров… Вы не представляете, какой это подарок природы — вдруг то ли из-под воды, то ли с неба явившийся остров. Много дней вокруг — только синее и голубое с голубоватой облачной пеной, только шуршание пены вдоль борта, только один-единственный соленый, йодистый, запах… И вдруг — зеленый остров! Среди безраздельно господствующего синего вдруг эти краски — коричневые и сизые, как голубиное крыло (это обрывы), сверкающие белые ожерелья у их подножий и, главное, зелень, зеленая трава, зеленые деревья, лесные запахи — откуда все это?..
Остров… Земля!.. Вот так, наверное, кричали Колумбовы матросы: «Земля-а-а!..»
Бух-бух-бух… Духовой оркестр усердно дул в трубы и бил в барабан. Он безбожно фальшивил. Но оркестр — видно было — отдавал все что мог, от души приветствуя гостей острова.
Чудо-остров! Он мог лишь в самом фантастическом сне присниться. Трава здесь, и та как на другой планете: стебли у нее — жесткие коленчатые трубочки, листья — зеленые лезвия, стрелы, что угодно, но только не те, всем известные и привычные листья травы-муравы. Потом уже сказали, что это и не трава совсем, а карликовый бамбук! И тут же, рядом, растут вековые сосны с зелеными бородами мха на ветках, солнечные рощицы берез, рябина, смородина, какие-то кусты, которые, сказали, нельзя ни в коем случае трогать. И конечно же, Светка потрогала эти кожистые трехлистники на гладких веточках, и потом на тыльной стороне кисти, которой она коснулась ипритки (так странно называется это коварное растение), вспухли волдыри и долго не проходили. Но это все ерунда на постном масле, а вот тисы, толстоногие, хмурые и все — такие смешные великаны, которым за тысячу лет, — это да!
С моря остров видится островом, а высадись, поживи немного на Нем, и окажется — это целая страна зеленых просторов, журчащих речек, причудливых скал, птиц и зверей. Остров — лучшее место на земле. Курильский остров Шикотан! Как же изумлялась Светка, когда узнала, что в переводе с айнского (айны — аборигены Курил) Шикотан значит — «лучшее место».
В семнадцать лет мир полон чудес. И если ты не сидишь на месте, а бежишь, летишь чудесам навстречу, жизнь твоя еще в сто раз полнее, в сто раз интереснее любой, самой полнокровной городской жизни. Неужели мама не поймет, что здесь, только здесь, на острове, а не в консерватории, может быть по-настоящему счастлива ее дочь? Ты же сама говорила, что семнадцать — лучшая пора в жизни. И не ты ли сама в семнадцать учинила бунт дома и сбежала от бабки с дедом на целину? Значит, и мне теперь нужно суметь на «отлично» жить-работать, везде искать и находить красоту.
Насчет красоты Светка, конечно, малость загнула. Работа на рыбокомбинате была тяжелая, очень тяжелая, если укладываться в норму. А норма — тысяча двести баночек за смену. В каждую баночку нужно уложить пятнадцать — двадцать кусочков сайры, причем не как-нибудь, а «розочкой». А смена — это двенадцать часов. После смены все девчата обычно занимались руками. Использовались для этого мази всех известных марок, изобретались самодельные, но все равно спастись от сайрового дерматита (с научным названием болячка!) было трудно. В резиновых перчатках — не работа, это известно всем, и врачам в том числе. И сотни мелких, почти невидимых порезов и царапин «расцветали» на руках укладчиц настоящими «букетами» нарывов. Светке удалось изобрести «бальзам Куриловой» — сметана с марганцовкой и вазелином, но сметану в поселок привозили раз в неделю, и за ней нужно было стоять в очереди.
Сайровая путина закончилась в октябре, студенты и большинство сезонниц покинули остров, а Светка осталась. И влюбилась в Шикотан на всю жизнь.
За осень, зиму и весну — до следующей путины — она с геологами и девчатами-старожилами облазила все сапки, берега заливов и бухт, все самые потаенные уголки острова.
В двенадцати километрах от поселка находится Край Света. И если остров Шикотан — чудо, «лучшее место», то сердце чуда — мыс Край Света. Там есть все! Сопки с заснеженными вершинами, раздольные просторы в цветах и травах по пояс, ключи с живой водой, обрывы и скалы, неожиданно похожие то на богатыря в доспехах, то на мамонта, пьющего океан. На гальке, в прибойной полосе, ты увидишь только плавник и никаких следов цивилизации. А чуть подальше, под отвесной скалой, на темном вулканическом песке, как «на неведомых дорожках следы невиданных зверей», увидишь ты следы сотен копыт. Здесь, на просторах Края Света, живет вольное стадо диких лошадей, и под прибрежной скалой они вытоптали площадку, укрываясь зимой от снежных зарядов и злых норд-остов. Стаду не больше четверти века от роду: именно тогда вулканологам, живущим на острове, прислали технику — вездеходы, и пятнадцать рабочих лошадушек были отпущены на свободу. И какими же красавицами стали они на воле, как разрослось, расплодилось свободное стадо — мустанги Шикотана. Дожди купают их, ветры расчесывают им хвосты и гривы. Край Света кормит их буйными травами и поит родниковой водой, и никакой самый заботливый конюх, ни один, самый лучший конный завод не могут похвастать такими чистыми и красивыми животными. Любоваться собой они позволяют теперь только издалека.
Край Света… Светлана ходила туда уже одна. Она могла часами просиживать на склоне сопки, с которой открывалась долина. Лошадей (название долине она дала сама), просто сидеть в траве, перебирать в пальцах стебли, твердые бутончики полевых цветов, листья, смотреть на пасущееся вдали стадо. Стадо уже перестало бояться ее, подпускало все ближе и ближе каждый раз. Может быть, ее одну на всем острове! Светлана не раз видела совсем близко, как белоногий жеребенок сосал пасущуюся мать. Стадо доверяло ей все больше. И однажды Светлана стала свидетельницей их любовных игр… Это было красиво, величественно, чуть-чуть страшно даже и вовсе не стыдно. Но ни за что в жизни, никому, никогда она не расскажет о том, что видела.
Здесь на Краю Света она пробовала писать стихи, рисовать, сочинять музыку. И все, все получалось! Да и не могло не получаться — ведь бриз, веющий с океана, сам шептал ей слова, облачные тени, плывя по долине, оживляли пейзажи, а в солнечных лучах-струнах, запутавшись, как в паутине, басили шмели.
Светлана жила теперь с девчатами, которых хорошо знала, с которыми сроднила ее островная зимовка.
Курилова (Светок полцеха) считалась уже опытной укладчицей и делала две, а при крупной рыбе и три нормы в смену. Девчонки из новеньких не оправлялись и с одной, особенно в ночную смену. Вот стоят на конвейере, руки — пучочком в банке, спят. Светке и смешно, и жалко их. Потеребишь — проснутся. А через пятнадцать минут — глядь — у них снова глаза закрыты.
В конце путины в одну из подруг влюбился молодой штурман с сейнера и пригласил ее как-то сходить на лов сайры. Светка упросила взять и ее.
И вот, урча мотором, сейнерок покидает на закате бухту. Огромное солнце торжественно, медленно погружается в палевое море. Но едва море хорошо ухватилось за солнце, как оно быстро-быстро стало тонуть, и в считанные минуты на его месте остался лишь оранжево-алый шар, а еще минут через десять поползли откуда ни возьмись, как лазутчики, туманы, тучи, сумрак по горизонту. На востоке море превратилось в мягкого молочно-голубого цвета ткань, нежнейшую, гладкую, тончайшую. Даже акварель была бы грубой для передачи этой закатной нежности моря.
Вода чуть слышно шелестит вдоль борта, сейнерок торопится, бежит в район лова. Ночь нахлобучивает на море черный, усыпанный холодными бенгальскими искрами колпак. Но море дышит теплом, рыбным, водорослевым запахом. И так хорошо стоять одной на затемненной корме, смотреть, как в тугую косу, растущую от винта, вплетаются звездные нити, и всей грудью вбирать воздух океана и неба.
Прожектор с верхнего мостика медленно шарит по воде, и видно порой, как в ярко-голубых полосах серебряными искрами прыгает резвая сайра. Двигатель замолкает, включаются яркие люстры, висящие по бортам над водой, и судно какое-то время бесшумно скользит по инерции, являя собой то ли огненноглазое огненнорукое чудище морское, то ли невиданный солнечный цветок, И этих ярких цветов сейчас — полное море, оглянись вокруг, в иных местах они образуют целые созвездия, а за горизонтом светятся бледно-лимонным заревом.
Светлана не раз слышала восторженные рассказы девчат, побывавших на лове, но в их рассказах было больше ахов, охов и загадочных вздохов, чем слов. А один из рыбаков, еще в прошлую путину приходивших к ним в барак, пытался однажды рассказывать так: «Это… ну, как вам объяснить?.. Короче, это… красота! Одним словом… ых!.. Вы щас на нас не глядите, девчата, щас шторм, мы щас пьяницы, нехорошие, одним словам. Вот приходите на лов к нам, вот там — да!..»
Светлана нашла самое удобное место, где никому не мешала на верхнем мостике, там никто не мешал и ей, а видно было все прекрасно. Вот сейнер остановился и потихоньку выключил люстры правого борта. Под люстрами левого борта ярко плещется ртуть, серебряными иголками выскакивает изредка сайра. Вглядевшись, Светлана увидела, что в зелено-голубой глубине, которую под слепящей ртутной поверхностью не сразу и различишь, ходит рыба — стрелами мелькают узкие зеленоватые спинки, поблескивая на виражах серебряными лезвиями боков. На сдачу, на комбинат, сайру привозят уже в ящиках со льдом, поэтому, отработав на острове даже десять путин, ты можешь так и не увидеть этой живой, стремительной, веселой рыбки в ее родной стихии.
А в это время рыбаки опускают в воду с правого борта ловушку — прямоугольную сеть, одна сторона которой остается на борту, а вторая, прикрепленная к «сигаре», толстой бамбуковой связке, отодвигается параллельно и подальше от борта с помощью длинной-предлинной палки-выстрела. Теперь огни люстр начинают как бы перебегать с левого борта на правый: на носу одна загорится, на корме слева одна погаснет. И так, медленно смещаясь вправо, коварная цепочка гипнотизирующих огней переманивает сайру на другой борт. На это уходит не больше получаса. С левого борта уже абсолютно темно, а у правого, в слепящих огнях, кишмя кишит рыба. Вдруг разом гаснет на судне весь свет. Авария! Сорвалась. Эх!.. Но едва успевает Светлана округлить глаза в темноте, как вспыхивает на месте погасших люстр красное пламя. В это мгновение, будто ударил кто в литавры, вскипает алое море. Апофеоз! Высочайший накал праздника жизни. Или пляска смерти, безумия?
Несколько мгновений всего длится этот немыслимый праздник, кипение огненно-алого моря. В считанные эти секунды рыбаки успели поднять ловушку на поверхность. И вот уже над палубой вспыхивает гирлянда белых ламп, красный огонь за бортом погас. Все! Свершилось. «Ночная жемчужина» в плену.
Рыбаки споро, сноровисто выбирают на палубу улов, один за другим наполняя трепетным серебром плоские ящики. Быстро и без суеты. Каждый словно старается поскорей покончить, с прозой, скрыть ее от глаз постороннего. Каждый четко выполняет свою работу, стоя на своем, строго ограниченном, коротком плече процесса: один подает пустые ящики, второй наполняет их рыбой, третий пересыпает льдом, четвертый кладет ящики на строп, пятый майнает их лебедкой в трюм, где на штабелевке работают другие, незримые сверху, члены команды. Все это напоминает работу бесшумного, отлаженного механизма с надежной кинематикой.
Тем временем с левого борта опять загораются люстры, и под расплавленным серебром поверхности уже собирается стаями рыба. Теперь проходит не больше часа, и все повторяется вновь — перебегающая цепочка белых огней, неожиданный мрак и — короткий, бурный праздник, кроваво кипящее море.
Всю ночь Светлана простояла на верхнем мостике, всю ночь первого большого свидания с рыбачьим морем.
Потом, на берегу, когда ее спрашивали, видела ли она сайровый лов, Светлана лишь молча кивала в ответ, тихо расцветала невольной улыбкой, яснела лицом.
Жизнь не могла оставаться неизменной. С окончанием путины Светлана уволилась, сходила на Край Света попрощаться, поплакала на склоне сопки в долине Лошадей и последним пассажирским теплоходом уехала на материк.
Полгода прожила она у матери в Иркутске, но городская жизнь теперь казалась ей убогой. И летом уехала Светлана в Находку, к морю. Здесь судьба свела ее с «Удачей».
X
Вот уже четверо суток идет перегруз. До чего же надоело Витосу таскать эти чертовы мешки с рыбной мукой, кто бы знал! В трюме, особенно под забоем, от нее не продохнуть. И как только ее норки жрут? Один из пяти собратьев по трюму, смешной, разговорчивый украинец лет за тридцать, когда-то до моря работал на звероферме, и говорит, что эта мука — лучшее лакомство для соболей, чернобурок и норок, а этого трюма, утверждает он, любому питомнику на год или на два хватило бы.
Дело близится к полночи, Витосу всегда в это время ужасно хочется спать. Четыре дня — четыре века! — они не виделись со Светланой…
Когда ложишься во втором часу ночи, спится почти до обеда, а в шестнадцать уже надо быть в трюме. Витос вперевалку, лениво переставляя тяжелые, будто трехметровой длины, чужие ноги, тащится по палубе среди оживления, всегда царящего при пересменке: мастера, как на стометровке с барьерами, прыгая через бочки, носятся от надстройки к надстройке, утрясая глобальные вопросы то со вторым помощником, то с завпроизводством: бригадиры принимают друг у друга трюмы, поднимая итальянский скандал, если равновесие работ «легкая — тяжелая» хоть на грош нарушено сменщиком в свою пользу: лебедчики с боцманом придирчиво осматривают шкентеля и блоки, временами тоже сотрясая морозный воздух стопроцентно русской лексикой; химики, которых на перегрузе легко отличить от врачей по невыспавшимся физиономиям и ржавым халатам, мечутся, размахивая серыми портянками «качественных удостоверений», закрывают партии отгруженной рыбы. И в этот самый миг бригады-сменщицы встречаются у Комингса трюма.
— Салют, курсанты!
Привет, студенты!
У «курсантов», если исключить Витоса, средний возраст, так же как и у «студентов», — под сорок.
— Много осталось?
— Вам кончать.
— Слава тоби, боже! — хохол пинает ногой разорванный мешок с мукой, выпавший, видно, на палубу со стропа. — А то оцей сидор вже по ночам сниться.
Витос тоже тихо ликует, скандирует про себя: конец, конец, конец — и чувствует, как ноги из трехметровых становятся нормальными, обретают упругость. О, когда Витос видит финиш, он способен на рывок.
Они хотели покончить с трюмом до ужина, рвали-метали, но осталось еще с полдюжины стропов — на час работы.
И вот этот горячий час уже минул, и бригада, растянувшись по скоб-трапу, ведущему в черное небо, покидает гулкий опустевший трюм. Витос поднимается последним: ему вдруг жалко стало расставаться с этим трюмом, который он вчера еще проклинал. Остановись на уровне твиндека, он окидывает взглядом трюмные просторы, поражается размерам и думает: «Вот это да-а! Неужели мы смогли опорожнить эту громаду, неужели это я смог?..» И чувство самоуважения необычайно приятным теплом наполняет Витосову грудь.
Наверху холодный ветер бросается в лица, все надевают фуфайки и по одному расходятся кто куда.
— Бувай, Витя! — хохол хлопает его по плечу. — Ище встренимось. З тебе выйде добрый грущик!
Витос стоит совсем растерянный и думает: «Куда ж это они?.. Я даже не знаю, как звать… вот хохла, здоровилу…» И долго смотрит вслед бригаде, исчезающей за углом приемного бункера. А за бортом — чернота.
— Витёк! Иди сюда! — Это отец окликает. Он за шахтой элеватора, у самого борта, возится с чем-то большим, темным, дымящимся, а с чем, не поймешь в подслеповатом, желтом свете измазанной солидолом лампочки на элеваторе.
— Ты крабов едал когда-нибудь? — спрашивает отец, когда Витос подходит и, наклонившись, пытается рассмотреть самодельную крабоварку — бочку и толстый паровой шланг, накрытые брезентухой. Шланг идет к вентилю подогрева топливной станции, расположенной рядом. Отец, чуть поворачивая маховик, поддает пару, и в бочке, похоже, клокочет небольшой вулкан. Крабов Витос видел только в кино и на фотографиях.
— Ну, тогда готовься, — улыбается отец, — через пару минут будем вынимать. — Он свистит негромко куда-то в темноту, и оттуда вскоре появляется человек пять матросов в ватниках. Среди них Витос замечает плотника дядю Гриню.
— А, Витос… Здорово… — как всегда степенно говорит он. — Шо, крабца погрызем маненько?
Витос здоровается и подвигает к нему пятидесятилитровый бочонок, которых много здесь, на палубе.
— Спасибо, сынок. Ты сам давай поближе к шалашу. Небось там, на западе, нечасто пробовал, а?
— Совсем не пробовал. У нас там — река. Вот раков ел, даже сам ловил.
— О-о, тогда тебе самую первую клешню, — и дядя Гриня торжественно вручает Витосу громадную, в руку толщиной, дымящуюся клешню, которую отец только что выудил из бочки, парящей душистым варевом.
Витос разрывает тонкий панцирь, вкушает горячее сладкое мясо. Зажмуривается то ли от пара, то ли от удовольствия, и вмиг из тьмы возникает перед ним картина: дед-бакенщик. Валька и Славка и он в большущей лодке-каюке. Они идут ловить дунайских раков.
Жизнь не так уж часто балует нас. Соловьиная песня, яркая радуга, аромат розы, поразив однажды, наше воображение, навсегда остаются в памяти слуха, зрения, обоняния. Вкусовая память Витоса на всю жизнь запечатлела дунайских раков, сваренных по дедову рецепту.
— …че ужин? После такого ужина пообедать хочется, — слышит Витос, очнувшись от воспоминаний, так неожиданно и властно захвативших его. Говорит пожилой щуплый матрос, которого никак не назовешь обжорой. — Этот завпрод-скотина вконец оборзел: питание — почти два рубля на рыло в день, а он пустой гречневой кащей кормит. Правильно Суворов, говорят, делал: ежли два года проходил в завпродах — расстрелять.
— Людей надо не стрелять, суворовец, а воспитывать, — отец с хрустом раздавливает между ладонями клешню.
— Воспитателей тут до хрена, а толку? — «Суворовец» даже есть перестал, и рука его, в которой он держит сладкий кус, сама собой опускается. — Че ж его не воспитали ни чиф, ни помпа, а?.. Молчишь. Тогда я скажу. Степа дурной, но хитрый: воровать ворует, а чифу налить не забудет. Ну а когда «вась-вась» пошло, че может быть за воспитание? Горбатого могила исправит. Тут только стрелять либо вешать…
Неловкое молчание нарушает спокойный, медлительный голос плотника:
— Хэ, суворовский стрелок… Это ты, Кириллыч, точно сказал, в самый сучок. Дай дураку свечку, он и церкву спалит.
— А ты б, Гриня, молчал! — грубо обрывает его Суворовец. — Ты свою жену с хахалем застал, так еще и квартиру ей в приданое выделил.
Дядя Гриня на миг прикрывает глаза. Суворовец прикусил язык, но все смотрят не на него, а на плотника. Почувствовав на себе взгляды, дядя Гриня говорит тихо:
— Квартира дочке останется. А приданое, как ты сказал, я другое сообразил. — Он замолкает, и все прислушиваются к дробному стуку лебедок на третьем трюме, где, тоже закончив перегруз, начали уже принимать рыбу. «Так вот откуда крабы, — успевает подумать Витос, — траулер подошел на сдачу, а рыба, значит, с «приловом».
— Приданое я смастерил, да-а, — продолжает дядя Гриня. — Сначала только пошел маненько выпил, с полкило принял… А поверьте — она шо вода была!.. Да, ну вот, а после вернулся, взял в подвале (у меня, там мастерская была) топор самый острый, ну и все — столы, стулья, буфет, шкафы, кровать — все с красного дерева, все вот этими руками сделанное, порубил в щепки. Не тронул одну дочкину тумбочку — там игрушки были…
Дядя Гриня, снова на миг закрыв глаза, умолкает.
«Он и рубил, наверное, так, как говорит — по порядку, с расстановкой», — думает Витос, уважительно глядя на плотника.
Решительно хлопнув по коленям ладонями, отец поднимается со своего бочонка, долго шарит в бочке, все еще уютно парящей на морозе, достает пару больших крабьих лап, зовет полувопросительно;
— Витос, пойдем со мной?.
— Куда? — Витос встает.
— Пойдем, — повернув голову, бросает отец и через несколько шагов прибавляет: — В радиорубку.
Витос еще в Находке ходил «на экскурсию» в радиорубку базы и знал, что отец дружит с начальником радиостанции, своим ровесником, веселым, приветливым мужиком. Забрав из отцовской руки одну крабью ногу. Витос поднимается вслед за отцом по внутреннему трапу надстройки. Целых пять пролетов надо одолеть, чтобы взойти на мостик «Удачи», где находится радиостанция.
Когда распахивается дверь, на Витоса буквально обрушивается мир-эфир с его оглушительно музыкальным писком; пи-пипи-пипипи. Громада мощных передатчиков, мигающих десятками разноцветных глаз, и приемников, похожих на кофейные автоматы современных кафе, обдают дыханием сотен горячих электронных ламп, катушек и сопротивлений, жарким дыханием, насыщенным сладковатым запахом перегретой пластмассы, изоляции, лака. Здесь уйма светящихся циферблатов и шкал, маховичков, ручек, кнопок и переключателей всех сортов и размеров — от крошечных, с булавку, до рубильников, какими, наверное, включают Днепрогэс. Все это заставляет Витосовы глаза по-заячьи разбегаться во все стороны. Вахтенный радист неподвижно сидит в кресле за столом, неотрывно смотрит в лист радиограммы, лежащей перед ним, и только правая рука его чуть шевелится и подрагивает; два пальца, большой и указательный, суетливо, словно суча толстую нить, играют пластинчатой ручкой телеграфного ключа, сыплют пищащие точки в эфир. Витос знает: три точки, три тире, три точки — это SOS, сигнал бедствия, кораблекрушения. На переборке, над приемником, висят большие морские часы, на их циферблате узкими арбузно-алыми дольками выделены сектора — по три минуты в каждые полчаса, три минуты телепатического молчания всех радистов мира. Сколько песен поется о морзянке, о SOS. В такт пищащим точкам-тире и подергиваниям пальцев радиста вспыхивает на подволоке маленькая фиолетовая лампочка-неонка, дергаются стрелки приборов на пульте передатчика. Но никто, кроме Витоса, на них не смотрит. Отец уже сидит на диване и беззвучно (заглушает рация) разговаривает с начальником. Но вот минутная стрелка часов касается алого сектора, радист откидывается на спинку кресла. Он седой и усталый, и видно по его глазам, что весь он еще там, в эфире или на далекой земле, с которой только что держал связь. Но эта отрешенность длится всего мгновение.
— Что скажешь? — радист рассматривает Витоса с иронической улыбкой.
— Здравствуйте, — Витос невинно смотрит прямо ему в глаза.
— И все? — ирония в улыбке радиста возрастает.
— Вот, — спохватывается Витос и протягивает ему крабью ногу.
— О-о-о, — шутливо округляет глаза радист, — за это спасибо, почаще тогда приходи, мальчик; как тебя зовут?
Он выпаливает это с той же скоростью, с какой работал ключом, берет краба и, бросив взгляд на часы, спешно начинает ломать панцирь и есть. Ответа на свой вопрос он, похоже, не ждет, и Витос садится на диван рядом с отцом, благо тот как раз его позвал.
— Ну, и как тебе, Витос, наша морская жизнь? — спрашивает начальник радиостанции, улыбаясь, по-родственному сразу располагая к себе.
— Пока нравится.
— А почему «пока»? — серьезнеет начальник. — Это значит, ты оставляешь себе лазейку для бегства?
— Нет, в море мне очень нравится, — взглянув на начальника, быстро возражает Витос. — Просто я хочу уходить с базы на траулер.
Он смотрит на отца, который сидит, наклонившись вперед, задумчиво глядя в голубые разводы пластика, выстилающего палубу радиорубки.
— Ван как! Значит, поближе к. Нептуну решил перебраться. — Начальник толкает локтем отца. — Саша, а что ж ты молчал?
— А это и для меня новость! — бодро выпрямляет спину отец. — Ты это железно решил? — он испытывающе смотрит на сына, по обыкновению поглаживая от волнения лысину.
Витос утвердительно кивает, глядя мимо него. Отец молчит. Скрипнув вращающимся креслом, к ним поворачивается радист.
— И на кой он тебе сдался, этот траулер? — вопрошает он, жуя и явно опять не нуждаясь в ответе. — Там ни танцев, ни теток не будет. Ты забудешь, что такое нормальная жизнь, будешь вкалывать как папа Карло, на морозе, на палубе, вечно мокрый и грязный. И спать тебе придется в робе. Понял?
— А вы, — Витос стал как еж, отец слышит это по голосу сына, — вы сами работали на траулере?
— Еще чего! Мне и здесь, мой мальчик, неплохо. Ха-ха-ха! — искусственно хохочет радист. — Я уже десять лет на базах, и на сээртуху меня пряниками не заманишь, не-е-т. Гляди, здесь как чистенько, тепло и хорошо, а? И тети есть — м-м, — он чмокает сложенные пучком, мокрые от краба пальцы.
— Ты насчет теть полегче! — строго одергивает его начальник радиостанции. — Пареньку восемнадцать, а ты, орясина седая, говоришь тут…
Рубка вновь наполняется оглушительным писком, три минуты молчания кончились, и радист, опять резко скрипнув креслом, берется за ключ и влипает в радиограмму.
Витос смотрит на часы. Стрелка вышла из красного сектора — без двенадцати минут одиннадцать.
— Я пойду, — нарочито корректно, полуобернувшись к отцу и словно обдавая его холодом, говорит Витос и встает. — До свиданья!
Начальник радиостанции, встретив скользнувший по нему взгляд черных ледышек, смотрит, как захлопывается дверь рубки, качает головой и произносит, будто про себя;
— Колючка-парень…
Витос винтом проскальзывает все пять пролетов трапа, мчится по полутемной палубе, стремительно прочеркивая сапогами замерзшие лужи тузлука, перелетая через бочки и успевая думать на бегу: «Завпрод, Суворовец… теперь вот этот радист… Да если б мир состоял из одних таких, жизнь была бы отравой».
В сушилке Витос быстро сбрасывает робу и вместе с ней — неприятные мысли. Застегивая пуговицы чистой рубашки, он уже думает о том, что ждет его сейчас, буквально через пять минут, — о встрече со Светланкой. От одного воспоминания Витос млеет и удивляется, почувствовав, как до самых ступней доходят приятно острые токи, пронзающие все его существо.
Борясь с волнением, он стучит в дверь каюты на ботдеке и слышит голосок, от которого снова пробегают по нервам токи. Презирая себя за робость, открывает дверь и видит только ее, Светланку. Она в чем-то цветастом, необычная, точнее, необыкновенная, необыкновенно красивая, с распущенными по спине шелковистыми волосами, с искристыми, радостными глазами, и она сразу вскакивает с дивана, отбросив книжку на стол, и идет ему навстречу.
— Витя! — пищит она. — Заходи, чего ты стал, никого нет.
И берет его за руку и нежно тянет в каюту. И он, все еще скованный мыслью о том, что на койках, за шторками могут быть девушки, послушно идет за ней, стараясь шагать тихо и не задеть плечом верхнюю койку.
— Садись! — она говорит так громко, что Витос едва не вздрагивает, садится вслед за ней на диван и сидит истуканом.
— Пойдем лучше к нам, — наконец шепчет Витос.
— Да никого же нет, я же тебе сказала, и можешь говорить нормально, трусишка.
Он первый раз слышит о том, что в каюте никого нет, а «трусишка» расковывает его окончательно. Витос, глубоко и облегченно вздохнув, медленно поворачивается к Светлане, глаза их встречаются, и столько в них нежности, и за одну-единственную секунду так много успевают они поведать друг другу, что слов больше не нужно, да их и не хватило бы для взаимных рассказов о том, как томились в разлуке, как соскучились они за эту тысячу лет, странным образом уместившуюся в четверо суток земного времени, занятого простой работой на камбузе и в трюме.
Все чувства, и мысли, и ощущения — все поглощено одним — теплом объятия. И тают в нем последние ледяные кристаллики, только что там, на палубе, коловшие душу Витоса. Он непроизвольно судорожно вздыхает и трется головой о ее волосы и щеки, а она и не спрашивает, о чем он вздохнул, она сейчас все понимает без слов. Со стороны они сейчас похожи…
«На слепых котят похожи», — думает Пашка Шестернев, заглядывая в иллюминатор с ботдека. Его они, разумеется, не видят, а потому и не задергивают иллюминаторные шторки, как это сделали бы взрослые, едва включив в каюте свет.
Увы, не бывает ни вечных объятий, ни вечных поцелуев. Не сознавая этой истины, которая сейчас показалась бы ему достаточно грустной. Витос ослабляет объятие, и вдруг у него вылетает:
— А у тебя была любовь раньше?
И прежде чем Светлана успевает ответить, в мыслях у него проносится: «Неужели ты соврешь? — это Спорщик. — Конечно нет. Никогда!» — это он сам. И внезапный горячий стыд приливом захлестывает уши Витоса — он вспоминает в подробностях, как боролся с искушением солгать, когда Светлана задала ему точно такой же вопрос. Но нет, нет, это не он хотел соврать, он отлично помнит: кто-то маленький, мелочный, противный, не имевший с ним ничего общего, но сидевший, однако, внутри него, прикидывал тогда, как бухгалтер на счетах, все «за» и «против»: врать — не врать, врать — не врать. Вот она где кроется, подлость — в нас самих! Ее надо выжигать каленым железом! И если б это единственный раз…
— Была, — просто сказала Светлана. — После школы я только и слышала: консерватория, институт, консерватория. Ну вот, а однажды увидела объявление: организованный набор рабочих для работы на рыбокомбинатах Сахалина. Можно заключить договор всего на одну путину, было написано в объявлении. Ну вот я и пошла по этому адресу.
— И мать не знала? — Витос уже справился с собой.
— М-м, — качает Светлана головой, и в глазах ее сразу начинают плясать бесенята. — Я сказала мамке, когда уже подписала договор.
В Витосовой памяти в доли секунды прокручивает кадры фантастически-скоростной кинематограф: Рени, еще неделя до отъезда, мамкина истерика, поджавший хвост Ренду, потом проводы и новые реки слез. А Светлана уже рассказывает о Шикотане…
Давно был объявлен отбой, но это уже их не пугает. Они знают — это дань традиции, уставу, это для салаг, а они уже не дети и хорошо понимают, что жизнь в тысячу раз сложнее всех уставов, жизнь — это жизнь!
— Я подружилась с геологами, — говорит Светлана. — Их партия занималась изучением вулканических пород южных Курил — Шикотана, Кунашира, Итурупа. Ну вот, и когда кончилась путина, я пошла с ними. Там был один парень, Сашка его звали, веселый такой — никогда не унывал сам и любого мог растормошить в самую трудную минуту. Он везде ходил с гитарой, знал очень много хороших песен, часто читал стихи нам. Все его любили. Ну вот. И мне он нравился. — Светлана поправляет прядку на лбу, и Витосу ужасно хочется поцеловать ее, но она мягко отстраняет его рукой. — Погоди! Слушай. Ну вот, пришли мы на Край Света, поставили палатки в долине Лошадей и разбрелись кто куда. И до самого вечера мы с Сашкой ходили вдвоем — собирали цветы, пели, в океане купались. Он придумал мысу новое название: Край Светы. — Светлана опять от легкого смущения поправляет прядку. — Ну вот. А вечером сидели все вместе у костра. Все было так хорошо, — в мечтательности, с какой она говорит это, уже слышна горчинка. — Потом стали укладываться спать. Вот. И тут он начал звать меня в свой спальник, вроде в шутку. Я тоже отшутилась и развернула свой спальник. А когда все легли, он опять стал звать меня к себе и болтать глупости всякие. Ну вот. И когда он сказал мне какую-то гадость, что я, мол, ломаюсь, что все равно… Тогда даже ребята крикнули ему: «Сашка, да уймись ты!» А он продолжал… Ну вот. Мне стало так противно… Утром я собрала рюкзак и ушла от них. Ребята уговаривали остаться, он попросил прощения, а я не могла, я ушла…
В молчании, повисшем в каюте, как густой, хоть и незримый, дым, носятся сейчас их горячие и оттого невнятные мысли, сталкиваются друг с другом, сплетаются, бьются в стекло иллюминатора, а за стеклом, на фоне мерцающих вдали заснеженных берегов Чукотки, по-прежнему маячит силуэт человека, наверное в сотый раз уже меряющего ногами ботдек.
Перед мысленным взором Витоса опять проплывают, словно за матовым стеклом, неясные тени: вороватый завпрод Степа и готовый его расстрелять «суворовец», седой радист-циник, насмотревшийся неправды в потоках радиограмм, которые прошли через его руки. Но это не надолго, скоро Витос забудет их, как неприятный сон. Ну а сейчас он думает об этом так: «Жизненный опыт, о котором твердят всегда, это не что иное, как знание плохого. И вообще, старость — это тоже знание плохого».
И снова захватывает их объятие, новая, какая-то необычная, неизведанная еще нежность и поцелуи. А потом Витос делится своими мыслями о старости, рассказывает об отце, о его «предательстве» и, наконец, о своих планах — о том, зачем он здесь, на Дальнем Востоке, на борту «Удачи». Он, сам того не сознавая, ждет похвалы. И неожиданно слышит в ответ:
— Глупенький, не нужно все это. Глупенький ты мой мальчик, это не нужно никому — ли маме твоей, ни отцу, ни тебе самому…
— Как? — удивляется он. — Почему? — возмущается он.
— Потому, — Светлана улыбается лучезарно, как молодая мать своему несмышленышу, — что ты ни-че-го не понимаешь в любви.
— А он, предатель, понимает. Так ты хочешь сказать?
— И еще потому, что ты жестокий…
— ???
— Да, ты хочешь сделать несчастными и отца, и мать, и тетю Тому, и Сережку с Маринкой.
Витос молчит, ни за что он не согласится с этим, никогда… И вдруг ощущает как будто дуновение из самого далекого далека, как будто знак, говорящий о том, что в словах Светланы заключена правда, но знак этот настолько слаб, что ничего не стоит его отринуть. И неожиданно это легкое дуновение приносит в душу огромное облегчение, непрошеное облегчение. Витос с досадой чувствует и сознает, что тяжесть, чугунная тяжесть, которую он свято берег на сердце, которая, казалось, срослась с его душой, вдруг разом, от какого-то невнятного дуновения исчезла, свалилась с души. И в гневе, едва не крикнув «нет!», он поднимает эту страшную тяжесть и водружает ее на место…
В это время из коридора доносятся шаги и голоса девчат второй смены, идущих после ночного обеда в каюту. Половина первого ночи. Влюбленные спешно прощаются, назначают свидание, и Витос выскакивает на ботдек.
От шлюпки отделяется тень и быстро приближается к Витосу. Это Шестерка…
XI
Беринговоморский календарь отличается от общепринятого тем, что месяц ноябрь, как, впрочем, и март, он относит к зимним весьма категорически. А зимой здесь самые частые гости — нордовые ветры, почти бесснежные пурги, штормы. Сильных холодов в море не бывает — десять, самое большее пятнадцать, даже в сердце зимы — январе ниже двадцати четырех градусов мороз не зарегистрирован. Зато берег раскаляется лютым холодам до сорока и даже полсотни градусов.
В море есть другой враг — обледенение. Плавбазе он, правда, не страшен, и потому она смело пашет море в высоких широтах, принимает рыбу у траулеров и помогает им сбрасывать ледовый панцирь, подавая шланги с горячей водой. Этих малышей, как называет суда-добытчики экспедиционное начальство, лед заковывает до того, что кажется, будто их усердно обливали с мачт расплавленным парафином. База не особо спешит в укрытие, даже когда погода непромысловая и мелкий флот прячется по бухтам. Несолидно такой махине бегать от шторма, да и накладно — нужно беречь топливо.
Капитан-директор рассматривает карту погоды, только что принятую по фототелеграфу, вчитывается в радиограмму-прогноз, потом задумчиво и долго глядит в лобовое стекло рубки на длинные, пологие валы, на тяжелые, серо-седые тучи, плывущие над морем, и берется за ручку машинного телеграфа. Похоже, надвигается не просто шторм, а кое-что похлеще. До бухты Наталии — шестьдесят миль, это пять часов ходу…
А «Удача» уже шесть часов пробивается на север, до Наталии все еще остается не меньше тридцати миль. Полюс, как одушевленное ледовое чудище, швыряет в лицо, в лоб «Удачи» снежные заряды, хлесткую пену с раскатистых валов, сотрясает надстройку, бьет и заставляет камертонно вибрировать стальные борта. Двенадцать баллов.
Александр Кириллович стоит один в капитанской каюте, у квадратного лобового иллюминатора, и не может оторвать взгляда от черно-седой взгорбленной поверхности моря. По ней навстречу судну протянулись из бесконечности живые белые змеи пены, а редкий снег, летящий горизонтально, кажется, выпархивает из воды и летит все-таки чуть кверху.
Отсюда, из носовой надстройки, особенно хорошо видны все подробности боя стального судна и озверелого моря. Время от времени раздаются тяжелые и глухие, как из кузнечного цеха, удары волн в скулу.
Они до основания потрясают всю стосемидесятиметровую махину и абсолютно непроизвольно поворачивают мыслишки к оранжевому спасательному поясу, который лежит в железном ящике под диваном в каждой каюте.
А впрочем, даже и такие мысли бывают полезны. Они помогают стряхивать с души земную пыль. Витосу, кстати, не помешает избавиться кой от чего. А то ведь надо — уже в десять лет чем голову забивали мальчишке, если он спрашивал в письмах не о море, не о китах, а об окладе отца. Так и писал; «Папа, а какой у тебя оклад?» Витос, Витос…
Сейчас нетрудно представить, как ощущали свирепое дыхание полюса те, кто на шхунах, на собаках, ползком шли к заветной цели — Северному полюсу, как очеловечивали, обожествляли его в мыслях, как молились ему, наверное, прося пустить в ледовый алтарь, умоляя дать силы хоть на шаг еще продвинуться к сердцу вечного льда, к завораживающей людей и магнитные стрелки тайной точке схождения земных ребер-меридианов. А жестокий ледовый бог коварно закруживал их вьюгой, пургой, магнитной бурей, прятал свою тайну, как прячется в мире все сокровенное.
— О чем замечтался, Саша?
Александр Кириллович вздрагивает: он не слышал, как открылась и закрылась дверь за его спиной.
— А я, видишь, заговорился с начальством. Погодка — вон! — кивает капитан в окно. — Радиоволны даже «сдувает», ни в дугу слышимость; то я — «не понял, повторите», то он. — Помолчали.
— Знаешь, зачем я тебя позвал?..
Апрелев задумчиво, отрешенно смотрит в глаза капитана.
— День рождения у меня сегодня. — Герман Евгеньевич прямо светится, молодеет на глазах.
— Ну, Евгеньевич, — уже совершенно открыто, искренне радуется Апрелев, занеся ладонь для дружеского хлопка-пожатия, — доброго здоровья, удач!..
И хоть невольно он избегает говорить капитану «ты», ладони друзей-ровесников встречаются в крепком рукопожатии.
— Погоди «здоровья», не транжирь тосты, — густой голос капитана заглушает даже полыханье шторма за стеклами. — Вот зайдем в Наталию, станем на якорь… — Весело подмигнув, он делает лихо широкий жест над низким гостевым столом. — Приглашаю.
— Спасибо, а откуда?
— А оттуда, — капитан показывает большим пальцем за шину. — Когда в Угольной перегружались, я завпрода задействовал — за мясом, за тем, за сем. Ну, вот он по-быстрому на СРТМчике и сбегал в поселок Беринговский. Между прочим, их там чуть во льдах не затерло.
Александр Кириллович снова смотрит в квадратное стекло, вибрирующее под ударами ураганного ветра.
— Во льдах… — задумчиво повторяет он. — Я вот диву даюсь, Евгеньевич, как это наша «Арктика» до самого полюса добралась. Да это, это победа, может, ничуть не меньше, чем высадка на Луну! Земная победа!
— Земная, ты прав, Саша. Есть и на Земле-старухе места для побед. Вот сейчас начальник объединенной эксплуатации говорит мне: поздравляю вас с большой трудовой победой — завершением годового плана. Невелика победа, а приятно, особенно в день рождения, а?
— В день рождения — да, — как-то рассеянно соглашается Александр Кириллович и начинает поглаживать лысину. — А вот рыба-то эта плановая до берега еще не дошла. А ну как ее задробят там при пересадке из трюма в вагон, что будем делать?
— Типун тебе! Сплюнь! — энергично тряхнув красивыми, с серебром, завитками, почти сердито рявкает капитан.
— Типун типуном, Евгеньич, а я вот на перегрузе видал: на третьем трюме пару ящиков со стропа свалились на палубу и разбились… Стоило бы посмотреть… Все блоки смерзлись, а разломи — сырье…
— Ну, может, один-два ящика. Это ерунда, Саша, — голос капитана по-прежнему бодр и весел, но в глазах, направленных на матроса, легкая тень тревоги. — Производство-то у нас с тобой вон какое! Так что могут быть и издержки. От них никто не застрахован.
— Я не кляузник, Евгеньич…
— Я знаю.
— Но в акте, я настоял, записали: брак на морозке смена гонит.
— Смена? Какая?
— Я думал, акты народного контроля до капитана доходят. А получается — нет?
— А ты видел, — капитан тоже отвечает вопросом, — сколько за день бумаг мне приносят на подпись?
— Бумага бумаге, значит, рознь.
— Ну, ладно, Сашка, ты не темни, выкладывай, что знаешь.
— Выложить недолго, но…
Мощный удар волны заставляет обоих встрепенуться и в тревоге прислушаться. Впечатление такое, что всю надстройку сбило со стального фундамента, и она вот-вот завалится набок, в тартарары. На несколько секунд воцаряется жутковатая тишина — пропадает привычное ощущение вибрации от работающего двигателя. Но вот громада надстройки отыграла — качнулась стальными боками, всеми своими ребрами сначала в одну сторону, потом в другую, а затем постепенно вновь вернулась в ритм привычной мелкой дрожи, и ей откликнулись, звякнув, стаканы в буфете, словно птицы в лесу, затихшие было в минуту грозного раската грома.
— Пойду я, Евгеньич, — матрос делает шаг к двери.
— А ну постой-ка, парень, — дружески, но властно останавливает его капитан. — Посмотри мне в глаза… Э-э, да ты меня окончательно, я вижу, в акулы зачислил. Так?
— Нет, не так! — неожиданно резко парирует матрос. — Просто капитан на «Удаче», похоже, спит! А этим пользуются рвачи! Ну а я страх не люблю, когда рвачей производят в герои! На «Дружбе», к примеру, такого не было!.. Если помнишь, — добавляет Александр Кириллович и на том обрывает его, похоже, доконало это, хоть и не прямое, обращение к капитану на «ты». С силой пригладив лысину, он идет к двери, но опять его останавливают слова:
— Подожди, Саша! Не гони лошадей. Выкипи лучше здесь, у меня.
— Да ладно, Евгеньич, — машет рукой матрос. — Тут день рожденья, песни петь надо, а я… Потом как-нибудь…
Тем временем в кормовой надстройке базы происходили другие события. Еще со вчерашнего утра, как только «Посейдон» с полными трюмами отшвартовался от борта и «Удача» снялась в район лова, чиф, иззябший на палубе во время швартовых операций, сошелся с дедом за его «кругвым стовом». Киса вынырнула из дедовой спальни и ветерком скользнула мимо стола, опаздывая на работу. Вопреки дедову ожиданию, чиф ни на грош не удивился и, лишь приняв первую рюмку коньяка и морщась от «патентованной» закуски — булки, пропитанной раствором лимонной кислоты и нарезанной кругляшами, сказал как бы между прочим:
— С вас причитается, Вячеслав Юрьич… пол-ящика.
— Да хоть цевый! — с радостью откликнулся дед, расплываясь в шкодливой, кошачьей улыбке.
Вскоре к ним присоединился третий механик, как раз сменившийся с вахты. Это был совсем молодой парень, лет двадцати — двадцати трех, недавно закончивший мореходку. В нем странно сочетались живость, темперамент и безволие. Он был всегда весел и пользовался успехом у судовых холостячек. Правда, девицы эти одна за другой в нем разочаровывались: он создан был для легкой, беззаботной жизни, составленной из удовольствий. Несмотря на все свое безволие, ему всегда удавалось выскользнуть из самых цепких объятий и весело рассмеяться вослед уходящей жертве обманутых надежд.
Обманулся в нем и Вячеслав Юрьич, но об этом чуть позже, потому что к троице, вплотную занятой армянско-беринговским коньяком, примкнул четвертый — Пашка Шестернев, и багрово сияющий дед провозгласил тост «за молодых специалистов».
Со дня последнего застолья в чифовой каюте на лице Шестерки произошли заметные перемены — нос его стал примерно вдвое крупнее и, словно лакмусовая бумажка, изменил розовый цвет на фиолетовый. Чиф и дед покосились, но пытать ни о чем не стали: магнитофон гремел «Казачком», звенели фужеры, плескалось море в обшивку базы, стучался в иллюминаторы предвестник шторма — ветерок.
Двое суток с минимальными перерывами на сон и вахты длился праздник в каюте деда. Состав пирующих менялся, как в пьесе: те же и Киса (старпом на вахте), те же и завпрод Степа с сосисочным фаршем (третий механик на вахте)…
Кстати, дневную вахту третий пропустил. Вахта была ходовая, и дед сделал ему подарок — позвонил второму механику и попросил отстоять за третьего: «Он пвохо себя чувствует и отстоит за тебя завтра». А ночью, в четыре часа, моторист его еле добудился. Третий, с трудом переставляя ноги, спустился в машинное отделение. Благо база лежала в дрейфе и главный двигатель не работал, а то в голове и без того гудело что-то восьми- или десятицилиндровое. Он дал задание по вахте мотористу и Мотыльку, а сам прикорнул у пульта. Когда работает главный, в машине тепло, когда работаешь сам, тепло тоже, а тут накатывали через световые капы бодрящие волны морского воздуха и вкупе с похмельным ознобом через час окончательно разбудили вахтенного механика. Он съежился на стуле, обнял себя крест-накрест за плечи, поморщился, зябко потер ладони, встал, походил по гулким плитам, потом кивнул мотористу на пульт: «Побудь» — и двинул вверх по трапу. У него прорезался акулий аппетит и он решил зайти в каюту взять пачку печенья в рундуке. Но в коридоре, где живут механики, неожиданно уловил в обычной ночной тишине приглушенное: «Эх, полным-полна коробушка, есть и ситец, и парча…» Пел Рубашкин, и песня неслась оттуда же, из дедовой каюты. Третий тихонько постучал пальчиком, нажал на ручку, дверь открылась.
«Полна коробушка» хлынула ему в лицо звуками и запахами остывающего кутежа. В кресле, свесив буйну голову на грудь, спал дед. Шалун Степа сидел впритирку с Кисой на диване, смотрел на третьего воловьими глазами и очень медленно, нехотя убирал руку с плеча женщины.
Уловив в лице юноши растерянность, шалун с хозяйским радушием пригласил его за стол, вставил фужер в руку Кисе, пригубил сам. Третий жадно опохмелился, съел полбанки фарша, а на Степино предложение повторить ответил, что он на вахте, что там, внизу, его ждут мотористы и что лучше он возьмет с собой. Степа встретил это заявление бурной радостью и даже подмигнул: мол, ты тоже жук, но я тебя понимаю. Не теряя времени, третий прихватил полбутылки, закуску и, внутренне ликуя, отправился, в машину.
Удивить, обрадовать ребят — вот что ему сейчас хотелось больше всего. И это было так легко сделать. Он спрятал бутылку в брюки и прикрыл курткой. Спустившись к пульту, где сидел моторист, он подозвал Мотылька: «Да бросай ты этот фильтр!» Мотылек подошел, обтирая ветошью масло с локтей. И тут третий, как факир, выхватил из кармана коньяк. О, он вовсю насладился и удивлением, и восхищением, и любовью, в один момент промелькнувшими в глазах Мотылька. Моторист, конечно, удивился тоже, но незримые нити родственных душ соединяли именно их двоих — третьего и Мотылька.
«Чего-то жарко в машине стало, — подумал третий. — Капы, что ли, задраили?» Он поднял голову, но через трое решеток ничего не увидел и решил, что задраили. Достали стакан из ящика пульта, выпили с Мотыльком. Моторист отказался, пошел домывать фильтр. Третий, ухмыляясь, показал на его спину пальцем. И удивился: вместо одного у него на руке параллельно росли два указательных пальца. «Надо выпить еще», — подумал он и налил двухструйный коньяк в двуствольный стакан. Попало и на вахтенный журнал, но Мотылек тут же убрал лужицу ветошью. Бутылку допили. И вдруг у третьего противно похолодело в висках. Он качнулся, отметил брызнувшие из глаз звезды, сказал: «Пойду п-посмотрю», додумал про себя: «уровень топлива в расходных цистернах» — и шагнул к трапу. Мотылек с опаской двинулся за ним. Три ступеньки одолев по инерции, третий с размаху запнулся за четвертую, руки его сорвались с релингов, и он припечатал лицо к рифленому железу трапа. Мотылек, ойкнув, бросился на помощь, подхватил своего вахтенного начальника, увидел, как быстро заалел его рот, а потом подбородок, и болезненно поморщился.
Тяжелый он, елки-палки, оказался, начальник, куда тяжелей мешка с мукой, того, что на перегрузе. И никак сам идти не хотел. С головы до ног Мотылька кровью перепачкал. И бормотал, бормотал разбитыми губами: «Ты сю ашину окрасил, теерь я тея крашу… Хороший ты арень…» И плакал и вновь бормотал: «Я одлец, одлец… Ты раотал и олучил коейки, да… А я расисался и олучил шессот… Дед — сука и я тоже одлец… Ты еня рось, рось…» Но Мотылек его не бросил, тем более, что не сразу поверил пьяному признанию третьего. Он дотащил его до гидрофора, обмыл, привел в относительную норму. И через два часа, к сдаче вахты, третий был почти как огурец.
Сменившись, Мотылек завалился спать, и только во время обеда до него дошло, что третий спьяну выболтал, пожалуй, правду. Мотылек вспомнил, как хвастали старшие курсанты крупными заработками на покраске машины, как кайфовали сами и угощали их, салаг. Но это было давно. Теперь-то они не салаги. А надули их, как маленьких. На шестьсот рублей надули. Это значит по двести на рыло. Ха, приличный шмат. Конечно, можно за чужой счет коньячок посасывать. Надо обязательно Кольке с Витосом сказать…
Отобедав, Мотылек пошел на матросскую палубу. «Удача» одолевала шторм, всю надстройку бил мощный озноб: машина-то в корме. Тряслись руки и ноги у Мотылька, и в какой-то момент ему почудилось — это от страха. Вот он идет к обманутым корешам по покраске, а дед и третий сверху следят за ним. Он даже невольно взглянул вверх исподлобья. И на него — обо же — в упор (подволок в коридоре низкий) воззрился огромный зловеще-оранжевый глаз плафона. Мотылек заспешил и шустро юркнул в каюту.
Коля Худовеков как раз только залег. Он стоял с Мотыльком в одно время, но после вахты еще не спал, потому что, сменившись утром, целый час потом работал на палубе — крепил шлюпочные брезенты. Шторм уже тогда полоскал вовсю, и ветром сдуло сон с матроса. Когда вошел Мотылек, Коля скрипнул пружинами, устраиваясь поудобнее и давая знать, чтоб не шумели. Витос, в кирзовых сапогах с узкими отворотами — по высшему матросскому классу, в рабочих, но тоже ладных брюках, в простом рыбацком свитере, правда, с ушитым по шее воротом, сидел на диване с книжкой. Мотылек присел рядом и зашептал. Он долго шептал и не упустил ни одной подробности из происшедшего на ночной вахте, поделился созревшими за обедом мыслями и даже подорожными страхами. Последнее Витос выслушал с нескрываемым презрением, но Мотылек не заметил этого, так как, исповедуясь, смотрел куда-то в грудь Витосу.
Снова скрипнула койка, но Коля промолчал. Он умел все видеть, слышать и — молчать. Школа жизни. У Мотылька тоже была такая школа, только начальная.
Пойти прямо сейчас и набить им морды, третьему и деду, подумал Витос, и тут же зазвучала в голове песня Высоцкого: «Бить человека по лицу я с детства не могу». Она и там, на ботдеке, не вовремя вспомнилась, подумал он, там, возле шлюпок, ночью, когда Шестерка загородил ему дорогу и сгреб, что называется, за грудки. «Отстань, слышь, от моей бабы», — прохрипел Шестерка. «Да что ты? Какой бабы?» — вырвалось у Витоса. «Сам знаешь, не придуряйся. Светка, камбузница». Это надо же Светланку бабой назвать! «А-а при чем здесь?..» Видя растерянность Витоса, Пашка отпустил его рубаху и выпалил: «Да я ее еще с прошлой путины…» Реакция у Витоса была четкая — вместе с последним похабным словом, в одну и ту же секунду щелкнул удар, прямой справа. Держи Пашка голову чуть повыше, удар пришелся бы в челюсть, и конфликт можно было бы считать решенным. Но пострадал только нос Шестерки. Злости и силы в ударе не было. В голове у Пашки лишь коротко гуднуло, и он быстро пришел в себя. Удар, пожалуй, больше переживал сам Витос: «Бить человека по лицу…» Секундой замешательства и воспользовался чифов наемник. Он размахнулся, тоже справа, и удар был бы сокрушительным, удар кувалды, потому что кулак Пашки Шестернева вобрал в себя добрый десяток лет кочегарского труда — и на угле, и на мазуте, а потом еще слесарем и мотористом. Витосу ничего не стоило легким нырком уйти от этого затяжного, размашистого удара. Ну а вслед за нырком автоматом сработала классическая «двойка» — левой, правой. Как обычно на ринге, левая произвела мгновенную пристрелку, установила дистанцию, а правая выстрелила — сухим и точным щелчком в челюсть. Шестерка тюфяком осел и завалился на левый бок, по инерции собственного замаха. Сгоряча Витос было отвернулся и сделал шаг прочь, но тут же возвратился. Он тряс Пашку за могучие плечи, но безрезультатно. Потом нагреб со шлюпочного брезента снежку и растер Пашкины щеки, лоб, челюсть. Тот замычал и стал подниматься на ноги. Витос отвел его в тепло, в коридор, и там, прислонясь к переборке, Пашка посмотрел на него пьяным от нокаута, но уже злым взглядом и прохрипел: «Ниче, паря, еще встретимся».
— Пойти прямо сейчас и набить им морды, — громко, но будто сам себе сказал Витос.
— Ну и что нам с этого? — тоже в голос возразил Мотылек. — Вон третий себе сам набил, а денюжки-то наши все равно тю-тю. Две сотни! — воскликнул он. — Это ж сколько можно «газу» взять — больше полста бутылок! А если красненького, так вообще тьму.
— Двести рублей, конечно, немало, и можно было бы их маме послать, — не слушая болтовню Мотылька, сказал Витос задумчиво.
И тут звякнула кольцами коечная шторка, и в просвет показалась живая Колина физиономия.
— Вот ты же не пьешь! Вот будь я шельмой, если вру, — застрочил он, уставясь и буквально пиная взглядом Мотылька. — Знаю я таких «алкашей»: выпьешь стакан, а натрепешься сорокаведерную бочку. И кто тебя за язык тянет? Ты наслушался в своей мореходке всяких трепачей и думаешь, что в жизни других радостей нету, кроме как надраться да перемазаться.
— Ну, ладно воспитывать, — баском возмутился Мотылек. — Ты лучше придумай, как денюжки наши спасти.
— А для чего их спасать — от одного алкаша другому? Так ты уже с ним пил на эти деньги. И вообще, Мотылек, я бы тебя в Жука переименовал. Мотылек на цветы садится, а ты все норовишь — на кучу.
— Да ладно, Коля, я серьезно.
— Ну а если серьезно, то я думаю, нам втроем нужно идти к деду и требовать объяснений.
И Коля, решительно раздернув шторки до конца, свесил ноги и сел, в трусах и майке, худой, но строгий и оттого как будто повзрослевший и, похоже, презревший на этот раз «школу жизни».
Как здорово, бывает, идут людям их фамилии, думал Витос, глядя на Колины ребра, ходящие под кожей, когда он натягивал штаны и рубашку: Худовеков — худой вечно.
К деду они не попали. Дверь его каюты была приоткрыта на штормовку, в широкую щель вырывалась залихватская музыка и видна была спина старпома и женская рука. Последнее-то и смутило ребят. Они молча прошли мимо. И только Мотылек прошелестел: «На наши кайфуют».
В свою двухместку вернулись как к разбитому корыту, Витос надел ватник и собрался уже идти: обеденный час кончился. Мотылек пробормотал что-то насчет вечера, что, мол, «гады-немцы» все равно от них не уйдут. И тут неожиданно Коля трахнул себя по лбу и выпалил: «Идея, мальчишки! Самая что ни есть распрекрасная идея!» Витос остановился в дверях, а Мотылек вытянул длинную незагорелую шею из курсантской фланельки.
Идея Коли Худовекова действительно была проста и быстро выполнима: сходить в судовую бухгалтерию и посмотреть наряды-табеля.
Через десять минут Коля и Мотылек под пристальными взглядами главбуха и двух дородных бухгалтерш рылись в ворохах нарядов, а Витос стоял сзади них по стойке смирно и с удивленьем думал про толстых тетушек: а ведь это тоже, наверно, моряки считаются, ну да, они же на судне работают, а судно в море. Видела бы мамка это, сразу небось перестала бы за меня трястись и батю ругать. Коля с Мотыльком спешили: а вдруг дед сюда заглянет или еще кто. Они, не обратив внимания, пролистали наряд Шестернева, нашли три своих и наконец вцепились в наряд третьего механика. Прочитали несколько раз: «Помывка и покраска вручную машинного отделения. 10 (десять) рабочих дней. 600 (шестьсот) руб.». Теперь все было ясно окончательно.
Выйдя из бухгалтерии, ребята с минуту посовещались и решили ни к деду, ни к капитану, ни к помполиту не ходить, а рассказать все «своему брату-матросу» Александру Кирилловичу Апрелеву. Тем более, что он — кем-то там в народном контроле. Витос угрюмо молчал. Сдвинув черные брови к переносью, он снова думал о том, как много все же подлости во взрослом мире: ну, хорошо, тут все ясно, они пьяницы и им нужны были деньги, но вот зачем Пашке Шестерневу понадобилось лить помои на самое чистое и светлое — его Светланку, зачем?..
— Ты че, Витос, мы тебя спрашиваем, во скоко пойдем? — Это Мотылек теребил его за рукав.
— Да отстань ты, никуда я не пойду!
— Как? — искренне изумился Мотылек. — А деньги, денюжки?
— Возьми их себе.
Резко шагнув в сторону. Витос обошел ребят и стал спускаться по трапу. Он направлялся в подшкиперскую, где с утра плел из пенькового троса мат. Пытаясь открыть железную дверь с площадки трапа на палубу, он подумал: задраена, а зачем, никто никогда ее не закрывал. Проверил все четыре задрайки — открыто. Да что за дьявол?! И он изо всех сил толкнул плечом. Дверь распахнулась и вырвалась из рук (словно могучий великан рванул ее с палубы), грохнула о стальную переборку. В лицо ударил ураганный ветер со снегом — будто хлестнуло жесткой, обледенелой парусиной. Витос с трудом перешагнул через комингс. На палубе все ревело: черное косматое море колокольно гудело, дико проносясь вдоль борта; седые черные тучи летели прямо на него; трассирующие очереди снежинок со свистом били в глаза; ураган двумя лапами уперся в грудь Витоса, закогтил ее сквозь ватник ледяными когтями и пытался опрокинуть парня. И до чего же дьявольски здорово было вот так шагать наперекор ему, когда каждый твой шаг — словно восхождение! До чего это крепко и здорово — только ты и он, ураган. И никаких нет подлецов, рублей, бухгалтерий, никаких мотыльков… Ха-ха-ха!.. Витос рассмеялся в лицо урагану.
Вечером «Удача» стала на якорь в тихой, ласковой, наполовину укрытой льдом и снегом, бухте Наталии. Витос после ужина исчез, и Коля с Мотыльком, напрасно прождав его в каюте целых два часа, пошли на поиски. Мотылек не постеснялся заглянуть даже в каюту на ботдеке. Девушка, сидевшая в каюте со спицами и половиной шерстяной кофты в руках, сказала, что Витос заходил и они со Светой ушли, но это было давно.
Ребята прочесали надстройку сверху донизу и от борта до борта, затем вернулись на ботдек, но и оттуда ушли бы ни с чем, если б Витос сам не окликнул их из дальнего глухого конца коридора, где они со Светланкой стояли, слившись с темной переборкой:
— Вы не меня, случайно, ищете?
— Ха! — выдохнул Коля. — Случайно… Кого мы ищем, Мотылек? Правильно — мы ищем дядю Ваню, того самого, у которого поспели вишни в саду. — Он подошел ближе, демонстративно пристально вглядываясь. — Вы не знаете, Света, такую одесскую песню?
В этой фразе было столько «с», что с Колиных уст слетел прямо-таки сплошной перепелиный свист. Светлана невольно засмеялась:
— Знаю, знаю… — тоненько пропела она, держась за Витоса и раскачиваясь. Потом обеими руками пожала его руку, пролепетала:
— До завтра, Витенька, — и впорхнула в каюту.
У Витоса было прекрасное настроение, и ребятам удалось его уговорить. Время уже подходило к отбою, когда наша невезучая троица обнаружила, что Александра Кирилловича в каюте нет. Тогда из столовой они позвонили на мостик, и вахтенный, поворчав, объявил все же по спикеру: «Матросу-лебедчику Апрелеву подойти к своей каюте». Они ждали его в коридоре, потому что в каюте было темно и там спал перед вахтой дядя Антон. Отца не было минут десять, и когда он появился, слегка запыхавшийся. Витос определил, что шел он издалека, из носовой надстройки, через цех. Был он весь какой-то славно взъерошенный, хоть и лысый. И сам, видно, чувствовал это — гладил себя по лысине. О, да от него пахло водкой!
— Где ты был? — спросил сын.
— У нашего капитана сегодня день рождения, — мягко объяснил отец. — И он меня пригласил… Да что ж мы стоим в коридоре! Проходите в каюту, ребята, только потише…
— Пойдемте лучше к нам, у вас там спят, — опередил его скороговоркой Коля.
И через минуту Александр Кириллович, облокотившись на подшивку «Огоньков», в которых Коля одолел уже почти все кроссворды, слушал рассказ Мотылька, простроченный в тонких местах короткими очередями Колиных фраз. Мотылек сидел напротив отца, на стуле, Коля — на своей койке, а Витос — на диване, с отцом, но не рядом, а у самого рундука. Он молчал и, хотя смотрел то на Мотылька, то на Колю, почти не слышал их, а слышал ласковое «Витенька» («До завтра, Витенька»), какого давно, после разлуки с матерью, не слышал ни от кого.
— Добро, ребята, я все понял. Сейчас уже ночь. А завтра, при свете, отыщем правду. Обязательно. — Отец несколько мгновений, уже стоя, смотрел на сына, потом пошел к двери. — Спокойной вам ночи.
— Я провожу тебя, — вскочил Витос.
Они вышли и несколько шагов в пустынном коридоре прошли молча.
— Папа, — Витос остановился.
Отец по инерции сделал еще шаг, тоже остановился. Их разделял всего метр. Витос, опустив ресницы, глядел в палубу, ресницы едва заметно подрагивали. Отец смотрел на него — в первый миг с обычным вниманием, потом с легким недоумением, удивлением, потом — все это менялось в короткие секунды — затаив дыхание, еще не веря чувству, сказавшему нежданно-негаданно: вот, пришло, сейчас…
— Прости меня, папа.
— За что, сынок? — почти прошептал Александр Кириллович.
— За все, — так же тихо ответил Витос, не поднимая ресниц. — Я глупый был. Ты прости меня, пожалуйста.
XII
Герман Евгеньевич хлопнул дверцей холодильника и поставил на стол мгновенно запотевшую бутылку. В это время раздался стук в дверь, и после привычно зычного капитанского «да» вошел Александр Кириллович.
— Ну и нюх у наших матросов, — шутливо прорычал капитан, зажмурившись и качая головой. — А мы с Михаил Романычем без тебя уж решили ко второй подступиться.
Рюмки с коротким звоном сошлись над столом, разошлись, а тоста все не было. И тогда Александр Кириллович сказал:
— Я пью за «Дружбу», Евгеньич, за наш БМРТ.
— Вот! — в капитанских устах это прозвучало как «Эврика!», — конечно, за наш добрый старый траулер. Михаил Романыч, выпей и ты за него, за прекрасный пароход с прекрасным именем «Дружба». Сто футов ему под килем!
— Я с вами выпью, конечно, за ваш пароход. Но «Удача», по-моему, звучит не хуже.
— За «Дружбу!» — Капитан утвердил тост и первым молниеносно опрокинул рюмку. — Ха! Хорошо идет сегодня. — Он грызанул ломоть грудинки и продолжал. — Да, Саша, «Дружбу» и я частенько добром поминаю. Вот есть пароходы — уходишь с них и даже на трапе не оглянешься, потому как не на что. А на «Дружбу» — да, вот третий год, считай, пошел, а все оглядываемся мы с тобой. Не зря, выходит, плавает «Дружба» по океану, а!
Помполит закусывал картошкой и рыбой. Кастрюлька с картошкой, обмотанная двойным махровым полотенцем, смахивала на любимую куклу, закутанную для прогулки. В «кукле» уже образовался лаз для руки, и помполит, доставая очередную картошину, походил сейчас на восточного фокусника. Александр Кириллович невольно засмотрелся в этот момент на его лицо, абсолютно невозмутимое, с молодой, чистой кожей, туго обтягивающей скулы юноши.
Филиппыч, помполит с «Дружбы», тот заводной мужик был, да и вообще — прямая противоположность Михаилу Романычу: чувствительный, открытый, распахнутый человек, а лицо… лицо такое, как будто на нем, как на сыром песке, в крестики-нолики играли.
— Филиппыча помнишь, Евгеньич? — нарушил неловкую, почти уже тягостную тишину Александр Кириллович.
— Конечно! — мгновенно отозвался капитан. — Такого человека разве забудешь? Твой, комиссар, коллега с большого морозильного траулера «Дружба», — теперь он обращался к помполиту и выставил над столом свой кулачище с торчащим кверху большим пальцем. — Во-от такой мужик! Кавалер ордена Ленина, бывший стармех. Да ты его, наверно, знаешь (помполит молча коротко кивнул). Комиссара с «Дружбы», по-моему, все знают, точно, Саша? А ты, Михаил Романыч, кстати, до флота в парткоме, кажется, трудился, так?
— В горкоме, — скромно поправил помполит, — в горкоме комсомола.
Несколько мгновений помполит смотрел на капитана, как, бывает, старший брат смотрит на расшалившегося младшего, стараясь хранить серьезность, но в конце концов не выдерживает и смеется вместе с ним.
Улыбнулся и Александр Кириллович, и почему-то сразу возникло перед ним лицо Витоса, грустное, с опущенными ресницами, и это его тихое «за все». Как ему хотелось поцеловать сына! Но он только погладил его плечо, крепкое, совсем уже мужское плечо. Ну какие могут быть теперь сантименты…
Задумавшись о сыне, Александр Кириллович не заметил, как капитан встал, кивнул на него помполиту: дескать, смотри, матрос-то сбежал от нас, потом тихонько подошел к письменному столу, за которым стоял, еще с вечера дожидаясь своего часа, баян, вынул его из футляра и неожиданно, как с неба, опустил прямо в руки матроса и тепло подмигнул: ага, мол, давай нашу.
Вполголоса (морские часы показывали уже около трех ночи) запели они «Раскинулось море широко». И как тогда, в Иокогаме, расчувствовался капитан, глаза блеснули влагой. Он сокрушенно смолк, дослушал песню и, глядя в палубу, сказал:
— Двадцать лет, сколько живу на флоте, слушаю ее, а допеть ни разу не допел. Э-эх!
Рывком развернув кресло, он встал, добыл из ослепительно белого нутра холодильника еще одну бутылку, протянул помполиту:
— Открывай, комиссар. Последняя. За что поднимем?
— За тех, кто нас ждет на берегу, — сказал помполит, разливая.
У капитана в Находке была пятнадцатилетняя дочь, но семейная жизнь не ладилась давно: годы морских, промысловых скитаний сделали обычное свое подлое дело — с женой он то ли разошелся, то ли собирался развестись, и никогда ни с кем об этом не говорил. Мрачное лишь на миг мелькнуло в его глазах, и он оказал твердо:
— Нет, уволь. На берегу и без нас празднуют. Давай — за тех, кто в корме!
— Ах, да, — улыбнулся помполит, — мы же в Германовне. Так, значит, за Евгеньевку?
На «Удаче», как и на всех, пожалуй, других плавучих базах, надстройкам, носовой и кормовой, были присвоены прозвища на манер деревенских названий. На «Михаиле Ломоносове» (это база одного рыбацкого управления с «Удачей») носовую надстройку, где живет палубная команда во главе с капитаном, именовали прямо по-некрасовски — Знобишино, потому что Знобишин — фамилия капитана, а кормовая, обиталище матросов-обработчиков, звалась Корытовкой, по фамилии завпроизводством, вождя и батьки «промтолпы». Ну а на «Удаче» зав был еще молодой, на «батьку» не вытягивал, а Герман Евгеньевич, работавший с приемки судна, пришелся по душе рыбачьему народу, потому что золотые нашивки надевал лишь по праздникам, потому что его кирзовые сапоги и черная телогрейка, как и у них, были всегда в чешуе, и каждый день их видели то у разделочного конвейера, то в приемных бункерах, то на палубе, то в трюме.
— А там тоже, между прочим, без нас празднуют, — сказал Александр Кириллович и взял рюмку.
— Вы имеете в виду стармеха? — Помполит впервые за весь вечер обратился к нему. И когда матрос утвердительно кивнул, продолжил:
— Да, механическая служба после, Беринговского немножко загуляла. Я вот ждал, когда станем на якорь. Так что завтра, значит, Герман Евгеньевич, нужно будет пригласить сюда стармеха и кое-кого еще. На беседу без свидетелей.
Они выпили и принялись за закуску. А Александр Кириллович, все еще держа в правой руке полную рюмку, левой начал наглаживать лысину. Он думал: «кое-кого», «без свидетелей»… Ох, товарищ Век, ведь до хрена же вы еще не знаете… Он поставил рюмку, закурил и рассказал про третьего механика и деда все, что накануне поведали ему Коля с Мотыльком.
В тишине, образовавшейся после его рассказа, проступили неслышные дотоле звуки — подвывы ветра за иллюминаторами, тиканье морских часов на переборке, скрип репитера компаса, висящего на двух серебристых кабелях над письменным столом. И тишину эту нарушил капитан:
— Завтра же все проверить и — на партбюро.
Помполит, к которому обращены были эти слова, молча кивнул. Он напряженно о чем-то думал — неподвижность и вовсе уж окаменелые скулы выдавали напряжение.
Что-то не нравится ему, а наперекор пойти боится, подумалось Александру Кирилловичу.
— С бюро подождем, — будто отвечая ему, тихо, но твердо сказал помполит. — В бюро есть рядовые, а мы не можем подрывать авторитет высшего комсостава.
— Подрывать? — Руки капитана снова схватили подлокотники. — Да если он, подлец, обманул пацанов и втащил в это подлое дело третьего, тоже, считай, мальчишку, так о каком авторитете вы говорите?!
— Я говорю об авторитете, который должен быть у руководителя, — все так же спокойно возразил помполит, — и утверждаю, Герман Евгеньич, что нужно подождать до берега. Остался месяц или даже меньше. Да я, наконец, просто не верю в это.
Капитан молчал, локти его легли на подлокотники, пальцы разжались, взгляд он отвел в сторону, куда-то на иллюминатор. И Александр Кириллович не выдержал, пригладил лысину и начал:
— Вы не поверите, наверно, и в то, что Ляпин с бригадой на морозке гонит туфту, за которую вы по трансляции его поздравляете — молодцы, мол, добились высоких результатов. За эти же «результаты» вас с капитаном поздравляет начальник экспедиции. И рвачи ляпинские ликуют. А потом, помяните мои слова, Михаил Романович, придут рекламации на мороженую рыбу, да будет поздно.
Один только раз на протяжении этой тирады помполит коротко взглянул на матроса и сейчас собирался, видно, с мыслями. Но ответить ему не дал капитан.
— Погоди, Саша, не вали «до кучи». Об этом — потом… Не день рождения у меня, а черт знает, что, производственное совещание, — он улыбнулся одними глазами и вновь подался вперед, чуть оторвав локти от кресла. — Давай, Михаил Романыч, с тобой насчет авторитета закончим. Если он у меня есть, то никакой дед и любой другой жулик или пьяница мне его не подорвут. Согласен? А вот если я буду потакать проходимцам, покрывать их, вот тогда-то…
— Все равно, Герман Евгеньич, я не соглашусь. — Помполит сидел прямой, как каменный, и размеренно, точно крупную гальку в воду, вгонял слова. — Я против вынесения этого дела на бюро. Такие вещи решаются в других инстанциях.
Эта размеренность, пожалуй, и вывела капитана из себя.
— Хрен с тобой! — Он рубанул рукой воздух над столом, взял сигарету, затянулся и шумно выпустил дым в подволок. — Я понимаю: ты призван уравновешивать «крутой капитаний нрав», ты — комиссар. Но это не значит, дорогой ты мой комиссар, что ты должен брать под крылышко сволочь. — Снова глубоко затянулся и, внезапно, порывисто скрипнув креслом, оглянулся на часы. — О! Прекрасно! Четыре часа. Сейчас мы задействуем третьего. Его вахта началась.
Александр Кириллович с помполитом, словно из партера, следили за действиями капитана. Он отлично чувствовал внимание «зала» и делал все эффектно: хлопнул ладонями по подлокотникам, решительно, пружиной распрямился, вышел из-за стола, красиво обошел обитое кожей кресло, спортивно прошагал по салону, сел за письменный стол, массивный, отделанный под красное дерево и так идущий к его внушительной фигуре, демонстративно, сверху опустил на телефон руку, взял черную трубку (она так гармонировала с черно-серебряными завитками его могучей гривы) и набрал номер.
— Машина? Третий механик? Капитан говорит… Доброе утро, или добрая ночь, вернее. Скажите мне, вы участвовали, вот недавно, в покраске машинного отделения?..
Третий долго о чем-то говорил ему в трубку, и на лице капитана отразилось нетерпение.
— Нет, мне совсем не это нужно, — мягко, почти вкрадчиво сказал он и тут же сменил тон; — Вы мне ответьте четко и прямо — да или нет. И говорите правду, — в голосе его была та внутренняя сила, что граничит с внушением. — Врать не советую…
И вдруг лицо капитана расслабилось, будто было оно под током, и ток сейчас выключили. Глубокая озерная синева капитанских глаз посветлела.
— Вот, — просто сказал он, — другое дело. — И произнес раздельно, чуть не по слогам, отсутствующим взглядом уставясь на помполита: — Не участвовал в покраске. Ну, что ж, спасибо за правду. Все. Да, о нашем разговоре — пока никому. Договорились? И спокойно несите вахту, работайте. Все.
Капитан положил трубку, встал и, глядя в иллюминатор, в ночь, неожиданно зевнул затяжным, сладким зевком. И стало ясно сразу, как он устал: шли вторые сутки бодрствования, из которых половину заняла борьба с двенадцатибалльным штормом.
Александр Кириллович бережно укладывал в футляр баян, Помполит тоже выбрался из-за стола, потянулся, расправив широкие плечи гимнаста, и сказал:
— Вам тоже надо отдохнуть, товарищ именинник. Спокойной ночи.
— Но тех денег я не брал, — задумчиво сказал капитан, повторяя, очевидно, услышанное в трубке. — Так что, Михал Романыч, ты поосторожнее с третьим, полегче. А я завтра, то есть сегодня уже, сам все проверю у бухгалтеров, и тогда уж решим с тобой, что делать, как жить дальше. Спасибо, хлопцы, что разделили со мной, — он кивнул в сторону стола. — Спасибо, Саша, за песни. Спокойной ночи.
Закончился день рождения. До позднего беринговоморского рассвета еще было далеко. И валко раскачиваясь на якоре, плавбаза колыбелью баюкала рыбаков. Колыбель никогда не ведает обмана и зла, бережет покой и сон. И те, кто вкусил их полной мерой, поутру обретают силы для свершений…
Комиссия по приказу капитан-директора проверит новые партии мороженой рыбы, обнаружит в одной смене брак, ляпинцев лишат половины квартальной премии. Капитан найдет в бухгалтерии «липовые» наряды на третьего механика и Шестернева и даст в отдел кадров обо всем радиограмму с требованием прислать деду замену. Ему ответят так: «Замены в ОК нет. Разберитесь, накажите на месте». И капитан объявит по выговору Шестерке и третьему и «строгий выговор с предупреждением» — стармеху Перепанскому.
XIII
В районе лова — полдень, декабрьский полдень. Мутно-желтым пятаком взошло наконец солнце, отдавшее все силы на то, чтобы справиться с розовыми пеленками. Они долго светились над горизонтом большим треугольным пятном, напоминая оглаженными контурами угасшее полярное сияние. Немощный рассвет оживил все же океан: заблистали сталисто-розовым блеском озерца воды промеж льдин, а сами льдины, только что мертвенно-белые, вдруг стали совершенно голубыми, с чуть-чуть молочным, жемчужным оттенком. В полумиле к норд-осту от борта «Удачи» — кромка, дальше — сплошное поле льда, неровно покрытое снегом, с голубыми, синими и почти черными тенями.
Рыбы мало, и смены работают вполсилы, с развальцей, с обстоятельными перекурами, прихватывая к обеденному часу с обоих концов еще по полчаса. Когда идет большая рыба, она задает цеху высокий темп, и летают в руках обработчиков игрушками тридцатикилограммовые картонные ящики с мороженым балыком, тазы с печенкой, полсталитровые бочки с икрой. Теперь же работа «то потухнет, то погаснет», говорят матросы. И потому задолго до обеда, в желто-розовых сумерках сонного рассвета, сбились они у борта и следят далекую темную точку на чистой воде. Это СРТМ, идущий с берега, из дому. Радисты вчера еще «своим, по секрету» сообщили, что везет он на базу почту — письма, посылки, газеты… И вот сейчас под прицелом десятков нетерпеливых глаз проходят последние кабельтовы его многодневного пути.
— Валюха, ты-то че ждешь? Тебе ж прошлый раз посылка была! — Через десяток голов, нависших над бортом, кричит дородной девахе высокий парень, маячащий над толпой красной шерстяной шапочкой с помпоном, какие обычно на рыбацком флоте делают из рукавов кофт, отрезая их, чтоб не мешали в работе, не мокли, а безрукавки уже поддевая для тепла под робу.
— И все ж то ты помнишь. Цыпа! — вынув изо рта беломорину, зычно отвечает Валюха парню, прозванному Цыпой базовскими девчатами за то, что сам он их всех подряд зовет цыпами. Такие прозвища-бумеранги — самое ходовое дело на флоте.
— А как ему не помнить, когда он, мракобес, в каждый «пузырь» нос засунул, — это говорит стоящий между Цыпой и Валюхой молодой коренастый красавец в огромной курчавой шапке волос.
— Ты приходи, Мракобесик, в гости, я тебе тоже налью, — играя лупастыми глазами, откликается Валюха. — Мне и сейчас посылочка будет — радиограмму получила.
Витос, молча стоящий поодаль, на крышке трюма, откуда тоже прекрасно видно СРТМ, не в силах сдержать улыбки: он вспоминает, как курчавому в столовой вечно то соли в чай насыплют, то перцу в компот, а он добродушно ругается на потеху всем: «Вот мракобесы, опять!»
После обеда огромная, многослойная очередь осадила крошечную каютку напротив столовой. Над дверью с окошечком — надпись «Почта», рядом криво болтается на одном гвозде синий почтовый ящик. Густой гам, шутки, смех висят над толпой. Взрывы возгласов сопровождают каждую посылку, выныривающую из двери и плывущую над головами. Два месяца не было почты.
Витос получает целых три конверта и, прижав их к груди, норовит сделать прицельный рывок, когда из окошка за спиной слышит:
— Отцу возьмешь?
— Конечно! — Он с трудом разворачивается и берет еще два письма. Выбравшись из толчеи, идет к отцу в каюту и по пути рассматривает драгоценные конверты. Два из Рени, от матери, третье из Ростова — Валькин почерк, с наклоном влево, ну а отцу оба письма из Находки, от тети Томы.
Отец с баяном сидит на диване, один в каюте, дядя Антон уже на вахте, он ведь с ревизором стоит, с двенадцати. Баян выводит дивную, незнакомую мелодию, сладкозвучную — без басов: отец подбирает новую песню и, прижав правое ухо к полке «Орфея», вслушивается в звучание высоких тонов. Он сейчас слился с баяном, ушел в звуки и не слышит, не видит сына.
— Папа! — Не слышит. Погромче: — Па-ап!
Отец осторожно отрывает ухо от баяна, медленно поворачивает голову, далекими-далекими глазами смотрит на Витоса, продолжая растягивать меха. Но вот глаза его возвращаются — из глубин ли, далей, узнают сына, вмиг теплеют.
— Витос! — он стряхивает с плеч ремни, кладет баян рядом, кивает на стул: — Садись.
— Да я на секунду, — говорит Витос, но все-таки садится и протягивает отцу письма.
— А-а, спасибо! — Отец, быстро взглянув на конверты, кладет их на баян. — А я посмотрел — давка, пережду, думаю.
Он видит в руках сына еще письма, но не спрашивает ни о чем.
— Понимаешь, Витос, прочитал я недавно в каком-то журнале о том, что закону ритма (а он во многих явлениях еще и не открыт) подчиняется жизнь и человека, и человечества, и всей вселенной. Понимаешь, все-все ритмично в мире — от настроения до звезд — пульсаров, или квазаров, как их там называют…
…И вот закон жизни этот, понимаешь. Витос, может выразить только музыка. Представляешь? — Отец кладет на баян ладонь, так нежно кладет, будто прикасается к дышащему темечку ребенка. — Вот так. — Он замолкает, улыбаясь мечтательно и удивленно. — И когда ты вошел, я как раз и слушал его, — он кивает на баян, плавно наклонясь в его сторону всем телом, — закон этот уловить пытался, понять поглубже.
Один мой знакомый, на базе работает, собирался когда-то поступать в консерваторию… в молодости. А потом решил идти в физкультурный. Ну, а ты как, не решил еще, куда идти?
— Решил, — очень серьезно отвечает Витос. — Ты же знаешь — на СРТМ.
— Нет, я про «потом» спрашиваю, про «после моря».
— А, нет… Но… может быть, тоже на отделение бокса пойду, в физкультурный то есть.
— Ну, молодчина, — чуть заметно улыбается отец. — А чем сейчас занимаешься?
— Та-а, — пренебрежительно машет Витос рукой и лукаво улыбается в ответ. — Огнетушители в подшкиперской заряжаем и красим… А сколько уже? — спохватывается он.
— Четверть второго, — отец, не выдержав, ерошит черногривую, такую горячую на ощупь голову сына. И Витос, рванувшись было сбросить руку отца, замирает от неожиданной ласки и, накрыв его руку своей, чувствует странное тепло, не то отталкивающее, не то соединяющее их руки.
— Бегу, папа, а то Денисыч скажет: «Ох и спить матрос, якорь в нос».
Он так точно копирует боцмана, что оба дружно хохочут. Витос уходит, а отец сидит как околдованный. И думает Александр Кириллович о том, что не заслужил он, наверное, этой радости — вот так узнавать себя, свою юность в сыне. Годы настолько сгладили все обиды, настолько поросли они травой забвения, что сейчас он сам себе кажется обидчиком, укравшим у матери сына. Нужно будет к Новому году вместе с ним, думает он, сообразит хороший подарок для его матери…
В подшкиперской, на новеньком мате, сплетенном руками Витоса, уже сидела «пожарная бригада», его сегодняшние соратники — угрюмый дядя Миша, с которым он работал когда-то в трюме на перегрузке муки, и тот самый тощий матрос — «суворовец», который на крабовом пиршестве говорил, что великий полководец каждые два года стрелял завпродов. Оба читали письма.
Витос раздвинул батарею красных бомб-огнетушителей, уселся на ящик с сухой щелочью и кислотой в полиэтиленовых мешочках, торчащих уголками через щели, и тоже принялся за письма.
Мама с бабкой, как и в прошлых, на пять-шесть листов посланиях, вначале уговаривали его вернуться, соблазняя известиями об одноклассниках, поступивших в институты и военные училища, писали подробно о своих болезнях и новых лекарствах, которые удалось достать, затем советовали «хорошо питаться, тепло одеваться, не надрываться, не пить с матросней и беречься вообще от всякой грязи». Все это Витос уже знал наизусть и пробегал глазами, нетерпеливо добираясь до последней страницы, где обычно помещались хоть какие-то сведения о родном городе, о сборной по боксу, в которой он знал каждого, как брата, — скудные, но так много значащие вести! И еще он любил самые последние строчки, всегда до краев наполненные искренней материнской нежностью, любовью, свободной от всяких нравоучений и обид.
Суворовец давно прочитал свое письмо, сложил конверт пополам, сунул за пазуху и теперь сидел холодно-задумчивый: брат из-под Гомеля писал ему о своих деревенских бедах, о том, что землю ни кормить, ни убрать некому (письмо было давнишнее, помеченное еще сентябрьским днем), а земля, плакался брат, без рук «родит картошку с морошку и хлеба немножко».
Конечно, размышлял Суворовец, кто ж тебе пойдет в грязи ковыряться, ежли в городе — только давай и давай руки и — на, получай и общежитие новенькое, и кино, и театры, и кабаки, да все на асфальтах, а не в навозе. Вот поставь ты в своих Денисковичах кинотеатр, ГУМ, кафе «Льдинку» и механизированную молочную ферму, так и я, может, к тебе приеду, на доярке женюсь и дояром стану.
Занятый своими мыслями. Суворовец одновременно наблюдал за лицами читающих; у мальчишки по лицу словно солнечные зайчики с тенями в прятки играли, а Миша-куркуль такую свирепую рожу скорчил, как будто читал письмо от заклятого врага и готовился к убийству.
— Хэх, шустряк! — высказался наконец Миша, заметив, что Суворовец смотрит в его сторону. — Эт ж как оборзеть надо! Дай ему ключи от квартиры, понял ты? Значит, жену отдай дяде, а сам иди к б…
— А кто это? — спросил заинтересованный Суворовец.
— Да хто, хто — балбес мой! — озлился Миша.
— Сын, что ли? — удивился Суворовец.
— Ага. Понял ты, сам голый и женился на такой же. Студентка, мать ее ети. А я один живу. Купил квартиру. — Миша сделал злое ударение на «купил» и озверело потряс перед собой толстопалой пятерней. — От этими мозолями. Купил и запер. И хрен я им дам! «Па-па», пишет, — тряхнул Миша тетрадным листком. И действительно, подумал Витос, «папа» никак ему не идет. — «Папа, пусти нас на один месяц, пока ты в море». Хэх! Знаем мы этот месяц!..
— Сын-то родной? — поинтересовался Суворовец.
— А то какой же!
— Ну и пустил бы, пока в море.
— Пошел ты!.. Я тож советовать умею, понял ты? — У Миши это получалось так: «пойл ты», и вообще он почти все слова укорачивал, точно обгрызал их. — Ты от зработай, купи, а потом пускай всяких.
Суворовец улыбнулся неожиданно грустной, неприкаянной улыбкой.
— Все у меня есть, — печально и тихо проговорил он, — и квартира, и машина…
Миша покосился — не врет ли. А Витос, находясь под впечатлением только что услышанного, пытался представить Мишиного сына с женой-студенткой, худых и счастливых.
— А помнишь, там, в трюме, этот самый Миша похвалил тебя — молодец, мол, что чернобуркой и заработком интересуешься, деньга счет любит, сказал, помнишь?
И ожгло Витоса стыдом, и потому не сразу он подивился, как это так ловко сумел подкрасться дошлый проныра-Спорщик. «Так я ведь вовсе, и не считал никаких денег, — с запозданием пытался оправдаться Витос, — это я просто так тогда сказал, просто представил, как мать получила бы от меня эту чернобурку».
— Все равно ты считал деньгу, — заядло сказал Спорщик. «Тебе лишь бы поспорить со мной», — заметил ему Витос. И Спорщик, вечно язвительный и издевающийся, холодный, всегда враждующий с ним напропалую, вдруг кротко вымолвил:
— Ты прав — друг спорит, а недруг поддакивает.
Чуть не рассмеялся вслух Витос.
— Все у меня есть, — продолжал между тем Суворовец, — а семь годов назад, когда на флот пришел, ни хрена, кроме алиментов, не имел. Мечтал — вот ежли повезет и заработаю на хату, то все — «завяжу» с морем, женюсь…
Старый, тощий, давался диву Витос, глядя на Суворовца, а про женитьбу говорит. И будто разгадал Витосовы мысли Суворовец, сказал сокрушенно:
— Че уж сейчас? Месяц тому пятый десяток разменял. Квартира, машина… А на хрена оно все? Че дальше-то?..
— Хорош брехать! — Миша уже отворачивал головы огнетушителям, размешивал палкой щелочь в бочке и делал это свирепо, как будто продолжал разговор с сыном, покусившимся на его собственность.
Витос выдернул из щели ящика, на котором сидел, прозрачный пыльный мешочек с кислотой и тоже принялся за работу — зачерпнул банкой воды из бочки, развел кислоту, потом попробовал отвинтить ржавую крышку огнетушителя, но так запросто, как у Миши, у него не получилось, и он взял молоток и стал громыхать по этой крышке. Акустика в подшкиперской, целиком сработанной из гулкого железа, была отменной, и каждый удар молотка больно отзывался в ушах, точно выстрел в подвальном стрельбище.
Через два часа работы, когда оказалось, что вся почти батарея уже заряжена. Витос вызвался сходить в кормовую надстройку за новой партией огнетушителей. Он выбрал из батареи пару штук, покрашенных и уже просохших, бережно поддел их за ручки и, ногой распахнув дверь, перешагнул высокий комингс и растопырой-водоносом зашагал по длинному коридору, в конце которого сине светился выход на открытую палубу.
Витос мог пройти в надстройку напрямую, через дверь, что была сразу за приемными бункерами, но он поволок свои огнетушители дальней дорогой, вдоль правого борта, чтобы пройти мимо камбуза. Камбузные двери, как он и ожидал, были открыты и даже подперты ящиком с морковкой. Там, в глубине, у высокой судомойки, увидал он под желтыми плафонами синее спортивное трико. И высоко подпрыгнуло в груди Витосово сердце, а тяжелые красные цилиндры в руках его, словно поняв, что от них требуется, зацепились за комингс и звякнули. Никто, ни кок с кокшей в одинаковых белых куртках и колпаках, по форме похожих на пасхальные куличи, ни рабочий в синем халате, снимающий с плиты трехведерную кастрюлю, не обратил на звук ни малейшего внимания. Только она, его Золушка, сразу поняла сигнал и обернулась. Она кивнула ему и улыбкой послала нежный привет, он тоже кивнул и за улыбкой спрятал волнение. И все это длилось один миг, пока Витос миновал дверь.
Поднявшись по трапу, больше похожему на парадную лестницу уважающего себя учреждения (широкие ступени с латунными шинами, красные пластиковые поручни). Витос достиг палубы, где висели в коридоре требующие перезарядки огнетушители, запыленные, тусклые, в царапинах и ржавчине. Витос деловито снял их с крючков, вытащил из кармана клок ветоши, крючки протер и водрузил на них сиятельно-алые, черноголовые цилиндры, враз изменившие облик коридора, и невольно гордость ворохнулась у него в груди, удовлетворенная гордость работяги, маленькая, а все же приятная; что-то краше стало в мире, и это что-то сделали твои руки.
Вечером, в ожидании ужина Витос дочитывал письма Валька, который учился в Ростовской мореходке. Он с восторгом писал о том, что летом пойдет в море — на плавпрактику, на Каспий. «Тоже мне море нашел», — с превосходством тихоокеанца подумал Витос. Больше страницы занимал рассказ про морские дисциплины и корешей-курсантов, а в конце Валька сообщал, что от Славки из Киева пришло всего одно письмо («Как будто мы друг другу написали больше!») и что, судя по письму, он там успел влюбиться. Письмо от друга было развеселое, но от него Витосу почему-то стало грустно.
Во втором письме матери были интересные новости о родном придунайском городке. Письмо было относительно свежее, месячной давности. Мать писала о необычном росте Ренийского порта: «За три месяца, как ты бросил (?!) нас, он так разросся, столько обрывов позастроили, приедешь — не узнаешь Дуная».
Да, с крутыми дунайскими берегами, или, как называли их в Рени, обрывами, связано у Витоса немало. Все детство прошло здесь, у широкой голубой реки. Здесь, на обрывах, заросших вербой, акацией, кустарником и лебедой, с Валькой и Славкой играли они в индейцев: плели набедренные повязки из листьев камыша, разрисовывали друг дружку черной и красной тушью, вставляли в волосы сорочьи перья, лазили по деревьям, с воинственным кличем «у-ля-ля-ля» носились по кустам, хоронясь в оврагах, глубоко прорезающих обрывы. Они разводили в оврагах костры (любимейшее занятие!), пекли кукурузу и картошку.
На привольных зеленых обрывах был счастлив Витос и видел счастливых отца и мать. Воспоминание это хранила память как один яркий солнечный, зелено-голубой день над Дунаем.
К Светлане, надо сказать правду. Витос относился совсем по-иному, чем когда-то к В.Л… И часто, думая о своей любви, сознавал в себе эту перемену не без грусти, а порой и со стыдом. Досаждал ему этим, конечно же, зануда Спорщик. И делал это удивительно просто — скромно напоминал Витосу о 13 августа 1976 года. Иногда Витос злился и говорил: что было, то сплыло (мамкина поговорка) — или объявлял, что, мол, взрослый и вообще в воспитателях типа Спорщика не нуждается. Но после этого у него еще больше портилось настроение, и Витос долго ходил угрюмый, с резкой морщинкой на переносице. В такие минуты он ненавидел себя. Но это были всего только минуты. Витос, наверное, не сумел бы этого объяснить, но он чувствовал, что эта любовь хоть и более земная, зато несравненно меньше уязвимая, и он всегда, перед кем угодно готов за нее постоять.
К Светлане, когда у него не было уроков физики, Витос приходил сразу после ужина. На стук его, мгновенно зардевшись под взглядами девчат, она выскакивала в коридор. И облюбованный юной парой укромный уголок наполнялся шепотом и той особенной тишиной живого гнезда, в которой, незримое и неслышное, все же без труда угадывается присутствие затаившихся птах.
— Пошли к нам, — прошептал Витос так тихо и так близко к уху, что Светлана ощутила только щекочущее горячее дыхание. Но он держал ее за локоть, и по едва уловимому движенью пальцев его она поняла и пошла за ним. И лишь на трапе, уже спускаясь с ботдека, пропищала тихонько:
— А Коля?
Но Витос в ответ молча и нетерпеливо поманил рукой — идем, мол, там все расскажу. Она немножко, самую чуточку обиделась на этот его жест и в каюте села не на диван, а на стул. Витос как будто и не заметил этого, с размаху, балуясь, плюхнулся на диван напротив нее, порывисто наклонился вперед, взял ее ладошки в свои и озорно заглянул снизу в глаза Светлане.
— У тебя сегодня хорошее настроение? — спросила она почти грустно, стараясь сохранить полную самостоятельность собственного настроения и уже с трудом сдерживая улыбку.
— Ага, — он выпрямился, но рук ее не отпустил. — Хорошее, а почему, и сам не знаю. Целый день просидел в подшкиперской, заряжал дурацкие огнетушители, нюхал противную щелочь. И он с возмущением рассказал ей о Мише, который не пускает в дом родного сына. — Представляешь?! — округлил Витос глаза. — Тот ему пишет: «Папа, пусти хоть на месяц», а он и на папу-то похож — ну… как я на Дюймовочку.
«В жизни все бывает», — сказали Светины глаза, но вслух она проговорила только:
— Видишь, а ты своего отца плохим считал.
Витос в покаянном согласии закивал, а она высвободила руки и, по обыкновению, поправила прядку на лбу. Но ему без рук ее вдруг стало до того одиноко, холодно, грустно, что он спиной ощутил озноб и потянулся к ней почти умоляюще. Она вернула ему одну руку, и он принял ее в свои ладони осторожно, как голубку. Задумчиво погладила она его склоненную голову, и Витос мгновенно ожил, расцвел и снова заговорил, поглаживая ее ладошку. Теперь он рассказывал о Суворовце, который достиг своей квартирно-машинной мечты и не знает, что сейчас с ней делать.
— Он то злой бывает, то добрый, и жалко его, — говорил Витос, — потому что он старик уже, сорок лет, и не знает, зачем жить дальше.
О грустном рассказывал ей Витос, а она улыбалась. И у него промелькнула мысль о том, что вообще все женщины отлично знают, для чего живут, но никогда не говорят об этом мужчинам потому, что им просто не понять женских целей. Он вспомнил, как, проходя по зоологии пчел, девчонки-одноклассницы дружно смеялись, когда учительница рассказывала про изгнание трутней из улья, как долго, с полгода, наверное, издевались они над мальчишками, пока не пошли по программе истории сильные личности — мужчины, вершившие судьбы мира.
— А вот дельфины, я убежден, знают, для чего живут, — сказал Витос.
— Для чего? — серьезно спросила она.
— Ну-у… они знают, в общем. А я зато знаю, как они спят. — И он улыбнулся вместе с ней. — Я уже целый год собираю всякие вырезки про них, полная тетрадь уже.
— И как они спят, крепко?
— Нет. На полном ходу, по две-три секунды. Вот он мчится узлов сорок, «Ракету» на подводных крыльях обгоняет, и — раз, глаза закрыл, поспал чуть и снова смотрит: впереди порядок, он опять прикемарил, так за сотню-другую миль и высыпается.
— Значит, они живут, чтобы показывать всем эти фокусы? «Великая» цель, конечно.
Глаза Светланы смеялись с открытым задором. И сейчас Витосу очень нравились ее глаза, но допустить насмешку над собой…
— Раньше я не понимал, как могут люди жить без цели, — сказал он, и вертикальная морщинка легла между его бровей, и без того траурно-черных, суровых. — Королев мечтал вывести нас к другим планетам и добился своей цели. — Витос снова выпрямился и, чтобы не выпустить Светину ладошку, съехал на край дивана. — А как живут тысячи других людей, простых?.. Пока не работал, я не понимал этого… И вот на днях маты плел из пеньки. Вроде ерунда работа, нудная. Закончился первый мат, он у меня кривой, как седло, получился и весь в комьях-узлах. Ну, а второй — я уже старался — вышел что надо. Положишь его у комингса — ноги вытирать, а он ровненький, желтый, как из цыплячьего пуха, и приятно посмотреть.
«Милый ты мой мальчишка», — думала Светлана, глядя, как яснеет его лицо, как тает морщинка между бровей. Нежность ее, как по проводам, передалась ему через соединенные их руки. И он сказал:
— Как будто ты — маленький бог, и сам, своими руками сотворил маленький мир.
Он вспомнил, как любовался сегодня своими огнетушителями, преобразившими коридор, и прибавил:
— Я теперь немножко представляю радость мастера, который сделал хорошую скрипку. Кажется, Страдивари, да?
Она кивнула, глядя на него влюбленными глазами. А в его глазах сверкнул восторг, который он вечно подавлял в себе, пряча от всех, может быть, именно потому, что чувство восторга как раз и было главным чувством его натуры…
Витоса научили любить красивую одежду. В его шикарном чемодане, на полосато-голубом шелковом дне, лежал не один тот джинсовый, в голубых разводах, костюм и не единственные те запонки с британскими львами, и столько же, если не больше, костюмов, рубах и запонок осталось там, дома, в Ренн. Его приучили стыдиться плохой, бедной одежды и голого тела. «Голый» и «стыд» были для него словами-синонимами. А слово «обнаженный» вообще почиталось в доме крамольным, неприличным и вслух никогда не произносилось. Стыдными, неприличными, запретными были сами мысли о человеческом теле. Читая в чьем-нибудь присутствии хрестоматию по истории Древней Греции, Витос стеснялся даже на секунду останавливать взгляд на репродукциях, где были изображены обнаженные торсы богов и героев. Грязными и порочными назывались люди, чья любовь ненароком выглядывала на свет из-под черного полога ночи, из-за каменных стен одноэтажного городка, сквозь неплотные шторы низких окон.
И вот теперь как будто сам бог в награду за неведомое испытание послал Витосу любовь. И она, Светлана, сейчас благодарила судьбу за то, что та дала ей остров и Край Света, «Удачу» и Витоса. Правда, плавбаза ей нравилась не совсем — из-за старпома и завпрода, из-за скучной работы на камбузе, из-за того, что не было здесь спортзала. И она подумала: как здорово сейчас было бы оказаться там, на Шикотане, в долине Лошадей, вдвоем…
Он выпустил ее из объятий, и она испуганно взглянула на часы. Было что-то около десяти. Она спросила тихо, покосившись на дверь:
— Так где же твой Коля, в кино?
— М-м, — замотал он головой. — Он вахту сейчас… с третьим штурманом стоит… с восьми до двенадцати… Тот матрос заболел… Колю перевели пока…
Горячий, прерывистый шепот Витоса вернул ее мысли к острову. И опять ей страстно захотелось на милый, милый, милый Край Света. Взяться за руки и промчаться по склону, по цветам, через всю долину Лошадей. Как удивленно, прядая ушами, косилось бы стадо на них, и ветер шумел бы в ушах, тугой и горячий, и душистый. А дальше, на краю пологого спуска Долины, на галечном пляже, где каждый голыш с чаячье яйцо величиной и добела промыт океаном и прокален на солнце, где на десятки километров вокруг ни души, раздеться, сбросить с себя все, как маленьким детям, и так же, держась за руки, с разбегу прыгнуть в шипящую волну, с громкими веселыми криками и смехом…
— Светлана, я тебя люблю, — выдохнул он ей в самое ухо.
— Мой мальчишка хороший, — самым тихим и нежным шепотом вторила она, — я тоже тебя люблю.
И от тишайших этих слов в грудь ему прибойной волной хлынула радость и словно влила в него богатырскую силу, и он испугался, что может нечаянно раздавить в объятиях любимое существо.
Много позже, в разлуке, будут тысячу раз вспоминать они эту ночь, первую ночь любви. И декабрьская ночь среди льдов Берингова моря будет рисоваться им в образе июньской грозы над березовой рощей в ярких сполохах нежных зарниц.
XIV
Еще с вечера задул ровный норд-ост со снегом, и добывающий флот стал искать укрытия. Развернувшись кормой к норд-осту, спешно бежала ото льдов и «Удача». Ветер упорно набирал силу, и всю ночь валкую, стосемидесятиметровую громадину раскачивало на ходу.
Утро от ночи ничем не отличалось — та же непроглядная тьма за иллюминатором, разбойный свист, качка. Скучный, полусонный, усталый голос четвертого штурмана, как всегда безжалостно усиленный спикером, разрушил сон с казарменной неотвратимостью:
— Судовое время семь часов. Команде — подъем. Сегодня первое декабря, четверг. Плавбаза на ходу, следует в Олюторский залив, в укрытие. Погода: температура наружного воздуха минус пятнадцать, температура забортной воды — ноль, ветер — норд-ост, одиннадцать баллов, море — восемь баллов. Бригадам матросов-обработчиков на смену не выходить. До улучшения погоды.
Витос подскочил, как будто объявили праздник. Щелкнул выключателем — каюту залило ярким светом. Ну да, штурман просто оговорился: не первое декабря сегодня, а Первое мая! «Там-там-там-там-та-ра-а-м!..» — поют трубы и бьют барабаны праздничного марша, на улице, на ветру полощутся красные знамена, белые, цветущие сады веют ароматом абрикос, яблонь, слив и вишен.
— У-у-у-ув-вв!.. — взвыла сирена в коридоре, и равнодушный голос в динамике подтвердил, как обычно:
— Проверка авральной сигнализации.
Но праздник все равно не пропал. Только чуточку больше отвисла нижняя губа у Витоса, придавая и без того сонному лицу его вид наивный и отрешенный. С минуту он простоял так, в трусах и майке посреди каюты. Раза два хорошо поддало в корму, и Витос вынужден был схватиться за трубчатый край своей верхней койки. Нижняя была зашторена, Коля не подавал признаков жизни. Витос потихоньку снова забрался наверх и натянул на себя теплое одеяло. Боже ты мой! Подушка хранила запах ее волос. Витос украдкой несколько раз приложился к подушке губами, потом перевернулся на спину, глубоко вздохнул, раздув ноздри, смежил глаза. Губы его зашевелились неслышно: «Светланочка, моя Светланка…» От этих беззвучных слов под языком рождались сладкие пузыри, и даже это казалось чудесным, и Витос повторял, повторял, пьянея: «Светланка, Свет-лан-ка…»
Скрипнула койка внизу, резко звякнули ролики штор, глухо стукнули босые пятки о палубу (не открывая глаз. Витос мгновенно согнал улыбку с лица), и где-то совсем рядом с ухом прострочили первые «пуви»:
— Ты что же это, по-новой дрыхнешь? Свет врубил, а сам — в ящик, вот шельмец!
В этих обычных для Коли словах не было ничего смешного, но Витос весело расхохотался. К восьми Коле надо на вахту, Витосу — к боцману за работой. Потому оба дружно двинули пить чай. Дверь с надписью «Кино-столовая команды», обычно в половине восьмого распахнутая настежь, была закрыта, а в самой столовой, куда затягивает всегда, словно в водоворот, они оказались чуть ли не в одиночестве — в углу сидели два пожилых обработчика, которых обычно маяла в море бессонница, они прихлебывали из эмалевых кружек и считали заработанные за путину отгулы.
— А-а где… все? — Витос округлил глаза, чувствуя себя то ли пришедшим не ко времени рано, то ли опоздавшим на праздник.
— Так ведь объявляли: толпе не выходить до улучшения погоды, — Коля всегда был железным реалистом, — вот и дрыхнут, как сурки.
— А Василь Денисыч, матросы?
— Ах, шельма! — Коля затряс кистью, задул на пальцы, облитые кипятком из чайника, да тут же и ответить успел: — А ты че, не слыхал, как ночью, около часу, капитан объявлял: «Боцману и палубной команде поднять кранцы, уложить стрелы по-походному, все крепить по-штормовому», не слыхал?
Витос отрицательно помотал головой, взял кружку из «амбразуры», понес к ближайшему столу. Это значит, я так быстро уснул, подумал он, тая от воспоминаний и чувствуя прихлынувшую к лицу горячую волну, и так крепко спал, видно, что добудиться не могли.
Витос сейчас понял, что боцман и матросы пожалели ночью его сон.
После чая он сходил в подшкиперскую, где по утрам Василь Денисыч всегда делал разводку, но дверь оказалась на замке, а за дверью, слышно было, мерно каталась с борта на борт пустая бочка. Витос поднялся на спардек и с подветренного крыла пытался разглядеть море, шумно вздыхавшее под форштевнем, но кроме полупризрачной пены внизу, высвеченной бортовыми огнями, не увидел ничего. На наветренном крыле в момент пронизали его упругие струи колючего холода.
— Эге-ей, Великий океа-а-н! — запел он в черное небо, беззвездное, безлунное, просвистанное норд-остом, и неожиданно увидел и в нем жизнь, в этом жутком, ледяном небе: прямо над мачтой, над призрачным топовым огоньком, недвижно висела чайка. Она стремилась на ветер и реяла, распластав тугие, с изломом крылья, и когда опускалась порой к самому топу мачты (или это мачта вздымалась к ней в небо?), было видно, как вздрагивают прижатые под фюзеляжем легкого тела оранжевые лапки, как трепещут на шее маленькие перышки, как наивно и трогательно торчит ее клюв, а смородины глаз, не мигая, смотрят прямо в лицо неистовому норд-осту.
Завидуя чайке, Витос глядел на нее до тех пор, пока под особо яростным порывом ветра она не исчезла, взмыв в черное небо.
Когда Витос возвратился в каюту, радио, пропищав свои шесть сигналов, возгласило: «Двадцать три часа московское время».
Он вытащил из-под подушки развернутую посредине книгу. Называлась она «Мимо течет Дунай. Современная австрийская новелла». Он клюнул на название. Дунай, да не тот. Рассказ про его ровесницу Катарину, Кати, которая работала трактирной прислугой в Вене. В какое же она болото вляпалась! Один — богатый и щедрый, комплименты рассыпал, цветы дарил, второй, который «с серьезными намерениями», жених, мечтал слепить собственный дом, хозяйство и превратить Кати в рабочую лошадь. Ну, а богатый, соблазняя ее, мысленно называл сучкой и, конечно же, бросил бы, если б жених в конце рассказа не убил его ночью на дунайском берегу. Отняли лошадь, собственность, потому только и убил. Любви, ревности там и близко не было. Как не было и выхода из всего этого болота.
Однажды отец, когда Витос высказал ему свое мнение о судовой библиотеке, достал из рундука (разговор происходил в отцовской каюте) небольшую книжечку с красным парусником на синей обложке. Отец сказал, что всегда берет ее с собой в море. Это был Александр Грин, «Алые паруса». Витос поначалу разочаровался; он ведь смотрел фильм года два или три назад. Но раз уж все равно читать было нечего, книжку он взял. Вернувшись к себе в каюту, нехотя раскрыл, посмотрел картинки и начал читать. А через какое-то время перевернул последнюю страницу, удивился и пытался даже обидеться на автора за то, что написал такую короткую книжку. Впрочем, оказалось, и ее хватило, чтобы протабанить ужин. Такое на «Удаче» с ним случилось впервые, но он вовсе даже и не жалел об этом ужине, он снова и снова прочитывал разные хорошие места в «Алых парусах» и в конце концов спрятал драгоценную книжечку поглубже под подушку, чтоб почитать потом еще.
С этого, собственно, все и началось. Витосу удалось заполучить ходившую по рукам, по каютам книгу «Моряк в седле» — про Джека Лондона. Он прочитал ее за два дня. Потом взял в библиотеке один из томов самого Джека Лондона и проглотил том за один день. Он читал и в обед, и весь вечер, и прихватил полночи. А потом достал еще том, и все повторилось — обед, вечер, ночь. Особенно понравились ему «Мексиканец» и «Мужество женщины». Больше в библиотеке ничего Лондона не было, и он попросил «что-нибудь про Север». Наталья Андреевна (матросы постарше звали ее Натаха) достала откуда-то из-под стола номер роман-газеты и, заговорщицки глядя на Витоса, протянула ему со словами: «Смотри — никому. Прочтешь — вернешь мне». В романе «Территория» магаданского писателя Олега Куваева ему понравилось не все, но молодой геолог-спортсмен, в одиночку одолевавший дикую тундру, пришелся очень по душе. Захотелось встретиться с таким, а может быть, и стать друзьями, несмотря на суровые нравы в Поселке. Да, совершить бы тоже какой-нибудь подвиг в оледенелой тундре и потом, на равных, подружиться.
С Натальей Андреевной он столкнулся в коридоре, она как раз шла открывать библиотеку. И с ходу спросил:
— Фантастика не появилась?
— Откуда, от качки, что ли?
Лицо у нее было бледно-зеленым, с каждой волной, поддающей в корму, библиотекарь охала и хваталась за переборку. И Витос тут же простил ей недобрый тон. Но спрашивать больше ничего не стал, а молча принялся копаться в стеллажах.
Витос нашел книжку с серебряным тиснением на корешке, прочел про себя; «Портрет Дориана Грэя». Это имя из «Алых парусов» пронзило его и, охваченный радостным предчувствием, он воскликнул:
— Запишите!
До самого обеда он читал «Портрет» и удивлялся, какие же они разные — гриновский Артур Грэй, который сбежал из родительского замка и пошел простым матросом (Витос давно уже провел мысленную параллель с собственной судьбой), и этот красавчик Дориан, всю жизнь слушавший старого лиса лорда Генри и всяких других подпевал-комплиментщиков. Во что, в какое чудовище он превратился в конце!
«Но ты пойдешь дорогою неверных, а я слезою орошу твой путь. И пусть мой вопль сотрясает сферы: Не слу-у-ша-а-ай!!! Сам! Собою! Будь!»
Еще в Рени прочел где-то Витос эти стихи и сейчас дивился свойству памяти — подсказывать в самый неожиданный момент именно то, что нужно, о чем ты вроде бы напрочь забыл…
— Матросу второго класса Апрелеву зайти к старпому!
Витос, задрав голову, посмотрел на колокол палубного громкоговорителя, рявкнувшего прямо над его головой, и пошел по вызову. Он не ждал от него ничего и не думал о причинах вызова, занятый своими мыслями, тем более, что входил в надстройку через заветную дверь. Но увы, камбузная дверь была закрыта: в такой ветруган свежего воздуха и без нее хватает. И разочарованный матрос второго класса проследовал прямо к старпому.
Эдуард Эдуардыч с интересом оглядел его с головы до ног. Фуфайка, рабочие джинсы, сапоги с отвернутыми краями голенищ — все сидело на парне ладно, по-рабочему просто и в то же Время красиво.
— Садись, — чиф кивком указал на диван, обтянутый прозрачным полиэтиленом специально для посетителей в робах. — Ты чем сейчас занимаешься?
Говорил он спокойно, размеренно, как хозяин, знающий цену своему хозяйскому слову.
— К боцману пойду, работать, — отвечал Витос тоном, как бы говорящим: ежу понятно, было бы о чем спрашивать.
— Не надоело работать у боцмана? — красивые, правильные черты чифова лица тронула улыбка, классически благожелательная, покровительственная. Ему нужен был рулевой на вахту, а из рабочей боцманской бригады кого возьмешь: один — сорокот, необходим там, другой — молод, но бестолков, пробовали уже на руле — не получается у него, ну а третий — Апрелев.
— Д-да нет, — независимо произнес Витос. — Не надоело.
— Та-а-к, это хорошо, что не надоело, — чиф смотрел на Витоса. — Ну а… сменить работу не хотелось?
— На какую? — быстро спросил Витос.
— Ну-у, например, — чиф улыбался этой наивной непосредственности, — стать рулевым.
— Конечно хотелось, — Витос ответил сдержанно, но тут же почувствовал, как разжалась где-то внутри пружина, невесть когда и откуда возникшая. — Хотелось, — повторил он и улыбнулся, глядя прямо в глаза чифу.
Хотелось, ишь какой шустрый, подумал Эдуард Эдуардыч, черта с два я бы тебя взял на свою вахту, если б не помполит: Апрелев у него, видите ли, учитель, ему нужны свободные вечера. Я бы тебя, пацан, подсунул третьему на вахту, а Худовекова вернул бы себе…
— Ну, вот, — до того сидевший, облокотившись на стол, чиф откинулся в кресле, — я же понимаю, каково интеллектуально развитому человеку работать под началом боцмана.
Уши Витоса вспыхнули, и он поспешил возразить:
— Да нет, мне просто интересно рулевым.
— Это естественно, — снова подтвердил чиф, — штурманская рубка, приборы, карты — это ведь не то что пеньковые хвосты крутить. Вот боцману с его церковно-приходской школой оно в самый раз, выше ему не прыгнуть.
— Почему? Он в восьмом классе учится, — Витос снова посмотрел чифу прямо в глаза, но Эдуард Эдуардыч глядел поверх него, почти что в подволок.
— В сорок с лишним лет? — И помолчав, добавил. — Мне приходилось бывать в Канаде… Ходил на транспортном судне, капитаном. — Чиф достал из стола сигарету и прикурил от газовой зажигалки. — Так вот, там с малолетства учат во всем уважать порядок. Там даже на загородном шоссе не найдешь окурка. Там везде все культурно и чистенько… А Храповик он и есть храповик (это фамилия Василия Денисыча). Он будет стоять, плевать в переполненную урну и еще хамить в ответ на замечание.
Витос сразу вспомнил, как они тогда стояли в шесть утра возле столовой команды, отогреваясь после швартовки, как чиф, проходя мимо, ткнул пальцем в урну и сказал «вынести», вспомнил Витос и что говорили тогда про уборщицу Лизу-Луизу и старпома, все вспомнил и сказал:
— Так это же обязанность уборщиц — урны…
Слегка стукнув в дверь и тут же широко ее распахнув, в каюту стремительно влетела кокша Жанка, румяная, только, видно, от плиты, но уже не в поварской куртке, а в нарядном красном платье.
— Эдик! — вскричала она, но, увидев Витоса, поправилась. — Эдуард Эдуардыч, у меня новость есть для вас.
— Потом, Жанна Оскаровна, — недовольно покосился на нее чиф, вы видите, я занят.
Он смотрел на нее явно в ожидании, что она выйдет, но Жанка шутливо махнула на него рукой, сказала:
— Да ладно, я вам не помешаю.
И прошла в глубь каюты, к креслу, стоявшему возле стереомагнитофона. Чиф проводил ее сложным, не поддающимся описанию взглядом, смутившим, во всяком случае, матроса второго класса Апрелева.
— Н-ну, ладно, Апрелев, — стукнул он по краю стола кончиками длинных красивых пальцев, — вы свободны.
Витос поднялся, в недоумении от «вы» и от всего вообще.
— Да, на работу сейчас можешь не идти, а в шестнадцать часов выйдешь на вахту. Ко мне на вахту, понятно?
— Ясно! — звонко ответствовал новоиспеченный рулевой «королевской» — старпомовской вахты, но тут же замялся. — А я ведь с утра не работал.
— Ну, понятно, ночью у вас аврал был.
— Да нет, меня не подняли по авралу.
— Да? Вот задачу задал, — чиф с юмором переглянулся с кокшей. — Ну, иди, раз хочется, поработай. До шестнадцати, до вахты.
— Есть до шестнадцати! — отчеканил Витос и выскочил из каюты.
Было начало второго, когда он снова оказался на палубе. Ветер куда-то пропал, «Удача» повернула за мыс. Его зубчатые скалы, венценосные, позлащенные солнцем, проплывали вдали, справа по борту. Василь Денисыч, отец и Суворовец возились втроем у лебедок пятого трюма — распаковывали большую бухту нового троса.
— О, подмога идеть, хлопцы! — тряхнул головой в неизменной кубанке боцман.
— Здорово, сынище! — весело приветствовал его отец. — Давай подключай бицепсы, как раз вовремя.
Суворовец лишь коротко исподлобья взглянул на Витоса, разогнул, глухо простонав, спину, потер поясницу и молча полез по скоб-трапу в лебедочную кабину.
Обе стрелы пятого номера уже смотрели в небо, как зенитки. Заворчали лебедки, и гак поплыл вниз.
— Витя, отдай левый шкентель, — Василь Денисыч протягивал Витосу свайку.
Гак улегся на палубу, и Витос сноровисто отвернул свайкой скобу и отдал шкентель, который, почуяв свободу, как живой, пополз, волоча скобу по заклепкам палубы, к борту.
— Так, а теперь вспомни, как бурлаки на Волге… — Боцман наступил ногой на конец троса. — Во-во! — одобрил он, глядя, как Витос перевалил тяжелый, кованый гак через плечо и, сопровождаемый урчаньем лебедки, пошел вдоль борта в нос. Свисая с его спины, шкентель черной змеей тащился следом.
— Хорош! — донеслось до Витоса, когда он подходил уже к третьему номеру. Под ногами белели доски палубного настила, и он, прицелившись было эффектно сбросить гак, снял его двумя руками и положил на палубу бережно, как ребенка.
— …шо я и говорю — липа, показуха, — услыхал Витос, возвращаясь к лебедкам. — У чифа в каюте тоже план-график висить: это смотреть раз в неделю, то — раз в месяц, это — раз в год. Клинкетные двери — раз в месяц. Какой там раз! Он уже с год в них не заглядывал. Недавно с-под тех дверей, що возле провизионки, знаешь, кошку с котятами вытяг: устроились, тепло там, харчами пахнеть… От я и про себя подумал: точняк и я, как кот, пригрелся на базе…
— Ну, Денисыч, уж если ты кот… — запротестовал отец, но боцман перебил его:
— Брось, Кириллыч, не защищай. Сам знаю — виноват, якорь в нос! Век-то у нас бумажный. От и я туда же пачками пишу акты, одно место прикрываю, а шкентель проглядел. От пожалуйста, полюбуйтеся, — боцман взялся за шкентель, свисающий с нока стрелы, потянул вниз, и все трое с превеликим интересом, как живого ежа, принялись рассматривать рваный, ощетинившийся в месте разрыва стальных прядей трос. — От, Витя, гляди, это б кому-то смерть могла быть. На сгибе перетерло, блоком. На перегрузе, видать. Зыбь, пароходы сюда-туда болтаеть, — боцман показал ладонями, как сходились и расходились борта судов. — Видал, как далеко от гака? Гак там был, на перегрузчике, в трюме. От там и могло б кого убить. А нам тюрьма с чифом.
— Да че там! — сверху, из кабины, подал голос Суворовец. — Людишек до хрена, списали б.
— А совесть? — задумчиво глядя в палубу, сказал Василь Денисыч. — Не, голубь, ее не спишешь, она с тобой останется.
— А за что вы старпома не любите? — ляпнул Витос, следуя, видно, по тропке собственных мыслей.
Боцман оторопело, но с юмором взглянул на парня и усмехнулся в несуществующие усы.
— Ха! — выдохнул он. — Ото вопрос, якорь в нос! Это, Витя, можно любить дивчину, когда она тебя не любить. А за шо ж его любить, когда он, окромя себя, за людей никого не считаеть?
— Неправда! — вырвалось у Витоса. — Есть у него друзья, я знаю.
Он засмущался, отвел глаза в сторону и, уловив негромкий короткий стук, посмотрел вверх. Прямо над их головами, позади лебедочной кабилы, открылся квадратный иллюминатор, и в нем показалось лицо помполита.
— Есть, Витя, — согласился боцман, — да не такие, как, к примеру, мы с тобой. Какие ж то друзья, якорь в нос! От сам гляди — вчера подавал чиф лебедочный табель за ноябрь. Ему, — Василь Денисыч кивнул на отца, — сто часов поставил, а Петру, — мотнул головой вверх, на Суворовца, — сто пятьдесят. А работали ж то вместе, якорь в нос. От так! Ласковый телок двух маток сосеть.
— Ласковый? — сказал отец, скрывая неловкость. — Да он на днях, Денисыч, чуть завпрода не расстрелял — по-суворовски, говорит.
— Так то ж завпрода. Им шо, детей крестить? А от чифуле он то крабца принесеть в каюту, то портфельчик подасть с сээртээма. Когда в Угольной стояли…
— Да че, я разве просил его сто пятьдесят мне писать? — неуверенно возмутился Суворовец.
— Василий Денисович! — раздался сверху голос помполита. — Зайдите, пожалуйста, ко мне.
Боцман ушел, а бригада взялась за работу: Суворовец включал лебедку. Витос тащил и укладывал петлями на палубе шкентель, а Александр Кириллович готовил новый трос. Как только последний шлаг ушел с барабана, он выбил клин и ловко срастил концы тросов. Когда он уже накладывал на срост капроновые «марки». Витос, глядя завороженно на сноровистые руки отца, сказал вполголоса:
— А меня старпом на вахту к себе взял. Рулевым.
В голосе сына были гордость и восторг. Александр Кириллович взглянул на него и, заражаясь радостью, сияющей в сыновьих глазах, сказал почти торжественно:
— Поздравляю. Растешь, сынище.
Они заканчивали дело, когда вернулся Василь Денисыч. В ответ на вопрошающие взгляды с юмором зажмурился и помотал головой.
— Почему, говорить, с матросами обсуждаете старпома? А с кем же, пытаю, мне про наши дела толковать, с мотористами? Нет, говорить, голубь, ко мне надо идтить. От якорь в нос! — Боцман улыбнулся. — Разберуся, сказал, с вашими лебедочными. Ага. Я молчу. Он тож молчить, а я себе думаю: ваше раэбирательство, Михал Романыч, будеть навроде того, как ведмедь в басне муху гонял дубиной: она села на лоб другу, тут он ее и приконопатил.
— Я скажу чифу, — Суворовец высунулся из кабины, — чтоб и мне сто часов написал.
Витос отошел к борту и увидел «далекие, как сон», голубые берега Олюторского залива. «Удача» уже лежала в дрейфе. Значит, на руле стоять сегодня не придется. Жаль… У борта нежно всхлипывали кроткие волны, и косые лучи декабрьского солнца робко затевали с ними игру в зеленые зайчики. Светланку бы позвать посмотреть на них, подумал Витос.
А с другого борта простиралась до горизонта серо-стальная равнина, а по ней, милях в трех — пяти от базы, разбрелись уже траулеры, работяги-пахари. Значит, к концу дня будет рыба.
— Судовое время пятнадцать тридцать, — возвестил палубный «колокольчик». — Команде пить чай!
Витос встрепенулся, сердце прыгнуло радостно и нетерпеливо, как там, на аэровокзале, когда объявили посадку на владивостокский рейс. Соколиным взором окинул он горизонты и неожиданно увидал — там, у далеких, заснеженных, необитаемых, казалось, берегов, маленькую черную точку. Катер? Откуда он здесь?.. Да, точка была живая, она двигалась, стремилась к ним…
XV
Рыбозаводским мальчишкам, ходившим в школу Олюторского рыбокомбината, шесть километров пути до родного поселка никогда труда не составляли. А сегодня, в такой ясный, солнечный день, после уроков так и хотелось бежать вприпрыжку. К тому же, выйдя из класса, увидели они в заливе большой пароход Это была жирная точка, продолговатая, видная издалека. Мальчишкам было в среднем по десять лет, а последняя промысловая экспедиция, работавшая в этих местах, закончилась до их рождения на свет. И потому появление большого парохода — это было диво такого же порядка, как посадка ракетного корабля с другой планеты.
На рыбозаводе, мальчишки знали, сегодня с утра ошвартовался катер рыбинспектора дяди Кири Одинцова. Живет он вообще в Пахаче, это от них часа два на катере, на запад, но в поселке рыбозавода дядя Киря совсем свой, потому что в десять дней раз, а то и почаще заворачивает свой «Норд» к ним в гости.
Мальчишки успели как раз вовремя: «Норд» отходил от причала. Дверь его рубки была распахнута, и оттуда доносился напористый сердитый голос дяди Кири:
— Плавбаза «Удача»! Плавбаза «Удача»! Я «Норд». Выйдите на связь. Прием!
Застыли мальчишки на запорошенном снегом причале и раскрыли рты, забыв даже слепить по крепкому снежку и запустить, кто метче, в корму уходящего катера. Еще бы: о плавбазах они слыхали только от отцов да еще по радио — каждый день, утром и вечером, дразня воображение, говорила о них радиостанция «Тихий океан» из Владивостока.
— Плавбаза «Удача», плавбаза «Удача»… — повторял дядя Киря, и голос его, постепенно исчезал в мягком рокоте мотора «Норда». А вот уже и самого мотора не слыхать. Катер ходко бежал в море, ныряя на зыби, озаренной низким, уже предзакатным солнцем.
«Норд» острым носиком клевал волну и убегал от берега все дальше и дальне, оставляя слабенький след, который исчезал уже в десятке метров за кормой, потому что не в силах был противостоять даже таким небольшим волнам. Так и не дозвавшись плавбазы по радиотелефону, Кирилл Александрович вышел из тесной рубки на палубу и сейчас, дыша полной грудью подмороженным, но все равно весенним, как всегда, воздухом моря, любовался неоглядным простором родного залива. Не изменился он за двадцать лет. Байкал, пишут, изменился. Каспийское море тоже, а вот Олюторский залив остался таким же вольным-раздольным, раскинул синие крыла свои и держит на них небо.
Двадцать лет… Возраст юноши. А для него — срок жизни на этих берегах. Говорят: много воды утекло. Вон она, вода — сколько было, столько и осталось. Утекло другое. Годы вот, молодость. Двадцать семь тогда было, двадцать семь! Все было тогда у Кирилла Одинцова, полный комплект счастья. И не ответишь вот так сразу, что осталось, а что ушло. Тогда, двадцать лет назад, с последней экспедицией ушла от Одинцова жена. Он целый месяц метался по судам флотилии, а она тем временем влюбилась в штурмана плавбазы «Фрэнсис Бэкон». Бот базы зашел в Пахачу за продуктами, а увез с собой женщину, маленькую смуглянку-молдаванку, нежную, красивую, влюбленную. Написанной, видно, в спешке запиской она перечеркнула все пять лет жизни своей в «проклятой Пахаче», пять лет замужества, любви и, как казалась ему, полного взаимопонимания. Он со стыдом — за нее — вспомнил эту короткую записку. А она помчалась своей судьбе навстречу без оглядки. Он простил бы ей все, вернись она даже через год. Но она не вернулась. Он слышал, что она долго работала на «Бэконе» буфетчицей, что бросил ее тот штурман, потому что в Питере была у него семья, с которой он и не думал расставаться.
Два года прожил Одинцов в тоскливом ожидании, в мучительной надежде. Потом сжег оставшиеся от нее вещи, спрятал фотографию на дне бельевого ящика комода, под скатерти, которые с тех пор ни разу и не доставал…
— Александрыч! — крикнули из рубки. — База отозвалась!
— Иду! — откликнулся с кормы, уже из полного ночного мрака Одинцов и тут только увидел, что ночь овладела миром, что небо проросло звездами, а по курсу, в миле, не больше, покачивается вверх-вниз гигантское цветное созвездие — плавбаза.
Договорились, на удивление, легко. Капитан «Удачи» (названье-то какое необычное для базы) даже «добро пожаловать» сказал. И минут через десять «Норд» высаживал рыбинспектора на высокий, давно невиданный в заливе борт.
Это был правый борт «Удачи», а у левого стоял уже СРТМ с рыбой, и вовсю шла приемка. Молодой чернявый матросик без шапки, в джинсах, предупредительно взяв портфель у инспектора, хотел вести его в надстройку (так было приказано ему капитаном). Но Одинцов пожелал заглянуть сначала в приемный бункер. Матросик показал, откуда это удобней сделать, и Кирилл Александрович убедился, что траулер привез чистый минтай; в потоках света доброй полдюжины прожекторов, бьющих сверху, с марсовых площадок мачт, с тихим шелестом трепетала тысячами хвостов серебристо-серая масса, в которой, как гривенник среди меди, редко-редко проблескивала селедка — совсем незначительный, штучный прилов.
Теперь спокойно можно было идти знакомиться с капитаном, подумал Кирилл Александрович, вытирая руки, испачканные чешуей и слизью, о рыбацкую вязаную перчатку, которую протянул ему заботливый матросик.
— Тебя как звать?
— Виктор, — просто ответил матрос. Одинцову безотчетно понравилось, что парень ответил без современного ломанья и гонора. Бывает же так, что скажет человек одно-единственное слово, а за ним, вернее, за тем, как он сказал его, каким тоном, проглянет сразу светлый характер. И когда вот так среди морозной ночи неожиданно попадешь в общество незнакомых людей и нервы совершенно непроизвольно стягиваются, как у лягушки под током, сжимаются в комок, одно-единственное слово, совсем неважно какое, но сказанное по-особому, враз может отогреть душу, отпустить нервы.
— А по отчеству? — он уже не мог остановиться.
— Александрович.
— О, братишка, значит, — обрадовался Одинцов. — Я тоже Александрович. Вот так вот. Кирилл. И давне в море?
— Скоро три месяца… А у меня, — само собой вырвалось у Витоса, — отец — Александр Кириллович.
«Правда здорово?» — говорили его глаза, когда он повернул к инспектору лицо, на миг остановившись у самого трапа.
— Вот здорово! — подтвердил Одинцов. — Может, мы и в самом деле с тобой родичи?
Витос засмеялся, уже взбегая по трапу. Потом они одолели в том же темпе (Кирилл Александрович едва поспевал за юношей) еще два трапа, вошли в ярко освещенный овалами плафонов коридор и, постучав в раскрытую дверь, зашли в капитанскую каюту.
— А, рад приветствовать местную рыбью власть! — Герман Евгеньевич по-молодому резво поднялся из-за стола навстречу гостю, протянул могучую руку. Широкая золотая лычка на обшлаге будто подчеркивала мощь его ладони. — Семашко.
— Одинцов, — Кирилл Александрович ответил крепким пожатием и поежился, как обычно бывает, когда с мороза обдает теплом. — Надолго в наши воды?
— Вынужденная посадка, — испытующе, в упор взглянул капитан и на всякий случай добавил: — как говорят в аэрофлоте. Льды выдавили нас из Наталии и Павла… А-а что это мы сразу о деле? — улыбнулся он и кивнул на полушубок гостя и портфель, который Витос все еще не выпускал из рук. — Располагайтесь, устраивайтесь. Каюта для вас приготовлена. Апрелев, — он обратился к Витосу, — проводи товарища инспектора в каюту начальника экспедиции.
И добавил уже вдогонку уходящим:
— Обоснуетесь — прощу ко мне.
Каюта начальника экспедиции находилась на одной палубе с капитанской, за поворотом коридора, и в этом рейсе пустовала. Поселение в нее инспектора — это был жест со стороны капитана почти царский. Вошли. Одинцов стряхнул с себя полушубок и, цепляя на вешалку двери, разглядел наконец совсем юное лицо матроса.
— Сколько годов тебе, Виктор Александрович?
Витос не любил этого вопроса, но величанье отвлекло его мысли, и он сказал просто:
— Восемнадцать.
— И уже на старпомовской вахте стоишь, — Кирилл Александрович спрятал веселое удивление за серьезным тоном. — Молодец.
Большие морские часы на переборке показывали около шести — полвахты, значит, уже пролетело, первой его морской вахты. Витос нажал ручку двери.
— Мне нужно идти. До свиданья.
— Заходи, братишка, потолкуем. Не забывай старика, добро?
— Добро, — повторил Витос давно уже нравившееся ему морское слово.
В рулевой рубке было темно, мерцали подсветкой только компас, машинный телеграф да пожарное табло, пахло перегретой пластмассой и кофе, который старпом всегда заваривал в штурманской. От рулевой ее отделяла дверь, обычно открытая, но завешенная длинной светонепроницаемой портьерой. В штурманской, над столом с бело-голубыми морскими картами, горела лампа на раздвижном кронштейне, высвечивая в месте прокладки четкий яркий круг размером с иллюминатор. Металлический абажур лампы не пропускал больше ни капли света, но карта под ней светилась так ярко, что после рулевой штурманская казалась царством света. Витос хорошо различал все движения лица старпома, стоявшего к лампе спиной. Эдуард Эдуардыч разговаривал по радиотелефону с флотом:
— Тридцатый, что у тебя за рыба? Прием!
— А, рыба известно какая — минтай! — весело отозвалась рация. — Крупный, чистый.
— А ну давай подходи на сдачу — правый борт, пятый номер. Как понял?
— Добро, иду, понял — пятый номер, правый борт.
— Семнадцатый — «Удаче»! — снова позвал старпом и, не слыша ответа, крикнул погромче. — Сээртээм 8–417 —«Удаче»!
— Слушает семнадцатый, — ответил приемник.
— Что поднял?
— А, слезы поднял — тонн десять.
— «Удача» — СРТМ 8–420! — хрипато рявкнул приемник.
— Слушаю! — тоже хриплым басом передразнил рыбака старпом. Но тот и ухом, видно, не повел.
— На сдачу иду. Тонн тридцать, чистый минтай.
— А, молодец двадцатый, — уже своим голосом отвечал старпом. — Левый борт — твой. Сейчас полста седьмой заканчивает, отскочит — подходи. Как понял?
— Понял. Добро.
— Идет рыбка! — повесив микрофон, Эдуард Эдуардович быстро-быстро потер ладонь о ладонь и улыбнулся. — На пай капает. Понимаешь, Апрелев? На пай!
В улыбке его был обычный взрослый материализм, который иные прикрывают вот так — иронией, полуигрой в корыстолюбцев, а другие люди, попроще, наоборот, не скрывают, а выражают улыбкой, земной, откровенной: мол, пай растет, прекрасно на берегу повеселимся. Красивое лицо старпома словно вмиг постарело от улыбки, пошло глубокими морщинами. Мефистофель, мелькнуло в Витосовых мыслях, наверно, любит женщин и вино. Но он тут же зачеркнул это впечатление: нет, просто здесь игра полусвета, много теней. А старпом между тем продолжал:
— Если рыбка так и дальше пойдет, ты скоро богатым женихом будешь. Апрелев… Невесту-то уже подыскал небось, а?
Витос отвел глаза и залился краской, благо в штурманской был полумрак.
— Да ты не стесняйся, дело житейское. Насчет невесты я, конечно, шучу: какой же дурак в восемнадцать лет женится? Просто будь осторожен, а то на флоте ушлые девочки встречаются. Подставит, окрутит — и глазом не моргнешь.
Витос не знал, куда деваться, он уже стрельнул раз на старпома глазами и сейчас чувствовал, как что-то закипает в груди и вот-вот вырвется наружу. Ему уже было жарко…
— «Удача» — полста седьмому! — оглушительно заорала рация.
— Слушаю, полета седьмой! — так же ошалело громко крикнул чиф.
— Закончил сдачу, — уже тише, спокойнее заговорила рация. — Отдайте кончики, пойдем рыбачить дальше. Прием!
— Добро, сейчас пошлю моряка. — Эдуард Эдуардович кивнул головой Витосу в сторону правого борта. — Двадцатый — «Удаче»!
— На связи, — прохрипела рация.
— Заходи на швартовку. Полета седьмой отваливает.
Витос, на бегу натягивая перчатки, уже летел по трапам вниз, охваченный бодрящим морозцем, под колкими взглядами звезд вновь чувствовал себя счастливым, мужественным, гордым.
Серо-стальная равнина моря, почти бездыханная, лежит под пасмурным небом, и бродят по ней траулеры, «пахари голубой целины».
Предрассветный час. Кирилл Александрович с Витосом стоят на верхнем мостике, который зовут еще пеленгаторным, потому что здесь, на мощной тумбе нактоуза, установлен главный магнитный компас и здесь же находится уйма антенн для навигационных радиоприборов. Здесь только мачта над головой, антенны и небо, белесое, пасмурное небо декабря. Оно роняет для пробы несколько снежинок и следит, как они, вальсируя, плавно опускаются на мостик, ложатся на антенны и, покачавшись мгновение, планируют на головы собеседников — на черную ушанку Одинцова и черный «ежик» Витоса.
— Маловетрие, — говорит тихо рыбинспектор.
А небо, словно ждало именно этого подтверждения с земли, наливается жемчужно-матовым светом и выпускает стайки снежинок. Они кружат совсем по-новогоднему, робко и нежно озаряя воздух над заливом. Как будто даже теплее становится, мягче на душе.
— Тишайший снегопад, — ловя снежинки бровями и ресницами, снова говорит Одинцов.
Внезапный всплеск недалеко от борта привлекает внимание обоих. Всплеск повторяется, и теперь уже оба успевают заметить нарушителей спокойствия.
— Дельфины?! — полувопросительно восклицает Витос.
— Да, они. Я сам давно их здесь не видел.
Дельфинья пара (наверное, молодожены в свадебном путешествии, увлекшись, забрались сюда, в высокие широты) играет, тоже дивясь и радуясь снегопаду над морем.
— Ученые пишут, — Кирилл Александрович кладет руки на релинги и вращает кистями, как мотоциклист, растирая тающие под ладонями снежинки, — пишут, что дельфины не просто охотятся за рыбой, а пасут стада, косяки. Пасут! Вот так вот.
— А я тоже изучаю дельфинов! — вырывается у Витоса.
Он хотел сказать — думаю, собираюсь изучать. Но так уж вылетело само собой. Когда спешишь и хочешь успеть, то, не успевая, бывает и прихвастнешь невольно.
— Я обязательно буду изучать их, — поправляется Витос. — Я знаю, как они спят! Вы не читали, Кирилл Александрович? Нет? По 20–30 секунд на полном ходу. Правда здорово?
Одинцов кивает.
— Дельфины вообще высокоорганизованны…
Светает медленно, но неуклонно. Море уже заметно синеет. Три траулера почти одновременно подходят на сдачу. Оба смотрят на них: Одинцов с неприязнью. Витос с любопытством.
— Кстати, только сейчас закладывается первый в Союзе морской заповедник. — Одинцов поворачивается к юноше: — У вас в Приморье, между прочим. В заливе Петра Великого, на острове Попова. Не слыхал?
— А что там будет, в заповеднике? — спрашивает он.
— А все, говорят, будет, — Кирилл Александрович вспоминает актовый зал Камчатрыбпрома, где слышал лекцию, — все, что живет в море — дельфины, чайки, рыбы, устрицы, водоросли.
— Приемной бригаде, — зычно гремит над палубой голос третьего штурмана, — выйти на прием сырца!
— Вот они, пахари, — говорит Одинцов, кивая в сторону траулеров, — не сеятели, па-ха-ри, «голубую целину» пашут…
А вдруг я — сеятель, внезапно, как озарение, мелькает мысль у Кирилла Александровича. Возможно ведь, что этот мальчик сумеет сделать то, что не дано нам?..
Хлопнув Витоса по плечу, он прощается:
— Пошел я, Витя, работать. До встречи! Заходи, как соскучишься.
— Спасибо, Кирилл Александрович, обязательно приду, — уже вдогонку ему говорит Витос и скоро тоже покидает мостик: через час обед, да и спать хочется после ночной вахты. И еще очень хочется пройти мимо камбуза.
Вечность, век — наверно, это много. Но вот они не виделись целую вечность, думает Витос, уже миновав заветную дверь (Светлана стояла спиной к нему в глубине камбуза, наполненного паром и грохотом предобеденной горячки), да, целую вечность, а ведь сегодня всего лишь второе декабря, и значит, прошло два дня, даже двух суток не прошло. И все-таки это было аж в ноябре, осенью еще, господи! А сейчас зима, зима, зима. И вообще у сердца свой счет, свои времена года, свое собственное время. Да это каждый знает: сердце может спать годами, а в какие-то секунды догнать и перегнать время, и оно лишь прошуршит мимо тебя легким ветерком, и ты его и не заметишь. Ну, разве не годы прошли с тех пор, как он целовал ее, разве не вечность? Вот и губы. Витос облизнул их, растрескались, как скалы в Сахаре…
Он вяло пообедал, только компоту выпил почти две кружки — скорей в каюту: до следующей вахты осталось всего четыре часа. Про Сахару он думал уже в постели, с закрытыми глазами…
Предупредив вахтенного штурмана, что ему нужно на траулер, Кирилл Александрович опустился на палубу и прошел в корму, к пятому номеру. Приемка рыбы уже закончилась. Последний каплер проплыл высоко над бортом и опустился в бункер. Одинцов, сопровождаемый молчаливым, настороженным вниманием приемщиков, поднялся по короткому трапику на площадку и сейчас смотрел, как «худеет» растворенная снизу туша каплера, как рыба уходит из бункера в цех, засасывается медленной, трясинообразной воронкой.
Одной рукой держась за поручень площадки, Кирилл Александрович нагнулся и выхватил из рыбьей массы селедину.
— Александр Кириллыч! — рявкнул спикер над головой, на мачте, и Кирилл Александрович вздрогнул, словно его схватили за руку. — Прицепи «корзину»! Пересади инспектора на СРТМ!
Лебедчик спустился из своей кабины, спрыгнул с ростров сначала на крышу элеватора, затем на штабель досок — сепарации, а с него на палубу: гуп, гуп, гуп — ловко так, по-молодому. Приемщик в бункере отцепил каплер и передал вниз, лебедчику, скобу, соединяющую шкентеля. Тот быстро начал прикручивать её к кольцу «корзины». Одинцов пристально всматривался в лицо лебедчика и думал: Александр Кириллыч? Ну конечно же, это и есть, значит, Витин отец. А до чего ж непохожи. Хотя есть, есть общие черты.
Еще раз посмотрев на селедину, слегка подбросив ее на ладони, Кирилл Александрович опустил рыбину в бункер и пошел к «корзине»…
XVI
Ветер. Подкову Олюторского залива наполнил ветер. Кажется, само пространство выгнуло ветром, надуло пузырем, как брезент. И зашумел, зароптал залив волнами и шугой, потемнел залив, поседел. Траулеры, точно магнитные стрелки, дружно, как один, развернулись носом к волне и штормовали.
Свистел, стонал и пел ветер в снастях «Удачи». И если б не он, если б стояла тишина, вряд ли б Витос осмелился постучать в каюту на ботдеке. Здесь особенно звучно хозяйничал ветер — трепал брезенты шлюпок, хлопал, словно бичами, шкотами. И потому Витос, постучав, сам не услышал собственного стука и здорово удивился, когда раскрылась дверь и в светлом проеме появилась Она.
Самого короткого мига — глаза в глаза, огромные и полные испуганной радости, — хватило обоим для взаимного объединения.
— Вчера на вахте… — с какой-то невольной гордостью он произносит это слово, — на вахте я познакомился с рыбным инспектором. Его знаешь как зовут — почти как отца, только наоборот — Кирилл Александрович! А знаешь, что он мне сказал? У нас в Приморье открывается остров… нет, не остров, а морской заповедник на острове. Первый в Советском Союзе!.. После рейса поедем посмотрим?
Она кивает ему: поедем после рейса, а волосы ее шевелятся под его рукой, как живые.
— Там — водоросли и ракушки, — шепчет он, перебирая ее волосы и трогая пальцами раковинку уха, — и рыбы, и чайки, и… знаешь кто?
Она спрашивает едва уловимым кивком: кто? А в глазах у нее уже стоят огромные слезы.
— Дельфины, — говорит он не шепотом, а голосом, но почему-то вдруг охрипшим. В горле — комок. Он глотает его, но не может никак проглотить.
— Витя, — ее голосок, будто пробившийся из-под слез, показывает решимость. — Я по приходе сразу уеду в Иркутск. Ты мне напишешь туда?
Он хочет возмутиться: почему она спрашивает, но лишь кивает коротко, борясь с комком.
— Ты напишешь, Витенька, на каком ты будешь судне? — Слез уже нет в ее глазах, и только губы остаются полуоткрытыми. — И я тебе напишу.
А ветер всю ночь гнал, гнал и гнал, загонял в подкову залива рычащие стада косматых волн. И взбудораженные воды гигантской чаши, тревожа дно, вздымали тучи черной мути. И косяки, пронзая тот кромешный мрак, рвались на волю, вон из залива. К утру не осталось в нем ни единой серебряной стайки и полновластно царствовал минтай, рассеявшись в толще воды по всей акватории залива.
Старпом на ночной вахте любил подремать. В этом нет ничего преступного, когда база на якоре и есть на мостике бодрствующая «королевская свита» — четвертый штурман и вахтенный матрос. Вот и сейчас дав наказ следить за якорем (он может с усилением ветра сорваться и дрейфовать по дну), Эдуард Эдуардович подложил под голову ватник и с наслаждением вытянулся на диване в штурманской рубке. Витос приготовил было ведро с водой и швабру, но его остановили — не надо, успеешь, мол, за пятнадцать минут до сдачи вахты. Штурман молчал, уткнувшись в лобовое стекло, за которым порывисто полыхал ветер и скучно мерцала на баке сиротливая лампочка якорного огня.
Витос не заметил, как пролетела вахта. Прозевал Время и четвертый штурман. И сейчас оба носились по мостику, измеряя силу ветра, температуру воздуха и забортной воды. И штурману пришлось объявлять «судовое время» не в семь, а в десять минут восьмого, и голос его был встрепанный, как у петуха, проспавшего святое петушиное время. Кряхтя и тут же закуривая, восстал с дивана чиф. А вскоре поднялся на мостик и Герман Евгеньевич, капитан-директор; в семь тридцать он всегда проводил радиоперекличку добывающих судов. Радист принес метеосводку. Он прочитал ее, звонко щелкнул языком и сказал:
— Так, друзья-соратники, к обеду должна быть погода и рыбалка. Так что готовьте, Эдуард Эдуардыч, кранцы, предупредите механиков, чтоб на-товсь была горячая вода: поело шторма суда наверняка обледенели, а заву скажите, чтоб был — как пионер, чтобы в любое время мог задействовать сортировочный конвейер, морозилки и прочее.
Он взглянул на часы и включил рацию.
— Говорит плавбаза «Удача». Доброе утро, товарищи капитаны. Проведем утренний капитанский час. Так. Погода улучшается, ветер заходит к весту. Где-то через час-другой можно будет начинать работать. Ночь прошла, надеюсь, без событий? Вызываю СРТМ 8–407. Прием!
— «Удача», говорит четыреста седьмой, — тотчас откликнулась рация. — Доброе утро всем! Стоим на якоре в ожидании промыслового времени. За ночь маленько обледенели, остальное в порядке. Следующий!
Следующий повторил то же самое, а следующий за ним добавил только, что ночью на его борту «произошло радостное событие» — ощенилась судовая собака Шарик, так что если кому нужны щенки, пусть подходят.
Витос вовсю шуровал в рулевой «дипломом», то есть шваброй и уже сноровисто обходил рулевую колонку и стойки локаторов.
И в это самое время, когда оставалось до конца вахты не больше десяти минут, раздался оглушительный звонок громкого боя — тревога!
— Мостик — машине! — панически крикнул динамик переговорного устройства на рулевом пульте.
— Мостик слушает! — ответил старпом.
— Пожар! В машине пожар! — кричал испуганный голос третьего механика. — Пожар!
— Говори тише, — спокойно сказал старпом в микрофон. — Что горит? Только — тихо, спокойно и внятно.
— Пожар! В дизель-генераторном! — продолжал орать третий. — Горит шестой дизель!
— Звони стармеху. — Старпом включил принудительную трансляцию:
— Внимание! По судну объявляется пожарная тревога! Боевая пожарная тревога! Всем занять свои места по расписанию. Начальникам аварийных партий доложить на мостик о готовности. Боевая пожарная тревога! Боевая пожарная тревога!..
В машине «Удачи» и в самом деле полыхало. Туда сбегались механики, мотористы, матросы с КИПами. Дизель задохнулся и заглох. Стало непривычно тихо и темно: горели только подслеповатые аварийные лампочки. В клинкетной двери, ведущей в дизель-генераторное отделение, клубился черный дым. Все толклись около этой двери, и на лицах у всех было написано одно — откровенная растерянность и жажда какого бы то ни было приказа.
Витос, на днях только изучивший устройство КИПа (когда сказали, что поставят на вахту), сейчас с любопытством примерял на голову маску, крутил кислородный вентиль — готовился, похоже, к совершению подвига.
В эту самую минуту по спикеру, который в машинном отделении звучал особенно громко, отрегулированный в расчете на грохот, раздался повелительный голос капитана:
— Внимание! КИПистам приступить к разведке очага пожара!
Это был приказ, какого все ждали. Отец Витоса и еще двое матросов быстро стали надевать маски, пристегивать сигнальные тросики. Витоса никто, очевидно, всерьез не принимал, хотя он первым надел КИП и походил сейчас, в маске с гофрированным хоботом, на голенастого слоненка из детских сказок.
Чувствуя себя, однако, готовым к подвигу и начисто позабыв про всякие там пояса. Витос ринулся в дверь.
Черный мрак окутал его. Тело, даже сквозь свитер, обдало зноем. Он наугад сделал три героических шага вперед. И вдруг ощутил, как чья-то властная рука рванула его назад. Обернувшись, он увидел тусклое желтое пятно фонаря, а затем светлый проем клинкетной двери. Если б он знал, что это был отец, он вырвался и повернул бы обратно. Но, к счастью, он этого не знал и, очутившись на свету, с облегчением сдернул с себя тесную, душную маску.
Минут, наверное, десять, долгих-долгих минут, из черной клубящейся двери никто не появлялся. Боцман держал в руках по одному сигнальному тросику, вначале медленно стравливая, а теперь так же медленно выбирая. Там, в аду, были трое. Что они делали там, что увидели в сомнительном свете своих фонариков, никто не знал. Только боцман мог сказать, что по крайней маре двое живы и двигаются уже к выходу. А третьим был Александр Апрелев. Он ее успел надеть пояс с сигнальным тросом, потому что бросился спасать свое чадо, безрассудно смелое и глупое.
Наконец из двери показался матрос, уходивший туда последним. Он сорвал с головы черную, закопченную маску и, тяжело дыша, стряхивая пот с бровей, сказал;
— Ничего не видно… Я дальше четвертого дизеля не ходил…
— А где Саша? Ты видал его? Где Антон?! — кричал боцман, хотя в машине было тихо. Он не забывал, крича, размеренно подергивать трос, который вдруг перестал выбираться.
— Саша был впереди, — матрос не смотрел боцману в глаза, — я его не видел, я шел за Антоном…
Смертельно медленно тянулись минуты. Тросик, который боцман подергивал теперь уже беспрестанно, не поддавался.
— Эх, якорь в нос! — боцман Василь Денисыч рубанул рукой воздух, передал тросик матросу и быстро, но как-то обстоятельно стал облачаться в КИП, надел пояс, взял у матроса фонарь и нырнул в дверь, из которой дым выплывал грязными лохмами, наполняя главное машинное отделение. Все уже давились гарью и наперебой кашляли.
Тросик боцмана быстро разматывался: он, видно, шел по тросу Антона Герасименко. Прошло еще не меньше пяти минут, каждая из которых равнялась часу. Наконец матрос начал выбирать заметно подающийся трос боцмана, в то время как первый трос совсем не реагировал на подергивания.
…Огромный комок в горле Витоса продолжал расти. Наверно, от дыма, подумал он и одновременно решил считать до десяти… если на «десять» отец не вернется, он пойдет за ним… Три… четыре… пять… Витос считал, а тросик все скользил и скользил через ладонь матроса и свивался кольцами у его ног… Семь… восемь… девять… Витос продвинулся за спину матроса, чтобы там надеть маску, и в это мгновение увидел самое страшное: в проеме двери появился Василь Денисыч, он нес, похоже, безжизненное тело отца.
Что было дальше в машине, как тушили и потушили пожар. Витос не видел и узнал много позже, потому что просидел в лазарете несколько часов, пока не услышал из уст самого отца, что умирать он не собирается.
У отца были обожжены руки и грудь: он поскользнулся на горящем масле, уже возле шестого дизеля. Лицо от ожогов спасла ему маска противогаза.
Дядя Антон здорово обжег ноги, когда выручал потерявшего сознание отца. Сигнальный трос его на обратном пути заклинился у пятой динамки под плитами, и дядя Антон отстегнул его и бросил. А из-за этого потерял ориентировку и едва не заблудился в кромешном мраке.
Моторист с вахты третьего механика рассказал, что пожар начался от струи горячего масла, попавшей на раскаленный выхлопной коллектор дизеля. Он даже не успел разобрать фильтр, лишь отвернул два болта на крышке, как вдруг один болт со страшной силой вырвало из гнезда, и в отверстие забил фонтан масла. Ему сразу обрызгало горящим маслом голову, и потому-то он бежал как угорелый, не успев ничего сделать. Фонтанчик всего-то был в палец толщиной, но зато под большим давлением бил — пять атмосфер, и масло мгновенно пропитало стекловату — теплоизоляцию выхлопной трубы, и получилась «свечка» дай бог, и еще полно налилось на плиты и тоже горело…
Впоследствии выяснилось, что трехходовой пробочный кран, который должен перекрывать масляную трубу, не перекрывал ее до конца. Это был заводской дефект крана, и о нем никто в машине не знал.
Витос слушал и чувствовал, как проникается ненавистью к машинному миру, который чуть не погубил отца. Он хорошо помнил первое впечатление от грохочущего, рычащего главного дизеля, хищного чавканья клапанов и трезвона машинного телеграфа, так напугавшего его тогда, во время работы на покраске. И если переложить язык чувств на более внятный и понятный, то вот что примерно получилось бы из той катавасии, что царила сейчас в душе парня: одна зеленая травинка с дунайского обрыва с ее тоненьким белым корешком, один-единственный рыжий мураш, ползущий по травинке, чтобы испить серебряную каплю росы, мудрее и прекраснее самой гигантской и головоломно сложной машины.
XVII
Александр Кириллович, забинтованный поперек и вдоль, лежал на спине, на двух подушках, положив руки, вернее, белые культяпистые ласты поверх простыни (в лазарете было очень тепло, и одеялами ни он, ни Антон Герасименко не пользовались). На тумбочке, стоящей между их койками, лежала гора конфет, печенья, две плоские баночки шпротов и на них две желто-белые пачки дефицитных на плавбазе сигарет «Наша марка». Гости в палате не переводились: только ушел вахтить ревизор, навестивший своего матроса Герасименко, как, отобедав, явились боцман Василь Денисыч, плотник Гриня, а немного погодя пришел начальник радиостанции. И все пятеро наперебой сейчас обсуждали случившееся и прикидывали на будущее — куда и когда будет сниматься «Удача», где будет сейчас район лова, когда становиться в ремонт и надолго ли он затянется теперь, после пожара.
Александр Кириллович, задумавшись, когда наступила небольшая пауза в разговорах, сказал тихо:
— А ведь я думал с Витосом вместе — на СРТМ… Куда ж теперь-то?
Он приподнял сразу оба ласта и снова осторожно, чуть поморщившись от боли, положил их вдоль туловища.
— Ишь, голубь! Гляди на него, крылышками машеть, — улыбнулся боцман. — Лежи теперь, якорь в нос, не рыпайся, а то мы с Гриней вот возьмем шматок дюймовки (в подшкиперской, сам знаешь, еще две бухточки есть) и пришвартуем тебя до этой «шлюпки», — он показал пальцем на койку.
Все заулыбались, хотя боцман ничего смешного не сказал, но просто «крылышки» — было очень похоже, а «бухточка дюймовки», огромная, черная, вымазанная солидолом, живо представилась каждому на фоне стерильной лазаретной белизны, а это было уже смешно.
Разговор вернулся в русло темы возвращения с промысла, реализации земных-береговых планов и пр. Гости сидели долго уже, около трех часов.
— Хорош, хлопцы, загостювались, — оказал Василь Денисыч, и все трое поднялись, громко скрипнув пустой, незастеленной койкой, на которой сидели.
Дверь в палату открылась, вошел Витос. Открылась она одновременно со скрипом койки, и потому Александр Кириллович не слышал и не видел сына, которого загородили могучими плечами его друзья. Витос приходил к нему всегда после утренней вахты и перед вечерней и всегда почти заставал в палате гостей. Как много, оказывается, у отца друзей, подумал он сейчас и потихоньку выглянул из-за широкого костлявого плеча дяди Грини. Отцовский профиль с закрытыми глазами (Александр Кириллович как раз старался подтянуться повыше на подушки) поразил его выражением твердости, с какой отец переносил в этот миг явную боль. И сыну, как откровение, вдруг явилась мысль о том, что отца никак невозможно представить обитателем родного маленького Рени, где смирно себе существуют Любарские со своей люстрой и всякие другие со своими квартирами, обстановками в квартирах, палисадами, со своими маленькими интересами и потребностями. Даже в его, мамкин и бабкин дом, в их быт, который еще недавно был и его бытом, никак не вмещался, не вписывался отец — вот таким, лежащим в бинтах на койке судового лазарета и сжавшим скулы, таким — первым шагающим в огонь и выходящим из него последним…
Витос улыбнулся и кивнул в ответ на радостную (несмотря на боль) улыбку отца, заметившего наконец сына, который продолжал выглядывать из-за плеча плотника.
— Витя, — шепнул ему на ухо дядя Гриня, — батько твой переживает, шо ты на СРТМ идешь. Так шо успокой его…
— Я на пять минут к тебе, — сказал Витос. — Мне перед вахтой надо еще успеть в библиотеку.
Отец улыбался и согласно кивал, в основном выражая согласие глазами, прикрытием век, очень бледных, почти прозрачных. Он действительно устал от трехчасового разговора, от неподвижности и недавней боли. Но все равно он был счастлив видеть сына, говорить с ним, и глаза отца лучились этим счастьем. И стали совсем серьезными и даже строгими лишь тогда, когда он заговорил об уходе «Удачи» и решении сына идти работать на траулер. Он говорил ему об испытании жизнью, огнем, он говорил:
— Не слушай никого, сын, слушай только собственное сердце… Да и голова у тебя на плечах уже не маленькая… Никогда не меняй решений, если успел их выносить в голове и в сердце. Раз решил — иди рыбачь… А через два месяца ждем домой…
Витос смотрел на отца и слушал с комком в горле. Смотрел, слушал, запоминал и еще при этом умудрялся думать свое.
Он был бы врагом отцу, если б… Да и матери — тоже. Потому что если отец не вмещался в ренийский патриархальный быт, то и мир уюта, тихий мир покоя и комфорта, мир матери не смог бы принять отца. Разные они очень…
На мостике, когда Витос пришел на вахту, его тоже ожидала радостная встреча. Кирилл Александрович Одинцов. Он стоял с капитан-директором возле радиотелефона и говорил:
— Все, Герман Евгеньевич, все, мы же с вами договорились — завтра, после ваших переговоров с городом, вы поднимаете якорь. Тем более что южак согнал лед у Наталии…
И тут он увидел Витоса и, широко, точно старому другу и единомышленнику, улыбаясь, пошел навстречу парню.
Витос еще в прошлый раз поведал Одинцову о своих планах — идти на промысловое судно, и Кирилл Александрович не только не забыл об этом, как выяснилось сейчас, но и успел договориться насчет «братишки» с капитаном семнадцатого.
— Ви-итя-а, — протянул он тоном, каким говорят «мечта» (например: не жизнь — мечта!), — какой я тебе пароход нашел! Какого капитана! И знаешь, совсем-совсем случайно. Вот так вот! Ты только сразу его не пугайся. Он — бука, но мужик что надо. Можешь мне, старому пескарю, верить. Ты у него, если захочешь, ой многому можешь научиться…
Вот и решилась Витосова рыбачья судьба.
На ночную вахту он уже не выходил, но и не спал тоже. Какой мог быть сон! Они прощались, они встречали прядущий день, свой первый день разлуки, свой самый трудный в жизни день. Как ни готовилось к разлуке сердце Витоса, оно заныло в этот день невозможно, обилось с ритма, завопило. Как оно не хотело расставаться!..
Они давно уже обо всем-всем договорились, все решили, но пришла и та минута, что, как в песне поется, «все меняет очень круто», и он решил:
— Ну, хорошо, все, я никуда не пойду. Ты слышишь, Светланка, все, я остаюсь с тобой. Ты слышишь?
Она тихонько плакала, но все-все слышала, каждое его слово. И ответила ему, как настоящая рыбацкая жена:
— Нет, ты иди, мой хороший, ты не смотри на меня, не слушай, не обращай внимания, это бабские слезы… Ты иди, и пусть море тебя полюбит так, как я… Иди, мой славный, любимый мой, иди и возвращайся поскорей…
У борта «Удачи» поднимался и опускался на зыби траулер. Когда особо крутая волна высоко поднимала его, на белой рубке судна четко виднелась надпись: СРТМ 8–417. Она отпечаталась в сознании Светланы, как на контрастной фотографии. Это был морской адрес ее любимого. Она будет присылать сюда, по этому адресу, свои радиограммы и письма…
Витос стоял на открытом верхнем мостике. А она в последний миг попыталась даже улыбнуться ему.
— Братишка! — услышал Витос еле различимое в рокоте. И увидел — склонившись на фальшборт базы, недалеко от отца стоит Кирилл Александрович. Витос помахал ему — как другу. И успел разобрать еще:
— До встречи-и-и!
Примечания
1
Морковка — прозвище радистов на флоте, производное от имени радиоизобретателя Маркони.
(обратно)
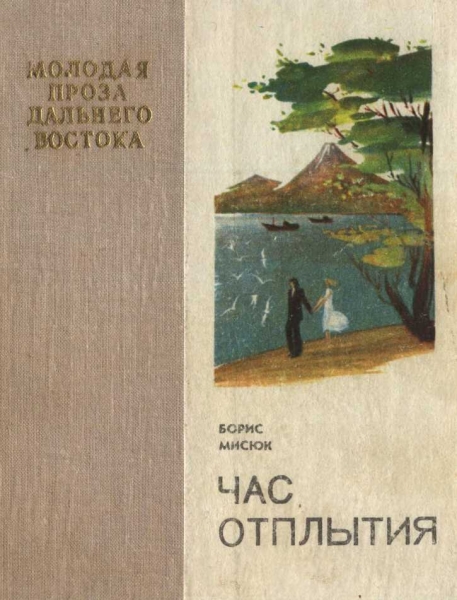

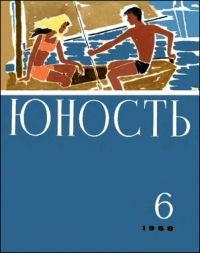
Комментарии к книге «Час отплытия», Борис Семенович Мисюк
Всего 0 комментариев