Высоко в небе лебеди
Я строю дельтаплан
Я строю дельтаплан, строю уже давно; в темной кладовке лежит его разобранный остов, который еще ни разу не обтягивал небесно-легкий, скрипучий парашютный шелк; жесткую несущую трубку сын приспособил для турника; но весь дельтаплан, рассчитанный, вычерченный до последнего винтика, лежит в тумбочке моего письменного стола; почти каждый вечер я раскрываю чертежи и вношу поправки, добавления; в чем причина такой, как говорит жена, неуемной страсти?.. Может, я начитался ставших модными в последние годы рассказов об умельцах, построивших самолеты и дельтапланы, может, виной тому фантастические предположения о том, что человек произошел от птицы, иначе откуда у него такая тяга к небу?.. не знаю; за те годы, что строю дельтаплан, я настолько свыкся с мыслью, что непременно полечу, что стоит мне мысленно взяться руками за трубчатую перекладину, слегка налечь на нее грудью и кинуться вниз по крутому берегу Корежечны — речки моего детства, как встречные потоки воздуха подхватывают меня и поднимают к высоким облакам, и вся моя деревня, ее окрестности, некогда казавшиеся огромными, загадочными, вот они — как на ладони — и отсюда, с высоты — еще роднее, ближе; я могу стартовать и с балкона, но все равно дельтаплан уносит меня на берега Корежечны; эти полеты стали той сокровенной частью моей жизни, о которой знает жена да товарищи по работе, уже привыкшие к моей маленькой странности, как мы привыкаем к причудам близких людей; на службе, едва выдается свободная минута, я, делая вид, что уткнулся в бумаги, прикрываю глаза и вижу замшелые, местами, прогнившие насквозь стены домика, в котором жила моя мама; каждый раз, приезжая к ней, я собирал возле магазина крышки от фанерных ящиков, досочки, доставал из портфеля кулек гвоздей и латал ветхие стены, зимой промерзавшие так, что ведра с водой, стоявшие на лавке у стены, застывали; маму спасала только лобастая русская печка, всегда побеленная, праздничная, подолгу хранившая сухое тепло.
Когда я прибивал фанерки и досочки, мама садилась на низкую почерневшую от времени табуретку и, подперев сморщенную, похожую на обмороженное яблоко щеку, любовно наблюдала за моими неловкими руками, привыкшими к ручке и карандашу; а я понимал: она уже не надеется, что построю ей новый, просторный дом, поскольку они нынче стали дороги, а заработки у меня невелики, еще не выплачены деньги за кооператив, подросли сын и дочка, их тоже надо одеть, обуть; в детстве, когда умер от воспаления легких отец, по две смены не выходивший из лесопилки (он тоже хотел заработать денег на новый дом), я залезал к маме на печку, прижимался к ее теплому боку и утешал, что вот вырасту большой, стану директором лесопилки и «отгрохаю» такой дом, что в нем можно будет поселить полдеревни; мама обнимала меня, прижимала покрепче и пугалась: кто же в таком доме убираться будет?.. на полы краски не напасешься, да и чтобы крышу перекрыть… «Нет, — вздыхала мама, — ты мне лучше маленькую избушку с двумя окошками построй. В одно окошко я буду солнышко встречать, а в другое провожать». «Ну, такую-то избушку я тебе враз построю», — огорчался я и даже обижался на маму, что она отказывается от большого светлого дома.
Все эти мысли и настроения в ожидании меня сидели на ступеньках крыльца; едва я появлялся, тут же брали в кольцо, гвозди сыпались из моих рук, досочки трескались, отчего я смущался почти до слез, а мама махала рукой: «Брось ты это дело! Я к холоду привычная, закаленная». И тут, зная, что она откажется, я предлагал: «Бросай свою развалюху, и поедем ко мне. Хоть напоследок поживешь в тепле, без забот»; мне тут же рисовалась идиллическая картинка: мама гуляет с внучкой по нашему огромному двору, на большее моей фантазии не хватало; может, поэтому из меня не получился конструктор; сначала я дневал и ночевал в отделе и в цехе, все пытался довести до совершенства первые полуавтоматические системы, управлявшие станками, срывал график и чертыхался с заказчиками, со смежниками; из «перспективных» был перекрещен в «бестолковые», и единственно, чем поражал новых сотрудников (старые уже привыкли), — с одного взгляда наизусть запоминал самую сложнейшую схему, носил ее в памяти неделями; некоторые инженеры, делая расчеты, частенько использовали меня, как справочник, и посмеивались: «Слушай, Толик, ну у тебя и шиза!.. мне бы такую».
Даже после сорока пяти так и не заимевший отчества, я близоруко щурился и с глупой радостью, похожий, наверное, на щенка, которому походя почесали за ухом, смотрел на старых сослуживцев, смиренно просиживающих дни, месяцы, годы за кульманами в состоянии, как заметил один их наших остряков, «тихого помешательства», словно хотел сказать им: «Вот видите, я еще могу кое-чего. Скоро увидите мои идеи в чертежах…» Конечно, все даже мысленно выглядит пошло, сентиментально, только я уже ничего не могу поделать с собой; в последнее время мне больше всего нравятся старинные, изысканные танго и вальсы в исполнении духового оркестра; слушая их, я на несколько минут погружаюсь в красивую, полную каких-то упоительных, почти доступных грез жизнь; на меня теплой волной накатывает мечтательное состояние, которое раздражает жену, неглупую, практичную женщину, благодаря которой я перебрался из коммунального ада в дорогой кооперативный рай, очень похожий на сладкую каторгу; в эти вечера я боюсь выходить из дома, поскольку мысли и настроения детских лет бродят под окнами, а в морозы греются возле парных батарей в подъезде, иногда позволяют себе прокатиться до моего этажа на лифте, стоят под дверью и терпеливо ждут, ждут, ждут… Я слоняюсь из комнаты в комнату, забредаю на кухню к жене; отрываясь от стряпни, она смотрит на меня, как на человека неисправимого, и раздраженно бросает: «Опять тебя ждут!» В ее словах звучит не ирония, а давняя обида; когда мы жили в коммуналке, были моложе и чаще ссорились, я однажды в сердцах обронил: «Брошу все к черту, уеду в деревню. Там меня ждут». Ощущение того, что там, у матери, я становлюсь другим человеком, распаляло жену; чтобы не ссориться на глазах у детей, я уходил на улицу, и тут же меня окружали мои заждавшиеся знакомцы, вели на вокзал; с радостным волнением я читал строчки расписания поездов, огорчался, если отменяли, подлетавшие к тихому полустанку Пищалкино поздно ночью или чуть свет; автобус до маминой деревни ходил поутру да и то с перебоями, а рассчитывать на попутку не приходилось; вечный почтальон, однорукий Николай, сколько я его помню, мучавшийся желудком, но исправно и изрядно пивший и самогон, и бормотуху, а в запойные дни — тройной одеколон и «букет Грузии» — густой, похожий на деготь чай, он приезжал тоже к утреннему поезду, стучал кирзовыми сапогами по дощатому перрону в ожидании случайных гостей; словом, приехавшим к вечеру пришлось бы коротать ночь в крохотном, чистом зале ожидания у круглой, обтянутой черным железом печи, всегда почему-то пахнущей черными сухарями; не в силах больше сопротивляться охватившим меня чувствам и настроениям, я взял билет и потом, блаженствуя, вдыхал запах чуть подопревшего за мокрую зиму клевера, покачивался в почтовом тарантасе Николая, а он, разомлевший, нахлестывал ленивую пегую кобылу кнутом и басил:
— Мать навещать надоть, почаще надоть. У ней теперь одна радость в жизни — ты да твои дети…
Я ничего не отвечал Николаю и хотя дорога была тряской, казалось, летел над этими выбоинами и ухабами, забыв про камни в почках, которые не любили, когда их беспокоили; я настолько был опьянен гордостью за свою смелость, что верил: могу начать жизнь сначала, и уже прикидывал, что с понедельника возьмусь за блок защиты в новой автоматической системе, которую внедрял наш отдел, и ночами обмозгую его во всех тонкостях, он станет на порядок проще, технологичнее, и тогда опять, как в юности («старики» еще помнят мое прозвище), мне скажут: «Угомонись, Кулибин, не обгоняй науку, она тебе этого не простит»; странное дело, я и сам не знаю почему, не владея особыми теоретическими познаниями, могу каким-то чутьем угадывать и схемные решения, и номиналы деталей, и все это приходит разом, как бы по мановению волшебной палочки; правда, в последние годы такого со мной не случалось.
Я ехал радостный, счастливый и, когда Николай, проезжая крохотную, в пять домов, деревеньку Никиткино, чтобы показать, что ему повезло, он нынче — хмельной, дурным голосом загорланил:
А нас побить, побить хотели Сразу девять деревень: Корнеиха, Рудеиха, Глебени, Федосеиха, —я подхватил:
Добрыни, Павлово, Зобцы, Ботовицы, Соловцы.— Ишь, Толька, стервец этакий, помнишь, — Николай ощерил щербатый рот и погрозил кнутом, — смотри, помни, откуда ноги выросли… из пупка. А пупок у нас у всех один… — он глубокомысленно причмокнул, но мысль, видимо, оборвалась; Николай как-то растерянно покрутил кнутом перед носом и вдруг с маху огрел кобылу. — Пошевеливайся, стерьва!
Кобыла лениво лягнула кованым копытом по передку тарантаса.
— Ишь, падла, ей на мясозавод пора, а она еще брыкается, — Николай снова подвинулся ко мне, наклонил похожее на круглый красноватый точильный брусок лицо и, прикрыв глаза, сипло пропел:
Стою на полустаночке, в цветастом полушалочке, а мимо проплывают поезда…Не подтягиваешь?.. и правильно делаешь. Это уже не наша, это уже общественная.
— Николай, помолчи, а…
— На кой хрен тогда в буфете водка, — обиделся он, передвинулся к передку, хотел выместить обиду на лошади, но качнул рукой хлипкий передок и передумал.
Вопреки моим ожиданиям, мама, едва увидела меня, вся побледнела, затряслась; я стоял у порога и, пораженный, был не в силах улыбнуться; и уже когда раз десять объяснил, что дома все в порядке: жена, дети живы-здоровы, она перекрестилась и снова недоверчиво посмотрела на меня, а потом расплакалась:
— Когда в десять лет тебя к брату отправила, ночей не спала. А уж когда своей семьей жить стал, пообвыклась.
Я смотрел на нее, маленькую, словно бы высохшую от одиночества, и думал, что вот сейчас соберем все нехитрые пожитки в фанерный чемодан, который стоит под кроватью, забьем для порядка крест-накрест окна и завтра Николай еще затемно отвезет нас на станцию.
— Не обижайся, сынок, умереть хочу там, где родилась, — угадывая мои мысли, мама краешком синего фартука вытерла глаза, — ты с дороги-то проголодался, поди, — она вспомнила, что я приехал без вещей, даже подарка никакого не привез, и снова всполошилась; как умел, я успокоил ее; и потом, когда ноги сами приносили меня на вокзал, забивался в самый темный угол шумного зала ожидания и, уткнувшись в воротник, дремал; едва диктор объявлял об отправлении поезда, вместе с пассажирами спешил на перрон, проходил весь почти километровый поезд, а потом долго стоял на краю платформы, затуманившимися глазами вглядываясь в черную даль, где весело перемигивались на путях желтые, синие, красные, зеленые глазки сигнальных фонарей.
Чтобы немного успокоиться, снова забивался в темный угол зала ожидания, закрывал глаза и видел старый дом, мысленно поднимался по ступенькам, заглядывал в кладовку, где стоял большой окованный железными полосками сундук; раньше в нем хранилось мамино приданое: полушубок, ватное одеяло, валенки и две подушки; я видел дощечки и фанерки на стенах, заклеенные кусочками обоев, выделявшихся на поблекших стенах, как новые заплатки на заношенном платье; я неслышно обходил, а может, облетал избу (теперь уже не помню), но точно знаю, что иногда видел кирпичную трубу с жалкими остатками истлевшего дымаря, который все собирался обновить; уже нарисовал его, узорчатый, с поющим петухом на гребне, но боялся отдать заводским сварщикам, опасаясь, как бы они, падкие на легкие заработки, не заломили такую цену, что мне осталось бы только развести руками; а тут еще жена высмеяла мою затею, сказав, что матери не игрушку на трубу надо, а новый дом, и раз уж я не могу его построить, то нечего узорчатым дымарем смешить людей; летом дети просились к бабушке, но мы их не пускали, опасаясь, как бы они не застудились, да и присмотреть за ними подслеповатая мама уже не могла; все это было больно, горько и непоправимо; в июле-августе я старался дня на два вырваться к ней, но ездить летом было неприятно, поскольку в теплые дни старики грелись на завалинках, а тропинка к маминому дому вела мимо просторного особняка Сергея Ивановича, за свою жизнь перебывавшего и председателем, и счетоводом, и избачом. «А вот учительствовать не довелось, — усмехаясь чему-то давнему, говорил он, попыхивая самокруткой, — у меня всего два класса церковно-приходской, ну было бы три…»
Дальнозоркий Сергей Иванович узнавал меня сразу, соскакивал с завалинки и махал картузом защитного цвета, какие, как я помнил из учебников истории, носили в те далекие времена крупные руководители.
— Здравь желаем, чертушко! — кричал он и провожал до самого крыльца, попутно выспрашивая: как живу, сколько получаю, будет ли повышение; зная, что мы с мамой бедуем, Сергей Иванович частенько зазывал меня к себе в дом, сажал к столу и кормил, приговаривая: «Мужик в детстве справно должен есть, а потом может и потуже поясок затянуть. Мужику в детстве силу земля передает»; когда мне исполнилось семь лет, Сергей Иванович открыл книжный шкаф, заставленный книгами и разными коробочками, раскрыл зеленую и достал сверкающие золотом, ослепительно-голубые погоны; сын Сергея Ивановича был военным летчиком, служил неподалеку от Бреста и погиб в самые первые часы войны.
— Возьми, чертушко, — Сергей Иванович сунул их в карман моей рубашки и, ошеломленного столь неожиданным подарком, вытолкнул за дверь; забравшись в лопухи, я долго рассматривал голубые погоны с золотыми крылышками и звездочками, их было три; положив погоны на плечи, я заурчал, подражая самолету, и поднялся во весь рост, раскинул руки и полетел… опомнился, когда лицо что-то обожгло; услышал хохот и понял, что это Васька-Огурец, прыщеватый, приставучий, поставил мне подножку; но тут же хохот стих.
— Это чего?.. откуда у тебя такие? — Васька подобрал упавшие в траву погоны.
— Теперь они мои, — я отряхнул пузырившиеся на коленях штаны.
— Не потеряй, чертушко, — завистливо вздохнув, Васька протянул мне погоны, — я немножко помню его. Он тогда в сенокос приезжал к деду Сергею; как захватит на вилы полвоза, здоровый был…
Вечером я встретил Сергея Ивановича; бабушка Наталья ругалась на него из окна.
— Не ори на него! — крикнул я бабушке Наталье, известной в деревне своим неуживчивым характером.
— Ишь заступник нашелся, — бабушка удивленно посмотрела в мою сторону, — коли он так по сердцу тебе, вот и пои его. Он же, как мерин, прости меня, господи, ведро выжрет и ухом не поведет.
— Вот вырасту, буду ему на каждый праздник по ящику покупать, — сжимая в кармане жесткие погоны, сказал я, — а тебе, чтобы не орала, по ящику конфет.
— Ой, дождемся ли, — засмеялась бабушка Наталья.
— Он меня понимает, да, понимает… — Сергей Иванович, цепляясь за колышки изгороди, добрался до крыльца, а я побежал к своему дому; с того дня прошло много лет, умерла бабушка Наталья, Сергей Иванович тоже заметно сдал, но все еще хорохорился; выпив, пытался плясать прямо на крыльце каменного магазина, и каждому пытался объяснить, что когда-то был председателем колхоза; раньше я за ним такого не замечал, а тут, под конец жизни, словно какой-то внутренний тормоз отпустил, — Сергей Иванович вел себя так, будто его в чем-то кровно обидели, и на полном серьезе, далее трезвый, говорил: «За такую жизнь звездочку бы могли дать». И я невольно чувствовал свою причастность к тому, что мечты Сергея Ивановича в чем-то не сбылись.
Все это постоянно жило в моей памяти и, странное дело, с годами не забывалось, а все ярче, все в более мелких подробностях вставало перед глазами; неделю назад, например, мне вспомнилось, что Сергей Иванович курил только свой самосад, и у него была небольшая машинка для резки табака; многим мальчишкам хотелось нажать на ее ручку, чтобы ровные полоски пахучего табака упали в жестяное корытце, но Сергей Иванович, хотя и подарил мне погоны погибшего сына, может быть, единственное и самое дорогое, что у него осталось, машинку все же не доверял и даже сердился, когда я садился рядом на пенышек; наверное, опасался, как бы у меня не возник интерес к курению… Странная эта штука, память: никогда не знаешь, что она вытащит завтра из своих глубин; остается лишь поражаться ее неиссякаемым запасам и свыкнуться с мыслью, что все это живет в тебе, хочешь ты или нет, ежечасно, ежесекундно, готовое в любое мгновение высветиться на ее экране; наверное, нечто подобное произошло тогда и со мной; а может, всему виной, как я уже говорил, книги, газетные заметки о самодельных самолетах, о дельтапланах… не знаю точно, да и задумываться над этим, честно говоря, не очень хочется, поскольку каждое увлечение на какое-то время окрыляет, а тут я решил построить самолет, и сначала украдкой, а потом уже не скрывая своих намерений от сослуживцев, стал рисовать наброски конструкции, и ребята из молодежной секции байдарочников на первых порах подтрунивали надо мной; еще бы!.. я, в их понимании, уже отживший свое, отработавший, отчего стал похож на сутулое приспособление к кульману, вдруг увлекся не строительством дачи, а любительским самолетостроением, заранее зная, что мечта эта вряд ли осуществится; у меня руки не сродни рукам умельцев, да и в моторах я не специалист; однако вечерами, когда домашние садились к телевизору, я уходил в библиотеку, рылся в учебниках, справочниках; в библиотеке я познакомился с одним дельтапланеристом, который в десять минут разбил мою мечту о самолете; по его словам выходило, что шум мотора мешает наслаждению полетом, что только планер, а еще лучше дельтаплан помогает почувствовать себя птицей, легко и бесшумно парящей над землей, но для этого дельтаплан непременно надо построить самому, чтобы в полетах чувствовать каждую планочку, каждую реечку, как часть своего тела.
«Ты как бы сливаешься с ним. Стоит чуть повернуть голову вправо, и ты летишь вправо; поднимешь голову, и он, вернее, ты набираешь высоту…» — я был заворожен рассказом нового знакомца, уже в полной мере, видимо, познавшего ни с чем не сравнимую, не поддающуюся описанию радость свободного парения.
Парень подсказал мне, где найти чертежи, и уже через пару дней я вечером объявил жене, что буду из нашего скромного бюджета откладывать каждый месяц по три рубля на постройку дельтаплана; жена, привыкшая к моим странностям, съязвила, что «дельтаплан, конечно, дешевле, чем самолет», и ушла в свою комнату, а я всю ночь просидел над чертежами; вскоре у меня была готова полная деталировка, я пошел в мастерские и заказал знакомому токарю два фланца из легкого титана, а сам подыскал дюралевую трубу, разметил ее и отпилил нужный кусок; после работы я принес его домой; когда жена и дети улеглись, уединился на кухне, крепко взялся за трубу обеими руками и, понимая, что это — ребячество, закрыл глаза, но увидел только мельтешившие в темноте белые точки — верный признак нервного переутомления, как я уже знал от врачей; зато ночью, во сне, я собрал свой дельтаплан и с балкона смело ринулся вниз и полетел над плоскими крышами высотных домов, над лесом, сверху похожим на спутанное ветром поле незрелой пшеницы; наконец, увидел провалившуюся возле самого конька крышу маминого дома и обрадовался тому, что его еще не разобрали на дрова; с той ночи, стоило мне закрыть глаза, как я мог часами парить над полями и лесами, но заканчивался полет почему-то всегда возле знакомого, полуразвалившегося дома, в его тихом дворе, в лопухах которого, положив на плечи голубые погоны, я впервые ощутил себя крылатым.
1985
Поздняя картошка
Олег сидел на верхней ступеньке крыльца, кособокого, вросшего в землю; в березовой роще кричали грачи, и серый туман сумерек, казалось, был прошит, простеган острыми иглами криков, стал плотным, придавил запотевшие крыши деревенских изб, укутал голые, наверное, продрогшие за ветреный день кусты смородины и крыжовника в огородах и мягко, масляно потерся о сухие еще, испускавшие желтый лучистый свет окна.
Олег поплотнее запахнул широкие полы ветхой шинели, терпко пахнущей молодым, неслежавшимся сеном; она висела в сарае в окружении решет, цепов, граблей, чистая, аккуратно заштопанная на локтях, словно несколько минут назад оставленная тут хозяином. И когда Олег попросил ее у хозяйки, Марьи Федоровны, то она, юркая, словоохотливая, недоверчиво заглянула ему в лицо белесыми, словно бы застиранными глазами и, как ему уже потом, день, наверное, спустя, подумалось, прочла по нему то, о чем он лишь догадывался, да и то смутно, и раздумчиво сказала: «Возьми, милай, раз охота такая, возьми».
От этого скрипучего «возьми», похожего на скрип дверей и половиц и мягкого, протяжного «милай» пахнуло чем-то стародавним, знакомым, хранящимся, наверное, на тех самых высоких полочках памяти, до которых мы, к сожалению, редко дотягиваемся сами, чаще берем то, что лежит под рукой. «Наверное, моя бабушка так говорила», — подумал Олег, хотя не помнил ее, но из рассказов матери знал, что бабушка, больная, распухшая от военного голода, сажала его на колени и разговаривала с ним подолгу, как со взрослым, чем пугала соседей, живших за тонкой дощатой переборкой; им казалось, что бабушка от голода «тронулась».
Олегу захотелось войти в избу, зажечь керосиновую лампу с пожелтевшим, вырезанным из обоев абажуром, присесть к дощатому столу напротив Марьи Федоровны и, по-купечески потягивая из блюдца чуть горчащий мятный чай, завести с ней неспешную беседу.
«О чем же ты будешь говорить?.. — иронично усмехнулся Олег и колючим, небритым подбородком потерся о свалявшийся, когда-то жесткий воротник шинели. — Хочешь, чтобы тебя пожалели, обласкали?..»
— Гриша… Пора домой, Гриша.
Олег поежился от кольнувшей, неприятной догадки; услышал слева шаркающие шаги и неглубокое прерывистое дыхание.
— Прости, очень ты в сумерках на него похож. — Марья Федоровна плечом прислонилась к перилам крыльца, и они, очнувшись от вечерней дремоты, отозвались обиженным скрипом. — Гриша-то, как после ранения приехал, все на ступеньках до самого поздна сидел, словно ждал кого. Я зову его, зову, а он не шелохнется. Пуля-то ему в голову попала… да, в голову. Сидит, бывало, а уж морозы пошли, а он шапку не надевает. Рядышком она, на ступеньке лежит. Все жаловался на жар в голове. Стриг ее наголо и ледяной водой прямо из бочки обливал. А я из окошка гляжу на него и плачу, плачу…
Марья Федоровна вздохнула глубоко, словно перевела дыхание после тяжелой ноши, и уже буднично, как о чем-то постороннем, добавила:
— Нынче редко плачу. Горе-то у меня уже взрослое.
Олег всем своим естеством ощутил, в какие-то доли мгновения понял, может быть, впервые в жизни: какую великую душевную силу надо иметь, чтобы день за днем, долгие годы жить бок о бок со своим горем, греть его теплом исстрадавшегося, измученного сердца, чтобы оно, черное, стало чистым и высоким, как слеза; для Марьи Федоровны навсегда и воздух, и лес, и дом, и все те маленькие радости, если они еще случаются в ее жизни, освещены его печальным светом, и осколки этого большого общего горя каждый носит в своей душе; — у него, у Олега, нет отца, у других — брата или деда; наверное, особые волны, еще не изученные наукой, разносят по всему миру и, кто знает, может, по всей Вселенной робкие, похожие на едва проклюнувшийся зеленый листок, или будоражащие, набатные сигналы наших радостей и тревог.
Со стороны дороги послышался смех, мужские возбужденные голоса.
— Олег, пошли на скачки!
«Катитесь вы!..» — Олег сердито посмотрел на черный забор, в щелях которого, словно красные светлячки, мелькали огоньки сигарет, и поспешно, опасаясь как бы его приятели по заводу не ввалились сюда, подвыпившие, бесшабашные, отозвался:
— Не пойду. Отосплюсь лучше!
— Дома, под боком у жены отоспишься… Таких на картошку брать не надо! — весело закричали с дороги, и красные светлячки побежали по забору и растаяли в темноте.
— Ишь, разгулялись, — мысленно находясь еще там, в далеком, уже для самой в чем-то похожем на чужую жизнь времени, растерянно заметила Марья Федоровна. — Может, судьба такая выпала. Марья, испокон веков, горькая. Только чем я так перед людьми и перед этим светом провинилась?.. Всю жизнь работала, как нынче говорят, «ишачила за спасибо». Вы такие выросли, что шагу бесплатно не ступите. Жизнь как-то чудно понимаете: «ишачим», чтобы отдыхать, словно самая взаправдашняя жизнь начинается после работы…
Легкий ветерок донес с танцплощадки обрывок ритмичной музыки; возвращаясь с картофельного поля, Олег видел этот асфальтовый пятачок возле клуба, усеянный окурками, фантиками, шелухой от семечек, словно стыдливо укрывавшийся от дневного света плотным покрывалом из мусора.
— Не слушаешь меня, милай?
— Да вот задумался, — смутился Олег.
— Я уже привычная, что одни меня из жалости слушают, другие из воспитания — это все больше городские, а наши-то, деревенские, отмахиваются, как от навозной мухи: «Своих забот полон рот». Я, если уж большая охота подопрет, кошке все рассказываю. Она глазищами хлопает, хлопает, да как замурлычет и ну! об ноги тереться. Значит, понимает. А по весне и кошки не стало. Ребята из рогатки стрельнули… Слушай, третий день на тебя гляжу, вроде, как ты не в себе. По дому так тоскуешь?
— Да нет…
— Отца вспомнил?
— Его я лишь на фотографии видел. Он до Берлина дошел. Дежурил у танков, а снайпер из высотного дома… Как раз был первый день мира.
— Кто ж, милай, за все это ответит?..
— Сказки, Марья Федоровна, сказки, — уже порядком разочаровавшийся в формуле: каждому воздастся за добро и за грехи его, раздраженно обронил Олег; люди с детской верой в мифические законы, по которым должна протекать человеческая жизнь, вызывали у него и сочувствие, и отвращение. — Знаете, я у одного ученого недавно прочитал, что, по его наблюдениям, больше всего на операциях не везет именно хорошим людям.
— Оно и верно, зверь завсегда живучее человека.
— Циничный закон природы.
— Ты не смейся. Раз ты умный, то должен знать, как надо жить, чтобы не болеть.
В темноте Олег не видел лица Марьи Федоровны, но почувствовал, как оно, округлое, похожее на передержанную в печи, потрескавшуюся булку, осветилось лукавой улыбкой.
— Тебе в шинели-то, поди, тепло, а у меня до самых костей холод добрался. Пойду в избу, самоварчик соображу.
За спиной Олега скрипнула дверь; он поднял повыше ворот шинели, привалился плечом к бревенчатой стене и прикрыл глаза; еще тогда, в детстве, он до слез завидовал одногодкам, щеголявшим в отцовских, подрезанных почти до самой талии шинелях, до белизны застиранных гимнастерках, выгоревших пилотках; он погладил выпуклые, со звездочками, пуговицы; на них играли за черной от копоти котельной в «орлянку»; их он встречал позже в столах своих повзрослевших приятелей, как и пилотки, и погоны, бережно хранившиеся в шкафах, и невольно подумал о том, что будет беречь его сын как память о нем?.. Вспомнились недавние слова жены: «Тебе не кажется, что мы живем слишком скучно: работа — магазин — варешка — кормежка — телевизор — постель». Сказано это было как упрек, и Олег, защищаясь, огрызнулся: «Не я же это придумал!» Хотя сам все чаще и чаще ловил себя на мысли, что если с ним не произойдет несчастного случая, если не будет землетрясения или иной катастрофы, то он без особых перемен проживет до самой старости; в последние годы время отмечалось больше покупками, приобретениями: «это было, когда мы цветной телевизор купили», «это было той весной, когда мы взяли в кредит гарнитур для спальной; у магазина тогда очередища с пяти утра была…» И Олегу после каждой самой маленькой размолвки с женой, которая упрекала его, и он это понимал, тоже больше по привычке, хотелось побыть одному; одиночество не пугало, а манило, словно хотело посвятить в какие-то сокровенные тайны человеческой жизни; и по дороге в «колхоз», на который согласился добровольно, чем крайне удивил жену и начальство, он надеялся, что общежитие в эту пору пустует и можно будет найти укромный уголок, чтобы уединиться.
Когда они подъехали к общежитию, у дверей их встретила старушка в белом платке в крупную голубую горошинку; опираясь на ореховую палочку, она заискивающе улыбнулась:
— Кто хочет настоящей деревенской жизни, прошу ко мне.
— Почем берешь, бабушка? — уже настроившись на волну той вольной, раскованной жизни, которую познал в прежние свои приезды, весело спросил один из парней.
— Дров наколешь да воды принесешь, тому и рада буду.
— Посторонись, Федоровна, — колхозная бригадирша в желтых резиновых сапогах, плотно облегавших полные икры, вытащила из подкатившего пикапа стопку чистых простыней, — зачем людей с толку сбиваешь? У нас тут отопление, душ, телевизор цветной, а у тебя все удобства — два клопа да три таракана.
Парни дружно рассмеялись.
Старушка обиженно заморгала, но не ушла, и это ее безропотное унижение тут же вызвало у парней и смущение, и брезгливость. Один за другим они поспешили скрыться в дверях общежития.
— Если не возражаете, я буду у вас жить, — задержался возле старушки Олег.
— Не глупи, парень, — сердито заметила бригадирша, решив, что он лишь по мягкости характера не смог пройти мимо, сунула ему в руки стопку наволочек. — Неси. А ты, Федоровна, ступай своей дорогой, нечего разными байками наших шефов смущать.
Когда Олег снова показался в дверях, бригадирша, уперев руки в крутые бока, так посмотрела на старушку, что та попятилась, причитая: «Да я что?.. он ведь по доброй воле». Бригадирша, наверное, довольная произведенным эффектом, рассмеялась и махнула рукой:
— Ладно уж, забирай своего полюбовника.
— Очень остроумно, — едко заметил Олег.
— Откуда у нас уму-то быть да еще острому. Мы в деревне живем, люди темные.
— Оно и видно, картошку и ту убрать не можете.
— Ишь развыступался! — бригадирша снова уперла руки в бока. — А ну, иди-иди да смотри на работу не проспи, деятель…
— Не связывайся с ней, милый, глупая баба хуже цепной собаки, — старушка ухватила Олега за рукав куртки и потянула за угол общежития.
Дом у нее был неказистый, подсевший на левый угол; одну треть его занимала русская печка с просторным шестом и черной, словно вороненой, заслонкой; из-под шестка торчали ручки ухватов, а под ним лежал деревянный каток, на котором, как Олег знал по книгам и фильмам, сажают в печь самые большие чугуны.
— Зовут меня Марьей Федоровной. Тебе я на кровати постелю, — старушка показала на койку возле глухой стены, прикрытую лоскутным одеялом, — а сама я сплю на печи, старые кости грею.
— Сколько я вам буду должен?!
— Поживите у меня — вот и вся награда. Я ж одна, сорок лет одна…
Олегу стало не по себе; он еще раз осмотрел тесную, подслеповатую избу, пахнущую дешевым мылом и еще чем-то кисловатым, и нерешительно поставил рюкзак в угол: «Блаженная какая-то. Впрочем, будет разговорами надоедать, уйду в общежитие».
К ужину Марья Федоровна накрыла стол; она выставила на него всю немудреную снедь, хранившуюся в кладовке и в погребе: соленые грибы, квашеную капусту, моченые яблоки, тонко нарезала белое, лоснящееся сало; хлеб положила не на тарелку, а на сложенное вдвое полотенце и, когда Олег удивленно спросил: «Зачем вы так делаете?», укоризненно качнула головой «Это же хлеб!»
Утром Олег положил на стол десятку:
— Купите печенья к чаю и, вообще, что вам захочется.
— Еда моя не по вкусу? — всполошилась Марья Федоровна.
— Я же не могу так, поймите.
— Оно, конечно, милый, пенсия у меня, что птичка-невеличка, — Марья Федоровна обрадовалась тому, что ее опасения напрасны, — да ведь мне и надо чуть-чуть. До тебя тут плотник один жил, так он, черт-пьянчуга, покрикивал: «Бабка, сало где? Бабка, самогону найди!» Умучилась я с ним.
— Выставили бы за дверь.
— Одной-то еще хужее, — виновато улыбнулась Марья Федоровна.
Кроме стыда перед новым постояльцем, была в ее словах робкая, похожая на дрожащий огонек пламени на конце фитиля еще не разгоревшейся свечи надежда, что человек, живущий под одной крышей с ней, становится ближе, роднее; эта наивная вера, столь раз высмеянная, обманутая, каждый раз вспыхивала в ней с такой пугающей силой, что Марья Федоровна мигом забывала свои прежние беды и неудачи, и походила на глупого котенка, живущего еще без понимания добра и зла, и именно это в ней, прожившей почти целый век, вызывало у одних болезненное сочувствие, а у других не только отвращение, но и откровенную злость.
У Олега уже была готова сорваться с языка насмешка, но взгляд его упал на сухую темную руку, неловко теребившую кромку синего передника, и, чтобы скрыть неожиданно навернувшиеся слезы, он отошел к окну.
Через два дня смущение, неловкость прошли; Олегу уже верилось, что живет тут давно; Марья Федоровна была ненавязчива, появлялась в доме больше затем, чтобы постирать ему рубашку или приготовить еду, и вела себя так, словно хозяином в этом доме был он, Олег; и ему стало понятно, почему пьяница-плотник начисто забывал, что всего лишь квартирант, требовал сала, самогонки, матерился и что его пудовые от грязи сапоги, которые он бросал, наверное, возле порога, поутру стояли на половичке сухие, тускло поблескивающие начищенными голенищами.
«Бедная Марья Федоровна, где-то оторвалась от жизни, может существовать только при ком-нибудь», — Олег снова потерся колючим подбородком о ворот шинели; ему искренне верилось, что сроднился с ней так же, как муж Марьи Федоровны, как отец со своей шинелью, которую он видел на потертой, выцветшей фотографии; да еще мать рассказывала, что на всю жизнь запомнила жесткий ее рукав, о который укололась пальцами на вокзале; и, когда отец побежал за набиравшим скорость эшелоном, хотела крикнуть, чтобы поберег себя, но не решилась, — шинель была великовата, и мать испугалась, как бы он не запутался в широких развевающихся на бегу полах, еще не обносившихся, каляных…
Олег качнулся от стука, увидел в окне силуэт Марьи Федоровны и понял: самовар уже вскипел.
В том желтом, мягком полумраке, который давала керосиновая лампа с самодельным абажуром, изба казалась просторнее, свежее, а болтавшаяся под потолком электрическая лампочка (ее хозяйка каждый день заботливо протирала белой тряпочкой) — елочным украшением, по недогляду оставшимся после праздника; в первые дни Олег несколько раз включал ее, и тогда убегали со стену словно прятались в глубокие щели, трещины, причудливые тени, да и, странное дело, голос становился глуше, невнятнее, почему-то притуплялся слух, и надо было напрягаться, чтобы уловить похожее на тихий, плывущий звон гудение вскипевшего самовара; видимо, яркое море сухого электрического света издавало свои, не слышные для человеческого уха шумы, поглощавшие, приглушавшие все другие звуки.
Олег присел на табуретку, выпростал руки из рукавов, но шинели не снял.
— Поле-то уже остыло. Не знобит тебя? А то я варенье малиновое достану.
— Не надо, я так…
— Отца не забываешь, это, милай, хорошо. Ему радость от того будет. Знаю, что вы, молодые, в другой свет не верите, но ведь если есть этот, то должен быть и д р у г о й. — Марья Федоровна поставила белую чашку на блюдце, подвинула под кран самовара; ее лицо осветилось добродушной улыбкой, но тут же помрачнело. — А вот в бога… в него почти не верю. Особливо после того, как Гриша пропал. После ранения он все ночи на крик кричал, все воевал во сне. Лампу-то на ночь не гасили. Иначе вскочит и в темноте носится по избе, все поопрокидывает, а как свет увидит, опомнится, посидит на кровати, от своих страхов отойдет и снова на боковую, а они, страхи-то, рядышком лежат.
Бывало, гляжу на него с печки, думаю, должно же ему за мучения, за геройство его какое-то благодарение выпасть, и так от этой мысли сладко на душе становилось, что засну, а утром только глаза открою, он на кровати сидит и руками за голову держится. «Проснулась», — говорит, так это сердито на меня смотрит. «Надо было, — говорит, — с вечера вещмешок собрать, сапоги начистить. Посыльный от командира был, а я не готов. Рота на передовую ушла. Теперь трибунал меня ждет». И так до самого обеда в одном исподнем на кровати просидит, от каждого шума за окном вздрагивает. Все ему казалось, что за ним, как за дезертиром, пришли, — Марья Федоровна отпила из блюдца, узловатыми пальцами ловко прихватила из сахарницы кусочек колотого сахара, — а может, в награду ему жизнь была оставлена. Какая-никакая, а все ж таки жизнь.
— Мы тоже отца пять лет ждали. Все думали, может, ошибка вышла, — Олег, не привыкший пить чай с блюдца, сам не зная почему, старался подражать хозяйке, поднял блюдце сначала обеими руками, а уже потом приспособил его на три растопыренных пальца, — даже когда однополчанин его побывал у нас, рассказал все, мать все равно не поверила.
— А ты поверил?
— Вообще-то я знаю, что он погиб.
— Ни живого, ни мертвого не видел, — Марья Федоровна сокрушенно покачала головой, погладила узловатыми пальцами пустой рукав шинели, свесившийся с Олегова плеча, — кто же за все это ответит?
— Многих уже судили, — вырвалось у Олега, и он опустил голову, чувствуя себя, как на политинформации, когда рассказываешь людям о том, что они сами читали или видели по телевизору.
— Оно и верно, мне мужа, а тебе отца никто не вернет. А несправедливо это, ой, несправедливо!
— Тут уж ничего не поделаешь.
— Ты руками-то попусту не разводи. Жизнь, она как птица, между них порхнет, только ее видел. Я ведь мужа-то сама проглядела… Да-да, милай, так оно и было, не наговариваю. Стало ему казаться, что со мной случится что-нибудь. Он меня из дому никуда не отпускал. Я его и упрашивала, и слезно просила: выбросить эту блажь из головы. В то время-то два дня дома просидишь, на третий — с голоду помирай. А тут случилось мне в соседнюю деревню за солью идти, она ж тогда, поди слышал, дороже денег была. Он спохватился: нет меня, пошел искать и сгинул. Я все ближние и дальние деревни обегала. Вроде видели его, вроде нет. Тогда много по деревням разных увечных да потревоженных ходило. В одной гимнастерке ушел, а уж сентябрило.
Марья Федоровна снова погладила пустой рукав шинели, и Олегу показалось, что за долгий вечер он устал от этой чужой одежды, что она давит на плечи; Марья Федоровна уловила перемену в его настроении, ладонью накрыла его руку, уже потянувшуюся было, чтобы скинуть шинель, и он почувствовал сначала сухую, шершавую кожу ее ладони, а потом легкое парное тепло, от которого вдруг стало тепло и уютно.
Марья Федоровна налила себе новую чашку и, что-то припоминая, поглядела в тусклый бок самовара.
— Я уж давно живу. Раньше, правда, жизни как-то не замечала. Думалось, что все вокруг ради тебя, ради твоих радостей да удовольствий создано. Ради тебя соловушки поют, ради тебя отец с матушкой живут, ради тебя солнышко светит. Потом замуж вышла, своего угла не было, достатка — тоже. Через это детями не спешили обзавестись. А война совсем эту жизнь спутала. Начали в ней свое место искать. Многие смерть нашли. И чего уж никто не ждал, да не гадал о том, — много плохих людей выжило; мы уж о том с тобой говорили, что так оно и должно было быть: они в войну здоровье не тратили, мешки да карманы брошенным набивали. Да, милай, душу с этого воротит, но чего греха таить, они ведь меж нами жили и живут.
Олег повертел между ладонями остывшую чашку, словно хотел согреть ее своим теплом; его потянуло сказать Марье Федоровне какие-то нежные, проникновенные слова, обнадежить, что все будет хорошо (и в эти мгновения он искренне верил в это), но посмотрел на нее, сморщенную, уже погасшую почти, и устыдился радужного порыва, глупого и никчемного.
— Ты зря не убивайся, меня утешить нечем.
— Думаете, я такой уж счастливый и благополучный?
— Эх, милай, — ласково улыбнулась Марья Федоровна, — был бы ты счастливый, не пошел бы ко мне на квартиру. Тебе, как мышке, норка нужна. Хотя, если на мой аршин мерить, так у тебя — полное счастье, только распорядиться им не умеешь.
— Если бы!..
— А чего тебе надобно? Жена, сын, отдельный угол — все есть, чего у меня не было, да и денег, поди, на жизнь хватает.
— Сейчас все это дается сразу. Вот я уже сколько тут живу, а жена, сын… Нет особой тоски по ним, словно сам только вчера родился.
— Кем твой дед был?
— Откуда мне знать, я же его не видел.
— На завод зачем пошел?
— Детские вопросы, Марья Федоровна, надо же мне было после армии где-то работать. Сказали, что у тех, кто осваивает полуавтоматы, хорошие заработки. Потом встретил Галю, она в соседнем цехе нормировщицей работает, — так и семьей обзавелся. Мать умерла, нам квартира осталась.
— Раньше-то человек, прежде чем жениться, почти всю жизнь наперед продумает. Не улыбайся, не улыбайся! Я тебя не осуждаю. В теперешней жизни сама многого не понимаю, меня саму учить надобно. По совести говоря, ведь нам не до этой науки было. Мы больше руками думали. Потому я, как от работы отошла, извелась совсем. С тоски все полы до дыр протерла. Покуда руки были при деле, и на душе было спокойно. А вот вы сыты, обуты, радио да электричество кругом, столько ушей да глаз вам прибавилось…
— Марья Федоровна, может, мы плачем по тому, что и должно отмереть?
— Слышала такое, слышала. Будет время, что от болезней да с голоду никому помирать не придется, только вот сколько живем, а Мать — всему начало, а Хлеб — всему голова.
— Ошибаетесь, Марья Федоровна, детей уже в пробирках выращивают. Если женщина не хочет рожать от своего мужа, если она вообще мужа не хочет, ей помогут родить от какого-нибудь великого человека с хорошей наследственностью. Глядишь на все это и начинаешь понимать, что ты — песчинка, поскольку особых высот не достиг и уже не достигнешь.
— Складно говоришь, а вот скажи по совести: зря я свою жизнь прожила?
— Марья Федоровна, да перед вами… да я на колени!..
— Не надо, ни к чему это, — Марья Федоровна уперлась рукой Олегу в плечо и неожиданно рассмеялась, — а тот плотник-то, как напьется, как начнет во все горло песни орать да на судьбу жаловаться, что один-одинешенек, что и пожалеть-то его, приласкать некому. А я ему: «Шалопут ты, всем дома строишь, а у самого — ни кола, ни двора». А он мне: «Некогда мне на свой дом бревна тесать, я Россию строю!» Вишь каков мазурик!
— Встречал я таких людей, все, что зарабатывают, пускают на ветер.
— Да, денег они как бы не чуют. — Олег понял: Марье Федоровне что-то не понравилось в его словах; она подняла блюдце на растопыренных пальцах и часто-часто замигала, словно ей в глаза пылинка попала. — Ты уж на меня не серчай. Мы-то ведь с такой мечтой жили, что вы, молодые, все, чего мы не сделали, доделаете, все, чего мы не поняли, разобъясните. А ты смотришь на меня так, словно я, старая, должна все тебе разжевать да в рот положить. А я вот на тебя гляжу, чего ты мне скажешь… Ну, чего голову угнул? Завтра съезжать будешь? Плотник-то мне тогда сказал, что с тобой, бабка, только пьяному жить, иначе своими разговорами до смерти замордуешь. Да я уж и сама себя сколько раз пугала: чего тебе, старой, надобно? Чего ты все по людям мыкаешься? Сиди, грейся на завалинке да радуйся солнышку красному, да огурчику на грядке, да пенсии, которую нынче прямо на дом приносят… Ты, милай, насчет могилки отца узнавал?
— Однополчанин говорил, что его похоронили в братской могиле, где-то под Берлином. Он место не запомнил, город-то для него чужой.
— А я вот своего схоронила под березой. Тут, за домом. Каждый день у могилки бываю.
Олег уже хотел было спросить: «Как же так? Вы же говорили, что не нашли его», но увидел блаженное лицо Марьи Федоровны и, словно озяб, стянул полы шинели.
— Давай-ка я тебе горяченького подолью, — спохватилась Марья Федоровна, поставила чашку Олега под кран самовара; ее лицо, раскрасневшееся от чая, от долгого разговора, было умиротворенным, почти счастливым, и Олег снова почувствовал себя скованно, опасаясь как бы неловким словом или жестом не разрушить эту, по его мнению, кратковременную идиллию Марьи Федоровны, свято верившей, что будь у нее муж, дети, то, что имеют многие, она бы жила иначе; и жизнь этой женщины, прошедшая среди закопченных стен с топорщащимися из пазов клоками пакли и мха, почти лишенная тех, пусть самых пустяковых радостей, которые дарит одинокому человеку город и которые быстро приедаются, но как-то скрашивают дни, эта ее жизнь виделась Олегу то добровольным заточением, то подвигом: день изо дня — ферма — дом — чай в одиночестве у самовара, на боку которого уже еле заметна стала вычеканенная медаль, и еще — мечты, мечты… «Но ведь так наступит день, когда соседи, обеспокоенные тем, что не увидели ее в магазине или на огороде, зайдут в дом и…» — Олег тревожно посмотрел на блаженно щурившуюся, потягивающую из блюдца мятный чай Марью Федоровну. — А вы… не пробовали изменить свою жизнь?
— Сватался ко мне один. Хороший человек был, добрый.
— И что же помешало?
— Куда ж я из сердца Гришу-то дену? Как новый обидит, в жизни, милай, всякое может случиться, значит, я к Грише убегу, а кому такое понравится.
— Он из вашей деревни, тот, что сватался?
— Из орловской. У него бомбой всю семью убило, вот и скитался по свету. Я как узнала, что от родной земли оторвался, отругала его. А он засмеялся только, что до войны свою Глазуновку родной почитал, а как через всю Россию-матушку прошел, так вся родная стала. В любом месте, мол, теперь осяду и корни пущу. Очень он меня тогда этими словами напугал. Думала, что у него с горя разум помутился. А потом вспомнила, как в самые-то голодные месяцы к нам с города бабы с парнишками за картошкой приезжали. У нас ведь тут три калеки с половиной народу-то оставалось. Посеять мы с грехом пополам смогли, а до урожая не все дожили. Так вот городские тогда все до самой завалящей картошинки выбрали. А нынче картошка уродилась поздняя. Ранней, конечно, все рады бывают, зато поздняя до нового урожая лежит.
— Понимаю, Марья Федоровна, только ведь и нас понять надо. Занимаешься одним, а тебя бросают на другое. Да ведь и время сейчас не военное.
— А что «военное»? — тоже жизнь.
— Марья Федоровна, так мы с вами до того договоримся, что все оправдаем.
— Многому оправдания нет. А в жизни главное, чтобы каждый хозяином себя чувствовал.
— Этого сегодня хоть отбавляй, все лезут командовать.
— Хозяин тот, кто по природе живет.
— А если я не знаю свою природу?
— Ищи. Кто же тебе мешает?
— Все вроде бы и так. Только посмотришь повнимательнее: там недодумано, про то ничего не знаешь… Закроешь глаза, оказывается, и так жить можно.
— Да, милай, у клопа и у того жизнь не медом мазана, хотя ему-то чего, казалось бы, забрался в щель и лежи годков двадцать, пока жизнь к лучшему не переменится. Так ведь и он лежать не хочет.
— Сравнение, конечно, интересное, только сейчас такое время, что проще сказать, чего мы не знаем, но вот почему так живем, словно бы ничего почти не знаем — загадка. Вот и на картошку приехали каждый, как говорится, по своей нужде. Одним нельзя было отказаться, а то их авторитет упадет, другие погулять приехали, а мне просто захотелось внести в жизнь какое-то разнообразие…
— Обожди, — нахмурилась Марья Федоровна, — мы ваших причин не знаем. Для нас вы доброе дело делаете.
— Слишком дорого такое «доброе дело» для государства обходится.
— Тут уж я не советчик. Всю жизнь больше руками думала.
Марья Федоровна дотронулась до самоварного бока короткими, словно бы стесавшимися от каждодневной работы пальцами и, убедившись, что еще не все тепло ушло из него, о чем-то задумалась. Олег машинально посмотрел в чашку — остывший чай уже подернулся радужной пленкой.
— Ты если летом на курорты не укатишь, ко мне приезжай.
— Что вы сказали?
Марья Федоровна виновато заморгала.
— Знаешь, милай, давай еще по чашечке выпьем. Хочешь, я земляничное варенье открою. Душистое такое, что в сенцы вынесешь, а запах в избе до утра стоит.
— Спасибо. Я не привык по стольку чая пить.
— Хозяин — барин. — Марья Федоровна подвинула было чашечку под кран самовара, уже дотронулась до крана и неожиданно улыбнулась. — Гляжу я на тебя, гляжу, — шинелька-то в аккурат по тебе сшита. Возьми с собой. Может, она тебе нужнее.
От неожиданности Олег не нашелся, что ответить, да Марья Федоровна и не ожидала каких-то особенных благодарных слов; она накрыла самовар полотенцем, как делала всегда, заканчивая чаепитие. А через два дня Олег собрал в чемодан свои нехитрые пожитки, сверху положил шинель; все эти дни его мучили угрызения, что забирает у Марьи Федоровны самое дорогое — память о муже, и не знал, как ему быть, и все надеялся, что вот увидит в ее лице, услышит в голосе жалость или боль по утрате, которую нечем будет восполнить, и тут же вернет шинель. Но Марья Федоровна неназойливо хлопотала вокруг него и, как Олег ни отказывался, все же завернула в газету литровую банку смородинного варенья, а потом увидела сетку, схватила ее и побежала в погреб.
Олег уже не протестовал; он чувствовал, что к своему стыду, до конца не понимает, что происходит в душе этой старой женщины, прожившей почти всю жизнь в одиночестве; он вышел во двор, заглянул в сарай, где висела шинель; взгляд его пробежался по стене, но не зацепился за крючком согнутый поржавевший гвоздь; от него осталась только черная круглая дырочка, похожая на пулевое отверстие.
— Ты, милай, чего там стоишь? — Марья Федоровна, скособочившись, вытащила из погреба целую сетку отборной антоновки, испуганно посмотрела на Олега. — К автобусу-то не опоздаешь?
— Без меня не уедет, — Олег взял у нее сетку и вышел на улицу; вернуться в дом у него не хватило духу.
Чемодан вынесла Марья Федоровна, и до самого общежития они шли молча.
Возле автобуса, который привез из города бригаду шумных строителей, стоявших поодаль, вокруг бригадирши в желтых резиновых сапогах, Марья Федоровна, не поднимая головы, тихо сказала:
— Прощай, милай, — и отошла к подъезду общежития.
Олег поставил чемодан в проходе между креслами, сетку с антоновкой, сразу наполнившей душный, еще не успевший проветриться салон кисловатым, бодрящим запахом, положил на вытертое сиденье; осмотрел притихших приятелей, — одни из них мысленно уже были дома, другие тоскливо поглядывали в окна, прощались с той веселой, легкой жизнью, которой хотели захватить как можно больше, словно воздуха при нырянии на глубину; и уже когда автобус тронулся, Олег нерешительно выглянул в окно и увидел среди строителей белый клинышек платка Марьи Федоровны…
1985
Мотоциклы в траве
Весть о служебном повышении в сорок два года человек переживает не так восторженно, как в тридцать лет; суеверия больше, что в последнюю минуту кто-то передумает, и тогда колесо фортуны, скрипя, сделает пол-оборота назад; в сорок два подобное случалось или с тобой, или с твоими знакомыми, да и вообще, проще сказать, чего не случалось к сорока двум!..
Моя жена Оля, тихая, немногословная, словно раз и навсегда сказавшая себе: для женщины главное — дом, едва узнала о моем возможном повышении, неузнаваемо переменилась; оказалось, что в юности она была знакома со многими девушками, которые стали женами ответственных товарищей; по этому поводу я пошутил, что, видимо, моего повышения следовало ожидать, раз ее подруги так удачно выскочили замуж, то и она должна была выбрать похожую жертву. Шути не шути, а место заведующего сектором — это ступенька на служебной лестнице; поднялся на нее, на тебя уже смотрят по-иному, уже имеешь право претендовать на большее.
Оля вечером звонила своим бывшим подругам; я видел, как ей противны эти разговоры, но она заставляла себя болтать о каких-то пустяках и, улучив момент, шутливо вставляла: «мою половину повышают»; в разговоре наступала маленькая пауза; жены ответственных товарищей сразу понимали, как говорится, цели и задачи разговора и небрежно обещали: «поговорю со своим». Оля краснела и отказывалась и в эти минуты была искренна; она отговаривала столь энергично, что на другом конце провода верили ей и начинали успокаивать, что «не будет вмешиваться в это дело»; Оля опускала трубку на рычаг и с досадой говорила:
— Опять все испортила! Ну, как же люди все умеют, а мы с тобой столько прожили, а ничегошеньки не научились.
В отделе наблюдали за каждым моим шагом; кто-то даже заключил пари на коньяк, что мое повышение сорвется, поскольку я — «не из тех, кто берет за глотку», наверное, он был прав — я уже столько лет просидел за кульманом, что сейчас и сам удивлялся, что обо мне вспомнили и включили в число претендентов. Сам не знаю почему, но хотелось «взять судьбу за горло» и выйти в заведующие сектором. «Иначе все, — говорил я себе. — Скоро угаснет энтузиазм. Конкурсные работы перестанут тебя интересовать». Для такой перспективы у меня были готовы солидные тылы: Оля сторговала в прошлом году дачу, теперь там росло пятнадцать кустов смородины, десять яблонь, сто корней клубники, за которыми надо было ухаживать и которые, в отличие от конкурсных работ, всегда дают реальные результаты.
Впрочем, настал день, когда меня вызвали в главк; заведующий сектором — не ахти какая птица, но слишком много было желающих, а еще больше — анонимок на каждого претендента, и начальство решило устроить что-то вроде конкурса. Мне выдали служебную характеристику и сказали, чтобы к двум часам был в главке у заместителя начальника по кадрам.
Я иронично подумал, что неплохо бы надеть новый костюм и белую рубашку, как делали солдаты перед тяжелым боем; хотя лично я в этом бое участвовать не буду, но характеристика, в которой как-то суммированы все мои достоинства, будет тем самым оружием, которое должно сказать свое слово; правда, не исключено, что ее даже не прочтут, поскольку наверняка у всех претендентов одинаково хорошие характеристики. Но, по сравнению с ними, у меня все же было маленькое преимущество: я два года назад работал именно над той темой, которую давали новому сектору.
В положенный час я вошел в приемную заместителя начальника главка; она была настолько обширной, что я, не вышедший ростом, сразу в ней потерялся.
— Влад, неужели ты?..
Близоруко щурясь, я осмотрелся; у окна сидела женщина с пышно взбитыми рыжими волосами, видимо, секретарша; кроме нее, никого в приемной не было.
— Влад, ты меня не узнал?
Я подошел к ней ближе; ее лицо, покрытое толстым слоем пудры, с подбритыми бровями не напомнило мне никого, но в ее голосе я уловил что-то знакомое.
— Слушай, ну ты разожрался, тебя трудно узнать, но я-то…
— Юлька! — перебил я женщину; да, это была Юлька, с которой я когда-то учился в одном классе; только она могла так прямо и бесцеремонно сказать: «Ну, ты разожрался…», у нее это получалось до того мило и безобидно, почти как похвала.
— И давно ты здесь? — спросил я.
— Сто лет. Уже десяток разменяла, — улыбаясь, ответила Юлька.
— Странно, я думал, что ты… — я хотел было сказать, что она, по моим прогнозам, должна была стать каким-то особенным человеком, а не секретаршей, пусть даже заместителя начальника главка, но вместо этого стушевался и неловко промямлил: — Ты куда-то пропала. Про всех я кое-что знаю, а ты куда-то пропала. И вот, оказывается, мы десять лет работаем в одной фирме. Странно…
— Ты все такой же чудак? — она по привычке посмотрелась в круглое зеркальце и спрятала его в стол, — наверное, не судьба, а так бы свиделись. Ты сейчас кем?
— Не знаю, вот пришел… — я протянул листок со служебной характеристикой, — может, останусь тем же, а может, и…
— Значит, ты из претендентов, — понимающе усмехнулась Юлька и безо всякого перехода спросила: — У тебя семья, дети есть?
— Семья есть. Детей нету.
— На тебя это похоже.
— А у тебя?
— Ни того ни другого. Я даже замужем ни разу не была. После школы мы как-то разбежались по разным углам. Я дважды поступала в университет, оба раза провалилась из-за своего характера. Пошла в педучилище, потом поработала годик в детских яслях воспитателем, кончила курсы машинисток и с того дня секретарствую. Сказать бы мне об этом двадцать четыре года назад, рассмеялась бы. А тут привыкла и даже временами нахожу что-то интересное… Ты еще помнишь школу?
— Да. Мы с Олей часто вспоминаем наш десятый «а».
— Я хочу забыть и не могу, а вспоминать стыдно.
Мы замолчали. Я вспомнил жаркий июнь, наверное, потому что сейчас сидел в приемной и ждал своей очереди, и тоже был на экзамене; приемная наполнилась какими-то людьми, наверное, такими же, как и я, претендентами; Юлька занялась ими, а я сидел в углу и не мог отделаться от воспоминаний…
От каждого дуновения ветерка луг вспыхивал то фиолетовым, то голубым огнем, то розовым; посреди него, словно спутанные лошади, стояли мотоциклы; не хрустела пережевываемая трава, и горький запах полыни не смешивался со сладковатым запахом бензина, который властвовал в маленьком круге; границы его то расширялись, то сужались до таких размеров, что, казалось, он исчезал в огненно-красных баках, сверкающих никелированными крышками; на коричневые сиденья, словно седла, отороченные золотистой бахромой, садились бабочки, привлеченные ярким цветом.
До озноба, до сладкой судороги по всему телу было приятно, раскинув руки, упасть в холодящую, насквозь зеленую траву; хохоча, сталкиваясь с приятелем, я катался по ней, вцепляясь пальцами в мягкую, проросшую тонкой паутиной корней землю, и замирал, ощущая ее щекочущую прохладу; и снова кидался в зеленые волны, отмываясь от липкой суеты экзаменов, мелких обид и огорчений, от иронии, которая превращает меня в ежа.
Я, словно умирал и рождался заново, все больше сливаясь с этим лугом, живущим в счастливой первозданности.
Я падал,
полз,
бежал,
падал,
полз до изнеможения,
до боли в ушах и полного забытья…
Я очнулся от громких ударов; от них колебалась земля и ритмично вздрагивало тело — колотилось перепуганное, растерявшееся сердце; оно не могло так вот, сразу, вместить
все краски, кинувшиеся в глаза,
все запахи, щекочущие ноздри,
все нежнейшие прикосновения шершавых травинок,
молниеносные касания режущей осоки…
Когда сердце немного успокоилось, в уши медленно влились тысячи шумов, самых разнообразных и неожиданных. Около моего носа микроскопический муравей тащил соломинку; она была раз в тридцать больше его; я где-то читал, что будь у человека столь же развиты мышцы, он бы одной рукой мог остановить бульдозер и запросто перемахивал бы через пятиэтажный дом. А если представить, что есть какое-то существо, примерно в такой же пропорции, как муравей, совершеннее нас в физическом отношении, выше духом, богаче чувствами и интеллектом?.. Вот я и говорю, что здесь воображения не хватает; совершенство муравья представить проще и еще проще его признать.
Покачиваясь на кончике травинки, беззвучно трепещет крылышками божья коровка. Дыхание невольно задерживается: «Если полетит, то к ведру…» Мне совершенно все равно: будет завтра дождь или снег, но почему-то городские жители, надежно застрахованные от капризов погоды теплыми железобетонными стенами, троллейбусами и тротуарами, с необъяснимой настойчивостью слушают прогнозы погоды. Нет ли в этом какой-то загадки?.. Может, природа на своем языке стремительных падений температуры, гроз среди зимы и снегопадов летом пытается нам что-то сказать. Мы чувствуем это и мучаемся непониманием.
— Влад… Владик! — словно со дна колодца донесся до меня неразборчивый шепот Оли.
Я поднялся — она совсем рядом; заложив руки за голову, лежит в зеленой нише; глаза ее прикрыты, на лоб свесилась ослепительно желтая прядь.
Олины ресницы вздрогнули, узкие губы мягко раздвинула улыбка. Мне показалось, что был звук, тонкий, вибрирующий; даже не показалось, он вокруг… он во мне и вокруг…
Пораженный, я опустился на колени; хотел сказать, что пришел, но подумал: зачем? Раз она больше не зовет, значит, чувствует, что я рядом; ей нужно, чтобы я был рядом. Наконец-то!.. Я всегда, еще тысячу лет назад, знал, что настанет такой день, и тогда, очертя голову, я скажу ей все, что зрело и накопилось во мне веками, и это уместится в двух словах; и вот сейчас я скажу их шепотом, пусть Оля подумает, что это — шорох…
Из-за плотной стены кустарника стрелой вылетел реактивно пронзительный рев мотора. Опьяняя себя скоростью, по шоссе пронесся невидимый мотоциклист.
— Сумасшедший какой-то! Хоть бы у него колесо лопнуло! — раздраженно выкрикнула из травы Юлька.
Я и Оля уже не одни. Все, как говорится, обретает естественные тона.
Разминаясь, потягиваясь, поднялся Стас. Плотный, словно вытесанный из бруска твердого дерева, он лениво заметил:
— Десять минут назад мы летели точно так же. Только у него мотор без глушителей.
— Все равно сумасшедший.
— …за это права отбирают, — так, словно его не перебивали или он не заметил этого, продолжал Стас. Юльку в густой, по пояс траве, было не видно, и, казалось, что он разговаривает с полем или с легким ветерком. — Тут гаишники на каждом километре…
— Ну и что?
— Сам в бутылку лезет.
— Ты у нас очень умный, ты в бутылку не полезешь.
— Не хочу быть пробкой.
— Твои «хочу» и «не хочу» всегда совпадают с «выгодно» и «невыгодно».
— То, что делает он, — глупость.
— Я бы его поцеловала за это!
Оля, также утопает в зеленой нише, только лицо у нее стало озабоченным; ее тревожит: поссорятся Стас с Юлькой или нет? У них это — давняя и ожесточенная вражда. Вся школа знает, что Стас влюблен в Юльку. Если бы мне предложили изобразить ее графически, я нарисовал бы многоугольник, поскольку для нее не существует авторитетов; любое мнение она встречает в штыки; многие, кто не знает Юльку, мгновенно прогорают на этом, поскольку она с ее некрашеными волосами, невыщипанными бровями, сросшимися на переносице, совсем не подходит под стандарт «девочка с претензией».
Стас не хочет прощать ей ни единой мелочи, но Юльке все сходит с рук. В прошлом году на глазах у всего класса она влепила Стасу пощечину, и все из-за того, что он нечаянно наступил ей на ногу. Стас побагровел и с трудом, словно одновременно поднимал штангу, вымученно улыбнулся.
— Ну и рука!..
— Тюфяк! — повис в тишине голос Гали.
Так в нашем классе появился еще один классический треугольник. Правда, одна сторона — Галя — была незаметна, но после того случая все знали, что она есть и специально «клеится» к Витьке — закадычному другу Стаса, а Витька покровительствует Юльке, наивно считая, что этого никто не видит.
Но четырехугольник не подходил под стереотип, и общественность класса, как и всякая общественность, живущая во власти традиций, отвергала его; она упорно не замечала в Витьке донжуанских наклонностей, считая, что его единственная страсть — моторы.
— Зачем Юльке Витька? — как-то со свойственной ему бесцеремонностью спросил меня Стас.
— А тебе?
— Не знаю. Иногда разбираю ее по косточкам. Красива?
— У нас красавица — Галя.
— Характер?
— Хуже не придумаешь.
— Отношение ко мне?
— Наверное, сложное… — замялся я, поскольку на языке уже вертелось «соответственное», а мне не хотелось делать Стасу больно, он говорил со мной откровенно.
— С этой сложностью — одно мученье. Жизнь куда проще, чем мы думаем, — словно заметая следы, Стас начал уходить в сторону, но не справился с собой и выложил: — Веришь, Владик, мне иногда хочется, чтобы она сказала «нет», и все дела. И тогда плевал я на все. А так живу, понимаешь, словно не для себя… — он тут же устыдился своей откровенности и замолчал.
— Я бы его поцеловала за это! — с вызовом повторила невидимая Юлька.
«Начинается», — тоскливо подумал я, хотя в душе сочувствовал Юльке; мое мнение о ней изменилось после одного урока литературы; раньше я тоже считал ее воображалой.
В тот день Раиса Ивановна, а точнее, Душечка — так ее вся школьная общественность зовет, задала на дом выучить девчонкам письмо Татьяны, а мужикам — Онегина. Кстати, это она по-божески сделала; чтобы радость моя была понятна тем, кто учился не в наши годы, поясню на примере: выхожу однажды к доске и дрожащим от волнения голосом выкрикиваю: «Ах, какая я веселая в девушках была!..» В общем, читал монолог Катерины: все ржали так, что мухи замертво с потолка падали.
Читать монолог Татьяны Юльку вызвали первой. Все ждали, что она блеснет; у всех еще свежо было в памяти, как она читала «Песню последнего промедления» Поля Элюара:
На твоих ресницах сухих, В глубине твоего желанья Округляется черный ноль. Как он крохотен, как огромен, Как способен он защитить Самобытное в человеке!..Все ждали.
Юлька заявила, что помнит письмо Татьяны, но читать чужие письма при всех ей стыдно.
— Я спрашиваю не по своей прихоти, а исходя из программы, — заворчала Душечка.
Юлька мгновенно повернулась одним из своих углов.
— «Я к вам пишу, чего же боле…» Так сейчас только пенсионеры в ЖКО пишут, когда у них полы скрипят!
— Юность. Жажда самоутверждения. Вы будете носить мою двойку, как медаль? — удивить нашу Раису Ивановну невозможно; она двадцать второй год в школе; всякого натерпелась. — Носите на здоровье! — Душечка аккуратно вывела двойку в журнале и, добродушно улыбаясь, осмотрела класс. — Сколько тут индивидуальностей!.. На днях я предоставлю вам счастливую возможность проявить себя. Будете писать сочинение на тему: «Как я понимаю любовь?» Кто еще не шибко силен в понимании этого вопроса, может подготовиться заранее. Вас эта тема устраивает?
— Вполне! — радостно ответили мы, довольные маленьким разнообразием в школьной жизни; каждый год катаешь про «типичных представителей», так что эта тема показалась нам прямо «лучом света в темном царстве».
— Чтобы вы не стеснялись, сочинения подписывать не нужно, — на следующий день ошарашила нас Душечка.
Честно говоря, мы прямо ошизели от удовольствия: каждый мог катать, что ему вздумается. А дальше пошло еще интереснее: учительница литературы ушла из класса.
Чтобы с таким мучением писали сочинения, я еще ни разу не видел; у всех к концу первого часа — пустые страницы; все грызут ручки и о чем-то думают.
Неделю мы сгорали от нетерпения; все ждали двоек или вызова к директору; каждый говорил:
— Я такое заделал! Она мне за это кол с минусом влепит!
В субботу Душечка принесла наши сочинения, перепечатанные на машинке.
— Мне это стоило труда, поскольку я печатаю двумя пальцами. Но теперь потрудитесь вы. Я не изменила ни одного слова, только знаки препинания расставила, чтобы наши хвостисты не выделялись. Определите сами: кто и что писал? Обнаруженным поставим пятерки за и н д и в и д у а л ь н о с т ь.
Тут такое началось! Мы вырывали листки друг у друга, чуть не передрались, но вскоре в классе стало тихо.
Я успел просмотреть страниц восемь. На одной было написано: «Любовь — это стремление двух дураков…» Дальше каждому пятикласснику понятно; я искал глазами, кто бы мог такое изобразить? И тут же поймал себя на мысли, что будь у меня скверное настроение, вполне мог бы тиснуть что-нибудь похожее.
В двух сочинениях было полно цитат из Пушкина, Шекспира, Толстого. Это вполне могли наши «хвостисты» постараться; их можно понять: иметь двойки, когда у тебя рост до потолка и когда через день перед школой бреешься, все-таки стыдно. Только один листок задержал мое внимание, в нем сначала шли цитаты из классиков, а потом: «Наверное, любовь — это талант, который с рождения дается каждому. Наверное, это самый незаметный и хрупкий талант, который и делает человека Человеком. Я ненавижу живых мертвецов!!! Может быть, это и не совсем мои мысли, но что сейчас могу сказать о любви? У меня есть только одно огромное желание не заглушить этот талант. Я так боюсь за его судьбу!..» Мне сразу стало ясно: «Юлька», и другие это поняли, больше мы никого не нашли.
— Одна пятерка на весь класс — не густо, — прищурилась Душечка, — но я так думаю, что ставить ее не будем.
Класс возмущенно зашумел.
— Да хватит вам! — вскочила Юлька. — Раиса Ивановна права: кто же ставит пятерки за искренность?
Тут весь класс мгновенно поделился на группы, пошли споры, и тогда я не выдержал, встал и говорю:
— Мне тоже надо поставить пятерку… за честность. Я один изо всего класса сдал пустой листок, правда, его почему-то не перепечатали.
Все захохотали, привыкли, что постоянно хохмлю, иногда ирония прет из меня, как на дрожжах, сам себе противен, словно все в мире — дураки, а один ты — умный. Только в этот раз я почувствовал, что попал в яблочко, и только хохот утих, заявляю: — И, вообще, мне надо сегодня по всем предметам пятерки поставить… за старание.
Осматриваюсь: кто клюнет.
— Это почему же? — попался Витька.
— Потому что я сегодня в школу самый первый пришел.
Витька даже обиделся, а Юлька и Раиса Ивановна одобрительно улыбнулись — почувствовали союзника.
Кстати, после того сочинения я перестал называть учительницу литературы Душечкой; понял, что Раиса Ивановна давно нас раскусила и с ней надо быть поосторожней и с Юлькой — тоже, очень уж она мучается.
Вот и сейчас стоит к нам спиной, словно все мы ей что-то должны…
Опять эта чертова ирония! Хоть на стенку от нее кидайся. Но иногда она мне здорово помогает. Ростом я не вышел и, наверное, природа взамен силы, которая нынче, как прочел в одной книжке, рассматривается лишь как вторичный половой признак, дала мне иное орудие защиты, и тут уж надо ради справедливости сказать, что даже змеиный яд в малых дозах обладает отличными лечебными свойствами.
Юлька стоит к нам спиной и ждет.
…на твоих ресницах сухих, В глубине твоего желанья Округляется черный ноль, —вспомнилось мне.
— Юль, кончай выпендриваться! — поднялся из травы Витька. Длинный, в полосатой футболке, он очень похож на футбольного судью, даже говорит резко, с сознанием особой власти, словно разнимает дерущихся игроков.
Юлька снисходительно посмотрела на него и усмехнулась.
Витька решил отплатить той же монетой; сейчас никто не любит оставаться в долгу, если, конечно, не деньги должен.
— Хватит вам, ребята! — Оля голоском и манерой говорить, приподнимая плечи, словно крылья, похожая на пичужку, умоляюще сложила руки лодочкой. — Через три дня последний экзамен. Ведь это здорово, что школа кончается.
— Начинается пора зрелости, которая, по словам моих предков, сводится к самостоятельному пропитанию, получению отдельной квартиры, — меланхолично заметил Стас, — и произведению потомства, которое должно быть лучше нас. К этому еще надо добавить уважение окружающих, хорошую пенсию, и цикл завершен.
— Не надо, Стасик, я уже много раз это читала. Ты сам в это не веришь.
— Ты, твой Владька и Юлька любите играть в красивые слова. Вы живете иллюзиями. — Стас даже не взглянул на Юльку. — Вы живете в книжках… школьной программы. Может, так удобнее: живи себе в облаках и строй из себя ангела.
— Да, но… — Оля запнулась и виновато посмотрела на нас, словно хотела сказать: я бы прошлась колесом, только бы все улыбнулись, но я не умею…
По шоссе снова с пронзительным ревом пронесся мотоциклист.
— Я бы его поцеловала за это, — с раздражением, словно себе самой, сказала Юлька.
Стас вытащил из заднего кармана техасов ключ на тонкой серебряной цепочке, поиграл им и кинул Юльке.
— Если постараешься, ты его догонишь.
Юлька рывком схватила ключ, словно боялась, что его отнимут, презрительно посмотрела на нас и побежала к мотоциклам.
Все знали, что она еле держит руль.
Витька даже приподнялся на носочки и, гогоча, советовал:
— Упрись нотами в землю. Как почувствуешь, что покатился, беги рядом!
Из травы поднялась Галя, фигурой похожая на спелую грушу, лицо у нее было то ли сонное, то ли мечтательное, и движения плавные, мне иногда кажется, что она не сможет провести рукой прямую линию, у нее обязательно получится изящная дуга.
— Вить, кинь сигарету! — небрежно сказала она, поймала брошенную пачку, заправским движением чиркнула спичку и закурила, затягиваясь глубоко, по-мужски, но не теряя женского обаяния.
— Психопатка, — пренебрежительно заметила Галя, — чего ей надо?.. Чтобы мы встали перед ней на колени, позавидовали ее индивидуальности?..
Едва Витька раскрыл рот, как я молниеносно опередил, выдав его коронный афоризм:
— Завидовать надо курице, она яйца несет.
Витькины влажные губы обиженно выпятились, он не любит, когда его опережают, да еще так нагло! Витька гордился тем, что у него на каждый случай в жизни есть афоризм. Если у вас случится неприятность, он скажет: «Бывает и хуже, но реже», а если вам повезет, он непременно выдаст: «Одним везет, другие везут».
— Слышь, завела! — хлопнул себя по спине Стас, словно я не слышал, как ревет трехсотпятидесятикубовая «Ява».
Юлька выкатила мотоцикл на тропинку, села и выжала сцепление — «Ява» дернулась и покатилась по утрамбованной поверхности.
Гул мотора стал натужным — Юлька поднималась по откосу, мне показалось, что я слышу даже, как похрупывают мелкие камешки под колесом и, выпрыгивая, стукаются о щитки.
Онемев от удивления, мы смотрели на непроницаемую стену кустарника, за которой скрылась Юлька, словно ждали, что кусты вот-вот раздвинутся, и мы увидим ее.
Мотор затарахтел беспорядочно и легко, радуясь удачно взятому подъему. Юлька, видимо, выехала на шоссе и остановилась, может, она думала: ехать или не ехать?.. смотрела на высокую стену кустарника и тоже ничего не видела.
Витька секундной стрелкой прошелся мимо нас и остановился перед Стасом.
— Может, догнать?
— Мне уже не на чем.
— Но почему я?..
— А почему я?..
Витька досадливо сплюнул и пошел по кругу. «Стас дал ей ключи, пускай сам и расхлебывает… А причем Стас? К черту Стаса! Почему я все время должен жить с оглядкой на него?..»
— Послушай, если тебе все равно, я поехал, — замер Витька.
— Я тебе не мама, чтобы у меня разрешения спрашивать! — усмехнулся Стас.
Витька вскипел мгновенно.
Понимая, что это глупо, нелепо, как в плохом фильме про хорошего пионера, я встал между ними, коротко остриженной головой я ощущал их разгоряченное дыхание, будь у меня длинные волосы, они наверняка бы поднимались к макушке, и тогда с чистой совестью можно было бы сказать, что они вставали дыбом.
— Уйди! — прошипел Витька.
— Сгинь! — словно эхо повторил Стас.
— Не мешай! — Витька схватил меня за шиворот и, словно куль с ватой, швырнул в траву.
— Вечно этот очкарик лезет не в свои дела, — поддержал его Стас.
Я долго искал очки в высокой траве, надел их на нос и, увидев, что Стас и Витька вот-вот сцепятся, крикнул:
— Ребята, валяясь на земле, я сделал открытие!
Они недоуменно посмотрели в мою сторону.
— Оказывается, насекомых на Земле гораздо больше, чем людей, — торжествующе улыбаясь, я поднялся и снова встал между ними.
— Дурак! — разочарованно протянул Витька.
— Аналитик. — Стас выразительно крутнул пальцем у виска и, поморщившись, отвернулся.
— Молодец! — восхищенно прошептала Оля.
Пожалуй, она преувеличивала, но, согласитесь, что бы там ни говорили некоторые, а похвалы приятны. Я не возражал. С чувством какой-то несуществующей вины смотрел на Олю и щурился от рези в глазах.
— Нет, это чудовищно!.. Прямо ужас какой-то! Сплошное самолюбие… Ну, чего вы стоите? Ждете, пока она врежется в машину, да? — лицо Гали вспыхнуло от гнева.
Путаясь в траве, она побежала к дороге.
Продираясь сквозь ветки, мы вырвались на шоссе. Оно пустовало. Воздух над ним вибрировал от разгоряченного асфальта, казалось, что вдалеке оно свернулось в трубку, словно засохший листок.
На шоссе было душно и одиноко. Мы стояли кучкой, жались друг к другу, хотя каждому хотелось быть одному. Я просто изнывал от желания вскочить на мотоцикл и, оглушая себя треском, от которого чудом остаются целыми барабанные перепонки, умчаться отсюда, а потом остановиться, расстегнуть ремешок шлема и всеми порами ощутить тишину.
— Скорая! — тревожно выдохнул Витька.
Белое пятно выросло в машину, и она пушечным ядром пролетела мимо.
Всем стало не по себе.
— Какой-то сумасшедший день сегодня… Похоже, что-то случилось. — Галя обеспокоенно посмотрела на Стаса.
— Спроси лучше у Владика, — подавленно ответил тот.
— Что-то случилось? — Галя испуганно посмотрела на меня.
— Ничего нового, — раздраженно ответил я, поймал Олину руку и, почувствовав ее влажные, холодные пальцы, успокоился.
Посреди поля, усыпанного цветами, нас ждали мотоциклы, они добродушно поблескивали фарами, словно любовались друг другом.
Я осмотрелся: приемная была пуста. «Куда же пропала Юлька? Может, она так и не вернулась?..» — рассеянно подумал я, мой взгляд уперся в дверь, обитую черной кожей. «Наверное, она там, — я немного пришел в себя, — а где же претенденты?.. Там? А почему меня не вызвали?.. Какая это все глупость. Господи, до чего дожил…»
Черная дверь бесшумно распахнулась — из нее вышла сияющая Юлька.
— Ты проснулся?
— Я?
— Мне показалось, ты заснул. Ведь это, действительно, скучно: в предбаннике ждать своей карьеры. Ты все тот же, Владик, ироничный и беспощадный к мелочам жизни. Знаешь, я поговорила с Вениамином Михалычем. Для него это — пустяк. Ты получишь то, что хотел, — Юлька виновато улыбнулась.
Значение ее улыбки я понял уже на улице; какая-то липкая испарина покрыла все тело, «…я поговорила с Вениамином Михалычем, — с отвращением вспомнил я и негодующе подумал: — такая же секретарша, как и все!..» Я сунул руку в карман за монеткой, чтобы позвонить Оле, и нащупал какой-то листок, развернул — это была моя служебная характеристика.
«…грамотный, перспективный инженер. Скромен, морально устойчив, пользуется авторитетом у товарищей…» Неужели это — итог? — Я скомкал листок и бросил в урну.
1984
Тогда у него болело горло…
Виктор много раз говорил себе, что главные трудности позади, что с завтрашнего утра, вернее, с сегодняшнего вечера, даже с той вот минуты, как об этом подумал, начинается иная полоса в жизни; до этого он жил взаймы, а завтра раздаст свои долги; просто он устал от нервотрепок, ожиданий и не замечает перемены. После школы он ждал: вот кончится институт, и ему не надо будет с противной самому, принужденной улыбкой просить у матери деньги: «Ма, до стипендии», зная, что вся стипендия уйдет на долги. Антонина Филипповна, щадя его самолюбие, без лишних слов открывала гардероб и доставала из кармана цигейковой шубы трешку или пятерку.
На последнем курсе он женился; через полгода родился ребенок; и цигейковую шубу почти за бесценок срочно продали на толкучке; Антонина Филипповна не умела торговаться, а юной семье требовалась кроватка, пеленки, ползунки; коляску тоже надо было купить чешскую, с коричневым кожаным верхом и тормозом; — все это не лежало на прилавках магазинов; Антонине Филипповне хотелось, чтобы семья ее сына имела все то, что имеют другие семьи, и она щедро переплачивала спекулянтам за дефицитные вещи.
Виктор ничего не успевал; ему казалось, что дни стали раза в четыре короче. Его жена Лида училась в механическом техникуме; она тоже разрывалась между дипломной работой и домашними хлопотами. Ее родители жили в деревне; кроме Лиды, у них были еще две дочери-школьницы; Лидины родители изредка наезжали в гости, привозили то мясо, то яйца, то молоко. Мать Лиды словно бы не замечала их скудной жизни; плотная, крутощекая, она то забавлялась с малышом, то рассказывала забавные истории из деревенской жизни, и первая отрезала себе крупный кусок мяса от только что привезенного окорока или с верхом наливала себе стакан сметаны. Отец Лиды все время молчал, ото всего отказывался и даже чай пил без сахара; хмуро ощупывал потертый пиджак зятя, осматривал его сбившиеся на каблуках ботинки, недовольно гмыкал и как-то, не сдержавшись, обронил:
— Когда у нас народился второй ребенок, я на ночь сторожем на ферму устроился.
— Тогда другое время было, — вступилась за мужа Лида.
И Антонина Филипповна мягко напомнила, что все заботы о молодых она взяла на себя и что Вите нужно окончить институт, а ждать этого часа осталось недолго.
В знак протеста Виктор два дня отказывался есть щи; наваристые, душистые, они были покрыты янтарными звездочками жира; паленая соломой свинина с румяной запекшейся корочкой дала такой аромат, что даже соседи по коммунальной квартире не выдержали и спросили:
— Никак разбогатели, стали мясо на базаре покупать?
Антонина Филипповна не без гордости ответила, что свинину привез сват и что такую «отменную» она ела лет двадцать назад, на свадьбе у сестры, которая жила в кубанской станице; с сожалением посмотрев на дымящуюся кастрюлю, она, извиняясь, добавила, что теперь ей жирное нельзя — проснулась зарубцевавшаяся было язва желудка.
Виктор летал то в школу, где проходил практику, то в магазин, то в молочную кухню за кефиром для малыша, то к Лидиным подругам, у которых выяснял какие-то тонкости расчета зубчатых передач… Он окончательно выдохся и даже не заметил, как Лида налила целую тарелку наваристых щей, и он съел их, торопливо рассказывая про открытый урок, который прошел у него «на ура», про то, как его хвалили на педсовете, и что пятерка по практике ему теперь обеспечена.
Лишь позже, час спустя, Виктор понял: принципиальность его нарушена, и с ногами забился в кресло, стоявшее в темном углу комнаты; а Лида, смеясь, то посылала его в ванную за свежими пеленками, то на кухню за теплой водой; он послушно ходил, опустив голову, и наивно ожидал: вот-вот с ним что-то произойдет, но все попытки разжечь, распалить себя были безуспешны; — после дневной беготни и сытного ужина ему хотелось спать; он так и задремал в старом кресле и проснулся вечером, когда включили телевизор.
Мать и Лида сидели рядышком и о чем-то перешептывались.
Виктор вспомнил, что завтра ему понадобятся пять рублей: вся группа решила «обмыть практику» в кафе; он тихонько вздохнул и успокоил себя тем, что скоро получит диплом и мытарства его кончатся.
После института Виктор взял направление в деревенскую школу; он жаждал самостоятельности; его угнетало полунищенское прозябание на скромную зарплату матери и стипендию. В деревне Виктору посулили квартиру, хорошую учебную нагрузку, да и дочке, постоянно сопливившейся, по советам врачей были нужны свежий воздух и парное молоко, а не лекарства.
Он целых два дня упаковывал вещи и удивился: откуда их так много и неужели они все нужны?
— Витя, Лиду мы выписывать не будем. Вдруг я умру, комната вам останется, — тихо заметила мать.
Виктор с пылу не понял, о чем она говорит; он был полон сил и энергии и даже напевал, что случалось с ним крайне редко. Виктор от рождения был лишен слуха, невероятно фальшивил и стеснялся этого. Когда слова матери дошли до него, он опустил молоток и, закусив гвозди, которые, как заправский плотник, держал во рту, еле справился с приступом щемящей жалости к матери, особенно высохшей и постаревшей за последние месяцы.
— Мама, ну зачем ты?.. — с ласковым полуупреком сказал он и тут же устыдился своего тона, почему-то показавшегося фальшивым.
— Ты, Витя, не собираешься оставаться в деревне. А жизнь есть жизнь. Я тоже когда-то смотрела на все легче. Как не без зависти говорили мне подруги, жила за майором. Не работала. Мы ждали новую квартиру… Потом все переменилось. Я пошла работать… Прошу тебя: сделай все, как я сказала. У меня есть предчувствия. Конечно, прости, что говорю это тебе сейчас, но что поделаешь? Я и так очень долго откладывала этот разговор… — Антонина Филипповна набросила на плечи ажурный шерстяной платок, подаренный много лет назад мужем; она берегла этот платок и доставала его из гардероба только в те минуты, когда ей было очень тяжело.
Мать отошла к окну, и платок на ее плечах, насквозь пронизанный светом, стал похож на золотистый купол одуванчика.
Виктор понял, что мать плачет; у него тоже запрыгали губы, гвозди то и дело просыпались изо рта, молоток попадал то по крышке ящика, то по пальцам; все в Викторе протестовало против того, чтобы именно сейчас, когда он и Лида наконец-то отмучились от зубрежки, от необходимости жить с постоянной оглядкой на родительский карман, хотя уже сами были родителями, чтобы именно теперь надо сделать поправку на то, что мать вскоре может умереть; — все это не укладывалось в его сознании, противоречило всем его мыслям и чувствам; в воображении рисовались картины, как мать приезжает летом к ним в деревню и, отдыхая, бродит по лесу вместе с внучкой, пьет парное молоко…
«Нет, это ужасно! Это кощунственно… именно сейчас, да и не только сейчас!..» — окончательно запутавшись, Виктор с маху ударил молотком по большому пальцу и ойкнул.
— Витя, ты у меня славный и добрый. Может, добрый больше, чем это нужно для благополучной жизни, — мать подошла к нему и, как не раз делала в детстве, взъерошила ему волосы, — может, я сама виновата, что воспитала тебя слишком нежным. Хотя у тебя это было от рождения и мне не хотелось, да я и не решилась бы притупить в тебе это. Но иногда мне хочется, чтобы ты был хватким, деловым. Пока мы здесь живем, у нас уже — четвертые соседи. И они смотрят на свою комнату, как на временное пристанище. Они умеют добиться и квартиры и других благ. И как мне иногда кажется, живут более счастливо, чем мы. Я прошу тебя, сделай все, как я сказала. Ведь у тебя еще долго, а может, и совсем не будет возможности перебраться в город.
В селе дом на главной усадьбе совхоза был не достроен. Виктора и Лиду поселили к Светлане Васильевне, матери-одиночке, как она сама про себя говорила, и даже немного гордилась своим положением. Дом у нее был добротный, просторный; на кухне — балонный газ, отопление — водяное.
— Муж себе другую нашел, а мне дом оставил. Он у меня — плотник. Иногда наезжает в гости! — весело сказала она при знакомстве.
Виктор, по школьным правилам превратившийся в Виктора Павловича, сразу как-то посерьезнел, внутренне подобрался и даже, по шутливому замечанию жены, постарел.
— Ой, зачем вы столько барахла навезли? — небрежно притулившись к дощатой переборке, Светлана Васильевна с невинной бесцеремонностью наблюдала за тем, как Виктор и Лида распаковывали вещи. Располневшая, но еще не до того предела, когда скрадываются упругие линии зрелого тела, она была старше своих постояльцев всего лет на пять, но выглядела, по сравнению с ними, опытной, самостоятельной женщиной.
Светлана Васильевна увидела два новых эмалированных таза — голубой и зеленый и тут же спросила:
— Виктор Павлыч, зачем вам два? Продайте мне один. У нас тазы редко бывают.
Виктор был в состоянии особого душевного подъема; его радовали непривычные хлопоты, каждая пустяковая шутка жены смешила почти до слез; ему казалось, что все вокруг разделяют его радости, одобряют его поведение. Ах, как долго мечтал он о таком вот простом и светлом единении с людьми, лесом, небом… Он давно хотел почувствовать себя частью этого огромного, сложного мироздания.
Переполненный трепетной нежностью и добротой ко всем и вся, Виктор потянулся за голубым тазом, на его взгляд, самым красивым, чтобы торжественно вручить хозяйке дома, но Лида опередила; со словами: «Извините, но я привыкла стирать сразу в двух тазах», — она сложила тазы один в другой и задвинула их под кровать.
Виктор чуть было не вспылил на жену. «Как так можно! Именно сейчас, когда все так прекрасно, пожалеть какой-то таз!.. Может, она поглупела от счастья и уже ничего не соображает?» — он с всепрощающей улыбкой посмотрел на жену, натолкнулся на ее осуждающий взгляд; стушевался и торопливо пообещал хозяйке, что непременно напишет матери и та будет каждую неделю заходить в хозяйственный магазин, где эти тазы выкидывают в конце месяца. Светлана Васильевна поблагодарила и весело улыбнулась:
— Когда приезд обмывать будем? Я и директора школы приглашу.
— Директора?.. да вроде неудобно, — замешкался Виктор и вопросительно посмотрел на жену.
— Неудобно, если не пригласите, — засмеялась Светлана Васильевна, оттолкнулась плечом от переборки и скрылась на своей половине дома. — За водкой до обеда сходите, — уже оттуда донесся ее звенящий голос, — иначе мужики всю разберут. Вчера зарплата была. А водки у нас то ли мало привозят, то ли заведующая припрятывает ее, чтобы вечером с наценкой дома торговать… Не знаю, но водки не хватает.
— Ну и порядочки! Прямо — дикий запад, — с восторгом шепнул Виктор жене.
— Обычные. Кстати, у нашей хозяйки в сенцах висят два новых таза, — укоризненно заметила Лида.
— Так зачем же ей?..
— Про запас.
— Ну и куркулиха!
— В деревне все любят иметь запас на черный день. Кстати, твоя жена — тоже деревенская, — с вызовом, значение которого Виктор понял не сразу, напомнила Лида, — если на твой изысканный вкус здесь не жизнь, а сплошная дикость, то ты ошибаешься. И глубоко. Они тут все, по-своему, раз в десять умнее тебя.
— Лидок, извини, но у меня даже в мыслях не было такого: в лице нашей хозяйки обидеть всех сельских жителей. Просто в тебе взбунтовалось обостренное классовое самолюбие, которым издревле отличались русские землепашцы. — Чтобы еще как-то загладить вину, Виктор покачал коляску, в которой спала дочка; схватил веник, но половина вещей была еще в тюках, и он поставил веник в угол. Лида наблюдала за мужем со снисходительной улыбкой.
— Лидок, я здешних обычаев не знаю. Может, не только директора пригласить, а и завуча?
— И устроить педсовет! Какой ты у меня беспомощный, как говорят в деревне, непутевай! — смягчилась Лида; ей нравилось, если муж в чем-то советовался. — Неужели трудно понять: раз человека приглашают одного, то все делается лишь для него, — в ее голосе зазвучали поучительные нотки, — в деревне так принято.
— Да, порядочки. Средневековье. А вдруг директор — совсем другой человек?
— Раз она предложила, она знает. — Лида многозначительно кивнула в сторону переборки, через которую доносился приглушенный голос хозяйки. Светлана Васильевна негромко напевала:
Скоро осень. За окнами — август. От дождей потемнели цветы. И я знаю, что я тебе нравлюсь, как когда-то мне нравился ты…— В магазин лучше тебе сходить. Я — преподаватель истории. — Виктор нерешительно посмотрел на жену и для большей убедительности добавил: — Зачем лишние разговоры?
— Ладно уж, уговорил. Я и забыла, что ты у меня теперь — учитель.
Антонина Филипповна приехала в гости безо всякого предупреждения. Виктор сразу заметил и желтоватую бледность в ее лице и, главное, какую-то легкость, вернее даже бесплотность в теле, которое уже, видимо, перестало сопротивляться болезни. Но Антонина Филипповна крепилась, ходила по воду на дальний родник, а уже оттуда шла, отдыхая раза четыре, с неполным ведерком; потом шутливо объясняла это «городской изнеженностью».
— Плоха ваша матушка. Плоха!.. восковая почти, — сказала Виктору в магазине родная тетка Светланы Васильевны, и он, не найдясь что ответить, неловко пошутил, что в городе все без воздуха похожи на непропеченный калач.
— Нет, милай, есть бледность от немочи и есть бледная кожа. Кем матушка-то работает? — поинтересовалась тетка Светланы Васильевны.
— В больнице… лаборанткой, — ответил Виктор и удивился: мать прожила почти пятьдесят лет, а занимала должность, на которую берут вчерашних десятиклассниц; раньше он почему-то не замечал такого несоответствия и, понимая, что это глупо, но стараясь придать работе матери какой-то вес, солидно добавил:
— Очень нервное, ответственное дело. Анализ венозной крови мама делает так, что больные даже испугаться не успевают.
— В больнице, значить… Видать, все чужие боли в себя примала. Есть такие, что глянут на больного и всю болезнь в себя примут…
Виктор снисходительно посмотрел на старушку; она погрузилась в какие-то воспоминания и уже забыла о нем. Виктор негромко сказал: «До свидания» и пошел по улице, удивляясь тому, как в деревне каждый факт обрастает таинственными, порой необъяснимыми обстоятельствами; дома он все же заговорил с матерью о здоровье, и она, выждав, когда Лида уйдет, призналась:
— У меня путевка в санаторий была. Я, Витя, затем приехала, чтобы на вас посмотреть. И еще одно неприятное известие привезла: соседи подали заявление, что Лида в квартире не живет. Требуют, чтобы ее лишили прописки. Хотят после моей смерти завладеть всей квартирой. Я понимаю, что им вчетвером в одной комнате тесно, но ведь и нам жить надо.
Виктор сник. Все эти дни он изо всех сил старался изображать счастливого, преуспевающего человека, а теперь понял: мать сразу уловила, что в его жизни не все ладно, и потому оттягивала разговор о квартире; и хотя весь последний год он страстно мечтал о человеке, которому можно было бы поведать о своих горестях, Виктор подавил это желание: открыться матери; он пожалел ее.
А горести в душе накопилось много. Это в первых письмах он восторженно и шутливо описывал деревенскую жизнь, своих учеников и сельских учителей, каждый из которых имел какую-то чудинку. Но в последних письмах Виктор стал сдержаннее; он писал о том, что отказался от квартиры, чтобы не стеснять себя обязательствами перед школой, а ему ее попросту не дали. Тот же директор школы сказал, что «Виктор Павлович — человек временный, и хотя работник он хороший, но для школы лучше иметь менее талантливого, но постоянного педагога».
— У вас по лицу видно, что вы не нашенский и нашенским не станете, — как всегда, с улыбкой сказала ему Светлана Васильевна. Она не обходила вниманием ни главного инженера совхоза, ни директора школы. И тот несколько раз намекал Виктору: «На сладком месте живешь!» Того эти слова коробили, но он охотно прощал их директору, человеку, в общем-то, недалекому и незлобивому. А Светлана Васильевна своих связей не стыдилась и не скрывала их.
— Любая собака ласку любит, а мужик — тем более! — игриво говорила она Виктору, — если я директора школы приласкаю, так он домой довольный придет. Жене спокойнее будет. Вы, Виктор Павлыч, человек умный, должны меня в этом поддерживать. Я ведь без всяких задних мыслей все делаю. Я каждому стремлюсь чем-то помочь. Вот вашу женушку каждый день сливками потчую, а она не полнеет. С чего бы это? — Светлана Васильевна с легким вызовом посмеивалась. — Может, вы ее ласкаете много? Так я тоже не прочь немного похудеть!..
Она работала то уборщицей в клубе, то вдруг попадала в кладовщицы, то в почтальоны. Летом Светлана Васильевна трудилась лишь на своем огороде, возила на базар редиску, клубнику, помидоры.
— Я — мать-одиночка, кто меня посмеет тронуть? — смеялась она и, когда Виктор целыми вечерами сидел над тетрадями и конспектами, а Лида уходила в клуб, где работала заведующей и киномехаником одновременно, брала их дочку на свою половину, и та играла с ее Генкой, краснощеким бутузом.
Светлана Васильевна часто помогала и в хозяйственных делах, а в посевную, когда Лида днем бегала по фермам, по мастерским, где выпускала «боевые листки», а вечерами «крутила кино» в клубе да еще оставалась на танцы и возвращалась домой уже в первом часу, хозяйка готовила им и обед, и ужин; если была в настроении, то в воскресенье рубила курицу и приглашала в гости. Все она делала с такой естественностью, безо всяких сомнений в правильности своего поведения, что часто обескураживала Виктора.
— Почему бы вам, Виктор Павлыч, не заиметь еще одну жену? И Лида мне будет, как сестра родная. И вам разнообразие не помешает, — говорила она таким тоном, словно речь шла о каком-то пустяке.
Виктор пробовал ее остепенить, но Светлана Васильевна в ответ только мило улыбалась:
— Я же не собираюсь разбивать вашу семью. У меня есть Кирзухин. По правде говоря, он один всего нашего совхоза стоит. А с вами я поиграть хочу. Неужто вам неприятно поиграть с такой женщиной, как я?.. — В ее глазах вспыхивали лукавые искорки. И Виктор чувствовал, что теряется; ладони его запотевали, и в горле появлялась сухость.
Однажды он зашел на кухню — Светлана Васильевна стояла у плиты в одном купальном костюме и фартуке.
— Не стесняйтесь, Виктор Павлыч! — засмеялась она, — представьте, что вы на пляже. Я сегодня перетопила. Жарко! — она томно потянулась и тихонько ойкнула, прикрыв груди руками. — Застежка открылась… Виктор Павлыч, помогите, пожалуйста!
— Я что… чем я могу помочь? — он покраснел и окончательно забыл, зачем вышел на кухню; для чего-то зачерпнул воды ковшом в баке, стоявшем на скамейке возле двери, и, не зная, что делать с водой, вылил ее обратно в бак.
— Виктор Павлыч, у меня сейчас молоко закипит, а я руки отнять не могу! — требовательно сказала Светлана Васильевна. — Что вы, как столб, стоите? Неужто раздетой женщины не видели? Да застегните же!..
Он подошел к ней и поймал себя на желании, что ему хочется коснуться ее тела; стараясь этого не делать, он кончиками пальцев взял концы купальника и, тупо соображая, как замкнуть запор, почувствовал дурманящий запах упругой кожи и часто-часто заморгал, словно глаза у него заслезились.
— Витя, ты скоро? — в кухню вошла Лида.
Он даже не услышал ее голоса, а лишь заметил, что под ладонями что-то вздрагивает — Светлана Васильевна смеялась, прижав руки к груди.
— Лида, не подумайте чего плохого. Я попросила застегнуть, а он не умеет. А у меня молоко закипает. Снимите, я сейчас… — она ушла в свою комнату, уже из дверей озорно подмигнула Виктору и отняла руки от груди.
Тот закрыл глаза и очнулся от того, что его левую щеку больно обожгло.
— Что?! Очумел совсем! Уже при мне стал с этой стервой!.. Черт с ним, с ее молоком. Ты ей докипятишь! — зло усмехнулась Лида и убежала в свою комнату.
Виктор услышал шипенье — белая пена вывалилась из кастрюльки и залила газ. Виктор суматошно кинулся к плите, до отказа закрутил вентиль и опустился на стул.
— Ну кто же доверяет молоко мужчинам? — запахивая полы короткого халатика, в кухню впорхнула Светлана Васильевна, взяла Виктора за голову и, повернув его лицо к свету, шутливо ахнула:
— Все пять пальцев отпечатались! Это ж надо, сколько у нее злости. — Она наклонилась к Виктору и поцеловала его в маковку. — Как она в свой клуб уйдет, приходи ко мне…
Виктор почти безвольно освободился от мягких, горячих рук и долго сидел на кухне, обидевшийся, растерянный; вспомнилось студенчество, от которого, как ему казалось, он еще не отошел; вспомнился Новый год в середине четвертого курса; тогда он впервые пошел на вечеринку к любимице курса Лельке Морозовой. Она пела в институтской оперетте, охала и ахала перед экзаменами, но всегда благополучно «выплывала»; вокруг нее постоянно увивались многочисленные поклонники. Избалованная вниманием, она долго не обращала внимания на Виктора, а он искал случая, чтобы остаться наедине с ней и поговорить, поскольку верил, что Лелька не такая уж ветреная, какой себя выставляет; просто ей так удобнее существовать в институте, который она называла «одиннадцатым классом».
Он знал: Лелька пригласила на Новый год всех своих, как она говорила, «выдающихся поклонников», среди них особенно выделялся Игорь Добрынин — звезда институтского баскетбола. Двухметрового роста, неразговорчивый, он в тот вечер сидел в центре стола и постоянно что-то жевал. Лелька танцевала со всеми по очереди. А Виктор после двенадцати, после шумных тостов, вышел на лестничную площадку в одной рубашке и, хотя мороз на улице был под тридцать, стоял, потея от распиравшего жара; ему хотелось уйти, но он боялся попасть в «отвергнутые поклонники».
Дверь за его спиной шумно распахнулась. На перила облокотилась незнакомая девушка в нескладном коричневом платье. С ее шеи свисали простенькие голубые бусы.
— Новый год уже настал, — то ли спросила, то ли сообщила она, слегка покачиваясь и налегая на перила.
— Настал! — насмешливо заметил Виктор, рассматривая ее, остроносенькую, худенькую, кем-то из подружек неумело подстриженную под «гавроша».
— Ты у Маркизы гуляешь?
— У кого? — не понял Виктор.
— У Лельки. У нас во дворе ее Маркизой зовут. А я попала в жуткую компанию. Там сейчас начнется… Оказывается меня специально пригласили… как девочку. Ты понимаешь, как девочку.
— Ну и что? — Виктору было не до чужих болячек.
— А то, что я догадывалась об этом.
— Не ходила бы да и все.
— Что же я, как дура, весь Новый год одна сидеть должна?
Виктор уловил в ее настроении что-то созвучное; он тоже торчал у Лельки лишь ради того, чтобы соблюсти определенный порядок, и с невольно прорвавшимся сочувствием сказал:
— Понимаю.
— Меня сейчас хватятся! — девушка опасливо посмотрела на дверь и сказала Виктору так, словно они давно были знакомы: — Давай удерем от них.
— Если бы можно было куда-то удрать, — усмехнулся Виктор.
— Я этажом ниже живу. У тетки. Она к родственникам ушла. Пойдем, хоть потанцуем по-человечески! — она схватила Виктора за руку и потащила за собой.
Едва они вошли в комнату, как залился звонок. Прильнув к дверному глазку, девушка тихонько засмеялась:
— За мной… Позвонят да уйдут. Ну их!..
Она включила торшер, открыла крышку старенькой радиолы «Сириус», поставила долгоиграющую пластинку из серии «Танцуем без перерыва» и торжественно объявила:
— Новый год начинается!
Разомлевший в тепле, Виктор быстро опьянел; проснувшись с ноющей болью в голове, обнаружил, что лежит на тахте и что с правого бока его что-то пригревает. Он повернул голову и увидел остроносое лицо девушки; она спала и чему-то счастливо улыбалась во сне.
— Где я? — Виктор рывком сел.
Со спинки стула свисала его рубашка и брюки, на полу валялся галстук, а рядом с ним поблескивала мелочь, высыпавшаяся из кармана брюк.
— Ой! — он вздрогнул от неожиданного вскрика и рукой невольно ухватился за уползавшее одеяло.
Закрывшись до самого подбородка, девушка прижалась к спинке тахты и испуганно таращилась на него.
— Ты чего? — растерянно улыбнулся Виктор, трудно припоминая вчерашний вечер, он пальцами потер лоб: — Я не из вашей компании.
— Как же ты попал сюда? — не поверила девушка.
— Да, вроде, ты меня привела… Помнишь, мы на лестнице говорили…
— На лестнице?.. — наморщив невысокий лобик, девушка посмотрела в дальний угол комнаты, — на лестнице…
— Ага, — весело подтвердил Виктор; его уже забавляло все происшедшее с ним в эту новогоднюю ночь. Он первый раз в жизни попал в настоящую любовную историю, да еще на глазах у сокурсников!.. По тиканью он нашел на стене часы. Их стрелки показывали половину двенадцатого. «Заявлюсь… под Новый год!» — потягиваясь, подумал он.
— Как тебя зовут? — тихо спросила девушка.
— Виктором. А тебя? — он чуть было не рассмеялся, поскольку все происшедшее, и правда, напоминало водевиль.
— Лида.
В прихожей что-то щелкнуло, хлопнула дверь, и через всю комнату, наискосок, протянулась желтая полоска света.
— Тетя!.. Тетка пришла! — сдавленно прошептала Лида.
Виктор сорвался с тахты, и прыгая на одной ноге и вытряхивая из кармана оставшуюся мелочь, которая с жалобным звоном раскатывалась по полу, стал лихорадочно натягивать брюки.
Когда тетя, крупная, спокойная женщина, вошла в комнату, он уже завязывал галстук. Тетя сразу поняла, что произошло, и приказала:
— Иди в ванную, умойся. Она тебе все лицо тушью перемазала.
— Я сейчас… — Виктор, взъерошенный, босой, с наполовину заправленной рубашкой, был жалок и смешон.
— На, тапки надень. Еще застудишься, хахаль!
— Спасибо, — как-то неловко поблагодарил Виктор и пошел на желтоватый свет в прихожую.
— Не туда! — сильные руки развернули его и втолкнули в темную, сыроватую ванную, пахнущую «земляничным» мылом. Щелкнул выключатель, и вспыхнул яркий свет. «Ну и попал… Да-а, попал!» — тоскливо подумал Виктор и заглянул в зеркальце; на него смотрело бледное, осунувшееся, все в черных и синих разводах лицо.
— Ты думала о чем-нибудь, стерва? — донесся в приоткрытую дверь голос тети. — Ишь, захотелось ей?!. Он наковырял да ушел. А вдруг ребеночек будет?
«Ребеночек?.. при чем тут ребеночек?..» — лицо Виктора жарко вспыхнуло и, пытаясь сбить этот жар стыда и страха, он сунул голову в раковину и, фыркая, плескался под ледяной струей до тех пор, пока лицо не заныло от холода.
— Все матери напишу!.. Пусть забирает… И в кого ты такая блудливая уродилась? Одевайся, чего ты передо мной сиськами трясешь? — тетя притопнула так, что на кухне зазвенела посуда.
Виктор трясущейся рукой завернул кран, прикрыл дверь, но едва отнял руку, как она с тоненьким скрипом, похожим на мышиный писк, снова приоткрылась. «Бежать! Бежать!» Он высунул голову и осмотрелся; ботинки стояли под вешалкой. Они были расшнурованы и словно ожидали его; понимая, что подло, низко оставлять Лиду в такой момент одну, что он должен как-то все сгладить, как-то защитить ее, Виктор нырнул в прихожую, сунул ноги в ботинки и дернул ручку двери.
«Запор… по часовой стрелке… может, наоборот?» — он судорожно дергал то один рычажок, то другой. Они щелкали, но дверь не открывалась.
— Ты куда? — в коридоре вспыхнул свет. — Ишь, напакостил, а теперь бежит. Иди в залу!
Виктор повиновался жесткому голосу. Он застыл посреди комнаты, не решаясь поднять голову и посмотреть на Лиду. Она сидела на собранной, покрытой синим пледом тахте и смотрела на него так, словно боялась, что он исчезнет, а она не запомнит его лица, и мучилась тем, что не видит его, и немного приопускала голову, пытаясь заглянуть в него, но сделать это мешали гребнем нависшие длинные волосы Виктора.
— Ты откуда взялся? Я что-то одежонки твоей не вижу? — спросила из прихожей тетя.
— Он тут… — вскочила с тахты Лида.
— Не тебя спрашивают! — обрезала ее тетя.
Виктор понял, что этой сильной, самоуверенной женщине ничего не стоит пойти сейчас к Лельке и тогда… «Лучше умереть, чем окунуться в такой позор!» — чудовищный, жуткий стыд отрезвил его, и с непривычной, но вдруг какой-то обнадеживающей наглостью он, не оборачиваясь, спросил:
— Что вам от меня надо?
Лида испуганно отшатнулась от него.
— Что-что?.. — по-мужски заложив руки за спину, тетя вышла из прихожей.
— Что вам от меня надо?! — еще тверже и громче повторил Виктор, уже еле сдерживаясь от клокотавшей ненависти к этой женщине, к Лиде и ко всему, что случилось с ним в эту ночь.
— Ой! — Лида потерянно опустилась на тахту и со смешанным чувством страха и восторга посмотрела на Виктора. «Ты мне лишь один раз понравился до конца, когда ты разговаривал с тетей. В тебе тогда проснулся настоящий мужчина. Я тогда готова была упасть перед тобой на колени, только бы ты не ушел», — позже призналась она ему. А Виктор старался вычеркнуть этот эпизод из памяти, ставший, как это было ни странно, началом нового этапа в его жизни.
Наткнувшись на отчаянное сопротивление, Лидина тетя, многое повидавшая на своем веку, сразу притихла и осторожно заметила:
— Что мы все ругаемся? Давайте лучше чайку, что ли, выпьем.
Виктор посмотрел на Лиду. Эта худенькая девочка с фиолетовыми кругами под глазами не была для него еще никем; все, что произошло между ними, не помнилось, хотя он знал, что это было, но само знание о происшедшем не вызывало никаких чувств, и он думал, что и у Лиды все так же, что они остались чужими друг другу и что весь этот маскарад с чаепитием устраивается больше для тети.
— Родители знают, где ты? Беспокоятся, поди, — шумно дуя на блюдечко с чаем, спросила тетя.
— Мама знает, что я… — Виктор не договорил, вспомнил о сокурсниках и ужаснулся тому, что они, наверное, переполошились. Он же исчез внезапно, в такой мороз… «Ах, как глупо все получилось», — обжегшись чаем, Виктор поперхнулся и, сдерживая кашель, весь напрягся до слез и пересилил себя.
— Одна мать, значит, — словно для себя самой, тихо произнесла Лидина тетя и, заметно потеплев, придвинула Виктору тарелку с печеньем. Он посмотрел на желтоватые квадратики с зубчатыми краями, автоматически прочитал «привет» и, словно споткнувшись об это случайное слово, встревожился еще больше. «Вдруг к маме побегут?» — крупными глотками, обжигаясь, он допил чай и, стараясь выглядеть спокойным, сказал:
— Спасибо. Но мне, знаете ли, пора. Мама знает, что я ушел надолго, но все равно будет беспокоиться.
— Верно, — согласилась Лидина тетя и ожидающе посмотрела на племянницу, молчание которой настораживало ее.
— Ты вечером заходи, — смущенно проговорила Лида, — может, в кино сходим.
— Ладно, — тоже смущаясь, пообещал Виктор.
Едва за ним захлопнулась дверь, он облегченно вздохнул и почти весь скрылся в клубе морозного воздуха; запотевший после чая, он тут же стал замерзать и, оттолкнувшись от перил, резко влетел на третий этаж; оправил пиджак и нажал кнопку звонка.
Дверь открыл двухметровый Игорь Добрынин. Ничего не говоря, он взял Виктора за воротник и, словно проштрафившегося школьника, ввел в комнату.
Чувствуя на себе завистливые взгляды приятелей, Виктор приободрился. Все уселись за стол и до самого вечера разговоры шли с поправкой на него, его подкалывали, а он играл роль этакого удачливого повесы, нему нравилась эта непривычная роль. Захмелев, все кинулись танцевать; в комнату ввалилась компания параллельной группы, праздновавшая Новый год в соседнем доме. Незаметно Виктора вытеснили на кухню.
Около окна стояла Лелька в нежно-голубом платье.
— Ты? — словно не узнала, спросила она.
— Я, — уловив в ее голосе что-то настораживающее, он выпрямился.
— Не думала, что ты такой! Ты всегда казался мне чистым и светлым. Я считала, что мизинца твоего не стою. Даже боялась тебя… А теперь поняла, что ты такой же, как и все. Что ты лишь искусно играл под другого…
Виктор хотел было что-то сказать в свое оправдание, объяснить, что, все произошло случайно, но Лелька говорила и говорила сбивчиво, зло. И когда она внезапно замолкла, устыдившись своей откровенности, Виктор, подавленный, разбитый окончательно, тихо обронил:
— Леля, ты же знаешь, что я люблю тебя. Только тебя…
— Хам! — гордо вскинув голову, она обошла его, как обходят свежеокрашенный столб, и вышла из кухни.
Виктор очнулся от громкого стука. Растаяв в клубе морозного воздуха, Лида скрылась в полумраке коридора. «В клуб пошла», — автоматически отметил он и подумал, что все крупные неприятности у него почему-то случаются на кухне. «Ирония судьбы!» — усмехнулся Виктор и, вспомнив про случай со щами, обнаружил, что голоден и придвинул табуретку к столу.
— Папа! — из дверей выползла дочка.
— Иди к себе… там играй, — понуро отозвался Виктор.
В кухню вошла Светлана Васильевна, легко подняла девочку и унесла ее на свою половину; вернулась к Виктору и потянула его за руку — он подчинился, а когда на следующий день отказался прийти в ее спальню, она рассмеялась:
— Смотрите, Виктор Павлыч, я Лиде расскажу…
Проклиная себя и свою нескладную судьбу и не зная, как выйти из щекотливого положения, он каждую неделю бывал у Светланы Васильевны и часто ловил себя на мысли, что как бы ни ругал себя, как бы ни были велики его угрызения, все же его тянет на другую половину дома. Фантазируя, он даже пробовал представить Светлану Васильевну своей женой, но та не признавала никаких обязательств, и потому семьи не получалось, а Виктор тяготел к чему-то прочному, основательному.
«Какой ты маленький у меня, прямо — ребенок, — лаская, говорила ему Светлана Васильевна, — и ты мне таким нравишься. С тобой поэтому жить, наверное, тяжело. А вот с Кирзухиным легко. Кирзухин на все смотрит иначе…»
Слыша про Кирзухина, Виктор, заранее его возненавидевший, замолкал и отворачивался.
«Ну, не буду о Кирзухине, не буду, — смеялась Светлана Васильевна, — к нему нельзя ревновать, потому что он — Кирзухин… Все, все, кончаю о нем».
Лида после ссоры с Виктором почти не разговаривала; размолвки случались и раньше, но тогда они оба уже через какой-то час искали зацепку, чтобы все вернуть в прежнее русло; теперь же Лида вела себя так, словно все ей было глубоко безразлично, и это, как чувствовал Виктор и что пугало его больше всего, не было игрой.
В субботу, после первого урока, его вызвал к себе директор школы. Он с настораживающей тщательностью прикрыл дверь и, в упор глядя на Виктора, сказал:
— Слушай, Виктор Павлыч, я уж тебе без разных подходов, напрямик. Как мужчина мужчине скажу: твоя жена погуливает с нашим зоотехником.
— Как?.. — Виктор ошарашенно опустился на стул.
— Очень просто: откроет клуб, а сама уходит с ним часика на два…
— Не может быть!.. Лида!.. Это наговоры.
— Ну пусть так, — миролюбиво согласился директор, — ты уж, Виктор Павлыч, будь добр, прекрати их. В деревне живешь. Тут все на виду. А ты — учитель. С тебя спрос выше.
Виктор и вечером и в воскресенье утром пробовал заговорить с Лидой, пытался намекнуть ей, что она «ведет себя не совсем правильно», но жена отмалчивалась.
— Уже вся деревня говорит о том, что ты имеешь какие-то странные отношения с зоотехником! — сорвался Виктор.
— Плевать мне на всех! — криво усмехнулась Лида.
— Ну, знаешь!.. — Виктор даже поперхнулся от неожиданности.
— Мне надоело. Понимаешь, н а д о е л о!.. Я окончила механический техникум, а тут превратилась в уборщицу и киномеханика по совместительству. Ты вечно торчишь в школе. Даешь ученикам какие-то сверхпрограммные задания. Они у тебя пишут рефераты. Ты их словно в академики готовишь. В роно тебя хвалят, а в деревне над тобой посмеиваются. Не понимают твоих благих намерений!.. И если ты своей дурацкой тягой делать больше, чем тебе позволяет зарплата, метишь в деревенские сумасшедшие, то меня к этому не примешивай!
— Разве я так уж много делаю? — как Виктор ни вымучивал из себя раздражение, на него нашла апатия.
— В каждую дырку лезешь. А другие учителя тебя похваливают, а за глаза посмеиваются. Мне все это надоело. Мне хочется своей квартиры, спокойной размеренной жизни. Ты можешь мне ее дать?
— Мне кажется.
— Катись ты со своим «кажется»! — Лида резко оборвала мужа. — Я хочу того, что имеют другие, что я обязана иметь. Кстати, он работает вдвое меньше тебя, но получает почти втрое больше. Имеет отдельную двухкомнатную квартиру и «Жигули». И давай кончим этот разговор. Ты живи со своей… а я буду отводить душу так, как мне хочется.
Мать многое поняла в тот первый и последний приезд. Виктор смотрел на ее тонкие, почти прозрачные в запястьях руки; вроде совсем недавно они его гладили, качали… «Как много прошло времени, как ужасно много!» — почти с отчаянием думал он и страдал от сознания того, что еще ничем не порадовал мать и что еще было страшнее — редко вспоминал о ней в последние годы, погруженный в свои заботы и тревоги.
— Витя, ты уж извини, наверное, на меня что-то нашло, — мать грустно и светло улыбнулась, — я перечитывала твои школьные сочинения. Они лежат в гардеробе, среди моих вещей. Я перебирала их и нашла…
— Не надо, мама! — умоляюще посмотрел на нее Виктор. — Я знаю, что мельчаю, тупею, наверное… То пытаюсь вырваться из этой суеты, то тону в ней. Но страх заставляет опять выкарабкиваться наружу…
— Витя, что ты, Витя! У тебя просто скверное настроение, — мать поспешно потянулась к голове, словно собиралась поправить съехавшую набок прическу; в эту минуту ей хотелось, чтобы сын, как прежде, доверчиво прижался к ней и замер, а она бы развеяла все его обиды, — так часто бывало в детстве; потом они садились за стол и вместе мечтали: куда поедут летом?.. Прикинув, что на юг денег не хватит, они, хотя им давно уже надоела деревенька со странным, многообещающим названием Большая Еловая, хотя в округе на пять километров ни одной ели не росло, весело говорили: «Поедем к родне». В Большой Еловой жил двоюродный брат матери.
Находясь в плену нахлынувших воспоминаний, Виктор порывисто повернулся к матери и тут же понял, что если даст волю чувствам, то уж не остановится, расскажет обо всем и этим окончательно расстроит ее, и без того измотанную болезнью.
— Ты, Витя, не жалей меня, — словно читая его мысли, тихо попросила его мать, — мне жить недолго осталось. Я много лет работаю в больнице. Последний анализ взяла у себя две недели назад. Даже не стала показывать врачу. Зачем заставлять людей говорить неправду из сострадания… Ты счастлив, Витя?
— У меня все хорошо. Есть, правда, некоторые неприятности, но у кого их нет. Все перемелется! — искренне веря в то, что говорил, ободряюще улыбнулся Виктор; в какое-то мгновение он понял, что все его беды — ничто по сравнению с бедой матери, и что сейчас она, да и всю жизнь, несмотря на свой мягкий характер, ведет себя более мужественно, более сдержанно, чем он.
— Ты, Витя, сам знаешь, что у меня в жизни единственная радость — твой успех и твое благополучие. Конечно, вам с Лидой сейчас туговато приходится. Вы молодые, хочется погулять, а тут ребенок. И я, старая перечница, ничем помочь не могу. Но в жизни есть много и других радостей. Мы их просто не замечаем. Нам всегда хочется чего-то другого… Извини, что я говорю с тобой поучительно. — Мать привстала и робко погладила его руку. — Мной руководит желание твоего счастья. Мне иногда хочется поговорить с Лидой о тебе. Хочется рассказать ей, как мы с тобой жили, как непросто нам все давалось. И она, я уверена, многое бы в тебе поняла и увидела по-другому. Но я, честно говоря, опасаюсь говорить с Лидой о тебе. Мне кажется, она может истолковать это как вмешательство в вашу жизнь. А я не хочу, чтобы между вами пала тень недоверия.
— Спасибо, мама, у нас и так все нормально, — зная, что мать уже не верит в его благополучие, сказал Виктор и отвел глаза.
— В последнее время только и слышишь: «живу нормально», «дела идут нормально». Не хорошо, не плохо, а нормально, — мать с грустью посмотрела на Виктора, — у людей появилась какая-то подозрительная уверенность в том, что они открыли секрет «золотой середины»… Витя, я тебя прошу, сегодня же поговори с Лидой. Ей необходимо поехать со мной.
— Мама, может…
— Нет, Витя, есть вещи непоправимые, — мать еле заметно качнула головой, — квартиру у нас могут отвоевать. Или ты собираешься жить здесь?
— Нет! Ни в коем случае! — уже коря себя за горячность, с какой он выкрикнул «нет!», Виктор виновато посмотрел на мать и по ее усталым, глубоко запавшим глазам понял: она получила новое подтверждение его личной неустроенности.
С того дня прошло больше года. Мать умерла через три месяца после приезда. Виктор прямо с урока убежал на автобус и только к вечеру попал домой. Гроб был обит зеленым плюшем. Лида ходила по комнате тихая, в черном платье, и Виктора удивило: откуда оно у нее?
Он сел к окну и, повторяя про себя: «Вот и все, вот и все…», как-то бесцельно стал рассматривать двор, каждый уголок которого был ему знаком.
Там, где сейчас стоял бордовый гараж инвалида Михалыча, раньше возвышалась поленница; дрова обычно привозили в октябре, после первых заморозков; жильцы тут же раскладывали бревна на кучки или, как говорил Михалыч, на кубы, и каждый пилил свою долю.
Виктор выходил во двор с матерью и, потея, сопя носом, таскал за ручку с каждой минутой тяжелевшую пилу, с завистью посматривал на мальчишек, палками гонявших баночку из-под гуталина, заменявшую шайбу.
Но зато какой великой гордостью наполнялось его сердце, когда в ответ на «бог в помочь!» мать говорила «Спасибо. Вот, мужичок у меня подрос. Вдвоем все легче». И тот же колченогий Михалыч, не раз взашей гонявший его со двора, одобрительно скрипел: «Баба без мужика пропадет — закон природы, — глаза Михалыча увлажнялись, — эх, мать твою, куплю бензопилу и буду дрова на весь двор пилить. Эх, мать твою, только деньгами разживусь!..»
Михалыч от вдохновения розовел лицом, и Виктору верилось, что к следующей осени тот непременно купит бензопилу, но время шло, а Михалыч исправно пропивал пенсию и вечерами пел в своей комнатке протяжные партизанские песни. Шесть лет назад ему бесплатно выдали «Запорожец» с ручным управлением, как инвалиду войны, и теперь Михалыч с утра направлялся на автовокзал и развозил пассажиров, а потом уже не пел, а только матерился и орал на мальчишек: «Не подходь к машине, казенная!..»
— Витя, в магазин за хлебом сходи.
— Что? — Виктор непонимающе посмотрел на жену.
— В магазин за хлебом сходи. Придут ее сослуживцы. Боюсь, хлеба у нас не хватит, — тихо пояснила Лида.
— Я сейчас, — Виктор на цыпочках, словно боялся нарушить покой матери, прошел к двери.
— Деньги возьми и сетку! — уже на лестнице догнала его жена.
Похороны прошли тихо. Из лаборатории, в которой работала мать, пришли четыре женщины, собрались жильцы, какие-то дальние родственники; не было только соседей. Они в тот день даже на кухне не появлялись; похоже было, что куда-то ушли.
Через три дня Виктор направился в милицию оформлять свою прописку, но ему отказали; оказалось, что соседи подали в суд. В длинном заявлении на нескольких страницах они с завидной дотошностью описали почти всю его жизнь. По их словам получалось, что женился он по необходимости, поскольку Лида была беременна, что после института поехал в деревню «за длинным рублем», потому он, Виктор, «глубоко аморальный тип», который постоянно нарушает законы нашего общества. Соседи не стеснялись ни громких слов, ни откровенной лжи; по стилю Виктор чувствовал, что многие абзацы в заявлении списаны с газетных передовиц, но это его не удивляло; после смерти матери он впал в состояние глубокой подавленности; ему казалось, что впервые в жизни столкнулся с подлинным человеческим несчастьем; автоматически, без тени раздражения он все же нашел в заявлении соседей проблески правды; — не забеременей Лида, вряд ли бы он на ней женился; тогда Виктор легко примирил себя с этим, подумав: «В случае чего, дело это вполне поправимое». Он не горел желанием ехать после института в деревню, но нужны были деньги и отдельный угол. «Все эти несоответствия временны», — говорил он себе.
После смерти матери ему щемяще захотелось побыть одному и как-то определить, а что же в его жизни не временное? «Потом, потом… Боль отойдет, тогда…» — монотонно вышагивая по комнате, успокаивал он себя.
Во всеоружии к суду готовилась только Лида. Она сходила в пединститут и взяла на Виктора характеристику, написала в деревню директору школы. Тот через неделю прислал пространное письмо, заверенное гербовой печатью.
«Виктор Павлыч, — писал директор, — поднял преподавание истории в нашей школе на новый уровень. Перед тем, как уйти, он подготовил в лице Н. Н. Заварзиной, работавшей вожатой, достойную замену. Поэтому коллектив школы принял его уход как закономерный шаг. Таким талантливым педагогам, как Виктор Павлович, прямая дорога в аспирантуру».
На отдельном листке бумаги директор размашисто приписал:
«На суде веди себя понаглее. Добивайся своего. К нам тебя не вернут, т. к. все места заняты. Надумаешь в гости, приезжай. Порыбалим, поговорим».
На судах, а их было два, зачитывали разные документы, и Виктор становился то образцовым учителем и семьянином, то «аферистом высшей марки и подонком»; в пылу соседи даже потребовали лишить его диплома, и было совершенно непонятно: откуда у этих тихих, в общем-то миролюбивых людей, приехавших из деревни, столько ненависти к нему?.. Когда-то он с матерью ходил к ним «на чай», а они приходили «на телевизор». Мать ставила их многочисленную, работящую семью в пример себе и Виктору и всегда говорила: «У тех, кто любит трудиться, душа светлая». Теперь же соседи обливали его грязью, не обходили стороной и мать, но, вопреки их стараниям, и второе решение суда было в пользу Виктора. Тогда они стали писать письма в разные инстанции; Виктора снова вызывали, с ним беседовали…
Он приходил домой и подолгу сидел на диване, смотрел в одну точку; когда жена просила принести что-либо из кухни, Виктор доходил до двери и возвращался; ему было противно встречаться с соседями, которые, проиграв дело в суде, вели себя так, словно ничего и не было. «Да, придется подождать еще годика три, пока очередь подойдет, хотя эта старая квартира — добротная. Она нам лучше бы сгодилась!» — говорили они жильцам.
Виктор ходил по роно, по знакомым в поисках работы. Школы все были укомплектованы, в одной, правда, предлагали место преподавателя труда, но он отказался, хотя позднее пожалел об этом. Лида, как она говорила, «имея солидный опыт культмассовой работы», устроилась воспитательницей в детский сад. Это было удобно со всех сторон: дочь всегда сыта и под присмотром.
— Ты теперь нам не очень-то и нужен! — с легкой насмешкой говорила Лида мужу.
А он, еще не оправившийся от несчастья, еще не свыкшийся с тем, что матери больше нет, но, главное, с тем, что он ее так ничем особенным и не порадовал, и это было так несправедливо, так противоречило всем его мыслям и чувствам, что он уже проникся ненавистью к себе, но еще не переступил ту грань, когда свыкаются с этим грузом и, подведя черту, записывают себя в неудачники.
После всех мытарств Виктор пошел к Игорю Добрынину; тот заведовал сектором социологии в научно-исследовательском институте; Игорь пристроил его лаборантом.
— Дед, если потянешь, место освободится, тебя сразу на другую ставку перекинут. Я тоже с лаборанта начинал, — обнадеживающе заверил Добрынин, — правда, мне баскет помогает. Я до сих пор играю. Это, дед, как на спорт ни ополчаются, он тоже зачитывается. И пусть, дед, тебя не смущает, что ты — один из лучших студентов курса — будешь ходить в лаборантах у меня, заядлого троечника. Просто я пошел по этой лесенке чуточку раньше.
— Знаешь, Добрыня, меня сейчас трудно удивить, — глухо сказал Виктор.
— Ты устал? Отдохнешь, осмотришься и двинешь в гору! — засмеялся Игорь, уже отвыкший от институтского прозвища. — Кстати, наша Леля не замужем. Она слишком умна для этого. Мы с ней друзья. Иногда спим вместе… — Добрынин долгим пристальным взглядом прошелся по лицу Виктора, но не увидел той реакции, какой бы ему хотелось (тот пропустил его слова мимо ушей), и разочарованно заметил:
— Она здесь бывает. Заходит поболтать… Посмотришь, совсем другой стала. По-моему, в ней что-то надломилось после тебя.
— У меня с ней ничего не было.
— Может, у нее к тебе что-то было.
— У кого этого не было!.. — с каким-то странным звуком, похожим на всхлип, хихикнул Виктор и, не заметив насмешливой улыбки Игоря, задумчиво добавил: — Я не первый раз слышу, что приношу несчастья. Мне и жена постоянно напоминает об этом. Но все это происходит как-то помимо меня, — он нервно побарабанил пальцами по крышке стола и тихо спросил: — Ты доволен собой?
— Как тебе сказать?.. — кокетничая, Игорь покачался на стуле, — пока — да. Но через год я буду претендовать на место заместителя заведующего лабораторией и буду недоволен собой, пока не добьюсь его. Кстати, ты лучше поймешь меня, когда познакомишься с обитателями нашего института. Мой шеф — абсолютный дуб. Поднаторел в устраивании служебных отношений. Но я так думаю, что выбью его. Тогда, дед, мой пост займет другой, а ты встанешь на его место. Что?.. нагнал на тебя тоску?
— Слушай, Добрыня, я тебя не узнаю, ты в институте букой был, — вспомнил Виктор и как-то по-иному увидел Игоря, одетого в модный кримпленовый костюм; волосы у Добрынина были длинные, но в меру, он даже улыбался как-то подчеркнуто открыто, как на рекламной фотографии.
— Как ты изменился, Добрыня!
— Все мы меняемся. Нельзя в одну реки войти дважды. Кстати, Леля у тебя отболела?
— Не знаю. Мне все эти годы было не до таких тонкостей, — печально усмехнулся Виктор.
— Ладно. Что мы все с тобой о болячках да о болячках, давай-ка лучше я введу тебя в жизнь нашей лаборатории, дам тебе се социально-психологический портрет, чтобы ты сразу мог прогнозировать: от кого какую бяку ожидать…
Работа лаборанта сначала показалась Виктору пустяшной, да такой она и была; неприятно раздражало одно: по образованию и по развитию он был не только равен своим начальникам, но и превосходил их, но должен был выполнять мелкие, а порой и глупые поручения, и самая его большая ошибка была в том, что он частенько давал им почувствовать свое внутреннее превосходство. Они исподволь, а иногда, пользуясь своим положением, открыто сводили счеты. Если требовалось разгрузить машину или перенести столы из одной лаборатории в другую, то на весь коридор кто-нибудь кричал:
— Где там лаборант? Ящики таскать некому!
Виктор натягивал старые брюки, брал брезентовые рукавицы и шел во двор разгружать машину. В эти минуты он искренне завидовал Кирзухину и, как ему казалось, понимал его не только умом, но и сердцем. Они познакомились весной. В обед Светлана Васильевна торжественно сообщила:
— Кирзухин письмецо прислал. Скоро в гости прибудет!
Виктору показалось странным, что этот шабашник, в его представлении человек, одержимый неимоверной страстью к деньгам, пишет кому-то письма.
— Между прочим, Кирзухин не только работает за десятерых, он еще и поэт. — Светлана Васильевна достала из кармана фартука листок бумаги и, найдя нужное место, прочла:
— «Милая Света, дошел в тоске по тебе до точки. Все есть, а тебя нет. Все бросаю и еду…» Вот так-то, Виктор Павлыч, мой Кирзухин пишет. Тут любая растает!
Кирзухин приехал поздно ночью. Утром вместо краснощекого здоровяка Виктор увидел на кухне поджарого мужчину лет сорока пяти. Он сидел за столом в белой рубашке, широко распахнутой на груди и, мизинцем придерживая ложечку с витой ручкой, неспешно потягивал чай из тонкого стакана. Кирзухин с интересом посмотрел на Виктора и тихо предложил:
— Прошу к столу.
— Извините, но у меня что-то горло болит.
— Чайку для настроения не помешает.
— Это можно, — осторожно согласился Виктор и присел.
Кирзухин достал из шкафа чашку и подвинул ее Виктору.
— Наливайте сами, как душе угодно. А вот горло надо лечить, надо.
— У меня с детства такое, вот и дочери передалось.
— С таким горлом чуть пошибче крикнешь, голос садится. Выходит, что его во всей красе никто не слышит, да это еще полбеды, а сам-то свой голос не знаешь, и все шепчешь или под нос бормочешь… Света говорила, что вы учительствуете. Трудновато, поди? — он, потирая длинными тонкими пальцами морщинистую щеку, задумался. — Нынче никто не любит, чтобы его учили. Вот я в ваших глазах, поди, дремучий мужик. Шабашник. А я вам начистоту скажу: вам отдельный угол нужен? Нужен. Одежонка?.. Нужна. — Кирзухин стал загибать пальцы, пока не стиснул кулак. — Пока у вас всего этого нету, вы как эти пять пальцев согнуты, распрямиться хотите, а не можете. Не подумайте, что обидеть вас хочу или самолюбие пощекотать, у меня и в мыслях этого нету. Просто приучаю себя видеть жизнь такой, какая она есть.
— Понимаю, о чем вы… Но, знаете, себя не переделаешь, — уклончиво ответил Виктор; заранее возникшее чувство неприязни к Кирзухину почему-то не напоминало о себе, и он, уже вымучивая из себя раздражение, добавил: — Как говорится, не хлебом единым!
— Красиво сказано и верно. Но Лев Николаевич, этот великий мудрец, любил повторять: «Стал сыт, познал и стыд». Я ему больше верю.
— Знаете, мировоззрение Толстого очень противоречиво, — уже осторожнее заметил Виктор, исподволь осматривая Кирзухина; было в нем, в его неторопких, основательных движениях что-то завораживающее; говорил он с чувством невыпячиваемого достоинства, словно каждая фраза, каждое слово были им десятки раз обдуманы и выверены.
— Я что-то на своем веку людей без противоречий не видел. И так думаю, что чем масштабнее человек, тем и противоречия в нем крупнее. Только в малых людях они мельче отражаются, поэтому Толстой мне не опасен. Да и тертый я жизнью, шибко тертый. Я в молодости покуролесил, шибко покуролесил. После строительного техникума работал прорабом, инженером, начальником участка… С людьми лаялся почище кобеля цепного, и все одно удовлетворения от своих «достижений» не чувствовал. Потом переборол в себе тягу к начальничеству (липкая это вещь) и пошел плотничать. Сначала часок-другой топором помахаю и выдохнусь. Я же из городских, здоровьем не шибко крепок был, да, не шибко. А потом так втянулся, что по десять часов со сруба не слезаю. Сделаешь дом, посмотришь — душа радуется! И работа мне в удовольствие идет. Никто тебя не торопит, а работаешь так, словно за тобой семеро бегут. Правда, я привык все на совесть делать. Сейчас отбоя от заказчиков нет. Везде приглашают, везде зовут. Некоторые, конечно, недовольство имеют: дорого беру. Но я так думаю, что моя работа стоит этого. За мной переделывать и доделывать не надо, и сроки я гарантирую. Умру, но сделаю. И то что строители по нормам сварганят за год, я с артелью сработаю за четыре месяца. Я так считаю, что талантливому человеку надо простор дать. Талантливый любит работать с размахом. Без размаха талантливый человек чахнет, смердит, ноет. На других кидается… У меня такое было. И если учесть, что каждый человек в чем-то талантлив, то, чуешь, какая штука получается!.. Да, брат, вот я и говорю, что учительствовать нынче трудно.
— К чему вы это? Я тут особой связи не вижу. — Виктор пристально посмотрел на Кирзухина.
Тот подул на чай и беззвучно рассмеялся:
— Да так, к слову я… Света! — крикнул он, — принеси печенье овсяное. Лучше печенья к чаю нет, — улыбнулся он Виктору.
В кухню вплыла Светлана Васильевна в голубой ажурной кофточке; пышно причесанная, она так и светилась нежностью и лаской. Глядя на нее, Виктор забыл про чай.
— Угощайтесь, Виктор Павлыч, — она погладила Кирзухина по голове, — в город сегодня поедем?
— Завтра. С утречка. Заодно и жену проведаем, — заметив, как удивленно отвисла нижняя губа у Виктора, Кирзухин легким шлепком отправил Светлану Васильевну в комнату и охотно пояснил:
— Есть у меня жена в городе. Дочери уже двадцать лет. Есть еще одна женщина в Липецкой области. С ней я два года жил. Дом ей построил, но, в первый раз обжегшись, детей не завел. А женщина очень красивая. Света против нее — баба деревенская. Но вот сердцем чувствовал, что Света родит мне сына, что ребенок от нее мне нужен. Хотя она очень баловливая. С тобой вот миловалась, да ты не смущайся!.. Она сама все рассказала. Я не ревнивый. В случае чего, сына себе возьму. Я его выращу так, чтобы не повторял отцовских ошибок, а сразу брал быка за рога и смотрел на жизнь без сказочек. Хочу, чтобы он большего достиг. И я его таким выращу. Жена поможет. Они со Светой как две подруги живут. Редко такое между женщинами бывает, особенно если одного любят… Может, жена теперь вину чувствует? Да, это есть, но не оно главное… — Кирзухин, задумавшись, отодвинул чашечку с чаем и, сведя локти вместе, опустил голову между рук и, обжав ее, некоторое время молчал, словно был совершенно один; потом резко распрямился и, торопливо отпив из чашечки, сказал:
— Женщины от природы наделены чутьем: рожать им от какого мужчины или нет. Может, жена опять же чутьем поняла, что нарушила этот закон, поскольку я ребенка от нее не шибко хотел. Даже «хотел» — не то слово. Мне все равно было. Думал, раз хочет, пускай растит… А может, и не ее тут вина. Может, я со своей колокольни так рассуждаю? Может, что недопонимаю в жизни?.. — Кирзухин налил из самовара полную чашечку, добавил заварки и опустил один кусочек сахара, — такие у меня путаные настроения. Жена все знает. Света — тоже. И тебе я все как на духу рассказал. Может, в жизни чего пригодится. Я особых секретов ни в жизни, ни в ремесле не держу. Подходи и учись. Это нам лишь кажется, что втайне от других живем. Все и все знают или узнают… Замучил я тебя разговорами?
— Да нет, вы интересно говорите! — пылко возразил Виктор.
— Сам-то как живешь?
— Да как сказать… — замялся Виктор.
— Мужчина должен знать себе цену, тогда и женщины уважать его будут. Да и не только женщины… — Кирзухин снова характерно потер пальцами щеку, словно что-то соскребал с нее, — но для того, чтобы узнать себе цену, надо проявить себя. А это, брат, вопрос!.. Но его за тебя никто решать не будет…
Виктору часто вспоминался этот уверенный в себе, но довольно сходчивый человек, и даже Лида, когда он скитался в поисках работы, как-то обронила:
— Кирзухин давно бы устроился.
— Вот за него и надо было выходить замуж! — понимая, что бьет по самому больному, о чем они, словно бы сговорившись, никогда не вспоминали, сказал Виктор; увидел, как от гнева побледнело лицо жены, и испугался, но страх не вызвал прежнего желания вернуть все на свои места.
«Как будет, так и будет!» — с тупой обозленностью подумал он, ожидая упреков, оскорблений. Но Лида справилась со вспышкой гнева и даже не расплакалась, а с каким-то леденящим безразличием проговорила:
— Я бы давно от тебя ушла, дочку жалко. Какой ни какой, а отец! — ирония слегка оживила ее лицо. — Между прочим, хороших женихов хоть отбавляй. У нас вон майор дочку в садик водит. Жена умерла от рака. У него трехкомнатная квартира, машина. Из себя он тоже не урод. И я вижу, что ему нравлюсь.
— Как мне все надоело! — с болью выдохнул Виктор.
— Тебе надоела жизнь? — насмешливо спросила Лида.
— Нет, я хочу жить… — столкнувшись со смеющимися глазами жены, Виктор мгновенно остыл, — впрочем, обо всем уже говорено.
— И не раз! — уже имея в виду свои соображения на этот счет, вставила Лида и ушла на кухню.
После этой ссоры между Виктором и женой установились странные отношения: они говорили лишь по необходимости. Лида день работала в две смены, и следующий у нее был свободным. Где она пропадала в эти дни, он не знал и, удивляясь своему спокойствию, ловил себя на мысли, что ему это стало безразлично. Если были деньги, он шел в компанию инженеров-холостяков, любивших покутить, или направлялся к Игорю Добрынину, обожавшему «теплые междусобойчики» при свечах. Но чаще он выпивал в подсобке, среди метел, швабр и тряпок, развешанных уборщицами по батареям.
После одной из таких выпивок он возвращался домой навеселе.
— Виктор Павлович! — негромко окликнули его.
— Толя!.. Чагин! — словно споткнулся о невидимый сучок, Виктор остановился; неловко протянул руку своему бывшему любимцу, старосте исторического кружка.
— Как ты вырос, вырос… Я бы тебя даже не узнал, — торопливо говорил он, стараясь не дышать в сторону Толи, хотя он был уже не учитель, а тот вышел из школьного возраста, но все равно Виктору было стыдно, — да, время-то как бежит… А как же ты меня нашел?
— Директор школы дал ваш адрес. Извините, что я раньше не зашел.
— Да ну что ты, что ты! — ободряюще улыбнулся Виктор и тронул Толю за плечо. — Что мы тут, посреди двора стоим, пошли ко мне.
— Виктор Павлович, я всего на минутку… то есть… совсем запутался! — Чагин в сердцах махнул рукой; хотя он вытянулся почти на два метра, но остался все тем же стеснительным и неловким. — Я пришел вам сказать спасибо. Я в институт на истфак поступил.
— Молодец. Поздравляю! — Виктор напрягся, чтобы хоть чуточку отойти от своих настроений; он все еще говорил с Толей, как с совершенно чужим человеком, а когда-то они по нескольку часов подряд вели самые задушевные беседы об истории, о жизни. Толя был пятым в семье. Его отец постоянно куда-то исчезал: то пристраивался к артели плотников, то устраивался грузчиком на железной дороге… Семью кормила тихая, немногословная Варвара Ивановна. Толя запоем читал книги по истории; в тридцатиградусный мороз все ребята сидели по домам, а он на попутках ехал в районную библиотеку.
— Так что, Виктор Павлович, я пошел по вашим стопам, — с гордостью говорил Толя, когда они поднимались по лестнице.
— Проходи. Да не снимай ботинки, у нас тут беспорядок. Я пока… в ожидании квартиры, живу в коммуналке, — соврал он и резко отвернулся, чтобы Толя не увидел внезапно выступивших слез.
Но тот заметил, истолковал их по-своему и растрогался.
— Быт — это ерунда! — с мальчишеским апломбом сказал он. — Сначала надо беспокоиться о душе — так вы всегда говорили. Вот защитите диссертацию, тогда и… Хотя научная работа не кончается получением степени. Я тут, Виктор Павлович, от радости глупости говорю, да вы сами все понимаете…
Хлопнула входная дверь. В комнату вошла Лида, за ней заглянула Леночка.
— Лида, а у нас — гость. Толя Чагин!
Толя неуклюже поклонился. Лида мельком посмотрела на него и усмехнулась.
— Ты помнишь его?.. — с внезапно прорвавшейся нежностью, удивительной для самого, спросил Виктор; в какое-то мгновение ему показалось, что промежуток времени от начала его работы в школе и по настоящий вечер выпал из памяти, словно его и не было вовсе.
— Погуляй с Леночкой перед сном, — Лида взяла из гардероба спортивную сумочку, перебросила ее через плечо и ушла.
— Папа, а мы сегодня кино смотрели, — дочка уткнулась Виктору в колени.
Виктор дрожащей рукой погладил дочку по головке и тревожно посмотрел на Толю.
— Знаете, Виктор Павлович, я не женюсь, — категорично сказал тот, — трудно найти человека, который тебя поймет. Вот вы пришли в нашу школу, я до того в чудаках ходил. Даже учителя и те считали, что я с вывихом. Все штаны в заплатках, а я все деньги, которые летом в колхозе зарабатывал, тратил на книги. А вот вы меня поняли. Я тогда прямо-таки духом воспрянул. Уж на что математику не любил, а и то на четверку вытянул. Да, мне кажется, что семейная жизнь для ученого не существует. Она ведь — день сегодняшний, а он весь живет в будущем. Извините, Виктор Павлович, — спохватился Толя, — просто я так для себя решил. Может, я и ошибаюсь…
«Он же знает про все. И про отношения Лиды с зоотехником, и про мои со Светой, и многое другое, — Виктор не осмелился поднять глаза на Толю, — но вот он же пришел ко мне. И даже пытается как-то помочь…»
— Виктор Павлович, какая тема у вашей диссертации?.. И еще: директор школы интересовался, кем вы сейчас работаете или очно учитесь в аспирантуре? Знаете, Виктор Павлович, мне очень бы хотелось побывать на ваших уроках.
«Если бы ты знал все!» — Виктор с такой силой сжал руку Леночки, что она от боли вскрикнула.
— Я нечаянно, Ленок, нечаянно, — он подул на ладошку, легонько шлепнул по ней.
Дочка рассмеялась.
— Виктор Павлович, вы уж извините, что я так вот, сразу, без предупреждения нагрянул, — Толя поднялся, — телефона у вас нет. Но мне очень хотелось прийти к вам таким вот, поступившим.
— Спасибо, Толя, спасибо. Я очень рад за тебя, — Виктор тоже поднялся со стула.
— Папа, а дядя уходит? — тоненько спросила Леночка.
— Ему пора. Но он еще придет.
— Обязательно! — повеселел Толя и уже в коридоре сказал: — Нас в сентябре на картошку зашлют, Я после картошки к вам забегу.
— Хорошо, Толя, я буду очень рад. — Виктор долго стоял перед захлопнувшейся дверью.
Шаги на лестнице затихли.
«Вот и все на сегодня! — он облегченно перевел дыхание, — боже мой, как это все больно…»
В ту ночь он не заснул; лежал на диване с открытыми глазами; вспоминалась школа, ребята из исторического кружка… Все было так недавно, и, странное дело, когда он учительствовал, то не придавал особого значения своей работе; все шло как-то само собой. Дорого бы он отдал теперь за то, чтобы жизнь вернулась в эту колею. Нужно было перечеркнуть все и все начать сначала…
Ход его мыслей оборвал дверной стук. Вернулась Лида. Она положила сумку на стол, устало потянулась, зевнула и калачиком свернулась под одеялом.
«Вот и все на сегодня», — с горькой иронией подумал Виктор.
«Люди приходят, уходят… Чего они ищут? Спрашиваешь, толком объяснить не могут. Может, вам удастся ответить на этот вопрос?» — вспомнились Виктору слова начальника отдела кадров швейной фабрики.
— Чего они ищут? — вполголоса повторил он и бросил кожаную папку на обшарпанный стол, занимавший половину комнатки. За дощатой перегородкой пулеметно трещала пишущая машинка, осипший мужской голос с раздражающим энтузиазмом требовал электромоторы… «Приятное соседство. Главное, не скучное», — Виктор заметил согнутый крючком палубный гвоздь, усмехнулся «солидно» и повесил на него пальто и фетровую шляпу.
Вчера и позавчера он терпеливо втолковывал начальнику отдела кадров, что успех социологического исследования во многом зависит от обстановки, в которой оно будет проходить. Тот согласно кивал, с подкупающей прямотой, без тени боязни говорил о самых «больных местах»:
— Текучка заела — раз. Два: на фабрике почти одни женщины, но с дисциплиной не ахти! Одно время даже хотели повесить доску «Гости вытрезвителя». Знаете ли, допекли!..
Виктор всматривался в грубоватое, мясистое лицо начальника отдела кадров. Он, как и директор, и главный инженер, был из тех руководителей, что привыкли во всем полагаться на свои силы. Фабрика план выполняла, «ходила в благополучных», и ее руководство скорее отдавало дань моде, чем серьезно надеялось на результаты исследования.
Виктор стопками разложил анкеты и, осматривая закуток с подслеповатым окном, наполовину закрашенным белой краской, иронично подумал, что будь он старшим научным сотрудником, ему бы наверняка отвели комнату получше. А он — всего лишь лаборант, лицо третьестепенное. Настроение, испорченное со вчерашнего вечера, упало до отметки «дрянное»; после ночного прихода Лиды, он долго не мог заснуть и забылся лишь с рассветом; уже в автобусе спохватился, что часть анкет забыл в лаборатории; пришлось заезжать в институт. Нина Николаевна, социолог, ведущий исследование на швейной фабрике, обронила, когда он выходил из лаборатории:
— У нас в институте нет ни одного путного лаборанта. Все — растерехи и неумехи!
И это говорила Нина Николаевна, в отчетах которой он исправлял не только многочисленные ошибки, но и заново переписывал целые страницы, заполненные какими-то бессвязными рекомендациями и формулировками.
— Можно? — в дверь заглянула миловидная девушка в синей косынке.
— Добрый день. Заходите, пожалуйста! — Виктор жестом предложил ей сесть на стул перед столом; коротко напомнил, что ее ответы не повлияют ни на нормы, ни на расценки (об этом он вчера говорил в швейном цехе), взял анкету из крайней стопки и протянул девушке.
— Конечно, здесь, в таком шуме, трудновато сосредоточиться, но ваше начальство лучшей комнаты не нашло.
— Да что вы, по сравнению с нашим цехом здесь тихо, — улыбнулась девушка. Посмеявшись над некоторыми вопросами, она споро заполнила графы ответов и ушла. Виктор, раньше с интересом набрасывавшийся на анкеты: в них, хотя и приблизительно, но все же отражались человеческие судьбы, с изящной ленцой сунул листок в папку и мельком посмотрел на новую посетительницу.
Перед ним стояла невысокая, сухощавая женщина лет сорока семи; от ее лица и серых глаз исходил свет душевного равновесия, и в то же время около рта глубоко прорезались две горькие складки — все это не связывалось воедино.
— Я всегда путаюсь, когда заполняю документы, — присаживаясь, извинительно сказала женщина, — вы уж лучше сами задавайте вопросы, а я буду отвечать.
В интонации и в том, как женщина, неслышно опустившись на стул, слегка наклонила голову набок, Виктору показалось что-то знакомое. «На маму… на маму похожа. Она так же держала голову», — подумал он, и в памяти возникло лицо матери, осунувшееся, усталое, но какое-то необъяснимо светлое и спокойное.
— Какие будут вопросы?
— Что? — Виктор вышел из забытья и, сосредоточиваясь, посмотрел на женщину; он внутренне приготовился выслушать рассказ о нелегкой жизни, идущей, можно было бы сказать, на грани подвижничества, не будь ее трудности столь обыденны, что для многих они попросту не существовали. Виктор взял анкету, угловатым почерком вывел «Митрохина» и, оберегая себя от излишних откровений, поскольку ничем ей помочь не мог, а сострадательно вздыхать: «понимаю, да, понимаю» ему было противно, он жестко сдвинул брови. Виктор считал, что сам находится не в лучшем положении и не годится на роль утешителя, попросту не имеет на нее морального права. «Да и кто имеет на нее право? Святые? Откуда им взяться в этой жизни», — усмехнулся он и сухо заметил:
— Пожалуйста, отвечайте на вопросы коротко. Их много. А вас, наверно, ждет работа.
— Да. Мастер предупредил, чтобы за двадцать минут справилась. В начале месяца простаивали… — Митрохина, видимо, хотела сказать о причинах простоев, наткнулась на безразличный взгляд Виктора, не располагавший к беседе, и спохватилась: — Да чего я вам объяснять-то буду, вы не первый раз на заводе. Сами все знаете.
«Вот и хорошо. Все вошло в норму», — с удовлетворением отметил тот и нарочито казенным голосом, словно повторял надоевшую таблицу умножения, стал задавать вопросы. И, странное дело!.. Каждым ответом Митрохина все больше и больше опровергала сложившееся у Виктора представление о ее судьбе. Оказалось, что живет она в отдельной двухкомнатной квартире, у нее — трое детей. Муж работает шофером.
— Критикуете ли вы мужа в присутствии знакомых, родственников, детей? Если да, то как часто? — Виктор выжидательно замолк. Словно налетев на подводный риф, сотни раз мифы о «счастливых семьях» после этого вопроса давали крен; с треском лопалась глянцевая скорлупа благополучия; — критикуя своих мужей, женщины невольно рассказывали о тех мужчинах, которые волновали их души, перед которыми они преклонялись бы и робели как школьницы. Одни еще ждали их, другие уже примирились со своим не вполне удачным выбором; их семьи, по мнению Виктора, держались на «двустороннем или одностороннем трудовом соглашении».
Митрохина с ответом не спешила. Задумчивость как-то заострила ее лицо; бесцветные губы поджались и стали почти незаметными. «Ну, смелее, смелее!» — мысленно поторопил ее Виктор; раньше его неприятно поражала вроде бы неизвестно откуда взявшаяся циничность, но в последнее время он все чаще прибегал к ее помощи, чтобы получить нужные результаты.
Неожиданно на щеках Митрохиной обозначались круглые ямочки.
— Знаете, руганью человека не исправишь, — мягко заметила она, — а недостатков у каждого хватает. Чего о них знакомым рассказывать, этим человека только обозлить можно.
— Муж сам покупает рубашки? — неприятно разочаровываясь в своих способностях провидца, Виктор задал, на первый взгляд, пустяковый анкетный вопрос, но по ответу на него можно было определить лидера в семье.
— Да что вы! — засмеялась Митрохина, — он у меня такой пентюх, что даже не знает, какой воротничок носит. И носки, и ботинки, и брюки — все я покупаю.
Виктор живо представил этакого добродушного увальня, который шага не сделает без благословения жены; эти увальни свято верят, что благополучие семьи — их главная задача на этом свете. Виктор всегда удивлялся: откуда они берутся? То ли в них эти качества заложены от рождения, то ли их так воспитывают женщины, сами частенько погуливающие на стороне от своих слишком преданных мужей.
Он придирчиво всмотрелся в лицо Митрохиной. «Наверное, эти горькие складки у рта идут от внутреннего разлада. Хороший муж. Достаток в доме. И — необходимость искать развлечений на стороне. Отсюда — постоянная тревога, как бы это не раскрылось… Хотя она, пожалуй, имеет больше удовольствий от жизни, чем я», — уже немного завидуя Митрохиной и досадуя на это, Виктор спросил:
— Наверное, трудно с тремя детьми-то?
— Иногда до слез доведут. Я прямо разревусь! Потом отойду, посмотрю, какие они у меня славные. И сердце сразу потеплеет. Без детей какое же счастье? — Митрохина, сложив сухие ладони лодочкой, поднесла их к груди и резко уронила руки на колени, словно этим жестом хотела подчеркнуть, что в этой немудреной истине для нее заключен сокровенный смысл жизни, и если кто-то в него не верит, она бессильна что-либо растолковать. Для нее — все так, и другого ей не нужно.
Когда она ушла, Виктор подержал ее анкету на ладони, словно хотел воочию ощутить вес этой полнокровной, размеренной жизни, и бросил в общую кучу. В конце дня он зашел в отдел кадров, чтобы сверить некоторые анкетные данные; опрашиваемые по забывчивости часто путали их. Среди стеллажей с трудовыми книжками и папками с личными делами проворно сновала черноглазая девушка. Виктор сразу обратил внимание на ее капризно вздернутую верхнюю губку и понимающе усмехнулся.
— Веселая у вас работа, — не без кокетства заметила девушка, — а я вот сижу тут, сторожу… чужие личные дела.
«Личная неустроенность. Ранняя усталость от жизни», — словно опытный врач, Виктор сразу поставил диагноз; он уже имел опыт общения с девушками такого типа; полные претензий, с налетом искушенности во всех житейских делах, они были вялы в разговорах, но поразительно прилипчивы. Тактично отрезая путь к более короткому знакомству, Виктор не без иронии заметил, что работа у него «каторжная», а вообще-то, самый счастливый человек в городе, как ему стало сегодня известно, Митрохина.
— Ой, зачем вы так? — девушка с неподдельным испугом посмотрела на Виктора и, если раньше подавала пыльные папки по одной, то теперь бухнула их на стол все сразу и скрылась между стеллажами.
Не понимая, что произошло, Виктор подчеркнуто безразлично заметил:
— А что? Отдельная квартира. Трое детей. Муж зарабатывает прилично. Налицо все объективные причины для счастья.
— Мужа у нее нет.
— Как? Она же сама сказала, что муж работает шофером.
— То, что он — шофер, верно. Он раньше работал у нас, — не выходя из-за стеллажей, пояснила девушка, — пьянь ужасная! Сейчас, говорят, нашел себе продавщицу двадцатилетнюю. А Митрохина даже на алименты не подает. На нее тут все как на блаженную смотрят. Я уж не знаю, как она с тремя детьми выкручивается.
— Вот странно, — скорее из растерянности, а не из желания как-то осмыслить услышанное, проговорил Виктор; вспомнил, что эта женщина внешне очень похожа на его мать и невольно поразился их внутреннему сходству. Мать так же отказалась от алиментов; правда, в отличие от Митрохиной, никогда не вспоминала о муже вслух, но Виктор знал, что она всю жизнь любила только его и наивно верила, что вернется.
— Ничего в этом странного нет! — уже с неприкрытой враждебностью выкрикнула девушка, — думаете, пришли, и человек перед вами наизнанку вывернется?
Была в ее словах обида и за Митрохину, и за себя, и горечь, что жизнь проходит почти впустую, не принося особых радостей. Но Виктору было не до нее; облокотившись на пыльные пухлые папки, он сидел, задумчиво подперев голову кулаком, и растерянно твердил себе: «Завтра все сверишь, иди домой… завтра…»
В проходных швейной фабрики он увидел самодельный фанерный календарь, какие обычно висят в маленьких почтовых отделениях. Невольно прочитал: «23 ноября» и приостановился. Двадцать девятого, год назад, умерла его мать. В мозгу Виктора, почти до исступления разгоряченного воспоминаниями, возникла мысль о том, что к нему приходила не Митрохина, а мать; она боялась, что он в суете забудет о дне ее смерти. Виктор остановился; его то и дело толкали выходившие из проходной люди и постепенно оттеснили и притиснули к стене.
— Забыли что-нибудь или потеряли? — участливо спросил похожий на сморчка старичок-вахтер, — стены-то намедни покрасили. — Он бережно взял Виктора за локоть. «Боже мой, а я такую гадость о ней подумал, такую гадость!» — он резко освободился от цепкой руки и побежал вниз по ступенькам, сопровождаемый недоуменным взглядом старичка-вахтера.
Ноги сами принесли его на остановку автобуса.
Когда Виктор приехал на кладбище, уже смеркалось. Сквозь грязно-серое нависшее небо, словно сквозь сито, продавливался мелкий, липкий снег. Он засевал лужи, налипал на деревья и однообразные плиты памятников. Начерпав полные ботинки студеной воды, Виктор, скорее случайно, чем по памяти, нашел маленький холмик. Памятник — белый столбик немного накренился, поскольку земля под ним за лето осела.
Он опустился на колени на осклизлую землю, рукой стер с овальной керамической плитки снежную крупу — на него взглянули молодые улыбающиеся глаза матери. Год назад, перелистывая тощий семейный альбом, Виктор долго выбирал снимок. Были в альбоме строгие фотографии, сделанные когда-то для доски Почета, и два снимка, которые мать посылала сестре, жившей где-то на Кубани. Но Виктор выбрал поблекшее фото: мать стояла рядом с отцом, и это было три года спустя после свадьбы. Она очень любила эту фотографию. Ему долго пришлось упрашивать, уговаривать патлатого парня-фотографа, чтобы он перенес на керамику одну мать, ничего не подрисовывая. «У нас художник — спец классный. Ничего заметно не будет, — рассматривая снимок, ворчал тот, — с нас тоже требуют качество. Сами же потом в претензии будете». И теперь уже никто, кроме Виктора, не знал, что такая улыбка у матери была, когда рядом был отец, и когда ему, Виктору, было всего лишь два года, и что попасть на эту фотографию ему помешала простуда: тогда у него болело горло; они жили на окраине, и родители не решились везти его через весь город.
1984
Я возвращаю ваш портрет…
Современный романс в прозе
Анисенко и сам не знал, почему (обычно газеты вынимал сын) задержался возле почтового ящика; это уже потом, несколько дней спустя, он припомнил, а вернее, признался себе, что потаенно жило в нем ожидание письма, жили чувства и настроения, еще не ставшие воспоминаниями, и, убегая от них, Анисенко то оставался во вторую смену, то за компанию шел на футбол, то пристраивался к очереди у пивного ларька, брезгливо морщился, глядя на тронутые пивным румянцем лица, на нетвердые руки, колотившие таранкой о гулкое дно бочки; он заглянул в почтовый ящик, увидел белый четырехугольник и, успокаивая себя, подумал: «Жене от сестры», хотел было надавить на кнопку лифта, но передумал; прислушался — сверху кто-то поспешно спускался.
«Вдруг сын?» — Анисенко пальцем отогнул хрустнувшую железную дверку, за уголок воровато вытащил письмо и сунул его в карман пальто.
— Здрасьте! — мимо пробежала соседская девочка.
— Во, черт! — Анисенко шагнул в лифт и уже там, при тусклом свете, прочел: «Анисенко Андрею Петровичу»; обратного адреса на конверте не было.
«Да-а, история», — он поглубже засунул письмо в карман и только теперь почувствовал, какое оно жесткое.
«Наверное, с праздником поздравляет. Октябрьская скоро, надо бы и мне написать, все-таки целый месяц отдыхали вместе». — Анисенко отворил дверь, задел носком ботинка за порог и снова чертыхнулся.
— Анисенко! — окликнула из кухни жена, — почему во вторую смену не остался?
— Другие охотники нашлись, — он скинул ботинки и, когда вешал пальто, карманом, в котором лежало письмо, прижал его к стене. — Вовка где?
— Футбол во дворе гоняет. Ты шел, разве не видел?
— Я по сторонам не смотрю.
— Как ты, Анисенко, еще домой-то приходишь? По сторонам не смотришь, под ноги не глядишь, вон у ботинок все носы пооббивал. А ведь только в сентябре, когда в санаторий поехал, купили.
— Чего ты ко мне с этим санаторием привязалась! Сплю долго, как в с а н а т о р и и, поем побольше, как в с а н а т о р и и. Ты бы, Наталья, чего-нибудь поумней придумала.
— Да куда уж нам, по санаториям не разъезжаем.
Анисенко хотел было осадить жену, да сдержался; невольно заглянул в зеркало, висевшее рядом с вешалкой, и горько усмехнулся — клочками торчали седые волосы; как он их в молодости ни мочил, ни приглаживал по нескольку раз на день, они не покорились; немного навыкате, крупные серые глаза; две мясистые морщины над бровями; — ему можно было дать и пятьдесят лет и шестьдесят, но Анисенко недавно перевалило за сорок пять, из них он двадцать два года проработал слесарем в инструментальном цехе оружейного завода.
— Анисенко, ты чего у двери топчешься, уснул, что ли?
— Куда спешить-то, дома уже, — Анисенко снова посмотрел на пальто. «Вдруг Володька за мелочью по карманам полезет», — он вытащил письмо и спрятал в карман брюк.
— Выпил, что ль? Ну, иди, иди, я сегодня добрая. Женька мне индийский мохеровый шарф за тридцать пять рублей достала. Иди, я тебе стопочку налью.
— Ишь ты, индийский, и цена-то у него… — Анисенко вошел на кухню; жена оторвалась от плиты и кинула ему в руки что-то красное, пушистое. Анисенко неловко помял невесомый шарф.
— Пожарный какой-то, другого цвета, что ли, не было?
— Много ты, Анисенко, в этом понимаешь. Я у тебя черноглазая и в годках, меня такой шарф молодить будет, — Наталья выхватила его из рук мужа, повязала на голову, подоткнула свесившиеся на лоб волосы и, пригнувшись, посмотрела в круглый бок самовара, стоявшего на холодильнике.
— На меня, между прочим, еще оглядываются.
— А за мной до самого дома следом идут.
— Какой ты, Анисенко, скучный. Все уколоть норовишь, нет бы вместе с женой покупке порадовался. И что на меня тогда затмение какое-то нашло, — не снимая шарфа, Наталья, гибкая, юркая, распахнула холодильник и достала бутылку, — полгода с тобой ходила и не знала, как зовут. Все — Анисенко да Анисенко. Даже дружок твой закадычный, помнишь, зубастый такой, на сборке работал, так он даже испугался, когда я у него спросила, как тебя зовут. Ошалело посмотрел на меня и промямлил: «Андреем, кацца…» Так ты для меня Анисенко и остался, — она со стуком поставила стопку на стол, наполнила ее до краев, — а ведь уже и пенсия не за горами.
— За пенсию пить не буду, — оттопыренным мизинцем Анисенко отодвинул стопку.
Наталья хохотнула, достала из белого шкафчика зеленую рюмку.
— Ой, Анисенко, черт чудной, пенсия, можно сказать, самое счастливое время: спи до обеда, гуляй до вечера — слова никто не скажет. И каждый месяц почтальон будет приносить тебе получку. Ну, не дури, Анисенко, выпей тогда за мою обновку, чтобы у тебя жена всегда была красивая.
Анисенко потянулся за стопкой и скорее почувствовал, чем услышал, как в кармане брюк тихо хрупнуло согнувшееся письмо; рука его замерла возле самой стопки.
— Ты чего, черт чудной, перебрал сегодня? — Наталья хотела заглянуть ему в глаза, но Анисенко отвернулся к стене.
— Стыдно! — Наталья опрокинула рюмку, а стопку мужа аккуратно слила в бутылку, — иди телевизор посмотри, нечего на кухне торчать.
Она стянула с головы шарф, мгновение полюбовалась им и повесила на самовар, чтобы все время был перед глазами.
Анисенко потянул воздух и обеспокоенно заметил:
— Горит чего-то.
— Это из-за тебя, чертушко, — Наталья метнулась к плите, распахнула духовку, прихватила фартуком сковородку и шваркнула ее на плиту. — Иди отсюда! — сердито притопнула она. — Вчера со второй смены за полночь приперся, я молоко в холодильник поставить забыла. Вовка в техникум, не позавтракавши, ушел.
— Мог бы и чаю попить, — нахмурился Анисенко.
— У него желудок больной.
— Лечиться надо, а не футбол гонять да по девкам бегать, — зная, что неправ, сухо обронил Анисенко и, поскольку разговор шел о еде, вспомнил, что голоден, отломил полбатона и тут же, сжимая его в кулаке, мягкий, душистый, не выдержал и жадно надкусил.
— Сам все кидком да броском и сына так приучил, через то и болеет.
— Это ты ему сладостями здоровье извела, — зная, что сейчас слово за слово, и он взорвется, наговорит жене грубостей, а она запустит ему вслед тарелку, как уже не раз случалось; они с неделю не будут разговаривать, а Володька, посмеиваясь, будет выпрашивать деньги то у одного, то у другого, и, как бы в пику друг другу, они станут совать ему трешки, пятерки, и каждый из своего угла смотреть телевизор.
— Значит, я во всем виновата? — Наталья вышла на середину кухни и подбоченилась.
Анисенко рукой скользнул по карману, в котором лежало письмо, и непрожеванный кусок белого хлеба застрял в горле; он поперхнулся и, тихий, какой-то виноватый, вышел из кухни, затылком чувствуя недоуменный взгляд жены.
«Ну, поздравила с праздником и поздравила, чего тут такого?» — Анисенко прилег на диван, вытащил жесткое письмо, повертел его, зачем-то посмотрел на свет, пальцем подцепил отклеившийся уголок и разорвал конверт; вытащил фотографию и несколько секунд внимательно всматривался в девушку с перекинутой через плечо косой, ее глаза лишь отдаленно напоминали глаза той, полноватой женщины с глуховатым, грудным голосом, поначалу раздражавшим его.
«Андрюша!
Тоскую, жду.
Твоя Лида».Из кухни донесся какой-то шум; Анисенко сунул фотографию в конверт и прислушался.
«Чего это она такое фото прислала?..» — он хотел было прилечь на подушку, но неожиданная догадка, похожая на озарение, оставила его. «Да ведь этим Лида хотела сказать, что будь она сейчас такая вот молодая и красивая, все равно бы…» — Анисенко разорвал конверт от края до края, но ничего, кроме фотографии, в нем не было.
«Правильно, все правильно!» — он вскочил и возбужденно прошелся по комнате, а потом плюхнулся на диван, заложил руки за голову и радостно засмеялся; то, что было запрятано в самый потаенный уголок памяти, сейчас, стоило прикрыть глаза, предстало перед ним в самых мельчайших подробностях.
Он приехал в санаторий в самом конце сентября, — так уж получилось, что в профкоме «горела» путевка; Анисенко последнюю неделю и дневал и ночевал в цехе, все доводил до ума пресс-форму; сделанная по самым точным инженерным расчетам, несколько раз выверенным и перепроверенным, она давала крупные заусенцы по кромке отверстия, в которое должен был входить хвостовик одного из валов, а то и вовсе обрывала края.
Ведущий конструктор уже махнул рукой: «Будем лить сплошняком, а отверстие на станке расточим». Анисенко понимал его и сочувствовал: были жесткие сроки, и тут прощалось все, только бы запустить новый блок в плановые сроки; и все же Анисенко так вот, сразу, не мог примириться с неудачей. «Неделя в запасе, помозгую, — сказал он ведущему конструктору, — а там запускай, как сумеешь». И тот, проработавший бок о бок с Анисенко не один год, знал, что отказы, запреты бесполезны — Анисенко от своей затеи не отступится, будет ставить токарям бутылки, чтобы «срочно точили особые приспособления», отложит всю работу в сторону, останется без премии, но выход найдет или, что бывало тоже нередко, поймет, что взялся за не разрешимую пока задачу; и тогда будет с месяц ходить сам не свой, взрываться по каждой мелочи; ведущий конструктор рассудил: пускай Анисенко отведет душу, помучается, помозгует, ведь он ищет решение интуитивно, а интуиция, этот пока еще загадочный инструмент познания, уже столько раз выводила инженерную науку из тупика, что с ней приходится считаться.
Анисенко перебрался жить в цех, у него было «свое место» за раздевалкой, тут он отдыхал и спал на тюках мягкой ветоши, шедшей на протирку станков. Он вставал чуть свет и подолгу сидел перед формой, пока даже с закрытыми глазами не стал видеть, как втекает в нее расплавленный металл, как он растекается по многочисленным извилинам и углублениям, а вот что происходит возле злополучного отверстия, Анисенко не понимал; получалось, что в этом месте жидкий металл вроде бы застаивается, как в крохотном омутке. «Если тормозит, значит, остывает, иначе бежал бы своей дорогой», — осенило Анисенко; он подхватился и побежал в инженерный корпус, по дороге глянул на часы, висевшие над подъездом, и досадливо вздохнул: «Еще только полпятого!»
Вымотавшийся за эти дни, он прилег на стол перед конструкторским отделом и прикрыл глаза, еще и еще раз обдумывая свои предложения по доработке всего блока: надо было увеличить диаметр хвостовика и сделать хотя бы два канала, через которые горячий металл потечет, не застаиваясь; тогда во всей форме будет одинаковый температурный режим и отливка пойдут без сучка, без задоринки.
Ведущий конструктор, ему тоже не спалось, растолкал Анисенко в половине седьмого, с полуслова понял, в чем дело, и на дежурном газике отправил домой досыпать, а сам, зная, что Анисенко собирается в отпуск, позвонил в профком и «устроил» ему «горящую» путевку в санаторий.
А тот привык отдыхать или в деревне у родственников жены, или дома, — сидел себе, что-нибудь мастерил; у него на балконе — шкаф для продуктов и шкаф для инструмента, во весь коридор — стенка для одежды и посуды, есть в ней ниша для велосипеда и сушилка для обуви. Поэтому едва Анисенко услышал про путевку, наотрез отказался, а вечером жене сказал не без гордости: «Нечего мне по курортам разъезжать, когда в кухне навесные шкафы не переделаны».
Наталья, как услышала про шкафы, замахала руками: «Хоть на край света уезжай, только бы мне дома чистота и тишина была. А шкафы через годик я новые куплю».
Анисенко обиженно насупился: «Собирай чемодан», и, поскольку от слова своего отступать не любил, на следующее утро зашел в профком и взял путевку.
Наталья смотрела на него и тихонько посмеивалась, зная, что этой поездкой Анисенко больше накажет себя, чем ее; она бывала в домах отдыха и видела, как мужики, похожие на ее мужа, целыми днями слоняются из угла в угол, не зная, к чему руки приложить, и к концу срока изводятся так, что смотреть на них страшно.
В санатории Анисенко не пришлось по душе решительно все, поскольку сестры в белых халатах, строгий режим, процедуры напоминали больницу, да еще и соседа ему поселили беспутного: он работал главным инженером автоколонны и в первый же день заявил, что приехал сюда «единственно затем, чтобы убедиться: какая это отвратительная вещь — язва желудка», «сделать профилактику» и что прошлой осенью он «на будущее лечился от радикулита».
— Жизнь одна, а болезней много, — утром, делая зарядку перед распахнутым окном, с улыбкой говорил он Анисенко. А тот согласно кивал, но чувство неловкости, что занимает чужое место, не покидало; после обеда, как и все, он ложился на кровать и прислушивался к желудку, на четвертый день почувствовал в нем какую-то тяжесть и тут же поделился своими опасениями с соседом, а тот с улыбочкой, не сходившей с губ, заметил: «Столько каши будешь есть, еще и печень откажет. Ты ведь ото всех добавок не отказываешься».
Анисенко качнулся на пружинистой кровати и повеселел, но объяснять соседу, что целую неделю не выходил из цеха, не досыпал, не доедал, не стал; подумал, что «начальству, которое лечится на будущее», этого не понять; со своим положением вскоре пообвыкся, поскольку насмотрелся, как некоторые больные с первого же дня запивали, и пожелтевших, небритых, их выпроваживали восвояси, как «злостных нарушителей режима».
И все было бы хорошо: день занят процедурами, с утра можно посидеть на причале, посмотреть, как мальчишки ловят рыбу, а вот чем занять себя вечером? До кино Анисенко не охотник, торчать в холле вместе со стариками возле телевизора — тоже несолидно; он пошел посмотреть на танцы, но едва остановился у стены, как его тут же стали приглашать. Анисенко в юности-то по танцулькам не бегал, на Наталье женился, как она любила подчеркнуть, с испугу: он зашел на шлифовальный участок посмотреть, как обрабатывают его форму, и локтем случайно зацепил молодую шлифовщицу, когда она, склонившись к станку, осторожно подводила деталь к шлифовальному кругу — веером брызнули желтые искры, и Анисенко почувствовал, как правую его лопатку что-то обожгло, а потом услышал смех.
— Крепко ты ему, Наташка, приложила.
Анисенко обернулся и сверху вниз посмотрел на смешливую черноглазую шлифовщицу.
— Чего уставился? Понравилась, так замуж бери. Только учти, рука у меня тяжелая.
— Ничего, моя спина выдержит, — смутился Анисенко.
И вот теперь, глядя на танцующих, он, то ли с горечью, то ли удивленно подумал, что вся его жизнь прошла у верстака и дома; правда, он ходил с приятелями на футбол, прикладывался к стакану в забегаловках, но, глядя на завсегдатаев пивных ларьков, недоумевал, как это можно торчать тут днями напролет и болтать об одном и том же — о политике, о ценах на базаре, о начальстве, которое «не понимает душу рабочего человека»?
— Еще не выбрал? — к нему небрежной походкой подошел сосед по комнате, одетый в белые брюки и такую же белую тенниску.
Сам не зная почему, Анисенко растерялся и покраснел.
— Уже седьмой день, пора бы… Может, помочь?
— Обойдемся, — грубовато усмехнулся Анисенко и пошел по аллее к озеру.
По бетонной дорожке, тянувшейся по кромке берега, гуляли пары. Анисенко выбрал лавочку в самом конце аллеи, где сидела полная пожилая женщина в накинутой на плечи пушистой кофте; она мельком посмотрела на подсевшего Анисенко и снова погрузилась в свои думы.
Анисенко вытянул ноги, заложил руки за голову — это была его любимая поза, и подумал, что будь он сейчас дома, то наверняка бы примчался к нему старший мастер и упросил выйти на денек-другой, а в цех попадешь, и этот «денек-другой» растянется на неделю; еще ни разу не было, чтобы конец года обошелся без авралов: то разболеются наладчики, и формы на прессах летят одна за другой, то вдруг обнаружится, что на сборочном участке не хватает нужной оснастки.
А вот теперь Анисенко сидел на берегу озера, был недосягаем для разных забот, и, хотя раньше чертыхался, что эти авралы ему «уже в печенках», скучал по ним.
— Вы первый раз тут?
Анисенко не сразу понял, что вопрос адресован ему, рассеянно посмотрел на женщину и ничего не ответил.
— Я видела вас на процедурах, — она повернула к нему округлое лицо, на котором даже сейчас, в полумраке, четко выделялись темные мешки под глазами, — вы все делаете так, словно очень верите в полное исцеление.
— Я тут случайно.
— Понятно, — глуховато засмеялась женщина, — а знаете, со временем привыкаешь, что больна, что у тебя — диета. А в жизни всегда есть свои маленькие радости. У вас обострения чаще всего бывают осенью?
— Сказал же вам, что я тут случайно, — недовольно заметил Анисенко; ему уже порядком надоели рассказы о язвах и гастритах, об изматывающих болях в животе, об изжогах, о которых он малейшего понятия не имел.
— Извините, я так поняла, что вам по случаю удалось достать путевку, — женщина отвернулась.
Анисенко посмотрел в сторону шумевшего невдалеке озера, на чинно прогуливавшиеся по аллее пары, для чего-то ковырнул носком ботинка сыпучий песок и подумал, что, наверное, неприлично сидеть так вот, букой. Молчание затягивалось, и он чувствовал, что пройдет еще минуты две-три, и спрашивать о чем-то будет неприлично, а тут, как назло, кроме вопроса о погоде, ничего подходящего для такого случая в памяти не было.
— Я тут неделю всего походил, а носы у ботинок облупились, — неловко проговорил Анисенко, — камней тут разных много, да и сухость большая, а пересохшую кожу чуть тронь…
Женщина снова глуховато засмеялась.
— Вы бы лучше сказали: давайте скучать вместе.
— К безделию не привык, — не понимая, подшучивают над ним или смеются, насторожился Анисенко.
Женщина скользнула взглядом по его лицу, рукам, напряженно замершим на коленях.
— Меня зовут Лидой, — она протянула пухлую ладонь.
Отступать было некуда; Анисенко подался вперед и слегка пожал ладонь кончиками пальцев: она была холодная, чуть влажная.
— Анисенко.
— И все?
— Андрей Петрович.
— Очень приятно.
«Пора заканчивать, а то…» — Анисенко уперся кулаками в скамейку.
— Вы уже уходите?
Было в голосе женщины что-то теплое, успокаивающее, отчего Анисенко потерялся и неумело соврал:
— Сидишь тут целыми днями, руки от безделья затекают, — и подумал, что так оно и есть, только вот сейчас, в эту минуту, он про них почему-то забыл.
— Вы слесарем работаете?
— Откуда знаете?
— Работала на заводе. Да вы подвиньтесь поближе, а то мне приходится напрягать горло, а оно у меня тоже больное. — Женщина выждала, пока Анисенко переберется ближе. — Когда я видела вас на процедурах, мне запомнились ваши руки. У лекальщиков всегда такие вот, красноватые, крепкие подушечки пальцев. И кожа на руках темная от въевшегося масла и металла; говорят, не только свинец, но и сталь въедается в кожу.
— Это верно, — немного осмелел Анисенко, откинулся на спинку скамейки и вздохнул; ему захотелось стать таким же вот спокойным, расслабленным, как Лида, — говорят, что тот, кто работает с металлом, сам становится железным. Я когда в цех пришел, над такими словами посмеивался. Целый год ходил — руки в ссадинах да заусенцах. А потом они так притерпелись, что ничего их уже не берет.
— Просто вы стали аккуратнее, сноровка появилась. Хотя если так все объяснять, скучно становится. Можно дообъясняться до того, что вся наша жизнь, наши чувства и настроения — это лишь химические реакции.
— Кроме химии, я по телевизору слышал, в нас еще и электричество есть, — как-то по-домашнему, словно сидел за столом на кухне, а жена хлопотала у плиты, заметил Анисенко и подумал, что в эту пору его сын, поди, закрылся в своей комнате и гоняет музыку, а жена закручивает банки с компотом; любит она готовить впрок и огурцы, и помидоры, и разные варенья.
— Много в нас разных разностей, известных науке и неизвестных. Я вот, как уеду, так на пятый день начинает казаться, что дома меня кто-то ждет. А там — пустая квартира…
— Мы вам не помешаем? — напротив скамейки приостановилась пара: у него в руках была гитара; его спутница в тонких черных брюках, желтой майке с насмешливым любопытством посмотрела сначала на Лиду, потом на Анисенко.
— Мадам, уже падают листья, — парень опустился на скамейку рядом с Анисенко, пристроил гитару на колено:
Я возвращаю ваш портрет, Я вас без памяти люблю…— Молодой человек, мы и без слов все поняли. — Лида ободряюще улыбнулась Анисенко. — У нас к вам маленькая просьба: спойте этот романс серьезно. Может, для вас он звучит странно, глуповато, но было такое время, и люди выражали свои чувства, как умели. Звучало это примерно так. — Лида прикрыла глаза, сложила ладони лодочкой и тихо, но так, что у Анисенко мурашки по спине побежали, пропела:
Я возвращаю Ваш портрет, Я о любви Вас не молю…Парень вопросительно посмотрел на спутницу, та капризно передернула плечами: «Выкручивайся сам, мне это неинтересно». Он мягко тронул струны, склонил голову набок и прислушался к бархатному звуку, словно хотел отыскать в нем интонации Лидиного голоса, а потом повернулся к ней и виновато улыбнулся:
— Извините, но у меня так не получится, да и, вообще, я из этого романса только две строчки и знаю.
— И то хорошо, а вот мы с Андреем Петровичем современных песен, к сожалению, совсем не знаем, — она слегка коснулась плеча Анисенко, — пойдемте, а то я что-то озябла.
Они вышли на освещенную аллею. Анисенко все старался приноровить свой шаг к Лидиному короткому, раздумчивому; оказавшись под фонарями, он обеспокоенно осмотрелся: нет ли рядом знакомых, но тут же подумал: «Откуда здесь знакомые?..» Он посмотрел на Лиду, погруженную в свои мысли; его жена сейчас, наверное, досматривала программу «Время», чтобы узнать погоду на завтра; когда диктор скажет о Западной Украине, она наверняка подумает: «Как там мой Анисенко?» «А я тут… Нет, пора идти в корпус», — Анисенко прибавил шагу, но тут же услышал за спиной:
— Андрей Петрович, я за вами не успеваю.
Лида догнала его и взяла под руку.
— Теперь не убежите.
— Привет соседу! — из кустов вынырнул главный инженер с двумя девочками, оценивающе осмотрел Лиду и разочарованно причмокнул.
— Кто это?
— Живем в одной комнате; подсунули тут… — Анисенко вспомнил самовлюбленные рассказы соседа о вольготной жизни, о левых деньгах, которых за месяц иной раз «набегает с три оклада»; сейчас эти рассказы почему-то раздражали еще больше, чем тогда.
— Такие люди обычно считают, что обладают особым талантом устраиваться в жизни. Я раньше им завидовала и мужа ругала, что он по восемь — десять часов корпит над чертежами за одну зарплату, которой этим «деловым людям» хватает на два вечера в ресторане.
— Где работает ваш муж?
Лида внимательно посмотрела на Анисенко и ответила не сразу.
— В проектном институте. Он ушел от меня и, кажется, счастлив. Хотя все, что он имеет, как я теперь понимаю, он мог бы иметь и со мной.
— Вы говорите как-то… — Анисенко замолчал, подбирая нужные слова, — словно я ваш родственник.
Лида мягко улыбнулась.
— Мой корпус налево, — и легонько оттолкнула Анисенко, — завтра увидимся. Непременно, если даже и не захотим. Здесь ведь как в коммунальной квартире, каждый день все встречаются по нескольку раз.
Анисенко согласно кивнул и послушно зашагал к своему корпусу.
«Ну и что? Чего я испугался-то?» — он прислушался к шуму на кухне, похоже было, что жена проворачивала мясо для котлет; Анисенко подумал, что вот сейчас зайдет в туалет, разорвет фотографию на мелкие кусочки и все.
«А вдруг она у нее единственная?» — Анисенко достал фотографию из конверта, уголки ее слегка потрескались, да и вся она отливала желтизной.
— Анисенко! — донеслось из кухни.
Он поспешно сунул фотографию под подушку.
— Дрыхнешь, что ли, — Наталья заглянула в комнату, увидела его растерянное лицо, — ты чего такой, словно кур воровал?
— Придумаешь тоже, — Анисенко отвернулся к стене.
— Вставай, черт чудной, там такое мясо попалось, что я всю руку вывернула.
— Так бы и сказала, а то сразу митинговать.
— По первому слову бежать должен.
— Что я тебе — Тузик, что ли? — уже в коридоре беззлобно огрызнулся Анисенко.
— Не нравишься ты мне сегодня.
— Лучше бы стопку налила.
— А мне кто нальет? Я и глажу ему, и стираю… Мужик нынче такой пошел, шагу бесплатно не ступит. В цехе вон ящик с места на место задаром не передвинут.
— На профсоюзном собрании, что ли? — Анисенко неловко нажал на ручку мясорубки, ее крепление сорвалось; он локтем задел тарелку с мясом, и она сочно шлепнулась на пол.
— Ну, горе горькое, — Наталья правой рукой, словно нащупывала опору, пошарила по кухонному столу, наткнулась на тарелку и замерла. Едва Анисенко заметил это, бросил мясорубку и выскочил в коридор; уже оттуда он услышал, как с сухим треском вдребезги разлетелась первая тарелка, потом вторая, третья…
«Дура-баба!» — с некоторым восхищением подумал он, прислушался к наступившей тишине и весело заметил:
— Хорошо хоть нынче тарелки дешевые стали.
Анисенко знал, что через минуту-другую жена расплачется, а потом возьмет веник и, тихая, подавленная, будет сметать осколки, затем наденет свое выходное платье в зеленый горошек и, зло обронив: «скучно с тобой, Анисенко», на весь вечер уйдет к подругам. Раньше он принимал это, как должное, поскольку был тугодум и завидовал тем мужикам, которые и анекдот расскажут так, что заслушаешься, и на стороне гульнут — жена не узнает, и половину премии в заначку отложат — комар носа не подточит; конечно, его обижало, что жена искала веселья на стороне, и чтобы как-то успокоить себя, он шел в кладовку, доставал инструмент, раскладывал его на маленьком откидном верстачке и мастерил полку соседу или клетку для канареек; зная, что жена вернется часам к десяти, он к этому времени аккуратно сметал стружки, протирал пол мягкой тряпкой, ложился на диван и включал телевизор, — все это походило на маленький семейный спектакль, в котором каждый знал свою роль назубок. Но сегодня, едва за женой захлопнулась дверь, Анисенко достал из-под подушки фотографию, прислонил к глиняной собаке, лежавшей на телевизоре, и издалека посмотрел на миловидную девушку с перекинутой через плечо тяжелой косой.
«Ишь какая!»… — довольный, засмеялся Анисенко и, едва прикрыл глаза, как услышал хрипловатый Лидин голос: «Знаете, я немного завидую вашей жизни. Да-да, у меня все было разбросано, все на скорую руку. Конечно, в моем возрасте говорить об этом глупо, но вам я скажу: не встретила человека, с которым можно было бы так вот, как с вами, смотреть на озеро, слушать, как шуршат волны, и знать, что и завтра будет так же, и послезавтра…
Анисенко не сразу понял, о чем говорит его новая знакомая, и угловато вставил:
— В жизни уверенность нужна.
Лида коротко взглянула на него и рассмеялась:
— Какой вы, Андрей Петрович, забавный.
— Это верно, — насупился Анисенко и уже хотел было подняться со скамейки и уйти, но Лида удержала его за руку:
— Андрей Петрович, я ведь не шучу.
— Может, вы мне приятное сделать хотите, только я себя наизусть знаю, — с грубоватой иронией заговорил он, — в мае, когда доску Почета оформляют, ко мне журналистка из заводской газеты приходит. Встанет у верстака и смотрит на меня, как на своего кровного врага: «Мне про вас написать надо, а что я про вас напишу…» И жаль мне эту девчушку, и за себя стыдно, да ничем ей помочь не могу. Она: «За что вам работа нравится?» — «Нравится и все». — «Откуда у вас такая страсть к изобретательству?» — «Люблю, чтобы каждый механизм исправно работал». — «Чем увлекаетесь помимо работы?» — «Ничем. Полки иногда мастерю, на футбол хожу». — «За какую команду болеете?» — «Ни за какую. Просто смотрю, как играют и все». Эта девушка ручку погрызет, повздыхает и уйдет обиженная.
— И все же вы счастливее других, — Лида посмотрела на озеро и погрустнела, — знаете, о чем я обычно думаю под конец отпуска?.. Что на оставшиеся деньги куплю своим девчонкам, а их у меня в отделе четверо, черной икры втридорога, приеду как раз к балансу, когда все задерганы, когда «горит премия», а я утром заявляюсь в отдел пораньше, вскипячу чай, наготовлю бутербродов. А когда мои девчонки скажут: «Вот и наша мама приехала» и кинутся меня целовать, я хоть и понимаю, что все это несерьезно, расчувствуюсь и расплачусь. Им станет не по себе, а что тут поделаешь… — Лида отвернулась.
Анисенко хотел сказать ей какие-то мягкие, согревающие слова, он уже чувствовал их цвет, запах, но как и раньше, когда хотел сказать что-нибудь нежное жене или сыну, глупел от прилива чувств и вымученно бросал банальную, чужую фразу. Вот и теперь он мялся-мялся и тяжеловато выдохнул:
— Добрый вы человек.
Лида быстро нашла его руку.
— Спасибо, Андрей Петрович, спасибо. Правда, может, и не от доброты это вовсе, а от бабьего одиночества, Вы уж извините, что я так…
Анисенко покраснел и совершенно растерялся.
— Добрый вы человек.
Лида отдернула руку.
— Пойду к дому, а вы, Андрей Петрович, еще погуляйте, воздухом подышите.
Анисенко растерянно глядел ей вслед и никак не мог взять в толк, что же произошло?.. С час, наверное, просидел он на скамейке на берегу озера, успокаивая себя тем, что Лида пошутила, решила испытать его терпение, но время шло, а она не возвращалась.
«Может, так и лучше будет», — Анисенко поднялся, посмотрел на озеро, лениво шлифовавшее прибрежную гальку, и сам не заметил, как очутился возле трехэтажного корпуса, в котором жила Лида.
По аллее, навстречу ему, шла парочка; Анисенко поспешно спрятался в колючие кусты. «Да чего я испугался-то?» — он осмотрелся, но сколько ни убеждал себя, что вокруг — незнакомые люди, занятые своими делами, все же у этого, не его корпуса, чувствовал себя стесненно, а когда на втором этаже вспыхнуло крайнее окно и он увидел в нем Лиду, она была в желтом халате, такая далекая и, вроде бы, совершенно незнакомая, то забыл о недавней робости, выбрался из кустов и замер посреди аллеи.
Лида щеткой расчесывала длинные черные волосы, потом присела к столу, положила на него руки и вдруг уронила на них голову.
«Может, с сердцем что?» — испугался Анисенко, шагнул на желтую полосу света.
Лида подняла голову, настороженно посмотрела в темное окно, и он сначала отступил в сторону, но тут же каким-то чутьем уловил, что она думает о нем, и снова вышел на свет.
Но Лида не видела его.
Анисенко неловко помахал рукой, хотел было крикнуть, да спохватился, что переполошит всех многочисленных обитателей третьего корпуса. Лида откинула со лба волосы, задернула занавеску, и свет в ее окне погас.
«Вот и все», — Анисенко прислушался, словно надеялся среди приглушенных голосов, шумов и музыки, доносившейся с танцплощадки, различить шорох Лидиных шагов; у нее была привычка сделать сто шагов по темной комнате, чтобы настроиться на крепкий сон; а ее шаги и прерывистое, неглубокое дыхание помнились хорошо. Анисенко представил, как он сейчас неслышно проберется в ее комнату, всю ночь простоит у ее кровати, а утром, ни слова не говоря, будет наблюдать, как Лида причесывается, прибирается, заваривает чай в маленьком зеленом чайнике…
Домой идти не хотелось; Анисенко присел на лавочку под Лидиными окнами, посмотрел на черное осеннее небо, на фонари в виде желтых яблок, нависавшие над аллеей, и просидел так до самого утра; а когда увидел в окне сначала сухую всклоченную женщину, Лидину соседку, спрятался в кусты; потом к окну подошла Лида, потянулась и зевнула.
Анисенко облегченно вздохнул и побрел к своему корпусу, тихий, радостный; почему-то вспомнил дом, жену, но все это было далеко-далеко и не мешало его новым чувствам и настроениям.
И сейчас, лежа на диване, он удивлялся тем переменам, которые свершались в нем тогда ежедневно и, может, ежечасно; и даже теперь, спустя время, он все еще не мог вернуться к прежней своей жизни, мучился этим, но ничего поделать с собой не мог.
«Может, съездить к ней?.. У меня вон за картошку четыре отгула. А что жене скажу?.. Да, история!» — Анисенко решил, что вот сейчас напишет Лиде все, как есть; она — умная, поймет и не осудит; он разыскал у сына ручку, бумагу, присел к столу и задумался; через час он вконец измучился, а подходящих слов так и не нашел, но отсылать фотографию без письма было как-то неприлично, и тогда он размашисто вывел в начале страницы:
«Я возвращаю Ваш портрет», — подписался, заклеил конверт и уже в дверях столкнулся с женой.
— Ты куда?
— На свидание.
— Ой, Анисенко, горе мне с тобой, — насмешливо вздохнула Наталья и захлопнула дверь.
Анисенко посмотрел на дверной глазок, вспыхнувший желтым светом, нащупал в кармане жесткий конверт и, поскольку был тугодум и вовремя не нашелся, с грустной иронией обронил:
— Вот тебе и Анисенко…
1985
Альчо
Я жил шумно, жадно торопил события; круговерть редакционной текучки настолько увлекала меня, что я легко, словно своими, бросался чужими мыслями о бренности человеческого бытия, о высоком и таинственном предназначении человека; эти мысли принимались без особого удивления, словно глоток воздуха или трамвайный билет, не проходили ни через разум, ни через сердце и потому не влияли на мою жизнь, — все это я понял в те самые мгновения, когда у меня впервые в жизни перехватило дыхание, я повалился на пол; не мог ни встать, ни крикнуть, да и кому было кричать?.. Все сотрудники редакции давно разошлись по домам; многие из них мои «ночные бдения» считали бзиком, как и все, что я делал; я чувствовал, что уже не принадлежу сегодняшнему дню, а нахожусь где-то на границе бытия и небытия; и тогда с невероятной четкостью вспомнилась страница из старинной книги, в которой я минуту назад искал экстравагантный афоризм для статьи об одиночестве:
«Многие ведь дружат со мной, опуская руки со мной в солонку, а в несчастье, как враги, обретаются и даже помогают поставить мне подножку; глазами плачут со мной, а сердцем смеются надо мной. Потому-то не имей веры к другу и не надейся на брата».
Боль вошла в сердце, и оно, готовое выпрыгнуть, беспорядочно заколотилось в груди; меня охватил жуткий страх, нагнавший мурашек; я понял, что все мои представления о месте под солнцем — иллюзии, которые являются профессиональным заболеванием большинства газетчиков; после меня не останется ни философских трактатов, ни романов; люди, пишущие трактаты по переустройству жизни, а они существуют и поныне и обивают пороги редакций со своими трудами, написанными в амбарных книгах или в школьных тетрадях, — эти люди всегда вызывали у меня сочувственную улыбку, но, как я понял позже, их наивное желание открыть для человечества кратчайший путь к бессмертию шло от отчаянья, а не от какой-то душевной болезни; бессмертие в те краткие минуты из отвлеченной идеи, лишенной плоти, превратилось в горящую свечу, которая осталась бы после меня в сомкнувшемся кромешном мраке…
Я очнулся в больнице. Врач, мой давний знакомый, бодро заверил, что ничего страшного мне уже не грозит, что виной всему происшедшему нынешние стрессы и что, как он недавно прочитал в одном из научных журналов, без них тоже нельзя, они мобилизуют организм. Я грустно улыбнулся, хотя днем раньше ухватился бы за этот парадокс; мной уже владели иные мысли и чувства, я попытался рассказать о них врачу, по он, даже не выслушав, мягко заметил:
— Тебе надо отдохнуть. После кризисной ситуации частенько возникает желание пересмотреть отношение к жизни. Дай этому трезвую оценку или, что еще лучше, забудь. Тебе сейчас надо слушать только жизнерадостную музыку и писать только светлые стихи.
Я не выдержал и дал волю иронии:
— У меня такое ощущение, что только тем и занимался, и вот он — результат.
Врач понимающе засмеялся и ушел.
Я вернулся в редакцию с таким настроением, что именно я больше своих героев нуждаюсь в жизненных советах и рецептах, «ибо имею сердце — как лицо без глаз; и ум мой — как ночной ворон, на развалинах бодрствующий»; один из моих коллег мрачно пошутил: «Лучший врач тот, который постоянно болеет, а лучший журналист — неудачник в жизни». Как и в каждой остроте, в его словах была доля правды; он понимал: нужно передохнуть, сделать хотя бы крохотную паузу. «Закачусь в районную гостиницу на недельку. Подышу свежим воздухом. Глядишь, немного отойду», — решил я.
Мой выбор пал на заштатный патриархальный городишко, который состоял из одной трехсотметровой улицы с каменными домами и небольшой мебельной фабрики; на ней работал столяр-краснодеревщик — герой моего будущего очерка; короткие сборы в дорогу, предчувствие встречи с новым, наверняка интересным человеком — все это вдохновляло. Я даже не стал договариваться о встрече по телефону, просто сказал себе: «Командировка большая. Спешить некуда».
Но сегодня, едва я узнал, что столяр-краснодеревщик взял три отгула и уехал в деревню к матери окучивать картошку, сработало уже въевшееся в кровь: «Зря!»; мысленно я пытался настроить себя на иной лад: «Все отлично. Три дня ты можешь посвятить только себе. Можешь запереться в номере полупустой гостиницы и отрешиться от суеты, а то живешь так, словно делаешь первые шаги… Ты уже не мальчик. Тебе почти тридцать».
Внутренняя накачка разожгла самолюбие лишь настолько, чтобы побороть уже проклюнувшееся желание пристроиться в хвост тихой очереди в дощатом автовокзале. Хотел я этого или нет, в голове, словно дежурно тлеющая вывеска «выход» в кинотеатре, постоянно возникало: «За эти три дня ты окончательно замучишь себя самокопанием. Ты же стал самоедом». Как ни странно, но идти в гостиницу, где меня ждал тихий номер с видом на речку, тоже не хотелось; от одного предчувствия, что вот-вот останусь наедине с самим собой, меня прошибла испарина.
Я дважды прошелся по центральной улочке города, свернул к полузапущенному парку, который левой своей стороной смыкался с садами; на его аллеях, дышавших почти лесной первозданностью, никого не было. Я присел на зеленую скамейку, рядом положил «дипломат» и, прикрыв глаза, задумался; где-то там, далеко, был дом, редакция с ее однообразно важными новостями, крикливыми летучками, и я — тот, прежний. «А, собственно, кто я? Кто?.. «Ибо я… как трава сорная, растущая под стеной, на которую ни солнце не сияет, ни дождь не дождит». Может, и так. Но разве мне от этого знания легче или кому-то от него легче?»
— Ты чего тут? — услышал я глуховатый голос и открыл глаза.
Передо мной стоял невысокий плотный мужчина.
— Не подумай, что в родственники набиваюсь, — грубовато заметил он, — не хочешь, так на соседнюю лавку сяду. Их тут хватает.
— Дело твое, — уклончиво ответил я.
По мешковатым, пузырившимся на коленях брюкам, по красному одутловатому лицу нетрудно было догадаться, что передо мной стоял типичный представитель великой гвардии алкашей, целыми днями толкущихся возле пивнушек и забегаловок. Время было раннее, час широкой распродажи «червивки» еще не настал, а мужчина, судя по его затрапезному виду, уже не входил в категорию тех, кто имел деньги на переплату и получал «червивку» в любое время с черного хода; поэтому спешить ему было некуда.
Я опустил голову и макушкой почувствовал назойливый взгляд; мужчина как-то нависал надо мной, и, когда легкий ветерок тянул с его стороны, в ноздри впивался кисловатый запах перегара; невольно хотелось встать и уйти; на душе и без этого алкаша было неспокойно, даже пакостно.
— Так сесть рядом или нет? — недовольно, с некоторым вызовом прогремело надо мной.
Я присмотрелся к мужчине внимательнее. Его по-женски крупные глаза смотрели с тусклым, но подкупающим добродушием, и весь он, обрюзгший, раскисший от пива и дешевого вина, напоминал большого неухоженного ребенка; встречаясь с такими людьми, я с болью замечал, что они мыслят о жизни категориями двадцатилетней давности, словно время остановилось или повернуло вспять, потому-то они постоянно толкаются в закрытые двери; их нигде не ждут, их не понимают, и они еще больше обособляются, озлобляясь, и тем самым уходят все дальше и дальше по дороге, замкнутой в гигантское кольцо; я встречал их на первом круге, и на втором, и на том, когда они уже не ориентировались — весь мир представлялся им жестоким, полным несправедливости; я говорил себе: «Когда веселишься за многими яствами… вспомни хлеб сухой жующего; когда лежишь на мягкой постели под собольими одеялами… вспомни под одним платком лежащего, и от стужи оцепеневшего, и каплями дождевыми, как стрелами, до самого сердца пронзаемого»; я пытался убеждать их, что жизнь еще не потеряна, но у меня не хватало ни сил, ни умения; да, собственно, они, фанатически уверовавшие в свою правоту, и не нуждались в проповедниках.
— Ну, что надумал? — не отставал мужчина.
— Ты спрашиваешь так, словно мы сто лет знакомы, — отрезая путь к дальнейшим разговорам, подчеркнуто недружелюбно заметил я.
— Верно. Сначала надо познакомиться. — Мужчина основательно вытер ладонь о засаленные брюки, порывисто схватил меня за руку: — Альчо… Знаешь, прямо тебе без обиняков скажу, меня лицо твое напугало. Я по делу бежал. Васька Трофимов сучку купил. Таксу. А я давно такого кобелька держу. Умен, сволочь! Только дверь открою, он хватает тапки и волокет мне. Если я шибко пьяный, он их посреди комнаты бросит и — шмыг под кровать. А так ластится, лижется, ну, только слова не скажет! Понимаешь, кобелек сейчас у Васьки живет. Второй день. Я проведать бежал, а тут… твое лицо. Прямо как на камень наткнулся, — Альчо тяжеловато опустился на скамейку, — смотрю, человек ты нездешний. Вот и подумал: какая такая тоска гложет тебя тут, в чужом месте?
«Дождался утешителя», — с горькой иронией подумал я; наша встреча была похожа на злую шутку судьбы; против желания под сердцем возникла тревога, оно сжалось, и где-то рядом с ним, под левой лопаткой, родилась ноющая боль; я замер, не смея пошевелиться; боль ни нарастала, ни угасала, прочно удерживая меня в состоянии затаенного страха.
По аллее проходила пожилая женщина; каждый ее шаг сопровождало легкое шуршание летнего кримпленового пальто, похожее на шорох электрических разрядов. Она оценивающе посмотрела сначала на черный элегантный «дипломат», привезенный мне приятелем из заграничной поездки, потом взгляд женщины скользнул по моей замшевой куртке (я называл ее «гордостью провинциального газетчика») и уже в последнюю очередь — по лицу, наверное, бледному и замкнутому.
Женщина перекинула из одной руки в другую хозяйственную сумку, набитую мелкими пупырчатыми огурцами, купленными, видимо, для засолки, и грозно прикрикнула на Альчо:
— Чего к порядочному человеку пристал? Иди своей дорогой, пьянь несчастная!
— Ну-ну, не больно-то, — лениво, безо всякой злобы огрызнулся Альчо, мельком посмотрел на меня и самоуверенно добавил: — Большинство баб — дуры. Тут им даже высшее образование не помогает. А вот за что их любят, черт его знает?
Я боялся вздохнуть хотя бы вполсилы, хотелось прилечь перед скамейкой на землю и переждать боль, но все происходящее передо мной было до того комично, что я не выдержал — улыбнулся, и боль от какого-то нервного положительного импульса стала угасать.
Женщина поняла мою скованную улыбку как приглашение к игре; ее округлое, с жесткими волевыми складками лицо насмешливо сморщилось:
— Сам-то больно умен. До пятидесяти лет дожил, ни жены, ни детей. Только и знаешь, что в стакан смотришь… — В какое-то мгновение почувствовав безысходность Альчо как свою, она смягчилась: — Чего ты там потерял, а?
— Не трави душу, женщина, — как-то отрешенно проговорил Альчо, — у меня любовь тут! — Неожиданно он с силой ударил себя кулаком по левой стороне груди. — Только никто понимать этого не хочет. У меня любовь тут!.. из-за нее вся жизнь наперекосяк пошла.
— Куда уж там! — резковато, но еще жалеючи возразила женщина. Порыв сочувствия уже прошел; остывая, она снова нахмурилась и вопросительно посмотрела на меня. Мое молчание и неучастие в происходящем ставили ее в неудобное положение; боль уже прошла, можно было поблагодарить женщину хотя бы взглядом и уйти, но странное чувство, не похожее ни на любопытство, ни на профессиональный журналистский интерес, удерживало меня на месте.
Женщина надменно вскинула голову: я вам помогаю избавиться от алкаша, а вы сидите так, словно вас это совершенно не касается, и гордо удалилась.
— Чего эта Дарья Ивановна смыслит в любви! — по-театральному шумно вздохнул Альчо. — Сыта. Одета. На черный день отложено. Дочку за начальника цеха выдала. И думает, что по-людски живет. Я тоже бы так мог. Я ведь — бульдозерист. Деньгу зашибал приличную. Это меня теперь уже нигде не берут… Ну и хрен с ними! — Альчо обиженно засопел и безо всякого перехода спросил: — У тебя семья есть?
— Да, — сказал я с той растерянностью, когда в глубине души почти бессознательно ожидаешь похожего вопроса.
— По любви женился? — спросил Альчо так, будто заранее знал мою прежнюю жизнь и будущую и задавал вопросы лишь из вежливости.
Я невольно подумал, что как, наверное, глупо выглядит со стороны: меня исповедует затрапезный алкаш, который то ли по наитию, то ли по предубеждению, что у каждого есть своя трагедия, раз она есть у него, увидел во мне потенциального неудачника. И хотя такие вопросы: «По любви женился?» или «Есть ли она, любовь?» — в тридцать лет не возникают (принято считать, что взрослый человек ответы на них знает), но, странное дело, когда мне перевалило за двадцать пять, я сначала осторожно, но с какой-то тревожащей настойчивостью стал себя спрашивать: «Почему я живу именно с Таней? Почему она живет со мной?..» До двадцати пяти эти вопросы казались кощунственными, а потом словно кто-то снял с них запрет, и я мысленно стал прикидывать, как бы жил с другими женщинами, как бы Таня жила с Борисом, — в него была влюблена с пятого класса, и, кто знает, может, с ним она была бы счастливее; сначала я думал, что все это из сказки: на Земле есть только один человек, с которым бы ты составил единое целое; с годами возникла неуверенность в прочности своей семьи (Таня часто вспоминала Бориса), а потом родилась тихая тоска, похожая на шорох ветра за окном, по чему-то настоящему, когда между людьми не возникает даже тени недоверия; наверное, это — тот недостижимый идеал, и глупо ставить вопрос ребром: или все, или ничего; существовать, сознавая неполноту жизни, все равно, что жить с опухолью в груди: никто не знает, будет она расти или рассосется.
И наивный, почти ребяческий вопрос Альчо я воспринял совершенно серьезно; почему-то отношения между мной и Таней я постоянно отодвигал на второй план, а на первом была работа; я говорил себе: вот осмотрюсь, определюсь в жизни поточнее; да и Таня о себе не напоминала. После рождения дочери ей стало совсем не до меня: появились десятки новых забот — все это было естественно и понятно, но я остро стал ощущать, что нас — двое, что между нами незаметно и неотвратимо устанавливаются новые отношения.
«Почему он меня об этом спрашивает? Какое дело этому Альчо до моих болячек? Ему бы самому как-то свести концы с концами». Я повернулся к Альчо, чтобы сказать: «У меня все пока терпимо, а уж как там дальше будет, этого никто не знает».
Альчо, позевывая, смотрел в дальний угол пустой аллеи; казалось, его уже ничто не интересует и про мое существование он давно забыл. Напоминая о себе, я кашлянул.
Альчо лениво скользнул глазами по моему лицу, понимающе причмокнул и хрипловато выдавил:
— Я вот без любви жениться не смог. Баб много было, и не одна упрашивала, а я не смог. Чего я буду обманывать себя и других заодно. На кой хрен мне нужна такая самодеятельность!.. Я и так был сыт, одет с иголочки. Дом после матери достался такой, что хоть две семьи в него вселяй. А постирать, сготовить я не хуже повара могу. Слышь, — лицо его осветила добродушная улыбка, — я с детства люблю пирожки печь. Мать, бывало, меня тряпкой с кухни гонит, а я все одно к тесту лезу. Да и сейчас нет-нет да и найдет на меня: такие щи себе сварганю, что бабам такие, хоть от натуги лопнут, ни в жизнь не сварить! А ты любишь на кухне возиться?
— Нет. Я привык к общепиту.
— Тошниловки не по мне. Еще пьяный я могу есть их бурду. Пьяный я даже с начальством не спорю, — небрежно откинувшись на спинку скамейки, Альчо засмеялся, — трезвый я лучше кусок сыра или колбасы возьму, да полбуханки хлеба, да луковицу, да как наверну все тут, на свежем воздухе. Запью портвешком, и, знаешь, хоть тоска зеленая, а жить можно. Во загадка: жить вроде бы незачем, а жить можно. У тебя такого не бывает?
— У меня такое чувство, что и не начинал жить. — Еще никому из друзей я не говорил об этом, а вот Альчо сказал, наверное, потому, что незнакомому человеку легче открыть сердце; знакомые ждут от тебя чего-то определенного, а тот, случайный, принимает тебя таким, каким ты перед ним раскроешься.
— А ведь это, наверное, большой грех этак жить, — вполголоса заметил Альчо, — не подумай, что я богомольный какой. Грех не попы придумали. Я ведь не каждый день пьяный, хотя чаще — пьяный, а трезвый лягу на кровать и думаю: чего я такого на этом свете сделал? Да на все мои дела месяца бы с лихвой хватило. Водки да червивки, правда, я с цистерну выдул. Тут мне бы за месяц не управиться! — Альчо глуховато рассмеялся.
Я подумал о том, что и мне бы тоже хватило месяца для моих дел, только вот написать всего, что вышло из-под моего пера за десять лет, я бы не успел; такое сравнение развеселило.
— При всей той неразберихе, которая существует в жизни, бывают приятные совпадения… — шутливо начал я.
— Слышь, кончай трепаться! — резко перебил меня Альчо. — Смейся не смейся, себя все равно не обманешь. А передо мной тебе красоваться нечего. Я тебе не кум, не тесть, а просто — Альчо. Еще в наш город приедешь, у любой пивной спроси, где найти Альчо. И каждый тебе скажет. Это у меня кличка такая: Альчо. На самом деле меня зовут Олегом Константиновичем. Что?.. не похож на Олега Константиновича? — широко раскрыв рот, Альчо снова рассмеялся.
— Знаешь, я ведь тоже Олег, только — Иванович.
— Какая разница: Петрович, Иванович, раз Олег, то, можно считать, Альчо. — Альчо согнутым указательным пальцем смахнул слезы, набежавшие от внезапного приступа смеха, и мягко тронул меня за плечо: — Ты не обиделся, что я тебе сказал «не трепись»? Думаешь, сидит тут алкаш, цену себе набивает. Дошел до того, что на работу нигде не берут, а он еще о смысле жизни, о любви загибает. Смотри! — Альчо с треском рванул ворот рубашки — на левой половине его груди было жирно вытатуировано: «Здесь живет Зинуля».
В моей памяти мгновенно всплыло: «Не могу жить без моря», «Нет в жизни счастья», «Не забуду мать родную»… Я криво усмехнулся.
Альчо рывком запахнул рубашку.
— Смеешься. Все вы смеетесь, — глухо простонал он, — а помните вы хоть одну женщину, как я? Мне почти вдвое больше, чем тебе. Я уже спился, я уже не человек, а Зинулю помню. Хоть предала она меня, стерва, а все одно тут живет! — Он стукнул кулаком по груди. — И никого туда не пускает. А почему?.. Молчишь. Потому что люблю ее, стерву. А рухнуло у нас все по глупости. Случай был такой. Ты веришь, что случай может всю жизнь перевернуть?
— Это сложный вопрос.
— А ты без сложностей. По-людски. Я вот говорю «случай». Он прошел, а жизнь-то все равно наперекосяк. Вернее, нет ее, жизни-то. То ли, думаю, на роду мне так написано, то ли еще чего?
— Не зная всего, трудно судить…
— А ты не спеши, — обрадовался Альчо моему замешательству и начал говорить быстро, отрывисто. Я смотрел на его мясистые руки с черными обломанными ногтями, на его красное небритое лицо и пытался найти хоть маленькие черточки, роднившие этого опустившегося человека с тем молодым, жизнерадостным парнем, о котором он мне рассказывал.
…Поселок готовился к свадьбе. Олег работал бульдозеристом на шахте; просили отстоять две смены, соглашался без лишних слов, а в субботу и воскресенье он подрабатывал в дорожном управлении. Там тянули новую ветку к птицефабрике, рабочих рук не хватало. Зина торговала в привокзальном буфете, выходные дни у нее тоже были самыми горячими. В поселке знали, что хлебосольный Олег пригласит на свадьбу всех знакомых парней, что Зина тоже нескупа на деньги, и потому охотно прощали их жадность к заработкам; свадьбы нынче стали начетистыми, и каждый это понимал.
Олег уже присмотрел полдома на окраине поселка. Хозяйка согласилась продать с рассрочкой на год. Правда, жить можно было у матери, в городе, но Зина ей не приглянулась.
— Это ж надо ум совсем потерять, чтобы брать детдомовскую, — сердито ворчала старуха, — эта девка все одно что кот в мешке. Ты, сын, нашенскую бери. Про нашенских мы все знаем: какой отец, какой дед был. А у нее в роду, можа, полоумные али припадочные есть. Детям такое наследство перепадет. Будешь локти кусать, да уж не вернешь.
— Выходит, мать, если родословную не знаешь, так лучше и не жениться? — со скрытой улыбкой спрашивал Олег.
— Раньше все порядочные люди этак делали. У них в роду дураков не было, разве что бог за грехи наказывал. Это теперечи все гужуются как придется, оттого и вся жизнь кувырком пошла. А ты, сын, в первый черед не о себе, о детях подумай, — зная, что Олег ее не послушает, больше по привычке напутствовала мать. Не нравилось ей, что Зина работала на бойком месте. С утра до вечера возле прилавка толклись мужики и молодые парни, каждый норовил с ней заигрывать.
«У буфетной стойки любая девка, даже самая раззолотая, спортится», — при встрече напоминала Олегу мать. Тот посмеивался в ответ, не было у него к Зине ни капли недоверия. Правда, она поначалу покрутила ему голову — его ухаживаний словно бы не замечала. Да ее можно было понять: кто знает, что на уме у этого видного самоуверенного парня. А когда Олег заговорил о свадьбе, Зина расплакалась и долго не могла успокоиться. Она, выросшая в детском доме, по-особому страстно и суеверно хотела иметь свою семью, детей, и ни Олег, ни кто другой, познавший родительскую ласку, даже наполовину не мог понять всей глубины ее выстраданного чувства.
Они подали заявление в загс. Зина купила в газетном киоске открытки с золотым тиснением «Приглашение на свадьбу». Каждый день, после работы, Олег забегал к Зине в привокзальный буфет.
В субботу, под вечер, он, как обычно, вошел в темноватое, еще довоенное здание вокзальчика: часы на стене показывали половину шестого — до закрытия буфета было еще целых полчаса. За круглым столом двое мальчишек пили ситро.
— В продовольственный крымский портвейн завезли, — уже порядком измучившаяся от предсвадебных хлопот, устало улыбнулась Зина. Хрупкая, в белом халате, тонко перетянутом в талии, она казалась восьмиклассницей, случайно попавшей за буфетную стойку. — Я хотела тебя подождать, но завезли всего два ящика. Я один взяла.
— Прежде чем брать такие ответственные вещи, нужно посоветоваться с мужчиной, — Олег шутливо нахмурился и потянулся за граненым стаканом.
— Моему вкусу не веришь, — подыгрывая, с притворной обидой заметила Зина, достала из ящика, стоявшего за обшарпанным холодильником, бутылку крымского портвейна и ножом ловко сковырнула пластмассовую пробку.
Олег выпроводил из буфета мальчишек, повесил на дверь табличку «Буфет закрыт», отпил из стакана и со словами «очень сладко» обнял Зину и притянул ее к себе.
Напрасно стучались в дверь припоздавшие завсегдатаи привокзального буфета: в щели пробивались желтые зайчики света, а двери никто не открывал. «Спит, что ли, мать ее… — одноногий дядя Коля, повиснув на костылях, заглянул в замочную скважину — Олег и Зина целовались, сидя на буфетной стойке, — хмыкнул: — Пива нынче не будет», — и запрыгал к выходу.
Когда голоса за дверью утихли, Зина собрала сумочку, Олег выключил свет. Зина расписалась на белом клочке бумаги и вложила его в контрольный замок.
В зал ожидания шумно ввалились подростки. Впереди, небрежно прищурившись, одетый в ярко-красную рубашку, с массивным крестом на шее, вышагивал Женька, известный в округе по прозвищу Банный Лист. Он учился в девятом классе, но уже выпивал, отбирал у малолеток деньги и, хотя сложением был далеко не атлет, верховодил подростками.
— Зинуля, открывай шалман! — весело крикнул он. — Дети соскучились по пиву.
Зина нерешительно замерла, прижимая к груди контрольный замок с вложенной в него белой бумажкой. Олег взял у нее замок, вставил дужку в проемы запора и насмешливо бросил Женьке: — Детям спать пора.
— Ты дядя, не в свое дело не вмешивайся, — нагловато заметил Женька и, подмигнув приятелям, столпившимся за его спиной, добавил: — Зинуля, между прочим, друг детей.
— Она тебе не Зинуля. И вообще, давай, Лист, поворачивай оглобли. — В голосе Олега прозвучала еле заметная угроза. Он понимал, что развязность Женьки, его панибратский тон идут от желания покрасоваться. Тот почувствовал, что перегибает палку, и уже заискивающе заметил:
— Ну, чего ты, пошуметь уже нельзя. У нас в горле пересохло, а ты сразу возникаешь. Нет бы поддержал жаждущих!
— Утоли свою жажду под колонкой. — Олег взял сумочку из Зининых рук, и мимо притихших подростков они пошли к выходу.
Женька такого поворота событий не ожидал: он не привык, чтобы ему, сыну прокурора, отказывали в подобных мелочах. Понимая, что «горит» на глазах у дружков, он растерянно заморгал и, стараясь как-то спасти свой авторитет, почти жалобно крикнул в спину Олегу:
— Слышь, ты хоть закурить дай.
— Курить в вокзале не положено, — полуобернулся тот. Жалкий вид Женьки вызвал у него улыбку. — И вообще, детям за такое баловство по соплям дают.
В Женьке мгновенно вспыхнуло то неистовство, во власти которого он, очертя голову, бросался в любую драку; трусливый и хлипкий, Женька слеп от ярости и в эти минуты был страшен: мог ударить кирпичом, колом — всем, что попадалось под руку. Он весь как-то подобрался и презрительно процедил сквозь зубы:
— Ну ты, веди свою подстилку.
Олег передал сумочку Зине, и та машинально приняла ее; тихо, но с той твердой угрозой, идущей от уверенности в себе, он сказал:
— Извинись, сопляк.
— Держи! — Женька подбежал и небрежно плюнул ему в лицо.
Выронив сумочку, из которой высыпались пирожки и покатились по грязному полу, Зина обеими руками вцепилась в Олега; тот коротким движением плеча стряхнул ее и, не размахиваясь, резко ударил Женьку в грудь. Опрокинувшись на деревянный диван, Женька как-то судорожно дрыгнул ногой и сполз на пол. Один из его дружков кинулся Олегу под ноги, чтобы сбить его, и тогда подростки стаей накинулись бы, как уже не раз делали в уличных драках, по тот отскочил в сторону и ударил парня ногой под ребра. Тот, скуля, пополз к приятелям, которые сбились в упругий комок: инстинктивно поняли, что потерпели поражение, и, словно стайка вспугнутых воробьев, разлетелись по сторонам.
— Скоты! — возбужденно дыша, Олег презрительно посмотрел на валявшегося на полу Женьку, на его дружка, забившегося в дальний угол зала ожидания.
Зина, хотя драки в буфете случались, перепугалась не на шутку; страх у нее сейчас был совсем иной, непривычный — страх за близкого человека, и от этого она совсем оробела; хотела что-то сказать Олегу, но не нашлась, наклонилась за сумочкой и сунула ее ему в руки. Это подействовало успокаивающе.
— Порядок, — Олег обнял Зину за плечи и подтолкнул к выходу.
Не успели они перейти полукруглую привокзальную площадь, как из-за угла выскочил желтый милицейский «газик». Взвизгнув тормозами, он остановился; из него вышел старший лейтенант Вася Панченко, с ним Олег когда-то учился в одном классе. Козырнув, он попросил «следовать за ним». Олег понял, что кто-то из подростков позвонил отцу Женьки.
Тревожно гудя сиреной, к вокзалу подкатила «скорая». Опираясь на плечо санитарки, Женька посмотрел в сторону Олега, стоявшего рядом с милицейской машиной, и скрестив четыре пальца, изобразил решетку.
— И чего ты с ним связался? — когда «скорая» уехала, досадливо поморщился старший лейтенант.
— Они сами привязались. Вот Зина — свидетель, — не сомневаясь в своей правоте, сухо ответил Олег. Ему не понравилась отчужденность бывшего школьного приятеля.
— Садись в машину, разберемся, — глядя под ноги, скороговоркой выдохнул Панченко.
— Нет, одного его я с вами не пущу! — Зина боязливо схватила Олега за руку. — Я же — свидетель. Я расскажу все как было.
— Когда свидетели понадобятся, тебя вызовут, — уже опять подчеркнуто строго, по-начальнически отрезал старший лейтенант и жестом показал Олегу на распахнутую заднюю дверцу машины.
— Слушай, Васька, кончай дурака валять! — не выдержал Олег. — Я же никуда не сбегу от невесты. Понимать должен. Ну, хочешь я тебе эту… как ее?.. подписку о невыезде дам. Да завтра я сам приду. А сегодня, извини, не могу. Видишь, Зинуля ждет. Свадьба через месяц. Я тебя, хоть ты и дюже строгий стал, приглашаю.
Старший лейтенант снял фуражку, нервно смахнул с нее невидимые пылинки и вполголоса, так, чтобы не слышал шофер, ожидающе высунувшийся из машины, ни дворник (опершись на метлу, тот наблюдал за происходившим), сказал:
— И чего ты с этим Листом связался, отца его, что ли, не знаешь?
— Отца? Прокурор. Ну и что? Распустил сынка, теперь пускай расхлебывает, — небрежно ответил Олег.
Старший лейтенант сожалеюще дакнул, нахлобучил фуражку, посмотрел на Олега, как смотрят на детей, которые по причине своего возраста многого не понимают, и, обронив: «Мне приказано отвезти тебя на экспертизу», пошел к машине.
— Зинок, я через час приду. Как договорились, на последний сеанс сходим, — Олег шагнул к машине, но Зина крепко держала его за руку. — Зинок, ему же приказали. Стал бы Васька меня попусту таскать. Мы же с ним кореша были. — Он ладонью успокаивающе погладил Зину по щеке. — Ну, снимут показания да отпустят. Привязались они сами, чего бояться-то?.. Ну, будь умницей. Видишь, Васька уже заждался. Еще выговор за меня схлопочет.
Зина нехотя освободила его руку и как вкопанная стояла до тех пор, пока не затих гул мотора и не возник шаркающий скрип метлы, который подчеркивал пустоту привокзальной площади. Что-то недовольно бурча себе под нос, дворник ожесточенно махал метлой, подгоняя окурки и обрывки бумаги поближе к чугунным урнам.
— …Домой меня так и не пустили, — глядя в дальний угол аллеи, глуховато говорил Альчо. — Потом был суд. Зачитали заключение экспертизы; средняя стадия опьянения. До средней-то, по совести говоря, далеко было. Я ведь всего стакан портвешка пригубил, для меня это — так, насморк. Но факт есть факт, спиртным пахло. Да все это — мура! Вот когда Зинуля вышла и сказала, что я к этой шпане привязался, тут у меня даже в глазах потемнело…
— Как же так? — уже искушенный в хитросплетениях человеческих отношений, изрядно потаскавшийся по судам, не поверил я.
— Сломали девку, — мрачно заметил Альчо, — на другой день у нее была ревизия. Нашли тот самый ящик портвейна, который она на свадьбу приготовила, и початую бутылку. Отец Женьки пригрозил, что посадит за спекуляцию спиртными напитками. Зинуле в ту пору всего-то двадцать годков было. Понятно дело, испугалась. А тут мать моя решила с ней расквитаться. Как узнала от Женькиного отца, что у нее ящик незаконного вина нашли, ляпнула, что будто слышала, как она говорила: «Я на одном вине да на пиве свадьбу отработаю». Я загремел на три года за хулиганство. Из тюрьмы Зинуле каждую неделю письма писал. Писал, что все прощаю, что она правильно сделала: зачем нам вдвоем сидеть? А она ни слова в ответ… Вел я себя прилично. Начальство видит, что я не зверь какой-нибудь. Меня через два года досрочно освободили.
Я сразу домой кинулся. Приехал, а Зинули нет. За два месяца до моего возвращения уволилась и уехала неизвестно куда. Я по ее подружкам походил. Те тоже ничего путного не сказали. Мать, правда, мне нашушукала, что Зинуля с прокурором спуталась. И, знаешь, через верных людей узнал: жила она с ним. Он ее запугал. Деваться-то, видать, было некуда. А девке стоит один раз черту переступить, а уж там пойдет… И, знаешь, когда я писем от нее ждал и бесился, что нету их, думал, вернусь, если Зинуля неверна, одну пулю — ей, другую — ему, а третью — себе. А как узнал все, так руки опустились. С горя запил. Думал, допьюсь до белой горячки. Но забуду все и начну новую жизнь. Ан нет! На день, на два забыть это можно, а совсем пропить — не получилось. С тех пор так вот и живу. Увижу возле пивной малолеток, которые и драться-то не умеют: собьют человека и всем гуртом пиночат… Смотреть страшно, как зверье набрасываются! Так вот, как увижу этакое, сразу в эту кашу кидаюсь. Меня прямо ярость слепит, когда я этих зверенышей вижу. Скольким я из них зубы повышибал, счету нет. Смотри, как они меня любят! — Альчо задрал рубашку и повернулся спиной. Вся она была в шрамах от ножевых ран. — Это они из-за угла счеты со мной сводят. Убить боятся, а только чиркнут, чтобы страху нагнать. Но у них страха больше, чем у меня. Правда, те из них, кто с пониманием, меня уважают. Знают, что Альчо любит справедливость и зря кулаками махать не будет. Да и милиция меня не забирает. Теперь у нас милицией Васька Панченко заведует. Иногда подберет меня на улице, отвезет в каталажку. Я отосплюсь и домой. Он вроде как вину передо мной чувствует.
— А Женька где? — осторожно поинтересовался я.
— Женька Лист покуролесил за спиной папаши. Ночью по пьянке свалился в пруд и захлебнулся. Чтобы привлечь к ответственности лягушек, у папаши рук не хватило. — Альчо снова громко рассмеялся. — А потом его самого турнули. На чем-то крупно погорел. Сейчас он на пенсии. Выращивает клубнику и торгует на базаре. Есть желание, — базар тут неподалеку, как и все в этом городке. Ты Женькиного отца сразу узнаешь, чистенький такой мужичок в соломенной шляпе. Я тебе не шибко надоел? — Альчо испытующе посмотрел на меня. — Да ты не стесняйся, скажи, не обижусь. Лицо вон у тебя так бледное и осталось. Сердечком страдаешь?
— Да есть.
— Знаешь, я как-то в одной газете прочитал, что главная болезнь нынче — водочная, а в другой написали, что сердечная. И подумал, что не пей я, сердечко бы всего не выдержало. Тоже надорвалось бы. А если сердечко не выдерживает, то это верный признак, что не так живем.
— Как же надо?
— Не знаю, судьба, сволочь, схватила за руку и мимо любви провела… Слышь, дай на кружку пива. Тоскливо на душе.
Увидев, что я торопливо вытряхиваю содержимое бумажника, Альчо снисходительно заметил:
— Мне только на кружку. А теперь попрощаемся. — Он взял мою руку и приложил к левой половине своей груди, потом свою — к моей; щелчком подбросил монету, с изящной ленцой поймал ее и на прощанье улыбнулся: — Слышь, не забывай Альчо!
И вот сейчас, когда я окончил этот рассказ, снова раскрыл книгу, строки из которой преследовали меня все последние месяцы, и прочел:
«Как олово пропадает, когда его часто плавят, так и человек — когда он много бедствует. Никто ведь не может ни пригоршнями соль есть, ни в горе разумным быть; всякий человек хитрит и мудрит о чужой беде, а в своей не может смыслить…»
1984
Ситуация
Через приоткрытую дверь балкона в комнату с легким шуршанием, похожим на призрачный шорох сухих листьев, втекал красноватый вечерний зной. Евгений нетерпеливо, словно ему была дорога каждая секунда, рылся в шкафу, копался на стеллажах, в тесной кладовке — искал струбцину, чтобы утром без лишних хлопот укрепить телескоп на перилах балкона; уезжая в деревню, жена и сын стронули многие вещи с привычных мест — это раздражало, и Евгений невольно подумал о том, что лишь у одинокого человека любая безделушка словно бы пустила корни в полированную тумбочку или в белый подоконник — ее можно найти с закрытыми глазами.
В половине восьмого позвонила жена; бодрая, довольная сухой погодой, на которую в последние годы не очень-то щедра природа, она весело рассказала о том, как они с сыном коптили над свечкой стекла, и что тоже будут наблюдать солнечное затмение.
— Ты, наверное, взял отгул? — в голосе жены прозвучала улыбка.
— Да. Такое бывает раз в полвека.
— Ты, Женя, неисправим, а может, неисправен… Знаешь, я часто брожу по лесу одна, и мне подумалось: надо бы нам быть вместе.
— Ты что?.. боишься?
— Я все понимаю, но как-то не по себе.
— Ну что ты, что ты… наслушалась бабьих россказней о конце света, — засмеялся Евгений и подумал, что легенды, мифы о гибели земной цивилизации, наверное, родились не на пустом месте; вот и сейчас каждую секунду невидимые локаторы ощупывают потемневшее вечернее небо, десятки спутников-разведчиков, издалека похожие на крохотные мерцающие звездочки, глядя на которые, влюбленные, может быть, загадывают желания, наблюдают за тем, что делается на Земле, и уже свести всю эту обширную информацию в одни руки невозможно; пока еще окончательное решение принимают люди, поскольку для запуска стратегической ракеты нужно минут тридцать-сорок, а если это время сократится до секунд?.. тогда решение за доли секунды будет принимать электронный мозг, малейшая неполадка и…
«Почему так происходит? неужели эта двойственность заложена в природу Мироздания? Ищем пути продления человеческой жизни и параллельно… Почему наши взгляды издревле приковывает небо, мы же не птицы. Может, как пишут в фантастических романах, все мы — пришельцы и генетически в нас заложена тоска по той далекой, тысячелетия назад оставленной Родине?.. Впрочем, думать над этим стало уделом профессионалов. Пожалуй, это ненормально…» — Евгений просидел в кресле до полуночи; утром проснулся в половине восьмого, на всю катушку включил радио — передавали легкую эстрадную музыку; Евгений укрепил телескоп на перилах балкона, развернул трубу в сторону солнца и чертыхнулся: забыл о светофильтре.
Евгений кинулся в комнату сына, разыскал среди игрушек темно-зеленое стекло и с помощью клейкой ленты примотал его к окуляру телескопа; по радио передали, что телескопы всех крупнейших обсерваторий, расположенных в восточном полушарии, направлены на солнце, что затмение будет наблюдать и международный экипаж космонавтов.
Евгений присел на деревянную табуретку и припал к окуляру; краешек солнечного диска потемнел так, будто его опустили в ванночку с крепкой кислотой и она разъела, истончила зеленоватый металл.
«Началось!» — Евгения охватило странное, до конца непонимаемое им волнение, словно в эти мгновения там, на Солнце, и тут, на Земле, происходило что-то таинственное, обостряющее цвета и запахи; с далеких лугов едва уловимый ветерок принес чуть горчащий аромат мяты; Евгений прикрыл глаза, и ему показалось, что он увидел цвет этого запаха — белесый.
«Странно» — удивился Евгений, посмотрел вниз — по дороге, под балконом, неслись автомобили, на соседней железнодорожной станции бойко перекликались маневровые тепловозы, по стеклу балконной двери сонно ползла сытая, разомлевшая от тепла муха.
Тень уже закрыла примерно пятую часть солнца, и ее неровная зазубренная кромка то и дело вспыхивала, словно была кромкой циркулярной пилы, медленно погружавшейся в смолистый, сверкающий ствол сосны; неожиданно противоположный край солнца тоже стал темнеть. Евгений оторвался от телескопа — на улице смеркалось.
«Неужели непредвиденное полное затмение? Тогда чего стоят все эти расчеты и прогнозы…» — он снова прильнул к окуляру: солнце почти было не видно, пришлось снять зеленый светофильтр, и тогда глазу Евгения предстала необычная картина: с одной стороны солнце было прикрыто по всем правилам классического затмения, а с другой — тень напоминала смерч, то и дело менявший свои очертания: то он походил на летящий газовый платок, то на черного паука, десятками ног вцепившегося в желтую мякоть солнечного диска.
На улице вспыхнули фонари, веселая музыка, лившаяся из репродуктора, оборвалась, и бодрым, хорошо поставленным баритоном диктор сказал, что «сегодня ученые и тысячи астрономов-любителей имеют счастливую возможность наблюдать уникальное затмение — солнце закрывает плотное облако космической пыли. По сообщениям космонавтов, это облако движется по направлению к созвездию Стрельца. В связи с этим в отдельных районах европейской территории будут наблюдаться временные нарушения радиосвязи, возможны ливневые дожди. По данным ученых, подобные затмения продолжаются от получаса до пяти — восьми дней. Его продолжительность зависит от величины и скорости движения облака, появление облака обусловлено сильными магнитными бурями, которые предшествовали солнечному затмению. Сообщения о передвижении облака мы будем передавать через каждый час».
«Жаль, что нет приемника, послушал бы, что сейчас творится в эфире». — Евгений убрал телескоп с балкона, включил свет и прилег на диван перед телевизором — показывали изображение облака космической пыли с борта орбитальной станции; оно походило на медленно клубящийся сизый дым, плавающий подобно медузе в маслянистой черноте космоса; по экрану побежали сверкающие цепочки. Евгений выглянул в окно, — у горизонта полыхали зигзагообразные молнии; приближалась гроза; он выключил телевизор; через минуту загрохотал гром, в окно с шумом ударили потоки дождя; что-то со скрежетом стукнулось о стену; Евгений подумал, что это, наверное, сорвало лист железа с крыши соседнего дома, и посмотрел в окно — очередной порыв ветра вырвал коренастый тополь и с треском бросил его на троллейбусные провода — улицу озарила яркая вспышка короткого замыкания; из ее центра вылетели две голубоватые шаровые молнии; они плавно поднялись вверх и поплыла к окну Евгения.
«Что делать?..» — он лихорадочно щелкнул выключателем.
Одну из молний качнуло порывом ветра, и она взорвалась, рассыпавшись на тысячи голубых искр, а вторая, шипя и вращаясь, летела против ветра прямо к окну; Евгений вспомнил про форточку — она была закрыта; молния пролетела в метре от окна, осветив комнату ярким, мертвенным светом, и уплыла вправо от балкона.
Евгений, затаив дыхание, ждал взрыва, поскольку метрах в трех от окна качалась ржавая водосточная труба, но взрыва не последовало; видимо, очередным порывом ураганного ветра молнию все же отнесло от дома.
«Ну и ну!» — Евгений задернул плотные коричневые шторы; теперь в комнату проникали только трескучие раскаты грома и шум ливня, который, казалось, отделял, отгораживал от мира; чтобы как-то заглушить, развеять щемящее чувство одиночества, Евгений потянулся к выключателю, но свет не зажегся; тогда он включил репродуктор — комнату наполнил бархатный, словно из другого мира, голос диктора; он предупреждал о том, что в связи с многочисленными повреждениями коммуникаций, электро- и газоснабжение города временно прекращены. «Разумно, — подумал Евгений, вспомнив, как, замкнувшись, вспыхнули провода троллейбусной сети, — надо позвонить моим…»
Он взял телефонную трубку, но телефон молчал.
«Прямо — необитаемый остров!» — Евгений вспомнил, что в ящике кухонного стола валяется огрызок свечи, которым он натирал зимой лыжи; вспышка спички совпала с оглушительным раскатом грома — Евгений вздрогнул, и тут же рассмеялся мимолетному страху; от ливня он защищен надежной крышей и бетонными стенами, а все эти пророчества о конце света — мифы, не более; после темноты желтый огонек свечи показался необыкновенно ярким, праздничным; Евгений укрепил свечу в подстаканнике и достал с полки томик Козьмы Пруткова, чтобы как-то развеяться, но глаза быстро устали; он откинулся на подушку и заснул.
Когда Евгений проснулся, в комнате было тихо и темно; он на ощупь подошел к окну и отдернул штору — на улице ни огонька; темнота была настолько глубокой, густой, похожей на вязкий деготь, что напоминала ту, безмолвную, космическую, которую он наблюдал в самодельный телескоп.
«Сколько сейчас времени?» — Евгений чиркнул спичкой — стрелки часов сошлись на цифре «12».
«То ли ночь, то ли день? Впрочем, так ли это важно», — он до отказа выкрутил ручку громкости динамика — в нем еле слышно зазвучала музыка; видимо, радиосеть тоже была повреждена ураганом.
«Что же делать? Да, ситуация…» — с какой-то мальчишеской досадой вздохнул Евгений: происходившее не пугало, не удивляло, оно воспринималось как техническая неполадка в трансляции хоккейного матча: на экране телевизора мельтешат разноцветные полосы, и болельщики негодуют, возмущаются, зная, что через минуту-другую появятся звук и изображение, что в запасе у техников всегда есть несколько резервных каналов космической и кабельной связи.
Евгений вспомнил, что в столе сына валяется карманный фонарик; он чиркнул спичкой, открыл стол — рядом с фонариком лежала продолговатая пачка, на ней было написано «сухое горючее».
«Это уже кое-что!» — Евгений прошел на кухню, положил белую таблетку горючего на рассекатель газовой плиты, вскипятил чай, и долго вдыхал его тонкий, терпкий аромат, поражаясь тому, что не замечал его раньше, а теперь чувствовал малейшие оттенки, и против обыкновения не положил сахар, опасаясь, как бы он не ослабил аромат; холодильник не работал, но еще хранил остатки мороза; Евгений обильно поел и прилег на диван.
«Чем бы заняться?.. Буду слушать радио», — он удлинил провод, прислонил репродуктор к валику дивана и ухом прижался к динамику; диктор предупредил, чтобы жители не открывали квартиры незнакомым людям, так как за последние пять часов участились случаи ограблений; потом он зачитал обращение главного эпидемиолога города, который напомнил, что система канализации и водопровод пока работают безотказно, и призвал жителей не загрязнять санузлы, поскольку это может привести к выбросу нечистот и вспышке эпидемии.
«Ну и ну! — Евгений нервно засмеялся. — Сколько всего настроено, а выходит, что человек все так же беззащитен, как и тысячи лет назад. А собственно, от чего защищаться? Если он — часть природы, то должен разделить ее участь. А если он — над природой, так рано или поздно разделит участь ее врага. Да, ситуация…» — Евгений снова прижался ухом к динамику: «…по сообщениям космонавтов, — бодро говорил диктор, — облако космической пыли несколько замедлило свое движение. Мы попросили прокомментировать это явление академика Беспалова. Он сказал, что подобное наблюдалось в четырнадцатом веке. По свидетельствам очевидцев, которые донесли до нас летописи, ночь продолжалась около недели; из окрестных лесов звери пришли в селения, но людей не трогали.
Замедление скорости движения облака объясняется влиянием магнитного поля Луны. Через восемь — десять часов оно значительно уменьшится, и облако продолжит свое путешествие по Вселенной».
«Кто-то из великих сказал, что нормальному человеку и с собакой не скучно, — с веселой бесшабашностью подумал Евгений, — а тут даже кошки нет. Итак, будем рассуждать о жизни… Мне уже тридцать пять лет. Горожанин и сын горожанина. Пять лет проработал экономистом. Никаких новшеств не ввел. Надоело быть мальчишкой на побегушках, да и женский оклад: сто сорок. Освободилось место инженера по технике безопасности. Жена сказала: «Иди, не будешь целыми днями торчать в своей клетушке. Пройдешься по цехам, хоть воздухом подышишь». Я согласился. И до сего дня не жалею. Моя жена — умный, практичный человек. Без нее я, наверное, до седых волос таскался бы по вечеринкам и междусобойчикам. Словом, я, как нынче говорят, стал человеком, ведущим размеренный образ жизни… Нет, это не жизнь, а какой-то протокол, — Евгений скучливо зевнул, — а собственно, что я из себя представляю? Что изменилось бы в мире, если бы не родился?.. Сына, Вадьки, не было бы?.. Стоп. В этой темноте можно доанализироваться до точки. Может, люди так вот, оказавшись одни, и сходят с ума?.. Я уже подошел к вопросу: живу ли вообще?.. Этим и страшно одиночество, что человек начинает понимать истинную цену своей жизни… Да перестань, Женька, цену себе набивать! — Евгений испуганно вскочил с дивана. — Это я себя спросил?! От этой темноты можно окончательно свихнуться».
Он включил фонарик и посветил в окно; желтый кинжальный луч увяз в густой темноте; казалось, что она медленно растворяла его, луч укорачивался, бледнел.
«Во, черт!.. прямо как живая», — Евгению стало не по себе, он погасил фонарик, но темнота продолжала заполнять комнату; вязкая, холодная, ока поднялась до щиколоток, и Евгению почудилось, что он стоит в липкой болотной жиже.
«Нервы шалят… Где-то у жены таблетки были. Стоп! Может, они в этой ситуации дадут обратный эффект. Эксперименты оставим ученым. Они же их не на себе делают… Как быть? Я знаю, что это — мираж, но, с другой стороны, чувствую, что темнота уже поднялась до коленей… Жена предчувствовала, что нельзя быть одному». — Евгений включил фонарик и вышел на лестничную площадку, посветил на двери соседских квартир.
«К Петрову лучше не заходить, рассказами о радикулитах замучает. У него от этих магнитных бурь наверняка обострение. Так, сорок девятая, обитель пенсионеров… Пятьдесят первая. Кто же тут живет? Стоп. Это же моя квартира. Уже немного тронулся… Так, пятьдесят вторая. Милейший Сергей Алексеевич, врач-гинеколог. С какой женой он живет сейчас, с четвертой или с первой?.. Впрочем, сейчас и узнаем». — Евгений потянулся было к кнопке звонка, но вспомнил, что электричество отключено, и робко постучал в дверь; послышались осторожные шаги.
— Кто там?
— Сергей Алексеевич, это я — ваш сосед из пятьдесят первой.
— Что вы хотите? Вашей жене плохо?
— Моя жена в деревне. Я к вам… так просто хотел зайти.
Евгений услышал, как сосед неловко переступил с ноги на ногу, и живо представил: потирая двойной подбородок и причмокивая, тот мучительно обдумывает сложившуюся ситуацию.
— Видите ли, по радио предупреждали…
— Я слышал. Но, знаете, одному скучно.
— Возьмите себя в руки.
— И что?
— Ждите. Соблюдайте порядок.
— Какой?
— Извините, но у меня возникло множество с в о и х вопросов, я только что наконец-то объяснился с женой. У меня, извините, нервы тоже на пределе.
— Мы только и делаем, что занимаемся с в о и м и вопросами.
— Еще вы тут мне будете читать мораль. Катитесь к черту!
— Сам — идиот, — Евгений помрачнел, посветил фонариком на дверь своей квартиры; возвращаться домой не хотелось, да и что должно было тянуть его туда?.. вещи?.. так их не видно; и тот французский хрусталь в серванте, за которым жена охотилась целых два года и который при вечернем освещении вспыхивает зеленоватыми искорками, что приводило в восторг гостей, — его тоже не видно; и даже собрания сочинений Толстого, Достоевского, Бунина, за ними он все выходные и ночи напролет проторчал у книжного магазина, тоже перестали существовать.
«Жаль, очень жаль, что отключили свет, — вздохнул Евгений, — взялся бы сейчас за Толстого. Когда я читал его в последний раз? В школе?.. Нет, в студенчестве. Тогда по экранам пошла «Война и мир» и все кинулись перечитывать, сравнивать. Да, веселое время — юность. Кажется, что времени полны карманы. Интересно, сколько его осталось у меня? Да и на что я должен его потратить?.. Опять эти шизоидные мысли. Пойду на улицу, посижу на свежем воздухе». — Евгений включил фонарик и вышел из подъезда, посветил вдаль — сверкнула штанга турника на детской площадке, желтые прутья качелей; стоило выключить фонарик, как все погрузилось в непроницаемую темноту; зябко передернув плечами, Евгений шагнул в ее прохладные объятия; казалось, стоит посильнее оттолкнуться от земли, и полетишь, поплывешь, как рыба, в этой аспидной, густой черноте; она плотно сомкнула свои невидимые руки у него за спиной, и Евгений понял, что уже оторвался от дома на целый десяток шагов, и, осмелев, решил: «Пойду на качели». Он и раньше, проходя через двор, частенько посматривал на них; его одолевало желание сесть на перекладинку и, сильно оттолкнувшись ногами от земли, взлететь вверх; это сейчас качели в каждом дворе, а раньше, когда Евгений был мальчишкой, то по часу простаивал в очереди, чтобы минуту покачаться на веревочных качелях, привязанных к суку старого тополя, он спрятал фонарик в карман, крепко взялся руками за металлические прутья и бросил тело вперед — качели тоненько скрипнули.
Евгений взлетал вверх, падал вниз; когда качели перед тем, как опуститься, на мгновение замирали, он испытывал что-то похожее на состояние невесомости, и это непривычное ощущение, полузабытое уже, приводило его в восторг; он все сильнее и сильнее бросал тело вперед, словно хотел оторваться от перекладины и унестись туда, в далекие звездные миры…
— Эй, остановись! — услышал он грубоватый голос. — Сказали тебе, перестань!..
Евгений притормозил качели.
— Это вы мне?
— Тебе, кому же еще.
— Вроде остановился, — сказал из темноты другой голос.
— Не подходи, а то еще мозги вышибет. Может, он ненормальный какой.
— Да что вы! — обрадовался Евгений. — Скучно. А чего со скуки не сделаешь.
— Значит, скучаешь?
— Что вам нужно? — голос Евгения дрогнул от невольного страха; он вытащил из кармана фонарик; луч света пробил в темноте узкий коридор; но тут же чья-то цепкая рука сдавила ему горло. — Не шуми. Убивать не будем, — обладатель грубого голоса негромко рассмеялся; Евгений почувствовал, как вспыхнувшего лица коснулись нервные волны дыхания. — Слушайте, в такое время… — чужие пальцы сдавили горло еще крепче, и Евгений не договорил.
— Будешь умником, тогда вместе с женой, если она у тебя есть, еще порассуждаешь об этом, — неловкая сильная рука нырнула сначала в один карман, потом в другой, — порядок. Пальцы на горле разжались; Евгений несколько минут просидел в оцепенении; невидимые грабители забрали фонарик и спички, а ключ от квартиры не тронули, поскольку он лежал в верхнем кармане рубашки; внезапно Евгения охватил озноб — сказались пережитые страх и унижение; потирая плечи руками, он соскочил с качелей, и шел до тех пор, пока не споткнулся о бровку тротуара — упал на мягкую подушку газона и горячим лицом зарылся во влажную, спутанную недавним ураганом траву, от горькой беспомощности, стыда, хотелось кричать, рыдать взахлеб, словно обиженному ребенку, он не боялся привлечь к себе внимание, и этот страх заглушал другие чувства; Евгений невольно подумал, что и в той, прежней жизни он, наверное, жил в нем и остерегал, а может, и мешал, как мешает сейчас быть самим собой.
Евгений чуть слышно, словно пискнул в темной щели серый мышонок, застонал и пальцами впился в прохладную, рыхлую землю, ноздрями втянул ее солоноватый, удивительно похожий на грибной запах, немного пришел в себя и поднялся на колени; со всех сторон его окружала темнота, словно он был совершенно один на этой, покинутой всеми Земле; глаза были не нужны; правда, стоило закрыть их, как Евгений чувствовал себя еще более неуверенно; от напряжения они слезились, и порой перед ними возникали какие-то светящиеся шарики; Евгений протягивал руку, но она тонула в темноте; и желание вернуться домой, такое привычное, теперь было невыполнимо; где-то рядом возвышались дома; в их квартирах, наверное, горели свечи или керосиновые лампы, но плотные шторы не пропускали света — он мог погубить; Евгений уже испытал это на себе; да и зачем ему чужие дома?.. в такую пору вряд ли кто пустит.
«Если ночь затянется на три-четыре дня, на неделю, я умру от жажды, — подумал Евгений и нервно рассмеялся, но тут же крепко сжал губы, — как же найти м о й дом? Говорят, что птицы ориентируются по магнитному полю Земли. Кошки тоже находят с в о й дом за десятки километров. А я вот стою в каких-то ста метрах от него и не чувствую его. Почему?.. Да, собственно, что я там оставил? Набор стандартной мебели, книги. А что оставляют д о м а птицы? Почему они так стремятся назад? Странно, почему я никогда об этом не думал… Чем дорога птице ветка, на которой она сидела, зайцу — куст, под которым он спал?.. Мне надо сейчас домой. Там безопаснее», — Евгений поднялся и, вытянув вперед руки, осторожно пошел по тротуару; его растопыренные пальцы наткнулись на что-то мягкое.
— Не трожьте меня, ради бога не трожьте! — в женском голосе задрожали слезы. — Я уже не могу… я умру…
— Вы что?.. в своем уме? — Евгений почувствовал, как его лицо покрывается горячей краской стыда.
— Я уже никому не верю.
— Меня тоже обокрали… — Евгений запнулся и замолчал, понимая, что его беда мелка по сравнению с горем этой, обезумевшей от унижения и страха женщины.
— Не подходите.
— Он не подойдет, — послышался из темноты звучный мальчишеский голос.
— Вы кто?.. его сообщник?
— Вам лучше вернуться в свою квартиру.
— Нет! Никогда! Ни за что!..
Евгений услышал торопливые шаги.
— Стойте, куда же вы? — крикнул он вслед.
— Она не поверила нам.
— Мальчик, какая беда вывела тебя на улицу?
— У соседей повредился водопровод, и нашу квартиру стало заливать.
— А родители?
— Мать вчера уехала к подруге на дачу.
— Мои тоже в деревне. А я, понимаешь…
— Я все слышал, — поспешно вставил мальчик.
Евгений стыдливо опустил голову, но тут же подумал, что в такой темноте не видны ни жесты, ни мимика, и хотел было как-то оправдаться в глазах мальчика, но тот опередил его:
— С этой темнотой все темное вышло наружу.
— Да, это ужасно.
— Ну что вы, это — естественно, — в голосе мальчика зазвучали снисходительные нотки, — страшнее другое: все это бок о бок жило с нами и рядилось в другие одежды.
— Интересно, сколько тебе лет?
— Четырнадцать. Зовут меня Гришей.
— Евгений Петрович. Рад знакомству, Гриша. С удовольствием пригласил бы тебя в гости, но теперь не знаю, где мой дом.
— Расскажите, где вы живете. Я неплохо ориентируюсь в этом районе.
— Я блуждаю час, а может, и три… — Евгений прислушался, — мы одни?
— Вот вам моя рука. Я один. Понимаете, совершенно один.
— Как это проверить?
— Быстро же вы…
— Впрочем, у меня нет выхода. Можете взять в моей квартире все, что захотите. Оставьте только стены и ключ от двери. Я лучше умру от голода и жажды, но не выйду на улицу… — Евгений шепотом описал дом.
— У вашего подъезда в асфальт вдавлено два камня. Они очень гладкие.
— Камни?.. А-а, это строители вмяли их в горячий асфальт. Ты, Гриша, очень наблюдательный человек.
— Когда по ним стучишь палочкой, они звенят.
— Странно, мне никогда такое в голову не приходило.
— Давайте вашу руку.
— Ты очень уверенно идешь. Убавим шаг, а то наткнемся на что-нибудь.
— Евгений Петрович, пожалуйста, тише. Нам нужно пройти еще шагов двести.
— Ты прямо — волшебник.
— Я столько раз ходил по этим дворам, что знаю каждый камешек, каждый бугорок.
— Я ходил больше, но ничего не помню.
— Где-то здесь должен быть ваш подъезд. Так, так… вот ступеньки. Вы не помните дверную ручку?
— Я даже цвет двери не помню.
— Осторожно, не споткнитесь… Какой этаж?.. Будем считать. Ваша квартира налево или направо… Хорошо. Протяните руку вперед. Это ваша дверь, узнаете?
— Если ключ подойдет, моя. — Евгений непослушной рукой вставил ключ в замочную скважину; повернул, дверь открылась; Евгений вбежал в прихожую. — Гриша, ты здесь? Ты вошел? — он резко захлопнул дверь и защелкнул запор. — Теперь мы хоть немного защищены. Гриша, ты располагайся. У меня — две комнаты. Знаешь, я проголодался. Есть сыр и печенье. Устроим королевский ужин!
— Сейчас обед.
— Откуда ты знаешь?
— Чувствую.
— Обед в потемках. Забавно. Впрочем, время остановилось. Гриша, в каждой комнате — диван. Можешь отдохнуть. А я пока нарежу сыр, хлеб и принесу.
— Спасибо. Проводите меня в комнату. Я же у вас впервые.
— Слева стул и тумбочка с хрустальной вазой. Справа — книжные шкафы, у окна — диван.
Касаясь рукой стены, Евгений прошел на кухню, разыскал нож, сыр, хлеб; дверцу холодильника он оставил открытой, чтобы оставшиеся в нем продукты не заплесневели; осторожно, на ощупь, нарезал сыр, положил на тарелочку и подумал, что в такой обстановке сервировка стола — бессмыслица, да и, вообще, в соседней комнате его ждет не дождется Гриша, довольно странный мальчик с мелодичным голосом; Евгений подумал: видел ли он его во дворе?.. может, они даже знают друг друга в лицо? Он взял тарелочки с едой и, локтем касаясь стены, прошел в комнату.
— Гриша, обед готов. Я подвину журнальный столик к дивану, так будет удобнее.
— Я уже подвинул.
— Как ты его нашел?
— Евгений Петрович, пожалуйста, не говорите со мной как с ребенком.
— Извини, я не хотел тебя обидеть. Но ты… Я, действительно, восхищен твоими способностями ориентироваться. Наверное, в детстве и у меня были обострены эти способности… Впрочем, я уже плохо помню детство. А сегодня без тебя я бы еще блуждал в темноте. Ешь сыр. Вилки я не взял, они отошли в мир воспоминаний, — Евгений потянулся к тарелке и натолкнулся на руку мальчика, — извини, эта темнота… Хотя в ней многое прояснилось. Я всегда подозревал, что мой сосед… не очень хороший человек. Теперь я увидел это. Я всегда чувствовал, что скучаю, но это чувство как-то растворялось в серой воде будней. Гонялся за книгами, строил планы. А оказался один на один с собой и заскучал. А что произошло? Самая малость: всего-то затянулась ночь.
— Вы интересно говорите. Я тоже об этом думал.
— Ты?
— Я однажды прочел в книге, что киники презрели боль. Они научились не замечать ее. Сразу телесные наказания потеряли всякий смысл, и огромная масса людей лишилась оружия. Вот и сейчас, наверное, произошло что-то похожее. Вот вы бы, например, никогда не мучали себя теми вопросами, о которых говорили.
— Гриша, кто твои родители?
— Мама работает инженером в НИИ. А папа… он несколько раз приходил к нам, пробовал со мной говорить, а я, если не вижу человека, то не могу с ним говорить.
— Я тебя понимаю, очень понимаю.
— Спасибо, Евгений Петрович, я сразу, только услышал ваш голос, понял, что вас не надо бояться.
— Интересно. А мы с тобой раньше встречались на улице?.. Наверное, пробегали друг мимо друга: ты по своим делам, я по своим, — иронично усмехнулся Евгений. Только разве это — дела. Если д е л а, то уже не мои, не твои, а н а ш и.
— Вот-вот, Евгений Петрович, я как-то подумал, что неплохо бы, скажем, каждые пять лет издавать словарь самых употребительных слов и вышедших из употребления. А рядом печатать настоящее значение этих слов. Наверное, уже одно это многое бы прояснило…
Евгений вслушивался в звучный, размеренный голос мальчика и пытался представить его, в воображении рисовалось какое-то худосочное создание, похожее на диковинный экзотический цветок, выращенный в теплой оранжерее.
«Нет, он другой, совсем другой, — поспешно подумал Евгений, — он же не испугался, не отчаялся. Вышел на улицу только потому, что у соседей повредился водопровод. И думает он так, вдвое, а то и втрое взрослее. Вот уж эти фокусы акселерации! Посмотреть бы, что из него будет лет этак через двадцать…» — Евгения немного покоробило, — получалось, что он завидовал Грише, а заодно признавал зряшность своей жизни.
— Ты знаешь, — задумчиво сказал Евгений, — мы все приходим в этот мир с желанием изменить его, а почему-то меняемся сами.
— Потому что живем так, словно тут, на Земле, мы — безграничные хозяева. А чему и кому мы хозяева? Даже самим себе ничего толком приказать не можем. Каждый носит на себе четыре — десять лишних килограммов, регулярно болеет, большую часть жизни проводит в суете. Кстати, которую сам же и создает.
— Гриша, ты прав: все мы это знаем, но почему-то наши знания не становятся убеждениями. Все мы знаем, что вещи — чепуха, мещанство. Но именно отказ от материальных благ в наше время — фантастика. Одна моя знакомая говорит, что сейчас такой период: люди утверждают себя через вещи. Хотя то здесь, то там случаются землетрясения. Все исчезает под обломками.
— Мне кажется, Евгений Петрович, что пока государства будут стремиться к могуществу, а оно ведь определяется именно богатством, люди будут стремиться к тому же. Они любят подражать сильным и тоже хотят быть независимыми.
— Ты много читаешь.
— Да, но одни и те же книги Толстого, Пушкина, Достоевского и еще сказки.
— Мне показалось, что ты увлекаешься фантастикой, любишь утопические романы.
— Я бы с удовольствием прочитал их, некоторые я слышал по радио.
— С книгами нынче трудно. Знаешь, Гриша, у меня неплохая библиотека. Пройдет эта ночь, и приходи, бери любые книги.
— Это невозможно.
Евгений уловил в голосе мальчика замешательство и поспешно заверил:
— Гриша, даю тебе честное слово, что ты можешь брать в моей библиотеке любые книги. И я хочу, чтобы ты подружился с моим сыном.
— Спасибо.
— Вот и отлично. — Евгений заметил на потолке белесое пятнышко. — Гриша, смотри, что это такое?
— Где?
— Над головой.
— Не знаю.
— Или мне кажется, или… — Евгений скользнул рукой по подоконнику, пальцы наткнулись на круглое зеркальце — пятно на потолке вздрогнуло. — Такое ощущение, что все небо затянуто тучами и откуда-то пробивается крохотный лучик. Интересно, сколько же времени прошло?.. Гриша, посмотри в окно. Все небо светится. Наверное, космическое облако напоследок вызвало северное сияние. Гриша, да посмотри же в окно. Такое бывает раз в жизни. Это что-то фантастическое…
— Где окно? — растерянно спросил мальчик.
— Как… где? У тебя что-то с глазами?
— Евгений Петрович, мне надо было сразу сказать, но мне было так хорошо… Так серьезно я разговаривал только с мамой.
Евгений присмотрелся к мальчику, сидевшему в глубоком кресле; его большие тусклые глаза смотрели прямо в стену, правую щеку наполовину закрывал коричневый лишай; Евгений тут же вспомнил, что часто встречал Гришу возле соседнего дома и, ускоряя шаги, брезгливо отворачивался, чтобы не видеть его лица, похожего на уродливую маску.
— Евгений Петрович, вы меня теперь ненавидите?
— Ну что ты, Гриша, ну что ты… — Евгений скользнул взглядом по комнате; из полумрака, освещенные розоватыми вспышками света, выплывали золотые корешки книг в шкафу, зеленовато вспыхивали хрустальные фужеры в серванте; зазвонил телефон; Евгений кинулся к нему. — Да… я… жив… Да… У вас была керосиновая лампа… Да…
Мальчик соскользнул с кресла; касаясь рукой стены, вышел в прихожую. Евгений, увлеченный разговором с женой, не заметил его исчезновения; склонив голову набок, мальчик прислушался к его голосу.
— …нет, газ я не выключал… Проверю, сейчас проверю… Холодильник тоже посмотрю… Да… Да…
Мальчик нащупал рычажок замка и вышел, осторожно притворив за собой дверь.
1985
Шла по жердочке…
Людмиле Михайловне
Это желание возникло сразу: Люба поднялась чуть свет, посмотрела на серое от какого-то металлического света окно и увидела сначала нерезко, а потом так, словно наяву стояла перед деревянным домиком с резными, снизу обколотыми наличниками, и куст сирени, и старую березу с кряжистым, причудливо изогнутым стволом; ее ветви, покачиваясь, терлись о кромку крыши, — и Люба услышала легкое поскрипывание; с улицы оно было едва различимо, поскольку растворялось в шорохе ветра, в шуршании листьев, а дома скрип наполнял комнату, и в детстве, когда Люба в морозные зимние дни забиралась на печку, пугал ее; казалось, что в окна стучится леший и вот-вот черный, лохматый, похожий на злого соседского пса Полкана, он ворвется в избу; Люба с головой накрывалась овчинным тулупом, упиралась ногами в теплый мешок со старыми мягкими валенками и, затаившись, ждала отца; он в любую погоду приставлял к крыше шаткую лестницу и опиливал сучок, то ли от ветра, то ли от мороза пригнувшийся к крыше.
Далекий, уже, казалось бы, забытый страх вошел в Любу; прячась, она нырнула под одеяло; рядом кто-то дышал мерно и глубоко; Люба не сразу поняла, что это Андрей, ее муж, она была дома, в пятнадцатой квартире, на третьем этаже, а тот, деревянный дом из ее детства — видение, остатки сна. Люба высунула голову из-под одеяла и снова увидела корявый ствол березы, крылечко дома с частыми ступеньками; почерневшие от дождей, потрескавшиеся, в самой середине они вытерлись, и лишь твердые коричневые сучки торчали, словно шляпки крупных гвоздей.
Ступая на каждую ступеньку отдельно, Люба, как ей показалось, долго, невыносимо долго поднималась, поднималась; очутилась в избе, осмотрелась — стол был накрыт, в центре его возвышалась бокастая кринка с выщербленным краем; крупные ноздреватые ломти хлеба лежали на белой тарелке, а рядом краснели мясистые помидоры. Окно, это сразу бросилось в глаза, было затянуто паутиной, словно в избе давным-давно никто не жил. Люба хотела заглянуть в спальню, но почувствовала, что в ней пусто, и на кухне, из которой тянуло хлебным теплом, тоже никого нет.
С улицы в окна лился зовущий желтый свет; от него насквозь светилась паутина и зеленоватыми огоньками вспыхивали влажные зернышки в розовых дольках помидоров. Люба хотела повернуться и выйти, но не смогла даже пальцем пошевельнуть; ей сделалось жутко от того, что так и останется в родной, почему-то пустой избе; Люба испуганно вскрикнула.
Чья-то рука неловко тронула ее за плечо, и, как ей показалось, громовой голос спросил:
— Что с тобой?
Люба завизжала от страха и с ней сделалась истерика. Люба металась по кровати, кулачками колотила пышные подушки, которые Андрей прикладывал к стене, к полированной боковине кровати, опасаясь, как бы жена, уже находившаяся на седьмом месяце беременности, ненароком не ушиблась. Спросонья, растерянный, тоже не на шутку перепугавшийся, он бегал то за водой на кухню, то бросался к телефону, смотрел на цифры в круглых прорезях номеронабирателя и как-то совершенно глупо спрашивал себя: «Вызвать «скорую»? А скоро ли она приедет?» Бежал к жене, с болью смотрел на ее лицо, искаженное гримасой дикого, животного страха, на ее округло выпирающий живот и с ужасом думал, что сейчас случится нечто страшное, непоправимое; ноги его подгибались, он почти терял сознание; опомнившись, хватал стакан с водой и срывающимся голосом умолял:
— Люба, Любушка, ну, глоточек… ну, глоточек, тебе сразу станет лучше.
Его голос лишь обострял припадок; взмахнув рукой, Люба попала по стакану, он вылетел из рук Андрея, упал на паркетный пол и разбился. От резкого звука Люба вздрогнула и открыла глаза; ее лицо, еще несколько секунд назад походившее на картонную скомканную маску, оживило удивление. «Что со мной было?» — Любины щеки порозовели, а потом залились густым румянцем; она отвернулась к стене и расплакалась.
Андрей присел на кровать и, опасаясь, как бы припадок не повторился, пылко успокаивал ее, обнимая за плечи и целуя во вздрагивающую шею; он готов был принять в себя всю ее боль, весь страх. Интуитивно угадав, что кризис миновал, он подумал: «Нужен врач. Срочно нужен».
Словно Люба была птицей, готовой от неосторожного шороха сорваться с ветки и улететь, он сначала отнял одну руку, потом другую, тихонько отодвинулся на край кровати; на цыпочках прошел в прихожую и плотно притворил за собой дверь. Шепотом, холодея от одного лишь воспоминания о том, как жена билась в истерике, и уже сейчас понимая, что это в ее положении может иметь самые серьезные последствия, и, что еще страшнее, может, является предвестником чего-то, еще более худшего, Андрей сбивчиво рассказал матери по телефону обо всем.
Она коротко ответила:
— Я заеду за врачом и через двадцать минут буду у вас.
Андрей осторожно опустил трубку на рычаг и немного успокоился — так часто бывает: стоит рассказать о своем горе близкому или даже совершенно чужому человеку, как на душе станет легче, покойнее, словно часть твоей тяжести его сердце приняло в себя.
Андрей прислушался — в комнате стояла тишина; опасаясь нарушить ее, он не вышел из прихожей, машинально посмотрел в зеркало, увидел себя, всклокоченного, помятого, еще не оправившегося от испуга, и мысленно поторопил мать.
Не прошло и двадцати минут, как щелкнул замок. В прихожую вошел крупный седой мужчина с черным дипломатом в руках; из-за его плеча выглянуло тревожное лицо матери:
— Андрюша, объясни толком, что случилось?
— Мама, я не знаю. — Андрей живо вспомнил, как Люба металась по кровати, как, перекатываясь, колыхался ее огромный живот, и сейчас, в эти секунды, когда он не подспудно, а умом понял, что грозило тому живому существу, которое уже заявляло о себе мягкими толчками, испугался еще больше, чем в первый раз и, теряя сознание, ухватился рукой за притолоку.
— Андрюша, господи, да что же случилось?! — мать, сухая, нескладная, переломившись пополам, проскочила под рукой врача; усадила Андрея прямо на трюмо, заставленное флаконами с духами, одеколоном, разными безделушками — они шумно посыпались на пол.
— Ну-ну, мужчина, — с добродушной иронией пробасил врач и на испуганный взгляд матери ответил: — Пройдет, он слишком впечатлительный. Больная в комнате?
— Да-да, конечно, — с несвойственной ей поспешностью проговорила Таисия Федоровна и ладонью похлопала Андрея по щеке.
— Ну что ты, сынок, что ты?
Люба со страхом посмотрела на врача; Николай Павлович, манерами, осанкой походивший на начальника крупного главка, всегда вызывал у нее чувство глубокого смущения; свекровь посмеивалась над ее страхами и не без гордости напоминала, что Николай Павлович — личный врач их семьи, что «нынче такое не многие могут себе позволить», что с личным врачом надо быть откровеннее, чем с мужем.
— Так что нас беспокоит? — Николай Павлович переставил стул поближе к кровати, щелкнул замками черного дипломата и достал стетоскоп; он знал эту семью пятнадцать лет, ее житейские перипетии беспокоили его ничуть не меньше, чем ее болезни, поскольку, если такие семьи разрушались, то, как правило, пропадали и как пациенты. Поэтому Николай Павлович беспокоился за судьбу Андрея и очень обрадовался, узнав, что тот выбрал в жены деревенскую девушку — это сулило крепкое здоровое потомство, да и по его наблюдениям, сельские девушки более верны в супружестве и привязаны к семье.
— Как вы думаете, почему это произошло? — приглашая к откровенному разговору, Николай Павлович мягко улыбнулся.
— Я и сама не все понимаю, — Люба растерянно пожала худыми, покатыми плечиками, — вы же — врач.
— Врач, но не ясновидец, — уточнил Николай Павлович.
Он долго и основательно прослушивал Любу стетоскопом, спрашивал: не болит ли низ живота? не тошнит ли? не пьет ли она на ночь снотворное?..
Андрей и мать сидели в сторонке, бледные, тревожные, и пытались по тому, как врач раздумчиво гмыкал, потирал руки, угадать: насколько все серьезно.
Он сложил стетоскоп в дипломат, посмотрел сначала на мать, потом на Андрея.
— Мне нужно помыть руки.
— Андрюша, проводи Николая Павловича.
Таисия Федоровна вопросительно посмотрела на Любу. Она опустила голову, а потом вовсе отвернулась к окну. «У них какие-то странные понятия о доброте, внимании. Не будь меня здесь, им было бы все равно, как я, что я?» — подумала Люба и тут же устыдилась своих мыслей, поскольку за те полтора года, что прожила с Андреем, ничего плохого ни от него, ни от его матери не видела. Вот и врач искренне хотел ей помочь, но Люба не могла справиться с чувством неприязни, возникшим еще тогда, при первом знакомстве. «Они все хотят только добра, а ты — неблагодарная, бесчувственная», — укоряла себя Люба, стараясь не смотреть на Таисию Федоровну, беспокойно наблюдавшую за ней.
Врач с завораживающей основательностью мыл руки.
— Молодой человек, только честно, вы хотели иметь ребенка или он получился, так сказать, случайно?
Андрей покраснел.
— Меня интересует это лишь потому, чтобы знать: какие меры принимались против него, — врач вытер руки белым вафельным полотенцем, и Андрей, глядя на них, невольно удивился: какие они мясистые и волосатые. Подумал, что у врача, наверное, должны быть чуткие, тонкие пальцы, как у пианиста, и тихо ответил:
— Ничего не делали.
— Но он же у вас не планировался, — с легкой иронией заметил Николай Павлович, — поймите, Андрей, что спрашивать об этом у вашей жены время крайне неподходящее. А установить причину истерики я должен. Знаете, случайно, вернее, сама по себе она не возникнет. Есть вполне конкретные причины. Поэтому в ваших же интересах быть откровенным. К тому же, смею вас заверить, что ничего нового вы мне не сообщите.
— Мы не думали о ребенке. А когда… то Люба наотрез отказалась что-то делать. Знаете, в ней очень многое сразу изменилось… — Андрей замялся, стараясь по лицу врача прочесть: понимает ли он его?
— Что изменилось?
— Она раньше полностью разделяла мои взгляды на жизнь. А тут как-то сразу обособилась, замкнулась. Может, все просто совпало с беременностью?
— Возможно. У женщин перед родами характеры меняются до неузнаваемости. Они в этот период быстро взрослеют, — с профессиональной наблюдательностью заметил врач, что-то вспомнил и улыбнулся, — я, конечно, не верю во всякую мистику, но недавно прочел у кого-то из древних, что женщины чувствуют то, о чем мужчины даже не догадываются. Такое, знаете ли, предположение, что женщины более тесно связаны с чем-то сверхъестественным. Хотя доля правды в этом есть. Мы, мужчины, видим рождение человека со стороны, а женщины чувствуют его изнутри. Нам этого, молодой человек, никогда не понять. А сейчас идемте к больной. Мы и так задержались в ванной больше, чем необходимо для мытья рук, это может вызвать ненужные подозрения. У вашей жены, видимо, психоз. Сказалось нервное напряжение. Возникли галлюцинации. Но почему она видела именно свой дом? Это можно объяснить только мистикой, — врач и Андрей прошли в комнату, — знаете, у некоторых женщин перед родами возникают навязчивые идеи. Вам нужно больше бывать на свежем воздухе, — сказал он уже Любе, — особенно перед сном. Не читайте грустных книг. Смотрите развлекательные передачи. К снотворному лучше не прибегать. И, главное, ничего не бойтесь. Роды — процесс естественный, и страхи тут излишни. — Врач захлопнул дипломат и, посмотрев на мать Андрея, успокаивающе добавил: — Беременность протекает нормально. Никакой патологии нет. И, как мне кажется, должен быть мальчик. А вы кого хотели? — повернулся он к Любе.
— Для меня главное, что ребенок будет м о й, — тихо ответила она.
— Вот и отлично, — он слегка поклонился.
— Извините, но почему ей виделся дом, березы, лестница? — уже в прихожей спросил у врача Андрей.
— Знаете ли, толковать галлюцинации не по моей части. Мне самому как-то приснился черт, только почему-то с одним рогом, — сдержанно усмехнулся Николай Павлович, — тут уж никакой связи с действительностью. А ваша жена ждет ребенка. Наверно, ей вспоминается детство. Впрочем, старайтесь верить только реально осязаемым вещам, иначе запутаетесь. Станете суеверным.
— Николай Павлович, я вас отвезу, — в прихожую вошла Таисия Федоровна, — извините, я как-то сразу не сообразила, что сейчас только утро. У меня в одиннадцать часов заседание ученого совета, — сказала она Андрею. — Будь умником. Погуляй с Любой, как советует Николай Павлович. Можешь не ходить сегодня в институт. Я позвоню вашему декану и все объясню.
Когда щелкнул запор входной двери, Андрей услышал тихий Любин голос:
— Андрюша!
— Я здесь, — он быстро вошел в комнату.
— Ты знаешь, мне хочется домой.
— Домой? Ты же дома.
— Мне хочется к маме, к отцу. Я целый год у них не была.
— Соскучилась? Так они же два месяца назад приезжали, — не понимая, что происходит в душе жены, встревожился Андрей.
— Андрюша, я вдруг почувствовала, что мне надо поехать туда.
— Зачем?
— Не знаю.
Андрей немного оторопел; подумал: не вызвать ли опять врача? Но лицо жены было спокойным, даже умиротворенным.
— Тебе, наверное, это кажется странным?
— Да как сказать…
— Скажи, как думаешь. Я никогда точно не знала: хочу в город или нет, а все время говорила: хочу. Так все говорили. Не хотелось выглядеть белой вороной. А потом возникла одна простенькая мысль: а что каждый из нас хочет? У нас с тобой будет ребенок, ты его хочешь?
— Я его жду.
— Не уходи от ответа.
— Я уже много раз говорил тебе: хочу.
— Зачем он тебе?
— Ну, наверное, во мне говорит инстинкт продолжения рода.
— А что ты сам, Андрюша, скажешь?
— Люба, я не философ.
— Наверное, тебе это покажется глупостью, но ведь это — поступок, а поступки совершаются во имя чего-то.
— Конечно, если по крупному счету, то все мы живем бездарно и безответственно.
— Вот видишь, значит, ты меня поймешь. Я должна поехать домой.
— Люба, милая, разве я против? Но тебе же два месяца осталось… — Андрей сделал многозначительную паузу и умоляюще посмотрел на жену. На ее лице не возникло ни малейшего беспокойства, словно Люба не слышала его слов. — Может, дать им телеграмму? Им же проще приехать.
— Мне нужно быть там, Андрюша. Я похожу по тем местам, где бегала маленькой. Понимаешь, это е м у нужно.
— Откуда ты это взяла?
— Знаю, — твердо сказала Люба.
Андрею вспомнился разговор с врачом о капризах, навязчивых идеях, возникающих во время беременности, и он постарался все обратить в шутку:
— Любаня, я читал в каком-то журнале, что тебе надо больше ходить по музеям, посещать концерты классической музыки. Он еще там уже приобщится к искусству.
— Перестань паясничать! — резко вспылила Люба.
Днем она оставалась одна, подкатывала коричневое кресло с высокой спинкой к окну, садилась в него и закрывала глаза; в памяти возникали картины детства, такие, казалось, забытые, но Люба отчетливо видела и деревенскую улицу, и пыльную дорогу с обочинами, заросшими крапивой и лопухами, и тихий пруд; ей приснилось, будто идет она босиком по берегу пруда; трава колола, резала подошвы ног; Люба то и дело замирала, не зная, куда ступить.
— Дочка, ты чья?
Люба оглянулась. Неподалеку от ивы с причудливо изогнутым стволом стояла старушка в белом платке и черном, до самой земли сарафане; солнце светило из-за ивы, и Люба не могла рассмотреть лица старушки.
— Заварзина, — тихо ответила Люба.
— Родственница им?
— Дочь.
— Не похожа. Я тебя за чужую приняла… Сына ждешь?
— Да.
— Чей он будет?
— Мой.
— Как же он твоим будет, если ты сама себе чужая?..
Потом опять снилась какая-то чепуха: Люба сдавала экзамены, каталась на велосипеде, о чем-то спорила с мужем; у него было растерянное, беспомощное лицо; потом опять увидела родной дом… Проснулась и долго не могла понять, где находится, — в ней еще жили звуки, запахи деревенской избы, и плюшевые кресла, инкрустированный журнальный столик, сверкающий хрусталь в серванте воспринимались как нечто нереальное, пришедшее из иного, незнакомого ей мира; а когда Люба пришла в себя, ее охватил суеверный страх, что она преступно медлит с отъездом и за это будет наказана.
Ни уговоры свекрови, ни мужа не помогли. Люба с непонятной им исступленностью настаивала на своем. Пригласили врача, и он тактично объяснил, что дороги, особенно сельские, тряские, а седьмой месяц беременности очень опасный, могут быть преждевременные роды.
— Я все равно поеду, — сказала Люба.
— Мне, конечно, импонирует ваша смелость, — Николай Павлович озадаченно потер руки, с беспомощной улыбкой посмотрел на мать Андрея, словно хотел сказать, что арсеналы его уговоров истощились, и жестко заметил: — Вам, Люба, наверное, уже говорили в консультации, что у вас могут быть сложные роды из-за узкого таза. Здесь, в городе, вы в полной безопасности. А там, на вашей родине, хорошо, если есть поблизости фельдшер.
— От нашей деревни до больницы всего пять километров.
— Целых пять километров! — Николай Павлович многозначительно поднял указательный палец, но Люба не дала ему договорить и спросила:
— А почему вы уверены, что у меня будут преждевременные роды?
— Я этого не говорил, но, знаете ли, в дорогу вам пускаться, тем более в такую, не советую. Вы подумайте не только о своем, так сказать, желании, а о судьбе ребенка.
— Да я только о нем и думаю.
— Странно, — Николай Павлович озадаченно побарабанил пальцами по черной крышке дипломата и уточнил: — Странная причуда.
Андрей вызвался проводить Николая Павловича. Тот шел, мерно помахивая дипломатом. «Любопытно, что привнесет нового в эту семью Люба? И угораздило же его, — он насмешливо посмотрел на спутника, — сделать такой выбор. Ему нужна в меру пышная, покладистая самочка, поскольку остальная его жизнь уже запрограммирована до самой смерти. Отец и мать выведут в люди. Подтянут до своего уровня, а то и выше подкинут. Ему больше ничего и не надо, да и на что он способен?» Николай Павлович на всех своих пациентов, принадлежавших, по его словам, к «околонаучному почтируководящему кругу», смотрел с легким презрением; сам он прошел по всем ступенькам жизненной лестницы; школа, завод, институт, полуголодное существование на стипендию и случайные заработки — колол дрова, помогал разгружать вагоны; Николай Павлович, в отличие от многих его коллег, и теперь, когда уже имел устойчивую репутацию первоклассного врача-практика, много времени проводил в библиотеке, читал немецкие и английские журналы и потому был в курсе всех медицинских новинок.
— Николай Павлович, у Любы, наверное, опять психоз? — робко предположил Андрей; его тяготило молчание.
— Нет, молодой человек, — весело ответил врач, — сегодня мне показалось, что я немного понял ее. Да-да, я с упорством глупца убеждал ее отправиться в кругосветное путешествие, чтобы посмотреть мир, а она отказывалась, утверждая, что мир можно познать, не выходя за порог квартиры.
— Знаете, она принадлежит к тому роду женщин, которые любят «сложничать».
— Я бы не сказал. Она живет больше чувством. И лишь иногда, я подчеркиваю, иногда ей удается что-то сформулировать. Кстати, это типично женская черта. Мужчины любят сразу выдавать тезисы. Люба переживает за свое человеческое «я». Да-да, молодой человек, не улыбайтесь. У нее это происходит наивно, нелепо, но происходит. Для вас, наверное, в чистом виде такой проблемы не существует?
— Она существует для каждого.
— Теоретически. В свое время так называемая «деревенская проза» воспела цельность натуры сельского человека. Противопоставила его городскому житию, в котором, по их мнению, происходит обезличивание. Но только вопрос, на мой взгляд, стоит глобальнее. И все эти розовые слюни о здоровом образе жизни при нездоровой-то жизни, так бы я сказал, только развращают и уводят от проблемы.
— Я вас не совсем понимаю.
— Я — врач. Как на блюдечке, все подать не могу. Просто поделился настроениями. И Любу я, как человек, понимаю. Принимаю. А как врач, я должен говорить ей обратное, поскольку тут есть реальная конкретная опасность. А ее страхи… В общем, молодой человек, постарайтесь ее понять. Вам с ней жить. У вас будут дети.
— Знаете, Николай Павлович, уж я вам откровенно. В нашей семье от вас секретов нет. Я до сих пор не чувствую себя ни взрослым, ни женатым. А тут еще — ребенок. И все это происходит независимо от меня. Почти без моего личного участия. Раз так нужно, поднимаюсь на какую-то ступеньку, и все. А ведь должно же во мне что-то перестраиваться?
— Несомненно. Наверное, мы все подвержены этой болезни. Я вот в ситуации с вашей женой чувствую себя больше врачом, чем человеком. Он довлеет надо мной и во всей жизни. И я ловлю себя на ощущении, что так даже удобнее и выгоднее жить. Многие проблемы отпадают. Вот и сейчас я думаю: вправе ли ваша жена подвергать опасности жизнь ребенка ради каких-то высоких целей, которые к тому же могут быть не достигнуты? Да, скорей всего, так и будет, — время не то. Вы уж поговорите с ней.
Андрей и его мать всячески оттягивали день отъезда. Таисия Федоровна, заведовавшая крупной отраслевой лабораторией, сокрушалась, что у них, как назло, все легковые машины на ремонте, а отправить Любу рейсовым автобусом — рискованно.
— Да и куда спешить? — говорила она, — неделей раньше, неделей позже — какая разница?
Пытаясь отвлечь жену, Андрей каждый день покупал ей то забавные безделушки, то билеты на концерт; Люба равнодушно принимала подарки, а от билетов отказывалась. Она стала замкнутой, целыми днями сидела у окна и смотрела на улицу.
Андрей прибегал из института возбужденный, озабоченный; при виде жены стихал и, хотя уже надвигалась пора весенней сессии, откладывал в сторону конспекты и часами уговаривал Любу «прогуляться до парка». На улице она не оживлялась, так же равнодушно смотрела перед собой, не замечала ни звякающей о тротуар ранней капели, ни взъерошенных, повеселевших к весне воробьев, ни экстравагантных городских модниц.
Андрей терялся в догадках: чего же ей не хватает? В отличие от многих молодых семей, вступавших в жизнь, у него с Любой было все: отдельная двухкомнатная квартира (получить ее помог отец, работавший в строительном тресте), цветной телевизор и хорошая стереоустановка (их подарила мать), о деньгах они тоже не беспокоились; даже если бы Андрею не помогал отец, уже семь лет живший с другой семьей, а Любе — родители, зарплаты Таисии Федоровны вполне хватило бы.
— Зачем же уезжать отсюда, где все под боком: отличная больница, прекрасные врачи? — недоумевал Андрей.
— Я все понимаю, — тихо говорила Люба, — только ведь это еще не все. Человека можно и под стеклянным колпаком вырастить. Может, он там и целее и здоровее будет, но я от одной этой мысли прихожу в ужас. Исчезнут понятия матери, отца и Родины — тоже. Я, наверное, все в кучу свалила, сумбурно говорю. Только нынче многие, как мне кажется, живут под колпаком. Им все равно, где жить. Был бы набор необходимых жизненных благ — большего им не нужно.
— Конечно, по большому счету все так и есть, — соглашался Андрей. — Только ведь у каждого — свой потолок. У одного он — метр, у другого — сто метров.
— Нет, Андрюша, если с в о й, то уже высокий.
— Ты, Любаня, стала идеалисткой. В жизни все иначе. Я вот расту, и у меня ни к матери, ни к отцу никаких особых претензий нет. Оба они достигли некоторых высот. Довольны собой. Да неужели у тебя есть какие-то претензии к родителям?
— Нет. Они прошли войну и все прочее. Свое слово, как могли, сказали. А мы — непроверенные. И вот я, еще никак себя не осознавшая, буду растить другого человека, учить его жить. А я сама — слепой котенок.
— Глупая, все так живут.
— Ты не понимаешь, о чем я говорю. Наверное, для тебя э т о г о пока не существует. Пожалуйста, позвони Таисии Федоровне, может, у них отремонтировали хоть одну машину.
Андрей звонил матери и, как мог, разыгрывал огорчение; предлагал ей попросить машину в соседней лаборатории, но выяснялось, что Таисия Федоровна с ее руководителем «не контачит»; Андрей сокрушался и громко, так, чтобы слышала жена, по нескольку раз переспрашивал:
— Значит, через три дня? Через три? Обещали сделать твою черную «Волгу»?
Люба с надеждой и недоверием смотрела на мужа; в последние дни у нее возникло чувство неприязни к нему; суетливость Андрея, его институтские заботы (других для него не существовало) раздражали; в нем она начинала видеть своего сына, которого не смогла ничему научить, и холодела при одной только мысли, что он ей — противен. «Да зачем же так? Да что же будет?» — Люба мучительно переживала состояние полуравновесия.
Таисия Федоровна, уговаривая невестку, раздражалась, краснела, ловя себя на ощущении, что стоит уступить Любе, как все пойдет своим чередом, но тогда она, Таисия Федоровна, утратит роль могущественной покровительницы. Андрей не вмешивался в разговоры матери и жены; он чувствовал себя лишним и потерянным; его удивляло одно: властная Таисия Федоровна никак не могла повлиять на Любу; и он робел от простой и глупой мысли: как же он будет жить дальше, если жена его не слушается; Андрей знал, что главным в семье должен быть он, мужчина, хотя особых побуждений к этому не испытывал; да и, вообще, все эти мысли, ощущения были для него новы, непривычны, он как-то обмолвился об этом жене. Люба улыбнулась:
— Я очень рада, Андрюша, что в тебе что-то всколыхнулось.
— Да, но тогда мне надо отказаться от всего, что имею..
— А что ты имеешь? Вещи, квартиру… Завтра случится пожар — и ничего не останется. Вещи всегда ничьи. Знаешь, Андрюша, одна старушка во сне назвала меня н и ч ь е й. Это по-настоящему страшно…
Врач как-то обмолвился, что перед самыми родами женщины становятся особенно пугливы, недоверчивы. «В них пробуждается Материнство, и потому им, как никому другому, становятся понятны и близки идеи устройства и переустройства мира», — несколько высокопарно заключил Николай Павлович и тут же пошутил: «Хотя у отдельных особей это выражается в крайнем властолюбии и агрессивности».
Андрей и его мать тешили себя надеждой, что вот-вот в настроении Любы наступит перелом, и ее причуду поехать домой вытеснит беспокойство за судьбу ребенка.
В субботу Андрей пришел из института особенно радостный; тему для курсового проекта ему дали пустяковую, он успел переговорить с матерью, и та обещала достать две путевки в пригородный дом отдыха. «Лес, речка, тишина. Чем не деревня?!» — Андрей против обыкновения не притворил дверь, опасаясь разбудить Любу, которая часто спала в обед, а громко щелкнул замком; ему не терпелось обрадовать жену.
— Любаня! — крикнул он еще из прихожей.
Никто не отозвался.
«Крепко уснула», — весело подумал он, вошел в комнату и сначала ничего не понял — кровать была аккуратно застелена, Любин халат висел на спинке стула.
«Гулять пошла?» — еще сам не зная почему, встревожился Андрей; бессмысленно заметался по комнате, выглянул в окно — садик перед домом пустовал. «Она же никуда в последние дни не ходила. Может, кризис миновал?» — Андрей кинулся к гардеробу и уже когда распахивал дверцу, чтобы посмотреть, на месте ли вещи жены, увидел на столе клочок бумаги. На нем были написаны всего четыре слова:
«Я больше не могу ждать».
Андрей схватил телефонную трубку; в трудных жизненных ситуациях он, не раздумывая, звонил Таисии Федоровне, и она всегда приходила ему на помощь. И на этот раз мать сказала: «Сейчас заеду. Может, она еще на автовокзале».
Когда машина останавливалась перед красным светом на перекрестке, Андрей весь сжимался, и секунды казались вечностью.
— Вы не поругались? — спросила мать.
Андрей посмотрел на шофера, словно хотел этим сказать: говорить о личном при посторонних людях неудобно, но Таисия Федоровна не заметила его стыдливости; для нее эти тонкости уже не существовали; вся ее жизнь проходила на глазах у чужих людей.
— Почему молчишь? Если виноват, так и скажи. Я хоть буду знать: с какого конца начинать разговор, — усмехнулась Таисия Федоровна. Причуда невестки ее раздражала, но еще больше ее раздражало то, что ей, человеку с солидным положением, приходилось подстраиваться под девчонку, приходилось лгать ей, сознавая, что та уже не верит и, может, даже презирает ее.
— Да нет, все было нормально.
— То, что ненормально с самого начала, не может быть нормальным в будущем.
— Мама! — умоляюще сказал Андрей.
— Когда несамостоятельные люди пытаются строить семью, кроме муки для себя и для окружающих, они ничего не создадут.
— Мама, мне сейчас не до этого!
— Об этом тоже надо было думать раньше.
«При постороннем человеке… как базарные торговки!» — Андрей посмотрел в могучий затылок шофера и успокоил себя: «Этот ничего не поймет»; стараясь казаться меньше, он втиснулся в мягкое кожаное сиденье машины и тут же устыдился того, что, может, сейчас Люба едет в тряском душном автобусе, которые ходили через ее деревню, а он с матерью выясняет отношения и совсем забыл про жену. «Ну почему в жизни все так? Почему мы, в общем-то неглупые люди, никому не желающие зла, так унижаем себя и все по мелочам, по мелочам. И сами себе уже противны». Машину слегка качнуло, и Андрей увидел в окно желтое приземистое здание маленького автовокзальчика, притулившегося к стене городского базара; отсюда автобусы шли всего лишь по нескольким маршрутам.
Еще машина не остановилась, Андрей распахнул дверь и выскочил на асфальт.
— Андрюша, разве так можно! — укоризненно крикнула ему вслед Таисия Федоровна.
— Молодые еще, горячие, — подытоживая то, что слышал и видел, хмуро заметил шофер.
Андрей вбежал в темное здание автовокзальчика. На дощатом диване дремали две старушки в черных платках, у их ног стояли объемистые рюкзаки.
«Уехала? Расписание, где расписание?» — он шагнул к желтому, заляпанному чьими-то грязными пальцами листку, приколотому кнопками над полукруглым фанерным окошечком кассы, и не сразу нашел нужный рейс, хотя их всего было четыре. Первый автобус уходил, в половине восьмого. В это время Люба была еще дома, второй автобус шел в четыре часа. «С ним она уехать не могла», — Андрей беспомощно осмотрелся.
— Припоздал, что ли? — спросила его одна из старушек.
— Нет, я не еду, — торопливо ответил Андрей.
— А кто едет? — с простодушной прямотой поинтересовалась вторая старушка.
— Пока еще никто, — Андрей выскочил на улицу.
Мать приоткрыла дверцу машины.
— Она там?
— Нет.
— Где же она?
— Не знаю. Автобус идет через полчаса.
— Может, передумала?
— Нет, мама, ты не знаешь Любу. Раз она решила, то…
— Я уже слышала, — Таисия Федоровна резко перебила сына, — вернее, я постоянно слышу, что она… Впрочем, я сейчас думаю не о ней, а о ребенке. И делаю все только для него. Надеюсь, ты это понимаешь?
— Да.
— Ну, так что же ты стоишь?
— А что делать?
— Господи, ну до чего же вы все беспомощные, а еще чего-то мните о себе! — Таисия Федоровна скрылась в дверях вокзала; когда она вышла, то по ее расслабленному лицу Андрей понял: мать что-то знает.
— До Ивантеевки едут всего две бабушки и еще одна девушка, — мать выдержала паузу, — в положении, как сказала мне кассирша. Она у нее поинтересовалась: не будет ли ее тошнить, а то часть дороги ремонтируют, и автобус сильно трясет. А на четырехчасовом все едут с работы, и по дороге он набивается полный. Но она все равно взяла билет. Значит, если решила ехать, то придет. Ждем до четырех часов.
Таисия Федоровна села в машину. Андрей прошелся по маленькой привокзальной площади, присел на красный пожарный ящик с песком. «Лучше бы сразу выполнить это ее желание. Пожила бы недельку и вернулась. Бывает же у человека такая причуда, страсть. Удовлетворит ее, и все идет, как прежде. Об этом, кажется, у Фрейда говорится. Тогда, две недели назад, все было бы гораздо проще и безопаснее. Да, безопаснее», — Андрей посмотрел на вокзал, который был такой же маленький и невидный, как и деревни, в которые ходили от него автобусы. С правого бока, где, наверное, располагался буфет, возвышалась пирамида ящиков; на одном из них кто-то сидел, в очертаниях фигуры Андрей уловил что-то знакомое и побежал к вокзалу.
Люба сидела на ящике из-под ситро и медленно, погруженная в свои мысли, жевала пирожок с повидлом; Андрей остановился шагах в пяти — он не узнал ее лица, как-то разом постаревшего, чужого; он чувствовал себя на этом вокзале посторонним, а Люба, и он это тоже сразу понял, была своей; он не сумел бы так вот легко и естественно пристроиться на ящике и покорно ждать автобус, и Андрей вспомнил, что Люба три года каждую субботу уезжала с этого вокзальчика домой, в Ивантеевку, и старое здание с облупившимися стенами было для нее началом дороги домой.
— Люба, — опасаясь, как бы не напугать жену столь внезапным появлением, тихо позвал Андрей.
— Я тебя давно увидела, когда ты на пожарный ящик сел, — она смотрела не на него, а на его ботинки, — зачем ты пришел?
— Любаня!
— А что мне оставалось делать? — грустно спросила она и опустила руку с пирожком.
Андрей обернулся — поодаль стояла Таисия Федоровна. Спокойная, собранная, она подошла ближе.
— Люба, мы отвезем вас на машине.
— У меня уже есть билет, — Люба достала из кармана плаща розоватую бумажку и выставила ее перед собой, словно пыталась ею защититься.
— Садитесь в машину, — властно сказала Таисия Федоровна.
Люба подчинилась. Ехали молча. Даже шоферу это показалось странным, он несколько раз смотрел то на свою начальницу, ожидая, что она что-нибудь скажет, то на Андрея, но тот отворачивался к окну. Люба сначала безучастно глядела перед собой и, лишь когда машина запрыгала на разбитом тракторами проселке, припала к стеклу и, ни к кому не обращаясь, сказала:
— Налево, вон по той стежке, я ходила в школу.
— Она сохранилась? — обрадовавшись, что Люба наконец-то заговорила, спросил Андрей.
— Ее в прошлом году закрыли. Теперь построили новую на центральной усадьбе. Но я обязательно схожу в старую.
Андрей в продолговатом зеркальце, висевшем на лобовом стекле, увидел, как мать недовольно поморщилась; Андрей тоже понял желание Любы сходить в старую школу, как проявление легкомысленности, но не стал возражать жене; он уже боялся сказать ей что-нибудь против.
— Может, мы сейчас заедем в вашу старую школу? — сухо спросила Таисия Федоровна.
— Нет-нет! — с легким испугом отказалась Люба, — я сама.
— Да какой же смысл в вашем положении тащиться в такую даль! — не выдержала Таисия Федоровна, — я понимаю: детство, воспоминания. Но ведь должно же быть и благоразумие, и чувство ответственности, в конце концов!
— Это как раз от этого чувства и идет, — тихо возразила Люба.
— Конечно, красиво, но… — Таисия Федоровна не договорила, потерла пальцами виски, собираясь с мыслями, и сказала сыну: — Ты останешься здесь.
— Зачем? — вмешалась Люба, — он поедет домой. У него курсовая на носу.
— Да, конечно, — таким тоном обронила Таисия Федоровна, что Люба поняла: не хватало, чтобы из-за твоей причуды Андрей бросил институт.
— Мама! — умоляюще вставил Андрей.
— Андрей, не надо, — торопливо успокоила Люба, — Таисия Федоровна, как и каждый человек, имеет право на свое мнение.
Все это было сказано с такой беспощадной иронией, что Андрей даже привстал, словно ожидал, что женщины вот-вот вцепятся друг в друга. «Скорей бы уж приехать!» — он смотрел то на мать, которая окаменело глядела в лобовое стекло машины, то на жену, которая как-то по-девчоночьи морщила носик; в ее лице появилось оживление, щеки слегка зарумянились.
Люба вспомнила веранду с побитыми стеклами, с шуршащими листьями на полу; какой-то плотник-чудак пристроил ее к первому этажу школы, просторную, светлую, но применения ей так и не нашли; иногда на веранде проводили уроки физкультуры с первоклассниками да на время ремонта сюда выносили из классов парты и складывали их пирамидами; по приказу директора даже дверь из школы на веранду была забита наглухо; но именно тут, на веранде, совершались первые признания в любви, выяснялись отношения; перед выпускным вечером Люба до утра простояла здесь с Толей Сныковым, неловким, даже к десятому классу так и не поборовшим в себе смущения перед девочками; Люба тогда собиралась в город, в политехнический институт, а Толя хотел «испытать себя» и уговаривал ее поехать с какой-нибудь геологической партией.
— Знаешь, институт не убежит, — немного заикаясь от волнения, говорил он.
— Тебе хорошо рассуждать. У тебя — золотая медаль.
— Медаль — ерунда. Главное — желание.
— А у меня и оно — размытое. Приблизительное.
— Но почему! — загорячился Толя. — Ты же хочешь стать строителем. А у нас в деревне эта профессия позарез нужна. У нас же все кое-как планируется. В газетах пишут, что в селе уже начинают строить многоэтажные дома с газом, горячей водой. Да тебя тут на руках носить будут!
— А как же ты?.. — Люба особых чувств к Толе не питала; знала, что он в нее влюблен, но все же ей сделалось грустно. Толя уедет надолго и уже не будет рядом человека, на которого можно положиться во всем.
Каждый раз, когда Люба приезжала в деревню, подруги рассказывали о Толе. Он, единственный из выпускников, присылал письма в школу; учительница географии вслух читала их ученикам. Толя полгода работал в экспедиции на Кольском полуострове, потом судьба забросила его в Среднюю Азию, и в школьном музее рядом с сероватым камнем, словно бы вобравшим в себя северный холод, лежал осколок восточной мозаики; Толя как будто и не уезжал, — о нем постоянно говорили и в школе, и в деревне; в прошлом году он поступил в геологический институт.
«Может, Толя тогда голубем прилетал?» — подумалось Любе. Она посмотрела на мужа и залилась румянцем.
— Люба, почему этот дом до сих пор пустует? — спросила Таисия Федоровна.
Неподалеку от дороги стоял трехэтажный блочный дом; стекла в окнах были выбиты, и дом казался диким, заброшенным, и потому новая изгородь палисадника вокруг него выглядела нелепо, неестественно.
— В нем жить никто не хочет.
— Неужели изба безо всяких удобств лучше?
— Наверное, людей она больше устраивает.
— Вот видишь, насколько здесь низка культура. А ты собираешься стать сельским строителем, — укоризненно заметила Таисия Федоровна.
— Я уже не собираюсь.
— А как же институт?
— Не знаю.
— Час от часу не легче!
— Мама, — подал голос Андрей, — не надо затевать этот разговор.
— Хорошо. Не сегодня-завтра он сам возникнет. Впрочем, Люба, если у тебя есть желание перевестись на другой факультет, я этому буду только рада и помогу.
— У меня нет такого желания.
— Ничего не понимаю. Какой-то ералаш… — Таисия Федоровна сдержала приступ раздражения.
У Любы с этим домом было связано много надежд: по ее просьбе родители в каждом письме подробно описывали, как идут дела на стройке; дом рос из рук вон плохо: не хватало материалов, рабочих то и дело перебрасывали на строительство откормочного комплекса. Люба с первых же дней учебы записалась в студенческий клуб «Поиск» и увлеченно рисовала на белых листах ватмана целые поселки с театрами, огромными магазинами, планетариями, купола которых хорошо вписывались в сельский ландшафт. Руководитель секции архитекторов, пожилой доцент с мрачной фамилией Угрюмов долго рассматривал Любины эскизы для выставки, а потом бросил их на стол.
— С отличием защитите диплом. Это я вам гарантирую. У вас есть и вкус, и чутье.
— А чего же нет?
— Знаете, я уже много лет работаю в институте. Когда-то на первом курсе студенты из села рисовали поселки из сказочных теремов, украшенных затейливой резьбой. Над ними посмеивались и к диплому они уже рисовали стандартные коробки. А теперь теремов никто не рисует. Вот и вы планируете поселок так, как бы это сделал я — типично городской житель, незнакомый ни с сельским укладом жизни, ни с психологией крестьянина. Да, по правде говоря, и городские студенты планируют свои «города», ориентируясь на какого-то абстрактного жителя, для которого жилище — место для ночлега. И во всей этой «архитектуре» не отражаются ни традиционные поиски смысла жизни, ни поклонение красоте… Но я все-таки жду. Хотя, как уже не без иронии говорю себе, вы, маэстро, пребываете в состоянии грустного, затянувшегося ожидания. Вы уж извините, что нагнал на вас такую тоску. Пожилым людям простительно брюзжание. Это — чисто старческий симптом. Вы в своей работе старайтесь идти не от того, что знаете, а от сердца. Может, поначалу нелепо получится, смешно. Но, как говорили древние, больше доверяйтесь сердцу, ум — только инструмент. И, ради бога, не принимайте все на свой счет. Мы в последнее время перестали говорить о цели Бытия, о прочих высших материях, определяющих человеческую сущность. Отсюда — и заниженные нравственные критерии, и пьянство… Естественно, это сказывается в архитектуре. Вот видите, я прочел вам целую сердитую лекцию.
— Мне было очень интересно. Я уже над многим и раньше думала, но, честно говоря, до сих пор теряюсь и не знаю: с чего начать? — призналась Люба.
— Я всю жизнь провел в каких-то бесплодных метаниях, пока сердцем не познал те прописные истины, о которых уже говорил. Теперь вот тешу себя надеждой, что на своем горьком опыте научу других, — преподаватель замолчал, погрузившись в воспоминания.
Люба прошла к своему кульману, прикнопила белый лист ватмана; несмотря на все сомнения, тревоги, будущее представлялось ей очень романтично: она строит в селе маленькие города, а ее муж пойдет по стопам матери — будет работать в области органической химии; теперь же этот прочный фундамент дал трещину.
— Прибыли, — холодно сообщила Таисия Федоровна и некоторое время все еще сидела неподвижно; казалось, она сейчас скажет шоферу: «Поехали обратно», и тогда… Андрей не знал, что произойдет «тогда»; он уже измучился от всяческих предчувствий и сейчас искренне желал одного, чтобы все это как-то кончилось, тогда можно будет осмотреться, подвести какие-то итоги, а так все было неопределенно, неустойчиво, и надо было постоянно думать над тем: как себя вести?
Люба сидела с закрытыми глазами; веки ее слегка дрожали. Андрей не понимал, что с ней происходит; шофер открыл было дверцу, но не решился выйти первым, достал из-за сиденья синюю байковую тряпку и стал основательно протирать руль, как это делают водители междугородных экспрессов перед ответственными рейсами…
Коричневатая, растрескавшаяся от жары и дождей дверь отворилась; из нее осторожно выглянуло округлое, с неестественно яркой краснотой на щеках лицо Любиной матери; она тревожно всматривалась в окна машины, надеясь сразу, по каким-то еще и самой неведомым знакам понять причину столь внезапного приезда; увидела дочь и, всплеснув руками, сбежала по мелким ступенькам крыльца; остановилась перед машиной, хотела отворить дверцу, но вспомнила, что не знает, как это делается, и так и осталась стоять с полупротянутой рукой, жалкая, неловкая, уже готовая расплакаться.
— Здравствуйте, — Таисия Федоровна вышла из машины, — вот и мы.
Они обнялись. Мать Любы поспешно отстранилась и снова с тревогой посмотрела на дочь; за стеклом машины она казалась какой-то далекой, чужой; глаза ее по-прежнему были закрыты — это пугало больше всего.
— Дети, как видите, живы-здоровы. Приехали в гости! — с натянутой бодростью сказала Таисия Федоровна. — А как вы живете?
— Мы? Да что мы, у нас все как всегда, — Антонина Васильевна повернулась к окну; Таисия Федоровна и Андрей увидели, как к стеклу с такой силой прижался отец Любы, что у него сплющился нос. — Выходи, отец, выходи, чего ты там сидишь! — сердито прикрикнула Антонина Васильевна, — всю жизнь за женину спину прячешься.
Люба открыла глаза, посмотрела сначала на крыльцо, потом на мать, улыбнулась ей и, от волнения забыв, как открывается дверца «Волги», несколько раз беспомощно толкнула ее рукой; на помощь пришла Таисия Федоровна. Люба тяжеловато вылезла из машины, округлая, с ввалившимися глазами. Ее мать раскрыла руки для объятий, натолкнулась на выпирающий живот дочери и неумело погладила ее по плечу.
— Здравствуй, доченька. Проведать приехала, соскучилась, дитятко? А мы с отцом разболелись тут, — она повернулась к крыльцу и опять прикрикнула на мужа, появившегося в двери, — и чего ты не ко времени расхворался. Дочка эвон какую даль из-за тебя тащилась!
— Да я что, я ведь… — опираясь на суковатую палку, тот потянулся свободной рукой к перильцам.
— Здравствуйте, Иван Алексеевич! — мать Андрея предусмотрительно протянула руку свату, и тот, опираясь на нее, спустился по ступенькам.
— Любонька, дочка, чего ж так…
— Приехала — радоваться должен! — сердито одернула Антонина Васильевна; она уже поняла: что-то случилось, и хотя мучилась незнанием, но, следуя мудрой пословице, всему свой черед, не торопила события.
— Да я рад, как же я не рад! — с испугом, что может омрачить приезд дочери неосторожным словом или жестом, воскликнул Иван Алексеевич, еще пристальнее осматривая дочь из-под набухших морщинистых век.
— Поживу у вас, — Люба хотела с улыбкой сказать: «соскучилась», но это обидело бы Таисию Федоровну; с той минуты, как она увидела окна родного дома, а в них лицо отца, то замерла в сладком полуиспуге; закрыла глаза и держала эту картину в памяти до тех пор, пока не услышала разговор Таисии Федоровны с матерью; теперь, когда поездка закончилась столь благополучно, Люба все еще не могла выйти из состояния оцепенения. Она улыбалась, шутила, но делала все как-то неестественно, чем еще больше пугала мать и отца, и повергала в смятение Таисию Федоровну, которая чувствовала на себе тревожные взгляды сватьи и свата — в них проскакивала укоризна, и болезненно переживала свое двусмысленное положение. Андрей наблюдал за всем со стороны и был рад тому, что про него забыли. Иван Алексеевич мимоходом похлопал зятя по плечу, спросил, как учеба, и снова повернулся к дочери.
— Да что же мы на улице-то стоим, — спохватилась Антонина Васильевна.
Андрей вошел в избу последним. Он несколько раз бывал здесь; в избе ничего не изменилось, как не менялось, наверное, уже годы; у печки стоял сундук, служивший Антонине Васильевне одновременно и лежанкой, в красном углу, под простенькой иконой, украшенной бумажными цветами, висели грамоты Ивана Алексеевича, уже выцветшие, но внушавшие уважение крупными круглыми печатями и витиеватыми подписями; вдоль передней стены стояла массивная лавка, немного вытершаяся у окна, потому что здесь любил сидеть хозяин дома.
— Садись, сватьюшка, отдохни с дороги-то, — мать Любы, обычно робевшая перед Таисией Федоровной, в избе осмелела; она нырнула на кухню, вынесла кринку. — Может, молочка обедешного попьете?
Андрей отказался.
— Тогда шофера угостим. Чего он там, на улице-то остался? — Антонина Васильевна распахнула окно и позвала шофера в дом; тот долго отказывался. Снисходительно улыбнувшись, Таисия Федоровна подошла к окну и негромко сказала:
— Зайдите. Вас же приглашают.
Андрей видел, как сразу сник этот крупный, солидный мужчина; стесняясь, он поспешно пил молоко, и по его замкнутому лицу было не понять: нравится оно или нет; его скованность заметила Люба, подсела к столу и, к неудовольствию свекрови, стала расспрашивать о работе, об институте. Шофер отвечал односложно, без хлеба допил молоко и, облегченно вздохнув, вышел на улицу, сославшись на то, что ему захотелось после молока покурить; с ним увязался отец Любы.
— Как я давно тут не была, — когда изба наполовину опустела, Люба прошлась из угла в угол и остановилась перед Андреем, — тебе нравится здесь?
— Да, тихо, и воздух тоже… — опешил тот от столь прямого и откровенного вопроса.
— Я тут жила и, наверное, еще живу.
— А как же! — подхватила мать, — хоть ты и городская, а мы тебя все одно своей считаем. Кровать твоя на месте. Да-да, — повернулась она к сватье, — я на своем сундучке сплю, а отец — на диване. На Любушкиной кровати я каждые две недели наволочки и покрывало меняю. Вечером скажу отцу: «Надо у Любушки утрось белье сменить…»
— Не надо, мама, не надо, а то я расплачусь, — прошептала Люба.
— Чего ж тут плакать? Я все, как есть, рассказываю, — Антонина Васильевна легонько прижала дочь к себе и подтолкнула к двери, — нечего тебе в доме торчать. Иди воздухом дыши. В городе такого нету. Да и мужа с собой бери, а то он у тебя весь худой и бледный. А мы со сватьей стол сообразим.
Андрей к Люба вышли на крыльцо. Иван Алексеевич беседовал с шофером, как и водится у русских людей, о мировых проблемах, о политике, о том, как жили десять лет назад и как сейчас живут люди на земле… Люба взяла мужа за рукав и потянула к огороду; на ощупь подцепила щеколду и отворила дверцу. Над грядками висело на шесте истрепанное полинявшее пугало в дырявой соломенной шляпе.
— Знаешь, а я в детстве пугала боялась, — весело сказала Люба.
Андрей не заметил, когда же произошла в жене та перемена настроения, которую он всяческими путями пытался вызвать в городе; лицо Любы было по-прежнему утомленным, осунувшимся, но голос уже был иным, да и в движениях появилась живость.
— Знаешь, даже в четвертом классе, когда я это пугало наряжала вместе с мамой, все равно его потом боялась. А тебя чем пугали маленького?
— Милиционером, — ответил Андрей и смутился, вспомнив себя маленького; родители хотели видеть его чистым и аккуратным, а он постоянно ходил чумазым и растрепанным; он иногда искренне хотел сделать матери приятное и прийти с улицы чистым, но у него ничего не получалось.
— А вот у того пня росла чайная роза, — тихо сказала Люба, показывая в сторону пня, с одной стороны которого притулился муравейник, — она погибла от морозов. Когда я была маленькой, то если долго сидела возле розы, меня начинало клонить в сон.
Андрей в какое-то мгновение понял, что жена говорит не ему, а себе. Он отстал, а Люба шла вдоль изгороди и что-то рассказывала, рассказывала. Андрей сначала с тревогой смотрел ей в спину, а потом успокоился; осмотрелся: в огороде только грядка с луком напомнила ему о том, как он после свадьбы приехал сюда и, хватив лишку, побежал в огород за луком и подергал его вместе с луковицами; ему стало неловко, словно он только что сияющий, радостный вошел в избу с пучком лука в руках и один из родственников Любы, тоже бывший крепко навеселе, выговорил: «Ты, парень, когда лук рвал, чем думал?» С той минуты прошло более двух лет, а случай этот помнился во всех незначительных подробностях. Андрей вернулся к муравьиной куче и присел на корточки; от пня во все стороны разбегались крохотные дорожки, протоптанные муравьями. Андрей подумал о том, что, наверное, только с виду муравьиное хозяйство кажется таким налаженным, что его часто ставят в пример человеческому; наверняка, и у них полно неразберихи.
Откуда-то возник голос, тонкий, протяжный. Андрей поднял голову, привстал.
По жердочке шла Да по тоненькой, По сосновенькой. Тонка жердочка не гнется. Не ломается, —напевно выводил голос.
«Люба! — узнал Андрей, — она…» Он посмотрел в дальний конец огорода, но ничего, кроме цветущих вишен, не увидел; их белые пышные шапки укрыли Любу, и казалось, что голос да и сама песня рождаются где-то между ветвей. Андрей знал, что Люба тихонько напевала старинные народные песни, когда занималась хозяйством на кухне; ей пела их ее бабушка, без которой ни одна свадьба в деревне не обходилась. Но вот до свадьбы внучки она не дожила, и, когда родственники Любы захлопали и закричали, чтобы спела невеста, Люба смутилась и посмотрела на мужа; тот, понимая ее замешательство, как нежелание попасть в неловкое положение, поскольку по нынешним обычаям за столом уже не поют, а только слушают музыку, решительно сказал: «Не разрешаю!»
— А зря, парень, зря!.. Ну, да твоя воля, — сказал Любин дядя, кряжистый, толстошеий и, усмехнувшись: «А мне не у кого разрешения спрашивать», — запел во весь голос:
Из-за острова на стрежень, На простор речной волны, Выплывают расписные Стеньки Разина челны…Слуха у Любиного дяди не было, он отчаянно фальшивил; товарищи Андрея, чинно сидевшие за столом своей группкой, насмешливо заулыбались, для них и для него тоже это был пьяный вывих или, как они говорили между собой, «низинка». Люба тоже смутилась, но дяде подпели Антонина Васильевна, Иван Алексеевич, а потом, видя, что песня наладилась, подхватили ее и подруги Таисии Федоровны, да и молодые с улыбкой, но стали подпевать. Когда песня кончилась, Иван Алексеевич сказал дочери:
— Жаль, твоей бабушки нету. Без нее свадьба — не свадьба.
Тогда Андрей даже обиделся: его родители с ног сбились, чтобы на столах было все: от черной икры до французских вин и коньяков. Они собирались устроить застолье в одном из ресторанов, но Любины родители были против, они хотели отпраздновать свадьбу «семьей»; пришлось согласиться, и вот оказалось, что им опять что-то не понравилось. И уже много позже Андрей узнал от жены, кем была ее бабушка и почему «свадьба без нее — не свадьба». На одной из вечеринок, когда все устали от танцев под магнитофон, Люба, смущенно улыбнувшись, тихо пропела:
Как на горке, на горе, На высокой, на крутой, Стоял высокий терем…Получилось это у нее до того легко, мелодично, что компания притихла, кто-то попросил «еще», и Люба спела песню до конца, а потом виновато объяснила: «Мне бабушка в детстве много таких песен пела». В тот вечер все только о том и говорили, что Любе надо «обязательно пойти в какой-нибудь хор», что у нее «определенно есть талант». Андрей настолько увлекся этой идеей, что сказал: «Бросаю институт. Беру в руки баян, и мы идем на эстраду!» Потом Люба часто пела на капустниках, вечеринках, факультетских вечерах, по вскоре, как это часто бывает, все привыкли к ее голосу, к песням, и, когда на одном из вечеров Люба услышала, как кто-то из факультетских остряков сказал: «Доклад декана — раз, тянучие песни — два, и — полчаса на танцы», она убежала в раздевалку, и Андрею не удалось ее уговорить: она ушла домой.
После того случая она больше не пела, и чтобы как-то стушевать происшедшее, погасить обиду, Андрей просил спеть Любу «только для него». Она закрывала глаза, настраиваясь на песню, и виновато пожимала плечами: «Почему-то не могу. Не получается». И теперь, услышав, что жена запела, Андрей боялся стронуться с места; эту песню он слышал не раз, но тут среди цветущих вишен она звучала совершенно иначе, и голос у Любы был иной — в нем появились те, почти неуловимые интонации, которые обретает голос, когда поют по настроению только для себя или для любимого человека.
Пойду, выйду, молода, За новые ворота, За новые, кленовые, За решетчатые, —негромко, но звучно выводила Люба. И Андрею невольно захотелось подтянуть ей, и это получилось бы само собой, он чувствовал это, но боялся помешать жене; забылись тревоги и страхи, одолевавшие в последние дни. Он слышал только песню, и иногда ему начинало казаться, что это какое-то видение, что стоит пошевельнуть пальцем, и оно исчезнет. Голос Любы то нарастал, то затихал, и Андрею казалось, что он видит даже его цвет, то сливающийся с розоватыми цветами вишен, то вспыхивающий голубым, то красным. Он почувствовал какое-то родство, единство с цветущими вишнями, с пчелами, кружившимися над шапками розоватых цветков, с ярко-зелеными, пробившими суховатую корку земли ростками лука на грядке, с далекой дымкой горизонта, да и со всем миром…
Когда голос затих, Андрей испуганно скользнул глазами по вишням; внезапно почувствовал себя жалким и одиноким и тревожно позвал:
— Люба! Люба!
— Иду, Андрюша, иду, — она показалась в просвете между вишнями, солнечная, взволнованная, смущенно посмотрела на мужа.
— Любаня.
— Не надо, ничего не говори. Я все поняла, — она ладонью закрыла ему рот, — пойдем, а то нас, наверное, гости заждались.
Застолье шло своим чередом. Молодых супругов встретили радостными криками; Андрей нескладно шутил с родственниками жены, даже пытался плясать, а когда мать посмотрела на часы и напомнила: «уже семь», сказал «сейчас поедем».
— А Люба? — нервничая, шепотом спросила Таисия Федоровна.
— Она останется здесь.
— Надолго?
— Не знаю.
— Размазня! — не выдержала Таисия Федоровна; хотела сказать что-то еще колкое, обидное, но затевать скандал на глазах у родителей и родственников Любы было неприлично.
Андрей посмотрел на жену, на ее выпирающий живот, и прежний страх невольно заставил его вздрогнуть. Люба почувствовала его душевное колебание и ободряюще улыбнулась.
— Ты отдыхай, — дежурно сказал он, — я приеду. Завтра же.
— Моя машина занята, — не оборачиваясь, обронила Таисия Федоровна и, чтобы скрыть слезы, отвернулась.
Андрей сел на заднее сиденье. Он видел в глазах родителей Любы какую-то вину перед ним и Таисией Федоровной и, лишь когда выехали за околицу, тихо сказал матери:
— Ну зачем так?
— Завтра возьмешь машину и будешь ездить каждый день, как ей не надоест.
— Она не вернется.
— Почему?
— Я не могу объяснить точно.
— Что за сложности? Какой-то детский лепет. Вам еще рано быть родителями, — сердито заметила Таисия Федоровна, выпрямилась и вытерла глаза маленьким кружевным платком.
1985
Гвоздик
Лоснящийся, горячий асфальт пыхал чадным жаром. Стертые подошвы Сережкиных ботинок, казалось, вот-вот лопнут; липкий пот жгуче заливал глаза; каждый глоток воздуха раскаленным шаром падал в легкие, и они сипло охали, выталкивая его наружу. Сережка задыхался, но из последних сил бежал, бежал по бесконечно черному полю, в далекой угарной дымке оно пугающе подвернулось. В голове, словно крохотная серебристая пылинка в солнечном луче, то появлялась, то исчезала спасительная, простенькая мысль о том, что это — оптический обман: Земля — круглая и обрыва нет, и тут же, проблеском, возникало ощущение, что он видит все во сне. Но леденящий, какой-то дикий страх гнал и гнал его по асфальтовому полю, раскисшему от нестерпимой жары; ноги проваливались, вязли в вонючей кашице, и, с ужасом подумав: «Только бы не упасть!» — он упал. Больно стукнулся лбом обо что-то жесткое; горячечно трясясь от страха, он еле отдышался и, опираясь на нетвердые руки, поднялся на колени.
Он стоял на круглом тряпичном коврике перед кроватью, потный, взъерошенный; вязкая дрема склеила ресницы, и он, что-то мыча, силился их разодрать, цепенея от одного лишь предчувствия, что снова попадет в лапы кошмарного сна. Сережка рукой нащупал квадратную ножку железной кровати, стиснул ее; перед глазами все плыло и кружилось. Он мотнул головой — непонятное движенье замедлилось.
Еще почти бессмысленно Сережка скользнул взглядом по комнате, наткнулся на бутылку молока, возвышавшуюся на столе; жажда, словно ожидавшая этого момента, сухо перехватила горло. Постанывая и пошатываясь, он на коленях подполз к столу; ослабевшими пальцами долго не мог вдавить податливую фольгу пробки и, давясь кисловатой клейкой слюной, мучился от бессилия. Наконец жадно припал к бутылке; вместо облегчения в животе что-то забурчало, закололо, к горлу подкатила тошнота. Сережка выронил бутылку, и молоко, выплеснувшись, ручейком побежало по столу, огибая граненый стакан и клочок записки под ним; запрудив ладонью белый поток, Сережка согнал молоко в центр стола; рассеянно скользнул глазами по записке:
«Сынуля! Ешь котлеты с картошкой, а в обед ешь свой любимый рассольник.
Мама».«Я дома. Дома…» — тупо подумал он и, не веря в это, озирался; все было на месте: обшарпанный комод, громоздкая швейная машинка фирмы «Singer», доставшаяся матери по наследству и с которой она никак не могла расстаться.
«Чего же вчера было-то?..» — держась рукой за кромку стола, Сережка мучительно напрягал память; голову ломило, словно ее стиснули железным обручем; мысли путались, обрывались; все лицо почему-то саднило. Сережка заглянул в тусклое овальное зеркало, висевшее над отрывным календарем, и удивленно откачнулся — оплывшая левая бровь багрово нависла над глазом. Он пальцем осторожно помял ее, непривычно тугую, и ноющая боль отдала в переносицу.
«Где это меня?.. Как это я?..» Сережка икнул, содрогнувшись всем телом и, болезненно напрягаясь, словно проворачивая тугие заржавевшие шестерни, подумал: «С таким фонарем в школу лучше не показываться. Отсижусь!» Он знал, что уговорит мать и та напишет слезную оправдательную записку (такое уже не раз было) классной руководительнице, которая охотно ей поверит, поскольку привыкла к постоянным болезням Сережки.
«Чего же вчера было-то?» Зябко прошлепав босыми ногами по холодному полу, Сережка нырнул под одеяло; зажмурившись от удовольствия, вытянулся — постель хранила его тепло. Робкая, едва проклюнувшаяся тревога шевельнулась в самой глубине души; по телу пробежали колючие мурашки. Сережка закрыл глаза — из темноты, кружась, кувыркаясь, выпрыгивали слепящие шары, разрывающиеся огненные круги, какие-то шифры… «Контрольная… сегодня контрольная!» — вспомнил Сережка, и в памяти, словно она была заморожена, а теперь неторопко оттаивала, стали возникать подробности, детали; из них, как из разноцветной мозаики, по кусочкам складывался вчерашний день.
На носу была контрольная из гороно, и Сережка до самого вечера просидел, уткнувшись в учебник математики.
— То не учится, не учится, а то засядет! — ворчливо выговорила мать; сын то и дело болел, быстро уставал; через подруг, через знакомых она узнавала адреса врачей и по субботам вела Сережку куда-нибудь на другой конец города, вталкивала в квартиру, сладко пахнущую сдобой или духами, и почти с порога, плача и причитая, что он у нее — единственный сын, умоляла посмотреть Сережку; смущая врачей, обещала, что в долгу не останется, и они чаще всего отказывались от новеньких хрустящих трешек: их Анна Тимофеевна специально обменивала у знакомой кассирши, поскольку считала, что новые деньги брать приятнее.
Словно сговорившись, врачи предлагали «удалить гланды». Суетливая, как бы постоянно чем-то напуганная, Анна Тимофеевна при слове «операция» протяжно ойкала; хотя ей много раз объясняли, что гланды удаляют даже двухлетним детям, упорно не соглашалась. «Береженого бог бережет!» — приговаривала она и, отказывая себе во всем, покупала на базаре шерстяные носки и толстые свитера ручной вязки. И все же Сережка, не вышедший ни ростом, ни статью, большеголовый, за что и прозвали во дворе Гвоздиком, болел часто; неделями кашлял, сопливился; без воздуха кожа на его лице становилась похожей на желтовато-серую оберточную бумагу. Пугаясь, мать по чьему-то совету смешивала какао, мед и нутряное свиное сало; давясь, Сережка натощак глотал жирное приторное месиво, но, вопреки ожиданиям, не наливался румяной полнотой.
Зарплаты уборщицы Анне Тимофеевне не хватало, и, чтобы Сережка ел и пил не хуже других, она убирала еще лабораторию в соседнем с заводом институте и дома почти не бывала; уставала до ломоты в руках и пояснице и не могла удержать слез, если сын, словно бы между прочим, говорил: «Ты бы полежала, ма, отдохнула, что ли…» Анне Тимофеевне хотелось видеть Сережку отличником, в то же время ее пугало, как бы он не надорвался. «Какая жизнь без здоровья!» — со страхом думала она и завидовала тем матерям, сыновья которых носились по двору, откормленные, горластые, уже заглядывающиеся на девочек.
Сережка собрал портфель, разминаясь, помахал руками и, потянув воздух носом, по пряному запаху догадался, что мать снова ходила к знакомой кассирше в продовольственный магазин; унижаясь, просила «дефицитных консервов», и та (он однажды был у нее вместе с матерью) с брезгливостью сунула газетный сверток, отказавшись от переплаты, поскольку Анна Тимофеевна считала ее школьной подругой, ласково называла Дашей, и кассирша с выщипанными бровями, крикливо накрашенным ртом непривычно стыдилась себя прежней, которую почти забыла.
— Тресковую печеночку тетя Даша удружила. Завтра ряпушки в масле поедим… — Анна Тимофеевна кусок за куском подкладывала сыну бежевые ломтики печени и, оправдываясь, приговаривала: — А что делать, Сереженька, а что делать… Тебе для здоровья надо рыбки. Врачи говорили… Да ты тетю Дашу совсем не знаешь. Она добрая. Ее работа спортила. Попробуй-ка целый день на кассе посиди! Покупатели капризные. Все нервы повыдергают!..
Наскоро перекусив, Сережка вышел во двор.
Вечерело. В деревянной голубой беседке, неестественно опрятной среди мусора, накопившегося за долгую зиму в снежных сотах, а с вешним солнцем разом вытаявшего, сидели Виктор Чапин и Генка Быков. Закинув жердистые ноги на ажурные перильца, Виктор еле помещался в дощатой клетке домика, построенного для малышни; казалось, он упал сюда сверху, а уже потом нахлобучил фанерную крышу в виде ромашки.
Щекастый Генка с черными пуговками глаз, очень на хомяка похожий, кивком поприветствовал Сережку. А Виктор Чапин, или Чап, как звали его во дворе и что ему нравилось, даже не посмотрел в его сторону; прикрыв глаза, он с завораживающей ленцой перебирал струны гитары, облепленной переводными картинками белозубых брюнеток, голубоглазых блондинок. Иногда, поддавшись настроению, Чап тихонько напевал одним голосом.
Генка Быков, Быча, Бычок, Бочка, моргая колкими, глуповатыми глазками, млел, слушая неспешное пенье Чапа; он мог часами сидеть в каком-то сладком оцепенении; его обволакивали, убаюкивали тихие тягучие аккорды. Чап для себя всегда пел что-нибудь грустное, сентиментальное, а для публики с хрипотцой выдавал Высоцкого или блатные песенки. Сережке он больше нравился таким вот, одиноким; казалось, что его съедает тоска по чему-то настоящему, в чем он боится признаться даже себе и уже совсем не хочет, чтобы об этом узнали другие; тоска болела в нем, и о ней Чап пел, лишь когда был один или при Генке и Сережке. Он считал их малолетками. Сережка не подавал виду, но втайне гордился тем, что понимает Чапа, и все же его пенье, похожее на монотонное поскуливание, казалось ему наивным, даже смешным; оно приедалось, и Сережка, думая о своем, смотрел то на воробьев, дерущихся из-за хлебной корки, то на красноватые от закатного солнца, по-мартовски огромные сосульки, вот-вот готовые сорваться вниз, и не решался заговорить с Генкой — боялся помешать Чапу. В его компании каждый знал свое место.
— Привет, чуваки! — метеором ворвался во двор Николай Данилин; с ходу поддал ногой пустую консервную банку, и она с грохотом покатилась мимо старушек, сидевших на лавочках возле подъезда. — Бабули! — озорно подмигнул он. — Собирать металлолом полезнее, чем сплетни. — Захохотал, довольный тем, что так к месту вставил расхожий афоризм Чапа. В спину Николаю понеслись угрозы и проклятья, похожие на гусиное шипенье. Он шел, немного переваливаясь с боку на бок и покачивая белесой копной вьющихся волос.
— Анжела, извинись!
Сережка, Генка и даже Чап посмотрели под арку, соединявшую соседние дома. Сунув руки в карманы длинного кожаного пальто, незнакомый парень исподлобья глядел на Николая; изрядно потертое, но перешитое по моде пальто плотно облегало атлетическую фигуру незнакомца, и он напоминал детектива.
— Бабули!.. Я чего? Я — ничего… — извинительно улыбнулся Николай. — Мать у меня — отсталая женщина. Отец — алкоголик. Бабушка не дожила до светлого дня моего рождения… Бабули, может, кто надо мной шефство возьмет? — Данилин потешно приоткрыл рот; старушки, сбитые с толку столь неожиданным поворотом событий, недоверчиво переглядывались, не знали, как себя вести. — Эх, бабули, вам бы только поругать, пожрать да поспать три раза на день! — зло пристыдил Николай и кивнул в сторону беседки: — Пойду к хулиганам. Они хоть сигареткой угостят, а от вас слова доброго не услышишь.
— Иди-иди, мазурик!.. Ишь речистый какой!.. Обормот! — затараторили старушки.
— Анжела, и чего ты все со старухами кокетничаешь? — Чап снисходительно потрепал Данилина по плечу.
— Воспитываю… Знакомьтесь, чуваки. Комиссар! — Николай представил парня в кожаном пальто.
Генка и Сережка с напускным безразличием по очереди протянули руку парню; они привыкли, что каждый вечер в компанию Чапа приходил кто-нибудь новенький. Комиссар стоял перед ними, самоуверенно прищурясь, тяжелый и монолитный; на улице он бы даже не посмотрел на них, а тут, во дворе, они были представителями компании Чапа, и хотел он того или нет, но вынужден был с ними считаться и принимал их безразличие как должное.
— Свой чувак! Из соседнего «университета»! — весело ответил на вопросительный взгляд Чапа Данилин. Словно капля ртути на горячей ладони, он был в постоянном движении: необидно щелкнул по затылку Генку, потеснил Сережку, увидел въезжавшую во двор зеленую «Ладу» и громко возмутился: — Опять эта падла новый тарантас купила!
— Что за туз? — почти не раскрывая рта, сквозь зубы процедил Комиссар, с интересом приглядываясь к сухонькому невзрачному мужчине в круглых очках с голубоватыми стеклами; тот запер дверцу машины на ключ, для верности подергал; зная, что на него и на обновку во все глаза смотрят с балконов и от подъездов, вел себя так, словно был в этом дворе совершенно один.
— Мебельным магазином заведует, — хмуро пояснил Николай.
— А мебель нынче всем нужна! — криво усмехнулся Чап.
— Жаль, шило не захватил! — шумно вздохнул Николай.
— Еще успеешь, Анжела… — Чап лениво тронул струны.
— У меня не сорвется! Дайте только «университет» кончить, я их буду как липку обдирать. Я ж будущий срантехник все-таки! — зло хохотнул Данилин. — Кран сменить — червонец, прокладку — червонец… Я им, падлам, покажу, где раки зимуют!
— Будешь краснее рака, — с печальной иронией человека, уже порядком разочаровавшегося в жизни, заметил Чап; он работал мастером по ремонту холодильников, а Данилин лишь прошлой осенью поступил в профтехучилище.
— Мы как-то одному майору сделали, — Комиссар посмотрел на Чапа; тот заинтересованно поднял глаза. — Он утром вышел, а колес у «Жигулей» нету! — тяжеловато улыбнулся Комиссар. — Но это, чуваки, еще не все!.. Он в милицию побежал. На весь двор потом раскричался, что честному человеку от разных хулиганов и ворюг житья не стало. А через недельку мы через одного чувачка ему эти колеса за полцены продали. Он для маскировки, военный же человек, на них красные ободки нарисовал.
— У меня тоже не сорвется! — хвастливо повторил Николай.
— Если еще клюнет… — зная, что это сойдет ему с рук, едко заметил Сережка и тут же получил от Данилина легкий щелчок по носу.
— У меня не сорвется! — уже вкладывая в эти слова иной смысл, назидательно сказал Николай.
— Анжела, я понимаю, что в твоих жилах бушует африканская кровь, но зачем же обижать маленьких?.. Наш Гвоздик! — пояснил Комиссару Чап; тот понял это как знак особого расположения к Сережке: опустил увесистую ладонь на его голову и надавил — тонкая шея Сережки завибрировала от напряжения.
— Пробьет любую доску… без молотка! — шутливо обронил Комиссар.
— Не обижай маленьких! — Николай хотел с маху шлепнуть по ладони Комиссара, тот резко отнял ее, и Сережка получил звонкую затрещину.
Компания рассмеялась.
Пряча обиженные глаза, Сережка потер ушибленное место.
— Не обижайся, чувак, я же не хотел… Ну кто виноват, что у этого типа — зверская реакция? Не обижайся, чувак, будь человеком, чувак! — Николай притянул Сережку к себе, подул ему в маковку. — Ну, прошло твое бобо? — Достал из кармана конфету: — Заешь и зла на меня не имей… Вчера чувиху склеил! — повернулся он к Чапу. — Клёвую чувиху. Весь вечер конфетами кормил.
— Только и всего? — разочарованно протянул Чап.
— У меня, чуваки, прокола не будет!.. Цыц, дети, отверните свои локаторы. Идет разговор до шестнадцати лет! — прикрикнул Николай больше на Генку, от любопытства подавшегося вперед.
Едва сгустились сумерки, компания перебралась под арку между домами. Комиссар, судя по его упоению и запалу, любил, но не умел рассказывать анекдоты; он выкладывал их, тяжеловато ворочая языком, словно перекатывал во рту камешки.
Чап посмеивался больше над неуклюжим старанием рассказчика и слегка подначивал, заговорщицки подмигивая Сережке; в отличие от Генки и Николая, он понимал игру Чапа, и ему льстило, что тот выделял именно его.
— Эй, чува, где ты такой утюг отхватила? — крутнувшись словно на шарнирах, неожиданно выкрикнул Данилин.
Сторожко, опасаясь, как бы не упасть, выпуклый обледеневший тротуар переходила Лида Скобелева. Сережка отвернулся, смущенно пряча лицо в воротник демисезонного пальто. Лида училась в параллельном восьмом «а»; одна нога у нее была короче, и Лида носила особую обувь на толстой подошве.
— Мадам, вы случайно не из семейства роботов? — с нагловатой галантностью спросил Комиссар.
— Дурак! — зардевшись от возмущения, беспомощно огрызнулась Лида.
— Ну кто тебе сказал, а кто тебе сказал, что тебя я не люблю! — дурачась, пропел Чап.
Данилин, Комиссар и Генка рассмеялись.
— Ты чего не ржешь? — Николай слегка толкнул Сережку плечом.
— Холодно, — делая вид, что отшутился, уклончиво ответил тот.
— Чуваки, может, он не умеет? Давайте научим. Держите за руки, я под мышками пощекочу!
Ладони Комиссара опустились на щуплые Сережкины плечи; развернули его спиной к Данилину; Сережка уже внутренне содрогнулся от грозящего унижения и, лихорадочно соображая, как бы выкрутиться, невольно встретился глазами с Комиссаром; по-рыбьи выпуклые, они смотрели с подкупающим добродушием; оттопыренные уши Комиссара были похожи на ручки чайника.
— Кончай, — Чап остановил Данилина, уже с готовностью потянувшегося к Сережке. — Гвоздик — тонкая душа. Ему ваши медвежьи забавы не по нутру! — сказал он так, что было непонятно: то ли это насмешка, то ли — упрек.
— Не тонкая, а еще сопливая, — стараясь попасть в тон Чапу и, как всегда, промахиваясь, сострил Николай.
— К тому же Гвоздик прав. Холодно. — Чап зябко потер руки, ожесточенно ударил по струнам гитары и, зажав их, заглушил пронзительный аккорд. — Обещали сегодня джинсы приволочь… вранглеровские, — словно бы нехотя вспомнил он.
Сережка понял, что Чап весь вечер просидел с самым глубокомысленным видом в ожидании джинсов; ему была непонятна страсть к модным тряпкам; он принимал ее лишь в сочетании: душа, тело и одежда, но был бы не прочь для авторитета надеть джинсы, а еще лучше джинсовый костюм с этикеткой «Wrangler», но знал, что его матери такое не по карману.
— Джинсы! Джинсы! Все прямо помешались на них! — словно читая Сережкины мысли, Николай Данилин досадливо сплюнул. — Я всю жизнь хожу в отечественных штанах и пока жив. Да у тебя, Чап, и эти — клевые, — Данилин наклонился и бесцеремонно пощупал жестковатую материю. — Ты сам говорил, «Леимс», что ли…
— «Левис», — снисходительно поправил Чап.
— Аристократические. За ними гоняются. Двести рябчиков! — со знанием дела заметил Комиссар.
— Знаю. Но что-то захотелось другие… — скучливо вздохнул Чап.
— Все эти штатовские штаны — фуфло! У меня бабка в деревне такую клевую материю из льна ткала… У нее дом из двух половин. Одну занимал такой станок… — По улыбкам на лицах приятелей Николай понял: не верят, и запальчиво добавил: — Она деду такие рубашки из этой материи шила, что тот по десять лет носил. Я кусок этой материи сам видел. Тонкая. Жесткая. Ее бы покрасить с умом, сносу бы не было!
— Чего же ты теряешься? Вези станок, откроем подпольную фирму.
Данилин был настолько во власти нахлынувших впечатлений детства, что не заметил откровенной насмешки Чапа и негромко (таким его Сережка видел впервые) продолжил:
— Она этот станок берегла. Она своему отцу наткала холстины на похороны, потом — мужу, деду моему, значит, а потом — себе… Умерла. Я с двоюродными братанами весь станок раскрутил. Там такие сеточки из тонких лучинок были… бердами называются. Мы из них разные домики строили. А станину мой дядя вытащил во двор и качели нам устроил…
— Анжела, не нагоняй тоску! Итак, по справедливому замечанию нашего Гвоздика, холодно. — Чап достал кошелек из желтой кожи. — В самый раз податься за чернилом.
— Чуваки, как хотите, но я чернило не пью. Здоровье дороже денег. Мне лучше — чистенькой! — Комиссар, покопавшись во внутреннем кармане кожаного пальто, вытащил смятую трешку.
— Я нынче не башляю, — стараясь, чтобы это прозвучало независимо, резковато сказал Николай.
Чап сунул пятерку в бумажник и двумя пальцами небрежно извлек десятку.
— Два растворителя и две — краски… на ваш вкус, чуваки! — Он весело подмигнул Сережке с Генкой. — Берите руки в ноги или ноги в руки, как вам будет удобно.
— Закусон брать? Сырки, что ли? — зная все наперед, по инерции спросил Генка и спрятал деньги в перчатку, чтобы не потерять.
— Спичек возьмите! У меня спички кончились! — вдогонку крикнул Чап.
Розово полыхал неоновыми окнами огромный гастроном; словно в аквариуме, в нем плавали мимо сверкающих белизной прилавков многочисленные покупатели; их лица, красноватые, зеленоватые, голубоватые от разноцветных ламп, подсвечивающих витрины, казались чрезмерно строгими, погруженными в какие-то таинственные заботы. Гена и Сережка прошли мимо гастронома. Они спешили в маленький продуктовый, стоявший на отшибе. Здесь им всегда давали и вино, и водку, и сигареты. Возле этого магазинчика с раннего утра «гужевались» алкаши; безобразно опухшие, одутловатые, они, казалось, дышали пороком; их рыскающие глаза цеплялись за прохожих.
Сережка заходил в этот магазинчик, набрав побольше воздуха в грудь; в винном отделе уже без стеснения на него с Генкой накидывались алкаши; обдавая тошнотворным перегаром, с белой пеной слюны, запекшейся на губах, они почти требовали:
— Дай двадцать копеек!.. Ну, десять!.. Дай пять!..
Сережка ненавидел этот магазинчик; он испытывал почти физическое отвращение к пьяницам. Сережка знал от матери и от соседей, что его отец «под пьяную лавочку» погиб в автомобильной аварии, и потому все пьющие казались ему людьми обреченными. Сережке был противен и Николай Данилин с его плоскими шуточками, и все же он терпел его и через силу заставлял себя выпивать несколько глотков красного вина, поскольку хотел быть с в о и м в компании Чапа, особые привилегии которой невольно распространялись и на него.
Сережка, самый маленький в классе, помимо Гвоздика имел еще одну презрительную кличку — Хиляк; каждый почти, кому вздумается, мог сорвать на нем зло, дать ему пинок или просто подзатыльник. Класса до четвертого, поплакав в уголке, он смирялся с положением слабого, хотя в душе его, по-детски легко ранимой, эти унизительные уступки еще долго кровоточили, терзая и муча. Из жажды самоутверждения, иногда доводившей до исступления, Сережка налегал на учебу, которая давалась ему легко, и быстро выходил в «хорошисты», и тот же Лешка Басов, не раз доводивший его до слез, да и другие мальчишки просили списать домашнее задание; отвечая у доски, смотрели на него заискивающе; он сидел на первой парте, и судьба многих лодырей была в его руках.
Повзрослев, Басов стал требовать, чтобы Сережка подсказывал и на контрольных вместе со своими решал чужие варианты; это стало не дружеской услугой, а обязанностью. Видя свою полнейшую беспомощность перед рослыми однокашниками, Сережка, чтобы как-то досадить им, запускал учебу и, к ужасу матери, скатывался в «хвостисты». Ценой таких потерь и унижений он завоевывал шаткое право подсказывать с самым сосредоточенным видом какую-нибудь ерунду, за что опять же получал подзатыльники; раньше он жаловался классной руководительнице, но ее попытки что-то изменить вызывали лишь более обостренное внимание, да и стыдно было жаловаться, если у тебя выбили из рук портфель или, дурачась, стукнули по голове книжкой.
Надежда на перемены, как часто бывает на грани отчаянья, не угасала в Сережке, и неудачи лишь разжигали ее; он пробовал записаться в секцию самбо, где уже второй год занимался Лешка Басов. Участковый врач, иссиня-седой, похожий на старых интеллигентов, какими их рисовали в учебнике истории, хотя доподлинно знал Сережкину болезнь, долго листал его карточку, похожую на пухлый зачитанный том, и, когда Сережка понял: «Не даст справку!» — и внутренне приготовился к отказу, мягко заметил: «Тебе не нужно перегружаться. Конечно, если удалить гланды, организм окрепнет, а пока лучше повременить…»
Тогда мысленно (это было в его силах) Сережка, почти не веря в возможность этого, знакомился с таинственным незнакомцем, в совершенстве владеющим каратэ; он даже представлял его ветхий домик, затерявшийся где-нибудь на окраине города. Молчаливый, сдержанный каратист усаживал Сережку на старый стул посреди пустой комнаты и тихо спрашивал:
— Зачем тебе это?
— Справедливости хочу! Справедливости! — с обезоруживающей наивностью признавался Сережка. И незнакомец открывал ему древние приемы защиты и нападения. Во время болезней Сережка перечитал почти все книги в соседней районной библиотеке и фантазировал настолько искусно, красочно, что невольно увлекался: верил в загадочного незнакомца и со сладкой истомой переживал тот момент, когда на глазах у всего класса бесстрастно предупреждал Басова: «Я не умею защищаться. Я обучен только побеждать». Эта фраза из какой-то книжки о Японии ложилась легко и точно, словно смазанный патрон в ствол ружья.
На какие-то доли секунды сбитый с толку, Басов заученно делал ложный выпад, чтобы затем, словно перышко, бросить Сережку через себя, но тот неожиданным ударом, от которого не было защиты, сбивал его с ног. Думая, что произошла нелепая ошибка, приятели Басова кидались к Сережке; он молниеносно расправлялся с ними и, как требовал этикет справедливых силачей, без тени презрения или снисходительности говорил: «Не нужно забывать, что тот, кто поднял руку на другого, уже поднял ее на себя!»
Но время шло, а таинственный незнакомец, владеющий каратэ, не появлялся; книги и фильмы, в которых побеждали люди от рождения слабые и даже обреченные на смерть, а потом, путем усиленных тренировок, достигавшие невероятной физической силы и ловкости, уже не приносили облегчения. «Если Басов будет так же тренироваться, он станет Гераклом!» — безысходность, столь пронзительная, физически ощутимая в детстве, сдавливала его холодными тисками, и мысли о том, что он сам разделается с обидчиками, ничего, кроме душевных мучений, не вызывали. Когда кто-нибудь из ребят слишком уж распоясывался, за Сережку заступались девочки; мальчишкам это даже нравилось — на фоне Сережки их сила увеличивалась, словно через десятикратную лупу, а он переживал такое унижение еще болезненнее, чем если бы его обидели где-нибудь в темном углу коридора.
В компанию Чапа Сережка попал не случайно. Он как-то заметил, что Генка Быков, не выделявшийся ни силой, ни хваткой Бычок, над нерасторопностью которого потешался весь двор, Быча, вечно замусоленный, похожий на сальный огарок свечи, вдруг стал покрикивать на тех, перед кем раньше пресмыкался; он стал чем-то вроде личного адъютанта Чапа. Генка бегал ему за сигаретами, за вином, искал запчасти к «Яве». И когда Генка заболел, а Чапу понадобились билеты в кино, Сережка, мысленно уже перешедший рубеж смущения, вызвался сбегать в кинотеатр. Замер, сдерживая тревожный озноб; Чап с интересом осмотрел его и еле заметным кивком разрешил: беги!.. На обратном пути Сережка на свои деньги прихватил в киоске сигареты «Союз — Апполон», поскольку знал, что они правятся Чапу.
В то воскресенье он впервые вместе с ним ходил в кино и после весь вечер стоял под аркой, слушал, как поет Чап. Данилин и другие подростки хотя и не принимали в разговор, но и не прогоняли Сережку; мимо проходили его одноклассники, он с замиранием сердца ловил их удивленные взгляды и пугался, что завтра все переменится, и с противной самому собачьей преданностью смотрел на Чапа.
На следующий день, едва Сережка вышел во двор, как его тут же окликнули и послали за сигаретами; Чап поинтересовался, как он учится, и слегка пожурил за тройки.
Теперь Сережку не трогали ни в школе, ни во дворе; поворот произошел мгновенно: если кто-то, по привычке, щелкал его по затылку, то, опомнившись, заискивающе извинялся; Сережке и самому было чудно, что, оказывается, все в жизни так просто! Он был таким же, ни капельки не изменился, а отношение к нему — уже такое, что его самолюбие, столь долго находившееся в загоне, теперь с треском расправило крылья.
Небрежно сунув руки в карманы брюк, он на переменах разгуливал по школьным коридорам, стараясь нарочно задеть кого-нибудь плечом, и, прикрыв глаза от удовольствия, слушал торопливые извинения; как-то он вошел в буфет и на глазах у всех встал в очереди за пирожками впереди Басова:
— Самбист, я, кажется, тут стоял?
— Да бери, раз уж тебе некогда… — скрипя зубами от досады, тот немного посторонился, уступая место.
Сережка нахмурил брови, стал похож на смешную букашку, и с еле заметной многозначительностью спросил:
— Самбист чем-то недоволен? Может, я ошибся? Может, я сзади стоял?
— Да не!.. Впереди! — потешно испугался Лешка и убрал голову в плечи, словно хотел сжать свое сильное тело в маленький комочек и затеряться.
Мальчишки в очереди понимающе переглянулись.
Такие перемены вдохновили Сережку. Он подтянулся в учебе, и когда Басов отвечал у доски и по многолетней привычке косил в его сторону, демонстративно отворачивался; он мог подсказать какую-нибудь чепуху и дать классу вволю посмеяться, мог открыто сказать: «Ты, Басов, дурак!» Но, чувствуя свое превосходство, Сережка не мог снизойти до такой мелочи; он мысленно корил себя за сцену в школьном буфете, которая теперь казалась ему ребячеством, не больше.
Из всей компании он немного уважал одного Чапа; в отличие от Данилина и других завсегдатаев, тот претендовал на изысканность: носил джинсы, приталенные рубашки в модную широкую полоску, но был не похож на тех мелких пижонов, лениво жующих «жвачку» на перекрестках. Чап оставался «своим парнем», и те подростки, которые презирали пижонов, охотно прощали ему страсть к «шмоткам», над которой он и сам частенько посмеивался. У Данилина и у других парней создавалось впечатление, что эта страсть идет от того, что Чап имеет «хорошие деньги» и в пику пижонам носит джинсы фирмы «Левис» в хвост и в гриву!.. Но Сережка чувствовал, что за этой страстью кроется какая-то горькая неудовлетворенность. Чап любил порассуждать о жизни, о новых фильмах; для компании его слова часто были подлинным открытием и даже откровением; Данилин и другие парни слушали Чапа взахлеб, а Сережка старательно делал серьезное лицо и в душе посмеивался над неглубокими умозаключениями Чапа, который старательно переписывал в блокнот слова модных песенок-однодневок и украдкой вздыхал на сентиментальных фильмах.
Свое двойное отношение к Чапу и компании Сережка держал в тайне, и чем пристальнее он приглядывался к жизни, тем оно казалось все более правильным и даже закономерным; он знал, что мать ненавидит завхоза — пузатого мужичонку с носом-картошкой (она как-то показала его на улице), который ни за что ни про что может накричать на человека, унизить, но зато с ним всегда можно было договориться насчет свободного дня или другой смены. Из-за этих маленьких привилегий Анна Тимофеевна сносила оскорбления, хотя уборщицы требовались везде.
— Еще неизвестно, к кому попадешь! — словно оправдываясь, говорила она сыну; тот раньше с горячностью предлагал: «Ты попробуй! Зачем тебе терпеть!..» Тяжко переживая свои унижения, он обостренно, ближе, чем свои даже, переживал унижения матери и убеждал ее, уговаривал перейти в другой цех или в тот же институт, куда ее не раз приглашали. А теперь, если заходил разговор о перемене работы, Сережка не вскипал от негодования, а со спокойной иронией говорил:
— Дураков кругом полно. А дурак, как известно, что стенка. Свой лоб пожалей! А совсем невтерпеж станет, уйдешь — это твое право. Ты — сама по себе, твой дурак завхоз — сам по себе. Это ему только кажется, что он — пуп Земли. Он — всего лишь пупок!..
— Ой, да что ты говоришь, Сереженька! — пугливо улыбалась Анна Тимофеевна; ей казалось, что сын, вечно сопливый, зябнущий, целыми днями сидящий с книжкой, завернувшись в ватное одеяло, — он смотрит на мир ее глазами.
Но самое странное было в том, что Анна Тимофеевна невольно присоединялась к его рассуждениям, радостно завидовала внутренней независимости сына, несвойственной ей, и без особой опаски отпускала в компанию Чапа. Поначалу, правда, тревожилась, но дни шли, а сын не портился, чего она наивно ожидала; подтянулся в учебе; ребята перестали его обижать; он даже спать стал спокойнее — не ворочался, не кричал, сбрасывая одеяло. Анна Тимофеевна, опасавшаяся, что без мужа не поставит сына на ноги, не справится с ним, наконец-то обрела спокойствие, но ненадолго. Однажды она увидела Сережку с девочкой и прямо-таки остолбенела, спасительно подумала: «Случайно встретил!»
О чем-то оживленно разговаривая, они подошли к мороженщице; Сережка одним взглядом остановил руку девочки, потянувшуюся к сумочке, купил мороженое, и по тому жесту, медлительному, наполненному неброским особым смыслом, с которым он подал мороженое спутнице, Анна Тимофеевна поняла: «Не случайно!»
Прячась за деревья, за дома, она шла за ними; все пыталась рассмотреть лицо девочки. Когда они скрылись в дверях кинотеатра, Анна Тимофеевна как подкошенная упала на зеленую деревянную скамейку. «Не может быть! Неужто Сереженька?.. — слепящее чувство ревности, смешанное с изумлением, овладело ею. — Со спины какая-то неказистая. Идет, как гусыня, переваливается. Платьишко коротенькое… Вертихвостка какая-то!» Чем больше она настраивала себя против Сережкиной спутницы, тем желаннее становилась для нее эта кубастенькая девочка, неожиданно разбудившая в ее сердце столь естественную надежду одинокой, по-своему несчастной женщины на сыновье благополучие; все здесь было житейски просто: счастлив сын — счастлива и она.
Сережка в тот день впервые решился пригласить в кино Надю Собко. Толстенькая, с бледноватой рыхлостью в лице, она была чем-то похожа на проклюнувшийся росток подсолнуха в цветочном горшочке на окне, фиолетовом от жидкого зимнего света. Подруг у Нади почти не было, и Сережка, еще раньше внутренне тянувшийся к ней, но не допускавший даже намека на самое ничтожное внимание (засмеяли бы!), теперь сдерживая ликованье, стоял на перемене с Надей у окна, провожал ее из школы до дома, и, когда Басов за его спиной скорчил усмешливую рожицу (Сережка понял это по Надиному лицу, внезапно потускневшему), он повернулся к Басову, и тот буквально заскулил от страха: «Чувак, ну чего ты, ну, дурак я, дурак…» Сережка, несмотря на свирепый вид, был даже благодарен Басову, видя как Надя зарделась и посмотрела на него с той признательностью, с какой слабые люди смотрят на добродушных великанов, выручивших их из беды.
Когда мать, после долгих терзаний и мучений, с вымученной улыбкой намекнула, что «видела его с какой-то…», Сережка весело сказал: «А что, возьму да женюсь!», чем поверг ее в смятение. Немного отойдя, Анна Тимофеевна подумала, что надо бы сыну справить новый костюм и решила, что если в ближайшее время не подвернется работы на стороне, то снимет деньги со сберкнижки, где у нее лежало восемьсот рублей. «Четыреста на мои похороны уйдет. Помереть нынче дорого стало, — говорила она сыну, — а остальные, сколько скоплю, тебе останутся». В ответ Сережка, еще видевший жизнь как нечто бесконечное, неисчерпаемое, только снисходительно улыбался.
Из «продуктового» Сережка и Генка, придерживая отвисающие карманы, направились в скверик. Чап любил выпивать, как он говорил, «у спортсменов» — возле нелепых облезших фигур борцов, установленных, наверное, еще в эпоху тех пятилеток, когда ГТО только делало свои первые шаги.
— И зачем напридумывали: портвейн розовый, яблочное вино, фруктово-яблочное вино… На мой вкус — все они одинаковые. Одни послаще, другие чуть горчат. Какой смысл было придумывать? — Генка покосился на Сережку; он всегда остерегался, как бы тот его не высмеял, но поговорить ему хотелось, и эта сила обычно брала верх.
— Дорогие вина, я читал, имеют свой особый вкус, вернее, букет, — без особого интереса отозвался Сережка.
— С ними ясно. А на это дерьмо зачем разные этикетки приклеивать? Алкаши и так выдуют!
— Наверное, чтобы им не скучно было. Сегодня — яблочное, завтра — плодово-ягодное, послезавтра — денатурат! — походя сострил Сережка.
Генка засмеялся. Они пролезли в узкую щель между черными металлическими прутьями ограды и вышли прямо на компанию Чапа, расположившуюся на лавочке возле борцов.
— Чуваки, вас только за смертью посылать! — перебрасывая с ладони на ладонь складной алюминиевый стаканчик, сердито выговорил Николай Данилин; в его курчавой шевелюре застряло с десяток крупных снежинок и казалось, что ее посыпали солью.
— Там алкашей… не протолкнешься! — выставляя бутылки на лавочку, надулся Генка: он знал, что тут ему можно немного обидеться.
— Пора отстреливать! — невозмутимо заметил Сережка и посмотрел на Чапа: лишь он мог по достоинству оценить эту остроту. Чап весело подмигнул:
— Молодец, Гвоздик!
— Чует мое сердце, что начнут с нас! — Комиссар зубами сорвал пробку; глотнул водку из горлышка и, запрокинув голову, пополоскал горло.
— Чувак еще тот!.. Чува-ак! — гордясь тем, что привел такого, на его взгляд, стоящего парня, Данилин заносчиво осмотрелся.
— Ангины никогда не будет! — Комиссар небрежно сплюнул.
— Маэстро, повторите! — вежливо попросил Чап.
— Запросто! — Думая, что в его способностях усомнились, Комиссар отхлебнул из бутылки и полоскал горло так долго, что лицо его от напряжения побагровело; он харкнул и победно посмотрел на Чапа.
— Маэстро, пожалуйста, еще разок! — все так же вежливо попросил тот; еле заметно подмигнул Сережке, который уже догадался, что Чап развлекается.
— Да я хоть сто раз!.. — Комиссар с готовностью запрокинул голову — водка, выплескиваясь изо рта, забулькала.
— Маэстро, вам эти процедуры ни к чему. У вас и так луженая глотка, — с непроницаемым лицом заметил Чап. Генка во все глаза смотрел то на него, то на Данилина и не знал: смеяться или нет.
— На горло не жалуюсь… — Комиссар почувствовал подвох, но по лицу Чапа нельзя было прочесть что-либо определенное, и, стараясь удивить еще больше, он лихо запрокинул голову и стал пить водку прямо из горлышка. Генка от искреннего восхищения поперхнулся. У Сережки водка вызвала в памяти кисловатую горечь микстуры от кашля, которую он пил, закрыв глаза, и тут же запивал сладким чаем; чтобы не видеть, как судорожно дергается острый кадык Комиссара, он отвернулся.
Выпив треть бутылки, Комиссар резко выпрямился и уткнулся в рукав пальто, жадно втягивая ноздрями солоноватый запах крашеной кожи, действовавший освежающе.
— Кто такую гадость делает, морду бы ему набить! — он, не глядя, протянул бутылку Сережке.
— Мы с Генкой вермуту себе купили.
— Они балуются только чернилом, — подтвердил Чап.
— Чуваки, к чему вы тут детский сад разводите? Чуваки! — Комиссар, пренебрежительно выпятив нижнюю губу, укоризненно посмотрел на Сережку, потом — на Генку. — Может, вас ночью мамаши на горшок сажают? Может, вам сисю дать? — Он так сморщился, что казалось, вот-вот заплачет от досады и разочарования. — Люблю посмотреть на пьяную мелюзгу. Это же — цирк! — шепнул он Чапу и, пальцем отчеркнув уровень в бутылке, умоляюще протянул: — По наперсточку, чуваки!..
Чап скучал. Джинсы ему не принесли, компания собралась в самом мизерном составе; предложение Комиссара немного оживило его; он насмешливо прищурился:
— Гвоздик, матери, что ли, боишься?
— Да нет, — спокойно пояснил тот, — она сегодня в третью смену пойдет. Потом два часа в кладовой посидит и пойдет в первую.
— Она у него, как и моя, — уборщица, — ответил на недоуменный взгляд Комиссара Данилин.
— Гвоздик, я тебя не понимаю… Чтобы запах отбило, мятных таблеток дам. — Чап не любил церемониться и больно уколол Сережку: — Я тебя всегда считал самостоятельным человеком, потому и взял в нашу компанию.
Отступать было некуда: Данилин, Комиссар, Чап смотрели на него откровенно презрительно; только Генка Быков сочувствующе сопел носом. «Да чего я упрямлюсь-то? Выпью немножко, что меня, убудет, что ли?.. Красное же выпиваю — и ничего…» — поспешно уговаривал себя Сережка. Данилин, Комиссар и Чап уже смотрели на него с легкой насмешкой, как на мокрого воробья, который изо всех сил пыжится, трясет намокшими крылышками и, цепенея от ужаса, не может взлететь; в панике ему кажется, что все сильнее, сильнее рубит воздух крылышками и вот уже чувствует привычную упругость воздушных потоков и даже — неслышное парение в бездонной высоте, а сам забивается все глубже и глубже в липкую грязь на обочине дороги.
— Гвоздик! — нетерпеливо напомнил Чап.
Сережка покрылся испариной, представив, что его сейчас прогонят; даже затрещины не дадут, а просто отвернутся, и он лишится привилегий компании Чапа, и справедливость, с таким трудом восстановленная, будет нарушена.
— Я чего?.. я сейчас! — Он торопливо схватил бутылку — горло обожгло, из глаз выкатились слезы, но Сережка протолкнул внутрь нестерпимо горький первый глоток; в его голове промелькнуло удивленное: «Только и всего!..», и он глотнул еще раз… выронил бутылку, суматошно замахал руками.
— Запей! — Комиссар сунул ему бутылку вермута, и Сережка, не чувствуя ни вкуса, ни запаха, одержимый единственным желанием заглушить жгучее першение, выпил почти половину бутылки и закачался, поскольку дыхание перехватило. Когда он немного пришел в себя, увидел расплывающиеся, хохочущие лица.
— Крепись, чувак, атаманом будешь! — Чап покровительственно потрепал его по плечу. Понимая, что угодил, Сережка вымученно улыбнулся.
— Давай тебя крестить! — Комиссар сунул бутылку Генке.
«Попался, Быча! — не без злорадства подумал Сережка. — Посмеялся!.. Теперь моя очередь!» Генка, словно каждый день так делал, взболтнул бутылку и приложился губами к горлышку, замер; водка извилистой струйкой побежала по подбородку.
— Пей, чего зря добро разливаешь! — прикрикнул Данилин.
Силясь, Генка глотнул — глаза его выкатились из орбит. Комиссар еле успел подхватить падающую бутылку; загреб пригоршню сероватого снега и запихнул в по-галчоночьи раскрытый Генкин рот.
— Закусывай, а то, если все будут запивать, как Гвоздик, нам ничего не останется!
Генка выплюнул снег, рукавом вытер губы; по его лицу скользнула хитроватая усмешка. Сережка понял, что он мастерски разыграл судорогу и бутылку выронил специально. «Ну, хитрюга Бычок!» — искренне удивился Сережка, недоумевая, как туповатому, неповоротливому Генке удается обводить вокруг пальца не только ребят, но и взрослых.
Чап с той завораживающей ленцой, создававшей ощущение, что каждый его жест наполнен особым смыслом, разведя руки, повесил гитару на руку одного из борцов; смахнул с постамента снежинки, водрузил на него бутылку и рядом положил сырки.
— Это место создано для выпивки, — сказал он Комиссару. Чап любил разговаривать с новыми людьми. — Эти сошедшиеся в поединке человекообразные постоянно напоминают мне, что жизнь с незапамятных времен — борьба…
— Дудки! — несогласно мотнул головой Комиссар. Он слегка захмелел и уже чувствовал себя в компании на равных с Чапом. — Жизнь — это цирк!
— Лучше уж театр, маэстро, или кино, — с затаенной усмешкой поправил Чап.
— Нет, цирк! — упрямо повторил Комиссар. — Сила есть — платят за силу. Хохмить умеешь — тоже проживешь. Умеешь надувать щеки и корчить из себя начальника — будешь номера объявлять. Научишься, не моргнув глазом, надувать соседа — попадешь в фокусники. А те, кто ни хрена не умеют, те на билеты вкалывают!
— Интересно. А к кому же вы себя, маэстро, относите? — Чап иронично прищурился и хотел подмигнуть Сережке — единственному человеку, который мог сегодня оценить его игру. Тот стоял, как-то неестественно расставив ноги, и, натужно морща лоб, пытался вникнуть в суть разговора; ему было уже не до тонкостей Чапа.
— Каждому, кто мне задает такой вопрос, я предлагаю: давай руку, померяемся! — Комиссар медленно сжал кулак, и все увидели, как под кожей пальто буграми обозначились мускулы. — Сразу выясним, кто из нас работает в цирке, а кто приходит на спектакли.
— А если я из тех, кто надувает соседа, как быть тогда, маэстро? — с обезоруживающей веселостью спросил Чап.
— Тогда лучше не попадайся. Среди артистов тоже идет борьба! — в тон ему заметил Комиссар.
— Скоро, чуваки, гульнем! Нас в конце месяца отправляют на практику. Первую получку всю — на бочку! — как всегда, не ориентируясь, к месту это будет или нет, похвастался Николай Данилин.
— У вас интересная, я бы сказал, железная теория, маэстро. — Чап разлил водку по стаканам. — Я, правда, на жизнь смотрю несколько мягче, хотя и называю ее борьбой. По-моему, жизнь — не просто борьба, а борьба за красивое существование. А чтобы более-менее красиво существовать, мне лично надо вечером куда-то пойти. Деньги я на это имею, а вот податься некуда. В кафе целый вечер не высидишь. В этих стекляшках — шум, суета… Ты сидишь, а рядом с бутылкой за пазухой стоят. Ждут, когда место освободится. В ресторан каждый день не находишься. Не по карману. Приходится убивать время у спортсменов… За их богатырское здоровье и за хорошее отношение к нам! — горько усмехнулся Чап и опрокинул стакан.
Как ни пыжился Сережка, как ни напрягал волю, лицо его широко, словно радужная масляная капля на глади воды, расплылось в глуповатой улыбке; в голове у него стоял ровный густой шум, как будто он находился среди горящих примусов; во всем теле появилась непривычная легкость. Раньше Сережка выпивал чуть-чуть красного и даже не пьянел, теперь же его так и подмывало что-нибудь вставить в разговор, привлечь к себе внимание, но он сдерживался и все же, едва Чап замолчал, с непривычной развязностью ляпнул:
— Слышь, Чап, где твои знаменитые таблетки?
Данилин, Комиссар и Чап слегка опешили.
— Выкладывай, ты же обещал! — покачнулся Сережка.
— Чуваки, концерт начинается! — предвкушая развлечение, хохотнул Комиссар.
— Бери, только все не проглоти, а то пронесет. — Чап, еле сдерживая насмешливую улыбку, протянул Сережке узкую синюю пачку мятных таблеток.
— Сам знаю, не учи! — Сережка существовал словно бы в двух состояниях одновременно: он еще понимал, что выпил лишнего и несет чепуху, но остановиться уже не мог; пугался, но сам страх был словно не его и совсем нестрашный, наоборот, это перерождение забавляло его; он неожиданно стал центром внимания, и хотя Сережка пока понимал истинную причину перемены, все же наслаждался этим. Едва Данилин протянул руку, чтобы щелкнуть его по носу, он грубо, изо всех сил толкнул его в бок:
— Убери грабли, Анжела!
— Гвоздик, Гвоздик… Тсс!.. — Николай, дурачась, спрятался за облупившийся постамент и, высунувшись, шепотом спросил: — Чап, ты еще жив?
— Мы же с ним — друзья! Он меня не тронет, — сказал Чап с откровенной насмешкой.
Сережка потемнел от обиды; стиснув кулаки, он кинулся на Чапа; тот увернулся. Комиссар больно схватил Сережку за ухо:
— Нехорошо, Гвоздик, на своих кидаться! Очень нехорошо! — Он пригнул его к земле и отпрыгнул, тряся укушенным пальцем. — Напился, собака! Ты так всех перекусаешь!
Сережка смеялся редко, а если и приходилось, то лишь чуть-чуть разжимал губы, а тут раскрыл рот, выставив напоказ два неровных ряда худосочных зубов; смех внезапно сменился злостью. Он бегал вокруг борцов, пытаясь пнуть кулаком то Комиссара, то Данилина, то Генку, и ругался так, что даже Чап пораженно присвистывал:
— Ну и Гвоздик! Ну и тихоня!..
— Я ж говорил, эти сопляки такой концерт задают… откуда чего берется! — хохотал Комиссар, пальцем поддразнивая Сережку.
Но вскоре Чапу это наскучило. Он поймал Сережку за воротник пальто, основательно тряхнул и крикнул в самое ухо:
— Тихо, Гвоздик, Анна Тимофеевна рядом!
— Ммама?.. Ммоя мама? — Приступ щемящей жалости к матери охватил Сережку; в его возбужденном мозгу мелькнуло, что вот и он, единственный сын, не бережет ее; напился; и если она узнает об этом, беспомощно накричит на него, настращает, а потом всю ночь проплачет в подушку и утром будет смотреть на него так, словно она одна во всем виновата и вот-вот готова упасть перед ним на колени. Сережкины плечи опали, и он тихонько, словно пискнул мышонок, прижатый к полу, всхлипнул.
Чапу стало не по себе, и, как всегда, чтобы скрыть свою чувствительность, он нарочито грубо сказал:
— Кончай базар! Побаловались, и хватит. — Снял гитару с руки борца и подмигнул недоумевающему Комиссару, только-только вошедшему во вкус: — Лучший концерт, по-моему, короткий. — Ударил по струнам и с хрипотцой запел:
Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой… И неясно прохожим, —с готовностью подхватила компания, —
в этот день непогожий, почему я веселый такой!..Пьяная бесшабашность сбила компанию в теплый упругий комок; Данилин шел в обнимку с Чапом. Комиссар, словно закадычного друга, облапил Генку, и тот, гордый столь неожиданным вниманием, надулся до красноты, выравнивая шаткий шаг компаньона, иногда повисавшего на нем всей своей тяжестью. И лишь Сережка, втянув голову в худенькие плечи, пошатываясь и тупо поводя глазами, тянулся сзади особнячком; непонятная щемящая тоска еще не сошла с него.
Возле выхода из сквера, между двух массивных белых колонн, на которых висели чугунные ворота, компании Чапа встретился парень в лисьей шапке.
— Мех настоящий, но снимать не будем! — с выпячивающимся превосходством хохотнул Николай Данилин.
— Чувак, дай прикурить! — Чап ловким движением выбил из пачки сигарету и, прихватив ее губами, ожидающе замер.
— Не курю, — не глядя на него, ответил парень.
— Такой большой и не курит! — Едва он поравнялся с Комиссаром, как тот, резко качнувшись навстречу, прямым ударом сбил его с ног.
— Гвоздик! — крикнул Чап. — Я же просил тебя купить спички, а ты забыл. Попроси у него, а то он мне не дает. Может, я ему не понравился?
Сережка посмотрел в сторону парня; тот стоял, нелепо растопырив грязные руки; синтетическая японская куртка на груди тоже была в грязи; тонкие губы парня нервно и обиженно дрожали. «Скоты. Только и умеют, что издеваться…» — с тупой злостью подумал Сережка и поспешил к парню; он хотел взять у него спички и тем самым спасти от дальнейших унижений, но только раскрыл рот, чтобы тихо сказать: «Чувак, дай спички, а то эти не отвяжутся», как сильный удар опрокинул его навзничь. Потом он смутно помнил, как Чап, матюгаясь, тер ему лицо снегом и с торопливым, каким-то детским испугом бормотал: «Чего теперь будет?.. И угораздило тебя, дурака!..»
«Чего же было потом?.. Чего испугался Чап?..» — Сережка натянул одеяло до самых глаз, перевернулся на правый бок и задумался. В тепле, в тишине вчерашний день казался далеким прошлым, и все же растущее чувство тревоги, еще похожее на невнятный шум, беспокоило; Сережка пробовал убедить себя, что случившееся — обычное приключение компании Чапа, которых на его памяти было достаточно. Но сейчас чувство ненависти было слабее страха, пока необъяснимого, и Сережка чувствовал, что именно в этот момент, начисто выпавший из памяти, произошли события, чем-то угрожающие ему.
«А что я тому парню сделал, а он меня вон как звезданул!» — Сережка потрогал распухшую бровь; сильно надавил на нее пальцем, чтобы почувствовать ноющую боль и ему стало жаль себя. «Я бы попросил закурить и отошел. Я ни при чем!.. Но чего же тогда испугался Чап?.. Наверное, они того, в лисьей шапке, избили, и крепко! Он теперь заявит. Ну и пусть! Я тут ни при чем!..» Чем больше Сережка доказывал себе свою невиновность, тем грустнее становилось ему; не подняло настроения даже то, что его причастность к большой драке еще больше укрепила бы авторитет среди мальчишек. «Наверное, на комсомольском собрании будут обсуждать!» — Сережка вздрогнул от столь неожиданной, недавно совершенно фантастической, а сейчас уже естественной мысли и по инерции представил, как это будет проходить. Останутся все. И комсоргу не придется, как часовому, торчать в дверях, чтобы кто-нибудь не улизнул.
«Чего они будут говорить обо мне?.. Сейчас учусь без троек. Уроки не прогуливаю. Тут не подкопаешься. Полкласса и по поведению, и по оценкам хуже меня!.. Правда, все знают, что хожу с Чапом. Теперь скажут, что доходился или докатился! Больше им и сказать-то нечего…» По всем статьям Сережка отделывался легким испугом и почти сухим выходил из воды. «Надя! — словно вскрик, в памяти всплыли ее чуть-чуть раскосые, постоянно чему-то удивляющиеся глаза, окруженные бахромой желтоватых ресниц. — Как ей все объяснить?..» Сережка посмотрел на сероватый потолок и безо всякой связи со своими настроениями подумал, что мать собиралась в это воскресенье обклеить комнату.
Приглушенно задребезжал звонок. Сережка подумал, что ошиблись квартирой, и лишь немного приподнялся на локтях, но тут же мелькнуло: «Милиция!» Он много раз видел такое в кино. «А почему ко мне?.. У всех уже были… Так рано?.. Значит, там что-то произошло?..»
Звонок задребезжал коротко и требовательно.
«А может, им свидетель нужен? Чего я боюсь-то? Чего?..» Сережка вылез из-под теплого одеяла и сразу замерз; плохо повинуясь, рука нащупала рычажок запора, и, всегда послушный, он почему-то не двигался с места, а звонок все дребезжал; через дверь просачивался легкий шорох, доносилось глухое притопывание. Казалось, там, на лестничной площадке, собралось множество людей, приплясывающих от нетерпения.
Наконец в запоре что-то щелкнуло — дверь открылась. На пороге стоял Чап; за его спиной, шаркая о стену пузатой клеенчатой сумкой, тяжело отдуваясь, поднималась по лестнице соседка тетя Даша, грузная, страдающая одышкой.
— Дрыхнешь?.. Один?… — Чап хотел было спросить о чем-то еще, но шаги на лестнице ожидающе затихли.
— Ну и народ! — Чап посмотрел вверх по лестнице — тетя Даша поспешно зашлепала по ступенькам.
— Гвоздик, ты чего?.. своих не узнаешь? — Чап, потеснив ошеломленного Сережку, вошел в узкий коридорчик и шепотом спросил: — Ты один?
Сережка, даже в мыслях не допускавший, что всемогущий Чап, покровительство которого оспаривали многие мальчишки, так вот, запросто придет к нему, растерянно посмотрел на него.
— Ты один? — повторил Чап.
Сережка утвердительно кивнул; он не знал, как себя вести, путался в догадках, что может означать этот визит: «Избили того… Я — свидетель!.. Вот оно!..» — Сережка исподволь посмотрел на Чапа; здесь, в полумраке коридорчика, не бросались в глаза его фирменные джинсы; замшевая курточка, поглощавшая скудный свет, казалась черной, и лишь лицо как-то выдавалось вперед, оно было уставшим.
— Проходи. — Чап, словно был у себя дома, за плечи ввел Сережку в комнату; небрежно опустился на стул, достал сигареты, осмотрев тесную квартиру, похрустел пачкой, покрытой целлофаном, и не решился закурить.
— Чего вчера было, помнишь?
— Ну, драка вроде была, — пренебрежительно поджал губы Сережка и подумал: «Хочет выведать, что я знаю… Как бить тех, кто послабее, или скопом на одного — все вы здоровы! А как расхлебывать, сразу овечками становитесь…» Он уже ненавидел Чапа, гордился этим, и решил неопределенными ответами «ну, вроде» помучить его, и был уверен, что переиграет Чапа.
— Драка, говоришь?.. — Чап, сдерживая шумный вздох, напрягся всем телом, упер руки в колени и посмотрел на ботинки; снег на них подтаял и каплями стекал на пол.
— Ну, вроде…
— Понятно. — Чап потянулся было к шнуркам, но махнул рукой и с натянутой иронией обронил: — А нас вроде ищут!..
«И вроде найдут!» — чуть не сорвалось с языка у Сережки; он подавил усмешку, стащил с кровати одеяло и набросил на плечи, стянув его двумя пальцами под горлом.
— Ищут, Гвоздик! — многозначительно повторил Чап, всматриваясь в лицо Сережки.
— Пускай, — безразлично сказал тот.
— Тебя ищут!
— Я что?.. Я ничего… — заметно побледнел Сережка; по интонации, по взгляду Чапа он понял: есть во вчерашней истории что-то такое, о чем не помнит.
— Знаешь, так даже лучше… — прищурившись, Чап о чем-то задумался; ямочки на его щеках весело заиграли, и весь Чап, непривычно расслабленный, раскисший, выпрямился и, вжимаясь в спинку стула, сказал: — На суде это учтут.
— Что… учтут? — От волнения в горле у Сережки защипало; он, несколько минут назад решивший, что Чап уже не выкарабкается теперь, но что ему, на всякий случай, конечно, надо для авторитета немного поиграть перед Чапом и принять его условия, ему даже подумалось: «Надо искать другую компанию», но теперь его уверенность покачнулась; головная боль нарастающе вступила в виски; заломило переносицу. — Что?.. — ослабевшим голосом повторил он.
— Твое состояние и то, что первый раз напился — тоже. — Чап вытянул ноги; ботинки на толстенной подошве оставили на зеленом линолеуме две жирных полосы. — Как выпивал, помнишь?
— Ну!..
— Как закурить просил?
— Дальше! Что дальше? Не тяни, Чап? — умоляюще выкрикнул Сережка.
Чап, словно не слышал его, лениво потер подбородок, щелчком сбросил какую-то соринку с колена.
— Понимаешь, Гвоздик, теперь многое будет зависеть от тебя.
— Что зависеть? — Свободной рукой Сережка нащупал сзади дужку кровати; запотевшую ладонь успокаивающе остудило холодное железо. — Что?.. — Он уже не мог справиться с собой, и даже сами мысли о том, что он — в стороне, что он — всего лишь свидетель, не приносили облегчения. — Я же — ничего… Чего зависит?.. От меня чего?.. — сбивчиво проговорил он.
— Твоя судьба, Гвоздик. Да будь ты мужчиной, чудак. Ты же неглупый человек. Должен понимать: все уже случилось. Теперь надо не локти кусать, а искать выход.
— Да что случилось-то?.. Что? — почти с отчаяньем выкрикнул Сережка.
— Значит, и правда не помнишь. — Чап посмотрел в его страхом расширенные глаза и наигранно будничным голосом, опасаясь, как бы еще больше не напугать Сережку, заговорил — Помнишь, он тебе врезал? Ты вскочил и — снова на него. Я тебя успел перехватить. Комиссар ему культурно сунул. Данила добавил. Он согнулся. Ты увидел — головой меня в зубы. Выхватил у меня из кармана бутылку, и никто сообразить не успел, как ты его по голове…
— И что?.. — остолбенел Сережка.
— Он без шапки был. Комиссар шапку-то сбил!
— И что?.. — так, словно подошел к кромке крутого обрыва и заглянул вниз, повторил Сережка.
— Откуда я знаю? Мы тебя в охапку и ходу!.. Может, он очухался да домой пошел, а может, и… — Чап наполовину играл, но сама возможность такого нежелательного поворота событий вдруг выбила его из колеи; нервничая, он потянулся было к карману, где лежали сигареты; досадливо хлопнул себя по колену и с нескрываемой злостью посмотрел на Сережку.
— Врешь! Ты все врешь, Чап! — истошно завопил тот. — Я валялся, я встать не мог!..
Чап открыл рот и демонстративно покачал пальцем передний зуб:
— Это ты меня. Вывалится…
Одеяло соскочило с Сережкиных плеч, обнажая похожее на спичку тело, на котором, казалось, чудом держались длинные черные трусы.
— Нет! Нет! Нет! — Сережку затрясло как в ознобе. — Чап! Чап… — неожиданно осенило его, — это же ты… бутылкой! Ты!.. — Он нервно рассмеялся, потирая дрыгающиеся руки. — Зачем тебе приходить, если ты в стороне? Зачем?
— Данила, Комиссар, Бычок — все видели… — Чап несколько секунд помолчал, прикидывая, как бы поудобнее и покороче объяснить свое появление. — Ты, Гвоздик, нас в это дело не впутывай. Мы с Данилой и Комиссаром решили так: ты с Бычком шел под мухой. Кстати, ему папаша два дня назад пятерку дал с премии. Вы выпили и перебрали. Мы вас встретили, отобрали водку и повели домой. А по дороге вы к этому привязались…
— Нет! Нет… Не так! — лихорадочно зашептал Сережка. — Не буду… Не хочу!..
— Подумай, Гвоздик, так со всех сторон удобнее, — требовательно сказал Чап. — Мы подтвердим, что на тебя какое-то затмение нашло. Тебе еще шестнадцати нет… Обойдется. К тому же ты рос без отца. Тут все — в твою пользу. Конечно, если сам дураком не будешь. — Он испытующе посмотрел на Сережку. — Ты подумай, Гвоздик!.. Если ты даже приплетешь нас к этому делу, тебе от этого лучше не станет. А нам что?.. Нам какой-нибудь общественный втык сделают. Мне на работу сообщат… Правда, мне эти неприятности ни к чему, да и тебе они не помогут… Подумай, Гвоздик!
— А может, обойдется, Чап?.. Я же не мог сильно… — Голос Сережки то угасал до шепота, то поднимался до какого-то щенячьего визга. — Я же слабак… Меня ведь Хиляком зовут… Я, понимаешь, даже ось от штанги… двадцать кило… выжать не могу!.. Понимаешь, Чап!..
— Я сам слышал, как что-то хрустнуло. Бутылка же не пустая была, — шепотом, словно их могли подслушать, сказал Чап и торопливо поднялся. — Мне на работу пора!..
Обреченность Сережки, такого беспомощного и безобидного, Сережки, который с наивной надеждой смотрел на него и ждал спасительного круга, угнетала. Как часто бывает в таких случаях, ему захотелось поскорее уйти, убежать из этой тесной сумрачной квартиры и как бы отделиться от случившегося.
— Мне пора. А то опоздаю, а потом еще ты подведешь. Одно к одному — целую историю раздуют, — неловко оправдал Чап свою поспешность.
— Может, обойдется? Кто видел-то? Кто… — Сережка в отчаянье схватил Чапа за рукав; он из последних сил не верил, не хотел верить в происшедшее; ему казалось чудовищной несправедливостью, что Данилин, Комиссар, Чап — в стороне. — Может, он ничего… Может, обойдется?.. Кто видел-то? Кто? — исступленно теребил он Чапа за рукав, и тот уже готов был согласиться с этим, чтобы как-то успокоить, на время утешить Сережку, но тут же выругал себя за мгновенную слабость и подумал: «Если Гвоздик меня не послушает, то мое появление тут уже выглядит подозрительно!..» Все, что произошло вчера вечером, представлялось ему досадной неприятностью, к которой он был причастен по воле случая.
— Данила говорит, что там билет из своего,«университета» посеял! — отрезал Чап и, думая больше о себе и себя успокаивая, засомневался: — А может, и не там? Он же вчера еще где-то подрался. Сам знаешь, если наша Анжела подзаведется, не скоро остановишь!
«Что я разболтался? Вдруг его мать придет и увидит меня здесь!» Чап мельком посмотрел на часы.
— В общем, Гвоздик, мы все будем говорить так, как решили. Подумай. Мне пора! — Он широко шагнул к двери, и Сережка, цеплявшийся за его рукав, качнулся, еле удержавшись на ногах.
Оглушительно щелкнула пружина замка.
Сережке стало жутко; обхватив дрожащие плечи руками, он сел на кровать. «Как же так?.. Как же?..» Он судорожно икнул, зарылся в подушку и расплакался, по-детски всхлипывая и вздрагивая всем телом.
1983
Командировка
Андрей Ильич толкнул обитую коричневой кожей дверь директорского кабинета — закрыто. «Если назначил, умри, но будь», — сердито подумал он; хотел развернуться и уйти, но с противной самому, какой-то щенячьей покорностью опустился в синее колченогое кресло и скучливо посмотрел в потолок; в правом углу протекало, и оранжевые, красные круги напоминали возвышенности на географической карте, висевшей рядом с вешалкой; карту повесили не из любви к географии — в этом месте обваливалась штукатурка; здание училища давно нуждалось в ремонте, и его каждый год обещали, но вместо ремонта меняли директоров. Вот и этот, новый, раньше директорствовал в сельской школе, теперь же, как он не без гордости пояснил на педсовете, его «выдвинули сюда».
«Сосунок еще, да директор. Обязаны ждать», — обиженно насупился старый мастер; обиду обостряла, разжигала боль за никчемушную, как он в сердцах говорил, жизнь; — приближалась пенсия, а его за крутой нрав, за прямоту обошли и наградами и почестями. У него даже прозвище было какое-то мальчишеское, немудреное: Андрюша-топор. Первый раз услышав его, Андрей Ильич помрачнел, а потом привык и, когда ему в глаза говорили: «Ну, не будьте же как топор», только посмеивался: «Топор — штука нужная. Вся Россия топором защищалась и топором строилась»; он раньше работал наладчиком на заводе, привык к простоте нравов, а в училище попал по случаю: как-то попросили заменить заболевшего мастера; он с месяц позанимался с парнями — понравилось; правда, ребята тогда были другие, работящие, и опять же знали свое место; теперешним — никто не указ; но у Андрея Ильича разговор короткий: поумнеешь — в люди выйдешь, будешь валять дурака — твое место на обочине жизни; и он никогда не пытался казаться сложнее, ученее. «Насильно ремеслу учить не буду, — говорил он своим подопечным, — насильно учить — пустое дело». И не считаясь со временем, подолгу засиживался в мастерской с парнями из своей группы; многие из них стали передовиками производства, рационализаторами; иногда зайдут в училище, а он не узнает: много их прошло через его руки за сорок лет, у многих — ордена и медали за добросовестный труд, а ему хоть бы часы именные подарили, хоть бы грамоту; недолюбливали его за прямоту ни сослуживцы, ни начальство.
Новый директор, лицом к лицу столкнувшись с пестрым, склочным коллективом училища, поначалу растерялся; чутьем уловил душевное неравновесие Андрея Ильича и напрямик заявил: «Будешь меня поддерживать, не забуду». Тот опустил глаза; на языке уже вертелись и подходящие слова: «Гнилое дерево сколько ни подпирай, все одно завалится да еще и тебя придавит», но подумалось: «Нечто за всю жизнь еще не наругался?», и Андрей Ильич смолчал. А через неделю вместе с учащимися он уже ремонтировал квартиру новому директору, и, когда кто-то написал в областную газету анонимное письмо, возмутился: «Развелось тут всякой нечисти! Совсем житья от нее не стало».
Старый мастер ходил по училищу угрюмый, замкнутый; его сторонились, боялись ему слова против сказать. Когда перед руководством училища встал вопрос: кому в нынешнем году присвоить почетное звание «Заслуженный мастер профтехобразования», директор категорично заявил, что Андрей Ильич — единственный человек, достойный этого. Чувствуя, что вот-вот побагровеет от стыда, тот поднялся и ушел с педсовета. Директор назвал его выходку «финтом скромности». Теперь Андрей Ильич частенько слышал за спиной едкое: «Директорский топор», но крепился, успокаивал себя тем, что «только дадут персональную, ноги его в пэтэушке не будет!»
Директор влетел в приемную бодрый, озабоченный.
— Заходи, — вместо приветствия бросил он старому мастеру; поставил на стол портфель. — У меня к тебе дельце одно. Надо в район прогуляться.
Андрей Ильич, коренастый, к старости округлившийся, втянул короткую шею в плечи, словно готовился к прыжку.
— Для командировок у нас и помоложе есть.
— Понимаю, грязь, автобусы. И дельце-то пустяковое, но другому доверять не хочу. Коллектив у нас аховый, сам знаешь. А тут письмецо одно пришло. Отец Гузенкова пишет, что его сын живет в ненормальных условиях: мать хроническая алкоголичка и приучает сына к водке. Я с Гузенковым побеседовал, он из группы наладчиков. Предупредил. А он уже пятый день на занятия не показывается.
— Он не из моей группы.
— Ну и что? Твоя задача повидаться с матерью Гузенкова, сказать ей пару слов, и все. А Гузенкова, он же запил, наверное, мы за прогулы отчислим.
— Раз дело ясное, чего лишние разговоры разводить.
— Я бы хоть сейчас приказ отдал, но мать Гузенкова может пожаловаться. Наверняка пожалуется. Разные комиссии начнут из себя «великих гуманистов» строить, будут цепляться к каждой мелочи. Скажут: даже с матерью не поговорили. А я так считаю, что если парень уже пьет, если ему учеба до лампочки, пускай чужое место не занимает. У нас не детский сад, чтобы с каждым нянчиться… — директор, длиннорукий, сутулый, словно мальчишка, раскачивался в черном кресле с высокой резной спинкой.
Андрею Ильичу вспомнился лысеющий мужчина в выцветшем кителе. Он привозил директору чешскую плитку для ванной, нарядную — белую с голубыми цветочками и, словно между прочим, попросил «пристроить племянника-оболтуса». В училище самой престижной в последние годы стала профессия наладчика. Их на заводах не хватает, да и заработки у наладчиков высокие. На эту специальность в училище конкурс: два-три человека на место. Вот и закралось в душу старого мастера сомнение: «Если Гузенков — человек пропащий, то как же он в наладчики попал?» Но тут же подумалось: «Случайно проскочил»; за сорок лет работы в училище он всякого насмотрелся.
— Ты чем недоволен? — насторожился директор.
— Чему радоваться-то?
— Скоро получишь персональную. Живи себе в удовольствие.
— Что заработал, то и получу, — не сдержался-таки Андрей Ильич.
— Я только половину твоего прожил, но уже заметил: свое тоже не с неба падает.
«Осточертело все! Глаза бы не глядели…» — Андрей Ильич неловко переступил с ноги на ногу и примирительно спросил:
— Когда ехать-то?
— Завтра, — понимающе улыбнулся директор.
Старый мастер проснулся затемно, боялся опоздать на первый автобус. У окошечка кассы стояло человек десять; Андрей Ильич пристроился к хвосту очереди; ощущение, что вчера его чем-то кровно обидели, за ночь не угасло; в последние годы оно, словно нарыв, вышло наружу, — Андрея Ильича раздражали ученики, которые были не прочь схитрить, сачкануть, сослуживцы, стремившиеся, по его наблюдениям, только к личной выгоде, и даже жена — тихое, безропотное существо. Она вчера не спросила, куда и зачем он едет. Собрала полотенце, мыло, зубную щетку в маленький чемоданчик и поставила его в прихожей возле обуви.
«Никому ничего не надо», — Андрей Ильич зевнул и зябко передернул плечами; холодная сырость невидимо затекала через неприкрытые двери в полупустой зал автостанции; темно-зеленые гирлянды батарей испускали робкое тепло. Одна из женщин тревожно заметила:
— Как бы снег не пошел!
— Это в октябре-то, — хмуро обронил Андрей Ильич.
— Нынче всего ожидать можно. По телевизору видели, что во Франции…
— Меня больше интересует то, что у нас, — грубовато перебил женщину Андрей Ильич.
— Ишь какой хорохористый! — фыркнула та и замолчала.
«Какой есть», — усмехнулся старый мастер и подумал, что если засветло не успеет побывать у матери Гузенкова, то придется ему ночевать в районной гостинице, где наверняка столь же холодно, как и на улице.
Автобус останавливался у каждой деревушки, кланялся каждому телефонному столбу; пассажиров набилось столько, что нечем было дышать. Андрей Ильич, помятый, разопревший, с трудом протиснулся к приоткрывшимся створкам дверей и неуклюже вывалился на узкую бетонную дорожку; долго и жадно хватал ртом студеный маслянистый воздух — сказывались годы, а потом столь же долго осматривался, выбирая куда ступить: кругом, словно деготь, чернела вязкая грязь, и в ней вкрапленными осколками мутного зеркала белели лужи.
Наконец старый мастер заметил желтые, вдавленные в грязь досочки и по ним пробрался к крохотной автостанции. На «Десятую шахту», где жила Гузенкова, автобус уже ушел.
«Час от часу не легче», — Андрей Ильич направился к продолговатому Дому приезжих, рядом с которым строилась новая гостиница; без лишних слов подал паспорт сухонькой старушке в круглых очках.
— У нас в двух номерах места имеются. В одном студент живет. Он тут на консервном заводе практикуется. А в другом — душевный такой мужчина. Он к семье приехал…
— Мне к душевному, — Андрей Ильич жестом остановил словоохотливую старушку.
Мужчина лет пятидесяти — пятидесяти пяти дремал на кровати поверх зеленого одеяла, его ноги были закинуты на никелированную спинку, и старому мастеру сразу бросились в глаза желтые пятки, светившиеся сквозь круглые дырки в черных носках; на квадратном столе стояла початая бутылка водки, в тарелке горкой возвышались мятые окурки, на полу валялись хлебные корки, белело несколько кусочков сахара — все это вызвало у Андрея Ильича почти физическое отвращение. «Лучше бы поселиться к студенту», — подумал он и, соблюдая этикет гостиничной вежливости, поздоровался, поставил чемоданчик на стул возле свободной койки, повесил пальто в фанерный гардероб.
— Вы плохо слышите?
Андрей Ильич вопросительно посмотрел на соседа по койке.
— Я уже дважды спросил: откуда вы и по какому делу?
— Без дела бы в такую дыру не потащился.
— Я не настаиваю… Я тут уже два месяца живу. Приехал к семье.
— Оно и видно, — усмехнулся старый мастер.
— Тут, знаете ли, все непросто.
— Вот и разбирайся, а то сидишь тут, сложничаешь. — Андрей Ильич кивком показал на захламленный стол.
— Со стороны судить просто.
— Я в судьи не набиваюсь. У меня своих забот полон рот.
— С проверкой прибыли?
Старый мастер не ответил; присел к с голу и брезгливо отодвинул початую бутылку, и тарелку с окурками, и ощипанную со всех сторон буханку черного хлеба.
— Выпейте с дороги. Погода нынче гриппозная.
Андрей Ильич подумал, что сейчас неплохо бы выпить стакан-другой крепкого горячего чая, но идти к старушке-дежурной, которая, пока греется чайник, замучает разговорами, ему не хотелось.
Мужчина выждал, пока старый мастер неспешно заест горечь корочкой черного хлеба, и приподнялся на локте.
— Я вот к семье приехал. Два сына, две доченьки. Носят мою фамилию, а ведут себя так, словно я им чужой. А ведь — родная кровь. Должна бы заговорить. Да молчит. А почему?
— Раз от фамилии не отказались, значит, нравится.
— Да фамилия-то у меня негромкая: Гузенков.
— Как?
— Гузенков. А что?
Андрей Ильич озадаченно гмыкнул и, чтобы скрыть свою растерянность, стал согнутой ладонью сгребать в кучку хлебные крошки.
— По письму приехали? — осторожно спросил Гузенков.
«Что тут скрывать-то?» — подумал старый мастер, утвердительно кивнул и внимательно присмотрелся к Гузенкову, худое, нескладное тело которого, казалось, было налито свинцовой тяжестью, до того глубоко вдавилось в жесткую постель; его желтоватые длинные волосы развалились на прямой пробор и, открывая розовую, какую-то беззащитную полоску кожи, маслянисто поблескивали.
— Я написал от боли душевной, — Гузенков сел, скрестив перед собой длинные ноги, — знаете, отчаялся. Жена детей губит, а я не могу смотреть на это равнодушно.
— Не смотри, возьми их к себе.
— Она же против меня их настроила. Я, конечно, шибко виноватый перед ними. Вину свою признаю. Раз вы по письму, то должны знать все, — Гузенков придвинулся поближе к старому мастеру, — жили мы бедно. Я одни штаны имел, женушка тоже нарядами не баловалась. Я заочно в строительном техникуме учился. Теперь не выдюжил бы, а тогда по два-три часа в сутки спал, и хватало. Уж как мы с женушкой бедовали, одному богу известно… — Гузенков замолчал, отвернулся к стене и тыльной стороной ладони смахнул навернувшиеся слезы. — Кончил я техникум, выдвинули в прорабы. И тут как бес меня какой попутал, приглянулась мне молоденькая учетчица из конторы. Ей всего-то девятнадцать годков было, а мне уже — сорок два. И тут, на тебе! — она ко мне тоже симпатию заимела. Я все эти годы, как проклятый вкалывал, жил в черном теле, а тут как луч света передо мной блеснул. Голова кругом пошла…
Услышанное настолько ошеломило Андрея Ильича, привыкшего к тихой семейной жизни, да и не знавшего иной, что он заполошенно пробормотал: «Это же опупеть надо!»
— Я со своей голубой уехал в Калугу. Строители везде нужны. Четыре года мы прожили мирно, ладно, душа в душу, а потом она, как мне сказали, стала по парням бегать.
— А ты хотел!.. — были в этих словах Андрея Ильича и растерянность перед столь откровенной бесшабашностью Гузенкова, и негодование, что взрослый человек, отец четырех детей, а увязался за бабьей юбкой, и неприятная, какая-то сладенькая радость, что возмездие пришло, — опустошительное, жестокое.
Гузенков не заметил сложных, противоречивых настроений старого мастера и все рассказывал, рассказывал, видимо, уже не впервые, и находил для своих головокружительных поступков все новые и новые мотивы, подтверждавшие его спасительную идею, что такова его, Гузенкова, судьба, а от нее, как от сумы и от тюрьмы, не больно-то убежишь; расчувствовался и подошел к самому больному:
— Я верил каждому ее слову, как веришь пташке, которая поет не в клетке. А она, голуба, сама в своих грехах призналась. Я на коленях перед ней стоял, умолял не разрушать нашего счастья. Ведь я заплатил за него такую цену, что подумать о ней страшно. А она обозлилась на меня, а за что? — до сих пор не пойму. «Я тебе, — говорит, — всю юность до капельки отдала, а молодости не получишь!» Еще три года я с ней промучился. Проунижался. Она к другому ушла. Я не виню ее. Мы не вечны, и любовь наша — тоже.
Остался я один. Помучился-помучился, да и решил: поеду к семье. Повинюсь. Кроме нее, у меня в этой нескладной, горькой жизни ничего нету.
— Повинюсь!.. Да тебя, сукина сына, надо бы!.. — Андрей Ильич набычился, сжал тяжелые кулаки.
— Ударь! Избей как паршивую собаку! — Гузенков спрятал руки за спину и покорно придвинул к Андрею Ильичу бледное, сморщенное лицо.
— Не могу, — старый мастер скрежетнул зубами.
— Не можешь, — Гузенков со вздохом уронил голову на грудь, — значит, есть такое в жизни: н е м о г у. Тут ты меня, как человек человека, понять должен. Я жене одно письмо написал, другое… Ни ответа, ни привета. Теперь вот сам приехал, а она меня на порог не пустила. Понимаю: заслужил. Только сколько же можно обиду в сердце носить?
— А если бы твоя голуба тебя не отшила, про семью и не вспомнил бы?!
— У меня, как червь какой сердце поедом ест, — Гузенков задрожал, губы его запрыгали, — а тебе, я вижу, даже говорить со мной тошно. А жаль… Я одного хочу, чтобы дети были счастливы. И не могу спокойно смотреть, как жена… к этому приучает. У старшей дочери, поди, из-за этого судьба наперекосяк пошла. О младшем сыне, как подумаю, от боли красные круги перед глазами идут. Вот и написал я письма и в газеты, и в училище. Может, младшего спасу.
— Попал в историю! Да, попал… — Андрей Ильич хлопнул широкой ладонью по столу. — Значит, сына в обиду не дашь?
— Ни в коем разе!
— Правильно. А что мне делать?
— По совести все доложи.
— Твой сын прогуливает. Его из училища выгонят.
— Не посмеют. А женушке хорошим уроком будет. Да и парень призадумается. Теперь понимаешь, не от хорошей жизни я на такое решился. Тяжело мне, понимаешь… — Гузенков хлюпнул носом и заплакал.
— Ну чего ты?.. — пряча глаза, заблестевшие от щекочущих слез, старый мастер грубовато хлопнул Гузенкова по плечу и, успокаивая себя, повторил уже въевшееся в мозг: «На кой черт мне все это? Только дотяну до пенсии…»
Гузенков плакал, нелепо выдвинув вперед лицо, словно опасался замочить брюки; тихо и тонко вскрикивал: «ой-ей» и тыльными сторонами ладоней размазывал мутные слезы по дряблым щекам.
— Слышь, хватит! — Андрей Ильич судорожно вздохнул и только теперь почувствовал, что воротник у новой рубашки туговат, да и коричневый галстук, повязанный для солидности, давит на горло; большим пальцем он рванул воротник — белая пуговка, сверкнув, улетела под стол. — Думаешь, если я не разводился, с дочерью не ругался, так словно сыр в масле катаюсь. Ошибаешься!.. Я тебе как на духу скажу: мне в этой жизни точно простора не хватает. Раньше меня это прямо бесило; я с начальством лаялся, в разных комиссиях заседал — все хотел мир по-своему разумению перестроить. А к чему это привело? Бездельникам — почетные грамоты, дармовые путевки в Гагры, часы именные, а мне — шиш. Жене, соседям, ученикам в глаза посмотреть стыдно. Тридцать пять лет на одном месте просидел и вроде как гроша ломаного не стою. Все как псу под хвост пошло!..
— Во-во, руки на себя наложить хочется.
— Ну, ты эти дурацкие идеи оставь! — Андрей Ильич испуганно отшатнулся от Гузенкова. — Этим никого не удивишь.
— А как дальше жить? Как?
— Я вот на пенсию уйду, займусь огородом…
— В огороде спрятаться хочешь! — нервно засмеялся Гузенков. — Выходит, ты, как и я, по-своему жизнь ломал, а она тебя на обе лопатки уложила.
— Ты это брось. Всему — свое время. Дерево и то до определенного возраста вширь идет и ввысь тянется.
Силы уже не те.
— Если ты — дерево, то я — не дерево. Понимаешь?.. Я лучше руки на себя наложу.
— Коли они у тебя чешутся, сунь их в карманы и спать ложись. Ложись! — старый мастер развернул Гузенкова лицом к подушке, и тот послушно уткнулся в нее лицом.
Андрей Ильич погасил свет, торопливо разделся, залез под одеяло и тут же забылся. Он проснулся, когда уже рассвело. Старый мастер вспомнил, что в поселок, в котором живет Гузенкова, автобус ходит один раз в сутки, и стал собираться.
— Решил ехать? — Гузенков лежал все так же, уткнувшись лицом в подушку.
— Задание начальства. — Вчерашние настроения еще не угасли в душе старого мастера; она была наполнена непривычной, какой-то трепетной нежностью к Гузенкову; Андрей Ильич искренне хотел ему помочь, но не любил, да и не умел говорить о своих чувствах и потому отвечал грубовато, как бы между делом.
Автобус долго петлял по разбитым проселочным дорогам, подбирая редких пассажиров; они все знали друг друга, и в салоне ручейком журчали разговоры; только Андрей Ильич сидел особняком, уже порядком уставший от любопытных взглядов. Автобус остановился возле почты. Старый мастер заглянул в кабину к шоферу и спросил: не уедет ли тот раньше? Шофер, парень с длинными, чуть загнутыми вверх усами, весело пояснил, что ему еще надо съездить к матери в соседнюю деревню за картошкой, потом заправиться бензином, и в свою очередь поинтересовался, к кому приехал Андрей Ильич?
— К Гузенковой.
— К Вере-рванине? — удивился шофер.
— Наверное, — немного стушевался Андрей Ильич, — а почему ее так зовут?
— Ты ее раньше не знал? — шофер недоверчиво посмотрел на старого мастера, по его хмурому лицу понял, что из этого человека лишнего слова клещами не вытянешь и нехотя добавил: — Я за тобой заеду. Под окнами посигналю.
— Договорились. — Андрей Ильич перебросил чемоданчик в правую руку и зашагал по обочине, покрытой жесткой, выцветшей от дождей травой.
Дом Гузенковой стоял чуть на отшибе; приземистый, с подслеповатыми окнами, он, казалось, дремал под огромным, раскидистым кленом; возле почерневшего от дождей забора валялся серый, треснувший мельничный жернов.
Старый мастер требовательно постучал в окно и отошел к калитке.
Дверь открыла полная, рыхлая женщина. Андрей Ильич сразу подметил и опухшее, одутловатое лицо, и старый, залатанный на локтях жакет; выпуклые глаза Гузенковой смотрели мимо гостя.
— День добрый, — нарушил молчание старый мастер.
В ответ Гузенкова слегка кивнула.
«Хоть бы за порог ради приличия пригласила», — Андрей Ильич с неприязнью посмотрел на Гузенкову; она слегка покачивалась и, чтобы сохранить равновесие, оперлась правой рукой на столб, поддерживающий дощатый забор. «А может, оно и к лучшему, — подумал старый мастер, — в отчете так и напишу: была выпивши, от разговора отказалась». Глядя себе под ноги, он сухо сказал:
— Ваш сын не посещает занятия. Вопрос о его дальнейшем пребывании в стенах училища будет решаться на педсовете.
— Павлуша?.. Не может быть! — Гузенкова сильно качнулась вперед.
Андрей Ильич брезгливо отступил назад; повернулся, чтобы уйти, но Гузенкова схватила его за рукав пальто.
— От меня ничего не зависит. Что мне было приказано передать, я передал.
Из соседней калитки выглянула любопытная соседка. «Час от часу не легче!» — старый мастер даже взопрел от растерянности.
— Пока всего не расскажете, не уйдете! — хрипло выдохнула Гузенкова и потянула Андрея Ильича во двор, он нехотя подчинился.
Дом на три части разделяли деревянные переборки, неряшливо оклеенные сиреневыми обоями; часть пола была покрашена в лимонный цвет. Андрей Ильич снял кепку, присел на стул, на колени поставил чемоданчик.
— Значит, вы из училища… от Павлуши. — Гузенкова тяжело опустилась на ветхий диван, занимавший половину комнатки.
— Да.
— Извините, что так встретила. Думала, вы от моего бывшего мужа. Он в райцентре, в гостинице живет. И то какого постояльца разжалобит, подошлет, то вот из газеты товарищ приезжал… А вот как же с Павлушей такое приключилось? Я прямо не знаю, что и подумать…
— Тут и думать-то особо нечего. Как воспитали, таким и растет, — хмуро заметил Андрей Ильич.
Гузенкова осуждающе покачала головой и тихо спросила:
— Нешто вы знаете, как я его воспитывала?
— Результаты вижу.
— Я в них что-то не верю.
Андрей Ильич усмехнулся, давая тем самым понять, что из-за пустяка он бы в такую даль не потащился.
— Зря вы так… Раз приехали, то разберитесь.
— Да уж все ясно.
— Зря вы так, — тихо повторила Гузенкова. — Вы меня выслушайте. Время у вас есть. Васька, поди, за картошкой к матери поехал. Она нынче в цене, он ее пудами на базар возит. Да не удивляйтесь, мы тут все друг про друга знаем. Иногда на лицо посмотришь, и без слов все ясно. Вот и вы, я уже поняла, мужа моего видели, говорили с ним. Он вам, поди, рассказал, как мы жили… У меня болезнь приключилась. А он влюбился в молодку и укатил с ней. И осталась я, больная, инвалид второй группы, с четырьмя детьми на руках.. После операции, в онкологии я лежала, мне и детям сказали: «Хотите, чтобы мама была жива и здорова, год ей больше трех кило поднимать нельзя».
И вот целый год дети мне не давали ни стирать, ни мыть полы, ни в огороде копаться. Вечером соберемся за ужином, а Павлуша, он еще совсем маленький был, просится на руки. Юра поднимет его, посадит ко мне на колени и скажет: «Павлуша, сиди тихо, у мамы — животик бобо. Понял?» Тот мотнет белобрысой головкой и сидит тихо, довольный, что у матери на коленях.
Юра сделал небольшую подставочку, чтобы мне удобнее было малыша держать. Так вот и начали мы жить без отца. Детей я учила из последнего. Всяко было… — Лицо Гузенковой потемнело, и хотя она не смотрела на Андрея Ильича, он почувствовал ее напряженный, какой-то внутренний взгляд. — Вам, поди, все это противно слушать. Меня в поселке многие, как зачумленную, обходят.
Андрей Ильич воровато, словно делал что-то постыдное, скользнул взглядом по обшарпанному комоду, по ножкам дивана, уже изрядно источенным жучком, и остановился на галошах Гузенковой, надетых поверх засаленных зеленых тапочек; поднять глаза на нее он не решился.
— То, что я всю жизнь в рванье да в обносках с чужого плеча проходила, это верно, — виновато улыбнулась Гузенкова, — и мужиков у меня тут перебывало… Одни по месяцу жили, другие — по неделе, а кому и одной ночки хватало…
— Да-а! — только и смог выговорить Андрей Ильич.
— Поди, думаете, отдала бы детей в интернат, и дело с концом. — Гузенкова пытливо заглянула в лицо Андрея Ильича, испуганное, растерянное, — мне такое предлагали. Даже требовали. Но я — мать. Я не могла отпустить их от себя. Другие могут, а я вот не смогла. Может, им на стороне-то слаще бы жилось, только вот никто из них словом не обмолвился, что ходит кой в чем, а его дружки на велосипедах да на мотоциклах раскатывают. А уж я старалась из последних сил. Тогда я была молоденькой, сноровистой. Работала кладовщицей. Многие на меня засматривались. А без мужских рук с четырьмя-то детьми… Не приведи господи!.. У дома крыша потекла, полы разошлись. Вот и привела я в дом сначала плотника. Он как мою ораву увидел, обомлел. Я вам обо всем так легко рассказываю, потому что большой вины за собой не вижу. Они приходили и уходили, а детям то рубль лишний перепадет, то одежонка какая. Аля, старшая, когда все понимать стала, чуть школу не бросила. Я, говорит, от стыда из дому сбегу. Я на колени перед ней упала, стала ей ноги целовать. А она мне: «Мама, ты — святая!» Обнялись мы с ней и, сидя на полу, расплакались. Так вот и жили… — В горле Гузенковой что-то захрипело. Она налила из пузатого графинчика полстакана воды; медленно, словно после каждого глотка отдыхала, выпила. — Вылила я на вас всю свою жизнь, как ушат помоев. Уж, извините… Скоро не будет Веры-рванины. Боли в животе год от года все сильнее. От детей это скрываю. Когда приезжают, креплюсь из последнего. Хорошо начинать жизнь, когда отец с матерью, как два столба, подпирают. А тут они на пустом месте начинают. И я рада бы помочь, да нечем. Мне как-то один человек, учителем он у нас работал, сказал, что все мои страдания от ложной любви. Он так и сказал: «От ложной». Настоящая любовь заставила бы отдать детей в детский дом. Они бы там всей грязи не видели. А так они с детства ею запачкались, и неизвестно еще, как это аукнется. Я тогда посмеялась в ответ на эти слова. А вот у Али жизнь нескладно началась. Ребеночек мертвым родился. Муж ее бросил. А Юра и Рая неплохо живут. Юра прорабом под Москвой работает, Раечка по комсомольской путевке уехала на БАМ. А вот Павлуша… Что же с ним приключилось?
— Не знаю. Он не из моей группы, — поспешно ответил Андрей Ильич и виновато опустил голову.
— Зачем же тогда приехали? Для вас Павлуша — никто, вы его, может, и в глаза-то не видели… У вас дети есть?
— Дочь.
— Значит, вам не понаслышке родительская боль знакома.
— Тут мое с вами равнять нечего, — смущенно отмахнулся Андрей Ильич.
— Это уж вы зря… Своя боль, маленькая она или большая, а все одно — под сердцем. Вот и бывший мой муж от боли мается. Жалко его.
— Да не стоит он вашей жалости! Его, знаете ли… — старый мастер в сердцах так хлопнул ладонью по чемоданчику, что он раскрылся.
Гузенкова улыбнулась.
— Вы, поди, благополучно жили, потому так и судите. Я не в укор говорю. У вас — одна жизнь, у меня — другая, у него — третья. Мы по-своему выстояли, а он запутался. Заплутал. Его бы и простить надо, да вот не могу. Может, сердце зачерствело?..
— Да как же после всего-то?
— Он сопьется. Подохнет где-нибудь под забором. Кому от этого польза? Мне? Вам?
— У меня таких вопросов никогда не возникало, — искренне признался Андрей Ильич.
С улицы донесся требовательный автобусный гудок.
— Это за вами, — Гузенкова перевалилась на правый бок, руками ухватилась за угол фанерного шкафа и поднялась.
— Пусть едет. Я не спешу, — сквозь толстую, сероватую кожу щек Андрея Ильича проступил румянец смущения.
— Автобуса сегодня больше не будет. Да мне и сказать-то вам больше нечего. Передайте Павлуше: пусть домой приезжает. Какой бы он ни был, он — мой.
— Передам. И сам с ним поговорю, — уже с порога пообещал старый мастер.
Гузенкова хотела благодарно улыбнуться ему, но лицо ее болезненно сжалось; она оперлась рукой о притолоку, побледнела. И в это мгновение Андрей Ильич, словно перегнувшись, заглянул в колодец и увидел его дно, душой понял, во что обошелся внешне спокойный, словно бы о чужой жизни, рассказ этой женщине, давшей растоптать себя ради детей и через них возродившейся, воскресшей; наивно подумалось, что вот и неизлечимая болезнь ее на время отступила, да и не могла не отступить, лицом к лицу сошедшись с такими великими душевными силами.
Автобус был пустой. В проходе между сиденьями лежали четыре мешка крупной картошки. Андрей Ильич перелез через них и устроился на предпоследнем сиденья.
— Ты чего туда забрался? — удивился шофер. — Садись поближе. Дорогой поговорим.
— Не до разговоров, — глухо отозвался старый мастер.
— Значит, наговорился.
— Что ты понимаешь в жизни, сосунок! — вскипел Андрей Ильич, внезапно подумавший, что вот и Пашка, Верин сын, наверное, растет таким же легкомысленным; он был последним, ему жилось легче, вот и не понимает Пашка, чего стоило матери поднять его на ноги; под сердцем шевельнулась боль за свою дочь, которая жила неподалеку, но редко наезжала в гости. — Эх, какие же вы все бесчувственные, — уже тише добавил старый мастер.
— На одни чувства нынче не проживешь, — в голосе шофера прозвучала снисходительная улыбка.
— Больно умные стали, — проворчал Андрей Ильич.
— Ну и сердитый ты, папаша. Учителем, случайно, не работал?
— Работаю.
— Теперь ясненько, почему ты такой обиженный.
— Ты не изгаляйся, ты лучше на дорогу смотри, — насупился Андрей Ильич, придвинулся к окну и до самого автовокзала не проронил ни слова. «Вот приеду, зайду в гостиницу и выскажу все этому гусю слезливому!» — с гневом и возмущением думал старый мастер и тут же возражал себе: «Чем я его удивлю? Он и так в с е получше меня знает. А переиначивает, передергивает, потому что хочет своего добиться хоть нытьем, хоть катаньем». И тут же возникал наивный вопрос: неужто он раньше об этом подумать не мог?.. И выходило так, что вселилась в душу Гузенкова такая сила, которая ослепила его, вопреки доводам рассудка, увела от семьи. «Где же тут правда?» — мучили Андрея Ильича сомнения. Да, Гузенков сейчас одумался, но не слишком ли дорогой ценой заплатили за его прозрение другие? Да и вообще, почему на земле так много всякой несправедливости, жестокости, войн, — всего, что противно самой природе человека?.. В заоблачные, космические дали уносили мысли старого мастера, и он с тех высот пытался посмотреть на землю и отыскать корни зла; и вдруг, словно иглой, кольнуло в сердце, что вот и сам он, Андрей Ильич, в глаза не видевший Пашки, поехал в эту командировку решать его судьбу… Холодная испарина прошибла старого мастера: «Гузенков-то по чувству голову потерял, а я… Выходит, я еще хуже».
Утром Андрей Ильич зашел к директору, как всегда тщательно выбритый, немного осунувшийся от переживаний; коротко рассказал о семье Гузенковых.
— Ну и что? — недоуменно пожал плечами директор. — Сейчас много таких семей. У каждого из нас бед и неприятностей хватает. Я на это место, сам понимаешь, не за красивые глаза сел. Люди сделали мне добро, и я должен отплатить тем же.
— Только не за чужой счет.
— Я тебя что-то не понимаю…
— Не виляй. Все понимаешь.
— Ну зачем же так сплеча-то рубить? — примирительно улыбнулся директор.
— Ты уж прямо, без обиняков скажи: Топор есть Топор. Я своего прозвища не стыжусь. Историю-то изучал: вся Россия топором защищалась и топором строилась.
— Красиво, конечно. Не знаю, правда, какая шлея тебе под хвост попала? Сиди лучше оставшиеся полгода спокойно. Так и для других лучше будет.
— Ты не стращай! — Андрей Ильич выждал секунду, чтобы побороть приступ раздражения. — В общем, так: в обиду парня не дам.
— А если он уже в милиции сидит?
— Возьму на поруки.
— Прославиться захотел. Заслуженный мастер профтехобразования берет на поруки трудного Гузенкова, — иронично поджал губы директор. — Будем вами гордиться.
— Щелкопер ты! — презрительно обронил старый мастер.
— Ну-ну, не очень-то! — приподнялся из-за стола директор, — не забывайте свое место.
— Спасибо, что напомнил. А то я в последнее время, и правда, о нем подзабыл.
Андрей Ильич угловато повернулся и вышел из кабинета.
1985
Высоко в небе лебеди
«На Ваш запрос от 10.03.83 г. сообщаем, что Гущин В. П., ваш родной брат, проживает в г. Калуге по адресу…»
Лена шепотом еще раз перечитала письмо, недоверчиво осмотрела конверт — не пошутил ли кто? Смеяться над сиротой грешно, только есть же такие люди, которые сначала сделают, а уже потом прикинут: хорошо это или не очень?
Она пальцем потрогала черные штампы на конверте и растерянно огляделась. Как быть? Столько дней и ночей ждала-ждала этого мгновенья, зажимая рот ладошкой, плакала в жесткую казенную подушку, чтобы не мешать подругам по комнате, забывалась лишь под самое утро, и в сторожких коротких снах к ней приходил брат. Сначала он был в форме летчика; высокий, худой, прикладывал руку к лакированному козырьку фуражки с голубым околышем: «Привет, сестрица! Наконец-то я нашел тебя…»
Но едва Лена раскрывала рот, чтобы ответить, сон кончался. А то приснилось, как возле общежития, на зеленой лавочке, где вечерами уединяются парочки, увидела она очкастого парня в нескладном клетчатом пиджаке и, сама не зная почему, приостановилась. Парень поднялся и робко спросил, где ему найти Лену из семнадцатой комнаты… Даже подруги проснулись от ее громкого вскрика: «Да это же я!»
За окном еще темно было, и она до семи часов просидела, обхватив колени руками, все переживала, что-не удержалась, а ведь могла бы и потише обрадоваться, а потом узнать, где живет, кем работает? Бывают же такие сны, она про них даже в газетах читала, которые сбываются.
«Наверное, он в науку пошел», — наконец решила она про брата, вспоминая, какой он весь не от мира сего, неловкий и близорукий; а то представлялось ей, что брат работает полярником или геологом, по два-три года находится в экспедициях, а когда ненадолго приезжает домой, то первым делом ворошит огромную пачку писем, и, может, по ночам она тоже является к нему, и брат силится, но никак не может рассмотреть ее лицо; уж такая чудная и коварная штука сны — запоминается даже цвет шнурков. У очкарика, Лена отчетливо это видела, ботинки были черные, стоптанные, шнурки — один серый, разлохматившийся, а другой новый, красный. А вот лицо… Лица она не видела.
По субботам и воскресеньям Лена старалась спать подольше; понимала, что сон не кино, не повторяется, но все же таилась в сердце надежда: вот увидит она лицо брата, а потом случайно встретит его на улице. Когда она поменьше была и после детского дома поступила в механический техникум, то допоздна ходила по улицам, бродила возле вокзалов и иногда до того настырно пялила глаза на парней, что они начинали заигрывать; воспитанная в суровой детдомовской среде, Лена отвечала какой-нибудь дерзостью и убегала, спиной чувствуя удивленные или циничные взгляды. И не могла она объяснить подругам, почему вечера напролет пишет письма в разные города, все ищет брата, вместо того чтобы пойти с парнем на танцы или в кино. Природа ни фигурой, ни мягким женским обаянием ее не обидела, правда, характер был жестковат, но это уж наложила свои краски сиротская жизнь, в которой ей приходилось рассчитывать лишь на себя да на добрых посторонних людей. Подруги ей сочувствовали, только им, выросшим в непрочных, но все же семьях, знавшим хотя бы мать, понять Лену было так же трудно, как сопережить чужое горе, если ты своего не испытал.
«…ваш родной брат, проживает в г. Калуге по адресу…» Лена, держа письмо прямо перед собой в вытянутой руке, осторожно, словно опасалась, что от малейшего толчка черные буковки соскользнут с белого листка и раскатятся по полу, вышла в коридор общежития; он, длинный, похожий на огромную трубу, которые варили на их заводе для газопроводов, пустовал. Ничего не поделаешь. Воскресенье. Все разбежались; кто к родственникам, кто на рыбалку, многие ушли в парк или в кино. Одна лишь глуховатая вахтерша тетя Маша вязала на спицах коричневый шерстяной носок.
Лена, словно в полусне, подошла к ней и с минуту, наверное, сбивчиво, бестолково объясняла, что наконец-то у нее нашелся родной брат, что годы почти безнадежных поисков не пропали впустую, что она верила…
Тетя Маша, или, как ее называло общежитовское население, тетя Наша, давно обвыкшаяся и с многими радостями, и с бедами, происходившими тут вот, на глазах у всех, выдвинула ящик стола, где у нее катался клубок, сложила туда спицы и недовязанный носок и громко, как все глуховатые люди, сказала:
— Ну чего, по сто грамм, что ли? — Потянулась к графину, плеснула из него в белую кружку. — Да, милая, отпились. Сухой закон. И хорошо, а то бы мы с тобой нахлестались по такому случаю…
Грубоватый юмор тети Маши, похожей на сухой репейник, до того в ней колюче торчало все в разные стороны: жидкие седые волосы, вздернутые плечики платья, сшитого, наверное, в эпоху синеблузниц, прямой острый нос, — этот юмор вахтерши, любившей крепкое словцо и в силу особого склада русской души не признававшей начальства, вернее, его власти над собой, словно подмазал петли у той сокровенной дверцы, что сдерживала накопившиеся горячие слезы. Лена будто лишилась опоры, рухнула на стул — казенный бланк тут же покрылся теплыми серыми точками.
— Не порть документ! — тетя Маша вынула письмо из ослабевших Лениных рук. — Сколько годков ждала, горемычная, все пустышки приходили, а тут враз сгубить хочешь. Да вытри слезы-то, вытри, так их, кулаками, чтобы слушались… Ну, теперь подыми голову. Да подыми, кому сказала! Вы тут каждый день да через день ревмя ревете. Кого жених бросил, у кого мужик запил да загулял… Хватит кукситься! У тебя же — праздник. — Тетя Маша повертела в руках письмо. — Вяжу вот на ощупь, а читать эдак еще не научилась. Так праздник, Ленка, или нет? Может, я не поняла чего?
— Все так поняла, тетя Маша, все так, милая, — Лена носом уткнулась ей в плечо. — А ну как там ошиблись?
— Выпей водички, не зря же я наливала, — тетя Маша шаркнула стаканом по столу, — да не сопливь платье-то, оно, можно сказать, выходное у меня. — Тетя Маша грубовато оттолкнула Лену. — Я берегу его, только когда в общество, на работу иду, тогда и надеваю.
— Ой, тетя Маша, ой, милая, меня такой страх берет, такой страх, — Лена судорожно глотнула воду, — вдруг ошиблись?!
— Да это же не писулька какая-нибудь, а форменный документ, — тетя Маша ткнула пальцем в письмо, — его ответственный человек подписал. Начальник. С него, в случае чего, и спросить можно. Чего ты, мол, сослепу, что ли, такие бумаги подмахиваешь?!
— Тетя Маша, вот как ты думаешь, какой у меня брат, а?
— В тебя, поди, красивый. Вон у тебя глазищи-то какие и нос пуговицей.
— Он высокий и, знаешь, такой… суровый.
— Нет! — вахтерша хлопнула ладонью по столу. — Суровых нам не требуется. У меня первый муж суровый был. Бывало, придет с работы, сядет к столу и молчит. Я то с одной стороны зайду, то с другой и никак в толк не возьму, то ли на работе что приключилось, то ли ужин не по вкусу пришелся. Так что лучше, милая, когда мужик улыбчивый. Такой и побьет, так вместе потом посмеетесь.
— Тетя Наша, у меня же брат нашелся, а не муж, — укоризненно заметила Лена.
— А я тебе про то и говорю, что бояться нечего. Надо песни петь да от радости пятками по полу стучать.
— Это еще зачем?
— Чтобы все вокруг знали, что ты сегодня в настроении.
— Тетя Маша, я сегодня такая, такая… Даже не знаю, что делать. Да чего я с тобой рассиделась, на вокзал надо бежать! Тут до Калуги-то часов десять. — Лена потянулась за письмом, но вахтерша властно накрыла его ладонью:
— Обожди, девка, не мельтеши. — Тетя Маша подвигала торчащими плечами. — Ведь оно, действительно, и ошибиться могли. В войну вон с похоронками путали. А сейчас… сейчас я на каждого, кто входит, гляжу, своих всех в личность знаю, а на той неделе двух чужих гуляк пропустила. Прямо какое-то затмение нашло. А тут проверка из парткому. Так они со второго этажа из окна сиганули. Не спеши, Ленка, а то взбаламутишь человека зазря.
— Твоя правда, тетя Маша. — Лена взяла письмо, вчетверо сложила его и спрятала в конверт. — Три года назад, когда еще в училище училась, из Красноярска весточка пришла. Я сразу как помешанная сделалась. На вокзал прямо в тапочках, хоть зима была, кинулась. Девчонки догнали, силой утащили в общежитие. Всю ночь я бредила. Девчонки мне денег на самолет собрали. А у меня к горячке простуда прибавилась, в тапочках ведь, без чулок, по морозу бежала. Кто-то из них мне приятное сделать хотел, дал телеграмму по адресу, чтобы брат сам приехал… Мне потом недели полторы ответ не показывали. Потом я еще целый месяц проболела. Ни есть, ни спать, ни пить не хотелось. После этого полгода никуда писем не писала. А те ответы, что по старым запросам приходили, девчонки сами читали. Жалели меня…
Вахтерша много повидала на своем веку, два года назад похоронила мужа, потом сына, он шоферил на Алтае и зимой заплутал в степи; казалось бы, должно было сжаться, остыть ее сердце, раз выдюжила столько, иначе разорвалось бы оно, только в том-то, видимо, и кроется особая загадка чувствующего человеческого сердца, что нежнее и выносливее оно становится от невзгод, а холодное, каменное, глядишь, на первой же кочке надрывается, особенно если вдобавок гордыней заражено. Тетя Маша, днями и ночами напролет вязавшая носки, в которых бегали не только ее внуки, но и добрая половина общежития, не любила рохлей и растяп, но если сталкивалась с подлинным горем, тут ее заменить было некем.
— Вот что, Ленка, — вахтерша достала спицы и недовязанный носок, — ты зря не круговерть. Напиши ему письмецо. Да без ахов и охов. Человека не только к беде, но и к радости готовить надо. Я так думаю, он как прознает про тебя, тут же сам прилетит. А уж мы ему и комнату завсегда найдем, а если холостой еще, то и невесту приищем. У нас их тут — куры не клюют и вороны не таскают. Сколько ему годков-то?
— Тетя Маша, да я же вам столько раз рассказывала…
— Думаешь, я и помню. Будь у меня голова, как Дом Советов, я бы вахтером не сидела. — В ее руках засверкали быстрые спицы. — Вот еще на вязанье ума хватает, и то рада.
— Если я не ошибаюсь, он года на два старше меня.
— Уже совсем взрослый. Хотя мужики, они — народ особый. Некоторые и в пятьдесят лет… Да чего я тебе болтовней про этот народец никчемушный голову забивать буду. Иди, Ленка, проветрись. А меня боле не слушай, а то я тебе такого наплету, до самой пенсии замуж не выскочишь!
«Что ж ты, чудная тетя Наша!» — вставая, улыбнулась Лена; матери она совсем не помнила, и в детдоме, бывало, ляжет спать, глаза закроет и, чтобы хоть капельку теплее стало жить на свете, представит, что ее мать похожа на самую добрую воспитательницу тетю Фаю; правда, немного обидно было от того, что лежат рядом подруги и тоже видят своей матерью тетю Фаю. В училище она влюбилась в учительницу литературы, высокомерную, начитанную Мириам Абрамовну, ходила за ней по пятам, провожала до самого дома, как собачонка; замкнувшаяся на себе и чтении французских романов, старая дева Мириам истолковала поведение Лены по-своему.
— Не бегайте за мной, четверки по литературе вам все равно не будет, — как-то при всех сказала она. После этого у Мириам Абрамовны пропали из сумки вторые очки, а без них она дальше двух метров не видела и была вынуждена просить кого-нибудь из ребят, чтобы ее проводили до дома, одной ей трудно было переходить улицу; из Лениной группы все под разными предлогами от этой обязанности увиливали, все знали, что исчезновение очков — дело рук Кольки Мазина, главного защитника униженных и оскорбленных.
Вот и в заводском общежитии Лене приглянулась неприветливая с виду вахтерша, у которой не было любимчиков, она ко всем относилась как к своим детям. Ей первой в этом доме и поведала Лена свою судьбу, которую знала из уст воспитательницы тети Фаи, она принимала ее в детский дом, и из рассказов Лениных односельчан запомнила следующее: мать Лены дважды выходила замуж, но все неудачно; отчаявшись, уехала из города в деревню к матери, где влюбилась в сельского учителя, который лет двадцать с женой прожил, но детей у них не было. Учитель перебрался жить к матери Лены, через год у них родился сын, а потом — она, Лена. Но жена не давала развод и все писала письма в роно и в райком, к ним то и дело приезжали разбираться. Учитель не выдержал, запил, а потом его нашли в риге, он висел на одной из жердей, на которых снопы для сушки раскладывают. Ленина мать как узнала об этом, упала замертво, а к вечеру у нее кровь горлом пошла.
На похороны приезжала то ли подруга матери, то ли дальняя родственница, то ли тетка, в деревне толком никто не знал, она сказала: «Парня я подниму, а что с девкой делать, сами думайте», — взяла Кольку и уехала. Лена пожила у соседей, у них своих детей трое было, а больше желающих приютить ее не нашлось; соседи помыкались с ней, помыкались, да по совету председателя колхоза и сдали ее в детский дом.
Тетя Маша выслушала тогда ее историю внимательно, а потом сердито притопнула ногой:
— Чего глядишь-то? Думаешь, сейчас слезу пущу и обе расплачемся? Нет, девка, тебе не горевать, а радоваться надо, что жива, здорова. Люди добрые выходили, вынянчили. Родители-то до той поры нынче и нужны, пока ложку в руках держать не научишься…
Вот и теперь тетя Маша вязала себе носок и словно не замечала Лену.
— Тетя Маша, — она протянула ей письмо, — я у вас его оставлю, а то ненароком потеряю.
— Оно и правильно, — вахтерша сунула письмо в стол, — нечего документ зря с собой таскать. Документ, он что?.. он сохранность любит. — Спицы в ее руках замелькали с такой скоростью, что казалось, они живут и движутся сами по себе, а негибкие старческие пальцы еле удерживают их.
Лена выбежала на улицу. Была середина сентября — ни холодно, ни жарко. Куда пойти?.. Едва к остановке подкатил автобус, Лена впрыгнула в него и доехала до вокзала. Она и раньше бывала тут не раз. В расписании значились только два проходящих поезда до Москвы, а остальные — местные. Раньше Лену больше привлекала «Карта железнодорожных путей СССР», висевшая поблизости от двери с табличкой «Начальник вокзала». Глядя на карту, она гадала: куда же судьба забросила ее брата? Может, в Джезказган, в Стерлитамак или Баку, а может, и на север, в Хабаровск или Читу?.. И вот оказалось, что живет он почти под боком, в Калуге.
Лена просмотрела расписание — прямые поезда на Калугу не шли. В справочном ей посоветовали ехать до Москвы, а оттуда — электричкой до Калуги. Можно было ехать и автобусом с пересадкой в Туле. Лене хотелось с кем-нибудь посоветоваться. Но с кем? В справочном сидела девица с глубоким декольте, с тонко подбритыми бровями; с ней, наверное, можно было поболтать о моде на прически, платья, кофточки. Тут бы она оказалась незаменимым собеседником. Да и вовсе не разговор был нужен Лене, а понимание и одобрение всего, что она делала и чем жила до сих пор, пусть молчаливое, но искреннее; вздохи, сожаления ее и раньше только раздражали, она мгновенно замыкалась и становилась дерзкой, отчего сама потом страдала и плакала, но не могла себя сдержать, когда какая-нибудь расфуфыренная дамочка из роно или райкомовской комиссии приезжала к ним в детский дом и, впервые увидев их, сотни две, на первый взгляд почти одинаковых, обездоленных, начинала перед ними лебезить, заискивать; раздавая подарки или вручая грамоту за хорошую учебу, примерное поведение, прилежание к труду, она вспоминала своих детей, ухоженных и, наверное, избалованных, невольно сравнивала их судьбы и краснела от стыда за свое благополучие и за нелепые куклы и конфеты, которые привезла в картонных ящиках и от которых жизнь детдомовцев не становилась слаще. У таких гостей Лена почти выхватывала из рук подарки и, несмотря на угрожающие движения черных бровей директорши, бегом кидалась на свое место, а потом в коридоре вместе с подружками, плача, сосала конфеты, поскольку хотелось сладкого, и оставшиеся прятала под подушку, чтобы еще дня на два продлить это мучительное удовольствие. Лена спокойнее относилась к шефам с обойной фабрики. Заводские не суетились, не устраивали церемоний вручения, они выкладывали подарки на стол и так же незатейливо, как тетя Маша, грубовато приглашали: «Налетай, подешевело!» Не церемонясь, они одергивали тех, кто хотел прихватить два кулька, подталкивали вперед стеснительных. На прощанье шефы с обойной фабрики говорили: «Выучитесь, приходите к нам пополнять рабочий класс!» Потом в большинстве школьных сочинений появлялось: «Выучусь, пойду пополнять рабочий класс».
После восьмого класса Лена, хотя троек у нее не было, подала заявление в ПТУ и очень гордилась этим. Новая жизнь и пугала и манила. Директорша целый час, наверное, держала ее в своем кабинете, напутствовала, советовала; чтобы не забыть чего или сделать не так, Лена часть ее советов записала в школьную тетрадь. Но уже тогда она понимала, что доброе, самое сердечное отношение не заменит того, что называют родным. Она много раз и на разные лады повторяла: родные, родственники, родители, — но эти слова были для нее совершенно чужими, словно из другого языка, поскольку для нее, Лены, ничего не значили, но все же они притягивали, как таинственный магнит.
Когда училась в ПТУ, Лена в первую же осень, едва получила стипендию, отправилась в деревню Калачово, где родилась. Добиралась туда долго, сначала поездом, потом автобусом и на попутке. Шофер, скуластый парень, месяц назад вернувшийся из армии, был родом из Калачово, но про семью Лены ничего не слышал. Он остановил машину возле крохотного домика, двумя окнами наперед. «Если бабка Захариха ничего не знает, — сказал он на прощание, — то никто тебе ничего не скажет. Тут из старожилов человек пять осталось. Остальные все пришлые». И предупредил, что через два часа назад поедет, повезет картошку на сдаточный пункт, и при желании может подбросить до райцентра.
Бабка Захариха с полминуты, наверное, не мигая, смотрела на Лену, потом махнула рукой:
— Заходь в дом!
— Я вам еще не сказала…
— Да признала я тебя, признала, лупоглазую. — Захариха, охнув, покрепче ухватилась темной сухой рукой за перильца и почти на коленях заползла на крыльцо; распрямилась. — Все вы, Гущины, испокон веков такие, коротенькие да лупоглазые. А ты, значит, в городе живешь. Государство, значит, тебя вырастило.
— Сейчас в училище поступила. — Лена не знала, как себя вести, что говорить. В доме Захарихи, кроме стола и двух табуреток, никакой мебели не было; от насквозь прокоптившихся за долгие годы неоклеенных стен, щелястого скрипучего пола веяло чем-то древним, стародавним.
— Ты вот что, Гущиха, садись к свету, чтобы я тебя видела, да рассказывай, пошто приехала?
— Посмотреть, где родилась, — еще больше смутилась Лена.
— А братец почему не заглядывает? Он же первенцем был. На годок тебя постарше, — что-то припоминая, Захариха пожевала губами, — он где?
— Не знаю. А он тут не был?
— Ни разу не видала. Был бы живой, приехал бы!
— Да как вы так можете?! — порывисто вскочила Лена и тут же расплакалась.
— Поплачь, дочка, поплачь. Моя изба давно слез не видела. Меня за бабу не признает. То вон половицу провалит, то бревна в стене раздвинет так, что кулак просунешь. За мужика, видать, почитает. На ремонт намекает. А я в плотницких делах ни бельмеса не соображаю. Да и сил нету. Я вон на крыльцо, сама видела, на бороде влезаю.
— Зачем же вы так, зачем?
— Да не тебя, его стыжу. Человек должон на родине побывать. Должон знать, где у него пупок завязался. Ты вытри глаза-то, успокойсь. Я тебя на кладбище свожу. Покажу могилки твоих родителев. Там и поплачешь. Там положено плакать.
Кряхтя и охая, Захариха спустилась с крыльца и, согнувшись, словно что-то искала в спутанной, выгоревшей за лето траве, мелко засеменила по тропинке. Лена пошла за ней.
— Ничего не дрогнуло, дочка? — Захариха неожиданно остановилась, и Лена чуть не наскочила на нее. — Сердечко не дрогнуло? — пытливо посмотрела на нее Захариха.
— Не понимаю, о чем вы?
— Да ведь против дома стоим, где ты на свет появилась. Дарья Кукушкина, царство ей небесное, роды-то примала.
«Неужели тут?.. мой?» Лена посмотрела на дом с голубыми наличниками, еще крепкий, обшитый тесом, покрытый дранкой, потемневшей от дождей.
— Тут теперичи Бобрук живет, — пояснила Захариха, — с Украины приехал. Колхоз ему дом перетряхнул, тесом одел. Его ведь твоя тетка задарма Притулиным отдала, потом его Струковы взяли… Так и ходил по рукам. Одним словом, ничейный — ничейный и есть.
Лена глядела на дом, но в памяти ничего не осталось такого, что было бы связано с ним. «Брат на год старше. Может, он помнит. Рассказал бы мне. Может, и я что-то бы вспомнила. Да и тетка… оказывается, у меня еще тетка есть!» — обрадовалась она: есть у нее на свете еще один родной человек. Угадав ее мысли, Захариха подсказала:
— Тетка не родная тебе, двоюродная. А ты, я гляжу, по деревне как слепая идешь, ничего не признаешь. Да и где тебе помнить, ты же тогда с наперсток была. Мать, бывало, в люльку тебя положит, она была на пружине к потолку привешена. Это уж твой родитель постарался. Большой придумщик был. Тебя раз качнут, ты и качаешься, качаешься. Глазки-то на потолок таращишь. А там твой родитель цветную картинку прилепил, прямо как в церкви: голубое такое небо и по нему летят белые лебеди. Ты все ручонки к ним тянула.
— Вот оно откуда! — тихонько засмеялась Лена. — Они мне все снились и снились. Я уж измучилась, гадая, где их видеть могла? — И уже теплее поглядела на дом. Ей захотелось войти в него, посмотреть на потолок; может, в нем маленькая дырочка осталась от гвоздя, к которому люльку подвешивали.
— Пошли, дочка, пошли, — дернула за руку Захариха, — там чужие люди живут. У них своих забот полон рот. Да и чего им лишний раз напоминать, что у дома есть другие хозяева, а они вроде как одежду с чужого плеча сдернули. Пусть приживаются. Может, сроднятся с этим местом. Чего им зазря по белу свету мыкаться.
— Вы мне про маму расскажите.
— Вот придем к ней, тогда и расскажу.
Возле кладбища Захариха остановилась, что-то пошептала себе под нос, перекрестилась и повела Лену по узкой тропинке между могилами. Кладбище было невелико, и, не будь разросшихся ив, его можно было бы окинуть взглядом, даже не привставая на носки. В левой части возвышалась полуразрушенная церковка с покосившимися, почерневшими куполами. И все же запущенность была кажущейся, большинство могил обихожено, очищено от травы, кресты покрашены.
— Вот она, — Захариха кивнула на земляной холмик с невысоким железным крестом. Он не был так ухожен, как другие, но чувствовалось, что весной его кто-то подровнял.
— Я тут, рядышком посижу, — Захариха засеменила к лавочке.
— Кто за ней ухаживает?
— Мы, старые люди, всех родными почитаем. За всеми и ухаживаем.
Лена, как ее приучили еще в детском доме за каждое доброе дело говорить «спасибо», хотя слово это уже на языке крутилось, не сумела его произнести и лишь с благодарностью посмотрела на Захариху; она сидела на зеленой лавочке и то ли что высматривала в глубине кладбища, то ли задумалась о чем. Лена снова поглядела на могилу, но уже с пугливым удивлением, поскольку в детстве робела от одной мысли: где-то есть могилы ее родителей; Лене думалось: жили они, жили, а потом словно растворились в воздухе и превратились в теплый солнечный свет; словом, были они, и вдруг их не стало; только и сохранился от детства светлый странный сон: высоко в небе летят белые лебеди, мерно машут огромными крыльями, а Лена лежит на лесной поляне, и кажется ей, что вот-вот и у нее появятся крылья, взмахнет она ими и полетит вслед за лебедями… Повзрослев, она долго гадала: почему не снятся ни скворцы, ни голуби, а эти сильные белоснежные птицы, они же в ее крае не живут, да и в другом небе Лена увидеть их не могла, поскольку из деревни Калачово они никуда не выезжали; про этот сон она рассказывала и воспитательницам, и подружкам — любительницам разгадывать чужие сны, но никто не мог толком объяснить его, детдомовское население больше любило слушать и рассказывать праздничные житейские истории и о родителях вспоминало только хорошее, а если такого не находилось, то его тут же придумывали или брали напрокат, благо младшим группам по наследству от старших передавались трогательные истории об отважных летчиках, погибших при выполнении особо ответственного задания, об артистах, погибших во время исполнения головокружительных трюков, о красных командирах, погибших… Лена тоже два года выдавала свою мать за известную исполнительницу цыганских песен, умершую от разрыва сердца во втором отделении концерта — был и такой душещипательный сюжет в устных детдомовских летописях, и потом долго стыдилась этого, как и легенды об отце, — его она выдавала за водолаза, задохнувшегося при спасении океанского корабля. А сейчас вспомнила это и улыбнулась. Мать поняла бы ее и простила святую детскую ложь.
Лена опустилась на колени, вырвала несколько жестких ростков вьюна, тянувшегося к кресту, сняла с холмика пожелтевшие листья, оглянулась на Захариху, словно хотела посоветоваться: то ли делаю?
— Правильно, дочка, все так. Поди ко мне, сядь рядышком, я тебе про мать расскажу.
Лена послушно опустилась на лавочку.
— Я с пеленок ее знаю. Очень она учиться хотела. Только вот не пришлось. Хотелось ей в городе жить барышней. Ты уж, дочка, извиняй, что я тебе без прикрас все выкладываю. Сказочку наплести языку не тяжело, а ушам слушать ее — одна приятность. Только тебе, дочка, как я соображаю, другое надо. Ты свои корни ищешь. Себя, значит, понимать учишься.
В город матушка твоя и в школу потому рвалась, что другой жизни хотела. Она, бывало, возьмет ножницы, из бумаги узорчатых салфеток нарежет, разложит их по подоконникам, по столу, на стенке повесит. Ходит по дому и все на них любуется. Добрая была, чего ни попроси, все отдаст, а вот с мужьями ей не повезло. Один только сердцем к ней пристал, учитель наш. Он из городских был. Да вот у нас прижился. Уж на что у наших баб языки злые, а когда он в ваш дом жить перешел, никто слова не сказал. Знали, что так должно было случиться.
Захариха замолчала. Лена снова посмотрела на могилу матери.
— А вы знаете, как они… Кем они хотели меня видеть?
— Не знаю, дочка, а врать не хочу. А вот братца твоего… про него говорили: «Должен по инженерному делу пойти». Братец твой игрушки не шибко любил. Их, оно конечно, и не было особо. Но он все с какой-нибудь железкой возился. У него любовь к железу была. Пойдем, дочка, могилку твоего батюшки навестим. Положили их в разных местах, потому как не обвенчаны были. А законную его жену, это народ так рассудил, между ними захоронили. Так ведь оно и в жизни было.
Захариха, кряхтя и охая, поднялась.
— Вон туда погляди! Там твоя бабушка захоронена. Крепкая была женщина. У нас ее Законницей звали, потому как шибко правду любила. И если уж она чего посулила, в лепешку расшибется, но выполнит…
Они долго ходили по кладбищу. Захариха рассказывала Лене о всей ее ближней и дальней родне; ее насчиталось одиннадцать человек, и, наверное, где-то, разлетевшиеся по разным уголкам страны, жили троюродные братья и сестры, которые и не подозревали о ее существовании. А Лена после рассказов Захарихи и посещения кладбища словно бы обрела особую внутреннюю силу, поняла, что все эти годы жила на этом свете не дичком, семя которого неизвестно из каких краев заброшено было сюда гулякой-ветром, все эти годы поблизости с ней жили люди, родные ей по крови, просто судьба сложилась так, что разорвалось звено в родовой цепи, и только белокрылые лебеди в снах несли и несли ее на родину. И потому еще сильнее захотелось ей разыскать брата, который, кто знает, может, и название деревни запамятовал, тоже ведь невелик был; может, живет и мучается незнанием, считая себя безродным и одиноким.
Вот тогда-то и решила Лена, что, пока не разыщет Николая, о личной жизни и думать нечего; не могла она представить себя счастливой и благополучной, пока не узнает, где брат, что с ним, пока не свозит его в Калачово, не покажет их дом и могилы матери и отца, пока не расскажет обо всем, что узнала от Захарихи.
Лена долго бродила по вокзалу. Здесь, в суете, которая и происходила-то, может, вовсе не от скопления людей, истомленных ожиданием поездов или нетерпением перед близкой встречей, а по причине того, что тут на какое-то время соединились столь непохожие судьбы, доросшие до своего радостного или болевого пика или вовсе приостановившиеся на распутье, как сказочные путники перед камнем, на котором написано, что ждет тебя, если пойдешь прямо или свернешь на другую дорогу; здесь, на вокзале, Лена чувствовала себя естественнее, поскольку излучаемое им поле, в котором столь причудливо переплелись обнаженные радости, ожидания, тревоги и беды, написанные на лицах пассажиров, как бы совпадало с ее внутренним полем, в котором тоже слились воедино и ликование, и страх, и надежда, что сейчас она не обманется в своих ожиданиях, ибо сколько же их, несбывшихся, стоит у нее за спиной, мешают, беспокоят, ведь есть же предел и терпению, и надеждам, и неизвестности.
Лена походила, походила возле справочного, а потом все же узнала, сколько стоит билет до Калуги поездом и автобусом, и решила: лучше добираться поездом — надежнее и дешевле, да и кто знает, как там, в Туле, с билетами на Калугу. Время осеннее, сейчас много автобусов снимают с линий для перевозки пассажиров на сельхозработы; вчера тридцать пять человек из седьмого цеха ездили на уборку картофеля.
В углу, где располагалась вокзальная почта, у высокого столика стоял пожилой мужчина в кожаном пальто, и, покусывая колпачок белой авторучки, о чем-то думал. Лена подошла к окошечку, купила конверт и бумагу. В общежитии тетя Маша наверняка рассказала о ее письме; только придешь, девчата кинутся поздравлять, разве там напишешь письмо. Лена облокотилась на стол и крупно вывела: «Здравствуйте, Николай!» И неторопливо, коротко написала о том, как она вот уже несколько лет ищет брата, потом — о матери, отце, о деревне, о доме, о своем житье-бытье, в конце дала адрес общежития; прочитала письмо, все в нем было изложено ровно, без надрыва и излишних восторгов.
«Вот встретимся, тогда!..» — у Лены не хватало воображения представить, что произойдет, когда они увидят друг друга, конечно, подобные встречи не раз показывали в кино, только все эти взмахи руками, учащенное дыхание и горящие глаза не передавали и десятой доли тех сложных чувств и настроений, из которых складывалось лишь ожидание встречи, а в момент ее, как с затаенным страхом думала Лена, могло произойти такое, что… Да у нее от одного лишь предощущения встречи голова кругом шла и ноги переставали слушаться.
Лена провела языком по сладковатым кромкам конверта, вспомнила, что адрес оставила у тети Маши, и заспешила в общежитие.
Подруги уже обо всем знали, но с поздравлениями не торопились, понимали, что могла произойти ошибка, и каково тогда будет Лене. Но по их сдержанным улыбкам, взглядам она видела, как они рады за нее, была им благодарна и, поскольку делать в тот вечер ничего не могла, села на койку, сложила ноги крест-накрест, как любила сидеть в детстве; в детском доме зимой бывало холодно, а в такой позе ноги не только согревались быстрее, но и дольше удерживалось в них тепло, и, привалившись спиной к стене, сказала:
— Девчата, а все-таки случается так, что мечта сбывается…
Никто не понял, Лена это утверждала или спрашивала, но гадать не стали, притащили гитару и до позднего вечера пели; когда песня была грустная, щемящая, плакали, когда озорная, подталкивали друг друга и опять же смеялись до слез.
Всю неделю Лена томилась ожиданием ответа, из цеха по нескольку раз за смену звонила вахтеру: не спрашивал ли ее кто, не было ли телеграммы, и даже на почте справлялась.
«Может, он в командировке или в отпуске. А может, в больницу попал?» Стоило ей так подумать, как Лена еле сдерживала себя, чтобы тут же не кинуться на вокзал.
«Может, опять ошибка?» — остужала она себя, хотя в ошибку уже не хотела и не могла поверить. Она и так не была в теле, а тут и вовсе осунулась, глаза запали… «Может, с ним еще в детстве что произошло? — тревожно думала она. — И вот теперь передо мной стесняется показаться инвалидом. Только ведь ты, Коленька, мне любой нужен. Любой! Я за тобой ухаживать буду». Ей виделось, как брат ее катается по комнате в инвалидной коляске, а на столе лежит ее письмо, читаное-перечитанное; он подъедет к нему, подержит в руках и, поборов искушение, на место положит. «Ты уж не сердись, сестренка, — подумает, — выстраивай свою жизнь. Не хватало еще, чтобы ты столько бед перенесла, да еще я бы тебе обузой стал. Живи, сестренка, живи, милая, а меня нет. Я уж привык жить один. Перебьюсь!..»
Лена видела и крохотную комнатку, где жил ее брат, в ней стоял всего один стул для сердобольной старушки, ухаживавшей за ним, обои в ней были серые, давно утратившие краски, сквозь такие же, запыленные, окна с великим трудом, словно сквозь грязную марлю, сочился рассеянный дневной свет. Лена представляла, что вот придет она к нему, тут же нагреет ведро воды, возьмет тряпку побольше, и через два дня комнату будет не узнать: стекла заблестят, стены засверкают новыми обоями, на кухне все будет перемыто и перечищено. А потом она возьмется за лечение брата. Лена много раз читала в газетах: врачи научились и кости наращивать, и даже сердце пересаживают; надо лишь хорошего специалиста найти, и она, Лена, по всем клиникам и институтам такие письма напишет, расскажет о своей судьбе, о том, как многие годы разыскивала брата, и тут уж надо совсем без сердца быть, чтобы не откликнуться на ее просьбу. А если деньги понадобятся, так они у нее есть: детский дом приучил довольствоваться самым малым; когда она поступила в училище и первый раз получила стипендию, то два дня ходила по магазинам и копейки не потратила, просто глядела на вещи и шалела от одного лишь ощущения, что может купить себе и сумочку с длинной ручкой, чтобы можно было носить ее, как все модницы теперь делали, через плечо, и щетку для волос, ручка которой была украшена голубыми незабудками; но сейчас, когда Лена второй год работала на заводе, она по-прежнему жила скромно, и если бы взялась записывать свои расходы, то, исключая такие крупные покупки, как пальто или сапоги, она не поднялась бы выше той суммы, которую тратила в училище. Поэтому за два года Лена скопила деньги и теперь была рада этому, поскольку именно они, как ей думалось, и могли спасти брата.
Миновала еще неделя, а известий все не было.
«Что делать? Что делать?» — у Лены все из рук валилось.
— Не терзай себя больше, съезди, да и дело с концом, — почувствовав неладное, посоветовала ей тетя Маша. — Если чужой человек, извинишься. А письмо, оно и затеряться может. Хватит, девка, гадать, поезжай.
На следующий день Лена написала заявление на отпуск. А потом зашла в сберегательную кассу и сняла все деньги — 856 рублей. Кассирша выдала их одними пятерками, поэтому пачка получилась настолько крупная, что Лена не знала, куда ее спрятать. Нести деньги в сумочке было опасно, она не раз слышала, что сумочки разрезали ловкачи, стоит чуть зазеваться, и делали они это столь быстро, что владелец и почувствовать ничего не успевал. Лена решила, что пойдет домой пешком; разложила деньги по карманам, наивно рассудив, что если из одного кармана деньги у нее украдут, то в трех других уцелеют. От этой мысли она немного повеселела, поскольку была похожа на цыпленка, который прячет голову под крыло, думая, что тем самым спасается от опасности.
Но вскоре беспокойство ушло, уступив место радостному чувству, что теперь она, Лена, приедет не с пустыми руками и этот ее приезд повернет судьбу брата, вернее, соединит их судьбы и направит по новому руслу.
В тот же вечер она сбегала на вокзал, купила билет и дала брату телеграмму, что через день приедет сама.
Лена даже не знала, спала она в поезде или нет; в Москву приехала под утро, тут же побежала разыскивать вокзал, с которого шли электрички на Калугу.
Словно во сне, сошла она на перрон и сразу забыла о том, что в сумочке лежат у нее завернутые в полиэтилен деньги. Чтобы не плутать по городу, взяла такси, и, когда машина остановилась возле желтоватого четырехэтажного дома с дощатым навесом над входной дверью, у нее даже слезы на глаза навернулись: «Так я и знала!..» Она снова увидела крохотную комнату, серые обои и грязные стекла… Вылезла из такси и, прижимая сумку к животу, пошла к дому.
— Эй, барышня, а за проезд кто платить будет?! — остановил ее недовольный голос шофера.
Она вернулась, протянула ему трешку и уже быстрее зашагала, а потом побежала к дому. Возле десятой квартиры остановилась и несколько раз поднимала руку к белой кнопке звонка, но все не решалась; вдруг неосторожно коснулась ее и услышала за дверью короткую трель. Потом наступила тишина. Раздались шаркающие шаги. Дверь приотворилась.
— Это ты? Приехала, значит, — коротконогая старушка в синем фартуке отступила в глубину коридора.
— Я… Я не ошиблась?
— Проходи, проходи. Я вот хотела на базар сходить, да, думаю, только уйдешь, а тут ты приедешь. Неудобно получится. — Голос у старушки был тихий, будничный. Лена чуть-чуть успокоилась, вошла в коридор.
— Колька-то на рыбалку с друзьями укатил. К вечеру будет.
— Как… на рыбалку? — Лена подумала, что, может, ослышалась или квартирой ошиблась.
— Давно они собирались, да вот собрались. Он хотел было остаться, да потом подумал, что ведь ты можешь и вечером приехать, а он к тому времени будет.
— Да, конечно, — смутилась Лена. — Я бы предупредила, но сама не знала, когда приеду.
— Ты поставь сумочку под вешалку и на кухню проходи. Мы сейчас чайку сообразим… Проходи, дай я тебя на свету посмотрю. Да, вылитая Гущина. Колька, тот больше на отца похож.
Старушка прошаркала к плите, зажгла газ под зеленым чайником и присела напротив Лены.
— А вы?..
— Я — твоя двоюродная тетка. Кольку вот вырастила, а тебя не подняла бы. Он у меня техникум закончил, цветные телевизоры ремонтирует. Я почти не вижу его. Все или на работе, или у друзей пропадает.
— А я…
— Да знаю, — остановила ее старушка, — из письма все знаю. Колька его мне вслух читал. Не шибко, вижу, живешь. Квартиру-то не скоро получишь?
— Не знаю. Я ведь даже еще на очередь не вставала.
— Понятно. Только ведь я тебе прямо должна сказать, что у нас, конечно, две комнаты, но Колька собирается жениться, так что самим тесно будет.
— Да что вы, да я ведь… — Лена залилась липкой краской стыда, поднялась.
В наступившей тишине хорошо было слышно, как, прыгая, задребезжала крышка на закипевшем чайнике.
— Чайку-то не попьешь? — старушка выключила газ и спрятала руки под фартук.
— Нет. Спасибо. — Лена подхватила сумку и, поскольку дверь была не закрыта, вышла.
— Ну, уж это твое дело, пить чай или не пить, — сказала ей в спину старушка.
Лена с час, наверное, пешком шла до вокзала, плутая по узеньким калужским улочкам; ни слез, ни боли в душе не было; ей казалось, что опять произошла ошибка, просто совпали фамилия, имя, но старушка не захотела ее расстраивать. Она села в электричку, бросила сумку на верхнюю полку, прижалась к стенке и прикрыла глаза.
Ее укачало, и через час она заснула, и приснился ей давний знакомый сон, что лежит она на лесной поляне, положив голову на замшелую кочку, а высоко в голубом небе, мерно взмахивая сильными крыльями, белым клином плывут лебеди.
1984
Воскресные поездки за город
В воздухе парило.
Андрей Ильич лежал на спине; закусив стебелек горчащей травинки, смотрел на редкие глыбастые облака и думал о том, как странно устроена жизнь, вернее, человек; — город, страхи и горести, навалившиеся в последние годы, хоть на три часа, но могли бы остаться там, вдалеке, но он притащил их с собой, как улитка свою жесткую неуклюжую раковину; забыться бы на мгновение и очнуться тем, прежним, которого почти забыл, тогда можно бы вытянуться в струнку и, как не раз делал в детстве, катиться по лугу, катиться до тех пор, пока не уткнешься в мягкую влажную кочку. Андрей Ильич, располневший, какой-то водянистый — сними с него одежду, и он тут же растечется по земле, завел руки за голову, сцепил их замком и выпрямил до хруста — по всему телу прошел бодрящий ток, пробежала легкая сладкая судорога.
«Хорошо!» — вздохнул Андрей Ильич, резким движением распахнул ворот белой рубашки и расслабился; рядом на коленях стояла дочь Лена, и он боялся неосторожным движением напугать ее. Тоже пухленькая, большеротая, похожая на лягушонка, Лена перебирала цветы и что-то безумолчно лепетала.
— Папа, ромашки сегодня такие улыбчивые, их надо с краю, — сказала она, — в середине букета им будет тесно, правда, папа?
— С краю лучше, — рассеянно согласился Андрей Ильич.
Он смотрел в небо; почему-то в городе высота его не замечается, а в поле она завораживает, и те высокие мысли о смерти и бессмертии, о бренности и величии человеческого бытия не кажутся чужими, волнуют и беспокоят, и ловишь себя на ощущении, что они не покидали тебя ни на секунду; в небе огромными кругами ходили стрижи; отсюда, снизу, казалось, что их полет — сущий пустяк — длинные саблевидные крылья опираются на воздушные потоки, так можно парить целую вечность. Андрей Ильич в юности занимался в аэроклубе, летал на планере, и он-то прекрасно знал, сколь высока цена легкому парению; воздушные потоки коварны, и птица, и человек в планере ежесекундно испытывают и восторг, и ликование, и страх, что вот-вот восходящий поток воздуха иссякнет и крылья потеряют опору; — это олицетворяло для него жизнь в ее наивысшем пике, о котором когда-то страстно мечтал, а в последние годы лишь вспоминал, да и то временами, как о прошедшей юности.
— Папа, тебе не надоело смотреть вверх? — спросила Лена.
Андрей Ильич ничего не ответил. Он думал о том, что ведь это вчера еще было: ночи взахлеб над книгами о Циолковском, Кибальчиче, первый прыжок с парашютом, первый полет… «Теперь отлетался, да и летал ли?» — грустно усмехнулся он; странным, непонятным образом, юность, вернее, самое ее начало, занимала огромный промежуток времени и помнилась до самых мизерных подробностей, а годы зрелости, их было целых двадцать, словно бы и не существовали; от них осталась только щемящая боль в левой половине груди; до развода с женой он не знал, что такое — сердечные приступы; сердце побаливало и раньше, из-за него Андрею Ильичу был закрыт путь в большую авиацию, но те боли рождались случайно и не тревожили; теперь же боль разрасталась настолько, что захватывала все тело, душу, и Андрей Ильич погружался в пугающую пустоту; жизнь казалась так и неначавшейся.
Он с надеждой ждал выходные дни, вкладывал в них почти мистический, сокровенный смысл: выходной — маленькая отдушина, умышленное нарушение привычного ритма; за выходной человек должен осмотреться, подвести итоги и воодушевиться, не зря же выходной называется в о с к р е с е н и е м. Андрей Ильич всем своим естеством ощущал, что все больше и больше утрачивает кровную живительную связь с миром; в минуты отчаяния говорил себе: «У меня есть дочь — милое, отзывчивое существо»; похожая на несмышленого котенка, она терлась мокрым носом о его руки, щеки, тоненькими, насквозь розовыми пальчиками легонько касалась его жестких кустистых бровей и, уколовшись, со смехом отдергивала руку; расчувствовавшись, Андрей Ильич утешал себя тем, что преувеличивает беду, хотя была в его опасениях маленькая горькая правда, она-то и не давала покоя.
«Странно», — подумал он и лениво перекинул травинку из одного уголка губ в другой, словно проводил глубокую границу между воспоминаниями; двадцать лет были наполнены сначала ожиданием квартиры, потом — добыванием нужных и не очень нужных вещей; он говорил себе: «Потерпи чуток. Пройди через горнило суеты. У тебя в жизни все немного смещено. Мечтал об авиации, закончил архитектурный; презирал мелочи быта, они наваливаются так, что не вздохнуть… Правда, это еще не значит, что жизнь идет наперекосяк. Главное — выстоять чисто человечески…» Андрей Ильич с непонятной даже близким исступленностью хотел ребенка; рядом с детьми, которые смотрят в мир наивными, доверчивыми глазами, даже самые черствые души светлеют, пусть на мгновение, но оттаивают; а в нем еще жила потребность возрождения. Жена этого не понимала; шесть лет назад она забеременела и с несвойственной ей бесшабашностью сказала:
— Ну и пусть! Рожу на старости лет.
Андрей Ильич, уже тяготившийся, как он в порывах откровения говорил друзьям, «полусемейной жизнью», вновь обрел крылья. «Господи! — корил он себя. — Я — сухой, бесчувственный пень. Я просто не замечал ее нежности. У нее все было по-настоящему, глубоко».
— Ты хочешь ребенка? — с глупой улыбкой спрашивал он жену.
Она отвечала на его вопрос серьезно, с чувством какой-то непонятной ему вины:
— Не то чтобы хочу, а просто — пусть.
— Да что я спрашиваю? — он звонко хлопал себя ладонью по лбу. — Наверное, свихнулся. Совсем свихнулся… О чем спрашиваю? В твои годы это очень опасно, а я спрашиваю: хочешь?
— Каждой женщине, говорит она об этом или нет, хочется понять э т о. Каждая ради этого рискует.
— Ты — молодец. Ты стала собранной, а я совсем расклеился от радости. Нет, ты — большой молодец! — Андрей Ильич восторгался женой, впадал в чуждый его натуре мелодраматизм; впервые за восемь лет участвовал в конкурсе на проект детской площадки в новом микрорайоне и завоевал второе место. Потом получил повестку в суд, подумал: ошибка; они не ссорились, жили, как прежде, как всегда; — он был погружен в радостные хлопоты о дочери, покупал ей ползунки, платьица, постоянно путая размеры, и все боялся, что этому крохотному существу с тонким требовательным голоском чего-то не хватит; жена мягко вышучивала его, предлагала устроиться няней в детские ясли, и вдруг — повестка в суд.
«Что она сказала тогда?.. — напрягая память, Андрей Ильич наморщил лоб. — Ах да, она сказала, что влюбилась, а желание родить ребенка возникло от тоски по настоящей любви… Красиво». Это слово «красиво» Андрей Ильич произнес без иронии, сухо, словно отмечал какой-то незначительный факт.
Жена оставила ему квартиру и все, что в ней было.
— Я хочу начать совершенно новую жизнь. Я еще способна на это, — сказала она.
— Да, — то ли спросил, то ли удивился Андрей Ильич, — только пусть Лена…
После некоторого раздумья жена тихо вздохнула:
— Я уже и так принесла тебе столько горя. Я только иногда буду видеть ее. Ты не откажешь мне?..
Такой выбор показался Андрею Ильичу невероятным, чудовищным; он бы, не раздумывая и доли секунды, отдал все, лишь бы Лене было хорошо, а тут ею пренебрегали ради… Но тут же Андрей Ильич подумал, что раз жена идет на такую жертву, то без того, другого, ей все равно жизни не будет; растерялся перед этой, с одной стороны — святой, а с другой — жестокой правотой; жена уже не задумывалась над этим, да и вряд ли ей могли прийти в голову такие мысли; она после долгих и мучительных ожиданий, хлопот, уже отчаявшаяся, словно бы получила разрешение сменить гражданство и мысленно жила там, в ином мире, а тут ждала лишь той минуты, когда ей дадут въездную визу, и стыдилась своей прорывающейся радостью обидеть чувства тех, кто оставался за ее спиной, по другую сторону границы.
Из-за развода она перессорилась со своими родителями, с друзьями, которые негодовали, требовали, чтобы Андрей Ильич вел себя жестче, принципиальнее, а у него в ушах звучал ее тихий голос: «Я уже и так принесла тебе столько горя…», и он мучился оттого, что в ту минуту ничего не сказал о своей вине; жена оказалась выше его, бескорыстней, — таким в те последние годы он считал только себя и упрекал ее в черствости; оказалось, что ошибся и страдал, неся в душе эту вину и обиду: он же хотел ей только добра, столько лет жил только для нее, а почему-то тот, другой, оказался более достойным ее слепой, по-юному пылкой любви.
— Папа! Папа! — позвала Лена.
— Да… Что? — рассеянно отозвался Андрей Ильич.
— Смотри, какой одуванчик. Я его прямо боюсь, — Лена осторожно сорвала одуванчик, поднесла его к лицу и сильно дунула — сотни маленьких парашютиков, покачиваясь, повисли в воздухе.
— Прямо как Новый год! Правда, папа, здорово! — радостно засмеялась Лена, отмахиваясь от белых хлопьев, цеплявшихся за ее распустившиеся волосы.
«Новый год?.. Интересно», — удивился Андрей Ильич и с горечью подумал о том, что у него эта картина не вызвала никаких ассоциаций; он равнодушно смотрел на летящие белые пушинки — только и всего. «Неужели это отмирает как корни у деревьев», — грустно подумал Андрей Ильич. После развода он жил в каком-то оцепенении, то ему казалось, что жена вот-вот вернется, то Андрей Ильич говорил себе, что его личная жизнь уже кончилась и его главная забота, — дочь; он отпрашивался с работы пораньше и бежал в детский сад; брал Лену и с упоением играл с ней дома; Лене быстро надоедали и паровозики с красными и зелеными колесами, и заводные прыгающие игрушки, и книги с забавными картинками; она просилась во двор к своим маленьким подружкам, копавшимся в песочнице; Андрей Ильич обижался и выставлял ее за дверь.
«Она какая-то чужая, — с болью говорил он себе, — чужая. Мы оба — чужие».
— Папа? — с легким испугом в голосе позвала Лена.
— Да, — тотчас отозвался Андрей Ильич.
— Вон тот репейник у дороги похож на собаку тети Даши. Такой же лохматый и хвостатый!
— Какой еще тети Даши? — без особого интереса спросил Андрей Ильич.
— Разве ты ее не знаешь? — Лена недоверчиво посмотрела на него, словно хотела убедиться, что он не шутит; лицо Андрея Ильича было спокойным, даже вялым.
Лена занялась букетом и, как бы между прочим, стала рассказывать:
— Тетя Даша живет в нашем подъезде. Она — зубной врач. Я у нее спрашивала: можно ли мне есть конфеты? А то мама говорит, что от них зубы болеть будут. Тетя Даша сказала, что можно, только еще нужно есть суп и кашу. Тогда они болеть не будут…
«Откуда она ее знает? — удивился Андрей Ильич, — я живу в этом доме десять лет и совершенно не представляю, кто живет этажом ниже или выше. Эти большие дома только внешне похожи на общежития. На самом деле каждая квартира — маленькое обособленное государство. Собственно, так они и проектируются. Человеку хочется жить то совершенно одному, то вместе со всеми. Эти дома — метафора его уродливого компромисса…» Еще в студенчестве Андрей Ильич, словно брал реванш за несостоявшуюся карьеру воздухоплавателя, ночи напролет сидел у чертежной доски; его пылкая фантазия рождала огромные жилые массивы; замкнутые в кольцо; искусственный климат, сосновые рощи, розарии — все это продлило бы человеческую жизнь до ста пятидесяти лет; чем будут заниматься долгие годы жители его сказочных жилищ — об этом он не задумывался; над его кульманом висел клочок бумаги со стихами Тао Юань-мина, написавшего еще в третьем веке до нашей эры:
Жалок тот, чьи проходят дни в бессмысленной суете, На земле кого помнят лишь один прожитый им век, —но эти слова он понимал только как предостережение самому себе, не распространял на других; и лишь теперь стал понимать сколь опасно жить той растительной жизнью, если знаешь, что есть другая, на которую тебя не хватило.
— Папа, тебе не наскучило смотреть вверх? Там — ничего интересного. Только солнце. И когда на него смотришь, глазам больно. А само оно неинтересное, просто круг. — Лена крепко перетянула букет гибким стебельком ромашки.
Андрей Ильич был еще во власти размышлений, воспоминаний и ответил неохотно:
— Видишь ли, этот круг необычный. Он — волшебный, — но тут же подумал, что его объяснение слишком абстрактно для пятилетней дочери, и торопливо добавил: — Помнишь я читал тебе сказку про волшебные зерна? Так вот он, этот круг, так же приносит людям счастье. Все травинки, цветочки, большие деревья, да и мы с тобой своей жизнью обязаны ему.
— А те волшебные зерна похожи на солнечные зайчики, правда, папа? — Лена отложила букет в сторону и подсела поближе к отцу.
«На солнечные зайчики? Как это у нее любопытно получилось», — Андрей Ильич приподнялся на локте и ласково посмотрел на дочь; он каждое воскресенье ездил с ней то в лес, то на речку; его пугала некоторая обособленность Лены; казалось, что она постоянно, хотя и не говорит об этом, вспоминает о матери, и его многочисленные подарки, поездки радуют ее лишь на мгновение; она все больше и больше замыкается в себе и не впускает его в свой, пусть крохотный, но уже сложившийся мир; и каждый день он открывал для себя, что совсем не знает дочь, а она растет, меняется — и ему уже не угнаться за ней; наступит тот момент, когда слово «чужая» будет произноситься без тревоги, как само собой разумеющееся; и он останется совершенно один в этом городе, в этом мире, да и во всей Вселенной, останется один на один со своей незадавшейся жизнью; поездки за город отвлекали от мрачных мыслей; от одного лишь предчувствия, что через какие-то сорок минут он упадет в холодящую луговую траву, теплело на душе; и он думал о том, что и для дочери это полезно; слово «полезно» коробило, но другого, более подходящего, он не находил; связывал его со старинным словом «пользовать»; и теперь, услышав, что «волшебные зерна похожи на солнечные зайчики», обрадовался столь живой и глубокой ассоциации.
«Любопытно, даже очень!» — поддаваясь начатой игре, Андрей Ильич продолжил:
— Этот круг подарил людям добрый старый волшебник из тридевятого царства, тридесятого государства…
Не зная, что еще сказать, Андрей Ильич озадаченно замолчал; его фантазия иссякла.
— А злой волшебник в черном-черном костюме, — вдохновенно подхватила Лена, — все время старается его стащить. Он пускает ветры и каждый день, к вечеру, присылает ночь, — последние слова она произнесла шепотом, словно боялась, что ее могут подслушать.
Андрея Ильича тоже охватил радостный озноб вдохновения; еще секунду назад он и не надеялся на то, что сможет поддержать эту игру, где все условно и в то же время всерьез настолько, что это уже и не игра, а сама жизнь; Андрей Ильич наклонился к дочери:
— Злой волшебник иногда похищает круг и зарывает его в поле, чтобы никто не мог найти. Но добрый волшебник посылает дождь. Он размывает землю и освобождает круг, который поднимается на небо… по радуге.
— Злой волшебник убегает в дремучие леса и снова думает, думает, как бы ему выкрасть у людей солнечный круг… — Лена испуганно округлила глаза, осмотрелась и тревожно прошептала: — Папа, смотри, злой волшебник облаком закрывает круг!
Андрей Ильич запрокинул голову. Большое, с синеватым подтеком облако насторожило его.
— Папа, смотри, какие тени побежали по траве. Злой волшебник уже близко. И темнеет, ты видишь, папа, темнеет! — Лена испуганно дернула его за руку.
— И впрямь дождь будет, — то наивное, восторженное настроение, столь внезапно и глубоко захватившее Андрея Ильича, угасало, — я с тобой заболтался и ничего не заметил. Теперь до станции не успеем. Тут не меньше двух километров!..
Андрей Ильич достал сигареты и раздраженно закурил; разгоряченное воображение еще не хотело принимать тревогу всерьез, а в голове уже мелькало: «дождь… холодный…» и еще какая-то чепуха насчет бюллетеня, аптеки; Андрей Ильич словно разделился на двух человек: заземленного, живущего перипетиями службы, заботами о хлебе насущном, и — одухотворенного, уверенного, что уже сделал первый робкий шаг по пути к бессмертию; оба эти человека и презирали, и опасались друг друга.
Первые капли с шумом упали в траву, и пропыленная зелень, впавшая в тягостную дремоту от душного преддождья, ожила; сверкающие водяные струи соединили тусклое, холодное небо и разгоряченную, истосковавшуюся по влаге, землю, притянули их друг к другу; казалось, там, вдалеке, лохматые облака цепляются за кусты ивняка и вот-вот опустятся посреди луга, словно диковинные летающие тарелки; ликуя, кивал красными головками клевер; вспыхивали ослепительные солнца ромашек.
— Дождь, папа, дождь! — обрадовалась Лена и подставила раскрытую ладошку под крупные, по-летнему теплые капли.
Андрей Ильич не ответил и прибавил шагу; он думал о том, что в грязных ботинках, в мокрой обвисшей рубашке и таких же брюках, которые местами уже покрылись коричневыми пятнами грязи, неприлично ехать в электричке, а тем более — идти по центральным улицам.
Лена еле успевала за ним; она удивленно вертела головой, ничего не видела и принимала в себя все разом, как опрокинутые навстречу дождю лиловые чашечки колокольчиков или распрямивший жесткую узловатую ладонь приземистый подорожник; на мгновение она опомнилась, посмотрела на отца, всплеснула руками и звонко рассмеялась:
— Ой, папа, какой ты весь мокрый, грязный и смешной. Прямо жуть!..
Андрей Ильич хотел сощелкнуть с белой рубашки комочек прилипшей грязи, но под пальцем осталась жирная коричневая полоса; он смущенно посмотрел на дочь. Смеясь, она убирала со лба мокрые пряди волос и была до того радостной, сияющей, что и его лицо невольно осветилось улыбкой, словно протерли мутное стекло, и в сумрачную комнату хлынули потоки солнечного света.
— Не беда. Грязь отмоется, вода высохнет! — заговорщицки подмигнул он дочери и протянул руку, — пошли! — а в левой половине груди возникла боль; Андрей Ильич замедлил шаги; ему всегда в такие моменты становилось страшно и стыдно, что это случится с ним на глазах у Лены, она напугается и останется совсем одна; и вот он, взрослый, проживший жизнь, бессилен что-либо поправить, словно все эти долгие годы рассеянно смотрел по сторонам, как несмышленый школьник на последней парте, и ничему не научился.
1984
Совершено нападение
О педсовете объявили неожиданно, в конце последнего урока.
Тихая, задремавшая учительская ожила: дверь то и дело открывалась — преподаватели возвращались с уроков, и вместе с ними врывались ликующие ребячьи голоса и топот тысячи ног, сливающийся в горячее шарканье; истосковавшиеся по движению, школьники вперегонки неслись по лестницам, коридорам, толкаясь и обгоняя друг друга.
Анна Денисовна, учительница математики, полнеющая, угловатая в движениях, перекладывала кульки с продуктами и бутылки с молоком из огромного коричневого портфеля в синюю болоньевую сумку, чтобы удобнее было нести, и, скорее по привычке, чем протестуя, ворчала:
— Совсем житья от этих мероприятий не стало. С утра до вечера торчим в школе, словно у нас семьи нет и, кроме школы, никаких забот. Хорошо хоть с утра «окно» есть, по магазинам пробежишься…
Настроение у большинства учителей было созвучное, но никто из них не поддержал Анну Денисовну, устали в конце дня, да и знали, что внеочередной педсовет, раз о нем объявили, будет, и лучше поскорей его начать и пораньше окончить.
— Все в сборе? — Василий Петрович, директор школы, с порога осмотрел учительскую сквозь толстые, выпуклые линзы очков, за которые мальчишки прозвали его «биноклем». — Остальные подойдут. — Он присел к столу, из внутреннего кармана пиджака достал листок и, развернув, положил перед собой.
— Очередная бумага из роно. Стоило ради этого собирать педсовет? Дали бы всем прочитать под расписку, — Анна Денисовна шумно задвинула сумку с продуктами под стул.
— В таком случае прошу меня отпустить! — На продолговатом, еще сохранившем темный южный загар, лице Тамары Петровны, учительницы литературы, заиграла улыбка. — Все знают, что мы недавно переехали в квартиру. В ней столько недоделок, столько недоделок… — обращаясь ко всем, она вздохнула, — Конечно, газ, вода — хорошо, но в своем доме было лучше. Мы каждый день вспоминаем с в о й дом!..
Директор понимающе качнул головой и начал издалека, чем сразу насторожил учителей:
— В прошлом году наша школа вошла в число десяти лучших. В этом — большая заслуга всего коллектива. — Василий Петрович точно выдержал нужную паузу. — Но сегодня я должен вас огорчить. Пришла тут одна бумага, которая если не перечеркивает нашу работу (не знаю, как на это посмотрит высшее начальство?), но жирную этакую кляксу поставит.
Лицо директора было спокойно, жесты подчеркнуто медлительны, и голос у него был будничный, словно бы заспанный.
— Я не люблю дежурных оборотов «этого следовало ожидать» или «как снег на голову», — Василий Петрович поправил очки. — Впрочем, длинные предисловия сегодня ни к чему. — Он приподнял листок, уже давно примагничивавший взгляды учителей.
— «Довожу до вашего сведения, что учащимися вверенной Вам школы совершено групповое нападение на машину ветеринарной службы. Зачинщики Никишин и Батов были задержаны.
Никишин ударил по лицу работника ветслужбы т. Бурилина И. Н. при исполнении им служебных обязанностей. Батов кирпичом разбил лобовое стекло машины. На кузове машины обнаружены глубокие вмятины от камней в общем количестве тридцати двух штук, разбиты фары и боковые стекла.
Специальная комиссия определила сумму нанесенного ущерба в 286 рублей.
Дело на Ваших учащихся Никишина и Батова передано в судебные органы.
Главный врач ветеринарной службы: А. Игнаточкин».Василий Петрович снял очки и положил поверх письма.
— Такие пироги на сегодня.
В учительской возбужденно зашептались.
Дорога от школы круто уходила вниз по старой улочке, половину домов на ней уже снесли, и среди развалин одиноко возвышались полуразрушенные стояки печей; набегавший ветерок ворошил полуистлевшие газеты и журналы, ранее долго пылившиеся на чердаках.
Ветер шаловливо перетасовывал годы, десятилетия, словно хотел подчеркнуть этим относительность времени, он швырял под ноги редким прохожим газетные страницы, аршинными буквами кричащие о важных событиях, когда-то возведенных в ранг исторических, но сейчас о них мало кто помнил; обрывки бумаги путались под ногами, и какой-нибудь четвероклассник, украдкой таскавший в кармане спички, сгребал их в кучу и, бросив спичку, убегал, издалека любуясь маленьким костром.
В школу и из школы ребят по старой улочке стайкой провожали собаки; по привычке они первые дни ночевали среди развалин — каждая на своей территории, и озлобленно лаяли на прохожих, приближавшихся к теперь уже несуществующим заборам, которые делили столь внезапно открывшееся пространство на множество тесных квадратов и прямоугольников; собаки помнили их и разгуливали по ним, как прежде, недоуменно смотрели в сторону двух покосившихся стояков, державших калитку, или на груду обломков, где было крыльцо, с которого им выносили еду. Ждали. Не уходили. Боялись, что хозяева вернутся и не застанут их на месте.
А потом, отчаявшись, сбились в веселую кучу; похудевшие, какие-то непривычно легкомысленные, уже безразличные к тому, что прохожие нарушают границы, они носились по улице, шалея от свободы; принюхивались к хозяйственным сумкам, авоськам; стоило их кому-то пугнуть, отбегали и безо всякой злобы лаяли издалека, тоскливо подвывая, словно жаловались на свою судьбу.
Ребята подкармливали их пирожками, бутербродами, прихваченными из дома или из школьного буфета. Общим любимцем был колченогий пудель. Мальчишки сразу окрестили его Пушком, и он охотно отзывался на новую кличку. С легкой руки какого-то школьного остряка огромный пес с оборванным ухом и большими угрюмыми глазами стал Директором. Он не бросался за пирожком, а степенно подходил к дерущимся собакам, и те в страхе разбегались от тихого, пугающе мрачного рычания. Поджарая самочка, в жилах которой вместе с кровью дворняжки текла кровь борзой, за свои повадки изящно потягиваться и дрыгать ногами получила кличку Муза. Были среди собак Стрелка и Белка, Незабудка, Георгин и даже Ту-154 — веретенообразный пес на коротких лапах; завидев мальчишек, он тараном летел через кусты, помахивая желтым обрубком хвоста.
Но все же общим любимцем был Пушок. С заливистым лаем он кидался навстречу мальчишкам, танцевал на задних лапах; если кто-нибудь из ребят, дурачась, запевал, Пушок подвывал тонко и потешно, озорно посматривая на школьников, словно все понимал и изо всех сил старался быть приятным щедрой публике.
В тот день Саша Батов после звонка забежал в буфет и взял три пирожка.
— Я, конечно, понимаю твои чувства, но это — не выход. Наступит зима, сам понимаешь… — сказал из дверей Женя Сныков, — и вообще, посмотри на столы, они ломятся от снеди! Каждый берет ровно столько, чтобы осталось. — Его припухшие губы иронично надулись. — Я где-то читал, что, если бы каждый съедал свою норму, на Земле не было бы голодающих. Каждый почему-то старается проглотить больше в два, а то и в три раза.
— Соревнуются. — Саша вытащил из портфеля газету и, подавив чувство брезгливости, бумажкой сощелкнул в нее со столиков недоеденные пирожки и бутерброды.
— Все шутишь, — Женя пропустил Сашу вперед, — у человечества накопилось столько самых элементарных проблем, теоретически решение которых выеденного яйца не стоит… — Сныков любил философствовать; внешне он был полной противоположностью Саше, — ревниво следил за модой на галстуки и рубашки, брюки его всегда были отутюжены. Саша одевался подчеркнуто небрежно, и едва родилась мода на джинсы, совсем отказался от брюк; в классе ходили слухи, что он пишет стихи; никто их, правда, не видел, но слух, поддерживаемый какими-то новыми догадками, не исчезал.
Друзья спорили с такой страстью, словно не было шести уроков и весь запас их энергии с самого утра лежал нетронутым; они шли медленно, еле переставляя ноги: опасались, что придут домой раньше, чем окончится разговор; их в классе так и звали: Два Человека.
— Ведь в принципе все элементарно, — горячился Саша, — когда-то законы человеческого общежития свели к трем правилам: не убий, не возжелай чужого и возлюби ближнего, как самого себя. Эти правила и сейчас всем с детского сада разжевывают в разных вариантах, а они почему-то плохо прививаются.
— А почему? Ты думал над этим: почему? — приостановился Женя.
— Проще сказать, да так уже и говорили много раз, что они противоречат человеческой природе…
— Два Человека даже по дороге домой говорят только о мировых проблемах! — озорно улыбнулась Жанна Болотская; ее подруги, насмешливо фыркнув, прошли мимо; Жанна задержалась.
— Саша, можно задать тебе один очень важный для меня вопрос?
Саша переглянулся с Женей, словно хотел спросить, что ей нужно? Тот, относившийся к женщинам с легким пренебрежением, неопределенно повел плечами.
— Только я не на все вопросы могу ответить, — уже имея в виду свое сложное, еще и самому неясное отношение к Жанне, осторожно заметил Саша.
— Понимаешь, меня в последнее время мучит один жизненно важный вопрос: какая мне лучше идет тень для глаз: фиолетовая или бирюзовая? — Жанна опустила глаза и прикусила верхнюю вздернутую губку, чтобы не рассмеяться.
— Я не держу. Иди, благотвори. Ступай к другим. Уже написан Вертер, — сдержанно продекламировал Саша, вкладывая в эти слова чувства и сомнения, одолевавшие его; ему казалось, что эти строки вбирают в себя ломкие, неопределенные их отношения, о которых знали только они двое. Жанна поняла это, но виду не подала, поскольку стеснялась Жени, да и легкомысленное настроение еще не сошло с нее; пытаясь все свести к шутке, она с наигранной небрежностью спросила:
— Очень занимательно, а дальше что?
— А в наши дни и воздух пахнет смертью; открыть окно — что вены отворить, — тихо закончил Саша.
— Фу! ужас какой!.. И зачем ты меня все время хочешь напугать?
— Может, я что-то предчувствую.
— Пора бы повзрослеть, Батов! — укоризненно обронила Жанна и побежала догонять подруг.
Саша повеселел; он понял, что Жанна хотела сказать ему: «Я всегда готова пойти навстречу, но первый шаг должен сделать ты». Саша давно это знал, но боялся, как говорили в классе, обнародовать свои отношения, хотя о них догадывались многие; он видел это, страдал, но перебороть себя не мог.
— Ты только посмотри: мужчины требуют любви, — иронично сказал Женя.
Толя Никишин со своими приятелями загородил дорогу девочкам; раскрасневшиеся от свежего осеннего воздуха, смешливые, они возмущенно загалдели, стараясь не показать, что все происходящее им приятно, что они ожидали это.
— Все в порядке вещей: природа требует, — небрежно добавил Женя.
— Пропустите! Сейчас же пропустите! — напирая на компанию Толи, кричали девочки.
— Батов! Женя!.. Два Человека, да заступитесь же за нас! — замахиваясь «дипломаткой» на долговязого Никишина, весело крикнула Жанна; признанная «звезда класса» знала, что Толя тоже неравнодушен к ней, но, словно заранее сговорившись с Сашей предоставить право выбора ей, Никишин и Батов жили мирно, а Жанне, хотя она и понимала, что это глупо, все же хотелось, чтобы кто-то из них страдал так, чтобы все видели, и тогда бы она его пожалела.
— Странно… — Ляля Матвеевна, учительница немецкого, нервничая, двумя пальцами стянула высокий воротник сиреневого батника. — Надо бы пригласить Батова и Никишина… Ах, да у них сегодня практика на заводе, — смущаясь, вспомнила она. — Нападение на ветслужбу. Что они… в войну, что ли, с ними играли?
— Странно не это, а то, что один из лучших учеников вашего класса Батов оказался в одной компании с Никишиным, которого мы уже столько раз обсуждали! — не терпевшая никакой «дипломатии», в лоб выложила Анна Денисовна; она тоже была классным руководителем, и ее девятый «А» считался лучшим в школе. Ляля Матвеевна пришла в школу недавно, и прошлой осенью ей доверили восьмой «Б». Наставницей прикрепили опытную Анну Денисовну; она вела в восьмом «Б» геометрию и хорошо знала учеников.
— Для начала я дам краткую характеристику на каждого, — сразу определяя свою роль и место молодой классной руководительницы, сказала Анна Денисовна.
— Не обижайтесь, но я хочу сама познакомиться с каждым, — с той необидной настойчивостью, идущей лишь от искреннего желания, а не от уверенности в себе, отказалась Ляля Матвеевна и, смущаясь от одного лишь предчувствия, что ее могут понять неправильно, поспешно добавила: — Набью себе шишки… Но такая наука, говорят, лучше держится в памяти.
— Ради бога, мне хлопот меньше, — слегка опешила Анна Денисовна и с ног до головы придирчиво осмотрела учительницу немецкого, больше похожую на десятиклассницу, чем на классного руководителя. — Давайте договоримся: трудно будет, спрашивайте. И еще одно помните: класс вам дается не для личной учебы, вернее, не только для нее…
Их отношения остались в пределах школьной вежливости. И теперь, услышав, как ей показалось, легкомысленное «…что они… в войну, что ли, играли», Анна Денисовна напомнила о своем предложении, которым молодая классная руководительница так и не воспользовалась.
— Я даже не знаю… Все спуталось как-то… Это же не просто безобидное хулиганство, объяснимое трудным возрастом, а организованное нападение. Точнее, бандитизм! — Ляля Матвеевна растерянно замолчала.
При слове «бандитизм» локти директора задвигались, словно искали более устойчивое положение; Василий Петрович надел очки и, пробежавшись глазами по письму, вполголоса заметил:
— Здесь об этом ничего не сказано.
— Ну и что с того! — раздался от дверей сочный, хорошо поставленный баритон Арнольда Борисовича, преподавателя труда; были у него уроки или их не было, он всегда ходил в потасканном синем халате. «Мне спецодежда положена, а школа — мое рабочее место», — по-военному четко и коротко отвечал он на шутки, что «преподаватель труда на костюм не зарабатывает». — У вас, Василий Петрович, есть привычка приглушать краски. — Арнольд Борисович, коренастый и, несмотря на свои пятьдесят лет, завидно осанистый, вышел в центр учительской и как-то сразу заполнил свободное пространство. — С Никишиным вопрос давно ясный. Парень озлоблен. Замкнут. Я много раз наблюдал: слоняется по мастерской и другим мешает. Сделаешь замечание — ухом не поведет. Прикрикнешь — ухмыляется и одними губами показывает: «у…у». Унтер, значит. Я так подозреваю, что он меня этой кличкой и наградил. И вообще, меры надо принимать вовремя. А мы тут с ними цацкаемся!.. Помните, в пятой школе дошло до того, что десятиклассники пришли на уроки, как говорится, в дупель, и директору пришлось вызывать милицию. Кстати, Никишин стоит на учете?
— Нет, — с готовностью ответила Ляля Матвеевна.
— Хуже! Выходит, одна наша вина. Так давайте и признаем ее, не отделываясь обтекаемыми формулировочками! — с пафосом закончил Арнольд Борисович и глазами поискал свободный стул.
— Такая готовность принять всю вину на себя похвальна. Тем более что лично на вас и тени ее не упадет. — Хотя слова Василия Петровича несли немалый заряд иронии, лицо его было по-прежнему бесстрастным. — А мне как администратору сплошные убытки. Будут на всех совещаниях склонять. И многое из того, что мы делаем по-настоящему хорошо, автоматически поблекнет. Смажется. Давайте посмотрим на случившееся шире, учитывая судьбы Никишина и Батова и авторитет школы. С ним тоже надо считаться!
— Я понимаю растерянность Ляли Матвеевны, она молода, неопытна. Но и для меня происшедшее — то ли полнейшая неожиданность, то ли — ожидаемый результат. Я тоже — в смятении! — Тамара Андреевна, учительница литературы, мелко наморщила лоб. — И все же в происшедшем есть какая-то закономерность. Мы определим ее, когда суммируем то положительное и отрицательное, что есть в Батове и Никишине…
— А где та шкала, по которой определяют, насколько плохо плохое и хорошо хорошее? — невольно вырвалось у Ляли Матвеевны.
Учительница литературы, всем своим видом показывая: «Беру ее под защиту, а она не понимает», снисходительно заметила:
— Такая шкала у каждого в сердце, если хотите.
Из-за сваленных в кучи выкорчеванных яблонь и груш с шумом выкатилась разнокалиберная собачья свора; угрожающе рыча и пугливо оглядываясь, сзади всех бежал Директор, словно прикрывал отход. Мальчишки подумали, что собаки играют, и засвистели, заулюлюкали им вслед.
— Что это они? — подавив мгновенно возникшую тревогу, Саша недоуменно посмотрел на друга.
— Трест пана Директора сдает кросс на золотой значок ГТО! — иронично улыбнулся Женя.
На перекрестке, возле колонки, что-то сухо щелкнуло, и воздух задрожал, завибрировал от собачьего визга, похожего на пронзительный крик ребенка. Не понимая, что происходит, ребята застыли как вкопанные: леденящий визг вошел в кровь, и она мгновенно разнесла его по всему телу, и тело обратилось в слух; сквозь шелест опадающей листвы, сквозь неровное дыхание ребят еле уловимо пробился гул мотора, работающего на самых малых оборотах, потом шум приглушенных листвой шагов. И тогда ребята увидели на перекрестке мужчину в зеленой телогрейке нараспашку; держа наготове малокалиберную винтовку с укороченным стволом, он шел к кустам, растущим перед бывшим домом; под его ногами заскрипел гравий, еще недавно насыпанный заботливыми хозяевами перед самыми окнами.
Неподалеку от колонки, под полыхающими кленами, затаилась темно-серая машина с металлическим кузовом, как у мусоровоза; только сбоку у нее иллюминатором зияла небольшая овальная дверца.
Выплюнув недокуренную сигарету, мужчина ищуще скользнул глазами по кустам, безошибочно определил нужное место, стволом отвел ветки — из кустов вылетел плачущий вой, сорвался от страха и стал тонким, исступленным, — короткий щелчок выстрела оборвал его.
— Боже мой, да это же — собачники! — панически вскрикнула Жанна; «дипломатка» вывалилась из ее рук; в ужасе закрыв лицо руками, Жанна опрометью кинулась вверх по улице;
споткнулась о проволоку невидимо змеившуюся по
дороге
упала в колдобину зарывшись лицом в помои
которые целое лето
украдкой выплескивали жители окрестных домов на
дорогу
вскочила, задыхаясь от смердящего липкого запаха
и не чувствуя боли в коленке
наискосок рассеченной бутылочным стеклом
побежала
нелепо размахивая руками,
задыхаясь от брызнувших слез
смешиваясь с вонючей грязью
они черными каплями
срывались на стерильно
белый воротничок
похожий на два склеенных
лепестка ромашки
Девочки кинулись за ней. Мальчики словно примерзли к земле; происходящее было столь откровенно жестоко, что в него не верилось; казалось, это — мираж; стоит приглядеться внимательнее — и все исчезнет, растворится в золотистом осеннем воздухе.
Неспешный, основательный, мужчина действовал с ужасающей обыденностью, и от каждого его движения, каждого шага мальчишки, словно уже соединившиеся с ним невидимыми проводами, наэлектризовывались все больше и больше. Он взял прислоненные к чугунной колонке огромные щипцы с деревянными ручками, отполированными ладонями почти до блеска,
покопался ими в кустах и за шею
вытащил желтоватую дворняжку
слегка тряхнул ее
по безвольным колебаниям тела понял
мертва
достал из кармана весело зеленевшей телогрейки
серую брезентовую рукавицу
большим пальцем как-то совсем по-детски
потер кончик носа
натянул рукавицу и перехватил собачонку за задние
ноги
в его движениях не было суетливости
с тем непоказным удовлетворением
с каким бывалые охотники
демонстрируют свои трофеи
понес дворняжку к машине
и казалось было слышно
как ее безвольно болтающаяся голова глухо
стукается о сухие комья земли
поленья
обломки досок
оставляя на них бугристые
дымящиеся капельки крови
на красных листьях они были незаметны
а на желтых капли промокали
разползались в причудливые
лохматые кляксы
и было непонятно
то ли они упали сверху
то ли кровь сочится
из трещин в земле…
Саша смотрел то на мужчину, обегая взглядом дворняжку, то вниз по улице; в дальней своей части она выходила на широкий новый проспект, и там, в голубой дымке, бесшумно скользили троллейбусы, почти непрерывным потоком шли прохожие и наверняка вели на тонких ремешках холеных догов, мрачных боксеров, несли на руках кудрявых болонок… И все это совершалось рядом, и в разгоряченном воображении Саши то существовало порознь, не смешиваясь, как масло и вода, то непонятным образом соединялось. «Вся жизнь такая! Все они — такие!..» — с пылким юношеским максимализмом обобщал он и тут же кидался в другую крайность: «Выродок! Дерьмо!..», с яростным отвращением смотрел на мужчину.
Вдруг Саша увидел на его колене круглую аккуратную заплатку. «Жена, жена зашивала?» Невероятность догадки поразила его; казалось нереальным, противоестественным, что у этого мужчины есть жена, дети; он должен был жить изгоем, где-то на задворках… «Нет-нет, это в армии его научили так зашивать…» — пытаясь обмануть себя, поспешно подумал Саша, с трудом отрывая глаза от круглой, словно циркулем обведенной заплатки.
Слегка размахнувшись, мужчина швырнул убитую
дворняжку в овальную дверцу
видимо ему не понравилось
как она легла там
в сумрачном кузове
и он что-то поправил
до синевы выбритое лицо его, наверное, источало густой аромат дешевого одеколона, дышало силой и здоровьем, но было лишено каких-либо западающих в память примет; оно было слегка озабоченным, а может, уставшим — все-таки уже середина дня; мужчина с утра набегался по замысловатым зигзагам старых улочек и теперь думал о плотном обеде и о кружке ледяного, чуть горчащего пива.
— Судьба Батова и Никишина сейчас во многом зависит от нас. Ляля Матвеевна, вам слово. И, пожалуйста, без пространных теоретических рассуждений о воспитании. Это я не вам лично, — поправился директор, — это я ко всем и к себе тоже. Мы сейчас решаем не проблемы педагогики, а конкретные судьбы.
— На мой взгляд, всякий раз, когда мы действительно решаем чью-то судьбу, мы решаем проблемы педагогики, — сухо вставила Анна Денисовна.
Директор не ответил на выпад — это выбило бы разговор из колеи. Он ожидающе смотрел на Лялю Матвеевну, сидевшую на самом краешке стула, словно готовую в любое мгновение сорваться и улететь; с ее щек еще не сошли красные пятна смущения и растерянности.
— У Никишина — трудная семья, — она совсем по-девчоночьи облизнула пересохшие губы, — вернее, ее нет. Отец постоянно пьет. Мать неделями не бывает дома, пропадает неизвестно где и с кем. Толя ходит в няньках. Его сестренка учится во втором классе. Я несколько раз пыталась побывать у них дома. Толя меня в квартиру не пустил. Естественно, наговорил кучу дерзостей… Он стесняется своих родителей, своей бедности. Этим многое объясняется в его поведении. — Ляля Матвеевна по лицам учителей поняла, что ничего нового для них не открыла, но это не остудило ее. — Батов — очень чувствительный мальчик. Любит стихи, музыку и боится девочек. Стыдится этого, но ничего поделать с собой не может. То, что случилось, я, к сожалению, никак объяснить не могу.
— Отказываетесь верить? — Василий Петрович посмотрел на учительницу немецкого, надеясь услышать что-нибудь, на его взгляд, более существенное, и не дождался. — У меня было похожее настроение. Столько лет работаю в школе и все никак не привыкну… Но позвонил в милицию. Там уже есть следователь, который занимается э т и м д е л о м. Правда, его я не застал, но скоро придется с ним свидеться. И тут, Ляля Матвеевна, ваша позиция не совсем понятна. Вы утверждаете, что они оба чувствительны и человеколюбивы…
— Извините, но почему вы утверждаете, что этого у них нет? — подала голос Зоя Сергеевна, учительница биологии; почти круглые глаза и кокетливая родинка над верхней губой придавали ее лицу выражение постоянного удивления. — Никишин ведет себя на моих уроках далеко не идеально. Однажды он заявился за пять минут до звонка. Объяснять ничего не стал, а ребята сказали, что он поймал на улице подбитого голубя и отнес домой.
— Зоя Сергеевна, добрейшая вы наша душа! — В голосе директора прозвучала улыбка. — Если мы упомянем об этом в характеристике, нас засмеют. Представляете, мы оправдываем человека, ударившего другого по лицу, тем, что он когда-то пожалел птичку!
— Совершенно с вами согласен, — поднялся Арнольд Борисович, он всегда вставал, когда говорил. — Вот Батов, правда, из-за птичек не опаздывал на уроки. Но любит, как тут говорилось, стихи там, музыку. Тихий. Скромный. До сегодняшнего дня его хорошая учеба и незаметность были для нас стопроцентной гарантией человеческих качеств. И вот выяснилось, что мы Батова совсем не знаем. А с Никишиным перенянчились. Для нас это — хороший и своевременный урок!
— Будь Никишин безнадежен, стали бы с ним возиться! — с ходу возразила Анна Денисовна. — Пошел бы в вечернюю школу, на завод. Мне совершенно непонятно: почему только сейчас, а не раньше, некоторые из нас стали столь категоричными?
— Ничего удивительного, раньше мы так это, либерально прикрывали глаза, а происшедшее заставило нас раскрыть их пошире, — сказала учительница литературы.
— Говорят, что глаза особенно велики бывают от страха, — краешками длинных узких губ улыбнулась Анна Денисовна и неожиданно рассердилась: — Мы уже и Батова ставим под сомнение, а надо прямо сказать, что выходки Никишина, да и многих других частенько провоцируются нашим поведением, нашим отношением к жизни!
— С таким подходом можно оправдать все что угодно, — привстал Арнольд Борисович.
— Не все. И не оправдать, а объяснить многое, — уже спокойнее сказала Анна Денисовна, — и если бы мы не чувствовали своей вины, стали бы мы с Никишиным возиться? Совесть не позволяла обойтись с ним круто… Как хотите, а я ребят в обиду не дам.
— Анна Денисовна, голубушка, в вас говорят чисто материнские чувства, — немного нараспев проговорила Людмила Михайловна, учительница истории; сухая, высокая, упорно носившая платья прямого покроя, не шедшие к ее фигуре, она сидела на своем любимом месте — под фикусом.
— Столько лет работаем вместе, а вы меня под разными соусами упрекаете все в одном и том же!
— Анна Денисовна, голубушка, я не хочу сказать, что это — плохо. Арнольд Борисович привел пример с пятой школой, а мне сразу вспомнилась нашумевшая история в тридцать восьмой. Два отличника изнасиловали восьмиклассницу. Ни родители, ни учителя тоже не хотели верить… Я все это говорю к тому, что личные эмоции не должны влиять на решение. Педагог должен быть прежде всего педагогом, воспитателем.
— Мать, по-вашему, уже не воспитатель?!
— Зачем так утрировать? Давайте посмотрим на этих учеников совершенно беспристрастными глазами. — Устраиваясь поудобнее, Людмила Михайловна немного подалась вперед, ладонями разгладила собравшиеся на платье складки. — Давайте посмотрим на них со стороны общественной активности. С этой стороны, думаю, что никто мне не возразит, они одинаково пассивны. Так нет ли в этом маленького ключика к пониманию случившегося?
— Интересный поворот! — оживился Арнольд Борисович. — Ляля Матвеевна, объясните-ка нам эту сторону ваших подопечных.
— Никишин раньше занимался в секции бокса…
— Там его и научили… — не договорив, Арнольд Борисович коротко хохотнул и, мгновенно перестроившись, с горечью выдохнул: — Сколько можно говорить, чтобы в такие секции тщательно отбирали людей. Сколько можно!..
Подбородок Ляли Матвеевны обиженно задрожал; она еле сдерживалась, чтобы не ответить дерзостью.
— Никишину несладко жилось и в школе и дома. Я не нашла с ним общего языка — это моя вина. Толя не очень… совсем неплохой. Он заботится о младшей сестренке. Стирает ей белье. Леночка нарядами не блещет, но всегда ходит аккуратная и причесанная.
— Если к этому добавить птичку со сломанным крылом, то получится пай-мальчик! — едко заметила Людмила Михайловна.
— Я рассказала о случае с голубем не для насмешек! — вспылила Зоя Сергеевна. — Мы много говорим о любви к животным, к лесу. А как доходит до дела, так эта любовь… не тянет. Мелочь, о которой, видите ли, даже стыдно упомянуть!
— Шефство над соседской девочкой мы расцениваем как общественную нагрузку, — обрадовалась поддержке Ляля Матвеевна, — а если Толя всем своим естеством ненавидит образ жизни своих родителей, если он берет на себя воспитание сестры… Так нет! Этого мало! Давайте заставим его стенгазету рисовать, и тогда со спокойной совестью запишем: общественник. Разве это не смешно?.. Батов любит стихи, музыку. Все, кто увлечен этим, тянутся к нему. Он — своеобразный центр в классе. Если хотите, он — просветитель!
— Вы это серьезно? — не выдержала учительница литературы. — Я несколько раз приглашала Батова в кружок любителей поэзии. И что же? Он побывал на одном занятии и, не сказав ни слова, ушел.
— Может, ему что-то не понравилось, — не совсем уверенно возразила Ляля Матвеевна.
— Другие-то ходят, другим-то интересно! — напористо заговорила Тамара Андреевна, помогая себе короткими, очень подвижными руками. — Неужели я должна работать только для одного Батова?
— В общем, Ляля Матвеевна, активность ваших «активистов» пока наглядно проявилась только в хулиганстве, или, как вы справедливо заметили, в бандитизме! — Арнольд Борисович с затаенной усмешкой посмотрел на директора.
— Вон!.. вон еще! — распахнув дверцу кабины, шофер показал куда-то поверх кустов.
Среди развалин ослепительно белым мячиком катился Пушок, он где-то задержался и теперь жал во все лопатки — боялся опоздать на встречу с ребятами.
Вдруг, инстинктивно почувствовав опасность, Пушок сторожко замер на бугорке; задрав мордочку, потянул воздух и, словно ожегшись о горячую струю, кинулся обратно.
Мужчина поудобнее перехватил винтовку, подбежал к груде битого кирпича, тяжело топая кирзовыми сапогами; с нее развалины были как на ладони.
Пушок нырнул в просвет между ветками яблонь, стащенных в кучу бульдозером, и, словно рыбешка в верше, оказался в западне из колючих, железистых веток; натыкаясь на их шипы, истошно визжа, он затравленно заметался.
Мужчина вскинул винтовку.
Не сговариваясь, не переглянувшись даже, мальчишки кинулись к мужчине; ярость, в эти минуты копившаяся в их душах, освобожденная, вырвалась наружу; бледное лицо Саши вспыхнуло от гнева.
— Не смей!.. не смей, гад! — На бегу, размахнувшись, он швырнул портфель в сторону мужчины.
Мальчишки тесным кольцом окружили груду кирпича.
— Вы чего?.. — опешив от неожиданности, мужчина приопустил винтовку. — Чего надо? — уже спокойнее спросил он, свысока осматривая разгневанных мальчишек. Возмущение, угрозы, презрение, с которыми он сталкивался ежедневно, почти не волновали его; мужчину больше раздражало другое, что он тут ни при чем, что у него — такая р а б о т а. — А ну, пошли отсюдова! — лениво пригрозил он и слегка приподнял ствол винтовки, этим подчеркивая, что находится здесь не по своей прихоти.
Издалека донесся визг Пушка; обезумевший от страха, он все еще метался в клетке из колючих яблоневых веток. Мальчишки молча сдвинулись плотнее.
— Ну чего?.. чего? — мужчина почувствовал что-то неладное, нервничая, переступил с ноги на ногу; кирпичи разъехались, и, понимая, что сейчас скатится под ноги мальчишкам, он прыгнул на Сашу Батова, как на самое, по его мнению, слабое звено; отшвырнул его и вырвался из круга.
— Стой! — Саша вцепился в рукав зеленой фуфайки; мужчина с ходу проволок его по земле, наткнулся на гневные ребячьи глаза, не на шутку перепугался и пнул Сашу ногой в живот; тот, скорчившись, покатился по дороге.
Толя Никишин, рослый, крепкий, шагнул к мужчине и с той неторопливостью, идущей от уверенности в себе, коротко, по-боксерски, ударил его в бровь. Судорожно хоркнув, тот выронил винтовку; всей тяжестью она глухо шмякнулась на землю — игрушечно хлопнул выстрел; чиркнув по кирпичам, пуля с надсадным воем рикошетом прошла над головами мальчишек; они инстинктивно присели.
— Разбегайтесь, сволочи! — угрожающе размахивая массивной заводной ручкой, на помощь мужчине бежал шофер, перепугавшийся до зеленоватой бледности в лице. — Ты, падла, думашь!.. Ты чего думашь!.. — он с размаху плечом опрокинул Никишина и, едва тот поднялся, ударил коленом под ребра; ойкнув, Толя упал пластом, а шофер, ошалевший от страха и злости, уже плохо соображая, что делает, кинулся на мальчишек. — Съели, падлы, съели!.. Я вас научу!.. Вы у меня попрыгаете!.. — Отборно матерясь, он вращал заводной ручкой, разгоняя мальчишек по разным углам перекрестка.
Немного опомнившись от резкого удара, мужчина отнял ладонь от лица — она была в крови; чему-то усмехнувшись, он вытер ее о зеленую полу фуфайки, оставив на ней темные следы; рукавом смахнул капли крови, вновь сочившейся из разбитой брови.
— Смотри!.. Этот!.. Этого возьмем! — издалека крикнул шофер, показывая заводной ручкой на Толю Никишина; пошатываясь, тот поднялся, прижимая руки к верху живота, словно бережно нес что-то хрупкое. Мужчина подскочил к нему и несколько секунд, напружинившись, цепко следил за каждым его движением; он прямо-таки жаждал мести и почти умолял, подсказывал, еле шевеля губами: «Ну чего же ты, ну ударь… Вот он я, вот…»
Тупо поводя глазами, Толя присел на корточки.
— Сопляк! — досадливо выдохнул мужчина, расстегнул ремень и поддернул брюки.
— Ты чего надумал? — подлетел шофер.
— Ты же сам сказал «возьми». — Мужчина крепко взял Толю за руку, поднял с корточек и ремнем, с непривычки путаясь и стараясь скрыть свою неумелость, скрутил ему руки. — Выше голову, сопляк! Сила есть, а вот ума еще маловато.
— Отпустите его, сейчас же отпустите! — пересиливая острую боль в животе, Саша встал на колени, поднял лицо, перемазанное пылью, размоченной слезами. — Отпустите…
— Хошь ты перед нами и на коленях, — мужчина презрительно усмехнулся, — мы такой глупости не сделаем. Он нам теперь самим нужен…
— Что, падлы, еще захотели?! Разбегайся! — заметив, что мальчишки снова собираются в группу, во все горло заорал шофер. — Я вам сейчас головы поотрываю, и ни один закон не придерется… Ишь, падлы, совсем распустились, чего хотят, то и воротят… А ты пошел, пошел! — он зло подтолкнул Толю к машине.
— Отпустите, вы не имеете права! — понимая всю беспомощность и бесполезность своих слов, хрипло выдавил из себя Саша и завалился на бок, прошептав: «Живодеры!»
— О правах вспомнил? У нас тоже права есть, ты о них подумал?.. — шофер споткнулся о кирпич, и голос его сорвался. — Ишь, о правах вспомнил!
— Да чего с ним болтать, не маленький, — мужчина поднял винтовку, смахнул пыль с приклада и щелкнул затвором — новенькая сверкающая гильза, описав дугу, зарылась в пыль.
— Живодеры! — приподняв голову, прохрипел Саша.
Женя Сныков, считавший своим главным оружием — умение разъединять происходящее на части и, сопоставляя, анализировать, содрогнулся; он чувствовал себя совершенно беспомощным и беззащитным, словно его раздели донага и осветили со всех сторон прожекторами.
— Да бейте же их! — визгливо выкрикнул он.
Кто-то из мальчишек призывно засвистел, и они кинулись к груде кирпичей. Словно щит выставив перед собой Никишина, мужчина и шофер, пятясь, отступили к машине и спрятались за кузов.
Василий Петрович сдержанно спросил:
— Каково будет решение педсовета?
— При чем тут решение? Разве мы уже заканчиваем? — удивилась Анна Денисовна; неосторожно двинув ногой, задела сумку с молочными бутылками — они жалобно зазвенели, напомнив учителям, что дома их ждут семьи, непроверенные тетради и десятки других забот.
— Сколько же можно ходить вокруг да около? Нам нужно конкретное решение, — требовательно сказал директор. — Нам нужно дать характеристики Никишину и Батову. Ляля Матвеевна, вы напишете их, учитывая все сказанное вашими коллегами?
— Я напишу как думаю, — подчиняясь лишь внутренней пружине чувства, устало ответила Ляля Матвеевна.
— Вот видите! — как-то скованно развел руками Василий Петрович. — Характеристики будут такие, хоть к медали представляй. Но я их не подпишу. Извините, но не хочу быть посмешищем. Имею я на это право? — он осмотрел притихших учителей, — Представляете, на суде зачитают наши «похвальные листки», а потом огласят, что сделали наши «образцовые ученики»… Извините, Ляля Матвеевна, но вы по молодости еще много не знаете. Но теперь увидите, как все это происходит. На суде ваше и мое присутствие обязательно. Вместе покраснеем!
— Я пока повода для этого не вижу! — наивно возразила Ляля Матвеевна, чем вызвала сочувствующую улыбку даже у Людмилы Михайловны.
— Об этом никто и спрашивать-то не будет. Встанут родители, скажут, что они целыми днями в делах, а школа плохо воспитывает. Представители общественности опять же напомнят нам о нашем высоком предназначении и о нашем долге и покажут пальцем на нас. И любое наше возражение будет расцениваться как попытка оправдаться, свалить вину со своих плеч на чужие. К тому же наши «образцовые ученики» напали на ветврачей. Врач, как нам известно, самая гуманная профессия в мире. Может, эта машина ехала к больному животному… Вот вам и мораль! — Василий Петрович сцепил руки и громко захрустел пальцами.
— Ой, да перестаньте же!.. — нервно вскрикнула Тамара Андреевна. — У меня аж сердце закололо.
— Извините, у меня тоже сдают нервы. — Василий Петрович поспешно снял очки и, словно только что пришел с мороза, стал протирать стекла носовым платком. — Говорят, директору это не положено, а они сдают. Что с ними поделаешь?.. У кого есть конкретные предложения?
— Надо все изложить откровенно и объективно, — поднялся Арнольд Борисович; несколько лет школьной жизни не отучили его от армейских привычек и правил, даже наоборот, он не без гордости чувствовал себя представителем армии, которая вносит пусть жесткий, но определенный порядок: каждый знает, что можно и что нельзя, и граница между ними подобна лезвию бритвы. — Никишин озлоблен. Замкнут. Но наряду с плохими качествами у него есть и хорошие. Он ухаколлектив работал с ним. Но сложное семейное положение, дурное влияние улицы — живает за младшей сестрой, — чеканил слова преподаватель труда, — педагогический все это сводило на нет наши усилия.
Батов — способный ученик. Застенчивый. Исполнительный. Но легко поддается влиянию других. В его плохом поступке больше виноваты обстоятельства.
— Вполне деловое предложение. Правда, слишком обнаженное. В таком виде оно несколько упрощенно характеризует ситуацию. Получается, что мы идем с повинной головой. На деле все сложнее, — задумчиво проговорил директор; его память берегла множество подобных случаев, и он примерно знал, чем все это кончится. «Батов останется в школе. Отделается строгим выговором. У него родители — влиятельные люди. Заступятся. Никишин?.. В колонию? Вряд ли, у него семья плохая. Тут, как говорит наша математичка, все почувствуют свою вину… Прикрепят кого-нибудь из общественников. Устроят на завод… Так будет, если мы поведем себя правильно. П р а в и л ь н о!» Василий Петрович с тревогой посмотрел на Лялю Матвеевну: «Возьмет да скажет на суде, поддавшись настроению, что просмотрели ребят, или начнет сложничать, что еще хуже. Пойдут комиссии одна за одной. Работать не дадут… Эх, Ляля Матвеевна, сколько же можно быть ребенком?..»
Обломок кирпича с треском проломил лобовое стекло, и от черной пробоины, словно ноги гигантского паука, обхватившего кабину, разбежались извилистые трещины, и весь кузов загудел, застонал под градом ударов.
— Вас же будут судить, дурачье! — пригнувшись, выкрикнул шофер. Но его никто не слышал. Мальчишки били машину кирпичами до тех пор, пока вспышка бешеного гнева не угасла; опомнившись, они расхватали портфели и разбежались.
— Красота! — стряхнув с пиджака красные коричневые крошки, шофер, словно любуясь, осмотрел изуродованную машину; в состоянии нервного подъема (сказывалась только что пережитая опасность) он, похлопывая ладонью по капоту, заглянул в пустые глазницы фар. — Красота! — открыл дверцу кабины и рукавом аккуратно смел с сиденья осколки стекла.
— Полезай! — мужчина с рассеченной бровью угрюмо подтолкнул Толю Никишина к кабине; тяжело опустился рядом с ним на потертое сиденье и поставил винтовку между ног.
— Я с ним!..
Шофер обернулся на голос — с мальчишеским вызовом, уперев руки в бока, перед ним стоял Саша Батов, вывалявшийся в пыли, с грязными разводами на лице; к его коленке прилипла картофельная очистка.
— Места нету, а то бы взяли! — еще не остывший, жестко обронил шофер; щуплый, сутулый, он был похож на высохший стручок гороха; его рука все еще напряженно сжимала заводную ручку; подросток, еле стоявший на ногах, был неопасен, и, как бывает с победителями, понимающими, что одержали неравную, почти пустяковую победу, шофер устыдился ее и, стараясь оправдаться, выговорил Саше:
— Мы тут по вызову. Они же малышню могут покусать. Соображать надо!
Саша, покачиваясь, молчал и смотрел не на шофера, а куда-то сквозь него.
— Вон уехали, а собак побросали! — мрачно сказал из кабины мужчина и дулом винтовки показал на возвышавшиеся невдалеке серые коробки новых девятиэтажных домов. — Тоже мне, хозяева!.. А мы что? Мы на службе, понимать надо, дурачье!
— Я с ним, — тихо повторил Саша.
И это его упрямство, становившееся прямым укором, обозлило шофера; он швырнул заводную ручку в кабину и подумал, что не будь «таких», день бы у него прошел совсем гладко, сейчас бы он стоял уже в очереди в столовой, а потом бы заскочил к знакомому скорняку, покупавшему собачьи шкурки по сходной цене, поскольку даже шапки из кролика стали дефицитом.
— Я… — только Саша открыл рот, как шофер грубо отрезал:
— Тебе сказали: некуда! — И, поддаваясь приступу желчи, он широким жестом показал на зияющую дверцу в середине кузова: — Раз уж тебе так охота, полезай…
Саше показалось, что в ноздри впился приторно-сладкий запах остывающих трупов, которыми была набита машина; от ужаса и отвращения у него закружилась голова, мучительные спазмы сдавили горло, и его стошнило.
— Тьфу, недоносок! — гадливо сплюнул шофер и, вскочив в кабину, ружейно хлопнул помятой дверцей.
Едва машина тронулась, Саша, шатаясь, побежал за ней.
— …По-моему, их неучастие в общественной жизни, если мы тонко укажем на это, — слегка порозовевшая от волнения, говорила Людмила Михайловна, — суд может учесть даже как смягчающее обстоятельство. А в остальном я согласна с Арнольдом Борисовичем.
— Как хотите, но если такое решение будет принято, я свое мнение изложу письменно. После суда пойдут комиссии, они этим заинтересуются. — Последнее Анна Денисовна сказала только для директора.
— А что нового скажете вы о Батове и Никишине? — осторожно поинтересовался Василий Петрович.
Учительница математики проработала в школе больше двадцати лет. Ей несколько раз предлагали место завуча и даже директора в соседней школе. «Я — математик, а уж если пошла бы в директора, то лучше на какую-нибудь маленькую фабрику. Там за выполнение плана хоть премию дают!» — обычно с шуткой, но твердо отказывалась Анна Денисовна.
— Вы требуете новое, а я повторю то, что всем давно известно: ребят в обиду не дам! — Она вытащила из-под стола сумку с продуктами и поставила перед собой, давая тем самым понять, что игнорирует педсовет.
— Наши ученики совершили уголовное преступление, а мы строим из себя этаких покровителей. А что бы говорил каждый из нас, окажись он на месте того человека, которого Никишин ударил по лицу?! — Досадуя на прорвавшуюся горячность, Василий Петрович понизил голос: — Добренькими быть проще, чем справедливыми…
В учительской наступила тишина, и было отчетливо слышно, как трется о стекло ветка клена с уцелевшим, еще наполовину зеленым листком.
1984

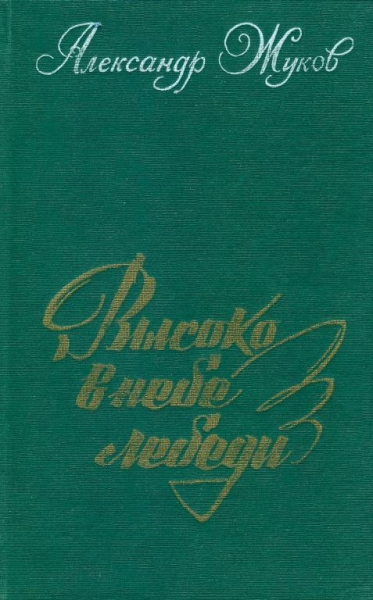

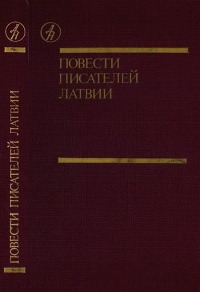
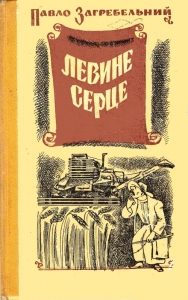
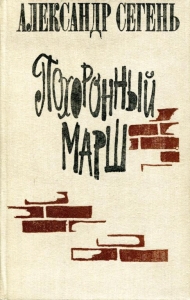

Комментарии к книге «Высоко в небе лебеди», Александр Иванович Жуков
Всего 0 комментариев