Юрий Домбровский
Новеллы о Шекспире
СМУГЛАЯ ЛЕДИ
Только глупец может считать стратфордского Шекспира автором "Гамлета" и "Короля
Лира"…
(Из одной старой книги о Шекспире)
По единогласному заключению ученых,
Гулливер не что иное, как миф, легенда,
созданная простым народом, в виду его
склонности к чудесному и необыкновенному.
Гулливер не существовал никогда, а тот, кто
утверждает обратное, лишается звания ученого,
навсегда изгоняется из академии и предается
проклятию в "Ежегоднике".
Леонид Андреев, "Смерть Гулливера".
Глава 1. ТЕАТР
I
Ричард Бербедж, играющий преступного короля, пришел со сцены, снял на ходу
железные рыцарские перчатки и с размаху бросил их на дряхлый скрипучий столик.
— … с этой вашей пьесой-то!.. — сказал он крепко и очень искренне.
Все, кто сидел в уборной, переглянулись, — таким Бербеджа видели впервые, что-что, а
спокойствие он не терял никогда. Длинный малый в женском платье покосился на него и
встал с табуретки, уступая место.
— Да сиди, сиди! — приказал ему Бербедж раздраженно и милостиво. — Сиди, я еще
Билла буду ждать! Ax, черт! Ну уж, я ему на этот раз скажу одно слово… Да, скажу.
Он прошел и сел к другому зеркалу, нахохлился, погрыз большой палец и вдруг
раздраженно фыркнул.
— "Сборы, сборы!" — передразнил он. — Вот и сборы — два пенса да медная пуговица на
дне кружки! А то еще "сборы"!
Опять все переглянулись. Хотя, верно, сборов не было, но все знали — Бербедж
сердится все-таки не за это. Сборы-то сборами, а играть было тяжело и противно. Публика
слушала плохо, громко разговаривала, и раз чуть было не вспыхнула драка и пришлось на
добрых пять минут прекратить игру: в партере поймали воришку, и тот стал визжать и
вырываться. Поднялся шум. Но тут со сцены, где сидела чистая публика, вдруг поднялся
высокий молодой в голубом зимнем плаще с тремя золотыми леопардами и гаркнул
оскорбительно и громко:
— Эй, вы, милорды! Висельная дичь!
Ему ответили руганью, хохотом и свистом, кто-то даже запустил моченым яблоком, но
молодец был тоже не промах, он встал — а был он высок и хорошо сложен — молча обнажил
до половины шпагу, потом вытянул руку, сжал кулак и показал его партеру.
— Гы-ы! — длинно было засмеялся какой-то дурак, но в партере поняли и сразу же
замолкли. Тут пахло серьезной дракой, а то, пожалуй, и кровопролитием.
Шум замолк, и пьеса продолжалась, но Бербеджу-то все это было очень неприятно, он
играл плохо, с накладками, и чувствовал, что и зрители понимают, что он не в себе, а
мучительнее этого состояния для него вообще ничего не было. Теперь он сидел красный
от стыда, раздевался и был так зол, что вообще никого бы не хотел видеть: ни приятелей, ни театр, ни эту темную, скверно обставленную уборную, где все шатается и скрипит, ибо
все здесь сделано на скорую руку, — он сам был столяром и сыном столяра и в этих вещах
толк понимал. Кроме того, было еще и холодновато, со сцены через колючие доски дуло
так, что шевелились дешевые, реденькие занавески. Бербедж кончил раздеваться, встал и
тут в дверь вкатился пухленький, толстый человечек с очень румяным и ясным лицом.
— Уф, — сказал человечек и покачал головой, ведь еле-еле протискался. Его величеству
привет!
Он сам взял стул, сел на него верхом, вытащил платок и начал вытираться. Лицо было
потное и блестело.
— Еле-еле, — повторил он. — Там какого-то молодца потащили купать, говорят, что
кошелек срезал. А что это ваше величество не в духе?
Бербедж, когда увидел старика, сразу просветлел.
— Сплошной убыток, мистер Четль, — сказал он весело. — Это прибавка — одиннадцать
шиллингов на брата, кажется, все, что останется в кассе. Ведь это с ума сойти — играть
такую трудную пьесу, со столькими переодеваниями, за одиннадцать шиллингов на
человека. Где у него была только голова?
— У кого это? — спросил старик.
— Да все у него, у Билла. Понимаете, вчера приходят два каких-то джентльмена,
встречают Билла и спрашивают: "Что вы играете седьмого февраля?" Билл им отвечает:
"Ромео и Джульетту". — "Нет, играйте "Ричарда Второго". Билл говорит: "Это нам
невыгодно, сборы маленькие, пьеса уже давно не идет, половина зала пустая". А они
говорят: "Мы заплатим по одиннадцать шиллингов каждому участвующему". Ну, Билл и
настоял, чтобы отменили "Ромео". — Он вдруг опять помрачнел и выругался. — Знаете
почему? Нет! Меня-то не проведешь. Он там играет монаха. Роль-то маленькая, но у него
там строк сорок в самом конце, а он… Ну, в общем, ему теперь надо освобождаться
пораньше.
— О?! — покачал головой старичок, его глаза округлились от удовольствия. — Это какая
же? Неужели все та же?
— Ну! — ответил Бербедж с легкой улыбкой, снисходительной и чуть-чуть
высокомерной (старик заметил и это). — Нет, конечно. Там дело вполне конченое.
— Ах, значит, и сонеты не помогли? — глумливо спросил старик.
Бербедж ничего не ответил, только головой мотнул.
Так они, улыбаясь, смотрели в лицо друг друга, отлично понимая все и слегка
злорадствуя.
— В ее гнездышко залетает теперь большая птица, — сказал Бербедж очень отчетливо, -
ее милость завела себе такого пеликана, что он каждую ночь прилетает клевать до крови
ее сердце. Ее душа теперь наполнена до краев дарами его милости.
— Хотел бы я знать тогда, — сказал старик задумчиво, — что у леди называется душой и
куда она ее прячет на ночь?
Все, кто был в уборной, засмеялись.
— Вы уж скажете, мистер Четль, — махнул рукой Бербедж.
Зашел кассир — старик медлительный, сухой и сердитый.
Все обернулись к нему.
Он дошел до стола и со звоном грохнул на него медную кружку.
— Черт знает что такое! — сказал он. — Напакостили целую бочку да и перевернули ее
под конец. Такая вонь пошла по всему помещению! Велел курить можжевельник. Да куда
там! До сих пор не продохнешь.
— А почему перевернули бочку? — быстро спросил Четль.
— Вора купали, — сердито ответил старик и погремел кружкой: — Выручка-то, видите, а?
— Нет, Билл совсем сошел с ума! — решительно сказал Бербедж.
— Но к кому же он тогда бегает? — задумчиво спросил старик. — Чтобы Виллиам без
всякой причины потерпел убыток? Да никак я этому не поверю. Если он промахнулся, значит, было из-за чего. Было, было, мистер Бербедж. Будьте уверены, что было.
— Очевидно, что так, — сказал Бербедж.
— Если я говорю, что это так и есть, будьте уверены. Да, что-то делается с Биллом.
Помните, вы мне рассказывали, что он начал для вас новую пьесу? Ведь это было месяца
три назад, никак не меньше. И помните, вы говорили, что недели через две она уже
пойдет. Так где же она? А вот я действительно пишу трагедию и поставлю ее.
— А вы что-нибудь разве пишете сейчас? — спросил кассир. Он тоже имел долю в
театре, и его мучило, что сборы начали падать.
— Я-то пишу, — важно кивнул головой Четль, я-то, молодой человек, пишу! Не говорю
наверное, но очень скоро, возможно, что в этом месяце я окончу большую трагедию про
Вильгельма Завоевателя, и посмотрите, какие сборы она будет делать.
— Ну что ж, дай-то Бог! — мирно согласился Бербедж, которому очень хотелось, чтобы
Биллу натянули нос. — Вильгельм Завоеватель солиднее Ричарда. Во всяком случае,
пришел раньше его.
— Да, — подтвердил Четль. — Был солиднее и пришел раньше. Но только для того, чтобы
приобрести мою трагедию про этого несравненного героя, вам придется раскошелиться.
Это ведь не ваш дурной "Ричард", за которого и одиннадцать шиллингов высокая цена. Так
я прямо и скажу, когда мы встретимся с вашим Шейлоком.
— Ладно. Будет мех, будет и цена, — ответил Бербедж. — Я иду в "Сокол". Поищу Билла
хотя бы там. Не составите ли мне компанию?
II
В коридоре, узком и темноватом, их остановил мальчишка, бойкий, востроглазый
чертенок, один из тех, что держал лошадей у входа в театр, и сунул Бербеджу записку.
— От кого? — спросил Бербедж, не удивляясь.
Мальчишка только хмыкнул.
— О! — почтительно сказал Четль и даже отступил.
— А ну, держи фонарь, — приказал Бербедж мальчишке и стал читать.
Конечно, и Четль заглянул туда же.
— Кто тебе передал это? — спросил Бербедж, комкая записку в кулаке.
— Там… У входа… — неопределенно сказал мальчишка.
Бербедж повернулся к Четлю.
— Ну что же, раз зовут, надо идти, — сказал он с той чуть презрительной,
извиняющейся, но вместе с тем и покорной улыбкой, которую Четль в этих случаях давно
заметил у актеров первого положения. — Ну, я не прощаюсь с вами. Вы не выпьете и двух
кружек, как я приду.
— Мистер Ричард, кто вас зовет? — спросил строго Четль. — Неизвестный человек? Что
ему нужно от вас? Какие могут быть тут разговоры, коли вы его и знать не знаете? Почему
он подослал мальчишку, а не пришел сам?
— Ну! — сказал Бербедж и засмеялся. — Мало ли почему!
— Смотрите, смотрите, — пригрозил Четль. — Помните, как погиб Марло?
— Чепуха! — ответил Бербедж. — То Марло, а то я! Идите, я сейчас же догоню вас.
И он отошел с мальчишкой.
* * *
Двое стояли несколько поодаль от входа, в одном Бербедж узнал того молодца в плаще
с леопардами, которого он сегодня заметил в театре. Другой стоял спиной к ним,
прислонившись к столбу. Когда молодец увидел Бербеджа, он молча повернулся и пошел к
Темзе. Дошел до мостков и остановился. "Вот как?" — подумал Бербедж. Но время было
еще раннее, только что начало смеркаться, да и народ толпился повсюду, особенно около
мостков через большую сточную канаву, где стоял молодец. "А, да что там!" — подумал
Бербедж и пошел. Как только молодец в голубом плаще отошел, тот, что стоял спиной, повернулся и посмотрел на Бербеджа. Это был юноша среднего роста, но очень тонкий и
хрупкий, порядком смуглолицый, с черными большими глазами, выражения которых
Бербедж никак не мог уловить, и чуть заметными черными усиками над верхней, немного
выдающейся вперед губой. На нем был длинный белый плащ, а сбоку торчала шпага.
Увидев его, Бербедж вздрогнул и остановился. Уж слишком непривычным было его лицо -
чуть ли не мальчишеское, очень свежее, но вместе с тем резко отличное чем-то от всех
мальчишеских и юношеских лиц. И вдруг Бербеджу показалось, что он где-то видел этого
юношу и даже знал его, пожалуй, но вот забыл. Так с десяток секунд они и смотрели друг
на друга. Потом юноша слегка улыбнулся — так, что чуть вздернулась верхняя, поросшая
черным пушком губа, показались круглые, мелкие и блестящие зубы. Резким движением
плеча поправил плащ и пошел к Бербеджу. Шел он твердо, отчетливо, чеканно. Но
Бербедж обратил внимание, что длинная шпага все-таки очень стесняет его движения, и
надел он ее не на тот бок. "Что за черт!" — подумал Бербедж. И тут юноша вдруг тихо, но
очень ясно сказал:
— Мистер Бербедж!
— А! — почти крикнул Бербедж и даже отступил.
— Ну-ну! — сказал юноша успокаивающе. — Не надо. И так на нас уже смотрят. Идемте-
ка.
Он предложил Бербеджу руку, они обогнули круглое здание театра и пошли вниз, к
городскому саду.
Было шумно и весело в этом саду. Какой-то пьяный матрос, широколобый,
кривоногий, обветренный, как черт, с толстой рассеченной губой, рыча, дразнил ручного
медведя. Зверь уже вставал на дыбы, обхватывал голову лапами и яростно рычал.
Несколько гуляющих девок, в особенности одна — маленькая, краснощекая, под хохот
и восторженные визги ребятишек кричала что-то обидное высокому нескладному парню, который — поскорей, поскорей от греха подальше! — хрустя, топал по замерзшим лужам и
все никак не мог дождаться, когда же он зайдет за угол.
— Так значит, вы не сразу узнали меня? — спросил юноша.
— Я еще до сих пор не приду в себя, — ошалело ответил Бербедж. Он уже понимал кое-
что. — Если бы не ваш голос… — Они все ускоряли и ускоряли шаг. — Я думал, конечно, что
вы можете прийти, искал вас во время спектакля.
— Вот видите, я и пришла, — ответил юноша.
Они перешли дряхлые мостики, покрытые бурым льдом, и теперь пересекали
площадь. Молодец в леопардах вдруг оказался каким-то образом впереди. Бербедж
нахмурил брови, соображая: что-то сулит ему это приключение? И что оно вообще значит?
Любовь? Деньги? И вдруг вспомнил: а Четль-то?! Он оглянулся.
Толстяк шел по другой стороне улицы, пыхтел, но от них не отставал. И Бербедж
понял: нет, не отвязаться! Там, где пахло происшествием, скандалом или хорошей, жирной
сплетней, где случалось что-нибудь такое, о чем можно было поговорить, там и был
толстый, добрый, умный и суетливый Четль. И сердиться на него за это было невозможно!
Он ведь не купался в грязи — он был просто богом этой грязи!
— Одну минуточку, — сказал Бербедж- Он ведь так от нас никогда не отвяжется.
Разрешите, я ему скажу, что сегодня…
— Да нет, нет, — удержал его юноша. — Зачем же? Я вас сейчас же отпущу. Пусть он вас
обождет где-нибудь. Вы куда с ним шли?
— В "Сокол".
— Ну и мы идем туда же. Скажите ему, пусть через час он ждет нас в яблочной комнате.
III
— Дорогой мистер Четль, — сказал Бербедж. — Вы меня извините, что я заставил вас
бежать, это очень опасно в ваши лета и при вашей комплекции, но я хочу сказать: вы
гнались за мной не зря, сегодня мы с вами все-таки выпьем несколько кружек. Я
задержусь очень ненадолго, но вы уж мне, пожалуйста, не мешайте. Дело-то в том… — Он
хотел соврать что-нибудь, но увидел красное лицо Четля, его круглые глаза и крепко
сомкнутые, недобрые теперь губы, и сбился на какую-то чепуху.
Четль молча, сурово и взыскующе смотрел ему в лицо.
— Я боюсь за вас, мистер Бербедж, — сказал он. — Я ваш друг, и вот я боюсь. Что это за
приключение? Куда они вас тащат? Почему один с вами, а другой забежал вперед? Мистер
Бербедж, смотрите, — кого любят женщины, того не любят мужчины. Вспомните Марло!
— Да нет же, нет, — тоскливо сказал Бербедж, какой еще там Марло? Меня
приглашают… Ну, одним словом, ждите меня через полчаса в том же трактире. Мы тоже
идем в "Сокол".
— И Марло тоже зарезали в трактире. Вот так же, зазвали и потом зарезали, — сурово
сказал Четль. — Мистер Бербедж, вы хоть знаете, кто это такие? И зачем они вас вызывают?
Вы сказали — через полчаса, а вот я не знаю, что с вами будет через полчаса.
И Бербедж понял — Четля так просто с рук не сбудешь.
— Послушайте, это… — Бербедж воровато оглянулся. Его спутник стоял неподвижно и
прямо около дома. Его белый плащ особенно ярко выделялся на красной стене. — Это
женщина! — быстро шепнул он. — Только я не знаю, кто она такая. Понимаете? Она должна
мне что-то сказать. Так вот, через полчаса… — И он быстро пошел, предупреждая вопросы.
Она в самом деле повела его в "Сокол", то есть внизу-то был трактир и там уже
горланили, но наверху помещалось несколько приличных комнат, для истых господ, и они
сдавались приезжим.
Они поднялись по темной скрипучей лестнице.
Она шла так быстро и так уверенно взбегала на ступеньки, что он увидел — она
хорошо знает дорогу. Поднялись и пошли по коридору, тоже темному и узкому,
пропахшему бобами, прогорклым маслом и какими-то соленьями. Тут она подошла к
двери и трижды постучала. Дверь сейчас же чуть приоткрылась. Она нырнула в
образовавшуюся щель и втащила за руку Бербеджа.
Он вошел и огляделся.
Комната была почти пустая. Только два деревянных стула с очень высокими спинками
(их называли испанскими) да широкая, неуклюжая дубовая кровать с белым грязным
пологом. Молодец, что был раньше в голубом плаще, стоял около двери. Теперь плащ этот
он сбросил, и три распластанных, плоских леопарда с кудрявыми лапами выделялись
особенно ясно. Было темновато, но горели две свечи, и мерзкий желтый свет оседал на
всех предметах.
Она обернулась к молодцу.
— Ну-с, вот, — сказала она, — пойдешь, посидишь внизу, а через полчаса выйдешь во
двор и посмотришь на окна. Если занавески не будут подняты, зайдешь еще через полчаса.
Деньги у тебя остались?
— Остались, — сказал молодец и потянулся было за плащом.
— Плащ оставь, — сказала она. — Пусть думают, что ты остановился тут же.
Молодец вышел. Она подошла к стулу, сняла плащ, отстегнула шпагу.
— Садитесь, Ричард, будем разговаривать, — сказала она.
— Но я до сих пор не опомнюсь, миссис Фиттон, пробормотал он, понимая уже все.
— Мэри, — тихо поправила она, смотря неподвижно и прямо большими, черными, чуть
матовыми глазами.
Но он все еще колебался, нащупывая почву.
— Я до сих пор не понимаю, миссис Мэри, — сказал он искренне, разводя руками.
— Да нет, Мэри, просто Мэри, — повторила она так же тихо и настойчиво и вдруг
улыбнулась ему. От улыбки этой у него сразу зашлась голова, стало холодно и жарко и
неудобно стоять. Он взял ее за руку, выше локтя, — она не сопротивлялась — и голосом, неоднократно проверенным им в "Ромео", сказал:
— Я ведь три года ждал тебя, Мэри.
Она молчала.
Так они стояли и смотрели друг на друга. И все же было в ней что-то такое, что его
удерживало.
— Три года, — повторил он, скользя пальцами по ее руке, все выше и выше, к плечу и
шее.
— Врешь! — вдруг сказала она негромко, но очень хлестко. — Не смел ты меня ждать! Я
всегда прихожу к тем, кто меня не ждет.
"Сердится! Да ну же!" — быстро понял он и без всяких разговоров бурно обхватил ее и
поцеловал в лицо, — губы у нее были сжатые, неподатливые и холодные. Она молчала и не
двигалась в его руках. Он поцеловал ее еще раз, больно и крепко, и тут она ударила его по
щеке очень ловко и увесисто.
Он сразу же отскочил от нее на середину комнаты. Она усмехнулась, хотела что-то
сказать, но ничего не сказала и подняла обе руки и стала с затылка поправлять прическу.
Он стоял и молчал.
Она вдруг фыркнула, как разозленная кошка, и прошлась по комнате. Посмотрела-
посмотрела, подошла к стулу и, сошвырнув плащ, села верхом.
— Не особенно-то вы умелый, — сказала она сердито. — Друг вашего величества куда
более тонок в обращении.
— Счастливец! — вздохнул Бербедж. Он был серьезно растерян и не знал, что же ему
делать.
Она глядела на него жестко прищуренными, теперь совершенно ясными глазами. Она
сидела, он стоял, и так, снизу вверх, смотреть на него ей было неудобно. Кроме того, она
все-таки хорошо знала, что ей от него нужно, и теперь думала о том, что без шага с ее
стороны у них ничего не получится. Уж слишком робеет.
Тогда она пальцем поманила его к себе. Он подошел и неуверенно посмотрел на нее.
Она вынула тонкий батистовый платок, свернула его в жгутик и, прищурившись, провела
им по его щеке. Щека была чистая, но она все-таки проделала это еще раз. Когда ее рука с
длинными ногтями царапнула его кожу, он слегка вздрогнул. Тут она и вторую руку
положила ему на плечо так, чтобы большой палец прямо касался ямочки на горле. Он
продолжал смотреть на нее дико, но все-таки недоверчиво.
— Ну?! — Она наклонила голову набок. Тогда он решился наконец. Схватил и, сжимая, жестко поцеловал ее в горло.
Она слабо охнула, и тогда он понял, что все неожиданности позади. История идет к
обычному концу.
Словно теряя сознание, она откинула голову, слабо мотая ею так, что губы его
пришлись в ямочку на горле. Тут он почувствовал, что ноги у него подкашиваются,
слабеют, тело ее тяжелеет у него в руках. Схватил и потащил.
"Фрейлина королевы, — быстро и воровато подумалось ему. — И сама ведь пришла.
Комнату сама нашла". И вдруг вспомнил: "А Билл?" Но мысль эта была побочная, очень, очень случайная, и сейчас же с торжеством он подумал другое: "Да, Билл-то и поэт, и
друзья у него все вон какие, и за этой леди он гоняется уже около пяти лет, и стихов
исписал целую тетрадь, а так ничего у него и не вышло. Я же — простой актер, и вот она -
моя". Он бормотал что-то несвязное, мало относящееся к обстоятельствам, но уже
подходил момент, когда и это бормотание было не нужно и должны были говорить только
руки. Тут она гибко развернулась, как пружина, и не легла, а села на кровать и поправила
волосы.
— Сумасшедший! — сказала она совершенно трезвым, ясным голосом. — Разве для этого
я вас звала сюда?
— А?.. — начал совершенно сбитый с толку Бербедж, но говорить ему было уже трудно, он задыхался и начинал понимать, что, пожалуй, Биллу действительно приходилось
несладко с этой черной змеей.
Она крепко, по-мужски, положила ему руки на плечи и сказала:
— Я вас позвала вот для чего: лучше всего, если вы завтра в театр не пойдете.
Он поглядел на нее. Она сидела неподвижно прямая, спокойная. Эта внезапная
перемена поразила его много больше, чем самое предложение не ходить завтра в театр. Он
даже не спросил ее: почему же, собственно, не ходить?
Она снова поправила волосы и встала.
— Играете-то вы хорошо, — сказала она с упреком, — много лучше Билла, но целуетесь…
— она не докончила.
— Тоже лучше? — быстро спросил Бербедж.
— Не знаю, посмотрим, — ответила она загадочно и так, что он опять тяжело двинулся к
ней, но она подняла руку, и он остановился.
— Только не сегодня, — сказала она. — А завтра я жду ваше величество ровно в десять
часов.
— Где? — спросил Бербедж.
— Здесь же. Огонь будет потушен, но вы постучитесь, и когда я спрошу: "Кто?" — вы
ответите: "Ричард".
— О! — восхищенно сказал Бербедж.
— И еще одна просьба к вашей милости: если вы увидите мистера Виллиама, то
передайте ему эту записку, но только наедине.
— Это уже неприятное поручение, — сказал Бербедж.
Она не расслышала. Она подошла к окну и отдернула занавеску.
— Желаю доброго пути вашему величеству.
IV
Уже доходило до драки. Уже кто-то вскочил на табуретку. Уже опрокинули жбан, и
рыжее пиво хлестало со стола. Уже хозяин бегал между столиками и орал: "Я не позволю!
Чтобы в моем заведении!.." Тогда кто-то развернулся и дал ему по затылку.
В это время он вошел, и никто его не заметил.
Он быстро огляделся.
Драка шла кругами. Поднимались самые дальние столики. Люди вставали, и кто сразу
нырял в круг, кто шел, чтобы посмотреть, что же там случилось. А впереди словно забил
фонтан; вообще уж плохо можно было разобрать, что же происходит? Лупят ли кого или
так безобразят? Только кто-то, там, в середине, надрываясь, орал: "Пусти, пусти! Тебе
говорят, пусти меня! Ах, ты так!" И наверное, бросился вперед головой, потому что толпа
шарахалась.
Бербедж подошел к толпе и остановился, соображая: то ли разыскивать Четля, то ли
сейчас же уйти? Он не любил таких происшествий. Ему столько раз в юности
приходилось видеть драки в зрительном зале, когда на сцену летели гнилые яйца, моченые
яблоки, обглоданные кости, что его всегда немного мутило, когда он видел, что кого-
нибудь бьют. Он подумал, что вот Шекспир и Четль не такие: где бы ни дрались, они
обязательно сунут свои носы. Так он стоял, раздумывая: уйти ли, остаться ли, и вдруг
действительно увидел Четля. Четль лез к нему через толпу, крича и махая руками. Лицо
его уже опять пылало.
— Бьют-то, бьют-то как! — сказал он восторженно, хватая Бербеджа за локоть. — Вы
посмотрите, как раздает! Эх, и здоровый же матрос. Он сразу рыжему свернул всю скулу.
Тот только ножками дрыгнул. Вот посмотрите, я вам покажу, как…
— Да что такое? — с неудовольствием сказал Бербедж. — Куда вы меня поволокли?
Идемте-ка отсюда. Еще и нас с вами побьют.
— Да идемте, идемте, я вон там сижу, — взволновался Четль.
Они уселись.
— Так представляете, он его прямо через стол, на вытянутую руку. Вот так, в
подбородок! Кулаком. Раз! Раз! Раз! И спрашивает его: "Мало?" А в это время
поднимается какой-то с завязанным глазом, я думаю, его товарищ, да и говорит:
"Джентльмены, держите этого фальшивомонетчика!" А тот ему: "Молчи, королевский
шпион! Чего ты лезешь к актерам?!" А этот: "Это я шпион? Какой я шпион? Чей я шпион?
Откуда я шпион? Ты мне деньги платил? А?" Матрос ему: "Я вот тебе сейчас заплачу".
Раз! Раз! Раз! в морду. "Мало? Еще надо?" А Виллиам встает и говорит…
— Стойте, стойте, — ошалело остановил его Бербедж. — Я ничего не понимаю. Виллиам-
то при чем?
Они уже сидели за столом, а Четль размахивал жареным угрем, обычной закуской
пьяниц.
— То есть как при чем? — удивился Четль. — Я же говорю вам: к Виллиаму привязался
этот рыжий…
— Так что же вы мне сразу… — ахнул Бербедж. Он грозно поднялся из-за стола,
нащупывая в кармане острый кривой кинжал, купленный у заезжего матроса.
— Куда вы? — рванул его за руку Четль.
— Билл! — крикнул Бербедж во всю свою могучую, звонкую глотку, покрывая шум все
растущего и восходящего скандала. — Держись, Билл, я сейчас же иду к тебе! — И, не
обращая больше внимания на сразу вспотевшего и притихшего Четля, бросился в толпу, как будто нырнул в нее — головой вперед.
V
Могучий, плотный гигант с густой каштановой бородой стоял на столе, а трое человек
норовили схватить его за ноги. Лицо уж у него было разбито, глаз заплыл, и кровь капала
даже с бороды, но в руках был нож, и он махал им молча и свирепо. Здесь не кричали.
Дрались по-деловому: тихо и сосредоточенно. Зато в другом углу, где находился второй
центр драки, — там орали уже во все горло: во-первых, орал хозяин, которого притиснули к
стене и не отпускали, затем закатывался толстый повар, которому мимоходом дали ногой
под живот и он теперь вертелся под столом и верещал; затем с теми двумя, с которыми
сцепился Виллиам, шел тоже очень крупный разговор. Виллиама хватали за ворот, а он
хлестко бил по рукам и говорил: "Уйди!" Надо было бы ему пустить в ход шпагу, но
обнажить ее было невозможно — негде.
— А я тебе говорю, что нет, ты пойдешь! — орал на Виллиама длинный, тонкий,
светлоглазый парень с острым, лисьим лицом, покрытым со всех сторон хитрыми
морщинками. — Пойдешь с нами, а там мы разберем, кто ты такой есть. Если ты
действительно дворянин…
— Уйди, — свирепо и тихо говорил Виллиам. Его длинное лицо вздрагивало при каждом
слове.
Бербедж подошел к молодцу, взял его за шиворот, рванул назад и приложил мордой о
стену. Тот завопил, но сразу же обернулся и вцепился ему в руку.
Глава 2. НОЧНОЙ РАЗГОВОР
Меня влечет к тебе размолвка
прежних дней.
Страданья прошлые и прошлые
печали…
(120-й сонет, перевод С. Маршака)
I
Они шли по улице. Лошадь вели сзади. Было уже совсем темно.
— Если бы не вы, — робко сказал Шекспир, — все это кончилось бы плохо для меня.
— Из-за чего же это все началось? — спросил юноша.
— Да все из-за чертовой постановки, — сердито ответил Шекспир.
— "Ричарда"? — спросил быстро юноша и даже остановился.
— Видите, какое дело. Сейчас пришел Четль и сразу же меня спрашивает: "Что
случилось? Почему не идет "Ромео и Джульетта"?" Я его спрашиваю: "А что?" Он
отвечает: "Я только что из театра. Сбор плохой, публики мало, актеры недовольны". Ну, знаете, как это всегда бывает, когда идет старая, штопаная-перештопаная пьеса. Опять
драка. Кого-то там чуть в помойной бочке не утопили. Неприятно всем, а больше всех
Ричарду. Вы знаете, Ричард ведь живет сценой. Если его плохо приняли, ему никаких
денег и не надо. Ну, я объясняю Четлю, что это не моя воля. "Ричард. Второй" был заказан.
Он и спрашивает: "Как заказан?" — "Да так, говорю, пришли двое известных мне
джентльменов и спрашивают: "Какой у вас бывает полный сбор?" — "Такой-то". — "Но ведь
не всегда такой?" — "Ну, конечно, не всегда! — говорю. — Если пьеса старая, на дуэли не
дерутся, никого не убивают и не казнят, так и половину не соберешь". — "Ну, а завтра как?"
— "А вот завтра, говорю, надеюсь на полный. Завтра идет "Ромео". Это пьеса доходная. Там
одних убитых пять человек". — "Так вот, — говорит один из джентльменов, — вы поставите
все-таки "Ричарда Второго", а до полного сбора мы вам доплатим". — "А зачем вам это
нужно?" — "А просто хотим посмотреть еще раз эту поучительную пьесу". — Он обернулся к
юноше: — Интересно ведь?
— Интересно, — ответил юноша. — "Поучительную"!
— Вот в том-то и дело! Признаться, я стал несколько в тупик. Тут один джентльмен
говорит мне: "Мы видим, что вы колеблетесь. Так вот, мистер Шекспир, здесь разговора
быть не может. Это воля королевы, вот перстень графа". И показывает мне кольцо с
печатью. "Ну что ж, — тут я только плечами пожал, — будет сделано, как приказывает
королева".
Они приближались к Темзе. Было совсем темно.
— Да-да, — сказал юноша, что-то обдумывая.
— Ну-с, ладно. Рассказываю я это Четлю, а он меня вдруг и спрашивает: "Но позвольте, позвольте, дорогой, ведь эта пьеса о свержении законного монарха. Чего же здесь
поучительного? Как королева могла пожелать видеть эту пьесу взамен "Ромео"? Для чего
ей это?" Смотрим мы друг на друга и молчим. Конечно, и мне приходит в голову такая
мысль. И вдруг Четль говорит: "Ладно. Положим, воля королевы, ну а кольцо-то чье?
Какого графа? Графа Эссекса, что ли? И не думаете ли вы…" Ну, вы понимаете, что я могу
ему на это ответить? Тогда он мне говорит: "А помните, вы как-то рассказывали мне, мистер Шекспир, что ваш покровитель прямо в лицо назвал ее величество кривым
скелетом, она ему дала пощечину, а он шпагу выхватил". И тут вот я смотрю: идет к нам, -
и черт его знает, откуда он взялся, — тот молодец, которого вы видели, и спрашивает: "Здесь
никто не сидит?" Я говорю: "Милости просим, место свободно". И толкаю Четля: "Молчи!
Дурак!" Куда! Он выпил и начинает мне рассказывать все то, что от меня же и слышал: и
про ирландские острова, и про взятие Эссексом Кадикса, и еще черт его знает про что. А
молодец сидит, стучит по столу, просит кружку и нас будто не слушает. Я вижу, Четль
совсем пьяный, встал, хочу уходить. Тут смотрю — с другой стороны подходит ко мне
молодец с леопардами и говорит мне…
Он вдруг спохватился и замолчал.
Так молча они прошли несколько шагов.
— Ну? — спросил юноша.
Через сгустившуюся темноту можно было только угадать, как неподвижно его лицо.
— Подходит слуга миссис Фиттон и сует мне записку, — сказал Шекспир, решившись.
— Ну? — повторил юноша.
— А там сказано: "Не приходите завтра в театр. Садитесь на лошадь и уезжайте куда-
нибудь из Лондона этак недели на две".
Сейчас они стояли друг перед другом.
— Недурно! — усмехнулся юноша.
— И вот, пока я читал записку…
— Понятно, — сказал юноша. — Тут он на вас и полез и устроил драку, чтобы отнять это
письмо, но…
Он вдруг с внезапным порывом схватил его за руку.
— Виллиам, Виллиам, — сказал он почти со слезами, — как же мне не сладко было с нею.
Ох, как не сладко! Чего я только не вытерпел за то, что увел ее от вас.
Тут они подошли к знаменитому, хотя и единственному, мосту через Темзу.
II
… Я взял тебя объедком
С тарелки Цезаря, и ты была
К тому еще надкушена Помпеем,
Не говоря о множестве часов,
Неведомых молве, когда ты вряд ли
Скучала. Я уверен, что на слух
Тебе знакомо слово "воздержанье",
Но в жизни неизвестна эта вещь.
("Антоний и Клеопатра", перевод Б. Л. Пастернака)
Комната Пембрука находилась на втором этаже. Было еще довольно светло, и поэтому
свечи зажигать они не стали. Или, может быть, потому, что каждый понимал — лучше не
глядеть в лицо друг другу.
— А где альбом? — спросил Шекспир, привычно осматривая стол. — Он всегда лежал
здесь.
— Нету, — ответил Пембрук, — ей подарил. — И Шекспир почувствовал, как мучительно и
туго он улыбается. — Она знала, что это ваш подарок, и не давала мне покоя.
Помолчали.
— Она часто бывала здесь? — спросил Шекспир, прошел, сел в кресло и посмотрел на
Пембрука. Тот ходил по комнате все быстрее и быстрее, поднимал руку и приглаживал
волосы. Ах, этот знакомый, милый жест! Он всегда так ходил и так приглаживал волосы, когда волновался.
Шекспир сидел, постукивая пальцами по столу.
— Так вот как это получается, — сказал Шекспир.
Пембрук ничего не ответил.
"Альбом унесла. Не хотела, чтобы он тут оставался, а встречаться не пожелала… а
теперь — "Уезжайте из Лондона". Сама не пошла. Просто послала: "Уезжайте". Почему?
Впрочем, ясно, пожалуй, почему". Он опять поднял глаза на Пембрука. Тот придвинул стул
и сел.
Помолчали с минуту.
— Так, значит, она часто бывает тут? — громко спросил Шекспир.
И Пембрука прорвало. Он заговорил так, что даже губы у него задрожали:
— Билл, не сердитесь на меня. Я уж тут ничего не мог сделать. Вы сами виноваты, надо
было вам вмешаться раньше, а вы все видели и молчали. Помните, вы только раз меня
спросили: "Вам ничего не нужно сказать мне?" Но вы понимаете, тогда уже было поздно -
поздно спрашивать! Она узнала об этом…
— От вас? — спросил отчетливо Шекспир.
— Ну, от меня, конечно, — мучительно поморщился Пембрук. — Разве мог я тогда что-
нибудь скрыть от нее? Она сказала: "Ладно". И на другой день сама сделала так, чтобы эта
злосчастная записка попала в руки к вам. Я ее спросил: "Зачем это вам понадобилось?" — а
она ответила мне: "Поймите, что я не хочу больше притворяться. Мне это надоело. От кого
вы меня прячете? От какого-то балаганного шута! Нет, вы просто трус!" Я ответил ей: "Но
вы же, Мэри, три года прожили с ним!" Она тогда рассмеялась мне прямо в лицо и
презрительно сказала: "Да вы совсем с ума сошли!"
— И вы поверили ей?
— Клянусь, поверил, — сказал Пембрук, — теперь сам удивляюсь себе.
Очень долго, что-то несколько десятков секунд, они неподвижно смотрели в глаза
друг друга и молчали. Первым опустил голову Пембрук. Ему было очень не по себе. Он и
не знал, что ему так трудно рассказывать о ней.
— Черт знает, что за женщина! — сказал он тускло.
— Ну, дальше, — сказал Шекспир. Поднял со стола бронзовый шар, подбросил его и
поймал.
— Я прикажу зажечь свет, — сказал Пембрук и вышел.
Шекспир продолжал сидеть за столом так же неподвижно, как и раньше. Поднял
длинное гусиное перо, попробовал конец его на пальце и стал расщеплять ножом.
Откинувшись на спинку кресла, он издали наблюдал за своими пальцами: красивыми и
длинными, из которых один был украшен крупным, грубым кольцом. Вернулся Пембрук, за ним шел слуга со свечами, бутылкой и двумя бокалами. Шекспир поднял глаза на
Пембрука, продолжая расщеплять перо.
— Вот, — сказал Пембрук, неловко беря из рук слуги поднос и ставя его на стол. — Сейчас
попробуем. Открой и иди.
Слуга выхватил глиняную пробку и вышел.
Пембрук до краев налил два тяжелых серебряных бокала и один протянул Шекспиру.
— Как раньше, — сказал он, улыбаясь. — Да?
Шекспир отпил большой глоток и поставил бокал на стол.
— Она вас сильно мучила? — спросил он спокойно.
Пембрук осушил свой бокал разом, залпом, так что даже несколько багровых капель
пролилось на его воротник. На стол бокал не поставил, а забыв о нем, продолжал держать
в руке.
— Сильно ли мучила? — спросил он, вдумываясь. — Вы, Билл, и понятия не имеете, что
это за женщина. — Он поставил бокал на стол. — Вы знаете, она приходила ко мне одетая
мужчиной.
— Что вы? — спокойно удивился Шекспир.
— Да, да, кажется невероятным, но это так. Короткое платье, длинный белый плащ на
нем, перо на шляпе — и пожалуйста! Чем не юноша? И знаете, она совершенно не
смущалась. Раз она повстречалась с моей матерью и раскланялась. Только вот шпагу
носить она не умеет, — прибавил он с недоброй и горькой усмешкой. — Путается в ней и
запинается. Она ведь по характеру мало все-таки походит на мужчину.
— Что же, и долго ходила она к вам? — спросил Шекспир.
— Ну! — взмахнул рукой Пембрук. — Разве есть у нее что-нибудь длительное? Нет,
конечно. Потом она вдруг решила, что ей неудобно встречаться со мной здесь: дескать, моя мать как-то не так на нее посмотрела при встрече. Заметьте, она сначала заставила
меня поссориться с матерью, а потом уже потребовала, чтобы я приходил к ней на
свидания в "Сокол". Она там сняла комнату на имя своего… ну, знаете, этого длинного
парня, который сегодня передал вам записку. Она вырвала его из долговой тюрьмы, и
теперь он привязался к ней, как собака. Вот мы и встречались в каком-то вороньем гнезде, под самым чердаком. Там стояла такая грязная, мерзкая кровать, что… — его передернуло. -
И ведь всегда она была такой чистоплотной! — крикнул он с настоящей болью.
Опять оба помолчали.
— Вот почему я и попал сегодня в этот вертеп, с конфузливой улыбкой робко сказал
Пембрук. Ему было, видимо, очень неудобно перед своим другом, который, конечно, уже
понял все.
Не смотря на него. Шекспир залпом выпил все, что осталось в бокале, и поставил его.
Напиться, что ли?
— Налейте! — приказал он Пембруку.
Пембрук вылил ему остатки, сам он уже порядком захмелел. Сидел развалившись,
свесив руки через спинку кресла.
— Вот тут и началось все, — сказал он. — Сначала она приходила аккуратно и была так
нежна и предупредительна, что я целый месяц ничего не знал и не помнил, — только она!
Вы знаете, какая она бывает, когда захочет отравить? А потом вдруг стала запаздывать: сначала ненадолго, а потом на час, на два. Я сидел и ждал ее в этом вороньем гнезде, а
когда сказал ей, что это мне надоело, она только рассмеялась мне в лицо. "А я зашла
только на минутку — предупредить, что не могу быть сегодня". — "Отчего?" — "А ее
величество сегодня делает новую прическу, и я должна присутствовать". Вы понимаете, она и не скрывала, что лжет. Тогда я взял ее за руки. "Слушайте, — сказал я, — не забывайте, Мэри, что я вам не клоун. Со мной это не выйдет. Понимаете, никак не выйдет…" Вы же
знаете эту ее проклятую улыбочку, когда только чуть-чуть, при сомкнутых губах, в уголках
губ показываются острые зубки… "А что вы сделаете, если я вас обманываю? А вот я
люблю не вас, а того клоуна. Убьете меня?" Я рассмеялся ей в лицо и сказал: "На кой
дьявол мне это нужно? Я выгоню вас отсюда метлой, как шлюху, вот и все". Она мне
ответила: "А вы не посмеете". — "Ох, это я-то не посмею? А хотел бы я знать, почему?" А
она спокойно: "Мой слуга вас проколет шпагой, и вы вытечете, как помойная бочка". Вы
знаете, Виллиам, в такие минуты мне трудно отвечать за себя. И вот я размахнулся… — Он
мучился и мотал головой. Его тошнило всей этой мерзостью, которая, как муть,
поднималась из глубины его памяти. — Понимаете, я нарочно хотел, чтобы это вышло как-
нибудь погрубее, попохабнее, знаете, как там, внизу, когда сцепятся пьяные. Ну да вы ведь
видели сегодня это! Но она стояла и так же прямо смеялась мне в лицо. Вы понимаете, она
смеялась теперь уже полным ртом своих проклятых, мелких зубов. — Окончательно хмелея
и сходя с ума, он ударил кулаком по столу так, что стол загудел, а бокалы упали. — Она!
Смеялась! Дьявол! Она! По-прежнему смеялась! Ой, Виллиам, вы думаете, что это легко, если я дошел до того, что побежал подсматривать, кого она притащит в это воронье
гнездо? — Его опять передернуло от отвращения. — На эту гнусную кровать с грязным
пологом! — крикнул он плача.
— Ну и что же? — спросил Шекспир, помолчав.
— Я теперь уже отошел от нее, — сказал Пембрук, медленно трезвея, — ну а тогда, когда
она сказала мне, что любит только вас, а я ей нужен для того, чтобы… Ну, она мне тут, в
общем, сказала еще кое-что хорошее. И рассорила-то она, по ее словам, меня с вами для
того, чтобы мы не повстречались в постели. А если я не верю ей, сказала она, то могу хотя
бы у вас справиться. Но ведь это неправда?
— Неправда! — ответил Шекспир.
— Ну конечно, — вздохнул с облегчением Пембрук. — Я ведь тоже знаю, что неправда. Но
вы представляете, она так тогда мне закружила голову, что я даже в это верил. Шел в этот
трактир и смотрел, нет ли где и вас поблизости. Господи, я верил во все! Как я добрался в
этот день до дому, я и не знаю. Ну а потом мы быстро помирились и все пошло по-
прежнему. Но она уже не скрывала от меня, что у нее есть еще кто-то. Я даже понял, что
этот молодец из вашего театра.
— Почему вы так думаете? — спросил Шекспир не сразу.
— Она стала часто бегать в "Глобус" в этом костюме и маске. Сидит и смотрит — на
кого? Кто же это знает?.. Но вот вы увидите, что это какой-нибудь ваш клоун. Что-нибудь
вроде этой наглой твари Кемпа, у которого хватит же наглости посвятить ей книгу о том, как он отплясывает джигу. Поверьте, раз он мог протанцевать десять часов подряд, а его
грязные штаны в память этого прибиты в какой-то городской ратуше, — ну! он имеет все
права на место под этим пологом! Сегодня она и ходила к нему, но тут мы с вами
помешали.
— У нее был ребенок от вас? — вдруг спросил Шекспир.
— Да! — кивнул головой Пембрук. — Мертвый мальчик. Она зарыла его, как ведьма, где-
то в огороде. Прямо в тряпках, — он грубо усмехнулся. — Разве у нее могут рождаться какие-
нибудь дети, кроме мертвых?
— Кроме мальчиков, — сказал Шекспир.
— Кроме мертвых мальчиков, — поправился Пембрук.
Помолчали.
— А что за история случилась на вашем обручении? — спросил Шекспир, слегка
морщась, как от противной зубной боли. — Она надерзила королеве?
— Ах, Виллиам, Виллиам, разве станет она дерзить королеве? Нет, конечно. Но дело
было так: после рождения этого мертвого мальчика, — его опять передернуло, — она вдруг
стала настаивать, чтобы я на ней женился. Она хотела второй раз выйти замуж, Виллиам.
Второй! Ибо в первый-то раз она вышла за какого-то голоштанного капитана, когда ей еще
не было шестнадцати лет. Черт знает, зачем это ей было нужно! Но вы воображаете, каким
морским штучкам он ее научил?
Так вот, она потребовала, чтобы я на ней женился. Тут я ей сказал прямо: "Нет!" И вы
представляете, тогда она стала униженно просить меня, чтобы я ее не бросил. Ох,
Виллиам, как она плакала, как молила, как валялась в ногах! И доводы-то у нее пошли
самые бабьи, — мол, она меня любит, не переживет, если будет знать, что я живу с другой, она убьет себя, меня, подсыпет отравы моей невесте, и, наконец, даже так: она фрейлина
королевы и не позволит, чтобы позорили ее имя. Она упадет к ногам ее величества, расскажет все и будет требовать… ой. Боже! Да чего только она не наговорила мне тут! Но
я ее уже почти ненавидел. — Он остановился. — Как это вы писали?
Но лилия гнилая пахнет хуже,
Чем сорная трава в навозной луже.
Шекспир сидел, слегка постукивая пальцами по столу, и улыбался. Ему было все
невыносимее слушать Пембрука.
— Ну-ну, — сказал он, улыбаясь.
— Ну, одним словом, я ей все-таки сказал: "Нет!" Я дал ей возможность уговаривать, приводить все доводы, молить, я внимательно слушал ее до конца, а потом отвечал: "Нет!
Нет, нет, нет!" Она ходила по дворцу с красными глазами и шаталась. Говорили, что она
начала пить даже. Все это как-то дошло до королевы. А может быть, она действительно
пала ей в ноги. Во всяком случае ее величество передала моему отцу, что ей все это
надоело и, если я не женюсь, она посадит меня в Тауэр. Что же, это прямой приказ! Тогда
я пригласил на свое обручение и эту цыганку. И она пришла. Ей предложили руководить
танцами, она согласилась. И вот у нее хватило смелости подойти в маске к королеве, которая с ней не разговаривала вообще, и пригласить ее на танец. "Кто вы такая?" -
спросила королева. Она стояла перед ней, смотрела ей в глаза и улыбалась. Ох, это был
поединок змеи со скорпионом. "Любовь", — ответила она королеве. Та, конечно, узнала ее
по голосу. Ведь такого густого, грудного голоса, как у нее, нет ни у кого. "Любовь коварна,
— ответила королева. — Это фальшивая любовь!" А она стояла и смотрела на нее. Ведь кто, как не она, знает, что королева не снимает парика и вечно размалевана, как масленичное
чучело.
— Ну, что же? — спросил Шекспир.
— Королева сначала нахмурилась, а потом, видимо, решила не связываться. Встала и
пошла танцевать.
— Ох! — восхищенно воскликнул Шекспир и вскочил с места. — Так и пошла?
Рассердилась, но все-таки пошла? А? Вот женщина! Что перед ней королева!
— Да, кстати, о королеве, Виллиам, — хмуро сказал Пембрук. — Тут она не солгала вам.
Лучше всего, если вы завтра уедете из Лондона.
— Да? — спросил Шекспир. — Значит, это все-таки правда?
Пембрук слегка пожал одним плечом.
— Черт его знает, что думает выкинуть Эссекс. Сейчас вот он заперся со своими
приспешниками, все они пьют, шумят, плачут над ним, клянутся умереть, а он обезумел от
страха и гордости и клянется, что если ему не возвратят откуп на сладкие вина, то
королева вспомнит его. Ну, а королеве, между нами говоря, есть что вспомнить.
Они поглядели друг другу в глаза.
Первым опустил глаза Шекспир. Он никогда не любил королеву. Но королева
королевой, а когда ругали графа, ему было все-таки очень неприятно.
— Да, — повторил Пембрук со злым наслаждением, — этой девственнице есть что
вспомнить. Такого неразборчивого и старательного любовника ее величеству в шестьдесят
восемь лет уже не найти. А он был куда как прыток на всякие фокусы! Но и графу бы, между нами, не следовало забывать, чья она дочка. Недаром папаша ее казнил двух своих
жен, вот до сих пор показывает топор, под которым отлетели их головки. А чем же
любовник хуже жены?
Красивое лицо Пембрука передернулось. Он ненавидел королеву тяжелой, брезгливой
мужской ненавистью, едва ли не больше, чем самого Эссекса, хотя и Эссекса-то ненавидел
только потому, что тот норовил на его место.
— Ее величество как-то уж крикнула ему: "Ступай и удавись!" А королева знает, что
говорит.
— Да, — сказал Шекспир, — да, так вот какие, значит, дела!
— Лошадь-то у вас есть? — деловито спросил Пембрук. — Если нет, возьмите у меня.
— Не в том дело, — ответил Шекспир, — но стоит ли мне уезжать? Как по-вашему,
опасность действительно велика?
— Да кто его знает. Наверное, нет, — ответил Пембрук, добросовестно подумав. — Уж
слишком они много орут. Об этом уже знает весь город. Потом, при чем тут вы? Только вот
то, что вы поставили эту трагедию.
— Но ведь мне заказали ее поставить, — напомнил Шекспир.
— Ну, что вам ее заказали, об этом спрашивать никто не будет. Вы ее поставили — вот
что важно.
— Нет, нет, я никуда не поеду, — сказал Шекспир решительно. — От кого мне бежать?
Зачем? И разве мне есть чего бояться? Нет, я останусь, конечно.
— Хорошо, — сказал Пембрук, — может быть, это и действительно умнее всего, но только
вот одно прошу вас: ночуйте вы сегодня у меня. Мало ли что случится, если попадетесь
им под горячую руку.
— Ну а что будет тогда? — спросил вдруг очень прямо Шекспир.
Пембрук опять пожал плечами.
— Да кто же знает это? Да и вообще ничего, наверное, не будет. Его светлость размяк, как сухарь в похлебке, и ни на что больше не способен.
— А вы знаете, — вдруг совершенно не в связи с разговором сказал Шекспир и встал, -
ведь она все-таки не солгала вам: я действительно никогда не жил с нею.
Глава 3. ГРАФ ЭССЕКС
I
Когда он вышел от Пембрука, была уже ночь, редкая лондонская ночь, полная звезд, лунного света и скользящего тонкого тумана над рекой. Шекспир шел быстро, но не
намного все-таки быстрее, чем обычно. И по привычке всех высоких прямых людей,
голову держал так высоко и прямо, что со стороны казалось — он идет и пристально
всматривается в даль. Но всматриваться было не во что. После большой гулкой площади
пошли улочки, такие кривые, такие тесные, такие грязные, что казалось, все они уходят
под землю. Правда, они были еще застроены большими двухэтажными домами с острыми
железными крышами, но там, дальше, за их последней чертой, уже начиналась полная
темнота и ночь. Там были разбиты извозчичьи дворы, мелкие кабачки с очень
сомнительной и даже страшной репутацией, темные лачуги — все то, что он, к сожалению, слишком хорошо и подробно знал по памяти прошлых восьми лет. Но он не шел туда. Он
жил ближе к центральным улицам, в большом, хорошем доме, в светлой комнате с тремя
окнами и отнюдь не под чердаком. Он хорошо платил своей молодой хозяйке, дочери
французского парикмахера; хозяйка слегка заглядывалась на него, так что ж ему было
думать о норах и логовах, что находились уже за чертой человеческого обитания.
Мало думал он также и о том, что рассказал ему Пембрук. Все, что касается этой
черной змеи, он знал уже давно. Только не в том порядке. И это уже перестало его трогать.
Но Эссекс, Эссекс, вот что его мучило! Да! Теперь уж, пожалуй, ничего и не сделаешь.
Королеве нужна его голова. Что там ни говори, а должно быть страшная вещь
семидесятилетняя любовница. Чего она только не может потребовать! Тут он даже
замедлил шаг. Как ни проста была эта мысль, но вот так ощутимо, чувственно, почти
зримо, она пришла ему в голову впервые, и он сразу понял ее до конца. Да!
Семидесятилетняя любовница! Кто знает, что скрывается за темнотой этих слов? Он
всегда, еще с тех времен, когда работал мальчиком у отца на городских скотобойнях, был
особенно любопытен к этим черным провалам в душе человеческой. Но это и пугало его, как только он осознал в себе этот интерес. Ладно! К черту! Что еще думать об этом? Ну а
трагедия? Трагедия об убийстве дурного короля во имя короля хорошего. Зачем Эссекс
хотел, чтобы она шла именно в этот день? Он остановился на секунду, потому что вдруг
понял зачем.
А Пембрук знал это.
Знала это и она.
И тут он вдруг ясно понял, что она была в том же самом трактире, откуда после
свидания с ней и спустился к нему граф Пембрук. Это пришло к нему, как внезапное
озарение, и он сразу же почувствовал, что да, вот это и есть правда. И дальше он уже не
смог идти.
Он остановился около какого-то дома, стиснул кулак и, откинув голову, истово
посмотрел на зеленые звезды.
Потом очнулся, взял в руки молоток на бронзовой цепочке и несколько раз ударил в
эту дверь. Ударил в эту крепкую дубовую дверь раз, и два, и три, потому что он стоял, думал, смотрел на звезды около самых дверей своей квартиры.
* * *
Ему отворил мальчишка, которого он держал вместо прислуги. Поднимаясь вслед за
ним, еще на лестнице Виллиам услышал голоса и понял — это зачем-то пришел к нему
Четль, сидит, наверно, раскинувшись в кресле, потягивает пиво или белый херес,
наверное, еще и дымит вдобавок и что-то врет. Он зашел в комнату и увидел — так оно и
есть.
Четль, красный, распаренный, с распущенным поясом на огромном брюхе, как опара,
расползся по креслу и о чем-то рассказывал дочери парикмахера. Пот градом катился с его
теперь почти лиловатого лица, одна рука у него расслабленно свисала, в другой он держал
мощную кружку с элем и отхлебывал из нее. Шекспир сразу же прошел к столу. Хозяйка, увидев его, всплеснула руками и, клокоча от смеха, вместе с креслом повернулась к нему.
— Это такой шалун, насмешник, — начала она, и на щеках ее разом вспыхнули и
заиграли все ямочки. — Он рассказывает о Кемпе, что…
"Рассказывает о Кемпе, — значит, говорил о ней", — подумал Шекспир. Он молча, не
раздеваясь, прошел к столу, и хозяйка растерянно поднялась. Она никогда еще не видела
его таким бледным, помятым, недовольным чем-то.
— А я, дорогой Виллиам… — начал Четль, совершенно не смущаясь.
— Вы давно меня ждете здесь? — сухо спросил Шекспир.
— Да, с вечера, когда вы ушли с тем джентльменом.
Четль, конечно, хорошо знал, с кем именно, но почему-то говорил "с тем
джентльменом". Шекспир прошелся по комнате, потом подошел к стене, где торчал крюк
для одежды, и начал раздеваться. Хозяйка неслышно вышла.
Но Четля-то все это не смущало. Он по-прежнему полулежал в кресле и как будто бы
лениво, но на самом деле очень зорко следил за своим коллегой. Шекспир сел за стол и
поглядел на Четля.
— Пива хотите? — спросил Четль.
Шекспир молча покачал головой.
— Да, — сказал Четль, — а вы, оказывается, молодец. Вот уж никак не ожидал. Тот матрос
саданул прохвоста прямо через стол, а вы в ту же секунду опрокинули рыжего. Он только
ножками — брык! Только посуда загремела. Я и опомниться не успел, как его нет. Лежит
под столом. А на него-то, на него-то… — он вдруг заржал. — И стол, и жбан с пивом, и
закуска какая-то. Здорово, ей-Богу!
— Да, — сказал Шекспир неодобрительно. — А виноваты-то вы!
— Виноват-то, пожалуй, верно, я, — охотно согласился Четль. — Мне, пожалуй, не
следовало говорить об этом. Эти господа, оказывается, куда как прытки, а впрочем, -
прибавил он, подумав с секунду, — они, конечно, уж давно следили за вами. Если бы не этот
лорд, ну, тогда бы…
— А как туда попал Бербедж? — спросил Шекспир. — Он пришел искать меня? Что-
нибудь случилось в театре?
— Бербедж-то? Он со мной пришел. Мы вместе вышли из театра, но тут к нему
подошла ваша цыганка в штанах…
Он покосился на Шекспира.
Тот сидел неподвижно, опустив голову, и смотрел на крышку стола. Когда Четль
сказал ему: "Ваша цыганка", он приподнялся немного, вынул из хлебницы толстый
ломоть, оторвал от него изрядный кусок и стал раскатывать в пальцах. Слова Четля о
цыганке его никак не заинтересовали.
"Лисица! — подумал Четль. — Ишь как представляется. На сцене бы ты вот так играл! А
вот уйти и ничего не сказать тебе! Будешь потом кусать себе лапы, как медведь".
И он встал было, как ему опять представилась та картина, ради которой он и
прибежал сюда: вот два актера, оба буйные и подвыпившие, сталкиваются на одной
постели и начинают тузить друг друга. "Ты как попал сюда?" — "Нет, ты-то как?" Голая
цыганка орет, разнимает их, и все трое вопят и ругаются, а снизу сбегается прислуга, повара, извозчики, гости, постояльцы — и хо-хо-хо, ха-ха-ха, а они знай тузят друг друга в
морду и орут. Вот картина! Нет! От этого он никак не мог отказаться. Он мирно сказал:
— Только одну минуточку, Виллиам.
— Вы извините меня, — кротко обернулся к нему Шекспир, — я должен работать.
"Гамлет" ведь следующая постановка. А у меня ничего не получается!.. Вы уж извините, пожалуйста. — И он пошел к постели. — Вот хочу сегодня лечь пораньше, чтобы встать
ночью и работать…
— Так вот, — торжествующе и громко сказал Четль, глядя ему в спину. — После того как
вы ушли с тем джентльменом, я остался с Ричардом и он мне сказал, что ваша леди
назначила ему свидание на чердаке.
Шекспир вдруг оглянулся и взял одну из зажженных свечей.
— Он должен прийти завтра в десять часов и постучаться в среднюю дверь. Она
спросит: "Кто пришел?" Он должен ей ответить: "Ричард Второй". Тогда…
Он не кончил только потому, что Шекспира в комнате не было, и конец фразы повис в
воздухе. Сильно стуча башмаками, Шекспир быстро сбегал с лестницы, наверное, затем, чтобы отпереть ему дверь и потом уж не спускаться.
Четль растерянно огляделся.
Он никак не ожидал такого отношения к своему рассказу.
Комната была пуста.
На столе лежали хлебные шарики — шесть штук подряд.
Горела только одна свеча, и в комнате было темновато.
Тогда он поник головой. Дурак, дурак, старый осел! Сколько его ни учат, а он все еще
верит людям. Все хочет им добра. Действительно, надо было забираться ему в такую даль.
Нужен ему этот дурацкий разговор с пьяным комедиантом. А ну их, в самом деле! Нанялся
он, что ли, устраивать им их грязные дела? Да пропади они все пропадом!
Он хрюкнул и сердито сполз со стула.
II
Она была недовольна, и на это у нее были свои причины. Так она и стала одеваться.
Взяла длинный, специально сшитый для таких случаев, глухой зеленый плащ,
отороченный беличьим мехом (их было у нее несколько, ибо два раза надевать одну и ту
же одежду она опасалась), посмотрела на него и отложила. Позвала слугу, приказала
вычистить шпагу и подать ей. Подумала, что надо что-нибудь сделать для того, чтобы
шпага сидела удобнее, сняла перо с берета — оно уж было совсем изломлено, — поискала
новое, но не нашла. Она подумала, что надо бы спросить у матери, у нее, кажется, есть, и
подошла к окну. На ней уже были пышные, как баллоны, короткие французские штаны, которые только что входили в моду.
Быстро смеркалось. Очень быстро смеркалось.
Из низких труб валил прямой, белый, тоже невысокий дым. И уже по нему
чувствовалось, что очень холодно. Прошли две женщины; у одной была корзина, а другая, постарше, шла с ней рядом и держала ее не за руку, а за эту корзину. Обе о чем-то
оживленно разговаривали. И так смеялись, что ей даже стало завидно, — и она бы
посмеялась, да вот не с кем! Нет, с этим актером она, кажется, зря связалась. Он и слова-то
вовремя сказать не умеет, только краснеет и пыхтит, и руки у него дрожат. Сразу видно, что он за птица! Боже мой, какая все-таки тоска! Она уж хотела отойти от окна, как вдруг
услыхала топот копыт, и три всадника пронеслись под окном во весь опор. Первый держал
в руке свернутую в трубку грамоту, два других, грузно подпрыгивая, едва поспевали за
ним. Она видела, как всадник с грамотой поднял плетку и вытянул коня между ушей. Конь
был хороший, дорогой, не следовало его так хлестать, а он нахлестывал, потому что
спешил куда-то.
Куда? Зачем? И она сразу поняла, куда и зачем. Она почувствовала, как у нее заломило
под ногтями. Так вот оно, вот оно! Значит, началось! Значит, все-таки началось! Может
быть, даже будут палить из пушки. Настроение у нее сразу поднялось, и стало тепло и
весело, как от стакана хорошего вина. Три всадника скрылись за поворотом, и улица опять
пустовала. Опять шли редкие прохожие, очень обычные и скучные, но она-то знала -
началось! Началось! Это было так огромно, ужасно и вместе с тем так великолепно, что
она, забыв про все, стояла неподвижно около окна. Она страшно любила драки, сильные, кровавые происшествия, большие, громкие скандалы, все, на что можно было смотреть из
высоких окон ее дома. Она готова была забить в ладоши. Сейчас! Сейчас! Она стояла, прижимая к стеклу смуглое лицо.
Было все тихо, но она понимала — нет, чутье не обманывает ее.
Шла толпа, — там была площадь, откуда кричали, оттуда шли сюда. Около поворота
улицы и остановились всадники.
Первый взмахнул грамотой, но на него крикнули, кажется, кинули чем-то, тогда он
повернул лошадь и ускакал.
Она стояла, обеими руками держась за занавески. Дом был пуст, никто не мог ей
помешать досмотреть все до конца.
Шум приближался, приближался, рос в ширину, крепчал, дробился на голоса,
становился все более отчетливым и резким, можно было различить и то, что больше всех
кричит один, а другие вторят ему. Но что-то задерживало толпу, она бы давно должна была
залить все улицы, а ее все не было.
И вот она наконец появилась.
Один человек шел впереди.
Он был высок, строен, с короткой рыжеватой, красиво подстриженной бородкой.
У него было удлиненное, как южное яблоко, лицо. Одет он был во все черное. Поверх
одежды висела какая-то короткая, массивная, грубоватая цепь с очень крупными звеньями.
За ним шел другой, со шпагой наголо, и тут ее передернуло.
Этот хилый цыпленок, недоносок этот, скользкая, противная медузка эта всегда
выводила ее из себя своей женственной мягкостью, корректностью и печалью. То был
граф Рутленд, самый противный из всей этой ученой своры. Сейчас цыпленок храбрился.
Ведь он шел с обнаженной шпагой на королеву! Благообразное лицо его было красиво, печально, одухотворенно и почти спокойно. Взглянув на него, она получила полное
удовлетворение. Хорошо, хорошо, так и должен был кончить, недоносок!
За ним шел сам граф Эссекс.
Он ей тоже не нравился, но по крайней мере хоть был мужчиной.
Но сейчас он кривлялся, как бесноватый.
Длинные курчавые волосы спутались и сбились, почти совсем закрывая высокий,
умный лоб. Он кричал, сжимая кулаки, высоко поднимая голову, и тогда его светлая
борода торчала вверх.
А что он кричал, понять было невозможно. Она прислушалась и на миг перестала
различать толпу это всегда страшное для нее море лиц, голов и разнообразных уборов.
Наконец она услышала: оборачиваясь к толпе, Эссекс выкрикивал:
— И меня убить? Это меня убить? За то, что я спас Родину! Я окружен врагами! Мне
давали отравленное вино! Хорошо! Хорошо! Этот кубок уже у шерифа. Отрава мне,
победителю при Кадиксе?! Я верный слуга ее величества, сволочи! Народ любит меня! Я
люблю своих солдат! Боже мой, спаси королеву от льстецов и злодеев!
И он поднимал к небу длинные руки в черных перчатках.
Его крик, бурное отчаяние, несогласованность движений были ей нестерпимы еще
потому, что и за ним и впереди его шли вооруженные до зубов люди и среди них
сохранялась страшная тишина спокойной безнадежности.
Лошадей не было, все шли пешком. Их было не особенно много, но все-таки не менее
трехсот человек. А вот уже за ними, на большом отдалении, точно, валила толпа.
Она действительно заливала всю улицу так, что нигде не оставалось свободного
места, — медленная, спокойная, слитая в одну ровную массу, — толпа зевак и любопытных.
Эссекс (его теперь уже поддерживали под руки, впрочем, стараясь не стеснять его
движений) по-прежнему кричал и вертелся. Вдруг он сделал знак остановиться и
повернулся туда, где должна быть толпа его сторонников и клевретов.
Теперь она ясно видела его благородное, одухотворенное лицо с мягкими, нерезкими
чертами, большие, дикие, страдающие глаза, запекшийся, тоже страдальческий рот. Он
остановился, конечно, для того, чтобы сказать что-то. Поднял руку в черной перчатке, постоял, может быть, и сказал даже что-нибудь, только очень тихо, потому что так она
ничего и не расслышала.
Толпа молчала — отдаленная, загадочная, спокойная.
Он стоял перед ней, как перед стеной — неподвижной и равнодушной. И, конечно, он
ничего не сумел сказать. Только крикнул что-то неразложимое на звуки и словно
подавился криком. Повернулся и быстро пошел вперед. Его опять осторожно и безмолвно
взяли под руки. И толпа, замолкшая на минуту, опять зашумела, зажужжала и,
переваливаясь, мерцая, двинулась вперед.
Минут через пять они подошли под окна.
Она смотрела на них сверху, спокойная, уже не верящая ни во что.
Шли хорошо вооруженные, стройные джентльмены, из числа приверженцев Эссекса.
Шли черные, обветренные рабочие лондонской судоверфи.
Шли крестьяне в войлочных широких шляпах, с плоскими бородатыми лицами, как
всегда спокойные, молчаливые и осторожно-равнодушные ко всему.
Шли мастеровые в цветных, но неярких одеждах цехов. Шли их подмастерья с
восторженными, безумными, мальчишескими лицами.
Шли купцы, торговцы, разносчики, сидельцы лавок, менялы, ювелиры, шлюхи,
конюхи с извозчичьх дворов, трактирные девки, мясники, рабочие городских скотобоен, клерки из ратуши, полицейские, темные личности из кабачков и заезжих дворов, шел, может быть, ее слуга, который исчез со дня скандала, шли гуртоправы, пригнавшие в
Лондон скот, висельные плясуны, сорвавшиеся с петли, школяры разных колледжей и
школ, хозяйки с сумочками, случайно попавшие сюда, шарлатаны и зазывалы в
островерхих ярких шляпах, уличные мальчишки, которым всегда и до всего дело.
Шел секретарь суда, медлительный и длиннобородый человек, доктор, специалист по
выкидышам, которого и она знала, шел…
Она ухватилась за занавеску.
Шел актер и пайщик театра "Глобус" — Виллиам Шекспир, который не послушался ее
записки и ухнул с головой в такой клокочущий котел, из которого уже не вылезают.
И, у видя его, она невольно забарабанила по стеклу.
Но он не слышал ее. Он протек мимо нее с толпой, что валила за ошалелым,
кривляющимся, обреченным и обезумевшим человечком.
Но, подумала она, усмехаясь, кому же из этих мясников, мастеров, подмастерьев,
аптекарей, ростовщиков, крестьян, гуртоправов, матросов, шарлатанов, нищих, рыночных
торговцев, юродивых, калек и шлюх, — кому из них дело до того, что отвергнутый
любовник поднялся бунтом против своей семидесятилетней любовницы, угрожая ей
революцией за то, что она не вовремя отняла у него откуп на сладкие вина?!
Глава 4. СМУГЛАЯ ЛЕДИ СОНЕТОВ
I
И все-таки она не запоздала на свидание, хотя оно вдруг совершенно перестало
интересовать ее. Раздеваясь на чердаке, она подумала, что вообще нужно быть такой
сумасшедшей, как она, чтобы выйти из дома. И эта мысль, как ни странно, доставила ей
некоторое удовольствие. По городу — она уже знала это — были пущены глашатаи,
известившие, что мятежники объявлены государственными изменниками и все, кто не
отстанет от них, будут без суда отданы в руки палачам.
После этого толпа, конечно, растаяла.
Эссекс и его друзья заперлись в замке, и теперь замок осаждали правительственные
войска. На чьей же стороне оказался в конце концов ее Виллиам?
Она сняла берет, повертела его и бросила на постель. С ума сойти, — так она и не
переменила перо! Бог знает какая у нее голова стала за последние дни. Нет, не похоже, не
похоже, чтобы он остался с ними до самого конца. Не такой он, совсем не такой. Как он
пойдет обратно? Все-таки надо было захватить с собой стилет. Говорят, что иногда
достаточно взмахнуть им, чтобы от тебя отстали. Да-да, с королевой плохие шутки, он
должен был это знать. И что ему понадобилось в этой истории? Хочется быть повешенным
на одной перекладине с графом? Тьфу, противно даже! Актеришка! Клоун! Сочинитель
стишков! Вчерашний дворянин! И тоже лезет туда же. Герб получил — так ведь и на нем
написали (смеха ради, конечно): "Не без права". Потому что какое право у него на этот
герб? И кому понадобится его шпага? Нет, дома, дома он, конечно. Сбежал и ставни
закрыл. И вдруг она вспомнила, каким видела его из окон. Он шел спокойнее даже, чем
всегда, молчаливый и равнодушный ко всему, но именно эта неподвижность и произвела
на нее впечатление полной обреченности. Разве не поверилось ей тогда, что вот как он
шел, так и дальше пойдет? И тем же шагом, неторопливым, мирным, спокойным, взойдет
на ступеньки королевского дворца и обнажит свою почти бутафорскую шпагу, данную ему
только вчера по каким-то сомнительным правам.
Она вдруг подумала, что целый вечер занимается им, и встала. Зло толкнула стул, стул
упал. Она не подняла его, а постояла над ним, раздумывая о чем-то, и вдруг окончательно
решила, что ей не хочется видеть этого Ричарда. Она села опять, крепко, по-мужски, опершись на подлокотник, и задумалась. Да, вот Шекспир. У него были мягкие,
удлиненные руки, настолько нежные, что нельзя было поверить в их силу, — такая широкая, крепкая ладонь. Однажды он долго смотрел, как она играет, и когда она устала и
поднялась с места, он тоже сел к клавесинам. Он взял только несколько аккордов, сильно и
плавно, но она сейчас же поняла, как гибки и умелы его пальцы. И когда потом она
осторожно взяла его за руку, только чуть-чуть выше запястья… Но вот, кажется, с этого и
началось. Еще ее почему-то раздражала донельзя большая плоская серьга. Она глядела на
нее, и обязательно хотелось дернуть его за мочку. Ей обязательно нужно было бы стать его
любовницей. Какое это упущение, что она не стала! Первый раз она сказала правду
Пембруку, и тот, кажется, в первый раз не поверил ей. Она даже и сама не понимала, как
так случилось, что с этим человеком не жила? Какие у нее были тогда соображения? Зачем
ей было это надо?
Становилось все темнее и темнее; изнемогая от разнородных мыслей, она закинула
голову и до хруста заломила руки за спиной… У него такие сильные, грубые руки, не
нежные, а грубые. Это зря она вспоминала, что они нежные и мягкие. У него в последнее
время было такое жесткое, прерывистое дыхание. Так дрожал голос, когда он говорил с
ней. Она видела: ему и дышать было трудно в ее присутствии. И это она сделала, она, она!
Однажды она стала перевязывать ему палец, а царапина была старая, засохшая, совсем не
нужно было ее перевязывать, но их руки были соединены, ей казалось то кровь
переливается из сосуда в сосуд. Другой раз вышло так: он надкусил яблоко, но есть не
стал, положил на стол, а она взяла это яблоко и так просто, как будто это следовало само
собой, откусила тут же, где и он. Так они съели это яблоко. Вот тут-то она и увидела — он
вцепился руками в крышку стола, и ему трудно дышать. А какие стихи он писал после! С
ума сойти. Тогда ей было смешно, а теперь просто жалко его. А жалость-то у нее всегда
была самым сильным чувством. Когда она жалела, она могла пойти на что угодно — на
связь-то во всяком случае.
Она встала и прошлась по комнате.
Свеча коптила.
Грязный полог над гнусной, скрипучей кроватью выглядел сегодня особенно мерзким
в этом желтом, расслабленном свете.
Она подошла к окну, подняла и опустила зачем-то занавеску.
Ей было все противнее, скучнее, все томительнее, — на нее находил тот приступ тоски
и бешеного, острого недовольства собой, которые все чаще и чаще стали посещать ее
последние дни. И знала об этой тоске только она одна.
— Скорее бы! — сказала она вслух, со страдальческой гримасой и стукнула каблуком об
пол. — Скорее, иди же.
И, словно услышав ее, в дверь постучали.
— Кто? — спросила она, не двигаясь.
— Ричард Второй, — ответил ей очень знакомый голос.
II
Бербедж уж совсем собирался идти на свидание, как вдруг к нему пожаловал Четль.
— Слышали? — спросил он, стоя в дверях.
— Ничего я не слышал, — досадливо ответил Бербедж.
— Сдались все до одного, — торжествующе объявил Четль, так, словно это было его
личной заслугой. Он прошел и бухнулся в кресло. — Под условием рыцарского обращения
и беспристрастного разбора дела.
— Кто это? — снова спросил Бербедж.
— Да все, как есть: и Эссекс, и Рутленд, и Соутгемптон, и Блонд, все, все! Да ведь вы
были там, кажется, и видели их всех?
— Нигде я не был, — досадливо отрезал Бербедж. — Слушайте, дорогой, зачем вы
полезли в драку?
— Вот! — строго, с глубоким удивлением сказал Четль. — Оказывается, я опять виноват
во всем. Я же сказал только вам: "Спасайте вашего друга".
— Действительно, очень ему это было нужно, ворчливо буркнул Бербедж, придумывая, что бы соврать Четлю, чтобы тот не увязался. Ведь этот старый бродяга отлично знает, куда он пойдет. Так попробуй-ка выживи его. Вот сидит и мелет всякую чепуху. Напоить
его, что ли?
Он подошел к шкафу и вынул из него бутылку с белым хересом, совершенно особым,
который специально доставал для этого холостяка. Долго сердиться на него не мог. Ну что
же, пусть леди немного подождет. А он опоздает. Может оно и лучше так.
— Как поживает ваша трагедия? — спросил он уж мирно.
— Какая это? — Четль не отводил глаз от бутылки. — Ах, то о Вильгельме Завоевателе? -
Он вдруг радостно засмеялся. — Я сегодня встретил вашего друга и сказал ему: "Мистер
Шекспир, имейте в виду — я обгоню вашего "Гамлета". Он мне поклонился слегка, вы же
знаете, какой он вежливый, и сказал: "Пожалуйста, пожалуйста, мистер Четль.
Действительно, трагедия моя совсем замерзла. Я очень буду рад вашим успехам. Но о чем
вы пишете?" Я сказал ему: "Пишу трагедию о Вильгельме Завоевателе, и ваш друг
Бербедж говорит, что моя трагедия будет стоить больше всех ваших хроник". — "Почему?" -
спросил Шекспир. Я ему ответил: "Мистер Бербедж говорит, что Вильгельм Завоеватель
достойнее Ричарда, потому что пришел раньше его".
— Ну и что же вам ответил Билл? — спросил машинально Бербедж, наливая стакан
Четлю.
Четль отпил большой глоток и закрыл глаза, вслушиваясь в терпкий вкус хереса.
— Вот это вино! — сказал он восхищенно. — Где вы его достали? Оно старше нас обоих.
Да, так что сказал мне ваш друг? Ничего он мне не сказал, только поклонился. Ему, знаете, было уже не до того. К тому времени они уже пробились к Темзе.
— Куда? — спросил настороженно Бербедж.
— К Темзе, к Темзе, в замок графа! В Эссексхауз.
— Как?! — вскочил Бербедж. — Да где же вы его тогда видели, Четль, Четль? — Он схватил
его за плечи. — Да что же вы молчали? Билл, значит, тоже был замешан в это дурацкое
дело? — Он жал его плечи все больнее и больнее. — Где же он теперь?
— Не знаю, не знаю, голубчик, — миролюбиво ответил Четль, осторожно освобождаясь
от его сильных рук ремесленника. — Я его видел в толпе, а где он, что он? — я не знаю.
Он видел, что Бербедж мечется, ища шляпу, и добавил уже успокаивающе:
— Да нет, вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, дорогой. Ничего особенного не случится.
Ведь он так пошел, поглазеть.
Он не договорил до конца, потому что Бербеджа уже не было. Он бежал по улицам.
Человек он был неторопливый, медлительный, хотя моложе Шекспира, но уже тоже в
летах и всегда помнил об этом. Но сейчас он летел, как стрела Робин Гуда. Сейчас он
толкал и опрокидывал прохожих. Сейчас он зацепился и опрокинул какую-то корзинку.
Сейчас он сбил ребенка и ребенок орал. Только одно помнил он: Виллиам был там!
Эта черная ведьма нарочно затянула его в это дело. Затем и записку переслала с ним
Виллиаму. Ах он осел, осел! Дубовая голова! Как же он не понял, для чего все это
делается? Чтобы Виллиам пошел к этой змее за объяснением, она тогда толкнет его в этот
котел. И это, конечно, Пембрук потребовал от нее. Ведь он лезет на место Эссекса в
королевскую спальню и поэтому знает все, что происходит вокруг.
Он бежал все быстрее и быстрее, не потому, что чрезмерно торопился, а потому, что
самые эти мысли требовали движения. Он был так взволнован и зол на нее, что уж не
осталось и следа от его высокой влюбленности. Черная ведьма! Ворона! Кладбищенская
жаба! Цыганка! Трактирная потаскуха! Девка! Он готов был избить ее в кровь
собственноручно, и изобьет, конечно, если она сейчас же не расскажет, где Виллиам и что
она с ним сделала. Да, он без всяких, прямо потребует, чтобы она ему сказала — где же его
друг. Он взбежал по шаткой лестнице, пролетел по коридору, подошел к двери.
Остановился.
Перевел дыхание.
Оправил одежду.
Поднял руку.
Стукнул раз, два, три.
Он почувствовал себя твердым, как будто вылитым из меди.
— Кто? — спросил его женский голос.
— Король Ричард Второй, — ответил он ясно и четко и сейчас же подумал: "Какая
дурацкая шутка".
Наступила короткая пауза, и вдруг страшно знакомый голос ответил ему из глубины
комнаты:
— А вам тут нечего делать, ваше величество. Вильгельм Завоеватель пришел раньше
Ричарда Второго.
Это говорил Билл.
Уф! Боже мой, какое облегчение!
Ричард отошел к стене, прислонился и стоял так неподвижно целую минуту. Он
отдыхал от страха, от всех тревог и волнений. Потом он вынул платок, отер лоб и
улыбнулся. Давно он уже не чувствовал себя таким счастливым, как сейчас, когда у него
обманом увели самую лучшую из любовниц.
Как быстро и решительно вошел он в комнату! Какой ветер поднялся от него, когда он
хлопнул дверью! Даже пламя свечи заколебалось и чуть не погасло. Как полный хозяин, как будто тысячу раз он был тут, подошел он к стулу, — раз! Сбросил плащ. Раз! Отцепил
шпагу и швырнул ее на постель. Раз! Подошел, внимательно посмотрел на этот ужасный
полог и рванул его так, что он затрещал и порвался, и пинком отбросил в угол.
Они стояли друг перед другом, и он смотрел на нее. От волнения и неожиданности у
нее ком подступил к горлу и дыхание перехватило. И, как всегда, прежде ослабли ноги.
— Ты?! — спросила она. И сама не заметила, как протянула ему обе руки.
Как он был прям, когда смотрел на нее! Какая беспощадность, отточенность всех
движений, невероятная ясность существования сквозили в каждом его жесте. Та ясность, которой так не хватало ей в ее путаной, чадной жизни. Во всей жизни ее, что состояла из
мелких интриг, ухищрений, легчайших взлетов и мелких падений. Теперь только она и
поняла, как ей не хватало его, с которым было так легко дышать и говорить обо всем.
И она пошла к нему.
Она пошла к нему, улыбаясь, протягивая руки и лепеча какую-то чепуху, хотя он еще
не улыбался и не говорил ей ни слова.
Пембрук, Бербедж, капитан какой-то, кто там еще? Господи, как они далеки все сейчас
от нее!
И тут он схватил и обнял ее. Грубо и больно, но как раз так, как ей было надо. И руки
его были нарочно жестки для нее, нарочно для нее грубы и смелы. И она опять удивилась
в эту последнюю секунду, теряя разум, а с ним и понимание происходящего. Каким же он
был всевидящим и умным! Как он отлично понимал, что вот эти грубые и жесткие руки и
нужны были ей сейчас больше всего!
Они стояли посредине комнаты, смотрели друг на друга, свеча горела, а дверь была
открыта! Вдруг он так же молча оставил ее, пошел и запер дверь на ключ. Потом подошел
к свече и резко дунул. Она погасла, будто ее обрезали.
— Но мне ведь темно, Билл, — потягиваясь, сказала она только для того, чтобы
услышать его голос.
И прибавила, изнемогая, свое любимое словечко, которое откуда-то приходило к ней
всегда в таких случаях: — Сумасшедший, сумасшедший! Ах, какой же сумасшедший!
Из темноты, не приближаясь к ней, он спросил:
— Во сколько к тебе должен прийти Ричард?
— Не знаю, — сказала она, даже в темноте привычно откидывая голову, поднимая и до
хруста заламывая руки. — Он совсем не придет.
Она знала, что он не верит ей, но понимала также и то, что много говорить нельзя. Но
ах, как легко дышалось с ним. Она чувствовала, как огромная и пристальная ясность и
беспощадность его существования заставляют ее светлеть и смириться в его больших
руках.
— Билл, — сказала она почти умоляюще, — милый ты мой!
Он понял, что ей надо, помолчал и наконец пришел на помощь.
— Лучше всего, если ты не будешь мять одежды, — сказал он мирно, — дай-ка я все
повешу на гвоздь.
И только она это услышала, как поняла — вот это и есть самое большое снисхождение, что ей когда-либо было оказано.
* * *
— Ну, теперь он ушел, — сказала она.
Они сидели рядом и слушали.
— Теперь и я слышу, — ответил Шекспир. — Вот он уже спускается с лестницы. Черт, как
топает! Ушел! Я сейчас сойду вниз, зажгу свечу.
— Ну, — сказала она, — зачем же? — И тихо обняла его за плечи. — Билл, расскажи что-
нибудь.
— Что ж тебе рассказать? — спросил он откуда-то уже издали.
— Вот ты опять думаешь о чем-то своем. Билл, о чем ты думаешь? Я хочу, чтобы ты со
мной не думал ни о чем. С кем ты сейчас?
Ей хотелось, чтобы в голосе у нее прозвучала ревность, но это никак не удавалось -
слишком она уже устала.
— Я с тобой, — ответил Шекспир.
— Нет, нет, ты не со мной. Не со мной, не со мной, не со мной! Говори, с кем же ты?
В ее голосе появилась прежняя воркующая нотка. Она потянулась и легла головой на
его колени, а он сидел, опустив руки, и только слегка касался ее плеча. Касался ее, утратившей для него всякий интерес. Страшное облегчение, которому не полагалось
затягиваться, чувство безнадежного равновесия, притупленности владело им.
Ему было так нехорошо, как будто в первый раз.
И он скоро понял, почему.
— Кривой скелет, — сказал он сквозь зубы, корчась от неудобства.
Она сразу поняла его, потому что, не поднимая головы, равнодушно спросила:
— Но ты с ними был до самого конца?
Она понимала все, что происходит в нем, и это было просто нестерпимо. Он
осторожно снял ее руку. Что было ему делать с ее почти колдовской догадливостью? Ведь
вот, кажется, не особенно далека, а всегда угадывает его мысли. А сейчас это были
тяжелые, медленные, стыдные думы, которых нельзя было трогать. Он чувствовал себя
настоящим предателем, потому что, уже идя по улице, отлично знал, что повернет назад и
не примет никакого участия в мятеже, поднятом за право винного откупа. И она тоже
отлично знала это, потому что сейчас же, не дожидаясь ответа, сказала:
— А я так безумно беспокоилась за тебя. Ты ведь у меня сумасшедший. Вдруг нырнешь
в этот котел!
Но голос у нее уже был легок и певуч, как всегда, когда она лгала. Ни о чем она не
думала. Хорошо знала, что он никуда не пойдет. И вдруг он понял другое: вот он один, теперь у него ни друга, ни покровителя, ни любовницы. С другом он говорил сегодня в
последний раз, покровителю сегодня отрубят голову, а любовница… Ну вот, она лежит
перед ним, распустившаяся, мягкая и уже полусонная. Что ему еще нужно от нее?
Удивительно, как постоянны в этом все женщины ее склада.
И вдруг словно косая дрожь пробежала по его телу, и он услышал, как на его голове
зашевелились и поползли волосы.
От этой сырости, полумрака, скомканной, грязной постели его внезапно потянуло в
свою комнату, к бумаге, книгам, к перу. Видимо, было что-то, что он вынес из этого
жалкого бунта, разговора Пембрука о любовнице, от этой последней встречи на чердаке.
Писать! Писать! Опять писать! Не было, кажется, у него сильнее желания в жизни.
Он встал. Ему не хотелось обижать ее, и он слегка провел по ее плечам, шее, чтобы
посмотреть, спит ли.
Она лежала неподвижно и, кажется, уже действительно спала.
Он окликнул ее. Она не ответила. Дыхание было ровное и спокойное. Тогда он
осторожно обнял ее за плечи, слегка приподнял и подложил под нее подушки. Взял
одеяло, прикрыл ее и подоткнул со всех сторон. Она что-то как будто хмыкнула во сне и
позвала его: "Билл, Билл!" Но он знал, сейчас она уже не проснется. Любовь у нее была
бурная, тяжелая, клокочущая, аритмичная, и она переживала ее как изматывающую
болезнь.
Он осторожно встал, в темноте привел в порядок свою одежду, отыскал шпагу под
кроватью и снова подошел к ней. Она спала, сложив на полной груди неожиданно полные
и, наверное, смуглые руки.
В зеленом месячном свете было видно, что губы у нее полуоткрыты, а тонкие жесткие
волосы пристали ко лбу.
Он постоял-постоял над ней, потом вышел, запер и подсунул ключ под дверь.
И только что он вышел во двор, где за перегородкой похрапывали лошади и звенели
ведра в хлеву, как далеко-далеко закричал первый пронзительный петух.
"О звонкое, безжалостное горло!"
Он шел по улицам Лондона, зеленый от лунного света, тяжелый, усталый, но весь
полный самим собой. Он торопился скорее добраться до стола, чернил и бумаги.
И почти шаг в шаг, не отставая, шел с ним родившийся сегодня во время мятежа его
новый спутник, принц датский Гамлет, которому в эту ночь было столько же лет, как и ему, Шекспиру!
ВТОРАЯ ПО КАЧЕСТВУ КРОВАТЬ
Глава 1
Маленький пастор копался в саду и беседовал со своими яблонями; в это время к нему
подошла служанка и сказала, что пришла миссис Анна; потом постояла, подождала и, видя, что пастор молчит, прибавила:
— Сидит с госпожой и плачет.
— Ага! — Пастор вынул из кармана фартука кривой садовый нож и ловким ударом
смахнул с молодой яблоньки всю сломанную ветвь. — Вот так-то наверно, будет
правильнее, — сказал он громко, — а то подвязывать да приращивать… Так отчего она плачет, а?
— Да будто муж там что-то… — ответила служанка, улыбаясь пастору.
— Так, так!
Пастор обошел яблоньку и посмотрел с другой стороны — деревцо повалил было ветер, но он привязал к стволу палку, и сейчас оно стояло прямо.
— А смотри-ка, — сказал он вдруг радостно и схватил служанку за руку, — перелома-то и
не видно, а?
— И ни капли не видно, никакого там перелома, — горячо подхватила служанка,
тихонько отбирая руку, — вот я стою и смотрю — где тут перелом? Нет его!
Пастор все смотрел на яблоньку, и его маленькое, хрупкое личико — его дразнили
хорьком было задумчиво и светло.
— Да! Ну, увидим, — решил он наконец, отворачиваясь, — увидим, примется она или нет!
— Он тихонько вздохнул, спрятал нож в карман фартука и обтер руки прямо о его подол. -
Так, говоришь, сидит и плачет? — Он сорвал фартук и комком кинул служанке — все это
очень быстро и ловко. — Скажи ей, что иду! — крикнул он, направляясь к себе.
Он хорошо знал, зачем к нему пришла Анна Шекспир, и помнил, что ему надо сказать
ей, но это-то и раздражало его. Ведь вот он будет вертеться и подыскивать выражения, а
разве так говорили апостолы благословенные слова, которые он повторяет в каждой
проповеди? Они рубили сплеча — и все! А он что?" — Я, дорогие мои землячки, человек
простой и грубый, не лорд и не пэр, — говорил он о себе, — мой отец торговал солодом, моя
мать была простая набожная женщина, и она не научила меня ни по-французски, ни по-
итальянски, а сам я уже — извините! научиться не мог…"
И жители крошечного городка Стратфорда, люди тоже простые, грубые, ясные до
самого донышка (их и всех-то в городе было две тысячи), — сапожники, кожевники,
ремесленники, служащие городской скотобойни, — кивали головами и хмыкали: что ж, это
не плохо, что достопочтенный Кросс не лорд и не пэр, такого пастора — простого и
свойского — им и надо! А те из стратфордцев, кто был постарше и прожил в этом
городишке уж не одно десятилетие, вспоминали другое: лет сорок тому назад у них, например, куда какой был ученый пастор! Он и детей учил латыни, и пел, по-французски
говорил, и, бывало, такие проповеди запускал, что все женщины плакали навзрыд, и такой
уж он был вежливый да обходительный, что лучше, кажется, и не придумаешь, — а толку
что? Вдруг сбежал в Рим и оказался тайным католиком. Ну, так чему хорошему мог
научить детей этот тайный папист? Пропади пропадом такая наука! В нашем йоркширском
графстве говорят только по-английски, но если вы попросите у лавочника хлеба, то будьте
спокойны, что он вам не свешает гвоздей и не нальет дегтя. Да и судья, сидя на своем
кресле, тоже говорит с нами на добром английском языке, и как будто выходит правильно.
Так к чему нам еще французский язык? — так отвечали достопочтенному пастору
прихожане.
"А говорить с ними все-таки приходится по-французски: со всякими церемониями, -
подумал пастор, заходя в зало, — по-простому-то ничего не скажешь, чуть что не так — и
сейчас же обида до гроба. Вот и с этой дурехой…"
Анна Шекспир — рослая, сырая женщина — сидела рядом с женой пастора и что-то
негромко ей рассказывала. И, по смыслу ее рассказа, у его молодой жены тоже было
печальное, задумчивое и благочестивое лицо, но когда пастор вошел, она с такой
быстротой вскинула на него живые, черные, как у жаворонка, глаза, что Кросс невольно
улыбнулся. "Ну что ж, подумал он, — у Мэри хороший муж — разве ей понять эту
несчастную?"
— Вот так и живем! — громко, со скорбной иронией окончила Анна Шекспир, уже прямо
глядя на пастора. — Здравствуйте, достопочтенный мистер Кросс, а я вот вашей жене свои
старушечьи… — и она сделала движение встать.
— Сидите, сидите! — учтиво испугался пастор. — А я вот тут, — и, пододвинув третье
кресло, он сел с ними рядом.
Матушке Анне Шекспир только недавно исполнилось пятьдесят пять, у нее было
плоское лицо, большие, крестьянские руки с узловатыми, тупыми пальцами и черты
резкие и прямые, как у старой деревянной Мадонны, завалявшейся на чердаке еще со
времен Марии Католички. И голос у матушки Анны был тоже по-крестьянски грубый и
звучный, но когда она горячилась или смеялась, то все ее неподвижное лицо озарялось
изнутри блеском крупных, круглых зубов. Посмотришь на такую бабищу и подумаешь:
"Такая, если что не по ней, сразу сгрызет".
И, судя по рассказам, Анна в девках и верно была такой, но прошли года, народились
крикливые дети, незаметно подошла старость, и вот произошло "укрощение строптивой": теперь Анна робела и перед голосистыми дочерями, когда они начинали орать друг на
друга и начинали требовать то того, то другого (их у старухи было две — Сюзанна и
Юдифь), то перед мужем Сюзанны — противным, самоуверенным человеком с наглой и
вежливой улыбочкой шарлатана (он и в самом деле был доктор), то перед своим блудным
мужем — молодящимся лондонским хлыщом в плаще и с дворянской шпагой на боку. Его-
то пастор просто ненавидел. В три года раз он вдруг вспоминал, что в родном захолустье у
него осталась семья, дом, — два дома даже, старый и новый, — старуха жена, которая старше
его на семь лет, и две взрослые дочери, и на все это надлежало бы взглянуть хозяйским
оком. И тогда он с легкостью театрального предпринимателя, для которого все на свете
одинаково важно и на все равно наплевать, доставал где-то лошадь и верхом прискакивал в
Стратфорд. Пастор видел его несколько раз (в последнее время он что-то зачастил).
Шарлатан был тогда одет джентльменом, кутался в тонкий зеленый плащ и звенел
шпорами. Стоя в церкви, он расточал улыбочки и с величайшей готовностью
раскланивался на все стороны. Уж по одной улыбочке можно было понять, из какого
гнезда вылетела эта птица и много ли ей дела до старухи жены, двух дочерей, скромной
апостольской церкви в Стратфорде и всего Стратфорда вообще. А старая Анна, эта
голосистая и здоровая, как медведица, дурища, ходила перед ним на цыпочках и млела от
одного его голоса. А от чего тут млеть, скажите пожалуйста, на что тут смотреть?!
И, откашлявшись, пастор сказал:
— Живете-то вы неплохо, матушка! Я недавно проходил мимо вас и любовался домом.
Такой дом тысячу лет простоит. Мэри, — обратился он к жене, а ты бы…
И его понятливая жена сейчас же плавно встала со стула и сказала:
— Миссис Анна, так, значит, вы потом пройдете на кухню, я вам кое-что покажу.
Когда она ушла, Анна подняла на пастора большие желтые, как у умной собаки, глаза
и посмотрела прямо, скорбно и просто.
— Ну, значит, приезжает? — бодро спросил Кросс, подвигаясь к Анне.
Та кивнула головой.
— Да, я уже слышал, у них там театр сгорел, что ли?.. Что, письма от него не
получали?.. Ах, получили все-таки! А ну, покажите-ка!..
Анна протянула пастору сложенный лист бумаги. Тот развернул его, пробежал глазами
и положил ей на колени.
— Ну, а что говорят дочери? — спросил он, и по тому, как старуха замедлила с ответом, понял: говорят они неладно.
— Ну, да-да, — понятливо кивнул он головой, разговоры-то, конечно, идут у вас всякие, и
я представляю…
— Юдифь говорит, — тяжело выговорила старуха, — пришло время, так он и о доме
вспомнил, кутилка!
Юдифь была младшая, незамужняя дочь. Она отца терпеть не могла, а мать свою ела
поедом.
— Так? А Сюзанна? — спросил пастор.
Анна только рукой махнула.
— Но она, кажется, вообще недолюбливала отца, вскользь вспомнил пастор. — Я помню, когда вы еще покупали дом… там что-то такое было…
— Ну, тогда-то она, положим, долюбливала! — с горечью воскликнула старуха. — И все
"они его тогда любили! Ну как же! Бывало, покоя не дают: "А когда папа приедет?", "А
когда папа приедет, подарки нам привезет?" Вот как было тогда! А как стали-то
повзрослее…
— Да, — сказал пастор задумчиво, — дочери повзрослели и отошли от отца. Когда наши
дети вырастают, они начинают судить нас. Да, так и бывает в жизни!
— Ну, да что там говорить, он всегда о нас заботился, — грубовато отмахнулась старуха
от благочестивых слов пастора. — Мы только благодаря ему всегда имели верный кусок
хлеба. Это-то почему они забывают?!
Пастор невольно улыбнулся. Анна была состоятельной женщиной — с домами, землей,
просто деньгами, — но все это она называла по-крестьянски: "кусок хлеба".
— Все это так, но ведь не одним куском хлеба живет человек, — вот о чем, верно,
думают ваши дочери! — мягко напомнил пастор.
— А я говорю, когда Сюзанна была малюткой, она ничего такого не воображала, -
упрямо сказала старуха и даже как будто бы кулаком пристукнула, — и он тоже любил ее и
хотел увезти в Лондон, да я не дала. Я тогда сказала: "Нет, это все-таки не мальчик. Вот
если бы был жив наш малютка Гамлет, тогда другое дело". Но он умер, наш первенец…
Она и о смерти сына говорила тяжело, спокойно и бесчувственно, и пастору даже
стало жаль ее. Он и сам не так давно узнал, что такое недостойная любовь и как трудно от
нее избавиться.
— Конечно, любовь к родителям — это одна из основных христианских добродетелей, -
сказал он докторально, уже голосом проповедника. — И этого никогда не следует забывать
ни вам, ни дочерям. Когда отец после многолетней отлучки возвращается под семейный
кров, это хорошо. Какой бы ни был отец. Но, ведь, с другой стороны…
— А я что говорю? Я это же и говорю! — радостно воскликнула Анна, не дав пастору
сказать об этой другой стороне. — Я тоже говорю: "Детки, он ваш отец! Плох ли, хорош ли
он был ко мне — это дело наше супружеское, вам в нем не разобраться, но к вам он всегда
был хорош. О вас-то он всегда заботился". Вот дом этот купил. Зачем он ему, спрашивается? Он живет в Лондоне, а мы бы и в старом прожили, — много ли нам,
старикам, места-то надо? Я и то говорила: "Ну его! Что ты покупаешь такой большой?
Что, у тебя денег лишних много?" — "Нет, говорит, как же, надо купить, дочери большие, скоро замуж повыйдут, дети пойдут — нужен будет простор". Большие! — Она скорбно
улыбнулась. — Сюзанне тогда было четырнадцать, а сейчас она говорит… старуха понизила
голос, и было видно, как ей трудно все это рассказывать постороннему человеку, хотя он и
пастор, — говорит: "Он не для нас это купил, а для себя, чтоб вольнее было кутить". Вот
ведь как она мне отрезала, а разве это дочернее дело, говорить об отце такие слова? Я вас
спрашиваю — ее ли это дело? Отец ее породил, так ей ли судить его? Какой бы он там ни
был!
Пастор покачал головой и мудро улыбнулся.
— Вот именно, какой бы он ни был… ox-ox! — Он помолчал и заговорил строго, уже без
улыбки: — Как будто бы дать ответ на ваш вопрос церкви очень нетрудно: "Чти отца своего
и мать свою, и долголетен будешь ты на земле". Так сказано в писании вот и все. Заметьте: там не говорится ни какого отца, ни какую мать, просто чти всякого — так нас учит
Спаситель. Но… — пастор тонко улыбнулся, будем рассуждать и дальше. Мы состоим не
только из земной плоти, но и из духа, дарованного Господом. "Отче наш, иже еси на
небеси", — молимся мы. Так что же будет, если отец земной станет отвращать ребенка от
его отца небесного? Что, если он, давший ему только горсть праха, земную персть, возомнит себя единым творцом дитяти и начнет губить его бессмертную душу? Разве не
вправе тогда Господь заступиться за достояние свое? Вы поняли меня, миссис Анна?
Теперь старуха сидела неподвижно, сложив на коленях большие темные руки, и
слушала.
Пастор посмотрел на нее и вздохнул.
— Вам тяжело слушать, а мне тяжело говорить. Но говорить все-таки надо, миссис
Анна. Когда вы меня позвали из моего сада, я подвязывал свою сломанную яблоньку и
думал о вас и так и этак, но когда вошел и увидел вашу печаль, то, кажется. Бог осенил
меня пониманием, — он улыбнулся просто и благостно, — ибо когда мы вопрошаем своего
Создателя с верой и благоговением, он всегда отвечает нам просто и ясно. Итак, ваш
супруг возвращается к вам в семью — отлично! Пусть двери вашего дома будут широко
открыты перед ним. Пусть отца, мужа и тестя встретят только одни светлые лица. Пусть
его никто не расспрашивает, а тем более не попрекает прошлым. Пусть будут огни, песни
и музыка. Но… тут пастор поднял руку, и его голос набрал высоту, — но пусть и Господь не
будет обойден в этом пире. Ибо кто же знает, с чем возвращается ваш муж? До сих пор в
вашем доме слышались только простые слова о дне и злобе его и звучали молитвы. Он же
привык к божбе, джиге и уличным песнопениям. Так что же захочет услышать он от вас
сейчас? Не потребует ли он от своих дочерей сделать выбор между отцом земным и отцом
небесным — между телом и душой?
Анна по-прежнему молчала, и пастор ответил за нее сам:
— Вот вы не знаете это, и правильно — он же ничего не пожелал вам объяснить. Он
просто написал: "Театр сгорел, жди, я еду". А сердца наши неустанно спрашивают — зачем?
Зачем? Зачем ты пожелал вернуться? — Пастор выдержал приличную паузу и продолжал: -
Царь-псалмопевец писал: "Блажен муже, иже не ходит на совет нечестивых и не сидит в
собрании развратителей". А ваш муж не таков — он ходил, и сидел, и даже, простите меня, возлежал в собрании развратителей. Ну что там говорить! Мы же знаем кое-что про его
молодые годы!
Матушка Анна теперь уж не глядела на пастора и ничего не ждала, а сидела, опустив
голову, и покорно слушала. Она знала: все, что говорит достопочтенный Кросс, правильно, и она сама повторяла себе это не раз. Ведь вот опять, защищая своего нечестивого мужа, она не удержалась и похвасталась своим добром. А ведь это все — дома, земля, закладные -
нажито неправедным путем: плясками, песнями и беснованием, и за все это когда-нибудь
Господь Бог спросит ответа. Не с них, так с детей. Она знала это и теперь ждала только
последнего пасторского слова. А достопочтенный Кросс вынул карманный молитвенник, открыл его на середине и, заложив пальцем, продолжал:
— "К Господу воззвал я в скорби моей и он услышал меня", — ибо Господь всегда
слышит грешника, — объяснил он от себя, — но что же толкнуло грешника к Богу? А вот.
"Нет мира в костях моих, говорит грешник, — смердят и гноятся раны мои от безумия
моего. Я согбен, поник, ибо чресла мои (пастор мельком, но значительно взглянул на
Анну) полны воспалениями и нет целого во плоти моей". Так вот что, оказывается, привело грешника к Господу. — Пастор закрыл молитвенник, так ни разу и не заглянув в
него, и положил на стол.
Анна помолчала, а потом тихо спросила:
— Поэтому, вы думаете, он и приезжает к нам?
Пастор покачал головой:
— Нет, я этого не думаю. Потому уже не думаю, что ровно ничего не знаю. — Но он был
доволен, что произвел на старуху нужное впечатление, — так это или не так, но этого
разговора она не забудет. — Ну вот, может быть, ваш зять чего-нибудь знает. Он же доктор.
Мистер Холл вам ничего не говорит?
— Он тоже ничего не знает, — тихо покачала головой старуха. — Он прочел письмо и
говорит: "Пусть мистер Виллиам приезжает и садится во главе стола", — вот и все, что он
говорит! От него многого не узнаешь!
— Ну, значит, ничего и нет! — спокойно воскликнул пастор. — Дайне телесные язвы
страшны христианину, — праведный Иов, сидя на гноище, черепком выскребал свои язвы, но Господь возлюбил его. Тут другое, — он посмотрел прямо в глаза Анны. — "Рече безумец
в сердце своем — несть Бога!" Вы понимаете меня?
На этот раз старуха испугалась так, что даже вскочила с места.
— Что вы, что вы! — закричала она, протестуя. — Виллиам всегда верил в Бога! Ой, что
вы такое, в самом деле, выдумали? Нет, он верует, верует, он очень даже верует в Господа!
— А по ее щекам уже ползли слезы.
— Он верует! — скорбно улыбнулся пастор. — Да, но как, как? В писании сказано: "И
бесы веруют и трепещут", — так как же верует ваш супруг? Как трепещущий бес или как
добрый христианин?
Руки у старухи так и ходили на ее коленях, она сделала движение встать и снова села.
Открыла и закрыла рот. Потом заплакала, тихо и горько.
— Так, значит, вы думаете… — беспомощно спросила она, утирая слезы.
— Ах, опять я думаю! — мягко упрекнул ее пастор. — Да я ничего не думаю. Ровно
ничего, допускаю даже, что он добрый христианин. Ведь уцелел же Даниил во рву
львином. Уцелеет и праведник среди языческих торжищ! Будем думать, что мистер
Виллиам возвращается с благочестием в сердце и раскаянием в душе, но если это не так, -
он взял Анну за плечо, если это все-таки не так, говорю я, пусть ваш дом, как и ваше
сердце, превратится в крепость и не впустит к себе торжествующего зверя. Помните слова
Спасителя: враги человека — домашние его; помните притчу об оке, искушающем вас.
Лучше вырвать его, чем искуситься. Вот это все. Будьте тверды и готовьтесь к испытанию
вашей веры. Ибо некто уже стучится в двери вашего дома и во тьме мы не можем
разглядеть лица его. Так будем же ждать и молиться!
Глава 2
Только что пронесся косой солнечный дождик, загнал под навес кур, стеклянно
прозвенел по лужам, и на дворе вдруг сильно запахло свежим сеном и мокрой глиной. В
это время с последними каплями дождя и влетел в ворота трактира "Золотая корона"
веселый всадник. Он был высок, плечист и осанист. На нем был зеленый дорожный плащ, сапоги с фигурными шпорами, на боку дворянская шпага. И конь и всадник сильно
устали, оба были в поту и грязи, но ни тот, ни другой не вешали голову. Влетев во двор, конь весело заржал, а всадник припал к самому седлу и, заглянув в распахнутые двери
конюшни, крикнул:
— Дедушка Питер! Эй, старина, что, ты не хочешь встречать гостя?
Зазвенело ведро, и из конюшни вышел высокий, худой старик в вязаной фуфайке,
горло у него было костлявое и щетинистое, как у ощипанного петуха.
Он посмотрел на всадника и воскликнул:
— О, мистер Шекспир! Приехали? А мы ведь, признаться, думали…
— А вы думали, что мистер Шекспир уже сгорел с театром? — Шекспир легко соскочил
с коня. — А вот видишь, приехал! Здравствуй, здравствуй, старина! — Он смотрел на него
весело и дружелюбно. — Как живется, как можется? — Старик вздохнул. — Что, разве не
расколдовала тебя та ведьма? Все болит живот-то?
— Все-то вы помните, мистер Виллиам! — хмуро улыбнулся старик. — Нет, ведьма-то
расколдовала, да какое житье в семьдесят лет? Так — доживание! — Он провел рукой по
шерсти лошади. — Что, опять небось неслись во весь опор? Ишь спина-то мокрая. Как бы
не сгорела! Небось опять неслись, спрашиваю?
— А ты поводи, поводи ее по двору, не ленись! весело воскликнул Шекспир. — Нет,
последний перелет только скакали! Я ведь думал, ливень хлынет, вот и торопился!
— Как раз ливень хлынет, когда кругом солнце, — недоверчиво улыбнулся старик и взял
лошадь за ухо. — И сколько же вы за нее заплатили?
Шекспир прищурился.
— А что, нравится? — Он потрепал лошадь по гриве. — Хороша, хороша лошадка!
Дорого! За эту, уж точно, дорого заплатил! Ты бы вот сколько дал? Я продам!
Старик пожал плечами, и лицо его сразу стало тупым и равнодушным.
— Да нам такая к чему? Нежная, холеная, простыла — и все. Конечно, — помялся он, -
если не подорожитесь…
Шекспир вдруг прыснул и расхохотался.
— Ах, старина, старина! И говоришь — семьдесят лет! Так слышишь, поводи, поводи по
двору. — Он пошел и остановился. — Хозяин дома?
— Хозяин-то? — старик неуверенно посмотрел на Шекспира. — Хозяин-то, конечно, дома!
Дома, дома хозяин, заходите.
— А хозяйка? — быстро и открыто спросил Шекспир. Они оба видели друг друга
насквозь и поэтому притворяться не стоило.
— А хозяйки-то вот и нету, — любезно ответил старик и даже слегка развел руками. -
Хозяин-то дома, конечно, а хозяйки и нету. Хозяйка-то вчера уехала.
— Куда? — спросил Шекспир.
Старик двумя пальцами ощупал горло.
— Да ведь кто ж ее знает, куда? — спросил он раздумчиво. — Нам-то об этом никто не
докладывает, взяла обоих ребят и уехала.
Шекспир все смотрел на него.
— Ну, раз с детьми, значит, к родителям, — вдруг сердито огрызнулся он. — А куда же
еще? К ним, конечно.
Шекспир молча отцепил со спины кинжал и швырнул старику, потом снял с пояса
небольшой дорожный меч в черных кожаных ножнах, тоже кинул ему и пошел.
— В конюшне все ты спишь? — спросил он, вдруг приостанавливаясь в дверях.
— Все я! — ответил старик. — Да я скажу, когда приедет.
Шекспир повернулся к нему лицом:
— Пойди сюда! Ты скажешь, что меня дома ждут и я очень тороплюсь. Понял?
Задерживаться не буду. Понял? Но крестника своего, — понимаешь, крестника, — очень хочу
видеть. Ну, а это все, — он ткнул на дорожную сумку, — принесешь ко мне.
И он вошел в помещение.
* * *
"Гостиница "Золотая корона" была построена еще лет семьдесят тому назад. Все в ней
было увесисто, топорно, неуклюже и крепко, как во всех постройках короля Генриха VIII.
Но как раз эта грубость и нравилась многим.
Крестьяне любили гостиницу "Корону" за то, что стены ее расписаны яркими
завитушками и со двора и с фасада; ремесленники — за то, что в ней все прочно и удобно, что внизу, в харчевне, стоят огромные дубовые столы, и если по ним хорошенько ударить, то они загудят, как бубны, потому что их делали добрые старые мастера и из хорошего, сухого дерева; купцам же нравилось то, что здесь все отпускалось открыто, на глазах
заказчика. Стоит, например, внизу, возле стойки, большая черная сорокаведерная бочка, и
когда кто заказывает эль, то его и наливают прямо на глазах. Главное же, что хозяин
хорошо знает и местные оксфордские, и стратфордские, и даже кое-какие лондонские
цены, и если с ним поговорить по душам, он всегда посоветует чтонибудь дельное.
Но заходили сюда и студенты оксфордских колледжей, — их привлекало, конечно,
совсем другое. Им нравилась галерея с крохотными комнатушками под самой крышей, под
потолком клетки с жаворонками, а на стенах дешевые гравюры; то, что хозяин знает
несколько латинских кудрявых цитат, а молодая, спокойная, красивая хозяйка говорит
даже пофранцузски; что все, что бы ни случилось, тут будет шито-крыто, а главное — то, что здесь всегда можно встретить бродячих актеров. И потому в "Корону" заходили и те, и
другие, и третьи, и в ней всегда было шумно и весело.
А сейчас старый дом как будто вымер.
Шекспир постоял в дверях и прислушался, — на кухне кто-то играл на свирели,
начинал, доходил до середины и опять повторял все сызнова. А так никого не было. Он
прошел по длинному темному коридору и заглянул в зало. Там, за дальним столом, сидели
два бородатых человека, пили из глиняных кружек и о чем-то разговаривали. Шекспир
хотел отворить дверь и войти, но в это время к нему подошел хозяин.
Волк звали этого человека. У него были прямые скулы, жесткие короткие волосы и
глубоко запавшие, узкие серые глаза. Волком его звали уже с детства, и тогда он чурался
этой клички, но к сорока годам, то есть сразу же после женитьбы, у него и волосы сразу
поседели, и возле рта и носа появились прямые, волчьи складки, — и тогда уже никто не
стал звать его иначе. Улыбался Волк редко — разве только когда встречал кого-нибудь из
знакомых актеров.
Ибо поистине не было в городе Оксфорде большего болельщика и театрала, чем Волк.
Тут ему и хозяйство было нипочем. Он мог по целым часам сидеть и слушать рассказы
какого-нибудь случайного театрального бродяги; он не перебивал, не поправлял и не
переспрашивал, а просто и честно слушал. А если рассказчик вступал с ним в разговор, то
он видел и другое — этот захолустный медведь имеет свои суждения. Так, например, он
очень здраво судил, почему трагический актер театра "Лебедь" Эдуард Аллен хуже, крикливее актера театра "Глобус" Ричарда Бербеджа, а ныне преуспевающий комик Аримн
недостоин даже развязать ремня на башмаке чудного, нежного Тарльтона, умершего десять
лет тому назад. Так, по крайней мере, прибавлял он, говорит мистер Шекспир, его кум и
близкий приятель. И, услышав наконец про такого кума, чрезмерно прыткий рассказчик (а
по совести сказать, какой актер не чрезмерно прыток в кабачке за пять дней пути от
Лондона?) начинал сбиваться, мекать, а потом и совсем замолкал. А вечером хозяин
говорил своей жене — спокойной и ласковой ко всем Джен: "Враль изрядный, но актер, кажется, неплохой", или: "Умен-то он умен, да толку-то что? Ведь в театре не за ум деньги
платят", или (со вздохом): "Ну что ж, лет десять тому назад и эта ветряная мельница чего-
то стоила", — и молоденькая Джен смеялась. Она вообще на людях много и охотно
смеялась, и смех ее был просто необходим завсегдатаям трактира "Золотая корона". Ведь
иначе было бы просто невыносимо думать, что она живет с этим Волком уже восемь лет и
имеет от него двоих детей.
Вот этот Волк и стоял сейчас перед Шекспиром.
— Здравствуйте, мистер Шекспир, — сказал хозяин, делая вид, что улыбается. — А мы
позавчера как раз вспоминали про вас.
Они пожали друг другу руки.
— Вы меня только позавчера вспоминали, мистер Джемс, — ласково, но с сердцем сказал
Шекспир, а я вас все эти пять дней непрерывно вспоминаю! Да что, в самом деле? -
продолжал он, разводя руками. — Выезжал я из Лондона в дождь, и вот как промок на
мосту, так и до сих пор не обсушился. В гостиницах все дрова мокрые, а камины дымят! И
что они только летом смотрели, не знаю! Ну нет, любезные, говорю, нет! Мистер Джемс в
Оксфорде отлично знает, что делает, когда выписывает печника из самого Лондона, — вот
уж у него обсушишься!
На лице хозяина появилось опять какое-то подобие улыбки, хотя, может, он просто
пожевал губами.
— Благодарю вас, мистер Виллиам, — сказал он очень любезно. — Очень рад, что мы — я и
Джен сумели вам угодить. Моя супруга все время напоминала про вас. Крестника-то
вашего нет. Вам, наверно, сказали?
— Нет! — быстро отозвался Шекспир. — Я ведь никого еще не видел. А что, разве…
— Так нету, нету, — уехал с матерью к бабушке. Ничего, пусть потормошит стариков, правда? — Он посмотрел на Шекспира. — А вы все еще не хотите стареть. Все такой же
красавец!
— Ну да, а виски? — мотнул головой Шекспир. — Виски-то все белые! Нет, мистер
Джемс, что уж тут нам говорить про нашу красоту.
— Такой же красавец, такой же красавец! безапелляционно повторил хозяин и отпустил
его руку. — Ну, наверно, хотите умыться и отдохнуть с дороги? Идемте, — как раз ваша
комната свободна!
Они прошли коридор и стали подниматься по лестнице.
— И ведь ни одна ступенька не качнется, — похвалил Шекспир.
— А у меня в доме ничего не шатается, мистер Виллиам, — ответил Волк, мельком
взглянув на Шекспира. — У меня все крепко, — продолжал он с нажимом, — и дом, и двор, и
потому что я за этим смотрю по-хозяйски, я…
И тут вдруг Шекспир приглушенно вскрикнул, выпрямился и, конечно, упал бы, если
бы хозяин вовремя не успел подхватить его за спину.
— Ну-ну! — сказал Волк, удерживая в руках его тело. — Ничего, ничего! Ну-ка, сядьте на
ступеньки.
Закинутое назад полное лицо Шекспира полиловело, а на висках, как пиявки, вздулись
извилистые черные жилки. Он все хотел что-то сказать, но челюсть его отваливалась и
отваливалась, и изо рта лезли длинные ленты слюны. Волк стоял, держал его за плечи и
говорил:
— Ничего, ничего. Сейчас все пройдет!
Но как будто огромное деревянное колесо шло по телу гостя, давило грудь, ломало
ребра, и он все выгибался и выгибался под его страшной тяжестью, задыхался и ловил
руками воздух. Так продолжалось минут пять.
Наконец Шекспир облегченно вздохнул, открыл и закрыл глаза и встал. Потом
дрожащей еще рукой вынул платок и обтер лицо.
— Извините, — сказал он пересохшим, но уже бодрым голосом, — я вас испугал. Вот так
накатит иногда на меня…
Губы у него мелко дрожали, а по щекам бежали слезы.
Хозяин, не отвечая, молча взял Шекспира за плечи и повел. Довел до кровати и,
сбрасывая одеяло, сказал:
— Ложитесь! — Шекспир что-то медлил. — Да ложитесь как есть. Я все сделаю.
Он положил его, ловко стянул с него сапоги со шпорами и поставил возле изголовья.
Потом подвинул стул и сел. Шекспир лежал, смотрел на него и улыбался. Он чувствовал
себя очень сконфуженным, как будто его кто уличил во вранье.
— Как же вы ехали? — спросил тихо Волк, помолчав.
— Да вот так и ехал! — ответил Шекспир.
Волк покачал головой и с минуту смотрел на него, что-то соображая. Сзади скрипнула
дверь. Толстая, трепаная девка заглянула в комнату и деликатно хмыкнула.
— Что ты? — спросил ее Волк, не оборачиваясь.
Девка опять хмыкнула и пошаркала ногой по полу.
— А это раньше надо было, — сказал хозяин спокойно. — Убирайся. Ну а играли вы как
же?
Шекспир молчал.
Хозяин встал.
— Так, может, обед вам принести сюда?
Шекспир кивнул головой.
— Но без вина? Без вина, конечно! После припадка пить нельзя. Да и вообще — вы свое
уже отпили, правда? Ну и женщины, конечно, тоже нельзя. Помните смерть Рафаэля? Умер
на чужой кровати. Ну, если и с вами что-нибудь случится, что же мне тогда за вас Джен-то
скажет? Нет уж, отца крестного надо беречь и беречь. А случайная женщина и случайная
смерть — две родные сестры. Так-то, мистер Виллиам.
Волк ушел, а он лежал на кровати и думал. Мысли налетали на него и сразу
обхватывали всего, как ветер шумящую листву. Сперва он думал: "Надо обязательно
добраться до дома и позвать нотариуса. А то она и своей свадебной кровати не увидит!
Бедная моя старуха! А что ты хорошего еще видела в своей жизни? Одну ругань!"
Потом: "Ну а до этого, конечно, еще далеко, лет на пять меня хватит. А все-таки надо
позаботиться загодя".
Так прошел час, а он все лежал на кровати и смотрел на потолок, мысли по-прежнему
захватывали его; как всегда, это был бессвязный вихрь — одного, другого, третьего, — все
без начала и конца.
Он думал еще:
"Питер прав, нужно же было мне скакать сломя голову неведомо зачем!"
(Джен хотел видеть, Джен хотел видеть, Джен хотел видеть — вот и скакал.)
"… Полежу еще немного и спущусь. "Без вина, конечно!" А вот выпью при тебе целую
кварту, тогда ты прикусишь язык".
(Спускайся не спускайся, Джен-то нет…)
"Двойной родственник… смерть Рафаэля…
Ах, Волк! Хитрейшая бестия он, скажу вам по совести. Почему он, когда ему
рассказывают, сидит и молчит и никогда ничего не спросит? Потому что он знает: ври не
ври, а все равно скажешь правду. Но я-то не из таких! Бросай не бросай мне червяка, я на
него не клюну, помни это, пожалуйста… Смерть Рафаэля… А что, если я с этой самой
кровати и явлюсь в царство небесное? О, тогда я буду полон всеми смертными грехами, и
сегодня прибавится еще новый (не бойся, сегодня ничего не прибавится — ее-то нет!). Я
скажу тогда: Господи, конечно, я большой грешник, но, сказать по совести, корень всех
моих грехов — моя женитьба. Все, что есть нехорошего, мелкого в моей жизни — все
наползло оттуда. От нее я и одинок. Ни дома, ни семьи, ни детей, — только могила сына да
три деревенские ведьмы над ней — вот все, что у меня осталось под конец. Да еще ты, Джен, если это верно, что ты меня любишь.
Да, надо будет сразу же позвать нотариуса и составить завещание, но Господи, Боже
мой, ты же знаешь, я никогда не любил ее, такую безобразную, грубую, плечистую — ни
дать ни взять, переодетый мельник. Когда мне было восемнадцать лет, ей уже стукнуло
двадцать пять. А вообще, Господи, все получилось очень просто, — ты же знаешь, я был
молод и гол, а отец слыл самым богатым плутом в нашем округе. Она знала это и была
такая гордая да чванливая, что просто хоть не подходи, но против меня все-таки не
устояла. Когда мы появились вместе, все оглядывались на нас и говорили: "Молодец, Билл! Ты, Билл, далеко пойдешь", "Тебя повесят, Билл, подлец ты эдакий". Вот как
говорили тогда. И это меня больше всего подхлестывало. А были такие, которые смеялись:
"Ни черта из этого не выйдет все равно, разве старый Хатвей примет к себе нищего?" Но
я-то знал: теперь уж ничего не попишешь — примет! Я был в ту пору тщеславен, как все
деревенские парни.
Так мы и обвенчались. В первые годы она была свирепой и необузданной стервой,
швыряла тарелки и кричала через все комнаты так, чтобы слышали прохожие: "Нищий
лоскут! Ты думаешь, я не знаю, почему ты женился на мне? Нет, я очень хорошо знаю
это". Но раз я ей ответил: "Анна, я женился на тебе потому, что через пять месяцев после
нашей свадьбы родился ребенок, — вот и все". Тогда она упала на свою кровать и заревела, а я был доволен и улыбался. Так мы ругались пять лет, потом охрипли и устали, потом
совсем замолкли, — вот с тех пор и молчим. Так что ты зря считаешь меня счастливчиком, Джен. Одной тебе нравятся мои стихи — очень дрянные стихи, если сказать по правде, не
то у меня сидит в голове, когда я еду из "Золотой короны" в Стратфорд, но тебе все равно
они нравятся.
Дрянные стихи… Однажды некий сэр мне сказал: "Ваше время проходит
безвозвратно, вы двадцать пять лет заливали сцену кровью из бычьего пузыря, а нам
нравятся теперь только изящные интриги, тонкость чувств и речей. Королева любила вас
потому, что сама была груба, как скотница, а его величеству еще нравятся ваши ведьмы и
духи, но долго на них вы все равно не проездите. Изящный вкус возвращается в Англию".
А тот великий лорд и философ, который когда-то допрашивал меня по делу Эссекса, — этот
мне сказал так: "Сэр, я видел вашего "Гамлета", не скрою, в нем много истинно смешного
и истинно высокого, но, сэр, вы забываете свое же золотое правило, что скромное
суждение одного знатока следует предпочесть реву целой сотни ослов. Вы пишете только
для увеселения черни. Достойно ли это истинного таланта?" Тогда я ответил: "Ваша
светлость, в моих трагедиях короли и графы говорят о философии". Он засмеялся, махнул
рукой и ответил: "Ах, нет, сэр, пусть ваши короли и графы никогда не говорят о
философии, а занимаются своими делами". И больше по своей благовоспитанности он
ничего не пожелал прибавить — так мы и разошлись.
Только одной Джен нравятся еще мои неуклюжие стихи…"
* * *
А вечером как ни в чем не бывало он и Волк сидели в харчевне за самым дальним
столом, и возле Шекспира стояли два стакана и большая, тяжелая бутылка из черного
грубого стекла.
— Ну вот, часок поспал — и опять молодой и красивый, — сказал Волк радушно. — Сейчас
подадут закуску, и будем пить за ваше здоровье.
Шекспир, чисто выбритый, в свежей, душистой сорочке с кружевными манжетами,
поднял пустой стакан.
— Первый — за маленького Виллиама! Вчера я даже не успел вас спросить про моего
крестника, как он жив?
— Да, да, не спросили, — серьезно подтвердил хозяин. — А он ведь не только крестник, он еще ваш тезка! Как жив-то? А вот через два дня приедет с матерью — увидите. — В голосе
Волка дрожало что-то неуловимое.
— Да вот уж и не знаю, увижу ли, — закинул крючок Шекспир. — Я ведь очень
тороплюсь. Дома меня ждут. Уже неделю, как ждут.
— Но вы же не уедете, не повидавшись с крестником? — спокойно изумился Волк.
Шекспир хотел что-то сказать, но тот перебил: — Нет, нет, об этом и речи быть не может, и
Джен вас так хочет увидеть. Вот! — Волк взял в руки бутылку. — Настоящее португальское!
Она для вас сберегла эту бутылку. Сейчас попробуете, что за вино.
Подошел слуга, откупорил бутылку, любезно осклабился и ушел. Хозяин, строго
нахмурившись и священнодействуя, взял бутылку, осторожно и бесшумно наполнил
стаканы и один подвинул Шекспиру.
— Ну, — сказал он, — за ваше здоровье! Вы в этом году что-то здорово запоздали.
— Да, запоздал, — подтвердил Шекспир, оглядываясь. — А что это, я смотрю, у вас
сегодня мало народу?
Не то что народу было мало, просто никого не было в харчевне, только на другом
конце стола опять сидели два пожилых бородатых человека, наверное, купцы, — пили эль и
о чем-то тихо разговаривали. И Волк тоже мельком посмотрел на купцов.
— А прогораем, — сказал он спокойно и смешливо, — скоро все придется продать и
пустить с молотка. Почему? А вот появился в Оксфорде новый лорд-канцлер и начал
наводить свои порядки. "Как? говорит он. — Чтобы будущие пасторы, богословы и судьи
рыгали, как свиньи, и валялись с непотребными девками под заборами? Так не будет же
этого! Буду ловить и судить своим судом". Ну, а человек он крутой, и суд у него короткий, -
вот видите, не ходят, боятся. — Волк говорил насмешливо и спокойно. — Так что хоть
закрывай лавочку. Только одна надежда есть: у нас в веселой Англии праведники что-то не
заживаются. — Он взглянул на Шекспира повеселевшими глазами. — Ну а вы надолго к нам?
— Насовсем, — ответил Шекспир.
— Вот как? — удивился хозяин и в первый раз посмотрел на своего гостя как-то по-
настоящему.
— Да вот так, — ответил Шекспир уныло и сдержанно, — именно так!
Помолчали.
— Нехорошую весть вы мне сообщили, мистер Виллиам, — сказал наконец Волк
печально и просто. — Лондон для меня будет пуст без вас.
— Ну что там! — отмахнулся Шекспир. — Знаете, какие парни там будут работать вместо
меня?
Он говорил о Флетчере и Бомонте — двух модных драматургах, поступивших в
"Глобус" еще семь лет назад.
— Да, не ожидал, не ожидал, — повторил Волк задумчиво. — И что же, Бербедж вас
отпускает?
— А-а! — поморщился Шекспир. — Вы думаете, это все те же времена, когда в театре
только и были я да Бербедж? Нет, теперь все не то. Меня и слушать не хотят.
Тут хозяин даже улыбнулся.
— Шуточки! Кто же захочет порвать с вами после письма короля?
— Ах, это письмо! — Шекспир так рассердился, что даже выругался про себя. — Дорогой
мистер Джемс, — сказал он бешено и тихо, — этому письму уже семь лет, — это раз. Второе: надо же знать, что это за письмо и что в нем было, а этого никто не знает, но все кричат:
"Письмо короля, письмо короля!" И третье, самое главное: правда, король послал мне
письмо, но сверх этого его величество не даст мне ни шиллинга. Меня содержат такие же
простые люди, как вот вы, или старый Питер, или я сам. Это они бросают в медную
кружку свои пенсы, — значит, они хозяева и в них все дело. И я всю жизнь жил с ними в
ладу, потому что знал, что им от меня нужно. А сейчас вот не знаю, — значит, стал стар и
непонятлив. Да и вообще, скажите, может, наконец, человеку все надоесть?
— Конечно, если этому человеку шестьдесят пять лет… — сказал хозяин неохотно.
— Ну а если человеку сорок восемь, но двадцать пять лет он провертелся на сцене, тогда что? — спросил Шекспир сердито. — Ведь если мне сорок восемь, то Вену только
тридцать девять, а Бербеджу тридцать шесть.
— Все это не то! — досадливо сморщился хозяин, — Бербедж — актер, Бен — солдат. И вы
теперь только пишете, а не играете!
— Я пишу! Марло кончил писать в двадцать девять, а Грин в тридцать, — сказал
Шекспир, — а мне сорок восемь, и этого все мало! Эх, мистер Джемс, давайте тогда лучше
уж пить!
Волк быстро отодвинул бутылку.
— Хватит! Я не хочу с вами возиться всю ночь. Нет, вы говорите не то. Ваш
возлюбленный Марло и Грин были пьяницы и пропащие души. Поэтому одного зарезали, а другой сгорел от вина. А вы хозяин, джентльмен и благоразумный человек.
— Вот поэтому я и нагружаю свой фургон, что я благоразумный человек, — сказал
Шекспир, отдуваясь. — Именно поэтому. Вы же знаете, что такое "нагрузить фургон"?
Волк кивнул головой.
"Нагружал свой фургон" Шекспир уже дважды.
Первый раз — когда во время чумы парламент на три года закрыл все театры и актерам
пришлось ехать за границу, и второй раз, лет двенадцать тому назад, — когда в Лондоне
появились детские труппы. Успех их был потрясающий, и актеры не понимали, в чем
секрет. Все в этих театрах, все было как в настоящих, только хуже. По сцене двигались, неумеренно махая руками и завывая, карликовые короли, замаскированные крошечные
пираты, наемные убийцы, малюсенькие принцессы, рыцари, монахи, арабы и любовники.
Все, что полагалось по пьесе, дети проделывали до конца добросовестно, — они изрыгали
чертовщину, говорили непристойности, резались в карты, блудодействовали, убивали и
даже вырывали из груди сердце убитого, но ручка у убийцы была тонкая, детская, с
пальчиками, перетянутыми ниточкой, а из-под злодейски рыжих лохматых париков
светились чистые, то по-детски сконфуженные, то детски восторженные глаза; у блудниц
же были голубые жилки на височках, тоненькая, наивная шейка, и у всех без исключения -
звонкие, чистые голоса. Репертуар для детских трупп подбирался самый что ни на есть
свирепый — убийства, отцеубийства, кровосмешение, вызывание духов, но детские голоса
побеждали все — и кровь, и грязь, и блуд, зритель уходил из театра довольный и
очищенный от всей скверны. И тогда большие мрачные театры взрослых опустели.
Актеры закрыли их ворота на замок, забрали костюмы да и поехали искать счастья по
графствам. "Дети оттеснили всех, даже Геркулеса со своей ношей", — писал Шекспир о
"Глобусе". Вот именно тогда они и встретились, молодой Волк и молодой Шекспир.
— Ну что ж, — сказал Волк, подумав, — пусть будет так. Вы правы, "отцветают первыми
те цветы, которые зацветают первыми". Вы достаточно поработали — у вас два дома…
Шекспир сердито засмеялся.
— Вот в этом-то и все дело! Дома-то и тянут меня на дно. Юдифь говорит: "Ну, когда у
тебя не было за душой ни гроша и мы жили на матушкино приданое…" Вы слышите, "на
матушкино приданое"! Это все тетки Хатвей им вбивают в голову. Так вот, им понятно, зачем тогда я сунулся в клоуны. Ну что удерживает меня теперь, когда у меня есть деньги?
Ведь мы для них все клоуны — что я, что Бербедж, что король джиги Кемп, — разницы-то
нет! Они всех бы нас засунули под один колпак. — Он протянул Волку стакан и сердито
приказал: — Налейте! Вы еще будете, Джемс, дурить!
Волк налил, и они выпили еще по стакану.
— В прошлом году было такое, — продолжал Шекспир, — приходит к моей супруге некое
очень уважаемое лицо. Ольдермен или пастор, уж не знаю, для меня же все тайна. Так вот, приходит это очень уважаемое лицо и говорит моей старухе: "Вы мать почтенного и
богобоязненного семейства, ваши дочери — лучшее украшение нашей апостольской церкви, а ваш супруг за пенни представляет дьявола возле кабачка рыжего Джона". Вот видите, какое дело! И моя старуха плачет и говорит соседям: "Я знаю, что господня десница на
мне и на моих детях".
— Вы ей и ее детям заработали дворянство, возмутился Волк, — про это-то она, по
крайней мере, помнит?
— И теперь насчет дворянства, — продолжал Шекспир. — Моя старуха, конечно, ему это
сейчас же и выпалила, — так знаете, что он ей ответил?" — Милорды своим шутам и не то
дают, но Бог в судный день отворотится от такого дворянина". Эти старые надутые дурни, оказывается, знают, кого Бог спасет, кого осудит! — Он швырнул в сердцах по столу стакан
и продолжал: — На достопочтенного сэра можно было бы, конечно, и плюнуть, как он этого
и заслуживает, но тут другое: Юдифь-то все не замужем. Когда Сюзанна выходила за
доктора Холла, у Юдифи целую неделю обмирало сердце, болела голова, и она ходила с
опухшими глазами. Я в то время этому не придал значения: ладно, мол, еще время-то
будет, успеет выскочить. Но вот прошло пять лет, а она все в девках. И говорит: "Это все
твой чертов театр, чтоб он сгорел!" Ну вот, он наконец сгорел, и я приехал, чтоб ее выдать
замуж.
Волк сидел молчаливый и хмурый. Он хорошо знал Юдифь. Это была рослая,
белобрысая, перезрелая девка, такая тяжелая и злая, что когда она шла, то на столе и
полках дребезжала посуда. Она, конечно, и не такое еще могла выпалить.
— "Чтоб он сгорел"! — угрюмо повторил Волк. — И ведь не знает ни одной вашей
строчки.
— Одну 'знает, — ответил угрюмо Шекспир. — В прошлом году, как я только приехал, она
мне ее и преподнесла. Вот: "Я должна танцевать босиком на свадьбе моей сестры и из-за
вашей глупости водить обезьян в ад".
Волк покачал головой, — видно, кто-то из стратфордцев подобрал этой ведьме
подходящую цитату: "Водить обезьян в ад" — это и значило сидеть в девках.
— Это, наверное, ее доктор подучивает, — сказал он.
— Возможно, — сейчас же равнодушно согласился Шекспир. — Возможно и доктор, я его
плохо знаю. Так вот, для того чтобы она не "водила обезьян в ад", я и возвращаюсь. Раз уж
нажил два дома и народил дочек, ничего не поделаешь, тогда возвращайся и уж сиди
смирно на месте. Оказывается, что за все нажитое приходится отвечать перед людьми и
Господом.
— Да, перед людьми и Господом, — задумчиво согласился хозяин, упорно думая о своем,
— и такова, наверно, природа вещей. Как говорит один ваш герой: "Простите нам наши
добродетели, ибо в наши жирные времена добродетели приходится просить прощения у
порока".
Глава 3
На другой день он сидел и брился, как вдруг вошла давешняя девка и спросила, готов
ли он и может ли к нему прийти госпожа.
Он вскочил, как был, весь в мыле и с бритвой в руке.
— Скажи ей, что сейчас я сам…
Но девка, не торопясь, подошла к постели и стала ее убирать.
— Госпожа придет сюда. Хозяин уехал ночью за сеном, — голос девки был очень
спокойный, она даже ни разу не посмотрела на Шекспира, — госпожа приказала, чтоб вы
скорее вставали и ждали ее.
"Сумасшедшая! — подумал Шекспир о Джен. — Ну не сумасшедшая ли? Что еще за
спешка?!"
Пришла она, однако, только через полчаса. На ней было простенькое черное платье, которое очень ей шло, потому что оттеняло чуть желтоватую, сливочную белизну ее лица
и шеи. Ведь она и вся была полная, спокойная, неторопливая, с мягким шагом,
осторожными руками и округлыми, плавными движениями.
— Подумать только, — сказала она, бесшумно заходя в комнату и притворяя дверь, — он
как будто выбрал специально такое время, когда меня не было. Год ждала его, уехала на
два дня — и он тут как тут! Ты что же, не хотел меня видеть? А я вот все равно услышала и
приехала!
— Боже мой, Джен! — как будто даже подавленно сказал Шекспир, подходя к ней и
целуя ее то в одну, то в другую щеку. — Джен, да я с ума сошел, когда узнал, что тебя нет! Я
бы и сам поскакал к тебе, но Джемс был так снисходителен…
Она не то поморщилась, не то улыбнулась.
— Снисходителен? — спросила она певуче и вздохнула. — Ну, хорошо! — Она подошла к
окну, спустила штору и села в кресло. — Так почему ты так запоздал?
Он посмотрел на нее.
— А разве тебе твой муж ничего…
— Я его видела только одну минуту, — ответила она, серьезно и прямо глядя на него. -
Он вызвал меня, а сам уехал.
Она говорила очень спокойно, но он вдруг почувствовал, что с ней что-то случилось и
она совсем не такая, как всегда, — не то встревоженная и затаившаяся, не то совершенно
спокойная, — но какая же именно, он ухватить не мог.
— Так рассказывай, — нетерпеливо сказала она. — Ты рассчитался с театром, да?
Это "ты рассчитался" прозвучало так по-обидному легко и жестоко, что он внутренне
вздрогнул.
— Значит, кое-что он все-таки успел тебе рассказать? — спросил он.
— Но я же сказала: он мне ничего не говорил, суховато отрезала она, — так говори, я
слушаю.
Он смотрел на нее настороженно и неуверенно, потому что совсем не этого ждал от их
встречи и никак не понимал ее тона.
— Ну так что ж рассказывать? — пожал он плечами. — Рассчитался, вынул свою долю и
вот еду домой.
— Домой? — спросила она протяжно, что-то очень многое вкладывая в это слово, но
сейчас же и осеклась. — Ладно, о доме потом, но почему ты ушел? — Он открыл было рот. -
Ты болен? Давно?
"Рассказал о припадке, скотина", — быстро подумал Шекспир и ответил, принимая
вызов Волка, в лоб:
— Так болезнь-то, собственно говоря, одна — мои пятьдесят лет. Для театра я стар — вот
и все.
— А те моложе? — спросила она спокойно.
— Те делают сборы, — резко сказал Шекспир, а я не делаю сборов, значит, я выдохся и
стар. Что бы я ни написал, все теперь не имеет успеха. Ну кому теперь нужна "Буря" или
"Зимняя сказка"? — Он улыбнулся и развел руками. — Никому! Только мне.
Так же резко и спокойно она спросила:
— А "Гамлета" ты больше не напишешь?
— А "Гамлета" я, пожалуй, больше не напишу, ответил он задумчиво и просто, — нет, определенно даже не напишу. Да он и не нужен. И потом я просто устал. Джен, ну может
человек устать?
Она ничего не ответила, он хотел сказать что-то еще, но вдруг, наколовшись на ее
взгляд, резко махнул рукой и замолчал.
Он знал: что бы он ей ни сказал, она поймет его, но говорить дальше было уже просто
невыносимо, кто же имеющий голову станет жаловаться любимой женщине на свою
несчастную судьбу или на интриги товарищей!
Но она больше ничем и не интересовалась, а только спросила:
— А дома тебя ждут?
— Ну конечно, — ответил он невесело.
— Жена и дочери? — спросила она, легко произнося те слова, которых они до сих пор
оба тщательно и пугливо избегали.
— И зять еще, — ответил он, усмехаясь.
— И все они будут рады?
Он пожал плечами. Ему вдруг подумалось, что вот он рассчитался с театром — и все
вокруг сразу переменилось: и Волк не так его встречает, и старый Питер глядит как-то
странно, и даже Джен иная. Или, может быть, это он переменился, а люди-то остались
прежними?!
— Джен, Джен, — сказал он, мучительно улыбаясь, — что ты такое говоришь, как же жена
может быть не рада своему мужу? Нет, моя Анна благочестивая женщина.
Джен кивнула головой и сказала раздумчиво и печально:
— Месяца полтора они были все тут: миссис Анна, Сюзанна и доктор Холл.
Его сразу обдало жаром, и он спросил:
— Ну и что?
Она смотрела на него с улыбкой, смысла которой он не понял.
— Ничего! Миссис Анна — старая достойная женщина. Когда Джемс показал ей две
твои книги "Сонеты" и "Гамлет", — она взяла их и долго переворачивала и только потом
листнула и положила, а вечером она спросила Джемса, давно ли они печатались. Джемс
ответил: "Одна — восемь лет назад, другая три". Тогда она покачала головой и сказала: "Не
знаю, не знаю, восемь лет тому назад мы, правда, уже купили дом, но, наверно, не на них.
За эти штуки дорого не платят". А Сюзанна крикнула из другой комнаты: "Да и ничего не
платят! Это так кто-то зарабатывает, а нам от них только позор". Тут я сказала ей, что это
не позор, а слава. Лорды, графы и герцоги издают такие книги. А миссис Анна вздохнула и
сказала: "Да уж наверно не такие, а какие-нибудь графские. Вот у доктора в комнате лежит
с гербом и короной на белом переплете — это другое дело, а от этой дряни чести нам не
много, а денег и того меньше.
— Они правы, — усмехнулся Шекспир, — и хорошая слава в Лондоне на мне, а худая в
Стратфорде на них. В том-то и дело, Джен, что, пока я витал в облаках, мои женщины
ступали по стратфордской земле. Поэтому я и имею два дома.
— Разве поэтому? — повторила Джен невесело. — Когда Анна увидела, что доктор принес
своей жене букет, она сказала ей: "Вот твой бы отец посмотрел! Он ведь знает название
каждого цветка. Бывало, пойдем мы за мельницу, сорвет он какую-нибудь болотную
травку и спрашивает: "Анна, ну а это что такое?" Тут Сюзанна закричала: "Ой, мама, вы
всегда заведете что-нибудь такое! Ну кому интересно, в какое болото вас таскал отец сорок
лет тому назад…" И миссис Анна сразу замолкла. Вечером я подошла к ней и спросила:
"Мистер Виллиам так любит цветы?" У нее уже были заплаканные глаза, — там что-то
опять вышло у Холлов, — и она мне сердито ответила: "А что он только не любит? И птиц, и деревья, и цветы, и песни, и еще Бог знает что! Только до своей семьи — жены и детей -
ему нет никакого дела!" Я возразила: "Но и земли и дом он купил в Стратфорде только для
вас и дочерей. Его сердце все время с вами". Тут она так рассердилась, что даже
покраснела. "Да что вы мне толкуете про его сердце, сударыня? Я-то уж знаю хорошо, где
его сердце. Вы мне хоть этого-то не рассказывайте. Несчастная та женщина, которая ему
поверит!" Я хотела ей еще что-то сказать, но она закричала: "Ну и довольно слушать мне
эти глупости! Куда ни приеду, все мне: "Ваш муж, ваш муж!.." Как будто хотят похвалить, а на самом деле запускают когти. А я стара-стара, глупа-глупа, да вижу, кто на что метит. Я
вам говорю: забери нас всех завтра чума — он только перекрестится. Слава Богу, наконец
развязался бы и со мной и с дочерьми".
Джен посмотрела на Шекспира:
— Виллиам, зачем вы туда едете? К кому?
Пока она говорила. Шекспир сидел и горел. Ему было так неудобно, что он даже
перестал улыбаться. Когда же Джен кончила, он вскочил и бурно обнял ее, но она резко
вывернулась и сказала:
— Оставьте, я с вами хочу серьезно говорить.
Но он, беспокойно и мелко смеясь (куда делось его мужество!), схватил ее и уткнулся
лицом в ее шею. Действительно, только того и не хватало, чтоб его ведьмы, собравшись
скопом, поочередно совали в нос Джен печные и ночные горшки его семейства. И
Шекспир понимал, что сейчас чувствовала Джен. До сих пор она знала его совсем иного -
легкого, веселого, свободного, как ветер, избалованного успехом и женщинами, знатного
джентльмена, спустившегося в их харчевню из голубоватого лондонского тумана.
Любимца двух королей и друга заговорщиков. Он сорил деньгами и был молод — сколько
бы лет ему ни исполнилось! — был весел и беззаботен что бы с ним ни случилось! — был
одинок и беспощаден в своей жестокой свободе. И вот теперь перед ней оказался старый, больной человек, плохой муж и нелюбимый отец, который никак не может сбыть свою
перезревшую дочь и за это все семейство грызет ему шею; то, от чего он скрывался всю
жизнь, откупаясь письмами, деньгами и обещаниями, вся эта жадная, глумливая прорва
наконец настигла его и накрыла в его последнем и сокровенном убежище — как же тут не
мычать от стыда и боли и не прятать раскаленное лицо в шею любовницы?
— Да что ты их слушаешь? — чуть не закричал он. — Сюзанна поссорилась со своим
мужем — это у них на неделе два раза, чем-то затронула мою старуху, та и раскудахталась…
— Он не хотел сказать "старуху", это уже само собой вырвалось, и он увидал, как Джен
поморщилась. — Ну вот еще беда! сказал он безнадежно. — Я вижу, наговорили тебе черт
знает что, а ты и расстроилась.
— Вы не научили ваших дочерей даже грамоте, сказала она задумчиво, — они же не
могут отличить писаного от печатного. — Он осел от ее тона — так горестно и искренне
прозвучали ее слова. Замолчала и она. Так они и молчали с минуту.
— Ах, Виллиам, Виллиам, — сказала она наконец, — завтра вы будете у них. Что ж вы там
будете делать? С кем говорить? Куда вы кинетесь, когда вам станет невмоготу?
— К тебе! — пылко, тихо и решительно сказал Шекспир. — Ты мне теперь заменишь всех.
Ты моя последняя и самая крепкая любовь.
Она хотела что-то возразить, но он перебил:
— Послушай, я все обдумал. Спроси у Питера, какого коня я купил, — для него сорок
верст — пустяк, один прогон! У старика глаза разгорелись, когда он на него взглянул.
Она посмотрела на него, словно не понимая.
— Ну конечно, придется беречься. Я уже не буду заезжать к вам каждый раз.
Он не докончил, потому что увидел — она плачет.
— Джен, — сказал он обескураженно, — что это с тобой, а?
Она быстро вытерла глаза и приказала:
— Сядь!
И так как он продолжал стоять, вдруг горестно крикнула:
— Ах, да сядь же ты, пожалуйста! Мне надо тебе сказать!
Он посмотрел на нее, отошел и сел.
— Ну вот, — сказала она как-то тупо. — Я хотела сказать тебе, что нам надо перестать
встречаться.
И только что она сказала так, как он понял, что именно этого и ждал от нее с самого
начала разговора. И все-таки это было так неожиданно, что он вскрикнул. А она
продолжала:
— Муж знает все. Уж Бог ведает, кто ему сказал и что именно. Ты же знаешь, что от
него не допросишься лишнего слова. Но сегодня, как я только приехала, он сказал: "Милая
Джен, я вызвал тебя и сам уезжаю, чтобы ты могла хорошенько наедине поговорить с
мистером Виллиамом". Я ему сейчас же ответила, что наедине нам с тобой не о чем
говорить, но, наверное, все-таки побледнела, потому что он даже усмехнулся и сказал: "А
ты поговоришь вот о чем: скажешь, что мы его по-прежнему очень любим и ценим, но
останавливаться в другой раз ему у нас не следует, и вообще, раз он уже ушел из театра, пусть сидит в Стратфорде". Я чувствую, что у меня пересекается голос, и говорю: "Джемс, что ты делаешь? Он же крестный отец нашего Виллиама". А он кротко ответил: "Джен, так
будет лучше для всех нас". С этим и уехал.
Она умолкла. Шекспир понимал: это все. Здесь слова на ветер не бросаются. Волк
подумал, решил и отрезал. А Джен не такая, чтоб идти на гибель. Она его любит, конечно, но больше всего она держится за свою честь и тишину в доме. Ну, так значит, все. Не
переставая улыбаться, он наклонился и галантно поцеловал ей руку.
— Ну что ж, — сказал он любезно, — раз вы уж оба так решили — покоряюсь. Хорошо: буду сидеть дома.
— Да жить-то ты с ними как будешь? — спросила Джен, задумчиво смотря на него. — Как
тебя там встретят? Вот о чем я думаю все время.
Он выпрямился. Сейчас он уж полностью владел собой. Так его всегда укрепляла
безнадежность.
— Как меня встретит семья? — спросил он, тщательно выделяя интонации (но актеры
сразу же заметили бы, что он переигрывает). — Странный вопрос, Джен. В конце концов, это же мои дочери, и моя жена, и мой дом. Я приеду к своей семье и буду разводить розы.
Вот и все.
Она подошла и обняла его.
— Ну, я рада, что ты так это принял. Но помни я тебя люблю и о тебе думаю.
У него сразу же потеплело у глаз (это же беда — до чего он стал плаксив за последнее
время!), но он скрыл это, торопливо поцеловав ее в висок.
— И мне жалко, что мы так расстаемся, — сказал он. — Но Волк прав, пора кончать.
Случайная женщина и случайная смерть — две родные сестры.
Она возмущенно вскрикнула:
— Это, значит, я — случайная женщина?
Он мирно поцеловал ее опять в щеку, а потом быстро наклонился и стал беспорядочно
целовать ее руки — одну и другую. Это на время скрыло его лицо.
— Не сердись! — сказал он кротко и беспощадно. — Но когда человек проживет на свете
пятьдесят лет, с ним обязательно случится однажды что-то такое, что он вдруг поймет: все
встреченные женщины — случайность, а по-настоящему есть у него только одна старая и
некрасивая жена, та самая, которая сидит и, проклиная, терпеливо ждет его всю жизнь.
Вот только в ее кровати он и должен умереть, если хочет кончить по-порядочному.
— А я? — спросила Джен обескураженно. — Как же я-то, Виллиам?
Он пожал плечами.
— А ты навеки останешься в моем сердце. Без твоей любви мне было бы очень трудно, я даже не знаю, выдержал ли бы я эти годы. Ты не знаешь, какими они для меня были
тяжелыми. Но ты ведь вот меня не ждала, не проклинала, не отрекалась от меня по сто раз
в день. Ты меня только любила — и все. А любить в жизни — это все-таки, наверно, не самое
главное. Вот и получается, что ты возвращаешься к своему мужу и детям, а я иду к своей
старой злой жене и перезрелой девке — своей дочери, потому что они единственно близкие
мне люди. И оба мы с тобой с этих пор будем жить честно и лежать только в своих
кроватях, ибо, — он криво улыбнулся, — должны же исполниться наконец слова того попа из
соседнего прихода, который обручил меня с Анной. — Он улыбнулся. — Этот поп был хоть
куда — пьяница, грубиян, но людей видел насквозь. Он сказал тогда: "Парень, ты женишься
на богатой девке, которая старше тебя на семь лет. И я вижу уже, куда у тебя глядят глаза, -
ты гуляка, парень, и человек легкой жизни, но сейчас ты, кажется, уж налетел порядком, ибо у меня тяжелая рука, и кого я, поп, соединил железными кольцами, того уже не
разъединят ни люди, ни Бог, ни судьба". И вот так и получилось.
КОРОЛЕВСКИЙ РЕСКРИПТ
Глава 1
Эсквайру Саймонсу Гроу:
"Дорогой сэр! Обращаюсь к вам с великой и покорнейшей просьбой. Вот уже в
течение пятнадцати лет я занимаюсь историей смуты в нашем королевстве и в связи с ней
и жизнью короля-мученика. Мой труд начинается с описания детства его величества при
дворе венценосного отца его, короля Британии, Шотландии и Ирландии — Иакова 1.
Правда, я не имел возможности работать в королевских архивах, но зато все труды его
величества — теологические, политические, философские, демонологические и
эгзегетические — я проштудировал с величайшей основательностью. Это-то и дает мне
некоторое — пусть слабое и обманчивое — право надеяться на то, что светлый образ короля-
философа в моей книге предстанет перед потомством в подобающем ему свете и величии.
Увы, сэр, должен сознаться, что сердце мое сейчас не весьма спокойно. Слишком уж часто
на уроках (я преподаватель латинского и греческого) приходится приводить школярам
слова великого Флакка, что уж третье поколение рождается и живет в пламени
гражданской войны! Да избавит же нас Бог от этого! Именно по этой причине я решил на
склоне лет своих откинуть школьную ферулу и взяться за перо. Я хочу, пользуясь словами
Спасителя, отвести слепцов, следующих за слепым поводырем, от поджидающей их
бездны. Только объяснив все это, я могу наконец изложить свою просьбу.
Мне стало известно, что полвека тому назад вы, сэр, будучи лекарским учеником,
стояли у смертного одра некоего актера и сочинителя масок Уилиама Шекспира. Этот
актер за несколько лет до своей кончины был почтен личным письмом его величества, а
затем и длительной аудиенцией наедине. Как и следовало ожидать, беседа с монархом
оставила неизгладимый след в загрубелом сердце лицедея. Вскоре после этого он покинул
подмостки и уехал на родину, чтобы провести последние годы в мирных трудах и
размышлениях. Вот это чудесное преображение я и хотел бы с соответствующими
комментариями внести в свой труд. Однако никаких подробностей и даже подтверждений
этого факта, который к тому же отрицается весьма многими, я не имею.
Ничего существенного не дало мне и знакомство с собранием пьес покойного,
выпущенных посмертно его сопайщиками. Это беспорядочное и утомительное
нагромождение непристойных, грубых и кровожадных зрелищ, большей частью
списанных у древних (со смешной важностью или невежеством издатели именуют их то
трагедиями, то комедиями). Но если столь безмолвны сочинения-покойного, то не
открылись ли его уста в предсмертный час? Не поведал ли он в ту пору кому-нибудь из
близких самое дорогое достояние свое — сокровенную сущность беседы с королем-
мыслителем? Утверждают также, что мистер Шекспир весь остаток жизни тщательно
хранил и даже прятал от своих близких письмо его величества, а после его смерти оно
вообще пропало. Но так ли это? Нельзя ли предположить, что драгоценнейший
манускрипт сей еще до сих пор хранится у кого-нибудь из наследников и что, чтя память
покойного, они согласятся через меня познакомить с ним мир? Однако где эти наследники, кто они и как их искать? Вот с этими вопросами я и обращаюсь к вам, сэр. Сознаюсь, кроме того, что мне очень бы хотелось прибавить ваше почтенное имя, со всеми
подобающими ему титулами, к тому списку лордов, философов, графов и пэров,
удостоивших мой труд своим вниманием и поддержкой, который будет помещен в
предисловии. Равно так же я был бы вам благодарен за любое сообщение о бумагах и
рукописях покойного, которые в какой-то мере могли бы быть использованы в моем труде.
В последнее время мистер Шекспир работал в труппе, которой по соизволению монарха
было присвоено звание королевской. Именно в этой связи меня заинтересовала его пьеса
"Макбет". Самый замысел ее и некоторые подробности текста как будто указывают на то, что сам монарх мог указать лицедею на…"
Последний лист или листы утрачены. Но вместе с этим письмом лежит черновик
другого, ответного:
"Уважаемый сэр! Ваше любезное письмо я получил и спешу на него ответить, хотя
боюсь, что скорее разочарую вас, чем обрадую. Вы совершенно правы: я в
действительности некоторое время пользовал сэра Виллиама Шекспира, в ту пору уже
находящегося на смертном одре, но не был с ним ни близко знаком, ни тем более дружен.
Не могу также представить себе, кому бы из домашних он мог доверить те сведения, которые вы разыскиваете. Кажется, никому.
Если же вас интересует история моего знакомства с покойным, могу сообщить, что
привел меня к нему его зять, а мой дальний родственник доктор Холл, ныне тоже уже
давно покойный. Произошло это наперекор воле его домашних, которые вообще не
терпели около больного посторонних. Покойный, впрочем, платил и домашним тем же -
вот почему я не думаю, чтоб кто-нибудь из его потомков мог бы быть в чем-нибудь вам
полезен. Что касается бумаг и рукописей, то о них я ничего достоверного сообщить не
могу. Кажется, актеры, друзья покойного, что-то подобное действительно нашли и увезли
с собой. Помнится, что какой-то такой разговор при мне был, но ничего более точного я
сказать не могу. Что же касается письма его королевского величества, то я сейчас
вспоминаю, что действительно слухи о нем по городу ходили, но я так и не знаю, видел ли
его кто-нибудь из друзей и родственников покойного. Но кажется, что нет. Очень сожалею, что, кроме этих отрывочных сведений, не могу сообщить вам ничего иного, действительно
достойного вашего внимания и труда, вами затеянного".
Отрывок из второго письма тому же адресату. Начало не сохранилось — черновик.
"… от безусловно смертельного удушья, протекающего до того довольно вяло и вдруг
приобретшего галопирующее течение. Кроме того, здоровье его, как говорили мне
близкие, и без того не весьма крепкое (все мужчины в этой семье умирали рано), было
подорвано многолетним служением там, где требовалось чрезвычайное напряжение
гортани, а значит, сердца и легких. Я имел горькое счастье присутствовать при последних
минутах покойного и могу увы! — засвидетельствовать, что ни в предсмертном бреду, ни
при прощании с близкими мистер Шекспир не произнес ничего такого, что представляло
бы философский или государственный интерес. Умер он, однако, как добрый христианин, приняв святые дары, помирившись с домашними и разумно распорядившись своим
имуществом. Даже мне, юнцу, человеку совершенно ему постороннему, доктор Холл
вручил от его имени 20 шиллингов и два пенса на покупку памятного перстня, который я и
до сих пор ношу на пальце. Жене же своей он завещал вторую по качеству кровать, что
вызвало тогда же много разговоров.
Погребен сэр Виллиам в той же церкви Святой Троицы, в которой он и воспринял
таинство крещения. Как мне передавали, лет двадцать пять тому назад наследники его
водрузили над могильной плитой раскрашенный бюст покойного. Мистер Шекспир
изображен таким, каким он запомнился близким в последний год жизни. Вот, пожалуй, и
все, что могу сообщить дополнительно в ответ на ваше второе письмо. Примите же, сэр…"
Написал, бросил перо и вышел в сад. Была уже ночь, было очень, очень тихо,
кузнечики не стрекотали, и он опустился на скамейку, сник и задумался. Вот за эти
пятьдесят лет была война, резня, палач поднимал за волосы голову короля и мотал ее
перед толпой; кости лорда-протектора, вырытые из могилы, качались на виселице, — а этот
чудак все интересуется королевским рескриптом, королевской аудиенцией, еще какой-то
такой же ерундой. А что он может ему рассказать? Разве после всех этих событий не
испарилось у него из памяти почти начисто, что он пережил полвека тому назад, стоя у
изголовья той кровати? Разве помнит он все это? Разве не забыл начисто все?
Нет, не забыл ничего и помнит все. Вот как это было. Свел его с доктором Холлом
хозяин трактира "Корона", некий Джеймс Давенант — угрюмый и молчаливый, хотя по-
своему добродушный человек с глубокими, волчьими складками на щеках. А сам-то он в
ту пору был молодец хоть куда! Его так и звали "неистовый Саймонс" и "Саймонс-
молодец", потому что он ничегошеньки не боялся! И, Боже мой, как он нравился тогда
женщинам и там, в Кембридже, и здесь, в Оксфорде! И как это злило сводную сестру, у
которой он гостил! И в дом Волка он вошел в тот вечер растерянный и расстроенный по
этой же причине. Был скандал. Он только что насмерть поругался с сестрой, преподнес
что-то хорошее ее мужу — этакому бычине с круглым лбом и маленькими глазками на
сизом лице — и скатился к себе упаковывать чемоданы. За этим и застал его посланный за
ним поваренок. И сначала он, даже не выслушав ничего, крикнул: "А шли бы они все…" -
но сразу же одумался, поднялся и сказал: "Сейчас". И прицепил шпагу. Когда они с
хозяином вошли в гостиную, доктор Холл сидел на кресле возле стола и что-то тихо
внушал жене Волка. Та стояла рядом. Рука ее лежала на спинке кресла, около затылка
Холла. Она слушала, наклонив красивую белокурую голову, и улыбалась. Саймонс знал: она всегда, когда с ней говорят, улыбается так — неясно и загадочно. И всегда эта улыбка
бросала его в пот. А в доме, очевидно, только что отобедали: пахло жареным луком, стояла
грязная тарелка с ложкой и обглоданной костью, валялся комок салфетки. Когда они -
хозяин и он — вошли в комнату, доктор сразу поднялся с кресла и оказался высоким, худощавым господином солдатской выправки, со светлыми холодными глазами. Он
взглянул на них и сказал: "Минуту! Вымою руки!" и исчез.
Миссис Джон поглядела на мужа, мельком скользнула взглядом по нему, завсегдатаю
"Короны", взяла тарелку, салфетку и тихонько вышла. Волк отодвинул от стены кресло и
сказал: "Присаживайтесь, пожалуйста". Потом посмотрел на подсвечник и негромко
хлопнул в ладоши. Вошел поваренок.
— Замени, — спокойно приказал Волк. — Стой! Принесешь две бутылки из бокового
шкафа и три бокала! Но я же не сказал тебе "иди"?! Захватишь еще жбан грушевой воды.
Иди!
Доктор вернулся и подошел прямо к нему. Голубые глаза его сияли.
— Ну, здравствуйте, здравствуйте, дорогой, сказал он, сжимая ладонь Саймонса в своих
тонких, сильных и горячих пальцах. — Здорово? — спросил он вдруг удивленно. — Очень
здорово! Вот этого красивого молодого джентльмена я в последний раз видел двадцать два
года тому назад, когда ему исполнилось три дня от роду. И тогда мы так пили за его
здоровье, что моя кузина с кровати сказала: "Ох, чувствую, он тоже пойдет в отца". А ее
муж — у него была бондарная мастерская, и сам он был вырублен как из черного мореного
дуба — ответил: "И на здоровье! Пусть хлещет, пока из него не попрет. Только бы не стал
безбожником". Ну вот, я вижу по нему, хоть первая часть пожелания исполнилась, а? Так, коллега, да? Что ж, стали врачом и не хотите знать своего дядю? Вот это уже нехорошо! -
Он повернулся к Волку: — Мистер Джеймс, ведь он и в самом деле не знает, кто с ним
говорит. (Волк чуть улыбнулся и двинул одним плечом.) Да дядя я ваш! Дядя! Доктор
Джон Холл из Стратфорда, если разрешите представиться! — закричал он. — Что ж, дорогой
племянничек, вот говорят, что вы частенько бываете в наших местах, каждый год гостите у
сестры — привет ей, кстати сказать, привет и лучшие пожелания! и никогда вам не
захотелось навестить своего дядю? Пожить у него хоть недельку, а? Может быть, я, конечно, как врач и немного стою перед вашими светилами, но…
Холл как врач стоил очень много и хорошо знал это. Его имя было известно даже в
Кембридже и Оксфорде, За это его люто ненавидели здесь все местные лекари и аптекарь, лекарствами которого он не пользовался (кажется, они не сговорились о барышах).
Саймонс посмотрел на дядю (хотя какой, по совести, дядя? Троюродный брат его матери!).
Лицо у доктора было такое же худощавое, солдатское и сильное, как и он сам, он говорил
и улыбался, а светлые глаза не улыбались — они были пристальны и неподвижны. В это
время появился поваренок с подносом, и Волк, прерывая излияния, сел за стол и изрек:
— Ну, со свиданьем.
И все тоже сели за стол.
После третьего бокала Волк вдруг негромко заговорил о новых порядках в
оксфордских колледжах. Доктор молчал. Волк пожаловался на какой-то скандал у него в
"Короне". Участвовали юристы и богословы. Доктор сказал, что студенты всегда буянят.
Когда им и не побуянить, если не в молодости. Волк ответил: так-то это так, но вот у него
был уже с лордом-канцлером один очень неприятный разговор, и тот повышал голос и под
конец повернулся спиной. Доктор ответил, что вот уж точно нехорошо, лорд не гот
человек, с которым можно пошутить. Волк кивнул головой и сказал, что вот теперь он и не
знает, чем все это кончится. Доктор сначала только молча и досадливо махнул рукой ("А, сойдет!"), но потом вдруг поставил свой бокал на стол и сказал, что молодежь сейчас
совсем не умеет веселиться. Раньше вот и веселья было больше, и учились лучше.
Поэтому и врачи старые ценятся выше новых, хотя эти новые и напичканы всякими
премудростями века. Тут Волк возгласил: "Я поднимаю бокал за старика Гиппократа". Все
чокнулись и выпили. Снова поговорили об университете, и доктор сказал о том, что для
новых бакалавров, лиценциатов и магистров медицина сделалась ремеслом и в этом ее
гибель. Она не ремесло, а искусство, муза — поэтому овладеть ею может только избранный.
Больной должен чувствовать врача и верить ему. И врач тоже должен чувствовать больного
— вот так! — и доктор вознес над канделябрами сильную белую руку с тонкими, гибкими
пальцами. И еще, сказал доктор Холл, врач должен быть человеком ровным и
успокоенным. Никаких девок и никаких привязанностей вне семьи!
— У вас есть невеста? — спросил он вдруг Гроу строго. — Зря! Мы вас обязательно
женим. Вот приедете ко мне… Я слышал, что у вас с сестрой тут какие-то нелады? Ладно.
Поживите-ка у меня недельку, и все наладится.
Затем, непонятно как, разговор перекинулся на театр, и тут доктор Холл вдруг по-
настоящему разволновался и разгорячился. Он повернулся к Волку и сказал:
— А я всегда говорил: театры надо закрыть! Почему, когда в городе чума, то прежде
всего разгоняют актеров? Почему тогда окуривают можжевельником и посыпают известью
даже то место, где стояли их грязные балаганы? Потому, что нет у черной смерти слуг
вернее и проворнее этой сволочи! Ну а старого актера вы когда-нибудь встречали? Никто
из них не доживает до шестидесяти! Вот хотя бы взять семью моей жены. У нее и дядя и
отец актеры. Так вот, дядя умер, когда ему не было еще тридцати, а отец… — Он махнул
рукой и потянулся через стол.
— Что отец? — спросил Волк.
Холл, не отвечая, хмуро взял бутылку, посмотрел ее на свет, поболтал — она была
пуста, — снова поставил и хлопнул в ладоши. Поваренок появился мгновенно. В руках у
него был поднос. Он аккуратно поставил его на стол, снял бутылку и, откупорив между
коленями, сколупнул с горлышка глину. Доктор Холл, не ожидая других, хмуро протянул
руку с бокалом. Насупившись, он смотрел, как стекает в синее узорчатое стекло черная и
тягучая, как деготь, густота.
— Хватит! — стукнул он бокалом о стол и снова повернулся к Волку. — Я же говорил, ему
надо лежать и ни о чем не думать. А главное — гнать в шею всех этих приятелей. А он пьет
с ними. (Волк что-то хмыкнул или возразил.) Да нет, пьет, пьет! А совести у этих людей
нет. Когда он уже не может лежать на боку, они ему подкладывают подушки под спину. Ну
конечно, они здоровые, как кони, у них и легкие, как мехи, им бы колесо крутить, а не…
Ничего, ничего, поорут на сцене лет пять-шесть — тоже станут такими же! А ведь вот, когда
я им говорю, что это лежит их собственная смерть и глядит на них чуть не из могилы, -
они не верят и смеются! И вот клянусь, он сжал кулак, — женою и детьми клянусь: буду
последним подлецом, если ко мне сунется хоть один из них. Говорят: "Мы его любим, он
наша гордость". Любят они его! Как же! Пить они с ним любят — вот это верно. Ну и
советы его им, конечно, нужны! А по-моему так: рассчитался человек, ушел к своей семье
— так оставь его в покое! Оставь ты его, ради Господа! Дай ему хоть последние дни
побывать со своими. Так ведь нет! Без его советов они, видишь, никуда.
— Да, — согласился Волк, — мистер Виллиам знает сцену, это так! И зрителей он тоже
чувствует вот как вы больного, пятью пальцами! Это тоже так.
— Ну и вот, — кивнул головой доктор, — говоришь с ними: "Тише, господа, поаккуратнее, никаких волнующих разговоров и, главное, ненадолго! Вот в столовой накрыт стол,
милости просим туда". Ну, входят, действительно, на цыпочках, он увидал их: "А!
Друзья…" — и пошло! Через пять минут весь дом вверх ногами. Гогочут, жрут, ржут, пьют!
Одной мало — за другой побежали на конюшню! Фляги у них в сумках. Хором песню
затянут. Так до ночи. Утром встанут — то же самое. Потом еще вечером. Еле-еле их
выпроводишь. Уедут. Он доволен. Лежит, улыбается. "Нет, мы еще поживем. Это я так, распустился немного". Наденет сорочку с кружевами, побреется, возьмет своего Плутарха
— листает, думает, внучку позовет, иногда даже с женой о хозяйстве поговорит. А ночью -
припадок! Бегут за священником! Вытаскивают завещание! Где нотариус? Бегите за
нотариусом! Ну и конечно…
Доктор с маху выпил и снова налил себе доверху бокал.
— Что конечно? — спросил Волк. Пока доктор говорил, он не спускал с него глаз.
— Конечно, уже не встанет, — сердито отрезал доктор и вдруг ударил себя костяшкой в
грудь. — А что я могу с ним сделать? — спросил он с тихой яростью. — Ну что, что, что? У
него уже нет ни сердца, ни легких, он тридцать лет рвал их на потеху всякой сволочи.
Теперь у него разлилась желтая жгучая желчь, и легкие каждый день теряют влагу. Когда
испарятся последние капли, жар поднимется до грудобрюшной перегородки и сварит его
целиком. Так учит великий Гиппократ, — так что же я могу против него сделать? Что? Что?
Что?
И вдруг по щекам его поползли слезы, настоящие слезы злобного, сухого человека.
Волк осторожно поднялся и вышел. Джен осталась сидеть. Она глядела на доктора
широко открытыми глазами, и взгляд ее теперь был очень прост и ясен.
— Ничего, — сказал ей доктор Холл безнадежно, — ровно ничего не могу я сделать. -
Кивнул Саймонсу на бутылку: — Пейте, молодой человек!
Глава 2
Когда-то и где-то он написал: "Умеренная скорбь право умерших, а чрезмерная скорбь
— враг живых". Он не скорбел — он просто умирал и знал это. И одно утешение у него все-
таки было. Он умирал в хорошем месте — там же, где родился. Как старое дерево, он
чувствовал эту землю всей своей кожей. И были дни, в которые смерть от него как будто
отходила. В эти дни он просыпался вдруг веселый, бодрый, брился, умывался над тазиком, требовал свежую, хрусткую сорочку с обшлагами, смотрелся в зеркало, сидел поверх
одеяла, читал и думал: "А может, и обойдется! Вон сколько раз к отцу вызывали
священника…" И был бодр до вечера. А к вечеру в груди его ссыхался какой-то колючий
комок, и он не мог уж сидеть и полулежал, но все еще старался обмануть себя, сдержаться
и не кашлять. Но кашель все равно уже был в нем, он нарастал, рвал грудь, душил, клокотал, лез вверх по горлу, и через несколько минут уже спешили домашние, несли
полотенца и звали доктора.
Все двигалось неясно, как в угаре или в грани большого хрустального кубка (ему
такой привезли из Вены). Свечи горели радужными мутными пятнами, люди говорили
шепотом, ходили неслышно. Он лежал, вытянувшийся, обессиленный, с начисто
опорожненной грудью. Потом он переставал существовать и приходил в себя от
противного, приторного запаха болезни — это его обкладывали горячими выжатыми
полотенцами. Потом жесткие холодные пальцы доктора уходили ему под ребра, в живот, на сердце снова клали горячую тряпку, а он кричал и хотел ее сбросить. "Потерпите, потерпите, — говорил доктор властно, — сейчас все пройдет". И верно, через несколько
минут он забывался. А утром просыпался умиротворенный, тихий и как будто совсем
бестелесный. И опять лежал и думал: нет, все-таки хорошо, что он здесь, хорошо, что у
него все в кулаке, — дом, где его родили, церковь, где его крестили, школа, где его учили, дом, из которого он ушел, и дом, из которого его вынесут. Как на круге башенных часов, -
все можно обойти за час. А у него на это ушло пятьдесят два года! Боже мой, Боже мой!
Боже правый! Боже сильный! Боже крепкий! Зачем же ты все это так устроил? Ведь все и
было и как будто не было, все как на яву и все во сне, а вот когда умру — именно это и
назовут моей жизнью.
А сад возле дома ему все равно нравился, он любил зиму: ранний пушистый снег,
мягкую, нежную порошу, кисти на вязах и белые колокола на елочках. Любил весну, ее
грязь и ростепель, бурые ручьи. Стайки белых бабочек обсели лужу, колодец в плюще и
около него желтовато-зеленые, хрупкие и липкие стебельки, — он знал: летом здесь
сомкнутся ряды лилово-багровых, таинственно сизых и крапчатых, как щука, меченосцев, и они совсем скроют колодец, а когда колодец засквозит вновь, то будет уже осень, и все
эти ирисы, лилии, нарциссы согнутся, пожелтеют и повянут; с деревьев посыплется
листва, и весь колодец — вся черная вода его — усеется багровыми и красными корабликами.
Раньше он любил в такую пору стоять над прудом и смотреть, как их гонит ветер, но
сейчас он знал — этого уже не увидать. Осень не для таких, как он. Но вот на эту весну и
даже на лето он еще надеялся. И смущало только одно: однажды, осматривая его, зять
вдруг сказал деловито: "Нельзя же вас на целый день бросать на детей и женщин: я съезжу
в Лондон и захвачу оттуда своего помощника". Он тогда смолчал, а когда доктор собирался
уходить, спросил: "А зачем вам помощник? Разве мне стало хуже?" Доктор — он стоял уже
около двери и тихонько толковал о чем-то с женой — ответил: "Почему хуже? Просто вы
больны — и все тут! А болезнь требует ухода! У меня есть на примете один человек, я
думаю, он вам придется по вкусу — студент!"
После второй бутылки доктор Холл сказал:
— Ну, так я думаю, что мы уже сговорились, я хочу прибавить вот что. Вы, наверное, из
наших разговоров поняли, что больной совсем не из легких?
Гроу кивнул головой. Да, это-то он уже понял.
Холл в раздумье погладил двумя пальцами подбородок.
— Совсем, совсем не из легких, — повторил он, наоборот, это сложный и трудный
больной. Со всякими причудами.
— Да знаю я актеров! — сказал Гроу.
— А! Это все не то, — досадливо поморщился Холл. — Таких вы не знаете. Он пайщик, руководитель королевской труппы, его вызывали во дворец, и он говорил с королем! У
него хранится рескрипт.
— Да, это так! — кивнул головой Волк. — И от этого они уже никуда не уйдут.
— Было время, когда некоторые молодые люди из знатнейших фамилий… — продолжал
Холл и вдруг остановился.
— Но это было в молодости, — объяснил Волк. — В дни его ранней молодости все это
было. Потом этого уже не стало.
Помолчали.
— Ну так вот, трудный больной, — заговорил доктор, — как все актеры, мнителен и
вспыльчив. И язык как бритва! К этому нужно быть готовым.
— Но зато и отходчив, — сказал Волк, — не надо только говорить ему под руку. От этого
Боже избави, конечно, но после он сам все поймет.
"Так что же это за актер такой? — подумал Гроу. — Во дворец его вызывают, с королем
он беседовал! Пайщик! Рескрипт! Дом двухэтажный. Дочка у него замужем за доктором!
Вспыльчив, с причудами! Не больно много среди актеров таких! Бербедж разве?" Он было
приоткрыл рот, чтобы спросить, но вдруг остро и болезненно подумал: ну что толку
спрашивать? Ведь от сестры все равно уходить надо! Это еще хорошо, что случай такой
подвернулся завтра она проснется, а его уж нет.
— Я не буду говорить ему под руку, — мирно согласился он, — я вообще не буду ему
перечить. Профессор Фенелл на лекциях фармакопеи нас учил: "Соглашайся со всеми
жалобами больного — и он согласится со всеми твоими прописями".
— Ну, ваш Фенелл, мягко сказать… — недовольно поморщился Холл. — Только избави вас
Боже вот от этого. Если он заметит, что вы ему подыгрываете, он вас перестанет замечать.
— А он это умеет, — усмехнулся Волк и взглянул на доктора.
Опять замолчали все. Холл сидел и думал, Гроу смотрел на него и тоже соображал: это
неспроста, что доктор решил позвать к больному его, совершенно неизвестного там
человека. Значит, он точно нужен доктору. Это хорошо!
— А самое главное — имейте в виду вот что, сказал доктор, — не верьте его простоте. Ни
один судья не прощупает вас так, как он. Вы и не заметите, как сами выложите все. Самое
трудное будет скрыть, насколько он болен.
— Скажите о семье, — тихонько напомнил Волк.
— Ну что говорить о семье? — нахмурился доктор. — Семья как семья! Достойная и
дружная семья! Все хорошо устроены. Болезнь главы — это большая скорбь для всех его
родных. А в городе сэра Виллиама любят и уважают. Не у каждого же хранятся письма
короля! — Он проговорил это все спокойно и скучно и с минуту просидел неподвижно, потом поднял голову и, смотря Гроу прямо в глаза, окончил: — Но в то же время надо
помнить: это же Стратфорд. Актеров в город вообще не пускают. В городе только одна
церковь, но каждый день она полна. А сэр Виллиам свой недуг нажил на сцене, дома не
бывал годами. В церковь заглядывал только мимоходом. Это не всем по вкусу. Особенно
женщинам!
— Понятно, — кивнул головой Гроу. После нескольких стычек с сестрой он на этот счет
вообще стал понимать очень многое.
— Ну вот, — кивнул головой доктор, — все такие разговоры доходят и до семьи, так что
предупреждаю: если дочери и жена вам сгоряча скажут не то, что нужно, не придавайте
этому чрезмерного значения.
— В общем, — вдруг вмешалась Джен, и он не узнал ее голоса, всегда ласкового, мягкого
и певучего, — хозяина в его доме не любят, и добром вас никто там не встретит.
— Н-да, — хмыкнул доктор, — н-да!
Наступила неудобная пауза. Все смотрели на Гроу и ждали, что он ответит, а он
молчал, и тут доктор поднялся.
— Ну что ж, — сказал он. — Вино выпито, час поздний, пора в постель. Ничего, все будет
в порядке, — повернулся он к Гроу, — я всех предупредил, что привезу своего ученика. За
больным нужен уход. Примут вас как родного, ручаюсь.
— Ну, ухода-то там хоть отбавляй, — грустно усмехнулась Джен. — Дочка, внучка, жена, сестра, племянничек. И все ждут, ждут! Только не вас, конечно, — обратилась она к Гроу…
Доктор вдруг бесшумно поставил на стол кулаки — не положил, а прямо-таки поставил
на стол два сильных, крепких докторских кулака.
— Гиппократ учит, — сказал он: — "… пусть около твоего больного постоянно дежурит
кто-нибудь из твоих учеников, ибо ты ничего не вправе поручить посторонним". По-сто-
ронним! А для меня все профаны около ложа больного — это посторонние, кем бы они ни
приходились. — Он положил руку на плечо Гроу: — Ну, молодой человек, если ехать, то
идемте спать. Завтра я вас подниму с петухами.
"Если бы не сестра, — подумал Гроу, — не ее проклятый бычина, послал бы я вас… А
что, если их и вправду послать, а?" И сказал обидчиво:
— А где же я лошадь возьму? Нет у меня лошади!
Он до сих пор помнит это утро. Когда он вышел из дому с сумкой, воздух был тонкий, острый. Высоко над головой стояла полная луна — желтая и светлая, как ночью.
Придорожные кусты только что пробуждались и сонно перещелкивались, зато грачи с
платанов и тополей около гостиницы орали вовсю. Волк запретил разорять гнезда.
Гроу постоял, подумал, потом пристроил сумку под лавкой у "Короны" и пошел к
колодцу. На свежем срубе стояло деревянное ведро. Вода в нем была со льдинками и такая
холодная, что, когда он сделал глоток, заломило у глаз. Ровно в семь, как было договорено, он постучал молоточком — он висел на цепи — в дверь "Короны". Не ответили. Он постучал
еще. Снова не ответили. Только лениво гавкнула и сейчас же со звоном и визгом зевнула за
дверью собака. Но тут появился поваренок и сказал, что его ждут, а заходить нужно с
другой стороны. Когда они вошли, доктор, уже свежевыбритый, в дорожном платье,
розовый и душистый, что-то быстро писал на полоске бумаги. Волк сидел напротив. Перед
ним была раскрыта Библия, он держал палец на какой-то строке.
— Да, было, было такое, — спокойно говорил доктор, — я-то, конечно, не помню, но отец
рассказывал. Однажды, говорит, во время такого зрелища Иуду чуть не убили. Вскочили
на сцену — и ну его таскать и топтать. Даже все скамейки поломали.
— Ну вот видите! — сказал Волк.
— Ну так что ж хорошего-то! — поднял глаза доктор. — Зверство! А апостола Петра, говорят, такой пьяница играл! Его каждый день из кабака за ноги выволакивали и бросали
около забора, а тут, — пожалуйста. Он — святой! Вокруг головы веночек золотой! Нет, мистер Джемс., язычество оно и есть язычество. Что там, у папистов, что здесь у моего
тестя! Женщины-то правы!
— И петух тогда кричал? — спросил Волк с любопытством. — На сцене?
— Наверное, — пожал плечами доктор. — А что тут хитрого? Мало ли у нас шутов! И
залают вам, и закукарекают — поднеси только! И Петр был пьяный, и Пилат, и Иуда! И все, вы говорите, укрепляет веру? А вы знаете, что они сейчас на сцене плетут? Вот только
времени нет, а то бы я вам рассказал что племянничек мистера Виллиама на его рождении
ляпнул. А мальчишке шестнадцати нет! И подучил его кто? Бербедж. Ведь вот, кажется, самый порядочный из них, а… Достопочтенный Кросс на что человек добрый, тихий, а и
тот тогда не выдержал!
— Что же он ляпнул? — спросил Волк.
— А! Говорить даже не хочется, — ответил Холл. Он положил рецепт на стол. — Тут все, что нужно, моя дорогая леди, — сказал он ласково. — Когда кто-нибудь поедет в Лондон, дадите ему это. Пусть заедет в аптеку возле моста. Я позавчера заходил, проверил, там все
это есть. Так! — он взглянул на Гроу и улыбнулся, как будто только что его увидел. — Ну, молодец, коллега, не запаздываете, сейчас поедем! Завтракали?
— Ну когда же?! — ответила за него Джен и вышла из комнаты. У нее была легкая
девичья походка.
Волк захлопнул Библию и бережно отнес ее в шкаф.
— Пошли, — сказал он. — Я вам, мистер Гроу, самую смирную дам, только не надо ее
понукать.
Втроем они подошли к конюшне. Рядом был большой курятник, и в нем бойко
переговаривались куры. Когда Волк взял в руки тяжелый замок и стал вставлять в него
ключ, заорал петух. Доктор поморщился.
Волк взглянул на него и улыбнулся.
— "И пропел петел третий раз", — сказал он. — И тогда Петр, — продолжал он с внезапным
вдохновением, — вспомнил слова Спасителя: "Прежде чем петух пропоет третий раз, ты
трижды отречешься от меня". И заплакал. Вот!
— Да, Христос понимал толк в таких вещах, — холодно и буднично ответил доктор, -
ведь среди двенадцати учеников был Иуда, Фома неверный и этот Петр. Но только не
всякий возглашающий: "Господи, Господи, я люблю тебя", спасется. Вот что я хотел
сказать вам. Мистера Виллиама всю жизнь любили через край, а что толку?
Волк распахнул конюшню и вошел. Пахнуло, как из медвежьего садка, соломой и
животным теплом. Он вышел, ведя под уздцы молодую лошадь. Она горячилась, косила
большим карим глазом, взметывала голову и переступала с ноги на ногу.
— Это вам, мистер Гроу, — сказал Волк. — Ну-ну-ну, моя красавица! — он похлопал ее по
спине. — Чувствует чужих, не любит уезжать от хозяина… Ничего, ничего! Не бойся, не
бойся, через три дня тут будешь.
— Зачем через три? — возразил доктор. — Как доедем, я сразу ее отошлю со своим
конюхом. Так! — Он вынул кошелек. — Ну, дорогой, благодарю вас за все, и вот…
— И не вздумайте! — резко отвел его руку и сам отстранился Волк. — Мистер Виллиам -
крестный нашего сына. Нет, нет, сейчас же уберите, а то обидите насмерть!
Доктор спрятал кошелек.
— Ну что ж, давайте я тогда обниму вас, мистер Джемс, — сказал он спокойно. — Дай Бог
вам и вашей очаровательной жене всего, всего. Я думаю, то лекарство, что я выписал, поможет.
Вошла Джен с сумкой.
— Вот, мистер Саймонс, — сказала она, обращаясь к нему по имени. — Здесь жареная
курица, и кроме того, я положила кувшин с медом.
Волк выпустил из объятий Холла и вошел в конюшню. Джен метнула ему в спину
быстрый взгляд и продолжала:
— Я очень прошу вас. — И, пока Гроу принимал у нее сумку, она украдкой крепко
пожала ему руку. — Очень! Доктору будет некогда, а вы уж не поленитесь, с каждой оказией
давайте нам весточку о мистере Виллиаме. Вся наша семья обеспокоена. Это наш друг, у
нас его так любят.
Доктор с улыбкой посмотрел на открытую дверь конюшни.
— Стой! Да стой ты! — говорил там Волк лошади неторопливым, хозяйским голосом.
— И ТОГДА пропел петел третий раз, — сказал весело доктор, — петел пропел, а Петр
заплакал, ибо понял — как ни люби, а отрекаться ему все-таки придется! Так-то вот, миссис
Джен…
К вечеру третьего дня они уже въезжали в Стратфорд. Пройдет лет полтораста — и
Гаррик назовет его "самым грязным, невзрачным и неприглядным заштатным городом во
всей Великобритании". Да, но то великий актер Гаррик — кумир театральных капищ, первый актер века, привыкший к морям света, копоти факелов, блеску стеклярусов, радуге
вееров, поклонениям и истерикам, — то Гаррик! Гроу же, наоборот, городок понравился
тихо, мирно, непритязательно, робкая весенняя зелень пробивается через землю. Деревья
стоят тихие, задумчивые, в нежной, тонкой листве. Пахнет свежей землей. Зато в большой
красной харчевне, мимо которой они проехали, горели все окна (одно даже на чердаке), и
кто-то бестолково ударял в бубен, а кто-то притопывал ему, и все смеялись. Потом запели.
Холл посмотрел на Гроу и улыбнулся.
— Будет где, будет где, — сказал он. — А мед здесь тоже знаменитый. Ну вот, сейчас через
мост и дома!
Два человека, мирно разговаривая, прошли мимо них, и каждый притронулся к шляпе.
Доктор придержал лошадь и остановился.
— Вы что, прямо из Лондона? — спросил один. — Ну что там?
— Да все так же, мистер Шоу, все стоит на том же самом месте, — отвечал Холл. — А что
у Шекспиров?..
Шоу посмотрел на Гроу.
— А это тот самый молодой человек, которого…начал Холл.
— Ага! Знаю! — Шоу слегка кивнул Гроу. — Поезжайте же скорее! Вас там заждались.
Он тронул шляпу и быстро отошел. Холл вопросительно посмотрел на второго
джентльмена.
— Плохо, мистер Холл, — сказал второй. — Мистера Грина два раза с бумагами вызывали, если не полегчает — пойдут за преподобным Кроссом. Кашляет, рвет его! Кровью!
— Едем! — приказал Холл и дал коню шпоры.
Они проскакали несколько улиц прямо, потом резко свернули и поехали по топкой,
пахнущей тиной земле. Холл молчал и только раз предупредил:
— Осторожно! Здесь канавы и доски, — придержал лошадь.
— А что там? — спросил Гроу.
Доктор поморщился.
— Да я уверен, что ничего, — ответил он. — Обычный припадок — и все. Опять, наверное, те молодцы приезжали! И как они так подгадывают, когда меня нет? Ну, сейчас увидим!
Но вот что, — он снова придержал лошадь, — когда войдем в дом полное спокойствие!
Никаких там испуганных взглядов, вопросов или предложений. Поняли? Я все вам сам
скажу, что надо. Поняли? Сговорились?
— Сговорились, — ответил Гроу, — никаких вопросов.
Им отворила старуха. Увидев доктора, она всплеснула руками и забормотала: "Ну, слава Богу, ну, слава Богу!" — и заплакала.
— Что, плохо? — спокойно спросил доктор, раздеваясь.
— Два раза за вами посылали, — сказала старуха.
— Да и сейчас бы меня не застали, — объяснил доктор, приглаживая волосы и
отстегивая шпагу. — Я прямо сюда! Там наших лошадей нужно будет забрать, а то что-то
нас никто и не встретил! Сразу видно — нет хозяина. Ну хорошо, проводите молодого
человека в гостиную, а я сейчас приду. Сюзанна здесь?
— Здесь, — ответила старуха, — наверху. Ее отец не принял.
— Отлично, — кивнул головой доктор так, как будто это и впрямь было отлично. — Так я
сейчас! и он быстро вышел.
— Вот, — сказала старуха, когда они остались вдвоем, — вот, молодой человек, наша
жизнь. Правильно поется: вчера я сидел с вами, друзья, свежий и румяный, вчера я пил и
веселился, а сегодня пришла ко мне смерть и… Проснулся веселый, со мной шутил, внучке
что-то такое рассказывал, после обеда попросил своего любимого квасу, выпил один
глоток — да вдруг как закашляется. Упал лицом в подушку, зашелся в кровь. Кровь
печенками! Вот наша жизнь!
— Да, — сказал Гроу неловко, — да, это уж…
— Преподобный Кросс два раза приходил, — понизила голос старуха. — Только к нему
что-то не зашел. А он меня и спрашивает: "Мария, а кто это там у дочек?" Стала я ему что-
то плести, — она опять хмыкнула, — а он мне вдруг: "Ладно! Знаю!" — лег, вытянулся и глаза
закрыл. Разве с ним слукавишь? Он тебя насквозь видит. — Она открыла дверь в комнаты. -
Зайдите, сударь, посидите, обогрейтесь, доктор сейчас придет.
Гостиная была обширная, с темными стенами, камином, большим окном и двумя
дверями. Плечистый, бородатый мужчина, одетый по-дорожному, стоял возле окна и
скучно барабанил пальцами по стеклу. На вошедших он не обратил никакого внимания.
Старуха сердито взглянула на него, громко высморкалась, бормотнула что-то свое
неодобрительное и ушла. В комнате было темновато. В большом канделябре горела только
одна пара свеч (в доме, видно, знали цену деньгам), но стол, на котором стояли эти
канделябры, был покрыт богатой, тяжелой скатертью с бахромой и кистями. У стен стояло
несколько стульев, крытых тисненой кожей с золотыми лилиями, и несокрушимый шкаф с
врезанными костяными медальонами.
Плечистый постоял у окна, еще немного побарабанил, вздохнул, сказал печально и
иронически: "Да! Д-а-а! Да-да!" — и пошел по гостиной. Дошел до Гроу, остановился и
спросил:
— Вы здешний?
— Нет, — ответил он.
— А откуда?
— Из Кембриджа!
— Медик?
— Да!
Лицо плечистого сразу оживилось.
— Ах, вы, верно, тот самый студент, что… Вы к больному?
Гроу кивнул головой. Плечистый протянул ему РУКУ.
— Познакомимся. Ричард Бербедж. Актер!.. Слышали? Ну, очень приятно, значит,
конечно, слышали! Половину сбора нам делают студенты. Вас как зовут-то?.. Гроу?
Саймонс Гроу? Отлично, Гроу. Меня можете просто называть Ричардом! Так вот, Гроу, обязанности у вас будут чертовски сложные. Вы кем приходитесь доктору?.. А жене его?..
Так-таки никем?.. Странно! Очень, очень странно, — он даже покачал головой.
— Почему? — спросил Гроу. — Почему странно?
— Да не больно в этот дом пускают чужих! Ну да сами скоро все поймете. Тут главная
сила, конечно, дочки. И та и другая. Только жалят они по-разному. Старшая как топором
рубанет. Кого ей тут бояться? Младшая действует словно невзначай. Простушка и все, просто обмолвилась или не поняла да и ляпнула лишнее. Старуха перед ними — ангел. А
говорят, тоже была… Вы из Кембриджа?
— Нет, я из Оксфорда.
— Да?! А в "Короне" были? Хозяина ее случайно не знаете?.. Как, знаете? — Бербедж
даже схватил Гроу за ладонь. — Ну как же! Как же! Друзья мы с ним, друзья. Я всегда у
него на ночь останавливаюсь. Я и Билл! Гуляли не раз! Но все было, конечно, в порядке.
Большого расчета в маленькой комнатке у нас никогда не случалось. Вы знаете, что это
такое?
Гроу улыбнулся.
Актеры всегда хотят во всем быть первыми и все знать больше всех. Среди теологов и
юристов Оксфорда, верно, ходила такая пословица. Про неудачливого игрока говорили:
"Ну, кажется, он меня доведет! Я ему устрою большой расчет в маленькой комнате: не
умеешь играть — не садись, а проиграл плати!"
— В маленькой комнате убили Марло, — сказал Гроу. — Но, мистер Ричард, может быть, вы мне расскажете хотя бы в двух словах об этом доме и больном?
Бербедж задумался.
— Рассказать-то, конечно, надо бы, только вот что? — развел он руками. — Ну, с больным
легче всего — он тихий и нетребовательный. Он догадывается, что умирает, и ни от кого
ничего не требует. У него на это свой принцип: "Если ограбленный смеется, то грабит
вора, а если плачет, то грабит самого себя", так что с ним никаких забот у вас не будет, зато вот семья… — Он нахмурился, подбирая слова. — В общем, в этом доме все
перемешалось, и не поймешь, кто на кого и кто за кого. Дочка — на дочку, обе дочки — на
мать, обе дочки и мать — на отца, а отец разом на них всех. Однажды даже тарелкой
запустил. А с ним тоже положение сложное: с одной стороны, он и для них сэр Виллиам и
пайщик королевской труппы, джентльмен и домовладелец; с другой стороны, на все это им
наплевать. Он просто-напросто актер, который нагулялся, наблудился, а помирать приехал
домой. В общем, как смерть подошла, и родной дом стал хорош. Дальше: он дворянин, и
король удостоил его личным письмом, а с другой стороны, и на это им наплевать.
Преподобный Кросс им объяснил: короли не только на актеров, а и на медведей ходят
смотреть. Какой-то языческий тиран даже коня произвел в лорды — так почему актеру
смеха ради не нацепить шпагу на бок? Его величество все может!
— А письмо? — спросил Гроу.
— Письмо? Ну, письмо, конечно, кое-что значит. Против него не возразишь, в
особенности если содержание его неизвестно, а болтают всякое, — но все это больше для
соседей, чем для своих.
— Правильно, Волк тоже так говорил, — подтвердил Гроу.
— Волк? — удивился Бербедж. — Какой Волк?.. Ах, Волк! Ну, правильно, очень похож!
Вы обратили внимание на складки у рта? Но дальше, у этого шута, Виллиама Шекспира, имеются, однако, денежки, и он может поступить с ними, как ему заблагорассудится. Вот
тут-то и начинается опять гадание и смятение. Тут на него все бабы прут животами:
"Деньги — наши! Твое грешные руки их наживали, наши праведные их пристроят". Но ведь
их четверо — жена, сестра, дочери, — и все они тянут в разные стороны. Осаждают
нотариуса, подарки ему носят — кто медку, кто бутылку португальского, кто сорочку с
кружевами, — чуть не к плечику прикладываются. Но мистера Грина этим не проймешь, у
него не сердце, а хартия. Он и подарки берет и обещания дает, а свое знает. Особенно им
хочется выведать про завещание, но здесь рот у него на замке. "Это исповедальная тайна
умирающего, мои дражайшие. Бог и король с мечами стоят на ее страже, а я всего-навсего
простой секретаришко". Вот и все. Но, кроме Бога и короля, эту тайну могут знать еще
друзья больного, и, значит, вопрос о друзьях тоже имеет две стороны — праведную и
неправедную. По праведной надо бы гнать всю эту сволочь в шею, а с неправедной — надо, да боязно. Ведь пусть они будут для всех сто раз шуты, но с ними он провел всю жизнь.
Они у него днюют и ночуют, а вот праведные родственнички приходят, только когда их
позовут, а то все стоят у дверей и подслушивают. Значит понимают они — и с шутами надо
быть поласковее. Ведь тут золото, золото! А с золотом, молодой человек, шутки плохи.
Одна капля его может все черное сделать белым, а черта превратить в ангела. У него, -
Бербедж кивнул на потолок, — есть об этом еще один монолог, очень выигрышный, — зал
всегда аплодирует. Вот я и прочел ему однажды эти стихи. Были еще Грин-нотариус, племянник, два товарища. Все смеялись. А Грин сказал: "Раз золото от дьявола, то пойду
повешусь над своими закладными".
— А доктор? — спросил Гроу.
— Доктора не было. При нем бы я не стал. Он бы понял и обиделся… Ах, вы вообще о
нем? Что он за человек то есть? Ну, на это одним словом не ответишь. — И Ричард на
минутку как бы вправду задумался. — Странный во всяком случае человек. То он такой, то
совсем другой. Только одно можно сказать: к мистеру Виллиаму он относится хорошо. Во-
первых, он тоже что-то пишет, ну, всякие там свои медицинские трактаты и схолии, поэтому знает, что такое труд сочинителя. Во-вторых, он человек безусловно честный и ни
на какую явную подлость не пойдет. Но на явную! Подчеркиваю! И потом опять-таки…
Деньги же! Дома же! Земли! Имущество! А жена его, наверное, день и ночь гудит: "Узнан!
Повлияй! Объясни! Отговори!" Свою сестру она терпеть не может! Недавно все-таки
выдворила ее из дома. Окрутила, — старуха уж молчит, только ходит и слезы утирает! И то
тихонько-тихонько. Тут громко не поплачешь — такая тут любовь к родителям! Она давно
поняла, что ее кровного здесь уж ровно ничего не осталось. А чуть что заикнется, так
старшая дочь ей ласково: "Мамочка, ну зачем вы себя утруждаете всякими мыслями? Вам
же это вредно. Вы на семь лет старше отца! Вы нас выкормили, поставили на ноги, ну и
отдыхайте". Вот и все! Мать и замолчит! У-у, змея! Ее и муж боится. Он у нее под
каблуком. Как она скажет, так и будет. А что вы так на меня посмотрели? Не верите? Ну, поживете — увидите. Я вам потом объясню, чтоб вы были готовы. А то еще увидите и
убежите.
— Да нет, мне и миссис Джен говорила то же, сказал Гроу.
— Джен? Неужели Джен Давенант? — И лицо у Бербеджа вдруг сразу и почти чудесно
изменилось сделалось каким-то очень мягким и простым. — Да, миссис Джен Давенант -
чудесная женщина, чувствует, что здесь происходит. И Волк тоже чувствует, они верные
друзья Виллиама, только помочь ничем не могут. Да, впрочем, кто тут может помочь? Так
что же доктор вам рассказал, когда вез сюда? Неужели о штучке племянника смолчал?
— Начал, да ему помешали, — ответил Гроу. Ему очень нравился этот актер: он был весь
доброжелательный, положительный, собранный в кулак. На все смотрел трезво и прямо. -
Если, конечно, что-нибудь важное, — прибавил он, — то простите.
Бербедж нахмурился.
— Ну, важности, положим, никакой нет… ответил он небрежно. — Впрочем, это для меня
нет, а они, конечно, раздуют костер как хотят. Так вот что вышло… — Он выглянул за дверь.
— Приехал я к нему в день его рождения по делу, привез с собой бумаги…
Дело, по которому приехал Бербедж, было очень деликатное. Помимо кучи
лондонских новостей и сплетен, Бербедж привез комедию "Буря". Шекспир написал ее лет
пять тому назад для придворного театра, и с тех пор она прошла только однажды и тоже
при дворе. Теперь решили поставить ее для публики, но прошла репетиция, и часть
пайщиков заколебалась. Уж слишком странной им показалась эта пьеса. С одной стороны, в ней, конечно, все, что надо: океан, необитаемый остров, буря, дикарь, а сейчас, когда
наши корабли бороздят все моря и океаны, такие вещи в моде; с другой стороны, ни
убийств нет настоящих, ни приключений — так, черт знает что! Сделает ли сборы? И
пантомима, кажется, не у места лишняя и дорогая! Спорили, спорили и наконец решили
обратиться к самому автору, — что он скажет, то и будет, у него на эти вещи нюх
правильный. С этим Бербедж и приехал в Стратфорд.
— Хорошо, — сказал Шекспир, выслушав его. — Оставь, я посмотрю.
Когда Ричард утром пришел к нему, Шекспир протянул рукопись с вложенным в нее
листком.
— Ну вот и все, что я мог сделать, — сказал он. — Если ты будешь играть Просперо, то, я
думаю, пройдет.
Часа через два Ричард с пьесой в руках снова спустился к Шекспиру.
— Ну? — спросил Шекспир.
— Ты знаешь, — ответил Ричард, присаживаясь, я прочел. Хорошо! Теперь, по-моему, все в порядке. Я бы даже и пантомиму оставил. Без нее непонятен монолог Просперо, а
его жалко выбрасывать — отличное место! Громкое, звучное! На аплодисменты!
Шекспир повернулся к окну в сад и крикнул:
— Виллиам! — И объяснил Ричарду: — Мой племянник. Учится неважно, а почерк как у
секретаря королевского суда. Всегда все мои бумаги пишет.
Мальчишка вбежал с луком, увидел Бербеджа и остолбенел.
— Твой почитатель, — объяснил Шекспир с хмурой и гордой отцовской улыбкой. — С
утра здесь крутится. Видел тебя в "Гамлете" и "Саяне" {Трагедия Бен Джонса}. Тебе
сколько тогда было?
— Одиннадцать, — ответил мальчишка.
— Боже мой, пять лет прошло, а все как будто вчера, — вздохнул Шекспир. — И стихи
пишет.
— Хорошие? О чем?
— На темы древних. Ничего. Достопочтенному Кроссу нравится. Он ведь здесь у нас
самый ученый человек. И читает хорошо, с чувством.
— Преемника себе готовишь? — улыбнулся Бербедж. — Что ж, давай его к нам на треть
пая?
— Что ты! Что ты! — по-настоящему испугался Шекспир. — Вот тогда уж меня точно
сживут со света. Три актера в одном семействе! Это даже для Шекспиров много.
— Ладно! Пусть тогда будет секретарем королевского суда, — улыбнулся Бербедж. Он
взял мальчика за плечо: — Поднимемся, малый, ко мне, я тебе дам бумагу и покажу, что мне
нужно.
А на другой день вот это и случилось… После ужина гости вышли в сад. Их было
много. Был содержатель соседнего трактира, высокий, длинный мужчина с висячими
усами, хитрый, плутоватый и добродушный; был достопочтенный Кросс; был клерк
муниципалитета и местный нотариус Грин; был старый друг, сосед и торговец шерстью
Юлиус Лоу; был Джон Комб — человек странный, замкнутый, иронический, вечно
подтянутый, о котором ходила нехорошая слава, что он дерет безбожные проценты; был
сын его Томас; был близкий друг дома Сандлер и многие другие. Все были веселы,
беспечны, все сильно выпили, и никто не думал о смерти.
И вот когда гости расселись за столом под большой тутовицей, а слуги принесли и
поставили фонари и свечи, Ричард Бербедж вдруг встал и сказал:
— Леди и джентльмены, минуту внимания! Самый молодой из нас прочтет стихи,
посвященные нашему дорогому новорожденному. Мистер Харт-младший, прошу!
Мальчик встал из-за стола, высокий, спокойный, независимый маленький
джентльмен, и вышел на середину. Под мышкой у него была папка. Он распахнул ее и
вынул лист бумаги, украшенный рамкой со шнурами и розами.
— Нет, сюда, — позвал его Бербедж и показал на место около хозяина. — И громко, здесь
ведь театр, а это, — он показал на дочерей хозяина, — ложа для дам и лордов. Читай, обращаясь к ним.
Мальчик выкинул вперед руку и начал читать. Конечно, не ахти какое было это
стихотворение, каждый начинающий мог скропать такое, но гости, слушая мальчишку, одобрительно порыкивали и кивали. Молодец парень, правильно догадался! Прямо как в
муниципалитете во время праздника.
Даже достопочтенный Кросс и тот легонько хлопнул два раза в ладоши, хотя если
хорошенько подумать, то было отчего ему, человеку ученому, насторожиться. "Жизнь не
только коротка, но и бессмысленна, — читал мальчишка, — вечно только искусство. Только
поэтам принадлежит бессмертие". ("Как это так — поэтам? — спрашивали потом друг друга
почтенные горожане. — А людям с праведной жизнью? Зачем же тогда и в церковь
ходить?")
— Все на свете — сон. И дом — это сон (великолепный, двухэтажный каменный дом на
площади, может быть, лучший в городе, окруженный прекрасным садом и цветником), и
стол, за которым мы все веселимся, и вечер, сошедший на нас, и горящие свечи, и наши
разговоры, наши радости и горе — все это сон..
— Да! Точно! — благочестиво кивнул головой Кросс. — А мы это забываем и продаем
жизнь вечную за чечевичную похлебку. И детей учим тому же. Истинно сказал Спаситель:
"Они слепые-поводыри слепых". Спасибо, милый!
— Горы, замки, храмы — весь земной шар когданибудь заколеблется, поплывет и
превратится в клочья тумана, — продолжал мальчик, — и останется одно пустое, холодное
небо. Мы состоим из того же вещества, что сны. И снами окружена маленькая жизнь -
непонятная и бессмысленная. Так сказал великий Просперо! Поэтому восславим же
сегодня великое искусство и тех творцов, которые служат ему, непреходящему, вечному, бессмертному, и сами становятся причастными вечной жизни.
Мальчик кончил, опустил руку, и все захлопали.
— Иди, иди сюда, мой милый, — сказал Бербедж растроганно, — иди, очень хорошо
сочинил и прочел. Молодец! Лист клади сюда, и вот тебе бокал, как взрослому, — пей!
Задвигались стулья, зазвенела посуда, и все потянулись к маленькому Харту с
бокалами, только мать откуда-то из-за угла закричала:
— Нет, нет, ему нельзя! Я вас прошу! И вообще сейчас уже поздно.
Достопочтенный Кросс — он все время сидел неподвижно, переждал, когда шум
стихнет, а потом спросил:
— Виллиам, милый, а кто такой Просперо? Я что-то не слыхал такого. Это из древних
или он итальянец?
— Это добрый волшебник из последней комедии дяди, — ответил мальчик.
— Ну, не очень-то он добрый, если говорит такие вещи, — усмехнулся Кросс. — Жизнь
для христианина — это не сон, а подвиг, мой любимый. И пресвятая апостольская церковь
тоже не сон, а твердыня, коя сотрет врата ада.
— Так это же стихи! Достопочтенный Кросс, стихи это! — крикнул Грин с другого конца
стола.
— Что ж, и царь-псалмопевец писал стихи, скромно и неумолимо вздохнул Кросс, — и
Библия разделена на стихи. И Нагорная проповедь тоже состоит из стихов. И все-таки все
они не сон. А земной шар не разлетится в туман, а по воле сотворившего его в один день
станет местом Страшного суда, где все получат по заслугам — и грешники, и праведники, и
словоблуды, и мытари. Пусть никто не забывает этого. Каким судом мерите, таким и вам
отмерится, учит Святое Писание. — И он слегка покосился на спокойного и равнодушного
ко всему Комба, который сейчас даже не слушал его. — Не повторяй больше этих негодных
стихов, мой ненаглядный.
Когда гости расходились, Шекспир шепнул Бербеджу: "Зайди ко мне". Он пришел и
застал Шекспира за столом. Увидев Ричарда, Шекспир отложил перо и встал.
— Это ты научил мальчика?
Бербедж засмеялся:
— Да нет, он сам.
Шекспир покачал головой:
— Скверно.
— Почему?
Шекспир положил перо, встал, пошел, сел на край постели и закрыл глаза. Лицо его
было очень утомленным.
— Тебе что, нездоровится? — спросил Ричард.
Шекспир ногой об ногу сбросил туфли и лег.
— Нет, ничего, — сказал он.
— Так почему же скверно? — спросил Бербедж.
— А потому, — ответил Шекспир, — что пастор прав. Не мальчишке в шестнадцать лет
повторять такие стихи. Это приходит в голову только перед самым концом. Когда человек
начинает, как сказал один умный француз, учиться умирать. Тогда он смотрит на свою
жизнь с другого конца, переоценивает ее заново, и оказывается, что и деньги, и земля, и
семья, и все житейские треволнения были только дурным сном. Он рассеивается, и вот ты
умираешь.
— Все? — спросил Бербедж. — Когда-то ты не так говорил об искусстве.
Шекспир открыл глаза и улыбнулся.
— О каком? О нашем с тобой? Ну что ж, мы не зря сунули в руки нашему Геркулесу
земной шар и написали: "Весь мир актерствует". Так оно, кажется, и есть, если поглядеть
на жизнь поосновательней… Уж с неделю ему было трудно дышать. Но доктор догадался: по его указанию жена и Мария устроили что-то похожее на большое кресло из подушек, и
с тех пор он не лежал, а сидел. Думал, вспоминал, читал Сенеку (раньше он как-то прошел
мимо него). Он думал, что, может быть, было бы хорошо написать трагедию "Актею". Но
сейчас на это у него просто не хватит пороху. Ему была очень понятна эта древняя Актея, героиня трагедии Сенеки, двоюродная сестра и жена Нерона. Тиран и ее, конечно, убил, как и всех остальных своих жен, и она безропотно приняла эту участь — кроткая,
белокурая, печальная женщина. Одна из тех, которые в жизни любят только однажды и
гибнут как-то сами, когда любовь их обманет. Он сам искал таких женщин, любил их, восхищался ими, а через месяц сбегал от них, потому что ему становилось нестерпимо
скучно. Сейчас он вспоминал о них то с нежностью, то с грустью, то с хорошим чувством
сожаления и не замечал, как в комнате становилось все темней, приходила Мария и
зажигала две свечи три было плохой приметой. Утром он брился, переодевался — сорочка
на нем всегда была свежая — и разговаривал с внучкой, вежливой розовой девочкой, очень
похожей лицом и ухваткой на мать, и они вместе рассматривали картинки (книга была
огромная, в скользком белом переплете, и внучка ее едва удерживала), принимал
процедуры (банки, банки, банки, — доктор Холл, кроме тинктур, инфузий и микстур, признавал еще только их, к кровопусканию же, как и ко всему хирургическому, относился
отрицательно). Затем завтракал, затем обедал и напоследок ужинал. Правда, ужинал он
редко, зато выпивал за сутки почти пинту кваса на меду; просил холодной воды из
колодца, но ему ее приносили редко, только во время отъезда доктора. (Какой-то странный
огонь сушил его грудь, и, прикладывая ладонь к груди, он чувствовал, как это пламя
поднимается выше и выше — к сердцу, к легким, к гортани.) Раза два в месяц он получал
почту, приносил ее трактирщик — длинный, худой мужчина лет сорока, с висячими усами и
хитрыми глазами.
При его появлении больной оживлялся. В этом человеке все было хитрым,
плутоватым и вместе с тем простым. О болезни они не говорили. Трактирщик приходил и
сразу кидал на стол кожаную сумку. "Ух! Еле довез! — говорил он. — Все плечо оттянула!"
Он вынимал письма и взвешивал их на ладони. "Вон сколько! Только что я зашел к ним -
ну! Как они все закричат, как на меня налетят! Как здоровье? Как настроение? Как что?
Один кричит: "Подождите минутку, я черкну пару слов!" — И другой кричит: "Минуту!"
"Пишите, пишите, — говорю, делать ему все равно нечего, он вам сразу всем ответит."
И они оба смеялись.
Все к его болезни относились серьезно, с боязливым почтением, только этот кабатчик
плевал на нее. Он говорил: "Э, мистер Виллиам, да что вы их слушаете? От этих микстур
да банок и бык ноги протянет. А я такую микстуру привез из города, что от нее покойник
запляшет. Вот зашли бы ко мне".
И то, что трактирщик откровенно презирал его болезнь, было тоже очень хорошо.
Письма большей частью приходили деловые: его о чем-то спрашивали и о чем-то
советовались. Очень много было вопросов насчет репертуара, новых актеров и паев. Под
конец сообщали о смертях и родах и приглашали к себе.
— Опять приглашают? — спрашивал трактирщик.
— Опять, — махал рукой больной и смеялся.
— Ну и надо поехать, — суровел трактирщик, — а то что так лежать? Так, верно,
долежишься до смерти. Встали, зашли бы ко мне, я бы вам полную кружку этой мальвазии
нацедил, и вы бы хватили и поехали за милую душу. Нет, правда, а?
И Шекспир обещал.
Потом трактирщик уходил, и Шекспир начинал заниматься письмами уже как следует
— снова читал их, делал пометки и клал в ящик тумбочки. Надо всем этим надлежало
хорошенько подумать.
Итак, днем ему было еще чем заняться. Ночь же казалась огромной и
всепоглощающей топью. Вдруг наступала тишина. Свечи уносили, оставляли одну. Окна
закрывали ставнями. Засыпал он с закатом, а просыпался часа в три — тяжелый, набрякший
и все равно сонный. Но заснуть снова уже не мог, а просто сидел и слушал. Дом был
теперь полон тонких, осторожных звуков. Стрекотал сверчок, тикали, хитрые часы из
Нюрнберга, рассыхались и стреляли доски. Каждый час часы звонили и из отлетающей
дверцы выходил толстый, румяный, смеющийся монах: "Dixi, Die, Dixi, Die", -
выговаривали часы. "Я высказался, Дик; я все тебе сказал, Дик". Догорала свеча, над
городом стоял не прекращающийся ни на минуту собачий лай, перекликались все дворцы
города, и он представлял, как тоскливо псам ночью. Ведь только они и не спят сейчас.
Иногда приходил доктор (это происходило после припадков). Он слышал, как Холл
входил, раздевался, переговаривался со служанкой, как скрипела лестница — доктор все
инфузии хранил на первом этаже в особом шкафу и наконец входила Мария, строгая,
молчаливая, со свечой в руках, ставила свечу на тумбочку возле его постели и сразу же
выходила. Доктор появлялся минут через десять. Перед этим еще было слышно, как
стекает вода и звенит тазик (доктор боялся заразы, называл ее по-латыни "контагий" и был
мелочно аккуратен). Холл входил и брал больного за пульс.
— Ну, как у нас дела, — спрашивал он, — кашель не мучает?
Шекспир, улыбаясь, смотрел на него. "Какой смысл ему меня лечить?" — думал он. И
именно потому, что не понимал, какой же именно, при появлении доктора, как бы ему ни
было худо. назло всем. подтягивался, прибадривался и встречал доктора не лежа, а сидя.
— Да все так же, — отвечал он.
— Так же, значит, плохо? — нарочно недоумевал доктор.
— Да нет, все хорошо, спасибо вам за заботы.
— За спасибо благодарю, — улыбался доктор, — а вот насчет хорошо — это мы сейчас
посмотрим. Вы опять кашляли и вас тошнило? — И он прикладывал холодную и еще
влажную ладонь ко лбу больного. — Так как, тошнило вас или нет?
— Нет, не тошнило, просто голова закружилась, резко повернулся, и вот…
— А вот не надо ничего делать резкого — ни по отношению к близким, ни по отношению
к самому себе, — говорил доктор. — Ладно. Завтра мы сварим вам великолепный элексир!
Прямо-таки бальзам молодости. Вы себя почувствуете воскресшим, ну а теперь сидите
так, не двигайтесь, я хочу послушать сердце. — Он долго и придирчиво слушал. — Да, с
таким сердцем еще жить можно. — Он присаживался на край постели. — Давайте пульс!
Помолчите немного! Хорошо! — он отпускал руку. — А тошнит вас потому, что вы сами себя
не жалеете и не лежите. Ну к чему вы столько читаете, обдумываете что-то, диктуете
всякие письма? Очень это вам сейчас нужно? Вы больной, ну и ведите себя как больной.
Вот Мария говорит, что вы опять зачем-то звали этого сорванца Вилли и что-то ему там
диктовали? Слушайте, да отлично они обойдутся и без вас! Даже обидно — не умели вас
щадить, когда вы были здоровы, а теперь… Эх, мистер Виллиам, мистер Виллиам! Вы ведь
сами все понимаете.
Иногда, когда доктор ему надоедал, он нарочно спрашивал:
— Когда я умру, Джон?
Тот сразу же вставал.
— Врачу не задают такие вопросы, — отвечал Холл строго, — врач приходит затем, чтобы
ставить на ноги, а не зарывать в могилу. Ну, спите спокойно! — и уходил на цыпочках.
Один раз, когда днем ему было очень плохо и сильно рвало, доктор сказал и немного
больше:
— Ничего страшного не произошло. Как вы знаете и без меня, наше тело содержит
четыре жидкости: слизь, кровь и два вида желчи — желтую и черную. Когда все это
смешано правильно, человек здоров, если пропорции нарушены, человек болеет. "Какое
беспокойство и жар овладевают нами, когда разливается желтая желчь", — говорит
Гиппократ и предписывает: "Освободи больного от ее избытка, и ты избавишь его от боли
и жара". Вот это я и делаю, но сейчас в вашем организме берут верх сильные
заржавленные кислоты. От этого боль и кашель. Я стараюсь всю эту дрянь выбросить, вот
поэтому и даю вам такое сильное рвотное.
— Которое я и пью аккуратно, — усмехнулся Шекспир.
— Которое вы пьете, когда вам об этом напоминают по нескольку раз. Это, конечно, должно помочь, ибо все, что я делаю, засвидетельствовано и проверено опытом двух
тысячелетий, так что положимся на Бога и Гиппократа.
И однажды Шекспир попросил его:
— Дайте мне почитать этого самого Гиппократа.
Доктор нахмурился и резко ответил:
— Да вы же не читаете по-гречески!
И ушел очень-очень быстро… Гиппократа привез из Лондона кто-то из актеров. Это
был тяжелый том в желтом переплете. Он вышел лет двадцать назад во Франкфурте, и
Ричард Бербедж купил его у какого-то прогоревшего врача, который распродавался и
уезжал. Очень тяжело было прятать утром этакую громадину под мартац и к ночи
вытаскивать снова.
Вот и прибавилось у него еще одно ночное занятие. Доктор, конечно, схитрил,
сославшись на греческий, Гиппократа можно было прочесть и по-латыни. Франкфуртское
издание, выпущенное в конце прошлого века, было именно таким, но и латынь-то он
позабыл основательно. К счастью, тот бедняга, которому под конец своей неудавшейся
карьеры пришлось расстаться с Гиппократом, основательно проштудировал эту громадину.
На полях стояли восклицательные и вопросительные знаки, обозначения "Sic NB", некоторые места были даже отчеркнуты, содержание их пересказано по-английски. Кое к
чему были сделаны подзаголовки: "Это о симптомах", "Здесь о медикаментах", а во
многих местах просто стояло: "Mors" — смерть! Если бы не оно, Шекспир никогда бы не
набрел на место, как будто специально написанное для него. Канцелярским почерком -
безличным, четким и торжественным — владелец книги надписал: "Тут говорится о том, что при лекарствах, изводящих слизь, прежде всего больного рвет слизью, затем желтой
желчью, затем черной, а перед смертью чистой кровью. В этот момент, — говорит
Гиппократ, — больные умирают. N В: неоднократно наблюдал это сам в госпиталях и
лазаретах".
Шекспир положил книгу прямо на тумбочку и задумался. Да, видимо, пора! Пора
перестать валять дурака, обманываться бабьими сказками, верить в инфузии и примочки.
Он всегда говорил: "Человек должен так же просто умирать, как и рождаться". Надо, в
конце концов, позвать Грина и составить завещание как следует. Все его ближние хотят
этого и все боятся. И он боится тоже. Не самого завещания, конечно, а всего связанного с
ним. Мерзости окончательного подведения итогов, когда все, что он так хорошо умел
прятать, — любовь, равнодушие, неприязнь, зло, дружбу, благодарность, — вдруг перестанет
быть просто его чувствами, а превратится в волю, поступок, в купчие крепости, расписки, земли и деньги. Что за вой поднимется тогда над его гробом!
И все-таки пора, пора! Ведь сегодня утром его тошнило чистой кровью.
— Mors! — сказал он громко. — Mors! — и прислушался к слову.
Было очень тихо. За стеной тикали часы, от единственной свечи на всем лежал
желтый, угарный свет.
Так и застал больного доктор Холл. Было утро. На приветствие доктора больной не
ответил. Доктор наклонился и пощупал пульс — бился он часто и жестко, один такт
выпадал. "Да, все к развязке! подумал доктор. — Надо бы о завещании, а то жена
перегрызет горло".
— Мистер Виллиам, — сказал он осторожно.
Больной молчал. Раскрытый фолиант лежал на тумбочке, доктор наклонился и прочел
строчки, подчеркнутые красными чернилами. "В этот момент, говорит Гиппократ, -
больные умирают". "Погано", — подумал доктор и повторил:
— Мистер Виллиам…
Больной не пошевельнулся, только чуть дрогнули сомкнутые веки. Доктор постоял
немного и осторожно, на цыпочках, как от спящего, вышел из комнаты. И дверь он
затворил тихо-тихо, так, чтобы не разбудить.
Оба они играли в одну игру и слегка подыгрывали друг другу.
Глава 3
… Холл возвратился от больного, увидел Бербеджа и недовольно поморщился.
— Нет, нет, мистер Ричард, — сказал он, — это абсолютно исключено. Никаких пяти
минут больше не будет. Идемте, Гроу.
— Но честное слово! — истово округлил глаза Бербедж. — Даю вам честнейшее из
честных…
— Нет и нет! Идемте, Гроу! — Доктор схватил его за руку и вытащил в коридор.
— Значит, так, Гроу, — сказал он. — Мы сейчас входим к больному. Я вас ему рекомендую
и ухожу — я еще домой не заглядывал, — а вы подвигаете стул к кровати, садитесь, берете
книгу — их там на столе несколько — и читаете. Пока он сам к вам не обратится — не
заговаривайте. Этого он не любит! Понятно?
— Понимаю, — кивнул головой Гроу.
— А что, он очень плох? — спросил Бербедж.
— Очень, — отрезал Холл, не оборачиваясь. — Застегнитесь, Гроу, хорошенько, что это вы
как?.. Я там велел отворить все окна. А вас бы, мистер Ричард, я попросил пройти к
хозяйке и занять ее. Ни в коем случае не надо, чтоб она входила к больному, он сейчас в
очень возбужденном состоянии.
— Ясно, — сказал Бербедж, — не беспокойтесь, пока я здесь, никто из домашних к нему
не зайдет.
— Очень прошу вас, — повторил доктор, — очень.
— Нет, нет, никто не зайдет. Вашу супругу он уже выгнал, Юдифь дома, а миссис Анна
сидит у себя и плачет. Все в полном порядке, мистер Холл. Все как и должно быть в этом
доме.
Доктор зря остерегал Гроу: почти полчаса больной молчал и не то спал, не то просто
думал о чем-то очень своем. Во всяком случае, глаза его были плотно закрыты. За это
время Холл появлялся дважды. Он подходил к кровати, прикладывал к виску больного два
длинных прохладных пальца и, только-только коснувшись, сразу же, удовлетворенный, уходил, даже не взглянув на Гроу. Все это он проделывал так бесшумно, так скользяще
легко, что даже казался почти плоскостным, как тень или призрак. Потом, через какой-то
промежуток, зашла Мария, приставив стул к окну, стала на колени и закрыла форточки.
— Хорошо, Мария, — сказал больной не открывая глаз.
Мария молча слезла со стула, поставила его обратно, потом подошла к двери и оттуда
спросила:
— А может, протопить? Дрова еловые, сухие, трещат! Для воздуха, а? И сыровато что-
то!
— Не надо, Мария, — ответил больной не двигаясь.
Старуха пожевала губами и ушла. Потом долго никто в комнату не заходил. Затем
дверь приотворилась и в щели показалась голова. Она поглядела в сторону кровати — в
комнате было темно — и перевела глаза на Гроу. Тот коротко развел руками. Голова кивнула
и исчезла, и сейчас же больной спросил:
— Это кто был, Саймонс?
— Мистер Бербедж, — ответил он.
— А, он здесь! — словно удивился больной и тут же спросил: — Вы доктора давно знаете?
— Он мой дядя, — слегка удивился Гроу.
— Но не родной? — больной даже не спросил, а напомнил.
— Нет! — вырвалось у Гроу, и он сейчас же осекся — надо было ответить не так.
Больной удовлетворенно кивнул головой и еще с полминуты пролежал неподвижно,
потом позвал:
— Подойдите, Саймонс, садитесь. — И, когда Гроу подошел, спросил: — Вам еще долго
учиться?
Гроу сказал, что два года.
— Так что вы скоро будете такой же врач, как и доктор Холл?
"Да, если не засыплют на диспутах", — хотел сказать Гроу, но только кивнул головой.
— Отлично. Так как же вы понимаете мою болезнь?
По дороге доктор очень пространно, с примерами и ссылками на классиков -
Гиппократа и Галена, объяснял Гроу, что положение больного очень серьезно: нарушено
нормальное смешение соков и резко возросла выработка холерической желтой желчи. Это
ведет, во-первых, к постоянному лихорадочному состоянию и жару, а во-вторых, к
сдавливанию легкими левого сердца. А так как жизненное начало пневма — поступает из
воздуха именно через это левое сердце, то приток сил в больном ослаблен и жизнь еле-еле
теплится. Болезнь эта обычна для актеров, ибо она происходит от чрезмерного
напряжения голоса, и кончается большей частью летально. "Конечно, все это я говорю для
вашего сведения, а не для него, — предупредил доктор, — он и так вычитал больше, чем
следует. Но во всяком случае вы теперь знаете, чего вам не следует касаться. Так?" — "Так",
— ответил он тогда, но сейчас все полетело; когда он начал что-то туманное о пневме и
соках, больной вдруг сказал:
— Великолепно, юноша, но по Гиппократу это звучит вот как: сначала человека рвет
желтой желчью, потом черной, а под конец кровью. Тогда больной умирает. Меня вчера
рвало кровью. Теперь вы понимаете, что мне нечего бояться?
Он приподнялся на локте. Голос его был тверд и деловит, глаза блестели сухо и
трезво.
— Доктор Холл… — начал Гроу почти бессмысленно.
— Он ушел к жене, юноша, и теперь придет только ночью. Так вот, позовите мистера
Ричарда.
— Нет, нет, — быстро сказал Гроу, бессознательно подражая интонации Холла, — вам
нужно лежать.
— Вот что, юноша, — больной даже приподнял голову, — я знаю сам, что мне нужно. А
сейчас я скажу, что следует делать вам: когда доктор здесь, вам нужно выполнять его
приказания, когда его нет, вам нужно слушать меня. Уверяю, что тогда все будет хорошо.
Идите и позовите Ричарда.
Сейчас он даже не сказал "мистера". Голос его был совершенно тверд, и такая
непреложная ясность звучала в нем, что Гроу сразу же послушно поднялся со стула и
пошел к двери. "Поднимусь к хозяйке, подумал он, — скажу, что больной беспокоится и
хочет видеть кого-нибудь из домашних. Там, верно, будет и этот Бербедж".
Он вышел в коридор, пошел к лестнице и наткнулся на Бербеджа. Тот стоял у углового
окна и по-прежнему барабанил пальцами по стеклу.
— Ну, что? — спросил он.
— Он зовет вас, — ответил Гроу. — Там никого нет, идите…
И занял его место у окна.
Не прошло и пяти минут, как Бербедж вернулся за ним.
— Вас зовет хозяин, — сказал он.
Когда он зашел, больной уже не лежал, а полусидел, опираясь на подушки. Гроу он
показался здоровым.
— Не надо вам сейчас ходить по дому, — объяснил больной. — Вот садитесь за стол и
читайте. Если Гиппократ надоел, то вот есть там кое-что другое.
Бербедж подошел к столу, снял щипцами нагар и возвратился к постели.
— Книги и бумаги ты просто возьмешь при мне, сказал больной, продолжая разговор. -
Я скажу доктору, он все это сделает. Тут они никому не нужны, так что это легко.
— Ладно, — ответил Бербердж. — Но прости меня, хотя мы и сговорились не трогать уже
больше этого, — зачем тебе так торопиться? Почему бы, верно, тебе серьезно не поговорить
с доктором? Ведь какой смысл ему что-нибудь скрывать? Он так же, как и все твои…
(Больной кивнул головой). Хочешь, я поговорю, а потом скажу тебе? Ты что, не поверишь
мне?
Больной усмехнулся.
— Нет, и тебе не поверю. Но прежде всего не поверит он и скажет что-то совсем не то.
А вот что пользы ему скрывать, — я, верно, этого не знаю. Но, конечно, какая-то польза
есть. Может, они хотят подсунуть мне бумагу в самый последний момент, когда уж не
останется времени? А может, они сестры боятся? Юдифь ведь тоже…
— Зря ты составил тогда эту бумагу, очень зря! болезненно поморщился Бербедж.
— Что теперь об этом говорить, — слегка развел руками больной. — Пока она у Грина, я
спокоен! Ну а тогда мне пришлось уж так плохо…
— Да, — сказал Бербедж, думая о чем-то своем. — Да, Билл! Оказывается, за все
приходится давать ответ: за нажитое и прожитое.
Больной улыбнулся.
— Ой, нет! Прожитое-то мое! Его у меня уж никто не отнимет. Тут все просто. А вот
нажитое — оно, верно, висит, тянет, мучит, не пускает. Ты знаешь, мне один немец
рассказывал: у них там ведьмы не переводятся. И знаешь, почему? Ни одна ведьма не
может умереть, пока не передаст своего колдовства. Будет болеть, мучиться, гореть, как на
огне, а умереть все равно не умрет. Держит ее земля: "Отдай! Отдай, не твое это, — отдай!"
Вот так и за меня ухватилось сейчас мое и не пускает — отдай! Отдай! Оказывается, это
такая власть, что перед ней и смерть ничто! — Он вдруг повернулся к Гроу: — Что, коллега, вы что-то сказали?
— Нет, я молчал, — ответил он. — Я вас слушал.
Ночью его сменила Мария — она в комнату больного не входила, но всю ночь сидела
где-то рядом. Больному, по мнению доктора, не надо было знать этого. Спать Гроу
уложили в маленькой угловой комнате — чулане или кладовке для старой мебели. Было
очень жарко (туда проходила труба) и темновато (ему дали всего одну оплывающую,
кривую свечку). Он, не раздеваясь, брякнулся на мягкое разноцветное тряпье и сразу же
забылся. И сон пришел тревожный и утомительно-мелочный, в нем смешались строки
мелкого, мышиного шрифта и рецепты, выписанные букашечным почерком; их показывал
ему доктор и что-то говорил.
Когда он внезапно проснулся, опять было темно и тихо. Свеча погасла. Слабо серело
почти на потолке маленькое квадратное окошко, а в нем — грубый край трубы и сбоку -
большая зеленая чистая звезда. Где-то за стеной падала и падала в воду полная, звучная
капля. "Скоро рассвет, — подумал он. — Надо бы раздеться и лечь под одеяло". Но двигаться
не хотелось, и он лежал, разбитый блаженной усталостью, и думал. Ведь вот что
интересно: имя этого сочинителя трагедий и масок он слышал не раз. Пришлось даже как-
то держать в руках какую-то его драму. Он ее не дочитал и до половины — сбился,
соскучился и бросил. А вообще-то он любил только комедии — и не читать, а смотреть, особенно если там были клоуны и драки. Понять и прочувствовать пьесу с листа он не
мог: сразу путался и переставал понимать кто — кто и что к чему.
Так вот, имя этого сочинителя и актера он слышал — до этого, но все это было так
случайно и настолько неинтересно, что, когда по дороге сюда ему впервые сказали, к кому
он едет, это почти ничего ему не дало, и вошел он в комнату больного, как к человеку, совершенно ему неизвестному. Вошел, сел и сразу же почувствовал запах смерти,
оглянулся и увидел: это рядом с его локтем лежит стопка новых простынь из сурового
полотна. Он взглянул на кровать, — и там лежала смерть. Только не его смерть (он
вспомнил слова доктора), совсем не его и даже никого к нему относящихся, а смерть
доктора, актера Бербеджа, тоже толстого и одышливого, и всего этого дома. Но
умирающий вдруг заговорил, и сразу все переменилось. Не осталось ни умирающего, ни
просто больного, в комнате лежал человек, которому невесть почему, по какой глупости, неурядице, несправедливости, — может быть даже потому, что весь дом ждал его смерти, -
приходилось умирать. Поэтому все в этом доме было не то и не так. Никто не плакал, нигде не шептались. И больной тоже умирал не так, как полагается. Он как будто даже не
умирал, а готовился к какой-то схватке. К участию в судилище, диспуте, к защите своих
исконных прав перед каким-то высоким трибуналом. Гроу думал также, что обреченный
человек этот понимал, что защита будет трудная, ибо все свидетели лгут, а судьи
подкуплены. В общем, все в этом доме было непонятно, и только одна строчка из одной
очень старой и никогда особенно не почитаемой им книги подходила к тому, что здесь
происходило. Ее вдруг вспомнил Бербедж.
Был такой разговор.
— Видишь ли, — сказал Шекспир, — вот ты действительно мой душеприказчик, потому
что все остальное уже не мое. Был дом Шекспира — будет дом доктора Холла, деньги
спрячет Сюзанна, серебро возьмет Юдифь — вот уж даже следа от меня не осталось в мире!
Только имя на плите. А книги-то все равно мои! Хорошие или плохие, — а мои!. "Гамлет" -
Шекспира! — "Лукреция" — Шекспира! Сонеты — Шекспира… Что бы там ни было, никто на
них иного имени не поставит, понимаешь? Мо-е!
— Понимаю, — ответил Бербедж. — Нет, правильно сказал Христос: "Главные враги
человека — это его домашние".
— Да-да. Христос сказал именно так! — Шекспир с улыбкой посмотрел на Гроу и
покачал головой. — Но, Ричард, наш молодой коллега, может быть, еще и не женат, так не
надо бы, пожалуй, учить его такому Святому Писанию, как ты думаешь?… Когда утром
Гроу сидел в трактире, к нему подошел рыжий, толстогубый парень в вязаном шерстяном
колпаке и поздоровался, как со старым знакомым.
— Вы что, — спросил рыжий дружелюбно, — из Нью-Плеса?
Нью-Плес — новое место, так официально назывался дом Шекспиров.
Гроу кивнул головой и подвинулся, хотя места было много. В руках толстогубого была
большая глиняная кружка. Он поставил ее рядом с локтем Гроу и уселся.
— Вот я сразу вижу — вы откуда-то издалека, сказал он. — Что, студент?.. Ну, я сразу же
вижу студент! Не из Оксфорда? А то я два года там жил у кузнеца! На все там нагляделся.
Что, к родственникам приехали?
— Нет, — ответил Гроу.
— О? Нет? — удивился рыжий. — Неужели там, в Нью-Плесе, у вас никого-никого? Ну, тогда плохое ваше дело — там ведь не разживешься! Скупые больно бабы там!
— Да ну? — как будто удивился Гроу. Ему было интересно, что говорят здесь о
Шекспире и его семье.
— Верное слово, мистер студент, верное слово, скупее их у нас нет, — что старая, что
младшая, что мужья их.
— А доктор? — спросил Гроу.
— А что доктор? — ухмыльнулся парень. — К доктору тоже без денег не суйся. Он
задаром тебе и пук сухой травы не даст. Ну конечно, если ты ему что сделаешь, — ну, коня
подкуешь или там стальные усы к шкатулке, — он заплатит. Сколько спросишь, столько и
даст. Мелочности этой бабьей у него нет. Ну конечно, все-таки как-никак, а мужчина! Но
ведь жена, жена… Ух! — И рыжий покачал головой.
— А что жена? — спросил Гроу.
Рыжий поглядел на него.
— Нет, вы правду говорите, что не родственник?
Гроу пожал плечами.
— А хотя бы и родственник был, я ведь правду говорю! — решил рыжий. — Вся в
матушку пошла. Какой матушка была необузданной, такой и дочку вырастила! Как что -
кричит, шваркает! Не подходи! — И он значительно поглядел на Гроу.
— А откуда вы знаете? — спросил Гроу.
— Вот! — усмехнулся он. — Откуда я знаю! Да весь город знает! У них знаете какие
войны бывают? Доктор, например, ехать собирается, лошадь седлает, а она из окна ему
кулаком грозит, слюной брызжет: "А я знаю, куда ты едешь! Знаю!" А что она знает? Знай
не знай — он свое дело делает.
— А отец? — спросил Гроу.
— Хозяин-то? Он в эти дела никогда не мешается! Как будто и не знает ничего! Да они
при нем и не шумят. Доктор-то его уважает. Ну как же, такого человека-то! А в
особенности, конечно, теперь! Сейчас они и день и ночь от него и не вылезают — ждут!
— Чего?
— Как чего? — удивился рыжий. — Стать хозяевами ждут. Ведь старый-то хозяин не
сегодня-завтра… того… перед престолом Господа Бога… — И вдруг спохватился. — Нет, вы
правда оттуда? Как же вы… тогда ничего не знаете?
— Да я только вчера сюда приехал, — объяснил Гроу.
— Ну, если вчера приехали, то конечно, — смягчился рыжий. — А хозяина уже видели?
Что? Сильно плох? Или к нему не пускают?
— Да нет, видел. Нет, не так чтоб уж очень плох, сказал Гроу. — Я заходил к нему, он
лежит, смеется, разговаривает.
— Да это он всегда смеется, — объяснил парень и поднял свою кружку. — Ну, за здоровье!
Это он, студент, всегда смеется! Я его ведь вот с этих пор помню. Мальчишкой был, так
помню, как он на коне приезжал.
— Так вы, значит.
— Ну еще бы! С детских лет! Так он всегда смеется!.. Вот прошлым летом ходил он, гулял и зашел к дяде моему, в кузницу. А дядя мой его только на два года моложе. Насчет
каких-то замков они потолковали. Он говорит: зайдешь, мол, завтра, посмотришь,
сговоримся. Дядя его оставлять стал. "Нет, говорит, тороплюсь". Простился, подошел к
двери, хотел ее толкнуть, да как грохнется! Почернел, напрягся и все воздух, воздух ртом, как рыба, хватает, а грудь-то так и вздымает, так и ходит волной, волной. Ну, дядя человек
знающий, сразу по такому случаю берет его под мышки, я — за ноги, и вот кладем мы его
на лежанку. Он лежит, а грудь все ходит, все ходит. И весь побагровел, и из глаз слезы, слезы, слезы. Дядя ему два раза лицо платками обтирал. Так он с час пролежал. Потом:
"Дай, говорит, руку, хочу сесть". И сел. Дядя меня в погреб послал за медом, я сбегал, целый жбан принес. "Пей, Билл, — говорит дядя, — он у меня на мяте, целебный, сразу
лучше станет". Он взял жбан в обе руки, а пальцы дрожат, и как впился в него, пил, пил, пил — половину не отрываясь выпил. Встал, отряхнулся. "Спасибо, говорит, вылечил меня, ну, я пойду". Потом постоял, подумал и говорит: "А я о тебе вспоминал. У нас в театре
хорошую балладу сложили о кузнецах — я найду, спишу тебе ее и покажу, на какой голос
петь". А дядя-то мой когда-то первый запевала здесь у них был. Вместе к реке они все на
троицу ходили. Дядя всех там одним голосом перебивал. Ну а сейчас, конечно, где ему
петь. Он полуглухой стал в этой кузнице!" — Что ты, — говорит дядя, — я уж и тех лет не
помню, когда я пел! Ты что, забыл, сколько прошло!" Тот смеется: "А ведь и верно, забыл".
Дядя говорит: "Вот и я вижу, что забыл. Ты думаешь, что нам всем по двадцать лет". -
"Нет, говорит, про себя я так не думаю. А вот на тебя посмотрел — позавидовал, все у тебя в
руках кипит, все горит огнем. Как ты был молодым, так и остался. А я вот от своей работы
на покой запросился. Буду теперь нажитое проживать, прожитое вспоминать, у камелька
кости греть да внучат на ноге качать. Вот такое теперь мое дело". И все улыбается, улыбается, так и ушел улыбаясь! Я вот говорю, что с малых лет его помню и никогда
сердитым или хмурым не видел! А теперь вот умирает! Да! Теперь уже не пойдешь к их
колодцу за водой! И запрут, и собаку спустят! В Нью-Плесе вода знаменитая, там колодец
глубокий, до самого белого песка. Еще старый хозяин рыл. Да! Смерть — это тебе… — Он
вдруг оглянулся, понизил голос и спросил: — А королевский указ…
— Что — королевский указ? — удивился Гроу.
— А! Значит, не открыли вам всего, — кивнул головой рыжий. — Есть у него королевская
хартия на его имя. Что в ней — никто точно не знает, но только дает она большие
привилегии на все, ему и его потомкам — кого он из них выберет. Вот из-за этого у них и
спор, — парень опять оглянулся, — наследника-то мужчины нет, одни дочки, у них и
фамилия другая, вот они, значит, и сомневаются: подойдут под эту бумагу или нет? А если
нет, то прошение надо писать королю, просить, чтобы признали. А вот будет он писать или
нет — этого никто не знает. Рассердится да и не напишет. Вот и все. Вы про это ничего не
слыхали?
— Нет, — сказал Гроу и поднялся. — Ну, спасибо за разговор. Пойду, а то хватятся. До
свиданья.
— До свиданья, — кивнул головой рыжий. — Да не торопитесь, сейчас они вас не
хватятся. Сейчас они все в одном месте собрались, обсели его, как мухи пирог, затаились, прихитрились и ждут, ждут…
"Да, — подумал Гроу, выходя на улицу. — Нет, недаром сказано: "Враги человека — его
домашние". Христос и в этом кое-что понимал".
Днем наверху, в комнате хозяйки, произошел какой-то, видимо, резкий, хотя и
быстрый и очень негромкий, разговор. Потом миссис Юдифь вышла и прошла мимо него
(он сидел на лавке около колодца). Лицо ее было в красных пятнах, а губы сжаты. Тонкие, недобрые губы Шекспиров. Около полуоткрытой калитки ее ждал человек, может быть, муж или родственник. Он спросил ее что-то, а она досадливо махнула рукой и прошла.
"Стерва баба", подумал Гроу.
Затем вышел доктор Холл под руку со священником. Он, конечно, сразу же вскочил и
поклонился. Доктор Холл как будто его и не заметил вовсе, но священник и еще раз
оглянулся. Они сделали круг и сели на другом конце сада, и Холл начал что-то энергично
говорить, разводя руками и доказывая. Священник слушал, — склонив голову и чертя что-то
концом туфли. Потом вдруг вскинул глаза и что-то сказал, — оба они взглянули в его
сторону. Затем немного поговорили еще, поднялись и прошли мимо, в дом. На этот раз
Холл заметил его и кивнул очень ласково.
Затем во двор вышел Бербедж и подошел прямо к нему.
— Вас зовет мистер Виллиам, — сказал он… Шекспир, одетый, сидел в кресле и писал.
Чернильница стояла рядом на стуле. Шекспир казался совсем здоровым — плотный,
упитанный джентльмен средних лет, с большой лысиной и полными щеками. Вот только
бледен он был очень. Когда они вошли, Шекспир взглянул на них, приписал еще что-то и
протянул бумагу Бербеджу.
— Присыпь песком, — сказал он, — это, кажется, все, что надо.
Бербедж быстро оглядел записку и сказал:
— Этого, конечно, хватит, Билл. Теперь другое: что из этого у тебя сейчас есть и чего
нет?
— Сейчас придет Харт, — сказал Шекспир и посмотрел на Гроу. — Коллега, вам придется
вместе с племянником снести с чердака один сундук. Постарайтесь сделать это как можно
незаметнее.
Виллиам Харт пришел через пять минут, и они пошли за сундуком. Оказывается,
сундук находился как раз в той каморке, где Гроу ночевал. Небольшой темный и очень
тяжелый дубовый ящик, окованный сизыми стальными полосами. Они вытащили его из-
под кровати и стащили с чердака по узкой лестнице. Шекспир ждал их с ключом в руках.
Они поставили ящик на стол, Бербедж взял у Шекспира ключ. Заимок был тугой. Крышка
отскочила со звоном. На внутренней стороне ее оказалась большая, в полный лист,
гравюра — отречение Петра. Скорбящий Петр и над ним гигантский петух. "Наверное, Волк тоже видел это, — подумал Гроу, — потому и заговорил о петухе. А ведь Петр, пожалуй, и не скорбит. Он просто стиснул руки на груди и думает: "Ну какой же во всем этом смысл, Господи, если даже я — я тебя предал?" А над ним вот — поднялся огромный,
торжествующий петух".
Сундук был набит почти до краев. Бербедж приподнял кусок тафты, и Гроу увидел
груду книг, тетради, синие папки, фолианты в кожаных переплетах.
— Вот тут все, — сказал Шекспир, — все, что у меня есть.
— И то, что не напечатано, сэр? — спросил Бербедж. — "Макбет", "Цезарь", "Клеопатра"?
— Все, все…
Бербедж взял первую папку и открыл ее. В ней лежала тетрадь, исписанная в столбик
красивым, так называемым секретарским почерком. Буквы казались почти печатными, так
любовно была выписана каждая из них.
— Как королевский патент, — сказал Бербедж.
— Теперь так уже переписчики не пишут. Хороший старик был, мы его недавно
вспоминали.
— Дай-ка, — сказал Шекспир. Он взял рукопись и долго перелистывал ее, читал,
улыбался, задерживаясь на отдельных строках, и качал головой. — Ты в этой роли был
поистине великим, Ричард, — сказал он Бербеджу, и тот согласился:
— Да.
Шекспир полистал тетрадь еще немного, потом отложил ее и вынул кожаную папку. В
ней лежали большие листы, сшитые в тетрадь. Он быстро перелистал их. Почерк был
другой — быстрый и резкий.
— Что значит молодость, — сказал Шекспир. — Да, мне было тогда… Гроу, вам сколько
сейчас?
— Двадцать четыре, — ответил он.
Шекспир ничего не ответил, только взглянул на него с долгой улыбкой и кивнул
головой. Затем вынули еще несколько папок, просмотрели их и все сложили обратно.
— Вот все, — повторил он.
— Хорошо, — решил Бербедж, — закрывай и давай мне. И больше у тебя ничего нет?
— Нет!
Бербедж деловито сложил все опять в сундук, потом помолчал, подумал и сказал:
— Вот что, Виль, — он назвал его не "Билл", как всегда, а ласково и мягко — "Виль", -
очевидно, по очень, очень их личному и старому счету. — Ты сам… — Он все-таки осекся.
— Ну-ну? — подстегнул его Шекспир.
— Я хотел сказать, — путаясь, хмурясь и краснея, сказал Бербедж, — нет ли у тебя тут и
писем, которые ты бы не хотел сохранять?
— Ага, — серьезно кивнул головой Шекспир, — ты хочешь сказать, что в таком случае
уже пора!
Наступило неловкое молчание. Харт вдруг выдвинулся и встал около дяди, словно
защищая его. Шекспир мельком взглянул на него и отвел глаза.
— Я… — начал Бербедж.
— Конечно, — очень серьезно согласился Шекспир, — конечно, конечно, Ричард, но,
кроме заемных писем, у меня ничего уже не осталось.
— А то письмо тут? — спросил Ричард.
— Здесь. В самом низу. Достаньте его, Гроу. Оно в кожаной папке.
Гроу достал папку. Шекспир открыл ее, посмотрел, захлопнул и положил рядом с
собой.
— Что же будем с ним делать? — спросил он.
Бербедж пожал плечами.
— Нет, в самом деле — что?
— Мне его во всяком случае не надо, — ответил Бербедж. — Хотя оно и королевское и
всемилостивое, но в книге его не поместишь.
— Да, всемилостивое, всемилостивое, — покачал головой Шекспир. — Что оно
всемилостивое — с этим уж никак не поспоришь. Но что же с ним все-таки делать?
— Отдай доктору, — сказал Бербедж.
— Да? И ты думаешь, оно его обрадует? — спросил Шекспир и усмехнулся. — Виллиам, -
обратился он к племяннику, — ты слышал о том, что твой дядя беседовал с королем? Ну и
что тебе говорили об этом? О чем шла у них беседа?
Виллиам Харт, плотный, румяный парень лет шестнадцати, еще сохранивший
мальчишескую припухлость губ и багровый румянец, стоял возле ящика и не отрываясь
смотрел на дядю. Когда Шекспир окликнул его, он замешкался, хотел, кажется, что-то
сказать, но взглянул на Гроу и осекся.
— Ну, это же все знают, Виль, — мягко остерег от чего-то больного Бербедж, — не надо, а?
Но Шекспир как будто и не слышал.
— Ты, конечно, не раз слыхал, что Шекспиры пользуются особым покровительством
короны, что его величество оказал всему семейству величайшую честь, милостиво беседуя
на глазах всего двора с его старейшим членом в течение часа. Так?
— Но правда, Виллиам… — снова начал Бербедж, подходя.
Больной посмотрел на него и продолжал:
— Так об этом написали бы в придворной хронике. Кроме того, Виллиам, тебе, верно, говорили, что у твоего дяди хранится в бумагах всемилостивейший королевский рескрипт, а в нем… ну, впрочем, что в нем, этого никто не знает. Говорят всякое, а дядя скуп и
скрытен, как старый жид, умирает, а делиться тайной все равно не хочет. Думает все с
собой, забрать. Так вот, дорогой, это письмо! Оно лежит тут, — Шекспир похлопал по
папке, — и на тот свет я его, верно, не захвачу, здесь оставлю. Только, дорогой мой, это не
королевское письмо, а всего-навсего записка графа Пембрука с предписанием явиться в
назначенный день и час. Это было через неделю после того, как мы сыграли перед их
величествами "Макбета". В точно назначенное время я явился. Король принял меня… ты
слушай, слушай, Ричард, ты ведь этого ничего не знаешь.
Больной все больше и больше приподнимался с подушек, которыми он был обложен.
Глаза его горели сухо и недобро. Он, кажется, начал задыхаться, потому что провел
ладонью по груди, и Гроу заметил, что пальцы дрожат. Заметил это и Бербедж. Он
подошел к креслу и решительно сказал:
— Довольно, Виллиам, иди ложись! Вон на тебе уже лица нет. В рукописях я теперь
сам разберусь.
— Так вот, его величеству понравилась пьеса, продолжал больной, и что-то странное
дрожало в его голосе. — Он только что вернулся с прогулки и был в отличном настроении.
"Это политическая пьеса, сказал король, — англичане не привыкли к таким. Она очень
своевременна. Английский народ мало думает о природе и происхождении королевской
власти. Он все надеется на парламент. Но что такое парламент без короля?! Вот в
Голландии, Швейцарии и Граубунде нет монарха и поэтому там не парламент, а совет и
собрание. Эти неразумные должны цепляться за королевскую власть, как за свое
спасение!" Это король уж, разумеется, не мне сказал, а графу Пембруку. Тот стоял рядом и
слушал. И, как человек находчивый, сразу же подхватил: "Я бы хотел, чтобы эти
неразумные слышали ваши слова, государь. Они совершенно не понимают этого". Тогда
король сказал: "Так я их просто повешу, вот и все!" Потом повернулся к графу. "Я монарх, милорд, сказал он, — монарх, а "монос" — это значит один и един. А единое — совершенство
всех вещей. Един только Бог на небе да король на земле. А парламент — это
множественность, то есть чернь. Вот ведь как все просто, а на этом стоит все". Потом
опять повернулся ко мне. "Я не хотел бы, сэр, — сказал он, чтобы вы когда бы то ни было
касались того, что связано с таинственной областью авторитета Единого. Это недопустимо
для подданного и смертный грех для христианина. В "Макбете" вы, правда, подошли к
этой черте, но не перешли ее. Я ценю это. Вы исправно ходите в церковь, сэр?" Я ответил, что каждую субботу. "Я так и думал, — ответил король, — потому что атеист не может быть
хорошим писателем". Я сказал: "Спасибо, ваше величество". — "Да, да, — сказал король, — я
это сразу понял, как только увидел ваших ведьм. В ведьм истинному христианину
необходимо верить так же твердо, как церковь верит в князя тьмы — дьявола. Однако вы
допускаете ряд ошибок". Тут король замолк, а я нижайше осмелился спросить: "Каких же
именно, ваше величество?" — "У шотландских ведьм, — ответил король, — нет бород, это вы
их спутали с немецкими. И поют они у вас не то. Как достоверно выяснено на больших
процессах, ведьмы в этих случаях читают "Отче наш" навыворот; ну и еще вы допустили
ряд подобных же ляпсусов, — их надо выправить, чтоб не вызвать осуждение сведущих
людей. Мой библиотекарь подыщет вам соответствующую литературу. Я тоже много лет
занимаюсь этими вопросами и если увижу в ваших дальнейших произведениях какое-
нибудь отклонение от истины, то всегда приму меры, чтоб поправить их". Я, конечно, поблагодарил его величество за указания, а умный граф Пембрук воздел руки и сказал: "О, счастливая Британия, со времен Марка Аврелиуса свет еще не видел такого короля-
мыслителя!" На это его величество рассмеялся и сказал: "По существу, вы, вероятно, правы, сэр, но, например, лечить наложением рук золотуху Аврелиус был не в состоянии.
Ибо был язычником и гонителем. Христианнейшие короли могут все. Сэр Виллиам очень
удачно отметил это в своей хронике, и я благодарен ему за это". Тут он дал мне поцеловать
руку и милостиво отпустил. Теперь ты понял, Виллиам, какую великую милость оказал
король твоему дяде?! — Он посмотрел на Харта и подмигнул ему. — Ладно, позови доктора
Холла, я отдам ему это письмо.
— Подожди, Виллиам, — сказал Бербедж, — дай мне сначала уехать с этими бумагами.
Рукописи Бербедж благополучно увез с собой. Перед этим он поднялся к хозяйке и
пробыл наверху так долго, что Гроу, оставшийся с рукописями в гостиной, успел
задремать. Проснулся он от голосов и яркого света. Перед столом собрались Бербедж, доктор Холл, достопочтенный Кросс и две женщины одна старуха, другая помоложе,
неопределенных лет. Гроу вскочил.
— Сидите, сидите! — милостиво остановил его Холл и повернулся к старухе: — Миссис
Анна, вот это тот самый мой помощник, о котором я вам говорил.
Старуха слегка повела головой и что-то произнесла. Была она высокая, плечистая, с
энергичным, почти мужским лицом и желтым румянцем — так желты и румяны бывают
лежалые зимние яблоки.
— Миссис Анна говорит, — перевел доктор ее бормотание: — я очень рада, что в моем
доме будет жить такой достойный юноша. — Он поставил канделябр на стол и спросил
Бербеджа: — Так вот это все?
— Все, — ответил Бербедж. — Заемные письма и фамильные бумаги мистер Виллиам
отдаст вам лично.
— Ну хорошо, — вздохнул Холл. — Миссис Анна не желает взглянуть?
— Да я все это уже видела, — ответила хозяйка равнодушно.
Холл открыл первую книгу, перевернул несколько страниц, почитал, взял другую,
открыл, и тут вдруг огонь настоящего, неподдельного восхищения блеснул в его глазах.
— Потрясающий почерк! — сказал он. — Королевские бы указы писать таким. Вот что я
обожаю! почерк! Это в театре у вас такие переписчики?
Бербедж улыбнулся. Доктор был настолько потрясен, что даже страшное слово "театр"
произнес почтительно.
— Это написано лет пятнадцать тому назад, — объяснил он. — У мистера Виллиама тогда
был какой-то свой переписчик.
— Обожаю такие почерка! — повторил Холл, любовно поглаживая страницу. — Это для
меня лучше всяких виньеток и картин — четко, просто, величественно, державно! Нет, очень, очень хорошо. Прекрасно, — повторил он еще раз и положил рукопись обратно.
Достопочтенный Кросс тоже взял со стола какую-то папку, раскрыл ее, полистал,
почитал и отложил.
— Миссис Анна, вы все-таки, может быть, посмотрели бы, — снова сказал Холл. — Ведь
это все уходит из дома!
— Что я в этом понимаю? — поморщилась старуха. — Вы грамотные — вы и смотрите!
Спросили о том же и жену доктора, такую же высокую и плотную, как мать, но она
только махнула рукой и отвернулась. Перелистали еще несколько рукописей,
пересмотрели еще с десяток папок, и скоро всем это надоело и стало скучно, но тут Холл
вытащил из-под груды альбом в белом кожаном переплете. Как паутиной, он был обвит
тончайшим золотым тиснением и заперт на серебряную застежку.
— Итальянская работа, — сказал Холл почтительно и передал альбом Кроссу.
Тот долго листал его, читал и потом положил.
— У мистера Виллиама очень звучный слог, — сказал он уныло.
— Ну что ж! — Холл решительно поднялся с кресла. — Ну что ж, — повторил он. — Если
мистер Виллиам желает, чтоб эти бумаги перешли к его друзьям, я думаю, мы возражать
не будем? — И вопросительно поглядел на женщин.
Но Сюзанна только повела плечом, а миссис Анна сказала:
— Это все его, и как он хочет, так пусть и будет!
— Так! — сказал доктор и повернулся к Бербеджу: — Берите все это, мистер Ричард, и…
— Одну минуточку, — вдруг ласково сказал достопочтенный Кросс. — Мистер Ричард, вы
говорите, что хотите все это издать?
Бербедж кивнул головой.
— Так вот, мне бы, как близкому другу мистера Виллиама, хотелось знать, не бросят ли
эти сочинения какую-нибудь тень на репутацию нашего возлюбленного друга, мужа, отца
и зятя? Стойте, я поясню свою мысль! Вот вы сказали, что некоторые из этих рукописей
написаны пятнадцать и двадцать лет тому назад. Так вот, как по-вашему, справедливо ли
будет, чтобы почтенный джентльмен, отец семейства и землевладелец, предстал перед
миром в облике двадцатилетнего повесы?
— Да, и об этом надо подумать, — сказал Холл и оглянулся на жену. — Вам, мистер
Ричард, известно все, что находится тут?
— Господи! — Бербедж растерянно поглядел на обоих мужчин. — Я знаю мистера
Виллиама без малого четверть века и могу поклясться, что он никогда не написал ни одной
строчки, к которой могла бы придраться самая строгая королевская цензура.
— Ну да, ну да, — закивал головой достопочтенный Кросс, — все знают, что мистер
Виллиам добрый христианин и достойный подданный, и не об этом идет речь. Но нет ли в
этих его бумагах, понимаете, чего-нибудь личного? Такого, что могло бы при желании
быть истолковано как намек на его семейные дела? И не поступит ли человек, отдавший
эти рукописи в печать, как Хам, обнаживший наготу своего отца перед людьми? Этого мы, друзья, никак не можем допустить.
— Берите бумаги, — вдруг сказала Сюзанна, и Гроу в первый раз услышал ее голос,
звучный и жесткий, — и пусть со всем этим будет покончено! Сегодня же! О чем тут еще
говорить? Пусть берет все и… Мама?!
— Пусть берет, — подтвердила старуха. — Пусть берет, раз он приказал! Это все его, не
наше! Нам ничего этого не нужно!
Наступила тревожная тишина. Старуха вдруг громко всхлипнула и вышла из комнаты.
— Берите, — коротко и тихо приказал Холл Бербеджу, — берите и уезжайте. Ведь тут
сегодня одно, а завтра — другое. Скорее уезжайте отсюда. — И он покосился на жену, но та
стояла у окна и ничего не слушала. Всего этого ей действительно было не нужно… Когда
на рассвете Гроу шел в свою комнату (его сменила Мария), около лестницы, у слабо
синеющего окна, он увидел сухую четкую фигуру. Кто-то сидел на подоконнике. Он
остановился.
— Что, заснул? — спросила фигура, и Гроу узнал хозяйку.
— Спит, — сказал Гроу, подходя. — Крепко спит, миссис Анна.
— Слава тебе Господи, — перекрестилась старуха, — а то с ночи все бредил и просыпался
два раза. Такой беспокойный был сегодня. Все о своих бумагах…
— А откуда вы… — удивился Гроу. Ему показалось, что старуха усмехнулась.
— Да что ж, я задаром здесь живу? У меня за три года такой слух появился, что этих
стен как будто и вовсе нет. Чуть он шевельнется, я уж слышу. Подхожу к двери, стою -
вдруг что ему потребуется… — Она хотела что-то прибавить, но вдруг смутилась и сердито
окончила: — Идите спать, молодой человек. Скоро и доктор придет.
— А вы? — спросил Гроу.
— Да и я тоже скоро уйду. Вы на меня не смотрите. Я привычная. Ведь три года он
болеет — три года!
— А что ж Мария… — заикнулся Гроу.
— Ну! — опять усмехнулась старуха. — Разве я на Марию могу положиться? Да она всего-
то навсего и моложе меня на два года. Раз он сильно застонал, а в комнате темно — свечка
свалилась и потухла, — он мечется по кровати, разбросал все подушки и бредит: будто его в
печь заталкивают. А Мария привалилась к стене и храпит.
— Что ж вы ее не разбудили? — спросил Гроу.
— А что мне ее будить? — огрызнулась старуха. — Я ему жена, она посторонняя. Я
госпожа, она служанка. Мне ее будить незачем. — И вдруг опять рассердилась: — Идите, молодой человек. Спокойного вам сна.
И он ушел.
С той ночи прошло больше пятидесяти лет, но сэр Саймонс Гроу, старый,
заслуженный врач, участник двух войн и более двадцати сражений, помнил ее так, будто
этот разговор у лестницы произошел только вчера. Так его потрясла эта старая женщина, ее безмолвный подвиг и колючая, сварливая любовь.
Сейчас он сидел на лавочке и думал, думал. Дважды его жена посылала внучку, затем
сама пришла и сердито набросила ему плед на спину, — что он, забыл, что ли, про свой
ревматизм? А он все сидел и вспоминал. Потом встал и пошел к себе.
В доме уже спали. Он осторожно подошел к столу, выдвинул ящик, вытащил тетрадь в
кожаном переплете и открыл ее. Она была вся исписана Красивым, ровным почерком -
таким ровным и таким красивым, что буквы казались печатными. Это был ученый труд
доктора Холла, переписанный им собственноручно. Сэр Гроу задумчиво листал его и
думал. Когда доктор Холл умер, его жена свалила рукописи покойного в корзину и снесла
их под лестницу. Там они и пролежали лет десять и были проданы за бесценок, как бумага.
Их приобрел полковой врач, приятель сэра Гроу. Так эта тетрадь и попала к нему.
— Да, — сказал или подумал сэр Гроу, — да, вот так, дорогой учитель греческого и
латинского. Вот так! Вот вам и семейные бумаги! Вот вам и королевский рескрипт! Вот
вам все.
Потом спрятал тетрадь, сел за стол и написал вот это:
"Что касается бумаг и рукописей, то о них я ничего достоверного сообщить не могу.
Кажется, актеры, друзья покойного, что-то подобное нашли и увезли с собой. Помнится, какой-то разговор при мне был, но ничего более точного я сказать не могу. Что же касается
королевского письма…"
".. Жене своей он завещал вторую по качеству кровать".
ЭПИЛОГ
"И еще я хочу и завещаю, чтоб моей жене Анне Шекспир досталась вторая по
качеству кровать со всеми ее принадлежностями, как-то: подушками, матрацами,
простынями и т. д."
Завещание
"Как Шекспир относился к жене, видно уже из того, что он, распределив по
завещанию до мелочи все свое имущество, оставил ей только вторую по качеству кровать".
Брандес
Удивляются, что Шекспир оставил Анне только вторую по качеству кровать, и
забывают, что по английским законам жене и так полагается половина всего имущества
умершего мужа, — вторая же по качеству кровать (на первой спали гости) была, видимо, дорогим сувениром, интимной памятью, которую умирающий муж оставил своей верной
подруге".
Гервинус
"Правда, биографы утешают нас тем, что Анна Шекспир была все равно обеспечена
законом, но по купчей крепости на покупку лондонского дома в районе Блекфрайса
Шекспир отдельной оговоркой в купчей лишил жену права пользоваться доходами от этого
дома".
Морозов
"В мезонине показывают большую кровать с покрывалом, принадлежащую, согласно
преданию, Анне Шекспир. Мне вспомнились слова завещания:
"Жене моей я оставляю вторую по качеству кровать со всеми ее принадлежностями", и я спросил провожатую — не та ли это?
Женщина в черном не знала и даже конфузливо поправила очки…"
Ю. Беляев
"Я посетил в октябре дом Анны Хатвей — последней представительницы фамилии.
Она сидела на стуле у очага, против той скамейки, где, по преданию, обыкновенно сидели
ее влюбленные друг в друга предки. Пред ней лежала фамильная Библия. Вся комната
была заполнена разнообразными портретами — Шекспира, Анны, знаменитых актеров,
фотографиями предметов, якобы принадлежавших Шекспиру. Она жила в их мире. Они
доставляли ей пропитание. Она объясняла назначение каждого из них. Однако на
осторожный вопрос — читала ли она что-нибудь о Шекспире, воспоминаниями о котором
она жила постоянно, она немного удивленно ответила: "Читать о нем? О нет! Я только
Библию читаю!"
Брандес, "Шекспир", 1896
Но лежат они все равно рядом, и тут уж шекспироведы ничего поделать не могут.
"Старожилы рассказывают, что Анна Шекспир настойчиво просила похоронить ее в
могиле мужа".
Дж. Роу, 1709
Вот так! Чтоб они там ни говорили!
НЕИЗДАННЫЕ ГЛАВЫ КНИГИ
КОРОЛЕВА
Мэри Фиттон — смуглая леди, как ее звали при дворце, домой вернулась ночью, а в 5
часов утра за нею приехал посланный королевы. У Мэри Фиттон шумело в голове, ее
немного подташнивало, но она сейчас же оделась и вышла к посланцу.
Он, молодой, красивый, рослый, в великолепном кафтане, расшитом золотом, ждал ее
в гостиной. Когда Фиттон быстро зашла в комнату, он занес правую руку и отвесил ей
торжественный, но все-таки слегка иронический поклон по модному французскому
образцу, то есть ткнул рукой в воздух и трижды притопнул, и Мэри Фиттон сразу же
успокоилась ничего серьезного.
— Что случилось, мистер Оливер? — спросила она, поворачивая к нему свою твердо
выточенную, мальчишескую голову, всю в черных жестких кудрях. — Ее величество…
Со скорбной улыбкой посланец веско ответил:
— Ее величество опасно больна. Она лежит в постели.
— Когда ж это случилось? — спросила Фиттон. — Я видела ее величество только вчера.
Она так хорошо себя чувствовала, что даже пела под цитру.
Они уже шли по лестнице.
Посланец молчал.
— Ничего не понимаю, — сказала Фиттон, глядя на него.
— Ее величество, — доверительно ответил Оливер, помолчав, — сказала сегодня лорду
Бэкону, что нет порока опаснее для монарха, чем неблагодарность подданного.
— Ах так, — Фиттон наклонила голову в знак того, что она поняла все. — Это опять
Эссекс!
Молча они вышли на улицу, сели в карету.
Были первые часы морозного утра. Серебристый тонкий воздух лежал в каменных
провалах улиц. Лондон спал, только кое-где еще курился нежный белый дымок.
— Ничего, — сказала Фиттон, — если дело только в этом, завтра ее величество будет
опять здорова.
Она говорила так, а сама была серьезно удивлена. Королева не любила болеть и,
несмотря на свои семьдесят лет, все еще считала себя молодой и прекрасной. Вот недавно
было такое: приехал к ней посол шотландского короля Иакова V, вероятного наследника на
британский престол. Его провели в зал и оставили одного. Тут посол услышал: в соседней
комнате играют на цитре. Он подошел, открыл портьеру и увидел — королева танцует одна
какой-то несложный танец. Он замер — это же был акт государственной важности — да так и
простоял с полчаса, поддерживая портьеру и подглядывая. Королева все танцевала.
И Фиттон тоже как-то видела танцующую королеву, и теперь ее коробило от одного
этого воспоминания. Королева была страшна своей семидесятилетней сухостью,
вытянутым лошадиным лицом, сухими гневными губами, нескладной прической из
толстых волосяных спиралей, ужасным платьем, фасон которого выдумала сама. Это
платье вздувалось на плечах, на груди, безобразно путалось в ногах и походило на панцирь
или кожу какого-то пресмыкающегося. Королева звучно дышала, и видно было, как под
платьем ходили ее ребра. Пот струился по ее желтой засушенной коже. Но посол
шотландского короля тогда смотрел внимательно и серьезно и только обтирался платком.
Он-то понимал — это инструкция британского двора двору шотландскому. Английское
правительство передавало: король Иаков нескоро станет английским королем, вон как еще
молода и прекрасна наша королева Елизавета.
Прекрасна! С тех пор, как королеве перевалило за пятьдесят, она стала особенно
настаивать на этом она прекрасна! Ее любовники стали особенно наглы, ее двор стал
особенно бесстыден. И слегла-то она сейчас потому, что самый последний из любовников
граф Эссекс усомнился в ее женских чарах. Тут Фиттон быстро припомнила все. Вот
сейчас Эссекс самовольно вернулся из Ирландии, где он командовал карательной армией, заключил какое-то незаконное перемирие с главой повстанцев, бросил все, вернулся в
Лондон, силой пробился во дворец, ворвался в покои королевы — ведь так и пришел, как
был: в дорожном платье, с походной тростью — поднял королеву с кровати и целые два часа
разговаривал с ней: она лежала, он сидел рядом и гладил ее руки, И так было сильно его
обаяние, власть над этой старухой, что она забыла все, и они отлично провели два часа. А
потом королева все-таки одумалась и отдала графа под суд.
А графу-то на все плевать! Вот его отрешили от должности, а он отсиживается в замке
своего родственника. Собрал всех своих прихлебателей, друзей и подчиненных; они пьют
и что-то готовят. Может быть, даже он хочет повторить этот фортель — проникнуть во
дворец королевы и заставить ее слушать себя.
Рассеянно смотря в окно кареты, Мэри Фиттон припомнила и другое: королева тоже
умна, она не возобновила графу откуп на сладкие вина, а откуп ведь главная статья его
дохода. Если ему не возвратят его — граф разорен вконец. Ух, как тогда полетят его замки, его коллекции картин и драгоценных вещей! Ух, как они полетят.
Тут она заметила, что спутник внимательно смотрит на нее, и постаралась печально и
скорбно улыбнуться.
— Но мне так жалко ее величество, — сказала она, кивая кудрявой черной мальчишеской
головой, — Каким же надо быть негодяем…
— Не надо так говорить, — попросил он. — Королева еще сильна и прекрасна. У нее есть
поклонники. Вот, передайте ей в удобную минуту. — Тут она увидела, что ей суют записку.
— Что это? — спросила она.
Записка была запечатана, но при первом взгляде на адрес у Фиттон дрогнули губы.
Ах, так вот что! Это пишет ее последний любовник — граф Пембрук. Это он теперь хочет
вместо Эссекса залезть в королевскую спальню, И молодец, выбрал же подходящее время!
Ну что ж, этот мальчик далеко пойдет. Она-то знает его!
— Хорошо, — сказала она. — Я передам. — А сама, презрительно поджимая губы,
подумала, что так ему и надо, этому наглецу. Он был моложе ее на шесть лет и стыдился
этого. Так вот его будущая любовница будет старше его на сорок семь лет. Ух, как это
противно! Она даже губу закусила. Но тут карета вдруг сильно дернулась и остановилась.
Это они подъехали к дворцу.
* * *
Шторы были опущены, и в комнате стояли скользкие подводные сумерки. Сильно
пахло духами и еще чем-то тонким и едким — уксусом, должно быть. Королева лежала в
постели. Рыжие волосы и желтое, уже явно старческое, сухое, недоброе лицо, с резким
чеканным, почти монетным профилем, ярко выделялось на белой подушке. Королева
лежала одетой. На ней было платье с широкими рукавами, безобразно утолщенное в
плечах и талии, и напоминала она упавшую летучую мышь.
Тонко и пронзительно где-то по сухому дереву стучал жучок. Ох, недобрая же это
была примета!
Фиттон вошла, прижимая к груди руки.
— Ваше величество, — сказала она растерянно и преданно и в то же время зорко
поглядела на королеву.
На постели, у сложенных рук королевы, лежал требник, но открыт он был не на
молитве, а на многокрасочной иллюстрации. Вот — изображала она королева, царственно
гордая, прямая, стоит на коленях и простирает руки к небу, под коленями у нее подушка.
На другой подушке скипетр и корона. Никто лучше королевы не умеет так царственно
гордо стоять на коленях перед Богом. Когда королева молится, тогда и Бог почему-то
кажется не вполне Богом и королева не кажется уж больно коленопреклоненной.
— Ваше величество, — повторила Фиттон.
— Я ждала вас, мой мальчик, — проскрипела старуха с кровати. — Вы чрезвычайно
доверчивы, и мы из-за этого с вами не раз ссорились. Так вот я хочу, чтоб вы сейчас
услышали про благодарность того ничтожного и вздорного человека, которого я… Да, прошу вас, милорд.
Полог около изголовья дрогнул, раздвинулся, и обозначилась фигура человека. Он,
очевидно, нырнул в тяжелые матерчатые складки его, как только услышал звон
колокольчика и шаги. Человек этот, приветствуя Мэри, слегка наклонил голову, и в ту же
секунду Фиттон узнала его: лорд-канцлер сэр Бэкон. Пришел в ранний час — значит, с
экстренным докладом и поэтому хочет все говорить при свидетелях.
Человека этого Мэри, как, впрочем, и весь двор, терпеть не могла, но опасалась
смертельно. А ведь он был добродушен, отменно вежлив и тих. Никуда не лез и как будто
ничем не интересовался. Но знал все и поспевал повсюду. Был действительно беззлобен и
если кого-нибудь топил, то делал это по необходимости. Но в свое время его самого
втащил во дворец граф Эссекс — для него тогда не было ничего невозможного — и сейчас
лорд Френсис Бэкон будет именно за это топить графа. Надо же показать королеве свою
беспристрастность и верность короне. И Фиттон подумала: это будет очень ласковое, обходительное и вполне мотивированное убийство. Лорд — великий любитель чистоты и
никогда не делает ничего грубо, грязно и небрежно. Он философ, и в его объемистых
фолиантах никогда не было еще замечено ни одной опечатки. Все в них чисто и гладко, все
радует глаз. И так же гладко и мягко, как бы само собой, катилась легкая колесница его
придворной карьеры — направляемая не то десницей всевышнего, не то тонкой и сильной
рукой лорда.
— Да, я слушаю, милорд? — повысила голос королева, так как лорд что-то замешкался.
— Таким образом, ваше величество, из всего, что мы знаем, — методически ровно и
бесстрастно заговорил господин, — картина предполагаемых событий выясняется с
достаточной ясностью. Граф Эссекс выступает открыто. Мятежники стягивают силы,
чтобы двинуться ко двору. Если в настоящее время ими еще ничего и не предпринято, то
причины на это, как я обратил уже внимание вашего величества, особые: они ожидают
прибытия шотландских послов. Тогда от имени вашего наследника, короля Иакова, они
обратятся к народу, сколотят воинскую силу, захватят дворец и принудят ваше величество
к принятию их условий. Трудно сказать, насколь сильны их зарубежные связи, но
возможно, что и ваш наследник передал своим посланцам соответствующие инструкции.
По моим сведениям, — добавил он, помолчав, дело обстоит настолько серьезно, что
разговор может идти об отречении вашего королевского величества в пользу шотландского
короля.
— Чудовищно! — спокойно воскликнула королева. — Поистине чудовищно. Если бы я не
знала Эссекса, я бы подумала, что вы бредите.
— Да, но ваше величество знает, что я, к сожалению, совершенно здоров, — слегка
улыбнулся Бэкон. — Какие юридические основания будут приводить мятежники, я не знаю.
Возможно, они будут ссылаться на то, что ваше величество нарушает коекакие пунктики
протокола Иоанна Безземельного. — Тут и королева улыбнулась: ах, лиса, лиса! Ведь это он
так обозвал Конституцию. — Возможно же, что они просто потребуют удаления от вашего
величества всех верных слуг.
Королева потянулась и подняла черный серебряный кубок с каким-то отваром. Ее
крепкая, старческая рука в синих жилах и подтеках дрожала, и Мэри чуть не бросилась ей
помогать.
Королева долго пила, отдуваясь и тяжело дыша. Потом поставила кубок, тяжело
откинулась на подушки и словно заснула.
— Я думаю, мистер Френсис, — сказала она, медленно открывая неподвижные глаза, -
что, может быть, все-таки это одни разговоры. Граф любит кричать, а на деле…
Она открыла рот и положила за длинный малиновый язык прохладительную
лепешечку.
Сэр Френсис поклонился. Невероятно гибок и точен в движениях был этот сэр при
своей толщине и одышливой солидности.
— Мне очень неприятно противоречить вашему величеству, — сказал он твердо, — но
дело все-таки много серьезнее простой болтовни.
Он бросил быстрый взгляд на Фиттон и осекся, совершенно явно показывая, что он
мог бы и продолжить, — но вот фрейлина здесь, а она' ни к чему.
"Ах, скот, — быстро подумала Фиттон, — и как, однако, хочется ему утопить Эссекса. А
ведь если бы не граф, кем бы ты сейчас был?"
Она взглянула на королеву. Та неотрывно смотрела в лицо сэра Френсиса.
— Вы можете говорить все, Френсис, — сказала она. — Моя фрейлина нам не помешает.
— Тогда разрешите вашему величеству повторить то, о чем я час тому назад имел честь
докладывать графу Сесилю.
"Скот, скот, — опять подумала Фиттон. — И ведь знает, на кого сослаться. — На Сесиля.
Ну, конечно, один любовник сожрет другого. Сесиль только и ждет удобной минуты".
— Да-да? — сказала королева. — Слушаю.
Бэкон сделал шаг к кровати.
— Дело зашло так далеко, — сказал он, понижая голос, — что в театре "Глобус", принадлежащем известным вам актерам Ричарду Бербеджу и Виллиаму Шекспиру,
заказана возмутительная пьеса "Ричард II". Она должна идти в то время, когда мятежники
выйдут на улицу к черни.
Мэри Фиттон увидела, как у королевы дрогнули губы. Он еще не кончил, а она уже
села на кровати, сухая, вытянутая, жесткая, совсем не такая, как на портретах. Тонкие
губы ее были сжаты, и она смотрела на Френсиса. Имя Ричарда II, недостойного, но
законного короля, свергнутого с престола и потом заморенного голодом в тюрьме, было не
в ходу при дворе. Как-то так получилось само собой: говорят Ричард II, а понимается
Елизавета. Фиттон видела, как серьезно обстоит дело: вот, даже народ вовлекается в эту
авантюру. Ведь именно этого они и хотят достигнуть представлением этой старой
трагедии.
— Так что же это все значит, сэр Френсис? — спросила королева, понимая уже все.
Он слегка пожал плечами.
— Это ясно. Они хотят поднять чернь. Для этого им и нужна эта старая пьеса о
свержении монарха. Мне передавали такой разговор. Лей сказал Эссексу: "Что вы теряете
время, вот во Франции герцог Гиз в одном белье, крича, пробежал по улицам Парижа. Но
он обратился к черни, и через день король должен был бежать, в одежде монаха. Но у Гиза
было восемь человек, а у вас триста. Народ вас любит. Я отвечаю за все. Будьте голько
смелее".
— А кто этот Лей? — спросила королева.
— Капитан ирландской гвардии графа, который и сейчас находится при нем. Его
верный пес, — значительно ответил сэр Френсис.
— Черт! — Королева сильным жестким кулаком стукнула по подушке. — Значит, у него
есть уже и войска. Что же вы молчите?
— Ваше величество, — серьезно и даже строго сказал Френсис, не отвечая на вопрос. — Я
клялся перед всевышним на верность моей королеве, и вот я теперь говорю — медлить
нельзя! Медлить нельзя!
Помолчали.
— А этот актер, Шекспир, он знает, зачем ему заказана постановка?
Сэр Френсис добросовестно подумал или, вернее, сделал такой вид.
— Ну а об этом мы можем гадать, ваше величество, — сказал он очень резонно. — Но
скажем так: этот актер — дворянин. Дворянин. Дворянством своим обязан только графу, пишет какие-то довольно ходовые любовные пьесы по итальянскому образцу — все любовь, дуэль — профанам это нравится больше, чем Сенека, и вот он состоит под особым
покровительством Эссекса; падение графа ему очень неприятно. Ну кто же знает, может, они и посвящены в самое главное?
Королева обернулась к Фиттон.
— Вот, это все ваша высокая протекция, — сказала она недовольно.
Тут уж Фиттон по-настоящему удивилась.
Никакого отношения она к устройству придворных праздников не имела. Откуда
королева знает о ее былой близости с Шекспиром? Только видела разве, как они
разговаривали, но если об этом идет разговор, то с их последней встречи прошло уже сто
лет. Она наклонила голову.
— Простите, ваше величество.
Но королева на нее уже и не смотрела. Она только слегка кивнула ей головой. Сказала
резко:
— Представление прекратить! Актеров в тюрьму.
— И графа туда же? — быстро спросил сэр Френсис.
Королева только секунду помедлила с ответом. Но в эту секунду, поглядев на ее
жестко сомкнутые, неподвижные, почти геральдические черты, Фиттон решила: нет, не
помирится. Уже кончено все.
— А Эссекса я трогать не буду. Я вас пошлю к нему, сэр, — неожиданно сказала
королева. — Да, да. Вас, вас! Его друга и постоянного заступника.
— Тут я осмелюсь противоречить вашему величестлу — со скромным достоинством
возразил Френсис, — я никогда не покровительствовал бунтовщикам.
— Вас, вас и пошлю! — не слушая, раздраженно повысила голос королева. — Раньше он
мне не давал покоя из-за вас, теперь вы, сэр, не даете мне покоя из-за него. Вы пойдете к
нему и скажете… — Она все выше и выше поднималась на кровати, голос ее крепчал, — что я
требую! — она ударила молитвенником по подушке, — немедленно прекратить все эти
сборища и не вербовать всякую сволочь. Недоволен он? Так пусть ждет. Когда поостынет
мой гнев, я сама поговорю с ним! Хочу я посмотреть, что он мне тогда ответит?
Она раздраженно отбросила молитвенник и даже не заметила этого.
— Мне можно идти, ваше величество? — спросил сэр Френсис, отступая к дверям.
Королева молчала. Потом сказала:
— Идите, — и махнула рукой.
Он был уже на пороге, когда она окликнула его.
— Стойте! Никуда не идти. Я скажу, когда и что надо будет сделать.
— Слушаюсь, ваше величество, — поклонился сэр Френсис.
И, помолчав, осторожно спросил:
— А что же актеры?
— И актеров не трогать. Я хочу посмотреть, чем все это кончится. Только за этими
двумя, Шекспиром и Бербеджем, установить надзор. Проследить, не будут ли они
встречаться с графом.
Она помолчала и сказала глухо, будто выпалила:
— Идите, сэр!
* * *
Сэр Френсис ушел. Королева поглядела на Фиттон.
— Мэри! — сказала она вдруг надрывно и нежно.
Фиттон подошла к ней быстрыми маленькими шагами, опустилась на колени и, целуя
руки, уткнулась лицом в блестящее шелковое одеяло. Она услышала запах уксуса, потом
каких-то тяжелых, томительных духов, и было такое кратчайшее, но ужасное мгновение, когда ей показалось, что она целует руки покойницы. Везде стоял тонкий, острый,
похожий на аромат гиацинтов, запах гнили.
Королева положила на голову Фиттон сухую, твердую руку и провела по волосам.
— Старая, бесплодная ветвь, — горько сказала она о себе. — Так я и засохну вместе со
своей династией. Все возьмет сын этой распутницы.
Это она говорила о Марии Стюарт и о сыне ее Иакове V, которому она хотела
завещать свой престол. И Фиттон стало ясно: королеве действительно очень плохо, если
она вспоминает о них.
— Ваше величество, — сказала Фиттон растерянно и, плача, стала порывисто целовать ее
руки, — разрешите тогда и мне покинуть эту несчастную землю вместе с моей
повелительницей?
Жесткие сильные руки, с длинными, почти птичьими ногтями поползли по ее голове и
остановились на висках. Королева подняла голову фрейлины и глубоко заглянула в ее
черные, чуть матовые глаза.
— Нет, мой кудрявый мальчик, вы будете жить. Вы узнаете еще много горя и счастья, и
когда ваша старая монархиня отойдет к Господу. — Мимоходом она все-таки взглянула на
себя в зеркало — эта фигура старой, умирающей королевы, которая гладит по волосам
коленопреклоненную красавицу, была чрезвычайно эффектна, и Мэри сразу же заметила
этот взгляд, оценила положение и приникла к ее коленям.
— Не верьте людям, — сказала королева торжественно и твердо. — Вот, посмотрите на
этого джентльмена. Граф за уши вытащил его из ничтожества, он дарил этому псу земли и
дворцы, это на его деньги он сейчас живет, он ни днем, ни ночью не давал мне покоя, все
время твердя об этом борове (королева, несмотря на свою редкую ученость, любила
крепкие словечки), — а теперь этот ученый муж — самая лучшая голова Англии, так называл
его граф, — сам же его и топит.
Мэри молчала. Она вдруг подумала: нет, Эссекс еще всплывет. И кто знает, как
повернется тогда дело?
На всякий случай она сказала:
— Ваше величество так добры, что и сейчас заступаетесь за виновного.
— Да, да, — сказала королева. — Да, да, вот вам слабое женское сердце. А находятся же
люди, которые говорят, что их королева никогда не знала любви. Как это написал твой
Шекспир?
Леди Фиттон подняла голову, лицо ее пылало, а по щекам текли слезы. Грудным,
гибким голосом, который казался таким же матовым и смуглым, как ее кожа, она прочла: Клятвою своею
Сокровище лишает целый свет.
Измученная пыткою голодной,
Для мира сгинет красота бесплодной
И красоты лишит грядущие века!
Да! Хороша она и высока,
Высоко-хороша! Святыни, поклоненья
Достойная! Увы! На горе и мученье
Она дала обет ни разу не любить.
— Нет, к сожалению, не так, — сказала королева, — не так, не так, не так. Я женщина, и я
люблю. А он торгует моей любовью и моим престолом. Он сносится с сыном распутной
мужеубийцы и хочет при моей жизни отдать ему престол, а меня придушить, как крысу в
подполье. Как этого Ричарда, пьесу про которого ставит твой негодяй комедиант.
Она действительно походила на летучую мышь, в своих длинных черных одеждах.
Глаза ее были печальны. "Сейчас самый раз", — подумала Фиттон и вынула письмо.
— Ваше величество, есть люди, которые ставят вашу красоту превыше всего.
Разрешите мне прочесть.
— Дитя, дитя, — сказала королева, снисходительно улыбаясь. — Что вы в этом понимаете?
Я так его любила, а теперь он… Ах, как же он будет каяться и плакать, каяться и плакать, -
добавила она медленно и плотоядно, — но тогда ему уже ничего не поможет. — Она покачала
головой. — Читайте письмо.
Фиттон стала читать.
Королева сидела неподвижно, положив на колени широкие кисти рук, которые
приобрели уже жесткость и отточенность когтей хищной птицы.
Фиттон она будто не слушала. И только раз подняла голову.
— Постойте! Как хорошо он пишет, — сказала она медленно.
"Прекрасная красота ее величества является единственным солнцем, освещающим
мой маленький мирок". Ах, как хорошо это сказано! Это Пембрук, конечно?
Фиттон кивнула головой.
— Когда это все кончится, ты приведешь его сюда. Слышишь?
— Слышу, ваше величество, — сказала Фиттон и положила письмо на кровать.
Ей надо было торопиться. Сегодня будет представление, надо же предупредить
Шекспира. Пусть сейчас же уезжает из Лондона.
ГРАФ ЭССЕКС
"Меланхолия и веселость владеют мной попеременно; иногда я чувствую себя
счастливым, но чаще я угрюм; время, в которое мы живем, непостояннее женщины,
плачевнее старости; оно производит и людей, подобных себе: деспотичных, изменчивых, несчастных; о себе скажу, что я без гордости встретил бы всякое счастье, так как оно было
бы простой игрой случая, и нисколько бы не упал духом ни при каком несчастье, которое
постигло бы меня, ибо я убежден, что всякая участь хороша или дурна, смотря по тому, как
мы сами ее принимаем."
(Из письма Эссекса к леди Рич.)
В замке было много комнат — и огромных, и малых, и даже несколько зал. Одна, что
поменьше, для фехтования, другие, очень большие, для пиршеств и иных надобностей.
Эссекс засел в самой маленькой, удаленной от всего каморке, — почти под самой крышей -
и с утра никуда из нее не показывался. В фехтовальной зале (там и собрались все
заговорщики) передавали, что он все время сидит и пишет, но вот кто-то зашел к нему и
увидел: что Эссекс написал, то он и изорвал тут же. Вся комната была усыпана как будто
снежными хлопьями, а сам он ходил по ним, хмурился и думал, думал. А так как думать
сейчас было уже не о чем, то внизу встревожились и пошли посмотреть; остановились
около двери, послушали — шаги за дверью звучали не отчетливо-мелко и звонко, как всегда, а падали — медленные, мягкие, очень утомленные. О чем он думает? Говорят — пишет
письмо королеве — требует объяснения. Да полно — письмо ли он пишет? Не завещание ли
составляет?
В общем, в фехтовальной зале было очень мрачно и тяжело, и никак не помогало то, что заговорщики зажгли все свечи. Разговоры не вязались, ибо каждый думал о своем. Но
свое-то у всех было одно, общее для каждого, и если до этой проклятой мышеловки об
этом своем можно было говорить долго, красочно и интересно, то теперь оно уменьшалось
до того, что свободно укладывалось в короткое слово "конец".
— Конец, — сказал граф Блонд и тяжело встал с кресла. Все молчали, он пояснил: — Так
и не показывается из комнаты, еще утром я надеялся на него, а сейчас…
Он подумал, усмехнулся чему-то и, словно недоумевая слегка, развел полными, почти
женскими кистями рук с толстыми белыми пальцами.
В большой зале было сыро, от света больших бронзовых подсвечников на полу
наплывали прозрачные пятна и целые озера света, но и через них Бог знает откуда
струилась та уверенная безнадежность, которую один Блонд принимал так полно, ясно и
спокойно, что, казалось, иного ему и не требовалось.
Он прошелся по зале, поправил перевязь шпаги (все были подтянуто и подчеркнуто
одеты, как на парад) и вдруг, словно вспомнив что-то, спросил:
— А актеры не приходили?
Ему сказали, что один пришел и его провели наверх, к графу. То, что актер все-таки
пришел, было таким пустяком, о котором и говорить-то серьезно не следовало, но Блонд
вдруг оживился.
— Вот как, — сказал он бодро, — и не испугался! Ай да актер! Как же его зовут?
Ему ответил начальник личной стражи графа высокий, костлявый ирландец с красиво
подстриженной бородой и быстрыми, стального цвета, пронзительными глазами.
— Кто он — не знаю, фамилию он сказал, да я забыл. Кажется, что-то вроде Шекспира.
Но молодец! Так стучал и требовал, чтобы его провели к самому графу, что я подумал — не
иначе как из дворца.
— Если это Шекспир, то он, верно, может кое-что знать, — сообразил Ретленд, едва ли не
самый молодой из заговорщиков. — Он все время трется около Пембрука, а этот гаденыш
уже ползет на брюхе в королевскую спальню.
— Вот как, — удивился Блонд, хотя он знал, конечно, много больше Ретленда. -
Интересно!
— Да, этот время не теряет, — ответили ему сразу несколько голосов, — теперь Пембрук
обрадовался, нанял всех стихоплетов, и они сидят и строчат любовные сонетки.
— И все равно не пролезет! — вдруг разом зло ощерился Блонд. — Ее величество помнит
историю с этой цыганкой! Граф! Хорош граф! При покойном короле Генрихе VIII (да будет
благословенна его память!) их бы обоих выгнали воловьими бичами из города.
— А теперь они при дворе! — времена переменились.
— Что говорить — был бы этот великий государь жив, и мы не собирались бы тут, -
вздохнул Ретленд; он был высоким, длинным, светловолосым молодым человеком. До сих
пор он тихо сидел в кресле и о чем-то думал, а теперь вдруг встал.
— Пойду к графу, — сказал он на ходу, — посмотрю на этого актера.
Он вышел.
Граф Блонд прошелся по зале.
— Нет, любопытно, любопытно, — сказал он задумчиво и заинтересованно, — весьма,
знаете ли, любопытно. А значит, он все-таки пришел! Не побоялся! Молодец! Если в толпе
найдется хотя бы сотня таких…
Он остановился среди залы, посмотрел на свои руки и докончил:
— … сотня хороших горланов из черни, дело может пойти совсем-совсем иначе. Это
великая сила чернь! Скажите, пожалуйста, все-таки пришел. Нет, как хотите, но это очень-
очень хорошо!..
Шекспир вошел и осмотрелся.
Говорили, граф ходит, а он не ходил, он сидел и писал. Только когда они вошли — он и
начальник охраны, — граф поднял на минуту голову и кивнул Лею, отпуская его.
Лей вышел.
Шекспир к столу не подошел, а остался стоять около двери. Эссекс все писал и писал, низко наклонив голову. Его рука безостановочно, хотя и не быстро, шла по бумаге. Только
раз, когда Шекспир отодвинул мешающий ему стул, он поднял глаза, посмотрел и
улыбнулся так, что только слегка наморщилась одна щека. Это значило — пусть Шекспир
обождет: он рад ему.
— Так как с Ричардом II? — спросил Эссекс через полминуты, не отрываясь от бумаги.
— Как вы приказали, — ответил покорно Шекспир, — я уже снял "Ромео".
Он стоял около стены, заложив руки за спину.
— Деньги вам заплатят сегодня же, — сказал вдруг Эссекс. — Десять фунтов. Я уже дал
распоряжение моему казначею.
— Благодарю вас, ваша светлость, — серьезно ответил Шекспир.
Продолжая писать, Эссекс коротко кивнул ему головой. Потом, кончив страницу,
оторвался от бумаги, посмотрел на Шекспира и улыбнулся широко и открыто.
— А вы садитесь, мистер Шекспир, сейчас кончу, и тогда… Одну минуту! — Он
продолжал писать. Шекспир сел на стул, вынул платок и обтер влажный лоб. Он был
высоким, тучным, любил ходить быстро и потому летом изрядно потел.
В эти же дни он сильно волновался, но ему не хотелось, чтобы кто-нибудь заметил
это. Вот сейчас Эссекс сказал: "Мы вам заплатим", — и он спокойно и очень деловито
ответил, что очень хорошо, если заплатят: деньги театру нужны — все так, как будто ничего
не произошло и он ничего не подозревает. Этого тона и следует держаться. Было
темновато. Пучок свечей в бронзовых, узорных канделябрах с итальянскими хитрыми
грифонами освещал только стол, русые волосы графа и желтую кипу бумаг. Граф был одет
очень просто — в черный костюм с широким поясом. На столе поверх кипы стояла высокая
чаша, сделанная из продолговатого страусового яйца и по ней тоже вились строченой
серебряной чернью пальмовые листья, виноградные гроздья и какие-то плоды.
"Как череп среди бумаг", — медленно подумал Шекспир о чаше. Он уже успокоился.
Было в этой обстановке, в набросанных бумагах, склоненной голове спокойно пишущего и
обреченного человека, в его скромной, черной, совсем простой одежде что-то такое, что
наводило на мысль не о восстании и гибели, а о другом — спокойном, глубоком и очень
удаленном от всего, что происходит на дворе и в фехтовальной зале.
Так, при взгляде на бумаги ему почему-то вдруг вспомнились и его бумаги, и его
незаконченная трагедия, та самая, что вторую неделю валяется на столе и никак к ней не
может он подступиться. Первую сцену он написал сразу, а потом заело, и теперь не
пишется. То была свирепая история о датском принце и о том, как он зарезал
подосланного к нему шпиона; кровь спустил, а тело сварил и выбросил свиньям. Принц
притворялся безумным для того, чтобы можно было безнаказанно убивать своих врагов, а
может быть, верно был сумасшедшим, ибо он обладал даром пророчества. Разобраться
было трудно, и он не знал, что надо было делать с таким героем. Непонятно, как старый, опытный хронограф мог им восхищаться. А пьеса должна была быть доходной, ибо в ней
были и духи, и дуэли, и отравления, и убийство преступного отчима, и поджог замка, и
даже такая диковинка, как театр в театре. Сейчас он думал, что пылкому и веселому
Ричарду Бербеджу очень трудно придется в этой роли отцеубийцы и поджигателя. Но что
делать? Именно такие пьесы и любит публика. Надо, надо найти ключ к герою — понять, кто же он есть на самом деле, объяснить его поступки.
Он смотрел на Эссекса.
Эссекс вдруг бросил перо и встал.
— Ну, все, — сказал он с коротким вздохом. — Готово! — Он слегка махнул рукой. — А как
ваша новая датская хроника, сэр? — Он особенно выделил слово "сэр", ведь именно ему
был обязан Шекспир своим дворянством.,
— Пишу, — ответил Шекспир, присматриваясь к бледному лицу графа, с которого
глядели на него быстрые, беспомощные глаза. — Все пишу и пишу.
— Ах, значит, не удается? — весело спросил Эссекс. — Ну, ничего, ничего. Вы молодец! Я
всегда любил смотреть ваши трагедии. А эта хроника — ведь она о цареубийстве, кажется?
А? Года два тому назад шла в вашем театре трагедия об том же Гамлете. Так ведь и вы
пишете об этом? Так, что ли?
— Так, — сказал Шекспир.
— "Гамлет, отомсти!" — вдруг вспомнил Эссекс и засмеялся. — Вот все, что я запомнил. -
Он подумал. — Два года, говорю? Нет, много раньше. И шла она не у вас, а у Генсло. Там, помню, выходил на сцену здоровенный верзила в белых простынях и эдак жалобно
скулил: "Отомсти!" Словно устриц продавал. Дети плакали, а было смешно.
Драпировка у двери заколебалась, и вошел Ретленд.
Эссекс повернулся к нему.
— Вот мистер Виллиам зовет нас к себе в "Глобус", — сказал он весело. — Обещает скоро
кончить свою трагедию. Пойдем, а?
Ретленд сухо пожал плечами.
— Нет, пойдем, обязательно пойдем, — засмеялся Эссекс. — Правда? — Он подошел к
Ретленду и положил ему руку на плечо. — Ну, так как же наши дела?
— Мы ждем, когда вы кончите писать, — сдержанно ответил Ретленд.
— Ничего, ничего, — ответил Эссекс, не желая понимать его тон. — Только вы не вешайте
голову. Мы еще поживем, еще посмотрим хронику нашего друга! Мы еще многое
посмотрим!" Гамлет, отомсти!" вдруг прокричал он голосом тонким и протяжным, и губы у
него жалко дрогнули, а глаза по-прежнему смеялись. — "Отомсти за меня, мой Гамлет!" Как
жалко, — обратился он к Шекспиру, — что завтра в вашем "Ричарде II" не будет таких слов.
— А они были бы нужны? — вдруг очень прямо спросил Шекспир.
— Очень нужны. Ах, как они были бы нужны мне завтра!
Ретленд нахмурился — его друг болтал, как пьяный. Он никогда не мог понять близость
Эссекса к актерам, зачем граф так любит проводить с ними столько времени? Что ему от
них нужно? Разве компания ему эта голоштанная команда? Конечно, что говорить, театр -
вещь отличная. Он сам мог неделями не вылезать из него. Только менялись бы почаще
постановки. Но одно дело актер на сцене, когда он наденет королевские одежды и
копирует великого монарха, а другое дело, когда он пришел к тебе, как к равному, да и
развалился нахал нахалом в кресле. Что ему нужно? За подачкой пришел? Так дай ему, и
пусть он уходит. Да еще добро, актер бы был порядочный, а то актер-то такой, что
хорошего слова не стоит. Вот верно говорит Эссекс: "Гамлет, отомсти!" Дальше-то этого
ему и не пойти. Играет тень старого Гамлета в чужой трагедии, а своего "Гамлета"
напишет и все равно дальше тени не пойдет. Вот какой он актер! А к тому же выжига и
плут первой степени. Деньги дает в рост под проценты, скупает и продает солод,
земельными участками торгует, дома закладывает. На все руки мастер, этот актер, только
вот жаль — играть порядочно не умеет. Слуги да призраки — и все его роли. Дворянство ему
достали, так теперь он и рад стараться, лезет в дом и руку сует: "сэр Шекспир". Он
угрюмо посмотрел на Эссекса. Тот сразу же понял его взгляд.
— Я сейчас сойду вниз! — сказал он мирно. — Только поговорю с сэром Виллиамом о
завтрашнем представлении.
Ретленд повернулся, пожал плечами и вышел из комнаты. Эссекс подождал, пока
занавес на двери перестал колыхаться, и подошел к Шекспиру.
— Вот, мистер Виллиам, какое дело-то, — сказал он. — Приходится обращаться к вам…
Опасное это дело для вас, но… что же возьмешь с актера! Пьеса ведь разрешена. — Он
вдруг горько усмехнулся. — Да, дорогой, завоеватель Кадикса, усмиритель Ирландии — и
обращается к черни! Ну и что же ладно! Я довольно жил и всего навидался. Да! И
хорошее, и плохое! Все, все видел, — он говорил теперь медленно, вдумываясь в каждое
слово. — Я солдат, милый Виллиам, а английские солдаты что-то сейчас не любят умирать в
постели. Даже и в королевской!
Он поднял голову, посмотрел на Шекспира и вдруг по одному тому, как граф медленно
и сонно опускает и поднимает веки. Шекспир понял, как страшно устал этот человек, как
ему все надоело, все раздражает и хочется только одного, чтобы, наконец, все кончилось и
он спокойно мог лечь и выспаться.
— Пусть, пусть, — сказал вдруг Эссекс громко и запальчиво, но так, словно говорил сам
с собой. — Я прожил довольно, чтобы узнать, что на свете нет ни плохого, ни хорошего. Все
тень от тени, игра случая. Меняется только мое отношение! Люблю я женщину она
хороша, надоела мне — она уродка. Вот и шестидесятилетняя ведьма тоже мне казалась
красавицей, и даже вы ведь для нее мне стихотворение писали.
Он заглянул в глаза Шекспира.
— "Да, нет ни зла, ни блага, все хорошо, когда оно приходит вовремя" — это ваши слова, сэр Виллиам, он подумал, — все благо! — и повторил медленно: — Ну ладно, а смерть -
путешествие туда, откуда никто не возвращается. Что же оно, всегда зло, как вы думаете?
— Зло, — ответил Шекспир уверенно, — всегда зло.
— Вы так любите жизнь?
— Я люблю жизнь.
— Как будто бы?! — прищурился Эссекс. — А вот я знаю, вы хотели покончить с собой, когда от вас ушла ваша цыганка, даже сонет написали, прощальный, чтоб оставить потом
его на столе. Последнее время я все твержу его. Нет, нет, не оправдывайтесь, я знаю это. И
все-таки вы говорите, что жизнь всегда благо? — Шекспир молчал. — Ну, хорошо, — пусть
будет так, а вот мне надоело, и не спрашивайте что, ибо все, все мне надоело. Дворец, сплетни, интриги, злая, лживая, рыжая ведьма, что вертит государством, этот мой подлый
друг, лорд Бэкон в золотых штанах, которого я, если бы остался в живых, вздернул на
флюгере моего замка так, чтобы его сразу увидел весь Лондон, — эта ваша чертова
возлюбленная, которая, как мне доподлинно известно, подсовывает в мою постель своего
недоразвитого еще любовника, этот парламент, который стоит не больше, чем та сволота, которую я хочу завтра натравить на дворец, э! — да все мне надоело, все, все, — вот она -
дряхлость мира. Я радуюсь, что, наконец, все это кончится. Уж два года, как Бог отвернул
от меня свое лицо. А помните, как вы когда-то приветствовали меня в прологе к "Генриху
V"?
— Я и сейчас скажу — вы любимец Господа, ваша светлость, — робко возразил Шекспир.
— А я вам говорю, — вдруг запальчиво крикнул Эссекс и злобно стукнул кулаком об
стол, — я вам говорю, Господь забыл меня! Да, впрочем, нет, он никогда не помнил обо мне.
Молчите, молчите, приказал он быстро и суеверно, — ибо что вы обо мне знаете? Когда я
еще был мальчишкой, моя матушка отравила моего отца по научению своего любовника, а
он уже в то время был еще и любовником королевы, — он подумал и гадливо поморщился. -
Той самой королевы, которая через двадцать лет стала и моей любовницей. Тьфу, гадость!
— его лицо снова передернулось. — А правду о смерти отца я узнал, когда об этом шептался
весь дворец, но не нашлось никого, кто бы мне крикнул тогда: "Гамлет, отомсти!" Только
раз королева в тихую минуту вдруг вкрадчиво спросила, любил ли я свою мать.
— А вы не любили ее? — тихо спросил Шекспир.
— Мою мать? Любил ли? — Эссекс неподвижно прямо смотрел на него. — Это была
страшная женщина, Виллиам, — сказал он совершенно спокойно. — Нет, нет, не так я
говорю! Не страшная, а наоборот, постоянно ласковая и благосклонная, с вечной улыбкой, такой доброй, сочувственной и всепонимающей. И вы знаете, она не лгала, она
действительно была такой и в то же время, ей-Богу, я не знаю, пожалела ли она кого-
нибудь хоть раз в своей жизни, а уж правду-то никогда не говорила, хотя и врала, если
разобраться, совсем немного. — Его вдруг опять передернуло. — Я помню первые три ночи
после смерти отца. Она приходила ко мне, и лицо ее пылало от слез. "Мой сын, — говорила
она мне и клала голову на руку. — Мой взрослый, умный сын", а труп отца лежал в гробу, обряженный и готовый к погребению, а я ничего не знал, но смотрел на нее и думал: вот
она отняла у меня все, все мое детство, всю мою жизнь, все мои радости. После этих трех
ночей я как-то сразу стал взрослым. Э, да что говорить…
— Ну, — сказал Шекспир, — разве можно так унывать?
Эссекс резко махнул рукой.
— Нет. Все равно, — сказал он, — мне все равно не жить среди этой веселой сволочи…
Если уж Пембрук залез во дворец, мне пора уходить… Вот я все время твержу один ваш
сонет, хоть он и написан не для меня, а для него… — И он прочел громко и отчетливо: Зову я смерть.
Мне видеть невтерпеж
Достоинство просящим подаянье,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И произвольной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,
И прямоту, что глупостью слывет,
И глупость в маске мудреца-пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И добродетель в рабстве у порока,
Все мерзостно, что вижу я вокруг…
Дверь быстро отворилась и, взметывая ковры, вошел Ретленд.
— Комиссар от королевы, — сказал он, — вам нужно сейчас спуститься… я сам расплачусь
с мистером Шекспиром.
Эссекс кивнул головой и пошел было из комнаты, но потом вдруг вернулся, подошел к
Шекспиру и положил ему на плечи обе руки.
— Прощайте, — сказал он очень сердечно, — иду! Слышите, как они орут! Этак они,
пожалуй, с перепугу выбросят всех из окон. До того растерялись, что готовы хоть сейчас
пойти на штурм. Но вот что я хотел сказать: когда вы напишете, наконец, свою датскую
хронику… — Он вдруг приостановился, вспоминая.
— Что? — спросил Шекспир, подступая к нему.
Ретленд стоял между ними и тянул за руку Эссекса.
— Одну минуточку, — сказал Эссекс. — Да… так что же я хотел сказать? — Он опустил
голову и добросовестно подумал. — Что я хотел сказать такое? Датская хроника?.. Да нет, при чем она тут?.. Ах, вот что, пожалуй… Когда вы… — Снизу снова раздались крики, громкие, несогласованные, яростные.
— Слышите? — тревожным шепотом крикнул Ретленд.
— Ну, ну, говорите! — сказал Шекспир почти умоляюще. — Что же?
Эссекс посмотрел ему прямо в лицо.
— Нет, забыл! — сказал он кротко и твердо. — Совсем забыл! Хотел что-то и не помню.
Ну, идите, идите. Теперь со мной быть опасно. Ретленд расплатится, а Лей проводит вас
через двор, так, чтобы никто не видел. Идемте, Ретленд.
И он быстро вышел.
После Шекспир стоял на каменных плитах двора и думал:
"Значит, так: в театре пойдет возобновленный "Ричард II". Он сейчас же пойдет в
театр, скажет, что получил все деньги и "Ромео" надо снять. Потом он вернется домой и
будет ждать, что произойдет. Сядет писать "Гамлета". Ну а что же будет, когда он окончит
его?"
Он обернулся и посмотрел на окна замка. Хлопнули тяжелые литые ставни, окна
растворились совсем настежь и снова со звоном захлопнулись. На мгновение стал виден
испуганный королевский посланник и группа людей, которая, крича, теснила его к окну.
Потом кто-то крикнул громко и повелительно: "Стойте!" — и сразу стало так тихо, что
Шекспир услышал свое резкое и жесткое дыхание. Прямой и стройный Эссекс стоял в
нише окна, как в картинной раме. Посланник королевы склонился перед ним и что-то
говорил.
"Пожалуй, я никогда не допишу "Гамлета", обостренно думал Шекспир, смотря на
Эссекса, — но "Ричарда III" я должен поставить. Ну а что же потом?"
Содержание
СМУГЛАЯ ЛЕДИ
Глава 1. ТЕАТР
Глава 2. НОЧНОЙ РАЗГОВОР
Глава 3. ГРАФ ЭССЕКС
Глава 4. СМУГЛАЯ ЛЕДИ СОНЕТОВ
ВТОРАЯ ПО КАЧЕСТВУ КРОВАТЬ
Глава 1
Глава 2
Глава 3
КОРОЛЕВСКИЙ РЕСКРИПТ
Глава 1
Глава 2
Глава 3
ЭПИЛОГ
НЕИЗДАННЫЕ ГЛАВЫ КНИГИ
КОРОЛЕВА
ГРАФ ЭССЕКС
Document Outline
Новеллы о Шекспире
СМУГЛАЯ ЛЕДИ
Глава 1. ТЕАТР
I
II
* * *
III
IV
V
Глава 2. НОЧНОЙ РАЗГОВОР
I
II
Глава 3. ГРАФ ЭССЕКС
I
* * *
II
Глава 4. СМУГЛАЯ ЛЕДИ СОНЕТОВ
I
II
* * *
ВТОРАЯ ПО КАЧЕСТВУ КРОВАТЬ
Глава 1
Глава 2
* * *
* * *
Глава 3
КОРОЛЕВСКИЙ РЕСКРИПТ
Глава 1
Глава 2
Глава 3
ЭПИЛОГ
НЕИЗДАННЫЕ ГЛАВЫ КНИГИ
КОРОЛЕВА
* * *
* * *
ГРАФ ЭССЕКС
Содержание
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




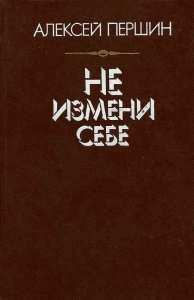
Комментарии к книге «Смуглая леди (сборник)», Юрий Осипович Домбровский
Всего 0 комментариев