Юрий Смолич Мы вместе были в бою
Первый день
Было душно. Солнце палило немилосердно. В надземных галереях вокзала стоял нестерпимый зной. Только на площадках лестниц, где оконные рамы вынесло взрывной волной, становилось немного легче от сквозняка. Легкий рюкзак на спине с двумя сменами белья и всякой мелочью казался таким тяжелым, словно в нем лежали сувениры всех четырех лет войны. Стахурский расстегнул ремни и бросил рюкзак на пол.
Людской поток бурлил вокруг Стахурского, и он отошел в сторону, ближе к выбитому окну. Получила ли его телеграмму Мария? Стоя на сквозняке, Стахурский осмотрелся по сторонам.
Окон в вокзале не было — ветер свободно разгуливал по всем галереям, неистово кружась в переходах. Посредине вестибюля второго этажа зияла огромная дыра. Внутренняя, когда-то застекленная стена, отделявшая галереи от верхнего фойе и зала первого класса, тоже была забита досками. Сквозь широкий пролом на том месте, где когда-то были двери, зал первого класса виднелся как на ладони. Он остался почти нетронутым: в глубине — буфет, заваленный сейчас ломтиками хлеба среди цветов в горшках, обернутых пестрой бумагой, а на всем протяжении зала — множество столиков с традиционными вазонами на каждом. За столиками сидели люди, изнывавшие от зноя, и пили пиво.
Стахурский почувствовал, что тоже хочет пить. Он подхватил рюкзак и пошел в зал.
Сейчас он выпьет киевского пива, как четыре года тому назад, до войны.
Пока подавали пиво, Стахурский смотрел на вазон. За этим столиком ему, возможно, приходилось сидеть и до войны. И тогда тоже — он припоминает — посредине стоял вазон. Быть может, этот самый. Потом началась война, длилась четыре года, закончилась, а цветок на столе остался. Он пережил сотни воздушных налетов на этот город и сотни тысяч погибших в этом городе людей. Стахурский взял вазон обеими руками, переставил на соседний столик, потом налил пива в стакан и сделал большой, жадный глоток.
Четыре года назад с этого самого вокзала, ночью, Стахурский уехал на запад, неведомо куда, и мир, до того знакомый и привычный, вдруг стал неузнаваемым и необычайным, весь как та первая ночь, в тревожном, красочном пунктире трассирующих пуль, в огненных полосах от полета снарядов, в ослепляющих вспышках от частых разрывов бомб. Потом миновали годы, и он раньше ни за что не поверил бы, что проживет такую длинную, неимоверную и неправдоподобную жизнь за это короткое время. А сейчас он допьет пиво, наденет на спину рюкзак и выйдет на привокзальную площадь. И снова увидит родной город. Стахурский слышал, что он разрушен, — милый, родной город. Много хороших, родных городов увидел Стахурский разрушенными за эти годы. Но завтра он уже снимет военную форму — и надо снова начинать мирную жизнь.
Мария, очевидно, не получила его телеграммы или ее нет в Киеве.
Стахурский отпил глоток пива и попробовал представить себе мирную жизнь.
Но это было удивительно трудно. Мирная жизнь не припоминалась никак. Какие-то странные образы возникали перед глазами, быстро исчезая. Например — бином Ньютона. Стахурский стоит перед черной классной доской и объясняет решение бинома пятидесяти юношам, сидящим за желтыми школьными партами. И это было тем более странно, что педагогом Стахурский никогда не был. Только раз в жизни, когда он сдавал аспирантский минимум, ему пришлось провести практический урок — разъяснять этот самый бином десятиклассникам в школе на Шевченковском бульваре.
— Стахурский?! — услышал он вдруг позади возглас.
Он обернулся и увидел девушку.
— Мария!
Она рассмеялась — тихо и радостно. Он поднялся, она схватила его руку и сжала ее с неожиданной для девичьей руки силой.
— Мария…
Она опустилась на стул против него. Стахурский глядел на нее как зачарованный. Мария все смеялась, радостно и счастливо, и он тоже не мог удержать улыбки.
Темно-синий берет — это все, что осталось от ее военного обмундирования. На ней был легкий серый плащ и белая кофточка, на шее тоненькая нитка кораллов. Впрочем, бусы Мария носила и под военной гимнастеркой на войне, как единственную память о том времени, когда еще не было гимнастерок на женских плечах и автоматов в женских руках.
— Ну, видишь, вот мы и встретились, — наконец сказал Стахурский.
Она снова счастливо засмеялась.
— А помнишь…
— Нет, — перебил ее Стахурский, — не говори «а помнишь». У нас впереди целая жизнь, и еще будет время для воспоминаний.
— Пить, — попросила Мария.
Стахурский оглянулся, ища официантку, чтобы попросить еще стакан, но Мария протянула руку, взяла его стакан и начала жадно пить. Потом стукнула опорожненным стаканом по столу.
— Стахурский, — сказала она ясно и радостно, — как я благодарна тебе за телеграмму! Ты знаешь, я не могу представить себе, как жить на свете без тебя. Это я поняла еще в Вене или в Мукачеве, а может быть, в Подволочиске. Только разве я могла тебе тогда сказать об этом? Не красней, пожалуйста. Пусть это будет признание.
Мария уже не смеялась, а глядела на него серьезным, потемневшим взором. Это было особенностью ее светлых глаз — внезапно темнеть.
— Это признание, — повторила она. — Может быть, в другое время я никогда бы не отважилась сказать это тебе. Но сейчас я так рада, что тебя увидела, и не могу не сказать. Смотри на меня серьезно, как и раньше. Разве тебе когда-нибудь приходилось смотреть на меня не серьезно?
Им, и вправду, никогда не приходилось не серьезно говорить друг с другом. Их жизненные пути скрестились в ту минуту, когда они оба стояли перед лицом смерти.
— Ты еще не демобилизован?
— Демобилизован. Вот приехал домой.
— У тебя кто-нибудь есть в Киеве?
— Нет.
— Твоя квартира цела?
— Нет.
— Где ты будешь жить?
— Не знаю. Я еще не думал об этом. Понимаешь, я вообще еще не почувствовал себя после войны. Ты тоже будешь жить в Киеве?
Она ответила не сразу.
— Нет. Я еду в Алма-Ату.
— Куда?
— В Алма-Ату.
— Когда?
— Сегодня ночью. Только что закомпостировала билет.
Он помолчал.
— Ты будешь там жить?
— Там моя мама, но я не получаю от нее писем. Она осталась там на работе после эвакуации. Я списалась с Москвой и вот получила назначение в Геологическое управление в Казахстан, в Алма-Ату… Я ведь географ! — Она радостно улыбнулась. — Я теперь снова географ, как и до войны! Ты понимаешь это? Война кончилась! Мирное время! Я буду работать очевидно, в георазведке в Голодной степи, в пустыне Бет-Пак-Дала!
Глаза ее сияли счастьем.
Стахурский посмотрел в стакан.
— Да, — сказал он, — какая радость овладела мной, когда я узнал, что война кончилась! Право, я думал, что не переживу этой радости: мы победили!
— Ты это так говоришь, словно теперь уже не чувствуешь этой радости.
— Ты неверно поняла меня, — сердито возразил Стахурский. — У нас не было другой цели все эти годы, как победить, и вот благодаря нашим усилиям гитлеризм уничтожен. Тысячи наших товарищей отдали за это свои жизни. Но знаешь ли ты, что происходит на свете? Ведь ты побывала в нескольких европейских странах, видела американских и английских политиков. Они собирают фашистских последышей и готовят почву для реакции.
Он замолчал, но остался в той же позе, склонившись к Марии через стол.
— Знаешь, — промолвила Мария, — ты сейчас похож на вратаря, готового броситься от ворот навстречу мячу.
— Не смешно.
Мария молчала некоторое время. Глаза ее смеялись. Потом она снова заговорила:
— Стахурский! Ты все-таки пойми: на свете нет войны!
— Почему — нет? — пожал плечами Стахурский. — Война есть, например, в Индонезии, Греции, Китае…
— Ах, подожди! — перебила его Мария. — У нас нет войны. Эти три месяца после демобилизации я жила, как в чаду. Ежедневно с самого утра я убегала на Днепр. Вода, песок, надо мной небо, а вокруг зеленые луга, и никто не стреляет. Потом я бежала за город, на Черниговское, на Брест-Литовское, на Куренёвское шоссе, останавливалась посреди дороги и просилась на попутную машину — все равно куда: за пятьдесят километров или только за пять. Там я слезала и шла куда глаза глядят. Тоже безразлично куда — в поле, в лес, в село или по улице провинциального городка: я болтала со всеми и не могла наговориться вдоволь. — Мария улыбнулась. — А Киев я весь исходила. Нет улицы, на которой бы я не побывала несколько раз. Я подружилась с милиционерами на всех перекрестках, и меня охотно подвозит даже шофер старшего инспектора РУД, ведущего беспощадную борьбу с шоферами, работающими «налево».
Она засмеялась своим заразительным смехом, и Стахурский тоже не мог удержать улыбки.
— Не понимаю, как ты все это успеваешь.
— О Стахурский! Ты и не представляешь себе, как огромна человеческая мирная жизнь! День кажется таким коротким, но сколько можно успеть сделать в течение одного дня, когда нет войны! Ты же знаешь, я окончила университет как раз в сорок первом году и не успела начать работу по своей профессии. Теперь, чтобы возобновить все в памяти, я принялась перечитывать старые лекции и учебники. — Она снова засмеялась. — Я перечитывала все подряд по программе факультета. Я зачитывалась физической географией, описаниями атмо-гидро-био- и баросферы как увлекательным романом. А над картографией просиживала ночи напролет. Я засматривалась на географические карты, как на шедевры знаменитых художников. Ты же знаешь, картография — мое излюбленное дело и моя профессия!
Стахурский зачарованно смотрел на Марию. Жизнь, казалось, излучалась из каждой клеточки ее существа, и он ощущал ее как благодатный теплый дождь весенней порой.
— А помнишь… — начал было Стахурский, но глаза Марии блеснули лукавством.
— У нас впереди целая жизнь, можешь не говорить еще «а помнишь…»
— Я не о том, — грустно сказал Стахурский. — Я не собираюсь вспоминать случаи из нашей военной жизни. Я говорю о другом: как мы мечтали во время войны о мире, который наступит после победы.
— Стахурский, — укоризненно промолвила Мария, — разве это не ты сказал на митинге в Словакии, когда наш партизанский отряд соединился с Советской Армией: «Будем готовы к тому, что после войны во многих странах будут волнения, будет еще немало споров между государствами и международных несправедливостей»?
— Я это говорил, — подтвердил Стахурский, — и так оно есть. И этого я не боюсь. Но можешь ли ты забыть Никиту Петрова, когда он под Деражней закрыл тебя своим телом и был сражен пулей в лоб? — Мария побледнела, но Стахурский был неумолим. — А могу ли я забыть, как тогда, под Сороками, мы пошли с фланга — Матвейчук, Полоз, Власов, Иртель, Акоп, Душман и я? Они все остались там, на земле, мертвые, пробился я один. А от Душмана даже не осталось ничего! Мина накрыла его и разорвала в клочья. Какой подвиг должны мы совершить в память тех, которые погибли?
Стахурский умолк. Молчала Мария. Она протянула руку через стол и положила ее на стиснутый кулак Стахурского.
— Микола, — тихо сказала она, — то, что ты сказал, свято. Но сдержи себя. Это нужно для подвига, о котором ты говоришь. — Она вдруг вся прониклась нежностью и добротой: — Бедный, ты так страшно перемерз тогда, в те морозные ночи в Карпатах. Тебе сейчас так нужны ласка и тепло.
Стахурский строго сказал:
— Я люблю сдержанные и суровые отношения между людьми.
— Все равно я без тебя не могу! — воскликнула Мария.
Они засмеялись оба.
— Где ты думаешь остановиться? — спросила Мария.
Стахурский взглянул на нее несколько растерянно.
— Не знаю. Я еще об этом как следует не подумал. Смотреть на развалины нашего дома нет никакого желания. Может, пойти в комендатуру? Очевидно, есть общежитие для демобилизованных.
— Ты можешь пока оставить рюкзак у меня.
— Чудесно. Где ты живешь?
Они поднялись.
— Я живу в гостинице «Красный Киев». Помнишь?
— Еще бы!
Они направились к выходу.
Переступив порог, Стахурский остановился. Привокзальная площадь была запружена людьми — одни спешили на вокзал, другие расходились по прилегающим улицам; сновали мальчишки с ручными тележками, подкатывали и уезжали автомобили, несколько трамвайных вагонов с окнами, еще забитыми фанерой, сгрудились посреди площади, аварийная автомашина с вышкой стояла слева — на ее мостике два подростка в синих спецовках натягивали троллейбусный провод. Слева, внизу, за виадуком, маячили длинные цехи завода; справа виднелась окутанная густыми клубами пара электростанция, а прямо спускалась и сразу же делала крутой подъем широкая и ровная Безаковская улица. И как раньше, как всегда, по обеим сторонам улицы громоздились, налезая один на другой, киевские кирпичные здания неповторимого, нигде больше не встречавшегося желтого цвета. Киевские дома! Сколько раз за эти четыре года Стахурский видел их во сне!
Мария шагнула вперед, а он все еще стоял.
Боже мой! Сколько он мечтал об этой минуте, сколько ждал ее — минуту возвращения в родной дом и первого свидания с родным городом! Мечтал еще тогда, в дни подполья, в партизанском отряде, потом в частях на фронте, проходя с боями по странам Европы и освобождая ее города. Вступая в любой освобожденный город, он всегда внутренним взором видел Киев — вот такой же, в кронах каштанов, с желтыми громадами домов. И он видел его со всех возможных точек наблюдения: если входил в город с вокзала, то пред ним вставал Киев так, как сейчас; если входил из степи, то Киев видел у Брест-Литовского шоссе; если вступал с гор, то видел его с Владимирской горки; если вступал из долины, то — с Труханова заречья…
Тысячи раз видел Стахурский эти дома, они были такими знакомыми. Но вот он снова увидел их — и каждый из них глядел на него не просто как волнующее воспоминание о прошлом, а как неизвестное будущее. Такого чувства ему еще не приходилось переживать, разве только в раннем детстве, когда он поутру спросонья щурился от ослепительных солнечных лучей и новый день входил в его детскую душу как нечаянная радость, как предчувствие неизведанного, но верного счастья.
Мария просунула ладонь в тонкой перчатке под руку Стахурского.
— Пойдем?
Они пошли.
Они пошли пешком, не обратив внимания на зазывания шоферов, отказавшись от услуг носильщиков и тачечников.
Стахурский закинул рюкзак за спину, Мария взяла его шинель — она казалась невероятно тяжелой в это знойное, полуденное время. Но они пошли пешком. Ведь они прошли пешком половину Европы, входили в чужие города с полной выкладкой, автоматом и четырьмя запасными дисками, — и в родной город Стахурский тоже хотел войти только пешком, как воин в походном порядке. Они миновали Безаковскую; справа зеленели густые заросли Ботанического сада, слегка тронутые первой осенней желтизной. Прошли по бульвару Шевченко — стройные тополя двумя рядами шли им навстречу и следовали за ними по пятам. Затем повернули на Владимирскую — каштаны закрыли их своей исполинской тенью. И все время они молчали, ибо беспрестанно говорили их сердца и волнение лишило их речи.
В гостинице «Красный Киев» Мария занимала маленький номерок на пятом этаже. Следы военных разрушений и гитлеровского грабежа были еще и тут, в единственной уцелевшей городской гостинице. В четырех этажах только закончили ремонт — все было залито известкой и пахло олифой, но коридор пятого этажа выглядел еще очень непривлекательно. В комнате на стенах пестрели желто-бурые разводы, а в окне не хватало двух стекол, и ветер свободно шелестел газетой, которой был застлан стол. Не было в комнате и обычной гостиничной обстановки: стояла простая железная койка, стул да некрашеный стол, а в углу жестяной умывальник — водопровод еще не подавал воды на пятый этаж. Шкафа в комнате тоже не было; на гвоздях, вбитых в стену, прикрытые газетами, висели платья Марии — красное, зеленое и синее. Чемодан ее стоял в углу.
Стахурский бросил рюкзак на чемодан и тотчас же вышел на узкий длинный балкон, тянущийся вдоль всего этажа: двери всех номеров выходили на него. Стахурский оперся на перила и взглянул сначала налево, где в конце Владимирской улицы высился Софийский собор, потом направо, в сторону Золотых ворот. Улица почти не была разрушена, и после тех развалин, что он насмотрелся по дороге, это казалось неожиданным подарком.
Мария тоже вышла на балкон и стала рядом, положив Стахурскому руку на плечо.
— Хочешь, — сказала она, — приведи себя в порядок и пойдем осматривать город.
— Нет, — ответил Стахурский, — потом, позже, вечером.
— Ладно, — согласилась Мария. — Ты устал?
Он не устал, и ему не терпелось поскорее побежать по давно знакомым, четыре года не виденным улицам, заглянуть в каждый уголок, не упустить ни одной мелочи. Но он сдерживал себя, словно боялся свидания с родным городом.
— В таком случае, — сказала Мария, — ты сначала умойся, потом подумаем, что нам поесть. — Она вернулась в комнату и проверила, есть ли вода в умывальнике. — А вот мыло. Полотенце есть у тебя?
— Есть, — сказал Стахурский и начал расстегивать гимнастерку.
— Я выйду. Сколько тебе надо — пять, шесть, семь минут?
— Десять.
— Ого! — Мария засмеялась. — Ты уже врастаешь в мирное время. А помнишь, как Николай Иваныч завел в отряде правило — три минуты на утренний полный туалет? И я всегда запаздывала! А он за это посылал меня чистить картошку!
— А помнишь… — смеясь, поддразнил ее Стахурский.
— Ну, не приставай… А помнишь, как мы в Карпатах двадцать дней не умывались? А потом Саша Кулешов раздобыл где-то ковшик негодной для питья воды, и так как этого все равно было мало, то воду по единодушному решению отдали мне? Право, там было только шесть стаканов, но я вымылась с головы до ног и, казалось, никогда так хорошо не купалась. Ну, я пошла.
Мария махнула рукой с порога и скрылась в коридоре.
Она, по-видимому, что-то забыла, так как сразу же послышался стук в дверь.
Но это стучала не Мария. Это был какой-то старичок, весь забрызганный известкой и красками, очевидно штукатур или маляр.
— Прошу прощения, товарищ, — сказал он, — но мы как раз начинаем белить этаж. Вы сейчас уйдете? Так мы подождем. А если останетесь надолго, мы можем начать с другого конца. Ваша жена велела спросить у вас.
— Жена? — спросил Стахурский. — А-а! Нет, если уж вы так любезны, то начинайте с другого конца. Видите, я только пришел с вокзала.
— Понятно, — сразу согласился старичок. — Умывайтесь и отдыхайте себе на здоровьечко. Значит, на побывку к жене?
— Демобилизованный.
— Понятно. Из самого Берлина?
— Из Австрии.
— Знаю Австрию! В неволю, еще в сорок первом году, нас через Австрию везли. Побывали, значится, по этим заграницам вроде как интуристы и всю цивилизацию узнали. Ну, вы ей жару как следует дали?
— Кому? — не понял Стахурский. — Австрии?
— Не Австрии, а той цивилизации фашистской, — рассердился старичок. — Пускай бы такими слезами поплакала, какими наш народ наплакался…
Старик сердито хлопнул дверью и ушел.
Минуту Стахурский стоял в раздумье. Слова старика были каким-то ответом на мысли Стахурского.
Стахурский разделся и машинально начал умываться. Плескаться в холодной воде после духоты и зноя было приятно и весело.
Он успел вымыться, надеть чистую рубашку и даже почистить сапоги — минуло уж десять, и пятнадцать, и двадцать минут, а Мария не приходила. Он выглянул в коридор — старичок с двумя мальцами опрыскивали стены известкой, но Марии там не было.
Стахурский вернулся в комнату, снял сапоги и лег поверх одеяла. Раскрытая дверь на балкон была прямо перед его глазами. Там, почти вровень с балконом, шелестели кроны каштанов, доносились приглушенные отзвуки города: гудки машин, выкрики папиросников, шарканье подошв по тротуару.
И вновь волнующее чувство вошло в грудь Стахурскому. Он лежал на кровати в комнате, четыре стены окружали его с четырех сторон, и он был в этих четырех стенах один. За годы войны — в подполье, в партизанском отряде, а тем более в воинской части, даже в госпитальной палате — ему ни разу не приходилось оставаться в комнате одному. Можно думать о чем хочешь, можно делать все что заблагорассудится — ты с глазу на глаз с самим собой. Это было невыразимо приятное чувство.
И сразу же возникла другая, забытая ассоциация из давно минувших студенческих лет. Вот такая же комнатка, и такая же койка, и некрашеный стол, и тужурка на хромоногом стуле — только тогда не было погонов на плечах и орденских ленточек на груди. Но было точно такое же чувство, что сегодняшнего дня нет, существует только завтрашний — жизнь впереди, жизнь только должна начаться, и неизвестно, какой она будет, достаточно того, что она придет. Завтра Стахурский снимет погоны и снова будто станет студентом. И не будет сегодня, будет только завтра. И надо бы это завтра представить себе, но представлять его не хочется — достаточно того, что вместо шумливого, неспокойного военного быта придет другая, когда-то такая привычная, потом забытая, но долгожданная и желанная жизнь, отрадная, как вот эта неожиданная минута одиночества в случайной тихой комнате на пятом этаже разрушенной гостиницы.
— Ага! — вслух промолвил Стахурский и торопливо встал. — Вот, очевидно, и наступает мирное время. Оно уже начинает в меня входить.
Он стал босиком на пол и хотел выйти на балкон. Но в это время в дверь постучали, и, не ожидая ответа, вошла Мария.
— Ты не заснул здесь без меня? — спросила она с порога.
Она держала в руках целую охапку свертков и пакетов.
— Помоги же! — сказала она. — Ты видишь, у меня сейчас руки отвалятся!
Стахурский поспешил к ней.
— И закрой дверь, у меня нет третьей руки.
Стахурский метнулся к двери.
— Ах, боже мой, мои руки, мои руки, какой ты неуклюжий!
Она даже сердито топнула ногой.
И пока Стахурский закрывал дверь и освобождал Марию от покупок, она восторженно и весело рассказывала:
— Ведь ты устал, и я решила, что не стоит идти где-то искать обед или ужин. Который теперь час? Лучше поешь дома, а тогда посмотрим. — На столе уже лежала гора свертков, и она принялась их развертывать. — Мы устроим банкет в честь твоей демобилизации, возвращения домой… и нашей встречи. — Она на миг пристально взглянула на Стахурского, словно хотела проверить, как он относится к их встрече. В ее руке появилась бутылка, она торжественно подняла ее. — Мы выпьем с тобой за нашу встречу.
— Разве ты пьешь водку?
— Только символически.
Она засмеялась.
Мария смеялась всегда, даже в самые тяжелые минуты. Стахурский помнил, как в Подволочиске их поймали и бросили в барак гестапо, — Мария смеялась и тогда. Правда, потом она и поплакала в уголочке, но позже своим смехом чуть не погубила их обоих: подкопав стену, они вылезли на двор и притаились под забором на время, пока караульный отойдет до угла. Но он не отошел, а сел под куст по естественной надобности, лишив себя таким образом возможности за ними погнаться. Мария бежала тогда и хохотала. Конечно, это был не веселый, а нервный смех, вызванный сильным напряжением.
Но сейчас Марии было весело, радостно, она была счастлива. Она сновала по комнате туда и сюда, секунды не стояла на месте, и каждый раз, когда проходила мимо Стахурского, на него веяло ее теплом.
Рюмок у Марии не было, и она поставила перед Стахурским свою, памятную еще с отряда, эмалированную, коричневую снаружи и белую внутри, кружку, а перед собой желтый пластмассовый стаканчик. На столе уже высилась гора всякой всячины. Мария придвинула стул, поставила чемодан «на попа» и жестом пригласила Стахурского сесть.
— Знаешь, — сказал Стахурский, — тот маляр назвал тебя моей женой.
— Да? — Мария с любопытством взглянула на Стахурского. — И что ж ты ему ответил?
— Ничего…
Мария отвернулась.
Потом они сели, и Мария налила водку.
— За… — Она подняла свой стаканчик.
— За встречу!
Но чоканья не получилось, пластмассовый стаканчик не звенел.
Они выпили. Мария пила по-женски, мелкими глотками, но выпила до дна и сразу же посмотрела в кружку Стахурского.
— До дна! Запомни: мы выпили за нашу встречу до дна.
И они принялись за еду, разложенную на столе. Там были хлеб, колбаса, огурцы, помидоры, рыба.
— Чаю не будет, — сказала Мария. — Позиции противника близко, огонь зажигать нельзя, и его у меня нет.
Она тут же сказала: «а помнишь…», но Стахурский сделал страшные глаза, и Мария сердито отмахнулась.
— Слушай, ты очень утомился?
— А что?
Он ответил не сразу, словно проверял, утомлен ли он. Нет, он не утомлен. Он был совсем бодрый, свежий, и сладостное ощущение уюта вливалось в него. Это было не только ощущение собственной бодрости и свежести, но и близости этой девушки, с которой столько пережито вместе.
— Если ты не утомился, давай побежим сейчас на Днепр, возьмем лодку и…
— Давай!
— Какой же ты милый!
И они еще усердней принялись есть. Побежать на Днепр — именно этого больше всего хотелось Стахурскому! Именно побежать, как бегал еще хлопцем, в майке и босиком.
И они побежали вниз по лестнице.
Каштаны Владимирской — любимые и памятные с детства, руины площади Хмельницкого — непривычные и оскорбительные… Не уговариваясь, они направились не к фуникулеру, а к андреевской церкви.
Они взбежали по чугунным ступеням вверх, взявшись за руки, и остановились только на площадке за церковью.
— Ну вот… — сказала Мария.
Стахурский закрыл глаза, мгновение постоял так, потом открыл их.
Широкий простор раскрылся перед ним. Среди зеленых лугов и желтых песков вился Днепр. Внизу — в скоплении каменных домов, в паутине улиц, среди высоких труб лежал Подол. А он, Стахурский, стоял на самой вершине зеленого холма, и за спиной у него был Киев. Сколько раз он поднимался сюда на холм, к подножью церкви Андрея, вот так стоял, сначала закрыв, потом широко раскрыв глаза. Потом наступило такое время в его жизни, что, казалось ему, уже никогда не стоять здесь и не любоваться Днепром. Бывали минуты, когда он даже не мог припомнить, как выглядит река в этой широкой долине. В бою, в смертельной опасности некогда вспоминать долины и реки. Но бои отошли, и смерть обошла его. И вот он снова стоит над Днепром, плененный и даже подавленный давно знакомым, радостным ощущением бытия.
Но теперь это ощущение было невыразимо ярким, как приход желанного, долгожданного, но внезапного и неожиданного счастья — и не потому, что пейзаж этот был исключительно красив. Он был действительно необычайно красив, хотя в военных странствиях по свету Стахурскому приходилось видеть и более красивые пейзажи. Это был вид родины — места твоего рождения, твоего роста, твоего первого шага в жизни и борьбе.
— О чем ты думаешь? — прошептала Мария.
Она тоже была взволнована, и голос ее слегка дрожал. Она прикоснулась к руке Стахурского и взяла его холодные пальцы в свою теплую ладонь.
Стахурский ответил не сразу. Он молчал не потому, что стеснялся высказать свои чувства, а только потому, что не сумел бы их выразить полностью. Мария пожала ему руку.
— Я подумал о хорошем, — сказал Стахурский глухо. — Я думаю о том, сколько больших клятв и горячих признаний произнесено здесь, на этом месте, где мы сейчас стоим. Сколько присяг на верность своим идеям, борьбе. И сколько раз тут сказано «люблю». — Он усмехнулся. — Я думаю, сколько стоит здесь эта гора, не было дня, чтобы тут не прозвучало чистое признание, сказанное от всего сердца.
Мария держала его за руку:
— А сегодня? — прошептала она.
— Не знаю, но думаю, что было сказано и сегодня.
— А вдруг — нет?
Стахурский не ответил. Он радостно глядел на дорогой сердцу величественный простор, такой яркий в косых лучах заходящего солнца. Жизнь впереди, и она будет прекрасной! Это он знал наверное, так же верно, как то, что он снова стоит над Днепром.
Он повернулся к Марии — ее рука слегка вздрагивала на его пальцах.
«Хорошо», — сказал он самому себе и посмотрел Марии в глаза; они были темные в это мгновенье.
— Я люблю тебя, Мария.
Она опустила ресницы.
Потом она взмахнула ими, и Стахурский снова увидел ее глаза. Они были теперь светлые, и на них были крапинки, словно веснушки на лице.
— Мария, — удивился Стахурский, — у тебя крапинки на глазах!
Она засмеялась тихо и счастливо:
— Это только летом. Осенью они исчезнут.
Потом она подбежала к выщербленному кирпичному столбику на углу перил, окружавших площадку, и подставила ветру лицо. Светлые пряди волос затрепетали и засветились на солнце. Стахурский тоже облокотился на перила. И так они стояли некоторое время молча.
— Труханов остров, — промолвил наконец Стахурский. — Мария, с Труханова острова наши штурмовали Киев! Как они могли! — В его голосе послышалось изумление, словно он сам никогда ничего подобного не делал на войне. И он тихо закончил: — Я люблю наш народ, Мария, и большей любви у меня нет. Вот здесь, на этом месте, я говорю тебе.
— И я тебе, — сказала Мария.
Он вдруг взялся за перила обеими руками, подтянулся и перескочил через балюстраду — в кусты акаций, на склон горы и покатился вниз.
Мария нагнулась, проскользнула под перила в кусты и побежала за ним. Она догнала его на нижней площадке и схватила за руку.
— Ты с ума сошел!
И, взявшись за руки, они побежали вниз с обрыва, прямо по скату сквозь бурьян и кусты, то падая, то цепляясь за ветви, — прямо на Подол. Мария смеялась, а потом и смеяться перестала — зашлась, как младенец от плача. Они остановились только в самом низу, тяжело дыша, Мария держала в руках каблук от башмака.
— Ничего, — отдышавшись, сказал Стахурский, — зато не пришлось толкаться в фуникулере. А каблук мы сейчас приделаем. — Он взял камень и стал выравнивать гвоздики.
Лодочку — маленькую, только для двоих, — они нашли на берегу, около того места, где когда-то была водная станция «Динамо».
Хозяин лодки — перевозчик — был маленький человек неопределенного возраста, но запоминающейся наружности. Седые волосы его были низко острижены, но лицо свежее, как у юноши. И он был таким загорелым и крепким — даже не верилось, что такие бывают на свете. Его тело было бронзовым и словно литым: мускулы выдавались, как перевясла, и от каждого движения бегали под кожей, как живые существа.
Мария, перед тем как ступить в утлую лодочку, тронула ее носком башмака:
— А она выдержит двоих?
Перевозчик сплюнул сквозь зубы.
— В сорок третьем выдерживала четверых, при четырех пулеметах Дегтярева и шестнадцати дисках. Кроме того, мы брали еще десяток гранат. Если бы понадобилось, эта посудина выдержала бы и противотанковую пушку. Только пушек тогда у нас не было. Мы делали связки из четырех гранат и так подрывали их «тигры» и «фердинанды».
Стахурский пристально посмотрел на лодочника.
— Вы были в частях, штурмовавших Киев с реки? Вы красноармеец или офицер?
— Нет, — ответил лодочник, — я водолаз. Только при оккупантах не хотелось лезть в холодную воду. Нам больше нравилось топить фашистов.
Он оттолкнул лодчонку, и острый нос ее разрезал прибрежную тихую воду.
— Задержите завтра лодку с утра! — крикнул Стахурский. — Я приду и возьму ее на весь день.
— С утра навряд ли, — откликнулся лодочник. — Мы тут только после работы, по вечерам и в выходные дни. А вообще мы водолазы и поднимаем со дна затопленный флот.
Мария погрузила весла в воду и широким взмахом повела лодку вперед.
— Чудесный человек, — сказала она.
Стахурский оглянулся. Лодочник стоял у самой воды, заложив руки в карманы брюк. Его оголенный до пояса торс был весь в клубках упругих мускулов. Стахурский внезапно догадался, что ему напоминает этот бронзовый человек. Он был удивительно похож на корешок калгана — «корень от семидесяти болезней и от живота», как говорят в народе, — сродни тибетскому жень-шеню.
Они поплыли наперерез течению, прямо на Труханов остров. Стахурский крепко держал руль, лодка шла ровно, не петляя, немного наискось течения; вода с левого борта плескалась и звенела под ударами весла. На фарватере Стахурский поставил нос лодки против течения, и они поплыли через реку почти по ровной линии. Солнце светило в спину Стахурскому, оно уже близилось к горизонту и сейчас было на уровне Владимирской горки; легкий, пахнущий солнечными ароматами летнего дня бриз ласкал их слева. Это был запах камыша, неспелых яблок и смолы.
Мария гребла сильно, и мускулы на ее руках напрягались шарами, по-мужски.
Когда они вышли из фарватера, Стахурский сказал:
— Чудесная лодочка, легкая и хорошо слушается руля. Завтра договорюсь с ним на месяц — полтора — до холодов. Месяц — другой хочется половить рыбу, побродить по камышам, может, пострелять что-нибудь… Как ты думаешь, уступит он мне свою лодочку?
— Не знаю, — сказала Мария.
Когда лодка врезалась в песок, Мария выскочила первая и сразу предложила:
— Купаться! Прежде всего купаться, пока есть солнце. Я не люблю лезть в воду ночью, когда вода черная.
— Ну, — откликнулся Стахурский, — а Буг мы переходили ночью и в Быстрицу тоже полезли перед рассветом, да еще пятого ноября.
— Так то не купаться… а так было нужно.
Они быстро разделись, нашли яму у берега, потом стали рядом на обрыве, Мария скомандовала: «Раз-два-три» — и они вместе прыгнули. Когда Стахурский вынырнул, Мария плыла уже далеко, к фарватеру, и он догнал ее широкими саженками. Догнав, схватил за ногу и утопил. Мария сразу вынырнула, отряхнула воду с волос и поплыла дальше. Мягкая, нежная, рыжая днепровская вода полоскала их загорелые тела.
— Ты где так загорел? — спросила Мария.
— На Дунае.
— А я на Днепре.
И это, пожалуй, были все слова, которыми они обменялись во время купанья. Они купались сосредоточенно, наслаждаясь всем существом, и в эти минуты, кроме купанья, для них ничего на свете не существовало.
Уже стоя на берегу, греясь в последних лучах заходящего солнца, подрагивая от предвечерней сырости и чувствуя каждую клеточку своего тела, Стахурский сказал:
— Ты знаешь, после войны меня тянет к физическому труду. Вот пошел бы валить лес, таскать какую-нибудь кладь, рубить дрова. Прямо тоскую об этом. Может, правда, подумать серьезно о смене профессии.
— Это чисто физиологическое… Это просто твое тело хочет утвердить свое бытие.
Мария произнесла это таким наставительно-лекторским тоном, что они оба засмеялись.
Солнце скрылось за холмами, на реку сразу опустились сумерки. Но вверху небо было еще лазурным, и облака позолочены по краям — там вверху был еще день. Людей на пляже становилось все меньше с каждой минутой. Десятки лодок сновали по реке, медленно плыли два парома, тарахтел катер, перевозя купающихся.
Они разошлись по кустам, переоделись, и когда снова пришли на то же место, Мария сказала, кивнув на небо:
— Вечерняя…
На ясном небе над городом замерцала первая звезда. Под склонами берега уже сгущались сумерки, быстро, как бывает только на юге.
Они уселись на пригорке под кустом и закурили. Днепр тихо плескался у их ног.
Мария сказала:
— Ты, верно, отвык от своей профессии за войну?
Огонек папиросы, вспыхивая, бросал багровые блики на ее побледневшее после купанья лицо.
— Понимаешь, ты и представить себе не можешь, как я мечтал о работе все это время. Прямо смешно, а порой бывало неловко. Помнишь, как под Трембовлей нас с тобой послали в село? — Мария кивнула головой. — И мы ночевали в скирде, а проснулись и видим — под скирдой расположились гитлеровцы. — Мария тихо усмехнулась. — Тогда нам не было смешно. Мы просидели целый день, в удушливом зное и пыли, не проглотив и маковой росинки и не имея возможности пошевельнуться.
— Да, — пожаловалась Мария, — у меня так тогда затекли ноги, странно, что я не кричала от боли.
— Ну вот. А мне, знаешь, тогда было совсем легко.
Мария с удивлением взглянула на Стахурского.
— Понимаешь, только накануне, когда мы, помнишь, ночевали на разрушенном сахарном заводе, мне приснилось, что я работаю прорабом на строительстве громадного сахарного завода. — Стахурский тоже усмехнулся. — Ну, понятное дело, ведь вокруг торчали эти страшные руины. И вот снится мне, что пролет цеха центрифуг надо сделать протяжением в пятьдесят метров и я должен класть перекрытия без промежуточных опорных конструкций, чтобы максимально расширить полезную площадь пола. Ну, да это не имеет значения, — Стахурский махнул рукой, — этой техники ты все равно не поймешь. Я страшно сердился тогда во сне: как могли принять такой проект, что за кретин архитектор его составил? Так и проснулся сердитый и злой…
— Я помню это, — перебила Мария, — ты еще тогда утром поссорился с Виткупом, ну, этим командиром разведки, из-за того, что он не раздобыл сведений о передвижении противника, и сказал, что добудешь их сам. И тогда ты мне приказал одеться крестьянкой и, так как я хорошо говорю по-польски и по-украински, пойти с тобой. Мы пошли вдвоем и застряли в той скирде.
— Верно. Так вот, когда мы сидели там с тобой, я все еще был под впечатлением этого сна и от нечего делать начал прикидывать, как все же сделать это перекрытие, и так увлекся, что и дня не заметил: все вычислял, какая должна быть нагрузка железобетона на квадратный метр, какой поперечник перекладин…
— Ну, и что дальше? — нетерпеливо поторопила его Мария, когда он вдруг умолк. — Ты не думай, пожалуйста, что я не понимаю, — обиженно прибавила она, — я ведь работала чертежницей, и мне приходилось чертить перекрытия для пристроек.
— В самом деле? Прости… Но понимаешь, по-моему, это возможно, даже не увеличивая поперечника стен и не облегчая самого перекрытия и даже не увеличивая поперечника балок…
— Двухтавровых? — подсказала Мария.
— Ну, это само собой. Но класть их, используя и арки в качестве опоры, накрест. Понимаешь? Чтобы основа перекрытия была решетчатой. Тогда можно пропорционально уменьшить количество бетона, но это не снизит крепости, потому что накрест положенные перекладины несравненно увеличат сопротивление.
— Слушай, — крикнула Мария, — это же открытие!
— Нет, это известно в литературе. Это, в конечном счете, принцип мостовой фермы. Очевидно, — снова улыбнулся Стахурский, — тот архитектор, который мне приснился, тоже применял решетчатое перекрытие, только мне не успели присниться его данные. И весь тот день в скирде я промечтал. Я, знаешь, был даже доволен, что выпал спокойный день и можно на свободе поразмыслить. А ты в это время страшно мучилась. Не сердись, пожалуйста, и прости. Когда мне пришло в голову решение, я только и побаивался, как бы не захрюкать от удовольствия, чтобы не обратить внимания немцев там, под скирдой.
Мария засмеялась:
— Какой ты милый…
— И понимаешь, — все больше увлекаясь, продолжал Стахурский. — Это было уж не первый раз и потом повторялось: вдруг начинаю мечтать о каком-нибудь необычайном строительстве. Черт знает что: взрываю постройки, разрушаю их орудийным огнем, а мечтаю о строительстве! То я прикидывал, возможен ли деревянный настил под железной опорой, — это когда мы взорвали каменный мост на Стоходе и потом сразу навели деревянный. То решал, на какую глубину надо подводить сваи на плывунах под многоэтажный дом и чем заменить бетонную подушку. Черт знает что! Тут война, неизвестно, будешь ли завтра жив, перед тобой только одно — победить, а тебя тянет к циркулю и логарифмической линейке. Я страшно ругал себя за это.
Мария хотела что-то сказать, но Стахурский снова заговорил:
— Да! А когда мы однажды возвращались из разведки, я нашел другой вариант для того перекрытия, куда более простой и дешевый.
— Какой же?
— Свод, дуга!
— А это не изобретение? — неуверенно спросила Мария.
— Нет. Только применение давно известных положений.
Возбуждение Стахурского сразу угасло, и он нахмурился:
— Ну вот… А закончилась война, и китель снимать не хочется. Что это? Почему?
Уже совсем стемнело, мириады звезд усеяли небосвод, и серебристым блеском отливала речная волна. На противоположном берегу вспыхнули огни фонарей. Позади, среди ив, застрекотали цикады, и от этих звуков, таких по-летнему теплых, словно стало теплее. Но это только казалось, — просто волна прохлады, которая пробегает после наступления сумерек, уже ушла, и теперь повеяло теплом и от нагретых берегов и от воды. Поэтому и застрекотали цикады.
Они сидели рядом и смотрели в небо над собой, как в детстве, и в грудь к ним входило, тоже как в детстве, это тревожное, но вместе с тем приятное ощущение: безграничность небосвода, бездонность синевы и дальше ничего — пустота, бесконечность.
На берегу они теперь, пожалуй, были одни. Последние лодки быстрыми черными силуэтами скользили с фарватера к городскому берегу.
— Ты не говори, — сказал Стахурский, словно прося прощения, — переход от войны к миру — это тоже не так просто. Я сам еще не ощутил себя реально в мирной жизни.
— Ты почувствуешь, — сказала Мария, — почувствуешь. Ты только вдумайся в это: войне конец, пришла мирная жизнь.
Стахурский пожал плечами:
— Да, мирная жизнь… Но вот тебе приходилось говорить не с одним английским и американским офицером. Обратила ли ты внимание на то, что они все оценивают прежде всего с точки зрения экономической выгоды: выгодно это или убыточно? Они и мирную жизнь так примеряют, что выгоднее: мир или война и на чем можно сделать бизнес…
— А помнишь, — перебила его Мария, — как мы были в том словацком селе в Татрах. Как оно называется, не помнишь?
— Не помню.
— Ну, помнишь, тогда вокруг еще всюду были гитлеровцы, а чехи вышли нам навстречу с портретом Сталина. И когда появились наши танки…
— Ну, так было всюду…
— Подожди! Ты вспомни, когда мы вошли в местечко, — ну, как оно называется, такой маленький городок, посередине завод, а на окраинах домики, помнишь — мы думали, что там только развалины и никого нет. А там уже был сельсовет — они назвали свое самоуправление сельсоветом, — и над дверью лозунг: «Да здравствует советская власть!»
— Помню! — живо откликнулся Стахурский. Воспоминания захватили и его. — Мне больше всего запомнился тот дядька в серой шляпе, с георгином за лентой.
— Они все там, особенно парни, носят георгины на шляпах, — вспомнила Мария. — Это очень мило.
— Да, да! После митинга они затащили нас в корчму. Мы уселись вокруг бочки, и этот дядька…
— Я с вами не пошла тогда. Мне и моим девчатам надо было установить связь с селением Мелкие Броды… Старая Гора! Вот как назывался этот городок, я вспомнила.
— Верно! А я с ними говорил. Даже неловко стало: сидят и смотрят, как на какое-то чудо, и все кланяются, все приглашают…
— Очень гостеприимный народ. Мы установили связь, вернулись, а ты все еще сидел там, в корчме.
Стахурский счастливо засмеялся:
— Верно! Они все расспрашивают, а я им рассказываю — о событиях на фронтах, обо всем, даже о том, как сажать картофель по методу академика Лысенко. А тот дядька все смотрит мне в рот и твердит только: «А у вас там коллективизация!» Я ему о том, что надо вырвать фашизм с корнем, а он мне свое: «У вас там в СССР коллективизация»…
— Он боялся коллективизации?
— Да нет! — радостно крикнул Стахурский. — Он завидовал. И потом они просили, чтоб мы немедленно, пока не пошли вперед, помогли им организовать колхоз.
Стахурский схватил руку Марии.
— Мария! Вот, запомни хорошенько: мы с тобой еще столько сделаем!..
Они сидели тихо, и только рука Марии, покоившаяся в руке Стахурского, иногда вздрагивала. Цикады громко стрекотали.
Потом Мария тихо сказала:
— Спасибо тебе, что ты есть на свете.
Он ответил:
— Спасибо тебе, что ты есть и будешь.
— Будем!
— Будем.
— Вот Орион, — сказала Мария. — Я его знаю.
Они посидели еще, молча глядя на Орион.
Была ночь. Было тихо и торжественно. И им было очень хорошо.
Потом Мария приникла к плечу Стахурского и прошептала:
— Милый, я боюсь, что сейчас надо посмотреть на часы. Мой поезд уходит во втором часу.
Он помолчал.
— Значит, ты все-таки поедешь?
Она молчала долго. Потом ответила:
— Все-таки поеду…
Ей хотелось остаться, но она должна была ехать. Пришла любовь — и надо бы идти ей навстречу. Она желала этого, но словно боялась сразу отдаться чувству. Пусть жизнь сама решит за нее.
— Половина двенадцатого, — сказал Стахурский. — Кажется, так… — Он чиркнул спичкой и поднес ее к часам. — Половина двенадцатого.
Потом он поднял голову и посмотрел на Марию. Ее глаза, светлые даже в ночном сумраке, были широко раскрыты, но, встретив его взгляд, прикрылись длинными ресницами. Спичка догорела.
Она встала.
— Пора!
Мария села за руль, нос лодки поднялся, и ее легко было столкнуть с отмели. Стахурский взмахнул веслами.
Лодка быстро вышла на фарватер. Вода искрилась, стекая с весел, она уже по-осеннему светилась в ночной темноте, но была еще по-летнему теплой. Мария опустила руку за борт и так сидела, полоща пальцы в воде. Она не бралась за руль, и Стахурский вел лодку один, загребая сильнее правым веслом, чтобы не сносило течением. А Мария сидела, подняв побледневшее лицо к звездам, и совсем притихла. Она притихла, как утихает вечером, после длинного дня, ребенок, уставший от игр и забав. Она была грустна и не вымолвила ни слова, пока они не переплыли реку.
Когда они поднялись по извилистой тропинке на Владимирскую горку, Мария остановилась и повернулась лицом к реке.
Стахурский взял ее под руку, и так они постояли некоторое время — близкие и молчаливые. Темная таинственная долина реки расстилалась перед ними, теряясь где-то в ночном сумраке на горизонте; седая тихая река еле отсвечивала всплесками волн у берега. Далеко, за излучиной, на воде мигал буй. А Подол мерцал созвездиями огней, как второе звездное небо — внизу.
— Слушай, — прошептала Мария, — у меня к тебе просьба. Я сейчас пойду одна. — Он протестующе сжал ей руку, но она ответила еще более крепким пожатием. — Я пойду одна, и одна поеду на вокзал… Пожалуйста, не возражай, прошу тебя… Мне так легче. — Она почувствовала после напряженного протеста размягченную покорность в его руке. — Спасибо… И попрощаемся сейчас, тут, на этом месте.
— Мария!
Она слегка оттолкнула его и сказала умоляюще:
— Если бы не мама, я просила бы назначить меня сюда. Ты понимаешь? И я ведь не знала, что тебя сейчас демобилизуют. Я поговорю там — может, меня переведут сюда, и я вернусь вместе с мамой. Я напишу тебе сразу. Мы спишемся. А сейчас, ты же понимаешь, у меня назначение! Я должна была выехать еще вчера, но пришла твоя телеграмма — и я не могла с тобой не увидеться и не сказать тебе. Но я должна ехать. Назначение — понимаешь? Назначение — это как наш «ветер с востока», ты помнишь?
Было тихо, ветра никакого не было, но Стахурский понял. Все они еще тогда, там, в сорок втором году, поклялись запомнить эти слова на всю жизнь. И еще не раз скажут они их в своей жизни. Ибо это был как бы пароль, присяга, приказ.
Они молчали, взволнованные.
Потом она прижалась щекой к его щеке.
— Ну, будь здоров, — прошептала она. — Я напишу тебе до востребования.
Она с трудом оторвалась от него.
— До свидания, — сказал он.
— До свидания!
Она пошла, но в нескольких шагах остановилась и сказала:
— Я предупрежу там, что номер остается за тобой.
И скрылась в сумраке под каштанами.
Через минутку, уже издалека, еще раз донесся ее голос:
— До свидания!
— До скорого свидания, Мария! — крикнул Стахурский.
Некоторое время он еще слышал, как, отдаляясь, шуршали по гравию ее подошвы, потом каблуки застучали об асфальт и стало совсем тихо.
Он стоял долго. Город внизу, на Подоле, засыпал у него перед глазами. Только блики от береговых фонарей качались на волнах реки и далеко, на излучине, маячил огонек буйка.
Стахурский стоял, может — полчаса, может — час. Мария уже, должно быть, уложила чемодан и поехала на вокзал.
…Она встретила его на вокзале, они пили пиво, потом ходили по улицам Киева, потерянного и вновь обретенного, потом были в ее комнате, потом переплыли реку и сидели на берегу.
И вот ее уже нет.
Нет, она была. Она была с ним в Подволочиске, в лесах на Волыни, в боях под Тарнополем, в переходе через перевалы Карпат, в освободительном походе по равнинам и городам Европы. Она была, она есть, она будет…
Стахурский зажег спичку и осветил циферблат часов. Был второй час ночи — ее поезд ушел. Стахурский прислушался, и ему даже показалось, что он услышал гудок паровоза. Но это была иллюзия, до станции было далеко — вокзал находился за горою.
Тоскливое чувство охватило Стахурского, и это чувство родило тревогу. Словно он ждал чего-то, что должно быть впереди, неизвестное и неразгаданное, но желанное и неминуемое. Так чувствуешь смолоду, когда тебе только семнадцать лет и ты живешь только надеждами на будущее. Это было сладостное и тревожное чувство. Словно в жизни миновал только первый день, как первый день после сотворения мира, и еще надо отделить небо от тверди и решать самые судьбы мира.
Ветер с востока
…Стахурский еле держался на ногах.
Ветер был холодный и сухой. Но он обжигал, как огненный вихрь.
Ветер дул уже не первый день, словно хотел смести с лица земли все, что не держится на ней, и уже не верилось, что он когда-нибудь прекратится и на свете может быть тишина.
Но небо не было чистым и прозрачным, как это бывает в такие ветреные дни. Тучи нависли над самой землей густой пеленой. Они спускались все ниже, словно намеревались раздавить своей тяжестью все, что ютилось на земле.
Земля, оголенная и черная, застыла, как льдина, от дыхания мороза, и когда ветер отрывал от нее маленький камешек или комок глины, то они звенели, как стальные нули. Песок вокруг начисто смело и прибило к каждому выступу — пригорку, хате или только что расколотому пню. И эти замёты были перемешаны с зерном, развеянным с неубранных полей. Хлеба некошеные, черные полегли под напором ветра.
То была осень тысяча девятьсот сорок второго года.
Стахурский стоял на гребне железнодорожной насыпи, укрывшись от ветра за стеной путевой будки, и следил за прокладкой линии.
Рабочие попарно брали шпалу из штабеля, сложенного на краю полотна, и, низко согнувшись, чтобы устоять против урагана, шли пять или шесть метров к месту, где шпалу надо было положить поперек насыпи под будущие рельсы. Сделав три — четыре шага, рабочие останавливались, ибо ветер валил их с ног, а потом снова начинали сначала. Это была не работа, а неравная борьба со стихией, и результаты ее были жалкими и ничтожными. Надо бы сделать перерыв до благоприятной погоды. Но задание было срочное и экстраординарное: по личному приказу самого рейхскомиссара Гиммлера прокладку линии надо было закончить за десять дней, точно в срок. На строительстве работали военнопленные, пригнанные сюда вопреки всем международным конвенциям и законам. Их приказано было не щадить, если бы даже эту ветку в восемь километров пришлось выстлать не шлаком и гравием, а костями этих людей. Караульные эсэсовцы в черных шинелях с воротниками, поднятыми и подвязанными кашне, расположились цепью внизу, по обе стороны насыпи, укрывшись в блиндажах, выкопанных для защиты не от пуль, а от ветра. Эсэсовцы выглядывали из амбразур и поводили дулами автоматов. Когда рабочий падал, очередь из автомата свистела над его головой; если он не поднимался, дуло автомата снижалось, и пули пришивали к земле человеческое тело. Настил шпал надо было закончить завтра к вечеру, а послезавтра с утра начать укладку рельсов.
Стахурский глядел из-за будки и размышлял о том, что с его стороны все же было неосмотрительно согласиться стать инженером путей сообщения, который должен знать измерения насыпей и нормы давления балласта. Он был инженером-строителем и хорошо разбирался в таких материалах, как дерево, кирпич и железо. Но в подпольной организации он был единственным инженером, а надо было срочно освободить военнопленных, переправить их в партизанский отряд и, кроме того, по возможности задержать строительство этой ветки неизвестного назначения. Так решило руководство подполья, и он возглавил подпольную группу на этом объекте. Фамилия его сейчас была не Стахурский, а Шмаллер, фольксдейч, родом из обрусевших немцев на Херсонщине.
Дверь из будки распахнулась, несколько раз загремела, пока вышедшему оттуда человеку не удалось придержать ее, и в щель протиснулся тучный мужчина в маленькой кепке с огромным козырьком над глазами и в длинной, до пят, оленьей дохе. Таких шуб не носят в Германии, и нынешний владелец раздобыл ее себе здесь как трофей. Это был шеф венской строительной фирмы, взявшей на себя подряд по укладке железной дороги, герр Клейнмихель. В будке путевого мастера, на стыке с железнодорожной магистралью, шеф разместил свою контору.
Дородная фигура шефа пошатнулась под напором ветра, на мгновение прижалась к стене — полы дохи, надувшиеся, как парус, заносили ее, — через силу оторвалась от будки и шмыгнула за угол, к Стахурскому.
— Футц! — выругался шеф.
Он остановился рядом со Стахурским, перевел дыхание, и на его физиономии отразилось безмерное удивление — он никак не ожидал, что тут, за стенкой, может быть такое затишье. Минуту он прислушивался к завыванию ветра и к шороху песка. Он чмокал губами и опасливо поглядывал на Стахурского. Глаза его были круглые, и о них можно было бы сказать, что они цвета пивной бутылки, если бы теперь не делали пивных бутылок разных цветов. Затем шеф, так же как Стахурский, начал оглядывать насыпь.
Двое рабочих взяли шпалу и сделали шагов пять. Но они еле держались на ногах от холода и упадка сил, и на шестом шагу ветер свалил их. Они покатились с насыпи вниз, а шпала, полетевшая вслед, била их по голове, рукам и ногам. Завывание ветра донесло хохот эсэсовцев.
Стахурский и Клейнмихель долго стояли молча. Потом шеф протянул руку за угол будки — ветер загудел меж его растопыренных пальцев, как в дудку бумажного змея. Шеф снова причмокнул и неодобрительно покачал головой:
— Ай-ай-ай!
Он оглянулся направо и налево, затем сказал:
— Ветер с востока!
Стахурский молчал. Действительно, дул свирепый ост. Иногда он переходил на ост-норд-ост и тогда становился еще яростней.
Шеф ближе придвинулся к Стахурскому, полагая, очевидно, что тот не услышал его слов, и повторил:
— Ветер с востока… — И несколькими мгновениями позже прибавил: — Как бы он не сдул нас с земли…
Шеф говорил по-немецки, но как-то особенно старательно, словно следя не столько за точностью смысла, сколько за правильностью выговора, и прислушивался к своим словам. Он был, кажется, тиролец и старался говорить с чистотой немецкого литературного диалекта и берлинского произношения.
Стахурский молчал. Фраза была безразличная, в ней не было ни вопроса, ни приказа, это были нейтральные слова, которые обычно говорят, только чтобы выразить случайно мелькнувшую в голове мысль. Ветер дул с востока и действительно мог все смести с земли, как только что смел двух несчастных военнопленных.
Но шеф придвинулся к Стахурскому еще ближе и произнес над самым ухом, однако не глядя на него:
— Ветер с востока. Как бы он не сдул нас с земли…
Он сказал это не по-немецки, а по-русски.
Стахурский невольно бросил на шефа испуганный взгляд: так произносят пароль! Но в следующую секунду он уже глядел на шефа с недоумением: герр Шмаллер не ожидал услышать русскую речь из уст уважаемого шефа, и какой пароль мог сказать герр Клейнмихель Стахурскому?
Тогда шеф коснулся руки Стахурского своими холодными, пухлыми пальцами и сказал уже по-немецки:
— Герр Шмаллер, прошу вас, зайдите сейчас со мной в контору, — и он сделал шаг к двери в будку.
Первой мыслью Стахурского было — бежать! Он еще не успел постигнуть случившегося, но предчувствие грозящей опасности охватило его.
Однако в следующее мгновение голос благоразумия подсказал ему: шеф просто зовет его в контору разрешить какой-нибудь вопрос, как это было сегодня уже не раз, как бывало каждый день.
Шеф тем временем взял Стахурского под руку, предлагая этим преодолеть силу ветра вдвоем. Рука шефа корректно, но крепко держала руку Стахурского выше локтя — он приглашал вежливо, но настойчиво, и пока они не достигнут двери, он не выпустит руки, это было очевидно.
Ясность мысли вернулась к Стахурскому. Сейчас они с шефом должны решить, вызывать ли катки или обойдется без них: балласт был мерзлый, и если он растает у основания, может произойти сдвиг. Стахурский только догадывался об этом, но шеф знал это наверняка, ибо строил не первую дорогу. Возможно также, что у шефа есть предложение более эффективной организации работ, ведь канцелярия рейхскомиссара Гиммлера, конечно, не примет во внимание разгула стихии. И если особа рейхскомиссара будет повергнута в гнев из-за несвоевременного окончания экстраординарного строительства стратегической линии, этот чертов ветер может смести с земли не только инженера Шмаллера, но и самого шефа, почтенного герра Клейнмихеля.
Они вышли из-за угла, крепко поддерживая друг друга, прижимаясь к стене, и с большим трудом добрались к дверям.
— Уф! — еле отдышался в сенях Клейнмихель. — Ну и погода! Прошу вас, герр Шмаллер, войдите.
Они миновали сени и вошли в комнату.
В будке путевого мастера были две комнаты. В первой, большой, раньше стояли столы и скамьи — здесь мастер разрабатывал с десятниками планы работ, а в непогоду тут укрывались ремонтные бригады и играли дети мастера. В углу лежал инструмент — лопаты, ломы, кайла и ключи. Во второй, меньшей комнате жил мастер со своей семьей. Теперь в первой комнате работали Стахурский и секретарша шефа. В другой был кабинет Клейнмихеля.
Сегодня секретарши не было — она поехала в город принимать инструменты. На лавке в углу сидел только шофер шефа, Ян, немолодой, хромой, невзрачный и какой-то прибитый жизнью человечек. Он был тихим, стеснительным и удивительно вежливым со всеми. Он всегда сидел в этом уголке около окна, где над лавкой в стене была ниша с окошечком в соседнюю комнату. Через это окошечко путевой мастер когда-то выдавал зарплату рабочим или говорил с десятниками, когда было еще рано и ему не хотелось вылезать из теплой постели. Шофер ставил в эту нишу свою кружку, когда пил кофе, — поставить кружку на стол инженера или секретаря он никогда бы не осмелился. Ян как раз пил кофе, когда шеф и Стахурский вошли. Он торопливо отставил кружку, чуть не опрокинув ее, вскочил и вытянулся. Ян так вскакивал и становился смирно каждый раз, когда шеф проходил мимо, хотя бы и двадцать раз на день, даже тогда, когда шеф только гулял по комнате, размышляя или разговаривая с кем-нибудь. Он был очень забавный, шофер Ян, вот так вытянувшийся по всем правилам немецкой армейской муштры: каблуки вместе, носки врозь и локти, разведенные в стороны, — неуклюжая фигура бесспорно невоеннообязанного, мирно прожившего всю свою жизнь и недавно мобилизованного тихони. Над шофером Яном потешались все эсэсовцы из охраны Клейнмихеля за его невоенный вид: на нем был мундир стандартной цейхгаузной работы, номера на два больше нужного размера, такие же штаны нависали мешками под коленями, а громадные ботинки загибались вверх носками, как китайские туфли.
— Садитесь, Ян, пейте ваш кофе. Он остынет, а на дворе холодно, — сказал шеф.
Они прошли во вторую комнату. Теперь тут стоял большой письменный стол, возвышалось громадное кресло стиля ампир — его раздобыли для шефа в городском театре оперы и балета. С другой стороны стола стояло кресло поменьше, из гарнитура рококо, для посетителей. В нише чернел полевой телефонный аппарат. Сегодня он не работал — ветер оборвал провода.
Шеф снял доху, повесил ее на крючок около двери и остался в сером френче военного покроя, но без знаков различия.
— Садитесь, садитесь, герр Шмаллер, — ласково предложил шеф, — и снимите вашу шинель. Нам предстоит продолжительный разговор.
Он указал на крючок с другой стороны дверей. Потом сел за стол, вынул сигару и приготовился закурить — делал он это старательно и неторопливо, как вообще все в своей жизни. Он обрезал сигару специальным ножиком, немного размял ее, потом достал зажигалочку и несколько раз щелкнул ею — зажигалка имела форму пистолета. Подождав, пока рассеялась копоть — бензин был нечистый, — он наклонился к огню и медленно раскурил сигару.
Стахурский снял шинель, повесил ее на крючок и подошел к столу, на ходу оправляя пиджак.
— Садитесь, садитесь, — приветливо сказал шеф, кивнув головой из-за клуба синеватого дыма.
Стахурский сел. Шеф курил, глядя на Стахурского дружески, но зорко.
— Герр Шмаллер, — наконец заговорил он, не сводя с собеседника добродушно улыбающихся глаз. — Я умышленно воспользовался временем, когда там, — он показал на дверь в соседнюю комнату, — никого нет, так как мне нужно сказать вам и услышать от вас нечто весьма важное. — Он подчеркнул важность момента еще более доверительным взглядом и поднятием руки. — Прошу вас!
Он предложил Стахурскому сигару. Стахурский взял ее.
— Вы слушаете меня внимательно?
— Я весь внимание, мой шеф.
Шеф подождал, пока Стахурский обрежет сигару, держа наготове пистолетик-зажигалку с дулом, направленным прямо в лоб Стахурскому. Во взгляде шефа мелькал игриво-грозный огонек — шеф шутил.
Когда Стахурский взял сигару в рот, шеф предупредительно перегнулся через стол, стрельнул из пистолетика и сказал:
— Паф! Прошу вас!
Потом он откинулся на высокую спинку кресла, выпустил большой клуб дыма и произнес:
— Я должен довести до вашего сведения, герр Шмаллер, что вы совсем не герр Шмаллер.
Он глядел на Стахурского так же приветливо, но слишком пристально, наблюдая за каждым движением, жестом, малейшей переменой в выражении лица собеседника. Но Стахурский сидел ровно, невозмутимо, спокойно и курил, не выдав себя ни единым движением, ибо не имел права это сделать; ни один мускул не дрогнул на его лице, ибо не имел права дрогнуть. Он только поднял брови и удивленно посмотрел на шефа — герр Шмаллер имел право поднять брови и удивиться, когда ему говорят, что он совсем не он.
Шеф глядел на Стахурского не то с торжеством, не то сам крайне удивляясь своим же словам. Потом он засмеялся.
— Вы не герр Шмаллер Франц-Эрих-Мария, фольксдейч, инженер путей сообщения. А вы Стахурский, член коммунистической партии, инженер-строитель.
Он захохотал и совсем провалился в глубину кресла.
Стахурский еще выше поднял брови — это было все, чем герр Шмаллер имел право в эту минуту выявить свое душевное состояние. Он не мог даже позволить себе побледнеть.
Провал! Сорваться с места, броситься к окну, высадить раму и выскочить во двор? Там эсэсовские автоматы сразу прострочат его несколькими очередями. Не могло быть речи и о том, чтобы схватить пресс-папье и проломить шефу голову — шофер сидел у окошка, в соседней комнате, а ключ от мотора машины он всегда носил в кармане.
Но кто ж такой этот немец, сидящий против него, — его шеф? И почему он выбрал такой странный способ разоблачения подпольщика?
Стахурский пожал плечами и недоумевающе сказал:
— Я не понимаю вас, мой шеф.
Клейнмихель снова захохотал.
— Вы отлично, чудесно играете, товарищ Стахурский! — сказал он сквозь смех. — Вы чудесный, замечательный актер, товарищ Стахурский! Если б не война, я бы посоветовал вам идти в киноактеры. Вы знаете, сколько зарабатывают кинозвезды в Голливуде? Наша АГФА платит не меньше. Не знаю, хорошо ли платит ваш Мосфильм, но вы безусловно были бы народным артистом.
Он глядел на Стахурского хитро, но доброжелательно.
Стахурский тоже принудил герра Шмаллера вынужденно улыбнуться.
— Простите, мой шеф, но ваша шутка доставляет мне огорчение.
Ураган за стеной выл с прежним неистовством. Мысли вихрем кружились в голове Стахурского. Шеф держался совершенно спокойно.
Он не принял никаких мер предосторожности. Не вынул револьвера и не положил его на стол. Не поставил охранника у окна. Только шофер Ян пил кофе в соседней комнате.
Стахурский изобразил на лице Шмаллера досаду и оскорбленное достоинство.
Шеф вытер глаза большим шелковым платком — голубым в синих квадратиках, — положил его в карман, удобнее расположился в кресле, с наслаждением затянулся сигарой и заговорил, все так же приветливо глядя на Стахурского:
— Чтобы избавить вас от лишней трепки нервов, без которой не обойдешься в игре, я расскажу вам еще кое-что, товарищ Стахурский. — Его тон был отменно любезным и доброжелательным. — Вы не просто товарищ Стахурский, который изменил свою фамилию для того, чтобы, скрывшись таким образом, заработать себе лишнюю марку в немецкой конторе, которая неизвестно для чего строит эту бессмысленную подъездную ветку к сельцу Михайловке, не имеющему ни промышленного, ни стратегического значения, когда наш фронт на берегах русской реки Волги. — Он поднял палец после этой долгой тирады и глядел на Стахурского, как на приятного гостя, с которым сейчас разопьет бутылку вина. — Вы есть подпольщик, член подпольной пятерки, которой поручено уничтожить эту линию, так как подпольщикам известно, что это секретное и чрезвычайно важное строительство особого значения.
Шеф уже не смеялся. Он смотрел на Стахурского серьезно, но без малейшей вражды.
Тоска охватила Стахурского. Конец! Шеф знал слишком много, и все это было правдой. Что же делать?
Стахурский развел руками и сказал, придав своему голосу максимум огорчения:
— Простите меня, мой шеф, произошло какое-то страшное недоразумение. Вас ввели в заблуждение, и вы обращаетесь не к тому, о ком думаете. Я совсем не тот, за кого вы меня, очевидно, принимаете.
Шеф словно не слышал этих слов, он перегнулся через стол, похлопал Стахурского по плечу.
— Это чудесно, чудесно, товарищ Стахурский, что вы умеете так соблюдать свои интересы, но жаль, что вы не хотите оказать мне доверия. Уверяю вас, перед вами только друг, который хочет вам помочь.
Стахурский ответил ему взглядом, полным сожаления. Что же ему делать: он не Стахурский — он всего только Шмаллер Франц-Эрих-Мария, фольксдейч Шмаллер, а вовсе не Стахурский, кто бы перед ним ни был — коварный враг или неумелый друг.
Шеф на минуту задумался. Глаза его скользнули по стене, по окну — ураган гнул до земли верхушки грабов, свинцовые тучи нависали тяжелыми крыльями. Сигара в руке шефа потухла. Он взвешивал и решал. Ветер выл в вышине и скулил в дымоходе. Наконец шеф снова повернулся лицом к Стахурскому — взгляд его был таким же внимательным, но твердым и решительным.
Он сказал сухо, по-деловому:
— Хорошо. Вы не тот, за кого я вас принимаю. Я тоже не тот, кем считаете меня вы!
Теперь Шмаллер взглянул на шефа с удивлением, вполне искренним.
Но Стахурский произнес тихо и категорически:
— Я не тот, за кого вы меня принимаете!
Его интонация свидетельствовала: он не Стахурский, и это он будет утверждать до конца, каким бы ни был этот конец. Он пойдет на любые муки и на смерть только с этими словами.
Но шеф словно и не обратил внимания на слова и интонацию Стахурского. Он улыбался дружески, как прежде, но еле заметная ирония мелькала в его улыбке.
— Вы, кажется, не поняли меня? — вкрадчиво спросил Клейнмихель, и голос его донесся словно издалека.
— Я вас вообще не понимаю, — ответил Стахурский. — Я уже сказал вам, герр Клейнмихель…
— Я не Клейнмихель! — резко прервал его шеф. — Я такой же Клейнмихель, как вы — Шмаллер! И я предлагаю вам совместную тактику против немецкого государства и против нацистского режима.
Стахурский уже точно знал, что перед ним сидит враг, который хочет поймать его таким коварным, но, право же, жалким способом. «Ветер с востока! Как бы он не сдул нас с земли! Я вас разоблачил! Но я ваш друг! Предлагаю действовать сообща!»
Они долго молчали. Ветер выл и грохотал за окном. Клейнмихель рассеянно постукивал пальцем по потухшей сигаре. Сигара Стахурского тоже потухла. Он сидел словно в оковах. Одна-единственная мысль билась в его голове, как удары пульса, неустанно и назойливо: как уведомить группу, известить все подполье, всех товарищей?
Но молчание длилось уже слишком долго, надо было кончать, это становилось невыносимым — пусть будет, что должно быть, — и Стахурский сказал:
— Мой шеф, я очень сожалею, что произошло такое… недоразумение. Вы позволите мне идти? Я должен следить за ходом работ.
Клейнмихель пристально взглянул на Стахурского, в его взгляде сквозили настороженность и издевательство.
— Герр Шмаллер, вы собираетесь пойти в гестапо и донести на меня, что я делал вам предательское предложение?
Стахурский ответил так, как ответил бы на его месте Шмаллер, ибо у Шмаллера тоже были все основания растеряться.
— Я совсем сбит с толку, я ошарашен, герр Клейнмихель. Я не могу знать, делали ли вы мне предложение или проверяли меня. Я совершенно растерян, герр Клейнмихель! Позвольте мне уйти и заняться своим делом.
И вдруг сразу Клейнмихель сделался совершенно иным. Исчезло добродушие, исчезла медлительность движений и округлость жестов, исчезла даже прозрачная пустота зеленовато-рыжих глаз. Перед Стахурским сидел совсем другой человек. Это не был флегматичный герр Клейнмихель, его шеф, которого он знал немного больше двух недель, с тех пор как приступил к работе в его строительной конторе. Перед Стахурским был теперь другой человек, полный бурлящей энергии, которую он еле сдерживал.
— Очень хорошо, Стахурский! Вы молодец! Именно такими я и представлял себе русских коммунистов. Перейдем к делу.
Он быстро достал зажигалку, щелкнул ею и сразу закурил. Потом порывисто придвинулся к столу вместе с креслом.
— Итак, инженер Шмаллер, известно ли вам, с какой целью строится эта подъездная ветка?
— Нет.
Клейнмихель — новый, быстрый и энергичный Клейнмихель — кивнул головой и, не ожидая дальнейших слов собеседника, заговорил:
— В таком случае я информирую вас, Стахурский, что по этой ветке через десять дней должен пройти один-единственный поезд. И в этом поезде будет сам, собственной персоной, Адольф Гитлер. — Он глядел на Стахурского со всей серьезностью, вытекавшей из этого необычайного сообщения. — Самолично Адольф Гитлер, то есть Адольф Шикльгрубер, а не кто-нибудь из его двойников! Я информирую дальше: здесь будет квартира фюрера, и он отсюда будет руководить операциями войск, наступающих на Сталинград. Вы понимаете меня? Поскольку местопребывание Гитлера может стать известным агентуре красных, то будут два Гитлера: один будет находиться в официальной ставке в городе, это будет двойник, а другой — в подземном укрытии около Михайловки. Это будет настоящий Гитлер.
Стахурский смотрел на немца, сидевшего перед ним. Какое важное сообщение сделал ему этот немец! Это нужно немедленно передать подполью и своим, через фронт!
— Коммунист Стахурский! — торжественно произнес Клейнмихель, и в его речи зазвучали нотки крайней взволнованности. — Я предлагаю вам использовать меня. Волк должен быть уничтожен! — шепотом воскликнул он.
Но Шмаллер, совсем уничтоженный, окончательно сраженный, еле прошептал:
— Герр Клейнмихель, я совсем не тот, за кого вы меня принимаете!
— Футц!
Клейнмихель в изнеможении откинулся на спинку кресла. Он вытер рукой вспотевший лоб, даже забыв вынуть платок. От прилива крови его лицо побагровело. Он с большим трудом сдерживал себя.
— Прекрасно, прекрасно, Стахурский! Я преклоняюсь перед вашей твердостью. Говорю вам это, как разведчик разведчику.
Потом он добавил каким-то надтреснутым, совсем будничным голосом, горько жалуясь:
— Как тяжело теперь людям понять друг друга! Какая страшная настала жизнь. Сообщники в борьбе не могут найти способа открыться друг другу.
Он доверчиво взглянул на Стахурского, и в его взгляде отразился страстный призыв к взаимопониманию.
Стахурский из-под маски Шмаллера украдкой следил за каждой малейшей переменой в лице Клейнмихеля.
Так прошло какое-то время.
Наконец Клейнмихель утомленно посмотрел на Стахурского.
— Да, — весело и раздумчиво произнес он, — иначе и быть не может. Знаете, Стахурский, я должен признаться, что просто очарован квалификацией советских разведчиков. Скоро тридцать лет как я работаю в этой области, и никогда, нигде — а я работал во всех странах Европы — мне не приходилось встречать таких блестящих разведчиков, как среди советских подпольщиков. Оцените, что мне удалось выследить и разоблачить вас. Вы — блестящий агент. Можете мне верить. Ведь я агент старейшей разведки в мире. Интеллидженс сервис!
Клейнмихель — или тот, кем он был, — поднялся, оттолкнул кресло ногой, обошел стол и приблизился к Стахурскому.
— Олл райт, коллега! Я хорошо проверил, с кем имею дело. Теперь мы можем уверенно действовать вместе в интересах наших государств. В этой войне их интересы общие, и у нас, разведчиков наших государств, цель теперь одна.
Клейнмихель взял руку Стахурского — это была рука Шмаллера, вялая и бессильная, — и крепко ее пожал. Потом он отпустил руку Стахурского, и рука Шмаллера упала, как неживая. Шеф стоял перед ним — массивный, уверенный в себе, довольный и улыбающийся.
— Я, агент Интеллидженс сервис, принял образ начальника строительной конторы на строительстве секретной ветки. Должен признаться, я вовсе не уверен, что по этой ветке пройдет именно поезд Гитлера, а не его двойника. Возможно, что тут проедет двойник, а по магистрали сам Гитлер. Возможно также, что в обоих поездах поедут двойники, а Гитлер прилетит на самолете. Немцы любят театр, даже больше, чем он необходим для конспирации, — с презрительной улыбкой сказал Клейнмихель. — Но вас это не должно тревожить: на то я агент Интеллидженс сервис, а вы советский разведчик, чтобы мы установили все точно и нашли способ уничтожить этого ублюдка. Не так ли, дорогой коллега?
Стахурский молчал. Шмаллеру тоже нечего было сказать.
Стахурский знал только одно: надо уведомить товарищей и о приезде Гитлера и об опасности, угрожающей подполью. Об угрозе провала надо сообщить какой угодно ценой: подполье расшифровано, и все равно кто его раскрыл — агенты Интеллидженс сервис или гестапо. С агентом английской разведки у него нет и не может быть ничего общего: Стахурский борется против фашизма и доверия к английскому шпиону иметь не может — английская разведка сегодня действует против Германии, но она всегда действовала и будет действовать против страны социализма. Для победы в войне над Германией Англии важно уничтожить Гитлера, но еще важнее ей заслать своих разведчиков в СССР, для борьбы против страны социализма.
Только это понимал Стахурский, и больше ему нечего было понимать. Но он не знал, как уведомить подполье, так как неизвестно, кто же перед ним — человек, который предлагает действовать совместно в интересах союзных держав, или человек, который хочет только получить согласие на это и тогда обрушить удар на все подпольё.
Клейнмихель — или кто бы он ни был — стоял весь исполненный решимости завершить начатое дело. Он внимательно, но не назойливо поглядывал на Стахурского.
— Теперь все мои карты в ваших руках. И теперь вы уже не можете сомневаться в моих аргументах. Как работник разведки, вы, возможно, знаете наш страшный закон: разоблаченный агент — вне закона, он заочно присуждается к смерти, — он одну секунду помолчал, но закончил спокойно: — И у вас может возникнуть вполне законный вопрос: почему же я пошел на это? Отвечаю на ваш вопрос: потому что я потерял связь с нашей системой. В обстановке войны, когда меня отделяет от моего государства ряд фронтов, я не успею восстановить эту связь, пока здесь будет Гитлер. У вас вполне законно может возникнуть еще один вопрос: почему я так хочу уничтожить Гитлера, даже ценой собственной гибели? Отвечаю: потому, во-первых, что таков закон разведчика, — он выполняет задание даже ценой собственной жизни; во-вторых, ввиду чрезвычайной важности этого дела для победы наших держав, я буду рассчитывать на снисходительность наших суровых законов. За ликвидацию Гитлера мне простят саморазоблачение…
Все это было сказано как будто искренне, и для Стахурского, подпольщика в безвыходном положении, звучало как правда. Простота борьбы была сложна, но и сложность ситуации была проста.
Стахурский глубоко вздохнул, посмотрел шефу прямо в глаза и сказал:
— Мне очень жаль, герр Клейнмихель, но я не вижу разницы между гестапо и Интеллидженс сервис.
— Футц! — Клейнмихель изо всех сил стукнул кулаком по столу.
Терпение его лопнуло, да и все средства были исчерпаны.
Клейнмихель решительно подошел к двери, снял с крючка доху и быстро надел ее. Когда его правая рука выскользнула из рукава, в ней был пистолет.
— Одеваться, быстро! — приказал он. — Шнель!
Он молниеносно ощупал карманы Стахурского.
— Ни одного лишнего движения. Лишний шаг — пуля! Стоп! Лицом ко мне!
Стахурский снял с крючка шинель и не спеша надел ее.
Клейнмихель указал пистолетом на дверь. Стахурский направился к двери. Шеф последовал за ним в трех шагах позади.
На пороге Стахурский остановился и повернулся к Клейнмихелю.
— Я не Стахурский, — сказал он, — я Шмаллер.
В его тоне не было вызова, но этим было сказано все. В этих словах была спокойная и торжествующая категоричность: я выдержал, я сильнее тебя, и я вынесу все, что угодно. Стахурского уже нет, он уже умер. Есть только Шмаллер, но в эту минуту к Шмаллеру перешли все силы Стахурского. В интонации Стахурского была ирония, откровенное глумление над воякой, который поломал свое оружие, но крепости не взял.
— Но! Но! — прикрикнул Клейнмихель и толкнул Стахурского пистолетом в спину.
Стахурский открыл дверь, и они вышли в соседнюю комнату. Там было по-прежнему тихо, только шофер Ян дремал в углу над опустевшей чашкой. Но как только скрипнула дверь, он сразу вскочил и вытянулся перед шефом. Пистолет в руках Клейнмихеля, направленный в затылок Стахурского, не произвел на него впечатления. Очевидно, он привык к такого рода зрелищам.
— Машину, Ян! — приказал шеф.
Ян бросился к выходу, Грохоча своими огромными башмаками, и мгновенно скрылся за дверью. Ветер вырвал щеколду из его рук и громыхнул дверью так, что задрожал весь домик. Но Ян всем телом превозмог порыв ветра и пулей понесся к машине. Когда на пороге показался Стахурский, Ян уже сидел в кабине и выжимал газ.
Стахурский скользнул взглядом по сторонам. О бегстве нечего было и думать — автоматы эсэсовцев торчали изо всех щелей. И он направился к машине, преодолевая ветер. Клейнмихель шел за ним, на каждом шагу подталкивая его пистолетом в спину. Он указал Стахурскому на место рядом с шофером, а сам сел позади. Пистолет был вплотную у затылка Стахурского.
— Малейшее движение к двери или к шоферу — пуля в затылок! — сказал Клейнмихель и после короткой паузы добавил с издевкой в голосе: — Не советую вам сильно покачиваться на поворотах и выбоинах, потому что я могу вас по ошибке преждевременно просверлить. Поехали, Ян!
Ян только искоса глянул на пистолет шефа и послушно выжал конус.
Машина выехала из дворика на переезд и тут почти зашаталась от ветра, даже крылья над скатами зазвенели.
— Не будем спешить, Ян, — проворчал Клейнмихель, — при большой скорости ветер на самом деле может опрокинуть ее на ухабе. Чертов ветер с востока, как бы он не сдул нас с земли! — и он захохотал.
Машина покатилась не быстро, стрелка на спидометре отметила тридцать километров — до города было километров двенадцать, меньше чем полчаса езды. Но за холмами и перелесками на горизонте города еще не было видно. По обеим сторонам шоссе раскинулась голая степь, шквальный ветер бил то сзади, подгоняя машину, то слева, занося ее на обочину дороги. Но шофер тотчас же выравнивал ее. Ян глядел прямо перед собой сквозь ветровое стекло, на шоссе. Руки его лежали на баранке руля, передвигаясь то вправо, то влево — люфт руля был значительным, а машину надо было вести ровно.
Мыслей о бегстве у Стахурского не было. Он принял решение и теперь выполнял его: если бы даже подвернулся случай бежать, он не имел на это права. Подпольная организация была под угрозой провала, но размер провала неизвестен. Стахурский должен узнать это в гестапо и сообщить товарищам. Он должен найти для этого средства. И у него была надежда: тюрьму охраняла полиция, а в полиции были свои люди. Если же ему не удастся предупредить товарищей, он должен запутать следы, все взять на себя и погибнуть, не допустив провала организации. Другого выхода не было.
Он глядел по сторонам, и взгляд его отмечал проносившиеся мимо предметы, как неживые, нездешние, потусторонние. Он думал только об одном: выведать, передать, запутать, принять все на себя.
Дорога миновала перелесок и нырнула в овраг. Ветер тут был тише, и машина покатилась со скоростью в сорок километров.
Позади, над самым ухом, сопел Клейнмихель; его пистолет на выбоинах касался затылка Стахурского в том месте, где находится углубление под мозжечком. Если бы не потребность жить дальше для борьбы — чудесный случай вырваться из этого мучительного напряжения. Но Стахурский был борцом, и он принял решение.
Машина катилась вниз, ветер тут, внизу, под прикрытием возвышенности, уже не сносил ее, но мотор несколько раз чихнул, машина подскочила и рванулась вперед.
— Что там? — сердито буркнул Клейнмихель.
Ян заерзал на сиденье, завозился своими огромными бутцами по педалям и предупредительно замотал головой: все будет в порядке, пусть шеф не беспокоится. Они миновали еще один перелесок, дорога свернула немного влево, спустилась еще ниже, и тут уже было почти совсем тихо — ураган свирепствовал на вершинах холмов и внизу только местами подымал поземку. Впереди был мостик через яр, поросший редкими деревьями и густым кустарником, — чудесное место для бегства.
Ян выключил мотор, теперь машина катилась плавно, без рывков, и с разгона промчалась через мостик. Ян снова включил мотор и дал газ.
Но на подъеме машина чихнула, подпрыгнула, и мотор сразу заглох.
— Футц! — крикнул шеф.
Ян несколько раз нажал педаль, но зажигание ответило холостыми оборотами. Ян испуганно взглянул через плечо на шефа, быстро открыл дверцу и выскочил на шоссе. Ветра здесь почти не было. Дуло пистолета сильнее прижалось к затылку Стахурского. Шеф что-то недовольно бубнил.
Ян откинул капот и начал возиться с мотором. Стахурский услышал, что Клейнмихель левой рукой начал шарить в кармане. Потом он вынул сигару, засунул ее в рот. Ян, оставив кожух поднятым, открыл дверцу машины.
— Ну, что там? — сердито спросил Клейнмихель.
— Прошу быть спокойным, — пробормотал Ян задыхающимся голосом; он дрожал перед шефом. — Прошу быть спокойным. Одна минутка, с вашего позволения, и все будет как следует. Это только трубка подачи…
— Проклятый бензин! — проворчал Клейнмихель. Он щелкнул зажигалкой, и клубы теплого дыма поплыли сзади Стахурского.
Ян откинул свое сиденье. Стахурский искоса взглянул на ящик с шоферским подручным инструментом: домкратик, ломик, ключ. Отдельно в ящике лежал пистолет, большой Штейер, — робкий шофер держал свое оружие слишком далеко!
Рука Яна отодвинула ломик и коснулась пистолета.
И вдруг…
Ян выпрямился, поднял пистолет, и резкий выстрел — он был оглушителен здесь, в кабине, над самым ухом, — как страшный удар бича, потряс воздух.
Ян из-за спинки шоферского сиденья выстрелил Клейнмихелю прямо в лицо.
Слышно было, как охнул человек, и его тяжелое тело свалилось с сиденья.
Это было настолько неожиданно, что на мгновение Стахурский так и остался неподвижным. Потом он крикнул:
— Что вы наделали?
Но Ян крикнул по-русски:
— Могут быть встречные машины! Берите его пистолет и бегите по яру в лес!
Он даже не смотрел на убитого, а шарил в своем ящике, хватал какие-то вещи.
— Скорее!
В руках у Яна была пакля.
Как во сне, Стахурский наклонился через спинку сиденья. Шеф упал лицом вниз, но рука с пистолетом застряла между спинками передних сидений. Пальцы мертвой руки разжались, и пистолет держался только на указательном, сжимавшем спусковой крючок. Стахурский схватил пистолет и выскочил на дорогу. Теперь надо бежать.
— Бегите! — снова крикнул Ян и махнул рукой по направлению к оврагу.
Потом он сел в машину и нажал на рычаги и педали. Мотор заревел — он был в полной исправности, — машина рванулась назад, а Ян в то же мгновение выскочил из нее.
Машина покатилась задним ходом к мостику, но руль был вывернут, и она ударилась в обочину, подпрыгнула, свернула с дороги и с грохотом сорвалась на дно оврага. Ян подбежал к мостику, наклонился и, тщательно нацелившись, бросил вниз, на машину, пылающую паклю. Потом он, слегка прихрамывая, подбежал к Стахурскому, схватил его за руку и потащил. Они бежали по вспаханной земле, ветер гнал их в спину; добежав до обрыва, они прыгнули в овраг и покатились по крутому склону вниз. Там они поднялись и по высохшему руслу побежали вперед. Песок и галька скрипели под ногами, ветки боярышника хлестали их. Стахурский бежал впереди. Ян следовал за ним, припадая на ногу.
Наконец они остановились, чтобы перевести дух, и оглянулись. Черный дым поднялся выше моста, а под мостом лежала перевернутая машина, и языки пламени вырывались из ее кузова.
— Она сейчас взорвется! — прошептал Ян, тяжело дыша. — Я открыл трубку, этот бензин обгорит — и взорвется бак…
Только он замолчал, как рванулось вверх пламя и фонтаном поднялся черный дым. Взрыв — неожиданно тихий — прокатился по оврагу и быстро рассеялся, заглушенный вверху ураганом. Теперь то, что было минуту назад автомобилем, пылало ярким костром, словно это была не стальная машина, а куча хвороста, облитая керосином.
— Скорее в лес! — крикнул Ян, и они снова побежали.
Камешки и песок хрустели под ногами, но бежать было легко, в овраге ветра почти совершенно не чувствовалось — вихрь свистел и завывал вверху, бешено кружась над оврагом.
— Спасибо, Ян! — сказал Стахурский.
Но Ян только махнул рукой вперед и крикнул:
— Бегите, бегите!
Пробежав полкилометра, они снова остановились. До леса оставалось не более ста шагов.
Стахурский за три недели работы на строительстве ежедневно видел шофера Яна и привык к его неказистой фигуре, нелепой выправке и пугливым глазам. Но сейчас рядом с ним был его спаситель, человек отчаянной решимости и беспредельного мужества, и Стахурский словно видел его впервые.
И все-таки перед Стахурским стоял никак не герой. Перед ним стоял человечек, такой глубоко мирный и штатский всем своим существом, что даже мундир на его плечах — немецкий мундир — не воспринимался как мундир солдата гитлеровской армии или вообще какой-нибудь армии, это была просто затрепанная и измызганная шоферская куртка.
Стахурский взял обе руки Яна и пожал их.
— Ян! — сказал Стахурский, превозмогая волнение. — Спасибо вам, я никак этого не ожидал. Вы мужественный и храбрый человек. Но, Ян, этого не надо было делать.
Ян понял слова Стахурского по-своему.
— Пожалуйста, — сказал он и сердито нахмурился, — пожалуйста, пусть вас не тревожит моя судьба.
— Кто вы такой, Ян?
— Меня зовут Ян Пахол. Я чех. Я ненавижу фашистов. Потом, с вашего позволения, я вам все расскажу. Но пойдем дальше — лес уже близко!
Он говорил, мешая русские и украинские слова, и ударения делал по-чешски на первом слоге.
Они двинулись вперед.
Теперь надо было подальше убраться от сожженной машины, укрыться в надежном месте, а там уже поразмыслить, что предпринять.
Страшная мысль неотступно преследовала Стахурского. Эта мысль заглушала и радость неожиданного спасения и чувство благодарности к спасителю. Клейнмихель безусловно действовал по поручению высшего начальства гестапо, и теперь, когда станут известны его гибель и бегство Стахурского, гестапо, очевидно, сразу же накроет все подполье. Вся подпольная организация должна немедленно уйти в лес к партизанам.
Они дошли до опушки молодой грабовой рощи и бросились в засохшую, примятую траву. Бледное лицо Яна дергалось от усталости, но на губах под короткими усиками блуждала улыбка, и глаза были оживленными, даже веселыми.
— Пятый! — как-то торжественно прошептал Ян.
— Что? — не понял Стахурский.
— Пятый фашистский офицер! — Ян вдруг улыбнулся лукаво и озорновато. — Я не убил ни одного чином ниже майора.
Пораженный Стахурский молчал. Этот незаметный и такой мирный человек, совсем не герой, убил уже пять гитлеровских офицеров!
Они сидели некоторое время молча, каждый во власти своих мыслей, и Ян все улыбался, чуть заметно поводя усиками. Вокруг не было ветра и было бы совсем тихо, если бы там, за оврагом и лесом, в степи, не бушевал ураган, если бы не шумел ветер в верхушках деревьев и не поскрипывали с натуги тонкие и стройные стволы грабов.
Ян заговорил:
— Я уже давно задумал его уничтожить. Это счастливый случай, что я не сделал этого раньше и мне удалось также спасти вас. Я слышал все, что он говорил вам в кабинете. Я всегда сажусь у окошка и подслушиваю, о чем он разговаривает. Меня ужас охватил, когда я услышал, как он вас ловит. — Ян побледнел, и в глазах его загорелась ненависть. — Может быть, если б вы ему поверили, я просто открыл бы окошко и пристрелил его. — Он сразу смутился. — Конечно, тогда бы мы с вами оба пропали…
— Вам тоже было ясно, что это провокация?
Ян еще больше смутился:
— Может, я и не сообразил бы, я человек малограмотный, с вашего позволения. Но я знал, кто он такой, ведь ежедневно после работы на ветке я отвожу его в гестапо.
Стахурский вскочил.
— Ян! Нам надо идти, не теряя ни одной минуты! Вы слышали наш разговор и знаете, что я не один, за мною целое подполье. Надо известить товарищей… Ах, Ян, — сокрушенно крикнул Стахурский, — вам не надо было спасать меня! Мне надо было итти в гестапо, может, я узнал бы размеры провала и тогда нашел бы способ передать товарищам. Понимаете, Ян, что вы наделали?
Ян стоял перед Стахурским растерянный.
— Простите, — прошептал он, — но, с вашего позволения, я думал, что спасаю вас…
Стахурский схватил его руку.
— Спасибо вам, Ян! Вы правильно поступили. И вы мужественный, отважный человек. И это прекрасно, что вы уничтожаете таких гадов. У вас большая организация? Где? В армии? Или в хозяйственных учреждениях?
Ян недоумевающе взглянул на Стахурского.
— Какая организация? Я один…
— Совсем один?
Стахурский с удивлением смотрел на Яна. Как советский подпольщик, он привык действовать сообща с большим, организованным коллективом в интересах общего дела, а не на собственный страх и риск. Но вот перед ним был одиночка, которого толкнула на борьбу ненависть к фашистам. Стахурский видел такого впервые.
Но сейчас не было времени раздумывать.
— Понимаете, Ян, они сейчас найдут машину.
— Она сгорела, — запротестовал Ян.
— Машины не сгорают дотла и трупы тоже. Подпольную организацию уничтожат, как только станет известно, что Клейнмихель сгорел, а я убежал.
— Машина сгорела, — упрямо повторил Ян. — И это могла быть обыкновенная авария.
— Машина сгорела, но нас там нет. Вам тоже надо бежать, раз вы не сгорели.
— Конечно, — согласился Ян. — Я уже пятый раз убегаю…
— Простите, Ян, — перебил его Стахурский, — обо всем прочем потом. Сейчас надо итти. Я должен предупредить товарищей в городе.
— Ураган, — возразил Ян, — как вы пойдете? И потом еще светло. Как вы проберетесь в город? Вас сейчас же узнают и схватят.
— Пойду не я, а другие. — Стахурский усмехнулся. — Я действую не один, как вы. Здесь поблизости найдутся люди. Идемте скорее. И вы там будете в безопасности.
Стахурский быстро пошел, и Ян послушно последовал за ним. Они скрылись в лесной чаще. Ураган здесь совсем не чувствовался, только поскрипывали стволы да ветер ломал и гнул ветви вверху. Ян с трудом поспевал за Стахурским. Он говорил:
— Обо мне не беспокойтесь, прошу вас. Я уже не раз так делал. Будто произошла катастрофа и я тоже погиб. Конечно, я стараюсь убежать возможно дальше, хотя бы в соседний город. А там мне ничто уже не угрожает.
— Да, да! Интересно, как вы это делаете, Ян?
Стахурский слушал невнимательно, он был поглощен своими мыслями. Землянка заставы партизанского отряда находилась совсем близко, в этом лесу, километрах в трех от опушки. Через нее прошел не один десяток местных жителей, уходивших к партизанам, и пленных, освобожденных из лагерей. От нее перелесками и оврагами очень удобно пробираться в лес, а немцы и полицаи боялись и нос сунуть в этот лабиринт оврагов и перелесков. Но до сих пор Стахурский ходил в землянку из города, а теперь он должен был ориентироваться только по рельефу местности.
Стахурский шел быстро, Ян еле поспевал за ним. Он рассказывал:
— С вашего позволения, очень просто. Я прихожу на ближайшую железнодорожную станцию, и никому не бросается в глаза человек в мундире немецкого солдата — всюду теперь немецкие солдаты. — Ян тихо смеялся, видимо довольный своей хитростью. — Потом иду к коменданту и рапортую: «Шофер Ян Пахол, отстал от эшелона, прошу направить вдогонку». Комендант накричит и приказывает идти на гауптвахту, будто для того, чтобы установить, где теперь находится моя часть. И я себе иду на гауптвахту. Но, с вашего позволения, отстал от эшелона не один шофер Ян Пахол, и на гауптвахте вообще всегда полно дезертиров. — Ян хихикал, еле поспевая за Стахурским. — И у коменданта есть разверстка на дезертиров. Он даже рад, что прибавился еще один. Вы слушаете меня, прошу вас?
— Да, да, Ян, я вас слушаю.
— Слушать, с вашего позволения, не так уж долго. Когда комплект дезертиров по разверстке набирается, комендант просто сдает всю гауптвахту в маршевый батальон. И мы преспокойно идем себе на фронт. Во время войны беглому солдату деваться некуда, но ему очень легко найти дорогу на фронт. В немецкой армии людей не хватает, советские солдаты их быстро отправляют в царство небесное. Но прошу вас, какой из меня солдат, когда я хромой? И кому из фронтовых начальников не нужны шоферы? Ян Пахол в первый же день снова садится за руль. А потом в удобную минуту сбрасывает машину со своим шефом с откоса или подстреливает его.
— Вы молодец, Ян! — сказал Стахурский. — Но думаю, пришло уже время переменить вашу профессию.
— О нет, я могу быть только шофером.
— Я не о том, Ян. Я думаю, что вы уже достаточно долго были беглым солдатом гитлеровской армии. Партизанской армии тоже нужны шоферы.
— А! — сказал Пахол. — Надо подумать.
Он произнес эти слова таким тоном, словно ему предложили какую-то новую должность и он еще должен поразмыслить, подходит ли она ему.
Они вышли на опушку. Стахурский вздохнул с облегчением — это были уже знакомые места: вот и овражек, вьющийся среди деревьев, заросший по обрывам калиной, барбарисом и боярышником.
Стахурский склонился над обрывом, свистнул два раза и немного погодя еще раз. Но налетевший ветер оборвал свист. Стахурский отошел немного в сторону, подождал, пока уляжется ветер, и снова свистнул. В то же мгновение откуда-то снизу, словно из-под земли, послышался ответный свист.
Радостно стало на сердце у Стахурского: только сейчас он подумал, что был на волосок от гибели и теперь не в гестапо, а в лесу — отчизне партизан!
— Ну вот, Ян, — сказал Стахурский, — кажется, все будет хорошо.
Но сразу же возникла тревога: успеет ли связной уведомить, кого следует?
— Как вы думаете, Ян, — спросил Стахурский, — они уже нашли сгоревшую машину?
Ян пожал плечами.
— Не знаю, — сказал он, подышав на руки и несколько раз топнув ногой, чтобы согреться, — этой дорогой машины редко ходят. Ведь это не тракт, а только дорога на наше строительство. — Его рассмешило слово «наше», он тихо засмеялся. — Может, герр Клейнмихель еще отдыхает там.
Кусты над обрывом закачались, потом раздвинулись, и среди ветвей боярышника, уже безлиственных, но густо покрытых красными, вялыми, подмороженными ягодами, показалась девичья голова в платке, какие обычно носят селянки. Большие глаза девушки пристально взглянули на Стахурского и Яна, потом она поднялась наверх. Она была в ватнике, широкой юбке и сапогах.
— Здравствуйте, товарищ Стахурский, — сказала она.
Стахурский не знал ее.
— Откуда ты знаешь меня? И почему не сказала отзыва?
— Вы же сами не сказали пароль.
— Верно, — рассмеялся Стахурский. — Ты сбила меня с толку своим приветствием. Теперь хотя и поздно, но все-таки скажи, не видели вы тут белой козы?
— Видела, — ответила девушка, покраснев, — только далеко в поле. — Потом она добавила, еще больше покраснев: — Я вас хорошо знаю. Вы же у нас в прошлом месяце митинг проводили в лесу.
— А! — вспомнил Стахурский. — Это плохо, что ты знаешь меня. Но тогда случилось так, что я должен был к вам прийти. Ты одна?
— Нас двое.
— Чудесно! — сказал Стахурский. — Один из вас должен немедленно бежать в город.
Девушка заколебалась.
— Нам такого приказа не было. Но это не мое дело: я поддежурная, дежурит Мария.
— Какая Мария?
— Вы ее, наверное, не знаете. Она из беглых полонянок, в лесу недавно. — Девушка с любопытством еще раз оглядела Яна. — А этого отвести в штаб?
— Потом, — ответил Стахурский. — Прежде всего надо в город. Где Мария?
— Мария! — негромко позвала девушка.
Из-за кустов боярышника появилась другая девушка. Она была в полушубке, на груди ее висел немецкий автомат. Ноги ее были в узких офицерских бриджах и в очень больших, с широченными голенищами, кирзовых сапогах. Из-под шапки-ушанки армейского образца выбивались густые светлые локоны, обрамлявшие свежее, румяное лицо.
— Мария, — сказал Стахурский, — ты дежурная?
— Я. До утра. — Она быстрым взглядом окинула Стахурского и Яна. — Мы сейчас его отведем, — сказала она. — Он не будет пытаться бежать?
— Нет, — ответил Стахурский, — это наш.
Мария с любопытством глядела на Яна. Гитлеровцев она уже достаточно насмотрелась за войну, но «нашего» гитлеровца увидела впервые.
— К нам на пополнение?
— Да, — сказал Стахурский. — Но, Мария, слушай меня внимательно: дело очень серьезное. Ты знаешь меня?
— Нет. Но я слышала ваш свист и пароль.
— Я его знаю, — сказала первая девушка, — он большой начальник.
— И без тебя вижу, — отмахнулась Мария. — Слушаю вас, товарищ…
Стахурский сказал:
— Понимаешь, Мария, у меня нет времени добираться в лес за приказом. Ты должна решить сама, немедленно, и взять на себя ответственность. Принять решение, как в бою, понимаешь?
— Я бывала в бою, — кивнула Мария.
— Отлично. Я один из руководителей местного подполья. Час тому назад меня арестовали, и всей подпольной организации грозит провал. Понимаешь? — Мария кивнула головой. — Этот товарищ, — Стахурский указал на Яна, — убил гестаповца, который арестовал меня, и там, возле мостика, лежит наша сгоревшая машина.
— О, — воскликнула первая девушка, — значит, это вы взорвались?
— Да, — ответил Стахурский, — но я не могу пойти в город, потому что меня там схватят, а надо предупредить организацию. Возможно, что всем подпольщикам придется уйти в лес.
— Понимаю, — взволнованно прошептала Мария. — Надо предупредить немедленно. У вас, вероятно, явка? Говорите скорее. Я побегу. Только ветер какой! Раньше чем через час до города и оврагом не доберешься.
— Ничего не поделаешь, — сказал Стахурский, — итти надо немедленно. Явку я тебе сейчас скажу.
Глаза Марии внезапно потемнели. Она прошептала:
— Но я не имею права. Я на посту. Пойти может только Дарка!
В ее интонации было разочарование и досада. Ей так хотелось самой выполнить это ответственное поручение! Но уйти с поста нельзя ни в коем случае.
— Ладно, — согласился Стахурский, — пусть идет Дарка.
Девушка в ватнике стояла перед Стахурским, глядя ему прямо в глаза.
— Ты бывала в городе?
— А как же! Я была домашней работницей у доктора Малкина. На улице Октябрьской революции, двадцать пять.
— Чудесно! — сказал Стахурский. — Значит, твое появление в городе не вызовет подозрения, если тебя встретит знакомый. И пойти тебе нужно тоже к доктору, только к Иванову.
— Якову Павловичу? — радостно сказала девушка. — Он же ходил к моему хозяину играть в шахматы.
Ее даже в жар бросило. Это особенно радостная новость: доктор Иванов, который приходил к ее хозяину играть в шахматы, тоже был наш!
Стахурский взял девушку за плечи.
— Слушай меня внимательно. Тебе надо сказать только одно: «Доктор дома?» — это, если не сам Иванов, а кто-нибудь другой откроет дверь. А потом: «Бога ради! Дома ли доктор? Несчастье, нужна неотложная помощь!» Только не перепутай, надо все произнести в том порядке, как я сейчас сказал.
— Ну, что вы, — с обидой в голосе сказала девушка, — разве я не понимаю? Я повторю.
И она точно повторила его слова.
Девушка была крайне возбуждена, взволнована. Итти на такое важное дело! И к доктору Иванову, который приходил к ним играть в шахматы и она подавала ему пальто. А теперь она к нему — как к равному, и с таким поручением.
Мария с завистью смотрела на подругу. Дарка завязала платок на голове и уже собиралась бежать.
— Подожди, — остановил ее Стахурский, — что же ты ему скажешь?
Дарка смущенно опустила глаза.
Скажешь так: «Стахурский в лесу, прийти не может, провал, все явки не действительны, подполье под угрозой, немедленно всем пробираться в лес…»
Стахурский умолк. Верно ли он говорит? Верно. Неизвестно, кто раскрыт, а кто — нет. Сейчас надо спасаться всем, а потом можно будет установить размер провала.
— Так и скажешь. Еще скажи: «Стахурский ждет в лесу». Беги. Не мешкай ни минуты.
Девушка бросилась к оврагу.
— Подожди! Если к твоему приходу в квартире доктора уже орудует гестапо, скажи, что ты от твоего доктора, твоего хозяина… Потом беги на вокзал. Там найдешь ламповщика Побережняка и расскажешь ему все, что знаешь, без всяких паролей. Но это только в том случае, если доктора Иванова уже захватили гестаповцы. Поняла?
— Все понятно.
— Иди!
Стахурский спросил вдогонку:
— Оружие есть у тебя?
— Пистолет.
— Отдай. Пойдешь без оружия. На всякий случай лучше итти без оружия…
Дарка поколебалась, но отдала пистолет и убежала.
Оставшиеся некоторое время стояли молча, глядя в ту сторону, где скрылась Дарка.
Тишину нарушила Мария:
— А вы?
— Что я? — Стахурский с трудом оторвался от тревожных мыслей. — Я буду тут…
— Пока не придут из лесу?
— Пока не придут из города.
Они еще помолчали, потом Стахурский добавил:
— Понимаешь, сюда должно прийти много людей… Может затесаться провокатор, а я знаю всех товарищей в лицо.
— А он? — Мария кивком указала на Яна.
— И он с нами. Товарищ Ян! — позвал его Стахурский. — Идите сюда. У тебя укрытие большое, Мария? Поместимся втроем?
— Влезем… хотя будет тесновато…
Ян приблизился, хромая больше обычного. Видимо, он сильно устал.
— Какой он смешной! — Мария улыбнулась. — Это он вас спас? Убил гестаповца? Вот никогда бы не поверила!
— Знакомьтесь, Ян, — сказал Стахурский, — вот видите, это наша партизанка Мария.
Ян снял кепку и даже попытался щелкнуть каблуками. Мария еле сдержалась, чтобы не расхохотаться. Ян галантно отрекомендовался:
— Меня зовут Ян Пахол. По национальности я чех. И антифашист. Очень приятно!
Мария протянула руку, тоже несколько жеманно: лукавство искрилось в ее глазах.
— Мария, — сказала она.
Потом они втроем уселись на краю обрыва, спустили ноги и, нащупав опору, начали сползать. Расщелина была такой узкой, что местами можно было опереться ногами в обе стенки обрыва. Корни деревьев свисали, как обрывки веревок.
Укрытие находилось над ручейком. В черноземе под корнями старого граба вешние воды размыли широкую, но неглубокую яму. Мария приподняла корни и сухой хмель, свисавшие над входом.
— Залезайте. И ложитесь теснее.
Стахурский влез первый.
— Ого, — сказал он, — да тут даже комфорт!
Его ноги нащупали кучу сухого бурьяна.
— А как же, это наш будуар! — засмеялась Мария. Но серьезно добавила: — Полежали бы вы тут сутки на сырой и холодной земле! Пожалуйста, товарищ Пахол.
Ян повернулся спиной к яме, стал на колени и втиснулся вглубь. Устраиваясь, он тоже пошутил:
— С вашего позволения, квартира-люкс!
Затем полезла Мария. Стахурский и Ян изо всех сил прижались к стенкам, и Мария с трудом протиснулась между ними. Но ее голова и плечи остались снаружи.
— Ничего, — сказала она, — вы гости, а я дома. И ведь я на вахте: так слышнее и виднее.
Она опустила сухие побеги хмеля и заявила:
— Дисциплина запрещает курить на посту, но проверено, что тут можно курить совершенно свободно: пока дым дойдет доверху, он рассеется. Можете курить, товарищи, и прошу угостить меня.
Пока Ян доставал кисет из кармана, Мария и Стахурский лежали молча. Они смотрели сквозь сплетение корней и хмеля, но видели только черную стену оврага с обвисшими корнями. Край обрыва был на высоте четырех метров над их головами. Здесь, в глубине, царила полная тишина, ни один порыв ветра не мог сюда долететь, поэтому вой урагана вверху казался неправдоподобным. И от этого здесь было особенно уютно и спокойно… Хорошо бы вздремнуть в этой тишине. Но Стахурского не покидала тревога, перед его глазами маячил овраг, по которому они пришли сюда, и он видел в нем Дарку, бегущую в город. Вот она пробирается между кустами боярышника, вот она бежит вдоль обочины дороги, а ветер пригибает ее к земле: скорее, скорее, милая девушка, через час ты должна быть в городе!
Они скрутили цыгарки. Потом Мария сказала:
— Расскажите же толком, что произошло. Можно? Имейте в виду, что я кандидат партии с понедельника.
Это прозвучало как-то по-детски, и Стахурский невольно рассмеялся.
— С понедельника? То есть аж пятый день? Но ведь ты в отряде совсем недавно, а поручители должны тебя знать по совместной работе не меньше чем год?
Мария нахмурилась, щеки ее залил румянец, она смутилась и рассердилась на себя за это, а замечание Стахурского ее обидело.
— Что ж такого? В отряде нашлись товарищи, которые знают меня по работе несколько лет.
— Ну, не сердись, — примирительно сказал Стахурский. — Прости, я не хотел тебя обидеть. Мне не пришло в голову, что так может быть.
И он коротко рассказал о том задании, которое имела группа на строительстве железнодорожной ветки, про разговор с Клейнмихелем, про все его ловушки и выверты, про арест, поступок Пахола и бегство сюда.
Пахол лежал лицом вниз — он поднимал голову только для того, чтобы затянуться цыгаркой и выпустить дым. Мария облокотилась на землю и повернулась к Стахурскому всем телом, насколько тут вообще можно было повернуться. Ее лицо пылало от возбуждения и ежеминутно менялось, то бледнело, то снова пылало, а глаза то темнели, то светлели — у них была такая странная особенность делаться то совсем темными, то совсем светлыми.
— Какой страшный провокатор! — прошептала она, услышав, что Клейнмихель выдавал себя за агента английской разведки. — А может, он и в самом деле агент?
— Не думаю. Хотя не исключено, что он двусторонний агент.
— Что такое двусторонний агент?
— Разведчик, который работает на два государства.
— Что вы?! Разве есть такие?
— О! — нахмурившись, сказал Стахурский. — Англия и Америка воюют против Германии, а не против фашизма. Против Германии они воюют, но против нас они с фашистами заодно. Их шпионы, конечно, так и действуют, стараясь подорвать наши силы.
Известие о предполагающемся приезде Гитлера ошеломило Марию. Она некоторое время даже не могла вымолвить ни слова. Потом прошептала, замирая:
— Неужели правда?
— Кто его знает! Может быть, только хитроумная провокация Клейнмихеля.
Мария не находила слов:
— Понимаете… ведь мы могли б его убить. Если бы это была правда…
— Да! — усмехнулся Стахурский. — Можно сказать, что Гитлер был бы для нас дорогим гостем.
Пахол вдруг поднял голову и заговорил:
— Если бы мне убить Гитлера, я бы, с вашего позволения, считал, что не только я, а весь мой род с деда-прадеда не зря прожил на свете. Мне бы один раз повести его машину, и от него не осталось бы мокрого места.
Он произнес это так, что Мария даже зажмурилась. Такой силы ненависть была в словах этого тихого человека.
— У нас в Мукачеве, — снова заговорил Пахол, — до войны, когда еще мадьяры захватили Закарпатье, все чехи выехали, и я остался, пожалуй последний, и мне не давали работы, потому что я чех. Но потом, когда пришли гитлеровцы, дело было поставлено так: продайся Гитлеру и сразу получишь работу. Вот тогда я впервые подумал: «Нет, этому лютому псу я могу сказать только: «Тодт!» — и опять остался без работы. Но я сказал это только себе и никому больше. — Он вдруг смутился. — Вы не поверите, что пожелать кому-нибудь смерти для меня тогда было еще страшнее, чем попасть в тюрьму или в концентрационный лагерь. Меня с детства учили, что это самый большой грех. Теперь я знаю, что грех — это совсем другое. Я убил пятерых фашистов, и будет грех, если я не убью шестого.
— Ваша семья в Мукачеве? — спросил Стахурский.
Пахол помолчал.
— В Мукачеве, — сказал он после паузы, — была в Мукачеве, когда меня погнали на работу в Германию. У меня жена и двое детей, — закончил он тихо.
Он снова лег лицом вниз. Стахурский и Мария молчали.
Потом Пахол поднял голову и промолвил тиха и тоскливо:
— А может, они все-таки живы…
— Конечно, живы, — сказала Мария. — Не надо черных мыслей.
— Надо верить, что живы, — сказал и Стахурский.
Вздохнув, Пахол продолжал:
— Буду верить. Иначе и жить не для чего… Хотя у меня есть еще один родной человек, один товарищ — девушка, — грустно добавил он, — которая и направила меня на настоящую дорогу. Я хотел бы быть вместе с семьей… Но я слоняюсь по земле, гоняю машины и убиваю гитлеровских офицеров. Страх, что натворила с людьми война.
— А для чего вы это делаете? — спросил Стахурский.
— Что, прошу вас? — не понял Пахол.
— Для чего вы убиваете гитлеровцев?
— Прошу прощения, — смутился Пахол, — но я не понимаю вашего вопроса. Надо уничтожать наци или умирать самому. А теперь я не боюсь, если и мне придется умереть, потому что, если живы мои дети и жена, о них позаботятся.
— Кто? — спросила Мария.
Пахол помолчал.
— Она же, та советская девушка из Харькова.
— Из Харькова? — обрадовалась Мария. — Вы были в Харькове?
— Я там служил в хозяйственной команде. И стоял в ее квартире. Она и научила меня сбросить моего шефа-фашиста с машиной под откос, а если я погибну, обещала позаботиться о жене и детях после войны. Она сказала, что если и она погибнет, позаботится тот, кто ее любит. А если и он погибнет, позаботится ваше государство, Советский Союз.
— Как зовут эту девушку? — заинтересовалась Мария. — Может, я ее знаю. Я тоже харьковчанка.
— В самом деле? — обрадовался Пахол. — Это мне очень приятно. Я никогда не забуду Харькова. С вашего позволения, ее зовут Ольга. Она живет на Юмовской улице, в доме номер одиннадцать, квартира сорок.
— Не знаю, — разочарованно промолвила Мария, ей так хотелось узнать эту девушку. — А где она работала?
Пахол улыбнулся.
— У вас, советских людей, когда интересуются незнакомым человеком, то прежде всего спрашивают: «А где он работает?» А у нас спрашивают: «Сколько у него капитала?» У вас, в Советском Союзе, наверно, было очень хорошо до войны.
— Вы не коммунист? — спросила Мария.
— Нет.
— И не социал-демократ? — спросил Стахурский.
— Нет. У нас в Мукачеве всего тридцать тысяч жителей и до войны было тридцать шесть партий. Но я вообще против партий. Ведь наци — тоже партия. Их надо уничтожить всех, вместе с их партией.
Стахурский улыбнулся.
— Очень хорошо, Ян, что у вас такая ненависть к фашистам. Но дело не только в том, чтобы уничтожить фашистов. Дело в том, чтобы их больше никогда не было. Надо так устроить жизнь на земле, чтобы фашизм больше никогда не мог возникнуть.
— Так точно говорила и панна Ольга в Харькове, — согласился Пахол. — И очевидно, так оно и есть. Вы, советские люди, все умеете видеть, все понимаете. Панна Ольга сказала мне тогда: «Начните, Ян, хотя бы с того, что сбросьте машину вашего шефа под откос».
— Она была подпольщица, эта Ольга? — спросила Мария.
— Нет, просто девушка.
— Коммунистка?
— Она была просто советской девушкой.
— Где ж она теперь?
— В Харькове, если не умерла с голоду или не попала в рабство в Германию. Она мне сказала: «Сбросьте шефа с машиной под откос», — упрямо повторил Пахол, — и я сбросил уже пятерых. И теперь надо сбросить шестого. Вот отдохну немного, с вашего позволения, пойду на станцию и объявлюсь коменданту: «Ян Пахол, отстал от эшелона, прошу направить меня вдогонку…»
— Нет, Ян, — сказал Стахурский, — теперь если и придется вам итти к коменданту и попроситься снова в часть, то вы это сделаете по поручению подпольной организации и в ее интересах.
Пахол помолчал немного, словно ждал, что еще скажет Стахурский, потом покорно промолвил:
— Хорошо.
Но сразу же прибавил:
— Только я не могу итти в бой. Я хромой, мне тяжело бежать в цепи. Я могу убивать только один-на-один, так, как я это делаю.
Стахурский улыбнулся:
— Хорошо, Ян. Мы это примем во внимание. — Потом прибавил: — Ваша Ольга — хорошая девушка.
— Хорошая! — подтвердил Пахол. — Таких умных, хороших девушек, как у вас, нет нигде на свете. — Он повернулся к Марии: — Вы тоже хорошая.
Мария густо покраснела.
Стахурский поспешил прийти ей на помощь. Он спросил Марию:
— А ты кто и откуда? Давно в отряде?
— В отряде я две недели, — ответила Мария. — А в Харькове я работала на заводе чертежницей и училась на географическом факультете. Я окончила университет в сорок первом году. Потом пришли гитлеровцы. Меня захватили во время облавы и погнали в рабство. Нас было пятьдесят девушек в одной группе — служащие, домашние работницы, крестьянки. Мы сговорились, выломали доски в полу вагона и прыгали на ходу поезда. — Она вздохнула. — Это было трудно: вагон товарный, а за нашей щелью сразу ось. Если не упадешь камнем и не распластаешься мгновенно на земле между рельсами, ось насмерть бьет по голове. Двенадцать девушек отважились прыгнуть. Три километра прошел поезд, пока мы прыгали одна за другой. Потом пошли разыскивать друг друга. Но в живых оказалось только пять…
Мария почувствовала, как вздрогнул Ян.
Они долго молчали. Наверху выл ветер. Вода в ручье тихо звенела.
— Проклятая жизнь! — прошептал Пахол.
— Нет, — горячо возразила Мария, — не проклинайте жизнь. На какие только муки не идет человек, чтобы жить…
— Ах! — вскрикнул Пахол. — Это только в вашей стране люди любят жизнь, когда им даже тяжело. У нас почти все проклинают жизнь.
— Как же вы нашли партизан? — спросил Стахурский Марию.
— А куда же нам было деваться? — ответила Мария. — Шли по лесу и наткнулись на партизанский дозор. Это была такая радость, точно домой пришли… И не потому, что там знакомые нашлись, а потому, что все такие, как ты сама, так же думают, к тому же стремятся. Среди своих людей можно что угодно вынести, на что угодно пойти. На другой же день, после того как мы пришли, эсэсовцы прочесывали лес, и пришлось принять бой. Мне дали автомат, и я пошла. До Берлина могла дойти, потому что со своими. — Она засмеялась. — А была бы одна, с перепугу в кусты шмыгнула бы.
Стахурский пошевелился.
— Вам неудобно?
— Я думал пойти посмотреть…
— К машине? — спросил Пахол, догадавшись о намерении Стахурского.
— Да.
— Тогда лучше я пойду, с вашего разрешения.
— Нет, Ян, вас могут узнать.
— И вас тоже.
— Верно! Но все же мне лучше итти. Я тут знаю окрестности и прочее…
— Пойду я, — сказала Мария, — сейчас это моя обязанность, а вы тут останетесь на посту.
Она раздвинула корни, вылезла и ступила в ручеек.
— Ветер, кажется, притих…
— Вчера он тоже тише стал перед вечером. Который час?
Пахол взглянул на ручные часы.
— Четыре.
Мария побрела по дну ручейка, хлюпая сапогами по воде. Руки она положила на автомат.
— Да, Ян, — сказал Стахурский, — вы правильно сделали, что не пошли в эти тридцать три партии.
— Тридцать шесть, — поправил Пахол.
— Ну, тридцать шесть, — Стахурский усмехнулся. — И вам повезло, что вы встретили эту девушку в Харькове. Вообще вашей стране, как и многим странам, посчастливилось потому, что против фашистов борется наша Советская страна, наш советский народ. Ведь мы не просто страна и не просто народ, а страна революции и революционный народ.
— Это я знаю, — сказал Пахол, — об этом мы тоже говорили с панной Ольгой.
— Думаю, Ян, что у нас в отряде вы тоже станете революционером.
— Я об этом не думал, — признался Ян. — Я думал, что все равно погибну, но решил не просто умереть в ожидании, пока меня уничтожат фашисты, а сначала уничтожить их, сколько смогу.
— Дело не только в фашистах, Ян, — возразил Стахурский, — вы еще поймете это. Реакция имеет сотни личин. Тридцать пять из ваших тридцати шести партий были реакционными, можете быть уверены.
— Это бесспорно, — согласился Пахол. — Но если образуется тридцать шестая партия, когда уже есть тридцать пять никчемных, то и она ни к чему. Я вообще против партий.
— Слышал, — сказал Стахурский, — но вы совсем не против. Вы только против реакционных партий. И поэтому вы придете еще в партию коммунистов. Ибо коммунисты против всех реакционных партий — за социалистическую революцию.
— Я хотел бы, чтобы произошла мировая революция, — промолвил Пахол тоскливо. — Когда же она наконец будет?
Стахурский засмеялся.
— А что говорила вам про мировую революцию та девушка из Харькова?
Пахол ответил не сразу, он минутку подумал:
— Мы с ней не говорили про мировую революцию. Мы говорили про дружбу народов в Советской стране, про товарища Сталина в Кремле, но на политические темы говорили мало. — Он смутился. — Мы, знаете, с вашего позволения, больше мечтали, как было бы хорошо, чтобы на свете все могли мирно работать и быть спокойными за завтрашний день, как в вашей стране.
— Чудесная эта девушка из Харькова, Ян, — сказал Стахурский. — И запомните: в каждой стране народ делает революцию, когда он созрел для этого, когда у него лопается терпение. Мы давно сделали революцию. Станете революционером и вы.
Вдруг наверху отчетливо прозвучала короткая очередь из автомата.
— Мария? — встревоженно спросил Стахурский.
— Думаю, что Мария, — сказал Пахол.
Они высунулись из ямы и посмотрели наверх.
Но увидеть им ничего не удалось.
— Она бы зря не стреляла, — сказал Стахурский. — Надо спешить ей на помощь.
Они уже стояли в воде.
— Идите вниз и через десять шагов поднимайтесь наверх, — сказал Стахурский, — а я пойду против течения. Пистолет с вами?
Они разошлись. Наверху было тихо.
Стахурский прошел шагов пятнадцать, весь овраг за поворотом был далеко виден, и там было спокойно. Он ухватился за корни и полез вверх по крутому склону. Пистолет он держал в зубах. Это было очень неудобно.
Наверху снова раздалась короткая очередь. Теперь стреляли совсем близко. Он сделал последнее усилие и высунул голову из оврага.
И сразу же он увидел Марию. Она, лежа, медленно отползала назад с автоматом, приставленным к плечу. Их разделяло расстояние не больше десяти метров.
— Мария! — прошептал Стахурский. — Что там?
Она не ответила, но, очевидно, услышала — носок ее сапога слегка постучал по земле: молчи!
Протарахтела длинная очередь, и пули прожужжали над головой Стахурского. Он прижался к обрыву, но успел заметить, что кусты на опушке леса шевелились, дрожали ветки — там кто-то скрывался.
Стахурский притаился, выбрал момент и прыгнул наверх. В следующее мгновение его обстреляли из кустов, но он уже припал к земле за стволом старого граба. На опушке, в кустах барбариса и бузины, засела целая команда. А их было только трое — один автомат и три пистолета.
Теперь Стахурский был всего в пяти шагах от Марии. Он видел ее побледневшее лицо, тревожно поднятые брови.
Пахола нигде не было видно.
Стахурский вынул из кармана второй, Даркин пистолет и положил его перед собой. Позиция за деревом была выгодная, но лишь до тех пор, пока в обойме будут патроны. А стрелять можно было только с близкой дистанции — и наверняка.
— Откуда они появились и сколько их? — спросил Стахурский.
Мария сердито дернула плечом.
— Я сама виновата, — прошептала она хрипло, чуть не плача, — они шли по оврагу и не заметили бы меня, но я встала во весь рост… Их, должно быть, человек десять…
— Десять против трех — это многовато, но Стахурский облегченно вздохнул: значит, противник был лишь впереди, гитлеровцы еще не взяли их в кольцо.
Мария что-то еще прошептала, но Стахурский не расслышал за шумом ветра.
Вдруг противник открыл ураганный огонь, и над головами Стахурского и Марии завизжали, засвистели пули. Они с сухими короткими ударами вонзались в стволы деревьев — и этот частый стук напоминал шум ливня. Мария застонала и припала к земле.
— Мария!
— Ничего, ничего! — крикнула она. — Я, кажется, ранена в плечо.
Стахурский вытащил обоймы и пересчитал патроны. Их было девять в одной и семь — в другой.
Где же Пахол?
И в это мгновение Стахурский увидел Яна. Он был довольно далеко — за кустами, в которых залегли вражеские автоматчики. Эти кусты окаймляли опушку леса, а Пахол был уже в поле сзади них. Значит, он прошел оврагом значительно дальше и теперь полз по смятой, почерневшей ботве неубранной свеклы. Стахурский сразу узнал его по зеленому мундиру среди черной ботвы и бурых листьев. Но Ян не удалялся от гитлеровцев, наоборот, он полз, подкрадываясь к ним сзади. Его отделяло от врагов не больше двадцати шагов.
Что он собирался делать?
Пахол поднял руку — в ней чернел пистолет. Ураган ревел, выстрелов не было слышно, но Стахурский видел, как вздрагивала рука Пахола и как подскакивало дуло пистолета. Пахол стрелял врагам в спину.
Итак, гитлеровцев было десять, а их только трое, но они взяли врага в кольцо.
Пахол стрелял, опершись локтем о примерзшую кочку и тщательно прицеливаясь. Очевидно, он попадал в цель. Но гитлеровцы его сейчас увидят. И все же Пахол продолжал стрелять. Убивая их, он тем самым отвлекал внимание на себя.
В пистолете Пахола могло быть не больше девяти патронов, нет — восемь, один он уже потратил на Клейнмихеля.
Стахурский считал выстрелы.
Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь.
В пистолете Пахола остался один патрон.
Последняя пуля для себя.
Вдруг что-то сильно ударило Стахурского в плечи и руки. Он не сразу сообразил, что это, только плотнее прижался к земле. Но жгучая боль пронзила его, и он понял, что очередь автомата прошила плечи и руки, — эта была, очевидно, последняя вспышка сознания.
«В пистолете Пахола одна пуля», — кажется, еще подумал Стахурский, но, возможно, что он об этом подумал еще раньше — и на этом потерял сознание.
На другой день
Стахурский проснулся не сразу, а постепенно, словно был в обмороке и теперь приходил в себя.
Тело его еще было во власти сладкого сна, мысли пробивались исподволь, ниточкой, точно пульс у больного: то вдруг становились отчетливее, то совсем пропадали, недодуманные, прерванные непреоборимой волной сна.
Он то раскрывал глаза, то снова их зажмуривал — веки слипались снова, и взгляд его улавливал только открытые двери прямо перед собой, балкон и кроны каштанов.
Вершины деревьев озарял искристый, солнечный блеск. Солнце только всходило, и там, внизу, на улице, день только пробуждался. Иногда доносились людские голоса — они казались особенно гулкими в пустынном тоннеле улицы. Порой долетали отзвуки грохочущих вдали грузовиков — они гудели, как под сурдинку. А временами совсем близко звенел трамвай, и этот обычный звук вызывал неожиданное волнение, словно предчувствие чего-то таинственного и сладостного. И было еще что-то, очень важное, чего он еще не мог вспомнить. Но это надо было вспомнить немедленно, во что бы то ни стало!
Подобное ощущение было у него в тот осенний день, когда он, тяжело раненный, пришел в себя. Все-таки четыре пули пронзили его плечи и руки — одна из них под лопаткой еще до сих пор в ненастную погоду вызывает сверлящую боль. И вот тогда, когда сознание его только начало пробуждаться, он прежде всего услышал голос — удивительно знакомый, недавно слышанный, и надо было немедленно вспомнить, кому он принадлежал. И эта потребность вспомнить заставила его так напрячься, что силы к нему вернулись, и он увидел склонившееся над ним женское лицо в шапке-ушанке. Но, только заметив рядом склонившегося Яна Пахола, он вспомнил все: предельное напряжение сил в борьбе с Клейнмихелем, выстрел в машине, хромого шофера Яна, — и тогда раны, до тех пор не дававшие себя знать, сразу заныли, и он вспомнил, что женщина, склонившаяся над ним, — партизанский связной Мария.
Мария!
Это имя дохнуло на него ласковым теплом, от него замерло и сжалось сердце…
И сейчас Стахурский вспомнил еще раз, чем кончился тот далекий осенний день.
Гитлеровцев тогда оказалось не десять, а семь. За воем урагана и залпами автоматов они так и не услышали выстрелов Пахола и не заметили, как он подполз к ним. И только когда Ян взял автомат убитого крайнего солдата и начал расстреливать остальных в упор, они пришли в замешательство, бросили оружие и подняли руки вверх. Надо было видеть их бессильную злобу, когда они поняли, что их победили только трое — и среди них один тяжело раненный. Они стояли с поднятыми руками перед автоматом Пахола, а Мария, легко раненная, перевязывала Стахурского и поливала его голову водой из ручья…
Стахурский окончательно проснулся и сел в постели.
Да… а теперь он был в комнате Марии, в послевоенной комнате послевоенной Марии. Три месяца после демобилизации жила она здесь, в этой комнате, смотрела в это окно, садилась на этот стул и вешала свои платья на эти гвоздики. Мария, которая сказала ему: «Люблю», и которой он сказал: «Люблю».
Где эта Алма-Ата?
Где-то у подножья Тянь-Шаня, за тысячи километров.
Ему даже нехорошо стало. Он снова лег и уткнулся лицом в подушку.
Стахурский лежал обессиленный, словно только что прошел пешком эти тысячи километров. Мария сказала вчера: «Я пойду одна, ну, пожалуйста, я тебя прошу, сделай так…» И еще она вспомнила: «Ветер с востока!»
После того как подпольщики вынуждены были уйти в лес к партизанам, эти слова стали их паролем. Позднее так стала называться группа разведчиков, в которую входила и Мария. Комиссар отряда бывало так и спрашивал: «Что принес вам сегодня ветер с востока?» И Мария отвечала ему: «В селе Дзяблив разместился эсэсовский гарнизон, полторы тысячи при пятнадцати пулеметах, а в селе Над-Быстрицей изменник староста организует банду».
Группа разведчиков «Ветер с востока» существовала до той поры, когда партизанский отряд влился в Советскую Армию и все они, как советские солдаты, двинулись по землям Европы. Но и там, в победном походе, группа бывших партизан тоже называла себя «Ветер с востока». Теперь победа одержана, но боевая романтика останется при нас: со словами, с которыми пали смертью героев товарищи, уничтожая проклятых врагов, — с этими самыми словами Стахурский будет поднимать теперь из пепла и руин разрушенные захватчиками города и села отчизны.
Как сказала Мария: «Ты ведь инженер?»
Да, он инженер-строитель в мирной жизни и сапер — на войне. И ему, саперу, надо итти впереди главных сил. В партизанском отряде он разрушал мосты, сбрасывал под откос воинские эшелоны врага, взрывал водокачки. В армии он обезвреживал минные поля, строил бетонные площадки для тяжелой артиллерии, готовил аэродромы и наводил мосты через десятки рек за рубежом для наступления наших ударных сил. Теперь он должен построить дома для миллионов людей, оставшихся без крова в военные годы. Вот он сейчас встанет, оденется и начнет свою мирную жизнь.
Стахурский лежал, телу его было тепло и уютно, но беспокойство уже вошло в его душу. Мысли его то плыли безмятежно, как это тихое утро в гостинице после войны, то неслись бурно и напористо — как на войне.
В детстве у Стахурского была, как у каждого, излюбленная мечта. Может быть, она и определила его призвание. В этой заветной мечте Стахурский всегда видел себя пионером, странствующим по девственной земле. Он пересекает бурные моря, плывет на лодке в устья неоткрытых еще рек и углубляется в непроходимые леса. Он рубит девственный лес, выкорчевывает пни, строит дома — и среди лесов вырастает новое поселение! Такое же чувство появлялось у Стахурского и позже, когда он на молодежных воскресниках вместе с товарищами рыл первый котлован и на его глазах рос первенец сталинских пятилеток — Харьковский тракторный завод.
Детским мечтам пришла на смену зрелая романтика молодого поколения революции: мы первые строители социализма!
Стахурский быстро встал и вышел на балкон. Чудесное сентябрьское утро искрилось и играло на всем окружающем — на стеклах окон, телеграфных проводах, влажном от ночной росы асфальте и на исковерканных железных балках, грудами лежавших среди развалин.
Промышленность надо восстанавливать прежде всего… Сейчас он пойдет в трест и попросит направить его в Криворожье, Донбасс или Харьков. Он может быть прорабом на любом строительстве. Он соорудил десятки мостов через реки между Карпатами и Дунаем — по ним прошли главные силы армии-освободительницы. Теперь он может поехать на Днепрострой и принять участие во вторичном возведении самой большой в мире железобетонной плотины, через которую пройдут главные силы армии-строительницы. И здесь он тоже должен быть впереди, ибо он — сапер революции!
Стахурский подумал, что прежде всего надо пойти в отдел кадров ЦК партии, там он получит самое правильное назначение.
Он вернулся в комнату и подошел к умывальнику.
Но вода из крана не текла — водопровод еще не подавал воду на пятый этаж. Пришлось умыться из допотопной жестянки, висевшей на стене рядом с краном.
Стахурский наскоро умылся под неудобной капельницей, вода из которой журчала, как из испорченного самоварного крана. Домашний комфорт отступил на много лет назад. Боже мой, одних водопроводных труб надо уложить тысячи километров вместо взорванных гитлеровцами во время войны!
Стахурский надел китель и вышел с твердым намерением отправиться в ЦК.
Но когда он очутился под каштанами Владимирской улицы, в скверике у Золотых ворот, около театра оперы и балета, — в местах, овеянных романтикой студенческих лет, — он не выдержал и повернул вправо на улицу Ленина. Надо пройти по ней три квартала, свернуть налево — и там на тихой улочке находится его институт. Он должен хотя бы одним глазом взглянуть на него…
Многоэтажное здание института сверкало стеклами широких окон. Стахурский с замершим от волнения сердцем, как в те дни, когда он шел сюда сдавать государственный экзамен, толкнул массивную дверь.
В первые мгновения после яркого света улицы он ничего не разобрал в сумерках вестибюля.
— Вы к кому, товарищ офицер?
Никифор Петрович Шовковничий! Стахурский сразу вспомнил имя, отчество и фамилию, и ему стало стыдно: за четыре года войны чего он только не вспоминал из довоенной жизни, — Никифора Петровича Шовковничего, институтского швейцара, он так ни разу и не вспомнил!
Когда глаза Стахурского привыкли к сумраку, он увидел, что Никифор Петрович нисколько не изменился — голова, так же как всегда, острижена коротко, усы по-шевченковски опущены вниз, на тщательно выбритый подбородок. Он по-прежнему одет в старый матросский бушлат. Но, присмотревшись, Стахурский заметил и перемены: бушлат износился, выцвел, черную голову посыпал снежок седины, а усы совсем побелели.
— Никифор Петрович! Здравствуйте!
Швейцар насупил густые, кустистые брови и вопросительно взглянул на стоявшего перед ним офицера.
— Не узнаю, — глухо сказал он, и теперь Стахурский услышал, что и голос старика стал глуше, чем до войны. — А вы кто будете? Не из наших студентов?
— Из студентов, Никифор Петрович. Моя фамилия Стахурский, — и он потряс руку старого швейцара.
— Ну, как же! — с уважением сказал Никифор Петрович, — аспирант кафедры строительных конструкций профессора Карпинского. Милости просим! — Он широким, приглашающим жестом показал — но не на лестницу в институт, а на низенькую дверь в швейцарскую комнатку и сам пошел впереди. Стахурский последовал за ним. Это был первый родной киевлянин, которого он встретил после войны.
— Ну как же вы, Никифор Петрович? Что, как?
— Обо мне речь впереди, — вежливо ответил швейцар. — Вы как? Отвоевались? И грудь в орденах? Милости просим! — он толкнул дверцы и посторонился, пропуская Стахурского вперед.
Комнатка Никифора Петровича была точно такой же, как и до войны: железная койка, столик около окна, два табурета и шкафчик-комодик у стены. В углу стояли свернутые флаги, которыми в праздничные дни украшали вход в институт.
Чувство возвращения в родной дом, радостное ощущение нерушимости родного очага охватило Стахурского. Это было невыразимо приятное и утешительное чувство.
Никифор Петрович тем временем возился в своем шкафчике-комодике. Он вынул бутылку и две рюмки, налил их доверху и протянул одну Стахурскому.
— Добро пожаловать! — торжественно промолвил он, наклонив голову так, что седые усы легли ему на грудь.
— Никифор Петрович, — удивился Стахурский, — вы же непьющий?
— Непьющий и есть, — с достоинством ответил Никифор Петрович, — но вы ведь вернулись с войны, так что считаю своим долгом встретить, как положено, на пороге, чтобы все было благополучно. Здоровья вам и успеха в дальнейшем житье-бытье! С победой вас и наступлением мирного времени!
— Спасибо! — от всего сердца сказал Стахурский. — Спасибо, Никифор Петрович, что приняли как родной отец. С победой и вас!
Они выпили: Стахурский — легко и привычно, а Никифора Петровича так передернуло, что он даже топнул ногой — он не переносил водку.
— Фу, погань какая! — с трудом отдышался он, и в глазах его стояли слезы: водка попала в дыхательное горло. — И как ее люди пьют? — Он схватил сделанную из гильзы трехдюймового снаряда кружку с водой и жадно отпил из нее. — Значит, — сказал Никифор Петрович, — домой вернулись? Очень хорошо. Дети есть, жена?
Стахурский покачал головой.
— Отец с матерью?
— Нет.
— Нет?
— Никого!
Никифор Петрович кивнул:
— По-холостяцки будете жить или женитесь?
Стахурский промолчал.
Ему не хотелось говорить на эту тему. Да и Никифор Петрович спрашивал только для приличия — всем было известно, что Никифор Петрович убежденный холостяк и ненавидит женский пол, с тех пор как смолоду, в кругосветном плавании, полюбил бушменку на мысе Доброй Надежды и хотел увезти ее в Россию в качестве супруги, а она изменила ему с боцманом.
Но вдруг Никифор Петрович сказал:
— Не годится так, молодой человек, не годится так, товарищ аспирант Стахурский! Человеку не годится жить одиноко среди людей.
Стахурский с изумлением поднял глаза на старого женоненавистника, но Никифор Петрович спокойно встретил его удивленный взгляд.
— Только так, товарищ Стахурский, — строго сказал он, — сам до этого дошел лишь теперь, в годину фашистского рабства, один-одинешенек остался в этом доме, будто один на белом свете.
— Вы были тут при оккупантах, Никифор Петрович?
— Был! — Никифор Петрович на мгновение умолк. — Не буду про это рассказывать. Сами хорошо знаете, как человек военный. Не один город, верно, освободили своей кровью. Одно только скажу: когда человек не один, легче ему перенести горе, легче ему прийти в себя, какая бы беда ни нагрянула, да и пользы от него для людей больше. Вот, к примеру был бы я не один, а была бы у меня жена, мы бы вдвоем сохранили от фашистов в целости весь квартал. А то, только они ушли, я — в подвал и перерезал проволоку к минам, а пока бросился к университету, так уже пламя на два этажа.
— Так это вам удалось предотвратить взрыв?
— Больше; некому было, — ответил Никифор Петрович, — гитлеровцы, как отходили, всех людей из города повыгоняли, а кто и сам попрятался в лесах и оврагах. Мало кому удалось удержаться здесь среди развалин и в пустыне: сразу, как увидят, выводили и расстреливали. А я под котельной в угольной яме жил и все тут ходы-выходы знаю. — Никифор Петрович немного помолчал. — А не ушел, потому что решил: уж если помирать, так на родном месте, а может, мне удастся кое-что сохранить — тут же хозяйство какое — двадцать пять лет сколачивали, студентов учили! Ну, мебель оккупанты сразу порастаскали, лаборатории к себе увезли — тут я ничего поделать не мог. Но окна-двери тоже могли повыносить. А если живой человек тут есть, все-таки, как-никак, а через труп переступить надо…
Никифор Петрович прервал свои воспоминания и поднял указательный палец. Он любил поговорить, когда было кому слушать, и сердился, если его перебивали.
— Только, скажу вам, товарищ Стахурский, первым делом надо правильно организовать нашу жизнь. Вот, к примеру, скажу про наш институт. Почему в здании не производится текущий ремонт? Крыша протекает, потолок обваливается, плесень по углам пошла, вот-вот грибок заведется, а подоконники, если их не покрасить или хотя бы протереть олифой, гнить начнут. Прошлой зимой, сразу после освобождения, студенты в аудиториях сидели в шинелях и полушубках. Ну, это ничего — народ наш крепкий, вынесет, не такое пережили. Но ведь здание терпеть не может. Зданию нужен ремонт. А как отвечают наши завхозы? Материалов, говорят, нет, рабочей силы нет. И это было правильно в прошлую, то есть, в военную зиму. А в предстоящую — послевоенную зиму это уже будет неправильно. Материала немного доставили: толь для крыши, временно вместо железа, гипс, известку, стекло — понемногу, все что хотите есть. А остальное во дворе найду — под носом валяется: трубы, калориферы. А рабочая сила? Товарищ Стахурский, я человек старый и врать не буду: рабочей силы много не требуется, и можно ее найти и организовать. — Никифор Петрович волновался, и голос его охрип. — Первый этап работы правильно партийная организация провела: комсомол поднялся и за один день здание снаружи как игрушечка стало. Также и специальные работы, я полагаю, можно своими силами выполнить: мы же готовим по программе инженеров-строителей! Сами можем отопление наладить — пусть это будет практикой по кафедре теплотехники профессора Григоровича. А если понадобится по штукатурным работам специалист, так, думаете, хороший директор не найдет? Вы меня слушаете, товарищ Стахурский?
— Я слушаю вас внимательно, Никифор Петрович.
У Стахурского шумело в голове от стремительного и многословного доклада Никифора Петровича о текущем ремонте. Штукатурка, стекло, толь, гипс — он забыл обо всем этом за годы войны, он имел дело с аммоналом, толом, и понятие «рабочая сила» заменилось понятием силы удара и контрудара. Возвращение к мирному строительству было слишком внезапным — Стахурский привык к пулям, а Никифор Петрович говорил ему о гвоздях и, словно гвозди в доску, забивал в сознание Стахурского когда-то близкие, а теперь совсем забытые хлопотливые мелочи строительства.
— Я, товарищ Стахурский, о чем говорю? По соседним дворам старичков и пенсионеров полно живет, и что ни старичок, то какой-нибудь старый мастеровой — слесари, каменщики, все, какие хотите, специальности есть. Только к старому пенсионеру, понятно, нужен специальный подход — ему слово надо умеючи промолвить, «добрый вечер» сказать. А кто за это возьмется, если заместителя директора по хозяйственной части уже четвертый раз меняют, а сейчас его и совсем нет — заместитель по учебной части сам его заменяет?
— А кто теперь директор? — спросил Стахурский.
— И директора тоже нет. Заместитель по учебной части замещает…
— Никифор Петрович, где вы там? — послышалось из вестибюля.
— Как раз и наш заместитель, — сказал Никифор Петрович Стахурскому и крикнул, направляясь к двери: — Иду, иду!
Обернувшись, он сказал на ходу:
— Товарищ Власенко, Василий Митрофанович. Всех начальников замещает.
— Какой Власенко? Из теплового отдела? Я с ним на фронте встречался. Он аэродромы строил.
— Он самый.
Никифор Петрович вышел, и Стахурский последовал за ним.
В вестибюле стоял инженер Власенко. Стахурский сразу его узнал. В начале года он встречался с ним где-то за Будапештом.
— Никифор Петрович, — сказал Власенко, — сегодня подготовить все для вечернего приема.
— Слушаю, Василий Митрофанович. В шесть начнете?
— Да.
— Здорово, Власенко! — сказал Стахурский.
— Стахурский! Здорово! Демобилизовался?
Они пожали друг другу руки.
Никифор Петрович пошел вверх по лестнице.
Власенко окончил институт на год раньше Стахурского и сразу выделился как хороший инженер. Водопровод, канализация, теплоцентрали — все это он неутомимо строил во многих городах. Он бесспорно был талантливым производственником. Но Стахурский никогда не слышал о склонности Власенко к педагогической работе.
— Никогда не думал застать тебя здесь, — сказал Стахурский. — У тебя обнаружилось призвание к педагогической деятельности?
— Пришлось согласиться. Иначе не позволили оставаться при кафедре.
— При кафедре? — удивился Стахурский. — Ты же всегда был производственником? Никогда не слышал, чтоб ты собирался на научную работу.
Власенко хлопнул Стахурского по плечу:
— До войны, брат, я теплоцентрали строил. Оборудовал тепловое хозяйство заводов-гигантов. А теперь что? Руины разбирать? Разве это дело для строителя? Не тот, брат, масштаб. — Власенко взял Стахурского за плечи. — Это хорошо, что ты вернулся. Нам наши старые аспиранты дозарезу нужны, партийный комитет разыскивает каждого в армии. Предложение: деканом строительного факультета. Я исполняю обязанности директора, так что предложение вполне официально.
— Спасибо, — ответил Стахурский, — но ты ведь знаешь, что я никогда не имел склонности к педагогической деятельности.
— Это пустое! Ты же закончил аспирантуру и готовился к научной работе.
— Верно, но теперь я решил итти на производство. На производство, какое бы оно ни было: разбирать развалины, ремонтировать побитые снарядами кровли, класть междуэтажные перекрытия в закопченных коробках полусожженных домов, вернуть к жизни изувеченные войной здания и мечтать над проектами новых…
У Стахурского похолодело в груди от волнения: еще никогда ему не хотелось строить так как сейчас. Власенко за большим не хотел видеть малого. А это малое и было началом великого.
Стахурский сделал движение, чтобы высвободить плечо из рук Власенко, но тот крепко держал его.
— Пусти, Власенко! Говорю тебе: я решил итти на производство.
— Бессмыслица! Год — другой, пока начнется настоящий разворот строительства, надо побыть здесь, друг мой, готовить кадры, а потом, в новой пятилетке, мы себя покажем. Разве нас удержишь тут, когда производство развернется во всю ширь?
Стахурский наконец высвободился из рук Власенко и сказал:
— Ты лучше отыщи Карпинского, Баймака и других наших деканов, где они?
Власенко свистнул:
— Карпинский теперь заместитель наркома, он сейчас, брат, большой человек. А Баймак? Разве ты не слышал? Погиб под Оршей. И Павлов погиб. Он был партизаном. А Макаревский расстрелян в Бабьем яре.
— Что ты говоришь?!
— А студенты… — продолжал Власенко, — еще не обо всех получены сведения… Асю Дубову помнишь? Погибла в партизанском отряде, а Лиля Шевчук — под Будапештом, она служила на аэродроме.
Они умолкли. Сколько погибло товарищей!
Грусть овладела ими. И это чувство сразу сблизило их.
Стахурскому стало стыдно за неприязнь к Власенко, которая возникла после первых же его слов.
Он прикоснулся к кителю Власенко — под правым плечом на нем были две нашивки за ранения — красная и золоченая. Он тоже ведь нес тяготы войны, смерть замахивалась и на него.
Они помолчали немного, потом Стахурский сказал:
— Одна девушка, партизанка и фронтовичка, сказала мне, что в память погибших товарищей мы должны жить так, чтобы вся наша жизнь была подвигом.
Неожиданно для себя он приписал собственные слова Марии и даже не подумал, почему так сделал: то ли постеснялся пышности этих слов, или, наоборот, хотел уступить эти святые слова той, которую любил.
— Подвиг…
Власенко улыбнулся.
— Какие же теперь могут быть подвиги? Полететь на луну на ракетоплане, открыть Южный полюс, переплыть в одних трусиках Тихий океан?..
Стахурский сердито его прервал:
— Да! Полететь на луну, открыть полюс, переплыть океан. Если это будет подвиг, то да. Я о подвиге говорю серьезно, и ты напрасно иронизируешь.
Власенко схватил Стахурского за руку.
— Ну, не сердись, друг! Знаешь, когда тяжело, то и пошутить не грех. Эх, Стахурский! — Он снова схватил Стахурского за руку. — В развалинах лежит все, что с таким трудом построили. Теперь надо все строить сначала. Вот какой у нас послевоенный баланс.
— Разве ты бухгалтер? — сердито произнес Стахурский. — Я думал, ты, — инженер.
Стахурский выдернул руку и пошел к двери.
— Да брось, Стахурский, иди ко мне в деканы!
Но Стахурский грохнул дверью и вышел.
Сердито шагая, он перешел на другую сторону улицы.
Боевое побратимство известно издавна. На людях, которые вместе были в опасности, вместе шли на смерть или плечом к плечу одолевали врага, добывая победу, — на этих людях словно остается незримая печать. Пройдут годы, снова встретятся хотя бы на минутку боевые товарищи — и поднимется у каждого из них из самой глубины души это волнующее чувство полного взаимопонимания, единства и общности. Это святое чувство, и его знают только боевые побратимы.
Но в Советской Армии люди воевали не просто потому, что им приказывали командиры. Не смертельная опасность объединяет советских воинов на поле боя — их объединяет борьба за одну идею.
Стахурский знал: кончится война, наступит мирное время, и снова встретятся боевые побратимы и останутся ими и в бою и в мирном труде, освященном одной великой целью. А тот, кто не вышел из войны с этим светлым чувством побратимства и в войне и в мире, — тот попал в ряды воинов случайно, только отбыл, а не отвоевал войну. Тот — не побратим.
Стахурскому стало грустно: может быть, он слишком строго относится к Власенко? Он хотел бы осудить себя за несправедливость.
Понемногу Стахурский успокаивался. Сентябрьское утро было чудесно. Он с наслаждением шагал по киевским улицам — четыре года он по ним не ходил.
И чем дальше уходило от него раздражение и на его место входил покой от волнующего свидания с родным городом, в нем все сильнее нарастало странное чувство: он идет, и рядом, сразу же за, ним, молча, но каждой мыслью с ним вместе, идет Мария, его боевой побратим.
Это было похоже на галлюцинацию, и Стахурский даже смутился. Почти три года были они вместе с Марией в партизанском отряде, в армии, и она была для него только товарищем в бою. Но вот он ее увидел вчера и понял, что неразрывная близость связала их жизни.
У них была общая цель в борьбе, они были вместе в бою и не раз протягивали друг другу руку на помощь. Теперь Мария уехала в далекую Алма-Ату, и неизвестно, когда сойдутся снова их пути в жизни…
В наркомате Стахурский спросил, можно ли видеть инженера Карпинского.
— Заместитель наркома сегодня не принимает, — ответила ему секретарша, — сегодня товарищ Карпинский рассматривает проекты. Пожалуйста, скажите вашу фамилию. Я спрошу товарища Карпинского, может быть, он примет вас. Но, — добавила она, взглянув на погоны Стахурского, — если вы демобилизованный и по делу о работе, то, прошу вас, пройдите прямо в отдел кадров, товарища Карпинского можно не беспокоить. — Она улыбнулась. — В отделе кадров вас и без него разорвут на части.
— Хорошо, — разочарованно согласился Стахурский, — я пройду в отдел кадров. Но, будьте любезны, на прием к Михаилу Ивановичу все-таки меня запишите.
Секретарша скрылась за дверью кабинета, но не прошло и минуты, как она выбежала обратно.
— Товарищ Стахурский, профессор Карпинский просит вас немедленно.
Стахурский вошел.
В просторном кабинете стоял огромный письменный стол и два маленьких стула. А весь пол был завален белой, голубой и синей калькой. Она лежала кучами, свертками, пачками, а десятки листов были разостланы прямо на полу. Из-за стола навстречу Стахурскому поднялся стройный, худощавый человек с густой шевелюрой. Это и был Михаил Иванович Карпинский, бывший декан строительного факультета.
— Стахурский! — воскликнул Карпинский таким сильным голосом, что казалось непонятным, как он рождается в этой щуплой груди. — Стахурский, дорогой мой, так значит вы живы? — Он; порывисто обнял Стахурского, расцеловал его и так же громко, с радостным возбуждением продолжал: — Ну, все остальное потом, а сейчас прежде всего открою вам свои карты: кто сюда вошел, тот уже не выходит. Я — Синяя Борода двадцатого века, или, вернее, послевоенного периода. Инженер Стахурский, вы зачислены в кадры наркомата. Вы демобилизованы?
— Да, — улыбнулся Стахурский.
Профессор нажал кнопку, и в просвете полураскрывшейся двери показалось лицо секретарши.
— Позвоните в отдел кадров, чтобы они заготовили документы для инженера Стахурского. Он зайдет к ним оформиться через пятнадцать минут.
— Слушаю, Михаил Иванович.
— И не говорите ничего! — прикрикнул профессор на Стахурского, хотя тот и словом не обмолвился. Если вы уже где-нибудь завербовались, все споры с другими наркоматами беру на себя. Если вы не согласны, за пятнадцать минут берусь вас убедить. Если имеются еще какие-нибудь препятствия, ни одно из них не будет принято во внимание. Считайте, что это мобилизация.
— Михаил Иванович! — смеясь, сказал Стахурский, с восхищением глядя на учителя: он ничуть не изменился, даже стал еще более подвижным. — Я как раз и пришел к вам проситься на работу. Только с одним условием.
— Принимаю заранее. — Но профессор нахмурился. — А какие условия?
— Прошу не оставлять меня в аппарате, а отправить на строительство.
Профессор крепко пожал Стахурскому руку. Потом он поставил свой стул рядом со стулом гостя, положив на его колено узкую руку с тонкими пальцами.
— Ну, рассказывайте. Значит, вы были мобилизованы в июле сорок первого года. После этого…
Раздался телефонный звонок. Профессор, не поднимаясь, взял трубку.
— Здравствуйте, Николай Васильевич! Хорошо. Жду вас в половине третьего. — Он положил трубку и сделал широкий жест, указывая на горы кальки: — Вот видите: сто восемнадцать проектов мы утвердим до понедельника. А во вторник сто восемнадцать объектов начнут жить. И только на шестьдесят три из них назначены начальники строительства… Шестьдесят четыре, — поправился он, с улыбкой взглянув на Стахурского. — Остальных надо разыскать до понедельника, то есть за четыре дня. Ну, рассказывайте. Значит, вы ушли на фронт в июле сорок первого…
— Где же вы раздобудете столько инженеров до понедельника?
— Ужас! — крикнул профессор и засмеялся. — Найдем. Вас же нашли. — Снова зазвонил телефон. Он сорвал трубку. — Нет. Передайте, пожалуйста, наркому, что я этот проект отклонил. — Положив трубку, он крикнул: — Ах, Стахурский, вы себе не представляете, что творится на свете! Когда я вернулся в прошлом году из эвакуации, то пришел к наркому и сказал: «В такое время деканом может быть какой-нибудь из ветеранов войны — инвалидов, а меня надо направить на строительство». В наркомате сразу согласились и в тот же день отозвали из института. Но на другой день назначили меня заместителем наркома. Это черт знает что! — Он крикнул так, словно именно Стахурский был виновен в том, что Карпинского не отпустили на производство. — Вы понимаете? Мне говорят: мы не можем вас послать на одно строительство, вы должны руководить тысячью строительств. А? Как вам нравится? — Зазвонил телефон, и Карпинский взял трубку. — Хорошо. Позвоните секретарше, ее зовут Верочка, и скажите, чтобы выправили документацию. — Он опустил трубку и снова положил руки Стахурскому на колени. — Рассказывайте, Стахурский. В июле сорок первого года…
— Минуточку, Михаил Иванович! Я совершенно согласен с тем, что руководить должны люди, которые умеют работать.
— Вы говорите так, потому что не вас срывают с работы, а если бы разговор зашел о вас…
— Простите, Михаил Иванович, я сейчас вам докажу.
Телефон зазвонил. Стахурский снял трубку и подал ее профессору.
— Алло? Чудесно! Когда? Ура! Скажите, чтобы через час была машина, и я поеду сам. Сам буду принимать, осмотрю каждую доску и весь брак отправим обратно. — Он бросил трубку и с видом победителя поглядел на Стахурского. — Состав — сорок вагонов с пиломатериалом — прибыл в наш адрес. Заканчивайте вашу мысль.
Стахурский сказал:
— Если бы разговор шел только о том, что надо восстановить разрушенное, то без таких, как вы, руководство могло б обойтись. Но одновременно надо начать грандиозное строительство новых объектов, которое даст возможность стране сделать скачок вперед. Если смотреть в будущее, то вы не правы, Михаил Иванович.
Карпинский ласково потрепал Стахурского по колену.
— Верно, — сказал он тихо, — верно, мой дорогой. Мы строим коммунизм. Рассказывайте, Стахурский. Мне надо знать все, что с вами произошло за эти четыре года.
Дверь бесшумно открылась, и на пороге появилась секретарша.
— Михаил Иванович, — сказала она строго, — вы сегодня еще не завтракали. Забыли, что вам велела Галина Андреевна? Вы должны съесть простоквашу и крендель с маслом.
— А! Да, да, Верочка, две простокваши и два кренделя. Клянусь бородой пророка, что он тоже не завтракал. А?
— Не завтракал, — признался Стахурский, — только выпил рюмку водки. Меня угостил Никифор Петрович.
— А! Наш Никифор! Он меня тоже заставил выпить на «добро пожаловать», когда я вернулся. Ох, и попало же мне тогда от Галины Андреевны! Верочка! Пусть нам принесут из буфета еще одну простоквашу!
В кабинете было одно окно. На столике у окна стоял стакан простокваши, а на блюдце лежал крендель, намазанный маслом.
— Вот и чудесно, — сказал Карпинский, садясь за столик и придвигая к себе простоквашу, — теперь нам никто не помешает, и вы расскажете все, что было с вами за это время.
Он насыпал в простоквашу сахару и начал быстро и рассеянно есть.
Вошла уборщица и принесла простоквашу и крендель с маслом.
— Чудесно, — сказал Карпинский, — вот и моя простокваша. — Он взял стакан с простоквашей у уборщицы, поставил на стол и только тогда заметил, что уже съел свою простоквашу. — Ах, черт, простите. Я, оказывается, уже съел… это ваша. Ешьте, пожалуйста, и рассказывайте.
На пороге снова появилась секретарша.
— Михаил Иванович! Звонил Перетятко и просил вам передать, что он согласен и будет у вас через полчаса.
— Верочка, — крикнул Карпинский, — вы добрый вестник! Бегите, звоните в сектор кадров, чтобы сейчас же готовили документы.
Секретарша вышла, и Карпинский радостно сказал:
— Залучил инженера Перетятко в нашу систему! Вы знаете его?
— Нет.
— Молодой, советского поколения инженер. С ним случилось такое. В тридцать девятом году он построил в Донбассе завод — всего в два года. В сорок первом оборудование этого завода эвакуировали на восток, и инженер Перетятко был туда послан, чтобы построить завод вторично. И он построил его за семь месяцев и двадцать дней. На Украину он вернулся вместе с армией. Город, где находился этот завод, еще не был освобожден, а уже из Москвы и Урала в адрес завода шли эшелоны с оборудованием. Когда Перетятко вместе с войсками вошел в город, на месте завода были только развалины. Но эшелоны с оборудованием уже сидели у него тут! Перетятко принялся разбирать руины, одновременно возводить стены и начал монтаж. И он в третий раз построил этот завод. Только на этот раз уже за четыре месяца. Завод дал продукцию еще до окончания войны и слал гитлеровцам железные репья в хвост. Теперь Наркомат Обороны отпустил инженера Перетятко в нашу систему. Он будет восстанавливать жилой фонд. Пойдете к Перетятко поднимать из руин киевские дома?
— Пойду, Михаил Иванович, — радостно ответил Стахурский. — Очень вам благодарен!
Он поднялся и от всего сердца пожал руку своему старому учителю.
Верочка уже снова стояла на пороге:
— Михаил Иванович, пятнадцать минут для завтрака прошли. Вам надо рассматривать проекты. Инженера Стахурского ждут в секторе кадров.
Карпинский с притворным возмущением замахал руками на Верочку.
— Видите вы этого цербера в юбке? Не дает побеседовать со старыми друзьями. Идите, дорогой, в сектор кадров и оформляйтесь. — Он потряс руку Стахурского. — Я скажу о вас Перетятко, и завтра в час приходите сюда, познакомлю вас с ним. — Он задержал руку Стахурского в своей и серьезно сказал: — Трудно вам будет, ой, трудно! Преград и трудностей сейчас хоть отбавляй… Будьте здоровы.
— Будьте здоровы, дорогой Михаил Иванович.
— Да, — крикнул Карпинский, — но вы мне так и не рассказали о себе.
— В другой раз, Михаил Иванович.
— В другой раз? — Карпинский засмеялся. — А когда же он будет, этот другой раз? Боюсь, что мы с вами состаримся, и я от вас так ничего и не услышу. Может, как-нибудь вечерком, украдкой от Галины Андреевны, выпьем по рюмочке? Скажем ей, что нам нужно на заседание, а сами сбежим в какой-нибудь ресторанчик попроще и выпьем по-студенчески по стопке… Итак, завтра в час.
Последние слова профессор Карпинский произнес уже рассеянно. Он схватил рулон синей кальки и потянул его с пола на стол. Он уже весь погрузился в мысли, которые возникли у него при взгляде на эту кальку.
Выходя, Стахурский увидел его седую голову, низко склонившуюся над столом. Он знал, что ему никогда не удастся сказать профессору Карпинскому ни слова о том, что произошло с ним за эти годы, хотя его старый учитель от всего сердца хотел про все это услышать. Когда Стахурский начинал у Карпинского аспирантуру, профессор при первой же встрече заинтересовался биографией своего нового аспиранта и спросил у него, женат ли он… В течение трех лет за время аспирантуры профессор чуть не ежедневно возвращался к этому вопросу, но так до сих пор и не знал, женат ли его аспирант, — у него все как-то не было времени выслушать ответ.
С отрадным чувством вышел Стахурский на улицу, закончив свои дела в отделе кадров наркомата. Руины Крещатика лежали перёд ним. Но даже это тяжелое зрелище не смогло нарушить его радужное настроение. Ведь дело шло к тому, чтобы скорее возвести на месте руин прекрасные здания. Крещатик, несмотря на ясный, погожий день, был затянут какой-то дымкой. Десятки добровольных бригад разбирали завалы, и известковая пыль клубилась над некогда прекрасной улицей, как дым над полем после артиллерийской подготовки. Она уже подходит к концу, последние залпы потрясают воздух, и вот-вот ринется в стремительную атаку пехота. Но впереди, сразу за разведкой, должны были еще пройти саперы — уничтожить мины, проложить дороги, навести мосты, и среди саперов пойдет и он, инженер Стахурский. Руины разбирали — гремели последние залпы артиллерийской подготовки, и сейчас должен был начаться новый бой, бой мира и восстановления.
Образ Марии шел вместе со Стахурским, рядом, как вчера, когда они с вокзала возвращались в родной город, — и если бы повернуть голову немного вправо, казалось, можно было бы увидеть светлые пряди ее волос, выбившиеся из-под синего берета, на котором еще сохранился след красноармейской звездочки.
Стахурский решил зайти в райком — не работает ли там прежний секретарь?
Нет, секретарь был новый. Стахурского встретил плотный человек с голубыми глазами.
— Садитесь, товарищ майор. Что-то мне ваше лицо знакомо.
Стахурский назвал себя.
— Стахурский? Подожди-ка, — радостно сказал секретарь и сразу перешел на «ты». — Ты до войны не в парторганизации Гипрогора состоял? Архитектор?
— Нет. Я инженер-строитель. Мы встречались во время выборов в Верховный Совет, я был агитатором.
— Ну, конечно! Сегодня у меня счастливый день! На учет встало семь педагогов, два врача, два агронома, а теперь еще инженер-строитель пришел! Теперь я точно припомнил: ты был аспирантом при кафедре профессора Карпинского.
— Верно, — подтвердил Стахурский, удивляясь памяти секретаря, с которым встречался всего лишь два-три раза до войны.
Секретарь вынул из ящика стола папку.
— Погоди, погоди, — произнес он нараспев, быстро перебирая пальцами бумаги. Он вынул одну и прочитал, с торжественной улыбкой поглядывая на Стахурского из-за бумаги после каждой фамилии: — Стахурский, Воловик, Новиков, Крептюков, Петрусенко, Верно?
— Это, — сказал Стахурский, — список аспирантов профессора Карпинского.
— Верно! — констатировал секретарь. — По кафедре строительных конструкций у нашего замечательного профессора Карпинского. Товарищ Варварченко, — обратился он к помощнице в соседнюю комнату, — вы проверили сведения насчет Петрусенко и Новикова?
Девушка вошла и ответила:
— Проверила. Точно.
Секретарь помрачнел.
— Вот видишь, какое дело, товарищ Стахурский: товарищи Новиков, Петрусенко и Крептюков пали смертью храбрых. — Он тоскливо взглянул в окно поверх головы Стахурского. Ежедневно приходили сведения про павших за годы войны. — Эх, сколько прекрасных людей погибло из-за этих проклятых фашистов! — Он помолчал. — Придется нам самим стать на их место в строю и готовить как можно скорее новое поколение. — Он строго посмотрел на Стахурского. — Воловик во время эвакуации работала на Урале, а теперь восстанавливает Донбасс. Видишь, какие дела, дорогой товарищ Стахурский!
— Да, — сказал Стахурский, не зная, к чему клонит секретарь.
— А ты когда демобилизовался?
— Неделю назад.
— Когда прибыл?
— Вчера вечером.
Секретарь задумался, глядя в окно. Там, за окном, стоял ясный, весь залитый лучами ласкового сентябрьского солнца золотой осенний день… Верхушки деревьев в Ботаническом саду были тронуты первой легкой желтизной.
— Так вот, товарищ Стахурский, — сказал секретарь, — по закону тебе полагается месяц-полтора отдохнуть…
— Нет, — сказал Стахурский, — я отдыхать не буду. Я решил сразу приступать к работе.
Секретарь перевел взгляд с золотых крон Ботанического сада на Стахурского.
— Напрасно, отдохнуть тебе нужно, — сказал он, взглянув на золотые и красные нашивки за ранения на груди Стахурского. — Работы, имей в виду, будет у тебя прорва, выше головы.
— Знаю. Но я уже принял решение. И я уже, собственно, получил назначение.
— Что? На какую работу? Когда ты успел?
— Я прямо из наркомата.
— Значит, уже успел побывать у Карпинского. Будешь строить дома?
— А разве не надо восстанавливать жилой фонд?
— Надо…
— Ну?
— Вот и ну… Ты построишь дом, два, три, десять, а кто построит еще тысячу, нет — десять тысяч таких домов? Ты какой проект защищал по окончании института?
— Многоэтажного жилого дома.
— А в аспирантуре над чем работал?
— Над строительными конструкциями.
— Ага!
— Я ничего не понимаю, — сердито сказал Стахурский. — И потом я уже дал слово Карпинскому.
— На Карпинского есть горком! — тоже сердито возразил секретарь, словно собирался растерзать доброго старого профессора. — Карпинского я беру на себя, это не твоя печаль. А ты вот что скажи: для чего тебя партия и государство три года учили в аспирантуре?
— Но ведь сейчас вопрос стоит не о научной работе, а о строительстве, — возразил Стахурский, — и сейчас такое время…
— Сейчас такое время, — перебил его секретарь, — что каждый коммунист, перед тем как выбрать себе место в работе по восстановлению и строительству, должен прийти в партию и спросить ее мнение на этот счет. Это тебе понятно?
— Вполне, — согласился Стахурский.
Секретарь вдруг переменил тон и заговорил спокойно и обстоятельно:
— Вот что надо понять, Стахурский: что с того, что ты пришел на строительство один, когда партии нужно, чтоб ты пришел на строительство сам-тысяча? Партии нужно, чтобы ты, квалифицированный знаток строительного дела, воспитанный партией и государством, привел с собой на строительство тысячу инженеров-строителей.
— Где ж я их возьму? — искренне удивился Стахурский.
— А где возьмут их партия и правительство?
Секретарь вопросительно взглянул на Стахурского, и некоторое время они молча и пристально смотрели друг на друга, словно решая этот вопрос: где?
Потом секретарь сказал:
— А разве партия — это не ты? — Он весело усмехнулся. — Вот ты и подготовишь тысячу инженеров. Зря, что ли, государство тратило средства на твою аспирантуру? Пришло время вернуть долг.
— Аспирантура, — сказал Стахурский, уже понимавший, куда клонит секретарь, — это научная работа. Мы изучали там типы конструкций и сопротивление материалов, стремясь создать новые типы и отыскать новые материалы, а ты хочешь, чтобы я…
— Верно, — перебил его секретарь, — только не я этого хочу, а этого требует от тебя партия. Ты пойдешь на научно-педагогическую работу. На педагогическую и совместишь ее с научной. А на восстановление пошлешь своих студентов-практикантов и проведешь при институте курсы десятников.
Стахурскому стало не по себе. Еще в юности, когда он выбирал себе профессию, то категорически отверг педагогическую деятельность. Когда оканчивал институт и возник вопрос о специализации, он решил: что угодно, только не преподавание. И пошел на научную работу. И вдруг сейчас, после войны, когда так нужны строители, он должен стать педагогом…
— Слушай, — умоляюще сказал Стахурский, — у меня никогда и мысли не было, чтобы стать педагогом…
— А ты когда-нибудь думал о том, чтобы носиться по Европе и наводить там мосты?
— Ну, это другое дело! Но я никогда не готовил себя к педагогической деятельности. Я никогда не собирался читать лекции, принимать зачеты или возиться с разными учебными пособиями.
— А к партизанской и подпольной работе ты готовился? А взрывать мосты и орудовать аммоналом и динамитом ты собирался?
Стахурский беспомощно развел руками. Ему нечего было возразить.
— Вот так, товарищ Стахурский, — сказал секретарь. — Еще война далеко не кончилась, только-только начала вырисовываться наша победа, а Центральный Комитет уже разыскивал вас, аспирантов, по всем фронтам, чтобы отозвать в свое распоряжение. А партийная дисциплина — закон нашей жизни. Мы понимаем ее смысл, потому что мы прежде всего революционеры, коммунисты.
Стахурский знал, что такое дисциплина, и понимал ее смысл. К дисциплине он особенно привык в армии, в бою. И особенно по душе пришлось ему слышать в форме приказа то, необходимость и целесообразность чего он сам постиг умом и принял душой революционера. Это большая радость — получить приказ, который ты понимаешь и принимаешь умом и сердцем.
— Куда же ты хочешь направить меня? — покорно спросил он.
— Мы уже позаботились о тебе. — Секретарь стукнул пальцем по списку, лежавшему перед ним на столе. — В твой же инженерно-строительный институт.
— А!
— Ты чего так помрачнел?
— Да нет, ничего. Что я там должен буду делать?
Секретарь перевернул список, быстро пробегая глазами ряды строк.
— С педагогами там сейчас обстоит совсем плохо. Через месяц начинается учебный год, сегодня уже надо начинать отбор. Поступило тысяча триста заявлений на четыреста мест, а педагогический персонал не укомплектован. Тебе там будет очень трудно первое время.
— Ну и что же я там буду делать?
— Управление кадров ЦК решило послать тебя деканом строительного факультета, и, очевидно, будешь вести отдел конструкций. Водоснабжение, канализацию и вентиляцию ведет Власенко. Он же — декан санитарно-технического факультета. Декан архитектурного — Пономарев. Но тебе пока, а дальше увидим, придется выполнять и обязанности директора. Власенко не утверждают.
— Так! А какой же из меня будет директор?
— Чудесный! — сказал секретарь.
— Откуда ты знаешь?
— Узнаю. Партии не нужны плохие директоры.
Они помолчали, поглядывая друг на друга, но поглощенные своими мыслями.
Потом секретарь сказал:
— Педагогов по многим дисциплинам уже нашли, остальных подберешь — это твое дело как директора. Посоветуешься с наркоматом, ну и с нами, понятно. Но у тебя нет заместителя по хозяйственной части, и это очень плохо. Институт нуждается в безотлагательном ремонте.
— Заместитель по хозяйственной части у меня есть, — сказал Стахурский.
— Что ты говоришь? — удивился секретарь. — Кто?
— Швейцар института Никифор Петрович Шовковничий.
Секретарь некоторое время с интересом глядел на Стахурского, но видно было, что он занят какими-то новыми мыслями, а не своим собеседником.
— Никифор Петрович Шовковничий? Откуда ты его знаешь? Хотя институтского швейцара ты, конечно, должен знать. Он там давно? Хозяйственный человек? Культурный? Знаешь, не то уж время, чтобы скидки делать, у нас теперь есть своя интеллигенция.
— Нет, — ответил Стахурский, — я скидки не делаю. Не профессору же заведовать хозяйством. А Шовковничий в институте со дня его основания, когда еще в старом помещении были. Институт, его нужды да и всех людей он знает отлично. Любимец всех студентов и преподавателей. Фанатически честен. Бывший матрос. Спас институт перед уходом фашистов, перерезав провода к минам. Я заходил сегодня туда с утра, и он мне с места в карьер выложил все неполадки и предложил конкретный и вполне реальный способ организовать ремонт и упорядочить институтское хозяйство.
Секретарь стукнул рукой по папке с бумагами.
— Как знаешь! Твое дело. Тебе виднее.
— Хорошо. Во всяком случае за своевременный ремонт отвечаю.
— Ого! — воскликнул секретарь. — Ну и директор у нас!.. Ладно. Сегодня и приступай.
Стахурский сказал:
— Власенко от руководства учебной частью надо отстранить.
— А почему?
— Отстранить! — решительно повторил Стахурский. — Пусть преподает вентиляцию и канализацию. А там посмотрим. Он отличный производственник, знает дело, а в институте чувствует себя так, словно ждет пересадки на станции.
— Да? А кто ж будет руководить учебной частью?
Стахурский помолчал. Потом сказал:
— Посмотрим. Посоветуюсь в ЦК, в наркомате.
— Твое дело, — согласился секретарь. — Как раз сегодня в шесть у вас начинается персональный прием. Придут люди, надо поговорить и закончить отбор. Сейчас же иди в управление кадров, тебя давно ждут.
— Хорошо, — сказал Стахурский и поднялся.
Секретарь протянул ему руку.
— Ты женат? — неожиданно спросил секретарь.
Стахурский не ждал такого вопроса и смутился.
— Нет, — ответил он.
— Плохо. Человек, который много работает и предан делу, должен иметь семью.
Стахурский удивился:
— Это почему?
— А потому, что надо одновременно строить и государство и семью. Одно другое, знаешь ли, подпирает.
Они помолчали, и Стахурский вдруг сказал:
— У меня есть невеста.
Секретарь протянул руку и крепко пожал ее Стахурскому, низко склонив голову. Он не сказал ничего, но в крепком пожатии было доброе напутствие.
Стахурский стоял еще растерянный. Слишком много неожиданностей выпало сегодня на его долю, — в голове у него шумело, словно он был немного пьян. Собственно, он просто не знал, что сейчас делать, куда раньше итти. Но секретарь сказал:
— Заболтались мы с тобой. А дел — прорва. Иди. Успеешь и в ЦК и в наркомат.
В шесть часов Стахурский уже сидел в кабинете директора института. Секретарша положила на стол перед ним шесть толстых папок с заявлениями — их было тысяча триста на четыреста мест. А всего студентов в институте было около тысячи.
— Дайте мне, пожалуйста, программу института, — тихо сказал Стахурский.
Секретарша принесла три листа, текст на них был напечатан густо, через один интервал.
— Много есть желающих разговаривать со мной?
— Записалось восемьдесят пять. Но придут еще, — ответила девушка, слегка вздохнув.
— Чудесно, — сказал Стахурский, — я сегодня буду работать до двенадцати и постараюсь принять всех. Назначьте им всем примерно время, чтобы они не томились в коридорах, — пусть пока погуляют у Днепра. — Стахурский улыбнулся, но вспомнил свою вчерашнюю прогулку на Днепре, и улыбка исчезла с его лица. — Идите. Я скажу вам, когда начинать прием.
Девушка вышла. Стахурский немедленно принялся за чтение программы, чтобы отогнать нахлынувшие воспоминания.
Но эти мысли оказались проворнее: они уже успели заполонить его… Он сидел в директорском кабинете института, в котором начал свой жизненный путь. Он пришел сюда зеленым юнцом, и когда впервые переступил порог этого кабинета, как те, что сегодня придут сюда, сердце его замерло: сейчас он отчетливо вспомнил это чувство. Это было незабываемое пугливо-сладостное, тревожно-приятное чувство — он переступил порог, за которым находился не просто незнакомый ему и безусловно суровый директор, а все его невообразимое, пугающее, но и манящее будущее… Потом потекли студенческие годы. Он заходил в этот кабинет все чаще — сперва только за студенческим билетом, потом как староста курса, как редактор институтской газеты, как член комсомольского бюро… Потом три года аспирантуры. Потом четыре года его здесь не было. За эти годы там, в подполье, в партизанском отряде, в армии, на землях Европы, в его памяти даже ассоциативно не возникало представление об этом кабинете. В последний раз он вышел отсюда с дипломом в руках и был уверен, что больше ему уже не придется переступить этот порог. И вот он снова здесь на месте неизменно строгого директора, и сейчас ему предстоит руководить институтом и учить студентов тому, что он сам, кажется, успел забыть…
Неужели забыл?
Он придвинул программу.
Вот строительный факультет: теоретическая механика… сопротивление материалов… геодезия… строительные конструкции… основания и фундаменты… — тысячи страниц, сотни часов зубрежки, а иногда: «Придете еще, поговорим в другой раз». Стахурский улыбнулся. Нет, он еще не забыл всего этого. Просто оно как-то отошло в самый далекий уголок памяти за ненадобностью, словно военнослужащий, в мирное время уволенный в запас. В мирное время инженер Стахурский — офицер запаса. Во время войны — он подпольщик-партизан, сапер, а в запасе остается инженером-строителем. И сейчас у него начинается действительная служба мирного времени. Он сапер и в мирное время и во время войны.
Стахурский отложил программу и посмотрел на папки. В первой были заявления от «А» до «Е». Он бегло просмотрел несколько листков. Это были заявления юношей от восемнадцати до двадцати пяти лет. Но эти молодые люди уже прошли немалый жизненный путь. Среди них были Герои Советского Союза и кавалеры боевых орденов. Были ветераны войны — инвалиды без рук или без ног. Были партизаны. Девушки, вернувшиеся из фашистской неволи. Но были и такие, которые только что окончили среднюю школу.
И все они — герои, солдаты, партизаны, инвалиды, люди, прошедшие суровый путь, и зеленые юнцы со школьной скамьи, — все они хотели стать инженерами-строителями. Всех их надо было выучить и воспитать, чтобы они стали инженерами и достойными советскими гражданами. Это должен сделать он, Стахурский.
Большевик, инженер Стахурский должен был итти с ними плечо к плечу, боевым побратимом, как на войне, даже еще большим побратимом, чем на войне, ибо война — это только вынужденная и скоропреходящая необходимость, а мирная жизнь и строительство — это нормальный и постоянный образ жизни советского человека. И настоящим, верным побратимом на войне можно быть, если ты был настоящим побратимом в мирной жизни.
Дверь распахнулась, и вошел Власенко.
Брови его обиженно хмурились.
— Ну, здорово, Стахурский! — сказал он несколько громче, чем это принято для приветствия. — Когда я тебе предлагал, — ты не соглашался, а потом…
— Меня направило управление кадров ЦК. А когда я приходил сюда утром, то даже не представлял себе, что придется здесь работать. Я в самом деле хотел пойти на строительство. А меня направили сюда на твое место — исполняющим обязанности директора.
— А-а! — удивился Власенко. Но сразу же весело засмеялся. — Ей-богу, правильно: ну какой из меня научный работник и директор? Мне на производство нужно. Теперь, когда директор есть, меня отпустят: поеду на Донбасс теплоцентраль восстанавливать. Просто здорово!
Вошел Никифор Петрович с тряпкой и начал старательно вытирать пыль.
— Никифор Петрович, — сказал Стахурский, — вы тряпку эту бросьте и найдите кого-нибудь, кому передать ее вместе с прочими вашими обязанностями.
Никифор Петрович настороженно взглянул на Стахурского:
— Вы меня увольняете?
— От обязанностей швейцара увольняю. Но назначаю вас на другую работу.
— Товарищ Стахурский! — дрожащим голосом произнес старый швейцар. — Я не могу на другую работу, я привык…
— Успокойтесь, Никифор Петрович, — сказал Стахурский, — вы привыкли не к месту швейцара, а к институту.
— Истинно так.
— Так вот: вы назначены заведующим хозяйством института.
Старый швейцар стоял ошеломленный. Он не мог вымолвить и слова. Услышанное дошло до его сознания, он его постиг, но еще не в состоянии был реагировать.
— Так вот, — сказал Стахурский, — мы доверяем вам, верим в ваши знания и любовь к институту. Поздравляю вас! Вам первое время будет не легко на этой работе, но мы поможем вам, как сумеем. Хотя думаю, что вы справитесь лучше нас. Очень прошу вас, Никифор Петрович, завтра в девять утра прийти сюда, и мы с вами сядем и обмозгуем план неотложного ремонта. А теперь мы с товарищем Власенко начнем прием.
Никифор Петрович слегка подтянулся.
— Слушаю, товарищ директор.
Он вышел, аккуратно закрыв за собой дверь.
— Четверть седьмого, — сказал Стахурский, — пятнадцать минут академического опоздания прошло. Давай, Власенко, начнем. Товарищ Дятлова! Приглашайте товарищей. Пусть заходят по одному.
Секретарша ушла. Дверь сразу же снова открылась, и странное ощущение потрясло Стахурского: сердце его замерло и провалилось в бездну точно так же, как полжизни тому назад, когда он сам впервые переступил порог директорского кабинета. На пороге стоял юноша в кителе с погонами лейтенанта. Он щелкнул каблуками по-военному и спросил:
— Разрешите войти, товарищ майор?
— Прошу, — сказал Стахурский. — Садитесь. Только теперь я такой же майор, как вы лейтенант. Сейчас я директор, а вы студент. Сегодня мы с вами еще не успели, а завтра уж будем в штатском. Вы когда демобилизовались?
— Со второй очередью, товарищ май… директор.
— Значит, вместе. Вы подали заявление в институт, но хотите говорить со мной лично. В чем дело?
Лейтенант замялся.
— Видите, товарищ директор, хотя вступительных экзаменов и нет, но конкурс очень строгий — одна вакансия на трех, а у меня в аттестате тройки, и я боюсь, что меня не примут.
— Демобилизованные принимаются вне очереди, — сказал Власенко.
Я знаю это, товарищ подполковник, — сказал лейтенант, поворачиваясь по-военному всем корпусом к тому, с кем разговаривает: военная выправка стала его привычкою. — Но ведь демобилизованных чуть ли не три четверти. По два на одну вакансию.
— Почему же вы полагаете, что вам надо оказать предпочтение перед другими? — спросил Стахурский.
Лейтенант еще больше смутился. Он потупил глаза, потом поднял на Стахурского растерянный, почти детский взор. Лейтенанту было не больше двадцати двух лет, но на груди его была Красная Звезда, медаль «За отвагу» и четыре медали за города.
— В том-то и дело, — тихо сказал он, — что у меня нет никаких преимуществ перед другими товарищами. Вот почему я и хотел поговорить с вами перед приемом.
Стахурский развел руками:
— Но почему приемная комиссия должна принять именно вашу кандидатуру, а не другую?
— Видите… — лейтенант совсем смутился, — война прервала мне… Я всю жизнь мечтал стать архитектором-строителем. Только архитектором и больше никем… — Губы его задрожали, как у ребенка, и казалось, он готов был заплакать.
— Ясно! — сказал Власенко.
— Хорошо, — сказал и Стахурский, — комиссия это примет во внимание. Призвание — это крупное преимущество перед остальными.
— Правда? — радостно крикнул лейтенант. Он крикнул совсем по-детски и сразу же застеснялся, сильно покраснев.
Стахурский протянул ему руку:
— Идите спокойно и устраивайте свои дела. Если не будете отличником, исключим из института и ваше место займет другой, у кого будет больше преимуществ.
— О товарищ майор! То есть, простите, товарищ директор!
— Будьте здоровы!
Лейтенант вылетел из кабинета, как пуля.
Власенко сказал:
— Я думаю, орден и медали за отвагу, за Сталинград, Варшаву, Берлин тоже дают перевес.
— Бесспорно! — согласился Стахурский. — А если к этому прибавить призвание, то он просто первый кандидат.
— Можно?
На пороге стоял второй проситель.
Не дожидаясь ответа, он переступил порог и подошел к столу. Это был коренастый парень в штатском костюме. На лацкане пиджака были: орден Красного Знамени, партизанская медаль, орден Славы и медали за европейские города.
— Садитесь.
Юноша сел. Взгляд его сразу же нашел на груди Стахурского среди орденов партизанскую медаль.
— Вы тоже партизан, товарищ директор? — с явным удовольствием спросил он.
— Да, я был в партизанах. Ваша фамилия?
— Ковтуренко Ипполит Максимович. Вы у Ковпака, вероятно, были?
— Нет, не у Ковпака. Вы подали заявление, но желаете раньше поговорить с нами. В чем дело?
— Конкурс тут у вас, товарищ директор, — с неудовольствием сказал Ковтуренко, — тысяча двести заявлений на четыреста мест. А мне непременно надо поступить в этом году.
— Демобилизованные, — сказал Стахурский, — имеют преимущество перед другими.
— Да теперь все демобилизованные, — сказал юноша. — Я думаю, что надо принимать во внимание и боевые заслуги.
Стахурский внимательно посмотрел на него.
— А какие у вас заслуги?
Ковтуренко кивнул на свои награды:
— Вот. И еще представлен к ордену Отечественной войны второй степени. Два года в партизанском отряде, потом в Словакии. Потом с армией пол-Европы прошел. Ну, вы же знаете, сами были там. Звание мое — младший лейтенант.
— Вы хотите поступить именно в инженерно-строительный институт?
Юноша улыбнулся.
— Четыре года после десятилетки у меня и так пропало. Мне надо обязательно поступить в этом году. Но я не хочу в университет. Я решил стать инженером. Строитель — это не так плохо.
— Ладно, — сказал Стахурский, — комиссия примет во внимание ваши обстоятельства. Если останутся места после тех, которые хотят быть именно инженерами-строителями, мы, разумеется, не забудем.
— Очень прошу вас, товарищ директор! — сказал юноша. — Как партизан партизана…
— Ну, — оборвал его Стахурский, — сейчас вы обращаетесь к директору инженерно-строительного института. А наш институт готовит инженеров-строителей.
Юноша ушел.
— Почему ты так резко с ним? — недовольно спросил Власенко. — Парень ведь боевой!
— А потому, что нам с тобой еще будет немало мороки с Ковтуренко Ипполитом Максимовичем.
Стахурский и Власенко принимали будущих студентов часа три, и беспрерывной чередой проходили перед ними юноши и девушки. Одни хотели быть только инженерами-строителями, другие — просто получить высшее образование. И все это были молодые люди, из которых надо было сделать инженеров и воспитать советских людей.
В девятом часу Власенко предложил сделать перерыв на пятнадцать минут.
— За углом тут есть буфет, — сказал он, — съем бутерброд и выпью стакан вина.
Он надел фуражку и ушел.
Стахурский остался в кабинете. Он утомился, и ему захотелось побыть одному, без людей.
Солнце уже село, сумерки вливались в окно. В комнате было накурено и душно.
Стахурский распахнул окно.
Шум улицы, гомон вечернего города и вместе с ним ароматы зелени, белого табака и левкоев из Ботанического сада ворвались в тихую комнату. Так здесь пахло и перед войной, так тут пахло, сколько Стахурский помнит. И было в этих запахах что-то неуловимое и непередаваемое, без чего эти запахи были бы совсем не те. На просторах между сороковым и десятым меридианом, от Днепра до Дуная, Стахурский много раз вдыхал ароматы табака и левкоев, но только здесь к ним примешивался волнующий запах родной земли.
Стахурский оперся на подоконник. В голове у него гудело: необыкновенный, насыщенный через край событиями день близился к концу, но еще не миновал, — второй день возвращения домой после войны. Была и слеза, тихая, чистая, хорошая слеза в ощущении этого второго дня. Она освежала, облагораживала, и за нее не было стыдно перед собой. Не позорило и то, что в ней было и ощущение грусти и одиночества, — ведь последние годы Стахурский никогда не оставался один. Он жил вдохновенной и напряженной жизнью вместе с большой массой людей и привык к этому окружению. Теперь это окружение резко изменилось, и приходилось жить в совершенно другой обстановке, вместе с иными людьми, но тоже вдохновенной напряженной жизнью. И была тревога — неясная, неосознанная, но нарастающая — в предчувствии завтрашнего, третьего дня. И в этих неясных, тревожных предчувствиях ощущалось такое же неясное, такое же неосознанное, но настойчивое предчувствие большой радости.
И вдруг перед ним в предвечернем сумраке возник и заполнил собой комнату образ Марии. Он был неотступным с той минуты, как вошел в душу Стахурского вчерашней ночью, и сейчас он снова был таким властным, что дальше жить без него было невозможно.
Стахурский подошел к телефону и позвонил секретарю райкома.
— Ну, как? — спросил секретарь.
— Ничего, — ответил Стахурский, — пришли уже сорок товарищей…
— А как Власенко?
— Принимаем вдвоем. Он обрадовался. Говорит: теперь скорее отпустят на производство. Хочет ехать на Донбасс, восстанавливать теплоцентрали.
Секретарь помолчал, потом сказал:
— Хорошо.
Тогда Стахурский сказал то, что он никак не решался произнести.
— Товарищ секретарь, в течение недели мы закончим прием и наладим ремонт. Но я тогда сгоряча говорил… Понимаешь… На несколько дней, до начала учебного года, мне необходимо съездить в Алма-Ату.
— В Алма-Ату! — удивился секретарь.
— Мне необходимо поехать туда.
— Что тебе нужно в Алма-Ате?
— У меня там невеста, и я должен привезти ее сюда.
Секретарь немного помолчал, а потом недовольно сказал:
— Надо было подумать об этом раньше…
— Я должен поехать, — повторил Стахурский.
— Раньше чем на зимние каникулы тебе не удастся…
Стахурский положил трубку.
В комнате было тихо, лишь отголоски городского шума непрерывным потоком вливались в окно. Луч молодого месяца осветил развалины университета, блеснул на влажном от вечерней росы асфальте бульвара. Потом скользнул в окно, протянулся по полу и лег на стол.
Второй день закончился.
Каким будет третий день?
— Я не могу без тебя, Мария! — вслух промолвил Стахурский.
Путь на Запад
Марии тогда было не по себе.
Их позвали вместе, Пахола и ее. Но дело приняло такой оборот, что разговор шел теперь с одним Пахолом, а ей, должно быть, просто забыли сказать: «Ты свободна, можешь итти».
Пахол так волновался, что лицо его то бледнело, то краснело, то покрывалось лиловыми пятнами. Голос его дрожал, а порой он и вовсе беззвучно шевелил губами.
— С вашего позволения, прошу внимания у вашего доброго сердца. Прошу правильно понять меня…
Он смотрел с надеждой на комиссара, словно звал на помощь именно его, Стахурского, которому спас жизнь, которому помог вывести из города подпольщиков, обреченных на гибель, и под командой которого почти полтора года прошел с боями от Южного Буга сюда, за Карпаты, до берегов родной Тиссы.
Стахурский обратился к командиру:
— Боец Ян Пахол за время пребывания в отряде не имел взысканий. Приказы выполнял точно. В Подволочиске принимал участие в уничтожении гестапо. В селе Подгоряны сжег три вражеских самолета на аэродроме. На его личном счету больше двадцати убитых гитлеровцев. Бойцы любят и уважают товарища Пахола…
В лесу было необычайно тихо. Замерли ветви столетних пихт. Очевидно, собирался дождь. Даже здесь, над обрывом, где почти никогда не затихал ветер, стоял неподвижный, удушливый зной. Тучи медленно выплывали из самой глубины необъятной венгерской котловины, из-за далекой Тиссы. Вся долина между горами и синей лентой Латорицы словно слегка дрожала в мареве знойного августовского дня.
Штаб отряда расположился на лесной опушке над обрывом — город Мукачев еле маячил внизу в туманной дымке.
Командир поднял голову и вдруг повернулся к Марии.
— Ну, скажи, Мария, как боец и коммунист, что ты думаешь по этому поводу?
Вопрос так неожиданно был адресован к Марии, что она растерялась, но быстро овладела собою и тихо промолвила:
— Я понимаю товарища Пахола, но он боец и должен делать так, как ему прикажут.
Пахол еле слышно произнес:
— Я не видал их с тридцать девятого года, с сорок первого не знаю, живы ли они… Может, уж и в живых нет.
Закарпатский город Мукачев был родным городом Пахола. Там в тридцать девятом году фашистские захватчики разлучили его с женой и детьми. Теперь Мукачев — вот он — лежал прямо перед отрядом и перед Яном Пахолом из Мукачева. Когда ветер дул из долины в горы, он приносил ароматы садов и дым печей. Но в Мукачеве еще стоял враг. В задачу отряда не входило овладение городом. И завтра он уже останется далеко позади.
Все посмотрели в сторону города — перед глазами простиралась широкая долина в сухом мареве — и все глядели на нее. Справа и слева, гора за горой, спускался в долину Карпатский хребет, горные склоны были покрыты лесами, потом расстилалось плато, а ниже, у самого подножья зеленели виноградники. Дальше начиналась ровная, чуть приподнятая степь, среди которой сиял город Мукачев и, господствуя над местностью, на высоком холме стоял мукачевский замок.
Тиссы отсюда не было видно — она здесь отклонялась далеко на запад, делая глубокий изгиб в сторону Хуста. Из глубокого ущелья выбегала Латорица, пересекала Мукачев и еле заметной змейкой убегала в поля… В бинокль видна была даже колокольня, там, около нее, где-то приютился и домик Пахола.
Командир сухо сказал:
— Отойди в сторону, мы позовем тебя.
Пахол повернулся налево кругом и отошел в сторону. В двадцати шагах от штабной палатки сидели связные, автоматы лежали у них на коленях. Пахол подошел к ним и присел на корточки. Лицом он повернулся в сторону долины, чтобы видеть ее и город.
Мария спросила:
— Мне тоже можно идти?
— Подожди, — сказал командир. — Ты нам нужна.
Еще несколько дней назад, когда к отряду присоединились группы закарпатских партизан, а с Верховины начали часто подходить одиночки добровольцы и в отряде сразу прибавилось несколько сот бойцов, у командира и у комиссара возник план: спуститься в долину, захватить с ходу Мукачев, уничтожить там вражеский гарнизон и перерезать путь, идущий вдоль Карпатского хребта — из Словакии до самой Румынии на Марморош. Но по совету командования Красной Армии, которая уже стояла перед перевалами и должна была вот-вот двинуться на Закарпатье, этот план отбросили. Партизаны должны были действовать вдоль линии фронта в горах, перерезая коммуникации противника и нападая на его тылы. Вскоре части Красной Армии оседлают перевалы, вторгнутся в Закарпатье и освободят Мукачев. Пахол тогда уже будет далеко — ему предстоит еще воевать и воевать до окончания войны…
Но продвигаясь над долиной, отряд должен помогать наступающим частям Красной Армии. Командование предложило уничтожить бензобазу вражеской танковой армии, находящуюся в Мукачеве. И как раз Пахола, бывшего мукачевского шофера, командир отряда предполагал использовать для осуществления этой диверсии как человека, знающего местные условия; кроме того, он мог наладить и связи с местным населением. В помощь ему хотели послать Марию. И вот, когда их вызвали к командиру, Пахол попросил отпустить его домой, в Мукачев.
Командир и Стахурский стояли молча, раздумывая о случившемся.
Стахурский сказал:
— Разве не случалось, что бойцы по пути забегали домой? Ведь они всегда догоняли отряд.
— Ну, — возразил командир, — это не значит, что следует смотреть на это сквозь пальцы. Кроме того, то случалось с нашими советскими бойцами, а это… все-таки другой материал.
— Пахол вернется! — горячо сказала Мария.
Командир и Стахурский снова взглянули на нее. Она покраснела.
— Простите, что я вмешалась в ваш разговор, но вы об этом спрашивали.
— А почему ты так в нем уверена? — спросил командир.
Мария не знала, что ответить. У нее не было никаких аргументов. Она просто чувствовала, что Пахол обязательно вернется. Мария второй год была в отряде, и ей было хорошо знакомо это чувство: стремление партизана поскорее вернуться в свой отряд. Только в своем отряде, только среди товарищей партизан чувствует себя как дома. Куда бы ни попал боец — в окружение, в госпиталь, в командировку, домой, если дом по пути, даже в мирную, комфортабельную обстановку, — он всегда рвется обратно в отряд. Партизан всегда вернется. Но Мария не могла доказать — почему?
— Так, — произнес Стахурский, словно понял молчание Марии. — Ну, а если бы мы поручили тебе вместе с Пахолом идти и выполнить задание?
— Пойду! — ответила она. — Я бывала с Пахолом и в операциях и в бою. Он увидится с родными, и мы вернемся вместе. Только я думаю, что основное задание должно быть поручено не ему, а мне.
Мария взволнованно посмотрела на Стахурского и командира. Она понимала, что судьба Пахола теперь зависит от нее.
Стахурский в свою очередь взглянул на Марию. Полтора года назад они встретились впервые в лесу над Бугом и в тот же день были в бою. Потом полтора года воевали плечом к плечу. Стахурский наблюдал Марию и в боевых схватках, и в разведке, и в диверсиях по вражеским тылам. Они вместе выполняли не одно важное задание. Мария стала неплохим бойцом.
Стахурский сказал:
— Мы позвали тебя, Мария, вот для чего… — Он взглянул на командира: — Говорить мне или ты скажешь сам?
— Говори.
— Надо идти в Мукачев. Задача простая: узнать, где находится база горючего и как ее лучше уничтожить — толом, магнитками или просто зажигательными пулями. Понятно?
— Да.
— Завтра ты должна вернуться с точными сведениями. Тогда пойдут подрывники, ночью управятся, а послезавтра поутру мы отсюда уйдем. Понятно?
— Да, — сказала Мария. — А если я задержусь, должна ли я изыскать способ сжечь базу сама?
— Вряд ли это тебе удастся, — ответил командир, — ты с собой ничего не возьмешь, даже пистолета. Но если ты задержишься, мы будем знать, что тебе выпал удачный случай.
— Слушаюсь.
— Пахола возьмешь с собой? — спросил ее Стахурский.
— Как прикажете. Вдвоем и уничтожить легче и разведывать. Пахол местный житель.
— В конечном счете, — сказал командир, — важно выполнить задание, а вернется Пахол или…
— Нет, — возразил Стахурский, — я так не согласен. Нельзя его посылать, если он не вернется.
Тогда Мария решительно заявила:
— Я уверена, что он вернется.
— Значит, ты берешь его с собой?
— Да.
— Хорошо… Товарищ Пахол!
Пахол вскочил и быстро подошел к палатке. Он вытянулся перед командиром, как всегда, и посмотрел прямо в глаза ему.
— Так вот, товарищ Пахол, — сказал командир, — наше решение такое: ты пойдешь с Марией на операцию.
Пахол стоял так же неподвижно.
Командир продолжал:
— Операция в Мукачеве.
Пахол не шевельнулся.
— Подробности тебе сообщит Мария. Она — командир. Вы должны разведать, где бензобаза танковой армии, и немедленно вернуться сюда. Понятно?
Пахол молча смотрел на командира.
— Разрешаем тебе проведать родных, если представится возможность. Но вернуться ты должен вместе с Марией, не задерживая выполнения операции.
— Спасибо, — прошептал Пахол. Он был бледен.
— Если представится удобный случай, вы должны сами сжечь бензин. Понятно?
— Так точно.
— Но вернуться обязательно завтра.
— Так точно, будет исполнено, товарищ командир и товарищ комиссар. — Потом Пахол обратился к Стахурскому: — Товарищ комиссар, — сказал он и голос его осекся, — с вашего позволения… я не обману вашего доверия.
— Вот и хорошо! — сказал Стахурский.
— Отправляться сразу, — приказал командир.
Они спустились по склону, миновали долину и снова поднялись на невысокую гору. Это была последняя гора, и дальше простиралась равнина, изрезанная, как ладонь, извилистыми линиями узких овражков, которыми весной текли горные ручьи. На широком, ровном плато только кое-где маячили невысокие холмы. На самом высоком из них вздымался мрачный мукачевский замок. Теперь он был виден совершенно отчетливо, по прямой до него оставалось не больше трех километров.
Волнистое марево колыхалось внизу, но предвечерний воздух был прозрачен, только над самым городом клубился туман из дыма и пыли. Город жил. На окраинах буйно зеленели фруктовые сады; пригородные угодья, разделенные на мелкие участки, золотились стерней, а ближние склоны холмов покрывали чуть тронутые багрянцем и желтизной темно-зеленые виноградники. Внизу виноградников белели строения хуторов. Они выстроились шеренгой над светлой лентой дороги. Это было не магистральное шоссе из Ужгорода на Хуст-Мармарош, на котором движение, вероятно, не прекращалось. Эта дорога шла куда-то в сторону и, должно быть, терялась в отрогах Карпат.
Марии и Пахолу предстояло пересечь ее и идти в город полем или дорогой от излучины Латорицы.
Мария была в обычном платье горянки, на спине она несла котомку с брынзой, которую должна была продавать на базаре. Пахол был одет, как рабочий, и в рюкзаке за его плечами бренчал набор инструментов: Пахол чинил горянам велосипеды. Полсотни пенгов[1] — его заработок — лежали в кармане рядом с документом на чужое имя, завизированным в городской комендатуре. Рюкзак и документы не могли вызвать подозрений — с ними три дня тому назад вышел из города рабочий-партизан.
Марию и Пахола утомил короткий, но изнурительный переход по горам и перевалам, так как им пришлось обойти шоссе и железную дорогу, по которым двигались немецкие части в направлении на Сваляву.
Пахол снял шляпу — лоб его был усеян росинками пота — и подставил лицо легкому ветерку с низины.
Он побледнел от усталости и волнения: вот и Мукачев, цель его мечтаний, пять лет не виденный родной край. Сколько раз до войны он ходил по этим склонам и вот так останавливался полюбоваться пейзажем. Но это было так давно, что казалось вымыслом или произошло не в жизни Пахола, а в чьей-то чужой. Та, прошлая жизнь так отличалась от теперешней, будто не была жизнью Пахола, такая мирная, обычная жизнь.
Мария тоже сняла платок, обмахнулась и снова повязала его старательно двумя узелками, как местные горянки. Она глубоко вдыхала опьяняющий воздух гор и стояла, закрыв глаза, вбирая всем существом ласковую теплынь предвечернего часа, ароматы трав и нагретой солнцем каменистой земли, стрекотание кузнечиков и гудение лесных пчел. Это было такое приятное и радостное ощущение, что Мария не могла удержаться и засмеялась.
— Как хорошо! — сказала она. — Даже не верится, что сейчас война.
Пахол предупредительно подхватил:
— И, с вашего позволения, как хорошо, что это последняя война.
Мария раскрыла глаза и посмотрела на Пахола.
— Прошу прощения, — смутился он, — я снова неправильно выразился?
Он очень смущался, если коверкал слово или ударение или вставлял чешское слово.
— Нет, Ян, что касается языка, вы выразились правильно. Но для нас с вами это не последняя война.
Пахол недоумевающе взглянул на Марию:
— Прошу прощения, но я хотел бы позволить себе лишний раз спросить вас, так ли я понял: товарищ Мария думает — фашисты еще когда-нибудь затеют войну против нас?
— Ах, Ян, разве вы не понимаете, что пока мир поделен надвое, не может быть, чтобы реакция не попыталась опять напасть на революцию!
Пахол грустно вздохнул. Неуютен был мир, в котором он жил. Он молчал, задумчиво вглядываясь в очертания родного города: неужели правда, что он сейчас войдет в него и, может быть, увидит своих?
У них не было времени даже на то, чтобы присесть для короткого отдыха, и они позволили себе лишь постоять несколько минут.
С дороги, ведущей на Сваляву, донесся отдаленный грохот — шоссе отсюда не было видно, но они хорошо знали эти звуки: грохотали танки, идущие в глубь Карпат, к перевалам, на фронт. Гитлеровская танковая армия базировалась в Мукачеве.
Пахол неуверенно сказал:
— Теперь, когда наступление на фашистов пошло с двух фронтов, нет сомнения, что победят демократические страны… Для чего им снова затевать между собой войну?
Мария поглядела на Пахола серьезно, без улыбки:
— Вы, Ян, человек трудной жизни, вы год уже в отряде, столько говорили с товарищами, столько выслушали политинформаций и прочитали столько наших газет, а до сих пор не поняли, что и во всех странах буржуазной демократии тоже два мира — реакции и революции. Пока власть не будет в руках рабочих, капиталисты не поступятся своими интересами.
— Власть! — угрюмо сказал Пахол. — Для чего мне быть министром, когда нужно только заработать детям на жизнь?
— Но вы, кажется, больше всего натерпелись именно от безработицы?
Пахол пожал плечами:
— Это было в фашистской Венгрии, а я говорю про демократические страны.
— Разве вы не слышали о безработице в Америке и в Англии?
Пахол промолчал. Потом честно признал себя побежденным:
— Это верно. Безработицы не было только в вашей стране, где власть принадлежит не фабрикантам, а рабочим.
Мария чувствовала себя агитатором, который добросовестно излагает то, что ему кажется совсем простым. Так она чувствовала себя в тридцать восьмом году, перед выборами в Верховный Совет, когда комсомольская организация послала ее агитатором на избирательный участок. Она недавно сняла пионерский галстук, а слушателями ее были пенсионеры, старушки и старички. Но как давно это было — целых шесть лет прошло, и теперь она уже не смущалась. Не первый месяц шла она по землям Европы, где Октябрьской революции не было и где оставалось еще немало молодых людей с мировоззрением своих дедушек и бабушек.
— Идем! — спохватившись, воскликнула Мария. — Мы стоим тут, а нам еще засветло надо быть в Мукачеве. Нам с вами еще много придется говорить и про революцию и про демократию. Но сейчас наше задание — найти бензобазу вражеской армии, которая не пускает нашу армию через перевалы. Как нам лучше идти: прямо — полями или по шоссе?
Пахол посмотрел вниз на дорогу и на шоссе. Шоссе на Береговое отсюда нельзя было разглядеть, по Ужгородской дороге шло много машин, а на изгибе шоссе в сторону Свалявы виднелись две крошечные фигурки пешеходов. Дорога же под холмом, которую должны были пересечь Мария и Пахол, лежала совершенно пустынная.
— С вашего позволения, — сказал Пахол, — полем, вероятно, не так заметно. Но кто его знает! Они могут откуда-нибудь просматривать подступы к городу, и люди в поле вызовут подозрение. Конечно, должна быть застава, но документы у нас в порядке. Когда не прячешься, идешь прямо, вызываешь меньше подозрений…
Они еще минуту постояли в раздумье. За эти годы им много раз приходилось и пробираться крадучись и идти напрямик, в зависимости от обстоятельств, — единого правила не существовало. Обстановка в каждом отдельном случае подсказывала правильное решение.
Итак, по шоссе!
Они начали спускаться с холма. По склону петляли овечьи тропы, сначала еле заметные — только объеденные ветки кустов, потом примятая трава и, наконец, утоптанная тропинка. Она постепенно расширялась. Вскоре показался виноградник, а за ним — другой. Дальше простирались сады, но никаких строений среди них не видно было. Тропинка становилась все более отвесной, — Марии и Пахолу приходилось то и дело поддерживать друг друга, чтобы не сорваться.
Когда они уже приблизились к шоссе, Мария еще раз напомнила:
— Не забудьте же: мы встретились с вами по дороге, вы купили у меня кусок брынзы, и мы пошли вместе, но раньше друг друга совсем не знали.
— Не беспокойтесь, товарищ Мария, я все хорошо запомнил.
Они миновали большой фруктовый сад и за оградой из неотесанного светлого камня увидели двор, но никаких построек во дворе не было. На месте хаты лежала куча щебня и торчали обугленные столбы.
На пожарище стояла тишина. На земле валялись кастрюли, пустые жестянки и кайла с обгоревшими ручками. Хату, очевидно, сожгли: вокруг нее виднелись остатки горелого хвороста, которым обложили стены, а затем подожгли.
Но соседний хуторок, невдалеке за виноградником, стоял нетронутый — беленький и аккуратный. На дворе его раздавалось хрюканье свиньи, гоготали гуси и кудахтала курица, оповещая мир о снесенном яйце.
— Можете быть уверены, — вполголоса произнес Пахол, — что сожженный хуторок принадлежал русину — русскому или украинцу. А вот это, — он показал рукой на хутора, раскинувшиеся над дорогой среди буйной зелени виноградников и садов, — можете быть уверены, это усадьбы мадьярских кулаков. Давно, еще до первой мировой войны, когда я был совсем маленьким, здесь стояли вперемежку и мадьярские и украинские хутора, а когда образовалась Чехословацкая республика — появились и чешские. Потом эту землю захватили мадьярские оккупанты и выгнали украинцев и чехов. Чехи подались в Чехию, — Пахол улыбнулся. — Пожалуй, в Мукачевском округе я остался единственным чехом, хотя я не чистый чех, а только наполовину: мать моя — словачка. Впрочем, для мадьярских панов это было безразлично. — Он махнул рукой. — А у украинцев забрали виноградники и земельные угодья в долине и загнали в горы, к землякам, которых туда выселили раньше. Украинцев тогда в этих местах осталась горсточка. Теперь, очевидно, и с ними покончено.
Мария с любопытством слушала Пахола. Куда девалась его обычная молчаливость? Очутившись в родных местах, он почувствовал потребность поделиться с кем-нибудь своими мыслями.
Они стояли за оградой над самым шоссе, только узенький мостик над придорожной канавой отделял их от равнины, на которой они уже будут видны с городской окраины. Пахол задумчиво глядел вдаль. Вот там, за густой зеленью кудрявых садов, волнистой линией окаймлявших поля, скрывался родной город. Глаза Пахола были грустны — видно, воспоминания захватили его.
Пахол вздохнул:
— До войны у нас в Мукачеве давали себя знать безработица и неравенство разных наций перед законами. При мадьярах угнетали чехов, при чехах косо смотрели на мадьяр, а русинам было так же плохо, как при австрийском императоре Франце-Иосифе Габсбурге. Дружбы народов тут никогда и в помине не было…
Он внезапно умолк. Как раз об этом говорил он два года тому назад в Харькове с первым советским человеком, с которым он познакомился, — студенткой Ольгой. Тогда было особенно больно говорить об этом — его родной Мукачев находился за тысячу километров, в глубоком тылу противника, а гитлеровские полчища рвались к Сталинграду. На улицах Харькова лежали замерзшие трупы советских людей, а он с Ольгою сидел над ее мертвой матерью, и голодные дети плакали в нетопленой комнате. В те дни отчаяние охватило Пахола, и он уже не надеялся никогда больше увидеть родной город, жену и детей. И тогда советская девушка Ольга, которая ела только постную похлебку и то через день, Ольга, которую мучили в гестапо, потому что она не шла на работу к фашистам, сказала ему, Пахолу, что победу принесет сталинская дружба народов…
И вот родной Мукачев снова перед ним.
Это было такое сильное и волнующее чувство, что Пахол ощутил почти физическую боль в сердце.
— Идемте, панна Ольга, — сказал Пахол, задыхаясь, — уже поздно. — Мария взглянула на него, и он понял свою ошибку. — Простите, товарищ Мария… Это я так, вспомнил…
— Вы вспомнили эту девушку из Харькова, что…
— Что направила меня на путь, — заключил вместо нее Пахол. Лицо его стало суровым, даже скулы резче выделились.
Они перешли мостик и вышли на дорогу. Теперь их могли заметить фашистские дозоры, размещенные на городских окраинах или у моста через Латорицу. Быть может, сейчас раздастся это омерзительное: «Хальт!» или затарахтит автомат. Им надо пройти с полкилометра под горою, потом повернуть на шоссе, которое идет влево, пересекает долину Латорицы и входит в город вместе с железной дорогой. Шли молча. Теперь Пахол заметно прихрамывал: долгий путь по взгорьям и котловинам утомил его. Мария искоса поглядывала на Пахола и вспоминала этот год пребывания в отряде его и его земляков, местных жителей.
В этих местах в партизанский отряд, пришедший с Украины, влились украинцы с Верховины, словаки из горных селений на севере, чехи, некогда служившие в чехословацкой армии и укрывавшиеся во время оккупации в Карпатах. Все они были охвачены лютой ненавистью к гитлеровским захватчикам и стремились освободить свою страну от ига иноземцев.
Из словацких гор пришли крестьяне, жившие в неописуемой нужде: зимой и летом они ходили босиком, и каждый из них мечтал всю жизнь только об одной паре сапог, чтобы хоть в гроб лечь обутым. Мало чем — разве покроем одежды — отличались от них украинцы с Верховины. Многие из них не знали, что в Европе, кроме Венгрии, Чехии, Германии и СССР, есть и другие страны. Весь остальной мир они называли Америкой, откуда они получали письма от родственников, которых погнала туда безысходная нищета в родной стране. Вся их жизнь, так же как жизнь их отцов и дедов, прошла в горах, и кругозор их был словно замкнут горным ущельем. Их желания ограничивались одним: клочок плодородной земли. Но они знали, что в соседней Советской стране земля принадлежит хлеборобам, и многим уже было ясно, что единственный путь к осуществлению их мечты — это воссоединение с братским народом Советской Украины в единую семью. Когда им в партизанском отряде выдавали оружие, они целовали его, а перед красным знаменем становились на колени.
Совершенно иные люди пришли в отряд из городов и поселков закарпатской низменности. Это были преимущественно ремесленники и рабочие из мастерских и соляных шахт. Они приходили в чистых, аккуратно выглаженных, но изношенных костюмах и тщательно вычищенных фетровых шляпах. В их речи часто звучала политическая терминология, и они досконально знали, какая разница между анархо-синдикалистами и просто анархистами, а также могли перечислить все партии, которые выставили своих кандидатов на последних выборах в парламент Чехословакии или Венгрии. Они неодобрительно отзывались об этих партиях, зато с восхищением называли имена героев войны республиканской Испании против Франко. Они умели бросать гранаты и стрелять из пистолета. Слово «революция» они произносили как обет. Многие из них побывали в Праге, Будапеште и Вене, но цель своей жизни они видели тоже в том, чтобы присоединить свою страну к стране социализма.
Была еще третья, отнюдь не малочисленная группа среди пришедших в партизанский отряд степенных, пожилых людей. Несмотря на солидный возраст, они хорошо держались в строю, четко рапортовали и лихо поворачивались «кругом». Они отлично владели винтовкой, многие умели обращаться с пулеметом, но были мало приспособлены для партизанских диверсионных рейдов. Свою речь они со вкусом пересыпали русскими словами, порою неожиданно провинциальными, и охотно рассказывали о Нижнем Новгороде, Пензе, Благовещенске или Верном, но не знали, что многие из этих городов уже называются иначе. Это были ветераны австро-венгерской армии, которые в годы первой мировой войны попали в русский плен и как пленные славяне работали с русскими рабочими в городах или с крестьянами в селах. И они хотели присоединиться к СССР, который называли — Россия.
Все, приходившие в отряд с Карпатских гор и закарпатских долин, единодушно мечтали о присоединении их страны к СССР.
— Дружбы народов, — вдруг сказал Пахол, — жаждут во всех странах, можете мне верить, товарищ Мария. Я побывал в Будапеште, Вене и Праге. Но позвольте вас спросить: может ли каждая страна после войны войти в СССР?
— Разве в этом дело? — ответила Мария. — Дело в том, что никто не может запретить любому народу добиваться такой же жизни, как у нас.
Пахол кивнул в знак согласия.
Они снова шли молча… Вскоре показался мост через Латорицу.
Мария думала о том, на какую высокую гору надо подняться этим людям — и темным батракам с Верховины, и пылким юношам из закарпатских городков, и ветеранам австро-венгерской армии, — чтобы, обретя свою некогда утраченную и теперь вновь отвоеванную отчизну, они сумели увидеть жизнь такой, как она действительно есть — и не только в их убогой хижине или в тесном ущелье, а во всем мире. Ведь их родной край — Закарпатье — в течение столетий был только «окраиной» Западной Европы, только захолустьем западной «цивилизации», проеденной ржавчиной эгоизма и собственничества и старавшейся предельно разъединить каждый народ. Ведь в буржуазной Европе и двадцатимиллионный народ — это только двадцать миллионов людей одной национальности. «Европа» учила людей видеть только свою собственную жизнь и не видеть общественной жизни, не понимать, что такое жизнь целого класса и всего народа.
Вот и мост. Если их встретят очередью из автомата, это произойдет сию минуту. Они уже видели: справа и слева перед мостом четырьмя рядами спускались в овраг проволочные заграждения. На противоположном берегу тоже и справа и слева виднелись два аккуратных холмика, поросших травой, — два блиндажа. Но охраны не было видно.
Лицо Пахола посерело, но не от дорожной пыли. Он привык к опасностям, но ведь сейчас угрожает гибель не где-нибудь на чужбине, а на пороге родного дома, где вот уж пять лет ждут его жена и дети.
— Спокойно! — не оборачиваясь, прошептала Мария.
И они шагнули на мост.
Теперь, с моста, стали видны бойницы в блиндажах. В каждом было по две амбразуры, и в них светлыми кружками вырисовывались дула пулеметов.
Они, не замедляя шага, перешли мост.
Пулеметы молчали. Патрули не показывались. Вокруг царила мертвая тишина.
Они облегченно вздохнули.
Итак, в город они вошли беспрепятственно. А из города? Удастся ли им так же успешно вернуться назад?
Молча шли они по шоссе.
С каждым шагом город приближался. Казалось, они делают один шаг, а город навстречу им — десять шагов. Что ждало их там, за теми первыми строениями? Неудача, разоблачение, арест? Провал из-за какой-нибудь непредвиденной мелочи? Неблагоприятная обстановка, которая помешает им выполнить задание?
Или — удача?
У Пахола еле заметно подергивались губы.
— Спокойнее, Ян, — еле слышно прошептала Мария. — Спокойнее, разве нам в первый раз?!
Справа и слева уже тянулись ограды пригородных усадеб, и за ними мог скрываться дозор.
Так прошли они молча еще несколько шагов. Глухо стучали по мостовой огромные башмаки Пахола с железными шипами на подошвах.
Они решили прежде всего отправиться на базар, а оттуда уже начать поиски базы горючего.
Вдруг Пахол еле слышно произнес:
— Прошу вас, товарищ Мария, посмотрите под ноги. Видите эти жирные пятна?
Мария пристально взглянула на полотно шоссе.
— Я ничего не вижу.
— Пятна и капли, — прошептал Пахол.
— Наверное, что-то везли и бочка была плохо закупорена.
— Нет, — снова прошептал Пахол, — это не бочка. Тут следы бензина и автола.
— Возможно, — сказала Мария. — Тут проезжает много машин.
— Это следы танков, которые только что прошли по дороге на Сваляву, — уверенно сказал Пахол. — Автол еще не покрылся пылью, да и пятна бензина видны.
— Возможно, — согласилась Мария и еще пристальней посмотрела на дорогу. — Но что из этого?
Пахол прошептал:
— Бензин и масло проливаются лишь в тех случаях, когда баки налиты до отказа. Это капли из только что заправленных машин. С вашего позволения, если мы двинемся по этим следам, то, можете поверить мне, старому шоферу, они приведут нас туда, где заправлялись машины.
— Ян!
Мария с трудом удержала крик, рвавшийся из ее груди.
— Тише! — теперь уже Пахол призывал к спокойствию Марию. — Товарищ Мария приказывает итти по этим следам?
— Пошли!
И они снова молча двинулись вперед.
Они шли уже по городским улицам. На тротуарах изредка встречались прохожие, большей частью женщины с корзинками в руках. Ставни домов были закрыты, и во дворах царила тишина.
Вдруг Мария тревожно шепнула:
— Ян!
— Вижу, — тотчас же откликнулся Пахол.
На перекрестке стоял патруль. Два солдата с автоматами на животах, широко расставив ноги, глядели по сторонам.
Этот первый патруль, конечно, был самый опасный. Если что-нибудь в маскировке или документах Пахола и Марии покажется подозрительным, они сразу же попадутся. Может быть, движение по этой дороге вообще запрещено? Может быть, для жителей горных селений есть специальный маршрут?
Они шли, не замедляя шага, прямо к патрульным. Те уже заметили их. С каждым шагом бегство становилось менее возможным.
Вероятно, патруль заинтересуется их личностями. Достаточно ли будет того, что Мария, девушка из горного села, идет в город на базар совсем без документов?
До патруля осталось шагов десять. Солдаты стояли все так же неподвижно, широко расставив ноги, и глядели на Пахола и Марию. Пахол сильнее обычного ковылял — он казался совсем калекой.
Наконец они поравнялись с патрулем. Один солдат был приземистым, с водянистыми глазами и пушистыми рыжими усами. Другой был стройным, черноволосым, с зелеными глазами. Мария смотрела прямо в глаза черноволосому, Пахол — рыжему.
Патрульные стояли неподвижно, как памятники, только глаза их вращались в орбитах, следуя за Пахолом и Марией. Взгляды их были испытующими, но казались ленивыми. Мария потупилась: ведь девушке зазорно глядеть в глаза мужчине! Пахол, наоборот, изо всех сил «пожирал глазами начальство».
Они прошли, и широкий рукав Марииной сорочки почти коснулся локтя зеленоглазого.
Не оглядываясь, прошли еще несколько шагов. Солдаты по-прежнему стояли неподвижно.
Только пройдя с полквартала, Мария оглянулась: ведь девушке, пройдя, можно оглянуться на стройного зеленоглазого солдата? Она увидела две спины в серых мундирах.
Мария искоса взглянула на Пахола. На его щеках пылал багровый румянец. Пахол почувствовал ее взгляд, но все так же пристально глядел себе под ноги.
Под ногами на сером полотне шоссе блестели капли — они становились все больше и встречались чаще. Машин прошло много, и заправлялись они где-то здесь, поблизости.
Солнце садилось. Его уже скрыли высокие деревья городских садов.
Пахол спросил:
— Когда следы нас приведут к цели, мы пройдем мимо, не останавливаясь, не правда ли, товарищ Мария?
— Да.
Неужели они так просто, совсем случайно, только благодаря проницательности Пахола, сразу напали на след?
Невыразимое волнение охватило Марию, и она не могла его превозмочь. Так бывало с ней всегда: она шла на операцию совершенно спокойно и весело, но когда приближалась решительная минута, ею овладевало это непреодолимое волнение. Потом, в минуту выполнения задания, какая бы ни угрожала опасность — к ней вновь возвращалось обычное спокойствие и уже не покидало ее. То было особое спокойствие — спокойствие боя, смертельной опасности, которого не узнаешь в мирной жизни.
Пахол шел как бы понурившись, глаза его не отрывались от жирных пятен на дороге. Вот он увидел широко расплывшееся пятно, и брови его поднялись, размеры пятна свидетельствовали о том, что машина здесь остановилась. Быть может, она была вообще неисправна, а не только что заправлена поблизости, и водитель заметил утечку бензина? Тогда догадка Пахола никуда не приведет их.
Нет, дальше капли и пятна были такие же: машина просто остановилась.
Теперь они перешли на тротуар. Но и там они не отрывали глаз от капель на шоссе.
Город жил нормальной жизнью, — если можно назвать нормальным военный быт. По улицам иногда проезжали воинские машины. На тротуарах небольшими группами, по два-три человека, шли в разных направлениях офицеры. У подъезда одного дома, где стояли часовые, остановился мотоцикл, — здесь, очевидно, разместился какой-то штаб. Дверь в кафе на углу была открыта, там играл аккордеонист, подпевая фальцетом тирольскую песню. Офицеры за столиками пили пиво из каменных кружек, а перед некоторыми из них стояли большие графины с белым вином и маленькие сифоны с сельтерской. Фронт проходил по Карпатской Верховине, бои шли на перевалах, где за двести, где за сто, а кое-где и за пятьдесят километров, но это были километры гор, ущелий и непроходимых чащ, и армейские тылы чувствовали себя в полной безопасности.
Пахол осторожно потянул Марию за рукав. Но Мария и сама увидела: следы сворачивали с дороги в боковую улочку. Она вела к железной дороге, проходившей по окраине города.
Не глядя друг на друга, они свернули на эту улицу.
— Мы уже возвращаемся с базара, если что… — тихо сказал Пахол. — Базар на той стороне.
Мария кивнула головой.
Улица была вымощена булыжником, и теперь пятна попадались реже, только там, где бензин капал на камень. Потом мостовая кончилась, начался пустырь. И следы затерялись в песке.
Итак, все ни к чему…
У Марии даже голова закружилась — разочарование было слишком внезапным. Но, не подав вида, она сказала:
— Все равно, идем дальше… Останавливаться нельзя, это может вызвать подозрение.
Они двинулись через пустырь. Немного поодаль, среди пустыря, стояла небольшая усадьба.
Из-за нее появилась машина — в ней сидел только солдат-водитель. Машина проехала мимо, покачиваясь на ухабах и выбоинах, и скрылась за углом. Пахол и Мария жадно посмотрели ей вслед: нет, после нее не осталось жирных следов на песке.
Пахол грустно произнес:
— Тут поблизости, около железной дороги, находятся городские цистерны. Мне приходилось не раз ездить сюда, когда не действовали заправочные колонки. С вашего позволения, мы можем туда пройти. Но, конечно, танковая армия там не базируется: этот пункт, наверно, давно уже засечен нашей авиацией.
Мария не отвечала, и они обошли усадьбу. Дальше, за пустырем, была уже долина Латорицы, а на другой стороне только выселки и огороды. Решение надо принять безотлагательно: опасно без цели слоняться на окраине. По-видимому, надо итти на базар и оттуда начинать поиски. А может быть, лучше направиться к дому Пахола и расспросить у его родных, где может быть бензохранилище.
Вдруг Пахол схватил Марию за локоть. Рука его дрожала.
— Не поворачивайте головы, только взгляните направо!
Мария скосила глаза.
Прямо на пустыре, на самом берегу Латорицы, в тени огромных густолиственных деревьев длинной цепью выстроились громадные автоцистерны.
— Четырнадцать… — прошептал Пахол.
Цистерны не были замаскированы с боков, только сверху их прикрывала листва от зорких глаз воздушных разведчиков. Либо гитлеровцы были совсем беззаботны, либо база горючего остановилась тут на марше, на короткий отдых, и вот-вот должна была сняться с места. Около цистерн прохаживались взад и вперед три или четыре солдата. В стороне, под кустами, над самым спуском к реке, стояла небольшая палатка.
Даже отсюда, за добрые пятьдесят метров, можно было заметить большие жирные пятна на земле под кранами цистерн: заправка велась недавно и очень неаккуратно. Достаточно бросить зажженную спичку — и все четырнадцать цистерн мгновенно запылают…
Это было так просто и так реально — всего лишь ценой собственной жизни, — что у Марии даже перехватило дыхание.
Но они прошли дальше по тропе вдоль пустыря, ни разу не оглянувшись. Только Пахол стер рукавом внезапный пот со лба.
На улице они остановились, и Мария впервые взглянула на Пахола. Лицо его позеленело, усики вздрагивали.
— Ян, — сказала Мария, — мы, кажется, нашли.
— Да.
— Нам незачем идти на базар.
— Да.
— Лучше всего до наступления темноты где-нибудь укрыться.
— И я так думаю.
— Сейчас пройдем прямо к вам…
Пахол вздохнул и шепотом ответил:
— Слушаюсь.
— И расспросим ваших.
— Хорошо.
— Если другой базы нет, надо уничтожить эту. И вообще ее надо уничтожить во всех случаях. Об этом мы дадим знать нашим.
Марию вдруг охватила тревога. А что, если тем временем база двинется дальше? Не похоже, чтобы она здесь собиралась задерживаться.
— Что вы думаете об этом, Ян?
— Думаю, что вы рассудили правильно: мы должны сделать это сами. База, вероятно, еще ночью тронется в путь, тогда ищи ее…
— Мы пойдем к вам, Ян, и обсудим, как лучше это сделать.
— Тогда, с вашего позволения…
Пахол пошел вперед.
Они свернули на другую улицу, потом пересекли широкий проспект. Спускались сумерки, улицы опустели. Марии и Пахолу было известно от прибывших из Мукачева партизан, что ходить по городу гражданам разрешалось лишь до захода солнца.
Надо было спешить. Мария поглядывала на Пахола: ноги его ступали как-то нетвердо, спина сгорбилась, голова втянулась в плечи, даже видно было, как дрожали пальцы на его длинных, обессиленно повисших руках. Пахол шел домой после пятилетнего отсутствия, но он не знал, существуют ли еще на свете его жена и дети…
На углу Пахол остановился.
— Это наша улица, — глухо сказал он.
Он двинулся дальше и снова остановился у низкой ограды.
За оградой, в глубине небольшого двора, стоял одноэтажный домик. Мария поняла без слов: это был дом Пахола.
Пахол стоял, обеими руками держась за столбик ограды. Пять лет он жил надеждой снова увидеть близких, и сейчас, через минуту, он узнает, живы они или… У него хватило сил на эти пять лет ожидания и надежд. Это были тяжелые годы: концентрационный лагерь, издевательства и голод, потом казарма «иноземных рабочих», марш от Праги до Харькова. У него хватило сил и для того, чтобы начать борьбу: неоднократное бегство, убийства фашистов, потом больше года в партизанском отряде — диверсии и бои. У него хватило сил на все это, потому что он ненавидел фашистов и жил надеждой увидеть близких… Но хватит ли у него сил, если он узнает, что его жены и детей нет в живых?
Он стоял, не в состоянии оторвать рук от палисадника и сделать шаг к своему дому. Он стоял пошатываясь, и голова его вздрагивала от нервного тика.
Мария отвернулась.
Наконец Пахол через силу сказал:
— Так я пойду… с вашего разрешения…
— Идите. Вон около сарая — кусты. Я там буду ждать, пока вы позовете меня. На улице оставаться опасно.
Мария толкнула калитку и первая прошла во двор. Узкая дорожка, покрытая гравием, вела к крыльцу. Мария свернула к кустам. Она слышала, как скрипел гравий под тяжелыми башмаками: Пахола.
В кустах Мария оглянулась. Пахол подошел к крыльцу, поднялся на него, медленно ступая — ступенек было пять, — на третьей он пошатнулся, потом переступил сразу через две и постучал в дверь. Он постучал еле слышно, потом еще раз, громче — может быть, такой был в семье условный стук, или, быть может, в первый раз ему изменила рука.
Дверь распахнулась, и Пахол вошел в дом. В сумерках Мария не видела, кто открыл дверь. Она пристально вгляделась в окно, но там света не было: в городе было военное положение, окна маскировались.
Южные сумерки надвигались быстро, но ночь еще не наступила. Мария притаилась в тени кустов, чтобы ее не увидели с улицы. Под кустом жасмина стояла старая, полусгнившая скамья, но Мария не села. Она ждала, что Пахол вот-вот окликнет ее.
Время шло.
Минуты первого свидания после долгой разлуки протекают мгновенно, но они кажутся нестерпимо долгими тому, кто должен ждать в неведении. Мария опустилась на скамью.
Очевидно, действовать придется так: ночью они пойдут к цистернам, но не по улицам, а по задворкам, — Пахол должен знать, как туда незаметно пробраться. Мария наметила укромное местечко, откуда можно вести наблюдение за базой, оставаясь невидимым и для часовых. Надо зайти в ту усадьбу на краю пустыря. Нет ли там собак? Из-за ее ограды видны и цистерны, и часовые, и палатка над рекой. Если бы у них был пулемет с диском зажигательных пуль, из-за ограды можно было бы просто расстрелять цистерны короткой очередью. Разумеется, ночью караул будет усилен. Надо изучить поведение часовых: ходят они или стоят на посту? Потом прокрасться ползком — это дело привычное, открыть кран и бросить зажженную спичку прямо в струю бензина. Конечно, спастись будет невозможно: даже если удастся убежать до взрыва — настигнут пули автоматов. Впрочем, такой способ не годился по другим причинам: он не гарантирует успеха — спичка может погаснуть, а часовой, заметив пламя, может броситься и погасить его… Трут — более надежная вещь.
Мария порылась в сумке. Трут был на месте, тут же лежало старинное кресало, которым верховинцы высекают огонь.
Трут был пропитан раствором селитры и марганцовки, и можно было не сомневаться, что он начнет незаметно тлеть, как только на него попадет искра. Около забора Мария подожжет его, конечно, не кресалом, а зажигалкой Пахола, положит в жестянку, чтобы часовые не заметили огня, пока она будет ползти к цистерне, и чтобы не обжечь рук. Потом она ее положит под цистерной, а тогда уже откроет кран. Жестянка была у Пахола, в ней он хранил свой табак.
Это был самый примитивный способ. За полтора года пребывания в партизанском отряде Мария и не слышала, чтобы кто-нибудь действовал подобным образом. Может, такой примитивный способ и гарантировал успех, но за него пришлось бы заплатить жизнью. Что же делать? Ведь у нее не было ни карабина с зажигательными пулями, ни магнитных мин. И она не имела права вернуться в отряд, чтобы только доложить командиру о местонахождении базы: под утро автоцистерны уйдут в горы, чтобы заправлять фашистские танки, которые пытаются сдерживать натиск Советской Армии на перевалах.
Мария взглянула на домик, он по-прежнему стоял тихий, безмолвный. Сколько прошло времени? Часов у нее не было, — откуда часы у бедной девушки-горянки? Вероятно, уже минут пятнадцать. Впрочем, когда ждешь, минута кажется часом. А Пахолу надо приласкать детей, обнять жену, ответить хоть бы на первые вопросы — как здоровье, надолго ли появился, как жилось?
Конечно, если часовых будет много и они беспрестанно будут ходить вдоль ряда цистерн, придется одному отвлечь внимание, а в это время другой подбросит тлеющий трут. Тот из двух, который пойдет на демонстрацию, идет на неминуемую гибель. Кому же демонстрировать и кому — поджигать? Раз командир Мария, поджог должна совершить она, — только тогда можно быть вполне уверенной, когда выполняешь главное сама. Но у того, кто поджигает, остается хоть и небольшой шанс на спасение. Следовательно, отвлекать внимание должна она, а поджигать будет Пахол. Можно ли быть уверенным, что он выполнит все безупречно? Да! На всякий случай она тоже попытается поджечь цистерны с другого конца ряда, часовые бросятся к ней — и тогда уже Пахол подожжет наверняка.
Но Пахола все не было. Что там случилось? Пожалуй, прошло уже больше двадцати минут.
А что, если в этом доме живут не родные Пахола, а какие-нибудь предатели? Может быть, кто-нибудь уже выскочил из окна с противоположной стороны дома и побежал за патрулем?
Мария поднялась. Рисковать обоим нельзя. Она должна выполнить задание. Если Пахол попался, ей нужно немедля бежать.
Но, может, Пахол просто задержался, скоро выйдет и не найдет ее? Нет, она должна оставаться здесь. Только перейти в другое место, откуда удобнее наблюдать за домом.
Было уже совсем темно. Южная ночь надвигалась необычайно быстро… Мария оглянулась. Где же ей спрятаться, чтобы не спускать глаз с двери?..
Ага! Она сделает так…
Мария вышла из-под куста и осторожно приблизилась к крыльцу. Если случилась беда и появятся гестаповцы, она спрячется здесь за крыльцом — тут совсем темно: можно незаметно скользнуть за угол — и на ту сторону.
Мария присела под крыльцом. Сердце ее учащенно билось. Пахола не было уже добрых полчаса, сомнений нет, произошло что-то неладное: Пахол никогда бы не позволил себе так задержаться, зная, что она в опасности. Мария машинально пощупала рукой у правого бока — там обычно висел ее пистолет. Но теперь пистолета не было: девушки-горянки не носят пистолетов. Самое тяжелое для разведчика, когда он идет на операцию без оружия…
Дверь скрипнула. Марию бросило в жар.
Через порог кто-то переступил. Потом раздались шаги, но не так стучали подбитые железными шипами башмаки Пахола — звук был мягкий, приглушенный, точно кто-то осторожно ступал в домашних туфлях или валенках. Нет, валенок в Закарпатье не носят.
Женский голос шепотом произнес:
— Храни тебя божья матерь, Ян…
Это было сказано, как говорят в этих местах, — что-то среднее между украинским, словацким и чешским языком.
У Марии отлегло от сердца: женщина мирно беседовала с Пахолом, желала ему счастливого пути. Она прощается с ним, — значит он нашел свою жену, и это она провожала его. Но она прощается с ним, — значит оставаться здесь небезопасно…
И тотчас же до слуха Марии донесся скрип тяжелых башмаков Яна, сначала по ступеням крыльца, потом по гравию дорожки. Дверь закрыли на засов.
Мария вышла из укрытия и тихо позвала:
— Ян!
Пахол, не оборачиваясь, шел к калитке.
— Ян! — громче окликнула его Мария.
Но Пахол не слышал. Он шел, сильно прихрамывая, словно согнувшись под тяжелой ношей. Что мог нести Пахол?
Мария торопливо пошла вдогонку.
— Ян! — окликнула она в третий раз, когда он остановился у калитки. Теперь она отчетливо видела его силуэт. — Я здесь, Ян!
Пахол молчал. Мария тронула его за руку. Он вздрогнул и рассеянно произнес:
— А, это вы!
— Что-нибудь плохое, Ян? Дети больны? Куда б нам отойти, чтобы нас не увидели с улицы? Оставаться здесь нельзя? Вы что-нибудь узнали?
Пахол молчал. Он стоял все так же неподвижно, тяжело дыша, точно на самом деле нес что-то тяжелое и остановился передохнуть. Но ни на спине, ни в руках у него не было никакой клади.
Мария положила руку ему на плечо:
— Ну, как там, Ян? Я слышала, что вас провожала жена.
Пахол молчал.
— Говорите же, Ян! — почти крикнула Мария. — У нас нет времени. Что случилось? Беда?
Наконец Пахол заговорил каким-то чужим голосом:
— Их нет… никого — ни жены, ни детей… Это соседка…
Он умолк.
Мария тоже молчала. Что она могла сказать? Утешать? В такие минуты слова утешения делают еще больнее. Спрашивать, отчего погибли они? Убиты? Умерли с голоду?.. Вот Пахол пришел домой через пять лет к жене и детям, и ни дома нет, ни жены, ни детей…
— Ян… — растерянно прошептала Мария.
Сердце ее сжимала боль, жалость к товарищу, которого постигло такое большое горе: ни жены, ни детей. Но мысли у нее текли стройно. И эта необычная ясность была даже мучительна и страшна. Она думала о том, что нельзя было посылать Пахола на такую ответственную операцию, в предвиденье несчастия, которое его могло ждать дома. Ведь, подавленный горем, он уже не надежный боец. Горе рождает ненависть и отвагу, но горе в первую минуту ломает человека, как спичку. Как она могла поручиться за него? Сделана ошибка — непоправимая, непростительная и страшная. Сделана только для укрепления своей веры в человека. Но нельзя делать ошибок, даже во имя таких высоких чувств…
Мария взяла Пахола за руку и потянула его в тень кустов. Горе горем, но время не ждет, надо выполнить задание. Что сказали Пахолу соседи?
Пахол покорно пошел за Марией.
— Сядьте, Ян, — сказала Мария.
Пахол послушно опустился на лавку под жасмином, но сразу же вскочил.
— Не могу, — сказал он охрипшим голосом, — не могу! На этой лавке… мы сидели с Маричкой… и ласкали детей…
Мария положила обе руки ему на плечи.
— Ян! Вы должны были приготовиться ко всему наихудшему. Возьмите себя в руки…
— Я был готов, — произнес он машинально, точно не вдумываясь в смысл сказанных слов. Нет, он не был готов: надежда и страстное желание превозмогли в нем голос рассудка.
При скупом свете звезд Мария видела восковое лицо Пахола, он осунулся за эти несколько минут.
— Ян! — сказала Мария. — То, что я вам сейчас скажу, страшно, но нужно, чтоб ваше горе на время отступило. Вы должны взять себя в руки! Мы обязаны прежде всего выполнить задание. Горе ваше велико, но наше дело не должно страдать из-за него.
— Да, да, — торопливо согласился Пахол. — Все из-за меня… Когда они узнали, что я не погиб при аварии, а исчез, они сразу пришли и забрали Маричку и детей.
— Не надо рассказывать… — прервала его Мария.
Но Пахол продолжал — ему надо было рассказать все до конца.
— И они выслали их в концлагерь, в Австрию, где-то около Зальцбурга.
— Так они, может быть, живы и здоровы! — обрадованно прошептала Мария.
— Да, да! Может быть, они живы! — с робкой надеждой повторил и Пахол.
— Мы придем еще туда. Ян, и освободим их!
— О! — горько сказал Пахол. — Если мы придем туда, мы уже не застанем их. Будьте уверены, гестаповцы убьют всех заключенных в лагерях накануне нашего прихода.
Мария не нашлась что ответить.
Пахол сказал:
— Их надо спасти именно сейчас, пока мы еще туда не пришли.
— Что вы, Ян! Как?
— Я пойду туда.
— Что? — не поняла Мария. — Куда?
— В Зальцбург.
Голос у Пахола был надтреснут, но в нем звучали вызывающие нотки.
— Вы сами не понимаете, что говорите, Ян!
— Я пойду туда, — упрямо повторил он.
— Успокойтесь, Ян. Мы потом все это обсудим.
— Я уже успокоился, товарищ Мария, и все обдумал. Я пойду их искать.
Действительно, он говорил спокойно. Но это было страшное спокойствие, — спокойствие отчаяния.
— Соседка дала мне адрес, где я смогу все подробнее разузнать… Люди поддерживают связь с заключенными. В зальцбургском лагере много народу из наших мест. Их родственники выехали туда, чтоб быть ближе к своим, передавать им пищу. Завтра я пойду…
Пахол умолк. Молчала и Мария. Тревожная тишина царила на улицах города. Только порой доносился четкий шаг ночных патрулей. Под крыльцом не унимался сверчок.
Наконец Мария сказала:
— Дайте мне жестянку с табаком. И зажигалку… и спички…
Пахол машинально сунул в карман руку и подал Марии все, что она просила. Но тут же схватил ее за руку.
— Нет, — глухо сказал он, — отдайте… Я сейчас пойду жечь бензин!
Мария отстранила его руку.
— Отдайте! — почти выкрикнул Пахол. — Я выполню приказ. — Он снова схватил Марию за рукав.
— Пустите! — сказала Мария.
Пахол, задыхаясь, произнес:
— Вы идите в отряд. Скорее! Сообщите, где база горючего. Пусть командир вызовет авиацию. А я останусь здесь и попытаюсь поджечь. Потому что они могут уйти…
Мария молча отодвинулась от Пахола, сбросила сумку на землю и дрожащими пальцами принялась развязывать ее. Она вынула трут и сунула его за пазуху. Нет, она не могла положиться на Пахола: а вдруг он поколеблется в последнюю минуту?
— Не надо! — резко сказала она. — Я выполню задание, а вы уведомите наших.
— Товарищ Мария… — хрипло прошептал Пахол.
Мария прервала его:
— Как пройти по задворкам к цистернам?
— Товарищ Мария, разрешите мне…
— Приказываю вам ответить на мой вопрос!
— Налево по улице… Потом перебежать во двор напротив, а там по дворам, только придется еще раз пересечь улицу…
— А потом?
— Там уж можно дойти до самой Латорицы.
— Хорошо.
Мария направилась к калитке.
— Товарищ Мария! — крикнул Пахол. В его голосе звучали боль и мольба.
Мария шла не оборачиваясь. Вот и калитка. Она отворила ее и вышла на улицу. Луны не было, и при свете звезд видно было не дальше чем метров на двадцать.
Пахол тоже вышел на улицу.
— Товарищ Мария! Идите направо, в горы. Я сам сожгу бензин.
Мария перебежала на противоположную сторону улицы и сразу скрылась во дворе, затворив за собой калитку. В глубине двора она еще слышала шаги Пахола на мостовой.
Вскоре они затихли. Она была одна…
Где-то вдалеке проехала машина. Потом глухо прозвучал окрик, кого-то задержал патруль. Знакомая картина ночного оккупированного города: на улицах — вражеский патруль, в домах притаились жители, в садах и дворах ни души; люди боятся фашистских бандитов, а те — налета партизан.
Впереди на темном небе сверкали звезды, но небо тут начиналось очень высоко — горизонт закрывала цепь высоких гор.
«Берега… — вспомнила Мария. — Так здесь называют последний обрыв Карпатского хребта».
Марии казалось, что уже светает, когда она добралась, наконец, до знакомых мест вблизи пустыря. Но до рассвета было еще далеко, просто на открытом месте было светлее. Солнце здесь всходит поздно — из-за хребта, из-за берегов.
Мария крадучись вошла во двор одинокой усадебки. Какое счастье, что в Мукачеве мало дворовых собак!
Она быстро проскользнула к заднему забору. Это была невысокая каменная ограда, с колючей проволокой вверху. Укрывшись за выступом, Мария выглянула наружу. Она сразу увидела темные купы деревьев, под низко нависшими ветвями смутно поблескивали стальные туловища цистерн.
Мария прислушалась. Вокруг было тихо. Только изредка доносились неясные звуки, — то какое-то громыхание, то далекий рокот мотора или окрик патруля. Стояла чудесная, чуть прохладная августовская ночь.
Мария напрягла зрение. Где часовые? Стоят? Или ходят? По гитлеровскому уставу часовые, кажется, не имеют права стоять на месте. Но одно дело — устав, а другое — ночь.
Мария затаила дыхание, словно собиралась нырнуть в воду; в такой тишине даже собственное дыхание мешает прислушаться. Но начало шуметь в ушах, и это тоже мешало слушать. Очевидно, надо было подкрасться ближе, — отсюда Мария ничего не могла услышать.
Она вышла со двора, завернула за угол, на пустырь, и тут сразу легла. Сначала по выбитой гусеницами танков колее, потом по высохшему жесткому бурьяну Мария поползла по направлению к цистернам. Она передвигалась очень медленно, чтобы не зашуршал бурьян, не стукнул камешек, не хрустнула какая-нибудь веточка под ногой. Порой она останавливалась и прислушивалась. Иногда ей казалось, что от ее неосторожного движения возникал шум, и она на несколько минут замирала. Когда она добралась к канаве, пересекавшей пустырь по направлению к балке, в десяти метрах от цистерн, уже не было сомнения, что светает: над цепью гор появилось зеленоватое сияние, но то не всходил месяц, а там, в степи, за Карпатами, заря позолотила горизонт. На юге светает быстро. Может быть, через несколько минут вспыхнет заря и над Берегами, и тогда уже поздно будет думать о поджоге. И солнце осветит Марию среди редкого бурьяна на пустыре в каких-нибудь двадцати шагах от цистерн…
Мария уже чувствовала запах бензина. Цистерны были прямо перед ней. Вскочить, побежать, открыть кран, зажечь спичку — успеет ли она это сделать, пока ее не прошьет очередь из автомата? Сколько времени; надо часовому, чтобы очнуться от неожиданности и нажать гашетку? Три, пять, семь секунд? Сколько понадобится секунд, чтобы пробежать десять метров, открыть кран — и чиркнуть спичкой? Десять, пятнадцать, двадцать? А может, и целую минуту…
Вдруг Мария отчетливо расслышала людские голоса. Совсем близко — очевидно, в нескольких шагах от нее — лежали часовые. Возможно, они находились в тщательно замаскированных блиндажах — голоса доносились словно из-под земли.
— Карл! — сказал один.
— Герр лейтенант? — сразу откликнулся другой, немного дальше.
— Я пойду покурить. Ты не спи.
— Понятно, герр лейтенант.
Немного поодаль еще кто-то закашлял. Часовые лежали полукругом в двадцати метрах от цистерн, но и там они не решались курить, а уходили подальше, к усадебке.
Темная фигура поднялась в нескольких шагах от Марии и направилась к усадебке. Мария видела, как вспыхнул огонек зажигалки: лейтенант закурил.
Мария повернула голову и вся похолодела. Над горами стояло сияние, но уже не зеленоватое, а чуть желтоватое, словно янтарь. Долина еще тонула в густом сумраке, но скоро и здесь станет светло. Надо делать сейчас или никогда!
Мария вынула жестянку, трут и зажигалку.
Зажечь сухой трут и, когда он начнет тлеть, бросить его в струю бензина — это была детская забава… Мария вылила бензин из зажигалки на трут. Сейчас она зажжет трут, он вспыхнет. Так будет вернее, пусть даже и сама она вспыхнет, как факел. Коробку со спичками она ощущала телом за пазухой.
Сердце колотилось громко, и это было очень некстати, потому что мешало прислушиваться. Она взглянула еще раз на восток — сияние над горами уже стало оранжевым, розовые блики проскальзывали из-за зубчатой линии Верховины. Мария перевела взгляд на цистерны: светало и в долине — теперь цистерны вырисовывались отчетливее…
Мария вытянула левую ногу, как только могла, правую согнула и выдвинула колено почти до подбородка. Сейчас надо метнуться стрелой… Проклятая юбка! Она будет бить по ногам и задерживать бег.
Мария вся напряглась, точно пружина, и вдруг сильным броском оторвалась от земли.
И сразу тускло поблескивавшие серые туши цистерн словно навалились на нее. Невероятная, молниеносная быстрота движений, ясность чувств и мыслей овладели ею в эту минуту. Не больше двух секунд пошло на то, чтобы повернуть кольцо крана, но Мария за это время уже успела удивиться, что ее перебежка, скрип кольца не были замечены часовыми. Струя резко пахнущего бензина забила из крана. Мария чиркнула спичкой — трут вспыхнул в ее руке, — она швырнула его на землю и инстинктивно отпрянула в сторону.
Она успела отбежать на несколько шагов и только тогда услышала крики позади, и почувствовала, как сзади вспыхнуло огромное яркое пламя, осветившее пустырь далеко впереди. Запомнила она только одно: ноги ее словно не касались земли, а летели и впереди бежала ее резко очерченная удлиненная тень. И в ту же секунду раздались выстрелы, но, может быть, это только колотилось ее сердце.
Впереди было совсем темно, потому что сзади, близко, все выше, все ярче разгоралось пламя, — оно уже затмило раннюю зарю над горами, которая из оранжевой вдруг стала бледно-зеленой. Мария бежала и, кажется, ее потрясал смех, — ведь она все-таки зажгла бензин!
Теперь все ее существо было охвачено одной мыслью, одним стремлением — бежать, скрыться, спастись! Цистерны пылают — и теперь ей надо жить, жить!
Но когда Мария перескочила через канаву и впервые оглянулась в сторону цистерн, то увидела, что три из них уже охвачены пламенем, а какие-то черные тени мечутся между нею и пламенем и бегут от цистерн, но бегут в другую сторону, не за нею, и стреляют из автоматов, а от них, размахивая руками и ковыляя, убегает человеческий силуэт.
Это был Ян Пахол! Он бежал в другую сторону от Марии. Он отвлекал от нее погоню на себя. Он жертвовал собой, чтобы спасти ее. Он все-таки пришел. Сейчас его настигнут и убьют.
Но порученное ему задание он выполнил до конца…
Мария остановилась в то мгновение, когда раздался взрыв. Взрывная волна свалила ее с ног. Когда она стала на колени, чтобы подняться, снова раздался взрыв. И еще не успело отзвучать эхо, как прогремел и третий, и потом взрывы уже следовали один за другим почти без интервалов. И после каждого взрыва становилось так светло, словно давно уже наступил белый день. В небе клубились черные с рыжими подпалинами тучи дыма. При каждом новом взрыве их как бы подхватывало пламя, — они на мгновение вихрились в багряном смерче, потом снова клубились, черные и рыжие. Мария стояла на коленях.
Потом взрывы прекратились, и Мария побежала.
Мимо нее мелькали дома, тротуары, она бежала по мостовой. Было уже совсем светло, а над городом нависло невиданное, черное зарево: горел бензин…
Мария остановилась только тогда, когда чьи-то сильные руки схватили ее за плечи и крепко сжали. Она подняла глаза и увидела лицо, перекосившееся от злобы. Она с разбегу попала прямо в объятия патруля.
И сразу появились еще какие-то лица. Несколько человек пробежало мимо. И все, очевидно, кричали, потому что у них были широко раскрыты рты. Но Мария крика не слышала, она оглохла, или все, происходившее вокруг, не доходило до ее сознания.
Потом ее ударили и она упала. Она попыталась встать, но ее снова ударили, схватили за руки и поволокли по земле — подняться ей не удавалось.
Она только видела, что ее тянут через базар. У лавок и рундуков сгрудились люди в крестьянской одежде — мадьярки в черных платках до плеч и украинки-горянки, одетые так же, как она. А ее все тащили по земле и о чем-то спрашивали, но она ничего не могла разобрать. Ее били снова, и она поняла, что ее могут убить. А этого нельзя допустить, — она должна жить, раз уж она не сгорела и осталась в живых после того, как подожгла бензин. Наконец Мария поняла, что ее спрашивают, кто она и почему бежала. Усатый полицай доказывал другим, что, вероятно, именно она и совершила поджог, — ведь она бежит как раз оттуда, где произошел взрыв, и ничего не хочет отвечать.
Только тогда к Марии вернулось сознание.
Она крикнула:
— Я шла на базар… а тут как ударило… я сильно испугалась!
Унтер остановился. Объяснение было вполне правдоподобно. Мария поднялась. Но в тот же миг на нее снова градом посыпались удары. Она закрыла лицо руками, стиснула зубы — нужно все вынести, только бы сохранить жизнь, чтобы снова и снова жечь цистерны, убивать фашистов, отомстить за Яна Пахола, победить…
И она крикнула:
— Моя сумка! Там был сыр! Ой, горе мне, я потеряла мой сыр!
Унтер перестал бить. Он снова спросил, откуда она.
Еле дыша, Мария прошептала окровавленными, разбитыми губами:
— Из-под Репеды я…
Так она и должна была отвечать, если ее спросит патруль. Репеда — ближайший пункт, откуда начинались селения горцев, и это было последнее село, из которого еще ходили на базар в Мукачев.
Полицай вытер окровавленную руку, потом потащил Марию к какой-то группе крестьянок, в страхе сбившихся у базарного рундука.
— Это ваша девка? — крикнул унтер. — Из вашего села?
Люди молча глядели на избитую Марию.
— Есть люди из-под Репеды? — снова крикнул унтер.
— Айно[2], — ответило несколько человек.
Мария со страхом глядела на крестьян.
— Это ваша девка? — повторил унтер.
— Наша! — раздался чей-то голос.
— Айно, наша! — подхватили еще голоса. — Мы ночью вместе вышли на базар…
Унтер толкнул Марию к толпе людей.
Мария стояла среди людей, которых она видела впервые. И люди эти никогда ее не видели. Но они признали ее своей…
Солнце уже поднялось с востока над Берегами.
День третий
Стахурский никак не мог избавиться от тревожного чувства: словно он спешит на помощь Марии — торопится, чтобы выручить ее из беды.
Марии же никакая опасность не угрожала, и не было оснований опасаться за ее благополучие. Не так давно Стахурский получил от нее телеграмму, в которой она восторженно извещала, что вот уже месяц находится в пустыне и пробудет в экспедиции до осени. Полгода пребывания в Казахстане сделали Марию еще более жизнерадостной, новые места стали ее родными. В одном из последних писем она писала: кто раз побывал в Средней Азии, тот уже никогда не забудет ее чар. Привольное житье в геологической разведке ей было по душе. И она была в полном восторге, что возвратилась к своей профессии географа, открывателя новых земель…
И все же тоскливое чувство не покидало Стахурского.
Его душевное состояние сейчас во многом напоминало то, в котором находился и он, и все бойцы партизанского отряда осенью сорок четвертого года, — там в Закарпатье, когда они в то прозрачное, раннее утро в конце августа увидели густую черную тучу над окутанным голубым предрассветным туманом Мукачевом. Эта черная туча точно кипела, а багровые сполохи и оранжевые отблески новых взрывов, следовавших один за другим, прорезали ее и взвихривали, как горячую смолу, бурлящую в гигантском голубом котле.
Они стояли тогда все вместе над обрывом и смотрели на эту оргию черного дыма и яркого пламени, кидали вверх свои шапки и оглашали неистовым «ура» тишину Карпат. Мария и Пахол сожгли бензин вражеской базы горючего!
Но прошел долгий день, день сборов в дорогу и ожидания героев, наступила ночь, а Мария и Пахол в лагерь не пришли. Тогда всем стало ясно, что произошло несчастье: или отважные разведчики погибли во время выполнения задания, или они попали в лапы гестаповцев. Тоска и уныние охватили всех.
Ночью Стахурский с двумя партизанами из Мукачева отправился в разведку. Они пробрались на окраину города, чтобы разузнать у жителей подробности о случившемся. Но толком им ничего не удалось добиться. Правда, в городе шли аресты, но хватали всех без разбора и все арестованные были местными жителями. Мария и Пахол, очевидно, не попали в гестапо, но погибли во время взрыва… С этим Стахурский и вернулся на рассвете в лагерь. Отряд уже двинулся, бойцы заслона — десять автоматчиков — еще издали заметили Стахурского на перевале и приветствовали его, подбрасывая шапки вверх. Только шапок было не десять, а одиннадцать. Одиннадцатая была шапка Марии. Мария была уже с отрядом. Она только что пришла из-под Репеды, куда ее вчера привезли, избитую и окровавленную, с Мукачевского базара репедовские «земляки».
Мария пришла, но про Пахола так ничего и не стало известно…
Вот тогда Стахурский и узнал это чувство тяжелой тревоги за судьбу товарища…
Сейчас Стахурский стоял посреди аэродрома. Беспредельная азиатская степь распростерлась вокруг до самого горизонта, только на юге волнистым гребнем маячили сады далекого города. Московский самолет доставил Стахурского сюда еще вечером, а рейсовый через пустыню на Балхаш придет только завтра. Но только что стало известно, что почтовый самолет отправляется отсюда через несколько минут в район копей, которые находятся совсем недалеко от стоянки геологоразведочной экспедиции. У Стахурского уже не было сил оставаться здесь до завтра — он должен скорее увидеть Марию! Желание этой встречи полгода тяготило его там, на днепровских берегах, оно бросило его теперь за тысячи километров, привело сюда, и он уже не мог больше сидеть ни одной минуты. Мария была совсем близко — несколько сот километров полета над пустыней.
Пустыня, впрочем, оказалась совсем не такой, какой ее рисовал в своем воображении Стахурский. Не было безграничных желтых песков, волнистых барханов, не завывал ураган. В гулкой тишине и какой-то хрустальной прозрачности сияло солнце, и казалось, что светится весь мир. Буйные травы и мириады цветов заполнили бескрайные просторы. Это была не пустыня, а степь — пышная, благодатная, в ярком, цветистом убранстве. Над землей царила радостная весна, и через несколько часов Стахурский увидит Марию!
На зимние каникулы Стахурский так и не смог выбраться к Марии. Он все еще исполнял обязанности директора и не мог даже на несколько дней отлучиться по личным делам. Только сейчас, в связи с тем, что директор был, наконец, назначен, Стахурский получил отпуск. И именно теперь он мог оставить институт, потому что летом ему предстояло с группой практикантов выехать на строительство в Донбасс. Тысячи молодых инженеров он еще не воспитал, но сотня в этом году уже будет, и нынешним летом Стахурский будет строить уже не один, а сам-сто.
От Марии он получил за это время три письма. В первом она известила его, что матери не застала в живых, — мать трагически погибла в последние дни войны. На шахте возник пожар, и Мариина мать, работавшая в вечерней школе учительницей, а днем табельщицей на шахте, бросилась в пламя, чтобы не дать распространиться огню. Оттуда вынесли ее обугленные останки…
Второе письмо пришло не скоро. Оно было спокойным, только грусть пронизывала его. Мария писала, что сейчас ее не могут отпустить из Казахстана, так как нет географов и георазведчиков для важных, срочных экспедиций и она необходима в управлении. К тому же она не может оставить партийную работу — как ветеран войны, она пользуется уважением и доверием товарищей в управлении, у нее большая партийная нагрузка.
В третьем письме Мария написала, что выбрана парторгом небольшой геологоразведочной экспедиции, в которую она назначена картографом. Это письмо было проникнуто восторгом по поводу радужных перспектив работы в привольных степных просторах.
После этого Стахурский получил только телеграмму: картограф, парторг разведывательной группы Мария Шевчук вот уже второй месяц путешествует в пустыне Бет-Пак-Дала.
И вот — он тоже в азиатских степях.
Бездонный купол лазурного небосвода словно выкроил в земном пространстве огромный зеленый круг и отделил его от остального мира. Каким неизмеримо далеким и невообразимым был этот мир, когда он представлял себе его дома, на берегу Днепра. Но вот он прилетел сюда, миновав тысячи километров лесов, полей и гор, и сейчас мера расстояния словно изменилась.
Казалось, отсюда до Киева было несравненно ближе, чем из Киева — сюда; всего каких-нибудь два дня воздушного пути! Это было странное ощущение — относительности и условности всех мер. Пространство и время словно перестали быть реальностью, реальным было только одно чувство: Мария рядом, и сейчас Стахурский ее увидит. Неужели он ее в самом деле увидит? Маленький самолетик выруливал по нетронутой траве на беговую дорожку. Дорожка не была бетонирована, как на больших аэродромах, только траву примяли колеса и запорошила пыль.
Самолет остановился, рокоча мотором и выстилая перед собой траву и цветы. К нему подкатил голубой почтовый пикап. Тотчас же начали перегружать на самолет мешки и бандероли. Двое — дежурный по аэродрому и какая-то девушка подошли к Стахурскому.
— Вот вам и спутница, — сказал дежурный, — познакомьтесь, пожалуйста.
Девушка протянула Стахурскому руку. Цветистая тюбетейка чудом держалась у нее на макушке, две толстые черные косы лежали на груди. Она была в вышитой украинской сорочке, и самое лицо ее было такое типично полтавское, что Стахурский не удержался и спросил:
— Вы с Украины?
Девушка улыбнулась. Она переложила портфель в правую руку, на левой, согнутой, висел белый плащ, на груди блестел комсомольский значок.
— А вы наверняка с Украины, — ответила она. — Каждый украинец обязательно спрашивает меня об этом. Неужели я так похожа на украинку? Нет, я с Волги, из-под Сталинграда.
— Ну вот и чудесно! — сказал дежурный. — Значит, земляки. Сталинградцы — всем земляки. Садитесь.
Они подошли к самолету. Пропеллер вертелся на малых оборотах, но весь самолет вздрагивал: казалось, подтолкни его — и он оторвется от земли. Маленькая дверь напоминала чердачный люк. Пилот и штурман сидели около навигационных приборов, их места даже не были отделены стеклянной переборкой.
Дежурный захлопнул дверь, и пилот увеличил обороты винта.
Небольшой разбег — и самолет поднялся в воздух. Внизу показался город, до того совсем невидимый с поля аэродрома; под крылом промелькнули ровные аллеи новых кварталов и лабиринт старых, узких и кривых улочек. Проплыли квадраты плантаций и просторы полей, потом распростерлись ровные зеленые степи. Ни один овраг, ни одна морщина не пересекали их неправдоподобно плоской поверхности. Небесный шатер искрился, точно был раскален солнечными лучами — на его сверкающую лазурь нельзя было смотреть. Только на глубокой синеве северного горизонта мог отдохнуть глаз.
Самолет шел с ровным гудением, даже не покачивало — так идет машина на большой скорости по гладкому асфальту. Казалось, воздух под самолетом был плотным и упругим: никаких воздушных ям, никаких воздушных течений…
Порой Стахурскому казалось, что все это ему снится. Неужели он летит к Марии?
Девушка молча сидела в кресле, слегка прижмурив глаза.
— Нам долго лететь до шахт? — спросил Стахурский.
— Три часа, — ответила девушка. Она раскрыла глаза и улыбнулась. — По этой трассе я уже налетала десятки тысяч километров, по крайней мере раз в неделю мне приходится совершать этот рейс. Это наша единственная связь с обкомом. Вы, должно быть, привыкли, что обком у вас за углом, на соседней улице? А у нас соседняя улица находится за пятьсот километров, а сто километров — это сразу же за углом. К этому скоро привыкаешь, — успокоила она Стахурского. — Вы к нам на шахты?
— Нет, мне нужна экспедиция.
— Ах, вы геолог?
— Нет.
— Географ?
Стахурский отрицательно покачал головой.
— Ну, ирригатор?
— Нет, нет…
— Значит — корреспондент?
— Не угадали.
— Уполномоченный ЦК? Или министерства?
Стахурский смутился и уклончиво сказал:
— Не стоит гадать. Я приехал по личному делу.
Девушка с еще большим любопытством взглянула на Стахурского. По каким же личным делам летают в пустыню, за тридевять земель? Но она не решалась расспрашивать. Она посмотрела в окошко и сказала:
— Река Талас. Скоро кончится зеленая степь и начнется мертвая пустыня. Потом будет Чу и наши места.
Стахурский тоже посмотрел вниз. Тоненький шнурок, словно нитка из голубого гаруса, извивался среди смарагдовых полей.
И сразу зеленый простор прервался. Потянулись серые пространства, лишь кое-где проступали в них зеленые островки: это последние кустики бурьяна еще боролись с песками. Под крылом самолета кустики были похожи на недозревшие зерна мака, разбросанные по небеленому суровому холсту. И здесь прозрачность воздуха была необычайна: с высоты в несколько сот метров отчетливо вырисовывался каждый куст на земле. Но они попадались все реже. Иногда в унылой желтизне песков возникали светлые пятна, блестевшие точно лакированная кожа, круглые, как тарелки с выщербленными краями.
— Это высохшие озера, — сказала девушка на вопросительный взгляд Стахурского. — Они еще не совсем пересохли. Видите, посредине блестит вода.
Вода в центре озер казалась черной, как смола.
— Тут еще встретятся заросли саксаула, а потом только пески до самой Чу, и дальше уже Бет-Пак-Дала. Там нет ни отар, ни табунов, и на протяжении тысячи километров вы не встретите юрты — до Балхаша на восток и Джезказгана на запад.
Непривычно звучали для Стахурского эти названия. Он прошел пешком пол-Европы и слышал немало языков и наречий: и звучную славянскую речь, и гортанный говор немцев, но он еще ни разу не слышал громко произнесенных казахских слов. Он много стран видел за свою военную жизнь, но ему никогда не приходилось бывать в Средней Азии. И особое удовольствие доставляло сознание, что он летит над необъятными просторами нового для него, но тоже родного края. Он испытывал радость в дни войны, когда летал над землей, отвоеванной у противника. Но это была радость победы. А сейчас он переживал спокойную радость встречи с родной страной. И хотя он летел над песками пустыни, они были милее сердцу, чем цветущие долины чужой стороны…
Девушка неожиданно прервала его раздумья:
— Вы уже читали о новых ирригационных системах и росте посевных площадей в Казахстане? Все это находится в непосредственной связи с проблемой Чуйского моря.
— Чуйского? Я что-то не слыхал. Разве есть такое море?
Девушка засмеялась, но тут же прервала смех и неторопливо объяснила:
— Сперва появляется объект, а потом уже слово, как название этого объекта. Так нас учили в школе. Но это было давно. Теперь у нас все по-иному: слова рождаются раньше предметов. Чуйского моря еще нет на земле, но его название уже существует. Море будет немного позднее. Мы летим над его будущими берегами.
Стахурский был смущен — он никогда не слышал об этом море ни в прошлом, ни в будущем.
Девушка заметила его смущение и поспешила прийти на помощь.
— Об этом море ничего не написано в учебниках географии. Оно известно только геологам и географам. Его строит профессор Яковлев.
— Это звучит странно — строить море…
Они говорили очень громко, точно спорили, чтобы преодолеть гул мотора. Девушка с увлечением продолжала:
— Река Чу вытекает из ледников Ала-Тау. Но ледниковые воды текут не только по руслу Чу, а по всей низменности, по земле и под землей, просачиваясь сквозь песчаные слои. На западе они выходят на поверхность после весеннего паводка, и их накапливается столько, что они затопляют на десятки километров западную окраину Бет-Пак-Далы. Эти воды надо задержать, не позволить им теряться в песках, — вот вам и море.
— Озеро?
— Ну, озеро! Мы привыкли романтически именовать это морем.
— Да… Но ведь придется построить гигантскую дамбу, чтобы задержать такую массу воды.
— Ничего подобного! — горячо возразила девушка. — В низовьях Чу, разделяя ее на три части, поднимаются гребни подземного каменного хребта. Он преграждает водам подземные пути, оттого они и выходят на поверхность, а на поверхности этот каменный пояс окружает огромную котловину площадью в тысячу квадратных километров. Надо будет возвести только две небольшие дамбы в полтораста и двести метров, чтобы закрыть два узких прохода в горной цепи, — и дно моря готово.
Стахурский глядел на вспыхнувшее от возбуждения лицо девушки, и в груди его нарастало волнение. Рассказ о будущем море действительно был волнующим, но его волнение увеличивалось еще от того, что девушка чем-то напоминала ему Марию. Ведь через несколько часов и Мария с такой же горячностью будет ему рассказывать о своих странствиях в пустыне и открытиях экспедиции, с такой же страстью нарисует лучезарные перспективы расцвета ныне мертвой пустыни Бет-Пак-Дала. И в словах не умолкавшей спутницы он слышал голос Марии:
— Воды этого моря оросят пятьдесят тысяч гектаров пустыни, на которых зацветут нивы, плантаций, сады и виноградники. Вокруг на сотни километров зазеленеют пастбища, такие, как под Джамбулом. Геологи наступают целыми отрядами на будущий водоем со всех сторон и уже зашли ему в тыл — под землей. Река Чу взята в кольцо, и ей уже не вырваться из окружения! — Девушка снова засмеялась. Взгляд ее скользнул по орденским ленточкам на груди Стахурского, — она говорила словами, понятными ветерану войны. Она говорила словами Марии.
— А вы геолог? — спросил Стахурский.
— Нет.
— Но работаете в георазведке?
Девушка сказала смеясь:
— Теперь вы будете гадать. Нет, я комсорг на шахтах.
— Но вы так хорошо информированы во всех геологических проблемах!
— Мне приходится делать доклады о пятилетке на собраниях молодежи и в пионерских отрядах. Только не подумайте, что я репетировала свой будущий доклад. Я просто увлеклась, и если утомила вас своей болтовней, простите…
— Я вам очень благодарен, — сказал Стахурский. — Было так интересно слушать вас. А ваше увлечение мне вполне понятно. Так бывает и с нами, бывшими фронтовиками: не заметишь, как увлечешься и при первом же знакомстве начнешь рассказывать о какой-нибудь военной операции, в которой приходилось участвовать.
Девушка погрустнела:
— А я так и не побывала на войне. В годы войны была еще слишком мала, и теперь вот неловко: все окружающие воевали, а я — нет.
— Ну, вы еще свое отвоюете, — утешил ее Стахурский.
— Вы думаете, скоро опять будет война?
— Не знаю… Мы делаем все, чтобы ее не было. Но я имел в виду другое…
— А вся эта атомная дипломатия в Америке? — перебила его девушка. — Я выбиваю двадцать из двадцати пяти возможных.
Стахурский усмехнулся.
— Почему вы смеетесь? — обиделась девушка.
Но она сразу же заговорила с прежним дружелюбием:
— Ну скажите мне… Вот вы воевали и, видимо очень хорошо… — Она кивнула на орденские ленточки Стахурского. — Скажите же мне: какие качества нужны, чтобы стать хорошим солдатом? Я понимаю: когда все идут в наступление, идешь и ты, рядом с боевыми товарищами ты смел и отважен. А вот если останешься один лицом к лицу с врагом? Что тогда нужно, чтобы с честью выполнить воинский долг?
— Чтобы быть хорошим солдатом?
— Ну да.
Стахурский задумался. Был ли он хорошим солдатом? Кто из его боевых друзей был хорошим солдатом? Стояли насмерть. Умирали в боях. Стремительно наступали и совершили победоносный марш по Европе. Как это произошло? Что необходимо для этого?
Он глядел на спутницу и снова видел Марию. Была ли Мария хорошим солдатом, когда ей приходилось оставаться одной в бою, в разведке, на диверсии? Под Малышевом, когда отряд отходил, она осталась с группой прикрытия — все бойцы группы пали в бою, и она одна, не отходя от пулемета, прикрывала отступление, пока последний партизан не перешел на противоположный берег реки. Десятки раз она ходила в разведку одна в тыл врага. В Мукачеве сожгла четырнадцать цистерн… Как она стала хорошим солдатом?
Стахурский раздумчиво сказал:
— Я думаю, для того, чтобы выиграть бой одному, надо готовиться к бою вместе со всеми. Один побеждает, если воюет не один.
Девушка внимательно выслушала и ничего не сказала. Она задумчиво глядела в окно. Бесконечные пески тянулись под крылом самолета до самого горизонта. Пустыня теперь была так однообразна, что казалось, самолет повис в воздухе и стоит на одном месте. На ослепительно синем, точно твердом небосводе ни единого облачка. Вокруг раскинулся простор, но ощущения простора не было. Неужели они на самом деле летят над дном будущего озера, которое сотворят люди? Знойное солнце согреет эти благодатные воды, и в глубине их зародится жизнь — появятся водоросли, к ним прилепятся черепашки, поплывут рыбы, птичьи стаи зашумят в прибрежных камышах, а вокруг в зеленых степях поднимутся буйные травы и кудрявые сады, на пастбищах круглый год будут пастись отары тонкорунных овец, табуны сильных степных коней, стада тучных коров. И будут сюда прилетать на зимовку птицы из северных стран… Так сотворение нового мира произойдет не в течение тысячелетий, а в считанные дни, волей и руками большевиков.
— Вы из Сталинграда? — спросил Стахурский.
— Да, — ответила девушка. — Отца эвакуировали сюда в сорок втором году. Он инженер. И во время эвакуации работал тут, на строительстве. Я тогда училась в седьмом классе. Мы приехали в такую же пустыню, как эта, строительство только начиналось, рабочие жили в палатках и юртах. Но через полгода первая шахта была готова. Теперь у нас там обогатительная фабрика, электростанция, рабочий поселок, пруд, парк культуры и отдыха и даже оранжерея. Все это возникло у меня на глазах, и я теперь чувствую себя там совсем как дома.
— И не тянет вас в Сталинград, домой?
— Ах! Я уж привыкла, что домой — это на наши копи. Знаете, может, это и хорошо, что я девочкой еще попала сюда, в эти просторы. Здесь появляется какое-то особенное ощущение родной страны. Будто весь мир принадлежит именно тебе. Волга, Сталинград, Москва — это же совсем не так далеко отсюда. Сел и полетел! Зато они отсюда кажутся еще значительнее. И потом: разве не всюду наша родина? Разве не те же чувства волнуют советских людей на берегах Тихого океана или в Карпатах?
— Верно… На океане я, правда, не был, зато в Карпатах я это ясно чувствовал.
Девушка помолчала.
— Сначала я очень тосковала о доме, особенно о Волге. Не могу без воды… Я хорошо плаваю, — похвалилась она, — и уже заранее влюблена в наше будущее море и думаю организовать яхтклуб. Правда, море будет километрах в пятнадцати от нас, но это пустяки. У меня есть велосипед, и у нас, конечно, будут мотоциклы и автомобили.
— И самолеты, — улыбнувшись, прибавил Стахурский.
— И самолеты, — серьезно повторила девушка. — Здесь так чудесно летать, над этими просторами… завтракать на одном конце пустыни и ужинать на другом. — Она засмеялась. — И нет ничего приятнее, чем строить на пустом месте, — там, где ничего не было, воздвигать города. Чувствуешь себя всемогущим хозяином земли. Вы представляете себе?
— Я инженер-строитель.
— Что вы говорите! — обрадовалась девушка. — А я решила стать биологом, селекционером. Правда, неожиданная профессия в песках Голодной степи?
— Почему? — возразил Стахурский. — Если учесть ближайшие перспективы преобразования пустыни в поля и пастбища, эта профессия очень нужна.
И вдруг Стахурский спросил:
— Скажите, вы не знаете случайно картографа геологической экспедиции Марию Шевчук?
— Марию? Ну, конечно. Парторга геологической группы! — глаза ее сверкнули. — Это вы к ней и летите по личному делу?
— К ней, — подтвердил Стахурский.
Он: глядел прямо в глаза девушке, стараясь задержать ее взгляд, чтобы она не посмотрела пристальнее на его лицо: он чувствовал, что румянец заливает ему щеки. Он сердился за это на себя. Эта девушка знает Марию, быть может, только вчера видела ее, — от этого он чувствовал и Марию уже совсем близко. Она уже стояла между ними — вот тут, между их глазами, связанными одним взглядом, стояла живая, ощутимая Мария!
— Меня зовут Валя, — сказала девушка.
— И вы давно ее видели?
Он ждал ответа с внутренним волнением, будто от того, когда Валя видела Марию, зависело решение всей его судьбы.
Но Валя не ответила на его вопрос.
— Вы — Стахурский! — вскричала она. — Комиссар партизанского отряда. Мария столько мне рассказывала о вас! — В глазах Вали светилось радостное волнение.
Стахурский хотел повторить свой вопрос, но Валя не дала ему сказать ни слова.
— Вы — Стахурский, Стахурский! — крикнула она и даже захлопала в ладоши. — Теперь я узнала вас! Пусть же вам, бывшему командиру Марии, будет известно, что вашу Марию все здесь страшно любят. Она такая хорошая, такая веселая, и у нее такая героическая жизнь. У нас тут она единственная партизанка, как бы живая история партизанского движения во время Великой Отечественной войны! Вы думаете, что ее, новичка, только-только приехавшую сюда, так сразу и сделали бы парторгом, если бы не ее героическое партизанское прошлое?
Стахурский краснел все больше и больше. Если любишь, что может быть лучше, чем говорить о человеке, которого ты любишь? Лучше только одно — слушать, как о твоем любимом говорят хорошее.
Валя внезапно прервала себя и грустно вздохнула:
— Ах, вы никогда не поймете, как досадно тому, кто не участвовал в войне!
Стахурский взял Валину руку.
— Не огорчайтесь, Валя. Мы и сейчас бойцы. Надо сделать так, чтобы никто не мог напасть на нас или, напав, свернул себе шею. Мы с вами настоящие солдаты.
Валя пожала ему руку.
— Вы так хорошо сказали, что теперь я… больше себя уважаю.
Они смотрели друг на друга, ощущая и неловкость за проявление своих чувств, и радуясь простоте, которая установилась между ними.
Валя сказала задушевно:
— Вот сразу видно, что вы были на войне. Вы так хорошо понимаете все на свете.
— Ну, — сказал Стахурский, — это потому, что вы так здорово рассказали мне про открытие новых земель.
Валя засмеялась.
— А теперь мы уже говорим друг другу комплименты.
Потом он уже просто, не краснея, как близкого человека, снова спросил:
— Вы давно видели Марию?
— Недели две назад. Она приходила на шахты, на могилу матери. — Валя нахмурилась. — Так страшно погибла ее мать. Ее похоронили возле шахты. Наши девушки украшают цветами могилу — летом степными, а зимой — оранжерейными.
— Мария не писала мне подробностей, — сказал Стахурский. — Ей это было бы больно. Вы не знаете, при каких обстоятельствах погибла ее мать?
И Валя рассказала Стахурскому про гибель матери Марии. Валя училась у нее в школе. Когда постройка шахты была закончена и начался набор персонала, учительница Шевчук пошла со всеми работать на шахту. В последние дни войны на шахте вдруг произошел взрыв и возник пожар. Мариина мать и еще несколько рабочих бросились к месту взрыва, чтобы воспрепятствовать распространению пожара. Но тут произошел второй взрыв, и они все погибли.
— Два взрыва? — переспросил Стахурский.
— Да, — ответила Валя, — эта была диверсия. Фашистские диверсанты пробрались даже сюда, на строительные объекты в далеких степях Казахстана.
Она умолкла. Война прошла не только там, далеко на западе, на фронте. Она прошла и здесь, за тысячу километров от фронта, в глубоком тылу. И, как на фронте, смело отдавали свою жизнь наши бойцы. Мать Марии — боец, погибла в тылу, как на фронте, смертью храбрых. Военный подвиг народа совершался всюду. Великий мирный подвиг надо совершить в память погибших героев, чтобы иметь право на жизнь тем, кто остался в живых.
Валя задумчиво тронула Стахурского за рукав.
— Видите? — кивнула она на окно.
— Ничего не вижу.
— Вон на горизонте!
Стахурский пристально вгляделся в даль, куда указывала Валя. Ровная, словно вычерченная циркулем, линия пустынного горизонта была впереди, как раньше.
— А что надо увидеть? — спросил он.
— Это же наши шахты! — укоризненно крикнула Валя. — Неужели не видите? Ну вон же! Еще, правда, километров тридцать.
Стахурский ничего не видел. Но сердце его забилось сильнее. Через несколько минут он увидит Марию. А вдруг она в пустыне и не скоро вернется на базу? Нет, он не сможет ждать ее ни часу — он поедет за ней в пустыню.
Два года Мария была в отряде, и Стахурский был ее командиром. Каждую минуту он знал, где она, — стоило только позвать ее, и она приходила, становилась «смирно» и ждала, готовая выполнить любой его приказ. Он посылал ее в разведку, для связи — и тоже знал, где она и когда должна вернуться. И он назначал ей точное время для выполнения операции. Когда она возвращалась, он принимал рапорт и говорил: «Спасибо, вы свободны, отдохните». Она была бойцом, он — командиром, и никогда, кроме случаев совместного выполнения заданий, они не оставались наедине… Теперь он хотел бы остаться с Марией только вдвоем, теперь ему хотелось позвать: «Мария!» Мирная жизнь разлучила их, как других разлучала война. Нет, он должен быть с Марией неразлучно. Он найдет ее сейчас и уже не расстанется с ней никогда. Он увезет ее отсюда, они вернутся вместе домой, в Киев. Он будет работать в своем институте, она — по своей специальности.
Но Стахурскому стало не по себе: имеет ли он право отрывать Марию от выполнения заданий, порученных ей? Разве они и сейчас не солдаты в мирном строительстве, как и на войне? Солдат не выбирает себе более удобного места на фронте, а сражается там, где приказывает командир.
— Теперь вы видите? — услышал он голос Вали.
Да, теперь он видел. Прямо по курсу, на горизонте, вырисовывались какие-то игрушечные строения. Неудивительно, что Стахурский их раньше не заметил — они почти совершенно сливались с песками. Кое-где были вкраплены темные островки: это были зеленые насаждения. В центре поселка островок зелени был больше других, и рядом блестела вода.
— Это река? — спросил Стахурский.
— Река, — ответила Валя. — Но летом она исчезает в песках, и мы построили бассейн, чтобы обеспечить шахту водой на весь год.
Самолет пошел на посадку.
Теперь бесформенное скопище строений вытянулось в одну линию. Но это продолжалось только минуту, линия сразу распалась, и Стахурский увидел правильно, геометрически распланированный поселок. В центре располагались строения промышленного типа, а вокруг них — жилые кварталы.
Посредине поселка была просторная площадь, около нее, за сверкающим водохранилищем, точным прямоугольником тянулся зеленый сад.
Самолет сильно накренился и круто пошел вниз — кварталы веером побежали назад. Пилот сделал круг над поселком. Теперь были видны даже автомобили на улице. Через площадь длинной цепью медленно шли верблюды с кладью. Самолет сделал прыжок и словно пошел назад — снова мелькнули пески, потом быстро пролетел над самой землей, желтый песок закрыл все небо в окнах кабины, гул мотора прекратился, перед глазами завертелись лопасти винта, и сразу заложило уши: пилот выключил пропеллер. Самолет тряхнуло, он коснулся земли, пробежал по ней и остановился.
— Вот и приехали! — донесся до оглушенного Стахурского далекий голос Вали.
Волнение перехватило Стахурскому горло. Он толкнул дверцу и выпрыгнул на песок. Вернулся слух, и в уши снова ударило, как страшным шумом, — беззвучной, мертвой тишиной пустыни. Вокруг был песок, только песок — ровная, плоская, безграничная, до самого синего неба, пустыня. Низкий деревянный барак, очевидно пакгауз, стоял на пустыре; никаких признаков жилья больше не видно было, как будто поселок за дюнами и не существовал. Песок скрипел под ногами, словно скованный морозом снежный наст.
Стахурский стоял с Марией на одной земле, у нее тоже хрустел под ногами этот песок, она была где-то здесь, близко, совсем рядом.
— Пойдемте ко мне, вы приведете себя в порядок, я покормлю вас, и тогда отправимся искать Марию, — предложила Валя.
Стахурский послушно пошел за Валей. Но вдруг он остановился и сказал:
— Нет! Скажите мне, как пройти к базе экспедиции?
Валя внимательно посмотрела на него и кивнула головой.
— Хорошо. Я провожу вас. База по дороге к моему дому.
Они пошли. Все так же скрипел под ногами сухой, спрессованный, как сплошной наст, песок. Вокруг стояла тишина. Такой тишины Стахурский нигде не слышал, даже в Карпатах — там было очень тихо, но тишину нарушали птичьи голоса и гудение лесных пчел. А тут не было ни птиц, ни пчел… Тут была такая абсолютная тишина, что казалось, ты ее чувствуешь. Не верилось, что в такой сверхъестественной тишине могут быть люди. Единственный звук слышался в этой мертвой тиши, но он был таким монотонным, что только подчеркивал ее. Гудел мотор, очевидно, где-то в надшахтных постройках.
Они миновали барак, и поселок точно из-под земли вырос. Он был совсем недалеко, сразу за дюнами. На краю его стояли длинные островерхие бараки — их двускатные крыши достигали поверхности земли.
— Эти бараки, — объяснила, Валя, — построили в сорок первом году для эвакуированных, но сейчас там живут только холостые рабочие. Поселок сильно вырос за эти годы.
— Шахту восстановили после взрыва?
— Через месяц она уже снова вступила в строй. Коммунисты и комсомольцы работали день и ночь.
Они вышли на улицу. Справа начинались шахтные сооружения. Гудки мотора стали еще слышнее: он работал с частыми перебоями.
— Опять плохое горючее! — с досадой сказала Валя. — К концу пятилетки здесь пройдет железная дорога, и тогда мы перейдем на местное топливо.
Они прошли мимо шахтного двора. У ворот стоял вахтер. Он помахал Вале рукой, а она приветливо махнула ему.
За шахтным двором торчало несколько чахлых тополей. Вероятно, тут распланировали сквер, но песок пустыни задушил деревья. Дальше стояли жилые дома. Это были маленькие коттеджи, с небольшим огородом около каждого, в несколько грядок необычного типа: они были ниже поверхности земли, каждая в отдельном углублении, а вместо межи их разделяли небольшие насыпи. По гребню насыпи шел небольшой арык, тянувшийся до узкого канала, а оттуда деревянный желоб вел к колесу с рычагом. Коттеджи выстроились на берегу водохранилища — из него качали воду на грядки. Вода в пруду словно застыла, от нее не веяло прохладой. В пустыне стоял неподвижный, изнуряющий зной, хотя было только начало апреля.
— Вот! — Валя указала на деревья по другую сторону водохранилища. Там был сад, очевидно, тот самый, который они видели с самолета. Среди негустой еще листвы виднелся двухэтажный дом. Стахурский понял, что там живет Мария, и глубоко вздохнул.
Когда они подошли к саду, навстречу показался юноша в желтой кожаной куртке и в черной с белым орнаментом тюбетейке на бритой голове.
— Вот кстати! — оказала Валя. — Это из экспедиции. Студент-геолог Токмагамбетов.
— Валя, привет! — крикнул юноша ломающимся, как у подростка, голосом. — Из Джамбула?
— Здравствуй! Из Джамбула! Ты не знаешь, где сейчас Мария? В поселке или выехала в степь?
— Мария в Алма-Ате, — ответил юноша, крепко пожимая руку Вале. — Разве ты не знаешь, что ее вызвали еще две недели назад?..
Он с любопытством поглядывал на Стахурского, ожидая, когда Валя их познакомит.
Стахурский почувствовал, как Валина рука, лежавшая на его руке, словно обмякла. Это было все, что он сейчас чувствовал. Марии нет…
Валя с нескрываемым огорчением смотрела на Стахурского. Марии нет!
— Что ты говоришь? — прошептала она грустно. — Познакомься, пожалуйста. Товарищ приехал к Марии, а ее нет. Как же это так?!
Молодой геолог крепко пожал руку Стахурскому и с любопытством посмотрел на него.
— Что же теперь делать? — снова прошептала Валя, растерянно глядя на Стахурского, будто это она сама прилетела через тысячи километров, чтобы видеть Марию, а Марии нет.
Все трое молчали. Вокруг стояла такая тишь, что хотелось закрыть уши, чтобы не слышать этой тишины.
— Надо узнать, когда почтовый самолет возвращается в Джамбул.
Стахурский выпустил Валину руку.
Но Валя задержала ее.
— Из Джамбула очередной рейсовый будет только в четверг. Через три дня.
Тишина царила в пустыне. Только назойливо рокотал мотор.
— И другой связи с Алма-Атой нет?
Валя виновато улыбнулась одними губами. Глаза ее просили прощения, словно за необъятность пустынных просторов отвечала именно она.
— Так вам в Джамбул или Алма-Ату? — недоумевающе, но снова весело спросил молодой казах.
— В Алма-Ату, — ответила Валя.
— К чему ж тогда Джамбул и три дня? — крикнул юноша. — Сейчас прилетит наш экспедиционный, он захватит меня и образцы породы, и вечером я вас доставлю в Алма-Ату.
— Токмагамбетов! — Валя схватила егоза руку. — Ты можешь? Сделай это для нас!
— Сделано! — весело крикнул Токмагамбетов. — Кроме трех килограммов камешков, нас будет в самолете трое. Только ты возьми пальто, — он кивнул на Валин плащ, — по метеосводке сейчас в Алма-Ате холодные ночи.
— Я не лечу. Это полетит товарищ Стахурский.
— А-а! — разочарованно протянул юноша.
Валя сдвинула брови и строго сказала:
— Товарищ Стахурский прилетел к Марии из Киева. Он был ее командиром в партизанском отряде.
— А! — снова воскликнул юноша, но на этот раз его возглас выражал удивление, почтение, даже некоторый испуг, и он жадно еще раз осмотрел Стахурского. Потом он спохватился и сильно потряс Стахурскому руку. — Токмагамбетов, — сказал он, забыв, что они уже познакомились. — Самолет будет через полчаса.
Он сразу заторопился.
— Я сейчас побегу на аэродром, предупрежу, чтоб не задержали, чтобы все было готово вовремя. Знаете, самолет с грузом, и я побегу подготовить людей для выгрузки. Они разгрузят за пятнадцать минут, я сам буду руководить. Будьте спокойны, через четыре часа мы будем в Алма-Ате!
Целых четыре часа!
— Спасибо! — от всего сердца в один голос сказали Стахурский и Валя.
— Так я побежал! — Токмагамбетов пожал руку Стахурскому, забыл попрощаться с Валей и торопливо ушел. Выйдя на площадь, он бросился бежать. Его черная тюбетейка подпрыгивала над желтой кожанкой и вмиг исчезла за казармами.
— Мне, право, неловко, — сказал Стахурский.
— Ничего, — отозвалась Валя. — Он хороший парень. Какое счастье, что мы встретили его.
— А мы не прозеваем самолет?
Валя усмехнулась.
— Ну что вы! Разве можно прозевать самолет в пустыне? Мы знаем всех птиц, которые залетают в поселок, а вы — прозевать самолет! — Она пошла и потянула за собой Стахурского. — Идемте скорее, вам надо умыться с дороги, я вас накормлю. Покушайте нашей клубники. Мы вырастили ее в пустыне, в наших оранжереях.
Стахурский послушно последовал за ней. Он все-таки увидит Марию сегодня.
Они вошли в прозрачную, почти неощутимую тень молодых деревьев. Здесь, в пустыне, где апрельские ночи дышали холодом зимы, почки только раскрывались — клейкие и упругие. Солнце пронизывало молодую поросль и отбрасывало под ноги причудливое кружево иллюзорных теней. Молодые деревья росли прямо из песка, но вокруг каждого ствола было углубление, засыпанное влажным перегноем, а между этими углублениями журчали арыки. В памяти Стахурского всплыл отрывок когда-то услышанного стихотворения про азиатские арыки — они поют и звенят, как колокольчики. Он послушал.
Арык в самом деле звенел, но этот звон не нарушал тишины, а только углублял ее. Была такая тишь, что казалось, ее создали умышленно и строго охраняли ее нерушимость. Стахурский еще не привык не замечать этой неправдоподобной тишины.
Арык в самом деле пел.
— Валя! — сказал Стахурский. — Минуточку подождите. Раньше чем идти к вам, покажите мне, пожалуйста, могилу матери Марии.
Валя посмотрела на Стахурского добрыми глазами.
Надо было спешить, скоро прибудет самолет, но она покорно сказала:
— Хорошо.
Они пошли мимо какого-то сооружения с большим маховиком, от которого тянулись желоба к арыкам, и вышли на площадь. Почти посредине ее, между двух десятков молодых деревьев, высился холмик, увенчанный небольшим обелиском.
— Вот! — сказала Валя.
Они подошли ближе.
Стахурский смотрел на обелиск. Он видел сотни таких обелисков — грубо отесанных камней на невысоких холмиках в степях, горах и лесах Европы, от Карпат до Дуная. Это были могилы боевых товарищей, героев-бойцов. Если в стремительном наступлении на врага воины не успевали насыпать холмики над павшими товарищами, они вырастали все равно — их воздвигали и заботливо хранили руки местных жителей. Сотни таких обелисков разбросаны на политых кровью, но освобожденных просторах Европы. Немеркнущим огнем — заветом и призывом — они пронизывают европейские туманы.
И вот точно такой же обелиск встал перед Стахурским и здесь, за тысячи километров от бывших фронтов, за тысячи километров от мест, где гремела война.
И этот боевой обелиск был надгробием над могилой матери его любимой, его Марии, над ее преданным, отважным и жертвенным военным трудом.
Стахурский снял шапку.
Они остановились около могилы.
На обелиске черной краской на сером фоне песчаного камня было написано не одно, а несколько имен. Шевчук Василина Клементьевна — стояло первым.
— В этой могиле, — объяснила Валя, — мы похоронили вместе всех погибших, нельзя было отделить сгоревшие тела.
И это была братская могила, как там, на фронте. Мать Марии легла в братскую могилу наравне с другими отважными бойцами.
На могиле лежал венок из чуть увядшей зелени. Его положили сегодня.
Стахурский стоял, склонив голову. Валя отпустила его руку и стояла рядом, тоже в почтительном молчании.
Подвиг еще надо совершить — во имя тех могил, что остались там, в Европе. Подвиг еще надо совершить — во имя этой могилы в далеком тылу.
И Стахурский вспомнил своих родителей.
Они давно умерли. Отец был машинистом депо на небольшой узловой станции близ границы на Збруче. В тысяча девятьсот пятом году он участвовал в боевой рабочей дружине и был сослан в Нарым. Там и родился Стахурский. Мать, подольская крестьянка, не вынесла сурового сибирского климата и вскоре умерла. Когда отец отбыл ссылку, его послали на фронт первой мировой войны. Поздней осенью семнадцатого года он возглавил большевистский солдатский комитет и увел полк с западного фронта на фронт гражданской войны. Через год его расстреляли оккупанты, ворвавшиеся на Украину. Три года осиротевший Стахурский был беспризорным, слонялся по степям Украины, по Крыму и Кавказу. Детская колония дала ему путевку в жизнь. Он: строил Харьковский тракторный завод, окончил в Киеве институт, вступил в партию большевиков, во время войны работал в подполье на временно оккупированной территории Украины, прошел с партизанскими отрядами от Буга до Дуная, как командир Советской Армии, дробил гитлеровскую военную машину.
Нет, он не запятнал светлой памяти своих родителей.
Только он не знал, где они похоронены.
Но вот перед ним была могила Марииной матери. И это была могила его родителей. Ибо Мария будет его женой.
И ему хотелось сказать Марии «спасибо». Хоть он и не знал, за что ему благодарить Марию, разве за то, что она существует на свете и появилась на его жизненном пути.
И она недавно стояла здесь, над могилой матери, на этом же месте — и так же, в раздумье, смотрела на венок из свежей зелени. Это был другой венок, но он был.
Ясно и чисто было у Стахурского на душе.
Валя легко коснулась его руки.
— Пойдем? — тихо спросила она. — Вам еще надо столько успеть до самолета…
Она не закончила и подняла голову.
Стахурский тоже поднял голову. Сомнения не было: высоко в небе, еще далеко над просторами пустыни, еле слышно гудел шмель.
Арык вблизи звенел, как колокольчик, шмель издалека гудел. Словно они пели в два голоса.
— Самолет… — прошептала Валя. — Вот и самолет…
Стахурский так и не успел ни умыться с дороги, ни поесть, и Вале было жалко так скоро расстаться с ее новым приятелем.
— Самолет! — сказал Стахурский.
Радость наполнила его. Самолет на самом деле есть, и сейчас он полетит в Алма-Ату, чтобы еще сегодня увидеть Марию и сказать ей, что он не может жить без нее.
Уже спускались сумерки, когда Стахурский очутился на берегу Алмаатинки.
Сейчас он перейдет через мост, скроется в тени парка, а оттуда, мимо горного озера, и дальше по узкой дорожке между двумя садами выйдет на улицу с чарующим названием — Клеверная. Там, в доме номер пятьдесят девять-А, живет Мария. И он увидит ее.
Чудесный город-сад, в который Стахурский попал полчаса назад, после песков Голодной степи, поразил и взволновал его. Стахурский еще не видел таких прекрасных городов. Весна тут уже вошла в свои права, и город-лес стоял убранный, как к венцу. Широкие, без конца и края, асфальтированные проспекты были обсажены высоченными деревьями, а под деревьями нескончаемыми голубыми лентами тянулись арыки — вода в них звенела и журчала. Это были не улицы, а просеки в громадном лесопарке или лесистые ущелья в предгорьях. Дома — большей частью одноэтажные, со старинными, просторными верандами — стояли среди палисадников и только смутно просвечивали сквозь буйную зелень южной весны в этом городе-оазисе.
Просекой-проспектом, который назывался улицей Максима Горького, Стахурский вышел к реке и оказался перед этим мостом. Он считал это добрым предзнаменованием: колония Горького когда-то дала ему путевку в жизнь, теперь он по улице Горького шел к Марии.
Он перешел через мостик и очутился в парке.
В этом городе-парке были еще и специальные парки — через каждые два — три квартала.
Парк стоял чудесный, как замершая мелодия. Справа, вдали, вздымался могучий хребет Ала-Тау — оголенный мускул Тянь-Шанской цепи Небесных гор. Он был легкий, веселый и словно призрачный — так много красок было в нем и так часто они менялись. На самой вершине, на острых шпилях, ослепительно сияли снега. Ниже лоснились светло-зеленые, как грядки салата, альпийские луга. Еще ниже каждую гору опоясывал синий лес — он словно приник к горе, обнимая ее, и клялся никогда не выпустить из своих объятий. А потом уже к городу спускались взгорья и холмы — то в зеленых пастбищах, то в белопенном цветении буйных яблоневых садов. Косые лучи заходящего долина искрились на горных уступах, и весь хребет стоял как высокая радуга над землей.
Слева — на севере — простерся небосвод. Он был синий, вечерний. Но синева была такой яркой, искристой, что казалось, будто небо снизу освещает раскаленная добела земля. Казалось невероятным, чтобы на такой лазури могло появиться облако. Но так было и в действительности: тучи никогда не заходили на север. Когда они вырывались из горных ущелий и нависали над городом, то сразу же — от западного до восточного края неба — они обрывались ровной линией, как окоп, и в пустыню не шли. Над пустыней всегда было безоблачное небо — небо пустыни.
Сразу же у входа в парк был большой цветник. Мириады цветов всех оттенков спектра пестрели на клумбах и бордюрах. Это были могучие цветы юга. От их пряного аромата захватывало дыхание и кружилась голова.
Как прекрасна может быть жизнь! И он сейчас увидит Марию.
Цветы как бы шли вместе со Стахурским. Они обгоняли его по обочинам аллей. Он словно плыл в дивном море, и светло-зеленая березовая аллея, к которой он шел, с ее стыдливой нежностью северной красавицы, была будто тихим берегом, к которому он должен был пристать.
Он вышел на асфальтовую аллею и увидел синий киоск. Перед киоском стояли две бочки, и меж них на высоком табурете сидел инвалид с пустым рукавом вместо левой руки.
Стахурский почувствовал, что хочет пить, — он с утра ничего не пил. Он подошел к киоску и попросил воды.
Воды не было. В одной бочке было клубничное вино, в другой — малиновое.
Инвалид-казах налил стакан малинового вина И молча поставил его перед Стахурским.
Стахурский выпил вино. Это было лучшее из вин, которые ему когда-либо приходилось пить. У него был вкус свежей ягоды, только что сорванной с куста.
Тогда он попросил клубничного вина.
Это вино было еще вкуснее. Аромат свежей ягоды был таким натуральным, что нельзя было поверить, что это вино, которое выстаивалось в бочке в холодном погребе. Это был сок, выдавленный только что, в нем, казалось, сохранилась еще солнечная теплота живой ягоды с грядки.
Инвалид глядел на орденские ленточки на груди Стахурского. Взгляд его остановился на одной из них. Стахурский тоже поглядел на грудь инвалида — на ней был ряд медалей. Взгляд его остановился на такой же, как и та, что привлекла внимание казаха на груди Стахурского. Их взгляды встретились, и они улыбнулись друг другу.
— Вена?
— Вена, — ответил инвалид.
Потом он прибавил:
— Там я оставил свою ногу на улице святой Терезии — около сорокового номера.
Они смотрели друг на друга несколько мгновений, в их памяти воскресали одни и те же воспоминания о долгих днях, неделях и месяцах, и говорить им не надо было. Они молчали.
Стахурский сунул руку в карман, чтобы вынуть кошелек. Но инвалид отрицательно покачал головой.
— Я угощаю, — сказал он.
Они пожали друг другу руки. В глазах инвалида на миг вспыхнуло сожаление. Жалко расставаться с боевым товарищем.
— Далеко до Клеверной? — спросил Стахурский.
— За озером. Совсем близко. Какой номер?
— Пятьдесят девять-А…
— Налево.
Стахурский пошел.
— Счастливо! — крикнул инвалид вдогонку.
Озеро появилась внезапно из-за рощи. Это не было естественное горное озеро: гать пересекла ущелье, преграждая путь горному потоку, и образовала небольшой пруд. Посредине зеленел островок — вершина затопленного утеса. К неподвижному зеркалу воды с прилегающих взгорий спускался яблоневый сад. Стахурский пошел вдоль ограды. Цветы пахли горьким миндалем; стволы яблонь были невиданного, нежного темно-розового цвета, словно стройные загорелые ноги горянки.
Навстречу Стахурскому из-за прибрежных кустов вышла женщина. Это не была Мария, хотя сердце Стахурского и сжалось от волнения. Они поравнялись, и Стахурский спросил:
— Простите, я выйду здесь на Клеверную?
— Выйдете. Вот за тем проходом и Клеверная. Вам какой номер?
— Пятьдесят девятый-А.
— Против зоологического сада сверните налево…
— Спасибо!
Он знал, что выйдет на Клеверную, и знал, как на нее пройти. Он видел дорогу туда своим внутренним взором, как видишь давно знакомые, родные места, закрыв глаза. Но он не мог не спрашивать у прохожих. Если бы прохожих было много, он спрашивал бы у каждого.
Пройдя тесный переулок между двумя усадьбами, он минул ворота зоопарка. Шум нового потока встретил его. Он знал, что этот поток называется «Казачка». Это был уже третий горный ручей на его пути, а он прошел меньше чем полкилометра. Как растопыренные пальцы руки от кисти, от главного хребта отходили веером горные гряды, и между ними бежали потоки, неся прохладные воды со снежных вершин. Сквозь гущу цветущих яблоневых садов с обеих сторон Казачки проглядывали контуры домов. Это и была Клеверная улица.
Дом номер пятьдесят девять-А был расположен особенно живописно. Он стоял на холмике над долинкой, а позади над ним возвышался еще один холм. Все это вместе и составляло усадьбу номер пятьдесят девять-А. Внизу был огород и палисадник, на первом холме вокруг дома — цветник, на верхнем холме — фруктовый сад. Белые, чуть розоватые цветы абрикосовых деревьев покрывали вершину холма искристой изморозью. Огромные окна, несоразмерные с масштабами дома, багровели, пронизанные предзакатными лучами солнца.
В этом доме живет Мария. Она проходит по этому огороду, поливает эти цветы и останавливается под розовыми цветами, любуясь чарующим пейзажем цепи гор. А может, сейчас, выпрямившись во весь рост, стоит она у одного из этих четырех громадных окон и задумчиво глядит на тропинку, не зная, что по ней идет Стахурский. Она увидит его, узнает, вскрикнет и побежит навстречу…
Стахурский толкнул калитку и по тропинке среди грядок, мимо цветника, поднялся на холм. Гравий скрипел под его ногами. Дурманящий аромат плыл ему навстречу, усиливаясь с каждым шагом. Стахурский глядел не на дом, а на садик на другом холме, будто из этого цветенья, как из светлого шатра, должна выйти ему навстречу Мария.
На веранде дома стоял человек. Он был в рубашке с расстегнутым воротом и в домашних туфлях на босу ногу. Он стоял, скрестив руки на груди и широко расставив ноги. Он был невысок ростом и неказист — безусый, с рыжеватыми волосами, но стоял твердо и уверенно. Это был хозяин дома.
Перед будкой, напротив дома, сидел цепной пес. Он выжидательно поглядывал одним глазом на идущего, другим — на хозяина.
Стахурский приблизился к веранде. Пес угрожающе зарычал.
— Индус, куш! — тонким фальцетом крикнул хозяин.
— Добрый вечер! — поздоровался Стахурский, сдерживая волнение. — Простите, здесь живет Мария Шевчук?
Хозяин пристально посмотрел на Стахурского.
— Шевчук Мария Георгиевна прописана здесь, — ответил он.
— Можно ее видеть?
— А вы кто будете? — спросил хозяин.
Этот человек чем-то не понравился Стахурскому.
— Ее знакомый, — неохотно ответил он. — Сейчас приехал из Киева.
— А-а… из Киева, — как бы с облегчением протянул хозяин. — Ее нет дома.
— А когда она будет?
Хозяин смерил его взглядом с ног до головы. Пес около будки сразу же зарычал.
— Индус, куш! — сказал хозяин. Потом он ответил Стахурскому: — Это мне неизвестно. Я только хозяин этого дома.
Стахурский оглянулся. Что ж, он подождет, пока она вернется. Он пойдет в комнату Марии и будет ждать ее. Сердце Стахурского билось тяжело и гулко. Марии нет, но он будет ждать ее среди окружающих ее вещей.
Хозяин стоял, широко расставив ноги в мягких чувяках, твердо и крепко. Он — хозяин и не впустит чужого в свой дом. Какое ему дело до того, что кто-то приехал из Киева к его жиличке?
Что ж, тогда Стахурский будет ждать Марию в саду.
Молчание длилось слишком долго, и пес около будки снова зарычал.
— Индус, куш! — сказал хозяин.
Так же спокойно он может сказать и «Индус, пиль!»
— Что же мне делать? — Стахурский развел руками. — Я только что приехал из Киева и должен сегодня же видеть товарища Шевчук.
Ему странно было выговорить «Шевчук» — он никогда не называл Марию по фамилии; даже там, в отряде, все называли ее по имени.
Хозяин пожал плечами.
Очевидно, придется выйти и погулять перед усадьбой, по улочке над ручьем. Стахурский взглянул на ручей. Это было неожиданно и забавно: русло ручья по другую сторону долины было выше того места, на котором стоял сейчас он, Стахурский.
— Как тут красиво! — сказал Стахурский. — И какая красивая у вас усадьба!
Хозяин промолчал.
Взгляд Стахурского упал на усадьбу за ручьем. Она тоже была живописной в пышном цветении, но выглядела беднее: не было клумб, не было и огорода.
Хозяин проследил за взглядом Стахурского — на домишко, покрытый не то камышом, не то кукурузными стеблями, и презрительно сказал:
— Там живут казахи.
Стахурский взглянул на хозяина и отвел глаза. Хозяин ему не нравился. Взгляд Стахурского остановился на соседнем доме. Это был большой дом, но запущенный, крыша на нем хоть и была крыта тесом, но только с двух сторон, а с двух других сторон крыши вообще не было. Виднелся чердак — зимой там, вероятно, наметало сугробы. Но вокруг на многих домах были точно такие же крыши.
— Какие странные делают здесь крыши… Для чего это? — спросил Стахурский.
Хозяин снова презрительно пожал плечами.
— Они говорят, для того, чтобы чердак проветривался и не разводилась сырость. Но это брехня. Просто — лодыри…
— Там живут казахи?
— Нет, русские.
— А вы разве не русский?
— Нет. Я переселенец… с Украины.
«Земляк», — хотел было сказать Стахурский, но воздержался. Этот человек ему решительно не нравился, хотя все говорило о том, что он рачительный и умелый хозяин. В небольшом дворике было прибрано, в обрыве второго холма, на котором расположился фруктовый сад, были выкопаны землянки, передние стенки их были выложены из кирпича, и навешены двери. За одной дверью хрюкала свинья, другая была открыта — там ровными поленницами лежали нарубленные дрова. Дальше, под обрывом, был устроен навес, и там, на шесте, сидели куры.
Хозяин проследил за взглядом Стахурского и более приветливо сказал:
— Вы из Киева? Мы с вами, значит, земляки.
Стахурский торопливо спросил:
— Когда вы посоветуете мне зайти, чтобы наверняка застать товарища Шевчук?
Хозяин снова пожал плечами.
— Это ни к чему! — сказал он.
— Как это? — не понял Стахурский.
— Неизвестно, когда она вернется.
— Разве она не ночует дома?
— Ее арестовали.
— Что?
— Она арестована.
Стахурский смотрел на человека, стоявшего перед ним без пиджака, в рубахе с расстегнутым воротом, в чувяках на босу ногу, — видел его, слышал, но не мог понять.
— Простите, — сказал он, — я вас не понимаю. Что вы сказали?
Хозяин повторил с нескрываемой досадой:
— Шевчук Мария Георгиевна, о которой вы спрашиваете, арестована.
Стахурский сделал шаг вперед и снова остановился. Пес около будки зарычал.
— За что?
Хозяин ответил равнодушно:
— Откуда я могу знать?
Они стояли некоторое время друг перед другом. Домик с большими окнами был прямо против Стахурского, сад в пышном цветении позади, цветник раскинулся клумбами ярких красок, куры сидели на насесте, горный ручей бурлил выше головы Стахурского — вокруг был целый мир, но этот мир был точно нарисован или был как-то отдельно, сам по себе, а Стахурский сам по себе, отдельно, стоял тут. В голове у него шумело и стучало в висках. Рана в плече, которую он получил еще при первой встрече с Марией в лесу над Бугом, вдруг заныла, заболела.
— Простите… — сказал Стахурский.
Он хотел еще о чем-то спросить хозяина, но тот принял это за прощанье и ответил:
— Будьте здоровы! — Повернувшись, он крикнул собаке: — Индус, куш!
Стахурский спустился по узкой тропинке на улицу.
Мария арестована!.. Мария — преступница? Нет, этого не может быть! Это чепуха, какое-то недоразумение…
Стахурский медленно двинулся по улице вдоль потока. Поток шумел. Его звали — «Казачка».
Он свернул в проход против зоологического сада и вышел к озеру. Легкий силуэт громадного хребта, как огромное облако, закрывал горизонт слева. Подошву гор уже скрыла ночная тень, но снежный гребень розовел в лучах заката. Справа на темном небосклоне сверкала звезда, ясная и холодная.
— Что же случилось? Что?
Он прошел по дамбе над озером. Мир окружал его — тихий, торжественный, огромный, волнующий. Но он был как бы под стеклянным куполом. Стахурский видел его, но не ощущал, он слышал только тишину, и ему хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать ее.
Он шел под цветущими яблонями. Стволы их были не розовыми, а серыми — какими и бывают обычно яблоневые стволы. Солнце зашло, яблони уснули — и молодой, весенний сок, струившийся днем в лучах солнца по древесине, без солнца остановил свой бурный бег.
Стахурский вошел под сень парка, сразу потемневшего, почерневшего. Южная ночь наступала внезапно.
Мария, которую он встретил в прибугских лесах с автоматом на груди, Мария, с которой он ходил в разведку, бежал из гестапо, Мария, которая сожгла базу горючего фашистов, не думая о смертельной опасности, Мария, с которой он прошел весь освободительный поход по Землям Европы, Мария, которая считала высшим счастьем победу над врагом, и Мария, которую он любил, — арестована, как преступник…
Этого быть не могло!
Около голубого киоска на высоком стуле сидел инвалид-казах.
— Земляк! — крикнул он Стахурскому. — Стаканчик!
Стахурский подошел.
Он машинально сел на табурет перед бочкой. Табурет был низкий — инвалид сидел несколько выше, и надо было запрокидывать голову, чтобы глядеть на него. Инвалид наполнил стаканы пенистым розовым вином, один поставил перед Стахурским, другой поднял и торжественно произнес:
— За наши раны! За боевых товарищей!
Они чокнулись и выпили.
— Слушай, — сказал Стахурский глухо, — я приехал из Киева к девушке, с которой прошел всю войну и которую полюбил. Я хотел, чтобы она стала моей женою…
— Изменила? — спросил инвалид.
— Ее арестовали, — тихо сказал Стахурский. — Понимаешь, я пришел к ней, а она арестована.
Он смотрел инвалиду прямо в глаза. Он всматривался в его зрачки пристально — в сумерках, опускавшихся на землю, ему были уже плохо видны глаза человека, наклонившегося над ним со своего высокого сиденья.
Он повторил:
— Арестована…
Это слово звучало фальшиво. Его нельзя было связать с Марией.
Стахурский тяжело вздохнул. Обильный пот оросил его лоб. И снова заныла рана в плече. Смысл сказанного — «Мария арестована» — только сейчас дошел до его сознания. Тоска сжала его сердце.
— Чем я могу тебе помочь? — сказал инвалид.
Ничья земля
Это был самый тяжелый бой: он был после войны.
Германия капитулировала. Войска союзных держав встретились в сердце Европы. На одном берегу альпийской реки остановились наши части, на другом — английские. И только вчера была выпита последняя бутылка из сорока дюжин, присланных в подарок по случаю победы батальону советского майора Стахурского батальоном английского майора Джонсона. Но сегодня батальон Стахурского снова лежал в обороне.
Стахурский снова сидел на КП, а рядом назойливо гудел полевой телефон.
— «Мальва» слушает! — сказал телефонист.
Эти обычные слова телефониста, сегодня — когда уже не было войны — были противоестественны. На правом фланге часто возникала ружейная перестрелка. На левом не умолкали пулеметы. Прямо, по центру вражеского наступления, стояла абсолютная тишина. Первая атака, когда противник намеревался внезапно, с ходу, прорвать нашу оборону, захлебнулась. Теперь враг искал лучшего способа сломить сопротивление нашего батальона.
Для чего ему это понадобилось?
Батальон Стахурского стоял мирной заставой на крайнем рубеже, куда привели его дороги войны, на последнем переднем крае, который столкнулся с последним передним краем союзной армии. И вдруг, через две недели после окончания войны, с тыла, из альпийских лесов, советский батальон был атакован каким-то неведомым противником.
Кто? Зачем? С какой целью?
Вошел начальник штаба батальона капитан Вервейко.
— Рация в полной исправности, — доложил он Стахурскому. — Дивизия ответила, армия — тоже. Ответ из штаба фронта будет через час.
— Прекрасно, — сказал Стахурский.
Вервейко добавил:
— Я думаю, пока придет ответ с фронта, нам нужно загнуть фланги.
Стахурский молчал. Впервые за годы войны слово «фронт» прозвучало для него необычайно странно. Фронта, как линии боевых действий, уже не было. Против батальона майора Стахурского стоял батальон мотопехоты майора Джонсона. Их разделяла ничья земля, вернее — ничья вода: холодная горная река из альпийских вершин, текущая на юг, к Дунаю. Было мирное время, слово «фронт» звучало анахронизмом. Вервейко словом «фронт» сокращенно именовал штаб фронта.
Вервейко добавил:
— По силе огня во время первой атаки можно заключить, что их там не меньше полка.
Они на минуту умолкли, прислушиваясь, что происходит снаружи. На правом фланге ружейный огонь почти прекратился, на левом продолжали строчить пулеметы. Значит, противник нажимал на наш левый фланг, стремясь выйти к берегу — туда вел горный проход, кончавшийся у самой воды. Намерения противника не были известны, но он шел с боем и хотел прорваться, значит надо принять бой и не пропустить врага. Таков закон войны. Впрочем, войны уже не было…
— Как же с флангами? — спросил Вервейко.
— Очевидно, так и сделаем, — сказал Стахурский. — Но прежде всего надо раздобыть «языка». Мы должны знать, кто противник, куда и зачем идет и какова его численность. Все это надо сообщить фронту. — Он закончил коротким приказом: — На левый фланг Иванову-первому дать минометы. Противника к реке ни в коем случае не допускать. На правый фланг Иванову-второму послать автоматчиков. Фланги загнуть и выйти на вторую возвышенность.
Иванов-первый и Иванов-второй были командирами рот, которые держали сейчас фланги. Они были однофамильцами, и для удобства их именовали — «первый» и «второй».
— Есть! — сказал Вервейко.
Сквозь окно хорошо был виден окружающий ландшафт. Горные отроги лесистого хребта полого спускались к самой реке. Лес обрывался почти ровной линией на склоне третьего холма. В лесу и засел невидимый и неведомый враг. На гребне первого взгорья, поросшего сочной весенней травою, находился центр нашей обороны. Второе взгорье, тоже безлесное, лежало выше — через него с третьего лесистого нагорья перебегал противник, когда атаковал батальон.
Несколько темных пятен, словно кучи навоза, виднелись на лугу в траве: то были трупы врагов после первой атаки. Если Иванов-второй зайдет с правого фланга и возьмет под фланговый огонь гребень второго, промежуточного взгорья — каждая атака врага захлебнется на этом взгорье.
Светало, но солнце еще не взошло. Небо на востоке, над цепью лесистых гор, голубело.
Вервейко направился к выходу.
— Главное — «языка»! — крикнул ему вдогонку Стахурский.
Вервейко остановился.
— Трудно! — сказал он. — Уже рассвело.
— Непременно добыть «языка»! Поручи Палийчуку.
— Слушаю.
Вервейко ушел.
Стахурский подошел к окну.
Рассвело недавно, но туман уже сполз клочьями по ущельям к долине реки и лег росой на травы — день обещал быть ясным, погожим, весенним. Флангов из окна не было видно: правый скрывался за холмом, в двухстах шагах, левый — за крутым, обрывистым взгорьем. Если противник прорвется по ущелью и выйдет к реке, батальон Стахурского будет взят в кольцо. Но в кольцо надо взять врага! Если там действительно целый полк, — сделать это силами одного батальона будет не просто. К тому же противник находится на гряде, господствующей над местностью, а батальон Стахурского внизу. Однако, если удастся загнать врага в ущелье, с полком управится и один взвод.
Стахурский высунулся из окна. Ни разу за всю войну у него не было такого комфортабельного КП. Он расположился в живописном и уютном охотничьем домике. Тут, вероятно, не так давно наслаждался жизнью какой-нибудь тирольский помещик. Но, собственно говоря, это не был КП, тут расположился штаб батальона, расквартированного до прихода пограничников, в качестве временной пограничной охраны на границе оккупированной территории. Вокруг домика, вдоль стен, выстроились ряды стройных штамбовых роз, на них уже появились бутоны. За дорожкой, утрамбованной крупной галькой со дна горной роки, раскинулись цветочные клумбы. Вскоре взойдет солнце и клумбы запестреют тысячами цветистых венчиков. Солнце еще не взошло, — и нашей обороне хорошо была видна опушка леса, откуда наступал противник. Взойдет солнце — и ничего нельзя будет разглядеть из-за его ослепляющих лучей.
Стахурский отошел от окна и сказал ординарцу сержанту Тагиеву:
— Не отходите от телефона, я сейчас вернусь.
Он прошел в соседнюю уютную комнату, где отдыхал ночью. На стенах среди охотничьих рогов висели картины на буколические и религиозные сюжеты. Всюду — на подушках, скатертях, полотенцах — виднелись надписи готическим шрифтом: «Немецкий бог всем нам судья», «После обеда — лучший отдых» и другие в том же роде.
Стахурский открыл дверь и вышел на балкон.
До реки отсюда было около двухсот метров — сначала небольшой сад, а дальше, за обрывом, синяя лента воды. На противоположном берегу, сквозь голубоватую дымку предутреннего тумана, смутно маячили готические контуры небольшого немецкого города. Строения тесно скучились вокруг кирхи в узкой котловине между горных отрогов. За три дня до конца войны саперы Стахурского взорвали мост через эту реку, чтобы отрезать врагу отступление. За два дня они опять возвели его — новенький, пахучий буковый мост. Это был подарок местным жителям на память о советских саперах.
Встреча с моторизованной пехотой майора Джонсона состоялась как раз на этом мосту. Солдаты крепко жали друг другу руки, похлопывали по спинам, офицеры обменивались звездочками с погонов, подносили даже цветы, собранные тут же на берегах.
Потом этим же батальонам Стахурского и Джонсона пришлось временно стать пограничными гарнизонами на берегах ничьей реки. Так началась для них мирная жизнь, мирная армейская служба. Ежедневно по утрам мотопехотинцы майора Джонсона, разучившиеся за время войны ходить пешком, — маршировали по набережной под аккомпанемент рожков. Затем солдаты собирались в круг и под губную гармошку пели, то нудные, как месса, то нестройные, как джаз, английские солдатские песни. Солдаты майора Стахурского после утреннего учения тоже пели — русские, украинские, грузинские народные песни, звучные и задушевные. Но особо популярными среди бойцов Стахурского стали сейчас старинные революционные песни. Их отлично запевал начальник штаба капитан Вервейко, славившийся на всю дивизию своим баритоном. Под звуки «Варшавянки» бойцы расходились на отдых после политмассовой работы.
По вечерам советские и английские солдаты играли в футбол. Силы футбольных команд были почти равные, в матчах был переменный успех.
Состоится ли сегодня вечером финальный матч?
Стахурский взглянул на противоположный берег.
Набережная была пустынна. Обычных учений сегодня не происходило. Очевидно, батальон Джонсона тоже на всякий случай приготовился к бою. Около моста стояло несколько легковых автомашин. Должно быть, майор Джонсон подъехал ближе, чтобы узнать, в чем дело, что за инцидент произошел на советской стороне и не попросят ли советские части оказать им помощь. Нет, советские части не просят помощи с английской стороны.
Сержант Тагиев вышел на балкон и доложил:
— Командир второй роты капитан Иванов-первый у провода. Желает говорить с вами лично.
Вторая рота капитана Иванова-первого стояла на левом фланге. Стахурский поспешил к телефону.
Иванов-первый докладывал: противник усилил минометный огонь, установил пулеметы над ущельем, — бойцы прижаты к земле, есть убитые и раненые.
— Они рвутся к реке, — закончил капитан Иванов, — может, отойти, пусть идут в гости к майору Джонсону?
— Нет, — сказал Стахурский, — не пускать их к реке.
— Есть не пускать к реке, — отозвался капитан. — В таком случае прошу подавить огневые точки врага над ущельем. А то он пройдет по нашим трупам, — сказал Иванов-первый и положил трубку.
Для чего немцам нужна река? По всей Германии, от Рейна до Одера, война закончена, пятнадцатого мая завершено разоружение гитлеровской армии. Почему же эта часть до сих пор скрывалась в горах?
А может, это не немцы, а какие-то наемники из стран-сателлитов? Остатки голубой дивизии Франко, хорватские усташи или вояки генерала Андерса? Пробиваются домой, чтобы замести следы преступлений, содеянных в странах Европы?
Нет. Если бы это были бандиты-наемники, они бы нашли способ ускользнуть в первые дни после окончания войны. В те дни на дорогах Европы, на стыках союзных армий происходило вавилонское столпотворение. Десятки тысяч людей двигались во всех направлениях. На запад шли освобожденные советскими войсками из концлагерей и выпущенные из немецких заводов рабочие: французы, голландцы, бельгийцы, итальянцы и пленные англо-американской армии. На восток шли возвращавшиеся из фашистской кабалы советские люди, а также поляки, чехи, венгры. На юг пробирались болгары, греки, румыны, сербы. Иноземные наемники, воевавшие вместе с гитлеровцами, бросали оружие, переодевались в штатское и, прикинувшись освобожденными из плена, тоже брели кто куда.
С какой целью этот отряд хотел оставить оружие у себя?
Еще до рассвета дозор вдруг сообщил, что по горному ущелью, стараясь обойти заставу, движется какая-то воинская часть. Она идет в боевом порядке, с боевым охранением впереди и на флангах. Натолкнувшись на наш дозор, автоматчики из боевого охранения противника обстреляли его. Батальон Стахурского, поднятый по тревоге, едва успел занять оборону, как противник атаковал его с ходу. Лобовая атака врага была отбита. Враг притих. Потом разведка установила, что он загибает фланги, намереваясь окружить батальон Стахурского, и особенно пытается обойти наш левый фланг, чтобы выйти к реке, к переправе.
Для чего ему переправа, ведь на противоположном берегу начинается зона англо-американской оккупации?
Советского офицера Стахурского беспокоило следующее.
Западные дороги из Австрии ведут только в южную Германию. Но политическое положение на территории поверженной гитлеровской Германии командиру советского батальона на альпийской заставе не было известно. Быть может, в южной Германии собираются недобитые фашистские головорезы, чтобы поднять восстание и продолжать войну? Может, Мюнхен в южной Германии собирается вторично стать колыбелью фашистского путча? И может, кто-нибудь с Балкан, из Италии или далекой Испании уже выступил, чтобы поддержать восстание? Разве не возможно, что вдруг именно в этом месте, на заставе майора Стахурского, внезапным, как обычно, актом начинается новая мировая война? А может быть, в эту минуту уже снова начал воевать весь мир? И на чьей стороне будет теперь майор Джонсон со своим батальоном английской мотопехоты?
Отразить неожиданный удар неизвестного врага, окружить его и обезвредить — иного решения для советского командира быть не могло.
Так раздумывал советский майор Стахурский, командир заставы над чужой рекой, среди чужих гор, под чужим небом, в самом сердце Европы — на границе двух миров.
На левом фланге не умолкали пулеметы, на правом стрельбы сейчас не было, но оттуда доносился неясный гул, похожий на раскатистое «ура».
Телефон зазуммерил. Иванов-второй с правого фланга уведомлял, что пришлось принять рукопашный бой, противник отброшен и отступил, но сомнений нет — наступает гитлеровская часть в форме эсэсовцев. Иванов-второй просил прислать подкрепления.
У Стахурского никаких резервов не было. Одна рота защищала центр, другая — левый фланг в ущелье, третья — правый фланг у взгорья. Хозяйственный взвод и команда мотористов — вот и весь резерв, но вводить его в бой сейчас преждевременно. Еще неизвестно, куда противник бросит главные силы.
— Пленные есть? — спросил Стахурский.
— Нет, — ответил Иванов-второй. — Разве до того!
— Раненые?
— Тоже нет. Семеро убитых.
— Во что бы то ни стало достать «языка»!
В это время стрельба на левом фланге заметно усилилась и на опушке леса показались атакующие.
Теперь они уже были отчетливо видны — солнце еще не взошло, но заря уже окрасила небосвод, и гребень гор искрился от первых лучей. Атакующие, рассыпавшись по скату третьей возвышенности, бежали вниз, на несколько мгновений скрылись в небольшие пади, потом появились на второй возвышенности и поползли дальше, прячась в складках почвы зеленого луга. Бойцы центра встретили их частым винтовочным огнем.
Стахурский внимательно следил за ходом боя. Вражеские пулеметы прикрытия с опушки леса никак не могли пристреляться, их очереди косили траву на заднем скате возвышенности, прикрывавшей нашу линию обороны.
Если бы иметь резерв, чтобы немедленно бросить ударную группу навстречу врагу, расколоть его центр или, еще лучше, отрезать его от фланга в ущелье! Тогда б это ущелье стало могилой для всего правого фланга эсэсовцев. А потом — центральной группе ударить наступающему противнику во фланг.
Стахурский вызвал по телефону Иванова-второго:
— Приказ отменяется Оставьте взвод для демонстрации, всем остальным бегом сюда, в мое распоряжение!
А что, если главные силы противника еще не введены в бой? Не исключено, что в лесу стоят наготове его свежие резервы. Риск, безусловно, большой.
Безотлагательно нужен «язык»!
Линия атаки заметно приближалась. Атакующие показались на гребне второй возвышенности и стремительно сбежали по ее скату. Некоторые из них падали и оставались на месте, кое-кто из упавших пытался уползти на обратный скат возвышенности. Наши винтовки на линии центра не умолкали ни на минуту. Атакующие несли большие потери от ружейных залпов. Мины, вылетавшие из леса, не достигали нашего рубежа.
Вдруг пронзительный вой мин усилился. Враг перенес огонь минометов в глубь нашей обороны. Две мины разорвались на дороге, одна — между клумбами в палисаднике. Через минуту еще одна попала в крышу. С потолка посыпалась штукатурка. И тут же с отвратительным визгом мина разорвалась перед окном, осколки брызнули в окно, и один из них сорвал фуражку Стахурского: он слишком высунулся из окна.
Стахурский отошел в глубину к стене. Погибнуть сейчас, когда война уже окончилась, когда на всех просторах, где гремели бои, наступил мир?
Но наступил ли мир?
— «Мальва» слушает, — бормотал телефонист. Свободной рукой он вытряхивал известку из-за воротника, насыпавшуюся с потолка. Потом он окликнул Стахурского и протянул ему трубку.
— Иванов-второй на проводе, — услышал Стахурский.
Иванов-второй докладывал, что задание выполнено: бойцы уже отправились на КП и сейчас прибудут.
— Хорошо, — сказал Стахурский, — а теперь…
Он остановился. Мина снова ударила в дом, известка и щебень запорошили глаза и осыпали плечи Стахурского.
Голос Иванова-второго надсадно кричал в трубке:
— «Мальва»! «Мальва»! Что случилось? Вас накрыла мина?
— Не кричи! Слышу. Мина. А теперь выходи на холм и обстреляй фланговым огнем вторую возвышенность.
— У меня всего двадцать бойцов, — с явным неудовольствием в голосе сказал Иванов-второй, — а мы сдерживаем не меньше батальона.
— Выполняйте приказ, лейтенант Иванов!
Вестовой, шагнув через порог, доложил, что бойцы второй роты группируются за домом.
— Отлично! — сказал Стахурский.
Он пригнулся, перебежал к окну и выглянул из-за косяка наружу. Темных пятен на склоне не было. Пулеметный огонь в лесу притих. Мины падали реже. Вторая вражеская атака тоже захлебнулась. Зато усилилась активность противника на левом фланге. Там усердно хлопали мины и стрекотали пулеметы. Надо скорее отрезать доступ к ущелью из леса, выйти слева на гребень возвышенности и загнуть фланг.
Стахурский взглянул на часы. Прошло только двадцать минут, после того как радировали фронту. Ответ будет минут через сорок, не раньше. Но держаться придется еще дольше.
— Где начальник штаба? — спросил он ординарца. — Ко мне.
Тот кинулся было к дверям, но сразу же отпрянул назад: его чуть не сбил с ног капитан Вервейко. Он запыхался, на лбу выступили росинки пота.
— Есть «язык»!
— Откуда?
— Доставил сержант Палийчук.
Бывалый разведчик сержант Палийчук считался специалистом по добыванию «языков». Его даже окрестили «языковедом» — от слов «язык» и «веду». Он добывал «языков» еще в Сталинграде, потом у Днепра, в Карпатах, у озера Балатон.
На пороге показалась серая фигура с поднятыми вверх руками. Позади шел мрачный Палийчук. Сержант Палийчук всегда был мрачен, особенно после отчаянной и дерзкой операции. Немолодой, длинноусый, по специальности водопроводчик, — он резко выделялся среди разведчиков, обычно молодых и молодцеватых.
Пленный остановился на пороге, и Палийчук подтолкнул его автоматом. Пленный переступил порог, но в это время у дома снова взорвалась мина и он упал: он бросился ниц, лицом вниз, ткнулся носом в пол, но руки продолжал держать поднятыми.
— Молодец, Палийчук! — сказал Стахурский. — Будет у тебя еще один орден Славы.
Палийчук не спеша толкнул пленного ногою:
— Вставай… нечего вылеживаться.
Гитлеровец стал на колени. Его поднятые руки дрожали. Лицо было измазано зеленью и грязью, глаза светились животным страхом, как у пойманного зверя. Но, действительно, это был офицер СС, — они шли в атаку, не сняв шевронов.
— Встаньте сюда, к стене, — обратился к нему Стахурский по-немецки.
Но пленный еще не пришел в себя. Палийчук подтолкнул его автоматом. Эсэсовец быстро вскочил.
Стахурский повторил приказание.
Пленный покорно стал у стены.
— Опустите руки, — приказал Стахурский.
Эсэсовец опустил руки.
В это время в дверях показался командир взвода второй роты и доложил о прибытии полуроты Иванова-второго.
Стахурский сказал капитану Вервейко:
— Я допрошу его. А ты веди полуроту: надо ударить между центром и их правым флангом и отрезать подступы к ущелью.
Начальник штаба пристально взглянул на Стахурского. Он ни единым словом не обмолвился, хотя задание казалось почти неосуществимым.
— Вот по этой узкой впадине вы проберетесь незамеченными почти до самого леса.
— Есть… — неуверенно сказал Вервейко.
— Потом подниметесь на возвышенность. За нею сразу начинается ущелье. Ты будешь выше их правого фланга.
— Ты думаешь, это возможно? — спросил Вервейко.
— Необходимо отрезать подступы к ущелью и уничтожить правый фланг. Другого выхода нет.
— Понятно, — сказал Вервейко. — А может, раньше расспросим этого?
— Конечно, — ответил Стахурский, — выступишь, когда разузнаем. Пока приготовь бойцов. А я тем временем допрошу его. Выполняй.
— Слушаю!
Палийчук посторонился, пропустил начальника штаба и снова стал на пороге. Автомат висел у него на груди, он оперся на него обеими руками и широко раздвинул ноги, почти во всю ширину двери, загромоздив проход: он стоял в позе свободной, но твердо — с места его не сдвинуть.
Гитлеровец уже понемногу пришел в себя. Страх в его глазах теперь сменился ненавистью, пугливой, но лютой. Он был бледен.
— Ваша фамилия? — спросил Стахурский.
Эсэсовец молчал.
— Чин?
Снова молчание.
— Товарищ майор спрашивает, какое у тебя звание, — сказал Палийчук, по-украински, словно переводчик с немецкого — для немца, который, очевидно, никакого языка, кроме немецкого, не знал. Но Палийчуку всегда казалось, что немцы прикидываются, будто не понимают языка, на котором изъясняется он. За годы войны сам он неплохо овладел немецким языком.
— Я на ваши вопросы отвечать не буду, — сказал гитлеровец. Голос его прерывался от волнения.
— Как называется ваша часть?
Пленный молчал.
Щеки его дергались. На них появился румянец, синеватый, как у обмороженных. Он глядел мимо Стахурского, на стенку.
Палийчук вздохнул и сделал движение.
Стахурский жестом остановил его.
— Куда вы движетесь?
Молчание.
— Почему вы рветесь к реке?
Снова молчание.
Стахурский сказал:
— Война окончена. Германия капитулировала. Все военнослужащие бывшей гитлеровской армии, которые не сложили оружие, будут преданы военно-полевому суду. Вы выполняли приказ командования, лично вам ничто не угрожает, и сейчас вы обезоружены. Но если вы отказываетесь отвечать, значит вы солидаризируетесь с теми, кто начал этот преступный бой. И мы с вами поступим уже по законам боя, а не по условиям капитуляции. У меня нет времени возиться с вами.
У эсэсовца забегали глаза. Но они натыкались то на взгляд Стахурского, то ординарца, то Палийчука. И эти взгляды были одинаково суровы, беспощадны, как в бою. Пятна лихорадочного румянца исчезли с лица пленного. Страх — теперь уже осмысленный страх — заполнил его глаза.
Стахурский наблюдал за эсэсовцем. Не первого гитлеровца приходилось ему допрашивать.
В начале войны пленные держали себя очень нагло. Тогда гитлеровские молодчики упивались своими успехами, были в чаду сумасбродных иллюзий о молниеносной войне и покорении мира. Но блицкриг провалился, и гитлеровцы поняли, кто сражается против них. И тогда не только пожилые, мобилизованные солдаты, но и головорезы-эсэсовцы, попадая в плен, поднимали руки и кричали: «Гитлер капут!»
Но вот сейчас, после войны, были, оказывается, еще и такие, которые не хотели сложить оружие и не хотели отвечать, даже попав в плен. Таких Стахурский видел впервые. Это были, очевидно, последние волки из гитлеровской стаи! Они хотели воевать еще.
В годы войны эти звери, очевидно, неистовствовали в карательных отрядах и застенках гестапо на временно оккупированных землях. Это были самые страшные враги человечества, и теперь они старались подороже продать свою жизнь, которую все равно не могли сохранить.
Они мечтали о реванше. Во имя осуществлений своих сумасбродных планов они были готовы на все. Если у них отнимут собственное оружие, они найдут чужое. Если выбить из рук чужое, они будут грызть зубами. Если они не смогут драться в открытом бою, они будут действовать скрытно и наденут на себя какую угодно личину: мирную, доброжелательную, покаянную. Но за всем этим будет только одно — подлость, коварство и удар в спину.
Таким был Клейнмихель, тот, над Бугом, когда подул первый ветер с востока, первый оборотень, рожденный поражением, которого предусмотрительные фашисты готовились оставить после себя в стране, из которой придется удирать. Так в годы первой мировой войны оставлял своих шпионов еще кайзер Вильгельм, — и они стали агентурой фашистов.
Стахурский почти физически ощутил прилив смертельной ненависти. Он не будет жить с этими людоедами в одном мире!
Рука его сжала рукоятку пистолета.
— Я не буду отвечать, — повторил пленный.
— Жаль, — равнодушно произнес Стахурский.
Палийчук шумно вздохнул. Потом шагнул к эсэсовцу.
— Эх, — сокрушенно сказал он, — жалко работы… Так трудно было доставать его.
Он остановился и вытянулся перед Стахурским:
— Товарищ майор, разрешите заехать ему в ухо. На всякий случай. Может, заговорит?
Ему было жалко своей работы, как горько хлеборобу, когда засуха губит урожай. И он понимал, что сведения, которые отказывается сообщить этот бандит, крайне необходимы.
Вошел начальник штаба.
— Все готово, — сказал он. — А как этот? — он кивнул головой на пленного.
— Отказывается отвечать.
Вервейко расстегнул кобуру.
Стахурский жестом остановил его.
— Палийчук, — сказал он, — выполняйте.
Палийчук подошел к эсэсовцу и сердито кивнул на дверь. Пленный уставился на Стахурского.
— Иди, иди! — подтолкнул его Палийчук. — Ангелам и архангелам на том свете пожалуешься!
— Я скажу! — задыхаясь, крикнул пленный. — Я буду отвечать!
— Поставь его на прежнее место, — сказал Стахурский.
— Холера! — проворчал Палийчук. — А сколько гонору! Все они такие: ни за что не бьются, кроме своей паршивой жизни.
— Ваша фамилия? — спросил Стахурский.
— Мунц Карл-Иоганн, штурмбанфюрер СС.
— Документы!
Пленный с минуту поколебался, потом достал документы и протянул их Стахурскому.
— Сколько вас?
— Полк.
— А точнее?
— Три батальона и рота связи.
— А еще?
— Отдельная рота минометчиков, пулеметная команда, офицерский резерв.
— То-то же! — сказал Вервейко.
— Огневые средства?
— Двадцать минометов, сорок пулеметов, станковых и ручных, триста автоматов.
— Номер полка?
— Это сводная часть.
— Сформирована уже после капитуляции?
— Да.
— Из частей СС и СД?
— Да.
— Гестаповцы?
— Да.
— Хороша компания! — буркнул Палийчук.
— Палийчук! — сердито крикнул Стахурский.
— Виноват, товарищ майор!
— Сколько у вас всего людей? — продолжал допрашивать Стахурский.
— Тысяча — тысяча двести.
— Сколько из них на правом фланге в ущелье?
Гитлеровец замялся.
— Отвечайте.
— Больше половины.
— Там концентрируется удар?
Эсэсовец мялся.
— Да, — наконец сказал он.
— Чтобы выйти к реке?
— Да.
— Зачем вам это нужно?
Эсэсовец молчал.
Стахурский повторил вопрос.
— Мы хотим перейти в англо-американскую зону.
— Зачем?
Эсэсовец смотрел в землю.
— Зачем вам понадобилась англо-американская зона?
Эсэсовец поднял голову. С нескрываемой ненавистью он глядел на Стахурского.
— Мы не хотим сдаваться вам.
— Кому это — нам?
— Русским, большевикам.
— Но англичане и американцы тоже не пропустят вас с оружием.
— По их требованию мы сложим оружие.
— Вот как! — сказал Вервейко.
— И вы уверены, что они, наши союзники, милостиво отнесутся к вам, после того как вы напали на нас?
Эсэсовец пожал плечами, потом сказал:
— Они примут нас, раз мы складываем оружие.
— Вы договорились с ними заранее?
Эсэсовец с поспешностью ответил:
— Нет!
— Почему же вы так уверены в таком случае?
Эсэсовец снова молчал.
Часто гремели пулеметы в ущелье, где стоял Иванов-первый. В центре было тихо. Сквозь окно была видна свежая зелень, блестевшая густой утренней росой. Ни одно облачко не туманило прозрачной сини небосклона над цепью гор. С правого фланга изредка доносился треск винтовочных выстрелов. Это демонстрировал Иванов-второй, тайком пробираясь на гребень — в профиль средней, ничейной, возвышенности. Небо над хребтом стало уже розово-золотым. Скоро из-за горы покажется солнце и своими ослепительными лучами ударит в глаза солдатам нашего переднего края. Гитлеровцы, вероятно, воспользуются этим и под прикрытием слепящих лучей снова пойдут в атаку на позиции батальона. Чтобы отвлечь внимание, они начнут наступление на центр — с тем, чтобы незаметно сосредоточив свои главные силы на фланге, ударить по Иванову-первому, занимающему оборону в ущелье. Им нужна река!
— Ну? Почему вы так уверены? — повторил вопрос Стахурский. — Отвечайте.
Вопрос этот был уже ни к чему. Ответ не мог ничего изменить. Но Стахурский ждал.
Эсэсовец наконец сказал:
— Они — не вы. Только поэтому.
— Однако они и не вы, — резко возразил Стахурский. — Они пять лет были в состоянии войны с вами.
Пленный поднял голову и со злорадством произнес:
— Они воевали против своего соперника в господстве над миром, но не против нацизма!
Палийчук не удержался и свистнул, но сразу же спохватился и даже прикрыл рот ладонью.
— Виноват, товарищ майор.
Стахурский укоризненно посмотрел на него.
Палийчук помрачнел:
— Виноват, товарищ майор. Что же это такое получается? Свой к своему, что ли?
— Сержант! — строго произнес Стахурский. — Не вмешивайтесь в допрос!
Палийчук вытянулся и опустил руки по швам.
— Прошу прощения, товарищ майор! Он, — Палийчук презрительно кивнул в сторону гитлеровца, — все равно по-нашему не понимает. Но разрешите обратиться, товарищ майор: не то обидно, что они не хотят нам сдаваться, — черт с ними! А то, что они надеются на милость англичан и американцев.
Стахурский махнул на него рукой.
— Мы поговорим об этом потом, товарищ Палийчук.
Затем он обратился к Вервейко:
— Мне кажется, все ясно. Медлить не будем. Веди людей и выходи на гребень над ущельем. О нас не беспокойся. Мы удержимся тут сами.
— Понятно, — сказал Вервейко. — Есть! — Он четко повернулся и вышел.
Мгновение спустя его фигура промелькнула мимо окна — он бегом направился к лужку, где в траве лежали бойцы Иванова-второго и батальонный резерв. Стахурский видел, как бойцы быстро вскочили, заметив Вервейко. Потом они вытянулись длинной цепочкой и рысцой побежали налево. Пригнувшись, они перебежали дорогу и скрылись в складках местности.
Стахурский на минуту задумался.
Итак, фашисты искали, где укрыться, сохранить свои силы. Они надеялись сохранить их в англо-американской зоне.
Нет, сводный полк гитлеровцев, поднявший оружие после капитуляции, через советскую заставу не пройдет! Он будет остановлен и разоружен. Это дело чести. Если же он будет сопротивляться и дальше — он будет уничтожен. Таков закон войны. Пленный по-прежнему стоял в углу и со звериной ненавистью смотрел на Стахурского.
— Можете идти, — сказал Стахурский, — к реке.
Палийчук шумно вздохнул.
— Сержант Палийчук! — обратился к нему Стахурский. — Проводите пленного до моста и отпустите его на ту сторону. Пусть идет сдаваться к майору Джонсону. Нам некогда возиться с пленными, мы ведем бой. Выполняйте, сержант. За его целость несете личную ответственность. Поняли?
— Слушаю, товарищ майор! — невесело сказал Палийчук и, указав эсэсовцу на дверь, мрачно добавил: — Иди, сволочь… целуйся со своими англичанами и американцами…
Пленный не знал русского языка, это видно было по тому, как он реагировал на предыдущие слова Палийчука. Но последние слова Палийчука он понял, как понимают каждый жест, каждое слово в последние минуты перед смертью.
— Идите! — снова приказал Стахурский.
Пленный направился к выходу. Руки он снова поднял, хотя этого никто и не требовал.
Палийчук последовал за ним.
Стахурский сказал негромко вдогонку:
— Не огорчайся, Палийчук. То, что он нам сообщил, для нас важнее, чем его гнусная жизнь. Мы не попросим у Джонсона помощи, но если он не просто воюет рядом, а на самом деле борется с фашизмом, то, расспросив этого болвана, он сразу форсирует реку и вместе с нами ударит по этим бандитам. Мы бы поступили только так.
— Верно, товарищ майор, — ответил Палийчук и вышел.
Когда они ушли, Стахурский посмотрел в окно. Солнце позолотило верхушки деревьев, но на лугу еще лежала тень горы. Группы капитана Вервейко уже не было видно — она скрылась в пади и, вероятно, уже приближалась к опушке леса. Если им удастся пройти мимо нее незамеченными, то через пятнадцать-двадцать минут они будут на гребне возвышенности.
На левом фланге, в ущелье, пулеметы ни на мгновенье не умолкали. На правом — тишину только изредка нарушали одинокие выстрелы. В центре было так же тихо, как вчера, как после войны.
— «Мальва» слушает, «Мальва» слушает, — неустанно бубнил телефонист.
— Следи за центром, — сказал Стахурский ординарцу и снова вышел на балкон.
Он сразу увидел их — они только что вышли на дорогу, которая сворачивала к мосту. Палийчук шел позади — с рукой на автомате. Эсэсовец шел впереди — с поднятыми руками, через плечо опасливо поглядывая на Палийчука. На противоположном берегу у моста стояло несколько машин. Стахурский посмотрел в бинокль: окруженный офицерами и солдатами, невдалеке от машин стоял майор Джонсон. Он наблюдал за боем между советским батальоном и неизвестным противником.
Палийчук подошел к переправе и что-то сказал охране. Эсэсовец все еще не опускал рук. Офицеры на том берегу навели бинокли.
Охрана отошла в сторону. Палийчук что-то крикнул англичанам, стоявшим на противоположном берегу.
Эсэсовец нерешительно ступил на мост.
И тут Палийчук вдруг размахнулся и ударил эсэсовца по шее. Тот бросился было бежать, но удар был так силен, что он упал с руками, простертыми вперед, к английскому берегу. Он мигом поднялся и помчался вперед во весь дух. Он бежал зигзагами, он все-таки опасался, не выстрелят ли ему в спину…
Когда он очутился на противоположном берегу, англичане тотчас же окружили его плотным кольцом.
Потом толпа англичан колыхнулась и вместе с эсэсовцем направилась к машинам.
Но в это время произошло что-то непонятное. Толпа рассыпалась, несколько солдат бросились к воде, и тут же над гладью реки захлопали одиночные выстрелы с английского берега.
Стахурский повернул бинокль и стал смотреть на реку: на легкой ряби воды часто подымались небольшие фонтанчики от пуль. Очевидно, обстреливали кого-то, кто был в воде.
Стахурский тотчас же увидел на поверхности, между фонтанчиками, голову человека. Вот она скрылась под водой, вот снова вынырнула, метнулась в сторону и опять погрузилась в воду, потом показалась далеко от того места, где рвались пули. Но стрелки перенесли огонь. Кто-то прыгнул с противоположного берега в воду и плыл сюда, к советскому берегу. Майор Джонсон и его офицеры не отрываясь следили за происходящим.
Стахурский вбежал в комнату и крикнул вестовому:
— Скорее на берег, узнать, кто в воде, оказать ему помощь и доставить сюда!
В эту минуту в горах загрохотали пулеметные очереди и несколько мин хлопнули одна за другой. Неужели враг обнаружил группу Вервейко и накрыл ее огнем?
Нет. Солнце поднялось над горами, его яркие лучи упали на гребень возвышенности, где залегла оборона центра, и, прикрывшись этой солнечной завесой, противник снова пошел в атаку.
Стахурский выглянул в окно. Солнечные блики рассыпались по травяному ковру, и луг, только что отливавший темной росистой зеленью, вдруг как бы вспыхнул, заискрился всеми красками радуги. Мириады цветов — белых, желтых, лиловых, розовых и пурпурных — раскрыли свои венчики навстречу солнцу. Можно было долго любоваться необычайной красотой утра, но в это время на опушке леса показались эсэсовцы и быстро покатились вниз по уступам гор. Первая цепь противника еще не достигла второй возвышенности, как из лесу появилась вторая. Солнце светило им в спину, в то же время слепя бойцов в центре нашей обороны. Наши бойцы не видели фашистов, не знали, много ли их, только слышали приближающийся рев.
Стахурский схватил пулемет, стоявший около окна, и окликнул ординарца. Вдвоем они поспешно установили пулемет, направив его на среднюю, ничью возвышенность, отделявшую нашу позицию от вражеской. Луч солнца проскользнул в окно, заискрился на прицеле, и мушка скрылась в радужном мелькании.
В памяти Стахурского неожиданно всплыло ненужное воспоминание: он допрашивал пленного немецкого генерала и спросил: чем генерал объясняет успехи немецкой армии на западе и поражения на востоке? Генерал ответил напыщенной фразой: «Когда солдат наступает на запад, солнце светит ему в спину. Когда он наступает на восток — солнце ослепляет его». Тогда Стахурский шутя ответил, глядя на небо, задернутое грозовыми тучами: «Генерал, не забудьте, что вас взяли в плен в облачный день».
— «Мальва» слушает! — крикнул телефонист. Потом он обратился к Стахурскому: — На левом фланге они тоже атакуют. Капитан Иванов просит подкрепления.
Что же ответить Иванову-первому? Резервов не было: водители, пекари и связные ушли с группой Вервейко. Известка снова посыпалась на Стахурского — очевидно, мина опять угодила в крышу, но взрыва не было слышно, мины рвались непрестанно, стреляли десятки пулеметов, все слилось в сплошной гул.
— Держаться! — крикнул Стахурский телефонисту. — Скажи: держаться! Вервейко пошел резать фашистский фланг! — За шумом, поглотившим все звуки, телефонист не мог услышать слов Стахурского, но он понял его по движению губ, как это понимают только в бою, и прокричал в телефон ответ Стахурского точно: Стахурский это понял по движению губ телефониста.
Прикрыв глаза от солнца ладонью, точно козырьком, Стахурский следил за развертывающимся боем. Эсэсовцы бежали по средней, ничьей возвышенности и не падали — значит Иванов-второй еще не взял их под фланговый огонь. Вот они скрылись в небольшой пади между ничьей и нашей возвышенностью, сейчас взберутся по склону и оседлают его…
Стахурскому удалось поймать прицел, и солнце резнуло его по глазам, но он увидел нескольких гитлеровцев совсем близко — они уже перевалили через гребень нашего холма и мчались по траве. Стахурский надвинул фуражку до самых бровей, на глаза ему упала тень, потом дал длинную очередь, переводя дуло пулемета то направо, то налево.
Он увидел, как несколько гитлеровцев упало замертво, другие быстро залегли в траве, а остальные бросились назад, но, не добежав до вершины, тоже залегли.
— «Мальва» слушает, — сразу услышал Стахурский, когда пулемет в его руках умолк. Ординарец торопливо заправил новую ленту.
И сразу в центре наступила тишина, умолкли пулеметы, умолкли минометы, гитлеровцы беспорядочно бежали обратно, в лес.
— Что на левом? — крикнул Стахурский телефонисту. — Что у Иванова-первого?
— Прут! — сердито ответил телефонист. — Наши отошли к самому берегу.
Стахурский взглянул на часы. С тех пор как Вервейко увел свою группу, прошло пятнадцать минут. Еще минут десять — и он будет у цели.
— А на правом?
— Спокойно, товарищ майор. Иванов-второй сейчас сообщил, что вышел на линию второй возвышенности.
— Молодец! — сказал Стахурский. — Выходит, это он косил их с фланга, а я думал — это моя работа. — Стахурский радостно улыбнулся. — Дай мне Иванова-первого.
— «Подснежник»! «Подснежник»! — крикнул телефонист. — Иванов-первый на проводе! — Он протянул Стахурскому трубку.
— Иванов! — сказал Стахурский. — Держись еще минут пятнадцать, не пускай ни одного фашиста в воду, потом мы всех их возьмем. Только пятнадцать минут!
— Если у меня через пятнадцать минут останется в живых хоть один боец, они не пройдут! — крикнул Иванов-первый так, что затрещало в трубке.
Стахурский вытер пот. Кажется, несколько минут до начала новой атаки можно будет передохнуть.
— Товарищ майор! — услышал он голос Палийчука.
Он оглянулся и увидел на пороге Палийчука и вестового, которого посылал на берег. Только сейчас он вспомнил про английскую сторону, стрельбу и человека в воде.
— А! — сказал Стахурский и пригрозил Палийчуку кулаком.
Палийчук стыдливо скосил глаза в сторону. Он знал, за что грозит ему майор — за подзатыльник, которым он наградил этого прыщавого на мосту. Но Палийчук был доволен собой — все же стукнул этого гада по затылку. Хоть немного отлегло от сердца.
— Что там случилось? — спросил Стахурский. — Почему началась перестрелка? Кто переплывал реку? Жив?
Вестовой кивнул головой на дверь:
— Здесь он, утопленник, сидит и дрожит: вода очень холодная. Да и напугался. Слова не может выговорить.
— Англичанин?
— Навряд ли, товарищ майор. Неказистый, и одежа на нем штатская. И выглядит как штафирка. Да вы поглядите сами. — Он крикнул в переднюю: — Эй, ты, рекордист водного спорта! Иди-ка сюда, познакомиться надо!
Съежившаяся, дрожащая, невзрачная фигура показалась из сумрака передней.
Вошедший дрожал от холода. Одежда прилипла к его телу; около ног, на полу, сразу образовалась лужа. Шапки на нем не было, волосы облепили голову. Небольшие усики, тоже мокрые, свисали до самого подбородка. У него зуб на зуб не попадал.
— Дайте ему плащ-палатку! — приказал Стахурский. — Он же окоченел! И принесите…
Стахурский не закончил фразу и медленно поднялся с пола.
— Погодите, погодите, — прошептал он, потом вскрикнул: — Это вы?
Человек с реки смотрел на Стахурского, его взгляд еще не выражал ничего, кроме крайнего страдания от смертельной стужи, сковавшей все его существо.
— Ян! — вскрикнул Стахурский.
В глазах человека с реки промелькнул какой-то живой огонек. Но это еще не был осмысленный взгляд живого человека.
— Пахол!
Стон — не то стон, не то тихий вздох — вырвался из груди человека. Он сделал шаг вперед и вдруг с громким стоном покачнулся навстречу Стахурскому, простирая руки вперед.
— Пахол, это вы?
Это еще не был Пахол, это был еще только человек с реки, охваченный лихорадочной дрожью, но он уже дотронулся руками до Стахурского, уже ощупывал его — и руки его безостановочно дрожали то ли от холода, то ли от того, что он не мог поверить, что перед ним не привидение, а живой Стахурский. Он схватил обеими руками руку Стахурского, ощутил ее живое тепло, силу, и тогда Пахол вдруг припал к руке Стахурского и рыдания вырвались из его груди.
— Ян! Откуда? Значит, вы тогда не погибли?
— Знакомые? — изумленно промолвил Палийчук. — История!
А Пахол все плакал, не сдерживая и не скрывая своих слез. Тело его содрогалось. Стахурский гладил его мокрые волосы, не зная, что делать.
— Принесите шинель! — приказал он. — Скорее! И дайте глоток водки — он замерз!
Вестовой принес шинель и хотел набросить ее Пахолу на плечи, но Стахурский отстранил его.
— Нет, нет, разденьте его, вытрите раньше, потом наденете на сухое. Успокойтесь же, Ян!
Он хотел отстранить от себя Пахола, чтобы дать вестовому возможность переодеть его, но Пахол изо всех сил сжал его руку, прижимаясь к ней головой, и его нельзя было оторвать.
— Успокойтесь, — повторял Стахурский, — успокойтесь. Вы опять с нами. Тут у нас бой, как видите, бой после войны…
Стахурский не знал, о чем еще говорить, — он сам был очень взволнован неожиданной встречей.
Наконец Пахол выпустил руку Стахурского и дал себя раздеть. Он стоял посреди комнаты, заставленной мебелью и засыпанной штукатуркой, не стыдясь своей наготы, не замечая ее. Он все еще дрожал, весь синий от холода. Палийчук накинул шинель на его дрожащие плечи.
— Вы… — прошептал Пахол, когда обрел, наконец, дар речи, — это вы, товарищ комиссар? Неужели это вы?
— Быстренько рассказывайте, — попросил Стахурский, — рассказывайте скорее, а то может опять начаться атака.
Он посмотрел в окно. В центре было спокойно. Бойцы снова заняли линию обороны на гребне первой возвышенности.
— Откуда вы? Значит, вам удалось спастись?
Пахол стоял перед Стахурским, шинель на нем почти касалась пола. Глаза его горели, как у безумного, он был страшно худ, щеки его запали.
Но он не ответил на вопрос и в свою очередь спросил:
— Разрешите спросить, товарищ Мария погибла тогда, когда подожгла бензин?
— Нет, — ответил Стахурский, — Мария вернулась, выполнив порученную ей операцию. Она жива и до последнего дня войны была в армии.
Пахол глубоко вздохнул. На мгновение он закрыл глаза, и в это время по лицу его пробежала еле заметная улыбка. Это была улыбка облегчения: должно быть, все это долгое время Пахол жил со страшным угрызением совести: Мария погибла, потому что пошла на диверсию одна.
— С вашего позволения, — прошептал Пахол, — я благословляю вас за слова, которые вы сейчас сказали мне.
— Вы отыскали своих родных?
— Да, нашел, — ответил Пахол. В его голосе прозвучали тоска и боль.
— Где же они? И как вы очутились здесь?
Телефонист прервал их:
— Капитан Иванов-первый докладывает, что у него тридцать человек и они уже ногами в реке.
Стахурский посмотрел на часы: прошло еще десять минут. Но когда Вервейко выйдет на гребень третьей возвышенности и атакует правый фланг противника с тыла, они еще сильнее нажмут на Иванова-первого. У них другого выхода не будет: или погибнуть под огнем Вервейко, или броситься к реке. Иванову-первому, конечно, нужно подкрепление, чтобы выдержать этот отчаянный напор смертников. Стахурский скользнул взглядом по комнате: кроме него, было еще пятеро — Палийчук, ординарец, вестовой, телефонист и радист.
— Самый раз майору Джонсону ударить им во фланг, — сказал Стахурский.
Палийчук сердито проворчал:
— Обойдемся без них, черт бы их побрал! В Сталинграде мы их не звали. Тоже было дело на берегу реки…
— Товарищ Тагиев, и вы, — обратился Стахурский к ординарцу и вестовому, — отправляйтесь к капитану Иванову-первому.
Сержант и солдаты откозыряли и вышли.
Палийчук подошел к окну. Не ожидая приказа, он занял место у пулемета, где раньше был ординарец.
Стахурский снова взглянул на часы.
— Значит, вы нашли свою семью, — рассеянно сказал он Пахолу. — Отчего же вы очутились здесь?
Он говорил с Пахолом, но видел перед собой склоны возвышенности и полосу леса, из которого гитлеровцы ежеминутно могли снова броситься в атаку. Он говорил с Пахолом, но слышал только стрельбу на левом фланге и тиканье часов у себя на руке. Почему же не выходит на гребень над ущельем Вервейко с группой последних бойцов?
— Она в концлагере, — сурово произнес Пахол. — В Зальцбурге.
— Кто в Зальцбурге? — рассеянно спросил Стахурский.
— Жена, — сказал Пахол, — Маричка. А дети умерли. В концлагере.
— «Мальва» слушает… — бубнил телефонист в углу.
— Дети умерли, — машинально повторил Стахурский.
Он понимал трагический смысл сказанного, но не находил слов, чтобы выразить свое сочувствие несчастному Пахолу, в голове его была только одна мысль: почему запаздывает Вервейко?
— Но теперь ведь в Зальцбурге англичане, — сказал он. — Вероятно, вашу жену уже освободили…
— Нет, — мрачно произнес Пахол. — Ее не выпустили. Маричка принимала участие в восстании против фашистов, которое произошло в лагере. А теперь англичане проверяют всех, кто участвовал в нем.
— Вот оно что, — сказал Стахурский. — Но что там проверять, если она приняла участие в восстании? Восстание же было против фашистов. Ее скоро освободят, будьте спокойны.
— Англичане подозревают, что это восстание против немцев подняли коммунисты, поскольку им руководили пленные красноармейцы. И они не хотят выпускать коммунистов из лагеря, боятся, как бы их идеи и здесь не нашли сочувствия у народа.
— Что вы говорите, Ян? — Стахурский оторвался от часов и посмотрел на Пахола, в глазах его было удивление. — Впервые слышу подобное.
Палийчук сердито отозвался от пулемета:
— Свой к своему, товарищ майор. Я же говорил…
— Можете мне поверить, товарищ майор, — сказал Пахол. — Я только что оттуда. А Маричка осталась там.
Стахурский смотрел на часы. Отчего не дает о себе знать группа Вервейко?
Стрельба на левом фланге не утихала.
— Так… Что же вы там делали, Ян? — спросил Стахурский, не отрываясь от циферблата.
— Пока были немцы, я прятался у австрийских шоферов. А когда пришли английские войска, мне наконец удалось повидать Маричку.
— Ах, увидели все-таки… Это хорошо, — машинально произнес Стахурский. Он слушал Пахола, но голова его была занята другим.
— Не очень хорошо, с вашего позволения, — сказал Пахол. — Когда я попросил у англичан разрешения повидаться с женой, они и меня посадили в лагерь, и лишь тогда я увиделся с Маричкой.
— Вас посадили? — снова удивился Стахурский. — Почему же?
— Как подозрительное лицо.
Палийчук захохотал. Это был редкий случай — увидеть смеющимся всегда мрачного Палийчука.
— Ах, вот оно что! — сказал Стахурский. — Ну, вас проверили, установили, что вы чех, а не фашист, и выпустили. А дальше что? Зачем вы бросились в реку?
— С вашего позволения, — сказал Пахол, — дело обстоит иначе. Когда меня привели на допрос, чтобы установить, не красный ли я, то я сразу заявил, что можно меня не проверять, так как я и есть красный и даже был в партизанах. Тогда они посадили меня в каземат…
Он умолк, потому что Палийчук мешал ему. Недовольный взгляд Стахурского сдержал громкий хохот Палийчука, и теперь он смеялся потихоньку, прикрывая ладонью рот, но плечи его тряслись от смеха.
— «Мальва» слушает, — бубнил телефонист. Потом доложил Стахурскому: — Сержант Тагиев и бойцы прибыли. Что передать капитану Иванову?
— Держаться! Сейчас выйдет на гребень Вервейко. Еще несколько минут.
«Где же Вервейко? — мучился Стахурский. — Расстояние, по-видимому, больше, чем мы рассчитывали. Да еще местность пересеченная — овраги, холмы, взгорья, перевалы».
— Ну, ну, — подбодрил Пахола Палийчук, — рассказывай, рассказывай, землячок. Мы тебя слушаем.
Пахол пожал плечами:
— С вашего позволения, когда стало известно, что на этом берегу реки будут стоять советские войска, я решил бежать из каземата. Мне это удалось. Я улучил минуту, когда мы находились в отхожем месте, и удрал. Потом я пробрался в этот городок, но они тщательно следят, чтобы сюда, на ваш берег, никто не перешел, и мне пришлось скрываться в кювете на набережной. Потом здесь начался бой, и англичане встревожились. Потом через мост перебежал немец, и охрана на берегу стала смотреть, что здесь происходит. Я воспользовался этой минутой и бросился в реку. Мне очень хотелось сюда.
Стахурский посмотрел на Пахола. Казалось, смысл всей его речи только сейчас дошел до сознания Стахурского. Пахол рассказывал важные и любопытные вещи.
— Но ваша жена осталась в английском лагере? — спросил Стахурский.
Пахол горько усмехнулся.
— Что же из этого? — сказал он. — Но я тут…
Он умолк. Молчал и Стахурский. Он нетерпеливо поглядывал на циферблат. Что случилось с Вервейко? Миновали уже все сроки. Ему давно пора быть на месте.
В центре и на правом фланге было совсем тихо. Только на левом не умолкали пулеметы и методично хлопали мины: пять взрывов подряд, потом пауза и снова пять взрывов. Было совсем тихо, как бывает на войне в минуты боя только на фланге.
Пахол прошептал:
— И я уже не уйду отсюда…
Стахурский сказал:
— По правилам, установленным на демаркационной линии, союзники обязаны возвращать каждого, кто с оружием или без оружия без разрешения властей перейдет рубеж. После боя я должен буду вас отправить к англичанам, Ян.
— Нет, — тихо сказал Пахол, — вы этого не сделаете.
Стахурский удивленно посмотрел на него. В речи Пахола, обычно такой неуверенной, звучала непререкаемая убежденность. Но Стахурского удивило не только это: он действительно не был уверен, что вернет Пахола на ту сторону.
— Вы не вернете меня, — еще раз сказал Пахол, — с вашего позволения, я репатриант.
— Что вы, Ян! Вы подданный Чехословакии, а тут Австрия. И мы — Советская Армия. Я имею право не вернуть советского подданного — репатрианта. Но вас я должен вернуть.
— Я возвращаюсь на свое постоянное место жительства, — упрямо сказал Пахол, — и я репатриант. А раньше я был советским партизаном. И я вернулся, чтобы отыскать свою часть. Я ее нашел. Вы мой комиссар.
— Партизанских частей уже нет, — возразил Стахурский. — Уже почти год как наш отряд вошел в Советскую Армию.
— Я не сумел выполнить вашего приказа: разведать и возвратиться, — грустно сказал Пахол, но во взгляде его промелькнуло лукавство, — теперь вы поймали меня и должны передать в трибунал. Вы не имеете права отпустить меня, раз я подлежу полевому суду… Пусть трибунал приговорит меня к расстрелу, но я не вернусь туда.
— Но еще перед тем, — сказал Стахурский, — вы дезертировали из немецкой армии. И мне известно, что вы подданный Чехословакии. Если я не верну вас, все равно вас передадут Чехословакии.
Пахол молчал. Он не знал, как теперь возразить. Палийчук с любопытством глядел на него. Этот спор увлекал его. Он уже не был таким флегматичным, глаза его живо перебегали с Пахола на Стахурского и обратно.
Пахол пожал плечами.
— Хорошо, — сказал он, в интонации его звучало: «Ладно, договорились!» — Передавайте меня Чехословакии.
— Ну-ну? — заинтересовался Палийчук. — И что же ты тогда будешь делать?
— Не знаю, — неуверенно сказал Пахол, — но что-нибудь такое, чтобы в Чехословакию не пришла… демократия из английской и американской зоны.
Палийчук тихо засмеялся.
— Валяй, землячок! — сказал он. — Ты не бойся, товарищ майор шутят, и тебя не отдадут. Ты еще не знаешь нашего майора.
— Палийчук! — строго оборвал его Стахурский. Он смотрел на часы: уже десять минут назад Вервейко должен был выйти на гребень возвышенности.
— Виноват! — спохватился Палийчук.
— Я знаю, — серьезно сказал Пахол, — я был с товарищем комиссаром в бою.
— Да, — строго сказал Стахурский, — мы были в бою. И вы вели себя героически, когда сожгли гитлеровскую бензобазу. Но вы же сами сейчас сказали, что не сумели найти свой отряд и вместо этого отправились искать жену…
Пахол опустил глаза и побледнел.
Палийчук укоризненно покачал головой.
— Из-за жены? Ай-ай-ай!
— И детей… — прошептал Пахол.
— Ай-ай-ай! — качал головой Палийчук. Потом он сказал так же строго, как Стахурский: — А жена опять там, и ее могут не выпустить. А что, если ты снова подашься к ней?
Пахол посмотрел на него сухими, горячими глазами. В них была мука и мольба.
— Я не потому пришел сюда, что жены нет. И не потому, что они уморили моих детей. И даже не потому, что мне больше некуда итти. А потому, что мне нужно только сюда… — Он с трудом перевел дыхание и облизнул сухие губы. — Жену они не выпустят, ведь она красная. И я красный. И я хочу, чтобы красные идеи, которых боятся англичане и американцы, пошли повсюду. Я их сам буду распространять. Оттого я и пришел сюда. Но я буду их распространять, где бы я ни был. Как хотите, можете передать меня англичанам…
Он хотел еще что-то сказать, но в это время внимание всех привлек неясный, но все усиливающийся гул, доносившийся с возвышенности над ущельем.
Стахурский вскочил.
Ясно! Вервейко вышел на гребень и оттуда начал обстрел ущелья. Там теперь немцы теснят Иванова-первого, стремясь прорваться к реке.
— Иванов-первый! — крикнул Стахурский телефонисту.
— «Подснежник»! «Подснежник»! — закричал телефонист. — «Мальва» слушает!
Его выкрики потонули в поднявшейся канонаде и гуле взрывов. Противник открыл ураганный огонь из всех видов оружия. Он, по-видимому, понял наш маневр и сейчас снова бросится в атаку. Другого выхода у него и не было.
И действительно, тотчас же из лесу показались цепи эсэсовцев — в четвертый раз за это утро. Их встретили дружным огнем из пулеметов и винтовочными залпами. Очевидно, теперь противник бросил в атаку главные силы. Возвышенность, за которой расположилась наша оборона, окутал густой дым, комья рыжей земли взлетали тут и там, — вражеские мины накрыли наш передний край.
И одновременно по стенам дома градом застучали пули — очевидно, немцы засекли пункт, откуда Стахурский их обстреливал из пулемета, и теперь старались подавить огневую точку, мешавшую их продвижению к центру.
Вдруг Стахурский увидел, что Палийчук, сидевший у пулемета, схватился за голову, зашатался и начал сползать на пол. Когда Пахол подбежал к нему, Палийчук уже был мертв.
— «Мальва», «Мальва»… — надрывался телефонист.
А на гребне нашей возвышенности среди клубившегося дыма Стахурский увидел гитлеровцев. Их становилось все больше. Они накоплялись. Началась рукопашная схватка. Если наши не опрокинут их, они сейчас будут здесь.
В это время он услышал настойчивый крик телефониста:
— С Ивановым-вторым связи нет! С Ивановым-вторым связи нет…
Мина угодила на чердак, и потолок обрушился на головы присутствующих в комнате.
Выбравшись из-под обломков, Стахурский бросился к пулемету. Немцы уже бежали по склону вниз, направляясь к КП.
Стахурский опустил дуло пулемета ниже — гребень обстреливать уже поздно, надо преградить дорогу тем, кто уже в пятнадцати шагах от КП, — и начал их расстреливать в упор. Он не выпускал спуска из крепко сжатых пальцев, и лента шла долгой, нескончаемой очередью, легко и свободно, словно кто-то подавал ее. Но подавать было некому: Палийчук лежал рядом убитый.
Гитлеровцы падали на траву, на дорогу, даже в палисаднике. Стахурский увидел, что часть из них залегла на склонах возвышенности, часть пустилась наутек. Но его удивило, что и на гребнях нашей и ничьей возвышенности эсэсовцы тоже падают и залегают. Только когда на склоне и дороге не осталось ни одного эсэсовца, Стахурский оглянулся и увидел, что справа от него сидит на корточках Пахол и подает ленту в магазин.
— Я сам управлюсь, — крикнул ему Стахурский. — Беги направо, к Иванову-второму. Пусть держит среднюю возвышенность под фланговым огнем.
Пахол вскочил и бросился к двери. На ходу он поднял пилотку Палийчука.
Когда он уже убежал, Стахурский подумал, что посылать Пахола не было надобности. Немцы потому и залегли на промежуточной ничьей возвышенности, что она была под фланговым огнем Иванова-второго.
Но они не залегли, они просто падали под этим огнем: наши бойцы уже бежали вверх по склону.
Стахурский снова поднял дуло пулемета, переведя огонь на гребень.
Когда лента кончилась, он услышал голос телефониста:
— Иванов-первый на проводе!
Стахурский прижал трубку к уху.
— Начальник штаба кроет их с гребня! — весело и возбужденно кричал Иванов-первый. — Не ущелье, а братская могила! Он их кроет, а мне делать нечего. У меня снова мирное время!
— Какие потери? — крикнул Стахурский.
— Шестеро убитых, — ответил Иванов. — А ранены, наверно, все. Твой ординарец ранен в голову, но не тяжело.
— Немедленно эвакуировать тяжело раненных. Лежать в обороне до соединения с группой Вервейко.
Стахурский положил трубку и выглянул в окно. Фашисты на второй возвышенности лежали недвижимо, прижатые к земле: пулеметы с правого фланга не утихали ни на миг — казалось, их стало еще больше. Третья цепь противника спешила укрыться в лесу.
Стахурский поднял дуло пулемета и крикнул телефонисту:
— Брось трубку, подавай ленту!
Телефонист переполз к нему, и Стахурский пустил длинную очередь вдогонку бегущим к опушке. Он старательно водил дулом, точно брандспойтом, от одного фашиста к другому — и они падали на склоне третьей возвышенности…
Атака захлебнулась. И это бесспорно была уже последняя атака.
Стахурский оттолкнул пулемет и вышел из комнаты, из домика, в палисадник, на дорогу, на луг. Надо поднять бойцов в центре и идти прямо в лес брать минометы.
Стахурский пошел к бойцам на гребень первой возвышенности прямо лугом — передки сапог тонули в молодой, сочной траве, белые, желтые, розовые венчики цветов исчезали под его широкими подошвами. Порой среди травы попадались трупы гитлеровцев, лежавшие ничком, и Стахурский переступал через них. Это были трупы уже после войны. Кое-где из углубления, из ямки навстречу ему поднимали руки стоявшие на коленях эсэсовцы, которым удалось остаться в живых. Но Стахурский, не обращая внимания, шел дальше к вершине.
Наискось, по лугу, справа, к нему бежал Пахол: он побежал было к домику, но увидел Стахурского и свернул сюда напрямик. На голове у него была пилотка Палийчука. Он подбежал и приложил руку к пилотке. Край пилотки был залит кровью. Это была кровь Палийчука.
— Справа вышла на холм наша часть, прибывшая из дивизии, — рапортовал Пахол, — и держит ничью возвышенность под фланговым огнем.
— А! — сказал Стахурский. — А я думал, что это я сам уложил всех. — Он шел не останавливаясь, и Пахол с трудом поспевал за ним. Стахурский улыбнулся ему. — Ну вот мы и опять с тобой вместе в бою.
— Служу трудовому народу! — гаркнул Пахол. Он все бежал рядом, прихрамывая, но не отставая, и не отнимал руки от пилотки.
— Теперь уже: служу Советскому Союзу! — поправил его Стахурский. — Беги на КП, становись к пулемету на всякий случай, а если что — будешь держать связь между мной и телефонистом. Скорее!
Пахол козырнул, повернул «налево кругом» — было очень неудобно на склоне делать «кругом» по всем правилам, да еще в огромных башмаках с загнутыми вверх носками, как у китайских туфель. И Пахол что было сил побежал. Полы шинели хлестали его по голым ногам.
Стахурский засмеялся и пошел дальше на вершину.
— Товарищ майор! — раздался чей-то голос позади.
Стахурский остановился.
К нему подбежал радист и доложил:
— Вас вызывает к телефону штаб дивизии.
— Передай: приказ выполнен, инцидент ликвидирован.
Он засмеялся снова и пошел к вершине. Теперь ослепительные солнечные лучи били ему прямо в глаза.
Западный ветер
Был только седьмой час утра, когда Стахурский встал. Он тщательно побрился, умылся, почистил китель.
Впрочем, он делал это совершенно машинально. Тысячи мыслей, догадок, предположений всю ночь горячили ему голову, бросали в жар и в холод, как в лихорадке, и от бессонной ночи в голове стоял туман.
В четверть девятого Стахурский вышел на улицу.
Чудесное весеннее алмаатинское утро встретило его.
Стахурский всем существом вбирал в себя синюю лазурь небесного шатра, пронизанного золотыми стрелами солнечных лучей, торжественную пышность зеленого ковра, расцвеченного мириадами цветов всех оттенков, горную цепь в утреннем мареве и сиянии вечных снегов, аллеи стройных деревьев и сверкающий от обильной росы асфальт. Но весь этот прекрасный и волнующий пейзаж был словно прикрыт стеклянным куполом: ощущение чего-то непоправимого подавляло Стахурского и как бы отделяло его от всего окружающего мира. Мир существовал сам по себе — чарующий и радостный, а он, Стахурский, тоже сам по себе, непричастный к счастью и недостойный его. И то, что это счастье существовало, что оно было таким чудесным, но не для него, — это только углубляло боль, только непомерно увеличивало это ощущение.
Такое ощущение хорошо знакомо детям: случилось непоправимое, и оно уже неотвратимо; не может быть, чтобы оно было, но оно есть.
На углу ждал инвалид, продавец из голубого киоска в парке. Его коляска на больших и легких велосипедных колесах и с длинным рычагом, которым он вертел передачу, стояла около тротуара. Стахурский подошел, и они поздоровались.
— Фамилия секретаря — Асланов, — сказал инвалид, — звонить по коммутатору два — девятнадцать. Начинает работать в девять. Он воевал на Ленинградском.
Стахурский посмотрел на часы: стрелки медленно приближались к половине девятого.
— Иди, — сказал инвалид.
Он протянул Стахурскому свою единственную руку, крепко пожал руку товарищу и повторил:
— Иди. Все будет хорошо.
В начале десятого Стахурский был в вестибюле горкома партии. Он подошел к висевшему на стене телефонному аппарату, снял трубку и попросил номер два — девятнадцать.
Ему сразу ответил звонкий голос с легким казахским акцентом:
— Асланов слушает вас.
— Товарищ Асланов, с вами говорит инженер Стахурский. Я вчера вечером прилетел из Киева, и мне необходимо видеть вас.
— Из Киева? Повторите вашу фамилию.
— Стахурский.
— По какому делу вы хотите видеть меня?
Стахурский глубоко вздохнул — так трудно было сказать вслух то, что требовалось, и промолвил:
— По делу картографа геологической экспедиции Марии Шевчук, арестованной третьего дня.
Голос в трубке тотчас же прервал его:
— Кто вам сказал это? Мария Шевчук совсем не арестована. Она находится здесь, в горкоме… — Голос в трубке на мгновение умолк, потом уверенно закончил: — …и выполняет срочное задание.
Сердце Стахурского как будто упало куда-то и тут же, расширившись, казалось, заполнило всю грудь. Горячий пот оросил его лоб.
Голос в трубке молчал.
— Но… — начал Стахурский.
— Но, — перебил его голос, — кем вы приходитесь Марии Шевчук? Родственник, знакомый?
Стахурский перевел дыхание и сказал:
— Я был комиссаром партизанского отряда, в котором она служила, потом командиром батальона. Мое армейское звание — майор.
— Пройдите прямо ко мне во второй этаж.
Стахурский повесил трубку. Все кричало в нем: не арестована, ложь! Шум стоял у него в голове. И как он мог поверить?! Она выполняет ответственное задание! Мария не могла совершить никакого преступления!
Стахурский поднялся по лестнице на второй этаж, потом долго шел по длинному, широкому коридору. Сотни раз он бывал в бою, десятки раз ходил на опасные операции, три раза его ловили эсэсовцы, был в гестапо, у Клейнмихеля… И он поверил клевете на человека, с которым вместе был в бою…
Помощник секретаря в приемной был предупрежден о приходе Стахурского и молча указал ему на дверь.
Прямо против входа за письменным столом сидел человек в военном кителе без погонов. При входе Стахурского он поднялся.
— Майор Стахурский? — спросил он.
— Инженер Стахурский.
— Садитесь.
Стахурский сел.
Секретарь тоже опустился в кресло.
Он с нескрываемым любопытством смотрел на посетителя.
Стахурский видел перед собой молодое мужественное лицо, легкую проседь на висках, орденские ленточки Красного Знамени, Красной Звезды и медаль за Ленинград.
— Мы воевали на разных фронтах, — сказал секретарь, взглянув на грудь Стахурского.
— Да, товарищ Асланов.
— У вас точно такие же награды, как у Марии Шевчук.
— Да, случилось так, что у нас с ней одинаковые награды.
Горячая волна прошла по телу Стахурского. Он пришел сюда говорить о Марии, но то, что ее имя было произнесено так сразу, взволновало его.
— Вы были ее комиссаром? — Не ожидая ответа, секретарь спросил: — А кто вам сообщил, что Мария Шевчук арестована?
— Хозяин дома, где она живет.
— Вот как! — Секретарь высоко поднял брови и сказал: — Это очень существенное обстоятельство! — Рука его потянулась к телефонной трубке, но на полдороге остановилась. — Вы прилетели очень быстро. Очевидно, не рейсовым, а специальным самолетом? С какой целью?
— Мария Шевчук — моя невеста…
— Так… — помолчав, задумчиво произнес Асланов, — это меняет дело. Теперь я уже не смогу вам задать те вопросы, которые меня интересуют.
Стахурский почувствовал себя обескураженным.
— Я не знаю, что вы хотите спросить у меня, но я готов ответить на любой вопрос. В чем дело? Из ваших слов следует, что с Марией Шевчук не все обстоит благополучно.
Асланов перелистывал страницы в папке, лежавшей перед ним на столе. Возможно, он обдумывал, в какой форме преподнести собеседнику горькую истину. Тихо тикали часы на руке у секретаря и Стахурского.
Первым нарушил молчание Асланов:
— Можно взглянуть на ваши документы?
Стахурский вынул из кармана документы и положил их на стол. С Марией, несомненно, что-то произошло. Но что могло случиться с Марией?
Просмотрев документы, секретарь сказал:
— Расскажите все, что вы знаете о Марии Шевчук с первой минуты вашего знакомства, а также и то, что она вам говорила о себе, о своей жизни до встречи с вами.
Стахурский, волнуясь, начал рассказывать. О прошлом Марии он знал совсем мало. Отец — техник-инструментальщик Харьковского завода, умер еще до войны; мать — учительница, погибла на шахте. После окончания десятилетки Мария работала чертежницей на заводе и одновременно училась на географическом факультете. Потом война. По мобилизации комсомола Мария работала на строительстве оборонительных рубежей, не успела эвакуироваться, была схвачена фашистами и отправлена в Германию. Бежала по дороге и попала в партизанский отряд. Это было все, что знал Стахурский о прошлом Марии.
— Дальше?
Секретарь глядел в папку, очевидно сверяя рассказ Стахурского с автобиографией Марии.
Стахурский подробно рассказал о встрече с Марией, о работе с ней в то время, когда он стал командиром диверсионной группы. Ему не раз приходилось выполнять важные операции вместе с нею. В Подволочиске они попали в гестапо. Но им удалось бежать раньше, чем их повели на допрос. Она была умелой разведчицей, подрывником и пулеметчицей: партизанам в зависимости от обстоятельств приходилось овладевать многими военными профессиями. За поджог базы горючего немецкой танковой армии Мария была награждена орденом Отечественной войны первой степени. Ее напарник тогда не вернулся, думали, что он погиб, но впоследствии…
— Ян Пахол из Мукачева? — спросил секретарь.
— Да… Она рассказывала вам о Яне Пахоле?
Секретарь кивнул головой.
— Прошу вас, продолжайте.
— Дальше — рейд по предгорьям Карпат и Закарпатью. Бои во вражеских тылах. Выход в Словакию и встреча с Советской Армией. Вскоре после этого — ликвидация партизанского отряда, который влился в армию. Стахурский, с воинским званием инженер-майора, стал командиром саперного подразделения. Мария Шевчук получила назначение в роту связи. Так прошли они Венгрию, потом Австрию. В Вене Марию откомандировали в штаб дивизии. Сразу же после окончания войны ее демобилизовали с женским составом. У нее было звание старшего сержанта.
Стахурский рассказал все. Это была простая и ясная боевая жизнь, суровая, самоотверженная, полная борьбы и повседневной готовности к подвигу. В этой жизни не было и тени неправды — недисциплинированности, колебания, трусости. Это была чистая и честная жизнь патриота.
Стахурский заключил:
— Я посылал товарища Марию на самые ответственные задания и никогда не сомневался. Каждую минуту нашей совместной работы в партизанском отряде и позже в армии я мог сказать кому угодно и в любых условиях, что доверяю ей до конца.
Секретарь все время, пока Стахурский говорил, внимательно глядел на него. Когда он кончил, Асланов после небольшой паузы медленно произнес:
— Две недели тому назад при попытке перейти нашу восточную границу был задержан неизвестный, оказавшийся шпионом одной не соседней с нами державы. Среди обнаруженных у него материалов была также карта района строительства плотины, которую в группе георазведки делала картограф Шевчук…
Асланов смотрел на Стахурского. Стахурский смотрел на него.
— Тут какое-то чудовищное стечение обстоятельств… — дрогнувшим голосом сказал Стахурский. — Я готов поручиться за нее всей своей жизнью, товарищ Асланов.
Этого можно было не говорить. Надо было сказать что-то иное. Но что?
Асланов вдруг спросил:
— Итак, вам хорошо известна особа по фамилии Пахол Ян?
— Конечно!
Тогда Асланов вынул из папки фотокарточку и протянул ее Стахурскому.
— А эта особа вам известна?
Это была фотография женщины. Гладко причесанные короткие волосы, не старое, но утомленное лицо, прозрачные невыразительные глаза. Трудно было сказать что-либо о ее профессии. На шее женщины висел медальон на тонкой цепочке. Он был старинного типа — открытый. На нем что-то было нарисовано, но рисунок на медальоне нельзя было разобрать.
Нет, мне не приходилось встречать эту женщину.
— Эта женщина называет себя Маричкой Пахол…
Маричка Пахол! Жена Яна Пахола и мать его детей, о которых так убивался Пахол все годы разлуки!
— Но откуда и зачем здесь фотография Марички Пахол?
Следственные органы послали фотокарточку в Чехословакию, чтобы установить ее соответствие оригиналу, и таким образом удалось раскрыть суть дела и найти шпиона.
Стахурский чувствовал, как тревожное волнение уступает в его душе место спокойствию. Это было знакомое и обычное спокойствие в час напряжения, в бою. Было мирное время, но бои продолжались.
— Но как сюда попала Маричка Пахол? — спросил Стахурский.
Асланов не ответил на его вопрос. Он сказал:
— Мария Шевчук, которую вы так хорошо знаете, поручилась за эту особу.
Стахурский вздрогнул. Мария поручилась за шпионку! Но ведь она совсем не знала Маричку Пахол…
— Переверните карточку, — сказал Асланов.
На обороте, немного наискось, крупным почерком были написаны четыре строчки. Стахурский сразу узнал почерк Яна Пахола.
«Настоящим свидетельствую, что снятая на этой фотографии женщина — не моя жена, а на медальоне действительно снимок моей дочки Елизаветы, замученной в концентрационном лагере близ Зальцбурга».
Внизу была печать и по-чешски засвидетельствована подпись Яна Пахола из Мукачева.
Стахурский недоуменно посмотрел на Асланова. Тот сказал:
— Это немецкая шпионка, псевдоним «Берта». С недавнего времени у нее новый псевдоним — «Леди». Но сути дела это не меняет. Это она передала карту, выполненную картографом Шевчук, «вояжеру», которого задержали при попытке перейти границу, чтобы доставить материалы шпионскому центру одной не соседней с нами державы.
Стахурский снова сидел спокойно. Теперь он уже не удивлялся и был готов ко всему. Бой есть бой…
— Так, — сказал он, — я слушаю вас.
Асланов дружески улыбнулся ему:
— Я измучил вас всем этим. — Он словно просил Стахурского извинить его за страдания, которые он невольно причинил ему. — Больно, когда в эти авантюры втягиваются и попадают в трагическое положение наши хорошие люди. — Он минуту помолчал. — Нашим работникам органов безопасности приходится разбираться в сложных перипетиях жизни, а мечтают они о жизни простой, без причудливых сплетений, без тумана — простой жизни, ясной цели. Они тоже хотели бы быть инженерами. — Он снова приветливо улыбнулся. — Доски, кирпич, цемент — и ты построил дом. Потом в этом доме поселяются хорошие люди и живут хорошей жизнью. Знают свою цель, работают, любят жен и детей, читают умные книги — о работе, радости, любви. И преобразуют природу, чтобы еще улучшить жизнь людей. — Он вздохнул. — Но для того, чтобы было так, мало одних инженеров: нужны бойцы — враг стоит перед фронтом и забирается в тыл. Каждый человек, особенно коммунист, должен быть достаточно бдительным.
Асланов отодвинул бумаги и спросил:
— Расскажите, пожалуйста, все, что вы знаете о Яне Пахоле, после его возвращения из немецкого, собственно из англо-американского концлагеря? Что было дальше?
— Что было дальше?
Об этом Стахурский знал только из писем Яна Пахола, которые он получал еще там, в оккупированной зоне.
Вернувшись в Чехословакию, Пахол по-прежнему работал шофером, но на этот раз уже в Праге, а не в Мукачеве. Вскоре он вступил в коммунистическую партию. От жены он никаких известий не имел. Потом, уже в Киеве, Стахурский после большого перерыва получил письмо от Пахола, из больницы, где он лежал уже несколько месяцев после тяжелого ранения.
«Теперь я совсем выровнялся, — грустно шутил в письме Ян, — потому что стал хромать на обе ноги. Мне, видите ли, прострелили и другую ногу. Было бы совсем хорошо, если бы я стал просто ниже ростом, но раненая нога плохо сгибается и я теперь хромаю на обе ноги, и хожу, переваливаясь, с вашего позволения, как утка. Впрочем, у меня такая профессия, что это не беда…»
— Когда был ранен Пахол? — спросил Асланов.
— Во время выборов Пахол выступал в провинции как функционер компартии. Реакционная банда напала на помещение выборного участка, где в депутаты баллотировался коммунист. Члены комиссии оказали сопротивление, в результате два коммуниста были убиты, а Пахол тяжело ранен. Ему просто повезло: бандиты считали всех троих убитыми и пришпилили им на груди записки: «Смерть коммунистам!»
Асланов не скрывал волнения, глаза его даже сияли. Очевидно, рассказ о борьбе революционеров увлек его.
Стахурский, улыбнувшись, прибавил:
— Пахол и здесь оказался верным себе и пошутил: «С вашего позволения, — писал он в конце письма, — с того времени как я стал коммунистом, я сделался бессмертным: меня убили, пришпилили справку о моей смерти, а я вот пишу вам живехонький и остаюсь преданный вам до следующей смерти».
— Вы писали об этом Марии Шевчук? — торопливо спросил Асланов.
— Нет. Я все время собирался к ней поехать, и мне хотелось рассказать ей об этом при встрече. Мария любила и жалела Пахола. Ей было бы приятно услышать хорошее о нем.
Асланов весело смотрел на Стахурского.
— Это просто удача, товарищ Стахурский, что вы любите Марию и что вам в Киеве без Марии не сиделось! — Он засмеялся. — Хотя, если бы вы вчера не прилетели, то, будьте уверены, сегодня мы вызвали бы вас.
Он снова стал сдержанным, сосредоточенным и придвинул к себе бумаги.
— Следственные органы уже закончили это дело, и преступники понесли должное наказание. Но дело коммунистки Шевчук теперь должны рассмотреть мы, партийные органы. Ваш приезд нам немало поможет.
Асланов снова радостно воскликнул:
— А Пахол жив! И хотя он хромает сейчас на обе ноги, будет и впредь крепким борцом против реакции всех мастей. Но те людишки, которые направили бандитов, чтобы убить Пахола, были введены в заблуждение. Будьте уверены, что людям, пославшим реакционную банду громить выборный участок, было в конце концов не так важно, выберут ли еще одного коммуниста в парламент. Им надо было убить Пахола, чтобы развязать себе руки. Но бандиты поторопились и, полагая, что Пахол убит, подвели свое начальство. А Пахол жив. На этом они и провалились. Понимаете?
Стахурский еще не мог понять.
— Разрешите обратиться к вам с вопросом, — сказал он: — в чем вина Марии Шевчук и почему она поручилась за неизвестную ей особу?
Асланов нажал кнопку звонка.
Вошел помощник.
— Пожалуйста, попросите сюда Марию Шевчук.
Стахурский сидел молча, глядя на дверь, и холод сжимал ему сердце.
— Мария!
Дверь распахнулась, и Мария переступила порог.
Она сделала несколько шагов по направлению к столу и в нерешительности остановилась. Ее остановило то, что в комнате секретаря был еще какой-то человек.
Мария глядела против света, но через мгновение глаза ее расширились, брови затрепетали, лицо побледнело.
Она даже слегка пошатнулась.
— Садитесь, товарищ Шевчук, — сказал Асланов и подошел к ней. Он пододвинул ей кресло против Стахурского.
Мария села. Она зажмурилась и не раскрывала глаз. Она дышала тихо, но с каждым вздохом плечи ее подымались.
— Стахурский! Ты? — прошептала она.
Мария сидела, опустив глаза, бледность словно пронизывала все ее лицо. Губы были плотно сжаты, в уголках залегли горькие складки. Руки лежали на столе.
— Мария!
Она подняла глаза и посмотрела прямо на Стахурского.
Это был первый взгляд Марии. Первый после того взгляда там, ночью, на берегу Днепра, на Трухановом острове, под небом, усыпанным звездами. Первый после полугодичной разлуки.
Мария смотрела ясно. Он был бы спокойным, этот взгляд, если бы страшное волнение не искрилось в нем, если бы безграничная мука не туманила его. Этот взгляд говорил: «Я люблю тебя — можно? Ты люби меня — это можно. Мы имеем право на это. Верь».
Асланов сказал:
— Как видите, товарищ Стахурский прилетел весьма кстати.
Мария кивнула головой.
— Мне придется задать вам вторично кой-какие вопросы, чтобы товарищ Стахурский был в курсе дела. Это поможет нам скорее во всем разобраться.
Мария снова кивнула.
— Итак… почему вы приняли на работу эту женщину? Она вам была необходима как специалист, которого трудно найти?
— Она по профессии чертежница. Я могла бы, конечно, найти другую чертежницу. Но я хотела ей помочь.
— Эта женщина сама обратилась к вам с просьбой дать ей работу?
— Нет. Я случайно увидела ее заявление среди других в отделе кадров и обратила внимание на ее фамилию. Я хорошо знала человека с такой фамилией еще на войне.
— Что же вы сделали?
— Я вызвала ее и спросила: не знает ли она Яна Пахола? И она ответила мне, что это ее муж.
— И тогда, вы приняли ее на работу?
— Да.
— Что вами руководило?
— Я хотела быть ей чем-нибудь полезной. Ее муж воевал вместе с нами и не раз спасал жизнь мне и моим товарищам.
Мария взглянула на Стахурского, словно просила его подтвердить ее слова.
— Значит, вы поверили этой женщине потому, что хорошо знали ее мужа?
Мария подумала.
— Не только потому. Мне была также известна ее судьба. Не только ее горе и беды, но и ее деятельность: она принимала участие в восстании против фашистов в концлагере.
Асланов помолчал, потом сказал:
— Расскажите нам, пожалуйста, еще раз историю этой женщины, как она вам известна.
Мария рассказала:
— Когда Ян Пахол был угнан в Германию, жена его, Маричка, осталась с детьми в Мукачеве и сильно бедствовала, как все при гитлеровских оккупантах. Особенно ее мучила неизвестность — она ничего не знала о судьбе мужа. Но Пахол был на работе в Германии, и никаким особым репрессиям она не подвергалась. Так прошло три года. Младший ребенок умер от истощения. Маричка даже не могла об этом уведомить мужа — она не имела с ним связи, только слышала, что он с группой местных людей переброшен на восток обслуживать тылы гитлеровской армии в наступлении на СССР. Потом вдруг нагрянули жандармы и забрали ее вместе со старшей дочкой. В гестапо Маричка узнала, что ее муж бежал из армии. Было подозрение, что он убил гестаповского офицера и сжег машину, чтобы замести следы. Ее не раз допрашивали, но потом тюремщики убедились, что она действительно ничего не знает, и отправили ее в концлагерь близ Зальцбурга…
— Простите, — прервал ее Асланов и обратился к Стахурскому: — Что вы можете добавить к тому, что рассказала сейчас товарищ Шевчук?
— Ничего. Все, что она рассказала, точно соответствует действительности.
— Это вам известно со слов Пахола?
— Да.
Асланов обратился к Марии:
— А вам все это рассказала Маричка Пахол?
— Да.
— Прошу вас, продолжайте.
Мария рассказывала дальше:
— В концентрационном лагере второй ребенок Марички умер с голоду. Ненависть к фашистам, разрушившим ее жизнь, отнявшим детей и мужа, ожесточила Маричку. В лагере она встретилась с советскими женщинами, брошенными сюда только за то, что они были советскими. Она видела, как отважно ведут себя эти женщины и как твердо верят в близкую победу Советской Армии. Ни голод, ни пытки, ни издевательства не могли сломить их, и Маричка прониклась глубоким уважением к стране, где живут такие мужественные и героические люди. Она сблизилась с группой советских женщин, которые отнеслись к ней с дружеским участием. Когда в лагере образовалась подпольная организация сопротивления, Маричка примкнула к ней. Во главе этой организации стояли советские люди… Однажды Маричка получила передачу — хлеб и чистую сорочку. В хлебе была записка от мужа: он был здесь, рядом, и прятался от гитлеровцев. Это немного утешило Маричку в ее великом горе. В это время пленники узнали о победоносном наступлении советских войск и их приближении к Австрии. Они решили поднять восстание… Когда Советская Армия перешла Дунай, пленные перебили внутреннюю охрану лагеря, захватили оружие и намеревались пробиться навстречу частям наступающей Советской Армии. Но им не повезло. Внешняя охрана быстро опомнилась, начала обстрел кинжальным огнем из пулеметов и забросала территорию лагеря гранатами. Большинство восставших погибло. Оставшихся в живых гитлеровцы сочли зачинщиками и решили с ними жестоко расправиться. А пока заставили их сжечь трупы павших. Приближались армии союзников, и фашисты хотели скрыть от них следы зверской расправы. В этой группе оказалась и Маричка. Но расправиться с этими людьми не успели: англо-американские войска подошли быстрее, чем их ожидали гитлеровцы, и охрана концлагеря сложила оружие.
— С чьих слов все это вам известно? — спросил Асланов.
— Со слов Марички.
— И то же самое вам рассказал Ян Пахол? — обратился он к Стахурскому.
— Точно так.
— Что же было дальше?
Он спросил об этом Марию, потом Стахурского. Они рассказали печальный конец.
— Англо-американская администрация задержала группу в лагере. Они допытывались, не советскими ли пленными организовано восстание. Потом советская комиссия потребовала выдачи пленных красноармейцев, и их в конце концов передали. Маричка осталась совсем одна, о других уцелевших женщинах она ничего не могла знать, потому что ее внезапно изолировали в тюрьме на территории лагеря. Она ничего не знала также и о своем муже Яне, так как он пришел было в лагерь сразу же после вступления англо-американских войск, чтобы забрать Маричку, но его из лагеря не выпустили и изолировали отдельно от Марички. Потом до нее донесся слух, что Пахол убежал.
— Что было дальше с Маричкой? — спросил Асланов Стахурского.
Стахурский не знал. Пахол писал ему, что Маричка в лагере, а может, и в тюрьме.
— Что вы знаете про Маричку? — обратился Асланов к Марии.
— Когда было провозглашено воссоединение Закарпатской Украины с Советской Украиной и город Мукачев, родина Яна Пахола и Марички, вошел в Советский Союз, англичане вынуждены были передать Маричку советской репатриационной комиссии. Попав в нашу зону, Маричка прежде всего бросилась искать мужа. Но Ян Пахол в Мукачев не вернулся, и никто о нем ничего не слышал. Потеряв детей, мужа и окончательно лишившись душевного равновесия, Маричка не в силах была вернуться в родные места, в Мукачев, где каждый камень напоминал о прошлом. Она обратилась к репатриационным органам с просьбой направить ее куда-нибудь в другое место. Ей предложили указать, куда она хочет поехать. Маричка умышленно выбрала себе Казахстан — она раньше ничего не слышала о нем, но отроги Тянь-Шаня были в ее представлении дальше всего от ее родного города на отрогах Карпат. Она решила, что там ей лучше всего начать новую жизнь. У нее не было никакой профессии — в последние годы она была всецело поглощена семейными хлопотами, но в молодости, еще до замужества, она училась черчению и потому записалась чертежницей. Списки рабочих и служащих, прибывших на работу в Казахстан, были разосланы по всем учреждениям. Так мы встретились с нею, — заключила свой рассказ Мария.
Мария сидела взволнованная, не глядя ни на кого, устремив взор в пространство.
— Когда произошло все это? — спросил Асланов.
— В течение сорок пятого и сорок шестого года, до весны, — ответила Мария.
— Так, — сказал Асланов. — Но эта женщина, как установили наши следственные органы, родилась в России еще до революции и отсюда отлучалась только на короткое время.
Мария пожала плечами.
— Я говорю про Маричку Пахол.
Асланов протянул ей карточку.
— Вы имеете в виду эту женщину?
— Да.
— Вам приходилось читать что-нибудь написанное рукой Яна Пахола?
— Много.
— Переверните карточку.
Мария перевернула карточку и увидела строки, написанные знакомой рукой Пахола. Брови ее высоко взметнулись. Она быстро пробежала глазами текст и растерянно посмотрела на Асланова, потом на Стахурского. Карточка выскользнула из ее рук. Мария подняла руки и упала лицом на ладони.
— Что я наделала! — простонала она.
В комнате стало совсем тихо. Только слышно было тиканье часов на запястьях Асланова и Стахурского.
На улице, за приоткрытым окном, шуршали шины машин по асфальту, раздавались автомобильные гудки и где-то далеко-далеко, быть может у подножья гор, ревел ишак.
Все молчали.
Молчал Стахурский, захлестнутый и придавленный потоком сменяющихся чувств. Была и жалость к Марии, и облегчение, и радость, что она все же не виновна, но было и осуждение за то, что она не уберегла себя от такой беды.
Молчала Мария. Беда сломила ее. Она сидела все так же неподвижно, уткнувшись лицом в ладони, но плечи ее уже не вздрагивали — она больше не плакала: удар был такой сильный, горе было так велико, что слезы высохли на ее глазах.
Тягостное молчание наконец нарушил Асланов:
— Женщина, выдавшая себя за Маричку Пахол, родилась в Киеве, в семье украинского помещика. Ее отец в годы гражданской войны стал петлюровским министром, потом эмигрировал в Германию. Там она впоследствии училась в школе шпионов, а позднее была переброшена в СССР. Ее псевдоним был «Берта». Это она организовала взрыв на шахте, когда погибла ваша мать.
Плечи Марии вздрогнули, но она не отняла рук от лица.
Асланов обратился к Стахурскому:
— Вот что установили следственные органы. В составе геологической группы эта особа числилась под именем Марички Пахол. Впервые она прибыла на шахты вместе с эвакуированными в первый год войны под другим именем, но сразу же после аварии исчезла. Среди знакомых задержанного шпиона тоже опознана эта особа. В своей шпионской и подрывной деятельности она призналась только тогда, когда ей предъявили эту фотокарточку с надписью Яна Пахола на обороте. Она рассчитывала, что Пахол убит, а он оказался жив… Вояжер раскрыл и ее новый псевдоним «Леди».
Мария молчала. Она совсем окаменела.
Асланов строго произнес, обращаясь к ней:
— Вот что говорят факты. Какой же сделать вывод? Вы в большой вине перед государством. Из-за своей доверчивости и мягкосердечия вы допустили, что вас одурачили и за вашей спиной совершили антигосударственное преступление…
Он умолк, взволнованный, потом прибавил:
— Это, конечно, особый случай, как обычно говорят. Но очень жаль, что он произошел с коммунисткой, которая преданно и самоотверженно сражалась в годы войны, рискуя своей жизнью за Родину, совершала подвиги, однако не закалила своей бдительности.
Мария молчала. Она оставалась без движения, пока говорил Асланов.
— Мария! — промолвил Стахурский.
Мария молчала.
Тоска сжала сердце Стахурского. Любимая девушка попала в такую страшную беду! Они вместе были в бою, и она счастливой шла на подвиг. Когда была одержана победа, она радостно смотрела на мир и мечтала отдать все силы любимой отчизне. В мирном труде она хотела совершить такой же подвиг, как в бою. И вот она не оправдала доверия, оказанного ей Родиной!
Асланов налил воды в стакан и поставил его перед Марией.
— Выпейте, — сказал он.
Мария не шевельнулась.
— Выпей, товарищ Мария! — настойчиво повторил Асланов.
Тогда Мария заплакала.
— Спасибо! — прошептала она.
Радость, еще горькая, но радость наполнила Стахурского. Это «ты», сказанное Марии, говорило о многом. Перед ними, коммунистами, был товарищ в тяжкой беде.
Мария плакала. Она склонилась еще ниже, а лицо спрятала в сгиб локтя. Она не могла поднять свое лицо.
Стахурский протянул руку и положил ее на руку Марии.
Мария вздрогнула, почувствовав это прикосновение, такое желанное и такое неожиданное сейчас. Она склонилась к его руке, и слезы увлажнили его ладонь. В сердце его была любовь, но в нем было и осуждение.
Асланов на минуту отвернулся к окну, потом заговорил громче обычного:
— Пусть вас не удивляет, что история Марички Пахол оказалась известной этой шпионке, находившейся за тридевять земель. Она получила ее из шпионского центра вместе с подлинными документами и даже медальоном Марички.
— А где же теперь настоящая Маричка Пахол? — спросил Стахурский.
— Будьте уверены, что она по-прежнему находится в американском лагере для перемещенных лиц или, вернее, просто в тюрьме. Теперь она уже не нужна англо-американцам. Нужны были ее документы, биография, а больше всего то доверие, на которое она могла рассчитывать у советских людей, знавших ее мужа и слышавших ее историю. Весь расчет у них на этом и построен: на перенесении этого доверия и на нее.
Стахурский подавленно молчал. Мария тихо плакала.
Асланов продолжал:
— Мы можем легко представить себе, как все это было организовано. Заключенный в фашистском лагере, принимавший участие в восстании против немецких захватчиков, — находка для тех, кто хочет вести подрывную работу в нашей стране. Его документы хранят, пока не представится удобный случай использовать. Тогда шпионы получают извещение, что есть, мол, такая-то особа с большими заслугами, пользующаяся доверием среди своих, которая охотно рассказывает про своего фронтового друга иноземца Яна Пахола. Вот вам и находка! И не случайная находка: на память о погибших боевых друзьях, у которых остались близкие, резидент обращает особое внимание. Находка, но Пахола надо на всякий случай убрать. И банде реакционеров поручают уничтожить его. Пахол считается убитым, и старая националистка, гестаповка «Берта» вместе с новой английской кличкой «Леди» получает документы, медальон и историю Марички Пахол. Ей известно, что некий картограф Мария Шевчук питает наилучшие чувства к погибшему Яну Пахолу. Но эта «Леди» — опытная шпионка и действует осмотрительно. Она не является прямо к Марии Шевчук, а добивается того, чтобы Мария Шевчук сама на нее наткнулась, — максимальная маскировка! Когда ей предлагают работу из других учреждений, она отказывается или обещает подумать и терпеливо ждет, чтобы Мария Шевчук наткнулась случайно на ее фамилию. Вот и все. Дальнейшее вам известно. Все сделано как будто чисто. А на самом деле целых два провала. Во-первых, Ян Пахол жив. И второе — мнимая Маричка не дала согласия ни одному учреждению, предлагавшему ей работу, кроме того, где впоследствии была украдена карта. Эти обстоятельства и дали возможность следственным органам распутать клубок… Представляешь себе эту историю, товарищ Мария?
— Да, — тихо ответила Мария.
— Ну вот, — снова суровым голосом произнес Асланов. — По твоему делу я буду докладывать на бюро. Ты, конечно, должна получить взыскание. Это тебе будет уроком на будущее. — Он несколько мгновений помолчал. — А теперь успокойся, возьми себя в руки, нам еще надо потолковать с тобой.
Мария подняла голову.
Асланов продолжал:
— Пойманный на границе «вояжер» особого интереса не представляет. Он просто связной, а эти типы редко знают что-нибудь кроме того, что им приказано передать в том или ином месте. Это местный житель из бывших баев — кочевников, в группе работал в качестве чернорабочего. «Леди» могла его просто купить. Он хорошо знал дороги к границе, так как еще в детстве вместе с отцом перегонял табуны в Синь-Цзянь и Афганистан. Но следственным органам остался неизвестным тот, кто разузнал об отношении Марии Шевчук к боевому товарищу Яну Пахолу. Кому ты рассказывала про Пахола и его жену, про ваши боевые дела и историю Марички в концлагере?
Мария долго молчала, потом с трудом ответила:
— Всем…
Асланов сокрушенно произнес:
— Да… это очень скверная штука — излишняя болтливость. Однако тебе нужно вспомнить всех, кому ты рассказывала о Пахоле.
— Хорошо, — прошептала Мария, — я постараюсь.
Асланов встал, вышел из-за стола и протянул руку Марии:
— Будь здорова.
Мария пожала ему руку, не глядя на него. Стыд сковывал ее.
— Спасибо, товарищ Стахурский! Будьте здоровы. Погуляйте здесь у нас: Средняя Азия так прекрасна!
Стахурский и Мария вышли.
Они шли по коридору рядом, но Мария отворачивала лицо. Стахурский слышал, как она быстро и порывисто дышала. И он не мог разобраться в своих чувствах. Это были очень смутные чувства: словно Мария была ему совсем мало знакома — они так давно не виделись, что он отвык от нее, и, встретив, увидел ее совсем не такой, какой знал раньше. Но она была ему и необычайно близкой, родной — более родного человека у него не было. Он осуждал ее, но ее боль была и его болью.
Они вышли на улицу.
Солнце ударило им прямо в глаза и ослепило. Оно было таким горячим и ярким, среднеазиатское солнце! Ощущение сверкающих и слепящих лучей было таким неожиданным и сильным, что они несколько мгновений, зажмурившись, постояли на месте. Солнечное тепло окутывало их.
— Ух! — глубоко и шумно вздохнула Мария.
И они пошли по тротуару.
Теперь солнечные лучи уже не слепили их — тень ветвистых карагачей нависла над ними. И Стахурский сразу увидел — немного поодаль, на углу, около тротуара, стоит коляска на легких велосипедных колесах, и в ней, держась за блестящую никелированную рукоятку — солнечные зайчики играли на ней, — сидит инвалид.
Он смотрел сюда, на подъезд, и сразу увидел вышедшего Стахурского. Он даже подпрыгнул на своем сиденье, дернул ручку, закрутил ею изо всех сил своей единственной рукой и покатил им навстречу.
Он ехал быстро — коляска была легкая, под колесами стлался ровный асфальт, — и кричал на всю улицу, так, что, вероятно, слышно было в горах:
— Эй-эй! Братья славяне!
Он был казах Но «братья славяне» — так привыкли говорить там, на войне, после того как наши войска перешли границу и боевым походом двинулись по землям Европы, освобождая славянский мир от фашистских захватчиков. Так тогда говорили бойцы, так говорил он и теперь.
Стахурский и Мария стояли, ожидая его. Стахурский улыбнулся ему навстречу. Мария смотрела недоумевающе.
Инвалид подъехал и затормозил свою коляску.
— Ну вот! — закричал он на всю улицу. — Я же тебе говорил!
Он радостно засмеялся и протянул руку Марии.
— Познакомимся, — сказал он. — Абдильда Кулиев, гвардии старший сержант. — Он потряс ей руку изо всей силы. — Я знал, что ты сейчас выйдешь, и ему это сказал. Будь здорова!
— Спасибо, — сказала Мария. Уголки ее губ задрожали.
Она положила руку на плечо Абдильды, на то плечо, где когда-то и у него была рука, и крепко пожала это плечо. Она не спросила ничего, она поняла и так.
Абдильда тоже ни о чем не спрашивал.
И они пошли. Стахурский и Мария шли по тротуару, Абдильда ехал рядом, у обочины мостовой, словно держал с ними равнение в строю, и глядел прямо перед собой.
Чудесный весенний день стоял вокруг. Синий шатер неба ослепительно сиял, пронизанный солнечным блеском. Тень ветвистых карагачей защищала от зноя. Звонкие арыки журчали с обеих сторон.
На углу Абдильда торжественно сказал:
— Братья славяне, вы идите в парк, к голубому киоску, а я поеду вперед и все приготовлю. Это будет не той, но мы выпьем за ваше здоровье.
Они пожали руки, и Абдильда поехал вперед. Отъехав несколько шагов, он оглянулся и помахал рукой. Мария и Стахурский ответили ему.
Мария и Стахурский остались вдвоем. Вокруг шумела улица, люди проходили мимо или обгоняли их, но они все-таки были только вдвоем. Мария стояла перед Стахурским, опустив глаза, грудь ее порывисто вздымалась. Носком туфли она ковыряла камешек в мягком разогретом асфальте.
— Не порть асфальт, — сказал Стахурский.
Она покраснела и, наконец, подняла глаза.
— Здравствуй! — сказала она.
— Ну, здравствуй! — ответил Стахурский.
А помнишь…
До парка можно было дойти в двадцать минут, но они шли не меньше часа. Им не хотелось спешить, они наконец встретились и сейчас им хотелось побыть вдвоем. Только что им было очень тяжело, а теперь пришло облегчение.
Они шли по асфальтированной мостовой широкой и невероятно длинной улицы — аллеи — без начала и без конца, высокие деревья выстроились по обе стороны улицы двумя нескончаемыми шеренгами. Арыки звонко журчали вдоль тротуаров. Был апрель, и цвел, казалось, весь мир. Через ограды усадеб свисали лиловые кисти густой сирени, над ними высились стройные лозы белого жасмина, а дальше, в глубине садов, розовыми клубами замершего дыма переливались соцветия абрикосов и яблонь…
Они шли рядом — полшага не было между ними, плечи их порой, покачиваясь, соприкасались.
Солнце стояло прямо над головой, но они не чувствовали зноя: отрадная прохлада струилась в долину с далеких вершин Ала-Тау.
Так они дошли до берега Алмаатинки. Не сговариваясь, они остановились на обрыве и стояли над быстрой шумливой рекой, над бурными волнами, — покой, наконец, входил в их смятенные души. И они молчали.
Потом Мария что-то сказала, кивнув головой на пенистый поток. Но за шумом водопада Стахурский не расслышал.
— Что ты сказала?
Она приблизила губы к его уху и прокричала:
— Электростанции! Я говорю: от горного плато до самой степи тут строят каскад малых гидростанций, и ток их будет передаваться по кольцу.
— Здорово!
— Что?
— Я говорю: здорово!
И они оба засмеялись.
Когда они, перейдя через мостик, вышли в парк, их встретили одуряющие ароматы роз. Они шли по дорожке цветника — белые, розовые и красные розы стояли шпалерами с обеих сторон. Мария спросила:
— А помнишь, как мы перешли вброд Тиссу, такую же бурливую в ущельях Карпат? Это уже была граница нашей земли, рубеж, и мы впервые вступили на чужую землю.
— Помню.
Они запомнили это на всю жизнь: родная земля освобождена до последней пяди — и она лежала позади, залитая кровью, в пепелищах и руинах, а впереди был враг — и надо было доконать его и победить. Любовь к пострадавшей отчизне, ненависть к наглому захватчику, вера в справедливость и победу вели тогда бойцов на героические, вдохновенные, небывалые в мире бои.
— А помнишь, как на каком-то альпийском бурливом потоке был наш последний бой и мы закончили войну?
— Помню.
Потом они одержали победу, и впереди была прекрасная мирная, творческая жизнь.
Стахурский улыбнулся и сказал:
— Но потом, после окончания войны и последнего боя, у меня был еще один бой на «ничьей» земле. Помнишь, я тебе рассказывал?
Он умолк и погрузился в свои думы. Умолкла и Мария. На ее просветленное от ярких воспоминаний лицо набежала тень.
— Вот видишь, — сказал Стахурский, помолчав, — был Клейнмихель, был Мунц, а теперь вот появилась и Берта-Леди… Прости, — прервал он себя, — я не хотел возвращаться к этому, это вышло само собой.
Мария бледно улыбнулась.
— Ничего… Ты прав. К этому надо возвращаться постоянно.
Они снова умолкли и некоторое время шли молча. Боль, только что пережитая, но не изжитая еще совсем, снова нахлынула на них. Мария тряхнула головой, точно хотела отогнать грустные мысли.
— Ну, расскажи же мне о себе. Ты педагог! Вот не представляю тебя педагогом. Ты очень кричишь на студентов? Они очень боятся тебя?
— Боятся. Я сердитый педагог!
Он сказал это шутливо, но сразу же заговорил с искренним увлечением:
— Ты знаешь, Мария, очень интересно быть педагогом! Такое необыкновенное ощущение, словно ты переливаешь себя в других, в десятки, в сотни иных людей. Это чрезвычайно приятное чувство: ты — сам-сто, сам-тысяча. Так сказал мне секретарь райкома, когда уговаривал идти на педагогическую работу. И теперь я его понимаю: я — инженер, а за мною целый коллектив молодых инженеров.
Мария с завистью посмотрела на него.
— Я понимаю… Это — как на фронте, когда прибывает пополнение молодых бойцов и ты готовишь их к бою.
— Приблизительно… если и сам пойдешь с этими бойцами в бой. На лето я поеду с моими студентами на практику в Донбасс. Понимаешь, как это хорошо? Мы будем строить и одновременно продолжать учебу. Ты знаешь, у меня есть мечта: когда я выпущу мой курс, возглавить строительную организацию, в которой на разных стройках будут работать мои нынешние студенты. Ты понимаешь? Я ведь каждого из них сумею использовать наилучшим образом, так как хорошо знаю их. Правда?
— Конечно. Я вижу, ты доволен своей работой.
— Доволен. Это очень важно — чувствовать ответственность своей работы.
Мария сразу же опечалилась:
— Ну, парторгом меня теперь не оставят.
— Да. Но ты исправишь свою ошибку, и с тебя снимут взыскание.
— Все равно. Я сама откажусь от ответственной работы.
— Почему?
— Я не справилась, как видишь…
Стахурский возмутился:
— Ты не имеешь права! Мария, разве ты не понимаешь — мы уже давно потеряли право не быть ответственными. Мы должны уметь быть ответственными. Ты, солдат, не хочешь нести ответственности? Что же ты будешь делать? Сидеть сложа руки?
— Я — географ. Я буду работать, — уклончиво ответила Мария.
Стахурский пожал плечами и сердито умолк. Мария, подавленная, тоже молчала. Им не хотелось возвращаться мыслями к только что пережитому, но эти мысли возвращались сами, — слишком болезненно, слишком важно было оно. Беда так внезапно свалилась на Марию, и она растерялась.
— А потом, — сказала она тихо, — я женщина, я буду матерью, я создам семью. Разве семья — это не большое дело?
— Большое, — строго сказал Стахурский, — но этого еще мало. Создать семью — это только первый шаг в жизни. Разве советский человек убегает в свою семью, как в башню из слоновой кости? — Он горячо заговорил: — Мария! Мы коммунисты. Мы не имеем права отказываться от борьбы!
Мария смотрела в землю.
— Микола, как ты мог такое подумать? Разве я отказываюсь бороться? Женщина всегда мечтает создать семью, ей даже приятно чувствовать в любви власть любимого над собой. Но очень плохо, если только это — цель жизни. Я коммунистка, и я прошла войну. Я не так понимаю цель. Но я… совершила ошибку. Мне нужна рука, чтобы опереться на нее и снова подняться во весь рост. Прости, я, кажется, говорю несколько напыщенно?
— Нет, нет! — Стахурский пожал ее плечо. — Ты права. Прости меня.
Они прервали разговор: цветник кончился, начиналась березовая аллея, и в начале ее они уже увидели голубой киоск. Окно киоска было открыто, из-за бочки виднелось лицо Абдильды. Он еще издали махал им рукой.
Подойдя ближе, они увидели, что днище бочки аккуратно застлано и на нем стоит большая миска, накрытая тарелкой, и четыре стакана.
— А кто же четвертый? — спросила Мария. — Для кого четвертый стакан?
— Четвертый, — ответил Абдильда, — для того, кто случится. А не случится никого — для отсутствующего друга. Таков наш обычай.
Он налил вино во все четыре стакана.
— Я — хозяин, и мне первое слово!
Стахурский и Мария взяли свои стаканы.
Абдильда вытер усы и начал. Глаза его хитро блестели:
— В далекой стране жил человек, и отдельно от него жила девушка. И они не знали друг друга. Потом на эту страну напал лютый враг, и все люди этой страны начали воевать, защищать свою родину. И в бою человек встретился с той девушкой. Оба они были верные солдаты. Они провоевали всю войну и победили лютого врага. После войны, когда все люди вернулись к своим делам, человек остался в своем крае воевать, а девушка поехала в далекий, но тоже родной край. Но враг пошел за той девушкой следом и задумал схватить ее в свои лапы.
Мария нахмурилась. Ее горе не отпускало ее. Вот и здесь, из уст этого милого и доброжелательного человека, оно снова напомнило о себе.
Но Абдильда не смотрел ни на нее, ни на Стахурского, он хитро прищурился и вел свою речь дальше:
— Но тот человек почуял сердцем, что сталось с боевым товарищем, прилетел на самолете и освободил девушку…
— Неверно! — перебил его Стахурский и тоже нахмурился. — Тот человек совсем не освобождал девушку. Ей не дали попасть в лапы врага товарищи, которые поставлены народом и Родиной, чтобы охранять спокойствие отчизны и счастье народа.
— Ладно, — согласился Абдильда, — пусть будет так. Так даже лучше. Выпьем же, товарищи, за то, чтобы тот человек и та девушка стали мужем и женой!
Мария опустила голову. Простодушный Абдильда высказал то, о чем между нею и Стахурским не было еще сказано ни слова.
Она покраснела.
Абдильда захохотал.
— У нас сейчас свадебный той!
Стахурский поднял свой стакан и сказал Марии:
— Мария! Давай выпьем за это.
Мария подняла глаза. Минутное замешательство прошло. Прояснившимся взором она посмотрела в глаза Стахурскому:
— Давай!
Они чокнулись.
— Горько! — закричал Абдильда. — Горько! Я был у вас на Украине на свадьбе и знаю, что там кричат «горько». И после этого надо поцеловаться. Горько!
Мария и Стахурский поцеловались.
Мария сидела взволнованная. Вот и произошло их обручение. Немного необычное обручение. Она оглянулась вокруг, чтобы запомнить все, что было в эту минуту в поле ее зрения. Она увидела необъятный простор неба над собой, могучий, как рубеж мира, горный хребет в сиянии солнца и сверкании вечных снегов и ближе, на горных склонах, буйную пену белого и розового яблоневого цвета. Еще ближе дурманящими ароматами роз благоухал цветник. Неплохая была обстановка для обручения. Прожить бы так всю жизнь!
Мария шумно вздохнула и посмотрела на Стахурского: она обручена. Стахурский глядел на нее серьезно и торжественно: он обручился.
Абдильда тем временем снял с миски тарелку и придвинул ее гостям. Из нее валил пар — кусочки мелко порубленного тушеного мяса были перемешаны с горячими клёцками.
— Ешьте, — пригласил Абдильда, — это бешбармак.
Потом он наполнил порожние стаканы.
— А теперь скажите вы, каждый от себя — такой наш обычай. — Он посмотрел на Марию: — Пусть скажет девушка. Девушке — первая дорога в жизни.
Мария взяла свой стакан.
— Я не умею говорить. Но скажу. Я хочу, чтобы мы все выпили за друга. — Она смотрела на Абдильду и протянула свой стакан. — За верного друга, который доверяет тебе, потому что воевал с тобой заодно, был вместе с тобой в бою. За вас, товарищ Абдильда!
Абдильда потупился, чокнулся, прикоснулся губами к краю стакана и поставил его на бочку перед собой.
Стахурский тоже чокнулся и сказал:
— За друга! В бою и труде. Товарищ, с которым ты работаешь, становится таким же близким, как боевой побратим.
— Это верно, это очень верно, — сказал Абдильда.
— Но боевое побратимство не забывается никогда, — горячо откликнулась Мария, — и оно рождает доверие… — она вдруг оборвала речь и сразу умолкла.
— Что такое? — спросил Стахурский. — О чем ты задумалась?
— О том же. Доверие не должно быть неосмотрительным, и его нельзя переносить на других…
Она горько усмехнулась и виновато поглядела на Стахурского.
— О чем бы я ни подумала, о чем бы ни говорила, все равно мысли возвращаются вновь и вновь только к этому.
Стахурский протянул к ней свой стакан:
— Давай за Пахола!
Мария с благодарностью посмотрела на него:
— Спасибо!
Они чокнулись. Абдильда поднял свой стакан:
— Я скажу. Я отвечу. Я хочу за друга. За самого лучшего друга! У меня есть лучший друг.
Он заговорил тихо, мечтательно и задушевно:
— Это было еще давно, когда я мальчиком пришел к нему. Я слышал, что он дает хорошую работу и притом еще бесплатно учит грамоте… И он, правда, принял меня охотно, хотя надо было копать большой котлован, а потом ставить высокий каменный дом, а я ничего не умел делать, потому что до этого только кочевал с родителями по степи, перегоняя отары овец, и никаких других домов, кроме юрты, не знал. Я ему так прямо и сказал, что никогда не видал лопаты и не знаю, как ее держать в руках. Но он только усмехнулся и сказал мне, что научит меня сразу копать двумя тысячами лопат.
— О-о! — сказала Мария. — Ну и что?
— Ну и все! — ответил Абдильда. — Он и научил меня работать машинистом на экскаваторе. Потом, когда котлован был вырыт, он научил меня класть кирпич. А когда мы построили завод, он выучил меня на токаря по металлу. И тогда я стал стахановцем. Выпьем же за моего лучшего друга!
Все дружно чокнулись. Абдильда чокнулся сначала своим стаканом, потом взял четвертый стакан, стоявший нетронутым, и чокнулся им со всеми.
— Здорово! — сказал Стахурский. — Ты, Абдильда, говоришь просто сердцем. И кто тебя научил?
— Он же и научил говорить мое сердце, — серьезно ответил Абдильда, — наш лучший друг. И пусть сердце говорит всегда!
Он снова наполнил стакан и обратился к Стахурскому:
— Теперь говори ты. Теперь твоя очередь.
— Выпьем за работу! — сказал Стахурский.
— А что ты делаешь после войны? — поинтересовался Абдильда.
— Я инженер, строю здания.
— О! — с завистью посмотрел на него Абдильда. — Какой ты счастливый!
Он вдруг отставил свой стакан и нахмурился. Тост был ему не по сердцу.
— Мне не за что пить, — угрюмо сказал он. — Вы работаете, а я должен сидеть и торговать.
— Но ты ведь на работе, Абдильда, — сказала Мария. — Это такая же работа, как другие.
— Не уговаривай меня! — рассердился Абдильда. — Я это знаю. Но я хотел бы делать большую работу, ту, которой научил меня первый друг. Я еще должен отблагодарить моего первого друга за себя и за весь мой народ. А какая у меня работа — сидеть около бочки и торговать вином?
— Ты торгуешь сам от себя? — спросил Стахурский.
— Нет!.. — обиделся Абдильда и сердито сверкнул глазами. — Разве мы за это воевали на землях Европы, товарищ майор? Я продаю колхозное вино. — Широким жестом он указал на взгорье, покрытое белопенным яблоневым цветом. — Это наши колхозные сады. Кроме яблок, мы разводим еще клубнику и малину. Когда у меня не стало руки и я уже не мог вернуться на завод, я попросился в свой род: мой род за эти годы организовался в колхоз, осел и посадил сады, — русские и этому нас научили. Меня приняли в колхоз и поручили работу по силам.
Он вдруг широко улыбнулся и взял свой стакан.
— Ладно, майор, давай выпьем за труд! Ты сказал хороший тост. Спасибо тебе!
Когда вино было выпито, Абдильда поставил свой стакан вверх донышком и сказал:
— А теперь, братья славяне, идите. Вам надо побыть вдвоем. Мы выпили за ваше обручение.
Мария и Стахурский поднялись. Им было хорошо с Абдильдой, но все же хотелось остаться вдвоем. И они благодарно взглянули на Абдильду.
Абдильда крепко пожал им руки и сказал:
— Через две недели уже будет свежая клубника. Приходите на наши плантации — попробуете клубнику, лучшую во всей Алма-Ате!
— Спасибо! — сказал Стахурский. — Но через несколько дней я уже уеду.
Мария подняла глаза на Стахурского.
— Разве ты так скоро едешь?
— У меня отпуск на десять дней. А потом я должен ехать с моими практикантами в Донбасс.
Мария опустила ресницы.
Абдильда сказал:
— За Донбасс мы воевали. Не печалься, девушка, ты же будешь его женой.
Мария и Стахурский пошли.
Мария тихо спросила:
— Ты в самом деле не можешь задержаться дольше?
— Ну, конечно, Мария, я ведь должен ехать со студентами.
Ей хотелось спросить: «А как же мы?» — но она не спросила. Его тоже мучил этот вопрос, но он не мог его додумать до конца. Они будут мужем и женой — только это было ясно сейчас.
— Какой хороший человек Абдильда, — сказала Мария, — и как он горюет, что стал инвалидом! Но он еще больше огорчен тем, что инвалидность не позволяет ему претворить в жизнь все то, чему он научился в мирном труде и в бою.
— Да, — ответил Стахурский, — мы никогда не забудем ни наших побед, ни наших неудач. Разве мы можем забыть, что гитлеровцы доходили до Волги? Мы это запомним так же, как то, что мы их гнали до Берлина. Но запомнить это — не значит записать в альбом на память и украсить трогательной виньеткой. Запомнить — это значит жить этим, проникнуться этим, дышать им в каждом поступке и в каждой мысли…
— Это верно!
Мария подняла глаза на Стахурского и сказала:
— Я люблю тебя, Микола!
Они уже вышли из парка и стояли среди улицы, больше похожей на просеку в лесу — кроны высоких карагачей, росших но обочинам дороги, сходились верхушками. Солнце пронизывало густую листву, и золотые блики дрожали на земле у них под ногами. Ручей Казачка звенел на одной высокой ноте.
— Я люблю тебя, Мария! — сказал и Стахурский.
Это и была их клятва.
И как после клятвы, они стояли торжественно молчаливые.
Они стояли у калитки той усадьбы, где жила Мария.
Вот они толкнут калитку, пройдут огород, войдут в дом — и это будет их дом. Они еще не говорили об этом.
— Идем, — просто сказала Мария и открыла калитку.
— Кто такой твой хозяин? Мне он показался одним из тех, которых война не коснулась.
— Он забавный, — сказала Мария. — Да бог с ним, мы идем не к нему, а, к себе.
Да. Они шли к себе. Вот они и об этом поговорили.
Калитка скрипнула, и сразу же залаял цепной пес.
— Индус! — крикнула Мария и побежала по тропинке вверх.
Индус подпрыгивал ей навстречу, становился на задние лапы, неожиданно высокий, выше человеческого роста, нетерпеливо приплясывал и радостно повизгивал. Когда Мария подбежала, он положил ей лапы на плечи и намеревался лизнуть в лицо.
На крыльцо выбежал хозяин.
— Мария Георгиевна, неужели вы?! Все хорошо? Если бы вы знали, как я беспокоился за вас и как я рад!
Подошел Стахурский, и хозяин увидел его. В его глазах мелькнула неуверенность, но сразу же исчезла.
— Ах, это вы! Теперь я все понимаю! Вы приехали и освободили ее?
— Нет, — холодно ответил Стахурский, — в этом не было надобности, и вы либо сказали мне неправду, либо с испуга переложили в кутью меду.
— Дегтю! — захохотал хозяин. — Тогда уже дегтю!
Он вдруг дико крикнул, как покрикивают, вероятно, ковбои, на всем скаку забрасывая лассо на шею мустанга, или записные танцоры, выкидывая головоломное антраша:
— Бабуня! Мамуня! Клеопатра! Режьте кур! Наливайте вина! Мы будем справлять той!
Горланя изо всех сил, поднимая шум на всю улицу, он пристально вглядывался Марии в лицо, как бы ища в нем то, о чем ему ничего не было сказано.
— Спасибо, не надо! — закричала Мария, вырываясь из объятий Индуса. — Мы только что с тоя.
— Нет, нет! И не отказывайтесь! — закричал хозяин. — Мы должны отпраздновать ваше освобождение.
— Я же вам сказал, что некого было освобождать, — недовольно произнес Стахурский, — нечего и праздновать.
Хозяин отвел глаза в сторону.
— У нас в управлении думали так, раз Мария Георгиевна два дня не приходила домой… ведь шпионы украли у нее документы. И когда меня спрашивает незнакомый человек…
— Это мой муж, — сказала Мария.
— А! — сказал хозяин. — Индус, куш! — И сразу же скрыл свое замешательство за новым взрывом крика: — Бабуня, Мамуня! Клеопатра! Режьте барана! Мы будем справлять свадебный той! К нам приехал поезд с молодыми! — Он набросился на Марию: — Ай-ай-ай! И вы это скрывали! Вот вы какая с вашими друзьями! Бабуня! Налейте вина из той бочки, что в погребе! Позапрошлогоднего! — Он бросился к дому. — Пойду сам устраивать пир, с этими бабами разве будешь спокойным! Даю вам час на устройство семейных дел. Через час наша семья будет иметь честь принимать вашу!
И он скрылся за дверью в кухню.
Мария, беспомощно улыбаясь, смотрела на Стахурского. Стахурский досадливо пожал плечами.
Потом Мария толкнула дверь налево, и они переступили порог.
В комнате было два окна, стояла кровать, застланная серым солдатским одеялом, клетчатая плахта на стене, стол, два стула и этажерка с книгами. Пол был из некрашеных досок, пахнущих смолой.
Стахурский остановился взволнованный. Сколько раз он представлял себе эту комнату! Как порывался очутиться в ней и увидеть Марию!
— Надо было что-то сказать — важное и значительное, но он не знал, что.
— Отвернись, — попросила Мария, — я должна переодеться.
Стахурский отвернулся и смотрел в окно.
Тихо шуршало платье позади — Мария переодевалась. Тихо было в комнате и на улице за окнами, только за двумя дверями на кухне что-то рубили секачом, что-то терли в макитре, что-то ошпаривали кипятком. Хозяин дома готовил свадебный пир.
— Как ты попала на эту квартиру? — спросил Стахурский.
— Случайно. Я жила в управлении, спала на канцелярском столе. Это, конечно, пустяки. Но надо было прописаться, чтобы получить продовольственные карточки. Ну, он и предложил мне. Особенно когда узнал, что я уезжаю в экспедицию и не буду ему в тягость. Он тоже работает в нашем управлении.
— Он мне не нравится! — резко сказал Стахурский.
— Какой ты, право! Как он может тебе нравиться или не нравиться, если ты его совершенно не знаешь?
— А разве ты знала его, когда сюда приехала?
— Ну, не будь же придирчивым! — примирительно сказала Мария. — Человек как человек. И мне было даже очень приятно услышать тут, в далеком краю, нашу речь, увидеть наши обычаи. Он переселился сюда с родителями еще в тридцатом году, работает в учреждении и на приусадебном участке, гляди, развел такое, как в добром селе на Полтавщине.
— Значит, он тебя привлек к себе родной речью, подсолнечниками и мальвами?
— Микола! — возмущенно сказала Мария. — Как тебе не совестно?!
— Прости, что я вульгаризирую, — сказал Стахурский, — но ведь ты сама отлично понимаешь, что одних родных обычаев или родного языка еще слишком мало для того…
Мария перебила его:
— Ты сам отлично понимаешь, что это не так мало. Ты, очевидно, забыл, как меня спасли гуцулы в Мукачеве, видя, что я, незнакомая им девушка, одета и говорю так же, как они?
— Крестьяне в Мукачеве спасли тебя потому, что видели: у них и у тебя общий враг: фашисты. А убеждена ли ты в том, что у тебя и у него, — Стахурский кивнул головой в сторону комнат хозяина, — общие враги?
Мария хотела что-то возразить, но Стахурский перебил ее:
— Я тебе тоже напомню, что в нашем рейде по Галиции в сорок четвертом году на нас напали бандеровцы — украинские националисты и фашисты.
— Я этого не забыла, — резко отозвалась Мария, — но какое это имеет отношение к моему хозяину?
— Это имеет отношение к тебе. Легкомысленная доверчивость, как ты сама убедилась, может привести к преступлению.
Стахурский умолк. Он не хотел возвращаться к этому, но это возникало само по себе, и уже надо было заканчивать.
— Доверие достигается делами, — сказал он, — а доверчивость — это только неосмотрительность и отсутствие бдительности.
Мария стояла бледная, сердито сжав губы. Это он говорил ей, партизанке, которая четырем года с оружием в руках сражалась против фашистов! Это он говорил ей, бойцу, десятки раз принимавшему участие в самых дерзких партизанских операциях, рискуя жизнью и ничего не прощая врагу!.. Мария чувствовала; как возмущение наполняет ее душу: она ошиблась, но дает ли это право разрушать доверие к ней, доверие, которое она заслужила своими делами?
Но она сдержалась.
— Хорошо, — сказала она, — доверие добывается делами и не только боевыми, но и трудовыми. А у меня была возможность узнать его на работе. Он старательный и опытный работник. В управлении его ценят. Он и мне немало помогал. Он дал мне дельные советы перед выездом в экспедицию: я ведь здесь новичок и не знала, как экипироваться. Потом я нанимала чернорабочих, а он местный, хорошо знает всех и порекомендовал мне прекрасных людей.
— А этого… ну, как его, «вояжера» тоже он тебе порекомендовал?
— Что же здесь такого? Разве он мог знать про каждого все? Он рекомендовал экспедициям сотни людей. — Мария замялась. — Возможно, он тоже слишком доверчив, но это еще не означает…
— Я не о том, — перебил ее Стахурский, — опытного шпиона не так легко разоблачить. Но ведь этот «вояжер» — казах?
— Ну и что? У нас все рабочие — казахи.
— Это странно.
— Почему? Казахи привыкли к пустыне.
— Я не о том. Он ведь пренебрежительно относится к казахам.
— Откуда это тебе известно?
— С его же слов. При первом же знакомстве. Я только спросил, почему этот дом, — Стахурский указал на дом на противоположной стороне улицы, — такой неказистый, а он ответил, что там живут казахи. А впрочем, он так же презрительно отозвался о русских, гордясь, что он, мол, с Украины. Можно гордиться тем, что ты с Украины, но когда это противопоставляется другим народам, когда человек презрительно отзывается о людях другой национальности, это прежде всего свидетельствует о том, что он не умеет любить и свою. Мне даже было неприятно признаться ему, что мы с ним земляки. Мы не земляки. Я думаю, что он националист.
— Микола! — умоляюще вскрикнула Мария. — Не слишком ли поспешны твои выводы, вызванные одной только мелкой черточкой в характере человека?
Но Стахурский не слушал ее. Он продолжал взволнованно и горячо:
— Мария! Разве ты не понимаешь, что теперь, в послевоенное время, тот, кто пренебрегает даже малейшим проявлением вражеской идеологии, пусть и бессознательно, дает приют реакции и по крайней мере делает себя слепым? А это все равно: это — падение!
— Ты не смеешь! — крикнула Мария. — Я солдат!
— Но ты вышла из войны живой. И теперь ты должна быть живым солдатом.
Он умолк. Мария тоже молчала, разгневанная и подавленная. Она не могла возразить Стахурскому. Если он даже был несправедлив в своем гневе, то гнев его исходил из того мира, за который они вместе сражались. Но обида бурлила в сердце Марии. Пусть он прав — это ее мучение. Но ведь он любит ее, — зачем же, вместо того чтобы протянуть руку помощи, он так жестоко карает ее? Почему, когда ей так тяжело, он выступает только как судья?
Превозмогая себя, Мария молча заканчивала свой туалет. Стахурский стоял все так же, отвернувшись к окну. Они не видели лица друг друга.
Вдруг Стахурский спросил:
— Мария, а про Пахола ты рассказывала своему хозяину?
— Про Пахола? Не помню, я многим рассказывала. А что?
Платье перестало шуршать. Мария затихла.
Стахурский забыл про запрещение и повернулся. Мария была в юбке и кофточке, жакет она держала в руках, но руки ее опустились, она испуганно глядела на Стахурского:
— Микола! Ты думаешь, что…
— Я только думаю о том, что тебе надо вспомнить всех, кому ты рассказывала про Пахола.
Мария стояла суровая, со сведенными бровями, губы у нее были плотно сжаты. Нет, никуда нельзя было убежать от этого, никуда, пока это не будет доведено до конца, пока полностью не будет снята с нее эта вина.
— Ты прав, — прошептала Мария, — мне надо вспомнить всех, кому я рассказала про Пахола. И он — первый, кого я уже вспомнила.
Она начала застегивать кофточку. Пальцы ее дрожали.
— Ты смотри в окно. Я еще не оделась.
Стахурский отвернулся. По дороге над Казачкой шел человек. В увеличенной многими планами гористой местности перспектива дороги казалась далекой, а человек на ней — исполином. Но дорога была совсем близко, и человек на ней совсем не был исполином, просто вблизи черты его были видны очень отчетливо — стоило лишь присмотреться к ним.
— И он, — тихо сказал Стахурский, — говорил мне, что ты арестована, в то время как тебя просто вызвали в партком. Он знал об этом?
— Нет. Но он знал, что шпионка разоблачена и арестована. Знал и то, что документы похищены у меня. Знал, какая на мне лежит ответственность, если б я провинилась хотя бы в халатном отношении к секретным документам. Он, как и все в управлении, знал, что вины моей нет, так как документ был похищен из моей полевой сумки ночью, когда я спала, положив ее под голову, и что меня во сне еще дополнительно усыпили хлороформом. Но он видел, что я обеспокоилась, получив какую-то записку, — это была записка от Асланова, — и торопливо ушла.
— Да, — сказал Стахурский, — Асланов сразу обратил на это внимание. Приходит неизвестный человек и спрашивает про тебя. Ему вдруг говорят, что ты арестована, когда это совсем не так. Таким способом, по реакции спрашивающего, он хотел проверить, кто же спрашивает: враг или друг?
Стахурский умолк.
Мария подошла к Стахурскому и стала рядом. Она была уже одета.
— Продолжай, — тихо сказала она.
— Больше мне прибавить нечего. Я просто думаю о шпионке Берте-Леди. Она не могла действовать здесь одна, не имея сообщников, не имея каких-нибудь связей.
Мария строго спросила:
— Итак?
— Итак, об этом человеке мы знаем следующее. Из твоего рассказа ему было известно твое безграничное доверие к Пахолу. Он порекомендовал тебе для работы человека, который впоследствии оказался агентом шпионки Берты-Леди. Потом он же сказал мне про твой арест, не имея никаких оснований на это. А что сам он с националистическим душком, у меня нет никаких сомнений.
— Итак, — строго заключила Мария, — ты считаешь, что все это должно нас насторожить?
— Да, я так думаю.
Они долго стояли молча и смотрели в окно. Они плохо видели, что было за окном, — каждый из них был занят своими мыслями. Но думали они об одном.
Стахурский, наконец, сказал смущенно:
— Ты прости, все это так тяжело и грустно…
— Я понимаю тебя…
— Мы встретились после долгой разлуки и сразу затеяли спор.
— Нет, нет! Какой же это спор?
Она коснулась рукой его плеча. Он уловил этот короткий, интимный жест и ласково закончил:
— Для того и становятся мужем и женой, чтобы во всем разбираться вместе. Правда?
Он улыбнулся ей, но Мария не ответила на его улыбку и продолжала стоять суровая и замкнутая.
Потом Мария сказала громко, без запинки:
— Я не буду твоей женой, Микола.
— Что?
Он отшатнулся.
— Мария!
Она снова на миг коснулась его плеча. Она произнесла страшные слова, но она была сурова к себе в своем горе.
— Не говори ничего. — Потом она тихо добавила: — Я не могу. Я не достойна этого… Нет, я не то хотела сказать, — я не готова к этому.
Он повернулся всем телом, она тоже повернулась к нему и смотрела ему в глаза с тоской, но и с вызовом:
— И я не хочу этого!
Она не хотела. Обида душила ее. Ей нужна была его твердая рука, чтобы опереться на нее, а он был не ровня ей. Она была женщиной, но она была и солдатом, они вместе были в бою, и она не могла так.
— Я умела сама справляться на войне. Я должна суметь и теперь. И я сумею.
Они стояли друг перед другом, в предельном напряжении.
Потом Стахурский взял Марию за плечи.
— Нет, Мария, я не принимаю твоего отказа!
Она вскинула на него испуганные глаза.
— Ты будешь моей женой. — Он улыбнулся. — Мы были вместе в бою, мы будем вместе и дальше.
Она пошевельнулась, и лицо ее просветлело так, что на нем вот-вот могла появиться улыбка. Но она не улыбнулась. Она должна быть твердой. Она — сама.
Тогда Стахурский сказал еще, чтобы уже больше к этому не возвращаться:
— Ты сама понимаешь: не может быть обиды там, где речь идет о важном общественном деле. Дело не в этой Берте-Леди и подобных ей. И на нашем пути еще будут и трудности и враги. Но посмотри на людей: они закалились в войне, в мирном труде у них солдатская хватка — они отважны, и бдительность у них в натуре. Они приучились опираться на друга и отчетливо видят недруга. Такими должны быть и мы.
Мария опустила голову. Но он взял ее голову обеими руками, повернул к себе и закончил:
— Посмотри: не только мы, советские люди, так же твердо стал на ноги и Пахол. Мы открыли ему дорогу в широкий мир и сделали его солдатом. Он воевал, теперь строит. И в строительстве он тоже солдат. И таких миллионы. Что же говорить про нас с тобой?
Мария виновато посмотрела на него.
— Ты любишь меня, а говоришь как судья.
— Ты считаешь, что я говорил как судья? Но это лишь потому, что я люблю тебя, Мария.
— Но ты так строг, — прошептала Мария.
— Это плохо?
— Нет… это хорошо.
— И ты ведь строга к себе.
Мария глубоко вздохнула, словно сбросила с себя тяжелую ношу.
Стахурский сказал ей:
— Ты же знаешь, что жизнь не будет нежной для нашего поколения. Нам не умирать в мягких постелях. Мы с тобой еще столько сделаем… Помнишь?
Он улыбнулся. И она тоже наконец улыбнулась.
И тогда он закончил так же, как и начал:
— Пойдем же в эту жизнь вместе, как вместе были в бою.
Они стояли взволнованные, и тревога наполнила их сердца.
Но это была не та тревога, с которой они прожили сегодня и вчера, — только беспокойство, только поиски выхода из беды. Это было ощущение еще большей тревоги, но не тягостной, а зовущей. И они хорошо знали эту тревогу — тогда, там, в бою, чтобы выиграть бой и выйти победителями.
Это было хорошее ощущение тревоги — как предчувствие великих свершений. Это было радостное предчувствие прекрасной жизни, которая будет впереди.
Примечания
1
Венгерская денежная единица.
(обратно)2
Да, так (на закарпатском наречии).
(обратно)


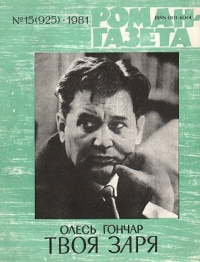

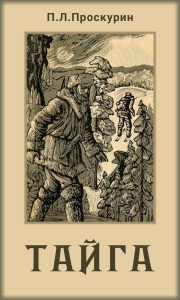

Комментарии к книге «Мы вместе были в бою», Юрий Корнеевич Смолич
Всего 0 комментариев