Сергей Сартаков Горный ветер. Не отдавай королеву! Медленный гавот (Барбинские повести)
Известный советский писатель Сергей Венедиктович Сартаков начинал свой творческий путь в Красноярске. Здесь в конце 30-х годов появились его первые литературные публикации в газетах, здесь вышли его первые книги. С. В. Сартаков был одним из создателей Красноярской писательской организации, не раз избирался депутатом Красноярского городского и краевого Совета депутатов трудящихся. За большие заслуги в общественной и культурной деятельности С. В. Сартакову присвоено звание почетного гражданина города Красноярска.
Большую плодотворную работу С. В. Сартаков ведет на посту секретаря Союза писателей СССР.
Постановлением Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР за трилогию «Барбинские повести» («Горный ветер», «Не отдавай королеву», «Медленный гавот») писателю была присуждена Государственная премия СССР 1970 года.
Книга переиздается к 70-летию писателя.
Горный ветер
Эту книгу я взялся писать не потому, что я писатель. Я — матрос с речного парохода. Но получилось так, что не мог с собой справиться. Даже стихами сперва попробовал. Да это, пожалуй, и с каждым из вас бывало — такое состояние. Видите ли, дело в том… Хотя нет! Если я сразу расскажу, в чем дело, то и книги никакой не будет.
Не знаю, как другим, а мне было очень трудно начать. В хороших книгах главный герой непременно откуда-нибудь приезжает и, как новая метла, сразу начинает чисто мести. В этой книге главный герой я, но я ниоткуда не приехал. Все девятнадцать лет своей жизни прожил на одном месте, если не считать, что все эти девятнадцать лет каждую навигацию я плаваю по реке. И мести мне, кроме палубы, пока нечего. А книгу написать хочется. И выходит, что придется писать мне ее так, словно без бакенов по незнакомой реке плыть. Ну да ничего — надо, так поплывешь…
Глава первая Немного о себе
У меня большие и очень сильные руки, и, когда я здороваюсь, Маша всегда вскрикивает. Она тоже сильная, но я верю, что ей бывает больно, хотя и не настолько, чтобы кричать.
А этим она определенно хочет показать, какой я медведь. Я это знаю и на это не обижаюсь. У нас в конторе управления порта работает Тоня, машинистка. Печатает она страшно быстро, пальцы у нее так и мелькают. Смотришь, она ими словно и машинки не касается, а только показывает, какой букве нужно на бумаге выскочить. С утра Тоня бывает удивительно веселая и ласковая, а к вечеру — лучше не подходи, такая злюка. Я понимаю: устает. Ее работа тоже трудная. Но все это я только к тому говорю, что если бы меня самого, к примеру, посадить за машинку, я бы враз на ней разбил вдребезги все клавиши. И это не от неуменья моего. Просто не сдержать бы мне всю силу рук моих. Попробуйте якорной лебедкой нитки на клубок наматывать!
Говорят, что при моем характере мне только и быть речником. Не возражаю. Не понимаю и не люблю я такую жизнь, где каждый день на день похож, а ночь на ночь. Год пройдет — только и разницы, что календарь новый купишь. А на реке ничто и никогда не повторяется. И сама река тоже каждый час особенная. Но это понять может не всякий — только тот, кто, как я, сам все время видит ее.
Учился я в школе до шестнадцати лет. Семь классов окончил. Зимой учился, а летом вместе с младшим братишкой Ленькой и с матерью на пароходе плавал.
Про Леньку большой разговор я вести не намерен. В книге он не герой. О нем — только по необходимости. Брат. Когда я семилетку кончал, Ленька еще в первый класс собирался. Выходит, и не ребенок и не парень, а, как в моде теперь говорить, пацан. Хотя, между прочим, в тарелку ему наравне со мной мать наливала, а штанов я двое, он же — четверо за год изнашивал. Такой вьюн. Все время на улице. Не то — в постели больной. Чем он только не переболел: и корью, и скарлатиной, и коклюшем, и краснухой, и свинкой! Даже оспу-ветрянку умудрился подцепить!
Мать поварихой на пароходе служила. Любила эту работу, но тяжела она была для нее — все время толкись на ногах возле горячей плиты, а здоровье плохое. Зато и старалась она, чтобы хоть я такой хилый не вышел. Иногда утром подольше поспать хочется, а мать поднимет и заставит физкультурой заниматься. Гимнастикой, гири поднимать, холодной водой обтираться. И круглый год не дает передышки. А потом привык: не только водой — снегом зимой обтирался. Вот и затвердели мускулы. За это спасибо матери говорю. И еще спасибо за то, что на реке меня вырастила. Мне без реки теперь и реке без меня быть невозможно. Да еще такой, как наша. По складам скажи: Е-ни-сей. Музыка! Эвенки по-своему зовут еще красивее: Иоанесси. На русский язык перевести — Большая вода. Этого я сам не знал — Маша сказала. Она до таких вещей охотница. И вообще она прямо все знает. О чем с ней ни заговори. От нее набрался я и слов замысловатых, вроде: «рефлексы», «инициатива», «психология» и всякая другая штука. У Маши они всегда к месту. Что такие слова обозначают, я тоже хорошо понимаю. Но когда говорить или писать начнешь, гляди, и влепишь что-нибудь такое совсем невпопад. Так разве это и с вами не бывает?
Отца у меня на фронте убили. На второй год войны. Я с матерью в плавании, в рейсе был. Вернулись домой, а на столе пакет из военкомата… Пошел я сразу записываться в добровольцы. Отказали. В десять лет, сказали, рано. Тогда я зайцем в поезд сел и самостоятельно на фронт поехал. В Омске милиция с поезда сняла. Ничего в расчет не приняли, никаких моих доводов. Думал, мать за побег рассердится — нет, простила. «Правильно, — сказала, — ты решил врагу за отца отомстить. Только зачем же тайком из дому, от матери ушел? Или я тебе плохая советчица?» И долго потом мне было попрека этого стыдно.
Не рассказать — совесть не позволяла. А стал рассказывать, да все начистоту, как от милиционера под лавкой прятался и как он меня за пятку вытащил, — смех поднялся. Может, и не в осуждение поступка моего, а просто потому, что и правда смешно было. Только для меня всякий смех, когда надо мной, — кипяток. А если к тому девушки еще надо мной смеются — даже на сердце жжет…
И второй раз из-за этой истории мне совестно было: когда в седьмом классе в комсомол меня принимали.
Плавать я хорошо умею. Должно быть, потому, что сила в руках у меня большая. Хоть три часа подряд по саженке буду отмахивать — и не устану. Чем дольше плыву, тем больше плыть хочется. Одно худо: вода в Енисее холодная, если ближе к осени, помокнешь в реке лишний час, гляди, и судорогой ноги может схватить. Если далеко от берега такая вещь случится — не знаю, как выходить тогда из положения. В шахматы играть как следует я еще не научился. Это там, говорят, из самого плохого положения найти выход можно.
Вообще я спортом люблю заниматься. Бегаю на лыжах здорово, на коньках — чуть не чемпион города. А буду и чемпионом. На слете молодых физкультурников об этом с трибуны заявил. Маша мне вечером в тот день сказала: «Костя, ты очень нехорошо выступил». Я спросил: «Не веришь, что добьюсь своего?» А Маша снова: «Ты очень нехорошо выступил. Подумай». Подумать я подумал, только, правду сказать, не о том, как я выступил, а о том, как мне все-таки стать чемпионом.
Пробовал я разобраться, что мне больше нравится: театр или кино. И получается: кино. А Маша говорит: «Театр — это тоже красиво». Может, не совсем такими словами — у нее к словам или взамен слов и глаза говорят, и улыбка, и рука обязательно движение сделает, — по суть в том, что театр она любит. А по мне, кино полностью его заменяет, и даже больше. Особенно если цветная картина. В театре так не разыграть, как в кино, — нет того простору. На сцену никогда столько людей не выпустишь. И декорации, как их ни рисуй, все равно чувствуешь — тряпка висит. А в кино, скажем, река как живая плещется! Лес показывают, так в нем и трава растет, и цветы цветут, и птички порхают. Если дома — тоже настоящие. Не как в театре — дверью хлопнет артист, и вся стена от движения воздуха зашатается. Я, конечно, понимаю насчет условности, но что хочешь делай со мной, а когда так вот в театре стена пузырем заиграет, меня смех берег, какие бы в это время грустные слова ни говорили на сцене. Против воли изнутри тебя смех взорвет. И все настроение пропало. А в кино этого со мной не бывает.
На концерты ходить люблю. Здесь никаких тебе тряпочных декораций. Все настоящее. И если выйдет артист бородатый, знаешь — своя у него борода. Песни очень люблю, хотя у самого меня голоса нет никакого. В хоре, понятно, я спеть могу, но там и всякий споет, двадцать или тридцать человек всегда одного заглушат, если он с тона собьется.
У Маши голос очень хороший, красивый, нежный. Вот она бы петь могла в каком угодно концерте, а почему не хочет — этого я не понимаю. Она говорит: «Голос комнатный». Я слушал хор Пятницкого, был он у нас на гастролях. Не скажу, что плохо. Как запоют русскую народную песню, могучую да с разливом, словно на крыльях тебя понесет. Богатырем себя чувствуешь! Но заметьте, себя все-таки тоже все время чувствуешь — ты тут. А Маша запоет, и ровно ты сам исчез куда и только одно твое сердце осталось.
Песни на меня действуют как погода: есть песня-дождь, есть песня-солнце, есть песня-буря…
Но коли про погоду я помянул, должен сразу сказать: по мне самая лучшая погода та, которую замечаешь. Если дождь — так чтобы лил как из ведра и на улицах пузыри бы пенились; мороз — так чтобы стекла в окнах трещали; ветер — так чтобы задирал двухметровый вал поперек всего Енисея, а осенью еще и со снежной крупой, этакими колючими иголками прямо в лицо.
Ну вот, пока о себе хватит. Теперь должен я вам рассказать… Впрочем, к этому и так все подойдет постепенно.
Глава вторая Самая большая
Она для меня большая потому, что в ней свою биографию до девятнадцати лет описать я должен. Одну главу на это — и кончено. Все остальное будет уже о девятнадцатилетнем. Я бы эту главу, пожалуй, и вообще не стал писать — хочется скорей взять быка за рога, но оттуда, из тех лет, тоже кое-какие тропочки ко всей книге тянутся. Вот в чем суть.
В шестнадцать лет я закончил седьмой класс (два года просидел в шестом). Из-за лени, конечно. Сдал экзамены не так чтобы блестяще, но все-таки ничего… Мог пойти и в восьмой класс и рассчитывать на речной техникум. Маша, например, после седьмого класса в речной техникум поступила. На ура ее приняли. Правда, у Маши даже ни одной четверки не было. Круглая отличница.
Должен вам, между прочим, сказать: девчонок я не любил уже с первого класса. Ну, да их и все-то мальчишки всегда ненавидят. Это же такой народ… Но Маше, когда ее приняли в техникум, я почему-то нисколько не позавидовал и не обозлился на нее, даже подумал: «Этой хотя бы сразу и в институт».
За сердце задело только одно: Маша на год моложе меня, а седьмой класс тоже на год раньше меня кончила. Понимаете? Мужское самолюбие…
Так вот. В эту весну, когда я семилетку закончил, мать у меня тяжело заболела. Паралич ей ноги разбил. И сразу все мои расчеты рухнули. Представляете положение? Леньке восьмой год, мать обезножила, да деду — отцу матери — в Енисейск надо хоть сколько-нибудь посылать. Тоже инвалид.
Короче говоря, поступил я на работу. Устроиться мне помог Степан Петрович Терсков. Машин отец. Диспетчер. Не обошлось тогда без крепкого спора. Забыл я вам сказать, что отец мой работал водоливом на барже. А другой дед — отцов отец — кочегарил на первых пароходах. Еще у купца Гадалова. Прадед — на лямках вверх по Ангаре илимки таскал, а прапрадед гонял плоты. Понятно, и мне дорога только в плавсостав. А Степан Петрович говорит: «Нет, на берегу тебе работать придется. Как же ты уплывешь от больной матери и от малого брата? Договорился я: в речной порт тебя возьмут таксировщиком». Будто между лопаток, под кожу, шприц мне воткнул. Вам тоже, наверно, прививки против дифтерита делали — знаете. Это меня-то, Костю Барбина в контору! Ну, спорили, спорили, а сошлись на том, что пойду я в матросы на пароход «Лермонтов», который из города в Затон, на правый берег Енисея, пассажиров перевозит. Так сказать, на «корабль ближнего плавания». И при доме буду, и не береговик все же, а плавсостав.
Квартиры с Терсковыми у нас в одном доме. На втором этаже. И двери с одной лестничной площадки. Только у Терсковых дверь снаружи дерматином обита, будто в кабинете у начальника пароходства, а у нас — обыкновенная дверь. Почему? Во-первых, дерматин большого тепла не дает, во-вторых, изнутри квартиры красоты его не видно. Вообще у нас все незатейливое. А к Терсковым зайдешь, у них половики, коврики, накидки всякие, занавески, сплошное рукоделье. Ясно: в семье две женщины и один мужчина. А у нас как раз наоборот.
Дом на самом берегу Енисея. Водопровод и все прочее. Только парового отопления нет. Да это и лучше, воздух легче. И какой тебе надо климат, такой и сделаешь. Для матери с Ленькой Африку, а в своей комнате — Антарктиду. Полярные медведи насморком никогда не болеют. А у Терсковых Ольга Николаевна — это мать Маши — зимой обязательно по градуснику температуру выверяет, чтобы держалась не ниже двадцати. Ну летом, конечно, сколько выйдет. Хотя и тут есть ограничения. Вентилятор. Сам Степан Петрович очень большой любитель электричества. Он его любую работу выполнять заставляет. Плитки, утюги, чайники — само собой. А кроме того, по надобности электромоторчик и швейную машинку крутит и мясорубку. Конечно, проведен звонок. Нажми кнопку — и пожалуйста, известно в квартире: гость пришел Да и не только у них в квартире. Сколько раз, бывало, ночью даже я от него просыпался. Представляете, какое это сверло, если сквозь двери уши буравит? Но это все между прочим, Главное, о чем сейчас нужно было сказать, так это что Маша за больной матерью мне ухаживать помогала.
Посмотришь на жизнь — из чего она складывается? Не только на работе или, скажем, учится, развлекается человек. Обязательно есть у него и всякие дела домашние. Самые простые: ведро картошки на базаре купить, или суп сварить, или полы помыть. Всех домашних дел не назовешь, так их много. И без них ни один день не обходится. В кино или на стадион пойдешь не пойдешь, а обед каждый день варить надо. И давайте так разберемся. Если я на работе, а мать лежит к постели прикованная, волшебница, что ли, картошку чистит и Ленькины рубахи починяет? Маша все это делала.
Мускулы у меня очень крепкие. И грудь как чугунная, ударь кулаком — загудит. А спроси меня: как я матери помогал, когда она здоровая была? Дров нарубить? Так это для меня не труд был, на этом я только силу свою наращивал. Другое дело, скажем, пол помыть. Тренировки мускулы тут не получают, мокрую тряпку держать в руках неприятно, и спина устает. А у матери, выходит, не уставала, и мыть полы ей было сущее удовольствие… Или так: купит она на базаре сразу ведра два картошки, чтобы лишний раз не ходить. Пока до дому донесет, двадцать раз остановится. А мне бы не два ведра — целый куль взять на плечи, и то вприпрыжку до дому добежал бы. Однако не ходил я на базар вовсе. Почему? Ну, вы сами это понимаете. Молодой, видный парень и вдруг женскими делами занялся. Тут ведь кому что идет. Женщине держать в руках одинаково — что красивую сумочку, что, к примеру, авоську с редькой и с четвертью молока. Мужчине же…
Вот дошел я сейчас до этого места, перо обмакнул в чернильницу и задумался. Станут парни читать — обидятся. Скажут: не все такие. Хорошо. Пусть! Согласен. Такой только я один, Костя Барбин.
Не мыл я полы никогда. Суп не варил. И все прочее. Ну, а когда мать слегла, не знаю, как я вышел бы из положения, если бы не Терсковы. А короче, если бы не Маша. Но тут, представьте, что еще получилось, какой оттенок. Мать, бывало, просит меня то или другое сделать, а я от домашних дел, как вода в щель, уходил. И не стыдился этого. А когда Маша на себя чуть не все наше хозяйство взяла — стыд у меня появился. И даже двойной.
Стыдно, что я бездельничаю — свой в семье! — а Маша, вроде и посторонняя, по дому хлопочет, и второй стыд — самому делать что-нибудь женское. Особенно при Маше. Вот штука!
Первое время труднее всего Ленька доставался. Страшный лодырь он оказался. Семь лет ему, скажете? Правильно! Только теперь-то мне ясно, что не с семи лет, а еще раньше человек начинается. Пришлось взять Леньку в ежовые рукавицы. Ему что — раньше было: «Мама, дай поесть», а теперь «Костя, дай поесть». Вот и вся разница. Условный рефлекс у него выработался. Только я в дом — он и заведет свою песню. Знаю, в обед его Маша кормила. Понятно, вечером будет ужин. И нет — свое тянет. Дай ему колбасы, консервов или сыру. А это дорого, если только все сыр да консервы. Вижу, надо не так. Ладно. Заноет Ленька. Я ему сразу: «Чисть картошку, кроши капусту, скобли морковь». Он вертится: «Да-а, а ты сам-то не чистишь». — «Не твое дело, — говорю, — ты знай, что тебе старший брат приказывает. Даже корки хлеба не дам, пока суп не сваришь». И приучил. Стал у меня Ленька даже совершенно самостоятельно суп варить. Сначала ужасная вещь получалась. А потом ничего, приспособился. Правда, мать все же советы давала.
Посуду мыть — куда бы уж проще! Технологии тут никакой. Сам глагол «мыть» все объясняет. Так Ленька даже из такого точного глагола совсем другое сделал. На секунду сунет под водопроводный кран тарелку и скорее полотенцем ее вытирает. Вода холодная, с жирной тарелки скатывается, а вся печаль на полотенце потом остается. А логика понятная: полотенце-то Маша стирала. Пришлось эту логику иначе повернуть. Заставить его самого стирать посудные полотенца. Помогло.
Драть штаны и рубахи Ленька умел замечательно. Если бы перевести его на сдельщину, он бы, наверно, здорово зарабатывал. Только любишь кататься — люби и саночки возить. Заставил я Леньку взяться за иголку с нитками.
Словом, так или иначе, а постепенно все нашло свое равновесие. Закон природы. Вот, к примеру, ударит с севера штормовой ветер. Задерет страшную волну на Енисее. С грохотом, с пеной, с брызгами! Сразу все пойдет ходуном. И воздух, и тучи, которые висят в воздухе, и вода, и то, что плывет по воде. Но сколько ни кружит, ни вертит погода, а потом опять все станет на свое место. И ветер утихнет, и небо посветлеет, и что на воде было — либо своим чередом поплывет, либо на дно опустится. Так и у нас. Сначала жизнь была на один лад, теперь пошла на другой, а все в своем равновесии. Каждый помаленьку нашел свое место и дело: что по силам, что по характеру, а что и поневоле.
Интересно мне было первый раз идти на работу. Будто и солнце такое, как вчера, и река разноцветными огнями играет такая же, и люди тебе навстречу попадаются те же. А сам ты, оказывается, уже какой-то другой. И только одно удивительно: почему же никто не замечает, что за событие в жизни у меня произошло? В школу когда я впервые пошел, тогда тоже попадались мне встречные. Они как-то сразу угадывали: «Ну, бутуз, значит, в первый класс?» Остановят, еще что-нибудь спросят, похвалят. А тут на меня, как говорится, ноль внимания. Хоть сам людей останавливай и объясняй: «На работу иду». Из посторонних только Маша одна в то утро сказала мне: «Костя, поздравляю тебя». И все. Но эти ее слова почему-то крепко мне в память впечатались.
На «Лермонтове» обязанности у меня были такие: швартовать к дебаркадеру пароход, когда он причаливает, и снимать чалку, когда отваливает. «Швартовать» — оно вроде и здорово звучит. Прямо океаном от этого слова пахнет. А на самом деле приткнется пароход к дебаркадеру, ты в это время с него трос на кнехт накинешь, и все. Паровая лебедка трос подберет, натянет. Силу свою применить совершенно не на чем. Отваливать — и того легче, только трос скинуть с кнехта. Думаете, может, «кнехт» — что-нибудь очень замысловатое? Ни капли. Просто в русском языке почему-то слова одного не хватило или выдумки, как попроще назвать. Потому что кнехт — всего-навсего чугунная тумба.
Ну, по штату полагалась мне еще одна нагрузка: при выходе у пассажиров билеты отбирать. Тоже не премудрость. Люди идут мимо тебя, а ты у них из рук билеты, словно из поля сорную траву выпалываешь. А когда разместятся новые пассажиры — отдыхай. Плывет пароход по реке — опять отдыхай. Словом, получается, работа — это отдых от отдыха.
Команда на «Лермонтове» была небольшая. И все молодежь, как я. Даже сам капитан бритвой скоблил, по сути, вовсе голые щеки. Ребята в команде подобрались интересные. Но в книге они не герои. И потому я сейчас — да и потом — подробнее только про двух расскажу, про тех, которые по жизни ближе других ко мне оказались.
С Васей Тетеревым я на пароходе познакомился, а Илью Шахворостова и раньше знал. Да чего там знал! В одном доме с ним жили, только в разных подъездах. И на лыжах, случалось, вместе ходили. Он неважно ходил, хотя и старше меня был на целых три года. Но на «Лермонтове» плавал, между прочим, пятую навигацию. Школу после четвертого класса бросил. И этим вроде даже хвалился: я, дескать, всеобщее обязательное образование имею. Так даже в анкетах писал. На язык он очень острый. Правда, Маша к этому всегда добавляла: «А ум тупой». Но ребятам нравились всякие его прибаутки. Особенно если соленые.
Отец Ильи шофером служил, а где — не скажу. Не потому, что знать я не хотел, а потому, что и знать было невозможно — больше как по месяцу он нигде не работал. Или сам уйдет, или его «уйдут». Если Илья только для вкуса любил приправить иное словечко, то отец у него так круто солил все подряд, что порой и понять невозможно: ругается он или просто разговаривает. Всегда хмурый, злой. Из-за этого я к ним и ходить не любил. Он, отец-то Ильи, и женился, наверно, столько же раз, сколько раз поступал на работу. И обязательно на самых молодых, хотя у него своя дочь, старшая сестра Ильи, десять лет уже как была замужем. Где-то на Дальнем Востоке. Брата она очень любила, каждый месяц деньги ему посылала. Но это я к тому говорю, что Илья хотя тоже матросом работал, а курил только «Казбек» и в жару вместо газировки, бывало, пил сухое грузинское.
Какого цвета волосы у Ильи, не назову — сколько помню, выбриты начисто. И зря. Потому что голова у него некрасивая, словно кто ее пальцем, как глину, в разных местах мял. Понадавил ямок, да так потом они и остались. А у него еще привычка: ямки эти щупать. Глаза — пасмурное небо, чему бы ни радовался Илья, все лицо у него от смеха морщинами изрежется, а глаза все равно останутся ледяными. Глянет — и как инеем по зеленой траве хватит! А когда разозлится — и вовсе. Правый глаз у него мигнет, и в нем промелькнет острый-острый зигзаг, какие на дверях трансформаторных будок рисуют.
А Вася Тетерев — парень другого склада. То есть даже не другого, а третьего, потому что ни на Илью, ни на меня он совершенно не походит. Весь он какой-то мягкий. И в целом и по частям. Лицо у него: щеки как подушечки, и рот он плотно не прикрывает, будто губы свои боится помять. Не стану зря говорить, какие глаза у него. Не видел. Всегда он дымчатые очки носит. Защиту от солнца. С кем беседует — обязательно воздух ладонью поглаживает. Голос тихий и чуточку как бы задумчивый. А прежде чем начать говорить, он непременно в руку осторожненько кашлянет. Сердитым Васю я никогда не видел. И румяным тоже. Летом загар его не берет, а зимой мороз краски на щеки не бросит. Танцевал он очень красиво, плавно. Вальсы любил больше всех. А сам играл на мандолине.
Семья у Васи огромная. Отец и мать, дед и две бабушки да прабабушка, пять братьев и три сестры, и еще тетка с двумя своими дочками с ними вместе живет. Итого — восемнадцать человек. Среди братьев и сестер он самый старший, а вниз ровная лесенка, каждая ступенька — два года. Работающих у Васи в семье тоже много. Отец и одна бабушка — врачи, а мать и тетка — медицинские сестры. Другая бабушка — учительница. Дед — архивариус в управлении пароходства. Теткина дочка — чертежница в строительной конторе. А сам Вася с последнего курса техникума на «Лермонтове» проходил практику рулевым. Он и секретарем комсомольской организации был у нас. Как получка, обязательно всем напомнит: «Первая заповедь, ребята, — комсомольские и профсоюзные взносы».
А у меня, между прочим, вышло так с первой зарплатой. Перед получкой я целых два дня тренировался, росчерк разрабатывал. Чтобы сделать как у самого начальника пароходства: и красиво и неразборчиво. К примеру, не отрывая пера, гнать, гнать штормовую волну по бумаге, — Барбин — кверху всплеск, и побежала этакая спиралька, как летний вихрь, все размашистее и размашистее, а потом — узел брамшкотовый — оттуда опять бросок вверх, влево, через головы всех букв, и к началу фамилии «К» подставить: К. Барбин. В тетради здорово получалось. А у кассы не то. Прилавочек оказался тесным, локоть положить некуда, перо колючее, не скользит по бумаге, а в глубину лезет, и, хуже всего, на ведомости такая узенькая строчка, что фамилию в нее никак невозможно вместить. Но я все-таки расчеркнулся по-своему, хотя и занял целых три строки и по всей ведомости брызнул чернильным дождем.
Только от кассы — Илья. «Э! Не зря, — говорит, — у меня сегодня нос чесался. Первый заработок, Костя, весь товарищам на угощенье. Не ломай обычая!» И за рукав меня тянет. Я туда-сюда, никакие отговорки не действуют. Так и поддался бы я. Но заходит Вася Тетерев. «Получил деньги? — спрашивает. — А какой подарок купил матери? Деду?» И тоже обычаем называет — подарки родителям на первый заработок покупать. Зовет с собой в магазин. Ну я, понятно, сразу же согласился. Пошли. А Шахворостов тоже за нами следует. Так втроем по магазинам мы и ходили. Матери купил я стеганое одеяло, чтобы не зябла зимой. А деду почтовый перевод сделал, пусть на свой вкус деньгами распорядится. И с Васей расстались мы. А Илья опять на меня навалился и заставил-таки зайти в павильон, цинандали с ним выпить. Подсели еще парни, кто — не помню, и тоже с нами пили, за мой счет. Скажу я, не очень вкусно было. Кислятина! И не очень весело. Как по обязанности какой пили. И что ноги потом плохо меня слушались, а глаза застилало горячей слезой — тоже мне не понравилось. И особенно ударило меня в сердце, что мать поняла все, когда я ей на постель подарок свой положил и, сам не знаю почему, совсем по-дурацки засмеялся. Но тут же я должен правду сказать: расплатился за выпивку я целиком, а Шахворостов, не сходя с места, пополнил мне весь расход. Сказал: «Это возьми, Костя, взаймы, чтобы с пустыми руками домой не прийти. Надейся: в трудную минуту товарища никогда не оставлю».
За лето на реке загорел я здорово. Плавал я на пароходах и раньше по целому лету, а такого загару, цвета каленых кедровых орехов, почему-то никак не мог достичь. И голос теперь у меня забасил. И шея не от жиру, а потолстела.
Эх! Надо понять всю ее, красоту речной жизни! Вот, к примеру, тихий, румяный восход солнца после душной ночи, когда на улицах висит тонкая серая пыль, а по-над берегом катится ветерок, такой ласковый, что даже вымпела на мачте не шевельнет, а поймать его, ветерок этот, можно только на мокрый палец. Купаться в Енисее в такое утро лучше, чем в чистом нарзане, хотя, к слову сказать, в нарзане я никогда не купался. Дома в городе улыбаются, белые, свежие, стекла в окнах солнцу подмигивают: подымайся, дескать, скорее. Поезд идет через мост, слышно, как паровоз дышит. Зачерпни в ладонь воды и плесни подальше — капли хрусталинками заговорят. Вот ведь какая бывает светлая тишина!
Да и не только по утрам на реке хорошо. А скажем, ливень с грозой. Молнии режут небо на части, в землю втыкаются. Гром из тучи хохочет. А вода в Енисее кипит, пузырится, белыми гвоздиками кверху подскакивает. В это время снять майку и выйти на нос парохода: а-ах! Пассажиры с верхней палубы под тент убегают, а ты стоишь себе насвистываешь, и с мокрого чуба у тебя по лицу ручьи бегут.
И когда первый ледок у берегов появится — хорошо. Поет, звенит, похрустывает. На тросах мелкие сосульки бахромой висят. Поведешь рукой — раскрошатся. А ладонь после этого горит, горит. Из-за кожуха, от плиц теплый пар поднимается. Не люблю я летом машинный пар, в горле першит от него. А осенью совсем другое дело. Мягкий он, и запаху него становится нежный. Забежишь на миг в такое облачко, и сразу теплота по жилам заструится. Ну, а потом снова в холод. Ничего — от такой перемены только быстрее двигаться хочется.
Лучше Красноярска города вообще нету. Я знаю, так и всякий из вас о своем родном городе скажет. Против этого возражать не стану — дело законное. А все же таких, как Красноярск, пожалуй, еще и не найти. Против всех других городов Красноярск потому уже лучше, что нет нигде реки краше Енисея. И притом такой могучести. Не верите мне — прочитайте Чехова. Не хотите читать Чехова — приезжайте, посмотрите сами. Где еще вы найдете такую чистую, светлую воду? Только в Ангаре. Так Ангара сама приток нашего Енисея! По легенде — его возлюбленная. От Байкала — а ведь тоже хорошее озеро! — Ангара сбежала, только бы с Енисеем ей слиться. К плохой реке, наверно, не побежала бы такая красавица. А быстрина в Енисее! Сила! Посмотрите на карту. Какая еще река во всем мире как раз поперек, от края и до края, всю страну пересекает? Нету другой такой реки. И главное, как пересекает? Кривулин Енисей не дает, врубается прямо в горы, в скалы, режет в тундрах вечную мерзлоту.
Большой порог, Казачинский, потом Осиновский. Бей через камни напрямую! Смелые никогда не отступают и не отворачивают. Ближе к низовьям что твое море — берегов не видать. В какую еще реку на тысячу с лишним километров от устья океанские корабли заходят?
А утесы какие! Я названий пород не знаю, но скажу: нет на Енисее двух утесов друг на друга похожих. У каждого своя особенность. Или цветом, или зерном камень от камня отличается, либо тем, наконец, как его природа, каким способом высотой домов в двадцать поставила. Скажете: значит, дикая река? Утесы, понятно, и еще на миллионы лет дикими останутся. И красота их та же останется. А на реке уже и сейчас жизнь веселая. И оттого она еще веселее, что кипит как раз посреди всей этой дикой красоты. И такого, я говорю, ни на какой другой реке не найдешь. Потому Енисей и особенный, потому Енисеем и хвастаюсь.
Ладно. Поглядим не только на реку, хотя вдоль нее Красноярск на добрых двадцать километров вытянулся. Отойдем в сторону от берега. Заберемся в горы, к нашим Столбам знаменитым. Конечно, это не Памир там и не Гималаи. Нет на них ни ледников, ни фирновых полей. Совершенно теплые скалы. Но, однако же, альпинисты, даже очень известные, лазать на них не стыдятся. Стыдятся, наоборот, те, кто подняться на Столбы не может. На Енисее хорошо восход солнца встречать. Ну, а на Столбах как — вы представляете? Забраться вдвоем с вечера на вершину самой высокой скалы, когда внизу, в ущельях, висят белые туманы, в паутине роса блестит и листья берез от холода ежатся. А тебя греет теплое плечо товарища. Слов тут много не говорится. Ночь пройдет как минута. А когда над лесом прорежется первый луч — тонкий, золотой, — только поглядишь молчком в глаза друг другу. Э-эх!.. Ну где в другом городе найдешь такое счастье?
Взять историю Красноярска. Слушал я лекцию интересную. И даже кое-что из нее в тетрадку для памяти записал. Знаете вы или нет, например, что нашему городу за триста двадцать пять лет перевалило? Но не это дорого. Были в Сибири города и постарше Красноярска. Вроде Мангазеи. А на том месте теперь и гнилого бревна не сыскать. Или Тобольск с Туруханском. Тоже были знаменитые города. А что они теперь против Красноярска? Пересохли, как снеговые ручьи. А Красноярск, как Енисей, никогда не пересохнет. Почему? Потому что — спасибо ему — казак Андрей Дубенский в удачном месте город заложил. Вот он и выстоял до нашего времени. А теперь ему вечная жизнь дана. Жить ему и славу свою накапливать. Великий художник русской земли Василий Иванович Суриков где родился? У нас, в Красноярске. И не только родился — лучшие картины свои здесь он обдумал. Значит, может наш город душу большого художника наполнить? Силу в его кисть вложить? Может. И, стало быть, обязательно будут у нас и еще такие художники!
А за свободу свою как боролись у нас? Первый бунт в Сибири против царских воевод здесь подняли! В девятьсот пятом году тоже где, как не в Красноярске, храбрее всего рабочие против самодержавия сражались? Вон они, ямки от пуль, до сих пор в кирпичных стенах видны. Зайдите в паровозоремонтный завод, посмотрите. Кругом народ душила царская власть, а у нас уже в те годы Красноярская республика была. Да как же такой город не любить? И как же он не самый лучший? Словом, если бы я писал свою книгу о нашем городе, я бы это вам по всем статьям доказал. Но книга у меня не о городе. А кроме того, вижу: очень сильно в сторону я и так взял.
На «Лермонтове» плавать, конечно, было неплохо. Не знаю, кто и как к трудной работе привыкает, а к легкой — все очень быстро. Привык и я. Однако меня все же в дальние рейсы тянуло. Только дом как оставить? Но тут я стал надеяться, что люди помогут. Все относились ко мне со вниманием: у Барбина, дескать, мать параличная и братишка еще недоросток, поддержать надо парня.
Сказал я об этом — и вспомнилось. В редколлегию стенгазеты меня выбрали. По совести, совсем небольшая нагрузка. Сами, наверное, знаете, как стенгазеты выходят. Но после собрания столкнулись мы у дверей с Шахворостовым. Он: «Теленок и то мычит, когда ему на хвост наступят. А тебя, Костя, в редколлегию втолкнули, и ты промолчал. При твоем-то семейном положении да еще состоять в редколлегии!» И на этом разговор оборвался, в толпе разъединили нас. А на другой день Вася Тетерев меня подзывает. «Тут, — говорит, — от товарищей заявление насчет тебя поступило. Зря ты на собрании сам промолчал. И я не подумал. В положение твое действительно надо бы войти, но переизбирать сразу же, сам понимаешь, неудобно. Сделаем так: числиться будешь ты, а работу на других членов редколлегии разложим». С маху я было обрадовался, а потом раздумье взяло. Наутро я сказал Васе Тетереву. Только как-то невнятно сказал — два чувства у меня сшиблись в душе: вроде бы и желательно не забивать себе голову лишними заботами и опять же самому себя лишать доверия товарищей неохота. Вася покашлял в ладонь: «Ладно, Барбин, все-таки загружать тебя мы не станем. Уделяй больше времени матери, брату. Воспитать парня не шутка». Так и освободился я тогда от стенгазеты. Только, правду сказать, на воспитании Леньки это никак не отразилось. А Шахворостов еще посоветовал: «Ты научись, Костя, и работенку себе выбирать».
Он-то умел выбирать. Это я понял, когда мы вместе стали зимой на отстое вымораживать суда. В руках у него, как у всех, лом или лопата, а работает только языком. Но мне было тогда ни к чему разбираться. Главное, всех развлекает. А под веселый рассказ и у тебя руки легче двигаются.
За зиму я очень привык к Шахворостову. Может, еще потому, что он все время меня за силу мою похваливал. А чье сердце на похвалу не отзовется? В выходной день уйдем вместе с ним за город на лыжах, я бегу целиной, а он по моей лыжне. Сзади кричит: «Ну, Костя, ты и ходок! Говорю тебе: чемпионом мира будешь». На работе глыбу льда пошевелит руками: «Ну нет, это, Костя, только по твоей силе. Ну-ка, покажи класс!» Я стараюсь, ворочаю, а он сидит, головой покачивает. «Вот это богатырь!» И не обидно мне, а лестно.
В эту зиму, в сильные морозы, пить водку я начал. По сто граммов — не больше. Тоже Илья научил: «Триста на бок валит, двести веселит, а сто — только мороз отгоняет». Правильно. Очень греет. Хотя вкус у водки самый противный. Ну, да сто граммов, зажмурясь, в один глоток опрокинуть можно. Дома я капли в рот не брал. Мать огорчилась бы. Пьющих очень она недолюбливала. Маша один раз заметила все-таки: «Костя, зачем ты это?» Но матери моей не сказала.
Вообще в ту зиму был я какой-то очень неопределенный. Потому, наверно, и пишу так, вразброс. Было со мной, как бывает в игре, когда колечко прячут. Вокруг тебя десять человек, а как угадать, у кого оно спрятано? Вот и тянет тебя то к одному, то к другому, а то и сразу всех схватить за руки хочется.
На кого только не хотелось похожим мне быть! По характеру, конечно. Из книг — чуть не на всех героев: и на Чапаева, и на Павку Корчагина, и на Алексея Мересьева, и на Олега Кошевого, а не то вдруг на «мин херца» — Алексашку Меншикова, или даже на Труффальдино. Из живых людей, моих знакомых, — тоже чуть не на каждого. Илья что делает — я от него беру. С Васей Тетеревым встретишься — и на него похожим хочется быть. Даже такие очки носить и в ладошку покашливать. Степан Петрович остановит, свои советы начнет давать — вот бы и мне рассуждать так убедительно. От Ольги Николаевны занять ее бережливость и к порядку в доме любовь. От матери — ее терпение. От Леньки… Ну, от этого ничего не займешь. Словом, или собирай в кучу от разных людей те качества, что нравятся, или по очереди меняй их. И тут я стал чувствовать: долго такая путаница во мне сохраняться не будет и, наверно, начнет одолевать что-нибудь одно. Но об этом как раз со следующей главы и пойдет разговор. Здесь же остальную свою биографию до девятнадцати лет я закончу коротко, как в анкетах пишут.
Две навигации потом я на буксирных пароходах плавал. До Енисейска. Садились мы, конечно, и на мели. И в штормах болтались. Случалось и по горло в ледяной воде купаться. А зимой, как и полагается всем матросам, опять на отстое и на ремонте я работал. Только теперь потянуло меня плотничать. Есть где показать свою силу. Вывостришь топор, размахнешься — щепа толщиной в руку летит. Илья качает головой: «Барбин, а с одного замаху ты можешь бревно пополам перерубить?»
Смог я теперь и плавать подальше от дому, потому что из Леньки постепенно хорошая хозяйка выработалась. У него даже особый интерес к домашним делам появился, своя инициатива. И в школе учился парень тоже неплохо, хотя пятерки ему, как и мне, не очень часто перепадали. Матери полегче стало. Вернее, и не полегче, а просто с болезнью свой свыклась она и приспособилась прямо на постели шитьем заниматься — тягостно ей без всякого дела лежать.
Маша стала реже заглядывать к нам. Спросит: «Костя, тебе не надо помочь?» Скажешь: «Нет, не надо». Иначе и отвечать было совестно: Маша как-никак учится, зачеты, экзамены, а потом еще и всякой общественной работы она себе набрала. А у меня, между прочим, с того вмешательства Шахворостова нагрузок никаких и не было. Все берегли меня.
С Ильей мы не то что сдружились, но когда три года работаешь вместе, привычным становится человек. Тем более который за товарища всегда горой стоит. И не скупой он, надо взаймы — даст без слова. У него всегда деньги: своя зарплата, и еще сестра ему посылает. Правда, вроде бы я замечал иногда: продает Илья хорошие вещи. Но это его личное дело, если тоже с Дальнего Востока сестра присылает, а они ему не нужны, что же тут плохого?
Вася Тетерев все на «Лермонтове» плавал. И встречались мы с ним теперь только зимой, на отстое. Секретарил в комсомольской организации он прямо бессменно. Любили ребята его выбирать. Тихий, в беседах выдержки у него хватает. Только бы хватило у того, с кем он беседует.
И еще тем был Вася хорош, что все любил делать сам, редко поручениями других комсомольцев побеспокоит.
Вот. А перед этой весной объявили мне, Шахворостову и Васе Тетереву, что зачислят нас в команду на большой пассажирский теплоход «Родина». Узнал я, что Маша будет тоже плавать на этом же теплоходе радисткой. И тут, с этой весны, и начались в жизни моей повороты. С новой главы я и возьмусь об этом рассказывать.
Глава третья Почему я нагрубил
Медицину как науку я признаю. Синоптики погоду тоже сами не выдумывают. И в той и в другой науке существуют свои законы. Но не все они еще открыты. Потому люди и не верят синоптикам. Особенно когда те на воскресенье плохую погоду предсказывают. То-то злорадство начинается, если вместо дождя выдастся солнечный день: «Это у синоптиков обязательно так — все наоборот!»
Тоже и насчет медицины. Согнет болезнь человека — и сразу: «Доктор, любые лекарства, любые уколы. Нужна операция? Режьте!» А пока здоров, ходит и фыркает: «Что? Врачи? Иванова насмерть залечили. Петрову живот разрезали да снова зашили, ничего не нашли. Сапожники!» Я и сам так говорил, и вы, наверно, говорили — и про синоптиков и про врачей. И это не от неверия в науку вообще, а просто так, по природе своей — противиться всему неприятному: плохой погоде, плохому здоровью. Тем более что они нарочно приходят как раз тогда, когда не надо.
Никогда я не болел. Ленька — тот беспрестанно. А я был точно застрахованный, вернее — хорошо закаленный. И все-таки свалил меня какой-то злой грипп. Да так свалил, что Ленька на дом врача вызывал. Конечно, не сразу. Сперва я, как и все, хорохорился: «Что? Пойду я лечиться к сапожникам? Чихать мне на всякие насморки!» И чихал я действительно здорово, прямо без перерыва чихал. А насморк назло ему ледяной водой вышибал. До тех пор вышибал, пока на сорок градусов всего себя не нагрел. Тут и сдался. И отлежал я в постели ровнехонько шестнадцать суток. А «Родина» тем временем в рейс первый да и во второй ушла.
Я это рассказал потому, что из-за этой глупой болезни мы с Машей до начала навигации на Столбы не сходили. Восход солнца там не встретили. Свой обычай нарушили. И пришлось мне ждать еще две недели до промежутка от второго рейса «Родины» до третьего. Вы скажете: «Ну, беда и не так велика. Месяцем раньше, позже… А на Столбах еще и лучше в середине лета — теплее». Правильно! Только дело все в том, что неизвестно, повернулась бы или нет в мае биография моя так, как в июне она повернулась.
«Родина» в субботу прибыла с низовьев Енисея. А в новый рейс пойти должна была через день. Как нарочно, для нас воскресенье выкраивалось. Понятно — праздник общий. Хотя, с другой стороны, по воскресеньям на Столбах всегда и толкучка большая. Даже не всегда на скалах сразу найдешь хорошее местечко, чтобы только вдвоем восход солнца встретить.
Слушаю я в пятницу вечером прогноз погоды на субботу. Передают по радио: «Днем ветер северо-западной четверти, облачность» и так далее. К ночи — со значительным выпадением осадков. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Если поверить синоптикам, никакого восхода солнца в воскресенье не будет. Сердце у меня, как у ежика, колючками так и встопорщилось: выбрали же эти люди день для осадков!
Утром в субботу Маша спрашивает:
— Костя, правда, что прогноз плохой на завтра? Сама я сводку погоды не слышала.
— Прогноз, может, и плохой, — отвечаю, — а погода будет хорошая. Сама знаешь, синоптики всегда врут.
— Ну, смотри, — говорит. И палец даже подняла. — С нами моряк один пойдет. Неловко будет, если он попусту вымокнет.
Разговор этот случился на лестничной площадке. Маша постучалась к нам, а заходить в квартиру не стала. Я уже рассказывал, что с Машей мы почти ровесники, стало быть, по крайней мере восемнадцать лет на этой же площадке мы встречались.
И вот, допустим, Илья, Вася Тетерев — парни; Ленька, наш, Мишка, брат Васи Тетерева, — пацаны; Степан Петрович, Ольга Николаевна — взрослые. А Маша сам не знаю почему возраста словно никогда и не имела. И я тоже при ней своих лет не замечал.
Но тут, когда Маша упомянула про моряка, я сразу почему-то почувствовал, что мне девятнадцать. Может, даже и двадцать. Или — двадцать пять. Стою, развернув плечи нарочно так широко, что на груди чуть рубашка не лопается. Да-а… Сколько лет я Маше в лицо глядел и, честное слово, не знал, какие у нее глаза. А тут вдруг заметил, что они совершенно синие, пожалуй, даже чуть сзелена, вот как вода в Ангаре. И еще: вокруг зрачка, по радужке, — мелкие черные крапинки. Не знал я тоже, почему Маша такая светлая. А тут понял — свет-то в глазах у нее заложен. Но не одинаковый. Улыбнется — и глаза засветятся. Нет улыбки — и свет холоднее, а совсем не гаснет. Не гаснет потому, что совсем без улыбки у Маши лицо никогда и не бывает. Другие девушки улыбку умеют делать. Только смеется такая, а видишь — ей не смешно, тебе же и вовсе не весело. А у Маши всегда своя, не сделанная улыбка, и всегда левая бровь словно бы чуточку приподнятая, и всегда хочется и тебе в ответ засмеяться. Но тут я стою, вижу глаза, вижу улыбку Машину, а ответить ничего не могу, потому что свет от нее идет куда-то мимо меня.
А Маша словно бы ничего и не заметила.
— Значит, так условимся, Костя: ты зайдешь за нами. А я сейчас — в управление пароходства.
И побежала по лестнице. Только каблучки по ступенькам пощелкивают. Хоть бы спросила, не попутчик ли я. Мне ведь тоже надо было идти в отдел кадров, взять приказ — назначение на «Родину».
Вечером отправились мы на Столбы. Что у каждого в голове было в тот день — не знаю. Во всяком случае, у меня все время моряк этот, Леонид, хотя и запомнил я у него только черные усики и золотой зуб.
Вы, может быть, ждете теперь, что я стану рассказывать, каким неловким и жалким оказался Леонид в походе? Или, наоборот, очень ловким и смелым? Нет, не могу я сказать ни того, ни другого. Держал он себя точно в меру. И не боялся трудных ходов и не лез куда попало очертя голову. Так лез я! И это получалось глупо, потому что Маша знала не хуже меня ходы на все скалы и видела, как я выкидываю свои фокусы. Один раз она даже не вытерпела:
— Костя, ну что ты сегодня скачешь по камням, как козел?
— Да потому, — говорю, — что я не осел, который скакать по камням не может.
Не знаю, почувствовал или нет яд моих слов Леонид, но Маша успела прежде него сказать: «Спасибо». И вышло, что ослом я назвал Машу.
В этот день на Столбы двинулось чуть не полгорода. По всем дорогам, издали приглядеться, будто сплошь цветы расцвели — на Столбы серенько одетые люди не ходят.
Мы шли главной дорогой и тоже, наверно, были похожи на цветы. Особенно Маша. Вот вам ее костюм: яркий-яркий, будто горная саранка, красный платок, кофточка светло-голубая, а шаровары — синие. Кушак гоже красный, хотя и потемнее цветом, чем косынка. Представляете, как все это играло на солнце?
Молча по дороге на Столбы пройти невозможно. Даже того, кто скучает, все равно другие раздразнят, расшевелят, заставят и петь и смеяться. Грустить у нас люди ходят не на Столбы, а на остров. И мы шли, пели, и смеялись, и задирали других, кто казался нам невеселым. Вообще я терпеть не могу, когда девушки визжат. Мне кажется, что они это делают нарочно. И уж, во всяком случае, если не нарочно, то удержаться они могли бы. А вот столбисткам я прощаю и даже завидую, радуюсь, когда они визжат. Завидую потому, что самому мне нечем так сильно восторг свой и счастье выразить, чтобы это и другие люди поняли, а радуюсь потому, что чувствую — и мой там голос, в их счастливом визге. Словом, валяй во всю силу! На всю тайгу! И хотя от Лалетиной семь километров нужно в гору взбираться, всегда идешь, словно вниз бежишь. Но в этот раз мне почему-то даже Машин костюм не нравился, казался скучным и тусклым, смеялся я и разговаривал перехваченным горлом, подъему не было конца, а все девушки визжали так страшно, будто они обрывались и падали в пропасть с утесов.
По субботам на Столбы тянутся тысячи людей. Кажется, кто придет последним — тому и деваться в лесу будет негде. Хоть стой в очереди и жди, пока место освободится. А на самом деле рассыплются все эти тысячи так, что, бывает, и голосу человечьего не услышишь. Конечно, на ближних Столбах всегда как в муравейнике. Либо по скалам целыми ватагами люди лазают, либо в кустах водку пьют. Любоваться на столбовские чудеса большой компанией никогда не ходят. Чтобы понять их по-настоящему, надо остаться одному. Или вдвоем. И сидеть тихо-тихо, чтобы как растет трава слышать, чтобы в небе даже паутинку разглядеть, когда ее ветром несет, вникнуть, вдуматься в каждый знак живой природы. Вот тогда вернешься домой, и ночью тебе Столбы все будут сниться, и надолго останутся в памяти и теплый камень у тебя под рукой, и на губе соленая капля пота, и верхушки могучих сосен, похожие на кустарник, когда ты глядишь на тайгу с высоких обрывов, и перевалы, хребты, сперва зеленые, потом синие, а в самом далеке вовсе уже голубые, под цвет неба, и в небе радужная паутинка с крохотным паучком на конце. Ну, а про восход солнца я и говорить не буду. Только вдвоем ведь можно заметить тот дорогой миг, когда из-под золотой зари над лесом брызнут на скалы самые первые, росинками раздробленные лучи и у тебя в душе песней отзовутся! А прохладный ветерок слетит откуда-то рядом с тобой, будто он тоже терпеливо ночь ночевал, дожидался, и тронет по пути чуть-чуть твои волосы, щеки либо к тебе на щеку волосок от товарища принесет! Словом, не знаю, понимал или нет Леонид и понимала ли Маша, что настоящего восхода солнца нам все равно не увидеть, а я — то знал, что втроем идем мы зря.
Маша, наверно, все-таки понимала, потому что, когда мы поднялись к ближним утесам и увидели, сколько повсюду костров наготовлено, она сказала:
— Костя, пошли на Четвертый столб, если успеем.
Я молча шагу только набавил. А к Четвертому столбу, между прочим, вовсе не такая веселая дорога, как от Лалетиной до первых утесов. Оглянусь — ничего, идут. У Маши лицо горит. Раскраснелась прямо под цвет косынки, капельки пота со лба ладонью смахивает. А Леонид скорее даже побледнел, и оттого усики у него определенно еще чернее стали…
Очень хотелось есть. Но поужинать мы договорились на верхушке Столба. Если кто еще подойдет сюда, так самое лучшее место уже будет занято. И подниматься засветло лучше, чем в сумерках. Впрочем, я — то полез бы и ночью — такое было настроение. Это, наверно, и вам знакомо, когда под настроение человек готов хоть по канату через Енисей перейти.
Утесы здешние недаром «Столбами» называются. Это не выступы у гор, а совершенно отдельные скалы. Высокие, могучие. Гранит там или сиенит, но в общем прочные камни. А формы такой, что трудно поверить, как без человека природа их сделала! Вот «Дед», например. Точненько высечена голова бородатая. Или «Перья». Веером развернулись. Вот, кажется, от ветру зашевелятся. А в каждом «перышке», пожалуй, миллиарды пудов. От подошвы этаких скал глянешь вверх — шапка валится, стоят утесы стена стеной. Ну, а кто знает — хватайся рукой, ногой в трещину — и пошел. Вдвоем и совсем хорошо — друг друга кушаками вытаскиваешь. Есть такие места, что только вдвоем их и одолеть можно. Да еще смотря по тому, кто эти двое. Мы с Машей все Столбы облазили.
Мимоходом сказать, я и на той скале побывал, где в девятьсот пятом году подпольщики-революционеры слово «Свобода» написали. А жандармы его уничтожить потом никак не могли. Боялись ходить по узкому уступу над пропастью. А я ходил, нисколько не боялся и соображал, что бы такое написать и мне рядом со словом «Свобода». Но Маша сверху мне крикнула, чтобы я не вздумал там ничего писать, потому что это исторический памятник и, кроме того, прекраснее слова «Свобода» другого все равно не найти.
Дошли мы до места. На Четвертый столб есть ходы и попроще, а я нарочно выбирал самые трудные. Маша то и дело мне говорила: «Костя, куда ты полез?» И я переходил, куда показывала Маша. Но все равно оставался я в дураках, потому что было понятно: опять выкидываю фокусы. От этого я злился еще больше, а перебороть себя уже не мог.
Взобрались наконец. Стали у самой кромки обрыва. Леонид крутит черные усики: «Превосходно! Отлично! Изумительный вид!»
Маша тоже сказала: «Очень хорошо!»
А я стоял рядом и удивлялся, чем они восторгаются, потому что в тот день совершенно ничего красивого видно не было. Даже не знаю, как и написать, что я видел тогда. Ну, скалу, на какой мы стояли. Кажется, была она серая. Небо определенно серое, его, пока мы шли, почти всплошную затянули облака — не подкачали синоптики. Тайга у подножия скалы тоже казалась серой — уже начинались сумерки. И даль была вся в сером тумане. Откуда только и собралась вся эта серость? Ничего веселого! Все одинаковое. Но я стоял и тоже говорил, что очень красиво.
Потом сели мы ужинать. Запасы готовила Маша. Она знала, что надо брать с собой. А Леонид пожалел, что не оказалось шампанского. Наверно, он был любителем этой штуки. Тогда и я стал жалеть, что не взял водки. Будто мы с Машей на Столбах только и пили что водку. И Маша опять глядела на меня с укоризной и говорила: «Костя, что ты болтаешь глупости!» Мне делалось стыдно. А потом я опять начинал болтать глупости и никак не мог остановиться.
Тут Леонид разгладил ладонью газету, в которой были завернуты пирожки, и стал вслух читать фельетон. Или было уже сумеречно и оттого он плохо видел напечатанные строчки, или вообще не умел читать с выражением, но слушать было совсем не смешно, хотя наш фельетонист Горелов писал всегда так, как вот клоуны в цирке, когда они друг другу коленом поддают или бамбуковыми палками по головам лупят — не хочешь, да захохочешь. Фельетон был про Лепцова, начальника какого-то там закупснабсбыта. Суть же фельетона заключалась в том, что этот самый Лепцов на государственные деньги себе особнячок соорудил. И зеркала еще, и ковры, и картины, и даже домашнюю собаку с обрубленным хвостом. Устроил себе, как говорится, жизнь на полный ход.
Хотя фельетон был совсем не смешной, но разговор почему-то как раз вокруг него пошел. И я подумал: когда мы с Машей вдвоем ходили на Столбы, о фельетонах мы не разговаривали. Больше молчали. И было куда интереснее.
Начал разговор Леонид.
— Вот, — говорит, — ведь это люди нашего времени. И отцы у них были достойные, с собой пережитков от царских времен не принесли. Да, это не унаследованный пережиток, он к нам заново, в чистые души пришел. Откуда?
Маша ответила:
— Откуда — это понятно. Стало быть, у нас еще можно пожить за счет других, и вообще пожить пошире, чем тебе по труду твоему следует. А коли такая возможность есть, могут и мысли такие сложиться. Вы скажите лучше, как другие допустили своего товарища до этого? Ведь не в миг один все это он сделал. Среди людей был. В коллективе.
— А! Чего тут голову ломать, — говорю я, — когда и так все ясно. Был он начальником. Подчиненные, как полагается, боялись его. А сверху не сразу все разглядишь. Разглядели — и пожалуйста, испекся.
— Но ведь не все же начальники, Костя, так поступают!
А Леонид прибавил еще:
— И наоборот, так, как он, бывает, многие и из самых рядовых людей делают.
— Значит, милиция плохо работает. И судят мало!
Леонид щурится:
— Милиция… Суд… Это все, Константин, уже разновидности наказания. Как предотвратить дурные проступки людей?
— Да я — то при чем? Особняк себе за казенный счет я не строил и собаку с обрубленным хвостом не покупал. Пережитки капитализма у Лепцова — не у меня. И мне до него нет никакого дела!
Машу прямо так и подбросило.
— Костя! Да не в том ли вся штука, что тебе до него дела нет? Неужели тебе не жаль, что человека будут судить?
— И ни капельки, — говорю. — Туда ему и дорога. Заворовался, так и вздуть как Сидорову козу!
А Маша почему-то очень разволновалась. Стала говорить, что мы все друг за друга ответчики, что нам до всего дело должно быть. Не суд и не милиция строит наше общество, а мы сами. И если наши товарищи попадают под суд, мы виноваты — не оберегли человека от всяких вредных влияний. И опять мы да мы, так что мне стало даже смешно — получалось: жулик пограбил, пожил в свое удовольствие, а мы теперь должны мучиться, не его, а себя винить. Леонид соглашался с Машей, а я опять городил что попало, лишь бы только ему напоперек. И до того мне надоел весь этот пустой и не к месту совсем разговор, что, когда Леонид буркнул что-то такое, вроде «Константин полез сам не знает куда», — я так и отсек:
— Что же мне, молчать? Или с утеса вниз головой броситься?
У Маши и голос задрожал.
— Костя, — говорит, — к людям нужно всегда иметь уважение. Тем более что Леонид — гость. И еще: он сын нашего капитана.
Я не знаю, для чего Маша сказала последние слова. Вернее, знаю теперь, а не знал тогда. И я, не сдержавшись, ляпнул последнее:
— Вот уж никогда не подумал бы!
И это можно было понимать как хочешь. Просто удивление. Или то, что сын капитана должен быть не таким, а лучше, или даже, что Маша перед ним выслуживается… Сам я сейчас не знаю, какой тогда был смысл в этих моих словах, скорее смысла не было вовсе, а только грубость и злость. И наверно, еще дальше бы дело зашло, но Маша вдруг показала рукой.
— Глядите, глядите, как зарево от костров красиво желтит утесы!
На этом спор наш и оборвался. Мы замолчали. А я отошел на самую-самую кромку обрыва. Долго стоял один. Потом рядом со мной оказалась Маша. Как — я даже не понял.
И хотя мне весь этот день казалось, что Столбы потеряли свою красоту, я стал помаленьку приглядываться. И верно: дальние утесы, под которыми горели костры, непрестанно менялись в цвете и становились то ярко-желтыми, то багрово-красными. Совсем так, как меняется и сам цвет пламени у костра. Но вершины елей оставались черными, как чугунные, и острыми, как пики. А оттого, что концы ветвей у деревьев были опущены, казалось — ели рванулись с земли в небо, да так почему-то вдруг и замерли, застыли. Даже ветки у них не смогли приподняться.
Вся остальная тайга окрест Столбов слилась воедино, потерялись и долины, и перевалы, и горизонт. Все стало плоское, одинаковое. Подул несильный ветер. Над самым нашим утесом низкие двигались облака. И временами казалось, что они стоят на месте, а навстречу облакам лечу я, вместе с утесом. И это казалось, наверно, не только мне, потому что и Маша вдруг схватила меня за плечо, будто испугалась, что упадет.
Когда мы шли еще сюда, нас сильно одолевала мошка. И здесь, на скале, она сначала надоедно лезла в глаза. Но теперь ветром ее всю унесло. И вообще стало как-то по-особенному легко и приятно. Цвели сосны, поэтому пахло вместе и медом, и смолкой, и хвоей, за день распаренной солнцем.
— Горный ветер, — сказала тихонько Маша, будто сама с собой. — Люблю! Какой он нежный и чистый, светлый, словно родник. Нигде не бывает такого: ни в степи, ни в лесу, даже над рекой. Мне всегда кажется: горный ветер — это, как в сказках, живая вода. Он обновляет человека. — Чуточку помолчала, спросила: — Тебе сейчас легко дышится, Костя?
Я совсем забыл, что целый день злился.
— Очень легко!
И тогда Маша отошла от меня.
Немного погодя она покликала меня, сказала, что до восхода солнца можно бы отдохнуть. Каждый прикорнул прямо на голой скале. Но у меня ворохнулась мысль: «Когда мы сюда приходили с Машей вдвоем, мы не спали. А теперь вздумали спать…»
Не знаю, как они, а я все равно не уснул. И почему-то все время думал о Лепцове, и о нашем разговоре, и о том, почему я так нагрубил. Но связать вместе все никак не сумел. Чувствовал лишь одно: если бы не Леонид, Маша со мной сегодня так бы не разговаривала. Даже голова разболелась от этого. И тогда, чтобы больше не мучить себя такими мыслями, я стал думать о другом: как хорошо Маша сказала про горный ветер, что он нежный, чистый и светлый и похож на живую воду. Очень верно сказала. И я лежал и ловил его губами, пил полным ртом, будто пил живую воду…
Утром выяснилось, что синоптики не соврали. Вернее, соврали, но не целиком. Облачность на небе сложилась за ночь очень плотная, а осадков не получилось. Ну, и восхода солнца тоже. Рассвело, мутно, серенько. И таким же бледным потом и весь день остался. А в пасмурный день мошка особенно сильно бесится. Я молчал, Леонид крутил свои черные усики, а Маша почему-то оправдывалась перед Леонидом и говорила, что такая мошка на Столбах редко бывает, словно Маша сама была виновата и в плохой погоде и в этой дурацкой мошке.
А я в уме грозился синоптикам: «Эх, почему не состоялись осадки? Хватил бы хороший ливень. С грозой. Так, чтобы от лиственниц щепки летели, когда, бывает, молнией в вершинки им попадет!» Правда, Маша, наверно, тогда расстроилась бы и еще больше, но мне было бы легче.
Как мы вернулись домой — неважно. Важно то, что у дома распрощались мы странно: Леонид мне четыре раза сказал спасибо, а Маша забыла даже руку подать.
Глава четвертая Что было дальше
А дальше было так.
В третий свой рейс «Родина» отходила во вторник в пять часов утра. Посадка пассажиров начиналась в четыре. И поэтому люди собирались на берегу уже с вечера. Охота ли ночью тащиться с вещами по темным улицам? А вообще такое раннее отправление придумано с глубоким смыслом. Во-первых, чтобы люди могли полюбоваться рассветом на Енисее, а во-вторых, чтобы они не толклись под окнами пароходства днем и не мешали работать. Но это лишь к тому говорится, что на первую свою вахту заступить я должен был в четыре утра и, стало быть, к этому времени на теплоход явиться обязательно. А тут как-никак собственные сборы в дальний путь, Леньку нужно было настроить и с матерью попрощаться.
Словом, подхожу к причалам, а там уже кипит, полным-полно пассажиров и провожающих. Интересная картина. Парочки гуляют. Поют. Орехи грызут. В иных местах по двое под одним плащом на чемодане сидят. Луна им подсвечивает…
У самого спуска к реке — навстречу мне Илья Шахворостов.
— Здорово! — говорит. — А я тебя жду. Будем вместе. Помещение — прелесть! Всего на четверых. Ребята хорошие.
— Ну, а как теплоход? Тоже хороший?
— Да все получше, чем «Лермонтов». В общем, работать можно. — Взял меня под руку и показывает на толпу: — Вон сколько пассажиров сегодня. Каюты и весь третий класс какая-то экспедиция целиком закупила. В кассу только палубные билеты дали. А народу наплыв. Так и палубные места в драку хватали.
И начинает рассказывать, что среди пассажиров на берегу томятся две женщины — его родственницы. Ехать им до самой Дудинки, с лишком две тысячи километров. А когда народу такая прорва, разве слабым женщинам занять удобные места? Провести бы их и поместить куда получше до начала общей посадки, так на вахте у трапа стоит Длинномухин, не матрос, а змей какой-то. Поссорился с ним вчера, он и мстит теперь.
— Вся надежда, Костя, на тебя. Выручи товарища.
— Да как же я могу выручить?
— Очень просто. Скажешь, мать с сестренкой тебя провожают.
— Да ведь мать-то у меня больная лежит. Кто этого не знает? — говорю. — А сестры и вовсе нет никакой.
— Чудак! У тебя-то этот змей документов спрашивать не станет. Скажешь в крайнем случае: мать поправилась, а сестра из Иркутска в гости приехала.
Так насел на меня, что я и согласился.
В самом деле: товарищ о своих родных заботится. Кому ущерб? А люди не безбилетные. Представляете, как этим женщинам с вещами в толпе при посадке бока намнут?
Багажа у них оказалось порядочно. Ну, да чего там — силу, что ли, свою жалеть? Через плечо на ремень два чемодана, а в руки еще два и пошел. Илья со своей родней следом за мной шествует. Пассажиры шумят, волнуются. Шахворостов им знаки делает: «Порядочек! Тихо, тихо! Это свои, пароходские».
На трапе действительно — стоп! — вахтенный не пускает. Но Илья тут как тут:
— Да ты что? Это же Барбин — наш новый матрос, с собственными вещами идет. Белье, книги, папиросы. С сестренкой мать его провожает. Леночка, проходи, проходи, дорогая, не бойся.
Ну, и меня вслед за ним потянуло сказать:
— Мама, не задерживайся.
Так и прошли мы.
Усадил Илья родственниц на самое-самое лучшее место, ничуть не хуже третьего класса и, заметим, много дешевле. Ну, конечно, женщины руку пожали мне, всяких горячих слов наговорили, и пошел я от них умиленный. Знаете, как это приятно, когда товарищу поможешь и вообще людям доброе дело сделаешь! Особенно так вот, в начале большого плавания. Этого чувства потом надолго хватает, с чего оно началось, случается, даже забудешь, а все одно в душе что-то звенит и звенит…
Жилище наше мне понравилось. Четыре койки. Две внизу, две над ними. Моя верхняя. Матрас. Чистые простыни, одеяло, подушка. Чего еще пожелать? Другие матросы в кубрике и по десять, по двенадцать человек вместе живут.
Сели мы с Ильей, окошечко открыли — прохладой речной подышать. Ночь, тишина, а все равно Енисей волной в борт теплохода плещет, будто стекляшки там пересыпаются. От луны через всю реку золотая дорожка лежит. Об этом, кажется, Чехов или Тургенев писали уже. А может, и тот и другой? Тогда я — третий. Но не помянуть о ней просто невозможно, такая она красивая и словно приглашает: «Шагай, матрос, на тот берег. Пожалуйста».
Поразговаривали с Ильей. «Ну, значит, опять вместе плаваем?» — «Выходит, вместе». И еще в том же роде, так, всякие пустяки, слова привычные. Только одно он в новинку сказал, интересное: Васю Тетерева назначили боцманом, а совсем недавно избрали секретарем комсомольской организации. Последнее, положим, и не новинкой было.
Поговорили мы и разошлись. Илья опять к своим родственникам, а я — на верхнюю палубу, послоняться до начала вахты.
Поднялся. Стою один. Воздух чистый, свежий, речной. И опять лунная дорожка через весь Енисей. Тянется прямо в горы, к Столбам. Гляжу на нее, и почему-то Маша припомнилась, горный ветер, чище которого даже и на реке нет.
С тех пор мы с Машей не видались. Она тогда сразу же на теплоход ушла. Подумалось: интересно — спит она сейчас или нет? Вот как раз ее владения. Табличка с надписью: «Радиорубка». Рядом и каюта: «Радист». А на нашей обозначено во множественном числе: «Матросы». И дверь в радиорубку дубовой фанерой оклеена, а у нас — простыми белилами покрашена. Да-а… Вот тебе и Маша!
Но все это я подумал совсем не от зависти к ней. Правильно. Заслужила. Полагается. А радист или матрос на теплоходе нужны одинаково. Это дружбе нашей не помешает. И в мыслях тут же запнулся. Это не помешает… А что помешает? Не знаю. Но все-таки в чем-то она от меня словно бы отдалилась, и мне, скажем, сейчас в каюту к ней уже не постучаться.
Тогда я подошел и стал поближе к ее окошку. Жалюзи были опущены, за ними еще — репсовая шторка: угадай, что там? А отсюда, от самого окна, через Енисей тянулась все та же живая, зыбкая дорожка. И мне почему-то казалось теперь, что она идет не в горы, к Столбам, а, наоборот, с гор протянулась сюда, и о ней не скажешь, как не скажешь и о реке, что она течет в обе стороны.
Зимой на квартире Терсковых вечеринка молодежная собиралась. Маша пела «Позарастали стежки-дорожки…». Красивая песня. Но грустная. Не понимаю, почему Маша пела ее. Сама-то ведь никогда не грустит.
Скоро дадут первый гудок. Я подсчитывал как-то: за всю свою жизнь я проделал по Енисею больше чем шестьсот тысяч километров. Выходит, пятнадцать раз объехал земной шар. Гудки своего парохода, на котором плывешь, за это время я слышал тоже, наверное, десять тысяч раз. А все равно, как загудит — в груди у тебя будто медный звон. Особенно когда из Красноярска отваливает пароход. Чего тогда только нет в его гудке, в его голосе! Вроде и прощание с городом: «У-у-ухожу-у-у!..» А в первом — переклик с теми, кто провожает, остается и плачет: «Ни-чего-о-о! Перестань!..» Во втором — с пассажирами уговор, обещание: «По-ове-зу-у-у-у! Хорошо! Хорошо!..» В третьем — уже пароходской команде приказ: «Да-але-ко-о-о! Вперед! Вперед! Вперед!..» Словом, молодец тот изобретатель, который нынешний басовитый гудок придумал, прямо живым сделал он пароход.
Так я простоял у Машиного окошка будто и недолго. Но дорожка из золотой постепенно стала серебряной, а потом — просто белой. Оказывается, начался рассвет.
Пискнул тоненький свисток, сигнал — смена вахты. И я побежал вниз, на свое место. Сейчас начнется посадка. Дизели уже работали, щелкали поршнями так, словно жевали серу.
Не знаю почему, но никуда так не лезут пассажиры, как на пароход. И вправду, после первого гудка сразу же началось, как вам сказать, — «движение»… Передние вклинились в узкий проход и заткнули его, а задним ничего не видать. Ясно, сразу и шум и крики. Чемоданы полетели через головы и прямо по головам. На контроле у трапа стоять в такой момент нужны не матросы, а чугунные статуи. И обязательно еще на болты к полу привернутые.
Но вот чудеса: гляжу — сквозь этот тугой поток, как ледокол, прорезается мой Илья Шахворостов. Нагрузился вещами, шею напружинил, голову вниз опустил и на разные голоса вечные свои прибаутки выкрикивает:
— Ой, дяденьки, тетеньки! Ой, бабочки, стрекозочки! Ой, упаду! Пропустите скорее женщину с ребенком…
И еще болтает какую-то несусветную чепуху. А сам протискивает сквозь народ мужчину в зеленом плаще.
— Костенька, друг, оказывается, тетя-то с мужем. Посади его рядом с ними.
И снова обратно в гущу. А чемоданы подкинул мне. Что делать? Вахта моя у трапов, но на контроле стоят другие матросы. Товарищу надо помочь. Заработал я локтями. На посадке-то с этим никто не считается. Понятно, у всех цель одна: место занять поскорее. Но как ни злятся, как ни волнуются, отвалит пароход — сразу все станут друзьями.
Напарился я с чемоданами зеленого плаща здорово. От дизелей жарко. А от тесноты — в особенности. Но от чемоданов было жарче всего: тяжести они оказались невероятной. Даже для меня. Забежал я на минутку в умывальню, поплескал водой на голову и пошел опять на свое место.
Пробиваюсь к трапам, а у входа в машинное отделение, на самом бою — женщина и с мальчонкой на руках. Вещи к стенке сложила, стоит, а люди, идущие мимо, все время толкают ее. Она даже рукой в стенку уперлась, чтобы не свалили. А лицо у женщины такое безнадежное, будто попала она на теплоход ненароком и теперь не верит, что доедет до места. И тут почему-то вспомнились мне Машины слова: «Нам до всего должно быть дело».
— Гражданочка, — говорю я, — напрасно вы здесь остановились. Это самое плохое место. Перекресток. И от дизелей угарно, знойно. А вы с малышом.
— Откуда же я знала, где лучше? А теперь, конечно, все уже занято.
— Это верно. Но вы пока потерпите, я потом вас получше все же устрою.
— Ох, вот за это спасибо тебе, молодой человек! — говорит. — А я в долгу тоже никак не останусь.
Отошел от нее и только тогда сообразил, что ведь это деньги она обещала. И стало мне сразу не по себе: вот как у нас привыкли еще понимать добрые намерения!
Тут двое мужчин меня спрашивают, как им в третий класс пройти. Видать, впервые на Енисее. Похоже, с юга. Смуглые, брови широкие, черные. Не привыкли, должно быть, ездить в такой тесноте.
— Сейчас никак не получится, — говорю, — пронесло вас мимо входа в третий. Ждите, когда схлынет самый напор. Потом уж займете свои места.
Рассердились:
— Ну и беспорядки у вас! Хотя бы по радио повторяли, куда пассажирам идти.
— Насчет радио, — говорю, — я не знаю, почему оно молчит. По радио должны передавать музыку. А теснота не ради удовольствия. Судов не хватает. Край наш, стало быть, очень хороший, коли так много людей едет к нам. Станьте вот тут, а я пойду — вижу, еще какое-то происшествие.
Сцепились узлы у пассажиров и весь проход перегородили. Ну, ничего, это бывает. Развел я руки, нажал, треснуло, и снова пошло все как следует. А из глубины Вася Тетерев над головами людей рукой мне сигналит. О чем — не пойму. Пробился к нему.
— Ты почему, Барбин, не был на месте при начале посадки?
— Нет, — говорю, — я все время на месте.
Приподнял палец Вася: ладно, мол. И тут нас опять растащили.
Все-таки вскоре стало полегче. Самые нетерпеливые прохлынули, устроились. Реденькая цепочка пошла. Оборвалась и она. Потянулись уже одиночки. Так бывает летом: хватит шторм большой и вздыбит всю реку беляками. Потом враз оборвется, и волны все реже, реже, тише, ниже — и успокоятся. Только где-нибудь еще по Енисею отдельный белячок прокатится. Тоже, наверное, вроде иного пассажира — запоздавший.
Наконец дали и третий гудок, отвалили от пристани…
Люблю я, когда от Красноярска пароход вниз по течению разворот делает. Река огромная, а начнет пароход дугу выгибать, и нет места ему, как игрушечному кораблику в блюдечке. Тут понтонный мост, вверх подайся — протаранишь его. Поперек реки пойдешь далеко — в остров носом врежешься или в баржи с лесом, которые всегда под островом на якорях стоят. Там, глядишь, снизу посудина какая-нибудь поднимается, не успеешь ходу набрать — нанесет тебя боком. И от этого всегда дух немного захватывает, хотя и знаешь, что ничего не случится. Рулевые опытные. А к тому же все эти опасности только обман зрения. Как и то, что вокруг тебя бегут берега. Светлый шпиль речного вокзала, голубой дебаркадер, потом музей, как пирамида египетская, только верх срезан, потом черный понтонный мост и на нем без конца подводы, автомашины, велосипеды и люди, красные светофоры на высоких железных стойках; подальше — железнодорожный узорчатый мост и ущелье, из которого перед самым городом вырвался Енисей; и горы с Такмаком — скалой, которую приезжие сразу принимают уже за Столбы, а под горами трубы заводов — считай, не пересчитаешь; и четырехэтажные и шестиэтажные дома, и линии железной дороги, на которой всегда дымят поезда, а потом красивые крыши ангаров гидропорта и серебряные самолеты на поплавках, полосатая «колбаса» на мачте; горбатые красные краны в грузовом порту, сделанные на красноярских заводах, те самые, которые могут поднять паровоз, как котенка; потом здание электростанции, похожее больше на стеклянный утес, чем на дом; и уже в самом конце — сахарно-белые круглые баки нефтебазы, словно мороженщица повыдавила их из жестяной формочки. Вот что мы видим. А пароход все еще как бы на месте и все еще только разворот делает, дизели вхолостую работают. Ну, а как носом точно нацелится вниз, тут уже сразу команда в машинное: «Полный вперед», и за кормой во весь Енисей ляжет узорчатая зеленая волна. Тогда только успевай считать повороты.
Да. Вот и теперь — помахали пассажиры прощально платочками, поплакали и утихомирились. Каждый нашел себе место. И никто уже не ссорится. Знакомятся, мирно беседуют.
Вспомнил я про женщину с мальчиком, отвел ее к родственникам Ильи, посадил. Попросил: «Потеснитесь, граждане». Те пофыркали, но ничего — потеснились. А женщина поискала в сумочке, достала десятку, протягивает. Ожидал я, что так получится. Но и то обожгло меня: возьму — все равно что отниму. Ведь она же не капиталистка какая, а своим трудом десятку эту заработала. И, конечно, не за пять минут, Пошел я, а она вслед за мной, прямо силой в руку бумажку сует. Втолкнула и убежала. А мне тем более неловко, что на народе все происходит. Настиг я женщину у кипятильника, вернул деньги, сказал решительно: «Нет».
Начал пароход подметать: после посадки там жуть что остается. С пассажирами пересмеиваюсь. Вдруг — Илья. И, как всегда, цап меня за рукав: «На минутку одну». Зашли мы в каюту. Он: «Давай тяпнем по сто граммов. Родичи угостили». Я отказываться: вообще — я говорил уже — не очень-то люблю водку, а тем более — на вахте нахожусь. Но Илья твердит свое: «Подумаешь, сто граммов! Кто заметит? Первое свое плавание на этом корабле начинаешь. Не будь свиньей, Костя». Убедил. И даже не на сто, а на двести. Вышел я, взял снова метлу, а внимания прежнего к работе нету, руки повисли. Ну, думаю, это, наверно оттого, что я ночь сегодня не спал, так разморило. И еще: на пароходе жарища ужасная.
Бросил уборку, вышел на обнос.
Зеленые острова мимо бегут, на воде солнечные зайчики вспыхивают, и вдруг рядом с ними дождиком острые искорки — упадут и потом медленно-медленно тонут. А струйки воды так и дрожат, дрожат. Близ самого теплохода скользит вместе с ним его тень, а на ней напечатана и еще одна — от моей головы. Енисей гладкий, тихий, ни ветерка, а вода все же не зеркало, и отражение моей головы все время меняется. То вытянется огурцом, то приплюснется, как репа, и тогда огромные уши по сторонам торчат, словно их кто изнутри выдавил. Увлекся я этой мультипликацией и совсем забыл, что с вахты еще не сменился. Стою. Вдруг рядом с тенью моей головы на воде другая такая же появляется. Поднимаю глаза: девушка. Волосы русые расчесаны аккуратно, а на кончиках — тугими завитушками. Лицо больше юноше подошло бы: сильное, резкое. Даже мелконький-мелконький пушок у нее на щеках. И брови густые, но, как и у меня, от солнца побелевшие. Видать по всему, купанье, мороз и ветер любы ей. А при всем том остается и какая-то своя, тонкая девичья нежность в лице.
Не знаю с чего, а сразу кровь мне в голову бросилась. И стало неловко, что, наверно, вином от меня попахивает.
А девушка спрашивает:
— Товарищ матрос, вы давно по Енисею плаваете?
— Девятнадцатый год, — говорю.
— Ого!
Другая бы сразу решила, что тупые остроты я из себя выжимаю. А эта поверила, всерьез стала спрашивать, как можно в моем возрасте уже девятнадцать лет по реке плавать.
С этого у нас и разговор завязался. Между прочим, оказалось, что и зовут ее по-мужски — Александрой, Шурой, как раз к лицу имя. И не пассажирка на теплоходе, а служащая. Почтовый работник. Превосходная должность — в команду не входит, сама себе хозяйка.
— Хватит у матери на шее сидеть! У нее и так есть — студентка, моя старшая сестра. А я вот и государству пользу уже приношу.
Мне очень понравились эти слова. Действительно, дело не в должности, а в том, что человек поступил на работу, не болтается, ожидая сам не зная чего. И почему-то сравнил с собой: вот и я тоже давно работаю. И тоже не студент, не с государства беру, а государству даю, можно сказать, с Шурой мы из одной глины сделаны. А она помолчала и спрашивает:
— Вы, наверное, плаваете здорово?
— Да ничего. Прилично. Мне перемахнуть Енисей — пустяки.
— А я вот не пробовала. Не с кем. Одной страшно. А за лодкой неинтересно.
— Давайте вместе поплывем.
— Ох, какой скорый! Вам, поди, и по уставу это не дозволяется?
— Ну, устав! Другое дело, что стоянки у теплохода короткие, и чем севернее поплывем — тем вода холоднее.
— Ага! На Черном море компанию предлагаете?
— Зачем на Черном море? Вернемся в Красноярск…
Хороший такой разговор, веселый. Шура посмеивается, но совсем без ехидства. Положила локти на перила, бочком склонилась к воде и оттуда, как бы исподнизу, глазами сверлит меня.
— А вы скоро штурманом будете?
Вопрос неожиданный, совсем о другом. К чему она клонит? И я запнулся: как ей ответить?
Но тут появляется Вася Тетерев. Остановился по ту сторону Шуры, так что она оказалась между нами. Глядит на нее, а сам меня спрашивает:
— Барбин, куда ты опять потерялся? Безобразие!
— Не терялся я. Ну, вышел сюда на минутку одну.
— Хороша минутка! Полчаса целых ищу. И второй раз за одну вахту. Куда это годится?
Говорит Вася, будто штопор мне в сердце ввертывает.
Шура веселым глазом косит на меня.
— Тетерев, ну, я сейчас… Сейчас… — А у самого уши горят, боюсь, кепка вспыхнет.
И хотя спокойно говорит Вася, не кричит, не распекает, но представляете все же, какое это удовольствие, когда при девушке тебя, пусть самым вежливым тоном, нарушителем дисциплины называют? Ясно: у Шуры такой портрет с меня теперь в памяти надолго останется. Попробуй потом переписать его другой краской! Первое впечатление — самое сильное. И действительно, вижу: снимает Шура локти с перил и отодвигается назад, к стенке. Меня это прямо в сердце ударило. Шагнул я к Тетереву и… как-то сильно дохнул на него. Он, конечно, сразу же уловил, в руку кашлянул:
— Вот оно что! Ну, тогда, Барбин, пойдем объясняться.
И повел меня за собой, как мальчишку. Бывало, так вот и Леньку с улицы я домой уводил, если он там чего набедит. Шура глазами проводила. Только рот, конечно, не разинула. Даже, наоборот, плотнее губы сжала. Хорошо познакомились!
Объяснение с боцманом было короткое. Не понимаю, для чего он меня в каюту к себе уводил? Только сказать:
— Чтобы этого, Барбин, больше не было. Я думаю, ты этого больше себе не позволишь? Нельзя допускать такие вещи. Следовало об этом сообщить капитану. Я обязан был это сделать. Я бы мог это сделать. И на обсуждение в комсомольской организации мог бы вынести. Вот видишь, не надо до этого доводить.
Отпустил он меня. Какой-то дряблый был разговор. А все-таки сердце у меня будто в уксусе вымочили. Иду, и горькая-горькая обида берет на Васю Тетерева. Зачем он это при девушке начал? И вдруг мне подумалось: «А так тебе и надо! Почему тебе перед Шурой героем хотелось быть? Чтобы Маше отплатить за Столбы? А ты вот пойди лучше к ней и запросто, как прежде, как товарищ, поговори, расскажи, как ты свою навигацию на «Родине» начал».
Взял я швабру и пошел на верхнюю палубу. Маша, конечно, проснулась давно, пожалуй, сидит уже не в каюте, а в радиорубке. Вон у нее сколько своих помещений! И мне стало весело, когда я прикинул в уме, какой получится у меня забавный рассказ про выговор Васи Тетерева.
Еще издали я увидел спущенные желтые жалюзи на окошке Машиной каюты, а рядом, в радиорубке, — треплющуюся от ветра синюю репсовую занавеску. Значит, на работе. Ну, ничего, не помешаю. Не без перерыва же Маша ключом стучит. И сам я не знаю, для чего раскудлатил свой чуб, а черенок швабры прижал к боку.
Но когда я подошел ближе, я вдруг увидел в окне Леонида и уже за ним, в глубине, Машу. Леонид хохотал во все горло, и золотой зуб у него горел на солнце, пыхал огнем, как у дракона.
И тогда я размотал пожарный шланг, открыл кран на всю силу, ударил в палубу такой тугой струей, что брызги полетели вдоль всего теплохода и мокрые пассажиры, как овцы, побежали на другой борт. А я схватил швабру, давай крутить ею по палубе перед самой радиорубкой и захохотал так, как не хватило бы голосу и у десяти Леонидов.
Глава пятая Как я перестал смеяться
Бывает или нет с вами так: скажем, шлепнется на скользком тротуаре человек, а вы захохочете? Со мной так бывает. И понимаешь, больно ему, а все-таки смеешься. Почему? Потому что в таких случаях героически и красиво человек не падает, всегда это у него получается по-дурацки.
Когда я увидел в окне Леонида, мне стало смешно. Я смеялся не над ним, а над собой. Картина! Он сидит на мягком диване, выбритый, надушенный, в шелковой тонкой сорочке, а я в полосатой тельняшке, с раскудлаченным чубом и со шваброй, прижатой к боку, иду разговаривать с Машей. Иду под окно радиорубки, потому что нельзя же мне с мокрой шваброй ввалиться туда, где сплошь сияют линкруст, полировка и никель! А главное, что даже для разговора под окном и то я опоздал. Вроде бежал зимой по гололедице, торопился сесть на автобус, и вдруг у самой остановки — р-раз! — поскользнулся, упал, дрыгнул ножками, шапка с головы — под колеса, а машина пошла, вытолкнув назад мой набитый снегом и грязью треух. Смешно? По-моему, да.
Вот примерно с такого ощущения и тряхнул меня первый смех. Ну, а потом, когда нечаянно пассажиров из шланга я водой окатил, тут, конечно, и никто бы не вытерпел.
Как тогда отозвались на мой хохот Маша и Леонид и что вообще делал я до конца вахты — не помню. Случается, знаете, что так вот либо глаза, либо уши, либо всю память сразу заложит. И кончено.
Ну, а дальше — сменился я. Илья спит, разметался на постели прямо в брюках, в куртке, даже ботинки не снял. Полез и я на свою койку, улегся. Под свежей простыней босым ногам — отрада. Но тут заходит матрос. Высокий, малость горбатый, а шея с таким выгибом, что кажется, парень этот пятки свои разглядывает. Позже-то я разобрался: смотрит он не вниз и не назад, а куда полагается, только из-за этого самого выгиба шеи взгляд у него получается исподлобья. Постоял, помолчал, спрашивает:
— Стало быть, это ты Костя Барбин? Новый матрос?
— Да, Барбин, — говорю. — А матрос я не новый. Не первую навигацию плаваю. Вообще всю жизнь свою плаваю.
— Ну, я не отдел кадров. Мне твоя биография ни к чему. А на «Родине» ты новый матрос. Точность я люблю. Для ясности. Моя фамилия Фигурнов. Можешь Петей, Петром звать. А на Петьку не откликаюсь. Тоже для ясности.
— Пожалуйста! Этого я и сам не люблю. Не мальчишки уже.
Дело тут не в возрасте, а в характере.
Уселся Фигурнов на койку, винтом ко мне исподнизу шею вывернул.
— Есть у нас матрос Мухин. Видел, может быть, — тонкий, длинный? Так его у нас прозвали «Длинномухиным». Терпит, улыбается. Или вот верхний сосед мой — Марк Тумаркин. Этот даже любит, когда его наоборот, — Тумарком Маркиным называют. Это ты тоже для ясности имей в виду. А теперь расскажи, чего ты успел уже нашкодить?
Понимаете: опять по тому же самому месту.
— Знаешь, Фигурнов, Петя, Петр, — говорю ему, — учти тоже для ясности: с боцманом я уже объяснился, а два раза рассказывать об одном скучно.
— Правильно, матрос Барбин! Только о твоих подвигах и в рубке уже был разговор.
Приподнялся я на локте.
— Какой разговор? У кого с кем?
— Скучно рассказывать, матрос Барбин.
— Ишь ты, запомнил, — говорю. — Заноза. Петя, Петр, матрос Фигурнов.
— Да, запомнил. Характер такой. Для ясности.
Скинул он ботинки, одежду, лег к стене лицом и — точка, больше ни звука, дескать, прочно обиделся.
А с меня и сон долой. Вот как: до большого начальства дело дошло! В самый первый день матрос Барбин уже отличился. Э-эх! А Вася Тетерев тоже хорош. Пообещал не докладывать капитану, а сам доложил. Втихомолку. Сказать мне об этом в открытую смелости у него не хватило. И чем больше я думал, тем черней и позорней казался поступок Тетерева. А своя вина казалась очень маленькой, а немного погодя — даже никакой. И когда мне стало окончательно ясно, что Вася Тетерев очернил перед капитаном хорошего матроса совсем незаслуженно, я не только что спать — лежать спокойно не мог. Надо было хоть с кем-нибудь сейчас же разделить бурлящий кипяток, которым я был налит теперь уже до самой пробки.
Только к кому пойти? С кем поделиться? Так, чтобы душа в душу. Вот ведь штука-то! И много людей, а не с кем. Незнакомые…
Илью разбудить? Выпить еще раз с ним можно. Это с ним всегда можно. А по душам не поговоришь. Нет ее у Ильи, вместо души — бутылка.
Растормошить Петю, Петра Фигурнова? Нельзя! Прежде чем с ним откровенничать, надо характер его разгадать. Как он сам заявил, «для ясности».
Отыскать Васю Тетерева? Это все равно, что посылать жалобу тому, на кого жалуешься.
Маша? Вот Маша, конечно… Эх, если бы не Леонид! Только припомнишь, как у него на солнце золотой зуб горел, когда он в радиорубке хохотал во все горло, — дрожь берет. Он огнем этого зуба и Машу для меня словно спалил. Нет никого. Нету…
И горько-горько вдруг подумалось мне: да неужели я вовсе один? Не может быть, чтобы один! Ну, а кто? Кто? И тут, как спасательный круг, всплыла в памяти Шура, наш утренний, короткий совсем разговор. Короткий, а какой-то хороший, простой и веселый. Если не к ней, тогда действительно уже не к кому.
Шура меня встретила, точно давно ждала. У нее тоже своя каюта, как у Маши, только попроще, без линкруста и никеля, с круглым иллюминатором, и не на верхней, а на нижней палубе. Вся почта у нее при себе, каюта до потолка посылками завалена, только и осталось свободного места — койка, один стул и столик, на котором с локтями даже руки не помещаются, такой он узенький. Но, между прочим, поставить на него угощенье местечко сыскалось. И угощенье, прямо сказать, превосходное.
Сразу потек и разговор, опять легко, свободно, и я только подыскивал такие в нем повороты, чтобы всю свою накипевшую горечь изобразить посмешнее. Сами понимаете, кому приятно выставлять себя перед девушкой нытиком! А когда ты смеешься, подтруниваешь над собственной печалью, к тебе сочувствия всегда больше. Видно каждому — ты мужественный человек. И я хохотал как только мог.
Вдруг Шура перебивает меня:
— Костя, а на вахте тоже так дико вы хохотали это оттого, что пассажиров из шланга холодной водой облили?
Попробуйте ответить на это, чистую правду сказать, когда я по-настоящему, может, только сейчас понял ее.
— Ну, ясно, — говорю, — от этого. Видали бы вы, как они сыпанули по палубе!
Сам все смеюсь, хохочу. Улыбается и Шура.
— Знаете, Костя, мне гоже припомнился случай один. Просто комедия с Чарли Чаплиным. Была прошлый год я в доме отдыха. Ну, сидим в столовой. Как водится, все принаряженные. С нами за столом старичок один. Розовый, лысенький, в белом чесучовом костюме, любитель с девушками в фантики поиграть. Поэтому карманы у него вечно оттопыренные, набиты всякой всячиной. А сам ужасно вежливый: если подходит дама, обязательно встает. И тут несет официантка на плече большущий фанерный поднос, а на нем — тарелок двадцать с котлетами. Проходит эта девушка мимо нашего стола так, что угол подноса оказывается как раз над головой старичка. А в это время с другой стороны к нему приближается знакомая женщина. Он встает, плешинкой исподнизу — стук! — в самый поднос, и все оттуда, понимаете, летит кувырком на наши нарядные платья, и конечно, тоже на чесучовый костюм старичка. Стоит он, бедный, выгребает из карманов пиджака мокрые котлеты, гарнир, кладет куда попало на скатерть, а сам спрашивает: «Это чья порция, товарищи?» Мне все волосы залепило зеленым горошком, а соус по шее потек куда-то туда… Правда, было очень смешно?
Хоть бы что-нибудь выговорить ей в ответ. Ничего не могу. Просто задыхаюсь от хохота, как представлю себе старичка с котлетами в кармане, зеленый горошек у Шуры на голове и соус, который по шее за платье течет.
— Ужасно смешно, — говорит Шура снова. — И я вас хорошо понимаю, Костя, почему вы так дико утром на вахте смеялись. Старичок-то ведь случайно опрокинул котлеты, а вы нарочно окатили пассажиров водой. Эго всегда смешнее, когда нарочно.
Улыбается, конфетку протягивает. Но улыбка у нее сделалась сразу какая-то страшно холодная, как у японского дипломата барона Танаки — видел я в старой газете. И я чувствую, что теперь, в этот раз, мне уже ни за какие конфетки не рассказать до конца того, с чем я сюда пришел. Будто держал я у себя на ладони мягкого золотистого мотылька, а он вдруг полосатой осой обернулся. И пока оса не ужалила, хочется ее поскорее стряхнуть. Я «Ха! Ха-ха!» — и стих.
— Пора, — говорю, — до дому. Что-то очень долго я у вас засиделся. Пока!
Подала мне руку Шура, я пожал, отпустил, а она мою держит.
— Костя, вы почаще ко мне заходите. Скучно, ужасно скучно одной. После обеда снова зайдете?
— Нет, не приду. После обеда Казачинский порог будет.
— Ох! Давайте вместе смотреть! Вы объяснять мне станете. Хорошо?
Танака с лица у нее исчез совершенно, опять глядит прежняя милая девушка и отпускать от себя не хочет.
Шагаю куда-то, об этом думаю и не заметил, как на обносе я оказался, на том самом месте, где первый раз с Шурой встретился. Стал я у перил, локти на них положил, наклонился, разглядываю на воде тень от своей головы, сплюснутую, как репа, с большими ушами и всю в огненных искорках. Вдруг, совсем как тогда, рядом с моей тенью тоже появляется тень другой головы, «Шура!» Поднимаю глаза… Нет, Вася Тетерев.
Ух, и злость же во мне забурлила! Ага, сам подошел… Ну, так, хотя ты и боцман, начальство, я тебе сейчас все в глаза вылеплю, всю свою обиду. Но Вася успел начать прежде:
— Куда ты все теряешься, Барбин? Едва нашел тебя. Я должен, Барбин, поговорить с тобой серьезно. Ты опять допустил нехороший проступок: облил пассажиров водой. Это очень нехорошо, Барбин. Это из ряда вон. Я должен был еще о первом твоем проступке доложить капитану. Я этого не сделал. Я думал, что ты поймешь. Я все еще думаю, что ты поймешь. А что я теперь должен делать? Ведь это уже подряд второй твой проступок! Я не хочу докладывать Ивану Демьянычу. Мне тяжело об этом докладывать Ивану Демьянычу. Я думаю, Барбин, ты все же поймешь…
И видно мне даже сквозь дымчатые Васины очки, какое опять у него в глазах страдание. И ясно, что капитану, конечно, он ничего не докладывал, мучился с этим делом куда больше, чем я. И оттого, что я так ошибся в злых своих думах о Тетереве, и оттого еще, что Вася, затрудняясь, какие выбрать ему слова, необидные для меня, но убедительные, стал попеременке часто кашлять то в одну, то в другую ладонь, — меня снова взорвало смехом.
— Все понял я, Тетерев, — говорю, — и самое главное понял, что ты парень очень хороший.
— Да нет, ты мне-то не льсти. Ты для себя сделай выводы. Правильно все это пойми, Я очень хочу, чтобы ты понял и сделал правильные выводы.
— Сделаю, Тетерев. Обязательно сделаю. Слово тебе даю: теперь я всякое дело буду начинать не с начала, а с выводов.
Пошел я от него и все смеялся, смеялся. Но вдруг, как крапивой, что-то меня обожгло, и смех оборвался. Как я облил пассажиров водой, похоже, до капитана еще не дошло. Что будет, если и это дойдет? И еще — самое главное. Если не Вася рассказал капитану, что я на вахте пьяным был, так кто же тогда это сделал? Из матросов я никому на глаза не попадался, пассажирам до этой истории с водой вреда не причинил. Знали, что был я на вахте нетрезвый, как будто бы только четверо: я сам, Илья Шахворостов, Вася Тетерев и Шура…
Глава шестая Казачинский порог
У нас все спали. Илья, как был, в ботинках подкатился к самому краю постели, и руки у него свесились прямо до полу. Фигурнов лежал, уткнувшись головой в угол как-то так, что на подушке осталась только длинная шея. Сразу даже и не поймешь, не поверишь, что это шея, скорее — рукав дубленого полушубка. А на верхней койке, над Фигурновым, стало быть, против моей койки, теперь тоже спал матрос. Вы, конечно, уже смекнули — Тумарк Маркин.
К нашей обстановке он явно не подходил. Взять бы его вместе с постелью и перенести в пионерский лагерь, да не в простой, а в образцово-показательный. Личико у Тумарка было вовсе детское, с коротким, острым носиком и с черной челочкой. Спал он на спине, точненько посредине койки, и вытянув руки по швам. Поверх одеяла в ногах у него лежали аккуратненько свернутые брюки, куртка с надраенными пуговицами и форменная фуражка. Казалось бы, все это легко перемесить ногами — и я обязательно перемесил бы, — но, во-первых, видимо, Тумарк во сне не брыкался, а во-вторых, для этого и ноги у него были очень короткие.
Мне спать уже не хотелось. Но бывает, знаете, такое состояние, когда просто места себе не найдешь, слоняешься из угла в угол. Так вот ждешь поезда на вокзале, когда он опаздывает, а в справочном бюро девушки огрызаются, не говорят, будут ли в продаже билеты. Так ждешь на экзаменах в школе, когда тебя вызовут, и прикидываешь — двойки все уже израсходованы или остались еще и на твою долю. Так зимой дома после работы слоняешься, когда Ленька в булочную уйдет, и ты соображаешь — хлебать ли щи без хлеба или ждать, пока он с друзьями своими в снежки наиграется. Но в этих всех случаях ясно знаешь причину, почему ты томишься. А тут? Большой причины вроде нет никакой. Во всяком случае, разгадать ее невозможно. Кажется, сосет сердце просто разная мелочишка: и то, что действительно дважды нашкодил я, и то, что капитану об одной истории, выходит, уже стало известно, и то, что не могу я угадать, кто же все-таки насплетничал капитану. И даже то, как мы поговорили с Петей, Петром Фигурновым и как мне улыбнулся Танака.
А теплоход плывет да плывет, и перед иллюминатором у меня бежит все одна и та же длинная кудрявая волна. Перечерчивает наискось весь Енисей и у берега вскипает пенистым прибоем.
Тут река стала малость поуже. С обеих сторон горы сбежались. Где-то там впереди и совсем запереть ей выход хотели, да не смогли: прорубился Енисей через скалы, спрыгнул вниз. Вот и получился порог Казачинский.
Гляжу на волну, соображаю: вправо, влево будет еще поворот, а там и село Залив, последнее перед порогом. Вовсе немного осталось. Позвать мне или не позвать Шуру? Обещался…
Стук в дверь. И сердце у меня сразу, как льдинка, холодком куда-то вниз побежало: сама пришла, не дождалась. Открываю дверь — Маша. И у меня внутри, у сердца обратное движение. Не только на прежнее место вернулось оно, но даже выше еще поднялось, так, что перехватило дыхание. Понимаете, в мыслях сразу какая замена. А Маша как ни в чем не бывало:
— Костя, что же ты в гости меня не зовешь?
Это у меня получилось само:
— Потому и не зову, что к Косте в гости.
— Не поняла, — говорит Маша.
— А понимать и нечего. Просто рифмочка красивая.
— Совсем как-то странно, Костя, ты со мной разговариваешь. — Пожала плечами, моргнула ресницами, словно что к ним прилипло.
Мне стало жаль Машу, потому что в глазах у нее заметил я большую обиду, наверно такую же, какая была у меня, когда я в первый раз услышал про Леонида. И я заговорил по-другому, так, как раньше мы с ней разговаривали. Позвал на верхнюю палубу вместе полюбоваться на Казачинский порог.
Потихоньку подымаемся по внутренней лестнице. Вдруг Маша остановилась.
— Костя, а как-то неладно у вас в каюте. Очень мне не понравилось.
Конечно! Поперек подушки — без головы и без плеч, жилистая шея Фигурнова. Илья поверх одеяла в грязных ботинках лежит, и руки у него пол подметают. А по всей каюте отработанной водочкой пахнет. Даже открытый иллюминатор не помогает. Чему тут понравиться!
— Не знаю, — говорю, — может, что и неладно. Не успел еще разобраться.
— Пьет Шахворостов. Ты бы, Костя, поговорил с ним. Как товарищ.
Хмыкнул я недоверчиво.
— Перевоспитать его должен, что ли?
А Маша серьезно:
— Вообще-то, Костя, мне слово «перевоспитать» тоже не нравится. Очень уж стало оно заезженное, даже выговаривают его теперь с какой-то усмешечкой. Наверно, пора бы другим словом его заменить. Каким — не знаю. Сам поищи. Но нельзя же, Костя, тебе равнодушным быть к Шахворостову! Человек постепенно может вовсе испортиться. А разве тебе до этого дела нет?
Мне припомнился снова наш спор на Столбах.
— Ага! Как до Лепцова?
— Что? До какого Лепцова? А-а! Да, как до Лепцова. И даже больше, ведь Шахворостов — издавна товарищ твой.
— Не отказываюсь: товарищ он, конечно, товарищ. Но отвечать должен все-таки каждый сам за себя. Ты, Маша, его на меня не навешивай. Для меня он шибко тяжелый.
Засмеялся я, засмеялась и Маша, потому что, если прямо понимать, на меня и трех таких можно свободно навесить — унесу, не согнусь. Ну, а если, как говорится, в переносном смысле, — это значило, что я себя характером слабее Ильи считаю. Словом, так и так получалось смешно, потому что любое мало походило на правду. Но Маша спорить не стала, уклончиво как-то повела плечами, кинула быстрый взгляд на меня и замолчала. А я вдруг подумал: только ли о Шахворостове этот был разговор?
На палубе народ стоял уже стена стеной. Протиснуться вперед, к перилам, никак невозможно, и Маша спросила:
— Костя, не лучше ли нам подняться на капитанский у мостик?
Вы, наверно, знаете сами — пассажирам туда вход воспрещен. А из команды, по надобности, пожалуйста, всякий заходи. Тем более на Казачинский порог посмотреть. Но я отказался пойти на мостик. Сказал:
— Интереснее здесь послушать, что будет о пороге народ говорить. Многие по Енисею едут впервые.
А на самом деле боялся я, не хотел лезть на глаза капитану, пока он сам не вызовет. И еще: знал я твердо, что на мостике будет стоять Леонид.
«Родина» в это время проплывала как раз мимо Залива. Теплоход дал три длинных гудка, и пассажиры стали спрашивать друг друга, что это значит, и смотреть на полосатый столб, на котором висели деревянный черный цилиндр и ярко-красный треугольник, а на соседнем столбе — набор из шаров и квадратиков и еще — косой черный крест. Некоторые женщины очень встревожились, потому что и черный и красный цвета всегда как-то пугают пассажиров, особенно на железной дороге. А крест понятен всякому только так: остановись сию же минуту, не то погибнешь.
И как же было не объяснить:
— Гражданочки, не тревожьтесь! Полосатый столб — семафор. Черный цилиндр вверху, а красный конус внизу означают, что порог открыт для прохода судов только сверху. То есть для нас. Если же и снизу какой-нибудь пароход к порогу сейчас приближается, тому — погоди, в узком горле двоим не разминуться. Набор из квадратиков и шаров показывает глубину переката в самом мелком месте, а крест — спокойно вали через порог на судне любой осадки, хватит воды! Ну, три гудка, это проще простого — берегу сигнал подан: видим, поняли, идем не останавливаясь.
Хотел я тут же объяснить женщинам еще и относительно бакенов и вех — как понимать эти речные знаки, — вдруг за спиной у меня голос. Вроде бы чуточку ленивый, небрежный, но, между прочим, прожигающий до костей.
— Константин, кажется, публичную лекцию читает?
Если бы я не написал, чей это голос, вы все равно, наверно бы, поняли. И меня тогда интересует: вот вы на эти слова как ответили бы? Я ответил Леониду совсем по секрету, на ушко, но такое, что его черные усики задергались, как у таракана. Однако вслух он все же сказал:
— Неоригинально. — Взял Машу под руку. — Пойдемте на мостик, оттуда будет виднее. Константин, прошу составить компанию.
И Маша прибавила:
— Пойдем, Костя.
Опять не знаю, как поступили бы вы, но я не пошел за ними, гордо остался на палубе. Грубить даже больше не стал Леониду. Наоборот, прищурился весело:
— Нет, я тут лекцию дочитать должен.
Кто-то из женщин действительно стал просить: «Матросик, а ты расскажи нам еще про то…» И я им рассказывал и «про то и про это». Складно рассказывал. Во всяком случае, слушали меня со вниманием, вроде маленькой толпы вокруг меня собралось. А это всегда еще разжигает рассказчика, особенно когда ему забить, заглушить в себе досаду какую-то хочется.
Сперва про бакены разъяснил: стоит белый бакен — не ходи ближе его к левому берегу, стоит красный — не ходи ближе бакена к правому берегу. Потом про створы:
— Видите, гражданочки, на берегах белые щиты с черной полоской посередине? Стоят по два — один немного позади и повыше другого. Когда пароходу следует перевалить по фарватеру, допустим, от правого берега к левому или от левого к правому, рулевой держит так, чтобы черные полосы на этих створах — щитах — сошлись как раз в одну линию. Тогда прямо по ней и гони свое судно, пока новые створы другое направление тебе не покажут. Ясно?
Увлекся я. А течение быстрое, утесы перед глазами так и мелькают. Река сузилась еще больше. Горы — все круче, выше, заросли сплошь густой зеленой тайгой. Косые волны от кормы тянут за собой буруны теперь уже по обоим берегам. Шумят они, скачут по гальке, трясут таловые кустики, смывают обратно в реку выброшенные половодьем бревна. Загудит теплоход, и гулкое эхо долго катится по горам, дробится в ущельях. Вовсе затихнет, а потом вдруг опять отзовется.
Новички на Енисее здесь обязательно ахают:
— Какая могучая природа!
А ты себе потихоньку над ними посмеиваешься: «Погодите, что будет дальше, когда мимо устья Ангары, мимо Корабликов мы поплывем!»
Но вообще-то, скажу я вам, и здесь место красоты действительно самой редкой. Про такую красоту в народе правильно говорят: «Ни в сказке сказать, ни пером описать». Я тоже так считаю — посмотреть своими глазами нужно. Только имейте в виду: посмотрит приезжий один раз на наш Енисей, и — кончено! — присосет, присушит он его навеки. Это уже проверено. Пробовали присушенные им, уезжали и в Москву, в Киев, на озеро Селигер и на Черное море, в самые кипарисы, виноградники и пальмовые рощи, а потом все равно возвращались обратно. Потому что, помимо красоты, Енисей в себе еще силу огромную имеет. И эта сила, не знаю уж каким путем, а в человека частицей своей тоже вливается, делает и его таким же могучим. Вот и хочется каждому плечи свои развернуть, вот и едут люди на Енисей поэтому.
Все меня слушают, притихли. Вдруг открылся порог впереди.
— Вот он, товарищи!
А у кого-то еще и сомнение:
— Где? Не вижу. Река как река.
Ясно: река, а не степь! Но только прежде была она зеркалом, а сейчас впереди нас на этой глади словно бы комочки снега забелели. Всплывают и тонут, всплывают и тонут. А комочки-то — пена на гребнях валов, да таких валов, что дохленький там катер или маленькую баржонку, повернись они чуточку боком, сейчас же вверх дном перевернет. И любой, и самый крепкий пароход, между прочим, в Казачинском пороге тоже поскрипывает.
Енисей здесь немного вроде бы и раздался, но ширина эта обманчивая. К правому берегу частые камни. Пены в них кипит больше всего. Туда угоди пароход — сядет на мель прежде еще, чем до страшной этой кипени доберется. Ближе к средине реки остров. Впереди него черные глыбы таращатся из воды. Вот тут дело может сложиться и похуже. Течение сильное, тащит прямо на глыбы. От них вода круто падает влево. А там как раз «ходовая», фарватер. И оттого, что там, на самом перепаде, сшибаются две такие силы, представляете, какая высокая и тугая вздымается кверху волна! Мало того. Не успеет вся эта штука куда-то свалиться, перед ней встает «бык», утес, каменная стена, И тогда река бросается вправо, значит, снова волна на волну нахлестывается. Вот на маленьком судне и разберись, какая из них злее всего может в борта поддать, когда все волны, по сути, здесь боковые.
— Однажды был случай такой, — рассказываю пассажирам, — заклинились у парохода рули над самым порогом. Ни раньше, ни позже. Ну, с ходу, по прямой, он и влетел как раз на срединные камни. Будто торпедой весь корпус его разворотило. Вода хлынула в трюм. И хорошо еще, что зацепился он на камнях, не сорвало его и не вынесло дальше. А то быть бы ему в самой пучине на дне. Вот он какой, наш Енисей, и какой этот порог Казачинский!
Тут сразу заговорили с разных сторон:
— Да-а, оказывается, и верно, не шутка.
— Днепровские тоже сильные были пороги.
— Куда днепровским! Енисей-то сам в десять раз посильнее Днепра.
— Не в десять, а в двадцать.
А я разошелся вовсю, продолжаю:
— Снизу, против течения, здесь ведь редкое судно своим ходом может подняться. Дойдет до «слива», где вода круче всего падает, и будет на месте ворочать винтами хоть всю навигацию, пока туер не вытащит. А туер — это пароход, только на привязи, на толстом стальном канате. Один конец троса выше порога заделан, ко дну Енисея прикован, на самой средине реки, а другой конец прикреплен к лебедке на туере. Лебедка работает, трос на барабан наматывается, и туер, хочешь не хочешь, тоже подтягивается. Ну, ясно, и слабосильное судно на буксире за собой тащит. Вот как у нас! Но «Родина», товарищи, между прочим, своим ходом подымается через порог. По вершку, по вершку, а выходит. Э-эх, и люблю же я это местечко!
А справа и слева уже кипят буруны в камнях. Видно, как на повороте реки ходят, сшибаются тяжелые зеленые волны. Красота и жуть!
Вот если в легкой лодочке сюда угодить или просто вплавь человеку… Прикинул в уме: я, например, выплыву?
Волны шумят за бортом. Как-то неровно стали работать винты: то словно бы замрут вовсе, то вдруг забьются в частой дрожи.
Слышу, как раз говорят:
— Упади здесь с парохода человек — и поминай как звали.
— Куды тут? Захлестнет волной.
— Либо об камни.
— Сразу на дно. И пузырей не увидишь.
Сам не знаю, что дернуло меня за язык.
— Ничего не на дно, — говорю. — Кто как, а я выплыву.
И, вместо того чтобы любоваться порогом, завязался между мной и пассажирами глупый спор. Глупый потому, что доказать правоту свою все равно я не мог. Не прыгнешь ведь в воду! Так и так тогда матросу конец. Утонешь. А и выплывешь — сразу же спишут тебя с корабля.
Но отступать от своих слов мне тоже никак не хотелось. Понимаете: самолюбие. Азарт захватил. И к этому мелькала тонкая, тайная мысль, дразнила меня еще больше: пусть с мостика Маша с Леонидом поглядят, как я саженками начну по волнам отмахивать.
Не знаю, прыгнул бы я в порог или нет. Наверно, все-таки не прыгнул бы. Но воротник на рубашке для чего-то расстегнул.
И тут увидел Шуру — с горящим от восторга, прямо пылающим взглядом. Кольнуло в сердце меня: обманул, не зашел за ней. Получилось — пренебрег. А она не обиделась.
И я рванул пряжку ремня. Другой рукой схватился за железную стойку тента. Зачем? Кто его знает! Но сверху мне крикнули в рупор:
— Барбин, к капитану!
Глава седьмая Наш капитан
О нем нельзя не рассказать. Во-первых, потому, что капитан первое лицо на любом корабле, а во-вторых, чтобы вы знали сразу, почему я так боялся своего капитана.
Конечно, была у него и фамилия. Только по фамилии писался он, может быть, в ведомостях на зарплату да еще в указах правительства, когда его орденами награждали. А так, среди речников на всем Енисее, он не иначе — Иван Демьяныч. И нет такого у нас человека, который не слыхал бы про Ивана Демьяныча.
Описывать его биографию я не стану. Да никто ее, кроме отдела кадров, пожалуй, в точности и не знает. А в народе вокруг нашего капитана помаленьку складываются легенды. Не такие, как о Чапаеве, — военных подвигов у Ивана Демьяныча не было, — складываются легенды про его капитанскую сметливость, удивительное знание реки и еще про особенную справедливость и строгость. Такое рассказывают, что, бывает, и не поймешь, где правда чистая, а где и крепко подкрашенная.
Что Ивану Демьянычу нет еще и шестидесяти лет, а исплавал он по Енисею около двух миллионов километров, сделал по меньшей мере пятьсот рейсов на север, — это, думаю, чистая правда. А вот что Иван Демьяныч может без бакенов ночью в самое злое мелководье плыть и что в тумане все глубины реки, отмели и берега он как-то кожей чувствует, — это, пожалуй, прикрашено. Хотя и верно, что аварий у Ивана Демьяныча, при его вахте, ни разу еще не было.
Что первым на хлипком купеческом пароходике, на дровах, Иван Демьяныч в самые низовья Енисея ходил, даже в Карское море за остров Диксон, — верю, чистая правда. А что тогда еще он показал, где быть городам Игарке и Дудинке — это, конечно, прибавили. Никто таким пророком по тем временам быть не мог. Зачем все одному человеку приписывать?
Что Иван Демьяныч кричать на матросов не любил, а ругаться тройным морским не умел вовсе, — факт. Но что зря он никого не наказывал, — трудно верится. Всякий человек обязательно ошибается. Будь Иван Демьяныч хоть какой принципиальности, все равно он не рентгеновский аппарат, да еще такой, чтобы душу человеческую насквозь просвечивать. По-моему, и от нашего капитана доставалось кой-кому на орехи совсем ни за что. А такая уж сложилась слава за ним. Жаловаться и не пробуй. Сам начальник пароходства никогда не отменит его решения. Только посмеется: «Ага! Всыпал, говоришь, Иван Демьяныч? Значит, справедливо. Хочешь, могу еще прибавить? А меньше — ни-ни».
Теперь представляете, с какой думой всегда идет на вызов нашего капитана матрос, который по поговорке: «знает кошка, чье мясо съела»?
А выглядел вообще-то Иван Демьяныч вовсе не страшным.
У других капитанов бывают брови нахмуренные, кустоватые, или морщины у рта глубокие, резкие, или голос скрипучий, въедливый, от которого у тебя, как от гвоздя по стеклу, мурашками челюсти сводит. У Ивана Демьяныча в лице все было самое обыкновенное. Ходил среди речников такой разговор. Заказали его портрет для музея. Поглядели на капитана художники и давай отказываться. Застонали все: «Не написать! Понимаете: не за что ухватиться. Нос бы длинный или губы толстые! Хоть какую-нибудь особую примету имел бы он!» Правда, один художник нашел-таки родинку на правой щеке. А закончил портрет, сдал в музей — родинка у Ивана Демьяныча исчезла. Оказывается, он прыщик во время бритья срезал. Прыщик исчез, а «родинка» на портрете осталась.
К его годам и располнеть было бы можно. Во всяком случае, не грех носить воротничок, к примеру, номер сорок три. Но у Ивана Демьяныча шея всю жизнь была точно тридцать восьмого размера, и это при росте сто семьдесят четыре сантиметра. Откуда я знаю? Да об этом весь наш речной флот знает!
Непонятно, что делал со своими брюками Иван Демьяныч. Они выцветали, старели, а не мялись. И складочки на них держались острые и тонкие, как от портного. Может, он сам утюжил их каждый день или на ночь клал под матрас — не знаю, но в судовую прачечную гладить брюки свои капитан ни разу не отдавал. Это тоже всем известно.
Погоды для него никакой не существовало: ни зноя, ни холода. На плечах у Ивана Демьяныча постоянно: в каюте китель, на вахте — дождевик. Июльская жара в сорок градусов или свирепый северный ветер с мокрым снегом в конце октября — все едино — китель либо дождевик.
К этому можно прибавить только то что водки Иван Демьяныч в рот не брал, но пивко потягивал, если оно не бочечное, а бутылочное.
Вот при такой обстановке и подымаюсь я на мостик. Судно подрагивает, скрипит, а у меня чувство такое, словно что-то внутри меня скрипит.
Вошел в рубку, Иван Демьяныч стоит, глаз с реки не сводит, а пальцем рулевому все время делает знаки: «Туда чуть-чуть, сюда чуть-чуть…» Тут же и оба штурмана. Вася Тетерев. А снаружи рубки — Маша с Леонидом. Но как раз у окна. У Леонида в руке капитанский бинокль. А на лице напечатано: я на «Родине» такой же хозяин, как и мой отец. И еще вроде бы другой оттеночек: «Подумаешь, порог, волны… Хаживали мы в открытом океане не по таким волнам!»
И хотя весь Енисей впереди словно бы плавился от солнечных лучей, а в открытое окно рубки втекал теплый душистый воздух с тоненькой пыльцой цветущей сосны — мне было как-то зябко оттого, что придется разговаривать с Иваном Демьянычем как виноватому. Слушать нас будут все. Маша, наверно, потупится, а Леонид станет подкручивать свои черные усики. Эх, побывать бы хоть раз на его крейсере в такой момент, когда командир ему делает выговор! Вот уж покрутил бы тогда свой чуб и я! На речных пароходах не тянутся перед капитаном. Вошел в рубку — и все. Но я нарочно развернулся по полной форме, как не развернуться иному моряку. Знай наших!
— Разрешите обратиться, товарищ капитан, — говорю. — Матрос Барбин явился по вашему вызову.
Иван Демьяныч глянул мельком:
— Рубашку застегни.
Действительно, совсем забыл я, что ворот у меня нараспашку. Вот так развернулся перед капитаном!
Поправил пуговицы. Стою. И чувствую: ядовитая струйка пота ползет у меня под рубашкой по самому желобку. И тут припомнился мне по какой-то схожести Шурин рассказ про котлеты с соусом. Не знаю, случается ли с вами, когда вы в самую страшную минуту засмеяться можете? Со мной случается. Помню, мальчишка еще — драла меня мать ремнем. Больно! Орал я тогда на честное слово, из души рвался крик. Но вот размахнулась мать один раз как-то неловко, сама себя ремнем щелкнула, тихонечко ойкнула. И представьте, сколько потом она ни лепила мне в самые растревоженные места, я уже хохотал, как от легкой щекотки. Вот и сейчас накатился такой смех. Давлю его, а он все равно из меня прыскает.
Иван Демьяныч рубку глазами обвел, проверил каждого человека. Пальцем почесал подбородок. Спрашивает:
— Стало быть, очень смешно?
— Очень смешно, — говорю.
— Чего же тебе смешно?
— Не знаю, Иван Демьяныч.
— Н-да…
И замолчал. Тишина. Только слышно, По обеим сторонам теплохода рушатся волны. Самое горло порога проходим. У берега туер «Ангара» стоит, дымок над трубой у него курится, люди чего-то кричат, повариха из кухни высунулась вся в муке. Лицо у нашего рулевого точно окаменело, на руках жилы вздулись. Не оттого, что тяжело ему штурвал поворачивать, а просто крепко стиснул он пальцы свои. Да и все остальные тоже будто не дышат, как охотники, когда крупную дичь на мушку ловят.
Потом «Родина» сразу словно бы в масло вошла. Ни дрожи корпуса, ни шума волн, и даже в рубке вроде светлее стало. Все! Опасному месту конец.
Иван Демьяныч ко мне повернулся. Глядел, глядел, наконец спрашивает:
— Барбин, ты на вахте был пьяный?
Вот когда началось настоящее.
— Нет, — говорю. — То есть да, но не очень. Все обязанности свои я исполнял как следует.
— А обливать пассажиров водой — тоже входит в обязанности вахтенного матроса?
Оказывается, ему уже известно и это.
— Рука сорвалась…
— Почему же тогда ты хохотал над ними? Это ведь оскорбительно для людей.
— Да тогда… Да это… Ну вот, как сейчас вырвалось… Это я над собой смеялся, Иван Демьяныч.
— Смеешься над собой, а водой из шланга поливаешь людей. Интересно, Барбин, получается.
Вздох какой-то у меня ни с того ни с сего вылетел.
— Вообще-то, конечно, интересно.
Имел я тут в виду вовсе другое: интересно, дескать, как оно по-глупому, хотя и не нарочно, все сложилось тогда. А вышло так: было интересно, вроде кинокомедии. Но сам я в тот момент не уловил такого значения слов своих, а только увидал, как сразу похолодели глаза у Ивана Демьяныча. И еще — как блеснул на солнце золотой зуб Леонида.
А капитан опять помолчал, опять о чем-то подумал.
— Та-ак, Барбин, а с какой стати у тебя сейчас был ворот расстегнут?
— Забыл с утра застегнуть. Или, наоборот, — от жары распахнулся. Какую причину ни назови, беды нет — это не злое нарушение устава, расстегнутый ворот. В крайнем случае — только неряшество. Васе Тетереву я так и отрезал бы. Пожалуй, даже и любому штурману. Но Ивану Демьянычу это не скажешь. Он сам все знает. Надо начистоту.
— Прыгать в порог хотел, — говорю.
— Так чего же не прыгнул? — и вовсе заледенели глаза у Ивана Демьяныча.
Вы бы на это ответили? Я — нет. Ответил сам Иван Демьяныч:
— Похвастаться просто хотел. Блеснуть своим геройством.
И тут возражать я не стал капитану. Так ведь оно и было. Какие оправдания ни подбирай, но, понятно, хвастовство поверх всего выпирало. Прикидываю в уме: за три провинности подряд какое сейчас влепит он мне наказание…
Но Иван Демьяныч не кончил, оказывается.
— А деньги, Барбин, которые ты получил с пассажиров как взятку, придется тебе полностью в кассу сдать.
Словно полыни я пожевал, так во рту стало горько. Я взятки брал с пассажиров? Зачем же еще и такое валить на меня? Не выдержал я, закричал:
— Да кто вам сказал, Иван Демьяныч?
— «Кто сказал…» Вишь, чего ты раньше всего спрашиваешь. Выходит, сам подтвердил, что рыльце в пушку. Нашлись люди. А кто — тебе знать не обязательно. Поди и сдай деньги. Скажешь кассирше: капитан велел принять по квитанции разных сборов.
— Ну не брал же я, не брал никаких взяток, Иван Демьяныч! Честное комсомольское! Совала мне одна женщина в руки десятку, так и ту я не взял, вернул ей.
Говорю, точно в стену лбом стучу. Слышал я немало, как припечатывает свои справедливые решения наш капитан. Только где же сейчас правда, где его справедливость? Все он знает, в тумане глубину реки кожей чувствует, а тут вон какую небылицу возвел на меня.
Стою ошалелый, и почему-то кажется мне, что Иван Демьяныч глазом на Леонида косит. А тот погасил свой огненный зуб, больше не улыбается. Маша совсем побелела. И вообще картина такая, будто наш теплоход сел на камни, а у руля в это время стоял матрос Костя Барбин.
Прошло не знаю сколько времени. В книгах, я читал, пишут: «Прошла целая вечность». Ну, примерно так и у меня. И вдруг капитан говорит:
— Хорошо, Барбин. Если даешь комсомольское слово, буду еще выяснять. Но помни: комсомольцы честное слово на ветер никогда не бросают. Иди.
Спускался я вниз на деревянных ногах. За мной шел Вася Тетерев и все повторял:
— Вот видишь, Барбин, как нехорошо получилось. Я говорил тебе. Я не знаю, Барбин, как теперь поступить. Мне очень не хочется выносить это на комсомольское собрание. Я попробую поговорить еще с капитаном. Я непременно поговорю, Барбин.
Слушать его мне совсем не хотелось. Мне хотелось знать: кому я должен буду оторвать уши за злой поклеп на меня?
Глава восьмая Легче ли стало!
Ночью мы проплыли устье Ангары. «Родина» прошла мимо, не останавливаясь у пристани. И я только издали видел цепочку золотых огней на Стрелковском рейде, где лучшую в мире ангарскую древесину, сплавленную издалека в плотах, сводят совсем уж в огромные караваны и тащат потом на буксире полторы тысячи километров до самой Игарки или даже Дудинки. Днем здесь можно было бы полюбоваться на белые скалы и нежно-зеленую ангарскую воду. Ночь хотя была и не темная, но все-таки ночь. И Ангара в этот раз мне радости не принесла.
Вскоре проплыли мы и Енисейск. Старинный город, даже старше самого Красноярска. В давние времена шумел он, столицей приискателей был. Говорят, в нем от тех времен зарыто столько кладов, что если все дома и другие постройки сжечь, а потом пепел и землю перекопать глубоко — за найденное золото можно будет вдвое лучший город отгрохать.
На Енисейск я даже не взглянул. Перед городом как раз отстоял свою вторую вахту и спустился в каюту. Мог бы спать. Но я не спал, по сути дела, вторые сутки. Илья, опять в ботинках, храпел внизу, а я лежал и слушал эту музыку. Одолевали мысли, а какие — вы уже знаете. Так туго набились в голову, что она даже болеть начала у меня. Пробовал я найти одну, самую главную мысль, чтобы на ней и остановиться. Но от этого только прибавилась ко всем мыслям еще одна новая — как среди них найти самую главную?
Так я остаток ночи с боку на бок и провертелся. А уснул, уже когда солнце взошло. Разбудил меня Тетерев.
— Ты спишь, Барбин?
Толковый вопрос!
— Сплю, — говорю. — И во сне тебя вижу.
— Ну, это не во сне. Ты проснулся уже. — Ни сам пошутить, ни рассердиться на ядовитую шутку Вася у нас не умел. — А я пришел, Барбин, тебя порадовать. С капитаном я договорился. Только это строго между нами. Взыскания на тебя он не будет накладывать. Проработаем на комсомольском собрании. Вот видишь, как хорошо получается!
Сел я на койку, ноги свесил и соображаю: какими словами мне покрепче его оскорбить? Чтобы насквозь прошло. А он между тем свое:
— Я думаю, Барбин, в учетную карточку выговор мы тебе не запишем. И в протоколе собрания тоже сформулируем как-нибудь помягче. Я не хочу строгих формулировок. А приказа капитана вовсе не будет. Здорово?
Гляжу на его пухлые губы, на щеки-подушечки, и злость во мне гаснет. Потому что цели в злости нет никакой. Ударь я Васю Тетерина сейчас самыми обидными словами, все одно получится так, будто я с плеча рубанул топором тюк ваты. Топор отскочит, а на вате даже следа не останется.
— Да, это здорово, — говорю. — Ну, а за что же будут на собрании меня прорабатывать?
— То есть как? Я думаю, за все в целом.
— И за взятку?
— Вот этого, Барбин, я не знаю. Как перед собранием Иван Демьяныч решит. А пока, ты же слышал, хочет он разобраться.
— Если в целом, так пусть меня и за взятку прорабатывают. Иначе я и на собрание не приду.
Тетерев даже очки снял, совсем растерялся, вместо ладошки стал на стеклышки покашливать.
— Я тебя понимаю, Барбин. Если в этом действительно ты невиновный, тебе публично хочется снять с себя подозрения. Но ты не прав. Нельзя так ставить вопрос, пока Иван Демьяныч не разобрался.
— Тогда и о собрании сейчас нельзя ставить вопрос!
— Так это же, Барбин, в принципе. А какие именно твои поступки придется обсуждать — уточним позднее, ближе к собранию. Ты ведь не можешь отрицать, что в принципе проработать тебя мы обязаны.
Спорили, спорили, но Тетерев остался на своем. Обрадовался, когда я, наконец, замолчал.
— Вот видишь, Барбин! — Пошел было к двери и вдруг снова вернулся. — Да, вовсе забыл! Ты ведь у нас на «Родине» новый, массовой работой еще не охваченный. Надо куда-нибудь тебя записать, Барбин. Куда?
Смех и грех! Говорю ему:
— Сперва проработайте на собрании, а тогда уж запишешь. По результатам.
Вася покашлял в ладонь.
— Нет, Барбин. Я думаю, одно другому не мешает. Даже лучше будет, если ты уже до собрания включишься в общественную работу. Понимаешь? Благоприятнее прозвучит характеристика.
Махнул я рукой:
— Ну ладно, записывай. А куда — мне все равно.
Вася блокнот полистал.
— Выбор вообще-то у нас небольшой. Давай я тебя пока в самодеятельность. Где-нибудь в рейсе вечер провести мы задумали.
— В самодеятельность так в самодеятельность. Только талантов у меня нет никаких. — Поглядел я вниз, на храпящего Илью. — А он записался?
— Как же! В струнном квартете на балалайке играет. Хочешь?
— Нет, — говорю, — это не по моей силе. Я у балалайки сразу все струны оборву.
— Ну, стихотворение продекламируешь.
— Ладно, записывай.
Ушел Вася. На душе у меня постепенно полегчало, всегдашняя веселость вернулась. Спрыгнул я вниз, содрал с Ильи ботинки, вспомнилось, как Маша мне за него выговаривала, — Илья, между прочим, и не проснулся, — и отправился я в душевую холодной водой плескаться. Остатки кислого настроения смывать. А потом — на палубу, на ветерок. Хорошо после душа пупырышками кожу стягивает!
А день веселится, играет. Чудеса! Что небо, что вода в реке — одинаково голубые. Даже трудно понять: небо в воде отражается или Енисей голубой в небе.
Тут, на этих плесах, в разгаре лета близ берегов водится очень много «поденки», маленьких мотыльков. Всей жизни им — один день, потому и поденками зовутся. Крылышки у них такие прозрачные, будто из тонких листочков стекла. Но почему-то страшно липучие. Сядет на щеку и сразу приклеится. Сбросишь ее, проведешь по щеке — сухо, а впечатление такое, что была она мокрая. И долго еще потом чувствуешь то место, где поденка сидела. Этих мотыльков перед вечером, если плыть в лодке близ берега, носится в воздухе столько, сколько снежинок в самую злую пургу. Полная картина: зима наступила. Всего тебя и всю лодку залепят. Миллионы миллионов сверх того в Енисей валятся, серой пленкой воду затягивают, а лодка в ней след оставляет.
Как далеко ни идет наш теплоход от берега, а поденки залетают даже сюда. И вот все пассажиры лупят себя по щекам. Лупят потому, что поденок этих всегда не просто стряхнуть поскорее, а именно сбить хочется. Такие они неприятные.
Стал я у перил, нахлестываю себя по лицу. Поглядываю на острова — их на Енисее хватает, — на зеленые луга по берегам. За лугами в подъем идут леса. Сперва светлые березняки, потом исчерна-зеленые пихтачи и ельники, стало быть, болота потянулись, а за болотами — синяя тайга. Чем дальше, тем она голубее, пока с небом, как и Енисей, в одно не сольется. И хотя знаешь заранее, что там, посреди тайги, тоже ручьи и реки текут, и поселки, деревни есть, и вообще нет ничего человеку неизвестного, вся местность на карты нанесена, а глядишь, и кажется тебе: в голубое небо вверх без конца лети или по этой зеленой тайге иди — тоже никогда ей конца не будет. Вот она какая, наша Сибирь!
Говорят, соловьиные песни очень красивы. Не знаю, не слышал — у нас нет соловьев. А еще говорят, что, слушая их нежные трели, можно всю ночь напролет просидеть и не заметить, как наступит утро. В это я верю, потому что для меня Енисей — та же соловьиная песня. Удивляюсь, как могут ребята, свободные от вахты, в красном уголке сидеть, резаться в «козла», двигать пешки, слушать лекции Васи Тетерева, даже книги читать, что, вообще-то говоря, я и сам люблю, но только зимой. А летом я буду хоть сутки стоять на палубе и глядеть, глядеть, как открывается даль за далью, на прямых плесах в знойный день словно бы тонкими стрелочками от берегов отчерченная. Стучат дизели, легкая дрожь от них по корпусу судна передается, и кажется тебе — это стучит сердце, гонит по жилам бурливую кровь. И, как с живым, с теплоходом тебе поразговаривать хочется. Объяснить ему, до чего жизнь хороша. Попросить его, чтобы мчался он по Енисею еще быстрее.
Когда я вот так, очень долго, стою и гляжу на реку, у меня капля по капле набегают в душу удивительные радость и счастье. Постепенно все вокруг мне кажется лучшим на свете. И теплоход, и люди, какие едут на нем, и сам я. Про Енисей не говорю — он и всегда такой. И тянет тогда обязательно к кому-нибудь придвинуться поближе, разделить с ним свою радость. Даже если перед этим были у тебя неприятности, все забывается! Люблю тоже, когда в такие минуты к тебе издалека доносится чужой разговор. Только не нытье и не глупости какие-нибудь, а умные, светлые слова. Я их тогда почему-то особенно хорошо запоминаю. Все до одного, точно, как были сказаны, потом могу повторить. А кое-что даже в тетрадку себе запишу.
И вот как раз слышу я — двое пассажиров из экспедиции, которая все классные места закупила, сбоку от меня разговаривают. Конечно, инженеры. Сидят в плетеных креслах, оба с густой проседью, и лица ветрами исхлестанные. У одного так даже шрам через всю щеку. Это уж от чего-то покрепче ветра. И того и другого я мельком видел уже при посадке и потом — гуляли они по палубе. А все, кто был еще из этой экспедиции, подходили к ним и здоровались с большим уважением. Особенно с тем, который со шрамом. Но, между прочим, он не начальник экспедиции. Тот из каюты своей еще ни разу не выходил, даже пищу официантки носили в каюту, а что для него приготовить к обеду — приходил справляться сам директор ресторана.
— Да-а! Построить, Николай Петрович, енисейский каскад, — говорит инженер, который со шрамом, — это будет нечто неповторимое во всем мире. Не только в нашу эпоху, но и в веках. Не о технике говорю, техника-то в будущем еще черт знает что сделает, говорю о возможностях самих рек. Нет ведь в мире реки богаче Енисея по запасам энергии! Влюблен я за это в Енисей, в его богатырскую силу.
И мне захотелось откликнуться: «Я тоже».
Второй в общем с ним согласился. Только говорил как-то посуше, с цифрами. Упомянул про нашу будущую Красноярскую ГЭС, про ГЭС Абалаковскую, которую начнут строить ниже впадения Ангары в Енисей, и тут я впервые услышал еще про одну ГЭС — в Корабликах, гидростанцию совершенно невообразимой могучести. Но тут меня и грусть слегка взяла за душу. Кто не видел Корабликов, тот не знает, какое это чудо природы. Неужто начисто такая красота погибнет?
А Николай Петрович говорит, словно читает газету:
— По моим расчетам, из зон затопления по всему Енисею со временем придется убрать примерно с сотню миллионов кубометров леса. А может, и больше. Вот тогда наступит конец сибирской глухомани!
И потом прибавил еще что-то вроде:
— Будут построены десятки крупных городов, задымят заводские трубы. Прекрасное будущее ожидает Сибирь.
А я чуть не закричал: «Совсем не прекрасное!»
Но первый, со шрамом, успел как раз под мои мысли, только по-своему, ответить:
— Да, Николай Петрович, лес придется убирать — это верно. Но я вижу будущую Сибирь по-прежнему таежной. Довольно нам леса косить словно косой. Они у нас должны не уменьшаться, а увеличиваться. Пусть строятся десятки новых городов, приветствую это, ради них и веду я всю жизнь свои изыскания. Но, Николай Петрович! Пусть строятся новые города прямо посреди первозданной тайги, отнимая у нее лишь самое необходимое место, ни единого вершка больше. Пусть даже прямо на улицах, в скверах, в парках, у дорог к аэродромам остаются вековые сосны, лиственницы, ели, естественный лес — и пусть это будет характерным отличием городов Сибири. И пусть в самых ближних окрестностях городов сохраняются тетеревиные и глухариные тока, гнездовья диких уток и гусей, и, знаешь, — медвежьи берлоги! Ей-богу же, посаженные в рядок и подстриженные акации ничуть не красивее диких зарослей черемухи, и гипсовый олень в парке не лучше живого оленя в тайге!
Ты знаешь, я собираюсь писать гневную статью в защиту сибирского кедра. Ай-яй-яй, как варварски сейчас его истребляют! А каждое дерево — это все равно что дойная корова, да из хорошего, племенного стада. Ты пробовал ли кедровое масло? Кедровые сливки? Чудеснейшие вещи! Питательные, вкусные — пальчики оближешь. Начинка конфет, знаменитых «мишек» — это ореховый жмых… О, сколько может дать человеку сибирский кедр, если к нему отнестись по-хозяйски! Я прибрасывал на карандаш: сибирские кедровники могут покрыть всю потребность нашей страны в масле. Представляешь: полностью! Что называется, не нужно и коров разводить. Вся забота: собрать щедрые дары природы. А сейчас — удержать топор некоторых ненавистников тайги. Вроде тебя…
Николай Петрович было сорвался с места, но первый замахал на него руками:
— Ладно, ладно, сиди молчи, не оправдывайся. А тебе поставлю в упрек еще и дымящиеся трубы заводов. Стоит нам строить гидростанции на Енисее, чтобы по старинке поганить его дымом! Нет, извини! Что? Да если ты собираешься здесь возводить города на лысых, обезлесенных горах, и еще города с дымом — сейчас же пойду в каюту и к чертям порву все свои проекты и расчеты!
У меня грудь так и расперло от радости. Вот это толково думает человек! Не вытерпел я, стукнул кулаком по перилам и заорал во все горло:
— Правильно!
Оба они засмеялись. А тот, который со шрамом, даже в ладоши захлопал: вот, мол, не я один против тебя, Николай Петрович. Похвалил меня за поддержку, назвал молодцом. А дальше получился у нас такой разговор:
— Матросом работаешь?
— Матросом.
— Прислушивался к нашему спору? Пойти на строительство ГЭС, конечно, мечтаешь? Плотиной взнуздать Енисей.
— Нет, — говорю, — не мечтаю. Для меня лучше речника нет другой профессии.
— Ага! Значит, в замыслах — усатый капитан, фуражка вот с такой капустой и зычный голос: «Отдай якорь! Трави канат!»
— И не думаю быть капитаном.
— М-м… Тоже понятно. Век техники. Главный механик: «Могу прибавить еще двадцать два оборота».
— Механиком я и вовсе быть не хочу.
— Да? Так кем же тогда?
— Кем есть — рядовым матросом! К этому и газеты все призывают: молодежь — на производство. На физический труд.
— Вот как? Значит, матросом до конца жизни?
— До самого конца, — говорю. — А если бы и на том свете плавали теплоходы, я бы и там пошел только в матросы.
Помычал чего-то мой со шрамом, кислое сделал лицо.
— Своеобразно понял наш молодой товарищ призывы партии и правительства.
Можно было поспорить. Понял я все очень правильно. На любой теплоход нужен только один капитан, а матросов много требуется. Что будет, если все полезут в капитаны? Пусть в капитаны идут те, кому командовать хочется да ручки свои поберечь.
Но тут подошел Шахворостов. В шелковой тенниске огуречного цвета. Татуировка — якорь, чайки и волны, чтобы думали люди: старый речной волк. Вообще-то, конечно, волк.
— Эх, и храпанул я сегодня, Костя! Как разулся — сам не помню. Все заспал. Тебя Тетерев в самодеятельность записал?
— Записал.
— Так пойдем на сыгровку. Тумарк Маркин всех репетировать загоняет.
— Сам же знаешь: играть я не умею.
— Ерунда! Будешь аккомпанировать на контрабасе. Одну струну дергать. Я тебя живо научу. Получится тогда у нас не квартет, а квинтет.
— Отстань, — говорю, — со своим контрабасом. Я уже решил: буду Маяковского декламировать.
— Декламируй. И на контрабасе играй. Это, брат, приятно, когда тебе хлопают.
— Не за всякое исполнение хлопают.
— В самодеятельности — за всякое. А девушки на артистов как поглядывают? И еще учти, персонально: почтовая Шурка тоже записалась. При единственном таланте: влюбляться. Отсюда какая мораль?
Больше всего в Илье не нравилось мне, как он о девушках говорит, всегда с сальностями. А если еще при посторонних заведет такой разговор — прямо не знаешь, куда деваться. Обязательно повернет его так, будто не он, а ты разговор этот затеял. Пробовал я обрывать Илью. Резко, сердито. Хуже получалось: он тогда еще ловчее вильнет и загонит тебя вовсе в тупик.
Вот и теперь в краску бросили меня слова Шахворостова.
— Зачем, — говорю, — Илья, ты всякие гадости говоришь?
— Костя! Ты любовь девушки гадостью называешь? Извиняюсь! Должен сказать тебе, что Шурочка совсем не такая, как ты о ней думаешь.
И все это громко, при посторонних, при инженерах из экспедиции. Ох, и зачесалась же у меня рука ударить Илью! Знаю: с одного раза свалится он. И знаю: успеет оказать он тогда в отместку еще что-нибудь, похуже, похлеще первого. И еще знаю: эту оплеуху на комсомольском собрании мне тоже обязательно присчитают.
Выходит, годится только единственное: поскорее отсюда Илью увести.
— Ладно, пошли, — говорю, — искать Тумаркина.
Идем. Я молчу. Илья «Санта-Лючию» насвистывает. Проходим мимо почтовой каюты. Вдруг Илья рывком открывает дверь и вталкивает меня туда:
— Вот он!
Шура на койке лежит, книжку читает. Вскочила, платье поправляет, с испугу книжка из рук у нее выпала…
А дальше получается так. Мне до смерти стыдно: вроде бы сам я нахалом вломился сюда. Но вместо того чтобы сказать, как это случилось, я почему-то подымаю книгу, а Шура, тоже красней помидора, старается вырвать книгу из рук у меня и все повторяет одно:
— Дайте, дайте сюда!
Чуть разжал я пальцы, она книгу — раз под подушку. И как-то с запинкой:
— Пушкина перечитываю…
Когда подымал я книгу с пола, мне попались на глаза слова «дьявол», «монах», какое-то имя вроде Рустико и длинное-предлинное название главы. Не встречал я такого в сочинениях Пушкина. А не хвалясь скажу: зимой прочитал пудовый однотомник от корки до корки. И хотя я не обиделся на Шуру, потому что в замешательстве всякий человек может обмолвиться, но все же мне подумалось: неправду она сказала. Но это чуть мелькнуло и сразу прошло. А потом я стал извиняться и объяснять, как втолкнул меня сюда Шахворостов.
Шура только головой покачала печально.
— Значит, сами бы вы не зашли?
И опять мне пришлось объяснять — путано объяснять и оправдываться, почему я не позвал ее посмотреть на Казачинский порог.
Но все же постепенно у нас сложился хороший разговор, и Шура, как в первый раз, стала меня угощать конфетами и печеньем. Стала рассказывать, какая у них славная семья — особенно мама — и как все они дружны между собой. Квартиру описала — оказывается, у них домик свой — и комнату, в которой сама живет. Отдельная большущая комната. А обстановка в ней — куда там даже Терсковым!
Я слушал и хотя не завидовал, но было мне как-то неловко. Нечем ответно блеснуть, нечего вровень с ее описаниями поставить. Конечно, мать у меня тоже очень хорошая. Но Шурина мама, как она сама ее назвала, «веселая хлопотунья». А моя мать лежит параличная. И веселых слов от нее, сами понимаете, мало услышишь. Чаще ворчит и сердится она. Леньку тоже не поставишь на одни весы с Шуриной сестрой, студенткой. Даже по виду. У той завивка «перманент», а у Леньки свой «перманент» — нос постоянно в царапинах и веснушки всегда, как отруби, шелушатся. Квартирой своей перед Шурой тем более никак не блеснешь.
Шура все это, наверно, как-то угадывала. Очень меня не расспрашивала — так, бросит вскользь один-два вопроса и опять о своей семье говорит. Как это получалось у нее — не пойму, но ничем она передо мной вроде бы особенно и не похвалялась, ничем не принижала меня и мою семью, а осталось тогда в душе у меня: «Эх, вот у них хорошо, так хорошо!»
С таким веселым, радостным чувством я и вышел от Шуры. И только я повернул за угол, где стоит кипятильник, вдруг навстречу попадается та самая женщина, которая мне при посадке совала в руку десятку. Улыбается:
— Здравствуй, молодой человек!
Сразу как-то остро мне в сердце ударили и вчерашний разговор с капитаном, и все-таки тревожное ожидание «проработки», и заглохшее было желание узнать, кто очернил меня как взяточника.
— Эх вы, гражданочка! Зачем сказали вы капитану, что я с вас деньги брал? Разве я взял?
У нее и глаза округлились.
— Что ты, что ты, бог с тобой! Я сказала? Может, сказали другие, которых твой товарищ устраивал? Мне самой от них оскорблений досталось.
Гляжу на женщину и не понимаю: да что же раньше-то мне это в голову не пришло? Ясно: тень Ильи на меня перебросилась. Только как же….. Он ведь родственников своих устраивал… И тогда совсем уж нехорошее мне подумалось. Бегом — искать Шахворостова. Нашел. Выволок к якорным лебедкам, в тихое место.
— Ты не родственников сажал в Красноярске, а чужих, — говорю, — и ты с них брал деньги.
Он дернул плечами, пощупал ямки на своей глиняной голове.
— Я-то думал, чего ты меня потащил. Ну брал. И водку вместе с тобой мы на эти деньги пили. И еще выпьем. Не думай: капитал себе на этом я не заработал. Тоже деньги! Сто рублей…
— Да как же мог ты молчать, когда товарища твоего обвиняют?
— Эх, ты! — говорит. — Дурак, а не лечишься. Все это дело против тебя пузырем мыльным лопнет. Никакой пассажир, что взятку он дал, не подтвердит. Кто дает, тот тоже отвечает. А я бы сам пошел к капитану, назвался — что тогда? — Помолчал и плюнул за борт, в воду, в золотистые искорки. — Если бы я человека убил или казну ограбил, а то со спекулянтов, с паршивой овцы шерсти клок взял. Ну, пойди к Ивану Демьянычу, расскажи. Думаешь как: сделаешь по-товарищески?
Обнял меня. И тяжело-тяжело стало мне от его рук, будто он выворотил сейчас со дна Енисея громадный камень и на плечи мне навалил.
Глава девятая Белая ночь
Помню, Ленька однажды спросил меня: «Костя, а какие это бывают белые ночи?» Рассказал ему. Он опять опрашивает: «А когда бывают белые ночи, тогда дни, наоборот, черные?» Такое вымудрить мог только Ленька и в шесть лет. Но теперь его слова попадали, как говорится, в самую точку. Белые ночи начались от Енисейска, черные дни, как вы знаете, даже чуточку раньше…
За сутки «Родина» отмахала еще четыреста километров. Делала остановки на пристанях в Ярцеве, в Ворогове. Рассказывать о них нечего, постояли, дали гудок, подняли якорь и снова пошли.
А теперь мы подплывали уже к знаменитым Корабликам.
На часах время ноль-ноль, на небе — ни солнца, ни луны, ни звезд. Откуда же берется белый, удивительный свет?
В школьных учебниках есть объяснения этому, даже с рисунками, схемами, чертежами. Но когда в такую прозрачную полночь ты один стоишь на палубе, запрокинув голову, а рубашка и волосы у тебя мокрые от росы, и ничего другого на реке не слышно, кроме стука дизелей и шипенья пены от винтов за кормой, — никакие схемы и чертежи на ум тебе не идут. Ты видишь просто, что все небо сияет само, будто его сплошь заволокло тонким светящимся облаком, чуть поголубее к югу и вовсе не имеющим цвета на севере. Говорят: «Белая ночь — это когда газеты можно читать». Не спорю. Но к этому только прибавлю: «Белая ночь — это когда с палубы уходить никак не охота».
Так будет от Енисейска до Курейки, до самого Полярного круга. А там — конец белым ночам. Пойдут уже солнечные ночи.
Прежде Корабликов нужно проплыть Щеки.
На реках чаще бывает так: один берег крутой, либо даже обрывистый, с гнездами ласточек и стрижей, а другой — обязательно низменный, заливной, в зарослях тальников и черемухи. Случается, что река забирается в горы, и тогда с обеих сторон над нею стоят темные, дремучие леса. Где-нибудь на повороте она ударит в гору своим могучим плечом, срежет, смоет землю, и выступят тогда обнаженные скалы, «быки». Всяких утесов, гранитных «быков» на Енисее хоть отбавляй. Но такое, как Щеки, и на Енисее только один раз встречается. Здесь река пробила, можно даже сказать, пропилила горный кряж, сделала себе в нем узкий прямой проход. И вот стоят две высоченные каменные стены из красного и желтого гранита, точно по отвесу, а Енисей течет между этих каменных «щек», течет и, похоже, с опаской оглядывается — вдруг граниты сомкнутся, зажмут его в клеши?
А на самом выходе из Щек и стоят Кораблики. Сильно стиснут горами здесь Енисей, но два скалистых острова, как раз посредине реки, все-таки поместились. Смотреть с любой стороны — высокий красивый корабль тащит за собой на буксире другой, пониже — барочку. Нос у переднего «кораблика» острый, подъемистый, с площадкой, на которой стоят якорные лебедки. А дальше, как полагается, всякие палубные надстройки, еще выше — рулевая рубка с капитанским мостиком, дымовая труба и даже мачты из сухих прогонистых лиственниц. Похожи Кораблики еще и на два каменных айсберга. Это, может быть, потому, что глубина реки здесь непостижимая, просто океанская, и еще потому, что часто обманывает зрение: кажется, не Енисей течет, а Кораблики плывут, движутся ему навстречу.
Недобрый человек или растяпа спалил недавно на обоих островках и по правому берегу Енисея всю тайгу. Правда, растет уже молодая подсада, но это пока совсем не то. Я помню, какая дикая красота была здесь прежде! Глядишь на берег — темень, с жутью гуща лесная. Повыше — лиственницы, сосны, чуть ниже кедры и ели, совсем над рекой — кудрявенькие березки, осины с листьями-пятаками, размашистые черемушники и дружные, туго наставленные друг на другу тальники. И повсюду, повсюду малинники и рябина, повитая диким хмелем. Все переплелось, спуталось. Упади на тайгу что-нибудь сверху — и никак не долетит до земли, обязательно на ветках у деревьев зависнет. Вернется ли снова все это?
На страшенных глубинах Енисея у Щек и у Корабликов зимой в ямы собираются осетры двухпудовые и вообще самая крупная рыба. Рассказывают, когда-то был здесь такой случай. Приехали рыбаки, надолбили лунок во льду, сетями огородили самую глубокую яму и давай железом на длиннющих шестах по дну ботать, чтобы рыбу спугнуть, загнать ее в сети. Целый день в клящий мороз без передышки работали, жадность гнала. А подымать стали снасть, не вытащили, пообрывались тетивы у всех сетей — такая махина навалилась рыбы.
Теплоход сверху проносится мимо Корабликов в какие-нибудь две-три минуты, а люди готовы не спать всю ночь, только бы поглядеть на такую красоту. Не все люди, конечно, а любители природы. Другим так все равно — что по Енисею плыть, что по грязной луже — было бы в ресторане пиво.
Я никогда не спал у Корабликов, даже если проплывали мы их самой темной ночью, в дождь, в осеннюю пургу. В любую погоду они хороши, и в памяти у меня их словно бы целый альбом накопился. Больше всего люблю я смотреть на них под осень, когда по очереди бывают уже и полная темнота, и белый рассвет, и малиновое утро. При первых лучах особо прекрасны Кораблики. Вода вся огнями пылает. И на ней комья пены то красным, то розовым, то белым лебяжьим пухом на солнце отсвечивают. А пены этой — как лилий, кувшинок на тихом лесном озере. Кружатся, кружатся под скалами, в водоворотах. В расселинах утесов звонкие ручейки прыгают, а в других местах едва лишь слезятся на камне. И там тогда остаются оранжевые длинные полосы. Вообще столько красок играет и на реке, и на скалах, и на вершинах деревьев, что тебя прямо кидает в какую-то счастливую дрожь.
Между прочим, в белую ночь Кораблики тоже хороши, но выглядят они суровее, строже.
На вахте сегодня со мной Петя, Петр Фигурнов. Что полагалось, помыли, надраили, и делать нам больше нечего. Фигурнов отправился полоскать швабры, а я хожу по верхней палубе, любуюсь на берега, запрокинув голову, разглядываю белое ночное небо. А самого все тянет почему-то мимо Машиной каюты пройтись. Вспоминается горячая золотая дорожка, которая в Красноярске вела от окна прямехонько на Столбы. Теперь по реке от ее окна никуда дорожек нет.
С Фигурновым никак не ладится дело. Он мне отрезал опять:
— Не лезь со своей дружбой. Ты обидел меня. Ну и все. Для ясности.
Я сказал, что меня он обидел не меньше, но я могу попросить у него прощения, если он любит это. Фигурнов сказал, что не любит.
— Тогда, — говорю я, — чего тебе еще нужно?
— Ничего. Время нужно, чтобы перемололось. Ежели перемелется. Такой уж характер.
— А ежели не перемелется?
— Ну, так тогда и останется.
Потом я много раз с ним еще заговаривал, но кончал Фигурнов всегда одинаково: «Не могу. Не прошло еще. Рано».
В эту вахту мы с ним работали вместе. Честно помогали друг другу. Но молча. Может, и с вами такое бывало? Ожесточится сердце, и хоть ты что — не отходит. Вот пример. В нашем доме молодожены живут. Хорошие люди, веселые, добрые. По вечерам поют, хохочут, танцуют под патефон. И вдруг что-то там произойдет между ними. В квартире у них сразу наступает тишина. И этак дней на пять, на десять. Вымалчиваются оба, хотя по-прежнему выходят вместе на работу и даже — под ручку! — в кино. Об этом я вам сейчас рассказал только потому, что как-никак скучно на ночной вахте, и особо в белую ночь, так вот с товарищем ходить бирюками.
Впрочем, ведь и день вчера для меня не был легче, я не зря в начале этой главы вспомнил Леньку с его мудрым вопросом насчет черных дней и белых ночей. Один разговор с Шахворостовым чего стоит!
А потом — репетиция. Вообще-то, правду сказать, вся самодеятельность наша была больше выдумкой Васи Тетерева для галочки в отчете, чем для развития талантов. Попробуй срепетировать и показать всю программу, когда то один, то другой матрос на вахте! Но все-таки, конечно, если каждому как следует подготовиться — не теперь, так зимой на отстое, в клубе, можно было бы хорошо выступить. Вы тогда спросите: чем же не понравилась мне эта затея?
Тем, что Марк Тумаркин был назначен режиссером, а его указаний никто не слушался, даже при том условии, что у Марка мать бывшая артистка. Это раз.
Два — тем, что читал я Маяковского «Стихи о советском паспорте» очень плохо — орал, а не читал, все смеялись, и Маша смеялась, а Шура вызвалась помочь мне их отрепетировать. И стала сама читать эти стихи. Голос у нее против моего как самая нижняя струна на гитаре против самой верхней. А слова прямо насквозь пронизывают тебя. Любопытно получается. Про бюрократизм, к примеру, она выговорила строчку так, будто действительно она волк — возьмет и выгрызет. Мне показалось, будто я слышу: у Шуры щелкнули зубы. Насчет мандатов сказала с каким-то презрением. Пальцем даже не пошевельнула, а я вдруг увидел, как она их со стола сбросила. Чертей с матерями вовсе замяла (а я на чертей больше всего нажимал), зато слова «Но эту…» так она вылепила, что, не поверите, почувствовал я у себя в руках краснокожую паспортину. Словом, не стихи прочитала Шура, а полную картину нарисовала, как Маяковский гордо нес свое звание гражданина Советского Союза. И я обозлился на Шахворостова — зачем он высмеивал талант у Шуры. И, главное, понял, какой бесталанный оболтус я сам.
Три — тем не понравилась репетиция, что Фигурнов читал на память рассказ «Поженились» какого-то Евгения Стряпушечкина, в котором вышучивается парень один: увлекся случайной знакомой и потерял чудесную девушку, своего лучшего друга. Рассказ несмешной и неправильный, потому что в жизни все бывает как раз наоборот. К примеру — у нас с Машей. А Маша почему-то настояла, сказала:
— Евгения Стряпушечкина в программе нужно оставить.
Четыре — тем, что сама Маша взялась разыграть какой-то скетч. И ясно — с Леонидом! Правда, первый предложил это он, но ведь Маша могла и отказаться. Могла бы спеть одна «Позарастали стежки-дорожки…». От этой песни у меня на глазах всегда прямо слезы навертываются.
В общем этот рейс мог бы быть превосходным, как и все мои прежние рейсы по Енисею, если бы… Вот тут и штука: что — «если бы»?
Стою у окна Машиной каюты. Тихо. Наверно, спит. Хотя и удивительно: природу она очень любит. Будет потом сожалеть, что проспала Кораблики. И потянулась рука у меня сам не знаю как стукнуть в окошко. Прислушался. Вроде бы шорох. Что-то спросила Маша. И снова тишина. Я стукнул еще. И вдруг вижу: с мостика спускается Леонид. От лесенки ему только сюда — в другое место идти некуда, капитанская каюта на противоположной стороне. Не знаю, как поступили бы вы, а я ушел, прямо-таки убежал раньше, чем Леонид понял, почему я здесь. Вы представляете картину: на мой стук Маша подымает жалюзи, а под окном мы с Леонидом, как два испанских кабальеро…
Быстренько-быстренько завернул я на корму.
— А, мой союзник!
В плетеном кресле сидит опять тот же, со шрамом на щеке, инженер из экспедиции. Нога закинута за ногу, кисти рук сцеплены на колене.
— Тоже природой любуемся, молодой человек?
— Я на вахте, — говорю ему. И как-то вовсе не до него мне.
— Ах, вот как! А мне давеча показалось, что к Енисею ты очень неравнодушен.
— Енисей-то пуще всего на свете люблю я.
— Ну, вот это уже через край. — И глаза у него стали какие-то озорные. Тянет меня за руку, не дает пройти, усаживает в пустое кресло рядом с собой. — Не беги. Сядь. Ночь-то какая чудесная! Только для влюбленных. Да-а! Енисей… А я так полагаю, парень, что для тебя сейчас не Енисей лучше всего на свете, а девушка одна.
— Ошиблись вы, — говорю, — нет у меня такой девушки.
— Ну-ну! Не верю! Сам видел вчера, как ты вспыхнул, когда товарищ твой отозвался о ней неуважительно. А ты — Енисей… Для меня вот Енисей действительно теперь вся отрада в жизни. Спросишь: почему?
Он задумался, поскучнел, и это сразу как-то отозвалось и во мне. Понимаете — одинаковым настроением. Мы сидели рядом, оба молчали, но было это как самый душевный разговор. Мне вставать уже не хотелось. Сам не знаю, как, а я угадывал: чем-то полюбился я этому инженеру. Он тихонько перевел дух, подтянул меня поближе.
— Да, вот так, парень: жили, жили счастливо, а потом… пришла смерть в семью мою. Один раз. Второй. Третий. Да и в четвертый. И остался, парень, я один в свои шестьдесят два года. Не всех сразу безглазая скосила. А то и мне бы не выдержать. Перенес. Живу. — Потер ладонью лоб. И опять глаза у него повеселели. — А хороша штука — жизнь! И молодость. И любовь. Для меня в моей молодости самым драгоценным в мире была моя девушка, потом — жена. Для нее текли и все реки и солнце светило. А у тебя разве не так?
Показалось, испытывает он, проверяет меня.
— А работа? — говорю. — Производство?
— Что работа? Дорогой мой, как легко работалось мне тогда! О, вот тогда я действительно мог сдвигать с места горы. Для нее, для нее! Ах, какая это великая сила — любовь!
— По-вашему, — опять говорю, — любовь прямо сильнее всего. «Для нее, для нее!» А по-моему, так для родины, для государства прежде всего должен работать и жить человек.
Бурлит вода за кормой, утесы с боков все теснее сдвигаются. Лицо у инженера сделалось усталое. И руки обмякли, сухие, длинные на коленях лежат.
— Вот как! Оказывается, поймал тебя, Иван Андреич, молодой товарищ на слове. Поправил старого большевика. Забыл ты, выходит, родину. На девушку, на любовь ее променял. — Потрогал свои седые подстриженные усы. — Ехал, парень, по Красноярску я в автобусе. И вот кондукторша тем пассажирам, у которых нет мелочи, продает билеты кругленько по рублю, хотя проезд стоит, скажем, только сорок пять копеек. Нет, нет, в карман себе разницу она не откладывает. Честно отрывает на рублевку билеты и разъясняет: «Граждане, платите без сдачи. Не можете? Ну, я не виновата. У меня тоже мелочи нет. Бесплатно везти вас я не имею права. Не шумите. Если вы против тарифа сейчас переплачиваете, так эти деньги, к вашему сведению, идут не мне, а государству». И ведь, знаешь, притихли пассажиры! Разве жаль отдать родному государству полтинник? Хотя, ты сам понимаешь, государство не возьмет со своих граждан даже одной лишней копейки. В этом и смысл, один из важнейших принципов нашего государственного строя. А вот такие правоверные кондукторши именем государства отбирают у нас очень многое, отбирают порой даже то, что является целью существования самого государства, то есть наше счастье, те основы, из которых складывается честная и чистая, общественная и личная наша жизнь. Вот ты сейчас противопоставил любовь, семью, человеческое счастье родине, государству… Парень, да ты знаешь ли, что такое любовь? Да ты читал ли об этом, к примеру, хотя бы у Энгельса? Или ты только слушал кондукторшу из автобуса? Прошлый раз ты мне заявил, что на всю жизнь останешься только рядовым матросом. И тоже ради государства. Неправильно ты понял, парень, свои отношения с государством…
Как тут сразу скажешь: прав он или не прав?
Старый большевик, инженер, жизнь повидал и вообще умница. Притом Энгельса я действительно не читал. Ну, может быть, отдельные цитаты. Так были они совсем не к нашему разговору. А что к нашему? У Энгельса-то вместе с Марксом о-го-го сколько написано! Попробуй все прочти. Так что насчет своих отношений с государством, пожалуй, правду сказал Иван Андреич, ничего я не знаю. Просто не представляю. Живу, работаю, душе полная свобода. Чего еще? Будто и ясно, а из всех этих мыслей и слов, как на токарном станке формулу не выточишь.
В общем вид у меня был, наверно, довольно-таки глупый. И наверно, Иван Андреич понял, что я вовсе запутался.
— Ты, — говорит, — парень, не жди от меня пунктов и параграфов. Ну их к черту! Мне параграфы эти в инструкциях надоели. Вообще, скажу я тебе мимоходом, молодежь сейчас почему-то больше, чем мы, старики, любит разговаривать формулами. Вижу, и ты ловишь старика, ждешь моей формулы насчет родины, государства, любви. Под какими, дескать, пунктами, номерами я все это расставлю. Друг мой, не будет номеров. Все это единое, цельное. Неужели ты сможешь сказать любимой девушке: «Ты самая лучшая в мире после нашего государства?» Или: «Я буду любить тебя, но меньше родины?» Вот ведь до чего можно дойти с такими формулировками, как у кондукторши из автобуса! Гляжу я на тебя, парень, и твердо знаю: никогда не станешь ты предателем родины. Крепка и сильна у тебя любовь к ней. Верю и в другое: не изменишь ты и любимой девушке. А впрочем… Не потому ли ты и номера подставляешь, что считаешь: девушка не родина, не государство — ей изменить можно?
Затопил меня Иван Андреич своими мыслями. Куда тут с ним спорить? А он тихонько локтем толкает меня в бок. Показывает.
— Посмотри, вон там двое, у перил. О чем, думаешь, они разговаривают? И как: параграфами, формулами?
— А вы знаете, кто там стоял?
Но гуднул тонкий, короткий гудок. И я ничего не ответил Ивану Андреичу, побежал. Сигнал — вахтенному матросу подняться на мостик, в рубку. А ночью, с десяти часов вечера и до четырех утра, всегда капитанская вахта.
С тех пор, между прочим, с Иваном Андреичем разговора у меня больше не было. Встретимся — разойдемся. Он не останавливал. И мне почему-то стало даже казаться: на том все дело и кончилось.
Вошел я в рубку, жду. Впереди Кораблики уже открываются, белая надпись у самой воды на скале. Как не сорвался в реку тот, кто писал! Куда только эти любители надписей не взбираются! Впрочем, я — то взбирался и не на такие утесы.
За рулем Марк Тумаркин. Иван Демьяныч сбоку стоит. Я еще не видел, чтобы Иван Демьяныч сидел. Говорят, что он на вахте вообще никогда не садится.
Жду. Пусть первым заговорит капитан. А сам думаю: «Почему он опять вызвал меня, когда теплоход проплывает через самые интересные места?»
А он вдруг поворачивается, спрашивает:
— Барбин, ты сколько раз видел Кораблики?
— Не знаю, Иван Демьяныч, — говорю, — не записывал. Если от пеленок счет начинать — ну, может, раз сто двадцать.
— А я вот пятьсот семнадцатый раз проплываю. И тоже не записывал. Просто помню. Как-то само по себе напечаталось в памяти. Речнику полезно иметь хорошую память. Видишь лоб у Кораблика? На нем белую отметину?
— Вижу.
— Ну, так скажи, какой, по-твоему, сейчас уровень воды в проточке между Корабликом и Барочкой?
Стал я в тупик. Что я, бакенщик здешний, что ли? Проточку эту хорошо помню. По виду своему она интересная, словно бы отрубила Барочку от Кораблика. Вода из нее точно под прямым углом в главное русло вливается. А глубина какая… И зачем это Ивану Демьянычу? Все равно по той проточке не только пароходы — катера даже никогда не плавают. Но чувствую: отмолчаться сейчас мне тоже никак нельзя.
— Да, пожалуй… метров шесть с половиной.
Понял я: стрелял наугад, а попал в цель. Хотя и не в самое яблочко. Чешет пальцем подбородок Иван Демьяныч.
— Та-ак, а за рулем ты стоял когда-нибудь?
— Случалось в прошлом году, — говорю, — когда на буксирном я плавал. Раза четыре на тихих плесах ставил меня капитан.
— Ну хорошо. Становись.
Отстраняет Марка Тумаркина. Что делать? Берусь я, а сам будто умер: и дыхания нет, и глаза остекленели, потому что стал я за руль как раз в тот момент, когда нос в нос «Родина» шла на самый Кораблик. Дать руля круто, свалить теплоход влево, — мерещится мне, боком на скалу нанесет. Только слегка подправить — поможет ли? Успеет ли теплоход от скалы отодвинуться? Вовсе ведь близенько. Как это мне руль отдали в такую страшную минуту?
Не знаю, случается ли с вами так, что, самый сильный страх когда перегорит, все каким-то особенно простым и ясным делается? Со мной случается. Вдруг потеплели руки, дыхание свободно прорвалось и живая слеза из глаза выкатилась. Вижу, перед Корабликом вода взбугрилась и влево от скалы бьет сильная струя — боковой снос теплоходу. И еще: вовсе не нос в нос сближаемся мы с островом, а тот действительно, похоже, как управляемый корабль, вроде сам отворачивает вправо. И наконец, возле своей руки чувствую я руку Ивана Демьяныча: стало быть, на волосок только я ошибись, и он сейчас же поправит мою ошибку.
Тогда я спокойно уже, плавно начинаю отводить «Родину» влево, беру в расчет боковой слив воды от скалы. Вот вы, если никогда не стояли за рулем, не знаете, как на это время срастаешься с теплоходом. Чувство такое: руки твои вдруг налились огромной силой, даже будто не руки стали они, а тросы — тянут тугие рули, как человек подтягивает на воде собственное тело. И вот все больше я поджимаю рукоять штурвала, слышу, как потрескивает стопорная собачка, и понимаю: делаю правильно, плывет «Родина» как раз туда, куда поплыл бы и я своим живым телом. Скалы мелькают вовсе близенько от правого борта. Но это ничего, знаю: суда здесь проходят и всегда близко к самому острову.
С берега спорхнула какая-то голубая пичужка, камнем ударилась вниз и снова взмыла кверху — уселась на мачту. «Ну, прокатись. Только смотри, засидишься, уплывем далеко — придется тебе тогда помахать своими короткими крылышками до родного гнезда». Нет, сидит себе, чистит клювом перышки.
— А ворон ты, оказывается, тоже любишь считать.
Перевел я глаза на воду, на берега, глянул вперед. Будто и впрямь капельку с курса я уклонился, разъехались створы. Но такой уж черт сидит во мне, обязательно тянет всегда на дыбы подняться, заспорить, тем более что Иван Демьяныч со мной вроде без строгости разговаривает. И я в ответ ему сказал примерно такое: «Птичка всего одна была, сосчитать ее недолго. И, между прочим, совсем не ворона. А Кораблики я провел хорошо». Сказал — и тут же задним умом подумал: «Ну и влепит мне сейчас Иван Демьяныч».
Но капитан вроде ничуть и не рассердился, только сделал мне знак — отойди от штурвала, а Марку Тумаркину — стань на свое место. Позвал меня за собой. Вышли мы из рубки. Небо нежным светом так и сочится. Над горами справа ленточкой горит желтизна и кой-где сквозь вершины сосен проблескивает густой багрянец. От теплохода на воде лежит и скользит вместе с ним темная тень.
— Ну вот, помаленьку, Барбин, ты яснее становишься, — говорит Иван Демьяныч. — Придется к тебе иначе подойти, чем сначала я думал. Что же тебе сказать? Все теперь точно проверено. Сажали незаконно пассажиров вы двое. Ты прошлый раз отказался, Шахворостов тоже отказывается. А против факта, как говорится, не попрешь: люди вам деньги платили. Кому именно в руки давали — не имеет значения. По житейской логике — делили вы их пополам. Стало быть, и следует вздуть вас обоих. Но есть тут заступники у тебя. Говорят: «Втянул в это дело его Шахворостов». Сам я сейчас убедился: хорошая, речная душа у тебя, в голове черт-те знает что — зайцы скачут. И вот я так решаю: наказать одного Шахворостова. Тебе прощаю. В первый, единственный и в последний раз.
Оглушило это меня. А потом мысли закрутились, завертелись, как винты у теплохода. Шахворостов отказался, на меня не свалил, а мог бы. Сделать ему это было легче всего, когда на меня и так подозрение у Ивана Демьяныча падало. Неужели мне стать свиньей перед Шахворостовым? И еще мысль: кто такой у меня этот заступник? Будто Костя Барбин хлюпик беспомощный? Не Маша ли попросила? И я не знаю, что ответил бы я капитану, но Иван Демьяныч в это время прибавил:
— Сын мой тоже говорит, что ты парень просто лишь с ветерком, а Шахворостов — тертый калач.
Ага! Без Леонида, так я и знал, конечно, не обошлось. «Заступник!»
— Мне нужно, Барбин, знать все точно. Роль Шахворостова в этой стыдной истории. Ну?
И что-то вдруг подхлестнуло меня. Какое-то презрение к разным «заступникам». И гордость за себя, что могу я принять удар вместо товарища.
— Никакой у него роли, — говорю, а у самого по спине холодок, такой же, как было, когда я к рулю становился у Корабликов. — Сотенную с пассажиров взял я, Шахворостов совсем ни при чем.
Помолчал капитан.
— Н-да… Стало быть, товарища выгораживаешь? Подставляешь себя вместо Шахворостова? А стоит ли?
Теперь я молчу. Правду капитан говорит: выгораживаю. Ну, а подвести, выдать товарища — разве лучше? Если бы он украл или государству причинил убыток…
— А как же твое комсомольское слово, Барбин? Ты ведь слово давал, что не брал с пассажиров деньги. Забыл?
Нет, не забыл я. Вся душа у меня протестует сказать капитану: тогда я солгал. А подтвердить, что тогда говорил я правду, — значит сознаться: теперь солгал. И надо рассказать начистоту про Шахворостова, себя спасать, а топить товарища. Ну прямо как будто сильным течением несет меня на груду камней, а как ни бейся, куда ни рули, а обязательно на камень напорешься. И вот молчу я, натужно думаю, а время между тем летит вхолостую. Иван Демьяныч постоял, подождал, а потом пошел в рубку.
— Ну, что же, Барбин, ты так ты. Не маленький. Так и запишем.
Я медленно-медленно спустился на палубу. В дальнем конце ее по-прежнему рядом стояли Маша и Леонид. Небо цвело горячей зарей. Белая ночь кончилась. Начинался опять черный день.
Глава десятая Проработали
Илья снова обозвал меня дураком. На этот раз — круглым. Дескать, нужно было твердо стоять на своем, отказываться — и никаких! Доведи капитан даже до суда это дело — взятку ничем не докажешь. Услуги, подноска вещей. Тогда всех носильщиков нужно судить как взяточников. Эго только один Иван Демьяныч среди других капитанов из себя святого разыгрывает, а сам, поди, тоже у браконьеров рыбку к зиме по дешевке запасает.
Словом, так долго Шахворостов ворчал и ругался, что под конец я обозлился и сам крепко отрезал ему:
— Эх, ты, и за такого подставил я голову!..
Ну, а там еще всякие другие слова. И представьте: сразу Илья просиял. Объявил, что «дурак» — только к слову, а вообще я настоящий товарищ. Так вот хорошая, верная дружба и складывается. Топят друг друга ради спасения шкуры своей только подлецы. А тут и цена-то всему делу чуть больше двух литров. Как раз за такую цену Иуда, дескать, продал Христа и сам потом со стыда повесился на осине.
— Ну ничего, Костя, на сотнягу ты погорел, зато, как Иуда, не повесишься.
И даже дал мне эти деньги взаймы, чтобы я внес их в кассу, как приказал Иван Демьяныч. Дал, подумал и сказал:
— Ладно, вернешь всего полсотни. Но имей в виду, Костя, что, только любя товарища, половину твоей глупости на себя принимаю.
Расстались мы как-то неопределенно. Во всяком случае у меня на душе настоящей радости не было. Что не подвел я товарища — нравилось мне, а что дело с деньгами этими вовсе чистое — в мыслях легко не укладывалось, хотя действительно вроде бы и не краденые деньги и государству от этого убытку нет никакого.
В таких думах я и не заметил, как у Машиной каюты опять очутился. Вот с кем поговорить! Шахворостов, конечно, товарищ мне, Маша — тоже товарищ. А подход ко всему у них разный. Слова Машины ненавязчиво, мягче, глаже, зато и прочнее как-то в душу мне вкладывались, не как слова Ильи — тот свои либо с мылом, либо с песком, а по сути дела, всегда силой вбивал. «Что Маша мне скажет?»
Постучался в дверь. Ответа нет. Еще постучал. И снова не отвечает. Значит, куда-то ушла. Радиорубка тоже заперта. Не хотелось мне думать, вспоминать Леонида, а вспомнил невольно: они все время вместе. Чего же я стучу, ищу Машу? И найду — так рядом с ним. Холодок прополз у меня по спине. Дудки! Хватит мне вертеться здесь у дверей и под окнами, будто и впрямь я испанский кабальеро! Друзей каждый сам себе подбирает и теряет их тоже сам.
Через минуту я в почтовой каюте уже выкрикивал «Стихи о советском паспорте», и через каждые два слова Шура меня останавливала и подсказывала, как прочитать лучше. Но это нисколько не обижало меня, потому что советы были хорошие, правильные. И я совсем не заметил, как мы стали говорить друг другу «ты». С доверием, наверно, это и само приходит.
Потом, как всегда, Шура принялась меня угощать. Наставила на стол всякой всячины, схватила чайник и побежала в титан за кипятком. А я взял у нее с кровати альбом и стал разглядывать. Припомнилось, что Шура как-то мельком назвала себя художницей. Я сам могу нарисовать кое-что в шесть движений пера. К примеру: горизонтальная линия, на ней полуовал, сверху прилепить другой, поменьше, к этому полуовалу две остренькие скобочки — уши. А внизу размахнуть повольнее любую закорючку — получится хвостик. И вот вам сидит спиной к зрителям превосходный мышонок. Такими же короткими приемами можно великолепно изобразить козу, индюка или черта на коньках. Но я понимаю, что это баловство, озорничанье, а не искусство. Думал я, что и Шура только от скуки балуется. А тут перелистываю страницу за страницей и вижу прямо-таки живые, всамделишные графины, стаканы, человеческий череп, кинжал, до половины вытащенный из ножен, игральные кости. Потом пошли пейзажи, правда, не наши, не сибирские. Потом — всякие сценки с людьми и с животными. Много, наверно сто или двести, разных рисунков. Очень толстый альбом. Так долистал я до страничек, которые почему-то были сколоты скрепками. Но я скрепки снял и тут увидел такое, о чем в книгах писать не разрешается.
В дверях стоит Шура с чайником. Улыбается. И улыбка у нее тугая, натянутая.
— Ты, — говорит, — чего испугался, Костя? Это по необходимости нарисовано. Художник, как врач, должен знать насквозь всего человека.
Я сказал:
— Правильно, — хотя мне было не очень понятно, зачем рисовать себе в альбом то, чего все равно никогда нельзя будет нарисовать на картинах для публики.
И когда потом мы сели пить чай, долгое время мне все как-то неловко было глядеть на Шуру. А язык стал как в рукавичке — не повернешь.
Но человек не бочка, которую можно наглухо закупорить хоть на сто лет, тем более что сама Шура держалась свободно, со своей всегдашней приветливостью. И постепенно рукавичка сползла у меня с языка, разговор наладился, и такой, что мне захотелось рассказать Шуре все, даже то, как я однажды приходил уже к ней. Вы понимаете, сколько дней я томился, а выложить душу было не перед кем. И вот меня прорвало. Я говорил, говорил, сперва путался, запинался, выискивал какие пофасонистее слова, а потом пошло хотя и как придется, зато с чувством, прямо с дымом и пламенем. Так во мне потребность поговорить настоялась. А Шура подалась ко мне, смотрит в глаза, не отрывается, и я с расстояния чувствую, какой нежный пушок у нее на щеках.
— Бедный ты, Костя! — и покачивает головой сострадательно. — Только зря ты мучаешься. Если считать как Иван Демьяныч — жить будет вовсе нельзя. Не заплати за услугу — взятка. С рук не купи красивую кофточку — спекуляция. Да кому какое дело, если человек сам добровольно платит!
Это очень подходило к словам Шахворостова: что, если государству убытка ты не приносишь, плохого в твоих делах нет ничего. А коль рассуждать под Ивана Демьяныча, так у нас честных людей, пожалуй, и вовсе никого не найти. Шофер катит на пустом грузовике, за двадцатку подвозит попутного пассажира, газировки стакан тридцать шесть копеек стоит, а где тебе продавщица точно сдачу вернет? — четыре копейки очень просто у нее остается; едет в командировку человек, а оттуда везет домой целый чемодан гостинцев — в служебное время бегал по магазинам; прокурору жена на работу звонит по семейным делам, пятнадцать минут с ним разговаривает, а пятнадцать минут прокурорских стоят государству в зарплате не меньше чем три рубля. Словом, нет такого человека, которого нельзя было бы через какую-нибудь тонкую линию подвести под сомнение.
И я помаленьку опять успокоился. Не такой уж плохой Костя Барбин получается! Если Шахворостов по дружбе меня плечом подпирает, Леонид — чтобы своим благородством блеснуть, Шура — просто как человек.
На этот раз в почтовой каюте я засиделся очень долго. Хочу подняться, уйти, но Шура новый разговор начинает и непременно заинтересует тебя. А когда говорит, все в глаза смотрит. Поначалу от этого мне было тревожно, словно бы даже щекотно в груди, но потом я осмелел и сам стал искать ее взгляда, потому что и тревожил он и щекотал как-то по-особенному приятно, словно в жаркий день плескала мне в грудь прохладная волна и подымалась все выше и выше.
С Машей прежде мы часто вели похожие разговоры. Но у Маши мысли всегда убегали вперед далеко: «А вот когда…», «А вот если бы…» И за этими «когда» и «если бы» начиналась такая выдумка, которая в жизни вряд ли сбудется. Во всяком случае, в нашей жизни. А Маша верила: «Сильно захочешь, так сбудется».
Шура тоже строила всякие планы, но не начинала с «когда» и «если бы». Маша, бывало, начнет: «Костя, а вот если бы в Красноярск приехал Козловский…» Шура просто говорила: «Со следующего рейса, пожалуй, пойдет уже и клубника. Целое ведро наварю! Любишь пенки?»
В общем рассуждения Шуры мне нравились тем, что все они были вокруг предмета, а не вокруг идеи. В идею нужно вдумываться, вникать, да еще сразу как следует вникнешь ли, а предмет видишь глазами и, по русской поговорке, можешь даже рукой пощупать.
Короче говоря, от нашей беседы я ни капельки не устал. И когда по часам сообразил, что все же пора и честь знать, уходить мне еще не хотелось, все развязывал я последние кончики разговоров. Даже раз пять сказал «до свидания», а ручку двери никак не мог нажать. Бывает, зацепит что-то тебя и — крышка! Держит. Тогда либо садись еще на два часа, либо пересиль себя на секунду, действуй плечом, вышибай дверь и, как можешь, быстрее выскакивай. Так я и сделал. Нажал, не нажал на ручку — не помню, но дверь распахнулась, и я, что называется, пулей вылетел в коридор. Вылетел и — чуть не сшиб Машу.
Она не ойкнула даже, но я видел, что она очень перепугалась, прямо переменилась в лице. Однако все же сказала:
— А я тебя, Костя, ищу. Так ищу…
В словах Маши не было ни крошки обидного, но я почему-то не нашел ничего лучше, как глупо хихикнуть: «Кто ищет, тот всегда найдет».
Дурного смысла в эти слова заведомо я, конечно, не вкладывал, а получилось явно с таким оттенком: знаю, мол, что ты меня выслеживаешь.
Случается с вами или нет, а у меня так часто бывает: ляпнешь какое-нибудь слово, и кажется — здорово! А через минуту сообразишь, дикость. Но слово не воробей, вылетит — не поймаешь.
Когда я был маленьким, девчонок я и лупил и таскал за косички так, как все мальчишки. Но Машу разу одного пальцем не тронул. Почему — сам не знаю. И не знаю — обидь я ее, как, какими глазами взглянула бы она на меня, но уж я — то на нее поглядеть ни за что бы не смог. И вот теперь я понял: ударил Машу. Очень сильно и очень больно ударил. Понял, что сказал дурацкие слова. И сам скорей отвернулся. Лебедкой не поворотить бы мне после этого к Маше голову. Лица, глаз Машиных я не увидел, только услышал, как прерывисто она перевела дыхание. А потом еще услышал, как по железному полу простучали ее каблучки. И шаги были неровные.
Вы, конечно, сейчас подскажете: побежать мне следовало за Машей, остановить ее, извиниться. Да, теперь это я и сам понимаю. А тогда дверь почтовой каюты оставалась открытой, и я уголком глаза все время видел Шуру, каменно застывшую с пачкой печенья в руке, которое она мне предлагала взять с собой, погрызть на вахте, а я, прощаясь, ломался, не брал. И я не побежал за Машей, я молча вернулся в каюту, взял у Шуры из руки печенье и так же молча ушел.
А вечером состоялось комсомольское собрание. На повестке дня значился только один вопрос: «О неэтичных поступках комсомольца К. Барбина». Председателем выбрали Машу. Но она отказалась: дескать, страшно болит голова. Тогда на председательское место сел Вася Тетерев. Я даже не запомнил: выбрали его или он сел просто сам. Наверно, все-таки выбрали.
Для этой книги я исписал бессчетное количество страниц насчет собрания и все выбросил. Правильного описания не получилось. В голове у меня осталась от всех выступлений сплошная путаница и туман. Я завидую тем писателям, которые сочиняют про комсомольские и партийные собрания так, будто сами они вели протокол. Скажу вам откровенно: я так сперва вообще даже попробовал прямо вклеить сюда копию с протокола. И опять не выходит. В протоколе, оказывается, записано вовсе не то и не так, как говорили на собрании.
Остались от этого вечера в памяти у меня только какие-то обрывочные свои мысли и чужие слова. Помню, было такое чувство, что жарят меня без масла на сухой сковороде, и мне все хотелось вскочить, заорать и потереть подгорелые места, но сковорода прикрыта тарелкой, и встать я никак не могу. Это, наверно, знакомо и каждому из вас, кого прорабатывали вот так, на общих собраниях.
Помню, как делал обо мне сообщение Вася Тетерев, все кашлял в ладошку, и мне казалось, что он накашлял туда очень много — возьмет и вытряхнет куда-нибудь под стол. А какие слова говорил он — не знаю, потому что слова его никак не относились ко мне, вернее, к душе моей, к тому, какой я есть, каким я сам себя понимаю. И я глазами все время искал того, К. Барбина, о котором писалось в повестке дня и о котором стеснительно докладывал Тетерев. Тот Барбин был для меня совершенно посторонним человеком, и я даже думал: поможет бедняге добрая Васина критика или не поможет?
Запомнилось мне еще, как долго никто не хотел выступать первым. И я чуть было сам не поднял руку. О Васином К. Барбине мне очень хотелось выступить. Но все как-то жалеюще глядели на меня, и тогда вроде бы издали, потихоньку заползла в сердце тревога: да ведь это же сейчас обо мне говорил Вася Тетерев! И это меня сейчас начнут драить с песком.
Первым выступил Петя, Петр Фигурнов. И я понял только одно: обида на меня у Фигурнова еще не перекипела.
Потом кто говорил — не знаю, и что говорили — не помню. Скорее всего потому, что в левом боку у меня началось страшное колотье и я не столько слушал ораторов, сколько тискал кулаком свои ребра.
Может быть, это случайно совпало, а может быть, даже колотье прекратилось и раньше, но мне легче стало дышать, когда заговорила Шура. В протоколе ее выступление записано так: «Дело Барбина, которое мы сегодня обсуждаем, не стоит потери нашего времени. Ничего опасного для него самого, для комсомола и для общества в поступках Барбина нет. Если так, то нужно обсуждать каждого из нас подряд, притянуть что-нибудь любому комсомольцу можно. Я протестую, что «ради примера», как сказал Тетерев, хотят отыграться на одном Барбине. Что он — горький пьяница? Что плохого для юноши выпить глоток вина! Он не безобразничал. Облил пассажиров водой? Рука может сорваться у всякого. Хохотал? Смешно, когда комсомольцам хохотать запрещается! О главном обвинении, о взятке, я и говорить не хочу. Видимо, наш секретарь Вася Тетерев не знает, что называется взяткой. Что говорить о том, чего нет?»
Шура выступила как-то врасплох для меня. А Машу я ждал. Долго ждал. Почему — не объяснить. Впрочем… Собрание она не стала вести. «Голова заболела!» Кто-кто, а я этому разве поверю?
Когда Маша начала свою речь, у меня уши сразу заглохли. Да, конечно, теперь от нее такого я только и ждал! С яростью, с гневом, как про какого-нибудь жулика Лепцова, говорила Маша, и хуже всего, я сам чувствовал, что Машин Барбин — вот это я. И хотя закончила она так, что, дескать, Барбин все же хороший комсомолец, хороший товарищ и что за меня может она сама на будущее честью своей поручиться, — мне было уже все равно. Я видел себя рядом с Лепцовым в шикарном особняке, купленном на казенные деньги, среди ковров и зеркал, и даже лепцовская собака вертела у меня перед самым носом своим обрубленным хвостом!
Какое решение приняли на собрании, я узнал после — указать комсомольцу К. Барбину и так далее, — а тогда все слова резолюции пролетели мимо меня. Не помню даже своей речи. Кажется, давал обещание исправиться. Но это и все на собраниях так говорят. И я сказал так потому, что надо же было что-то сказать, а душу в это время закупорило.
Последнее, что я запомнил от собрания, — веселое Васино лицо. Его круглые щеки, пухлые губы. Он подошел ко мне, когда в красном уголке никого уже не было, а я все еще сидел, как козявка, пришпиленная для коллекции к картону. Вася покашлял в руку и прямо-таки нежно сказал:
— Ну вот, Барбин, я так и рассчитывал. Проработали тебя сегодня здорово. А хорошо прошло собрание, правда? Как остро выступала Маша Терскова! Принципиально, с обобщениями. И Фигурнов — ничего. Ты тоже хорошо, принципиально выступил. Не стал оправдываться. Молодец! Я думаю, теперь тебе нужно только стать поактивнее, включиться в общественную работу. Это очень поднимет тебя.
Глава одиннадцатая Машин разговор
Проснулся я совершенно свежий. Настроение такое, что не будь надо мной потолка, я, как ракета, поднялся бы прямо в небо. Все, что за эти дни накопилось у меня внутри, после вчерашнего собрания сразу куда-то прочь отошло. Так бывало в детстве со мной. Набедишь чего-нибудь. Кричит мать, ругается, а сам ты страдаешь никак не меньше ее, пока ремень не возьмет она. Выдерет как следует, поревешь во все горло и — тишина, спокойствие. В комнате и на душе у тебя. Легко-легко. Даже песни петь хочется.
Открыл я глаза — Тумарк Маркин глядит на меня. Челочка к самым бровям у него спустилась. Потягивается, говорит:
— Сегодня новую жизнь на «Родине» начинаем. Так, что ли, Костя?
В другой бы раз, пожалуй, взвинтился я: этакий цыпленок, а говорит так, будто он секретарь райкома комсомола. Или, на крайний случай, инструктор. Но тут я нисколько не рассердился. Пружиной выгнулся на койке — бедная даже хрустнула, — соскочил на пол, на носочках еще попрыгал, чтобы окончательно ноги размять.
— Да уж начну, не беспокойся.
И побежал в душевую. Хороша енисейская водичка на севере! Но вроде бы даже еще тепловата. Со снежком бы сейчас, ледяной крупкой растереть себе кожу, чтобы горела, пыхала изнутри.
Возле кухни с первым штурманом встретился.
— Ну как, Барбин?
— Как полагается, Владимир Петрович!
— Добро.
На кухне помощница повара Лида — тоже критиковала вчера на собрании — наложила в тарелку мне каши целую гору, а масла в нее столько лила, лила, пока я сам не взмолился:
— Да хватит же, Лидочка! Не ослепнуть бы мне.
Так она и после этого еще две ложки плеснула.
— Ничего, не ослепнешь. Кушай себе на здоровье.
Кто-то из матросов на ходу сунул пачку папирос мне в руку: «Кури, Барбин». Хотя, вы знаете, и не курю я вовсе.
Словом, ото всех внимание прямо удивительное. Получается: стоит почаще попадать в такие истории.
Перед вахтой забежал на минуту к себе. Шахворостов один, сидит на постели, на голове ямки щупает. Увидел меня, потянулся за подушку, причмокнул:
— Промочим капельку горло? А?
— Обязательно! — говорю. А сам из руки у него бутылку — раз! — и вышвырнул в иллюминатор. В бутылке было на донышке, не то Илья, наверно, сошел бы с ума.
Вообще мне ужасно хотелось озорничать. И я теперь очень хорошо понимаю телят, когда они скачут по лугу, трубой задрав хвосты.
На корме, пока не было никого, я даже рискнул сделать сальто. И представьте себе: вышло! Хотя до этого акробатикой я никогда не пробовал заниматься, боялся шею свернуть.
С особым удовольствием в это утро я драил и медные ручки. Хотелось, чтобы сверкали они чистым золотом. Прошел капитан.
— Работаешь, Барбин?
— Работаю, Иван Демьяныч.
— Черт тебя подери-то!
И я уловил в голосе у него крепкую веру в меня: «черта», говорят, пускал он только в самом крайнем случае. Ох, и вызолотил же я после этого ручки!
Поднялся со шваброй на верхнюю палубу. Вот те на — дождь! Откуда только он взялся? Или тучи сами так быстро набежали, или мы под тучу въехали? Скорость у теплохода как-никак двадцать восемь километров в час!
Правда, дождь небольшой — «моросявка». Но все-таки палуба быстро намокла и заблестела. Пассажиры все разошлись по каютам. Зато мне полнейшее раздолье, никто не мешает. По другому борту Петя, Петр Фигурнов швабрит. В это утро он сам первый подошел ко мне, сказал:
— Ну вот, Барбин, теперь конец. Вчера последнее перегорело. Могу о чем хочешь с тобой разговаривать. Это для ясности.
И даже шея у него стала вроде бы покороче.
Я упоминал раньше — «утро». Но здесь, где белые ночи, это только для обозначения времени. В пасмурную погоду, по сути дела, и ночь и утро здесь одинаковые, причем даже не белые, а бледные, вот как люди без румянца и без загара, вроде Васи Тетерева. Природа в такую хмарь словно цепенеет. И просыпается она постепенно и долго. Там рыба плеснет, бухнет по воде широким хвостом; там птаха какая-нибудь чирикнет; там комаришка заблудящий над головой зазудит; там ветерок пролетит над теплоходом, мелкую капель со снастей стряхнет. На юге, да в ясную погоду, утро начинается не так — веселее и вдруг.
Можно сравнить с человеком. Один рано проснется и в постели лежит, потягивается, вертится с боку на бок, зевает. Потом сядет, одежду свою искать начнет, засунет в рубашку голову, а рукава никак натянуть не может. Это пасмурная северная ночь. А другой человек глаза открыл, пружиной на постели подскочил, как я сегодня, — раз-раз — давай гимнастику делать, а потом — ух — холодной водой себя с головы до пяток. И побежал на работу. Это ночь южная, ясная. Какая из них лучше — не знаю. Любая по-своему хороша. Но сегодняшнее утро изо всех было самое лучшее. В самой его серости, медленности было что-то ласковое и нежное. И хотя мне полезнее было репетировать Маяковского, я запел «Уральскую рябинушку».
Недалеко уже и до Нижне-Имбатского. Без малого тысячу триста километров от Красноярска мы отмахали. У другой реки, глядишь, это вся ее длина от устья и до самого тоненького ручейка, с которого она началась, а для Енисея, можно сказать, вовсе небольшой кусочек. На таком пути проплыли и город-то только один — Енисейск! Ну, лесопильный завод еще в Маклакове, десятка три деревень да сплавных и лесозаготовительных участков. И все. Вот она: тайга так тайга! А ведь сколько миллионов людей может она еще прокормить! Да вот мало кто едет сюда. Одни боятся, а другие просто не знают, как развернуться здесь можно. Н-да, как говорит Иван Демьяныч.
А дождь-моросявка все брызжет и брызжет, и когда такой дождь — он даль закрывает. Кажется, что теплоход скользит по круглому озеру. И вода в реке становится какая-то странная, по-прежнему режет ее нос теплохода, а того веселого звона, как в жаркий день, уже нету. Шуршит, как песок. Из-под винтов пена вырывается тоже вовсе другая — серая. А в тихий солнечный день она белая-белая, и под нею словно бы стелется зеленая дорожка.
Фигурнов подошел ко мне. Теперь не закручивает винтом свою шею, держит ее по-человечески и по-человечески разговаривает. Оказывается, в Сургуте, где ночью ненадолго мы останавливались, живет у него сестра замужняя. Так Петя мой успел сбегать в самый дальний конец села. Поднял сестру с постели, а поговорить не пришлось — «Родина» дала первый гудок, и Фигурнов помчался обратно. А все же доволен, рад. Повидал сестренку. И даже голос ее два раза слышал. Когда в окно стучал, спросила: «Кто там?» — и потом, когда от окна удирал во все лопатки: «Петенька, ты куда?»
— Ну, ничего, — говорит, — все-таки убедился: жива и здорова.
Н-да… А я вот не повидал в Енисейске деда, хотя «Родина» стояла там целый час и ходьбы до дедова дома было не больше пятнадцати минут. Откровенность за откровенность, рассказал я об этом Фигурнову. Говорю:
— Сам не знаю, как получилось… А было у меня тогда чувство такое, будто я куда-то иду, но не туда, чего-то делаю, но не то, кого-то слушаю, но не того. Словом, пока искал себя — забыл деда.
Откуда-то Вася Тетерев вывернулся.
— Это у тебя, Барбин, оттого метания такие, что в общественной жизни ты мало участвуешь. Я это тебе и после собрания говорил. Надо активнее участвовать в общественной жизни. Это тебя очень поднимет. Я ведь тоже через это прошел. И у меня в раннем детстве так было: то мне хотелось быть очень хитрым, вертким и ловким, то, наоборот, резким, прямым и принципиальным. И я думаю, мог бы я, как ты, запутаться, — покашлял Вася, воздух ладонью, как собачку, погладил. — Ты вот понял ли, Барбин, из какой беды я тебя вытащил?
— Спасибо, — говорю. — Как не понять — понял.
— В принципе, Барбин, очень хорошо, что ты уже включился в самодеятельность. Но сейчас для тебя этого мало. Я дам тебе еще комсомольское поручение. Это очень важно. Ты сам увидишь, как это сразу поднимет тебя.
Уж на что было в этот час радостное настроение у меня, кажется, заставь на лямке против течения тащить наш теплоход — потащил бы. И даже с песней. А от Васиных слов я скис.
— Может, Тетерев, хватит с меня пока одной самодеятельности, — говорю. — Не наваливай на меня сразу целую гору.
Вижу, на лице у Васи страдание.
— Да нет, Барбин, надо. Я подберу тебе что-нибудь по силам.
И скорее ходу от нас. Понимаю: трудно ему другим давать поручения. Куда приятнее, легче самому сделать. И еще понимаю: если чем он теперь и нагрузит меня, так я тоже потихоньку отделаюсь. Сам же он приучил нас, по мягкости своей, к этому.
Пошел Вася и вдруг воротился.
— Да, вот что, Фигурнов, в Нижне-Имбатском нужно сгрузить сто двадцать четыре места, и есть заявка на погрузку тридцати двух мест. Все документы я приготовил. Организуй, пожалуйста. А я посплю пойду, просто терпенья нет никакого, глаза слипаются. И что-то знобит меня.
Фигурнов — старший матрос, и боцмана при надобности он всегда замещает. Остались мы. Петя, Петр говорит:
— Придется с подвахты ребят еще разбудить. Так нам не справиться, долго заставим стоять теплоход. Давай уговоримся: я буду в трюме, а ты за грузом следи на берегу. Трапы — тоже твоя забота.
Пошел я будить матросов из очередной подвахты. Встают, хотя и ворчат. Только Шахворостов сразу вскочил горошком.
— Вот, — говорит, — спасибо. Хорошо, что разбудил. В Нижне-Имбатском мне позарез на берег нужно.
— Тоже прекрасно, — говорю, — на берег и будем кули выгружать.
— Я не буду. Мне нужно в село сходить.
— Мало ли что!
— Да пойми же ты… к девушке!
Смех разобрал меня — такое встревоженное было лицо у Ильи. А влюбленности в нем чего-то я не заметил. Сразу представилось мне, как он, этак сверкая белками, с девушкой своей разговаривать будет.
— Сходишь, если успеешь. Вот в подарок ей двадцать кулей крупы и сахару отнеси. Будет рада.
А он — без шуток.
— Грузить не буду. Пойду в село. Ты чувств человеческих, что ли, не понимаешь?
Слово за слово, и чуть до ссоры у нас не дошло. Он один не станет грузить — представляете, скандал какой ребята подымут? И тут как-то обмолвился я, что вроде за старшего буду на берегу. Илья моментально и ухватился.
— Тогда так — чего проще! — сразу же удеру, а ты, при случае, скажешь ребятам: по делу боцман послал. Кто тут следствие наводить будет! Сумею пораньше вернуться — тоже поработаю. А не то, ну, Костя, что тебе самому стоит за товарища лишних двадцать кулей на берег снести? Эх, был бы я такой богатырь, как ты!
А «Родина» к пристани уже разворот делает и подходный гудок дает. Спорить больше некогда. Побежал я в пролет готовить трапы. С Тумарком Маркиным спустили их с подвесов. Грохнул якорь, теплоход весь затрясся. Ждем, пока судно подтянется к берегу поплотнее. Владимир Петрович наверху командует, в рупор кричит, машинный телеграф названивает. От воды теплый рыбный запах идет. Вот удивительный этот запах. В реке он есть, а зачерпни воды ведро — ни чуточки. И еще я заметил: чем теплее вода, тем сильнее она рыбой пахнет. Вскипятить весь Енисей — наверно, отличная уха получилась бы.
Люблю я, когда теплоход медленно-медленно к берегу прижимается. Ты стоишь у борта и заметишь на дне какой-нибудь светлый камешек. Вот он помаленьку все приближается, приближается, форму свою меняет, а потом и вовсе под корпус теплохода уйдет. Ты новый камешек выбираешь. Еще новый. Еще… И такое у тебя впечатление создается, словно не лебедка тросом подтягивает теплоход к берегу, а ты его тянешь глазами от камешка к камешку.
Дождичек все брызгает. На берегу стоят шесть пассажиров. Женщины. А вещей при них — горы. Без вещей женщины не могут ездить.
— Бросай трапы!
Это Владимир Петрович кричит. Теперь его забота кончена, он может идти отдыхать или позвать к себе, в штурманскую каюту, начальника пристани и вместе с ним пить чай. Начинается наша работа, матросская.
Сбрасывать трап, пока он по роликам катится, — быстро. А когда в реку одним концом окунется, тут заминка. Надо выскакивать на берег, а иной раз и в воду и подтягивать трап за веревку. В жаркую погоду это просто приятно. В злую непогодь — тоже хорошо. Борьба с природой! А вот в такую моросявку — ни рыба ни мясо. Ни борьбы, ни удовольствия. Мокрая рубаха к плечам прилипает, и руки от этого становятся как связанные. Но в этот раз мне даже мокрая рубаха не мешала, и я удивлялся, чего Тумарк Маркин с Длинномухиным ежатся.
Не успели мы трап наладить, мимо нас — Шахворостов. Как козел на берег махнул, затрещал каблуками по гальке, в гору понесся. Длинномухин спрашивает:
— Куда это он?
Тумарк пожимает плечами.
Ну что тут будешь делать? Говорю:
— Не знаю. Кажется, Владимир Петрович куда-то послал!
Женщины с берега со своими узлами и чемоданами на теплоход потянулись.
— Стоп, — останавливаю их я, — обождите, гражданочки. Вы куда? Не знаете правила, сперва погрузка-выгрузка, а потом пассажиры? Будьте покойны, на берегу вас не оставим.
— Да ведь дождик идет!
— А мы, тетеньки, что, работать будем разве под крышей?
Представляете, если пустить, как они будут мешать со своими узлами? А тут нужно с выгрузкой быстрее развернуться. Одним словом, вежливо оттеснил их от трапа. Подал ребятам сигнал: «Начинай» — и не вытерпел — сам побежал в трюм за кулями, согреться. У трапа вместо себя Длинномухина поставил. Побоялся: навалят ему на спину тяжелый куль — пополам переломят парня, такой он тонкий и высоченный.
Люблю работать! Люблю, когда идешь с грузом! Дыхание у тебя чуть-чуть спирает и сердце постукивает: тук, тук, тук! А мускулы становятся твердые, неподатливые. Внутри же, в душе всегда звучит какая-нибудь веселая песенка. Первый куль несешь, все еще ты как будто скованный, плечи тебе жмет, поясницу тянет, шею режет. А разомнешься, разогреешься — тела своего совершенно не чувствуешь. Будто весь ты — это только глаза твои, сердце и дыхание. И еще: в ушах веселая песенка. А когда работаешь не один и бригада дружная, тогда особый задор. Не отстать, обогнать, красивее принять груз, с ним красиво пройти и красиво сбросить. Тут бывает большая разница, можно сказать, свое художество. Иной положит куль вдоль спины, заведет руки назад, за углы куля держится, а сам согнется в три погибели и бежит. Может, ему и не очень тяжело, а смотреть на него — нет радости. Потому что нет красоты в его труде, в его движениях. Нет осанистости. И такой только сбивает настроение у всей бригады. А другой ловко бросит себе груз на правое плечо, поближе к шее, левой рукой в бедро обопрется, спина прямая, взгляд вперед, а не под ноги — и идет с широкой, развернутой грудью, шаги печатает. Картина! Только поглядишь на него, и всякую усталость у тебя снимет. Самому так же красиво пройтись хочется.
Здорово я в этот раз нагрелся, разрумянился. Пожалуй, редко когда еще приходилось мне работать с таким удовольствием и с такой радостью.
Между прочим, на верхней палубе, я заметил, стояла Шура, хотя на больших пристанях чаще всего почту ей прямо в каюту приносят, а время было такое, что еще спать бы да спать. И оттого, что Шура глядела, как мы работаем, мне было особенно весело и тепло. И сам не знаю почему хотелось, чтобы Шура обязательно внимание обратила, как я ровно и гордо с кулем на плече иду.
А потом Шура исчезла, и мне словно бы холоднее сразу сделалось. Давит груз на плечо, и руки сами тянутся, чтобы поскорей его сбросить. Вот интересная штука-то!
Дали первый гудок. Женщины с узлами опять на трапы полезли. Длинномухин остановить не может. Я на помощь. Оттеснил на прежние позиции. А погрузка уже к концу: Малость погодя — и второй гудок.
Вижу: снова Шура на палубе. И снова у меня по сердцу что-то тепленькое проползло. Развернулся я в красивой позе, приглашаю теперь уже сам пассажирок. К месту из какой-то детской сказочки вспомнилось:
— Гуси-лебеди, домой!
Рукой помахал, словно в ней была хворостина. А одной из женщин даже чемодан поднес.
— Будьте любезны, гражданочка!
Третий гудок. Сверху команда: «Убрать трапы!»
Фигурнов спрашивает:
— Все в порядке, Барбин?
Отвечаю:
— Как часики.
И вдруг ударило в голову: нет Шахворостова. А сказать, не сказать — не знаю. Сказать? Тогда получается: это я отпустил его самовольно. Не сказать? Вдруг отстанет Илья. И будет на совести у меня, почему не сказал. Запутался я в мыслях своих.
У трапов поперечный зажим развязываю, а сам копаюсь, копаюсь, время выигрываю. Фигурнов злится:
— Да чего ты там возишься?
— Ну, узел, — говорю, — затянулся.
Владимир Петрович сверху тоже торопит. Вижу, делать нечего, нужно снимать зажим. Сбежал на берег в мокрый песок, взялся, будто кантую трап, а по сути дела, препятствую матросу, который за другой конец на теплоход его тянет.
— Барбин, ты трап держишь, что ли? — кричит.
Отпустил. А у самого в голове мысли, как зайцы, мечутся. Хуже всего, что сказал я сам Длинномухину, будто Илья пошел по поручению Владимира Петровича. Черт меня за язык потянул.
А пристанские мальчишки трос с причального столба уже скинули. Лебедка у теплохода на холостом ходу стучит.
— Поднять якорь!
Цепь по железной обшивке скребется, словно через сердце у меня ее протаскивают. Носом в реку помаленьку «Родина» разворачивается. Винты заработали, в берег волна ударила, рыбачьи лодки сразу на ней заплясали. Штурман Владимир Петрович, матросы, все вперед глядят, ждут, когда якорь выйдет. И тут, пожалуй, вижу я один, никто более — с берега кубарем летит Шахворостов. Прыгнул в чью-то лодку, шестом нажал раз, другой и — к корме теплохода, успел!
Отыскал я его.
— Ну и свинья ты, — говорю, — дать бы тебе в ухо за это!
Он ладошкой только прикрылся.
— Порядочек, Костя. Зато полный порядочек, — и подмигивает.
А я отошел от него сам не свой. Тридцать три куля вытащил — не устал, а тут коленки вдруг у меня задрожали.
Поднялся наверх, стал у перил, глотаю речной воздух. А он мягкий такой, прохладный, с мелкой дождевой пылью. Прежняя радость стала ко мне возвращаться: ладно, что все хорошо обошлось.
Вдруг замечаю: Маша. Тоже остановилась у перил. Но далеко от меня. Глядим друг на друга попеременно, а глазами никак не встретимся. И у меня почему-то нет вовсе желания подойти к ней, поздороваться.
Подошла она сама.
— Здравствуй, Костя! Тебя что-то совсем не видать.
Пожал я плечами: кому как. Дескать, говори дальше. Жду. Хочет — пусть обиду свою выскажет. Только у меня-то на нее обида во сто крат большая. Но я не стану начинать объяснения.
Все же повернул я к ней голову. Эх! Вечная ее смешинка в самой глубине глаз.
Не знаю отчего, но руки и ноги у меня сразу стали какие-то тяжелые, будто мокрая глина. Понимаете, как ни борюсь с собой, а к Маше у меня два отношения: одно — она старый товарищ мой, а другое — не я, а она порвала нашу дружбу.
Приготовился я, коли начнет Маша, все в лицо ей вылепить. И вдруг она говорит:
— Костя, куда бегал Шахворостов и почему он чуть не отстал?
Вот так приготовился! Вот так понял я, зачем она ко мне подошла! Нету прежней Маши, не стало начисто. И тут другого ничего у меня не нашлось.
— Куда Шахворостов ходил? Повидаться, — говорю, — со своей милой. А распрощаться было, наверно, с ней не легко.
— Костя, зачем ты правду прячешь? И еще подумай: зачем ты с таким оттеночком про девушку говоришь? От Шахворостова тоже занял?
— Занимать мне ничего не нужно. И сами с усами. Но если вышел «оттеночек», — говорю, — считай: виноват, не подумал, таких оттеночков я сам не люблю. А куда Шахворостов ходил, если тебе интересно и право на это есть, его и спрашивай.
Маша долго, очень долго молчала. Потом так, вроде бы про себя:
— Хотелось мне, Костя, чтобы ты с Шахворостовым поговорил. Как с товарищем. А ты не хочешь. Разве лучше, если и с ним снова, как с тобой, будет капитан разговаривать?
Жаром всего меня обдало. Но из губ удалось все-таки какую-то улыбку сложить.
— Не ты ли скажешь об Илье капитану?
— Возможно.
Никогда я не видел Машу такой спокойной. Мне почудилось в этом ее ответе ясное: «И о тебе это тоже я рассказала капитану». Вот как! Тогда и я медленно-медленно говорю:
— А почему ты считаешь, что я про Шахворостова неправду сказал?
— Почему? Костя, он вовсе не такой человек, чтобы на свидания с девушками бегать.
И опять мы оба замолчали. Не знаю, по какой причине Маша, а я потому, что вдруг дошло до меня: да, это так.
Маша опять начала первая. И снова о таком, чего я не ждал.
— Уважения к людям нет у нас. В Нижне-Имбатском кто-то женщин-пассажирок гусями назвал, хворостиной на теплоход стал загонять, а до этого под дождем час целый мокнуть заставил.
Ага! И это заметила? В третьем лице говоришь! Хочешь, чтобы в первом лице сам я сказал? Пожалуйста!
— Все это я сделал. Подумаешь, какая обида: «гуси-лебеди!» А в руках у меня и хворостины никакой не было, для смеху ладошкой пустой помахал. И насчет дождя — никто пассажирок этих из дому не гнал так рано на берег. Могли себе превосходно до второго гудка дома под крышей сидеть. Долго ли войти на теплоход!
— Костя, а ты сердце человеческое беспокойное в расчет не берешь? Как же они усидят где-то в деревне, когда теплоход на пристани уже стоит! Конечно, у них думы такие: «А вдруг уйдет?» Ведь расписания мы сами не всегда точно придерживаемся.
— Не знаю, — говорю, — чего ты хочешь? Эти тетки теперь уже сто раз высохли и думать забыли про дождь. Будто в жизни их, кроме как сегодня на пристани, и дождем никогда не поливало! Все сделано, Маша, по правилам. Хоть самого Ивана Демьяныча спроси. Сперва погрузка, потом — пассажиры.
— «По правилам…» Костя! А с Шахворостовым вы в Красноярске пассажиров на теплоход сажали за деньги — это тоже по правилам?
— Нет, не по правилам, — говорю, а внутри у меня колючий комок какой-то разрастается, страшно недоброе чувство к Маше. — Нет, не по правилам. Только зачем нам с тобой после вчерашнего снова открывать комсомольское собрание? И еще: зачем тебе хочется обязательно приплетать ко мне Шахворостова, когда я один все это делал?
Выговорил и чувствую: сейчас мне в особенности врать противно, защищать Шахворостова. И еще противнее, что грубость свою вовсе нечем мне оправдать.
А у Маши в глазах огоньки погасли, лицо стало грустное. Она ничего больше не спрашивает. Но я теперь уже сам говорю, потому что дико на тех словах остановиться.
— У матроса, Маша, сама знаешь, заработок небольшой. А тут было все по доброму согласию. И я честно заработал, и пассажиры довольны, и государству убытка нет. А работал я как? На что сильный, и то плечи до сих пор болят.
Маша головой тихо покачивает.
— Каждый человек, Костя, у нас гордится своим трудом и трудом своих товарищей. Что же ты на комсомольском собрании не рассказал открыто и гордо, как ты — пусть только ты, а не с Шахворостовым, — как ты в Красноярске на посадке пассажиров хорошо поработал? — Не дождалась от меня ответа, и снова: — Ты говоришь, Костя, по доброму согласию? Люди купили билеты по цене, которую установило государство. И все. Зачем же еще им «доброе согласие» матроса? Говоришь: «Вещи носил». А за подноску вещей по сто рублей не берут. На это есть тоже государственные расценки. Просто ты отнял хорошие дешевые места у кого-то другого, кто имел на них такое же право. И получается, что ты отнял деньги у своих пассажиров. Так ведь, Костя? Да, конечно, это «доброе согласие». Только в чем согласие?
Нечего, ну совершенно нечего мне на это Маше сказать. А она все грустнее становится.
— Говоришь еще, Костя, что государству убытка нет. И это неправда. Государству есть убыток, есть оттого, что у него одним честным гражданином стало меньше. Сегодня ты кого-то за деньги по билетам провел, а завтра — проведешь и совсем без билетов. Грань тут уже небольшая. Я вчера не смогла об этом сказать, а сегодня хочу, открыто, в глаза, как товарищ…
Если бы насчет грани не прибавила Маша, я бы стерпел, так, как терпел на собрании. С той только разницей, что я знал: там меня по Васиному замыслу «прорабатывали», а тут сам по себе и от самого сердца идет разговор. Машины слова о «небольшой грани» все смели начисто! Если так она теперь меня понимает… Если думает: Костя Барбин — вор… Довольно! Учителей у меня и без нее хватит. Со Столбов это началось — теперь закончится. Развернулся я этаким фертом, руку Маше тиснул, аж она вскрикнула, растянул на лице широченнейшую улыбку и по-лягушечьи квакнул:
— Бл-гдарю! Будет еще что-нибудь?
Она отступила, потом снова метнулась ко мне:
— Костя… Костя, да как ты можешь?..
Но я смеялся. Вернее, выжимал из себя смех.
И тогда Маша тихонько стала отодвигаться, отодвигаться от меня, перебирая руками по мокрым от дождя перилам.
Ушла.
Спустился и я к себе. Лег на постель. Хотел думать, но никаких мыслей не было. Утренняя радость пропала.
А в иллюминатор лился белый свет, живо плескалась река, и, хотя солнца не было, по стене бегали неяркие зайчишки. И от этого злость, обида, досада и прочая дрянь в душу тоже не лезли. Получился я как бы пустой.
Так я долго лежал. А когда пришел в себя по-настоящему, глянул на ноги. Лежу в ботинках…
Глава двенадцатая Природа не терпит пустоты
Илья Шахворостов сказал: «Плюнь на все — береги свое здоровье».
Сказать легко, а как это сделать? И даже не сделать, а только повернуть свои мысли на этакий лад.
Илья еще прибавил: «Не понимаю, чего тебе надо? На собрании сошло, как с гуся вода. Так оно и должно было получиться. На полсотни ты пострадал? Сам виноват. От собственной глупости. Ну, уж если хочешь, так и эту полсотню возьму на себя. По-дружески. Так, как и ты меня выручаешь всегда».
Нашел тоже чем поднять настроение! Будто я какой-нибудь Лепцов и деньги для меня дороже всего.
Фигурнов — тот иначе понял: «Знаешь, ты себя не приневоливай. Жди, пока грусть сама испарится. Душа у человека, она насилия не любит, она сама себе, когда нужно, место находит».
Это я — то, Костя Барбин, должен ходить и прислушиваться, где и что делает у меня душа, и ждать, когда что-то там испарится!
Тумарк Маркин так просто принес шахматную доску, расставил фигуры и снял одного своего коня: «Давай поиграем, Костя».
Я вам, кажется, уже говорил, что в шахматы я играть не умею и не люблю. Но все же разбираюсь, какая фигура что значит. Спрашиваю Тумарка:
— А ты знаешь, что я, даже не глядя на доску, победить тебя могу? Зачем ты лошадку снял?
Тумарк туда и сюда вроде:
— Да это я нечаянно…
А мне понятно: хотел человек пятачок подать на бедность.
Вася Тетерев подходил несколько раз: «Барбин, а что, если тебя ввести в состав редколлегии стенной газеты? Я думаю, тебя это очень поднимет». Он и забыл вовсе, как меня однажды, еще на «Лермонтове», выбирали уже в редколлегию и как тогда я ничего в ней не делал.
В общем на теплоходе все помаленьку, и каждый по-своему судьбой моей и настроением моим интересовались. И всяк давал свои советы. Но все они, вместе сложенные, пользы не давали никакой. Только на кухне Лида теперь лила мне все время в кашу тройную порцию масла, и от этого, надо думать, польза была.
Короче говоря, все как-то старались меня наполнить, а я, сам не знаю почему, оставался пустой. Нес вахту, делал все, что полагается вахтенным, а чувство было такое: бездельничаю! Для моей ли это силы раз в день шваброй на палубе покрутить или трапы сбросить! А выгрузка не на каждой пристани. Очень люблю я смотреть на реку, на берега. Но тут пошли такие прямые и похожие друг на друга плесы, что разве только один Иван Демьяныч и мог бы различить их, не заглядывая в лоцию. И потому мне даже Енисей казался скучноватым, не таким, как всегда.
Протомился я до самого Туруханска. Город маленький, старый, деревянный, и рассказать о нем нечего. Разве только то, что жили здесь в ссылке Яков Михайлович Свердлов и Сурен Спандарян и в их домиках теперь устроены музеи, куда обязательно заходят все проезжающие. Я каждый раз захожу. Посмотришь на стены, на фотографии, на вещи — и сразу представишь старое, царское время, как мужественно люди боролись с самодержавием. Вот и теперь поднялся я на берег, постоял с народом в музеях, послушал, что рассказывает экскурсовод. Хотя и не первый раз слышу, но все равно интересно. А потом побродил по улицам и, между прочим, зашел в аптеку купить зубную щетку.
С этого и началось.
В аптеке последнюю щеточку кому-то продали как раз передо мной, сказали: «Есть в промтоварном магазине». Но магазин закрыли у меня под самым носом на обеденный перерыв. Тогда я на базаре купил кедровых орехов. Попробовал — вкусные. Набил ими оба кармана в шароварах, иду щелкаю, но, представьте, все до единого орешка теперь попадаются только гнилые. Во рту стала мерзость такая, что хоть наново язык заменяй. И я вернулся снова на базар, купил маленький стаканчик свежего, жидкого меда, чтобы пересилить во рту ореховую гниль, поднес к губам и — не знаю как — опрокинул себе на тельняшку. А стаканчик выпал из рук, ударился о камень и разлетелся вдребезги.
Торговка — в крик: «Плати, матрос, убытки!» Что ж, справедливо. Пожалуйста. И хотя, извиняюсь, все пузо у меня мокрое, липкое, я — руку в карман, чтобы за мед и за разбитый стакан заодно рассчитаться, но карман до отказа набит орехами, а все деньги у меня лежат где-то там, под орехами. И в это именно время «Родина» дает второй гудок. Я выгребаю орехи на прилавок, они облепили мне пальцы, никак стряхнуть не моту, торговка сердится, вокруг смеются.
Мимо бежит Длинномухин, цап меня за тельняшку: «Айда скорее… — И тоже вскрикнул — перепугался липкого: — Барбин, что с тобой?»
А дальше просто не поверите: выдумываю, скажете, сюжет для комедии в кино. Сколько раз, бывало, выходил я на берег в Туруханске, но никогда не видел там милиционера. А тут, точненько как в кино, заверещал над ухом его свисток. Начни объяснения, скоро никак не отвяжешься, а третий гудок вот-вот прогудит, до теплохода же не так-то близко… И приударили мы с Длинномухиным во всю прыть…
Ну, сами понимаете, что тут поднялось! Тетки-торговки вопят, милиционер свистит, мальчишки тоже, собаки — а в Туруханске их на каждый двор по пятку, — собаки лают, доски на высоких тротуарах под ногами, как барабаны, гудят. Длинномухин легкий, вырвался вперед, но дядя какой-то с мотком веревки на плече понял, видимо, так, что длинный парень обокрал меня, а я его догнать не могу, — и запустил вслед Длинномухину свою веревку. Тот ногами запутался в ней. Ну, юзом, понятно, с разгону так и шаркнул с тротуара в канаву. А там жидкая грязь…
Комедия на этом кончилась. Смешного больше ничего не было. Началась драма.
Вернулись мы на теплоход оба в грязной одежде. Длинномухин еще и с поцарапанным лицом, а за то, что вбежали мы по трапу в самый последний момент, когда конец у него висел уже в воздухе. Владимир Петрович сверху в рупор назвал нас довольно-таки выразительно. Шахворостов зато сказал с удовольствием:
— Ну вот, и не я один так делаю.
Обо всем этом я рассказал вам потому, что после этого сразу мое томление, как пробку из бутылки шампанского, вышибло. Перетряхнуло, и пришла хорошая веселость, совсем не такая, какую все эти дни я на себя силой натягивал. Пустота заполнилась превосходнейшим настроением. А ведь могла бы вместо него и дрянь заползти. По закону-то физики «природа не терпит пустоты», и ей все равно, чем ее человек заполнит.
Скинул я залитую медом тельняшку, пошел в умывальник. Там на полочке лежит кем-то забытая мыльница. Еще утром бы я поглядел на нее скучно, да так и оставил бы. А тут взял, привязал к крану на ниточку и записку еще прикрепил: «Ау! Где мой хозяин?» Мне очень хотелось, чтобы и еще кто-нибудь посмеялся.
Вы, наверное, умеете делать бумажных чертиков, в которых подуешь и они подымут свои рога? Дети страшно бывают рады, когда для них неожиданно изобразишь из листа бумаги такое чудо. Или — очень простой фокус. На глазах у всех «втереть» себе у локтя в кожу голой руки копейку, а потом «выщипнуть» ее у вас, допустим, из носу. От этого не только дети, но и взрослые смеются, особенно девушки.
И я пошел на корму теплохода, где всегда бывает больше всего детворы и вообще скучающих людей, и показал им не только эти, но и другие еще веселые штуки. Вроде того, как из носового платка можно десять различных предметов сделать.
Тут меня за этим занятием и застал знакомец мой, седой инженер из экспедиции, Иван Андреич.
— А, вот это кто, — говорит, — здесь черной магией занимается. Впрочем, я тоже могу. — Сцепил плотно кисти рук и протягивает какой-то девчонке:
— Ну-ка, шустрая, сосчитай, сколько у меня пальцев?
Та проверила: девять. Еще раз и еще раз: все равно девять.
— Дедушка, ты калека?
Разнял руки Иван Андреич, показывает — все до единого пальцы на месте.
— Ага! Что? Вот и я, оказывается, фокусник.
Долго смешил малышей. Потом стал уже и отмахиваться:
— Хватит, хватит!
Мимо нас Шура прошла. На минутку остановилась, поулыбалась. И я не понял, кому это: мне или Ивану Андреичу? В этот момент мы с ним рядом стояли, а смешил детишек он один. Шура тут даже слова не выговорила и никакого мне знака не сделала, пошла себе дальше спокойненько. Но если бы не Иван Андреич, я бы за ней пошел. Зачем — не знаю. Просто поговорить. Приятно, весело. Не все же мне с детишками забавляться! Но оставить одного Ивана Андреича мне показалось неловко, он все время со мной переговаривался, и я только глазами проводил Шуру. А Иван Андреич своими глазами проводил мои глаза.
После этого с ребятами мы повеселились недолго. Иван Андреич позвал меня:
— Зайдем-ка, парень, в каюту. Устал я. Помоги.
Не знаю, почему Иван Андреич сказал: «Помоги». Шагал он твердо, сам, без всякой моей помощи.
Зашли. Первый класс, конечно. Каюта одноместная. Вся койка и столик бумагами завалены. Готовальня раскрытая, светлой сталью циркули и рейсфедеры поблескивают. К стене привалены мешки брезентовые, синий поношенный комбинезон поверх них лежит. В общем сразу почувствовал я: каждый вершок в этой каюте мыслью, думой большой пропитан, любой предмет — такой же труженик, как сам хозяин.
Я понял тут: позвал он не зря. И я вам сейчас вперед уже объясню: весь этот наш разговор я потом записал прямо от слова до слова, потому, что когда меняешь в чужой речи слова, вроде и сам тот человек другим становится. А Ивана Андреича ни на какого другого я переменить бы не смог.
Посадил он меня к окну, на постели сдвинул вбок свои бумаги, полуприлег на подушку, затолкал ее себе под мышку.
Туруханск виден совсем уже вдалеке: серые деревянные домики на зеленом берегу и полосатая «колбаса» мотается над аэропортом. Где-то за рекой Нижней Тунгуской столбом дым стоит, опять горит, пылает тайга. С аэродрома сорвался, полетел в небо маленький, как мошка, ПО-2. Наверно, в патрульный полет, выяснять, широко ли разлился лесной пожар. Погасить его без дождя все равно вряд ли погасишь. Нечем. И некому. Проезжих дорог в этакой глухомани нету. А с самолетов только парашютистов можно там выбросить. Много ли выбросишь? Что они сделают среди болот и гор, если пожар разойдется на двадцать — тридцать километров, а то и на всю сотню?
Смотрит Иван Андреич на этот дым. Видать, очень он любит тайгу, и больно ему, что так сильно горит она, бедная.
— Ну, вот и опять наблюдаем варварство двадцатого века. Когда же все люди в Сибири это поймут? Когда научатся беречь от огня леса, народное достояние? Ведь не сама же тайга вспыхивает! Чьи-то руки спички зажигают сперва. Разгильдяйские, равнодушные руки. Что тайга! Она, мол, здесь несчитанная, гори сколько хочешь, никогда вся не выгорит. Да-а… — Сел попрямее, тронул седые подстриженные усы. — А я ведь, парень, в Туруханске проводил Николая Петровича. Пожалуй, как раз куда-то туда ему нужно лететь. Ну, пусть сверху посмотрит своими глазами, тогда, может быть, жалость и в нем шевельнется. Эх, Николай Петрович: «Покорить! Победить! Заставить отступить тайгу!» Будто враг она злейший… Зачем ее побеждать, если на человека она и не нападала? Зачем оттеснять ее, когда на правах самого близкого друга она рядом с людьми быть должна? Ну, это мой конек, парень, ты это можешь не слушать. Впрочем, слушай. Ты ведь тоже любишь лес, любишь природу. Защищай их всеми мерами. Даже, при случае, с кулаками. Как тебя звать? Хочется мне покрепче с тобой познакомиться.
— Барбин. Костя.
— Хорошее имя. — Он придвинулся поближе к окну, помахал рукой. — Ну, счастливого тебе пути на крыльях, Николай Петрович! Когда теперь снова встретимся?
— А я думал, Иван Андреич, вы с ним из одной экспедиции.
— Правильно. Экспедиция у нас одна. А отряды разные. И задачи у каждого тоже свои. Мне вот в Игарке обязательно нужно остановиться, побывать на мерзлотной станции, а потом поеду почти до самого океана, словом, до того места, где практически кончается вовсе течение реки.
— На «мерзлотке»-то, — говорю, — интересно. Я спускался в шахту, так там, в глубине, вся почва, как бурундук, полосатая — пластик глины, пластик льда. И так, говорят, хоть на сто метров врубайся в землю — то же самое будет. А в шахте у начальника «мерзлотки» лежит хранится свиной окорок. Может тысячу лет пролежать. Мамонтов же выкапывали целенькими и котлеты потом из них делали.
— Ну, вот, — протянул Иван Андреич, — то ты взрослый парень совсем, то ребенок. Смешал свои толковые наблюдения со всяческой чепухой. «Котлеты из мамонтов!» Это, Костя, тебе наболтали, а ты и поверил. Что ж, если Александр Михайлович тот свиной окорок еще не скушал, тысячу лет лежать ему не дадим, попросим зажарить. Но мне от Александра Михайловича нужно кое-что поважнее. У него есть интересные данные о поведении вечной мерзлоты вблизи больших водоемов. Придется ведь нам со временем строить плотину в далеких низовьях Оби, а может быть, и Енисея. Как там поведет себя мерзлота?
— А чего ее спрашивать, мерзлоту, — говорю. — Поставит человек плотину, и будет она стоять. Насыпать потолще, камней побольше в нее навалить, спаять бетоном. Теперь уже это дело плевое.
— Смотри-ка ты, «плевое»! Вот не думал я.
И кажется мне, что Иван Андреич просто поддразнивает, видит, какое резвое у меня настроение, и хочется ему весело поболтать, посмеяться над хвастливым парнем. Но я совсем перед ним не хвастаюсь, я чувствую, как играет сейчас силой большой у меня каждая жилка, и переношу эту силу на весь наш народ… Ну подумайте сами, если нужно, если захотеть, почему не построить?
— Я не говорю, Иван Андреич, что очень быстро поставить. А вообще.
— А вообще там можно плотину построить?
— Можно!
— Силы хватит?
— Хватит.
Вынул тихонько Иван Андреич из готовальни блестящий циркуль и начал им на листке бумаги круги выписывать. Не как чертеж, а просто, знаете, такая бывает привычка, в разговоре чем-нибудь свои руки занять.
— Да, силы, допустим, построить такую плотину действительно хватит… Ну, а как ты думаешь, Костя, если воздвигнуть плотину на вечной мерзлоте — ты сам сказал: «Хоть на сто метров врубайся в землю — то же самое будет», — разольется огромное море воды, хотя и холодной, но все-таки теплее, чем мерзлота, и будет эта вода помаленьку, год за годом, греть дно у нового моря… Как ты думаешь, не растает тогда мерзлота под плотиной? Не прососет где-нибудь в глубине мерзлоту теплой водой? Не рухнет тогда по недомыслию инженеров плотина, которую у народа сил хватит построить?
Сами понимаете, тут замялся я. Конечно, можно бы и поспорить, сказать: «Раз поставят люди плотину, так, значит, на такую глубину, что никакая вода под нее не подберется». Но это уже был бы у меня подходящий спор с Ленькой, а не с Иваном Андреичем.
А он словно бы и не заметил, что я споткнулся.
— Да, ведь я и забыл, что науку ты не признаешь. Науки, знания — для белоручек. А нам — потяжелей бы куль на плечо. Видел я, как лихо побрасывал ты их в Нижне-Имбатском. Силенка действительно у тебя подходящая. Одного, правда, не понимаю: не так уж часто матросу приходится тяжелые кули выгружать. И тогда, Костя, мне так кажется, ни сила твоя, ни ум твой не действуют — просто ты загораешь.
Страшно обиделся я на эти слова:
— Так выходит, Иван Андреич, по-вашему, я лодырь, чистый бездельник? Ежели интеллигентом быть не хочу, так уж не загорай. И ни минутки не давай себе отдыха. А я делаю точно все, что по должности мне положено. А загораю, когда время есть. Должность матроса это мне позволяет. Законно.
Перестал чертить круги Иван Андреич, внимательно глядит на меня.
— А! Это хорошо, что ты обижаешься. Значит, в душе своей ты не бездельник. Но вот что, Костя, друг мой, скажу я тебе. По должности матроса ты действительно делаешь все, что положено, и не по-казенному делаешь. Но есть еще такая превосходная должность, как говорил Алексей Максимович Горький, — «быть на земле Человеком».
Шутка сказать! Отвечать не только за порядок и чистоту на палубе своего теплохода, а за развитие, за движение вперед всего человечества. За свою судьбу, за жизнь, за счастье его. По должности человека — это главная его обязанность. Разве матросу не положено иметь по совместительству и такую должность? Разве плоха она? Не увлекает тебя? Не упрекаю тебя ни в чем. Просто разбудить в тебе, разжечь хорошую, чистую зависть к большому делу хочу.
Мозг человеку дан, чтобы думать, руки — чтобы работать, а кожа — чтобы загорать. У тебя, Костя, отличный загар. Ну, а как остальное? — Он хитренько улыбнулся. — Эх, парень, как мне хочется «быть на земле Человеком!» Да вот и сил уже не хватает, а знаний все еще маловато.
— Ну, у вас-то! — говорю. — Институт закончили. А то и два.
Иван Андреич и вовсе расхохотался.
— Даже три института. И еще «горьковские университеты». Но мало всего этого, парень, ой как мало! Еще очень многому я должен учиться. И учусь. — Он вдруг сердито насупил брови. И усы у него жестко встопорщились. — Нет, парень, при всякой другой — на должности человека нам следует быть обязательно. Всю силу свою отдай человечеству, весь свой ум, все сердце отдай человечеству. Как Менделеев, как Матросов отдай. Все, полностью! Больше, парень, скажу: отдай сверх того, что ты имеешь. Непременно сверх того! А чтобы отдать сверх того, что ты имеешь, нужно это «сверх того» приобрести. Приобрести, чтобы тотчас же отдать. И снова приобретать, и снова отдавать. И так без конца. Всегда чувствовать эту свою обязанность — отдавать. И постоянно искать, приобретать, чтобы всегда было что отдавать. Вот так, друг мой. Пути к этому у каждого могут быть разные, а цель одна.
Ты на досуге еще сам поразмысли. Размышлять о себе, о своем месте в огромном труде всего народа, о сделанном тобой и не сделанном, о запасах нетронутой силы своей, о лентяе, которого тоже приходится все-таки порой преодолевать в себе, — обо всем этом размышлять бывает, парень, очень полезно. Не пугайся: из речников уходить я тебя не зову, от физического труда не отговариваю, но человеческие свои обязанности, советую, ты пересмотри. Не маловаты ли они для тебя? Ох, жизнь-то у тебя впереди ведь какая большая, да, черт возьми, и какая интересная! Не измельчи ее.
Встал, тряхнул меня за плечо. И надо было встряхнуть, потому что от слов его малость я ошалел, каким-то другим сам себе показался, каким не привык себя видеть и понимать. Даже на собрании, когда меня прорабатывали. Совсем что-то новое тронул Иван Андреич во мне. Вроде бы до этого я вовсе не думал ничего, а он меня думать заставил. Или думал я, но как-то так: прыг-прыг с одного на другое; оборвалось, не получилось — тоже ладно, не беда. А теперь я почувствовал: не годится, начал думать — думай серьезно, с ответственностью. Ты не просто Костя Барбин, а человек — штука, оказывается, не простая…
— Вот ведь как разговор наш повернулся. — Это Иван Андреич сказал. Он прошелся по узенькой своей каюте, а шаги неровные, пятками пришмыгивает — старость никуда не денешь, как там ни заблестели по-молодому глаза у него. — А я, Костя, зазвал тебя ведь совсем не за этим. Хотел рассказать просто случай один из жизни своей. Но и для тебя со значением. Впрочем, не случай. Случай — мелко и пошло. А это — очень большое и серьезное по смыслу своему. Ты сиди, сиди. А я буду ходить. Так мне легче рассказывать. Тебе сколько лет?
— Девятнадцать.
— Ну, мне тогда двадцать первый шел. Студент в тужурке со светлыми пуговицами. Петербург. Превосходные лекции известных ученых. Глубины науки. Конечно, не во всех лекциях. Хватало в достатке и всякого мракобесия. Опекунов над нашими душами, парень, секретарей комсомольских организаций и агитаторов не было, — разбирайся сам, где «право», а где «лево». И устанавливай сам себе взгляды на жизнь, если родители тебе не установили. Но светлое всегда привлекает. Любимые писатели, философы. Жажда свободы и справедливости. Суровая правда жизни. Надежные товарищи. Короче, наставников у меня было много. А судьей своим поступкам я всегда был только сам. Один. Так сказать, неограниченная монархия духа, хотя как раз в этом году я примкнул к марксистам, вступил в партию большевиков. А это были, между прочим, и годы столыпинской реакции. Читал что-нибудь про такую?
— Изучали в кружке по «Истории партии». Знаю.
— Да… Но читать в наши дни, Костя, это одно, а жить тогда, в те годы, принадлежа к запрещенной политической партии, нечто другое. Когда-нибудь я расскажу тебе об этом — сейчас будет слишком в сторону от предмета. Сейчас я хочу только, чтобы ты запомнил, что наши характеры — твой теперь, а мой тогда — кое в чем схожи. Ну, вот хотя бы в этаком подрисовывании собственного «я» для самого себя.
— А что же, — говорю, — гнать самого себя на задворки, что ли, Иван Андреич?
Он тихонечко засмеялся.
— Выходит, я точно определил совпадения в наших характерах. И ты меня тоже правильно понял. Но, друг мой, я вовсе не осуждаю твой характер и не заставляю тебя ломать его. Бывают у хороших людей и похуже характеры. А я на это внимание твое повернул только затем, чтобы ты, слушая, — я буду рассказывать, — мои поступки уже на свой аршин мерял. Не подходит ли и к тебе что-нибудь.
Он не сразу потом начал рассказывать, все ходил взад и вперед. И мне даже подумалось, остановится и объявит: «Нет, не могу сейчас. Не стану», — такое у него было лицо. И еще подумалось: больше сорока лет, по расчетам, прошло, как что-то с ним приключилось, а в память ему, видать, крепко врезалось, и рассказывать об этом трудно.
Но Иван Андреич все-таки начал:
— В Петербурге я жил на квартире в простой семье. У мелкого чиновника комнатку, вернее, чулан снимал. Окон в моих апартаментах не было вовсе, а дверей — даже две. Одна на кухню, другая прямо в сени. Домик гнилой, деревянный. Впрочем, комнатка была теплая, как тогда говорили — «с хлебами», а свечи я за свой счет мог жечь сколько угодно. Вся семья у чиновника — жена и дочь Поленька, очень юная и очень красивая. Тихая, скромная. Голубые глаза и серебряный смех. Забота у главы семьи, как деньжонок скопить, собственную дачку в Парголове приобрести, хотя бы сарай дощатый, цвели бы под окном георгины и астры; заботы у женщин — создать домашний уют, подешевле да повкуснее накормить всю семью, ну и меня, квартиранта, конечно. Словом, для студента — рай земной.
Больше всех обо мне Поленька заботилась. Пока я на лекциях или на сходках, она мой чуланчик, как стеклышко, высветлит, одежду мою, белье в порядок приведет. Обедали мы все вместе за общим столом. А завтрак Поленька приносила. Ужин, если я очень запаздывал, тоже ставила в мой чуланчик, накрывала салфеткой и писала длинную записку — наставление: «Скушайте сперва то, а потом это, да если вам покажется, что соли мало, то соль в солонке, а если хотите горчицы, откройте белую фарфоровую баночку, горчицу я заварила свежую. Но лучше с горчицей не кушайте — на ночь это нехорошо». И вот так страницы две-три испишет. Читать немного и смешно и трогательно. Потому что не из шалости писала Поленька такие записки мне и не просто вкладывала всю свою душу девичью в заботы обо мне, — она, парень, любила меня.
И опять Иван Андреич заходил взад и вперед по каюте.
— Но мещанства во всем этом не было ни на волосок. Чистые, человеческие чувства. Правда, мир Поленьки был узок, но его можно было раздвинуть. Она сама стремилась к этому, она жадно слушала каждое мое слово, она пошла бы за мной в огонь и в воду. И не погибла бы. А теперь подумай, Костя, перенесись мыслью в те времена. Хозяин мой хотя и мелкий, но чиновник, то есть человек все-таки с положением, а я — студент, то есть черт еще знает, что из меня выйдет. А студенты, «скубенты», вообще не в чести у полицейского начальства, для мелкого же чиновника даже пристав — это уже сам бог Саваоф. Дорожи его милостью! Для родителей Поленьки, если бы они угадывали ее чувства ко мне, страшное горе, что дочь влюбилась в студента, потому что Поленька — очень милое существо и подыскать ей из своей, чиновничьей, среды не так уж трудно было, как тогда говорили, хорошую «партию». О, холостые сослуживцы Степана Степаныча не оставляли Поленьку своим вниманием! Но Поленька любила меня.
Мне захотелось спросить, а сам-то Иван Андреич любил ли Поленьку! Но он заговорил раньше, чем я приготовил свой вопрос.
— Это была, парень, любовь, что называется, «с первого взгляда». Когда я по газетному объявлению пришел смотреть их квартиру, мне дверь открыла Поленька. Старших в доме не было никого. Она стала показывать чуланчик, назвала условия и при этом краснела, извинялась, говорила, что это все, наверно, очень «плохо и очень дорого. Сам не знаю почему, но я почувствовал: Поленьке хочется, чтобы я снял комнату. Мне кажется, Костя, тогда я был красив, во всяком случае — молод, и цену себе я всегда сам устанавливал очень высокую. Но я согласился на те условия, что назвала мне Поленька, — для моего кармана это была находка. И мне еще очень понравилось, что Поленька так неотступно глядит на меня, и краснеет, и боится, что я отвечу отказом. В двадцать лет, парень, это очень волнует, это наполняет тебя каким-то необычным чувством, когда ты можешь или свершить великий подвиг, или сделать невообразимую глупость. Нет, это еще не любовь, Костя, это предчувствие, ожидание любви, которая у тебя, может быть, и вспыхнет, а может быть, и нет, но с той стороны, у того человека, ты знаешь, догадываешься — любовь уже есть, зародилась, во всяком случае существует нечто большее, чем у тебя. И эго приятно, потому что ты знаешь, что вот сейчас ты оказался сильнее, ты можешь собой управлять лучше, чем может управлять собою тот, другой человек.
Все это понятно вот так стало только теперь, в мои шестьдесят два года, а тогда было простым, безотчетным волнением. Оно было безотчетным, и все же двигало тобою, заставляло поступать так, а не иначе. И я поселился. Мне очень понравилась квартира, и родители Поленьки, и особенно ее неустанные хлопоты, и даже то, что я могу называть ее Поленькой, хотя она величала меня Иваном Андреичем, и то, что тихо, ненавязчиво она любит меня. Это я стал понимать через несколько недель. И месяц от месяца все яснее.
Из всех этих слов Ивана Андреича получалось так, что он-то сам Поленьку не любил, а мне почему-то хотелось, чтобы он любил. Но прямо спросить я не мог — такое суровое и торжественное было лицо у Ивана Андреича. Словно бы так: прищурясь, он смотрит в самого себя. Мне вспомнилось, раньше он говорил, что самым драгоценным в его молодости была одна девушка, потом жена, для которой и все реки текли и солнце светило. И я успокоился, я подумал: «Конечно, Поленька стала женой Ивана Андреича, но были, наверно, какие-то препятствия». И еще подумал, что, например, я — так сразу сломал бы любые препятствия.
— Видишь ли, Костя, что такое любовь вообще, рассказать невозможно. Если хватит таланта, способностей у человека, он может рассказать только об одной любви, о своей любви. Говорить о любви другого — это все равно, что выпить глоток вина вместо него и потом спросить: «Скажи, каково оно было на вкус?» Конечно, общие определения существуют. Для учебников психологии или словарей… Но я имею в виду, парень, живое, трепетное чувство, которое у каждого человека бывает только свое. Как тебе объяснить, почему Поленька полюбила меня? Даже себе я этого не могу объяснить. Как передать то, что ей думалось, когда она прибирала в моей комнате, или писала свои записки, или приподымалась у себя на постели — я это слышал, — когда я очень поздно возвращался домой и, чтобы не разбудить никого, осторожно поворачивал ключ в замке, запирая наружную дверь за собой? Как передать, с какими мыслями молча сидела она впотьмах на свой постели — я это угадывал, — сидела до тех пор, пока через неплотно прикрытую дверь моего чуланчика пробивался на кухню свет от свечи? Всего этого мне никак не объяснить. Но одно я знал и понимал: Поленька очень любит меня.
Иван Андреич перестал ходить, как-то тяжело подсел к окну. Там виден еще был дым лесного пожара.
— А я не любил ее.
И мне захотелось подняться, уйти, потому что мне стало очень обидно за Поленьку. Иван Андреич, наверно, понял это по моим глазам. Он тихо покачал головой.
— Но я, парень, не забавлялся ее любовью. Нет в мире ничего подлее правила Печорина: влюбить в себя девушку, а потом ее оттолкнуть. Сделать это с холодным расчетом. Ну, а как назвать, когда такие отношения складываются без всякого расчета? Сами собой. А ты вначале, этого даже не замечаешь. Если же и замечаешь — не вдумываешься глубоко. Кажется, вот у тебя и у нее приятно постучит сердце, и все пройдет. А скорее всего тогда вообще даже ни о чем не думаешь, а просто живешь приподнято, взволнованно.
Тут я прямо-таки закричал:
— Да почему же вы ее не любили?
Он ответил не сразу. Будто примерил сперва: можно ли вообще на это ответить?
— Потому что я любил другую девушку, Костя. Очень сильно любил. Наверное; так, как меня любила Поленька. С нею я познакомился на фабрике. Каторжный труд белошвейки. В девятнадцать лет черные круги под глазами. И страшная жажда жизни, большого дела, большого счастья. Я ходил на фабрику, как говорили тогда, «мутить народ». Выполнял поручение комитета партии и веление своей совести. Часто с фабрики мы уходили с Тамарой вместе. Один раз, помню, попали под дождь и долго стояли в каменных воротах какого-то княжеского особняка, и бронзовые львы скалили на нас свои пасти. Впрочем, не имеет значения, как началось. Это всегда начинается как-то вдруг. И очень трудно сказать: «Станьте моей женой».
Тамара стала моей женой только спустя пять лет. Когда я лежал в госпитале. Поправлялся от ран. Немцы подкосили из пулемета. Первая мировая война. А Тамара была тогда сестрой милосердия. Из госпиталя мы вышли рядом. И потом — тридцать три года вместе. Красная гвардия и Красная Армия. Деникин. Басмачи. Эпидемия сыпняка, оба в тифу. Голодали. Работали. Учились. Институт красной профессуры. И затем экспедиции, экспедиции… Прожил ли бы я эти шестьдесят два года, если бы не Тамара? И сделал ли бы я хотя половину того, что я сделал, если бы не она? Эх, парень…
Иван Андреич отвернулся к окну. Но мне все же было видно, как по щеке у него покатились слезы. Он не смахивал их. Наверно, думал: «Не следует показывать свою слабость».
И я ничего не мог у него спросить, потому что тогда я заставил бы его говорить. Пусть он считает, что я ничего не заметил.
Так мы сидели и молчали. А теплоход стучал дизелями и все шел вперед на север. Переваливал к левому берегу (окна у нас выходили на правый борт), и поэтому все мельче и мельче казались деревья на высоком яру и все шире становилась голубая полоса реки, а белые щиты створов стали вовсе как пятнышки. Только дым лесного пожара никак не убавлялся.
Я тихонько встал и пошел к двери. Иван Андреич тогда обернулся.
— Постой, парень… Постой… Я ведь чего-то тебе не досказал, — и стал морщить лоб, припоминая.
— Про Поленьку.
— Да, конечно. Ведь, собственно, только о ней я и завел свой разговор, — он так, будто случайно, потер ладонями щеки. — Ты знаешь, я все-таки понял со временем, что должен уйти с квартиры, из этого славного чуланчика, от этих славных людей, скорее уйти, ну… пока Поленька не написала мне такое письмо, как Татьяна Онегину. Это было бы еще трагичнее. Ведь Поленька не знала, что я кого-то люблю. Я выбрал нелепый предлог для ухода. Сказал, что квартира мне не по средствам, хотя дешевле, конечно, нельзя было сыскать и во всем Петербурге. Старики это знали. Но они переглянулись между собой, и Степан Степаныч деликатно ответил, что, пожалуй, можно плату немного сбавить. Кто его знает, какой попадется потом квартирант? «Останьтесь, Ваня, а мы постараемся…» Но я все же ушел. И был очень доволен, что Поленька не слышала наш разговор. Она ходила на рынок. Я успел съехать до ее возвращения. Тамара нашла мне другую комнатку…
Он говорил теперь, все время как-то останавливаясь не только посреди длинной фразы, но даже иногда и на одном трудном слове. А я, сам не замечая, торопил Ивана Андреича. До Тамары мне не было никакого дела. Меня интересовала только Поленька. Она так и стояла перед глазами. Вот она за столом пишет свои наставления Ивану Андреичу, с чего начинать ужин, а желтое пламя свечи колеблется от ее дыхания. Или — ночью, приподнявшись на локте в постели, слушает, как осторожно поворачивает ключ в замке Иван Андреич. Я даже чувствовал сам, как от железного скрипа колючие мурашки бегут у нее по щеке.
— Ну, а потом-то, Иван Андреич, вы с ней когда-нибудь встретились?
— Да, парень, встретился. В этом и главное. Но это случилось только через двенадцать лет. Сперва я сам не заходил умышленно, а потом судьба меня надолго увела из Петербурга. И вернулся я туда уже в Ленинград. Тамара задержалась в Каракумах, я выехал раньше, чтобы подготовить жилье. Мне обещали ордер. Но поезд пришел ночью, и пока деваться мне было некуда. Гостиницы переполнены. И тогда я вспомнил о своем чуланчике на Крестовском. Даже если он занят, старики как-нибудь приютят. Поленьку там увидеть я и не думал. Конечно, она вышла замуж. Но дверь мне открыла именно Поленька. Немного испугалась и даже заслонилась рукой, но потом сказала: «А, это вы!» — и пропустила на кухню. Тут, при свете семилинейной лампы, мы и поговорили. В комнату она меня не пригласила. Из чуланчика тоже пробивался луч света, — значит, там кто-то жил.
Я спросил осторожно: «А как…» — задержался, подбирая слова. Но Поленька поняла: «Оба умерли. Давно уже». Было это сказано совсем равнодушно. И так же равнодушно Поленька смотрела теперь на меня. Она не располнела, а, как говорится в народе, только покрупнела в кости. Не было уже и прежней нежности в лице, от губ шли острые морщинки, резкой чертой отделялся второй подбородок. Ей шел тридцать первый год, но можно было дать много больше.
Поленька все же поинтересовалась, откуда я приехал. Я сказал: «Из Средней Азии». — «А-а! Говорят, там у вас все очень дешево. Это правда? Вы чего-нибудь привезли?» Надо было понимать эти слова так: на продажу. Мы еще посидели немного и оба вовсе не знали, о чем еще говорить.
Тут я опять врубился в трудный рассказ Ивана Андреича.
— Так она замуж-то вышла?
— Не знаю, Костя… Наверно, нет. В доме, что называется, даже не пахло мужским духом. И в чуланчике явно жила женщина. Иногда она начинала какую-то грустную песенку. И не кончала, обрывала пение. А Поленька больше прислушивалась к ней, чем к моим словам. Ну вот, собственно, и все. Переночевал я на вокзале. Когда мы прощались, Поленька сказала: «Заходите». И это было сказано еще спокойнее, равнодушнее, чем о своих родителях — «оба умерли».
— А больше вы к ней не заходили, Иван Андреич?
— Нет. Хотя все время жил и живу теперь в Ленинграде.
Он стал перебирать, складывать в стопку свои бумаги, захлопнул готовальню. Я понял: парень, тебе пора уходить. Но я все же спросил его об этом. Прямо, но не грубо, чтобы не обидеть человека.
Иван Андреич оставил бумаги.
— Собирался, парень, я не совсем так повести с тобой разговор, да воспоминания, видишь, как далеко меня завели. А еще продолжить беседу нашу я сейчас не могу. Устал. Да, может быть, и не нужно. Главное-то я все же сказал, хотя не прямо. А ты на себя из этого кое-что примерь. Помнишь, вначале я тебя предупреждал? Не теперь подойдет, так, может случиться, после. Жизнь у тебя только начинается. И девушки на тебя только начинают поглядывать. И какое-то неясное чувство самого беспокоит. А это чувство — может быть, большая любовь, да ты ей имени еще не знаешь. И тебя кто-то любит уже, да ты не угадываешь. Или угадываешь, да признаться даже себе не хочешь, боишься. Такая пора, такие годы. Но гы, Костя, очень любовь девичью береги. Поломать чистую, святую любовь — это поломать навсегда и душу, жизнь человеческую. Что там сейчас ни говори, как себя теперь ни оправдывай, а Поленьке свет в жизни я погасил. Вот поэтому и повторяю: мотай, парень на ус. Любовью дорожи. Девичью любовь береги. И сейчас ступай, я чего-то все же устал…
Вышел я от Ивана Андреича очень взволнованный. И ничем другим, а судьбой Поленьки. Из-за непонятой любви пропал человек! Кем она стала: «Вы чего-нибудь привезли на продажу?» Нет, не виноват в этом Иван Андреич. Зря он на себя! И напрасно пугал, остерегал меня от чего-то Иван Андреич. Говорил, чтобы я его пример на свой аршин смерял… Получилось наоборот, это он нашу теперешнюю жизнь на свой аршин смерял!
Я прикинул еще так и этак: подойдет ли в чем ко мне рассказ Ивана Андреича? Нет, ко мне тут ничего не подходит. И не подойдет никогда. И вообще, чего думать мне уже сейчас о любви, как оберечь ее, когда всякая — и девичья и своя — любовь от меня еще ух как далеко!
Глава тринадцатая Девичья любовь
А все же разговоры с Иваном Андреичем у меня не проходят мимо ушей, после каждого обязательно что-нибудь остается. И долго потом тревожит, заставляет задумываться. Отчего это? Или сам Иван Андреич видом своим на меня как-то действует, или слова у него такие, со значением?
Еще первый раз, когда он сказал: «Своеобразно понял молодой человек призывы партии и правительства» — помните? — насчет того, что я решил матросом на всю жизнь остаться, — меня это задело. Сперва просто поспорить с ним сильно потянуло, а потом заворошилась такая мысль: «На веку своем повидал человек этот немало. Седину в волосах и шрам на щеке нажил, конечно, не зря. Вон как решительно и смело он рассуждает! Как он здорово и правильно срезал Николая Петровича. Почему я себя умнее его должен ставить?»
Во второй раз Иван Андреич еще больше меня пошатнул, хотя примером своим с кондукторшей из автобуса убедил не очень. Примеры-то к чему хочешь подобрать можно! А вот под пример попробуй жизнь свою подстроить! Но не думать о нашем разговоре я все равно уже не мог. И теперь у меня еще сильнее стало чувство доверия к Ивану Андреичу и какого-то сомнения в самом себе. Вернее, не в себе, а в тех мыслях, какие я перед Иваном Андреичем отстаивал. Говорю «не в себе» потому, что мысли тогда я, пожалуй, высказывал даже не свои, а чьи-то чужие, может быть, Васи Тетерева и вообще всех других, на кого мне похожим быть хотелось. А сомнения начались такие: не потому ли взаправду решил я на всю жизнь остаться в матросах, что просто жаль мне голову свою чем-нибудь еще забивать? Вот и ищу сам себе оправдания в том, что, дескать, государство призывает молодежь не гнушаться простой работой. Правда, все это во мне как-то попеременно вспыхивало и гасло, вспыхивало и гасло. Крепко за сердце еще не забирало.
А вот с последней нашей беседы начал я все чаще себе повторять: «Эй, Костя Барбин, а не лентяй ли ты и в самом деле? Не меньше ли ты делаешь, чем мог бы делать?» И еще и еще из того, что Иван Андреич мне говорил. И к этому у меня даже вкус появился.
Тумарк Маркин ходит и всех сгоняет на репетицию. Концерт этот, факт, не состоится, очень трудно его склеить. Но Тумарк бьется не ради галочки в отчете. Ему это нравится. Мне кажется, он даже сон потерял с тех пор, как его режиссером выбрали. Только беда — никто не хочет слушаться.
Вот и сейчас стоит мой Тумарк, дергает себя за челку и допытывается:
— Костя, да ты повторял ли вчера? А сегодня?
Меня смех разбирает именно от его строгости, а он думает, что я улыбаюсь потому, что попался, и носик у него становится еще острее.
— Костя, к искусству так нельзя относиться! Программа вечера составлена, менять ничего нельзя. Читай стихи!
Разговор у нас происходит на палубе. То и дело мимо проходят пассажиры. Представляете? Начни читать, и сразу толпа вокруг соберется.
— Ладно, Тумарк, — говорю. — Честно признаюсь: вчера вечером не повторял и сегодня утром тоже. Но читать здесь ты меня не заставляй. Неловко, народ кругом. Верь: я один прорепетирую.
— Вот и все так! Каждый сам по себе, а при чем же тогда я — режиссер?
— И правильно, — говорю, — возьми и откажись. Зачем тебе кровь свою портить, если никто тебя не слушается?
А он свое:
— Ну нет! Почему это я буду отказываться? А у вас-то совесть должна быть? Не хочешь выполнять мои режиссерские замечания — докажи сперва, в чем я не прав. А так на увертки всякие я не согласен. Читай!
Выхода нет. И я поднялся с ним наверх, увел за трубу, где стучат выхлопные газы, и прокричал стихи, нарочно прокричал во все горло, чтобы поймать его — какие же замечания по сравнению с Шуриными сумеет сделать он, Тумарк Маркин, наш режиссер, сын известной артистки. Доказать ему, что действительно в режиссеры он не годится. Но, представляете себе, он почти слово в слово сказал все то, что и Шура мне говорила! Только сам прочитать стихи так, как Шура читала, не смог. Вот ведь она какая тонкая штука, это искусство!
В общем Тумарк остался доволен и успокоился: хоть к одному да приложил свою режиссерскую руку. А я от трубы прямиком отправился к Шуре. Во-первых, надо было рассказать ей про Тумарка, а во-вторых, если есть свободное время, почему вообще к ней не пойти?
У лесенки близ капитанского мостика я повстречался с Леонидом, вернее, наткнулся на него, потому что шел я, а он стоял. По его веселому лицу я понял, что он здесь стоял все время и слышал, как я за трубой выкрикивал стихи Маяковского. Но теперь веселья было и у меня хоть отбавляй. Я прошел мимо него, посвистывая, сделал ручкой: «Морякам — привет!» — и спустился вниз по лестнице, нарочно загнул лишний крюк, чтобы пойти заодно и мимо радиорубки.
Окно было опущено, репсовые шторки раздвинуты, и я увидел, как Маша, охватив черными наушниками голову, выстукивает ключом свои тире и точки, а рука у нее почему-то шевелится не столько в кисти, сколько в плече.
Я всунул голову в окошко, негромко сказал:
— Здравствуй, Маша!
Сказал для того, чтобы она поняла: мы с ней все же знакомы, и я на нее не сержусь.
А Маша почему-то сильно вздрогнула и, наверно, послала в эфир такой сигнал, каких нет ни в одном коде. Но тут же сняла руку с ключа и ответила:
— Здравствуй, Костя! — Потом прибавила: — Ну, заходи, заходи.
А у меня вышло:
— Да некогда. Иду к Шуре.
— А! — сказала Маша и снова застучала ключом.
Конечно, я должен был как-то поправиться. Получилось нехорошо, грубо. Но тут изнутри открылась дверь, и в радиорубку вошел Леонид. И я не придумал ничего другого, как повторить: «Морякам — привет!» — и тут же удалился.
«Родина» в это время обгоняла большой караван — одиннадцать барж, груженных желтыми светлыми досками, и я остановился посмотреть, как гонит за собой косую волну маленький буксирный пароход, впряженный словно кошка в телегу. Бьет, шлепает широкими плицами по воде, под кормой у него пена ярится, а у носа — гладь, тишина. Мы пронеслись мимо него так, будто он не вниз плыл, а стоял на месте.
Я сам в прошлом году плавал на таком чумазом работяге-буксире и всегда немного с завистью смотрел, как мимо нас пролетали снежно-белые пассажирские теплоходы. Казалось бы, чего и завидовать, когда мальчишкой, вместе с матерью, я катался на них по целому лету взад и вперед? Но в том-то и дело, что быть пассажиром — это одно, сыном при служащей матери — другое, а кадровым матросом — третье! С какой завистью тогда на пассажирские, с таким сейчас прямо-таки презрением поглядел я на буксирный пароход. Сперва было даже сам удивился: а почему это? Работу он благородную выполняет, лес на стройки везет. Но сразу же и разобрался: скорость, быстрота движения, холодный ветерок в грудь — вот что мне дороже всего!
Подошел Вася Тетерев.
— Что, Барбин, задумался?
Рассказал ему.
— Нет, Барбин, — говорит Тетерев, — это ты неправильно думаешь. Всякий анализ явлений надо всегда так начинать: где, какую и почему данный предмет приносит обществу пользу? Сам предмет или его действие. Материальное начало. А эмоции субъективны, с общественной пользой они редко связаны. Я думаю, ты это понял? Я очень хочу, чтобы ты понял.
— Нет, Тетерев, — говорю, — ничего я не понял. Ты скажи мне, в какой это книге написано, а я прочитаю. Может, пойму.
Вася обиделся.
— Ты поддеть, что ли, хочешь меня, Барбин? Ни в какой книге это прямо не написано. Это должен каждый и так понимать. А коли ты сам заговорил, вот тебе как раз и комсомольское поручение: подготовить доклад на тему «О сочетании личных интересов с общественной пользой». Толково получится. Да ты не гляди так на меня!
Сперва действительно я было перепугался. Получилось: скомандовал огонь на себя. А потом сообразил: ничего. Все равно ведь сам Вася за меня этот доклад напишет, а я уж как-нибудь прочитаю.
Мне очень хотелось скорее спуститься на нижнюю палубу, в почтовую каюту. Но Тетерев никак не отпускал, загибал у себя на пальцах тезисы моего будущего доклада и после каждого тезиса прибавлял: «Ты, Барбин, это запоминай. Я хочу, чтобы ты запомнил». Потом он стал рисовать картину, как у нас зимой, на отстое, развернется массовая работа. Каждый обязательно будет охвачен и втянут в кружки, а когда у молодежи не останется праздного времени, прекратятся постыдные явления пьянства, хулиганства и так далее и так далее, то, что имеет еще место теперь. Он тянул и тянул без конца свою словесную цепь, будто якорь у него был брошен на стометровую глубину. Но чем дольше тянулась цепь, тем веселее становилось мне, потому что у меня постепенно складывался и еще один превосходный рассказ для Шуры — об этом самом разговоре. Так что, когда колокол отсигналил «динь-динь», якорь вышел — Вася остановился, я даже немного огорчился и спросил:
— Все?
Сколько раз я ни заходил к Шуре, я почти всегда заставал ее за чтением книги. Она тут же засовывала ее под подушку и начинала хлопотать насчет угощения. Что читала Шура, я так путем и не знал. Говорю «путем», потому что после той истории, когда она Пушкину прицепила какого-то Рустико, дьявола и монаха, больше спрашивать мне было вроде уж и неловко, тем более что Шура читала, по-моему, только одну — все ту же самую книгу, словно хотела вызубрить ее наизусть.
На этот раз Шура сидела за работой. Я прямо ахнул: она рисовала! Мне давно уже хотелось попросить ее об этом. Но я слыхал, что художники и писатели могут работать только тогда, когда ничей посторонний глаз на них не глядит. Во всяком случае, я сам, когда начал писать эту книгу, первое, что сделал, — выгнал из дому на улицу Леньку и запретил ему без стука входить.
Хотя мне Шура и ответила: «Можно», я все же попятился. Мало ли что скажет человек из вежливости! Но Шура даже кисточки свои бросила, потянулась ко мне руками.
— Костя, да ты чего испугался? Иди оцени. Как тебе нравится?
Рисовала она масляными красками на стекле. Море, закат, кипарисы и одинокая чайка над морем. А рядом лежало такое же стеклышко, готовая картинка, и, выходит, Шура с нее снимала копию. Таких морей с закатами и с кипарисами я видел уже целый миллион. Пожалуйста, их у нас в Красноярске везде продают: и на базаре, и с рук, и в комиссионке, У всех моих знакомых такие картинки висят. Была и у нас, да Ленька разбил — за мухами охотился.
А вот нравятся ли они? Как вам сказать… Поглядеть всегда приятно, глаза отдыхают. Краски всегда яркие, чистые, протрешь стекло тряпочкой, и картинка еще больше засветится. И хотя, к примеру, ни моря, ни кипарисов живых я еще не видывал, все равно такие картинки наводят на красивые мысли. Если вечерком одному долго вглядываться в эти закаты с чайками, помаленьку что-нибудь вроде стихов или повести можно в своих мечтах сочинить. Настоящие художники такие стеклышки высмеивают, называют халтурой, считают искусством только большие полотна. Не возражаю, может, оно и так. Потому что, когда я ходил с экскурсией на передвижную выставку, смотрел на полотна и Сурикова, и Репина, и Поленова, и Герасимова, и Непринцева, у меня в душе не то что стихи или повести складывались, а даже целые романы в трех томах. Но художники забывают одно, что такие полотна стоят тысячи, а картинки на стекле — рубли. И подходят они к любой мебели в квартире, а для художественного полотна в золотой раме еще на много тысяч нужно всякой обстановки купить.
В общем все эти мысли я Шуре и выложил. Да еще посмеялся, сказал:
— Это не твои картинки в комиссионке у нас продаются? Похожи.
И Шура, тоже смеясь, подтвердила:
— Мои.
Сказала, и я по словам ее не пойму: шутит она или говорит серьезно? И кажется мне, что глазами своими она спрашивает меня, осуждаю я это или нет? А я ответить ничего не могу, потому что и сам не знаю. Но все-таки в душе у меня зреет неясное чувство такое, будто сидит Шура передо мной не картинки рисует, а как «холодный сапожник» на углу улицы медными гвоздями оторванные подметки приколачивает: кривую «лапу» в ботинок, молотком пять-шесть раз стукнул и — гони, гражданин, трояк!
Шура начинает складывать свои кисточки. Все глядит на меня.
— А ты знаешь, Костя, я у себя в семье больше всех зарабатываю. На теплоходе свободного времени хоть отбавляй, за один только рейс сколько таких закатов я намалюю! Ведь на это, когда рука набита, десять минут! Досадно только, что комиссионка большие проценты берет. На базаре продавать выгодней.
И я все еще не знаю, что ей сказать… Какой-то совсем неожиданный для меня поворот. Понимаю, что писать такие картинки — это совсем не то, что по-шахворостовски на теплоход пассажиров устраивать, а все же чем-то Шура сама себя вроде принизила. Вид у меня был, наверно, самый растерянный, потому что Шура ко мне так и кинулась:
— Костя, Костя, смешной! Да для себя я это рисую. Ну скажи, нравится?
Вот тогда у меня совершенно свободно вышло:
— Очень нравится!
— А хочешь, я тебя нарисую?
Когда-то я читал про знаменитых живописцев, как они пишут портреты великих людей: по году и больше. Нашего капитана, знаю, красноярский художник рисовал тоже около двух месяцев. Ну, а матроса Костю Барбина Шура на стеклышке, понятно, намалюет в один присест. И я согласился.
Но Шура достала из заляпанного красками ящичка, который стоял у нее под койкой, холстинку, натянутую на подрамник, и принялась чертить на ней толстым угольным карандашом. Я забегу вперед, но скажу вам сразу, что, когда я уходил от Шуры, на полотне была только изображена как бы куча сухого хвороста, из которой таинственно выглядывал один глаз. И тот, не знаю, был ли похож на мой.
Все два часа, какие у меня оставались до вахты, я просидел, не смея разинуть рта, хотя меня так и подмывало изобразить в лицах сегодняшний разговор с Васей Тетеревым. Шура все время просила: «Костя, гляди на меня, не отрывайся. Мне нужно понять цвет твоих глаз». А я никак не мог этого сделать, все норовил отвернуть голову, потому что Шура сама не отрываясь так глядела на меня, что мне становилось жарко и как-то странно обрывалось дыхание. И я не думал даже о том, зачем ей сейчас цвет моих глаз, если рисует она пока не красками, а делает наброски черным угольным карандашом.
Я молчал. А Шура могла говорить. И говорила все время. Даже больше, чем всегда. Явно за мой счет. Объясняла законы перспективы, рассказывала об основных и дополнительных цветах, будто я сам собирался стать художником. Каюта была очень короткая, чуть подлиннее койки, и, хотя мы сидели в противоположных углах, Шура все время жаловалась, что нет перспективы, видит мое лицо плоско, и чтобы понять его пластику, она должна проверять пальцами, как скульптор. Пальцы у Шуры были мягкие и прохладные, но мне от них почему-то делалось еще жарче. Иногда она приглаживала мои волосы, отходила, прищуривалась, склоняла голову то к правому, то к левому плечу, а потом — раз-раз! — что-то черкала на полотне.
— Ой, Костя! Замечательный портрет у меня выйдет. Только не нужно спешить.
И давай выдумывать, сочинять, как она будет рисовать меня год или два. Подумала и еще прибавила: пять, десять, пятнадцать лет… Сидит и слово за словом нанизывает вроде такого:
— …и вот, я гляжу, у меня все закончено. Разве еще чуть-чуть, только найти бы живое дыхание. Но проходит ночь, и — ужас! — на полотне я ничего не узнаю. Нет, это не Костя! Это совершенно чужой человек. Приходишь ты. И тоже в отчаянии: «Шурочка! Что случилось с портретом?» — «Не знаю».
И ты покорно садишься — вот так, как сейчас. Я берусь за свои кисти. И мой Костя снова оживает на полотне. Но тут входит наша мама: «Ребятки! Милые мои! (Это у нее так всегда). Идите скорее к столу. На полотне потому и нет жизни, что от голоду вы сами уже полумертвые».
Ох, Костя, а каким вкусным обедом кормит нас мама! Ты не представляешь даже, какая на это она мастерица. Но все же и сердится немного, ворчит на меня: «Шурочка, с этим портретом ты совершенно забыла про закаты на стеклышках. В комиссионке все уже проданы, просили еще. И на базаре тоже очень спрашивают».
А сама хохочет. А карандашом по полотну чирк-чирк. Другая девушка начни меня в свою болтовню так вплетать, я очень бы рассердился. А тут — ничего, сижу слушаю. Глупый складывается разговор, но все равно приятно. А то, что Шура так говорила, будто мы были с ней вовсе свои, а ее мама — это уже и моя, как-то по-особенному ласкало и волновало меня.
Словом, два часа пролетели совсем незаметно. Я сообразил, что мне скоро вступать на вахту, только тогда, когда увидел в окно, что мы проплываем мимо Ангутихи.
Не подумайте, что это город большой или вообще чем-то Ангутиха знаменита. В ней, может, всего-то двадцать дворов. Но на безрыбье, как говорят, и рак — рыба. Поселки после Туруханска и вовсе редко пошли. Но зато каждый из них теперь значение себе приобрел. Возьмите, к примеру, карманный атлас СССР. Вы там найдете в Красноярском крае Виви, а село Емельяново не найдете. Хотя Виви — всего пять домов, а Емельяново на целых семь километров растянулось. Но дело все в том, что от Красноярска до села Емельяново рукой подать, поставь на карте кружок, так он, наверно, прямо прилипнет к самому городу, а если Виви не отметить, окажется на Севере огромное пространство вовсе пустым. А ведь тайга-то у нас везде живая! Правда, здесь тундра уже подступает, вся в светлых блюдечках-озерках. Но это тоже ничего не значит. И в тундре живут люди.
Сказал я Шуре, что мне пора уходить. Она так и охнула:
— Костя, миленький, да мы же с тобой еще чаю не попили!
Бросила прочь подрамник — вот тут я и увидел свой глаз в куче сухого хвороста, — схватила чайник, и зря совершенно, потому что до начала вахты осталось самое большое десять минут. И я отобрал у Шуры чайник, сунул его обратно под стол.
— Лучше выйдем, на Енисей вместе посмотрим.
— Да ну его, твой Енисей! Вода и вода, везде одинаковая. И тут и берега даже какие-то облезлые.
Очень царапнуло это меня по сердцу. Слепые и те чувствуют красоту Енисея в свежем речном дыхании. А тут такие слова говорит мне художница! Да если эти вот ангутихинские места с любовью нарисовать на стеклышке, они получатся никак не хуже морских закатов с кипарисами! Наверно, очень кривое у меня стало лицо, потому что Шура сразу встревожилась и начала мне пальцами лоб разглаживать:
— Ну, сгони эту буку. Убери, убери морщины. Глупый! — и потащила меня за собой.
Мы вышли на самый нос теплохода, где громоздятся лебедки и лежат якорные цепи. Под колоколом на скамеечке сидел Петя, Петр Фигурнов, и чинил пеньковую снасть, подвивал свежими прядками.
— Если хочешь, — говорю ему, — поесть щей самых горячих и с наваром, шагай мойся. И считай, что я вахту от тебя уже принял.
Фигурнов повертел своей длинной шеей, подал недоплетенный конец снасти и острый колышек, которым раздвигают пряди каната.
— Принимай. Пожалуйста. А на кухню до конца вахты я не пойду. Не хочу потом с Иваном Демьянычем объясняться. Ну, а если просто нужно отсюда исчезнуть — могу. Это для ясности.
И тут же исчез. Но появился взамен Шахворостов.
— Угу! — говорит. — Ну, правильно, Шурка. Бери его крепче на крюк.
И прибавил что-то еще, совсем шахворостовское. Закипела злость во мне. Эх, ударить бы коротким тычком Илью, с ног сшибить! А потом сказать ему раз навсегда, чтобы таких разговоров от него я больше не слышал. Но Илья стоит за лебедкой, и мне до него не дотянуться рукой, а обойти лебедку — внезапности, молнии не получится. Будет обыкновенная драка.
— Илья, ты считай, что я сейчас изо всей, какая только у меня сила есть, тебе в ухо ударил. И слушай…
Шахворостов зубы оскалил, руками развел.
— Шурочка, объясни ему за меня, что в таком случае я убит наповал и потому ничего не слышу. Пошел выбрасывать свой труп за борт.
Зачем он приходил? Случайно забрел или заведомо? Как он оскорбил Шуру! Столбом застыла, бедная. Но Шура вдруг повертывается лицом ко мне. Я вижу, что она улыбается, будто не было вовсе Ильи с его обидными словами.
— Ох, и болтун, — говорит, — этот Шахворостов! Ему бы только в цирке «рыжим» работать.
И я не пойму, что мне делать: догонять Илью, чтобы избить его, или смеяться вместе с Шурой?
А она — вот какая выдержка! — начинает меня расспрашивать, скоро ли будет Полярный круг, есть ли там на берегах какие-нибудь обозначения и правда ли, что бывают осетры трехпудовые? Закидала меня вопросами. И я понимаю: это для того, чтобы я мыслью к Шахворостову больше не возвращался.
Начал я отвечать. Сперва туго шли слова. Да про Полярный круг и вообще трудно рассказывать. Потом разошелся, стал вспоминать, как в прошлом году я на буксирном пароходе здесь плавал. А когда до осетров дело дошло, как заврался, и сам не заметил. Сказал, что вот здесь же в прошлом году поставили мы на ночь самолов. А наутро — «что бы ты думала?» — вытащили тридцать пять стерлядей и осетрищу весом в семьдесят семь килограммов. Вот рыбина!
Самолов, верно, мы ставили и стерлядей с осетром тоже, правда, поймали. Только стерлядей было не тридцать пять, а четыре штуки, а осетр же сорвался с крючка, и сколько в нем было весу бог весть, но, честно говоря, конечно, вряд ли больше десяти килограммов. Позорнее же всего было то, что этот самолов у нас тогда отобрал инспектор рыбонадзора и чуть не пришил нам еще браконьерство.
Когда вот так, через край, начинаю я перехватывать, я обо всем забываю, даже о том, кому рассказываю свои небылицы. И главное, в тот момент, когда я рассказываю такие вещи, я сам в них верю, мне кажется, что это действительно было. И если прибавлено, то сущие пустяки, только для яркости. Зато, когда поставишь последнюю точку и постепенно начнешь остывать, припомнишь все, что рассказывал, хоть в воду бросайся.
Сидели с Шурой мы рядом. Она на скамеечке, я чуточку впереди, на бухте каната, и, между прочим, работал — подвивал оставленную Фигурновым снасть. Поэтому в разговоре я как-то даже не поворачивал головы к Шуре, взгляд на работе у меня сосредоточился. Однако я все время чувствовал, что она на меня глядит. Это ведь и спиной даже чувствуешь. Но когда я выговорился до конца и подошла как раз такая пора, когда холодком этим самым дохнуло: «Что же я намолол?» — наступила страшная тишина. Ну, я замолчал — это ясно. А почему Шура молчит? Повернуться бы к ней, посмотреть. Не могу…
Проходит минута. Я ковыряю снасть. Представляю себе, какая на губах у Шуры улыбочка. Проходит вторая минута, У меня шея потеть начинает. А Шура молчит, и мне кажется, теперь уже нет и улыбочки, только чистое презрение и серая скука. Третья минута. У меня уши горят, а губы сохнут. Но Шура молчит. Ее дыхания даже не слышу.
И тогда я, будто невзначай, сам взглядываю на нее. Нет, Шура не смеется. И скуки нет у нее на лице. Оно такое… нет, не пойму! А взгляд у нее — чуть подниму свои веки, они снова тут же и падают. И кажется мне, что я весь превращаюсь в теплый кисель, хотя мускулы у меня как железо — канат я сдавил рукой, будто волка за горло.
Встаю. Зачем — не понимаю. Ног под собой совершенно не чувствую. А Шуру если и вижу, так сквозь опущенные веки. Но я знаю, что Шура тоже встает и все так же глядит на меня, а губы у нее слегка шевелятся. Я слышу, как за бортом плещет вода и шипят пузырьки пены, слышу, как на корме тоненько девушки поют «Одинокую гармонь», но я совершенно не слышу, что говорит Шура. А она говорит. Пятится, шаг за шагом отдаляется от меня, но все так же глядит и так же без звука шевелит губами.
Вот она все ближе, ближе к выходу на обнос. Вот дотронулась рукой до перил! Вот скрылась вовсе. А передо мной еще стоит, как светлая тень, лицо Шуры, все в мелком пушку на щеках.
Попробовал взять я снова канат. Работа не спорится. Пошел бы, а куда — неведомо. Хоть по кругу, только бы походить! И тут вдруг вспомнился мне почему-то Иван Андреич и его рассказ о Поленьке. И мне стало и радостно и тревожно. Так неужели это любовь? Я думал, любовь за горами, а она уже тут как тут.
Глава четырнадцатая А что должен делать я!
Летом за Полярным кругом, от Игарки и дальше, ночей уже нет совсем никаких, ни черных, ни белых — сплошное сияние солнца. Непривычного человека это даже запутывает, мешает нормально спать. А что в летнюю пору здесь происходит с травой, с цветами! Вот растут так растут! Попробуйте в тихую погоду сядьте где-нибудь на лужайке, прицельтесь глазом в одно место и понаблюдайте с полчаса, с час. Вы увидите совершенно ясно, как все время будет шевелиться трава, стебельки будут толкать друг друга своими листьями и там, где только что не было еще ничего, вдруг вспыхнет яркий желтый цветок.
Или вот тоже интересно — где-нибудь в складках берега еще лежит зимний снег и лед, набившийся туда, когда вскрывалась река, и тут же, вовсе рядом, — прекрасная, крепкая зелень. Траве некогда ждать, пока лето все льдины растопит.
Игарка при незакатном солнце — очень радостный город. Вся она деревянная, даже дороги, мостовые на улицах, как полы в квартире, из досок, только некрашеных. А не стареет, не чернеет так, как чернеют другие города. Нет здесь ни смрадного дыма, ни пыли.
Игарку видно издалека, хотя и стоит она не у главного хода Енисея, а на протоке, за островом. Но остров-то, можно сказать, голый. Конечно, и люди изрядно его выбрили, какие были на нем деревья, не поберегли, а главное — Север. За Полярным кругом природа уже резко меняется. По берегам реки гор нету, скал красивых, обрывистых нету, нету и темной, дремучей тайги. Возле Игарки еще растет лиственница, а местами даже и кедрачи — и все это нормального роста, но дальше к северу любые деревья уже низко припадают к земле. Так и представляется, как они, словно бы люди, пригнув свои головы, пробиваются сквозь снежные вьюги и лютую стужу вперед, стремясь выйти к самому Ледовитому океану. Все деревья здесь кряжистые, рукастые. Только березка полярная хотя и всего до колена, но такая же веселая и нежная, как везде. И не знаю, как кому, а мне так всегда поклониться хочется этому деревцу за его мужество. Пальмы, говорят, очень красивы. Ну, на теплом-то юге и грех уродиной быть. Ты вот попробуй на вечной мерзлоте, при выскребающей землю пурге и сорокаградусных морозах все же вырасти и нежность свою сохранить!
В Игарку за лесом приходят морские корабли. Сейчас океанских судов пока еще нет. Рано. Устье Енисея и Карское море забиты льдами. А к августу корабли табунами пойдут, в очередь под погрузку будут становиться на рейде. По флагам, пожалуйста, изучай все страны мира.
Между прочим, когда до прихода морских судов подплываешь к Игарке, она кажется особенно большой, а вся середина города — построенной заново. Но не думайте — не дома это, а штабеля свежих досок, напиленных за зиму. Они выложены в улицы и переулки и даже стоят под крышами, а торцы у досок забелены известкой. Игарские пиломатериалы самые наилучшие в мире, оттого их так и берегут.
Зимовать в Игарке мне не приходилось. Местные жители говорят, что снегу здесь надувает столько, что люди свободно ходят поверх любых заборов. И еще говорят, что здесь зимние ночи очень красивы, особенно когда в небе плещется северное сияние. Жалею, этого сам я тоже не видел. Но я видел зато сто раз летнюю Игарку, и почти всегда под горячим солнцем, от которого хочется спать, как после жирных блинов. Я ходил по деревянным мостовым, и там, где не было досок, толстым слоем лежали опилки. Они пружинили под ногами. От домов веяло нагретой смолкой, а от протоки тянуло резким запахом сосновой коры. Там стояли плоты. Летом над Игаркой всегда плывет рабочий шум. Гремят на реке железо, якоря, цепи; на заводе пыхтит «силовая»; часто-часто дышат лесопильные рамы, так и кажется, вот сейчас захлебнутся опилками; хлопают сырыми, свежими досками штабелевщицы. Эх, не любил бы я так Красноярск, переехал бы жить только в Игарку!
Здесь должен был сойти Иван Андреич, изучать фокусы вечной мерзлоты.
Вроде бы удивительно — инженер и матрос, седой старик и безусый парень, но мы за эти дни как-то особенно подружились, словно плыли вместе не пять суток, а год целый, и мне прямо-таки жаль было провожать Ивана Андреича на берег. Даже в такой хороший город.
Вместе с Иваном Андреичем сходило еще человек пять-шесть из этой же экспедиции, но я сказал Ивану Андреичу, что вещи его обязательно только сам я вынесу. Больше чем и как мне отметить наше расставание? Он задумался чуточку:
— Хорошо. Принимаю. Хотя и есть кому узлы мои вынести. А чем я тебе отдарю?
Говорю:
— Ну что вы!
А он:
— Дам тебе я, Костя, на память книгу свою. Она, парень, не про сыщиков и не про шпионов. Научная книга. Называется «Гидроресурсы Сибири и Дальнего Востока». Скучное название? И читать ее скучно. Для специалистов, правда, моя книга — клад. Перед тобой не постесняюсь этим похвастаться. Но ты мою книгу тоже прочти обязательно. Стисни зубы да прочти. Всю. От первой страницы и до последней. На слово непонятное наткнешься — лезь в энциклопедию либо в технический словарь загляни. Вообще, трудное место встретится — два, три раза его перечитай, спроси кого поумнее. А постарайся все же до корня добраться. Чтобы ты знал, чему знакомый тебе старик жизнь свою посвятил. Да кто знает — может, и прямо тебе все это когда-нибудь пригодится? А? — Посмотрел на меня с озорнинкой. Здорово это у него получалось. — Только ты ведь против образования. Семилетку одолел — и то девать некуда. Матрос навеки. Зачем матросу читать научные труды какого-то чудака?
И тогда повернулся у нас вот так разговор:
— В который раз, Иван Андреич, вы к этому подводите. Зачем?
— Видишь ли, Костя, капля камень долбит. И у тебя, я замечаю, тоже луночка выдолбилась. Сперва ты вон как сопротивлялся! Да вслепую. А теперь уже обоснования ищешь. От меня обоснований требуешь. Изволь, кое-что добавлю тогда, тем более что не на плоский камень, а в луночку. Ты вот уверяешь меня, а главным образом, конечно, себя, что при твоей физической силе тебе только и быть матросом. А я тебе скажу, что силы своей на это ты и десятой доли не расходуешь. На полную силу, работают другие матросы, например, тот, которого вы, как школьники, Длинномухиным дразните, или второй — Тумарк Маркин. Этим работа матроса как раз в меру, большего им, может быть, и не осилить, если говорить только о мускульной силе.
— Ого, Иван Андреич! Так тоже нельзя рассуждать. Чем я виноват, что Мухин тонким, длинным и без мускулов родился или не сумел себе нарастить мускулы, как я? А Тумаркин вообще цыпушка какая-то. Что мне против них легче работать — не спорю. Так это просто моя в жизни удача!
— Вишь ты как! Прямо Герман из «Пиковой дамы»: «Пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу!» Барбин вытянул себе счастливую карту.
Обидно мне стало. За кого же это принимает меня Иван Андреич? Будто с расчетом я силу свою берегу! Но смолчал пока.
— А грудью к ветру на теплоходе стоять все же приятнее, чем, скажем, из трюма бочки выкатывать. Так ведь, Костя? Только по-честному говори. Ну? По-честному.
Вспомнилось мне, зимой, на отстое когда мы работали, Шахворостов изрек: «Сидеть лучше, чем стоять, а лежать лучше, чем сидеть». Очень смешно тогда было мне слушать его, потому что я в этот момент один выворачивал огромную глыбу льда и вся душа у меня пела победу, а Илья с посиневшим от мороза носом сидел и ногами выбивал чечетку. Это называется «сидеть лучше, чем стоять!» Вот если бы тогда Иван Андреич сказал мне: «Ну? По-честному», — мне легко было бы ответить. А вообще, если по-честному, да, — грудь к ветру действительно приятнее, чем бочки из трюма выкатывать.
Так и сказал я Ивану Андреичу.
А он:
— Было бы лицемерием, парень, если бы ты сказал иначе. А с моей стороны — великой ложью навязывать мысль, что бочки матросу катать приятнее, чем гулять по палубе. Моя мысль, Костя, в другом. У шоферов есть такое выражение: «холостой пробег». Это когда машина идет без груза или с ничтожным грузом, то есть везет меньше, чем могла бы она увезти. У человека в жизни тоже могут быть холостые пробеги. Так как думаешь, это к тебе не подходит?
Быстрый с этого пошел у нас спор.
— Ага! По-вашему, значит, я трехтонка, а Мухин и Тумаркин — полуторки? А каждому из нас по полторы тонны груза положено? Только в чем же я виноват? Сколько нагрузили, столько я и везу. Выходит, наш груз вроде каменных кубов одинаковых — каждому приходится по кубу. Иначе не разложишь. Тем более что и зарплата у нас одинаковая.
— Правильно, Костя, друг мой. А на языке политической экономии это называется социалистическим принципом распределения: «за равный труд — равную оплату».
— Не знаю, Иван Андреич. Политической экономии я не читал. Я знаю…
— А ведь плохо, что не читал. Знал бы больше. Например…
— Я и так знаю, что Костя Барбин не бездельник!
— Но холостые-то пробеги ты делаешь? Гоняешь свою «трехтонку» зря? Мы все говорим, что социализм у нас уже построен и мы постепенно идем к коммунизму. Вероятно, при случае и ты так говоришь. Правда?
— Ну… не знаю, говорю или нет… Докладов я не делаю. А что к коммунизму мы идем — это я знаю. Только вы к чему опять все это клоните?
— А вот к чему. Движение к коммунизму, Костя, не разговор, а реальное развитие нашего общества. Постоянное и неостановимое движение, и надо искать в себе то, что помогает этому движению. А коммунистический-то принцип распределения ведь уже иной: «от каждого по способности, каждому по потребности».
— Знаю, Иван Андреич. Только «по потребности» — это когда будем вволю всего иметь.
— Тоже правильно! Ну, а «по способности» когда начнем? Это от чего зависит?
— Вот и доспорились. Сразу прыть у меня поубавилась. Выходит так — от самого себя только зависит. И если этого нет у тебя, как же тогда идти к коммунизму — боком одним? Давай мне «по потребности», а я не дам «по способности»? Иван Андреич сразу заметил заминку мою.
— Хорошо, «по потребности» — это, — говорит, — допустим, дело еще далекое. Это когда действительно будет полный коммунизм. А вот «по способности» почему, скажем, Костя Барбин уже теперь не думает трудиться? Это ведь не только при коммунизме, и при социализме никак не мешает, при равной оплате за равный труд. Способности свои, Костя, всегда полностью отдавать нужно. Нет, ты не бездельник — ты скупой. Жалеешь всего себя народу отдать. А в то же время и расточитель большой. Не только физическую силу свою — ум свой, талант, способности тоже гоняешь сейчас на холостом ходу.
Забормотал я на это что-то совершенно невнятное: дескать, еще учиться я должен, что ли? Так по моей работе знаний моих и сейчас выше макушки. Разве тоже не холостой пробег будет, если учиться зря, без всякой нужды в этом?
Иван Андреич так взметнул свои худые плечи, что мне показалось — у него кости щелкнули.
— То есть как без нужды? Да ты, парень, просто кощунствуешь. Человечеству, народу не нужны новые знания? Ах, Косте Барбину, матросу с советского теплохода «Родина», они не нужны! А он, этот Костя Барбин, частица нашего общества? Ага, по профессии матроса ему больше никакие знания не нужны! Сейчас в большом ходу поговорка: «Ставить телегу впереди лошади». Парень, мне кажется, что ты как раз вот этим самым способом и запрягаешь свою лошадку. А нужно, друг мой, чтобы знания всегда шли впереди любой профессии и тянули ее за собой. Поднялся ты в своих знаниях выше — поднимай и всю профессию выше, на новую ступень. А сам опять еще выше поднимайся.
«Поднимайся!» А у меня такое чувство, что я сейчас, наоборот, куда-то вниз иду. И цепляюсь уже, как говорится, за соломинку.
— Получается все же так, Иван Андреич: вы хотите, чтобы я из матросов ушел.
— Нет. Получается, парень, немного иначе: я хочу, чтобы ты не забивал себе голову мыслью о том, что стремиться тебе больше уже не к чему и незачем.
Вот такой примерно состоялся у нас разговор. Во всяком случае, так я его записал сразу.
Словом, за эти пять дней с Иваном Андреичем я столько всякой политики проработал, сколько до этого за всю свою жизнь в разных кружках не прорабатывал. И хотя, как вы видели, разговор этот закончился совсем не в мою пользу, мне он под конец просто понравился. Вроде бы голова у меня от него стала вместительнее.
Теперь, возможно, вы спросите меня, почему я о Шуре ни звука? Хотя даже главу назвал: «А что должен делать я?»
В том-то и штука, что я совершенно не знал, что мне делать после того, как Шура потихоньку ушла. До конца вахты я ее не встречал — это нормально. А вот когда с вахты сменился, при других бы обстоятельствах я, вернее всего, сразу же к ней заглянул. А тут, чувствую, нет, никак не могу. Даже мимо почтовой каюты пройти мне тревожно: а вдруг откроется дверь? Вот штука-то удивительная! Ведь ничего же не произошло, чтобы трудно было встречаться…
Вот вы, если с вами в жизни такое уже случалось, может быть, и улыбаетесь надо мной: дескать, Костя Барбин из мухи сделал слона. А я спорить буду, — в таких случаях вы тоже слонов делали! Точь-в-точь как я, терзались и думали, что это значит и как вам поступить: бежать ли к ней или, наоборот, от нее удрать куда подальше? При всякой другой профессии выбирать можно. А скажите, матросу куда с корабля удрать?
Чем больше я думал о Шуре, тем яснее мне становилось: любит. К этому подводили и всякие другие приметы: как она что-то сказала мне, как когда-то тронула рукой мою руку, как писала портрет… Ну, а я? Себя я как раз понимал меньше, чем Шуру. Неужели вот «это» и есть «люблю»? Раньше я думал, что когда «это» придет, оно будет больше. Во всяком случае, будет какое-то особенное. А когда я думал теперь, мне мешала еще и Маша. Она словно бы стояла у меня за спиной и грустно, с укоризной, как на Столбах, когда я выкидывал фокусы, говорила: «Костя, ну что это ты?» И я злился на эти ее слова, потому что не она мне, а я ей должен был их говорить. Если по справедливости.
Сменившись с вахты, я прежде всего отыскал Шахворостова. Нужно было вдолбить ему наконец, что о Шуре болтать я больше ему не позволю.
Илья оказался на корме, на кринолине — это такая решетка полукругом над самыми рулями. Он обдирал барана. Ну да, барана. Орудовал ножом так, как ловкий парикмахер бритвой. С какой стати он взялся — не понимаю. Или просто самому Илье это нравилось, или среди ресторанных работников любителей резать баранов не нашлось. Но говорить то, о чем я собирался, человеку, у которого нож сверкает и руки по локоть в крови, сами понимаете, не очень приятно. И все же я подобрал какие-то слова. Илья мигнул левым глазом, подбросил и поймал нож.
— Чудак! Ну ладно, я больше не буду. А если сам спросишь? Спросишь ведь.
Я молча показал ему кулак и ушел.
Теперь мне нужно было мирно с кем-то поделиться. Чем? Не знаю — счастьем ли, тревогой ли. Я попробовал завязать разговор с Тумарком Маркиным. Этот никогда никому не грубит и лучше других поймет такие тонкие вещи. Тумарк сидел один, не читал, а прямо, как говорится, пожирал глазами книгу. Я заглянул на переплет — «Моя жизнь в искусстве» К. Станиславского. Понятно. Рассказывать Тумарку я начал издали, и так, как будто все это случилось даже не со мной. Но он вдруг покраснел, отмахнулся рукой и сказал: «Не надо, Костя, об этом». И мы разошлись.
Потом я попробовал пристраиваться к пассажирам. Но с ними затевать такой разговор было еще труднее. Их больше интересовало, с какой скоростью сейчас идет теплоход, когда мы будем в Дудинке и какая в этом месте ширина Енисея, а не любовь. Вернее, любовь бы их тоже интересовала, если бы своя. Или хотя и чужая, да ясно рассказанная. А как расскажешь ясно, когда еще и самому все в тумане?
И я тогда пошел снова к Ивану Андреичу, потому что для меня он стал каким-то не посторонним. Я даже не побоялся помешать ему в самых последних сборах перед высадкой. Но когда я открыл дверь в каюту, я увидел, что там полно людей и откупоренных бутылок шампанского. Выходит, это собрались товарищи Ивана Андреича провожать его в Игарке. И я постеснялся войти.
Сколько потом я ни вертелся около каюты, так Ивана Андреича одного и нельзя было подкараулить. Эти уйдут — другие придут.
Несколько раз я издали видел Шуру. Мне даже казалось, что она ходит ищет меня, но я очень ловко терялся где-нибудь среди пассажиров или нырял в коридор. Не то чтобы я трусил встречи, просто хотелось ее оттянуть. А почему — тоже не знаю. Между прочим, раньше я как-то все знал.
Так время проскрипело до самой Игарки. И я все петлял по разным закоулкам теплохода. А когда «Родина» развернулась против течения и белые баки нефтебазы оказались уже не с правого, а с левого борта, тогда я напролом ввалился в каюту к Ивану Андреичу.
Не поговорить, так хотя вещи ему вынести. А то подумает еще напоследок: потрепался Костя Барбин.
Иван Андреич очень обрадовался:
— Дорогой мой, куда же ты запропастился? Нам не пора с вещами двигаться?
Теплоход действительно давал уже подходной гудок, от которого всегда дрожит сердце у тех, кому высаживаться на пристани. И хотя Ивана Андреича собралось провожать много друзей и все наподхват стали брать его узлы и чемоданы, кой-что досталось и мне. Старик только растерянно улыбался:
— А я — то сам что же? Я ведь тоже должен что-нибудь нести?
И мне показалось неловким напомнить ему о книге, которую он мне обещал подарить на память.
Спустились в пролет мы немного рановато. Самая толчея, когда каждому поскорее на берег выскочить хочется. На верхней палубе всякие выкрики. Тут начальник увидел на пристани своего подчиненного: «Иванов! Ну, как дела? Ты чего ежишься?» Там подчиненный увидел начальника: «Петр Акимович! Петр Акимович! Как ваше здоровье? Как семья?» Девчата перекрикиваются: «Ой, ой, Светка, да скорее ты!» — «Лови, сейчас спрыгну!» Женщина заметила мужа, в ладошки хлопает, визжит, как поросенок: «Ведь встретил! Встретил, паразит!» Руки у нее тяжелые, толстые, зато брови шнурками, губы сердечком, на голове шляпа — одна, да такая, словно четыре вместе сшиты. А по щекам слезы радости бегут. Парни какие-то без слов, два пальца в рот и — «Фью-у-у!». А в общем получается веселая картина.
Под этот галдеж и свист нас в тугом потоке с теплохода и вынесло. Я все поглядывал — не помяли бы моего Ивана Андреича. В трудный момент — раз! — углом локоть выставишь, и, пожалуйста, как река от скалы, так и поток людской от меня отворачивал.
И тут увидел я впереди Машу и Леонида. Он был при всей морской форме, даже с кортиком, и тоже как я, выдвигал то один, то другой локоть, чтоб не помяли Машу. Но в самом узком месте их все же стиснули, я увидел, как у Леонида, словно обломились, повисли руки, а Маша оглянулась назад, и лицо у нее было испуганное. Мне захотелось крикнуть этому моряку: «Полундра! Куда смотришь?» Но тут я сам попал в это узкое горло и едва-едва вывел из него Ивана Андреича.
Потом я Машу с Леонидом увидел уже на лестнице, которая ведет от дебаркадера вверх к зданию речного порта. Хорошая широкая лестница, светлая, как все в Игарке. Они поднимались легко, торопливо, Леонид что-то говорил Маше, и было очень красиво, как Маша слегка наклоняла голову, наверно, чтобы лучше расслышать.
Мы с Иваном Андреичем и со всеми его друзьями взбирались вверх помедленнее. Все вещи тяжелые, а у Ивана Андреича к тому же одышка. Думаю: нужно бы ему отдохнуть. И тут, в этот самый момент, я услышал голос Шуры. Снизу от дебаркадера.
— Костя! Костя, милый! Купи мне, пожалуйста, каких-нибудь духов.
Она так громко крикнула, что на ее голос оглянулись все до одного пассажира, которые поднимались по лестнице. Оглянулась и Маша. Остановился Иван Андреич, забормотал что-то вроде: «Ах, о девушке-то я…»
Почему Шура крикнула это, я не знаю. Во-первых, духи «какие-нибудь» можно всегда купить и в ларьке, прямо на теплоходе. А во-вторых, я ни разу не замечал, чтобы Шура увлекалась этим. В каюте у нее духами и не пахло, губы она не красила, лицо не пудрила, да к нему, к мелкому пушку на щеках, наверно, и не пристала бы пудра. Между прочим, и ходила она все эти дни в синем лыжном костюме. Но теперь Шура стояла в ярком шелковом платье и просила меня на всю публику о том, что ей было или вовсе не нужно, или она могла бы сделать и сама. Я не люблю, когда так вот по-глупому держат себя взрослые люди. Даже девушки, у которых любая глупость выглядит все-таки мило. И при других обстоятельствах на Шуру я очень бы рассердился. Но все глядели на меня сочувственно и с одобрением — не заметил я только, как глядела Маша, — и я посигналил Шуре рукой: «Обязательно!»
А когда мы выбрались вовсе наверх, Иван Андреич отвел меня чуточку в сторону:
— Кажется, она очень славная, эта твоя девушка, Костя. Прошлый раз я хотел именно о ней поговорить с тобой, когда начал… Да ты, наверно, после и сам догадался. У меня, парень, за плечами большая жизнь, но я не кудесник, не гадалка, по линиям на ладони судьбу предсказывать не умею. Тем более что у девушки твоей я не только ладони, но и пальчика даже не видал. Но все-таки, дорогой мой, есть разные мелкие признаки. Мелкие, а важные… Сам любишь не любишь, а любовью девушки не играй, девушку береги. О Поленьке я тебе не зря, со значением рассказывал. Ну, а что и как делать — сам решай. Кстати, читал, что на книжке я тебе написал?
— Иван Андреич, — говорю, — да книжку-то свою вы мне так и не дали!
— Как не дал? Да что ты! Ах, память! Ну, стало быть, в каюте осталась. Либо хуже — в чемодан по рассеянности сунул ее. Что же, развязывать свои узлы здесь не стану, отдам, когда из Дудинки обратно поплывешь.
— Да вы что это, Иван Андреич! Меня встречать, что ли?
— Ну, это, парень, не твое, а мое дело, как я сделаю. А сперва посмотри хорошенько в каюте, может быть, книжка там.
На этом с Иваном Андреичем мы и расстались. Теплоход наш поплыл дальше. Дверь в почтовую каюту стояла открытой. Но я все же так и не знал, что я должен делать, потому что не знал, люблю ли я Шуру.
Глава пятнадцатая Край земли
Сразу скажу: это не точно не только потому, что земля — шар. Дело в том, что от Дудинки, от нашей конечной пристани, до побережья Ледовитого океана остается еще больше семисот километров, а если прихватить острова Рудольфа и Уединения, так до северного края красноярской земли наберется, пожалуй, с лихвой даже и две тысячи. А все-таки каждому, кто доплывет до Дудинки, кажется, что вроде бы дальше и суши нет. Конец. За Дудинкой — море. Оно и верно: ниже Дудинки ходят уже только морские суда, если не считать рыбачьих сейнеров, которые крутятся возле своих промыслов, а в шторм бегут спасаться куда попало.
Потому, что Дудинка столько же морской, сколько и речной город, она какая-то двойная. Тут тебе и пристань для пассажирских пароходов с мостиками через баржу, а дальше — топай по мокрой глине в крутую гору, тут и всякого размера бегают катеришки, вьются возле океанских судов, как мелкая рыбешка хамса возле тайменей. Тут и конвейерные железные эстакады для погрузки угля в лихтеры. Прямо из вагонов на ленту сыплется уголь, а потом хлещет вниз черной струей. Вот какая здесь высота берега! Спросите — откуда вагоны с углем? А уголек из Норильска, от которого по жидкой тундре сюда великолепная железная дорога проложена. Такая же дорога идет потом и в самом низу по дамбе. А там склады и склады, портовые краны и вообще камень сплошной и железо. И тут же, в устье речки Дудинки, забито все бревнами, сплавленными по Енисею в плотах. Притащили их сюда такие буксиры-работяги, как и тот, что мы обогнали ниже Туруханска. В этой речке морем вроде бы уж и не пахнет нисколько. Но посмотри только на берег — тут же лежат железные морские бакены. Как только разойдутся льды в низовьях, их будут ставить на Енисее.
Такая же двойная Дудинка и подальше от берега… Избушки, избушки — балк по-местному, кажется, ногтем сковырнешь, и рядом — кирпичный трехэтажный дом! Либо целая улица деревянных двухэтажных. Тротуары — мостки, а под мостками болотца воды, и на них троелистка, пушица, осочка вытянулась, дикие кулики бродят, какую-то живность на еду себе выискивают. Средина же улицы крепко шлаком засыпана, и по ней шпарят на третьей скорости грузовики. В сухую погоду даже настоящая городская пыль здесь стоит. Только сухая погода в Дудинке все же редкость, и потому грузовики тоже не так-то часто пылят, а больше корчатся в грязных ухабах. Но это городу не в упрек. Понимать надо, в какой гиблой тундре он вырос. И не сразу все эти топи, трясины асфальтом зальешь. Вот электрическим светом их давно уже залило. Подъезжаешь поздней осенью в черную ночь к Дудинке, так она уже за сорок километров огнями сияет.
Если сравнивать Дудинку с Игаркой, так в Дудинке, я бы сказал, мужская сила, а в Игарке — женская привлекательность.
Сюда, на этот край земли, мы приплыли поздней ночью, когда все в городе спали, кроме солнца и начальника пристани да тех еще, кому «Родину» обязательно встретить нужно было. И это хорошо, потому что на конечной стоянке нашему брату матросу хлопот больше всего, и лучше, если никто тебе не мешает. А днем дудинцы с берега — то к капитану, то в ресторан за пивом, то просто постоять на теплоходе да с палубы в воду поплевать.
В Дудинке вахта ломается. Все матросы работают на выгрузке, всем хочется разделаться поскорее, чтобы прибрать как следует теплоход к новой посадке пассажиров, да и себе время выкроить, побегать по городу. Кто в магазине себе диковинку купит такую, что в Красноярске нет, кто побежит проведать знакомых — они тут у каждого, кто — по рыбакам, — глядишь, черной икры кастрюльку притащит. А через коренных жителей, ненцев, можно даже шитые бисером унты — меховые оленьи сапоги — раздобыть или резную из кости табакерку. А это все можно только тогда, если теплоход будет приготовлен на «пять с плюсом». Иначе Иван Демьяныч и на берег никого не отпустит.
Словом, жали мы, как говорится, на всю железку: катали бочки, таскали мешки и ящики, мыли, драили палубу и добрых по четыре часа свободного времени себе выкроили.
Тумарк Маркин зовет:
— Давай сходим в кино. А то ведь целую неделю вверх подниматься.
Петя, Петр Фигурнов предлагает другое:
— Можно купить для зимы хорошие рукавицы. Меховые. И дешево. Я знаю где. Это для ясности!
А Илья Шахворостов, конечно, манит в ресторан:
— Повар свой. Нам такую нельмочку подаст, что язык проглотишь. А в буфете марочный портвейн, какого и в Москве нет. Завезен двадцать лет тому назад, специально на Крайний Север. Как мамонты — археологическая редкость.
Так, еще не договорившись кто куда, все четверо мы отправились в город, стали взбираться на гору. Я уже говорил, что в Дудинке это бывает не просто, особенно после дождя. Ужасно скользкая глина. Пока до лестницы доберешься, иной раз и на четвереньках постоишь. Но не подумайте, что лестница к воде не дотянута по халатности начальства. Нет. Спусти ее ниже — все равно ледоходом срежет и в море унесет. Вы не представляете, какие страшные бывают в Дудинке ледоходы. На двадцать пять — тридцать метров горы льда взгромоздит! Мерзлые берега все искорежит, вспашет, из земли камни по тысяче пудов выворотит. Енисей здесь ломает лед не такой, как на юге, что сам уже иголочками рассыпается. В Дудинке он крепкий, зимний и на изломе гладкий, как стекло. Как же такой лед, при двухметровой его толщине, разломать и на берега еще навалить горами? Это только один Енисей может. Только у него одного такая силища.
Вот и теперь, хотя был июнь уже в самом разгаре, вдоль всего берега здесь лежала толстая белая гряда ломаных льдов, из-под них сочилась вода и расквашивала глину.
Вижу, впереди нас Шура карабкается, где за камень, где за льдинку схватится, а в руке у нее небольшой чемодан.
Надо сказать вам, что в Игарке я купил ей духи, именно «какие-нибудь», кажется, дешевенький «Анемон», потому что в береговом ларьке лучших не было. Отдал флакончик, сказал: «Вот, пожалуйста» — и тут же улизнул. Она не успела сказать и спасибо. И потом я вплоть до Дудинки опять очень ловко на глаза ей не попадался. И это было опять сам не знаю почему.
Сейчас мне тоже не хотелось догонять Шуру. Лучше, если бы мы одни, парни, пошатались по Дудинке. Но Илья заорал во все горло:
— Шурка, подожди!
Она сразу остановилась. И когда мы оказались все вместе, Шурин чемоданчик пришлось взять мне, сами понимаете — кому больше? А чемоданчик, между прочим, оказался очень тяжелым. Я боялся, что Шахворостов опять начнет свою болтовню и тогда мне придется с ним снова скандалить. Но Илья хотя и нес, как ему полагается, всякую чепуху, а насчет Шуры помалкивал.
Раз с нами в компании девушка, значит, всем нужно идти в кино. Тумарк этому очень обрадовался: по его вышло! Но Шура вдруг отказалась:
— Мне нужно вот это знакомым передать.
Ну, конечно, всякие тут восклицания, а решили так: билеты взять на всех, я Шуре помогу поскорее отнести чемоданчик, а ребята будут нас ждать у входа в кино.
И вот мы пошли вдвоем. Я спросил: «Далеко ли?» Шура ответила: «К вокзалу». Это значит — через весь город. Ничего себе. Досталось бы ей без меня. Разве на автобус бы села. Не подумайте — в Дудинке и автобусы ходят.
Разговор у нас был самый пустой и отрывистый. Может быть, потому, что шли мы не рядом, а гуськом. Тротуары здесь узкие, а встречные то и дело заставляют сторониться, давать им дорогу.
Я, между прочим, поинтересовался, что там наложено у Шуры в чемодане такое тяжелое: железо или стекло? Шура ответила не сразу — шла впереди меня, и я даже подумал, что она не расслышала мой вопрос. Потом остановилась.
— Костя, ты устал? Дай тогда я сама понесу.
Я говорю:
— Ничего я не устал. Просто поинтересовался.
И вот глядит на меня уже не Шура, а японский дипломат барон Танака. Потом глазами как сверкнет, девичьим смехом как брызнет:
— Картинки, Костя! Картинки на стекле. В Норильск перешлю, там их нарасхват, лучше, чем в Красноярске, покупают.
А сама не пошла — побежала. И все хохочет, хохочет:
— Ой, глупый! Ну и глупый же, Костя! Поверил…
В квартиру к ее знакомым я не пошел, остался ждать Шуру на улице. Как часовой, долго ходил возле дома взад и вперед. Потом надоело, и я отошел к переезду, где по рельсам бегала маневрушка, совсем такая, как и у нас в Красноярске на станции, волочила за собой длинные сцепы вагонов, пахло угольной гарью, мазутом, позванивали буфера, и я вовсе забыл, что стою далеко за Полярным кругом, на самом краю земли.
В Дудинке я бывал много раз и, если позволяло время, обязательно выходил в тундру. Понимаете, интересно все же. Притом недалеко, по сути, и город-то сам весь прямо в тундре, выйди на окраину — и сколько хочешь любуйся. Но тундра, между прочим, кто в ней не бывал, а только мысленно себе ее представляет, — вовсе не гладкая и ровная, как степь. Она вся из бугров и низинок. На холмах кустики, а в низинках — болотца, вода. Напрямую летом по ней никак не пройдешь, обязательно где-нибудь да завязнешь в трясине. Из-за этих самых бугорков, кстати, и широкого обзора нет. А мне все хотелось на тундру взглянуть с самолета, либо, на худой случай, с высокой горы. На самолет Косте Барбину не попасть. Куда он и зачем полетит? А вот на гору, хотя и не очень высокую, можно подняться. Есть такая возле самой Дудинки, недалеко от железнодорожного вокзала. Вернее, не гора, а холм, если придерживаться учебников географии. Но где нет хребтов настоящих, там и любую кочку уже горой зовут.
— Костя, что тебя там заинтересовало?
Это Шура. Я и не заметил, как она подошла.
— Да вот думаю: хорошо бы оттуда, с горы, на тундру взглянуть.
— Ну, так пойдем! Мне тоже хочется.
— А как же кино? Ребята нас ждут.
— Подумаешь! Убыток большой, пропадут наши билеты. В кино с тобой, Костя, мы сходим всегда, а на эту гору…
И мы пошли.
У меня на ногах были рабочие ботинки, у Шуры — туфли-микропорки. И пока мы шли по дороге, это было ничего. Но дороги на самую гору нет. Мы свернули нацело, и тут началось. Вот будто и сухо, а наступи — сразу почва продавливается, в глубине вода начинает похлюпывать, и если быстренько ногу не выдернешь, в ботинок тебе нальется. Выдернуть ногу… А куда потом ее поставить? Все равно везде одинаково. В общем через десять минут мы промокли насквозь, а вперед почти не продвинулись, все крутились меж бугорков и болотцев. И чем дальше, тем было хуже. Отдохнуть бы — присесть не на что.
Сперва мы хохотали, когда особенно глубоко увязали в трясине. Потом Шура стала без смеха говорить: «Костя, ну и забрались мы с тобой! Как обратно выйдем?» Будто мы до конца уже дошли. Потом, еще позже, стала ворчать: «И чего это ты затеял?» Хотя силой никто ее сюда не тащил, наоборот, она меня сперва повела. А еще попозже и совсем остановилась: «Нет, больше я не могу!» Руки повесила, и в глазах такая пустота, какая бывает, когда человек вот-вот в обморок упадет. Стоит и одно повторяет:
— Не могу. Костя, я не могу.
А вдруг и действительно упадет? Все-таки девушка! Такой силы, как у меня, конечно, нет у нее. Один я так прошлепал бы через любые трясины, но поглядел бы с горы на тундру. Теперь думай, Костя, о другом: как к теплоходу выбраться.
Подошел поближе к Шуре, помог перейти на какую-то кочку, где было чуточку посуше. Говорю:
— Ну, не думал я, что ты такая…
Она тихонько руку положила мне на плечо.
— Какая?.. Ну?..
— Слабая!
— Правда… Зато ты сильный. Как хорошо!
И повисла совсем. Не поддержи я рукой, села бы прямо в сырость.
Так вот и стоим, как скульптуры в городском саду. В лицо мошка сечет, над лужицами какие-то белые мотыльки порхают, солнце от воды отражается, глаза слепит. Все болотца, словно щетиной, молодой пушицей затянуты. Сейчас она зеленехонька, а будь к осени, можно подумать — снег выпал. В гору мы как следует не поднялись, но стоим все же повыше Дудинки, и лежит она перед нами как на карте: любую улицу и переулочек видно. А за городом Енисей. А за Енисеем — опять тундра, среди зелени рябь озер серебристая. И бегут, бегут над ней мелкие кучевые облака, словно шапочки белой пушицы. А горизонта вроде бы и вовсе нет, нету края земли — просто щель в небо. И я представил себе: а как все это было бы видно с горы!
С севера, от океана холодный ветер дует, воздух чистый, в тундре нечем ему запылиться. Над рекой воздух тоже чистый, но там какая-то другая, своя, речная чистота. И та мне родная, а эта — нет. И с горным ветром тундровый ветер тоже никак не сравнишь. Тот мягкий, словно бы льется, прохладой своей и ласкает и живит, а этот — резкий, сквозняком тебя так и прошивает.
Костя, ноги у меня совсем закоченели…
Чувствую, как дрожь перетряхивает Шуру. Прижал я к себе ее и повел. Теперь уже все равно, напрямик, через какие попало трясины, только поскорее бы на сухую дорогу выбраться.
Но перед тем как пойти, в последний раз я обернулся, поглядел на гору. Что это? Померещилось мне или вправду там, на самой вершине, я увидел тоже двоих? Далеко. Фигуры мелконькие, но я их узнал. И не то что чувство зависти к Маше и Леониду или досада на Шуру, что-то вовсе другое появилось у меня. Вроде бы так: они сумели, а мы — нет. И еще: с Машей я тоже сумел бы. А тогда где-то там далеко, в самом затылке, завозилась ужасно обидная мыслишка: «Сзади нас идут Леонид с Машей и потешаются, как мы тащимся по трясине». Почему-то припомнилось: «Во Францию два гренадера брели и оба душой приуныли…» Это Маша когда-то декламировала такие стихи.
И хотя все это было ох как неприятно, но я честно и от души помогал Шуре. Чем же виноват человек, если сил у него не хватило?
Пока мы тащились по болоту и полярные березки хлестали нас своими жесткими сучьями по ногам, разговора у нас, можно сказать, никакого не было. Шура только иногда вскрикивала: «Ой, Костя!» — будто это я хлестал ее березками. А я уговаривал: «Ты потерпи» или: «Теперь недолго». Но когда у нее вдруг вырвалось: «Так больно же, Костенька, милый!» — этим «милым Костенькой» она вовсе застегнула мне рот.
В общем не знаю почему, но с Машей вдвоем так неловко себя никогда я не чувствовал.
Едва мы вышли на твердую дорогу, Шура сразу переменилась. Сняла руку с моего плеча и пошла легко, будто и не было у нее усталости. И я подумал: вот как быстро может человек отдохнуть. А Шура теперь говорила и говорила. Что-то примерно такое: «Ну, буду я знать, что это за тундра! Рассказать маме — в ужас придет: «Дочь моя, какая ты героиня!» Костенька, нам нужно было наломать этих сердитых полярных березок. Приедем в Красноярск, доказать нашим, что мы были в тундре. Ох! И как только здесь люди живут?» Мне было очень щекотно от «Костеньки», а что она говорила «доказать нашим», и вовсе запутывало: кому «нашим»? Но я все же старался болтать ей в тон.
Если разобраться, скучно с Шурой мне в этот раз не было, даже когда я тащил ее чемодан или потом, когда мы оба сами тащились по трясине, а теперь — и тем более. Но и радости от прогулки, удовольствия настоящего тоже не вышло. И дело вовсе не в том, что промокли мы и грязью захлюпались. С Машей тоже разве не мокли мы? Вся штука в том, что со мной происходит что-то такое… Ну вот, наверно, как у Леньки, когда он в первый раз стал варить кашу и сам не знал, что из этого выйдет!
Наконец добрались мы до теплохода. Ноги у нас уже подсохли. Конечно, только обувь снаружи, а слякоть внутри — куда ее денешь? Шура без всяких поволокла меня к себе в каюту: «Костенька, времени у нас еще час целый». Поволокла так, будто боялась, что я опять надолго от нее удеру. Но я сказал, что сперва все-таки надо помыться и обувь сменить.
Ребята из кино вернулись давно. Сидят втроем, обсуждают картину. Накинулись на меня, что ждали нас, дескать, до последней минуты и из-за этого даже пропустили журнал. А журнал был «Новости техники», очень интересный. Нападали, собственно говоря, только Тумарк с Петей, Петром Фигурновым, а Илья смотрел, как я стаскиваю грязные ботинки, и ехидно улыбался.
Вдруг заходит штурман Владимир Петрович:
— Все — в машинное отделение!
— Что такое?
Оказывается, механик обнаружил в какой-то там муфте трещину. Надо срочно менять, поднимать машину. Ладно еще, что в пути беды не случилось.
— Бывает, — говорит Владимир Петрович.
— У сапожников — бывает, — говорю я.
Покосился он на меня.
— Тебя, Барбин, не поставить ли главным механиком?
— Сапожником быть не хочу, Владимир Петрович. А механики — все сапожники. У них вечно что-нибудь да случается.
— Это верно. Машина — дело сложное. А у матроса чему случиться? Разве рука сорвется, да из шланга пассажиров он водой окатит или трапом кому-нибудь ногу отдавит. Ну, айда вниз!
Последним выходил я. Повернулся случайно к иллюминатору и увидел, что по мосткам на теплоход поднимается Маша. С тех пор как мы пошли на Столбы, мне кажется, я не видел ее одну, Леонид всегда, как злой дух, торчал возле Маши. И я невольно задержался, обшарил глазами весь берег, все спуски-тропинки с него: не приотстал ли он просто? Нет, его не было начисто! И у меня мелькнула веселая мысль: «Может быть, он утонул в трясине?»
В машинное отделение нужно было идти направо. Но я побежал налево, нарочно, чтобы в пролете столкнуться с Машей и сказать ей: «Доброе утро!», хотя по часам было, пожалуй, около одиннадцати вечера. Маша могла бы задержаться, остановить меня и поговорить о чем-нибудь. Но она прошла мимо и совсем на ходу бросила:
— Здравствуй, Костя. Спокойной ночи!
Мы долго копались в машине, помогая «сапожникам», и вывозились в масле, как черти.
Что мы проделали? Вытащили эту самую муфту. А потом главный «сапожник» — механик — с Длинномухиным и Петей, Петром Фигурновым понесли ее в мастерские морского порта, чтобы по образцу выточить другую взамен. А помощнику своему и нам главный механик поручил к этому времени что-то такое подготовить еще. Вот я все время говорю: «какую-то», «эту самую», «что-то такое», но не потому так говорю, что в технике боюсь вас запутать. Просто я сам ничего в ней не смыслю, и пока мы возились в машине, не запомнил ни названий деталей, ни даже того, как они действуют и взаимодействуют, хотя механик по ходу дела и старался нам объяснить. Честно признаться, не запомнил еще и потому, что какой-то дятел долбил мне голову: «Зачем матросу все это нужно?».
А дальше — ушел главный механик, и конец. С его помощником не ладится дело у нас. Орет он, ругается, как папа-Шахворостов, а толку нет. И мне становится ясно, что сам он в машине «ни бум-бум», а криком своим заранее на нас вину перекладывает. Вот, дескать, это мы такие тупицы, что все делаем не по его указанию и только портим.
Оно и верно. Должен был я отвернуть гайку. Но при всей силе моей гайка никак не идет. Ну, вы подумайте! И тогда этот самый помощник механика мне говорит:
— А ты постучи, Барбин, по ключу молотком.
Пожалуйста! Стукнул раз, и два, и три, и посильнее.
Как прикипела гайка, ни на волосок! Ну, я тогда и ахнул как следует. Ключ пополам. Тоже, наверно, как в муфте, была в его рукоятке тайная трещина.
Тут помощник механика от крика прямо наизнанку весь вывернулся. Но мне на это плевать, мне интересно: да что же это за гайка, что за чудо такое? И тогда подходит цыпленок Марк Тумаркин, подумал, почесал у себя за ухом, взял обломок ключа и спокойненько отвернул гайку. Как? Да просто она оказалась с левой резьбой…
Помощник механика издевается:
— Головой, Барбин, думать надо.
Вообще-то, конечно, головой… Интересно, сам чем он думал, когда заставлял меня колотить молотком по ключу, если знал, что гайка с левой резьбой? Я промолчал, не стал огрызаться. Но злость в душе у меня в этот момент ворохнулась лютая. И не к «сапожнику», а к этой самой технике. Получается, я, Костя Барбин, перед какой-то гайкой в дураках оказался! Да если б я захотел… Готов на спор: разберите до последнего винтика любую машину и замкните потом меня одного, даже без хлеба, в помещении, где она распластанная лежит. Соберу. Умру — а соберу. Ведь это все как настроишь себя, на какой лад. Маше, когда она пошла учиться на радистку, я подивился: трудно. А Маша тогда сказала: «Не боги горшки обжигают!» Вообще-то правильно. И Костя Барбин может обжечь.
Вернулся главный механик, покачал головой: у нас не шито, не порото. Махнул рукой:
— Ладно, ребята, ступайте. Теперь я уже сам здесь займусь. Муфту нам не скоро выточат.
— А как же тогда? По расписанию пора уже выходить из Дудинки.
— Как, как! Без машины все равно не двинешься.
Стало быть, выйдем с опозданием. А Иван Демьяныч беда как не любит опаздывать.
Вылезли мы из машинного отделения, отмылись и пошли кто куда. Шахворостов с Фигурновым спать, Тумарк — снова на берег, а я в корму теплохода, на палубу в кресло, в котором любил сидеть Иван Андреич. Сел подумать. И почитать его книгу. Я ведь вовсе забыл сказать вам, что она действительно в каюте у него оказалась. Но мне проводница отдала ее, когда мы уже подплывали к Дудинке.
Вы спросите: а какая же надпись была в книге сделана?
Вот какая:
«К. Барбину.
Юный друг мой, если тебе не хочется читать эту книгу, сразу брось ее в Енисей.
Ак. И. Рощин.
Теплоход «Родина», 1954».
Я долго ломал голову, почему он подписался: «Ак. И. Рощин». Что за «Ак.»? И вдруг сообразил: академик. Ничего себе! А я — то считал его за простого инженера…
Книга Ивана Андреича начиналась так:
«Вот я стою у края земли, и возле ног моих неумолчно плещется море. Оно подвижно, оно всегда подвижно. Вода — это движение, может быть, на первый взгляд незаметное или непонятное. А движение — это энергия. Сила. Сила воды — вечная сила, которая служила всем поколениям человечества. Но за всю долгую жизнь земли человек не взял от воды ее силы столько, сколько он мог бы взять и сколько он будет брать когда-нибудь в один, может быть, год. Этого достигнет, добьется ум человеческий…»
Когда книга академика начинается так, разве бросишь ее в Енисей?
Глава шестнадцатая О чем я задумался
Так была написана не вся книга Ивана Андреича, а только предисловие на четыре с половиной странички. Потом фразы читались тоже легко, но в каждой из них сидело одно, а то два и три совершенно незнакомых мне слова. Иногда я догадывался, что они значат, а чаще становился в тупик.
Иван Андреич мне говорил: «Читать ее скучно. Но ты стисни зубы и читай. Три, четыре раза одно место перечитывай, пока до корня в нем не доберешься. На непонятное слово наткнешься — спроси, поищи в словаре. Не забегай вперед, пока не разберешься в прочитанном. И так иди до конца».
Тогда мне это показалось чем-то вроде коротенького рассказика о китайских мудрецах. В «Огоньке» я читал. В этих рассказиках всегда есть второй смысл, который сразу и не заметишь. Тогда в словах Ивана Андреича я тоже не уловил второго значения, хотя чувствовал, что оно есть. Теперь я понял, в чем тут штука. Если ты, Костя Барбин, дочитаешь эту книгу до конца и все-все в ней поймешь до последнего слова, — ты выучишься сам так, как любой инженер, для которого написана эта книга. Вот оно что! И вот что тогда значат слова: «Если тебе не хочется читать эту книгу, брось ее в Енисей».
Да, тут подумаешь… Эти слова до единого все понятные, в энциклопедию лазить не надо. А ведь что за ними стоит? Сколько в этой фразе еще не написанных слов? Разве нет здесь такого: «Если ты, Барбин, считаешь, что жизнь моя прожита бесполезно, не читай эту книгу! Если думаешь, что свою жизнь не сумеешь сделать более полезной, чем я свою, не читай эту книгу! Если тебе вовсе нечему от меня научиться, брось книгу в Енисей!»? И еще такого: «Юный друг мой, вот я, старый инженер, академик, поверил в тебя, поверил, что ты не проживешь свою жизнь напрасно, мелко и для людей бесполезно. Моя жизнь, мои труды принадлежат всем, читай кто хочет. А я передаю свой труд тебе особо. Одни его просто прочтут, а другие могут продолжить. Я хочу, чтобы ты продолжил его. Сейчас тебе это страшно слышать. Но ты ведь Барбин! Ты сам говоришь: Костя Барбин очень сильный. Неужели твоей силы хватает, только чтобы свои матросские обязанности выполнять? Нельзя работать меньше своих сил, меньше своих способностей».
Ладно! Ясно, что за надписью Ивана Андреича не договорены все эти слова. Книга у меня в руках. Я прочитал в ней интересное предисловие. Все в нем понял. Остальное, захочу — тоже пойму. Но дальше книга пошла скучнее. И читать ее, честно говоря, мне поэтому только и не хочется. Как быть?
Не читать? Положить в сундучок на память или перелистать с пятого на десятое? Но это ведь и будет — бросить в Енисей! Не в том дело, что Иван Андреич придет проверять, где она у меня. Он не придет. Тут дело только моей совести. Поэтому он так и написал. Вот ведь сделал подарочек!
Прочитать так, как хочет Иван Андреич? Прочитать и понять все до последнего слова… О-го-го! Знаем, что это значит! А главное в другом: для чего? Только чтобы не сфальшивить перед своей совестью — раз, и уважительно отнестись к Ивану Андреичу — два? Ради этого он и сам не стал бы дарить свою книгу. Словом, куда ни поверни, все идет вразрез тому, как привык я до этого думать.
Прежде я не мучил себя размышлениями. Поймал одну какую-нибудь мысль по радио, другую подцепил из газеты, третью подсунул Вася Тетерев, четвертую — Илья Шахворостов. И пожалуйста, как говорится, программа жизни на текущий день. Что твои войлочные туфли: удобно, тепло, нигде не жмет!
А тут я и не заметил, как встал и начал сновать по корме, потом обежал весь теплоход и, наконец, остановился у перил, как раз против окна радиорубки. Отсюда очень хорошо была видна золотая даль Енисея, как море, совсем без берегов. На реке стояла безветренная тишина, вода сверкала под ночным солнцем, гладкая как зеркало, но все-таки было понятно, что она движется.
И мне припомнилось начало из книги Ивана Андреича: «Вот я стою у края земли, и возле ног моих неумолчно плещется море». Я тоже стоял у края земли, и у ног моих струился, двигался Енисей и чуточку плескался в борт теплохода. Иван Андреич стоял у края земли не зря, он написал важную и нужную книгу. А я? Вот постою еще немного и пойду спать. Иван Андреич сегодня уже, наверно, слазил в шахту мерзлотной станции. По круто поставленным лестницам-стремянкам ему с негнущимися ногами спускаться было трудно, тяжело. Я тоже сегодня ходил по вечной мерзлоте, но, как козел, легко прыгал с кочки на кочку. Иван Андреич сейчас, наверно, сидит и обдумывает тайны, какие в шахте ему открыла вечная мерзлота. Какие тайны открыла она мне, когда я шлепал по болоту?
Хотя это и походило на игру и ясно было, что сравнивать себя с Иваном Андреичем просто глупо и смешно, но все-таки это было интересно. И вот почему. Что я ни прикидывал на Ивана Андреича, получалось — он живет, работает для пользы всех людей. А на Костю Барбина поверну — у него все для себя. То есть не так уж, чтобы совсем только для себя, — любая его работа, конечно, и другим тоже пользу приносит, но для Барбина это не цель. У него цель — чтобы в мускулах сила играла, свежий речной ветер бил в лицо, перед глазами красота Енисея стояла. Потому ничего лучше матросской вахты для него и нету. Для него, конечно, куда приятнее стоять вот так, у перил, чем, скажем, читать книгу Ивана Андреича или, к примеру, возиться в машинном отделении. Вот они, механики — «сапожники», стучат и стучат себе молотками по железу…
И вдруг меня резнула такая мысль: «А эти вот «сапожники» молотками свое все же выстукают, и наш красавец-теплоход после этого опять свободно и гордо поплывет по Енисею. А я даже гайки не сумел отвернуть, только ключ сломал. Блеснул, что называется, умом, смекалкой! Хвастаюсь силой своей. А что она у меня — стоять, как сейчас на палубе грудь колесом?»
Тогда я снова раскрыл книгу Ивана Андреича и снова перечитал все предисловие. И вот диво: сейчас я в нем вычитал и еще что-то новое, будто, пока я стоял и держал книгу в руках, Иван Андреич каким-то хитрым образом прибавил в нее другие слова, другие мысли. Теперь он говорил еще, что этот труд не одни его личные наблюдения; для этой книги, сами того не зная, подготовили за столетия огромнейший и самый ценный материал тысячи разных исследователей, имена которых по большей части и неизвестны. Тут и ученые статьи, и заметки в газетах, и дневники экспедиций, и записи старожилов, и даже предания и легенды. И вот все, что в разных местах и разными людьми с большой мечтой о будущем создавалось в народе, теперь должно быть возвращено народу. «Я сделал только то, что делают наши женщины на селе, готовясь печь хлеб, — я просеял муку, очистил ее от отрубей и случайного мусора, — писал Иван Андреич. — Пусть из этой муки теперь пекут булки другие. Мука хорошая, я ручаюсь. Пусть булки будут такие же хорошие, как и мука. Их должно испечь для тех, кто вырастил зерно, кто собрал, сохранил и размолол его. Словом, для всей семьи».
Отец Ильи Шахворостова, шофер, рассказывал, что ездил он по Тувинскому тракту, через горные снеговые вершины Саян. Там, говорил он, на спусках есть такие крутые повороты, уму непостижимо, — бывает, что шофер сам себя в профиль видит. Вот в этот раз, похоже, и я сам себя увидел в профиль. И в первый раз сам себе превосходным парнем не показался.
Приближалось время вступать на вахту, а я нисколько не поспал. Конечно, еще можно было спуститься вниз и хотя бы на полчасика прикорнуть. Но так красиво светило ночное солнце, так весело играло оно на реке, что я подумал: «Какой бы замечательный и красивый сон ни приснился, лучше того, что я вижу теперь, все равно он не будет. Постою на палубе еще».
И тут вдруг сообразил, что стою как раз против радиорубки Машиной каюты. Зачем я здесь остановился? Я стал тихонько передвигаться вдоль перил, но не вытерпел и повел глазами на Машино окно. Оно было открыто, жалюзи тоже спущены. Тогда я осторожно чуточку подшагнул вперед и увидел Машу. Она спала. Но не в постели, а прямо у окна, за столиком, положив голову на руки, как засыпал Ленька, когда ему не давались уроки. Словно бы Маша кого-то ждала, да так и не дождалась. И мне стало досадно на себя: как я не заметил открытого окна сразу? Выходит, стоял целый час, а Маша любовалась на мою спину, ждала, пока я уйду, и уснула. Интересно только, кто прежде — я подошел к перилам или Маша села к окну?
Я прошел мимо окна близенько-близенько, ступая на носках. Машина постель была не раскрыта. Из окошка пахло сладкими духами. Я слышал, как ровно дышала Маша, и плечи у нее чуточку то поднимались, то опускались. В руке у нее был зажат поблекший желтый тундровый цветок, а рядом лежало несколько веточек полярной березки с жесткими зазубренными листьями. Березки были не сломлены, а срезаны по-мужски ножом, косым, решительным размахом.
С другого борта теплохода был виден берег, весь заваленный длинным поясом льдов. Ниже, на сырой гальке, у мостков, по которым заходят на дебаркадер, и вверху, по кромке берега, — всюду сидели с ворохами вещей пассажиры, ожидающие посадки. Если бы не поломалась машина, они давно бы уже были в пути.
Прошел сонный Петя, Петр Фигурнов. Я спросил, не знает ли он: скоро, нет мы поплывем? Фигурнов винтом вывернул шею.
— Черт его знает! Говорят механики: еще часа на четыре. В мастерских неправильно муфту выточили.
Он ушел. А я с обидой подумал: «В Нижне-Имбатском пять теток каких-то на час задержал, не пустил на теплоход. Маша это заметила: нехорошо сделал Костя Барбин! А вот что сейчас на берегу, тоже в сырости и холоде, у воды, у льда, пятьсот человек сидят, дожидаются, и тоже их не пускают, потому что правило — посадка за час до отхода, — этого Маша не видит. «Костя, нам до всего должно быть дело!» Показать бы ей это, интересно, что теперь сказала бы она? Многие пассажиры с детишками, им спать хочется. Солнце-то на небе светит, а по часам глубокая ночь, скоро четыре».
И что-то меня словно хлестнуло, погнало вверх, в рулевую рубку. Понятно, там никого. Не станешь рули вертеть, когда теплоход у причала стоит! Капитанская вахта еще не кончилась, но что на палубе делать Ивану Демьянычу, пока не справятся с муфтой «сапожники»? Конечно, греется чайком у себя в каюте. Но я ошибся. Иван Демьяныч попался мне на лесенке, когда я стал спускаться вниз. От него отдавало запахом нефти, наверно, он лазил смотреть машину. Остановился.
— Как же ты, Барбин, ключ сломал?
— Я бы и вал коленчатый сломал, Иван Демьяныч, если бы меня заставили бить по нему молотом.
— Ну, заставили… А сам-то ты что же? Боль железа не чувствуешь? Ему, Барбин, тоже больно, когда бьют не в то место.
— Так, Иван Демьяныч, гайка-то с левой резьбой оказалась. А ключ — с трещиной.
— Не объясняй, все знаю. Вот я тебя поставлю к рулю и скажу: «Держи прямо на створы». Так ты к этим створам и на берег выскочишь?
— Это другое дело, Иван Демьяныч.
— Везде думать надо, Барбин.
Помощник механика, сам во всем виноватый, с подковыркой, с ехидцей сказал мне: «Головой, Барбин, думать надо». Иван Демьяныч просто, с расположением даже ко мне говорит. Он не прибавил обидного слова — «головой». И то самое, что меня подхлестнуло побежать наверх, в рубку, теперь дернуло еще раз испытать Ивана Демьяныча, подерзить ему, как в Корабликах — помните? — с птичкой.
— Головой думать, Иван Демьяныч?
И как тогда, сказал я и понял: через край. Только теперь совсем уже с большим перехватом. Но Иван Демьяныч и тут не рассердился. Помолчал, поглядел на меня и подтвердил негромко:
— Да, Барбин, головой.
— Ага! Если так…
— Хорошо, Иван Демьяныч, — говорю, — вы отдайте приказ за сломанный ключ с меня высчитать. А сейчас скажите: это головой думало, что на берегу пятьсот человек полдня сидят и неизвестно, сколько еще сидеть они будут?
Не то чтобы улыбнулся Иван Демьяныч, но повеселело у него лицо.
— Не собирался я с тебя за ключ высчитывать. Сам просишь? Хорошо, уплати. А пятьсот человек пусть еще на берегу посидят, пока машину не наладим. Это головой думано.
— А вы сердце человеческое, беспокойное почему в расчет не берете, Иван Демьяныч? Люди ведь извелись ожиданием. Кому поспать, кому поесть хочется. Детишки. — Говорю и чувствую, замечаю, не свои слова говорю. От кого-то эти слова я сам уже слышал. От кого?
— Сердце… Это верно. Только есть ведь, Барбин, и правила.
— Интересно, — говорю, — неужели, Иван Демьяныч, по правилам и с вас тоже спросится, если вы сейчас погудите? Зато люди-то как будут радоваться!
Весь этот разговор был у нас в проходе. С одной стороны стеклянная перегородка над машинным отделением, с другой стороны — умывальные комнаты. Берега не видать. Повернулся Иван Демьяныч и молча пошел. А я и не знаю: стоять мне или за ним следовать? Провожаю глазами. Остановился он у пролета, взглянул на часы, потом на берег и — в мою сторону. Сделал знак рукой: подойди, дескать.
— Начинать посадку сейчас, Барбин, — нужно всех проводниц будить, подымать. Подвахту тоже. Ставить матросов на контроль. Спят ведь люди.
— Посчастливило им, — говорю.
— Пусть «посчастливило».
— А я так считаю, Иван Демьяныч: пусть лучше посчастливит тем, кто на берегу.
— Успеют они выспаться.
— Наши тоже успеют выспаться.
— Так, значит гудеть?
— По-моему, гудеть, Иван Демьяныч.
— Н-да… А теперь слушай: там, где есть настоящая дисциплина, строгие порядки, правила, — от них никогда не отступают. Как полагается делать нам по правилам, матрос Барбин?
— Ждать, пока машину поправят, товарищ капитан.
— Ну, вот и будем ждать. Ты когда заступаешь на вахту?
— Уже на вахте я, Иван Демьяныч.
— Так чего же ты стоишь? Или делать нечего? Спроси себе работу у боцмана.
И голос у него стал сразу такой твердый и жесткий, что спорить, пререкаться уже нет никакой возможности.
Пошел я, конечно, не Тетерева искать, а просто так, опять вокруг теплохода. Мимо радиорубки. Маша все спала, только голову на другую руку переложила. «Костя, нам до всего дело должно быть…» Ну, вот вам, пожалуйста, и до всего. А правила есть правила. Их не перешагнешь. Хотя, если разобраться, Иван Демьяныч, конечно, мог бы перешагнуть, да капитанское самолюбие не позволило. Это факт. Матрос, видите ли, советы подает и еще говорит ему: «А это головой думало…» По правилам за такой разговор матросу и выговор закатить не грех.
Но тут я задумался. Если бы так — чего Ивану Демьянычу со мной церемониться? А он отошел хотя и строгий, но нерассерженный. Похоже, что поколебал я его, даже убедил, но не до конца — волосинки, может быть, одной не хватило, чтобы принял он другое решение. Эх!
Ну, а почему же этой самой «волосинки» у меня самого не хватило? А? Скажи, Барбин, честно. И я сказал. Да потому, что сам себя я по-настоящему не убедил. Загорелся — и тут же остыл. Отказал Иван Демьяныч, и мне даже в чем-то легче стало — неправильно, дескать, Маша обвиняла меня после Нижне-Имбатского. Конечно, нам до всего должно быть дело, но существуют и дисциплина, твердый порядок, правила… А все же нехорошо, что столько людей на берегу томится.
И я опять задумался. Вдруг загудел гудок.
Глава семнадцатая «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..»
Из Дудинки мы вышли с опозданием на тринадцать часов! Добро бы осенью, когда туманы или был бы у нас другой капитан…
Ведь это срам какой будет: в летнюю пору прибыть в Красноярск с опозданием! И нагнать тринадцать часов только за счет скорости хода — тоже не шутка! Тем более что еще неизвестно, как поведет себя новая муфта.
Вся команда теплохода у нас ходила какая-то сама не своя. Вроде бы даже пассажирам в лицо смотреть было неловко. Честь корабля — это ведь много значит.
Вася Тетерев собрал комсомольцев.
— Я думаю, ребята, мы примем обязательство: ликвидировать опоздание теплохода и уже в Енисейск прибыть вовремя. Мы можем этого добиться. Я думаю, мы этого добьемся. Мы все должны удвоить свои усилия.
И хотя, пожалуй, никто из нас не представлял ясно, каким именно образом мы будем удваивать свои усилия, такое обязательство мы все же приняли. Тут же выпустили «молнию» — стенную газету, а Вася сразу радировал об этом в Красноярск. Только один Шахворостов после собрания пожал плечами:
— Ведь все равно что так, что эдак, а быстрее того, как может машина, мы не пойдем. Значит, с одних механиков и нужно было брать обязательство. — Толкнул меня в бок: — А ты, наверно, будешь удваивать усилия, Костя?
И я со злостью сказал ему:
— Буду.
Пусть я не знал, как это выйдет на деле, но я от души хотел этого. А Илья издевался, и слушать его поэтому было противно.
Мне очень хотелось разгадать, почему в Дудинке Иван Демьяныч все же дал гудок не за час до отправления, а много раньше. Неужели это меня он послушался? Или собственная совесть заставила? Толком узнать я ничего не мог. Каждый матрос объяснял по-своему.
Вы скажете: так взять и спросить самого капитана! Но в том-то и штука, что спросить его было никак невозможно. Лицо такое, что не только об этом спрашивать — вообще язык не повернется. Стоит тот самый капитан, которого все матросы боятся. Вызовет, даст распоряжение, скажет и припечатает последнее слово так, что своего слова тебе уже и не выговорить иного, кроме как: «Есть!»
В низовья Енисея, особенно в солнечные дни, я плавал всегда с большим удовольствием. Очень крепко врезается в душу картина здешних бескрайных просторов, каких нигде больше не сыщешь. Но, между прочим, в Красноярск возвращаюсь я уже не с удовольствием даже, а с радостью. Потому что это и город мой самый любимый и дом родной. Так что, когда на Север плывешь, чувство одно, а когда к Красноярску путь держишь — вовсе другое. Теплоход против течения сам по себе идет медленней, а если к этому присоединить еще свое нетерпение, то вы сами понимаете, как тут считаешь все повороты. Но в этот рейс, когда «Родина» отвалила от льдистого дудинского берега и начала резать носом теперь уже встречную быстрину Енисея, я никакого изменения в чувствах своих не заметил. Словно и нет на реке разных концов — Красноярск и Дудинка, между которыми движусь я, а есть только теплоход «Родина». Это вот, наверно, как у тех, кто в ракете на Марс полетит. Пока они в земном притяжении, у них есть и верх и низ, а как залетят далеко — ни верха, ни низа уже не станет, пожалуйста, как таракан по потолку, гуляй изнутри вокруг по стенкам ракеты. А спать можешь в центре, на воздухе, как женщина, которую над диваном поднимает волшебной палочкой фокусник Кио, — видал я это в цирке. Почему такое и со мной сейчас произошло — не знаю.
Сразу же после того, как теплоход отвалил от берега, а Вася Тетерев провел комсомольское собрание, Шура меня затащила к себе.
— Костя, ну что же это?
Я мог бы, конечно, разыграть дурачка: «А что такое? Не понимаю». Словом, развести канитель, чтобы от прямого разговора уклониться. А я этого не люблю. И когда могу — рублю напрямую.
— Шура, ты знаешь, когда…
А дальше я хотел сказать приблизительно так: «…когда мы вместе, мне от тебя уходить не хочется, а когда уйду — какой-то страх, что опять встретимся. Зачем ты зовешь меня к себе?» Но я не успел этого сказать, может быть, эти мысли только в глазах у меня отразились, потому что лицо у Шуры стало явно какое-то не свое — Танакино, только без улыбки, — и она опередила мои слова:
— Ты подумай, Костенька, стихи мы не репетируем, портрет у нас не пишется!
Вы верите, что именно это ей нужно было сказать? Я не поверил. А настроение у меня этими словами она все же сразу сбила, в разговоре нашем выпала ближняя ступенька, и до следующей не так просто дотянешься.
— Костенька, ну давай попозируй. Когда художник увлечется работой над портретом, он ведь жить без этого не может, он только и думает о том, с кого портрет пишет.
Еще одна ступенька вылетела! Теперь по лестнице не вверх поднимайся, а вниз шагай. И, чтобы хотя в чем-нибудь остаться собой, я говорю:
— Тогда уж лучше Маяковского я почитаю.
— Маяковского…: Ну, хорошо. Только… на минутку, присядь на минутку одну! Присядь скорее. Я сейчас у тебя что-то в глазах поймала, я должна непременно перенести это на полотно.
И вот я сажусь, а Шура устанавливает подрамник, берет свой толстый карандаш и опять начинает что-то черкать. Поймала, говорит, у меня что-то в глазах, сама же с карандашом мечется по всему полотну из угла в угол и глядит вовсе не на карандаш, а мне в лицо. И я не могу, я отвожу глаза в сторону, но Шура кричит:
— Костя, миленький, ну только минуту, минуточку одну потерпи, ну посмотри еще в мою сторону. Я сейчас, я сейчас…
Словом, если с вас с кого художники вздумают писать портрет, лучше не давайтесь. Вы и не представляете себе, как это трудно и даже немного жутко, когда вас взглядом насквозь просверливают. А если к этому прибавить и кто просверливает, — вы сами хорошо поймете, каково было мне. Особенно после того, как разговор наш сбился на постоянный для Шуры: «Вот приедем в Красноярск, и мама…» Будто у меня нет своей матери, будто с теплохода я не побегу прежде всего к себе домой!
И все же это самое «мы» слушать тоже приятно. Но как понять его? И как принять его? Хозяин в наших разговорах всегда Шура, куда хочет, туда и поворачивает. А я, как говорится, петушком бегу сзади. Но что тут сделать, чтобы не бегать петушком?
Иван Андреич рассказывал о Поленьке: «А ты, парень, все это на свой аршин меряй…»
— Смерять я смерял. А дальше что?
Встаю, перебиваю Шуру и начинаю:
— «Я волком бы выгрыз бюрократизм…»
Но Шура откладывает в сторону свой подрамник, карандаш и тоже встает.
— Костя! Постой. Ну, постой минуточку. Послушай сперва это:
Шаганэ ты моя, Шаганэ! Потому, что я с севера, что ли, Я готов рассказать тебе поле, Про волнистую рожь при луне. Шаганэ ты моя, Шаганэ!Нравится? Правда, ведь сильно написано? Слушай.
Потому, что я с севера, что ли, Что луна там огромней в сто раз…И читает, читает. Переходит будто бы на другое:
Ты сказала, что Саади Целовал лишь только в грудь, Подожди ты, бога ради, Обучусь когда-нибудь!Но и тут:
…Я б порезал розы эти, Ведь одна отрада мне — Чтобы не было на свете Лучше милой Шаганэ…И в третьем опять:
…Лепестками роза расплескалась, Лепестками тайно мне сказала: «Шаганэ твоя с другим ласкалась, Шаганэ другого целовала».Я уже говорил вам, как Шура умеет читать стихи. Видишь все! И вот вижу я эту самую персидскую Шаганэ, будто она, а не Шура стоит передо мной, и с плеча у нее сползает газовый шарф, и падает на грудь тяжелая черная коса, и горячий ветер ночи приносит ей на вытянутую руку, прямо в ладонь, сухой лист горького миндаля… Есенина-то я знаю, читал! Конечно, не всего, книжку его нигде не купишь — читал по списанному в тетрадках: «Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет!» Еще: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне? Будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне». Или: «Пахнет рыхлыми драченами». В общем поэт такой, что из камня слезу выжмет и у каждого человека заставит сердце дрожать и сжиматься то от грусти зеленой, то от тихого счастья, которое вот где-то здесь, рядом, а ты не видишь, не замечаешь его.
Шура читала Есенина не с надрывом, как, я слышал, читают другие. У нее словно бы струна в горле звенела тихим стоном. И это прокалывало тебя насквозь. Лучше было на Шуру не глядеть, потому что тогда казалось: вот это ей в стихах Есенина и самое главное — проколоть человека так, чтобы ему стало больно, чтобы он обязательно застонал.
— Костенька, стой, ты послушай еще вот это… Ах, забыла…
Она сунула руку под подушку, выхватила оттуда книгу. Не ту. И снова втолкнула обратно. А я узнал эту книжку: томик Пушкина, в котором почему-то действуют итальянские дьявол, монах и Рустико. Теперь я успел разглядеть название книжки — «Декамерон». Но Шура тут же вынула и Есенина — под подушкой у нее была, наверно, целая библиотека — и стала читать: «Ты меня не любишь, не жалеешь…» И дальше: «Расскажи мне, скольких ты ласкала? Сколько рук ты знала, сколько губ…»
Самому глядеть глазами на такие строчки еще ничего, но когда их читает вслух девушка, да не вообще, а только тебе, потому что никого другого рядом с тобой нет, — вот это хуже, чем на народе купаться без трусов.
— Правда, Костенька, вот это стихи? Для одной! Для двоих! Не для публики.
— А почему не для публики? — говорю. — Что хорошо — для всех хорошо.
Я это сказал потому, что надо же было что-то сказать.
А голова у меня еще горела. И получилось, будто мне нравятся больше всего именно такие есенинские строчки. Во всяком случае, кажется, Шура мои слова так поняла, потому что сразу же подхватила:
— Нет, Костенька, не для публики, не для всех: «Руки милой — пара лебедей…» Для публики: «Я волком бы выгрыз бюрократизм…»
Эти ее слова сразу весь румянец с меня согнали. Холодом пахнуло от них. И сразу какая-то злая обида захватила меня. Не то что я так уж сильно люблю Маяковского и только одного Маяковского. Есть много разных хороших стихов у разных поэтов. Есенин мне тоже очень нравится. Но зачем же обязательно при этом Маяковского под каблук Есенину вталкивать? Сразу бас у меня окреп.
— Не знаю, как ты можешь такое про Маяковского говорить! Да его стихи: «Читайте, завидуйте, я — гражданин…»
Шура ладошкой своей мне рот закрыла.
— Костенька! Смешной и глупый. Да разве опять-таки на публике я это скажу? Смешной, смешной! Не такая я дура.
Вы, конечно, думаете: нужно было взорваться, наговорить Шуре грубостей, закричать на нее. Но если человек сидит, простодушно улыбается и по глазам, по губам у нее никак не поймешь, всерьез это или дразнит, — и верно, надо быть смешным и глупым, чтобы взрываться и кричать. Может быть, просто поспорить с ней? Доказать свое. Спор мне все равно не выиграть. Не умею я быстро и ловко цепляться к каждому неудачному слову противника своего. Спор только тогда интересен и красив, когда в нем острые мысли, словно шпаги в картине «Три мушкетера», все время сверкают. И вот я стою и молчу, а Шура хохочет.
— Ой, Костенька, Костенька, до чего же ты глупый. Ну, не делай такое сердитое лицо. Как же я с тебя портрет писать буду? Ты, может быть, проголодался? Хочешь чаю? Вот тебе стихи: «Грязные ногти — зараза, стриги их до отказа». Еще: «Вытирайте ноги на пороге, с вами чтобы не вошли микробы». И еще: «Граждане! Мухи переносчики всяких болезней, чем «забивать козла» — бить мух полезней». Да ну, не дуйся же, Костенька, это вовсе не Маяковский. Это парикмахер один сочинил такие стихи и вывесил как плакаты над кассой. Сняли. И плакаты и парикмахера. — Смеялась, смеялась и вдруг сделалась очень серьезная. — Как хорошо, сильно и правильно сказал. Маяковский: «Пока выкипячивают, рифмами пиликая, из любвей и соловьев какое-то варево, улица корчится безъязыкая, ей нечем кричать и разговаривать». Ах, какой эго могучий поэт! Ты знаешь, Костя, ведь поэтому к Есенину у молодежи так руки и тянутся — нам все еще в стихах «нечем любить и разговаривать». Правда?
Так вот, постепенно, она меня окончательно запутала, сбила с толку. И когда велела: «Садись, Костя, буду рисовать», — я сел. Сказала: «Убери со лба волосы», — я убрал. Потребовала: «Теперь гляди на меня», — я стал глядеть. Связно думать я уже не мог. Получалось что-то вроде одеяла из клинышков. Одна мысль выглянет уголком, к ней сейчас же прилепится другая, к другой — третья. И все разные, друг от друга далекие. Очень часто, самым ярким клинышком, повторялся Иван Андреич: «Я тебе рассказал, парень, а ты на свой аршин это смеряй». Потом: «Любовью девушки не играй. Береги любовь девичью». Тут я пробовал спрашивать себя: «Да разве я играю любовью девушки?» Если бы это была Поленька, я бы сразу же встал и раскланялся: «Извините, переезжаю на другую квартиру». Я бы от нее раньше уехал, чем Иван Андреич. А вот от Шуры я и не знал, надо ли мне «уезжать»?
Короче говоря, в ее каюте я просидел до самого начала следующей вахты, пил чай с печеньем и не ходил в столовую, хотя полезнее было поесть котлет с макаронами в томатном соусе, которые здорово готовят у нас на «Родине». А Шура все время рисовала. И теперь на полотне видны были уже оба глаза и нос, но не такой, как у меня. Я читал Маяковского, и Шура все хвалила: «Какой чудесный поэт!» А ушел я с томиком стихов Есенина. Шура просила: «Костенька, обязательно выучи: «Шаганэ ты моя, Шаганэ!»
На вахте работы было по горло. В Дудинке набилось пассажиров на теплоходе, как говорится, под завязку. Не только нижнюю, но и всю верхнюю палубу заняли. Люди главным образом из Норильска. Представляете, очень трудную зиму они там провели: и пурга, и стужа, и полярная ночь. Рабочие из горячих цехов, металлурги, шахтеры. Получили путевки в Крым, на Кавказ, а кто и просто так едет в отпуск, к родным. Тут не то что на палубу — на плот посади, каждый согласится, только бы плот поплыл вверх по реке.
Но, понятно, при таких обстоятельствах и мусорят люди здорово, и прибираться нашему брату матросу труднее. Есть и такая публика: в карты играют, играют, а потом — раз-раз, друг друга по уху! От азарта у них кровь разгорелась, а матросы — разнимай! Когда снизу плывешь, всякие картинки бывают. Словом, наработались мы с Петей, Петром Фигурновым, досыта, и я только и ждал, когда, наконец, в столовую побежать будет можно. О чем я ни думал сейчас, а котлеты с макаронами заслоняли мне все.
Вдруг подходит ко мне Шахворостов. Лицо злое, глаза красные. Водкой от него попахивает.
— Ты понимаешь, — говорит, — что я слышал? В Нижне-Имбатском остановки мы делать не будем. Капитан хочет наверстать опоздание. Вот и выкраивает время.
Я только пожал плечами.
— Ну и что же? Ты же сам всегда говоришь: тебе одинаково, что плыть, что стоять на месте. А я так рад, если приедем в Красноярск вовремя!
Шахворостов себя пальцем чиркнул по горлу.
— А мне сейчас вот как нужна в Нижне-Имбатском остановка!
— Ну так и остановимся, — говорю. — Имей в виду, там тарифная пристань, капитан не имеет права мимо проплыть.
— Да вот в том-то и штука, что капитан уже запросил Красноярск и оттуда ответили: «Если нет пассажиров — разрешаем проплыть мимо».
— Ну?
— Ну, а на теплоходе нет никого до Нижне-Имбатского. Это я в кассе узнал и у Владимира Петровича выведал. Почты, сейчас у Шурки твоей спрашивал, тоже нет. Будут берег по радио спрашивать: есть или нет пассажиры и почта. А вдруг и там нет? Перед нами прошел «Спартак». Очень просто мог он зачистить.
— Да что тебе далось это Нижне-Имбатское?
И вдруг мне припомнилось. Когда шли мы вниз, была там большая погрузка и выгрузка. Илья бегал куда-то, чуть даже на теплоход не опоздал. Он говорил: к знакомой девушке. Маша сказала: неправда. Но человек-то волнуется.
Говорю.
— Тебя там и верно ждет девушка, что ли?
Илья хмыкнул:
— Девушка! — Но тут же сощурился, по-дружески толкнул меня в грудь кулаком. — Невеста моя. Понимаешь? Мне бы хоть на пять минут приткнулась «Родина» к пристани, только на берег ступить, два слова с ней перемолвить.
Неприятно мне стало. По глазам вижу: врет Илья, на ходу все выдумывает. Ну что ж, его дело. Только из-за этого по-настоящему я и пожалеть его не могу, разделить с ним тревогу. Для порядка, из вежливости все же я мотал головой. «Да-да-да…» Но Илья не отстает. Я пошел, и он за мной. Остановились на носу, у лебедки, где прошлый раз со мной Шура сидела. Плещет вода, как дымок тонкий, туман у берегов стелется. Илья дышит мне водкой в лицо, теребит за рукав.
— Костя, я не могу рисковать.
— Чем рисковать?
— Остановится или нет «Родина». Надо, чтобы остановилась.
— Да ко мне-то ты чего прилип? Я ведь не капитан, теплоходом не командую.
— Нет, ты можешь.
— Интересно, — говорю. — Это как же? Пожалуйста, объясни, и я скомандую.
— А вот так. Ты договорись со своей Шуркой, чтобы она все-таки дала сведения капитану на выгрузку почты. Ну, письма там или посылки.
— Ого! — говорю. — Вон ты куда! Только, во-первых, Шура не «моя», а во-вторых, в такие дела я вообще не стану впутываться.
Если бы я порезче Илью оборвал, может, на этом наш разговор и закончился бы. А тут он, наверно, понял меня так, что я колеблюсь, потому и подбираю «во-первых» да «во-вторых».
— Костя, друг, — говорит, — ну, выручи еще раз! Я бы и сам договорился с Шуркой, да она за Тумарка на меня злится.
Сказал, и я вижу — быстренько спохватился он: дескать, не вовремя ляпнул. А меня это, сам не знаю отчего, очень крепко задело. Сразу же вспомнилось, как Тумарк от меня отодвинулся, когда я хотел с ним поделиться насчет Шуры. Он тогда покраснел и сказал: «Не надо, Костя, об этом». Тогда я понял так: парень он скромный, не любит пустозвонить о девушках. Но я тогда и не подумал, что это и прямо с Шурой как-то связано. Теперь от слов Ильи даже дыхание у меня перехватило.
— А при чем здесь Тумарк? — говорю.
И опять вижу — по лицу Ильи тени бегают. Я тоже чувствую: если он сейчас скажет, так что-то такое, после чего не только по делам Ильи, но и вообще не стану я с Шурой разговаривать. Если же не поверю его словам, то, наконец-таки, по давнему своему обещанию ударю его так, что трудно с палубы ему будет подняться. И первое и второе, сами понимаете, Шахворостову не на руку. Стоит он и только бормочет одно:
— Костя, сходи.
— Нет, — говорю, — начал, так рассказывай до конца.
— Пообещай, дай слово, что пойдешь и с Шуркой договоришься.
— Никуда я не пойду, а ты мне все расскажешь!
Оттеснил его к самым перилам. Двинуть кулаком — и за бортом Илья. Но этого я, конечно, не сделал бы. На крайний случай только за ворот над водой, может, его нагнул бы. А пьяному Илье, наверно, гибель своя уже примерещилась. Лицо у него побелело, губы свело…
— Ну, она с Тумарком так, как с тобой… А я открыл Тумарку…
Смерил я Шахворостова глазами сверху вниз. Для чего — не знаю. Бить его я теперь и не думал. Просто хотелось разглядеть хорошенько, что же он за штука такая: Тумарку он «открыл», а мне «закрыл» правду. Да считал, поди, еще, что товарищу помогает завести веселенький романчик. Свинья такая! А Шура… Эх, Шура!
Иду и думаю. Вот только что сам же я рассуждал об Иване Андреиче: поздно он решил переменить квартиру и этим загубил Поленьке жизнь. Шуре-то, выходит, жизнь не загубишь. А опоздал я, кажется, еще больше, чем Иван Андреич. Пойти и выплеснуть все это ей в лицо.
Но вдруг Илья спьяну мне наболтал? И, можно сказать, с полдороги я вернулся обратно.
Шахворостов уже куда-то исчез. Я не пошел его разыскивать. Ну его к чертям! Надо сначала самому разобраться. Но на какие лады я ни поворачивал свои размышления, все сходилось в одно: у Шуры, конечно, это не любовь, а забава. Поиграть со мной, пока навигация, а на будущий год — кто его знает, вообще встретимся ли? Может, Барбина на другое судно назначат матросом, а может, она сама уже не будет почтовым агентом, станет только картинки свои на стекле рисовать да продавать их на толкучке. Теперь уже каждая мелочь в ее словах и в поступках совсем по-другому мне представлялась.
Так с этими мыслями у железной лебедки я и просидел до конца вахты. Глядел на широкую прямую ленту Енисея, всю в золотых солнечных бликах. И было совершенно отчетливо видно, что наш теплоход теперь поднимается вверх, словно бы в голубую гору. И если бы сизым туманом не была затянута даль, там, на вершине этой горы, удалось бы, наверное, увидеть и Красноярск, и каменный зубец Такмака, который стоит на пути к Столбам, и даже сами Столбы, где бывало мне всегда так хорошо.
На верхней палубе девчата затянули песню про парня, которому «на деревне расставание поют». Над тихой рекой песня особенно звонко разносится и нежно-нежно замирает в тальниках. Слушать такую песню — большей радости не найдешь. Самому вместе с песней над рекой разлиться хочется.
Девчата пели и долго и много. Разное пели. А когда замолчали, сразу вроде бы вечер настал, и холодком потянуло с реки, хотя солнце кружилось над землей все на одной высоте.
Я зачем-то сунул руку в карман. Вынул томик Есенина.
«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..»
Но книжка раскрылась на другой странице:
Настал наш срок. Давай, Сергей, За Маркса тихо сядем, Чтоб разгадать Премудрость скудных строк.Этих стихов Есенина я никогда не слыхал. И ребята из тетрадки в тетрадку тоже их не переписывали. Называются «Стансы». Непонятно. А прочитал от самого начала и до конца — понял… Хорошие стихи! Вон он какой, Есенин! Я стал их заучивать наизусть. Но сквозь эти зовущие строчки мне с тоской все время почему-то пробивались и другие: «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..»
Глава восемнадцатая Насчет «могикан»
В Игарку мы прибыли в самую середину дня. Стояли недолго. Вместо двух часов — минут сорок. Только-только чтобы пассажиров высадить и посадить да с грузами управиться. Поработать пришлось здорово. Не до седьмого, а до одиннадцатого пота. Вася Тетерев ходил радостный и все в ладошку покашливал:
— Мы очень хорошо выполняем свое обязательство. Я думаю, мы его выполним. Мы должны, ребята, еще удвоить свои усилия.
Я твердо знал, что Иван Андреич «Родину» не придет встречать, зачем ему это? — но пока мы выгружали в Игарке какие-то ящики, я все время бегал, поглядывал на лестницу. Мне казалось все-таки: вот сейчас вверху, на ступеньках, обязательно появится Иван Андреич. Подойдет ко мне, скажет: «А-а! Ну, здравствуй, парень! Книгу мою читаешь?» И может быть, даже снова сядет на теплоход и поплывет с нами в Красноярск, будет опять сидеть в привычном ему плетеном кресле.
Но Иван Андреич не пришел.
Когда дали уже третий гудок и мы начали убирать трапы, я вдруг услышал на дебаркадере среди провожающих такие слова: «Ты пойдешь прощаться с академиком?» Словно топором меня ударили в лоб. Какой еще другой может оказаться в Игарке академик? А если это Иван Андреич — почему с ним прощаться? Я не видел человека, который произнес эти слова, и крикнул прямо в толпу:
— А что случилось с Иваном Андреичем?
И тоже не знаю, кто мне ответил:
— Умер. От разрыва сердца. Поднялся из шахты в мерзлотке, два шага сделал по земле и упал.
Мне сделалось как-то страшно. Я быстро втолкнул трап в пролет, вскочил сам, и сразу же между дебаркадером и теплоходом образовалась щель, в которой заплескалась черная вода. Вот оно как бывает… Мы продолжаем свой путь, а для Ивана Андреича все уже кончилось. Он не успел выведать у вечной мерзлоты все ее секреты и не успел рассказать людям, как нужно строить плотины где-нибудь вот здесь, на Крайнем Севере. Я ходил в беспокойстве по палубе, все время думал об Иване Андреиче и почему-то чувствовал себя перед ним виноватым.
Когда у меня, наконец, вахта окончилась, я побежал к себе и вытащил из сундучка подаренную мне Иваном Андреичем книгу. Может, это и глупым покажется вам, но у меня было такое чувство, что вот я открою сундучок, а книги в нем не будет, как не стало и самого Ивана Андреича. Если же книга и окажется на месте — исчезнет с нее надпись, сделанная косо через весь лист и уже немного трясущейся рукой. Все было на месте, и даже чернила стали словно бы ярче, а сама книга на вес тяжелее. Я перечитал надпись, подержал книгу на вытянутой руке. Нет, я не брошу ее в Енисей!
Зашел Петя, Петр Фигурнов, потащил меня.
— Матрос Барбин, пойдем в красный уголок, забьем козелка?
Я засмеялся:
— …чем забивать козла — бить мух полезней.
Фигурнов винтом вывернул шею.
— Это что — стихи? Чьи? Для ясности…
— Одного парикмахера.
Он ничего не понял, покрутил головой и ушел. А у меня было такое чувство, будто я теперь обладатель важной военной тайны. И еще: так же втайне мне отдано приказание захватить у противника пушку, взорвать мост, занять целый город… Вообще черт его знает что, но только очень трудное и большое, где придется хорошо поработать и руками и головой…
Потом, когда самый жар с сердца у меня схлынул и я поглядел на себя вроде бы чуточку со стороны, мне вспомнилось, что вот такие тайные приказы я получал и раньше не один раз. Стать Чапаевым, Павкой Корчагиным, Алексеем Мересьевым, Олегом Кошевым! Повторить их подвиги! Но ничего я не повторил. Походил неделю там или месяц взволнованный, да и успокоился, пока новая книжка о герое опять большой мечтой тебя не встряхнет. Мечтой о подвигах. И выходит, сила есть у меня только та, которой природа меня наделила, а другой силы, которая от себя, — силы воли — и нету. Ничего из задуманного до конца я не довел. Как раз как Манилов у Гоголя в «Мертвых душах». Так ведь тот был помещик, буржуй, человек из проклятого прошлого, а я — рабочий, матрос, и все мои деды и прадеды были тоже рабочие. Может быть, кто-нибудь из них даже у этого самого Манилова крепостным числился и в Сибирь его привела злая доля. Интересно! А потомок такого прадеда сам живет теперь по-маниловски. Почему? Потому что сыт, одет, обут, вот, похоже, вроде и стремиться больше не к чему. Ум, сердце у тебя, бывает, и взволнуются; за спиной крылья — лети! А что-то другое в тебе — лень, что ли? — советует: «А куда лететь? Зачем? И так уже хорошо!»
Бывает критика. Это когда на людях про все твои недостатки расскажут посторонние, да еще в самых обидных словах. Помогает.
Бывает самокритика. Это тоже когда на людях только ты сам о своих недостатках рассказываешь. Слова тут, конечно, помягче. Но результат в общем тоже полезный, если ты о своих недостатках говоришь не ради того, чтобы только потом тебя похвалили: правильно, дескать, держал себя на собрании.
А бывает и еще что-то такое, название не берусь подбирать. Но сидишь ты один и раздумываешь, как Павка Корчагин, когда глядел тот в пистолетное дуло: «Это пустое геройство, братишка…» Ну, а в переводе с Павки Корчагина, скажем, на Костю Барбина получается примерно так: «Другие для тебя все сделали, братишка. А ты для других не очень-то хочешь трудиться. Ты хочешь повторить жизнь Овода, жизнь Павки Корчагина, Алексея Мересьева, а времена не те и негде приложить все свои силы. А правда ли, что негде? Или у нас в стране уже полное изобилие? Или никто уже не живет у нас в тесных и сырых каморках? Или начисто уничтожены все болезни? Или никакие темные силы никогда уже и не позарятся на границы твоей родной земли? Или нет за рубежом наших братьев, которым дорог и нужен твой пример? Это все твое дело, матрос Барбин. Отдай этому все свои силы, посвяти этому всю свою жизнь. Ты не повторишь подвиг Павки Корчагина, ты свершишь подвиг Кости Барбина».
Вот это, я не знаю, как называется и с чего именно в этом рейсе такое раздумье у меня началось, в этом нужно еще разобраться, только я понял: прежнего покоя Костя Барбин теперь не найдет. И я ловил себя на том, что эти мысли не все мои. Есть тут и Маша, и Иван Андреич, и еще неведомо кто. Но все это мысли такие, которым я прежде почему-то сопротивлялся, а теперь вдруг признал.
И еще мне подумалось: почему я до сих пор живу как-то не сам по себе, а кто поманит за собой, за тем и иду? За кем я сейчас иду?
Дед мой рассказывал: бегал он в коротких штанишках с лямочкой через плечо, и все его называли мальчиком. Потом вдруг кто-то сказал «парень», и дед удивился, что, оказывается, он уже ходит в длинных штанах и под носом у него не та штука, что бывает у мальчишек, а настоящие усики, хотя еще реденькие. С этого раза и пошло только «парень» да «парень». Дед привык. Вдруг — «дяденька»! Что такое? Оказывается, усы загустели, выперла ладная бородка, и он гуляет по улицам уже не один, а под руку с законной супругой. Ничего, тоже привык. И вот уже слышит «дедушка». Заглянул в зеркало. Правильно! На лице все положенные дедам приметы, и в зыбке внук Костя пищит.
Я об этом написал потому, что и со мной похожее сейчас начиналось. Вроде назвали меня уже «дяденькой», и я теперь заглядываю в зеркало, проверяю. Да — усы! Но кто мое зеркало? Кто мне по-человечески честно ответит?
После комсомольского собрания я с Машей близко не сталкивался, только видел в окно, как она стучит ключом в радиорубке. На собрании она сидела в самом уголке, тихая и скучная. Понятно: Леонид остался в Дудинке. Только вот почему? Человек приехал в отпуск, в гости к родителям. Отец у него на «Родине», а мать в Красноярске. Чего ему одному делать в тундре? Может, захворал и положили его в больницу? Иван Демьяныч тоже мне показался чуточку грустным. Но не стану же я капитана или Машу о Леониде расспрашивать! Поболеет и выздоровеет. К следующему рейсу будет опять сверкать на солнце своим золотым зубом.
Не стану подсчитывать, сколько километров я просновал по палубе и по лестницам. Думаю, проделал путь порядочный. Суть не в этом. Я искал себе дело. Такое, чтобы захватило меня, чтобы мог я думать только о нем, чтобы стал я вроде капитана этому делу — «полный вперед!» — пока рейс не закончится. Но дела такого все же не находил, вернее, просто не мог выбрать, потому что на свете есть очень много всяких больших дел. И я, наверно, походил на того самого осла, который подох от голода, не зная, из какой из двух вязанок ему теребить сено. И тогда мне страшно захотелось перечитать еще раз предисловие к книге Ивана Андреича. Ведь каждый раз я в нем вычитывал новое.
Я зашел к себе, стал шарить на ощупь в сундучке. Но вместо книги Ивана Андреича мне попался томик Есенина, и сразу столкнулись в мыслях опять эти разные строчки: «Давай, Сергей, за Маркса тихо сядем» и «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..» Я повертел книжку в руках.
Шаганэ — не моя Шаганэ!
Ну и ладно! Надо вернуть ей томик… Но я не успел это сделать. Шура пришла за ним сама.
— Костя, ты выучил?
— Да, — говорю, — выучил. Можешь взять.
Я старался ничего не подчеркивать в этих словах, и вообще мне не хотелось обижать Шуру. Если ей интересно было поиграть со мной, так я и сам помогал этому. И я решил. Пришла за книжкой? Получи. Твоя. Позовешь чай пить? Спасибо, только что попил. Напомнишь, что нужно еще репетировать Маяковского? Не надо. Сама сказала, что читаю уже превосходно. Пригласишь попозировать для портрета? Времени такого нет у меня, чтобы десять лет сидеть и позировать. А за два дня, по всему видать, тебе даже карандашом не сделать наброска. Словом, говорить с ней без всякой дипломатии. Так, как стал бы я с Тумарком Маркиным или там с Длинномухиным разговаривать.
Но Шура сразу все поняла. Я не стану пересказывать весь наш длинный и запутанный разговор. В нем, пожалуй, ни одной фразы не было полной. Если бы его записать, то получились бы главным образом одни многоточия. Почему — вы сами понимаете. Такой предмет разговора. Я приведу вам только последние слова, с которыми Шура ушла. Там уже не было многоточий, и в самом конце стоял большой восклицательный знак:
«Костя, а я тебя так любила!»
Я никак не отозвался на это. А когда остался один, сел к столику и положил голову на руки, в ушах у меня опять зазвенело жалобно-жалобно: «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..»
Пришел Вася Тетерев, Объяснил, что ищет Тумарка. Концерт самодеятельности срывается, никто не хочет репетировать. Это Тумарк во всем виноват.
— Я очень жалею, Барбин, что сам не возглавил всю подготовку. Я думаю, тогда мы сумели бы дать концерт. У тебя-то было все подготовлено?
— Пожалуйста, — говорю, — в любое время даже один могу концерт устроить!
— Ну, вот видишь, Барбин, как тебе помогла проработка. Ты вообще очень исправился, Барбин. Я очень рад за тебя. Я думаю, скоро ты станешь у нас лучшим матросом.
— Я тоже так думаю, Тетерев.
— Молодец! Но не зазнавайся. Это очень опасно. По секрету скажу: Иван Демьяныч тебя в рулевые натаскивать думает. Ну, там еще подучишься и…
Он ушел. «В рулевые…» Вот и конец Косте Барбину, рядовому матросу, хотя и рулевой тот же матрос. Дело не в этом. Дело в том, что какая-то сила, которую я искал, сама нашла меня и вперед потащила. Может, в нашей жизни иначе и не бывает?
Пробыл один я вовсе недолго, по-настоящему даже подумать над Васиными словами не сумел. Появился Шахворостов. Как и тогда, злой, но совершенно трезвый. Растянулся на койке прямо в ботинках, руки под голову заложил.
— Костя, ты прямо скажи мне: свинья ты или ты мне товарищ?
— Смотря в чем, — говорю. — Но свиньей, кажется, я ни перед кем еще не был.
— А я был свиньей перед тобой?
— Ну, предположим, тоже не был.
— Так вот давай, как два товарища, поговорим. Мне вот так, — и опять, как в прошлый раз, полоснул себя рукой по горлу, — вот так в Нижне-Имбатском быть нужно. А по всему видать — не остановимся. Голова кругом. Запрос на берег уже сделан. Ответят: «нет» — и пропала моя невеста.
— Илья, — говорю, — если ты прежнее сейчас повторить хочешь, и я тебе свое повторю. Только теперь прибавлю еще: не верю я ни в какую твою девушку!
— Ну ладно, — говорит Шахворостов, — оставим девушку. Это действительно для дураков. Ты только пойми, Костя, сейчас один ты сумеешь помочь мне, и никто больше. Чувствуешь? Либо через Шурку, либо через Терскову.
— Это, — говорю, — и совсем уже интересно. Маша при чем же тут?
— Только давай спокойно и объективно.
— Хорошо. И спокойно и объективно.
— И как товарищи.
— Как товарищи.
Сел на койку Шахворостов, пощупал ямки на своей глиняной голове. Начал. Если все грязные, мусорные слова из его речи выкинуть, то вот что он сказал:
— Наезжает время от времени из тайги в Нижне-Имбатское «последний из могикан». Другими словами, неорганизованный охотник, а третьими словами — браконьер. Хотя, сам понимаешь, смешно браконьером называть охотника в здешней тайге, где зверя всякого черт те знает сколько. Сто лет бей — не перебьешь. Да мне и плевать, бьет он или нет, скажем, сохатых и что потом с этим мясом делает. У меня с ним сейчас совсем другой интерес. Приготовил он мне на полторы тысячи кедровых орехов. Чего — «ох»? Ну, в том числе осетровые балыки и соболей на дамский воротник. Всю эту музыку должен он к прибытию нашему на берег подкинуть, а моя задача: чтобы в глаза не лезло, на теплоход пронести. И вот теперь сам гляди: если «Родина» в Нижне-Имбатском не остановится, «могикан» этот самый до нового рейса меня ждать не будет, сплавит товар другому. Пароходы за нами гуськом идут. А любителей на каждый рубль чистых два заработать — хоть отбавляй. Да не пучь глаза — чистых два целковых! Ему полторы тысячи, а я возьму в Красноярске потом четыре с половиной, не то и все пять. Мачеха у меня это сработает. Я этого «могикана» столько подлавливал, и вот на-ка тебе! Черта ли мне попусту деньги в кармане возить взад и вперед? Понял? Это мои позиции. А вот тебе к ним идеология, чтобы ты волком на меня не глядел. «Могикан» этот, что следовало по договору, все сдал государству. Это чистые его излишки, которые он волен кому хочешь сбывать. Как срядились мы с ним дешево — дело наше полюбовное. Это на одном конце. А теперь на другом. Мачеха орехи по стаканчику продаст, с прилавка, и рыночный сбор — три рубля — какой положен, заплатит. Тут, брат, ничего незаконного. Я этого сам терпеть не могу. Балыки — на квартиры снесет. Ну, а соболей на воротник, сам знаешь, поломойки там или фрезеровщицы какие-нибудь не заказывают. На этот товар покупатели — жены самых ответственных работников. Кому лучше знать: нам с тобой или им, законно это или незаконно? И на соболиные воротники своих жен прежде всего, надо тоже полагать, мужья любуются. Значит, полный порядок? А что на одном конце полторы тысячи, а на другом четыре с половиной, это, брат, вроде электрического потенциала. Ты только сумей подобрать элементы, чтобы дали такое высокое напряжение.
Как уговорено было, слушал я Шахворостова спокойно, хотя на всю его логику так и рвались с языка у меня вопросы, вроде: «А что же тогда сам этот «могикан» не поедет в Красноярск, честно не возьмет четыре с половиной тысячи вместо полутора?» Или: «От кого ты незаметно хочешь свой товар на теплоход пронести?» И другие, поострее еще, вопросы. Но с этим можно было и повременить, дать ему до конца высказаться. А вот когда он про потенциал заговорил, я уже не вытерпел.
— Так, — говорю, — в электричестве я и сам чуточку понимаю. Получается, что я, Шура и Маша Терскова — провода, по которым этот твой сильный ток побежит?
Шахворостов поежился.
— Можно и не проводами быть. Это, Костя, от самого же тебя и зависит. Я, например, тебя всегда первым своим товарищем считал, и тоже сам знаешь, сколько раз я тебя выручал. Пожалуйста, давай деньги в пай, и эти орехи мы уже вместе купим. А Ленька может потом с моей мачехой на базаре их продавать.
Ну и удивительно же все складно выходит, — я говорю. — Только одно еще непонятно: Маша Терскова с какого тут боку?
Илья рукой махнул:
— Зря сказал про нее.
— Но я настаиваю.
— А все-таки?
— Ну, могла бы она, к примеру, частную мою радиограмму на берег передать этому самому «могикану», чтобы он товар придержал до следующего рейса. Либо другое: чтобы уговорил он начальника пристани потребовать подхода «Родины». Но это все надо в радиограмме излагать тонко, чтобы «могикан» понял, а все остальные не поняли, имея в виду еще, что он сам малограмотный, а я такую радиограмму тоже составить не сумею.
— Так если Машу втягивать, — говорю я, — оно и проще можно. Маша могла бы сама сочинить радиограмму, будто полученную с берега, что пассажиры есть. «Родина» тогда обязана подойти.
У Ильи глаза так и загорелись.
— Костя, — говорит, — да ты просто гений! Вот придумал! Это же лучше некуда! Поговори с девчонкой. Ты же с ней дружишь всю жизнь. Не жаль разве будет, если три тысячи чистых пискнут? А для Терсковой — шелковый гарнитур. — Вдруг на минуту он задумался. — Только потом как же, когда пассажиров не окажется? Капитан разозлится, а начальник пристани заявит: «Ничего я не знаю».
— Да, — говорю, — действительно, всякая пакость, она обязательно другой стороной оборачивается. Но я думаю так. Уволить, пожалуй, не уволят Машу, только строгача ей дадут. Объяснит Ивану Демьянычу девушка, что в эфире какие-то там грозовые разряды мешали, искажения получались. А все-таки — ей шелковый гарнитур.
— Тоже правильно! Нет, Костя, ты больше чем гений.
— Спасибо, — говорю, — за похвалу. Теперь ты мне ответь: как товарищи мы говорили?
— Как товарищи.
— И спокойно и объективно?
— Целиком.
— Тогда вот какой общий итог, Илья, у нас получается. «Родина» никак в Нижне-Имбатское не зайдет. Три тысячи чистого дохода у тебя пискнули. Свои полторы тысячи — хочешь, так в сберкассу положи. По срочным вкладам, слышал я, три процента платят. Тоже доход. Верный и постоянный. А рассказывать об этом я никому не буду. Как товарищ твой. Мало ли какие фантазии, бывает, в голову лезут! Тебе вдруг примерещился этот «могикан», мне примерещился такой разговор. Тем более что в другой раз уже не примерещится.
— Ага! Мораль читаешь?
— Нет, — говорю, — ты не понял, я тебе сказал: «Спокойной ночи!»
И полез на свою верхнюю койку, лег. Долго слушал, как сквозь зубы по самому черному ругается внизу Илья. Потом он ушел. А мне спать не хотелось, я был очень доволен, что получилось так здорово, с неожиданным для Ильи поворотом. Пусть теперь он походит и подумает, как думал эти дни я. Маша на Столбах говорила: «Костя, нам до всего должно быть дело». Ей было жаль какого-то Лепцова, которого вовремя товарищи не остановили. О Шахворостове она тоже тревожилась. Ну вот, пожалуйста, Илью я остановил. Ужасно горд был я этим разговором. И вообще тем, как держу я себя целый день.
Пришел Тумарк. Начал раздеваться, аккуратно брючки свои укладывать. Потом налил себе в горсточку одеколона, по волосам провел. Гвоздикой запахло. Тумарк любил такие одеколоны, чтобы любой насморк можно было насквозь пробить. Между прочим, и мне это нравится.
— Тумарк, — говорю ему, — а что это такое: вроде и ты невеселый? Почему-то сегодня вижу я одни тоскливые лица.
Стоит Тумарк, маленький, в одних трусиках, челочка на самые глаза спустилась.
— Да ну, Костя, не нравится мне все это, — говорит он. — Затеяли самодеятельность. Меня режиссером выбрали. А ничего этого не нужно было и начинать, если тяп-ляп. Готовить концерт — так как следует, без халтуры, и всем репетировать. А чем же я виноват, что девчата отказались, скетч отпал и Шахворостов сейчас заявил — не станет играть в оркестре?
— Не понял тебя я, Тумарк. Какие девчата отказались? Почему скетч отпал? Насчет Ильи можешь не объяснять, знаю.
— Девчата? А обе: и Шура и Маша. Скетч не разыграешь — Леонид остался в Дудинке. Конечно, Маша могла бы и одна с вокалом выступить. Не хочет. У Шуры и вовсе нет никаких причин. Просто уперлась: «Не буду». А я, Костя, все равно не отступлю, раз мне доверили. Но я хочу, чтобы сделать хорошо или уж вовсе не делать, потому что это искусство. А искусство должно быть только высоким. Вася Тетерев мне говорит: «Концерт мы обязательно должны показать завтра. Я думаю, мы его все же покажем». А я отвечаю: «Нет, не покажем. Все рассыпалось». Он тогда говорит: «Хорошо, Тумаркин, я это сам обеспечу. Я уже сообщил по радио в нашу многотиражку. Я думаю, концерт все же получится».
— А почему Леонид остался в Дудинке?
— Да кто его знает! Диссертацию, что ли, о растительности тундры он готовит. Моряк, а ботаник. Он весь свой отпуск на это дело и хочет загнать, натуру исследовать. Знал ведь, что останется, а записался. И Терскову сбил…
Тумарк долго еще жаловался и на Леонида, и на Васю Тетерева, и на девчат. Корил их, что не любят они искусство. Говорил, что искусство существует не для галочки в отчете и не для заметки в нашей речной многотиражке, а для воспитания высоких, благородных чувств у людей и нельзя искусством так помыкать, как это делает Вася Тетерев. Грозился, что потребует перевыборов секретаря нашей комсомольской организации, потому что Вася — вообще одно недоразумение. И после этого длинно стал объяснять про систему Станиславского, что-то такое о Немировиче-Данченко, о Качалове и Топоркове рассказывать и разгорелся так, что хоть на трибуну его как лектора выпускай. Но я не слушал Тумарка, я все думал: Леонид остался в Дудинке, а Маша ходит грустная…
Все же сон сморил меня, и когда пришел мой черед снова заступать на вахту, оказалось, что мы проплыли уже и Туруханск. Стояли там тоже недолго, только чтобы взять пассажиров, да еще инспектора БУПа, вместе с лодкой завезти его до Подкаменной Тунгуски. БУП по буквам — бассейновое управление пути. Это их забота за бакенами, створами, вехами и всякой прочей речной «обстановкой» следить. А лодочка у этого инспектора была превосходная. Легкая, должно быть, очень ходкая и в красный цвет окрашенная, чтобы с рыбаками, боже упаси, издали кто-нибудь инспектора не спутал. Затащили эту лодочку к нам на корму, и теперь пассажиры все время сверху любовались ею. А вообще-то, конечно, интереснее было бы глядеть вперед, к югу: голубая дорога реки теперь лезла все круче и круче в гору, и сильнее шумела и пенилась вода, опрокидываясь на нос теплохода. О «буповской» же лодочке я сейчас упомянул потому только, что она дальше сыграет свою роль.
В эту вахту мне случилось несколько раз проходить мимо радиорубки. Маша все время работала, стучала ключом или сидела с наушниками и записывала радиограммы с берега. Ветерок трепал синюю репсовую занавеску, солнце светило прямо в окно, и никелированные детали на аппарате так и горели золотым огнем. Я бы сказал, как зуб Леонида, но его, слава богу, и духу теперь там не было. А подойти к окошку я все же не мог, хотя какая-то сила меня к нему тянула, примерно такое чувство: «Вот видишь, Маша, он пощипал свои усики, похохотал — и будь здорова! На кого ты променяла старого друга?» Тогда я взял и остановился у перил, спиной к окну так, как было в Дудинке, когда Маша спала, положив голову на руки. Зачем я это сделал — не знаю. Может быть даже и такая была у меня неясная и тайная мысль: торчать перед глазами Маши немым укором.
Но постоял я недолго. Кто-то толкнул меня в бок. Повернул голову — Петя Фигурнов.
— Эй, Константин! Что тебе Шахворостов насчет Александры наболтал? А? Эх, ты! Нашел кому поверить! Для ясности.
— Если для ясности, то какое тебе до этого дело?
— А вот такое. Девчонка ревет. От обиды, от горя и… не знаю еще от чего. А ты Печорин! И со мной ты так не разговаривай. Не люблю. Уже говорил я. Для ясности.
Откуда он этого Печорина выкопал? Будто подслушал, когда говорил я с Иваном Андреичем! Если бы не это, может, так бы меня и не взорвало. А тут рубанул я:
— Ну, значит, опять мы с тобой, матрос Фигурнов, поссорились?
— Ты этого хочешь? Пожалуйста!
Он зафыркал и убежал. А я вдруг сообразил, что от перил до окошка радиорубки всего два шага и Маша, конечно, слышала весь громкий наш разговор. И мне от этого стало неприятно. Больше даже чем оттого, что я с Фигурновым снова поссорился, и оттого, что Шура, обиженная, плачет.
Нужно было и мне уйти. Но я не успел этого сделать. С лестницы, которая ведет на капитанский мостик, Владимир Петрович мне крикнул:
— Эй, Барбин, спроси-ка там у Терсковой, нет ли радио с берега?
Тут уж никак не откажешься. Повернулся я к окну, спрашиваю и не могу понять, слышала или нет Маша мой разговор с Фигурновым — очень уж спокойно перебрала она на столе у себя три-четыре листочка бумаги. Подала один.
— Наверно, из Нижне-Имбатского просит? Вот. На пристани нет пассажиров.
И глаза у Маши, как прежде, теплые, ласковые.
Иду с радиограммой к Владимиру Петровичу, а на затылке Машин взгляд чувствую.
Прочитал Владимир Петрович, прищелкнул пальцами: «Превосходно!» — поманил меня за собой в рубку, написал от себя радиограмму в Красноярск, в пассажирскую службу, и послал опять:
— Пусть передаст Терскова.
Об этом я рассказываю только для того, чтобы вы знали: вернулся я к Маше по необходимости. Ну, разговор: «Куда, какая радиограмма?» — я пропускаю. А после всех служебных слов Маша и говорит:
— Костя, у тебя после вахты время свободное? — и голос у нее ровный и с серебринкой, точь-в-точь такой, как был и раньше.
— Вообще-то свободное…
Могли бы вы другое ответить? А Маша смахнула засохшие полярные березки, которые еще лежали у нее на столе и портили весь вид радиорубки, сказала:
— Так приходи! Поговорим.
И это у нее вышло совсем просто. А мне было нужно силой сгонять в узел брови, чтобы спросить:
— О чем?
— Ну вот! «О чем?» Да о чем придется — как всегда.
— У меня-то, Маша, всегда как всегда. А у тебя…
Я думал, она сразу заспорит, начнет оправдываться, но Маша только чуточку улыбнулась, как улыбаются, когда все понимают и улыбкой своей хотят человека не раздразнить, а успокоить.
— Тогда все очень хорошо, Костя!
И у меня не набралось смелости вклинить: «Конечно, когда нет Леонида, тогда и Константин хорош».
Вы представляете, что вот ведь произошло же что-то такое, отчего Маша для меня стала иной. А какой — не определить. Но не простой.
С такой вот связанностью в душе я и ходил рядом с ней по палубе, когда освободился от вахты. Мы разговаривали, а слова шли очень туго, во всяком случае у меня, потому что мне все время лезли в голову засохшие полярные березки, которые Маша так спокойно смахнула в корзину. Зачем она это сделала? Для меня, или ей самой вовсе не дороги были эти березки? И не знаю как, но у меня все же вывернулось это имя — Леонид.
Маша остановилась. Посмотрела на меня. И мне легко было смотреть ей в глаза. Это было все равно что смотреть в ангарскую воду: хоть на какой глубине видишь каждый камешек. Я уж вам рассказывал, что у Маши никогда не гаснет улыбка, только, где она прячется, не сразу поймешь: в уголках губ, или в ресницах, или в тонких лучиках морщинок, которые вдруг побегут под глазами. И вот я гляжу, как свет пробегает у Маши в глазах, как все больше они наполняются веселым блеском и становятся такими глубокими, что даже делается немного страшно — увидишь в них сейчас ее живое сердце, — и меня обжигает стыд: почему я все эти дни бежал от Маши, почему раньше вот так не посмотрел ей в глаза?
А Маша словно и не заметила этого. Переспросила:
— Леонид? А знаешь, Костя, мне кажется, из него выйдет крупный ученый. Он весь в своей ботанике и в Заполярье. Он выведал от меня все-все, что только я знала о нашем Севере. А сколько он сам рассказал мне всяких замечательных вещей! Не понимаю, почему ты с ним не подружился? Он всегда так хорошо говорил о тебе, ты ему очень понравился.
Стыд одолел меня еще больше. И чтобы не раскрыть себя, я напустил суровости в голос. Сказал с издевкой:
— Знаю. Он и перед капитаном за меня заступался. Только кому это нужно? Будто Костя Барбин без защитников и жить не может!
Маша покачала головой.
— Он заступался от чистого сердца, Костя, потому что о всех твоих плохих поступках капитану рассказывала я. И Леонид боялся, что Иван Демьяныч решит очень круто.
— Ага, — сказал я, — так, значит, это ты говорила Ивану Демьянычу?
— Костя, да неужели тебе больше нравится всякая ложь? Ну хорошо, тогда ударь меня еще раз за это. Ты уже это делал…
Я думал: прячу свой стыд от нее. Разве спрячешь? Но спросить прямо: «Маша, ты это не можешь забыть?» — у меня не хватило голосу.
А Маша тихонько пошла вперед. Оглянулась:
— Костя! Погуляем вокруг теплохода?
Это было все равно как ответ: «Забыла».
И мы долго молча ходили рядом, наверно, сделали кругов двадцать.
Была уже ночь. Белая ночь. Без облаков, и от этого небо на севере казалось особенно прозрачным, а острые вершины елок на берегу — вычерченными тонким пером. В Енисее часто плескалась крупная рыба, круги долго потом держались на светлой глади реки. Маша не спрашивала, какая плещется рыба, и это мне нравилось, потому что я так же не знал названия рыбы, как не знала и Маша.
Потом мы утащили два плетеных кресла с кормы на нос теплохода, где дул встречный прохладный ветерок и оттого ни души на палубе не было. Одно кресло было то самое, в котором любил сидеть Иван Андреич. Мы их поставили близко друг к другу. Так сидеть было теплее. И мы сидели и молчали, как молчали всегда на Столбах, ожидая первого луча солнца. И это было лучше всякого разговора.
Я, может, неверно сказал: молчали. Слова отдельные — и редкие — были. Они не связывались одно с другим, но каждое из них само по себе весило страшно много, хотя, если бы их написать на бумаге, это были самые обыкновенные, ходовые слова.
Маша, например, говорила:
— Костя, какие, просторы!
И я понимал, что Маша очень любит наш Енисей, нашу Сибирь, и очень ей хочется, чтобы и все ее так любили. Хочет, чтобы, как воздух чистый, речной, были и люди, которые живут среди этих бескрайних просторов, чтобы всякую гниль и грязь выдувало отсюда горным ветром со снежных Саян и смывало бы в океан светлой волной Енисея.
— Костя, ты чувствуешь, как туго бьется вода под винтами?
Я уже говорил, что мы сидели на носу теплохода, но я тоже чувствовал, как тяжело работают винты, чтобы толкать наше судно вперед наперекор быстрине Енисея. И я понимал, что Маше нравится эта борьба огромной реки и теплохода. Мне тоже нравилась. И очень хотелось сказать: «Эх, и мне бы вот так, на всю свою силу!» Но я этого не говорил, потому что тогда в громких словах пропала бы вся красота мыслей, которые сейчас владели мной. И еще не говорил потому, что это все Маша хорошо и сама понимала, иначе она не прислонилась бы ко мне своим крепким и горячим плечом.
Я тихо говорил:
— Да-а…
И это, по сути дела, значило, что очень хочется мне, как Ивану Андреичу, не зря прожить свою жизнь. Только нужно мне, очень нужно, чтобы кто-то по-настоящему понял меня и помогал бы мне, потому что один я ничего не могу…
Так мы просидели до тех пор, пока солнце не прожгло своими острыми лучами пихтовые, заросли на берегу. Ночная прохлада стала сменяться нежным утренним теплом.
Маша встала первой, зябко повела плечами, должно быть, за спиной у нее припрятался еще холодок, зевнула. И засмеялась:
— А спать не лягу, сон только на губах у меня. Пойду почитаю.
Я спросил:
— А что ты читаешь?
Она опять засмеялась.
— Очень скучную книгу, Костя. Учебник. Что же, радисткой, что ли, мне всю жизнь оставаться. Хочу выучиться на радиотехника, а может, и на инженера. Времени у меня здесь свободного много.
И я сказал:
— А я тоже читаю очень скучную книгу.
У Маши в глазах мелькнуло вроде сомнение.
— А ты на кого?
Как тут ответить? И я сказал не напрямую.
— Это совсем не учебник. Книга называется «Гидроресурсы Сибири и Дальнего Востока».
Маша молча пожала плечами.
Это можно было понять так: «Странно. Какие ты книги читаешь…»
И я сразу прибавил:
— Ее написал академик Рощин.
Но Маша все равно глядела на меня с удивлением.
— Ну, Рощин… Иван Андреич. Он подарил мне эту свою книгу. С надписью. Хочешь, я тебе покажу с какой? И он мне сказал еще…
Остановиться я уже не мог. Мне нужно было вылить, выплеснуть поскорее кипяток из моей души. Очень долго держал я его в себе. А я знал: сейчас Маша поймет. Маша — прежняя. Я ей пересказал все, что было говорено между мной и Иваном Андреичем с первой нашей встречи. Все, все, и даже последнее: «Девушку береги, любовью девушки не играй». Только где прямо о Шуре говорилось — этого я не рассказал. Не мог, не хватило духу выговорить. А Маша слова про любовь девичью, которую нужно беречь, наверно, приняла на себя, потому что щеки у нее, как от сильного ветра с морозом, сразу зажглись. Но это ведь и у всякого так, когда про любовь ему говорят.
Закончил я тем, что рассказал про надпись Ивана Андреича: «Не хочется читать эту книгу, брось ее в Енисей».
Маша скорее сама с собой, чем мне, сказала:
— И ты стал читать эту книгу? Просто так — только бы прочитать?
Она могла бы не только потихоньку, еле слышно это сказать, могла бы даже только подумать, но я все равно догадался бы. И поэтому, может, и не совсем на прямые Машины слова я ответил:
— А это как: «Давай, Сергей, за Маркса тихо сядем…»?
— А ты можешь, Костя? — сказала Маша.
— Я хочу, — сказал я.
Глава девятнадцатая Горный ветер
Весь этот день был удивительно тихим и солнечным. Механики беспрестанно что-то колдовали в машине, я часто слышал такие слова: «Еще шесть оборотов… Еще восемь…» — и теплоход наш все круче вспарывал Енисей. Вася Тетерев бегал по лесенкам и покашливал в руку: «Мы можем и еще прибавить оборотов в машине. Я думаю, мы сможем идти еще быстрее».
Я остановил его и спросил, как, куда и когда я могу записаться, чтобы заочно окончить речной техникум по судоводительскому отделению. Вася посмотрел на меня как на гладкую стенку, должно быть, вопрос мой не дошел до его сознания, и я тогда все повторил снова.
— А-а! Подай, Барбин, заявление мне. Разберемся. Это очень хорошо, это еще больше тебя поднимет.
Я захохотал, и Вася посмотрел на меня огорченно.
— Опять за прежние глупости? Я думаю, Барбин, тебе этого не следует делать. Мне хочется, чтобы ты этого не повторял.
Тогда я состроил самое смиренное лицо.
— Это в последний раз, Тетерев.
И Вася, довольный, побежал вверх по лестнице. А я решил, что насчет техникума мне надо будет лучше поговорить с Машей. Только не сразу, а как-нибудь потом. Когда действительно я сам еще хорошо подумаю. И тут же такая мысль появилась: «Если я всегда смеюсь над Тетеревым, зачем я голосую за него на выборах? Потому что он, по честности своей и по слабохарактерности, берет на себя всю комсомольскую работу? Так это не столько ему — сколько и нам в укор. Как раз так, как говорила Маша когда-то о Лепцове: «Мы все друг за друга ответчики. Нам до всего дело должно быть». Тумарк Маркин грозил, что не будет больше голосовать за Васю Тетерева. А я по-прежнему буду. Но зато и поддам же ему пару. Побольше, чем поддавали мне!»
В обед меня накормили очень здорово. Потом какая-то пассажирка из Норильска угостила меня ананасом. Добрую половину от него отрезала. Консервы из ананасов я и раньше покупал, а вот «живого» попробовал в первый раз. По-честному говоря, наша сибирская облепиха вкуснее и душистее, но тут мне дорого было то, что все же редкость большую удалось отведать, а еще дороже — что женщина эта угостила меня с каким-то особенным удовольствием. Заметно было, что великая радость распирает ее и готова она угостить хоть весь мир, и в первую очередь тех, кто сейчас такой же веселый, как она. Потом уже я узнал, что едет она в Москву за сыном, которого еще малышом фашисты увезли в Германию, а теперь, наконец, наши сумели разыскать его, вернуть родной матери.
Иван Демьяныч дал постоять за рулем никак не менее часа. И хотя здесь плесы открытые, широкие, даже без бакенов, вали от одних створов к другим напрямую, но все-таки очень это приятно чувствовать, что весь корабль сейчас в твоих руках.
Вообще этот день был сплошь удачливый и веселый. Ведь подумать только: к примеру, даже нож-складничок, который я в Красноярске еще потерял, теперь нашелся! Сунул, оказывается, я его зачем-то в дорожный свой сундучок.
С таким превосходным настроением я и улегся спать. По моих расчетам становиться на новую вахту мне было нужно после Нижне-Имбатского.
Заснул я сразу очень крепко и видел во сне, что пробираюсь какой-то вовсе новой дорогой к самым дальним и диким Столбам. А цветов вокруг — море целое! На горах огнистые саранки и, как солнце, золотые лилейники. По лощинам — махровые жарки, а у шумливых ключей, по тарелке величиной, пунцовые пионы, как у нас называют их — «марьины коренья». В живой природе так много за один раз всяких цветов не увидишь, хотя и очень богата Сибирь цветами, ну, а во сне и не такое бывает. Во всяком случае, это лучше, чем когда пауки или черти снятся!
И вот, все во сне, добрался я, наконец, до отвесных скал. Хожу вокруг и соображаю: взберусь или не взберусь один? Пожалуй, можно, хотя и риск большой Эх, если бы рядом кто-нибудь с кушаком — подстраховать на крутом лазе! И появляется вдруг у меня чувство такое, что я действительно уже не один, есть кто-то другой неподалеку. А кто он и где он — не вижу. Я тихонько окликаю: «Маша…» И точно — кустарничек зашевелился. Но выходит не Маша, а Шура. Смотрит печально, в глазах слезы блестят. Я хочу назвать ее по имени, но у меня получается другое — «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..» А Шура подходит вовсе близко ко мне и шепчет: «Костя, как я тебя люблю, как люблю…» И целует так, что я весь погибаю. Только сердце одно стучит-стучит. Но я не хочу. Тогда: «Печорин», — говорит Шура. А чуточку погодя: «Теленок. Кисель!» И эти слова ее как злая пощечина. А Шура теперь кричит во весь голос. Кричит громче и громче… И вдруг я даже сквозь сон начинаю понимать, что ведь это «Родина» дает подходный гудок…
Матросы, когда спят, гудков никогда не слышат, как не слышит всякий человек тиканье своих часов. Но тут гудок прямо-таки влез мне в уши, влез, наверно, потому, что «Родине» гудеть было незачем. Я это знал и с такой мыслью ложился: в Нижне-Имбатское мы не заходим.
Иллюминатор был открыт, я кубарем слетел с койки и высунул голову. Все еще ночь. Белое небо. Дымком испарения ползут по реке вдоль берега. Да, точно, подходим к пристани. Вот грохнул и якорь. Слышу голос Ивана Демьяныча: «Буповскую лодку спускай». Значит, притираться к берегу, трапы бросать не будем. Спешим. На берегу пусто, даже дома и те вроде какие-то сонные, только на самом камешнике у воды двое. Одного знаю: начальник пристани. А другой — здоровенный бородатый мужик, и возле его ног вещи лежат: два мешка и фанерный чемодан.
И тут меня словно в лоб ударило: да это же «последний из могикан»! Шахворостова на койке нет. Да как же это? Почему подошла к пристани «Родина»? Слышу, и начальник пристани с берега спрашивает: «Почему пристаете? Мимо ведь хотели пройти». А ответ Ивана Демьяныча не пойму. Он в рупор кричит, и звук на берег узким лучом выносит. Померещилось мне только одно слово «почта».
Одеваться, что называется, по полной форме я не стал. Натянул брюки, а ботинки даже не зашнуровал и выскочил к кормовому пролету. Гляжу — лодка уже спущена на воду. У руля сидит Длинномухин, на лопастных веслах — Илья Шахворостов, а Шура, наклонясь, подает ему посылку, обшитую по всем правилам в белое полотно и по углам с красными сургучными печатями. Тумарк у кормового кнехта и держит «конец» — веревку, которой была привязана лодка.
Я сперва метнулся было наверх, на мостик, рассказать Ивану Демьянычу про подлую штучку Ильи. Но тут же подумал, что нет — с Ильей сам лично должен расправиться. Моя честь тут задета. Как и что именно собирался я сделать, этого я вам объяснить не могу, так же как и вы, наверно, объяснить не сумеете, когда, допустим, с разбега прыгаете через канаву, какой ногой оттолкнетесь и какой рукой взмахнете в этот момент. У меня была одна мысль — не дать Илье привезти сюда от «могикана» свой товар! А что потом — будет видно.
И я кинулся к лодке. Но опоздал. Тумарк уже сбросил с кнехта «конец», а Шахворостов ударил лопастными веслами, и лодочка быстро стала отваливать от теплохода. Шура вся затряслась, когда я рявкнул ей: «Какая посылка?» По ее глазам я понял: липа. Может, камни в нее вложены, и «могикану» этому самому она адресована, только бы повод был остановить «Родину»! Вот оно как… Купил-таки, выходит, Илья мою «Шаганэ!» Шура пятилась:
— Костя, Костенька, миленький… да ты что?
А в глазах у нее противный страх, и нижняя губа отвисла.
Загудел первый гудок, длинно, раскатисто, а в конце короткий, как точка. И вслед за ним, через минуту, второй. Торопится Иван Демьяныч. Лодочка была уже на половине расстояния между теплоходом и берегом, от меня до нее — метров шестьдесят. «Могикан» подтаскивал свои узлы к тому примерно месту, где должна была причалить лодка. Ее немного сносило течением.
Я скинул брюки, ботинки и бросился в Енисей. Ледяная вода так и обожгла меня. Оборвалось дыхание. Но потом я поплыл легко, отмахивая саженками. Шура закричала, тонко и страшно закричала, будто ее зарезали. Я слышал, как Иван Демьяныч сверху в рупор спросил: «Эй, что там?», а Шахворостов из лодки громко ответил: «Да ничего. Барбин купается». И мне показалось, стал еще сильнее работать веслами.
Течение снесло меня куда больше, чем лодочку. Плыть было тяжело, плохо слушались руки и ноги. Их словно бы сводило, стягивало в узел от ледяной воды. Вот он, Север!
Выбрел я на берег не меньше как шагов на семьдесят ниже лодки и сразу же побежал по камням туда. Но это, между прочим, только пишется «побежал». На закоченевших ногах я едва передвигался по острым камням. Было слышно, как переговаривались на теплоходе матросы и пассажиры, которые не поленились встать среди ночи, я знал, что это обо мне говорят, хотя и не мог различить слов. Я видел — Шахворостов вместе с «могиканом» кидают в лодку свой груз. Раз, два, три… Три предмета. Мне почему-то врезалось в память это пуще всего. Потом Илья сунул «могикану» маленький сверток в газете — я понял: деньги — и лодка стала отчаливать. Ее прямо выдернул в реку лопастными веслами Шахворостов. А мне оставалось дойти только каких-нибудь пятнадцать — двадцать шагов.
Длинномухин завертел головой, стал отгребать своим кормовым веслом обратно: дескать, возьмем Барбина. Но Илья на двух лопастных пересилил его:
— Вот дурак, не мешай, дай парню класс показать. Он же у нас чемпион по плаванию.
Не знаю, почему Илья это сделал: или смекнул, с какой целью я кинулся за ним в воду, и хотел теперь поскорее мешки свои забросить на теплоход, или просто злоба ко мне его охватила, но я понял — не шутит он. У меня зубы щелкали от холода, и кожа была вся в пупырышках, как у гуся. Я хотел Шахворостову пригрозить: «Лучше вернись», но голос перехватило начисто, и я сумел только помахать кулаком. Длинномухин сидел ко мне спиной и этого не видел, а Илья работал веслами и улыбался, будто и впрямь я плаваю тут, озоруя. Начальник пристани, обманутый словами Ильи, тоже глядел на меня с одобрением: «Ну, парень, ты и впрямь, как нельма, плаваешь».
А лодка отходила все дальше и дальше. Конечно, на берегу я все равно не остался бы, снова прислали бы лодку за мной, и Шахворостов на теплоходе ни сам от меня бы не спрятался, ни «товар» свой не утаил. Но это теперь такая у меня логика, а тогда не логика, а только ярость меня одолевала. И я снова бросился в Енисей, даже не думая, что течением меня может пронести мимо теплохода. Мне хотелось — черт его знает как хотелось! — поскорее настигнуть Илью.
Работал руками и ногами на этот раз я действительно так, что плыл быстро, как нельма. Но все же лодку я не настиг бы, если бы с теплохода в рупор Иван Демьяныч не приказал: «Эй, Мухин! Взять Барбина в лодку». Длинномухин круто заворотил кормовое весло, заставил лодку стать боком ко мне, и я ухватился за борт. Но Шахворостову, должно быть, показалось, что я хочу ухватиться за один из его узлов — стащить в Енисей, что ли? — и он сразу вскочил и дернул к себе этот тюк. Но покачнулся, давнул на борт, как раз в мою сторону, и лодка перевернулась.
Я не стану описывать, как потом мы оказались на теплоходе, не думайте — матросы сами не утонут, и вообще человеку не дадут утонуть. Мы благополучно оказались на теплоходе, «буповская» лодка тоже, а вот шахворостовские мешки — на дне Енисея. Они сразу, как говорится, канули в воду. Но чемодан сперва всплыл, и я видел, как течением потащило его. Он крутился, покачивался на волнах, поблескивая некрашеной фанерой, а потом тоже постепенно стал погружаться в воду. «Могикан» столкнул с берега рыбачью лодку, сам вспрыгнул в нее с багром и помчался догонять. Я забегу вперед, но скажу сразу, что, когда «Родина» подняла якорь и пошла своим чередом, этот «могикан» в бинокль все еще виден был на реке, далеко, километра, наверно, за три или четыре. Он стоял в лодке и, как Ленька кашу ложкой, размешивал Енисей багром. Похоже было, что чемодан этот и не тонул совсем и не поднимался на поверхность, а подцепить его багром «могикану» никак не удавалось. А может быть, он очень и не старался — деньги-то с Шахворостова ведь были получены! А может быть, он хотел вытащить его где-нибудь подальше от теплохода, чтобы этого даже в бинокль никто не видел, и тогда, что есть в чемодане, опять же ему достанется. А в чемодане как раз, наверно, лежали соболи…
Переодевались в сухое мы рядом с Шахворостовым. В каюте, кроме нас, никого не было. Илья свирепо ворочал глазами. Белки у него так и сверкали. На каждое обыкновенное слово он прибавлял десять ругательских.
— Это тебе, Барбин, так не пройдет! — твердил он. И уже не называл меня Костей.
Я молчал. Я знал, что нажил большого врага.
— Имей в виду, Барбин: лодку перевернул ты, что в ней было — утопил ты. Это факт, это все видели. А что ты вздумаешь нести на меня — я откажусь, и ты ничем не докажешь. Долгу теперь за тобой три тысячи, это еще по-честному. А затеешь дело против меня — будет за мной…
Он не сказал, что будет за ним, но было ясно: что-нибудь вроде ножа в бок. Но по словам его, по тому, как дергались у него губы, я понимал: все же он боится, что я «затею против него дело».
— Так что лучше молчи, Барбин. Пока я товарищ — я товарищ, за мной, как за каменной стенкой. А перестану быть товарищем — яма! Ты понял? Ну? Чего ты молчишь?
— Молчу, как ты велишь.
Сказал это и вышел. Я раньше его успел переодеться.
На мостике, кроме Ивана Демьяныча, были все штурманы, Вася Тетерев и Маша. Шел разговор, конечно, о происшествии в Нижне-Имбатском. Входя в рубку, я услышал последние слова Тетерева.
— …всегда такой озорной. Я думаю, это можно исправить.
Но я закричал прямо с ходу:
— Прошлый раз, по товариществу, я тоже взял на себя. Не стану больше. Шахворостов — подлец…
Илья влетел вслед за мной в рубку, видимо, сразу смекнул, куда я пошел. Рубаха у него была надета застежкой назад, а он шарил рукой по груди, ища пуговицы.
— Врет Барбин…
Но Иван Демьяныч поднял руку:
— Стоп! Барбин, рассказывай.
И я выложил начистоту все, как сажали мы в Красноярске с Шахворостовым пассажиров, как он надул меня, назвав их своими родственниками. Потом стал говорить и про эту вот спекуляцию с балыками, соболями и кедровыми орехами, как Шахворостов на полторы тысячи чистоганом три тысячи хотел «заработать»…
Илья не дал мне кончить:
— Точно!.. Это все точно, Иван Демьяныч. Только балыки и соболей к орехам Барбин приплел, никаких соболей не было, а на орехах никто еще по два рубля на каждый рубль не зарабатывал. Половину орехов я себе, семье своей оставил бы. Кому какое дело, кто и чего себе на пристанях покупает!
— А почему «Родина» к пристани подошла, ты не скажешь?
Я прямо из души выкрикнул эти слова. И сразу точно в скалу лбом ударился, такие невыносимо жестокие сделались глаза у Шахворостова. А рот повело так, как всегда, когда Илья готовился выговорить какую-нибудь пакость.
— Нет, Барбин, не скажу, я не знаю. Ты сам, может, скажешь?
И тогда я понял, почему повело рот у Ильи. Если я только хоть словом одним помяну Шуру, он все это сейчас же повернет на нее, облепит нас обоих какой-нибудь грязью. Он это умел, что касается девушек, делать. И тут мне сразу вспомнилось все, как были мы вместе с Шурой, и жалобное «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..» и — откуда я знаю? — фальшивое ли все-таки «Костя, Костенька, как я тебя любила…».
Не знаю, вы могли бы или нет назвать в таком случае Шуру? Меня хоть зарежьте, я не смог. И, пожалуйста, теперь подбирайте к Барбину какие нравятся вам прилагательные и существительные имена, но я замолчал и, как Вий, даже не мог поднять свои веки, чтобы взглянуть на Машу, на Ивана Демьяныча.
Наступила полная тишина. Если не считать, что стучали дизели у теплохода. И чем дальше тянулась тишина, тем сильнее ломило у меня в ушах. Я знал: это молчание в пользу не мне, а Шахворостову.
Наконец Иван Демьяныч спросил:
— Это все, Барбин?
— Это чистая правда, Иван Демьяныч.
Но Шахворостов сейчас же выскочил:
— Крутится, чтобы за убытки от своего хулиганства мне не платить. А Шурку он…
Тогда тем самым прямым, коротким ударом в скулу, который так давно уже был задуман, я опрокинул Илью.
Владимир Петрович подбежал к нему, Маша закрыла лицо руками. Шахворостов лежал и дергал носом. Капитан круто повернул меня:
— Ступай отсюда, Барбин!
Я спустился по лестнице, прямо сбежал в нос теплохода, к якорным лебедкам. Не лучше бы через борт и — в Енисей? Со злости и с тоски я рванул что-то жесткое и упругое, стало больно руке, и я понял, что схватился за конец стального каната, из которого иголками торчали оборванные проволочки. Будто это был вовсе не трос, а Шахворостов или вся та черная подлость, какая эти дни куда-то тащила меня, я выдернул из-под барабана лебедки стопорный ломик и стал им сплеча гвоздить по стальному канату, пока не размочалил у него конец, как малярную кисть.
А тогда, вовсе забыв, что это казенное имущество, я зашвырнул ломик в реку. И сел. Злость и сила у меня кончились. Я стал думать. А думал я так. За драку с последствиями меня теперь обязательно спишут с корабля. Тем более что это уже не первая моя выходка. Чем я могу оправдаться? Назвать Шуру, раскрыть всю эту историю с посылкой? По уголовным всяким там кодексам и по гражданским моим обязанностям все это полагалось мне сделать. А я не мог. Ну, никак не мог. Это было бы вроде так: сперва поцеловать, а потом ударить по щеке девушку. Вот и считайте тут как хотите. Если у Шуры осталась хоть капелька совести, мужества, она сама должна рассказать обо всем капитану. Наконец должна прийти ко мне и спросить, что же ей делать теперь, потому что ведь знает уже она, что если промолчит — за всю эту историю безвинно отвечу я. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..» Не надо этого, ну, окажись только честной. Не сделай еще одной, последней подлости. Приди спроси!
— Костя, тебе очень тяжело?..
Маша! Вот эта пришла даже и к хулигану. Села рядом со мной. Дул встречный ветер. Ее волосы упали мне на щеку.
— Это все самая чистая правда, Маша.
— Костя, я верю. Помнишь, о Шахворостове я тебе говорила?
— Трудно ведь от товарища отказываться!
И я услышал, как тихонько перевела дыхание Маша.
— Да, Костя, очень трудно. Даже — нельзя.
Но это она словно бы уже о себе говорила. Хотя, вернее, обо мне, как я от нее отказался. Весь я стал горький, как полынь. Будь я Ленькой, я заревел бы от горя.
— Маша, меня спишут теперь.
— Костя, но ты не досказал Ивану Демьянычу всего. Я это чувствовала.
— Маша, я не могу. Ну, не могу…
— Почему?
Она заглянула мне в глаза. Не знаю, что она увидела в моих, а я в ее глазах увидел сильную боль.
— Да, я понимаю, Костя.
Мне стало еще тоскливее. Маша все поняла. Она могла теперь, имела право сказать мне самые жестокие слова, ударить меня по щеке и уйти, вовсе уйти, как сделали бы, наверно, другие.
— Меня спишут с корабля, Маша, — повторил я. — А куда я без реки?
Над правым берегом, сквозь островерхие лиственницы сверкнуло солнце, и от этого все скалы, обрывы на нем ушли в тень, зато на лугах левобережья заиграла особенно веселая зелень. Ветер стал резче, свежее, втугую заполоскался красно-желтый вымпел на мачте. По Енисею побежала тонкая тревожная рябь. Маша теснее прижалась ко мне плечом, так, как стояла она когда-то рядом со мной на Столбах, у самого обрыва скалы, а впереди нас, под низом, в темной тайге переливалось багрово-желтое пламя костров.
— С реки я все равно не уйду, Маша. Я поступлю тогда хоть на постройку плотины. Или в какую-нибудь экспедицию.
— Тебя не спишут, Костя.
— Мне нечем оправдаться. Барбин — взяточник, хулиган. Вот это все знают.
— Тебя не спишут, Костя!
По ее голосу я понял, что Маша не позволит, не допустит, чтобы меня списали. Я не знаю, как она это сделает, и она тоже, наверно, не знает, как это сделать, но Барбин останется речником!
«Родина» сейчас шла по глубинам у самого правого берега. Длинные тени от скал далеко уходили в реку, захватывали наш теплоход. Полосы золотого света, чередуясь с густыми тенями, метались по палубе, перебегали по стеклам нижнего салона и дробились там еще на тысячи огней. Вдруг яркой звездочкой вспыхивал край медного колокола, который висел чуть-чуть сбоку от нас. Енисей, тяжелый и могучий, падал навстречу, бурлил, уходя под днище теплохода.
Ну, что же, если спишут… Я все равно не уйду от тебя, Енисей! Да, конечно, я буду строить плотину. Сейчас я с тобой только играю, а тогда мы будет бороться с тобой. О, ты не знаешь еще, какая у Кости Барбина сила! Он ее тебе совсем еще не показывал. Ты пробил, прорезал себе путь среди этих вот крепких скал, а Барбин еще покрепче скалу поставит поперек твоего пути от берега и до берега. И ты остановишься, разольешься, пойдешь не туда, куда тебе хочется, а куда повернет тебя Костя Барбин. Не знаю почему, но мне, как никогда, захотелось сейчас трудного дела. Не сидеть, а действовать, действовать! Руками, сердцем, разумом! Во всю свою человечью силу…
— Костя, ты ведь сказал правду, тебя никак не могут списать!
«Да, Маша, да! Я сказал правду, я теперь всегда буду говорить только правду. И я пойду расскажу… Спасибо, что ты так тревожишься за меня. Но Костя Барбин и сам ведь очень сильный. Он не пропадет».
Я этих слов не сказал, пожалуй, даже в отчетливую мысль они у меня еще не сложились, но это было так. Это я знал твердо. Наверно, знала это и Маша, потому что она сразу встала, как бы оставив меня одного. Она даже отошла совсем в сторону, но я по-прежнему плечом своим чувствовал, будто она сидит рядом, прижавшись ко мне, сильная и горячая.
Сверху мне крикнул Фигурнов:
— Костя, Иван Демьяныч тебя вызывает!
И я увидел, как Маша сразу побелела. Я тоже, наверно, побелел. Во всяком случае, зубы у меня щелкнули. Но Фигурнов тут же прибавил:
— Взамен рулевого за штурвалом иди постоять. Для ясности.
Сказал просто, дружески, будто перед этим мы с ним и не ссорились.
— Иду…
— Знаешь, сейчас Шура была на мостике, открылась во всем Ивану Демьянычу. И плакала, сильно плакала, говорила: «Костя Барбин ни при чем». Не знаю, как поступят с ней. Будут запрашивать красноярское начальство — она же по ведомству связи. Для ясности.
«Родина» начала переваливать к левому берегу, вышла из мелькающих теней на залитую солнцем, всю в светлых переливах рябь открытого Енисея. Тугая струя встречного ветра сорвала с головы у Маши косынку и бросила ко мне. Я подхватил ее на лету, зажал в руке. Маша подбежала, чтобы взять косынку. Мне не хотелось ее отдавать.
— Костя…
Голос у Маши оборвался. Я так и не знаю, что она тогда хотела сказать.
В лицо нам дул ветер, чистый и нежный, и, хотя это был привычный мне воздух реки, мне казалось, что дует тот самый горный ветер, который, как живая вода, освежает и обновляет человека.
У меня было написано еще сто шестьдесят четыре страницы. Я дал свою рукопись прочитать Маше. Она ничего в ней не поправила, только сказала: «Костя, остановись на этом». Вот как раз тут, где сейчас у меня поставлена в книге точка. Рукопись я отнес в редакцию, не посоветовавшись с Машей. Ох, наверно, мне теперь и попадет от нее!
1957
Не отдавай королеву
Глава первая Почему я варю манную кашу
Цветет черемуха, вся словно в снегу…
И не только под окном нашей квартиры, не только на пригревных полянках, но и по всем островам Енисея, по берегам речки Лалетиной, вдоль которой пробита магнитная тропинка на Столбы, — цветет на всем земном шаре, пышная, буйная, и веточки от нее, хотя и стоят на столе в бутылке из-под кефира, каким-то образом растут из твоего сердца, и оттого ты сам весь цветешь и томишься, как черемуха.
Окно раскрыто. Занавески раздвинуты. Солнце пылает, готовое зажечь каменные стены домов. Дует забористый ветер с реки. Он несете собой густое тепло, от которого сонно слипаются глаза, голова дуреет, а ногам все-таки хочется бежать в горы, в лес, где уже вовсю голубеют подснежники и поднимают свои оранжевые шапочки махровые жарки-огоньки. Ветер несет еще и дымки пароходные, особо вкусные в первые дни навигации, хрипотцу еще путем не продутых гудков, рыбные запахи мокрого гравия, гальки, песка, звонкий шлепоток колесных рейдовых пароходов, у пристани режущих Енисей вдоль и поперек. Этот ветер так и тянет душу из речника, уносит ее вверх и заставляет трепетать, как вымпел на флагштоке.
Плыть! Электрической лебедкой выхватывать якорь со дна вместо пяти минут за две минуты. Накручивать обороты винтов так, чтобы за кормой пена выстилалась чистым серебром. Гнать и гнать теплоход по самым глубинам, по самой сильной воде, не отводя ни разу стрелки ручного телеграфа с обозначения «самый полный — вперед». Плыть! В грозы, в дожди, по штормовым волнам, под не закатное солнце Игарки, Дудинки, Диксона, в бескрайние разливы низовьев, среди зеленого веселья земли.
Вот такая картина там, за окном. А внутри, или, как Маша любит иногда говорить, в интерьере, другое: стоит у плиты чубатый парень в полосатой тельняшке и рукой, которая свободно может поднять и раскрутить над головой двухпудовую гирю, помешивает в кастрюльке манную кашу, не понимая, отчего все-таки она всегда пригорает. Парень этот — я.
Почему же он, или я, или оба вместе варим манную кашу? Почему весенний речной ветер в комнате у меня только шевелит занавески, а не раздувает пузырем рубашку на спине где-нибудь среди открытых плесов Енисея, не треплет волосы на голове? Почему Енисей, могучий и светлый богатырь, работает нынче без меня? Почему, наконец, я не только вижу сам всю эту картину, но и хочу изобразить ее на бумаге?
…Был, скажем, на свете матрос Костя Барбин, а у Кости — любовь. Он взял и написал об этом повесть — «Горный ветер». Пусть, мол, все знают, что произошло в его жизни. Ну, в девятнадцать лет можно сделать и не такое. Приди мне тогда в голову мысль вырубить на Столбах, на самых отвесных скалах, все до единой буквы, что на бумаге я написал, — и вырубил бы! Вот ей-богу, честное слово! И хотя это самое во мне и посейчас сохранилось, но усы, как их ни брей, тут же опять отрастают, — словом, возраст мой теперь двадцать три года, и главное, выкинуть какую-нибудь глупость Маша не даст.
А я снова пишу. Снова пишу не потому, что рассчитываю стать писателем по профессии, моя профессия навсегда где сила и сноровка руки человеческой требуется, где материал при работе ты держишь прямо в ладони. Чего-чего, а выдвигать напоказ «я писатель» теперь я стесняюсь. Просто не могу. Это, может, где-то вдали. Это мечта. Вторая мечта. А пишу я сейчас только потому, что в жизни моей произошли такие повороты, вернее, не столько в моей жизни, сколько с другим человеком, что не рассказать об этом открыто и прямо я никак не могу. Начнем с манной каши.
Варю я кашу, конечно, не для себя. И гляжу на нее, как на живую устрицу. Правда, об устрицах я знаю только то, что раньше их ели, кажется, главным образом римские императоры, а теперь стремятся заказывать в ресторанах и некоторые наши стиляги. Знаю еще, что у римских императоров от устриц болели животы, думаю, что и у наших стиляг желудки тоже не луженые. Но к манной каше устриц я приравнял не поэтому, общий признак у них другой: проглатывать трудно. Варю манную кашу я для сына Алешки. Он глотает ее превосходно. Впрочем, не только кашу, но и бусы и пуговицы. Дай ему устрицу — тоже, наверно, проглотит. И я боюсь, как бы он не вырос у меня стилягой, потому что римским-то императором, ясно, ему не бывать.
Будь моя воля, я кормил бы Алешу баклажановой икрой. Во-первых, я сам ее очень люблю. Во-вторых, явно мужская пища и в то же время вполне детская — мягкая, жевать не надо. В-третьих, продается в банках в готовом виде, вся забота — крышку открыть. В-четвертых, когда Маши и Леньки дома нет, банку из-под икры вымыть легче, чем кастрюльку из-под пригоревшей каши. В-пятых, для каши обязательно, кроме крупы, требуется еще и молоко. А из трех раз два раза мне почему-то непременно продают кислое. В-шестых… Но я думаю, и этого хватит. Для меня, понятно. А попробуйте-ка убедить женщин!
Ольга Николаевна говорит: «Да ты что это! И ты сам, и Ленька, и вообще все люди на земле на манной каше выросли, возмужали. Ты вот про римских императоров вспомнил. Фараоны египетские куда древнее, чем римские императоры, а есть твердые исторические сведения, что и малюток фараончиков кашей кормили».
Маша, та на историю ссылается реже, у нее главная опора — современная литература. Всякие медицинские справочники, брошюрки, вырезки из газет. Я взял у Пети, Петра Фигурнова, в обмен на «Черный тюльпан» «Женщину в белом». Маша отняла, сказала: «Костя, это как-нибудь потом, когда выйдешь на пенсию, а сейчас для тебя полезнее вот эта». И подает мне в полпуда весом «Мать и дитя». Смеется, говорит: «Поскольку книга «Отец и дитя» еще не написана, ты потрудись из этой книжки узнать все, что о ребенке знать полагается».
А я не только в манной каше сомневаюсь. Я бы Алешку своего стал растить по-новому, как, например, прошу прощения, телят теперь — «холодным способом». Я бы не стал его кутать в байковые пеленки и закрывать одеялом, да еще на градусник поглядывать, не опустилась ли ртуть ниже восемнадцати градусов. Почему я всегда здоров? Снегом и ледяной водой закаленный. Но в каком возрасте я начал снегом натираться? В двенадцать лет. Сколько времени зря потеряно! Алешку непременно с первой недели снегом натирать нужно было, тем более что человек в марте родился, когда повсюду еще лежал превосходный мягкий и чистый снежок. И градусы на термометре вполне до десяти, а то и до шести опускать следовало. Я говорил: «Давайте сделаем из него «снежного человека», чтобы он мог зимой в одних трусах по Северному полюсу бегать. Кто знает, может быть, придется ему на атомном ледоколе работать. Капитаном». Но Маша не согласилась, сказала: «Хватит нам и тех «снежных человеков», которых в Гималаях ищут и никак не могут найти».
Но все же для Алешки один раз пробу я сделал: снегом ему пятки натер. И хоть бы что. Покраснели немного, да после насморк легонький появился. На два дня всего. Ерунда. Так можно бы постепенно Алешку к холоду и приучить. Но Маша перепугалась: «Что такое? Отчего? Наверно, парень долго в мокрых пеленках лежал». Я промолчал. Подумал только: вот так диагнозы иногда и ставят. Даже врачи.
Да. Мог бы кашу варить, конечно, и не я. Но это, так сказать, только вообще, в теории. А в данном, совершенно определенном случае заменить меня некому. Кроме брата. Но Ленька сдает экзамены за седьмой и дома появляется не тогда, когда варить обед, нужно, а точно в тот момент, когда у меня уже все готово. Будто, чертенок, за дверью стоит, дожидается.
Пробовал я стыдить его. Помоги, дескать, брату как следует. Алешку выручи, племянника своего. А он конопатую рожицу съежит: «Костя, ну дай мне экзамены сдать. В свидетельстве хотя бы четыре пятерки заработать. Это же честь фамилии!» Что против этого скажешь? Согласился я. «Ладно. От всех дел тебя я освобождаю, только четыре пятерки ты мне, хоть умри, принеси». Ударили по рукам. А после я уже сообразил, что непременно надует меня Ленька. От домашних дел я его увольняю сейчас, а что с него возьмешь потом, если он даже по всем предметам на тройках проползет? Математика, например, ему никак не дается. Маша в порядке проверки спросила: «Леня, какие бывают углы?» Он подумал, говорит: «Прямые и кривые». Маша: «Ой!» А он: «Ну, круглые…» Таких примеров я мог бы целый миллион привести, да конфузить родного брата не хочется, тем более что он и не виноват — рос заморышем, из одной болезни в другую. Но не подумайте, что Ленька мой — вообще полудурок. Он парень как парень, хоть и коротышка. А просто с самых детских лет у меня какое-то такое к нему отношение: люблю подтрунить над ним, как с котенком позабавиться. Он для меня все еще пацан. И коли на то пошло, так я и над собой подсмеиваюсь не меньше. Да. Но приходится мне опять к манной каше вернуться. Объяснить, почему ее Маша сама не варит.
А дело все в том, что Маша — заочница и сейчас в Москве защищает диплом на инженера по радиотехнике. Заочником быть очень трудно, по всем дисциплинам готовить письменные работы, но мне все же куда легче было бы послать Алешке письменную работу о каше вместо самой каши, чем вот так стоять у кастрюльки с ложкой.
Я об этом написал Маше в Москву. Маша ответила: «Правильно, Костя. Как я сама не додумалась! Давай по всем статьям нашей жизни переходить на заочные отделения. Москва мне очень нравится, и я, пожалуй, останусь здесь навсегда. Но ты не грусти, любить тебя все равно буду. Заочно». Вот так…
Могла бы, конечно, в моем горьком положении помочь мне Ольга Николаевна — Машина мама и, выходит, она же моя теща и Алешкина бабушка. Притом пенсионерка. Но что вы скажете, если человеку именно на это самое время собес дает бесплатную путевку в Железноводск, куда бы я сам, к примеру, даже приплачивай мне, не поехал бы! Потому что лучший курорт в мире, который лечит все болезни, — наш Енисей. Но Ольга Николаевна, когда ей это скажешь, только посмеивается. Она за кислотностью своего желудочного сока следит так же аккуратно, как за температурой в комнате, чтобы точно столько было всегда, сколько положено по справочникам. Возможно, конечно, что именно поэтому у нее и вид такой, что даже в голову никому не придет, будто она уже бабушка. Мне вот двадцать три года, столько же лет я знаю Ольгу Николаевну, и за все это время она хоть бы чуточку постарела. Круглее стала немного — это правда. Врачи ей сказали: не надо есть мясо, масло, хлеб, сахар. Лучше и чай не пить. И Ольга Николаевна теперь по утрам водой только полощет горло, а весь день живет главным образом на капусте.
Ольгу Николаевну все в доме очень любят… Я ее, сами понимаете, люблю больше, чем какие угодно соседи, и совершенно легко и свободно, как положено по народному обычаю, называю мамой, но эту поездку Ольги Николаевны в Железноводск я оправдать никак не могу. Можно было бы на другое время переменить путевку, или железноводскую водичку просто в аптеке купить, или, наконец, обыкновенную кипяченую воду настоять на тухлых яйцах, словом, подумать немного — не пришлось бы ее любимому зятю Константину Барбину варить для своего сына, а ее внука, манную кашу. Но Ольга Николаевна рассудила иначе: «Ничего, мальчик, ничего, справишься. В жизни надо все уметь. А у тебя сейчас тем более отпуск».
Вот это, собственно, и есть главное объяснение всему: я — в отпуске.
Но не на реке я в эти дни не только поэтому. Речникам во время навигации, сами знаете, отпуска не положены. Дело в том, что я уже не речник. По документам я — мостостроитель, хотя в душе конечно же как был речником, так и остался. И если хорошенько разобраться, от Енисея-то я все равно не ушел, мосты ведь не через горы, а через реки строят. Сделаем мост через Енисей — снова я вернусь на пароходы. Обязательно! И, по секрету говоря, кто его знает, может быть, уже и не матросом, не рулевым, а штурманом. Аттестат зрелости, хотя и с тройками, уже заработал. В вечерней школе. А дальше тоже, как Маша, думаю двигать заочно. Вообще, чем меньше покоя даешь голове, тем лучше она работает.
Вы можете спросить: каким же образом я, прирожденный речник, оказался в мостостроителях?
Очень просто. Кто никогда не бывал в Красноярске, может быть, только тот и не знает, как в нем каждому человеку хочется, чтобы мост был скорее построен. Вы представьте: громадина город, и как раз пополам Енисеем разрезан. Ну, летом еще так и сяк, наводится понтонный мост, зимой превосходный мост дед-мороз сооружает. А весной и осенью, в ледоход и рекостав? Да прибросьте еще половодье, когда Енисей мечется в берегах, не то что понтонный — железнодорожный мост готов сорвать и унести! Лихо в эти поры людям, которым нужно перебираться с одного берега на другой. А грузы? Важные, неотложные. Как доставлять их? Му;´ка!
Словом, когда стало известно, что правительством деньги на постройку моста Красноярску отпущены и что специалисты-мостовики приедут, а рабочих город должен выставить своих, поднялось прямо невообразимое, всем захотелось пойти на это строительство.
Не знаю в точности, сколько было подано заявлений в горком комсомола вообще, но комсомольцы с нашего теплохода «Родина» подали заявления все до единого. По совести сказать, я сначала поколебался. От привычного теплохода больно отрываться. Но подумал: «Ничего, ненадолго». К тому же дело было в начале зимы, когда Енисей к себе еще так сильно не тянет. И самое главное, Маша сказала: «Костя, я советую, коллектив у вас очень хороший, зачем вам раскалываться? Работать ты будешь все равно на любимой реке. Но уже в каком-то новом качестве. Это неплохо. Увидишь Енисей не только глазами матроса». Может, она не совсем такими словами сказала, но с этим именно смыслом. А когда жена дает совет, вы сами знаете, все остальное уже не имеет никакого значения. И я тоже написал заявление.
А через два дня после этого наш бригадир Васи Тетерев объявил: «С понедельника на мост выходим, ребята. В горкоме про нас сказали: эти, мол, не подведут. Ну, я думаю, от себя к этому добавлять нечего, мы люди сознательные. Мне очень не хочется, чтобы на новой работе кто-нибудь из наших ударил в грязь лицом. Каждый из нас требовательно и строго должен следить за собой. И поэтому я даже не прибавлю: следить за поступками, за поведением своих товарищей. Кажется, по Гегелю: если каждый человек будет поступать всегда хорошо сам, хорошо поступать будут все люди. Может быть, это и не Гегель сказал. Тогда еще лучше. Важна сама логика. В чем я не прав, ребята?»
Мы сказали Васе Тетереву, что он прав во всем, но следить мы будем и каждый за собой и за поступками, за поведением своих товарищей и что на новой работе мы тоже не опозорим своей рабочей чести.
Вот так мы и стали на время мостовиками, «старая гвардия», ребята с теплохода «Родина»: сам Вася Тетерев, я, Тумарк Маркин, Володя Длинномухин и Петя, Петр Фигурнов. Называю я их здесь не но паспорту — так, как среди нас прозвания им сложились. Напомню. Володе Мухину за его высокий рост дали прозвище Длинномухина. За Фигурновым сохранили Петра с обязательной прибавки Пети, потому что товарищ Фигурнов имени Петька совершенно не терпит. А из Марка Тумаркина даже и не мы, а скорее он сам себя Тумарком Маркиным сделал.
Вместе мы всю зиму работали, для второй от левого берега опоры кессон устанавливали, а установив, в дно Енисея вкапывались, врубались. Вместе, как начался ледоход, и в отпуск пошли. Собственно, пошли все, кроме меня. Потому что варить манную кашу, даже для родного сына, — это не отпуск, а работа, и самая тяжелая, похуже, чем в кессоне.
Правда, помочь мне иногда заходит одна знакомая — бывший почтовый агент с теплохода «Родина» Королева Шура. Но… Вот в этом, собственно, вся и штука…
Глава вторая Тридцать пять копеек на счастье
К мороженому или, скажем, к безалкогольным напиткам люди относятся по-разному. Одни в них ценят прохладу, другим нравится свой, особенный вкус любимого сорта мороженого или фруктовой воды, третьи связывают воедино вкус и прохладу, а четвертые и вкуса не понимают и прохлады не ищут, а все-таки, окажись только деньги в кармане, моментально истратят на эти самые штуки.
Четвертой категории — Ленька. Мороженое он способен есть и в сорок градусов жары и в сорок градусов холода, только бы язык не примерз. Молочное, сливочное, шоколадное, ягодное — для него не имеет значения. То же самое и с фруктовой водой. Никакой для него разницы между клюквенной и мандариновой, наконец, даже обыкновенной газировкой без сиропа, пятак за стакан. Было бы на языке мокро. И если тут он в чем-нибудь и разбирается, так только в цене. Как-то, первоклассника еще, спросил я его: «Ленька, что вкуснее — сто граммов сливочного мороженого или двести ягодного?» Ленька прикинул на пальцах, а у самого рот до ушей. «Хитрый ты, — говорит, — конечно, двести граммов ягодного». Я говорю: «А если того и другого одинаково, по двести?» Тут он подольше подумал: «А за чьи деньги?» Говорю: «За собственные». Он: «Тогда все одно ягодное». Я опять: «Ну, а за чужие деньги какое вкуснее?» Ленька хохочет, свистит беззубым ртом, готов разорваться от смеха: «Что я, дурак, что ли? За чужие я хоть сколько и хоть какого могу съесть!»
Маша в этом смысле человек третьей категории. Зимой она мороженое ест только в театре, немножко, и всегда просит: «Костя, возьми, если есть, пломбир с орехами», Даже в самую зверскую жару для фруктовой воды у нее норма — один неполный стакан. Любимая вода — «Юбилейный напиток». Пьет Маша маленькими глотками. Подымет стакан, посмотрит на свет и снова отопьет глоточек. Мороженое любит есть из вафельного стаканчика и ненавидит завернутое в бумажку, когда от жары оно плавится и по пальцам течет.
А я сразу, залпом все! Мороженое у меня летит в четыре глотка и тает уже в самом желудке! Воды — пока Маша стакан — я полторы бутылки выпиваю: одну законную свою, а еще половину — остаток от Машиной. Если жажда меня одного прихватит, сразу беру две бутылки. Словом, кроме жары и жажды, нет никакой другой силы, которая бы потянула меня к мороженщице или к ларьку с надписью «Воды». И спрашиваю я всегда только: «Дайте что похолоднее».
Второй категории в нашей семье нет. К ней вернее всего, пожалуй, подходит Королева Шура. Сладости — все равно, конфеты, печенье или мороженое — на зубы она ни за что не возьмет. Будет сосать целый час одну конфету, а мороженое облизывать, пока крепость свою оно держит. Это я примечал, когда еще вместе с ней на теплоходе «Родина» плавал, это осталось у нее и теперь. И хотя я не видел Шуру, можно сказать, полных четыре года, с того самого рейса, когда ее за нечестную проделку с фальшивой почтовой посылкой с работы сняли, мне сразу припомнилась ее привычка сосать конфеты, когда она…
Впрочем, об этом надо по порядку.
Маша только что уехала в Москву. Ольга Николаевна — в Железноводск. Ленька ушел в школу на консультацию — четверку по алгебре себе обеспечивать. Ну, а я остался, сами видели, один при Алешке.
Дело к вечеру. Позарез надо в магазин, но Ленька куда-то запропастился, а мне от Алешки отойти никак невозможно: орет, требует, чтобы ему пальцами козу показывали, в колокольчик звонили или в ладушки с ним играли.
И вот сижу я с козой этой самой; вдруг, наконец, появляется Ленька. И бегом — прямо туда… ну, вы сами понимаете, дело житейское… Выходит скучный. Вернее, не столько скучный, сколько в лице у него серьезность особенная, будто парень планету Нептун открыл. Пригляделся я: не живот у него, а бочонок. Подпоясаться ремня не хватает, он его просто за концы держит. Похоже, будто на бочонке обруч лопнул.
Спрашиваю:
— Что с тобой, Ленька?
— Ничего, — говорит. — Так…
И опять — шмыг обратно в ту же комнатку!
Замечаю: самый конец ремня теперь уже в пряжку продет.
— Слушай, — говорю, — да что с тобой? Ты заболел, что ли?
— Нет…
— Ну, тогда сбегай скоренько в магазин, манки купи для Алешки. Я по ошибке всю, какая была, сразу в кастрюлю ухнул. Вон, в комок скипелась, хоть долотом ее долби. Колокольчиком парня долго не займешь, ему кашу подай. Ну, прихвати там и для нас с тобой, не знаю чего, может, соленого омуля? Картошку сварим, с омулем — превосходно. Шагай.
— Ладно, — говорит Ленька, — это я с удовольствием. Мигом.
И действительно мигом. Только не в «Гастроном», а прежним маршрутом.
Подождал я его. Глянул опять на ремень. До нормы еще сантиметров двадцать.
— Ну, вот что, Ленька, — говорю, — все ясно. Время не терпит. В «Гастроном» я уж сам лучше сбегаю. Тебе, вижу, все равно из дому никак не уйти. Только ты вкратце мне объясни: с чего это фигура у тебя так изменилась?
— Да газировки, — говорит, — немного много попил. С сиропом. С двойным. Брусничным.
— Так. Интересно. Сколько же поместилось?
Помялся Ленька.
— Н-не знаю… Вроде четырнадцать.
«Ловко, — думаю. — Четырнадцать с двойным сиропом. Безалкоголик несчастный! И как его не разорвало на месте?»
— Деньги откуда взял? — спрашиваю.
Затанцевал Ленька, как перед прокурором. Вопрос тяжелый.
— Да, понимаешь, — говорит, — понимаешь… Не платил я…
— Понимаю. Снимай ремень.
— Костя… Костя… нет… ты послушай… Только я… Иду, понимаешь, из школы со Славкой Бурцевым, пить хочется — спасенья нет. Денег всего пятнадцать копеек. У Славки вовсе нет ничего. А на углу, ну, знаешь, возле аптеки, как раз газировщица. Тележка новая, голубая, и сама газировщица новенькая. Не видел никогда. Всех знаю. Красивенькая, молодая. Говорю Славке: «Давай на двоих три стакана без сиропа выпьем». Он говорит: «Без сиропа не люблю, простой воды я и дома попью, бесплатно». Стоим и спорим. Люди подходят, в карманах звенят серебрушками, и от этого мне пить еще больше хочется. А Славка свое — тянет меня за рукав: пойдем да пойдем, Барбин! И вот, понимаешь, как назвал он Барбин, так сразу газировщица эта ко мне: «Ах, Барбин? Скажите, мальчик, у вас есть старший брат?» — «Есть, конечно». — «Ах, — говорит она, — как это приятно! Если вы, мальчик, брат Кости Барбина, так позвольте, пожалуйста, вас угостить с двойным сиропом». И наливает. Я говорю ей, что денег у меня всего пятнадцать копеек и лучше я выпью три без сиропа. А она: «За угощенье деньги не платят. Пейте сколько желаете».
И вижу: засверкали тут у Леньки глаза, предстала перед ним опять вся радостная картина.
— Дальше, — говорю. — Так, значит, «сколько желаете»?
— Ну да, говорит: «Пейте по полной потребности, раз вы Барбин», Мне даже смешно стало. И Славке смешно: «По потребности Ленька и двадцать стаканов может выпить». А она опять говорит: «Ну и пожалуйста. Пейте без стеснения». Ну и… Все наливает и наливает… Жара… и… Это Славка потом мне сказал: четырнадцать.
— Превосходно, — говорю, — и он тоже четырнадцать? В общем в кредит за счет старшего брата?
— Славка вовсе не пил, — говорит. — Только, Костя, платить ничего не надо. Она же сама сказала. И повторяла: «Хоть двадцать, хоть сто». Славка слышал…
— «Славка слышал!» — говорю. — Вот теперь ты меня послушай. Если бы ты был драгунским офицером и жил в девятнадцатом веке, тебе сейчас один путь — застрелиться. Харакири по-самурайски делать нельзя: затопишь водой всю квартиру.
— Почему застрелиться? — Ленька спрашивает. И понимаю: не жизнь ему дорога, а то, что зря тогда пропадает выпитая газировка.
— Застрелиться тебе потому надо, что ты сейчас несостоятельный должник. А денег я тебе не дам.
— Костя, так она же…
— Молчи! Стакан можно выпить бесплатно, а не четырнадцать. Ты это-то понимать должен!
— Если бы она твоей знакомой не назвалась, я бы…
— Ага! Перед моими знакомыми, значит, и свиньей можно быть! Ну, брат Ленька, не ожидал я от тебя. Запятнал ты честь нашей фамилии. Давай стреляйся. Только сперва Алешку позанимай, пока я в «Гастроном» схожу да за тебя, свина, с газировщицей рассчитаюсь все же. Где, говоришь, стоит она? У какой аптеки?
— Костя…
— Молчи! Пистолет где-то еще надо раздобыть. Пошел я. Показывай козу Алешке, только дико глаза не выкатывай, а улыбайся, между чертом и козой соблюдай разницу. И знай: картошку тебе чистить, омуля тоже тебе чистить, а получишь от омуля голову и самый хвост. Перед смертью и это жирно.
Иду к аптеке, а сам думаю: какая такая может быть знакомая у меня газировщица? Да еще чтобы бесплатно стала с двойным сиропом Леньке доверху наливать. Четырнадцать стаканов!
Иду. А самого и смех и злость разбирает. Смех, когда вспомню, каким бочонком Ленька вкатился и какая торжественность была у него на лице, а злость, когда вспомню, что ведь парень седьмой класс кончает, на будущий год в комсомол станут его принимать, а Славка вдруг на собрании подымется и расскажет про бесплатных четырнадцать стаканов. Позор! И еще: какая бы там знакомая ни оказалась газировщица, все равно будет думать: вот так воспитаньице в семье Барбиных!
В общем, пока я дошел до аптеки, настроение у меня сложилось определенное: надо действительно Леньку начисто лишить омуля, пусть поест одной картошки.
Поворачиваю за угол. Точно. Вот она, тележка новенькая, голубая, а на ней рубинами баллончики с брусничным сиропом светятся. Рядом с тележкой, спиной ко мне, вправду, ужасно знакомая мне фигура девичья. Высокая, стройная. Из-под косынки локончики русые с тугими завитушками на концах. Короче говоря, угадываю: Шура! Угадываю, а сам не знаю, в радость или не в радость мне сейчас эта встреча. Вообще приятно встретить знакомого человека, тем более когда не видел его четыре года. Но тут какая особая мне радость? Разве только та, что какое-то время мы на теплоходе плавали вместе. И чай пили. И в Дудинке ходили вместе по тундре. И рисовала меня… А очень хорошего что запомнилось? Как на бегущие волны в первый день рядом стояли и смотрели. Да еще красивые стихи, которые она читала: «Шаганэ ты моя, Шаганэ!» Вся и радость? Значит, подходи к человеку сейчас без всякой улыбки, доставай деньги и по-деловому за бесстыдника брата рассчитывайся? Опять же и такого вреда мне Шура не причинила, чтобы теперь сделать вид, что я ее вовсе не помню.
Обо всем этом я сейчас вот пишу не торопясь, а тогда думать было некогда. Шура обернулась — совершенно случайно, и я заулыбался. Это уже от природы. Когда я вижу знакомого, мне хоть нитками рот зашивай, все равно улыбнусь: какая-то неведомая сила тянет. И Шуру тоже, наверно, эта же сила потянула. На солнце зубы у нее так и засверкали. Бросила покупателей у своей тележки и ко мне навстречу. Смеется, радостно задыхается, захлебывается.
— Костя, ну я так и знала, что ты сразу же ко мне прибежишь!
И хотя эти слова и как они были сказаны мне не очень понравились, но я почему-то ее не оборвал и не перевел разговор на Леньку, а ответил:
— Здравствуй, Шура! Сколько лет и зим с тобой мы не виделись?
Сказал и только после этого понял, что, может быть, зря я так сразу принял ее прежнее обращение на «ты». Мало ли что было четыре года назад! А теперь у меня Алешка. Я отец, глава семьи.
А Шура взяла мои руки — ладони у нее мягкие и чуточку, от газировки наверно, влажные, — взяла, держит, не выпускает, сама головой покачивает, и кудряшки у нее спиральными пружинками по щекам перекатываются.
Щеки, как были, в мелком светлом пушку. Густые, от солнца побелевшие брови, словно две гусенички, шевелятся.
— Ну какой же ты, Костя, стал красивый, какой интересный! Ой, руки какие железные! А в плечах ширина! Нет, с тобой теперь, наверно, во всем мире ни один богатырь не справится. До чего же я рада! Ах, как чудесно! Как хорошо, что ты пришел!
И еще все такое же говорит и говорит, остановить невозможно, да, по-честному, как-то и не хочется останавливать, потому что, когда правду о силе твоей говорят, она, сила эта, в тебе словно и еще прибавляется. А у тележки уже целая очередь собралась, и кто-то нервный кричит: «Эй, гражданочка, кончайте свидание, вы на работе!» Но Шура только оглянется через плечо: «Одну минуточку!» — и снова прерывающийся, радостный смех.
— Ах, Костенька, милый, до чего же все это чудесно! Стань капельку боком. Помнишь, как я тебя рисовала! Только вот не сохранилось… — И по лицу у нее дымком грусть пролетела. — Ну, ничего… Хочешь… Эх, да разве они что-нибудь душевное дадут… (От тележки теперь в десяток голосов кричали: «Эй, вы! Безобразие!.. Черт знает что!..») Постой. Костенька, погоди минуточку одну, я людей отпущу.
Побежала. Легкая, быстрая. Ручкой сделала: «Не уходи». Но я вдруг вспомнил, что крупа для Алешки у меня еще не куплена, и представил себе, как горько парнишка ревет, а Ленька никак не может его успокоить своей козой, похожей больше на чертика. И эта мысль у меня выбила из памяти то, ради чего я оказался здесь.
— Знаешь, Шура, я никак не могу, — громко сказал я. — Пока!
Люди у тележки сильно шумели, скандалили: наверно, некоторые лезли без очереди, — и я не уверен, смогла ли Шура услышать мои слова. А поворачивая за угол, я краем глаза увидел: Шура так и тянется за мной и не может побежать вдогонку только потому, что ее не пускают. И мне от этого стало нехорошо, как будто я сделал что-то неверное и ненужное. Под таким настроением я шел до самого «Гастронома», думал об этом, а сердце у меня между тем щипала тоненькая беспокойная жалость к человеку, которого я, конечно, сейчас очень сильно обидел. Невозможно было забыть выражение той светлой радости на лице Шуры, с какой она, завидя и узнав меня, бросилась навстречу.
Я покупал крупу, омуля и подсолнечное масло, а сам все думал об этом. В плане у меня была покупка только трех предметов, но, когда я вышел на улицу, я вдруг увидел у себя в руке еще и пачку печенья «К чаю» — того самого печенья, каким на «Родине», бывало, всегда меня угощала Шура. И тут только я сообразил, что за Леньку с Шурой я так ведь и не рассчитался.
Мне следовало, конечно, быстрее пойти домой, деньги Шуре я мог бы занести и завтра, но я повернул опять к аптеке.
Шура снова побежала мне навстречу, и снова из очереди от тележки ей закричали: «Эй, гражданочка, вы куда?» И мне стало неприятно, что как-то все время наши разговоры получаются у всех на виду, но как бы и по секрету, в сторонке, а у меня дело открытое, ясное: только Ленькин долг заплатить.
Я выхватил из кармана заранее приготовленные деньги и, когда Шура подбежала ко мне, всунул ей в руку.
Мы, кажется, совершенно одновременно сказали: я — «Это за Леньку», она — «Костенька, как я рада», — и получилось, что Шура обрадовалась именно тому, что я ей отдал деньги.
Но это был всего один какой-то момент, а потом Шура разжала ладонь, увидела в ней смятые бумажки, все поняла и сразу помертвела.
— Костя, за что? — сказала она. И эти слова звучали так: за что ты меня ударил?
Но я сделал вид, будто не разобрался в тоне ее вопроса, и ответил прямо на прямые слова:
— За воду. Ленька забыл рассчитаться.
Шура стояла, держа перед собой полураскрытую ладонь и глядя на деньги так, словно в руке у нее лежала красивенькая убитая птичка.
Я хотел сказать: «До свидания, Шура. Извини. Тороплюсь. К сыну. А деньги законные твои». Но Шура подняла глаза, грустные, со слезинками, и я ничего не сказал.
— Костя, как ты мог?.. Я с открытой душой… Костя, неужели если бы я к тебе пришла и выпила стакан чая, ты взял бы с меня деньги?
— Чай в гостях — это дело вовсе другое, — сказал я. — Пожалуйста, приходи, всегда буду рад. — Я повел рукой и опять увидел в ней пачку печенья. — Вот, пожалуйста.
— Да? С печеньем? С моим любимым? — И, как солнце сквозь тучу, сквозь грусть в глазах Шура вдруг улыбнулась. — Правда, приглашаешь?
— Набережная, пять, квартира семь, — не думая, сказал я. И уже совсем ни к чему прибавил: — Я в отпуске, все время дома.
У тележки ожидающие волновались все больше. Кто-то там, кажется, пробовал даже сам налить воду.
— Костенька, тебе живется хорошо? — спросила Шура.
— А почему бы плохо?
Шура потупилась.
— Нет, а я очень несчастливая в жизни. Ох, Костенька…
Мимо прошел какой-то мужчина. На ходу бросил в оттопырившийся карман передника Шуры две белые монетки.
— Замечтались? Кто из вас кассир? Получи. Тридцать пять копеек. Один с сиропом.
Мне сделалось стыдно вдвойне. И оттого, что нас уже начинают обидно разыгрывать, и оттого, что мне давно бы уже следовало быть дома, а я стою и не знаю, как закончить разговор. Шура свободной рукой — в другой она все еще держала мои деньги — вынула монетки из кармана, встряхнула.
— Тут не тридцать пять копеек, а сорок, — сказала она. И всунула их мне в руку совсем так, как недавно я всунул ей свои десять рублей. — Возьми на счастье. Они от хорошего человека. И чтобы у тебя всегда и во всем было не тридцать пять, а сорок. — И сразу же повернулась, пошла. Остановилась, сказала через плечо: — До скорого! А на эти, — подняла кулачок, — на эти я тебе подарок куплю. Взять их себе я никак не могу.
Она принесла свой подарок в тот же вечер, совсем уже в сумерки, когда с реки ползла в окно приятная прохлада, настоянная на запахе молодых тополей. Ленька, опавший, как надутая резиновая лягушка после прокола, спал, разметавшись поверх одеяла. Алешка в своей кроватке работал руками и ногами, добровольно делал физкультурную зарядку и при этом смеялся так, словно читал «Золотого теленка» Ильфа и Петрова. Я по-настоящему читал в это время. Только не «Золотого теленка», а книгу «Мать и дитя», потому что, когда заплачет малыш, поздно по книге справляться, отчего он плачет. Алешка смеялся, а меня мороз подирал по коже: я как раз добрался до главы об инфекционных болезнях, и все эти голодные, злые стаи разных микробов и вирусов, казалось мне, как волки, ляскают зубами у меня за спиной, готовясь сожрать Алешку.
— Костенька…
Я не заметил, когда она вошла. И пожалуй, даже обрадовался, потому что теперь мне — хочешь не хочешь, а нужно было прервать свое страшное чтение. Я вскочил, сказал: «А!» — и хотел подать ей стул, но Шура уже подбежала к Алешке. Глянула, отступила и снова подалась вперед, наклонилась над кроваткой, и, я удивляюсь, Алешка ни капельки не смутился, не испугался, только еще сильнее заработал руками и ногами. Испугалась Шура. Во всяком случае, голос у нее дрожал, когда она спрашивала;
— Это твой?
— А чей же? — с гордостью сказал я. — Шаха персидского, что ли?
— Поздравляю, — тихо сказала Шура. Помолчала. — Просто не знала я. — Подергала как-то странно плечами. В руках у нее был маленький сверток. Она положила его в кроватку к Алешке. — Вот, Костенька, хотела я подшутить над тобой, подарок принесла, оказалось, не тебе, зато очень точно по адресу. — Обвела взглядом комнату, заметила над кроватью большую фотографическую карточку: рядышком я с Машей. — Она?
И это слово меня страшно обидело, будто буравом сердце мне просверлило.
— Нет, — сказал я, — это не «она». Это Мария Степановна Барбина.
На эти мои слова и, во всяком случае, на то, как они были сказаны, можно было тоже обидеться, но Шура не обиделась. Или просто не подала виду.
— Сильно любишь, — сказала и грустно и ласково. А сама все глядела на фотографию, в нижнем левом углу которой было крупно написано Машиной рукой: «После нашего ледохода». — Конечно, только она и могла… Желаю счастья. Большого счастья! Маша — чудесный, прекраснейший человек. Дорогая моя подружка.
Теперь я не знал, что сказать. Слова Шуры были все очень хорошие, душевные, теплые, и только «дорогая моя подружка» отдавали какой-то неправдой. Маша и Шура подружками никогда не были, хотя и служили вместе на одном теплоходе. И я не знаю, как дальше сложился бы у нас разговор, но именно в этот момент горько заплакал Алешка — так, как всегда он плачет, отправляясь в плавание. Я бросился к нему, но Шура меня опередила, выхватила парня из кроватки, расцеловала в обе щеки, совсем так, как делала Маша, легонько шлепнула его по круглому месту и прижала к себе.
— Ух ты, лапочка мой, ух ты, золотушечка, — зашептала. — Ую-ю-юй, какие мы мокренькие… да тепленькие… Ну? А где наши сухие рубашечки? А? Котеночек миленький… Цыпа сладенькая…
И еще, еще все такое же, что даже выговорить мне мужским языком очень трудно.
Когда при мне Алешка отправляется в плавание, я ему говорю: «Стоп, капитан! Поставить насосы. Заделать пробоины. Полный вперед!» Алешка команду мою принимает с удовольствием. Маша ему в общем тоже не льстит. Но, представьте себе, «цыпы» и «лапы» эти понравились ему еще больше, чем мои и Машины простые слова; и он все время так и лип к Шуре, пока та переодевала его в сухое. Кстати сказать, в красивенькую, с голубыми лентами рубашонку, которую принесла с собой. Вот, оказывается, какой у нее для меня был приготовлен «подарок».
Ну, как потом мы оба укладывали спать «цыпу» и «лапу», это не очень существенно. Важно, что Шура тогда пробыла у меня, пожалуй, больше часа, и если о чем и говорила, то главным образом об Алешке и Маше — какие они милые. И я кипятил чай. Но когда чай был готов, я вдруг вспомнил, что мы с Ленькой вдвоем уже съели все принесенное мной из «Гастронома»: и омуля и печенье. Остался только сахар и черный хлеб. Шура это, наверное, поняла. Она сразу же заспешила, сказала:
— Спасибо, Костенька. Поздно уже. Я лучше когда-нибудь после зайду. Можно? — И убежала.
Тут мне остается сказать только, что пришла она снова, и на следующий же день. И тоже поздним вечером, когда закончила работу. Постирала и выгладила пеленки, хотя это превосходно умеем делать и мы с Ленькой, нажарила из наших запасов яичницы с колбасой, хотя опять-таки, даже завязав глаза, каждый из нас мог это сделать, но больше всего по времени тютюнькалась с Алешкой и пела ему песенку «Твой отец был храбрый воин». И все время расхваливала Машу, Алешку и даже Леньку. А о себе ничего не рассказывала. Только раза два повторила, что в жизни она неудачница, что рано родилась — жить бы ей при коммунизме; и как-то вовсе мимоходом упомянула, что все эти четыре года провела на Крайнем Севере. Весь вечер она сосала одну и ту же леденцовую конфетку «барбарис». Ленька за это время прикончил все остальные. Конфеты принесла как гостинец Шура.
После этого она заходила не так часто, а если сказать точнее, была еще четыре раза. За девять дней. И, я бы сказал, давала концерт по прежней программе, если не считать сообщения: «Получила письмо от Шахворостова. Просит тебе передать привет». Но я никак на эти слова не отозвался. Во-первых, Шахворостов мне давно не друг, и я его терпеть не могу; во-вторых, парень посажен на год в тюрьму за хулиганство, и кому же приятно ни с того ни с сего получить от такого персональный привет. Я сделал вид, будто вовсе не слышал. Но Шура по лицу моему, должно быть, все поняла и тут же прибавила:
— С чего он написал мне? Не понимаю. Как узнал мой адрес? Тоже не знаю. Я этого Шахворостова почти совершенно не помню. Кажется, это у него была бритая голова и вся в ямках?
Я пробурчал:
— Ну да, тот самый.
А сам подумал: «Хотя и четыре года прошло, но как может Шура не помнить Илью, когда подарки от него принимала, липовую посылку по его просьбе сделала, чтобы пароход на пристани, нужной Илье, остановился, а когда за это попала сама под увольнение — Шахворостов ей где-то на Севере и новую работу нашел».
Но на этом разговор наш о Шахворостове прекратился. Шура стала расспрашивать, любит ли Маша носить дорогие ювелирные украшения. Я ответил: «Пожалуй, нет». А Шура сказала, что это и очень хорошо, что раньше она сама любила наряжаться, а теперь предпочитает одеваться скромно и просто, без всяких дикарских погремушек.
Последний раз она приходила вчера. Степан Петрович, тесть, спросил меня:
— Константин, что это за девица так часто к тебе стала захаживать?
Степан Петрович все время пропадает на реке — начало навигации, но квартиры наши напротив, и Шуру он каким-то образом видит. Представьте себе, я стал в тупик.
Действительно! Начал объяснять, что это моя давняя знакомая и Машина подруга, а ходит она, наверно, от доброго сердца, чтобы помочь мне, пока я один, управляться с Алешкой. Степан Петрович покрутил головой: «Лучше бы она не ходила». Я про себя подумал, что, пожалуй, и вправду это было бы лучше. Но как человеку об этом сказать?
И, собственно говоря, что худого, если Шура от доброго сердца приходит?
Глава третья «Наш ледоход»
У Ильи Шахворостова обе руки, грудь и спина в татуировке. Когда-то он мне хвалился:
— Это, брат, не просто для красоты сделано, хотя и красота сама по себе в этом тоже есть. Татуировка — навек, она никогда не смывается. Что запишешь на теле, держи и в душе всю жизнь.
Он объяснял свою. На груди якорь, чайка и волны. Это понятно каждому: существо матросской души. А вот на животе веером три карты: дама треф, девятка червей и туз бубновый — это, оказывается, личный «фарт». Придет в игре одна из таких карт, ставь на нее сколько есть; все три вместе сойдутся — и головы не жалей. На левой руке изображено сердце, пронзенное кинжалом, и подпись: «Готов за друга». Я спросил тогда Шахворостова.:
— А сердце собственное?
Он ответил:
— Понадобится, так и собственное.
И получилось — сперва-то чужое. На правой руке от плеча до локтя целая лесенка: звезда, целующиеся голуби, девица в профиль, имя Галочка и накрест сложенные берцовые кости. Все вместе означало: любовь под звездами и верность до гроба. Я спросил Шахворостова, давно ли умерла эта Галочка, почему я ее никогда не видал, хотя живу с Ильей в одном доме и вместе работаю. Он только пожал плечами.
— Дурак! Как же ты мог ее видеть? С Галкой мы встретились в доме отдыха. Там у нас под звездами и любовь состоялась. А теперь Галка замужем. Но любовь не забыта. Понял?
Когда с Машей мы поженились, Шахворостов предложил и мне сделать такую же татуировку. Накалывать он сам умел. Я сказал, что не хочу себе портить кожу. Он понял по-своему, подмигнул:
— Ага? Значит, временная? На пробу?
И я едва удержался, чтобы кулаком не опрокинуть его на спину снова, как я уже сделал однажды на теплоходе «Родина» за оскорбление Шуры и о чем Илья поклялся запомнить навечно даже без татуировки.
Действительно, он не забыл. Время от времени напоминал об этом, не поймешь — всерьез или в шутку: «Костя, ну и лекарственный кулак у тебя! Начисто всякую дурь из головы вышибает. Ты не собираешься доктором стать?» Это с оттенком шутки. А серьезнее: «Барбин, ты не забыл, долгу за тобой три тысячи? Мне позарез деньги нужны». (Тремя тысячами «долгу» за мной Шахворостов считал ту прибыль, которую мог он получить на продаже соболей и кедровых орехов, а я не дал «оборот» ему сделать, тот самый «оборот» при помощи липовой посылки, из-за которого и Шура пострадала). Ни на то, ни на другое вообще я не отзывался. Только раз он вывел все же меня из терпения.
— Знаешь, Илья, — сказал я ему, — может, вправду давай повторим? — Приподнял я кулак. И он сразу попятился.
А вскоре после этого Илью и посадили за хулиганство.
В буфете кино «Октябрь» он с кем-то подрался и в свалке совершенно посторонней женщине пивной бутылкой проломил голову. И пошел на год за железную решетку. Я бы его там годиков пять продержал. Ну, подумайте сами: на работе он первый лодырь; денег у него много — «сестра посылает»! Лишние деньги, ясно, карман сверлят — водочка, а от нее потом и свист, и дикие глаза, и бутылки на чужие головы. Но Маша в тот раз сказала:
— Как мы все-таки недоглядели этого человека. Костя, в этом ты больше других виноват. Столько лет ты и живешь с ним рядом и работаешь вместе!
И я согласился, что, конечно, я больше всех виноват.
Маша засмеялась:
— Ладно, Костя, не будем ссориться. А вот выйдет Шахворостов на свободу, ты им займись поплотнее.
И я сказал:
— Займусь. — Но при этом у меня сильно зачесались ладони.
Да. И вот теперь этот самый Илья не кому-нибудь, а именно мне, и притом почему-то еще через Шуру, шлет свой привет!
Бывает, щелкаешь кедровые орехи, идут все сладкие, сладкие, и вдруг жгучей горечью опалит тебе рот: попался гнилой. И долго потом не можешь ничем заесть этот противный вкус, хотя и попалось на зуб всего-навсего одно порченое ядрышко.
Так вот и с приветом от Шахворостова. Казалось бы, сущий пустяк, а настроение мне он на несколько дней испортил.
Решил я Маше послать письмо. Не специально по поводу привета Ильи, но все же упомянуть и о нем. Интересно, как отзовется Маша? Но вообще я скажу, писать письма — для меня все равно что усы себе по волоску выщипывать: дернешь и остановишься — три-четыре слова напишешь и думаешь: «О чем бы еще?» Больше как на десять строчек мне мыслей для письма никак не найти. А Маша находит. Она может, как Фридрих Энгельс, письмо на сорока страницах написать. И будет интересно.
Сел я за стол, положил перед собой лист бумаги, начал легко:
«Красноярск. 26 мая 1956 года.
Здравствуй, Маша! Как твои дела? У нас, в общем, все как было. Живем хорошо…»
А дальше — пусто в голове. Новостей никаких не припомню. Не начинать же сразу с Шахворостова! И потянуло у меня глаза от листа бумаги куда-то вбок, потом к потолку, потом я вспомнил, что надо бы подтянуть гирьку у часов-ходиков, потом проверил, крепко ли спит Алешка, потом вдернул себе в ботинки новые шнурки, потом…
Словом, когда я снова вернулся к столу, чтобы закончить письмо, мысли кое-какие у меня шевелились, но мне захотелось сперва посмотреть на Машу. Я снял со стены и вытащил из рамки фотокарточку, на которой мы оба изображены были рядом, оба удивительно красивые, и стал вглядываться в черты Машиного лица. Глядел до тех пор, пока оно не стало совершенно живым. Ласково моргнули ресницы, левая бровь улыбчиво поползла вверх, и от этого сразу теплые лучики согрели ей глаза, а губы шевельнулись так, будто она зубами старалась поймать скользкое зернышко. Фотография была обыкновенная, серая, но я хорошо видел на ней цвет Машиных глаз — синих, пожалуй, даже чуточку сзелена, как вода в осенней Ангаре, когда ее просвечивает до дна прямое, горячее солнце. И вместо того чтобы писать, я с Машей стал разговаривать. Конечно, не вслух, и даже не шепотом, и даже без слов, но мы полностью понимали друг друга.
Внизу на карточке была сделана надпись: «После нашего ледохода». В этот день мы с Машей расписывались в загсе. Выйдя оттуда, снялись. И в этот же день, между прочим, Илья Шахворостов как раз и предлагал мне испоганить кожу татуировкой, будто какая-нибудь там голубая змея или пронзенное кинжалом сердце помогли бы мне закрепить память о нашем счастливом дне лучше, чем эта вот карточка, глядя на которую можно и разговаривать с Машей и вместе с ней можно снова пойти на «наш ледоход».
Почему он «наш»?
Вот почему.
Не знаю, очень ли сильно природу любите вы. И если любите, то что в ней для вас самое дорогое? Какие события в ней больше всего берут вас за сердце? Мне, например, в природе нравятся любые явления, даже пыль и грязь. Короче говоря, нет ничего такого, что заставляло бы кривить губы. Но что больше всего мне дорого — это восход солнца на Столбах и ледоход на Енисее.
У Енисея есть своя особенность — он взламывается чаще всего только ночью. Во всяком случае, я не помню, чтобы Енисей тронулся среди белого дня.
Смотреть на ледоход очень интересно. Когда Енисей пойдет полным ходом, вся набережная в Красноярске усеяна людьми, и многие, чтобы поглядеть на такое красивое зрелище, под разными предлогами удирают с работы, тем более что одно время о первой подвижке льда город оповещался гудками электростанции и железнодорожных мастерских. Теперь этого не делают, но люди все равно каким-то образом узнают о начале ледохода и прибегают к реке даже с самых дальних концов города.
Я сказал: «Смотреть на ледоход интересно». Даже с набережной. Правильно. Спору нет. Но если разобраться поглубже, это все равно, что в светлый майский день любоваться золотым солнышком, когда оно стоит уже высоко над крышами домов. Главное в красоте солнца — это его восход. Заметить самую тонкую белую полоску рассвета, проследить, как она нальется розовой, а потом багрово-красной силой, как разбежится чуть не во все небо, охватив его сочным, словно бы льющимся заревом, и, наконец, над горой обозначится маленький светлый глазок, который смотрит пока еще не на тебя, а куда-то выше, на бело-розовое облако: смотрит, смотрит туда и вдруг мигнет и тебе, и тогда сразу из-за горы низко протянется тонкий и длинный золотой луч, который — верите? — можно успеть схватить рукой, прежде чем он пролетит мимо.
Так и ледоход на Енисее. Его, чтобы понять и прочувствовать, нужно наблюдать обязательно из темной ночной тишины, с того самого первого и дорогого момента, когда еще где-то на песке ворчливым вздохом чуть-чуть хлюпнет прибывающая вода, которой уже совершенно невмоготу, надоело держать на себе тяжелый зимний лед.
В городе, хоть всю ночь просиди на берегу, настоящей красоты ледохода все равно не увидишь, не почувствуешь. Во-первых, шумно, а начинает Енисей всегда с самой тихой музыки. Во-вторых, лед здесь у берегов весь автомашинами изломан, измят, а на середине реки — дорогами пересеченный, подтаявший там, где природой ему еще не положено бы таять. И в-третьих, чтобы спокойнее был ледоход, Енисей от самого железнодорожного моста и до затона загодя весь издырявят взрывчаткой. После этого, пожалуйста, любуйтесь, как поплывет ледяная каша.
Надо уходить за город. И подальше. Но как определишь заранее точно, в какой именно день, вернее ночь, тронется Енисей? Скажете, есть синоптики… Ну, насчет синоптиков у меня давно свое особое мнение. Есть поговорка у солдат: минер ошибается только один раз в жизни. Я бы повернул ее на другой манер. Синоптик не ошибается только один раз в жизни: когда с этой работы на другую уходит. Короче говоря, в том году прогноз был объявлен, не важно, на какое именно число, но главное, в ночь с пятницы на субботу. Куда ж тут за город? На работу потом опоздаешь. И мы с Машей всю ночь просидели на ступеньках управления пароходства, как гипсовые скульптуры, которые теперь расставлены в сквере вдоль всей набережной. А Енисей, конечно, не тронулся.
Нам повезло. Пошел он в ночь с субботы на воскресенье. Это была уже полностью наша ночь. И хотя у нас получались, по сути дела, третьи сутки без сна, мы с Машей надели ватные стеганки, брезентовые плащи, взяли спички, топор и забрались до темноты далеко вверх по Енисею, за Собакину речку, за известковый карьер, туда, где в реку уперлись отвесные утесы.
Сияла полная луна. Мы развели небольшой костер. Только бы пахло от него горьким дымком и трепыхались бы над землей желтые язычки пламени — тепла от него мы не требовали. Хватало своего. И кроме того, сама ночь была удивительно теплой — в ледоход я не запомню такой.
Не знаю, как вы, а я могу у костра сидеть бесконечно. И мне не будет скучно, потому что костер всегда тебе что-то рассказывает. Он живой и очень веселый. Но вдвоем с Машей сидели мы мало. То и дело вскакивали и бежали к реке. Вслушивались, как журчат в галечнике талые ручейки, как со стеклянным звоном рушатся игольчатые кромки приподнятого водой льда, как где-то в трещинах похрипывает воздух.
С верхней покатой площадки утеса часто падали мелкие камешки, туго ударялись во что-то мягкое, может быть, в нерастаявшие снежные сугробы или, наоборот, в размякшую глину. Иногда эти камешки широко рассыпались горошком или гнались друг за другом вперегонки. В тальниках ворочалась и хлопала крыльями бессонная птаха, никак, наверно, не могла подыскать для сидения удобный сучок. Шелестели сухими, прошлогодними листьями совсем уже не знаю кто: ранние жуки или полевые мыши. Словом, разных звуков был миллион, если вслушиваться в каждый, а в целом стояла неподвижная ночная тишина.
Маша спрашивала меня:
— Костя, неужели и сегодня Енисей не тронется?
К полуночи подул ветерок. У нас за утесом было затишье, но все-таки костер горел теперь неровно, языки пламени то взлетали высоко вверх, осыпая нас легким серым пеплом, то прижимались к земле, лизали влажный песок, и мелкие красные угольки катились нам под ноги, а дымом перехватывало дыхание. Мы тогда, как от комаров, отмахивались руками, хохотали и вытирали слезы, а Маша говорила:
— Зря мы, Костя, с тобой не взяли селедочки. Можно было вместо лука нарезать дым колечками…
Ветер притащил за собой облака. Они ползли быстро одно вслед за другим, и скоро луна погасла в их серости, а Енисей стал черный, словно бы вздутый, и трудно было понять, где на том берегу проходит его граница, граница гор и граница неба. Все постепенно слилось в сплошной мрак, и, если бы не живое пламя костра, можно было подумать, что нас закупорили в бочку — так сразу оборвался ветер и почему-то стало трудно дышать, словно бы тучи тяжестью своей легли нам на плечи.
После суматохи, поднятой ветром, наступила опять тишина, только теперь отдельные звуки; из каких она складывалась, были иными. Не трепыхала крыльями в тальниках птица, не скрипели сухими листьями жуки, зато сильнее и чаще стучали камни, падавшие вниз с утесов, и уже не хрипел сухой воздух в щелях между льдинами — там бурлила и клокотала рвущаяся наверх вода.
Маша протянула руку в темноту.
— Костя, дождик, — сказала она. — А теплый какой!
Вблизи не было никакого укрытия. Высокие голые скалы, мелкие тальники и песчано-галечная полоса берега, усыпанная побелевшим от времени кряжистым плавником. Даже небольшой шалашик сделать совершенно не из чего. Но если вскарабкаться вверх по узкому ущелью между скалами, там можно найти такие местечки, где камни козырьками низко нависли над щебенчатой осыпью. Вползти под них на животе, и тогда, пожалуйста, опрокидывай сверху хоть целое море.
— Как ты считаешь, Маша, — спросил я, — может, нам податься туда? Дождь, по всем приметам, будет большой.
— Костя, что ты! Спрятаться в норку? Подумай. Ведь это, может быть, наш последний ледоход!
Я не понял сразу, почему последний. Сказал, что помирать не собираюсь. Маша засмеялась:
— Да ведь через несколько лет Енисей перегородят плотиной. Какой же тогда ледоход? Случится ли еще до этого с тобой вот так прийти сюда? Как раз с субботы на воскресенье.
И я согласился, что, пожалуй, действительно это наш последний ледоход и, чтобы запомнить его на всю жизнь, мы не должны никуда уходить от реки. А Маша запела: «Пусть гром гремит, пускай пожар кругом, пожар кругом…»
Мне очень нравится этот марш. Почему теперь его не часто поют? Я стал подтягивать Маше и даже сам удивился, как складно у нас получилось. И тогда мы запели вторую песню, о том, что «до самой далекой планеты, друзья, уж не так далеко». И третью, где «недаром славится русская красавица…» И четвертую… И пятую… И еще много, много…
Голоса наши мягким эхом отдавались в скалах, будто там пел с нами и еще кто-то, а потом уплывали в непроглядную ночь над Енисеем, замирали на том берегу.
А дождь чего-то терпеливо ожидал. Все время сверху падали только отдельные редкие и очень тяжелые капли. Они постукивали, как градины, по нашим брезентовым плащам. Воздух становился все теплее, а чернота ночи все плотнее сжималась вокруг нас. Если бы не горящий костер, не золотое зарево от него, внутри которого мы находились, словно в сияющем солнечном шаре, — ночь, темнота поглотили бы, растворили нас в себе, и мы сделались бы только поющими голосами.
Между песнями мы слушали Енисей. В трещинах по-прежнему бурлила и клокотала вода, набираясь новых и новых сил, но лед на реке все еще оставался неподвижным. И мне становилось немного грустно оттого, что скоро здесь Енисею не на чем будет показать свою силу и удаль: плавно и спокойно он будет течь мимо Красноярска летом и зимой тоже, не замерзая, разве только в самые злые морозы подергиваясь дымящейся тонкой шугой. Я сказал об этом Маше. Она, как всегда, когда не очень со мной согласна, повела плечами.
— Ну как же так, Костя, ты говоришь? Почему Енисею не на чем будет показать свою силу? А турбины вон какие он станет ворочать! Электрическим светом пол-Сибири зальет. Ты, наверно, хотел сказать, прежней красоты у него не станет. Это правда. Мне ее тоже как-то жаль. Потому и хочется теперь наглядеться побольше. Но знаешь, Костя, Енисей… Все равно красоту свою Енисей потерять не может! Только она заменится у него другой, и к этой новой красоте нужно будет привыкнуть. Парусные корабли были очень хороши, и старым морякам пароходы, когда появились, тоже казались уродами. Моряки вот так же вздыхали: конец морской красе! А ты бы, Костя, захотел работать теперь вместо теплохода на паруснике? Ты бы с кем-нибудь согласился, что парусник прекраснее теплохода?
Я подумал немного. Вспомнил, в кино я смотрел «Адмирала Ушакова». Черт! Красивые все-таки были эти парусные корабли! Но подумал и еще. Действительно, поставь такой рядом с теплоходом и скажи мне: «Барбин, выбирай, которому из них быть на свете?» — не заколеблюсь, выберу теплоход. И даже по-Ленькиному терзаться не стану, что лучше — один теплоход или два парусника?
И я сказал Маше, что слова мои принимать всерьез не следует, что я все понимаю и что, когда не станет ледоходов, мы с ней все равно каждую весну будем приходить сюда и любоваться той новой красотой реки, которая после постройки ГЭС заменит нынешнюю. Маша сказала:
— Вот это правильно.
А я добавил, что зря не поступил на строительство гидростанции — самое главное в крае, — а заделался мостовиком, рабочим стройки, хотя тоже важной и нужной, но все же не такой почетной и знаменитой, как ГЭС. Маша тут снова повела плечами.
— Что же, строительство ГЭС… Там люди работают тоже по-разному: и хорошо и плохо. А надо работать везде одинаково, по-коммунистически.
Мне припомнился давний мой разговор на теплоходе «Родина» с академиком Рощиным. Иван Андреевич тогда, по сути дела, тоже к этому вел свою речь. Но Маша теперь ее как бы продолжила, пошла еще дальше Ивана Андреевича. И я спросил:
— А как ты понимаешь, Маша, «работать по-коммунистически»? Разве это не то же самое, что «работать по способностям»?
Маша повернулась ко мне. Я никогда не видел такого напряженного лица у нее.
— Не знаю, Костя, — тихо сказала Маша, — трудно ответить. Но «работать по способностям», мне кажется, это… немножко о другом. Это когда связывается с понятием «получать по потребностям». Это полностью будет позже. А по-коммунистически работать мы можем и теперь. Должны. Понимаешь? Уже теперь. Еще на пути к коммунизму.
И мы стали вместе разбираться, как понимать эти слова, каким можно было бы подкрепить их примером.
Ну вот, допустим, когда люди впервые полетят на Луну, они же не будут знать по прошлому своему опыту — опыта у них еще нет, — как им опуститься на Луну, как ходить по ней, как дышать, как смотреть оттуда на Землю. Но зато как лететь на Луну — это они будут знать совершенно твердо, полетят по самому точному курсу. Иначе нельзя. Мы не знаем, какой именно будет жизнь при коммунизме. Но мы хорошо знаем, что это верная цель, что человечество к этому уже подготовлено, что это уже… полет! И как лететь к цели — мы знаем. Точно знаем главное направление. А подробности увидим, когда будем поближе. Работать по-коммунистически — значит работать не только хорошо, но обязательно еще и сознавая, во имя чего, во имя какой высокой цели ты трудишься.
А Маша прибавила:
— Работать так, чтобы все лучше и лучше становился сам человек. Становился умнее, добрее, красивее!
Машины слова мне понравились, и я прикинул на самого себя, на ребят, с какими вместе работаю, и даже на Леньку: могли бы мы в чем-то стать лучше? Как люди? И получилось: вполне бы могли. Это все я почувствовал душой, сердцем, но в мысль, в отчетливые слова сразу соединить не смог. И промолчал. Маша спросила обеспокоенно:
— Костя, ты не согласен со мной?
Тогда я сказал, что, конечно, согласен, что давно уже очень хочу «быть на земле Человеком», как говорил Горький и как мне наказывал Иван Андреевич Рощин, но как добиться этого, до сих пор все же не знаю. Маша засмеялась, взяла мою руку, и я удивился, какие у Маши горячие и мягкие пальцы.
— Костя, человек не может чего-то достигнуть и остановиться. Если он остановился, он уже не человек, а не знаю что — машина, камень или дерево. Человек всегда должен быть в пути к высшей цели. Достиг одной — двигайся дальше, потом — к следующей. Остановился — значит, и кончился.
Ударил гром. Коротко, сухо, без раската. Так бывает, когда молния бьет в дерево где-то совсем близко от тебя. Но молнии не было. Ночь, чернота над нами и вокруг нас ни капельки не изменилось, и так же крупно и редко падали дождевые капли. Мы оба замерли, не дыша.
— Енисей… — сказал я, еще не очень веря.
— Конечно, — сказала Маша. — Как раз под мои слова. Значит, правда.
Осторожно ставя ноги впотьмах, мы начали спускаться вниз, к самой реке.
— Костя, давай прижмемся к утесу, — сказала Маша, — мне ничего не видно: мешает костер.
В скале оказалась малюсенькая ложбинка. Мы втиснулись в нее. Она хорошо заслоняла отблески костра, но совершенно не закрывала нас от дождя. А он постепенно начал усиливаться, хотя по-прежнему был ласковый, теплый.
У меня настоящее матросское зрение. Когда нужно, я могу взглядом проколоть любую темноту.
— Костя, ты видишь? — спрашивала Маша.
— Вижу…
Чтобы самой разглядеть, что происходит на Енисее, Маша тянулась вперед. Я боялся, что она потеряет равновесие и упадет на острые камни; обхватил ее левой рукой, тонкую, сильную, и крепко прижал к себе.
— Костя, а я ничего не вижу!
Честно говоря, я тоже сейчас не видел ничего. Я только слышал, как совсем близко у ног бурлила вода, размывая песок и обрушивая кромки подтаявших льдин. И еще я слышал, как под рукой у меня бьется Машино сердце и как, вовсе замирая, куда-то уходит мое. И мне даже хотелось, чтобы оно ушло совершенно, чтобы вообще ничего не осталось, кроме тепла, которое железной силой наливало мне левую руку…
Я ничего не видел, но я слышал, как медленно по песку к подножию нашего утеса подползла тяжелая льдина, словно стремясь вдавиться, войти в него. Я слышал, как вдруг полилась откуда-то тугая струя и звонко заплескалась в глубокой чаше. Наверно, льдина, уткнувшись в утес, приподнялась и стряхнула с себя озерцо воды, образовавшееся на ней от дождя и растаявшего снега. Я слышал, как заскрежетал галечник на той полоске берега, где только что впотьмах мы пробегали с Машей, — его тоже подрезало льдинами. Енисей двинулся! Сдержанно, тихо, сухо шелестя по всей ширине реки, словно ветром погнало вороха опавших осенних листьев.
Но это продолжалось недолго. Вот уже где-то тяжко заворочалась льдина, переваливаясь через неподатливый обломок скалы; вот будто невероятно большая рыбина забила хвостом — образовалась воронка, и в нее потянуло, стало всасывать щепу и всякий другой мусор; вот раз за разом грохнули словно бы два орудийных выстрела — это на середине реки ломались, лопались ледяные поля. Енисей входил в полную силу! Ничего этого я не видел, вернее, не видел в подробностях, но я по звукам угадывал, понимал, где и что происходит, и обо всем рассказывал Маше так, будто для меня светило яркое солнце, а Маша стояла рядом со мной с завязанными глазами. Маша, не веря, переспрашивала меня: «Неужели ты видишь, Костя?» Я отвечал: «Превосходно!» И я не знаю, должен ли был отвечать иначе.
От реки теперь веяло холодом, но дождь шел по-прежнему теплый. Он становился гуще и, я бы сказал, стремительнее, быстрее, он уже не просто стучал по нашим капюшонам, а прямо-таки стегал по ним тонкими, жесткими прутьями. Вода с плащей лилась потоками и попадала в сапоги. Я сунул правую руку в карман, он тоже был полон воды, и в нем, как в аквариуме, ползали по дну какие-то животные с колючими ногами — наверно, забрались жуки, еще когда мы грелись у огня. Я поглядел на костер… Он почти совсем погас: его залило дождем. Только тонкие струйки дыма крутились над тлеющими головешками.
— Маша, — спросил я, — тебе не холодно?
— Нет. Что ты, Костя! Это же такая ночь…
И вдруг короткий синий свет молнии разорвал, куда-то отбросил темноту. На мгновение открылась мутная даль Енисея, вся вздыбленная торосами и пересеченная серебряными полосами дождя. Словно бы колыхнулись правобережные горы. Островерхие лиственницы на их гребнях, вздрогнув, впились в косматую тучу, застилавшую небо. Ближе, совсем перед нами, блеснули чугунно-черные разводья, лучами расходившиеся от выступа скалы. Как лезвие ножа, сверкала сталью в одном из них вставшая на ребро, тонкая от своей безумной высоты льдина. И тотчас все погасло.
Грянул гром — раскатистый, низкий. Он бросил на землю тучу, должно быть, сразу всю целиком, не деля ее больше на отдельные капли. Мне показалось даже, что это свалился на нас сам Енисей.
Не знаю, можно ли сказать, что и свет и звуки — все перепуталось, переплелось вместе. Но именно так у меня это осталось в памяти. Незатихающий гром, который, как саблями, то и дело перерубали молнии. Угловатые льдины, немые и тихие, и шумные, клокочущие над ними обрывки обожженных молниями туч. Колючие руки тальников, вытянутые навстречу серой стене дождя. Камни, подмытые ливнем и падающие в реку с вершины утеса через наши головы. Шипение водоворотов. Острые песчаные косы. Ползущая вдаль, вся в черных трещинах, живая река. И молнии, молнии. Синие, серебристые, багрово-красные и вовсе без цвета, но терпко пахнущие серой, железом и свежерасколотым гранитом.
— Костя, как хорошо, — шептала Маша, — как красиво! Я никогда в жизни еще не видела в эту пору грозы.
Не видел и я. И вообще никогда в жизни не чувствовал еще такой радости оттого, что стою над ликующим и бурлящим весенней силой Енисеем и сам наполнен весной, а под рукой у меня бьется Машино сердце.
Теперь было совсем уже все равно: купаться ли в полыньях Енисея, стоять ли на месте, прижавшись к утесу, или брести тихонько по узкому галечнику домой. Мы были мокрые насквозь, как сама вода, и сумели увидеть главное — начало ледохода.
Я выбросил из кармана жуков — пусть живут! — и мы побрели домой, возбужденные и радостные, перелезая через звонкие, сыпучие груды ледяных иголок, пробиваясь сквозь цепкие кусты. Шли не торопясь: спешить нам было некуда. Мы шли, и рядом с нами, по пути с нами двигался богатырь Енисей.
Дождь вылился, должно быть, весь. Но в камнях еще прыгали и резвились маленькие ручейки. Царапая галечник, у самых наших ног ползли ледяные поля. Пахло рыбой. Маша остановилась.
— Костя, — сказала она смеясь, — я устала. Давай сядем на льдину и поплывем.
— Давай! — беззаботно сказал я.
И мы забрались на ближнюю льдину и поплыли. Было совершенно темно, Плыли недолго. Но я почувствовал: зря мы сделали это, берег постепенно от нас отдаляется. Мне стало не по себе, но я не знал, как сказать об этом вслух. Маша спросила обеспокоенно:
— Костя, нам не пора?
Тогда я молча схватил Машу за руку, и мы побежали. Откуда между нашей льдиной и берегом теперь еще оказались другие? Мы прыгали через трещины и полыньи наугад, к удивлению попадая все время на крепкие льдины, иногда падали, поднимались и снова бежали. Наконец оказались перед крутой наклонной стеной — должно быть, льдину вздыбило подводными камнями, — и, кое-как взобравшись на нее, поняли, что по ту сторону верхней кромки — обрыв…
— Маша! — в страхе крикнул я. В тот же миг льдина рухнула, и мы полетели вниз.
Сразу скажу: не пугайтесь, как испугались мы. Эта льдина, оказывается, находилась уже на берегу, и мы упали просто в мокрый песок. Поднялись, отряхнулись. Долго хохотали. Потом снова пошли по берегу, держась за руки. Маша тихонько сказала:
— Мы с тобой все же очень глупые.
Я сказал:
— Ну и пусть!
Маша сказала:
— Я никогда не забуду этот наш ледоход.
А я сказал:
— Маша, я тебя… очень люблю.
И я до сих пор не понимаю, как это просто и легко тогда у меня получилось и почему такие слова Маше я не мог сказать раньше — еще два или три года тому назад.
Ну вот… Вот это и был «наш ледоход».
Глава четвертая Казбич
Ко мне постоянно заходят ребята, те, которые вроде меня проводят свой отпуск в городе. Чаще других заглядывают Вася Тетерев и Петя, Петр Фигурнов.
Вася приходит обязательно вместе с женой, длинной, как ее имя Дамдиналия, очень быстрой в движениях и колючей на язычок, зато с очень красивыми ушами, маленькими, как пельмени. У нее странные глаза, вернее, не сами глаза, а верхние веки. Со складочками к наружным уголкам. Когда Дина спокойна, эти складочки наплывают вниз, и глаза у нее тогда вроде бы маленькие треугольнички, но стоит ей расхохотаться или вообще чем-то нарушить свое спокойствие, складочки на веках расходятся, а глаза делаются и круглыми и очень большими.
Работает Дина в нашей речной больнице лаборанткой, берет у больных кровь, желудочный сок и все прочее. Пальцы колет она совершенно без боли. Глотать резиновую кишку, сами понимаете, никто не любит, но Дина попросит только: «Откройте рот», — и, как говорится, операция уже кончена.
Кто-то нечаянно назвал ее один раз вместо Дамдиналии Дуоденалией Павловной, и она теперь шутейно, в записках к друзьям, так и подписывается.
При регистрации брака фамилию она приняла Васину. Но не в женском роде — Тетерева, а в мужском — Дамдиналия Тетерев, как ей ни доказывал Вася, что фамилия Тетерев означает вовсе не птицу, а является производной от старинного костромского словечка «тетеря» — хлебная окрошка.
Свадьба у Васи с Дамдиналией состоялась на полтора года раньше нашей, но своего Алешки у них пока нет.
Обо всем этом я пишу потому, что с Дамдиналией мы еще не один раз встретимся, а насчет того, как, бывает, перекраиваются древние, дедовы фамилии на новый лад, мне придется рассказать уже в этой главе.
Я собрался почитать о кессонных работах. Можно бы, конечно, мне такую книгу и не читать, я не инженер и не прораб, мое дело, когда отпуск закончится, залезть вместе с другими ребятами в кессон и выбирать со дна Енисея камни и мокрую гальку до тех пор, пока кессон не станет на скалу. Но я такие книги читаю всегда с удовольствием, потому что это очень здорово: знать все о своей работе, понимать, чувствовать ее не только на ощупь, под пальцами, под рукой, а войти, вникнуть в ее суть, в самую душу, и оттого увидеть сразу и изнутри и как бы со стороны — полно и крупно.
Раньше такой необходимости я, пожалуй, не испытывал, это ко мне пришло в последнее время. Может быть, потому, что усы появились, а может быть, подействовала и подаренная мне книга академика Ивана Андреевича Рощина, которую перечитал я три раза со словарем. Хотя многие математические формулы в ней так и остались неразгаданными, но главный смысл я все же схватил. Знал я теперь точно и зримо, какая это важная, нужная и красивая профессия — гидростроительство. И гордился, что мосты через реки приближаются тоже к гидросооружениям.
Алешка, недавно накормленный, спал. Я уже знал по его дыханию: парень будет спать долго и крепко. Очередную вахту, по уговору, точно до четырех нес Ленька, и я мог совершенно свободно уйти на воздух и там, где-нибудь под тополями, в тени, посидеть со своей книгой.
Но почитать мне не довелось. Едва я устроился на скамейке под тополем, откуда ни возьмись Вася Тетерев со своей Диной, а с ними и еще кто-то третий. Парень лет девятнадцати. Безусый. У него немного нервное, узкое лицо. Рубашка в брюки заправлена. Все аккуратное. Словом, вроде бы совершенно обыкновенный парень. Но вместе с тем ясно: приезжий. Не наш. Не красноярский. И действительно, оказалось так.
— Знакомься, Барбин, — говорит Вася Тетерев, — молодой товарищ из Москвы. Будет работать в нашей бригаде. Зовут Николаем. А фамилия — Кошич. Дядя у него заведующим столовой в Затоне работает. Его отец с отцом Шахворостова где-то в нашем же крае вместе служил. Так что вроде бы косвенные связи с нами у парня давние есть. Я предлагаю взять Кошича в нашу компанию.
— Очень приятно познакомиться, — говорю я. Пожал руку. И чувствую: рука такая мягкая, что нажми я чуточку посильнее — и поползет она у меня между пальцами, как тесто. — Очень приятно. Только фамилия заведующего столовой в Затоне, между прочим, по-моему, Кошкин, а не Кошич.
— И Николай приехал вовсе не из Москвы, — прибавила Дина, — а из-под Ленинграда.
— И Кошкин вовсе мне не дядя, а племянник, — сказал парень.
— Тогда я ничего не понимаю, — сказал Тетерев и развел руками. — Дина, ты что-нибудь понимаешь? Мне хочется, чтобы ты объяснила. В паспорте я же своими глазами читал, что он Кошич. А заведующий столовой действительно Кошкин. И по годам подходит, конечно, в дяди, а не в племянники. Насчет Москвы, виноват, просто случайно обмолвился. А вот относительно Кошкина, Кошича, дяди или племянника, — Вася посмотрел на приезжего так, словно он, Тетерев, был пограничником, а приезжий парень спросил у него, как пройти в имение графа Бобринского, — насчет всего этого, я думаю, он сам лучше расскажет.
— Ну, что ты, Васюта! Не надо смущать молодого товарища, — сказала Дина. — Это сын не может быть старше отца, а племянник старше дяди — дело очень простое. В жизни и не такое встречается. — Она повернулась к приезжему парню: — Вы этого не стесняйтесь.
И парень покраснел как помидор, наверно от этих именно слов. Такие приемчики каждому известны. Во всяком случае, я сам наблюдал много раз, когда, к примеру, самого спокойного человека доводили до крика, все время повторяя ему: «Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Не горячитесь. Спокойнее».
Не знаю, заведомо или нет хотелось Дине зажарить парня до смерти, только она тут же прибавила еще:
— И что это набросились все на него, будто он самозванец! Боже, как только эти фамилии в документах не перевираются! Хорошо еще, что не на женский лад повернули. Впрочем, в Кошиче пожалуй, женского как раз больше, чем мужского.
От жару и, как хотите, от обиды у парня даже слезинки на глазах выступили. Голос задрожал. Но он все-таки с полным достоинством выговорил:
— Да, заведующий столовой Кошкин мой племянник, родного моего брата сын. Он на двадцать лет старше меня. Ну и что же? Он Кошкин, и его отец и мой отец Кошкины, а я — Кошич. В паспорт мне действительно по ошибке эту фамилию записали. А я промолчал. Ну и что же? Мне так больше нравится. Звучнее.
— Ну да, — вздохнула Дина, — конечно. Очень звучно. И правда, совсем нет ничего женского. Тут скорее… Кошич… Казбич… Почему в паспорте мне по ошибке вместо Дамдиналии не записали имя Бэла?
Если бы у Кошича в этот момент был кинжал, он бы, наверно, сделал с Диной то, что сделал Казбич с Бэлой, — так у него дернулась правая рука. Но я знал, что у Кошича нет кинжала, и знал, что Дина теперь все равно не отвяжется от этого парня до тех пор, пока не проводит его на кладбище, и потому попробовал повернуть разговор на другое.
— Давайте лучше сходим к мосту, на Енисей.
И все согласились.
Но тут откуда ни возьмись рассыльная с телеграфа. Покопалась в своей кирзовой сумочке, достала телеграмму, спрашивает:
— Вы не из этого дома?
— Из этого, — говорю. И посмеиваюсь: — Если вам Барбин нужен, пожалуйста.
— Нет, — говорит, — нужен не Барбин, а Терсков. Квартира номер восемь. Как пройти к ним, вы не скажете?
Вот тебе на! Посмеялся, а действительно почти мне телеграмма. Оно и правильно. Пора по времени.
— Как пройти в восьмую квартиру, сказать-то я могу, только все равно Степана Петровича сейчас нет дома. Он на работе. И вообще квартира на замке.
— Ох, — с досадой говорит рассыльная, — ну, никогда днем с первого разу не доставишь телеграмму по адресу! А нам это как минус засчитывают.
— Ну, а ежели как плюс засчитать? — говорю я. — Терсков — мой тесть, а живем мы рядом. Может, доверите? Я вам даже скажу содержание. Телеграмма из Железноводска и подписана: «Оленька». А смысл телеграммы: выезжаю пятого, здорова, целую Правильно?
Рассыльная поглядела в телеграмму, обрадовалась.
— Совершенно точно. Из Железноводска. И подписана: «Оленька». Целует. Но насчет выезда ничего не говорится. Наоборот. «Немного прихворнула оформили продление-две недели зпт не волнуйтесь опасности нет вместе Костей берегите хорошенько Алешечку зпт скучаю! целую Оленька». Какая приятная, ласковая телеграмма! Берите, расписывайтесь.
Взял я, расписался.
— Да, — говорю, — вообще-то действительно телеграмма очень ласковая и приятная. Но для меня она, как вы сказали, наоборот.
— Эта «наоборот»? Так вы чего же хотели? Эх, молодой человек!
— Я ничего не хочу. Но если я этот самый Костя, Алешечке, сыну моему, все время соска и манная каша нужна, жена моя, Маша, в Москве, через пять дней у меня отпуск кончается, на работу должен я выходить, а Оленька, бабушка Алешечкина, сообщает: скучаю, целую, остаюсь в Железноводске еще на две недели. Тогда как?
— Тогда так вам и надо, — говорит рассыльная. И не поймешь, шутя или всерьез. — Так вам, мушшинам, и надо, чтобы на бабушек, когда женитесь, не надеялись. Я вот четверых без всяких бабушек вырастила. И все время работала. Четвертый — трехмесячный от отца остался. Это вам как? Тоже подумайте.
И я заметил, как Вася Тетерев смущенно моргнул своей Дамдиналии: давай Барбину поможем?
Представляете: уже из Кости Барбина все кисель сварили!
И хотя ошеломила и озадачила меня телеграмма здорово, но гордости своей я не потерял.
— Четверых, — говорю, — гражданочка, не знаю, а одного Алешку — не пропадет! — выращу. И я не пропаду тоже. Спасибо за приятную и ласковую телеграмму.
С размаху насчет Ольги Николаевны, конечно, зря я так сказал, без уважения — этого она уж никак не заслуживала, тем более прихворнул человек. И с Алешкой всячески она больше моего занималась. Но если снять с моих слов такой обидный оттеночек, все остальное было, по сути дела, правильным. Вроде бы мне шах объявлен. И думай теперь, Костя Барбин, куда убрать короля. Кажется, я забыл вам сказать, что в шахматы играть Маша все-таки меня приучила.
Мы пошли к мосту. Парами. Дина с Васей, а я с Кошичем. Дина, не знаю с чего, хохотала во все горло и, длинная как жирафа, срывала молодые листочки с тополей. Понятно, не ртом, а пальцами. А мне горько думалось: как хорошо было гулять под руку с Машей и как плохо получать такие вот телеграммы! В среду нужно выходить на работу, в среду у Леньки экзамен по алгебре…
— Ты не думай, — между тем говорил мне Кошич, — ты не думай, что я школой погубленный, как про нашего брата, десятиклассников, пишут в книгах. Жизни самостоятельной, трудовой я хотя еще и не видел, но вполне представляю себе жизнь эту. Знаю, что попервости на руках будут мозоли, и знаю, что мускулы будут болеть. Необходимость. На лодке по заливу покатаешься — и то на руках мозоли и спина деревянная. Ничего. Труд, он труд и есть. И ты не думай еще, что если я ленинградец, так морозов сибирских боюсь и медведей на улицах Красноярска рассчитываю повстречать. В разные глупые побасенки я не верю. Приехал работать — значит, работать. Не загорать. Для загара праздников хватит.
Поглядел я на него. Подбородок кверху, рукой воздух рубит. По характеру действительно Казбич, а не Кошич.
— Знаешь, — говорю, а ты мне понравился. Терпеть не могу хлюпиков, хоть из четвертого, хоть из десятого класса. Наша вся бригада такая. Из речников. Закаленные. А теперь мы кессонщики. Понимаешь?
— Не совсем понимаю, — говорит, — но пойму. В сжатом воздухе надо работать. Ну и что же? Сжатый так сжатый. Жизнь не хаханьки. Где надо, поборемся. Люблю. Человек я твердый. Племяннику своему уже дал деру. Зажирел старик.
И это были удивительно не те слова, какие говорил Кошич до этого. Будто вовсе другой парень оказался рядом со мной. В плечах острый, угловатый и с волосами, которые не придавишь даже мокрой рукой.
А Кошич совсем распалился. Я не заметил сначала, какие у него были глаза, но теперь они определенно светились красным огнем. Ночью мне, пожалуй, стало бы страшно. Теперь же только смешно. И противно. Главным образом оттого, что сказал он «дал деру» — ужасные слова, которые и Маша и я ненавидим, — «дал деру» своему племяннику да еще назвал стариком, будто ему самому, Кошичу, было уже сто лет. И потом, Федора Петровича Кошкина я знал. Как заведующего столовой. Все ребята относились к нему с уважением. Кормили в затонской столовой хорошо. И совсем он не был жирным. Сухонький, немного сутуловатый.
— Может, у тебя еще есть племянник? — спрашиваю Кошича. — Если только Федор Петрович, то за что же ему «давать деру»? Хороший человек. И когда он успел зажиреть, сухарь сухарем?
— Деру каждому начальнику давать полезно. Даже для профилактики, — говорит Кошич. — Зажирел Федор не в физическом смысле, а в духовном. Есть такие закономерности: от мучного у людей животы жирком заплывают, а от начальнических должностей — души. Из-за этого я и жить у Федора не стану. Устроился к товарищу одному.
Тем временем мы подошли уже к мосту. Вернее, к месту его постройки. Вода в Енисее после первого половодья чуточку начинала спадать, но по-прежнему неслась мутная, желтая, крутилась воронками возле быков, торчавших над нею не больше как метра на четыре. И я подумал: ох и натворило бы ледоходом дел, если бы не успели вовремя углубить кессоны и нарастить надкессонную кладку. Точно рассчитали инженеры. Правильно организовали работу мастера. Крепко потрудились кессонщики и бетонщики. В общем все строители.
Енисей был похож на загадочную картинку из журнала «Пионер», где возьмут и нарисуют только голые деревья, а читателю предлагают среди них найти восемь зайцев и двух охотников. Начинаешь вглядываться — и действительно обнаруживаешь, что один заяц висит на высоком дереве вниз головой, другой уселся на плечи охотнику, который и сам-то сидит на третьем зайце посреди жуткой, непролазной чащи. И так далее. Постепенно разыщешь всех. А иногда, кроме зайцев и охотников, так сказать, сверх плана, найдешь еще и медведя или окорок.
— Какая большая, но пустая река! — сказал Кошич. — Не видно ни одного парохода. Ах, вон все же тащится…
— Один? — сказал я. — Давай на спор, не менее двадцати насчитаю…
Кошич только пожал плечами. Дескать, один — это, конечно, перехватил он через край. Видно, стоят еще у пассажирского дебаркадера два парохода. Но двадцать…
А я ему пальцем показываю:
— У дебаркадера вовсе не два, а четыре. «Александр Матросов» — гигант трехпалубный. Он прикрыл собой не знаю какой пароход — «Балхаш», наверное. Вон только чуточку мачты видны. А позади еще один, колесный, дымит. Теперь погляди к острову Молокова. Близ самого берега гуськом два буксирных поднимаются. Кусты немного их скрадывают. К баржам с лесом пароходы идут. Дальше, у острова Отдыха. Целая стая барж. А вглядись, среди них — один пассажирский и буксирный один. Пошли еще дальше. Вон, у самого железнодорожного моста, тоже пароход Енисей поперек режет. А другой — черная точечка с дымом — по ту сторону моста. Третий — только дымок — вовсе вдали, на рейде перевалочной базы трудится. Сколько уже? Двенадцать? Хорошо. Повернемся к Затону. Видишь, подъемные краны, как лебеди, шеи выгнули? В затылок под ними стоят, грузятся четыре. Да не баржи, а теплоходы, баржи-самоходки я не считаю. Левее «Лермонтов» пассажиров из Затона везет. На нем я сам сколько лет проработал. Вон…
Ко мне подстроились Тетеревы, и мы насчитали для Кошича не двадцать, а целых двадцать семь пароходов, видимых одновременно.
Парень загорелся теперь совсем по-другому.
— Да-а! Сила!
В общем сказать, он мне понравился. Ничего, если где-то лишнего хватит, а где-то снаивничает. Во-первых, новое место, новые люди, новая обстановка. Во-вторых, как ни говори, жизни большой, настоящей, парень еще вовсе не видел, не знает.
— Погляди, — говорю Кошичу, — на мостовые опоры, как в народе их называют, быки. Вот второй от берега — наш. В нем работаем. Ты когда приступаешь?
— В среду, в конторе сказали.
Так и я как раз в среду снова пойду на работу. Здорово! Значит, вместе.
Смотрит Кошич на быки бетонные, серые. Возле первого причалена маленькая железная баржонка, у второго вообще нет ничего. И ни одного человека на быках не видно, вовсе нет никакого движения.
— Только начнут ли в среду работу? — спрашивает.
— То есть как «начнут ли»? Да там все время и сейчас работают. Круглые сутки.
— А почему не видно?
Он, наверно, хотел спросить, почему наверху, на бетонной кладке, нет никого. Но Дина уже тут как тут.
— Да вы как же людей под водой, под землей увидите? И еще сквозь бетонные стенки! Слушать надо! — и приложилась ухом к столбу забора, которым было обнесено на берегу место стройки. — Сквозь дерево звук проходит великолепно. Слышите? Слышите? Тук-тук-тук… Это в кессоне стучат.
Купила Кошича! Тот тоже приложился ухом к столбу.
— Не слышу…
И сразу сообразил: разыгрывают. Обозлился он страшно. Но теперь уже не дергался. И не краснел. В другой цвет его погнало — в зеленый. А Дина стоит, вздыхает.
— Кончилось. Больше не стучат. Неужели все задохнулись? Страшная профессия! — И глазом косит на меня: — Костя, сколько в этом году было несчастных случаев? Шестнадцать, кажется?
— Слушай, Дина, — говорю я, — несчастный случай был только один. Вернее, будет еще. С тобой. Если тебя Тетерев лично не сбросит сейчас в Енисей, это сделаю я.
— Ну, правда же, Диночка…
Утащил ее Вася.
Кошич мрачный. Смотрит на реку. Понимаю: не только Дина своими шутками его допекла, а и настоящий страх, сам по себе, тоже пришел к нему. Как ни говори, копаться где-то в речном дне, когда над головой у тебя весь Енисей и сотни тысяч пудов бетонной кладки — ну… словом, все это смотря на какой характер, вернее, на какое воображение, а Кошич хотя и храбрился все время, но, конечно, и про кессонную болезнь раньше слышал и про всякие неполадки с подачей сжатого воздуха.
— Ты на это не гляди, — говорю Кошичу, — что движения никакого на быках не заметно. Надкессонная кладка, она тоже своего равновесия требует, бетонщикам забегать вперед против кессонных работ никак нельзя. Они свое пока сделали. Ждут дальнейшего углубления кессона. А туда экскаватор не поставишь. И вообще у нас грунт такой, что хоть зубами его грызи, ничем не возьмешь. Каждое «кубло», а проще — бадью с грунтом, вышлюзовывать нужно. Потому и дело идет медленно. На первый взгляд дело вроде бы даже и вовсе не движется. Но заметь, засеки землемерным инструментом бетонную кладку — она хоть помалу, потихоньку, а беспрерывно вниз, в Енисей, погружается. Кессонщики-то грунт все же выкапывают, выбирают. А что о всяких опасностях говорят, так это…
Кошич усмехнулся:
— Брось! Я из пионерского возраста вышел. И вообще ты мне, как ребенку, не объясняй. Придет день, полезу куда надо и сам во всем разберусь. — Помолчал и сунул мне свою мягкую руку: — Ну, будь жив, Барбин! Рад, что с тобой познакомился. До среды. Зайду по пути в общежитие. Кота гонять коменданту. Пододеяльники ребятам дает непростиранные. А у парней зубов не хватает.
— Нашему мастеру Виталию Антонычу надо об этом сказать. Он все живо наладит. Авторитетный.
Кошич скривил губы. И я заметил, что они бледные и тонкие.
— Ничего. И без «авторитетных» справимся. Свой авторитет заведем. А насчет этого мастера я кое-что слыхал уже. Знаем, что за птица. Дам при случае и ему деру.
— Виталию Антонычу! Да это же такой…
Кошич небрежно махнул рукой и пошел.
Я поглядел ему в узкую спину. Вот, оказывается, чудила гороховый. Всем готов «давать деру». Ну, да ясно: просто форсит, пыжится. Ладно! Шагай, шагай, не обмятый еще жизнью и сжатым воздухом новый кессонщик!
Мне хотелось посоветоваться с Васей Тетеревым. Получалось так, что я все время был в паре с Кошичем, а Вася — со своей Дамдиналией, и общего разговора наладить мы не могли. А шутки шутками, но железноводская телеграмма теперь так и стучала мне в затылок: «Эй, Барбин, как ты в среду пойдешь на работу?»
Попросить продления отпуска на две недели? Могут не дать. План, график. Другим тоже хочется в отпуск. Да я и сам за этот-то месяц весь иссох без работы! Невозможно даже и думать об этом, когда стоишь на берегу Енисея, слышишь, как плещет в каменные быки веселая волна, в те самые быки, которые тебе, кессонщику, надо вроде бы держать на своей спине и вместе с ними вкапываться в речное дно. А ты соображаешь, как бы взять еще отпуск, чтобы варить манную кашу…
Э-эх, пустили бы вместе со мной в кессон Алешку!
— Вася, — сказал я, — понимаешь все же, какая у меня…
Но Дина закричала:
— Казбич! — и потащила Тетерева за собой. — Казбич, куда это вы? И даже со мной не попрощались. Нет, нет, мы вас проводим.
Я сел на берег, на самую кромку обрыва, где осыпается глина, спустил ноги вниз. Над Енисеем метались стрижи. По небу тащились медленные серые облака. Теплоход «Александр Матросов» отвалил от дебаркадера. Его путь на Крайний Север, в самые низовья. Мне бы на нем туда! В кессон тоже неплохо. Плохо — с Алешкой нянчиться.
Попробовал читать. Напечатано: «При работе в кессонах следует учитывать…» А в голове: «Куда девать Алешку?..»
Перенос на другую страницу. Стоп. Как там было? «…следует учитывать…» Перевернул страницу. Но там тоже: «Куда девать Алешку?» Стрижи пищат: «Алешка». Облака — словно подушки, а из них Алешкины розовые ноги торчат.
Глянул на часы. Десять минут пятого. Ленькина вахта кончилась. Лишнего сверх уговора этот парень не посидит, может сейчас же удрать на улицу. Алешка проснулся. Плавает. Кричит. Просит поесть. Да-а… «При работе в кессонах следует учитывать…»
Друзья мои! Все следует учитывать.
Я захлопнул книгу и побежал домой.
Глава пятая Беда и выручка
Алешка не спал. И не кричал. Не просил есть. Совершенно сухой, лежал в своей кроватке на спине и работал ногами, будто ехал на велосипеде. Алешка не кричал, я сам чуть не закричал от радости, что сынище у меня такой хороший, сознательный. Притом непременно будущий чемпион по легкой атлетике: все свободное время тратит на тренировку.
Из кухни пахло чем-то вкусным, жареным. У нас оставалась полукопченая колбаса, твердая и прямая как палка. Утром, когда я на плите кипятил чай, она скатилась со стола, и Ленька нечаянно вместе с дровами засунул ее в топку. Мы долго не могли понять, куда она пропала: кухня-то вся как на ладони! А колбаса длиной почти полметра. И набита не конфетами, не мороженым, если подумать — Ленька съел. Говорю: «Ну, сгорела она, что ли?» Братец мой просветлел сразу, кинулся к топке. Вынул. Пылает с одного конца колбаса, будто факел. У Леньки в глазах торжество: «Нет, не сгорела! И как я ее…»
Так вот, от этой самой колбасы после завтрака еще добрый кусок сохранился. Был маргарин, картошка, лук. Но пахло превосходной жареной свининой, знаете, в такой момент, когда на ней уже темная корочка образовывается. И я с удовольствием подумал, что судьба меня не только сыном, но и братом не обидела, что на этот раз показал себя Ленька в полном блеске, не убежал на улицу, как только окончилась вахта возле Алешки, и сумел даже из обгорелой, сухой колбасы приготовить вкусную, аппетитную пищу.
Правда, учебники лежат на столе нераскрытые. В прямой ущерб алгебре жарит он колбасу. Ну что же, придется простить. Самому надо позаниматься мне с парнем. Хотя, говоря честно, я эту самую алгебру… При всем том, что наука в общем очень полезная.
Заглянул в комнату к Леньке. Маминой раньше была. Сколько лет мама здесь пролежала, к постели прикованная! Но все равно всегда за работой, обязательно что-нибудь шьет на руках. Покамест Ленька в младших классах учился, даже задачки решать ему помогала, по своему образованию. Внуков ей все хотелось дождаться. Не дожила.
Эх, мама, мама! Самое тяжкое, горькое время выдюжила, успела сыновей своих поставить на ноги, а Маша, надежда твоя, уже без тебя в дом вошла. И внук Алешка тоже. Как бы ты сейчас, хотя и параличом обезноженная, радовалась на него, не отпускала бы от себя! Эх, руки, руки твои, золотые, заботливые руки!..
Я вернулся к Алешке. Если бы он действительно ехал на велосипеде, и с таким старанием, то, наверно, подъезжал бы уже к Москве. Теперь я разобрался. Крутил педали Алешка с определенной целью: ему хотелось подъехать поближе к блестящему шарику, который Ленька хитро подвесил так, что в рот его засунуть никак было нельзя. Ловко придумано! Только откуда у нас взялся этот шарик? Алешкины игрушки я знал превосходно, все прошли через мои руки. Это новая. Дядя, что ли, купил любимому племяннику? Если так — молодец. Хотя и на мои же деньги, понятно.
Вообще на этот раз Ленька здорово постарался. Ну, вымыть пол было и всегда его первой обязанностью, правда очень для него неприятной, все равно что по утрам зубы чистить. Но стекла в окнах протирал он только по специальному приказу. Такого приказа, уходя, я ему не отдавал, а стекла сверкали, как хрустальные. И не только стекла — какой-то, сразу даже и неопределимый, был свет, блеск и порядок во всей квартире. Как при Маше. Если не считать брошенного на стол как попало учебника алгебры, все остальные книжки, и Ленькины и мои с Машей, лежали удивительно аккуратными стопками.
Одеяла на кроватях были натянуты так гладко и туго, как кожа на барабане, а подушки не просто взбиты, а еще и посажены как-то лихо на один уголок. Это уже чисто Ленькино изобретение. Вдруг обнаружился у человека многогранный талант!
Входил я в квартиру, честно говоря, со стесненной душой. Вопрос «как быть с Алешкой?» давил меня тяжелее камня. В ясли — дело безнадежное: не возьмут. Перегружены все ясли сверх всякого предела, а желающих отдать туда малышей и еще в пять раз больше. Притом два месяца тому назад приходила специальная комиссия нас обследовать и установила., что у Алешки есть бабушка-пенсионерка, в общей сложности с другими членами семьи парня своим уходом может вполне обеспечить. Пока теперь докажешь, что эта самая бабушка в Железноводске и получила продление, что Алешкина мать в Москве защищает диплом, Алешкин дядя, Ленька, сдает экзамены за семилетку, а самому отцу Алешкиному, хоть убейся, нужно на работу выходить.
Вот такие тяжкие мысли и одолевали меня. А тут сразу полегчало. Да с таким ловким, инициативным братишкой из любой беды можно выкрутиться.
Страшно хотелось есть. Во-первых, подошло как раз обеденное время. Во-вторых, после прогулки на Енисей аппетит разыгрался особенно сильный. И в-третьих, густой свининолуковый запах из кухни прямо-таки кружил мне голову. Я сбросил рубашку, майку, ладошками похлопал себя по голой груди, прислушиваясь, как чугунно гудит она, и побежал под кран умываться. Влетел в кухню и врос, как дерево корнями в землю. У плиты хозяйничал вовсе не Ленька…
— Костенька! Здравствуй, — сказала Шура. — А я и не слышала, как ты вошел. Прости, что я немного посамовольничала, но у меня сегодня выходной день. Была на базаре… Подумала… Ты не сердишься?
От неожиданности у меня не только ноги приросли к полу, прирос к нёбу язык.
А Шура смеялась. Тихонько, ручейком. Одета она была в простенькое, но какое-то очень праздничное, яркое платье. Хлопоты возле плиты ее разрумянили, и от этого белый пушок на щеках словно бы светился, а маленькие губы сделались как наливные, круглые и тугие, особенно нижняя, чуточку лишне вывернутая наружу. Я стоял и все еще не знал, что сказать. Надо, наверное, было все же сперва поздороваться, а я почему-то спросил:
— Где Ленька? — А потом дернулся назад. — Погоди, майку надену.
И Шура снова смеялась.
— Да боже мой! Что тут такого? Умывайся, пожалуйста. Ты ведь дома. Хочешь, я отвернусь? Ну, разве можно так стесняться своих друзей? Ну проходи, проходи же, мойся. У меня все готово. А Леня ушел к товарищу, к Славе Бурцеву, кажется. Костенька! Ну что же ты стоишь?
В самом деле! Я в своей квартире. Для умывания у меня вид вполне приличный. И Шура заходит к нам уже не впервые. Не знаю, друзья мы с ней или не друзья, но все же давно знакомые. Почему меня в этот раз так оглушило?
— Костенька, ну не стой же так. Вот тебе мыло. — Шура непостижимо быстро схватила его с полки над краном и влепила мне с размаху в ладонь левой руки так, что я не мог не сжать пальцы. — Ступай мойся. Обедать будем здесь. Я сейчас хлеб нарежу.
И я начал мыться, потому что все другое было бы просто глупым. Но сам не знаю отчего, я себя не чувствовал по-настоящему дома. Казалось, будто я снова у Шуры в гостях. Только не на теплоходе «Родина», а в ее собственной квартире. И было это, наверно, потому, что Шура мне все время подсказывала, что взять, как сделать, куда сесть.
Обед был приготовлен полный. Когда только она успела! Расставила тарелки, приготовилась суп наливать и остановилась.
— Ленечку не подождем?
«Ленечку!»
— Смешная ты, — говорю, — да если ему удрать удалось, ты и к ужину теперь его не дождешься.
Шура опять взялась за тарелки. И снова остановилась. Откуда-то вдруг в руке у нее появилась бутылка виноградного.
— Может быть, выпьем немного?
И я сказал, что выпьем, конечно. Я знал: если Шура взялась угощать, отказываться бесполезно. Она не стала спрашивать, где у нас рюмки и есть ли они, а прямо налила в стаканы, в каждый чуточку поменьше половины.
Мы чокнулась со звоном, сказали оба враз: «За твое здоровье!» — и я выпил вино в один глоток. Оно было сладкое и очень душистое. Но Шура только чуть пригубила, рывком поставила стакан и отодвинулась вбок, закусив нижнюю губу.
— Костенька! Ох, сколько я тяжелого…
Она все глядела в сторону, и я не знал, есть ли мне суп или не есть. Может быть, спросить, что ее так расстроило? Я начал подбирать слова, но Шура вдруг таким же рывком снова схватила стакан, выпила все до дна, крикнула: «За твое счастье!» — и закашлялась, как это бывает с некоторыми от крепкого вина. Но вино, какое пили мы, было очень слабенькое, десертное, я прочитал наклейку: «Ай-Даниль Пино-Гри».
— Ты вздохни поглубже.
Шура послушалась, но это не помогло. От кашля она сделалась багрово-красной. Сидела, раскачиваясь из стороны в сторону, и, как котенок лапами, болтала перед собой руками. Но теперь она уже смеялась, всхлипывала и смеялась.
— Ой, Костенька, ну что это со мной?
Заплакал Алешка. Шура вскочила раньше меня. Притащила парня в кухню, на ходу меняя простынку. Села, пристроив его себе на колени. Налила в блюдечко супа, накрошила хлеба, взялась кормить.
— Ешь, ешь, мой глупеночек, барбинчик маленький.
И мы стали обедать втроем. Алешка ел суп с большим аппетитом, что редко случалось, когда его кормил я или Ленька. Оттого, что теперь был с нами Алешка, мне сделалось как-то легче, свободнее. Но он сидел все время на коленях у Шуры и, даже когда я звал, манил к себе, никак не шел, крутил головой. Эго уже сердило меня. И забавляло Шуру.
— Вот я возьму и утащу насовсем, — говорила она. — Видишь, он жить без меня не может.
Но тут же напуганно прислушалась, отдала Алешку мне и выбежала из кухни. Через минуту вернулась, забрала парня снова к себе.
— Мне показалось… голос мужской… Снова вошел…
Она крутила рукой, показывая на внутреннюю стену.
Я понял: это о моем тесте.
— Степан Петрович заходил сюда? Он что — меня спрашивал?
— Нет. Меня…
И я снова почувствовал страшную неловкость. Что значит «меня»? Какое могло быть к ней дело у Степана Петровича?
— Ты удивляешься, Костенька? Да, меня… Он сказал: «Вам, девушка, кажется, делать здесь нечего. Зачем вы приходите?» Я ему говорю: «Ну, а если мы с Костей старые друзья? И с Машей подруги?» Он говорит: «Незамужние замужним уже не подруги. И с Константином тоже вы теперь не друзья. Просто знакомые. А к женатым знакомым девушки не ходят…» Вот какой получился у нас разговор. Костенька! Понимаешь, как это жестоко? Но, должно быть, правильно. — Шура грустно усмехнулась. — Ничего плохого один человек другому не сделал. Только женился. И все: они уже не друзья, просто знакомые. Почему же знакомые? Тогда пусть лучше враги. Это как-то понятнее. Обида полной мерой. Удар наотмашь. Костенька, ну почему мы с тобой должны стать врагами?
Я пожал плечами. Я не знал, почему действительно мы с ней должны быть врагами. Не знал, к чему вообще вмешался Степан Петрович. И не знал точно, были ли и раньше мы с Шурой настоящими друзьями.
А она говорила горько-горько:
— Нет ничего тяжелее, когда тебя в чем-либо подозревают, а ты не виноват. И не можешь никак доказать это. Ты прости меня, Костенька, но я твоему тестю предъявила свой паспорт.
— Паспорт? — переспросил я.
Это было так дико: прийти, ну, пусть даже к знакомому в дом и там его родственникам показывать документы.
— Паспорт? — снова спросил я. И говорить мне стало трудно. — А что же ты доказывала паспортом?
— То, что я не «холостая», а замужем, — тихо сказала Шура. — В паспортах об этом делаются отметки. Я не опасная. Ты этого, наверное, не понимаешь. А тесть твой понимает. Правильно понимает. Я ему все, все рассказала. И видишь, он все же не выгнал меня. Может быть, лучше мне просто самой уйти? Навсегда.
В мозгу моем сразу круто переложились рули. Нельзя сказать, чтобы я не понимал значения слова «опасная». Я понимал. Но ведь всякие такие вещи только в кинофильмах бывают. И то главным образом в заграничных. Ну что, в самом деле! С Машей, что ли, я разведусь? И на Алешку по почте буду посылать ей алименты? Подумайте только! Нет, вы хорошенько подумайте: появится «опасная» и поссорит меня с Машей.
— Шура, — сказал я, — ерунда все это! Глупости. Не принимай так близко к сердцу. Что у тебя там еще есть? Компот? Давай сюда.
Я был по-прежнему еще вроде и в гостях, но чувствовал себя теперь совсем как дома. Полным хозяином дома. Степану Петровичу не нравится, как поступаю я, и Шура не нравится, а на телеграмму Ольги Николаевны он так сказал: «Что я — то могу сделать! У меня пароходы. Крутись, Константин, пока как-нибудь с Ленькой». Это мне могло понравиться?
Алешка вертелся у Шуры на руках, «гулил», теребил за уши.
— Друзей своих, Шура, я подбираю себе не по отметкам в паспорте. И мне все равно, замужем ты или не замужем. Но коли замужем — поздравляю! Только что же ты ни разу, и сегодня тоже, не привела с собой своего парня? Показала бы, познакомила. Где он работает?
Шура слегка словно бы запнулась. А может, Алешка больно дернул ее за ухо.
— Разве я тебе не говорила? Ой, барбинчик, цыпа моя!.. Да нет, говорила! Я ведь только что вернулась с Крайнего Севера. Из Норильска. Я одна приехала.
— А-а! Так ты хоть карточку его мне покажи.
— Зачем? И нет у меня… Я несчастливая, Костенька.
Она в каждом разговоре повторяла «несчастливая». Но не объясняла почему. Я не спрашивал. Человек и сам расскажет, если хочет. Но в этот раз у Шуры было столько горечи в словах и в глазах, такая просьба пожалеть ее, что я не выдержал:
— Он подлец оказался?
Шура приподняла Алешку, заслонила им лицо. А когда опустила, оно было уже спокойным, как всегда.
— Ой, ну до чего же славненький он, твой малыш! — вскрикнула она, будто перед этим и не было вовсе другого разговора. — Наверно, даже в самый пасмурный день от него в доме становится светло, как от солнышка?
Держа его на руках, побегала взад и вперед по кухне. Алешка хохотал от удовольствия. Шура остановилась, начала подбрасывать его прямо к самому потолку, и Алешка отвечал на это уже совершенно диким, поросячьим визгом.
— Пора уходить, пора. И никак от него уйти невозможно! — сказала Шура. Устало присела на подоконник, одной рукой прижимая к себе Алешку, другой рукой потянулась за веткой черемухи, на которой была уже мелкая завязь зеленых ягод, не дотянулась, вздохнула, спросила ни с того ни с сего: — Костенька, какой день недели тебе нравится больше всего?
— Не пойму…
— Ну, вторник, четверг и так далее?
— Все равно не пойму. По названию?
— Нет. По самому существу своему!
— Тогда я скажу лучше, какой день мне не нравится. Среда!
— Почему?
— Потому, что в этот день мне нужно снова выходить на работу.
— А-а, понимаю! — сочувственно протянула Шура. — А мне больше всего нравится… Ты, конечно, подумал: воскресенье. Нет! Так было раньше, а теперь, Костенька, мне больше всего нравится суббота. Удивляешься?.. Я очень переменилась. Раньше я вообще путем не представляла, что такое работа. Плавала по реке на теплоходе. В удобной каюте. Писала на стекле картинки. Где и в чем работа, а где и в чем праздно проведенное время, и не различишь. А в Норильске я… В общем, там я поняла, узнала жизнь. Многое. Особенно под конец. — Шура сузила глаза, и они потемнели, стали холодными. — Неделя… И тянется же всегда она! Скучно, однообразно. Как длинная-длинная полярная ночь там, на Крайнем Севере. Но вот наступает суббота. Она словно утро. После ночи тихий, медленный рассвет. — Тряхнула головой. — Костенька, приятно встречать рассветы! Само воскресенье — это уже день. И день, в который все же очень редко сбывается то, о чем тебе мечталось в рассветную субботу. Грустно! Я в воскресенье грущу. А в субботу я мечтаю. Жду. Думаю: вот сегодня кончится однообразная неделя, а завтра, может быть, наступит интересный день. — Шура сползла с подоконника, прошлась по кухне, остановилась. — И лучше вот такое ожидание немного вперед, чем… Словом, лучше журавль в небе, чем синица в руках! Вот почему я люблю субботу. И я, Костенька, понимаю, почему тоже для тебя среда — самый неприятный день.
— Ну, знаешь, Шура, — сказал я, — тебя я мало понял, а ты меня совсем не поняла. Не потому для меня среда неприятный день, что надо на работу выходить и я работу не люблю; неприятный этот день для меня потому, что я работу люблю, стосковался по работе, а выйти не знаю как: Алешку девать некуда.
И я развернул перед Шурой все свои планы, расчеты, предположения, которые явно никуда не годились. И лучшими из которых в конце концов были только два: или мне проситься в дополнительный отпуск без заработной платы, или Леньке провалить экзамены.
— Вот чем мне эта среда неприятна! А если вести разговор по большому счету, так самый лучший день для меня понедельник. Тоже удивляешься? Пойду по твоим же столбам, только другую проволоку по ним тянуть буду. Тебе труд — полярная ночь, скука, а мне — радость. Без работы, без дела — полярная ночь.
— Костенька, я всю жизнь работаю. Так или не так — вопрос другой. Но только не считай меня лентяйкой и бездельницей. У тебя мускулы железные, а у меня в руках твоей силы нет. Ты неправильно сравниваешь.
— Бери по силам. И по душе обязательно.
— Нет, Костенька, нет, этого мало, тут еще чего-то третьего не хватает. Чего — не знаю. И не могу найти. Я рано родилась. Мне бы жить при коммунизме. Когда всего у всех вволю. Я бы тогда сколько угодно работала. И мне не надо было бы думать, что я для себя зарабатываю. А когда для себя, все хочется больше. Получить, накопить больше. Прости, я тебя перебила. Ты сказал, что неделя вся хороша, а понедельник почему-то всех лучше. Что ж, тебе и отдых вовсе не нужен? Не нравится отдых?
— Нет, почему? Ты не так поняла меня, Шура. Воскресенье мне очень нравится. Отдохнешь, освежишься. Но зато, когда воскресенье к концу подходит, и ты начинаешь уже всю будущую неделю видеть вперед и как-то силы на всю эту неделю собирать, расставлять и чувствовать, вот прямо… хоть пальцами пощупать, что ты сделаешь в эту неделю… и все, что рядом с тобой другие сделают… Вж-ж-ж!.. Понимаешь, слов не хватает на это. С таким напором понедельника я всегда ожидаю. Вступаю в него весь, всей своей силой, готовый, собранный…
Мне нужно было, обязательно нужно было вытащить Шуру из круга ее тоскливых, черных мыслей.
Шура насильно улыбнулась:
— Завидую.
— Слушай, — сказал я. — У тебя воскресенье — журавль в небе, а у меня понедельник — журавль в руках. Ты журавля своего и не ловишь, а я его никогда не отпускаю, всю неделю. Вот почему я люблю понедельник. Ты говоришь: лучше журавль в небе, чем синица в руках. А я считаю так: только в руках они и лучше — и журавль и синица, оба. А в небе — толку мало от них.
Алешка головенкой навалился Шуре на плечо, а руками двойным морским узлом оплел ей шею. Видно, парня от моего красноречия на сон потянуло. И Шура делала мне знаки глазами: ты, дескать, потише.
И мне подумалось: «Эх, Шура, Шура, тебя бы в кессон затащить! Ну, кессон, понятно, только к слову: работа в кессоне не девичья. А вот куда-нибудь с народом вместе. Оторвать тебя от тележки с газированной водой и мокрых пятаков. Ведь поняла бы! А там после избирай себе рабочий путь, какой нравится, какой по силам и здоровью, хоть опять к тележке этой самой становись, но уже с другим сознанием».
Этого вслух я не произносил, но Шура все же каким-то образом схватила мои мысли. Иначе почему бы она сказала:
— Костенька, ты говоришь, и я верю. А когда я одна, все не так…
И очень грустное, жалобное вышло у нее это «когда я одна». Такие слова она не раз повторяла. Больше не добавляла к ним ничего. Но было за ними всегда очень ясное: «Ох, Костенька, как мне хочется иметь друзей! Настоящих, хороших друзей».
Разговор наш на этом закончился: Алешка совершенно обмяк на плече Шуры. Пока я налаживал у него в кроватке всякие подкладки и клееночки, Шура ходила с Алешкой по комнате и тихонько напевала ту самую колыбельную песенку, которую она пела всегда и которую сочинили, кажется, еще в каменном веке: «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю…»
Я очень люблю опускать заснувшего Алешку в его глубокую кроватку: спящий, он становится словно бы тяжелее и крупнее. И при этом очень горячий. Приятно держать такого. Когда он засыпает у Маши на руках, все равно я его отбираю у нее. Но Шура этого сделать мне не дала. Плечами, плечами оттерла и положила Алешку сама. Положила, прикрыла одеялом, погрозила мне пальцем — «не шуми», а сама запела новую песенку.
На этот раз запела без слов, тихо-тихо, одну мелодию. Повела ее так, будто не могла вспомнить слова или не знала, петь ли ей эту песенку. Обрывала и начинала снова и опять обрывала. Пела что-то знакомое, и я не мог вспомнить что: музыкальной памяти у меня нет никакой.
Я ушел на кухню. Мыть посуду. Не ждать же, когда еще и это сделает Шура.
Отсюда мне хорошо был слышен ее голос. Теперь Шура пела уже со словами:
Куда бежишь, тропинка милая? Куда ведешь, куда зовешь? Кого ждала, кого любила я, Уж не воротишь, не вернешь.Вот, оказывается, какую! Не очень-то колыбельная, но когда спит маленький человек — все равно, какую ему ни пой. Тут поется уже не для него, а для себя. Своя душа просит песни. Так часто и Маша певала. И я сам. Глядишь на Алешку, а поешь самому себе: «Летим мы по вольному свету, нас ветру догнать не легко…» Почему Шура поет себе эту?
Была девчонка я беспечная, От счастья глупая была. Моя подружка бессердечная… И в голосе чуть не слезы. Моя подружка бессердечная. Мою любовь подстерегла…Вдруг оборвала, перестала.
Через минуту появилась в дверях. Улыбается. Губами одними. А в глазах улыбки нет.
— Костенька, прощай, — говорит. — И прогони меня скорей, что ли. Никак уйти не могу. Нехорошо. Все что-нибудь не позволяет. Вот возьмусь сейчас тебе еще помогать.
Руки у меня мокрые. На плече полотенце.
— Прогнать, — говорю, — Шура, я тебя не могу. Как можно прогнать человека? И за что? Спасибо, что навестила. Уходишь — до свидания. Погоди, руку вытру.
— Не надо, не надо. Я пошла. Пошла. А насчет среды ты не беспокойся. Я все обдумала. Договорюсь с начальством, и в те часы, когда ты на работе, я побуду с Алешечкой. Ты согласен? Тележка моя не кессон. Хотя со сжатым углекислым газом мне дело иметь тоже приходится, мост я все равно не построю. Шучу, шучу, Костенька! Построю. Не этот. Другой. — И уже всем своим лицом, как луна, улыбается. — Начну строить, как ты, с понедельника… А в среду приду обязательно, не подведу.
И тут же словно растаяла. Ни возразить, ни спасибо сказать я не успел. Стоял с тарелкой в руке, с полотенцем и думал: пришла беда, а на беду и выручка.
Глава шестая В кессоне
Во вторник я получил от Маши письмо. На шести страницах. Его можно было бы целиком переписать в эту книгу, такое оно красивое по изложению. Но Маша ужасно не любит, когда я ее письма показываю посторонним. И поэтому я вам расскажу только о самой его сути. Здорова. Очень скучает об Алешке. И обо мне, конечно. Работу свою она закончила полностью. Профессор похвалил. Защита диплома состоится через две недели. А там — скоро увидимся. Очень интересная, глубоко современная наука радиотехника. Еще любопытнее и интереснее заняться бы радиоастрономией…
Тут я чуточку отступлю, сразу скажу: это место в письме мне мало понравилось. Знаю, сперва станет радиоастрономом, а потом улетит. Звезду, на которую людям надо лететь, Маша мне уже показывала. До нее всего несколько миллионов лет пути. Звездочка видом своим так себе. Я бы выбрал другую. Пусть немного подальше, но зато крупную, яркую. Лететь так лететь!
Дальше в письме говорилось о Москве. О сокровищах искусства и культуры. И тут мне показалось: не собирается ли Маша сочинять стихи? Иначе зачем бы ей подряд три раза ходить на встречи с поэтами? И рассказывать об этом так: «Я раньше даже не представляла себе, как это интересно». В конце письма была небольшая приписка: «Костя, ты говоришь, что получил привет от Шахворостова? Вот видишь! Не забывает человек. А ты всегда о нем думал плохо».
Здравствуйте! Мне привет Ильи был то же самое, что устрицу проглотить, а Маша радуется: «Не забывает человек». Что же теперь мне остается? Послать Шахворостову разрисованную открытку, что ли? С букетом роз и надписью: «Без солнца холодно, без вас тоскливо». Такие открытки на базаре у нас с рук продают, рубль штука. Маша, дорогая, даже такой открытки и то я ему не пошлю.
В среду Шура явилась точно, как обещала. Не было еще и семи часов. Все спали, кроме меня. А я поднялся вместе с солнцем. С одной стороны, хотелось дома кое-что подготовить, нехорошо сразу все заботы на Шуру свалить; с другой стороны, просто какая-то неведомая сила подняла так рано. Эта сила действует на меня всегда, когда поворот, большой или малый в жизни моей происходит. А отпуск кончился, — это, как ни говори, большой поворот.
Поработал я гирями, растянул экспандер раз пятьдесят, будто резинку, которую в трусы продергивают, прошелся по комнате, как индийский йог, на руках, постоял вниз головой. Выгладил для Алешки все его запасное бельишко. И только позавтракал — Шура. Ей, наверное, очень хотелось поговорить со мной, но мне больше хотелось скорее спуститься в кессон. Я выстрелил сразу:
— Вот здесь крупа, молоко, здесь пеленки, здесь… — и убежал. Кажется, и не поздоровался и не сказал спасибо, что она пришла.
Но в кессон сразу попасть мне все равно не удалось. До пересмены было еще около часа. Катер стоял, покачиваясь, у берега, без команды, холодный и мокрый от пролетевшего ночью маленького дождя. Небо сверкало чистой нежной синью, а солнце широкими тупыми лучами тыкалось в оконные стекла верхних этажей. Весь правый берег был словно в дыму, и только высокие трубы заводов поднимались над ним. На острове Отдыха уже вовсю работали автомашины и бульдозеры — насыпали, надвигали дамбу, которая ляжет там как продолжение моста. По Енисею, в разных местах, плыло опять больше двадцати пароходов. Как будто специально для Кошича.
Надо было ждать. И я уселся на берегу, свесив с обрыва ноги.
Тут я должен, хоть коротко, рассказать, что такое кессон. Извиняюсь заранее: не инженер, и язык у меня свой, барбинский. Поэтому, кто глубоко предметом интересуется, лучше в кессон спуститься самому. И поработать там хотя бы одну полную смену.
А в общих словах так.
На том месте реки, где быть мостовой опоре, иначе каменному быку, насыпали сначала островок. Из самой обыкновенной гальки. Сперва, понятно, течением ее размывало, растаскивало, но все же человек своего добился. На этом островке, пожалуйста, уже располагайся как хочешь — земля под ногами!
Тут же, прямо на островке, изготовили железобетонную штуку, по форме словно бы коробку из-под сардин. Овальную. Наружным размером чуть-чуть побольше будущего быка, а по высоте, не скажу вам точно, однако в достатке для свободной работы внутри. Дна у этой железобетонной коробки нет вовсе, а в потолке — стальные трубы. Через них и людям спускаться и грунт наверх поднимать, выбрасывать. Вот это и есть кессон.
Пока он над водой — глотай, ребята, обыкновенный красноярский воздух, но вот изнутри гальку начинаешь вычерпывать, и коробка кессона от тяжести своей, ясно, вниз, в яму, ползет, садится. Глубже, глубже и подходит, наконец, нижним краем к уровню Енисея. Тут сразу — стоп! — и вода исподнизу начинает кессон затоплять. А ведь грунт выбирать надо не только до речного дна, а и в дно еще вкопаться, бывает, метров на двадцать или тридцать, пока не доберешься до совершенно прочной, твердой скалы. Как быть?
Тут и идет в дело сжатый воздух. Прощай, обыкновенный! На потолке кессона стальные трубы наращиваются выше, становятся как бы шахтами, на верхних концах с глухими камерами, шлюзами. Вокруг, понятно, деревянные подмостки, леса. В трубах устроены продольные перегородки во всю их высоту. По одну сторону шлюзуются рабочие, по другую — бадьи, иначе «кубла», с грунтом.
Ну, а дальше все просто. Нагнетают сжатый воздух в кессон, он воду и вытесняет. Пожалуйста, копай, долби теперь дно речное сколько тебе надо. Сколько вынешь грунта, на столько и кессон опустится. Хотите — можете весь шар земной до самого центра прокопать. Если давление сжатого воздуха выдержите, которое каждые десять метров повышается на одну атмосферу.
Вы можете спросить: опустится кессон, под ним весь рыхлый грунт выберут, а как же тогда на скальном дне бетонный бык выкладывать? С помощью водолазов? И куда потом сам кессон денется? Он ведь будет мешать. В этом-то и штука, что кессон навеки останется там, в самом низу, вроде фундамента для быка. И никаких водолазов не нужно, потому что бетон начинают выкладывать на сухом потолке, пока кессон в воду еще не погрузился. Кладка идет по кольцу, внутри бык получается пустотелый. Башня. И вот, когда твердо станет кессон на скалу, где ему быть навсегда, всю его полость заполнят бетоном, как пломбу в зуб поставят, а верхнюю, надкессонную часть башни просто сухим камнем и щебнем набьют. Все! Наводи на быки мостовые пролеты.
Чего я еще не сказал? Может случиться, что в ходе работы вся эта штука вкривь-вкось пойдет? К примеру, если сильно подкопать один край или грунт неодинаковой плотности попадется. Может кессоном людей придавить? Водой затопить? Случиться все может. Но для того и существуют инженеры, прорабы и мастера, чтобы не случилось.
А пока я сидел, ожидая начала смены, рвался скорее в этот самый кессон и думал.
Пройдет еще год или два, а может, и три, пока быки станут через весь Енисей и через его протоку, пока насыплют высокую дамбу поперек острова. Потом установят железобетонные арки-своды, которые соединят между собою быки, потом проложат настил, зальют его асфальтом, поставят красивые перила, электрические фонари, навесят троллейбусную линию; откосы берега, тут, где я сижу, облицуют гранитом; всю набережную — и вправо и влево — превратят в цветники. И это все вместе, вся эта красота будет называться мостом. И каждый, кто будет потом свободно мчаться на велосипеде, или тихонечко идти вдоль чугунных перил и вслушиваться в музыку бурлящего, неспокойного Енисея, или важно ехать, сидя в мягком троллейбусном кресле, — всякий будет говорить доброе слово о мостовиках, о том, какой драгоценный и нужный подарок сделали они красноярцам, замученным сейчас трудными переправами.
Интересно вообще, каким будет Красноярск, когда Алешку капитаном теплохода назначат. Алешкин теплоход пойдет, конечно, уже на подводных крыльях, и рейс до Диксона и обратно — шесть тысяч километров — продлится, наверно, не больше трех суток. Пыли и дыма не станет. Наша ГЭС даст столько дешевой электроэнергии, что разве только одним чудакам придет в голову топить печи углем. Улицы не просто поливать, а мыть по утрам начнут. Домашние козы к тому времени все подохнут, и грызть молодые деревья в городе станет некому. Все старенькие деревянные халупы убрать, конечно, еще не успеют, но главные проспекты проложат и набережную отольют по всем правилам архитектуры. Лицо у города должно обязательно быть. Вонь бензиновую как уничтожить? Неужели не удастся ученым автомобили на электрические аккумуляторы перевести!.. Стадион выстроят новый на острове Отдыха. Ни правому, ни левому берегу не обидно, как раз посредине. Чемпионы мира появятся свои, красноярские. Из меня чемпион не вышел. Может, получится из Алешки? Конечно, откроют в Красноярске университет. Маша, если не улетит на свою звезду, определенно в каком-нибудь институте научным сотрудником будет; Ленька — директором пивоваренного завода: к тому возрасту он с газировки на пиво перейдет. Кем в такой семье буду я? Черт! Не начальником же пароходства, хотя Иван Макарович на пенсию уже выйдет. В конторе — нет. Ни за что! Но большое что-то делать, во всю свою силу, должен я обязательно: реки ли запирать, горы ли передвигать, ввинчиваться в небо или в землю — только так, чтобы работа твоя непременно на ощупь заметна была…
— На берегу пустынных волн сидел он, дум великих полн…
— …и катер ждал.
Конец размышлениям. Тумарк Маркин с Володей Длинномухиным за спиной стоят. Вася Тетерев и Кошич приближаются. Из-за угла показался Петя, Петр Фигурнов. Идет, как всегда, чуточку боком и вывернув шею так, словно пятки свои разглядывает.
Представляете, какая сразу пошла карусель?
Вася спрашивает меня про Алешку, Тумарк — про Машин диплом. Кошич — есть ли здесь, на берегу, кто-нибудь старший. Длинномухин выведывает у Петра Фигурнова, бреется он «Невой» или «Арктикой» и что выгоднее: машинку для точки лезвий купить или просто после каждого бритья их выбрасывать? Мне хочется узнать у Длинномухина, как сыграла их команда в прошлое воскресенье. Руки у Володи такие длинные, что он, стоя посреди ворот, свободно перехватывает любые мячи, в любом углу. Володя хвастливо сказал, что, пока футбольные ворота будут прежнего размера, ни одного мяча он не пропустит. А я так же хвастливо ответил Тумарку, что Машин диплом признан самым лучшим за всю историю института. И, в свою очередь, спросил Кошича, зачем ему нужен старший.
Но тут на катере застучал мотор, подошли другие ребята из нашей бригады, и мы гурьбой метнулись вниз, к реке. Я пропущу, как мы плыли по Енисею до нашего островка, как потом взбирались по подмосткам наверх, к шлюзовым камерам. Кошич ворвался в прикамерок самым первым.
— Не трусишь? — спросил его Петр Фигурнов, когда железная дверь за нами задвинулась, чмокнула так, будто слоны поцеловались. Все уже знали, что Кошич новенький.
— Я предупреждаю, — сказал Кошич, — никаких советов мне давать не нужно. В помощи тоже я не нуждаюсь. Сами с усами.
И невольно поднес руку к верхней, безусой губе. Ребята захохотали. А я засмеялся. Я посочувствовал Кошичу. Кому из нас по самому зеленому мальчишеству не хотелось старше быть? Умней и опытней. В мои девятнадцать лет, к примеру, вообще никого умнее меня на всем белом свете не было!
И я сказал:
— А давайте, ребята, не будем дразнить человека.
Вася поддержал:
— Я думаю, Барбин правильно говорит. Кошич куда моложе каждого из нас. Надо окружить его товарищеским теплом. Я думаю, мы так и сделаем. Мне хочется, чтобы Кошич не чувствовал себя среди нас новеньким.
Вася заготовил длинную речь.
Еще немного таких слов, и Кошич взбесился бы, потому что он искал равенства с нами, а не жалости к себе и сострадания. Но тут мастер Виталий Антоныч открыл кран. Зашипел, засвистел сжатый воздух, к все притихли.
Конечно, ничего особенного в этом нет, не все же каждый раз прислушиваешься, как сжатый воздух выходит из трубы, и к самому себе, какие он делает в теле твоем перемены. Не ручаюсь, точно ли так у других, но у меня всегда начинается с того, что вроде бы в уши мне вложили комочки ваты и кто-то усердно с обеих сторон все глубже заталкивает их карандашами. И не зажми тут быстренько пальцами нос и не подуй изнутри в уши — так и продавятся карандаши насквозь и где-то в самом центре головы встретятся. Лоб, все лицо становится будто обмотанным теплой марлей, которая потихоньку вся стягивается туже и туже, пока тебя не бросит в жар до самых пяток. Но это все недолго. Когда подкачка воздуха закончится, давление сравняется и ты опустишься уже в самый кессон, прохладный и сырой — разницы ни в чем не чувствуешь, словно работаешь в открытой яме на берегу, если не считать страха, который каждого сперва здесь давит. А вдруг прекратится подача воздуха? А вдруг кессон войдет в плывун и приплюснет тебя ко дну, как лягушонка? Но в общем этот самый сжатый воздух мне даже нравится так же, как сгущенное молоко в банках. Оно вкуснее и сытнее. Только сжатый воздух всегда немного маслом машинным припахивает.
Как ни храбрился Кошич во время шлюзования, настоящим кессонщиком он не выглядел. То беспокойно лез пальцами в уши, то двигал челюстями, будто жевал бифштекс из столовой своего племянника, то разминал тихонечко кадык или вытирал испарину со лба. Но это все мелочи, ерунда, главное — лицо у него все время было веселое.
С нами вместе спускался и мастер Виталий Антоныч. Человек с огромным стажем кессонщика. Он шутя говорил: мостов построил столько, что приткни их один к другому — хватило бы вдоль всего Енисея протянуть. Вычислениями заниматься не будем, шутка есть шутка, хотя Енисей тоже есть Енисей. Но знал Виталий Антоныч свое дело великолепно. Знал, как быть, когда кессон одним краем на крупный валун сядет; знал, когда и сколько прибавить или сбавить давления воздуха, чтобы и вода в кессон не сочилась и чтобы «ножи», края кессона, легче в грунт врезались, потому что тугая воздушная подушка очень мешает этому. Попробуйте большой мяч в землю вдавить. Как он станет вашу руку отталкивать!
Пока давление воздуха в прикамерке выравнивалось, Виталий Антоныч все время заботливо поглядывал на Кошича. При входе в трубу подстраховал рукой: «Осторожнее, юноша». Так, за плечами у Кошича, и в кессон спустился.
От предыдущей смены здесь остались целые вороха гальки. Значит, наша первая забота — выдать ее наверх. Работа не так интересна, но если вникнуть умом, где бы он, этот кубометр грунта, ни был, с краю ли, посредине ли, он место занимает, и пока не уберешь его, не выдашь наверх, на какую-то долю сантиметра и бык все равно не опустится.
Для меня неинтересной работы не бывает. В любом, казалось бы, самом скучном деле я найду себе интерес. Первый — в самой работе, в том, какую найти для нее красоту движения — без красоты движения я труда не понимаю; в том, как доставить радость всем своим мускулам, сердцу, глазам, всему телу, чтобы работа была тебе как сальто в прыжке с вышки, как слалом на лыжах, жим штанги, бросок копья. А второй интерес — видеть не только то, что сейчас руки делают, а весь результат, к какому работа твоя приведет: копать вязкую глину в кессоне, а видеть гранитную облицовку быка, волочить грязное кубло с галькой, а видеть, как по мосту бегут сверкающие лаком автомашины.
И как только камень захрустел у меня под ногами, а в руках оказалась лопата с налощенным черенком, я почувствовал: эх, и стосковался же я по работе!
Ладони у меня горели. Горячо становилось в груди, горячо и как-то тесновато, но я замечал, как постепенно разминаются у меня мускулы, и мне уже ничего им не нужно приказывать — они сами все делают.
Готова горка из гальки. Подрезать ее, пусть тяжестью своей галька на лопату сама наползает. Не втыкать инструмент в упор, а вдвигать, слегка покачивая, пошевеливая. Ага! Как в масло идет. Ручку ниже. Прохлада в теплой ладони. Правым плечом поворот. И выпрямить ноги. Лопата с галькой сама на весу. Качнуться назад. Вперед пошла! И снова. Снова…
Не знаю как, если глядеть со стороны, а для меня красиво. И потому свободно, легко.
И тянет: еще, еще… Быстрее! А быстро — некрасиво никогда не бывает.
Я поддевал лопатой гальку, склеенную липкой глиной и сверкающую, как алмазы, в электрическом свете, а сам соображал: поставят или не поставят скульптуры у въезда на мост? Мастера есть свои, красноярские, мрамор или гранит тоже свой, изобразить есть кого, хоть из истории, хоть из нашего времени — город знаменитый. Мне очень хотелось, чтобы скульптуры поставили. Я выворачивал крупные камни ломом и думал: Маша приедет, нужно будет обязательно посоветоваться, куда и кому об этом написать.
— Давай, давай! — подмигивал Тумарк. Брезентовая куртка колом стояла у него на спине.
Вся беда была в шлюзовке. Уйдет кубло наверх, и жди, пока там уравняют давление, выкатят, опростают посудину, да снова вкатят, и снова в обратном порядке начнут нагнетать сжатый воздух. Кубла есть запасные и насыпать их тоже недолго. Если бы не эти шлюзовки, мы бы не знаю сколько за смену выдали грунта!
Когда наступали такие заминки, Виталий Антоныч командовал:
— Отдыхай!
Вася Тетерев уточнял:
— Дыхание редкое, ровное, тело расслабить.
Но тело расслаблял, наверно, только сам Вася Тетерев, и то вряд ли, а мы затевали возню, толкали друг друга в бока либо подбрасывали камешки и ловили. Глядели в жерло стальной трубы, из которого все время помаленьку сыпался мусор, но сыпался больше, когда в шлюзовой камере давление выравнивалось с нашим, и мы тогда высчитывали, скоро ли опустится кубло.
Мне нравилось подходить к шершавой, кисло пахнущей стенке кессона, представлять себе, как там за ней, выше тебя, Енисей перекатывает по дну грузные камни, волочит сухо шуршащую гальку. И мне хотелось показать Енисею язык. Вот как, дескать, Костя Барбин перехитрил тебя. И если бы это была другая река, я так бы и сделал. Но Енисею, как родному отцу, язык нельзя было показывать.
Камешками поигрывали все, даже сам Виталий Антоныч, только Кошич не играл. Но тоже пересыпал их из ладони в ладонь, а некоторые прятал в карман. Наверно, собирал коллекцию.
Никто не спрашивал, как он себя чувствует. Работал он как все. Не хуже. Только иногда вдруг становился столбом и опускал руки.
— Минутку, — обязательно говорил он в таких случаях.
Ясно: уставал с непривычки. Хотя, по совести, конечно, и все мы тоже уставали. Нет, пожалуй, труда тяжелее, чем у кессонщиков.
Кубло опускалось, и мы сразу же все набрасывались на него, словно котята на валерьянку.
Позади стучала «хлопушка» на трубе, по которой гонят в кессон сжатый воздух. Она была вроде как общее наше сердце, ровным стуком своим соединяла всех вместе. А с Кошича снимала страх — я видел, как он тревожно оглядывался, когда «хлопушка» останавливалась хоть на минуту — прекращалась подача воздуха. Но это не в упрек. У кого из новичков душа не сожмется, если представить — случилась авария?
Стали попадаться крупные валуны, гладкие, как спина у борца Ивана Доменного. Иной подхватишь целиком — и в кубло. Другие разбивать приходится. Пока без взрывчатки. Кувалдой. Идет в глубину «занозой» — подработаешь вокруг отбойным молотком.
Кошич все перепробовал, без жадности, без интереса к новому, с холодным лицом, и все. Но не скажешь, что искал работу, где полегче. Тумарк Маркин даже несколько раз его останавливал: «Давай вдвоем». Кошич сердито отмахивался: «Не мешай». Улыбался. Но улыбка у него постепенно становилась все злее.
Виталий Антоныч ходил, тыкал ломиком под «ножи», соображал, нельзя ли рывком сбросить давление, чтобы кессон сразу поглужбе вдавился в грунт. Пугали валуны. Не получился бы перекос!
А Вася Тетерев говорил ему:
— Почему не рискнуть? Я думаю, рискнуть нам вполне возможно. — В очках у него светлыми брызгами отражались огоньки электрических лампочек. Васю никогда не грызли сомнения.
— Завтра, — решил Виталий Антоныч, — надо хорошенько с «легендой» свериться.
Брал из рук у Володи Длинномухина конец троса, свисающий от лебедки, и набрасывал замок на кубло, показывал: «Так вот способнее…»
Как пролетела эта первая наша смена — всего четыре часа, — я и не заметил, пожалуй, не успел даже прогреть самую сердцевину костей, размять все до единого мускулы. Вдруг — стоп! — кубло наверх пошло, и Виталий Антоныч объявляет:
— Смена кончилась. Готовься к выходу.
Работали мы здорово, но на глаз не очень заметно. Была груда камней посредине. Такая и остается. Прежнюю убрали, новую нагребли. Эх, на открытом месте экскаватор пустить бы! Видел я в кинохронике, как ковры делают, женщины на них вручную узелки завязывают. День пройдет, тысячи узелков завязаны, а ковер всего на один сантиметр прибавился. Так и на наших грунтах в нашем кессоне. В общем-то по сантиметрам подвигаемся. Работа только ручная.
Поднялись в прикамерок, на ногах сапоги резиновые попискивают, брезентовые куртки, щеки в благородной речной грязи. Давление быстро снижать никак нельзя, сжатый воздух из крови через легкие не успеет выйти, и тогда расширится у человека прямо в сосудах. Кровь вроде бы закипит, вся наполнится пузырьками азота, как шампанское, когда сразу выдернешь пробку из бутылки. Начнется кессонная болезнь — «заломай». Боль — не пошевельнешься. Тогда средство одно: скорей в специальную камеру, снова под давление. Полежишь часочка четыре, не меньше, пока заново, теперь уже по самой малой капельке, из тебя, из крови твоей начисто сжатый воздух не выгонят.
За время работы внизу к высокому давлению полностью привыкнешь, и я уже говорил: я его люблю, сжатый воздух, но все-таки, когда вот так поднимешься наверх, в прикамерок, и кран откроют хоть на волосок, сразу это без всяких приборов поймешь — дышится иначе, и мелкие приятные мурашки по телу бегут. И еще нравится: по натруженным мускулам словно бы прохлада идет.
Стоим. Можно сказать, натуго. В самом кессоне куда просторнее. А не сравнишь — над землей ты или под землей, вернее, под Енисеем. У всех лица веселые. Только один Кошич почему-то хмурится.
— Таким способом еще Ермак мост через Иртыш строил.
— Ермак мостов через Иртыш не строил. Не искажай историю.
Это Тумарк Маркин. Насчет искусства и насчет истории при нем разговоров не затевай, он в этих делах собаку съел. И даже шуток никаких не принимает. В истории вольничать с фактами нельзя. Скажи Кошич «при царе Косаре», Тумарк не прицепился бы. Но Кошич а тоже вдруг забрало.
— Не на Иртыше, так на другой реке строил, — сказал он резко, будто сам работал в кессоне вместе с Ермаком. — Не в этом дело. Главное — в наше время так строить нельзя.
— Совершенно справедливо. А как надо? Позвольте узнать, юноша, — в усы улыбаясь, спросил Виталий Антоныч. — У вас есть конкретные предложения? Вы за какой способ?
Надо всем этим следовало бы, конечно, только посмеяться, тем более что в наш разговор с желанием пошутить вступил Виталий Антоныч, мастер высшего класса. Но Кошич от шутливых слов Виталия Антоныча взвинтился еще сильнее.
— Это не мое, а ваше дело — выдвигать предложения! — рубанул он, словно Виталий Антоныч был, как и он, такой же мальчишка. — Я рабочая сила, а вы мастер. Вы денег больше, чем я, получаете. Я пешком хожу, а вы на казенном грузовике ездите. За нашу работу вам премии начисляются. Знаем, как…
Мы заорали сразу все: «Свинья!», «Молчи!», «Как смеешь?», «Проси прощения!» А я от характера своего даже малость помял Кошичу брезентовую куртку. Грудь узкая, как раз по моей руке с растопыренными пальцами.
— Костя, не надо, — сказал Тумарк. — Человек новый.
У Виталия Антоныча обиженно дергались губы. Он ничего не ответил Кошичу. Молчал и все ловил, ловил дрожащей рукой усы.
Расстроенные, мы выходили из прикамерка, когда давление воздуха в нем сравнялось с обычным: отодвинулась дверь, и перед нами открылся вид на город, еще более солнечный, чем утром. Сердитые садились в катер. Вода плескалась у бортов холодными огнями, из глубины выпучивалась желтая муть, вонючий дым солярки от дизеля ветром несло прямо в нос.
Черт его знает! Работал всю смену парень хорошо и с нами тоже вроде бы особенно не заносился. С чего он так глупо и дико оскорбил достойного человека?
На берегу, аккуратно отминая засохшую грязь с рукава, Вася Тетерев сказал Кошичу:
— Ты очень нехорошо поступил. Тебе непременно следовало извиниться. Я не понимаю, почему ты не сделал этого сразу же. Я думаю, ты сделаешь это завтра. Правильно?
Все сказали: «Правильно». А я подумал: «Почему завтра? Надо было заставить сегодня».
Но Кошич только пожал плечами:
— Вот он, грузовик, — кого стоит дожидается? Я их, «этих», еще не так за ушко да на солнышко буду вытаскивать! Кому пешком со мной по дороге?
Сделал ручкой: «Будьте живы!» — и стал один подниматься в гору по сыпучему песку. А мы, остальные, все вместе, бригадой, прежде чем пойти в душевую, завернули в павильон и молча выпили по кружке пива. Строго — только по одной.
Получилось сегодня что-то не то.
Глава седьмая Не нужен мне берег турецкий
Мальчишкой я хотел походить на очень многих, но обязательно знаменитых людей. Понятно, только судьбой, а не лицом и здоровьем, потому что у знаменитых людей хорошее здоровье редко бывает. Фантазии детские не в счет. Теперь я Костей Барбиным хочу быть, и никем больше. Даже судьбой своей. Мне не нужно людей одинаковых.
Но при всей своей ни на кого непохожести, если люди работают сообща, отделять себя от других, уж извините, тоже никак невозможно. Назвался груздем — полезай в кузов.
С Кошичем мы никак не могли сладить.
— Будь как все, — говорили ему.
— А почему? — отвечал он. — У меня своя индивидуальность.
И эта его «индивидуальность» была такая: он все время вступал в споры с любыми начальниками. Да не просто вступал, а дерзил, фыркал на них и непременно в чем-нибудь обвинял. За пять дней, что мы вместе с ним проработали, пять раз он и с начальством позубатился. Кроме Виталия Антоныча, еще с двумя мастерами, с начальником цеха и даже с главным инженером строительства. Не считая «деру», который он время от времени давал коменданту общежития. Прощения у Виталия Антоныча он и не подумал попросить. Пошла уже молва про нашу бригаду, что какой-то «железный» парень в ней появился, никого не боится. Сказали мы об этом Кошичу.
— Правильно, — ответил он. — Железный! Буду всегда так с начальством держаться. Правда, она только железных и требует. Подарочков начальники никогда от меня не дождутся.
— Каких «подарочков»?
Кошич в щепоть сложил пальцы, пошевелил ими: на взятку намекает.
— Вот каких! Вы что — газеты не читаете? Сколько там всяких Виталиев Антонычей мелькает?
Ого! Да у нас здесь, на мосту, сроду не бывало этого, чтобы мастер или прораб чего-то от рабочего взял. На пароходе тоже я сколько работал матросом. И чтобы капитан или штурман…
— Знаешь, — говорю, — ты полегче. Виталий Антоныч мягкий, тебе спустил, другой, гляди, не спустит. И нас всех ты этим оскорбляешь.
А Кошич:
— Ты высказался? Ну и ладно. А у меня свой взгляд на это. Почему он должен совпадать с твоим взглядом?
— Ты докажи!
— Докажу.
Так и отступились от него. Покуражится — перестанет. Правда, Вася Тетерев пообещал нам:
— Ребята, поговорю я с Дамдиналией. Я думаю, Дина его поправит. Она умеет поправлять. Мне очень хочется, чтобы она его поправила. Парень-то в глубине он неплохой.
И действительно, во всем остальном Кошич был парень хороший. Работал на совесть. Уставал быстрее других, но не жаловался, не говорил, что ему тяжело, руки-ноги болят. Полной сноровки еще не приобрел, но лопатой, ломом, отбойным молотком, любым инструментом действовал уже как следует. Я бы сказал, у него оказалась просто очень хорошая зоркость рабочая. Всякий полезный прием немедленно схватит, запомнит. Но спросить никогда никого не спросит. Попробуешь ему по-дружески посоветовать — зарычит: «Уйди, я сам!»
На работу Кошич приходил точно вовремя. Обязательно первым забирался в прикамерок. Не хватался больше за уши, когда подадут сжатый воздух. А с работы, из кессона, каждый день уносил с собой горсточку мелких камешков. Каких попало, совсем некрасивых и одинаковых. Теперь уже ясно, не для коллекции. Спросил я:
— Все же зачем?
— Так, — сказал он. — Придет время, увидишь. Может, я мальчик с пальчик, по этим камешкам покажу дорогу к людоеду.
Вообще-то я мало верил, что Дина поправит Кошича. Своими издевками она скорее только еще больше его остервенит. Как с первого дня она настроила к нему свой тон, так и выдерживает: «Казбич, Бэла». Не очень-то этим поправишь! А неладно, ну, просто очень нехорошо, если в нашей дружной бригаде вот так будет что-то углом выпирать. И отчего это Кошич никого, по сути дела, не любит?
С такими мыслями я возвращался домой после пятого дня работы.
Был понедельник. Утром Шура меня поздравила:
— С приятным днем, Костенька!
Это значило, что она помнит наш разговор.
Наверно, именно ради понедельника Шура приготовила и особенно хороший обед. Я ей каждый раз говорил: «Этим не занимайся, только приглядывай за Алешкой. Обеды варить мы с Ленькой и сами мастера. В крайнем случае в столовую можем сходить». Но она свое: «У меня все равно время свободное. Малыш мне руки вовсе не связывает. Готовлю я так, между прочим, ради своего удовольствия. Мне ведь тоже надо покушать».
Самые первые дни мне было просто не по себе от этого, а потом ничего, привык. Ленька, так тот даже и от мытья посуды стал увиливать. Пообедает — и на улицу, Закон природы: перестанешь пашню пахать — и сразу травой зарастать начнет. Шура, пожалуй, это даже поощряла: «Да ничего, я сама быстренько вымою». И мыла. А вытирал посуду я.
Но все эти дни, как ни весело держалась Шура, что-то ее томило. Словно по солнцу темное облако вдруг пролетит, задумается на минуту серьезно-серьезно, а потом пересилит себя и засмеется. Но засмеется невесело, тут же в горле смех у нее и погаснет.
Видно было, что Шуре очень нужно выговориться. И не по пустякам. Это я заметил еще в самое первое утро, когда убежал на работу, не сказав ей даже «здравствуй». Задержись я тогда, она сгоряча бы открылась. А теперь почему-то никак не может.
Надо человеку помочь. В конце обеда, когда Ленька, выпив и свой и Шурин компот, убежал под черемуху с учебниками под мышкой готовиться к очередному экзамену, я сказал:
— Шура, давай начистоту. Все время ты что-то недоговариваешь. Что?
Она так сразу и съежилась. А голос стал как простуженный.
— Нет, я не знаю…
— Неправда!
Этим коротким, сильным словом я будто сбил обруч с бочки — сразу брызнула струйками вода.
— Костенька… Это так неприятно… Я не знаю… Ты можешь подумать… Ты не так можешь понять… Костенька! Ну, я не могу. Я никак не могу это сказать. — А сама двигала руками по столу, мяла, комкала уголки скатерти и не могла договорить. Решалась, решалась. Наконец: — Получила письмо от Шахворостова…
Я прямо покатился со смеху. Подумайте сами, ждал чего-нибудь страшного, и вот…
— Да пожалуйста, получай хоть сто! Мне-то что?
— Костенька, в этом письме он пишет о тебе… К тебе… Мне так неприятно. Ну, зачем он мне пишет!
Я захохотал еще сильнее.
— Да чего ж тут страдать? Шлет приветы мне! И пусть! Вон Маша говорит: «Это замечательно, дорожить надо». Принимаю. Никуда не денешься — соседи.
Но Шура по-прежнему подавленная, скучная.
— Я не хочу, чтобы ты думал, я с ним дружу. Надо бы просто… изорвать это письмо! Зачем он через меня? А не сказать теперь уже я не могу.
— Да что там в письме такое?
Шура вскочила, взяла с подоконника свою сумочку, достала письмо и тут же смяла, стиснула в кулаке.
— Костенька, я не должна давать тебе… Противно…
— Дай!
Написано карандашом, коряво, неграмотно. Еще бы! Дальше «всеобщего обязательного образования» — четырех классов — Илья не пошел. Я стал читать вслух:
«Ваше величество., королева…» Ого, как он тебя! Какого государства?
— Так это же моя фамилия — Королёва. Ну, а я не знаю…
— Понятно. Илья в веселом настроении, «…это письмо посылаю с попутчиком…» Видно по всему. «… Дело такое: сеструха моя во Владивостоке села за спекуляцию иностранщинкой…» И это понятно. Какие она деньги всегда переводила Илье? За счет чего и до хулиганства он докатился? «… И здесь уже вызывали одну. Того и гляди, в протокол я сам попаду…» Правильно! Милиция, она знает свое дело. «… Выручай, ты в этом тоже была не святая…»
Я бросил письмо на стол. Как лягушку, гадко было держать его в руках. Шура испуганно трясла головой, круглые, полные губы у нее побелели.
— Нет, Костенька, нет!.. Это он давнее вспомнил. Я ничего, ничего сейчас не знаю. Не понимаю даже, почему он мне пишет. — Она заплакала, как бывает, плачут маленькие детишки — не слезами, а тоненьким-тоненьким голосом, от которого становится больно. — Разве бы я тебе показала?
Что правда, то правда. Вполне могла она это письмо мне не показывать, если совесть у нее не чиста. А Илья что же, это известно: он мертвой хваткой всегда любого берет, было бы за что ухватиться.
— Ладно, Шура. Читай сама. Если действительно нужное есть ко мне. А прочее пропускай. Знать не хочу.
Она взяла письмо, расправила смятые углы и тем же сдавленным, тоненьким голосом стала читать:
— «…мне могут пришить еще и спекуляцию, тогда я засяду здесь вовсе крепко…» Нет, не это. Вот: «…мне обязательно надо выйти отсюда, пока и меня не запутали. Тогда я все мигом погашу, я знаю как. Попались дураки. Теперь, как в песне поется: «…летят они в жаркие страны, а я не хочу улетать». Передай привет Барбину и скажи ему: пусть он поговорит со своим тестем, Терсковым, тот в приятелях с начальником пароходства, а начальник — депутат Верховного Совета, позвонит кому надо — и скостят Шахворостову хулиганство. А от дела за спекуляцию я тогда и сам уйду. Мне важно на волю. К чертям пока нейлончики всякие. Свобода дороже. Конец! Буду работать. Понимаешь: «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна». Скажи Барбину, что дружбу я помню, а все остальное забыл и что три тысячи мои — черт с ними…» Костенька, дальше я не могу!
Я выхватил у нее письмо, заглянул в самый конец, который Шура не решилась прочесть. Там было: «Пишу тебе, королева, от тебя Барбин легче растает. Выручай». И подпись: «И. Шахворостов».
Шура следила за мной испуганными глазами и повторяла:
— Зачем он это? Это неправда, Костенька, это неправда.
Вот это гусь! «Барбин от тебя легче растает…» Жди, жди. «Растает». А Шура молодец! Она не стала потихоньку выполнять поручение, честно и открыто обо всем сказала мне. Понятно теперь, почему она и пять дней мучилась, показать письмо не решалась и не могла его бросить в печку: ведь Илья все равно ответа потребует. Он рассчитывает на нее: «Барбин растает…»
Чем я дольше раздумывал, тем сильнее закипала во мне злость. Просчитался Илья, просчитался! Напиши он прямо мне, да не с таким нахальством, как вот это письмо, а от чистой души, если действительно он решил работать честно, вместе с товарищами, — и я бы не только с тестем своим, Степаном Петровичем, поговорил, но еще и со всей нашей бригадой. Почему не помочь человеку, тем более что и Маша все время за него заступается? Но «растаивать» через Шуру меня…
Выходит, о самой-то Шуре что же он думает? И мне припомнилось, как он называл ее давно, еще когда мы все вместе на теплоходе «Родина» плавали. Мне и тогда слушать это было противно, и не верил я, а теперь не верю и вовсе. Сидит передо мной хороший человек, товарищ. Что я могу в вину поставить Шуре? Только одно. Да, было, приготовила Шура фальшивую посылочку в Нижне-Имбатское под нажимом Ильи. Было. Красивая, сильная, а дух оказался у нее слабоват. Но навек, что ли, за ней теперь все это записывать? А вот другое: не по обязанности вовсе, не из корысти приходит, помогает мне. Как друг.
Плачет. Верная пособница Ильи не стала бы плакать, не отдала бы мне письмо. Она бы из кожи вон добивалась того, чего требует и ждет от нее Шахворостов. Не дождется!
— Костенька, ты не веришь ему?
— Не верю! И письмо это — вот!
Я открыл дверку плиты и бросил его. Там еще тлели угли. Бумага стала желтеть, корчиться и вспыхнула бледным пламенем.
Но лицо Шуры не стало спокойнее, прежняя тревога одолевала ее.
— Костенька, а как же…
Она думала, что ответит она Шахворостову.
— Не беспокойся… Илье отвечу, напишу я сам.
— Ой!..
— Ничего. Боишься? А он и не догадается, что письмо ты мне показывала. Я так напишу… Сумею.
Подошел, встряхнул ее за плечи: ободрись!
Шура недоверчиво покачивала головой, ей хотелось вставить какое-то свое слово, а я не давал. Мне было просто смешно от ее нелепой тревоги. Уж если я полностью все взял на себя — чего ей сомневаться? Илья рассердится? Ну, пусть посердится. Один раз кулаком я его опрокинул. Тоже за Шуру. Могу и еще. Так сказать, по потребности.
— Все! — Я даже ладонью к столу пригвоздил это слово. Мне надоел Шахворостов. Понедельник, самый лучший день у меня, он сегодня испортил. — Шура, все! Включай музыку.
Для удобства мы обедали, как всегда, прямо на кухне. Для удобства тут же висел на стене и маленький динамик. Пока я был холостой, радио у нас гремело с шести утра до часа ночи, то есть полностью на всю абонементную плату. Но когда хозяйкой в доме стала Маша да еще Алексей Константинович появился, этот бедный динамик прямо сжался от страха: не смей и пикнуть, если Алешка спит. А спал он много. С Машей, вы сами понимаете, бороться мне было нельзя. Подчинился. Привык постепенно. И теперь, когда остался один, даже если Алешка не спал, я просто уже забывал включить радио.
Шура повернула ручку.
Диктор читал: «…компостные кучи следует перелопачивать ранней весной, как только оттает земля».
Земля давно уже оттаяла, перелопачивать мне было нечего, а неприятный разговор о Шахворостове хотелось поскорее чем-то сгладить. И я предложил Шуре сыграть со мной в шахматы. С легкой Машиной руки у меня необыкновенный интерес к ним появился. А Ленька соглашался играть только в том случае, если я давал ему «фору» — королеву и обоих коней.
Но Шура заторопилась:
— Нет, нет, Костенька, я никак не могу. Спешу. Подходит мое рабочее время, надо на базе еще сироп получить. И потом, я так плохо играю в шахматы.
— Пожалуйста, — сказал я. — Хочешь, могу отдать королеву.
Шура внимательно посмотрела на меня, потеребила концы косынки, лежавшей у нее на плечах. Тоненькая и жалостливая улыбка шевельнула ей губы.
— Костенька, не отдавай королеву, — выговорила как самую большую просьбу.
И ничего не стала больше слушать, убежала. На пороге в самый последний момент обернулась, спросила:
— А королева от шаха может защитить короля?
— Я сказал, что, конечно, может. Почему бы нет?
А когда остался один, мне вдруг подумалось, что все эти слова о королеве Шурой были сказаны не просто, а с каким-то вторым значением. Ее фамилия — Королёва. В королевы Шуру Илья возвел. «Не отдавай королеву». Кому? Шахворостову? Шахво… Шах… «Может королева от шаха защитить короля?» Забавно!..
Или мне в голову лезут глупости, или Шура просто поиграла остреньким язычком? Это она всегда умела.
Алешка дал подходный гудок. И я поспешил к нему.
Эх, скорей бы Маша приехала! Понимаете сами, мужчина не будет говорить: «Ах, скучно, грустно…» Мужчине не может быть грустно. Жить я могу. Живу превосходно. И скучно без Маши мне не было. Все дело в том, что я без Маши, по сути дела, и не оставался. Маша была все время тут. На стену посмотришь, на фотографии — Маша. Рубашку, ею сшитую, наденешь — Маша. К столу сядешь, руки на скатерть положишь — под пальцами вышивка Машина. Газету «Красноярский рабочий» начнешь читать — на ней фиолетовый штемпелек: Набережная, 5, кв. 7, М. С. Барбиной. Откроешь шифоньер — сплошная Маша, Алешка орет — Маша. И наконец, я ее каждую ночь во сне вижу. Но все равно. Не знаю, как сказать, а… трудно без Маши. Трудно с Алешкой дотянуть до ее приезда.
Шура, конечно, будет ходить, пока не скажу: «Спасибо». Но все это…
Ленька пропал. С самого обеда. Шура сказала, пошел к Славке Бурцеву! Ладно. Пусть. Они к экзаменам вместе готовятся.
И только я это подумал — под окном голоса. Верно: Ленькин и Славкин.
— Пока! — кричит Ленька. — Так я советую: лучше в обшлаг засунь. Подпори и засунь. Я знаю.
Вот черти! Оказывается, шпаргалки готовили.
— Ладно, — кричит Славка. — Лёнь! А здорово сквозь огонь скакал этот Гурзо!
Еще раз черти! В кино два часа просидели.
Я стал укладываться в постель. Алешка, пока заснул, порядком навертел мне руки. Это Шура приучила его на руках засыпать. Раньше он только песенку требовал.
Ленька пронырнул прямо на кухню, давай по очереди лудить кастрюли. В одной оставались макароны с мясом, в другой — кисель. Слышу, загремел в углу. Молоко в бидончике. Тоже выпил. Посидел. Орехи пощелкал — нашел на полке.
Я погасил свет. И словно на пружинах меня закачало.
Ленька тоже укладывается. Доносится голос. Хитрый такой:
— Костя, спроси меня чего-нибудь на поверку. По географии.
У меня губы вовсе не слушаются. Вот-вот куда-то я улечу. А действительно, все же надо бы спросить пария, проверить.
— В каком году, — говорю, — открыли Африку? и кто?
Молчит. Так я и знал. За что бы мне рукой зацепиться? Проваливаюсь вовсе куда-то.
— А… этот… этот — берег турецкий?
— Костя, в билетах Африки нет. И Турции тоже. Мы этого не проходили.
Голос встревоженный. Вот тебе и шпаргалки. Вот тебе и Сергей Гурзо скачет…
— Надо было пройти, — говорю. И больше уже ничего не слышу.
Глава восьмая Защита королевой
Шахматной теории я не знаю. Знаю только правила игры. И это лучше — не знать теорию, потому что игра тогда интереснее. Конечно, если и противник твой тоже не знает теории. Посудите сами, какой может быть интерес в игре, если я, к примеру, пойду e2-e4, а противник мой знает, что ему обязательно надо ответить e7-e5, и я должен снова пойти только d2-d3, чтобы потом, где-нибудь через тридцать ходов, не проиграть партию? Зачем тогда зря и фигуры на доске двигать? И шахматы зачем покупать? Просто сели два теоретика рядышком, один говорит: «Сицилианское начало», другой ему сразу же: «Сдаюсь!» Потому что, если оба как боги знают теорию и точно в равную силу ее применяют, так должны понимать: кто сделал первый ход, тот первым и шах с матом объявит.
Маша в шахматной теории немного разбирается. Она знает, как играть испанскую партию, французскую партию, дебют королевы, дебют четырех коней, ферзевый гамбит, защиту Нимцовича, защиту Каро-Кан и еще что-то такое. Она пробовала втолковать все это и мне. Конечно, заучить все эти дебюты я бы смог, память у меня неплохая, но я отказался: «Тогда лучше пойдем играть в городки, у меня силы больше и глаз вернее. Без игры сдаешься?» Маша посмеялась: «Нет, не сдаюсь. Хоть ты и победишь, но побросать биты все же и мне интересно». И теперь, когда садимся мы с ней за шахматную доску и Маша начинает е2-е4, а я отвечаю а7-а5, чтобы поскорее выгнать на середину свою ладью из угла, Маша волнуется: «Так не защищаются, Костя! Если ты хочешь играть староиндийскую защиту, тебе надо ходить конем». А я говорю: «Маша, я играю новобарбинскую защиту. Вперед. По-шел!» И гоню всегда, что только можно, вперед и вперед, чтобы поскорей добраться до неприятельского короля или хотя бы прорубить к нему дорогу для тяжелых фигур. И выходит. Не всегда и не с каждым, но выходит. А главное, интересно.
Об этом вспомнилось мне потому, что после понедельника каждый вечер я играл с Ленькой в шахматы. Привязывал его к дому, чтобы он со Славкой Бурцевым не бегал до глубокой ночи из одного кино в другое, а готовился к последнему экзамену.
Правда, географию он сдал на четверку. Пришел, радостно щерится — в рот ему, как в гипсовую копилку, хоть медный пятак опускай. В горле удовольствие булькает. Рассказывает:
— Понимаешь, Костя, билет я с Дальним Востоком вытащил. И ничего, ну ничего нет в обшлаге про него. Думал, думал, припомнил только Амур, Зею, остров Сахалин и Яблоновый хребет. Пропал! А начал говорить, как-то пошло и пошло: и все крупные реки и города назвал и климат описал и животный, растительный мир, все полезные ископаемые вспомнил. Кончил. «Хорошо, Барбин», — говорят. А я весь дрожу. Вот влепилось мне, зададут дополнительный, твой вопрос: «В каком году открыли Африку?» — и съехал я на тройку, а то и на двойку. Ну, совершенно не знаю. Костя, а правда, в каком году ее открыли?
— Чудак, — говорю, — Африку никогда не открывали. Она всегда, с самого начала была.
Ленька с недоверием головой крутит:
— Да-а, хитрый какой, не поймаешь больше меня. С самого-то начала и людей на земле не существовало. Ну, взаправду, скажи, Костя, когда?
— Африка — самая древняя страна, — говорю, — что ж ее открывать? Открывают новое. Вот Америку, например, открыли.
И опять с ехидцей Ленька щерится:
— Э-э, ты какой! А в Америке тоже давным-давно индейцы жили. И эти, как их, инки, ацтеки. Что они, сами не знали, в какой стране живут? — Хохочет: — Не-ет, Костя, ты больше меня не купишь.
Что посеешь, то и пожмешь. Доведись ему сейчас стать экзаменатором, а мне учеником, и готово — приобрел бы я двойку, потому что Леньку теперь все равно не убедишь, что Африку никогда не открывали.
Играли мы с ним в шахматы так. Ленька все время белыми, я — черными, без коней и королевы. Я не имел права брать свой ход назад, а Ленька целые варианты заново переигрывал. Иначе он начинал ныть и вспоминал Славку Бурцева, к которому обязательно надо сходить за какой-то тетрадкой.
А я играл, и все эти дни почему-то стучали у меня в мозгу Шурины слова: «Королева от шаха может защитить короля?»
Письмо Шахворостову я написал. Короткое и твердое. Дескать, Королева передала мне твои просьбы. К Степану Петровичу Терскову обратиться я не могу, он посредников не признает. Хочешь — напиши ему сам. Приветствую твое желание освободиться досрочно. В кессоне и тебе хватит места покопаться. Маша передает привет.
И ни звука обо всей той нахальной откровенности, с какой он написал письмо «королеве».
Я не знал адреса, спросил Шуру. Она взяла мой ответ, не читая сказала: «Спасибо, Костенька. Можно, я сама пошлю?» Между прочим, это было наутро во вторник.
Леньке больше всего нравилось делать рокировки. Он в самом начале игры выводил с первой горизонтали все свои фигуры, конечно кроме ладей, и потом с удовольствием ожидал того момента, когда он может от тяжелой угрозы черных красиво и быстро спрятать своего короля. Нападал Ленька главным образом конями, которых у меня никогда не было и, надо сказать, довольно-таки ловко ставил «вилки». Королеву свою он берег больше короля и требовал, чтобы я обязательно объявлял «гардэ».
В четверг вечером у нас с ним сложилась интересная партия. До этого я проиграл три раза, по норме следовало бы уже и мне объявить ему мат. А ничего не получалось, хотя я теперь старался во всю силу. Ленька своими конями выковыривал у меня с тыла пешки одну за другой. Вскоре остались только две ладьи и слон — все мое хозяйство. Ленька с горящими глазами кричал: «Через три хода мат! Через два хода мат! Шах королю!» И тут я увидел, что Ленькин король стоит за глухой оградкой в самом уголке, его королева тоже за такой оградкой, но с другой стороны, вертикаль «е» открыта, никакие другие фигуры мне не мешают, а я могу через один ход на этой вертикали сдвоить обе свои ладьи. И я подкинул Леньке на съедение последнего слона, а сам сдвоил ладьи. Ленька почувствовал, что пахнет жареным. Ему нужно было отодвинуть пешку против короля, и он бы только проиграл за ладью королеву. Все равно у него был тройной перевес. Но он придвинул королеву к самому королю, полагая, что я туда не посмею забраться, и важно объявил: «Защита королевой». Вы сами понимаете, что мат он получил в три хода, упрямо так и не отодвинув пешку.
Мне почему-то всю ночь потом мерещилась эта партия, и я во сне говорил Леньке: «Чудак, разве можно было королевой защищать короля!» А Шура стояла рядом с ним и просила: «Ленечка, не отдавай королеву». Ленька хныкал: «Он обманывает. Почему он не сказал «гардэ?» Маша приснилась в виде милиционера в белом майском костюме, поднесла ко рту свисток, трелью прошила меня прямо насквозь и сказала: «Костя, если ты не прекратишь эту игру, я тебя арестую!» И я никак не мог ей доказать, что играю я правильно.
Утром, когда появилась Шура, веселая и почему-то обязательно задыхающаяся, будто пробежала пятикилометровку, я стал ей рассказывать свой сон. Она слушала и только посмеивалась. Но когда я дошел до Машиного свистка, сразу потускнела. Спросила с каким-то нажимом: «Ты сам придумал этот сон?» А я спросил: «Зачем?» Шура тогда сказала, что этот мой сон какой-то философский, и раз я действительно не сочинил его, то, значит, моя голова ночью не отдыхала, а думала. Но после этого так со скучным лицом она меня и проводила.
Работалось мне в этот день удивительно хорошо. Я не музыкант из оркестра, но понять меня по-настоящему может, наверно, только музыкант. Когда работаешь один — ты один и есть. Но бригада не бурлаки, которые все вместе баржу за один канат тянут. Здесь у каждого своя отдельная работа, хотя в то же время она и общая, у каждого своя, особая красота труда. Музыкант из оркестра тоже ведет только свою партию, но он слышит, как играют и все остальные, и, я так полагаю, если играют от горячего сердца, сильно, свободно, всей кистью руки, — легко и ему. Он тогда ведет уже не свою только мелодию, а вроде бы вместе строит, создает и всю общую, большую музыку. Мне страшно тяжело и безрадостно работать в такой бригаде, где один ленится, другой быстро устает, третий ковыряется неумело, четвертый халтурит. Я тогда и сам становлюсь неловким, бессильным.
Наша бригада притерлась, как колесики в хороших часах. Работали не надрываясь, но на товарищескую совесть, столько, сколько каждый может, и так, чтобы из-за тебя никто другой лишней, ненужной вообще работы не делал.
Петр Фигурнов пневматическим молотком валуны разбивает так, чтобы Володе Длинномухину осколки дважды лопатой не перегребать.
Тумарк кубло устанавливает так, чтобы в него из одной кучи гальку сыпали все, но друг другу не мешали.
Кошич порожние бадьи отцепляет тогда, когда они земли еще не коснулись, и успевает на обратном ходу лебедки зацепить груженую. Рукой поддержит, чтобы, как маятник, она не раскачалась.
Словом, работа — мускулам живой огонь, а душе — отрада. Тем более что чувствуешь: лезет и лезет в глубину кессон, наверху бетонная кладка слой за слоем ложится, а на острове Отдыха уже готовят железобетонные полуарки, из которых после составятся пролеты моста.
Надо при этом сказать, что у Виталия Антоныча как мастера был талант совершенно необыкновенный: поставить людей и раздать им работу так, что лучшей комбинации уже ни за что и не придумаешь — просто пифагорова таблица умножения. Всего восемьдесят одна клеточка, а любой ответ налицо.
Работалось здорово, пока под одним краем кессона не попался огромный валун, да вдобавок с таким крутым наклоном, что Виталий Антоныч в тупик стал, как справиться, чтобы кессон не потянуло в сторону, от осевой линии. Один выход — взорвать.
Обкопали с боков камень, подбили деревянные прокладки. После нашей смены пусть его подрывники долбанут. А сами снова взялись выгребать мелкую гальку.
Р-раз! Теперь наверху что-то в лебедке заело, и повисло огромное кубло с грунтом в шахтной трубе.
Значит, шабаш. Все, отдыхай. Играй в камешки. Тумарк — читай лирические стихи. А Кошич — давай механикам «деру». Словом, кому что нравится.
Собрались мы, стали в кружок. «Хлопушка» стучит, полным ходом гонят нам сжатый воздух, а давление все же помаленьку падает: в щели по бокам валуна воздух уходит. Если поглядеть теперь на Енисей сверху — пузырится вода возле быка.
Виталий Антоныч подергивает свои усы.
— Окаянная вышла смена.
Кошич действительно приготовился уже «под рубашку ежа» ему запустить. Но тут Вася Тетерев вдруг ударил себя мокрой рукавицей по лбу.
— Ребята, что я забыл вам сказать! Письмо получил. По поводу Ильи Шахворостова. Какой-то его товарищ пишет, хлопочет за него. Парень, говорит, совершенно перевоспитался. Думаю, это вполне может быть. Мне очень хочется, чтобы это случилось.
Я чуть не расхохотался. Вот это да! Развил деятельность Илья. «Товарищ пишет…» Сам, поди, написал. Не прошел номер со мной, заменил адрес — к Тетереву. Знает, что у нашего Васи не сердце, а горное эхо — на любой крик отзовется.
— Интересно, — спрашиваю, — а что же товарищ этот от тебя, Тетерев, хочет?
— Ну, что он хочет… Чтобы я помог, чтобы мы помогли, если человек стал на гору подниматься. Это очень хорошо, что Илья поднимается. Очень хорошо, что есть люди, которые о нем беспокоятся.
— Он не к депутату Верховного Совета обратиться за поддержкой просит? — спрашиваю. — И разрисовать, каким хорошим производственником и чутким товарищем был всегда Илья!
Тетерев немного поморщился. Кашлянул в ладошку.
— Ну, Барбин, ты всегда утрируешь. Не надо утрировать. При чем здесь депутат Верховного Совета? А характеристику для комиссии на Шахворостова он в письме своем действительно просит. И я думаю, мы можем дать такую характеристику.
Но тут опустилось порожнее кубло, и мы снова взялись за работу, опасливо поглядывая, как все больше просачивается в кессон вода. Удирать до прихода подрывников, оставить кессон пустым нам никак не хотелось. Виталий Антоныч подергивал усы, но с полным спокойствием говорил, что смену мы великолепно дотянем.
Разговор, начатый Тетеревым, сразу всех нас не захватил. Меня вообще благоустройство Шахворостова мало заботило. Я думал, что именно сегодня Маша в Москве защищает диплом, и раз она мне приснилась в белом, значит, все обойдется хорошо. И еще: Ленька сдает свой последний экзамен завтра, в субботу. Стало быть, Шуре в понедельник уже нет необходимости приходить, и об этом я должен ей сказать лучше всего, пожалуй, сегодня.
А Вася, похоже, не выпускал из памяти письмо шахворостовского ходатая, потому что, когда мы поднялись в прикамерок и стиснулись в нем, задрав головы кверху, к железному потолку, где с тихим шипением через кран выходил сжатый воздух, он сказал:
— Ребята, в катер сразу не бросайтесь, на минутку задержимся.
Сели рядком на опалубку свежей бетонной кладки. Меня даже угораздило каким-то образом в большую лепешку незастывшего раствора вдавиться. Сперва я не понял, было приятно, будто в мягкое кресло сел, а потом, когда сырость стала в штаны проникать, я сразу взлетел, испугался, что цемент может окаменеть и я превращусь в тот самый монумент, который мне так хотелось установить у въезда на мост.
Все повалились от хохота, а Вася Тетерев проговорил с огорчением:
— Барбин, не надо устраивать балаган. Давай серьезно.
Интересно, влепись он сам в мягкий цемент, какой балаган бы устроил? Я сказал ему это. Но Вася только отмахнулся:
— Ребята! Вопрос о Шахворостове. Кому мы поручим подготовить проект письма с характеристикой?
Тумарк заметил, что сперва надо бы решить, будем ли мы вообще посылать такое письмо. Фигурнов сказал, что для ясности надо бы сначала прочитать письмо, полученное Тетеревым. Володя Длинномухин поделился сомнениями: можно ли вообще вот так, просто от нашей группы, составлять документ, правильнее, наверно, провести общее собрание, с протоколом. А Кошич торопливо заявил, что проект письма напишет он. И на формальности наплевать, когда человека спасать надо.
— Почему «спасать»? — сказал я. — Разве Илью расстреливать собираются? Притом невинного. Бутылкой женщине он проломил голову? Осколки стекла хирург вытаскивал? Два месяца в тяжелом состоянии женщина пролежала? Суд разбирался? Учитывали тогда, кто такой Шахворостов? И все! Сиди посиживай. И размышляй, как дальше жизнь свою строить.
— Я думаю, Барбин в принципе прав, — сказал Тетерев, — в свое время Шахворостов получил наказание соответственно своей вине. По обстоятельства теперь изменились. Шахворостов ведет себя хорошо. Хочет вернуться в рабочий коллектив. И я думаю, мы не должны быть жестокими.
— Правильно! — закричал Кошич. — Это главное: не должны быть жестокими к своему товарищу.
— Но ты ведь не знал его, — возразил Тумарк, — и не знаешь сейчас, каких он достоинств.
— Люди не папиросы: высшего, первого, второго и третьего сорта, — круто отрезал Кошич. — Я не знаю Илью Шахворостова, но мой отец всю их семью знает. А я вообще за доверие к простому человеку. Вы до этого работали вместе с ним?
— Ну работали, — сказал Тумарк.
— Не случись с ним беды, и сейчас бы работали?
— «Бы», — сказал Тумарк, помаленьку разрумяниваясь и подергивая челку на лбу, что он делал всегда, когда волновался.
Кошич посмотрел на него победителем.
— Когда Илья закончит свой срок, снова будете вместе работать?
— Допустим, — сказал Тумарк, уже совсем багровея. — Если место найдется в нашей бригаде.
— А с какими глазами в лицо ему тогда смотреть вы станете, если сейчас оттолкнете его, не поможете?
У Тумарка от волнения голос перехватило, он пустил тоненького «петушка», но Фигурнов перекрыл своим басом:
— А с какими глазами я каждому человеку в лицо буду смотреть сейчас, если сладкую неправду о хулигане и лодыре напишу? Для ясности.
И я сказал, что полностью согласен с Тумарком и Петром Фигурновым.
Вася Тетерев похлопал в ладошки. Попросил тишины.
— Так мы, ребята, никогда до истины не доберемся и правильного решения не примем. Я не думаю, что это у нас общее собрание, и не думаю, что нужно проводить такое собрание. С протоколом, как сказал Мухин. От нас протокола никто и не просит. Кто-то сказал, что надо бы почитать письмо, присланное мне, это очень правильно, — он пошарил у себя в карманах, — но я, кажется, оставил его дома, не взял с собой. Давайте перенесем тогда наш разговор на завтра. Или, хотите, я могу пересказать его и сейчас. Я думаю, что могу это сделать довольно точно.
Кошич крикнул, что нечего нам и завтра еще возвращаться к совершенно ясному делу, пусть Тетерев рассказывает на память.
Вася пощелкал пальцами, кашлянул.
— Письмо адресовано лично мне. На квартиру, — он снова стал шарить в карманах, вытащил конверт, сказал удивленно: — Так вот же оно! Читаю: «Уважаемый товарищ Тетерев! Обращаюсь к человеку, который долго работал с Ильей Ефимовичем Шахворостовым. Я познакомился с ним только здесь, но вижу, как он страдает, переживая свой жестокий поступок. Он много работает, держится хорошей компании, все время вспоминает о своем коллективе. Он сам написать не решается, считая себя перед вами крепко виноватым, и я пишу вам без его ведома». — Вася сделал паузу, многозначительно поднял указательный палец. — Дальше: «Его готовят к досрочному освобождению. Но если бы вы, товарищ Тетерев, и другие, кто работал вместе с ним, написали в комиссию душевное письмо с характеристикой товарища, которого знаете, вы бы только помогли ему скорее вернуться к правильной трудовой жизни, о которой он все время мечтает. Я нахожусь здесь по несчастью. Шофер. Нечаянно сбил человека. Потому и горе другого мне очень близко».
— Кем подписано? — спросил я.
— Это существенного значения не имеет. Ну, Тимофеев, Иван Алексеевич. Мы с Диной несколько раз прочитали это письмо, и оно нас растрогало. — Тетерев сложил письмо и засунул в карман. — Вот. Я думаю, что возражений помочь парню не будет. Не говорю: в беде или несчастье. Он сидит, я подчеркиваю, по своей вине. Но вы знаете народную пословицу: повинную голову меч не сечет. Шахворостов подавлен сознанием своей вины. Почему не поверить? Доверие поднимает человека. Мы не можем послать протокол общего собрания, потому что собирать тогда нужно всех кессонщиков, а Шахворостова, кроме нас, никто не знает. А мы должны написать просто, как группа рабочих и как товарищи, которые знают его и верят в него. Наше письмо хотя и не решит судьбы Шахворостова, но, я думаю, поможет в таком решении. Мне очень хочется, чтобы оно помогло. Я думаю, мы голосовать не будем, а Кошич взялся, напишет, и кто хочет, подпишется. Я, во всяком случае, подпишусь. Это дело каждого, личное. Как, будем еще обсуждать этот вопрос, ребята? Правильно я говорю?
— Правильно, — быстро сказал Кошич. — Обсуждать нечего. Не на собрании. Повторяю: не знаю Илью Шахворостова лично, не видел его, но я и напишу и подпишусь. Верю в человека. В его рабочую совесть. Это не бюрократ какой-нибудь. За такого не грех заступиться.
— Решили не обсуждать, так не обсуждать, — сказал Длинномухин. — Слова Кошича хорошие, хотя на его месте, не зная человека, я так не торопился бы лезть со своей подписью. Это по самой своей сути неправильно. «Верю», «верю»! Лет Кошичу девятнадцать, и рабочим он без году неделя.
— А человеком — все девятнадцать лет! — закричал уже не Кошич, а Казбич. И ноздри его раздулись.
— Решили не спорить, — спокойно продолжал Володя. — Я тоже подпишусь, если это поможет. И тоже верю. Но пока еще не в Шахворостова, а вот во всех нас, что мы его сделаем рабочим. Разбудим в нем рабочую совесть, которой до сих пор у него было маловато. Но писать — так протокол, созвать собрание по всей форме. А что за документ частное письмо! Хотя, если Тетерев считает можно — можно.
— Коллективные письма многие пишут, — вставил Кошич. — Даже академики. Позавчера читал я в «Правде». В защиту памятников старины. А мы живого человека защищаем. Почему нельзя?
— Я только для ясности, — помотал рукой Петр Фигурнов. Он сидел с самого края и, все время вытягивал свою длинную шею, чтобы видеть каждого говорившего до него. — Если бы этот разговор был два месяца тому назад, когда еще не знал я, останется на всю жизнь инвалидкой или выздоровеет женщина, которой Шахворостов проломил голову, я бы подписал письмо только на расстрел ему. Выздоровела. Хотя платка с головы не снимает, прическу делать нельзя: не отросли еще после болезни волосы. Перекипела во мне сейчас главная злость на Илью, но все равно сидеть ему год за его выходку, считаю, мало. Легко его судили, дешево расплатился. И жалости у меня к нему никакой. Но я подпишу. Пусть он знает: Петр Фигурнов тоже подписался. А что за этим будет следовать… — Он повертел растопыренными пальцами и быстро сжал их в кулак: — Не угрожаю. Это так. Для ясности.
Тумарк Маркин встал, забрался на груду досок. Наверно, чтобы казаться ростом повыше.
— А я скажу: у меня сначала было другое. Я не помню, когда Шахворостов был среди нас хорошим товарищем. И кому? Разве только Барбину. И тот, кажется, давно от него отступился. Да, он работал с нами. Надо ж где-то работать! Он все-таки не бандит, не вор. Нравился он нам или не нравился, это кому как, а вот что мы ему не нравились, это определенно. Вспомните, товарищи, позвал он хоть раз кого-нибудь к себе?..
— У него семья такая, — вставил Тетерев, не перебивая Тумарка.
— …Пришел к кому-нибудь сам запросто? У него любимое: в пивной ларек. Стоя. Кто не хочет вместе в ларек, тот и не товарищ. Кто на работе с ним за углом из горлышка не потянет, тот не друг. Так чего нам в дружбу к нему набиваться? А случится с ним снова вместе работать — будем работать. Но после работы в пивной ларек вместе с ним все равно не пойдем. Вот такое мнение у меня было сначала. Не подписываться. Но я все же подпишусь, хотя, что говорил, все это в силе. Не знаю, товарищи, — и Тумарк умоляюще прижал руки к груди, — не знаю, но какая-то жалость у меня к нему вдруг появилась. — Он смешался, беспомощно развел несколько раз руками. — Вот как только сказал Петр Фигурнов: «Жалости к нему нет никакой», — тут она сразу у меня и появилась… Из жалости подпишу.
Он сел, как-то виновато все разводя руками и не смея смотреть на других, будто сделал что-то стыдное. Набрал из-под ног в горсть щебенки и начал ею швырять в Енисей. Тетерев покашлял в ладошку, показал на меня:
— Кажется, один Барбин только не высказался. Подпишешь?
— Во-первых, я не верю в письмо, — сказал я. — Это какая-то фальшивка. Кто такой он, этот шофер Тимофеев, и почему такое наивное письмо написал?
— Ну, Барбин, — разочарованно протянул Тетерев, — нельзя же так, все с подозрениями. Ну, допустим, и не было бы такого письма. Почему по своей инициативе мы не могли написать? Это же только толчок. Это для нас не требование. Я думаю, ты и сам понимаешь. Мне очень хочется, чтобы ты понял.
— Я понимаю, — сказал я. — Одно дело — писать, когда мы знаем, что человек действительно исправляется, хочет исправиться, и мы ему помогаем; другой вопрос — когда известно, что он хочет любыми путями выбраться поскорее из тюрьмы, чтобы замять новое следственное дело.
Не знаю даже кто, может быть, все хором крикнули: «Ого! А ты это знаешь?» И я, радуясь, что разом все опрокидываю, заявил решительно и твердо:
— Знаю!
— Да? А какое следственное дело, Барбин? — спросил Тетерев.
— Во Владивостоке у него сестра за спекуляцию села, а ниточки оттуда идут и к нему. Да что, вы сами не помните, посылки он всегда получал!
— Это сразу меняет дело, — сказал Фигурнов.
— Пожалуй, — сказал Длинномухин.
— Ну, — опять протянул Тетерев, — посылки, сестра, Владивосток, спекуляция… А тебе, Барбин, все твердо известно?
— Твердо!
— Тогда расскажи, — потребовал Кошич, — откуда тебе известно? Подробности.
И я смешался, не ответил: подробностей никаких я не знал.
— Вообще-то, — вдруг сказал Фигурнов, — следственные дела не разглашаются, пока не закончены. Про «ниточки» может только следователь знать. Это для ясности.
— Костя, тебя вызывали? — спросил Тумарк, дергая себя за челочку.
— Нет, не вызывали, — сказал я, — но я твердо знаю.
— Следователь знакомый? — спросил Длинномухин.
И я почувствовал, что сила моих слов все больше слабеет и в вопросах ребят сквозит теперь уже явное недоверие: перехватил, дескать, Костя.
— Знакомого следователя у меня нет, — сказал я, — но я знаю.
Это получилось уже совсем по-детски. Но не мог же я сказать о письме, которое Шахворостов прислал Шуре, а тем более показать это письмо, потому что я сам же и сжег его! Второй раз в моей жизни получается так, что Шура язык мне связывает!
— Может, тебя самого вместе с ним к следствию привлекают, — с ядовитым участием спросил Кошич, — и ты дал подписку не разглашать?
Ребята открыто еще не смеялись, но повеселели, и я читал теперь на лицах у них: «Ладно, Костя, все ясно: у тебя старые счеты с Шахворостовым. Ты как хочешь, а мы уж отступать не будем».
Еще раз по внутреннему телеграфу я спросил свою совесть: «Сказать все?» Совесть моментально ответила: «Сказать». Но тут же пришла и другая телеграмма: «Чем ты подтвердишь все это? Шура, конечно, откажется. А больше нет ничего. Шуру ославишь без всякого смысла на весь белый свет. И сам прославишься: кому же, почему и какая дура будет показывать такие письма? Ребята собираются поддержать Шахворостова, хорошо зная, какой он все-таки гусь, а ты думаешь — не погубить ли тебе Шуру, которая для тебя делает только хорошее. Добей ее! Она ведь много раз говорила: «Костенька, я очень несчастливая в жизни…» Добивай! Несчастливых добивать легче…»
И я сказал:
— Ну что ж! Превосходно. Не верите — не надо. Жизнь сама покажет. А вообще мне есть хочется, и я не знаю, если Королева уже ушла, с кем у меня дома остался Алешка.
И все сразу поднялись и заговорили, что тоже хотят есть и что все уже совершенно ясно.
Как раз в это время появился старшина катера и предупредил: если мы сейчас не поедем, он угонит катер по какому-то другому заданию, и тогда мы останемся на быке до начала новой смены. Все побежали на катер. Получилось так, что последними оказались я и Тетерев. Я сказал ему на ходу:
— Не понимаю, Тетерев, мы идем к коммунизму, в котором нет места паршивым людишкам. Что же, ты хочешь, чтобы в коммунизм пришел и Шахворостов? Он ведь не переменится. Ему без прокурора и шагу не шагнуть.
— А ты, Барбин, хочешь, чтобы в коммунизм пришли одни прокуроры? — сердито ответил Тетерев. — Куда тогда девать всех остальных? Капиталистический строй специально для них, что ли, создать и особое государство? Мы должны беречь каждого человека, бороться за него. Защищать. Отдать — это проще всего.
И полез к старшине катера, в рулевую рубку.
Вода в Енисее все еще держалась на очень высоком уровне, но посветлела. Меньше несло желтой пены и всякого мусора. А мелкие песчинки, крутясь в воде, отсвечивали на солнце серебряными искорками, и было удивительно, почему такой тяжелый и стремительный Енисей за все свои миллионы лет не промыл, не прорезал землю если не насквозь, то хотя бы на несколько километров в глубину. Сколько за это время перекатил он по дну своему гальки! А смыть ее всю никак не может. Откуда она вновь и вновь берется?
Вообще-то Тетерев прав. И разве я сам не так же считаю? Но вся штука в этом «вообще». Хоть убей, Шахворостов под «вообще» никак не подходит. Но побороться и за него, может быть, все-таки стоит. Отдать действительно проще всего.
На берегу я сказал Тетереву об этом. Он сразу смягчился.
— Ты хорошо принимаешь замечания, Барбин. Мне нравится. Надо быть выше личной неприязни к человеку. Отстаивать принципиально.
Мы пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Но Вася вдруг что-то вспомнил и снова подбежал ко мне.
— Погоди, Барбин, ты там, — сказал он и махнул рукой в сторону реки, — ты там упомянул о Королевой. Это ведь та самая, что почтовым агентом на «Родине» работала? Дамдиналия мне опять говорила, а я забыл. Ты бы Алешку своего к нам приносил. У нас семья, сам знаешь, двадцать один человек. Как-нибудь справились бы…
— А что Королева? — спросил я. Меня это сразу как-то обидело, обожгло. — При чем Королева?
— Королева? — изумился Тетерев. — Совсем ни при чем. Я тебе про сына твоего говорю! Алешку к нам приноси!
Но я все равно не мог отделаться от мысли, что Вася Тетерев сказал о Шуре что-то обидное, а я не защитил ее, не отстоял принципиально.
Дома с Алешкой нянчился Ленька. Шура уже ушла. Ленька сказал:
— Она очень тебя ждала. Рассказывала про Норильск, как в одном человеке сильно ошиблась. Ей там плохо жилось. А тебя очень хвалила. «Он, — говорит, — такой сердечный, понимающий, он — единственный человек…» И потом плакала. А чего, не знаю. Я со Славкой ходил на консультацию. Иди ешь. Суп я сам варил сегодня. А в шахматы, Костя, ты меня вчера неправильно обыграл. Я показывал Славке. Он говорил, что я мог взять твою ладью конем.
— Зачем же ты тогда защищался?
— Я боялся, — сказал Ленька, — мне жалко было королеву. Вдруг ты все равно как-нибудь ее возьмешь!
И я подумал: а мне вот не было жалко свою королеву — я даже без игры отдал ее Леньке. А другая «королева» почему-то плакала.
Может быть, мне действительно завтра лучше отнести Алешку к Тетеревым?
Глава девятая Почему — суббота!
Плохое настроение у меня долго не держится, скатывается само, как дождь с хлорвинилового плаща. Но если уж и дальше продолжить это сравнение, я скажу: вода скатывается с плеч, а наливается в карманы. Тогда ее надо вытряхивать. Плохое настроение тоже приходится силой стряхивать. Когда оно забралось «в карманы».
Есть у меня несколько приемов, чтобы побыстрее согнать с себя грусть-тоску зеленую, если она застоялась.
Первый прием. Почитать юмористическую книжку, только такую, в которой действительно есть что-нибудь смешное.
Второй прием. Сходить в баню, попариться хорошим березовым веником. На полок с собой взять холодной воды. Как только волосы от жару начнуть гореть — окатиться. И снова пару поддать, и снова веником. А мочалку намыливать земляничным мылом.
Третий прием. Съесть соленого омуля с луком и подсолнечным маслом. Потом выпить стаканов шесть крепкого чая с мороженой облепихой.
Четвертый прием. Пятнадцать минут в тишине посмотреть на Алешку, когда он спит.
Ленькины слова о том, что Шура снова плакала, испортили мне настроение. Прошел час, другой, третий, а меня все еще давила какая-то муть.
Алешка спать никак не хотел, и четвертый прием в ход пустить было нельзя. А когда я парня просто брал на руки, он орал, брыкался и так лупил меня по щекам, что я немедленно отдавал его Леньке.
В «Гастрономе», я знал, не только омуля, даже хорошей селедки не было. И тем более где вы возьмете мороженую облепиху в начале июня месяца?
За веселой книгой Ленька сбегал в нашу речную библиотеку. Принес «Сагу о Форсайтах». Не читал я. Полторы тысячи страниц. Вся подряд смешная она, конечно, не может быть, а попробуй докопайся, где и что в ней веселое. Говорю Леньке: «Как же ты выбирал? Он: «А ее как раз третий штурман с «Балхаша» сдавал. Положил на прилавок, стал впечатлениями делиться, и оба с библиотекаршей давай хохотать. Ну, так они, Костя, хохотали, так хохотали…» Говорю: «А ты знаешь, отчего они хохотали?» Ленька даже обиделся: «Как отчего? От книги! Я же знаю». Говорю: «Вот станешь в двадцать четыре года третьим штурманом и придешь к такой же молоденькой библиотекарше — узнаешь. Тогда ты и от геометрии Киселева захохочешь».
И я пошел в баню. Веники с прошлого года были у нас заготовлены, висели на чердаке. Пар из трубы рвался, ревел, как гудок на теплоходе, и никто, кроме меня, не решался подняться на самую верхнюю полку. А когда я исхлопал о себя весь веник и спустился вниз, мне сказали, что я стал похож на вареного рака и что мне обязательно следует полежать, чтобы сердце не разорвалось. О вареных раках я только читал, своими глазами не видел, но мне это слушать было почему-то приятно, и еще приятнее, что сердце у меня не разорвалось и вообще даже не очень сильно стучало, хотя я и не прилег, а, наоборот, сразу же стал лихо натираться мочалкой, намыленной земляничным мылом.
Вернулся я домой уже совершенно веселый и легкий. Повезло: по дороге в каком-то магазине купил копченую нельмовую тешку, которая почти заменяет соленого омуля, и коробку ананасного компота, второго по вкусу после облепихи. Алешка уже спал, и я поглядел на него пятнадцать минут. Для полного набора оставалось только почитать «Сагу о Форсайтах».
В квартире у нас что-то изменилось, я почувствовал это еще до ухода в баню, но что именно изменилось, не мог понять. Теперь я это чувствовал с особенной силой. Не знаю, так бывало с вами или нет, со мной часто бывало: вот ходишь, ходишь и не можешь сообразить — что? А потом оказывается: Маша накрыла стол новой клеенкой!
На этот раз я ничего не мог найти. А новое было. Спросил Леньку. Тот только хитренько улыбнулся.
Переиграли вчерашнюю партию в шахматы. Ленька действительно спас свою королеву, срубил конем у меня ладью и измором, наверно на триста сорок пятом ходу, взял моего короля. Не просто объявил ему мат, а именно взял — снял с доски и постучал королевской головой о стену. И мне было приятно, что из Леньки развивается такой сильный шахматист.
Поздно вечером принесли телеграмму из Москвы. В ней было написано: «Костя милый диплом защитила отлично от радости себя не помню выеду поездом 4 вагон 3 встречай целую твоя Маша». Я дал по комнате целый круг на руках, вниз головой. А когда второй раз перечитал телеграмму, заметил, что Маша от радости забыла еще и указать, какого числа она выедет из Москвы. И мне теперь не знаю сколько раз придется ходить на вокзал.
Ночью разразилась веселая гроза. Совсем такая, как в «наш ледоход». Первая гроза в этом году. Я распахнул окно, и, пока в черном небе метались острые молнии, гром сотрясал стены дома, а дождь тугими быстрыми прутьями сек пустую улицу, я стоял, навалившись на подоконник и выставив голую спину под студеные струи. А кто-то озорной сзади подталкивал: «Костя, а туда, прямо в лужи, тебе не хочется?» И если только было бы немного светлее, а Костя Барбин немного помоложе Леньки, но постарше Алешки, он босиком побежал бы на улицу пускать по лужам бумажные кораблики.
Дождь долго хлестал по промокшей земле. Красиво, звонко журчали в канавках ручьи, которые можно было заметить только при вспышках молний. Сперва от земли пахло сухой, колючей пылью; потом в раскрытое окно ко мне донесся запах масляной краски и ржавых крыш; потом — гнилого дерева заборов; потом — теплого мокрого камня; потом — распахнутой на север дали Енисея, когда по берегам цветет сосна и вся поверхность реки подернута пленкой золотой пыльцы; и, наконец, — горьковатый запах черемушной завязи и чистого-чистого утреннего неба, которое можно увидеть только с макушек наших красноярских Столбов, когда под низом все деревья блестят от росы, а в глубоких распадках курятся голубые туманы. Словом, если бы из всех этих запахов можно было составить букет, он не вместился бы ни в какую вазу.
Гроза ушла за Енисей, в горы, где дыбился зубец Такмака. И молнии теперь не саблями рубили близкое черное небо, а весело подмаргивали откуда-то уже из-за горизонта. Гром гремел маслянисто и осторожно. А вода лилась не из туч, а по железным желобам с крыши.
Спина и шея у меня совершенно одеревенели. Я взял мохнатое полотенце и растерся им, как после зимнего умывания снегом. Постоял еще у окна. Подумал: «А может быть Маша выехала уже сегодня? И тоже стоит у окна, смотрит?»
Интересно, какая погода сегодня в Москве? Может быть, точно такая, что и здесь? Зря я не послушал сводку погоды по радио.
У нас глубокая ночь, а там еще вечер. Маша! И мне представилось, что эта веселая ночная гроза, светлоулыбчивые молнии с хохочущим громом, душистый ливень, который начисто вымыл запыленные окна и стены домов, с улиц стащил по канавам гниль, мусор и грязь, — все это прислано Машей в ее телеграмме.
И меня потянуло подойти к стене, где висела фотография «Наш ледоход», чтобы немножко поговорить с Машей, как всегда не произнося вслух ни одного слова.
В комнате было темно, но не особенно, потому что с улицы все же пробивался какой-то свет, то ли от далеких молний, то ли от фонарей, горевших в речном порту.
Я подошел к стене, глянул и только тут обнаружил то новое, чего я с вечера так и не мог отыскать. Как раз под нашей фотографией теперь висел Алешкин портрет, нарисованный жирным угольным карандашом. Алешка смеялся. Смеялся удивительно весело и тепло. Даже в этих серых потемках хорошо было видно, какой радостью сияли его глаза. И если посмотреть чуть-чуть повыше, на Машу, сразу можно было понять: Алешка — это она.
Я содрал портрет со стены и потащил поближе к свету.
Не знаю, кто хорошо разбирается в живописи, тот, может, нашел бы и в этом портрете недостатки. Я ничего не нашел, кроме того, что это совершенно живой Алешка, что нарисовано здорово, хоть на выставку, и что у такого превосходного парня фамилия, конечно, может быть только одна — Барбин. Как он смеялся! Не знаю, сумел ли бы даже сам настоящий Алешка так засмеяться.
Сердце у меня наполнилось прямо-таки нежностью к Шуре за ее отличный и тайно подготовленный мне подарок, и в то же время взяла за душу злость и досада: умея так рисовать, зачем она стоит у тележки и торгует какой-то там газировкой?
В уголке были поставлены инициалы «А. К. (Ш…»). Первое ясно: «А. К» — Александра Королева. Но что значит в скобках «Ш» с многоточием? «Шура»? Чудачка! К чему многоточие?
Просидел, любуясь Алешкиной рожицей, я долго, пожалуй не меньше часа, и завалился в постель, когда в ушах у меня уже зазвенели колокольчики. Поэтому, наверно, я и не услышал утром, когда затрещал на столе будильник.
Подняла меня Шура. У нее был запасной ключ.
— Костенька, разве тебе сегодня не идти на работу? — спросила она. — Уже без двадцати восемь.
Я так и взлетел с постели в одних трусах.
— Как не идти! — закричал я. — А у Леньки в девять экзамен. Он тоже спит. Буди его!
И неумытый, без завтрака, засунув в карман кусок хлеба и остатки вчерашней нельмовой тешки, помчался к мосту. На катер я успел впрыгнуть в последнюю минуту.
Когда я вертелся волчком по комнате, собирая одежду, Шура мне издали что-то говорила. Что, я не слушал. Вот бывает, знаете, уши заткнет, когда голова другими заботами занята, а после все слова, которые стучались и не прошли, вдруг гуськом постепенно начнут к сознанию твоему пробираться. На катере прорезались Шурины слова: «Костенька, ты никак не можешь сейчас… пять минут?» В прикамерке — еще другие: «Мне очень нужно…»
А в самом кессоне — и третьи: «Если вовремя не вернешься, приди на уголок, к тележке». И лицо у Шуры было неспокойное.
Но меня это нисколько не тревожило, у меня все равно продолжалась какая-то веселая возня в груди, работал я с особенным удовольствием, мокрая галька казалась мне похожей на бриллианты, я даже все время поглядывал, не сверкает ли среди нее вправду настоящий алмаз. И я, сложив все вместе Шурины слова, самому себе сказал: не задержаться.
Все ребята обратили внимание: «Костя, что ты сегодня такой веселый?» А я пожимал плечами: «Не знаю, всегда такой». Но воздух в кессоне сегодня был явно вкуснее и даже как-то мягче, хотя и попахивал еще газами после взрыва: только ночью удалось, наконец, расколоть валун, из-за которого вчера едва не затопило кессон. Вода ушла начисто, и грязь не липла к сапогам. Кубла ходили вверх и вниз без больших задержек.
Мне в воображении рисовался не только наш мост, по которому уже скоро побегут автомашины и троллейбусы, но почему-то и гигантская, стометровой высоты, плотина ГЭС, вонзившаяся в Енисей не отдельными быками, как это делаем сейчас мы, а всплошную. И мне хотелось как можно быстрее поставить на скалу кессон и вообще закончить весь мост, чтобы потом перейти на строительство большой бетонной плотины и поползать по материковому дну Енисея в Шумихинском створе реки. И когда снова окажусь на теплоходе, чтобы я мог, проплывая под мостом, сказать любому: «Моя работа», — а перевалив в водоподъемнике через плотину ГЭС и показывая пальцем в новую, страшенную глубь реки, я мог бы тоже похвалиться: «Скалу-то под плотиной долбил и я, вот этими самыми руками».
И вообще как-то сразу я видел весь Енисей. Там, в его верховьях, в Туве, за снеговыми Саянами, где он только еще вскипает бурливыми, хрустальными ключами и, смелый, быстрый, рвется к скалистым горам. И там, где широким, тяжелым разливом в сорок пять километров он упирается в Карское море, а весной перемешивает свои льдины с вечными льдами океана. Поглядеть на глобус — по меридиану — он, Енисей наш великий, ровно одна десятая часть окружности земли по всей своей длине — в поселках и городах, древних и новых. Только если все старинные города и поселки вместе собрать, даже такие, как Туруханск, Енисейск и древнюю часть самого Красноярска, так один Норильск новый и тот вдвое больше будет.
К слову сказать, Игаркой всегда я гордился. Город своими лесопильными заводами всему миру известный. А вот встало уже на берегу Енисея Маклаково — другая лесопильная столица, да такая, что к ней теперь Енисейск хоть в пригороды записывай. И напрямую, именно к Маклакову, а не к Енисейску, тянут железную дорогу. А там она врежется в глушь таежную между Ангарой и Подкаменной Тунгуской, шагнет за Енисей к таким уже отысканным запасам угля и руды, каких нигде и в мире еще не бывало. Эх, Барбин, Барбин, и всюду ты нужен! Много нынче стало в Сибири людей, а все же тебя везде не хватает.
Этот день был еще и тем удивителен, что Кошич никому и ни разу «не давал деру». Только, прощаясь со всеми в конце смены, Виталию Антонычу отдельно подал руку: «Будьте живы! До завтра». На эти слова Кошича можно было обидеться, но «завтра» — воскресенье. А у нас давно уже было договорено, что в воскресенье мы соберемся на квартире у Тетерева, пообедаем вместе.
Домой я вернулся без опоздания. Первое, что сделал, — это влепил с размаху свою широкую, жесткую руку в мягкую Шурину ладонь так, что Шура ойкнула от боли. А я сказал:
— За Алешкин портрет. Спасибо! Утром даже это из головы у меня вынесло. Как и когда ты сумела его так здорово нарисовать? Прямо чудо?
Шура страшно смутилась, даже вся шея у нее покрылась красными пятнами.
— Тебе нравится, Костенька?
И мы долго рассуждали об этом портрете.
Шура показывала, что в нем получилось очень плохо, а я показывал, что получилось очень хорошо. И убеждал ее рисовать как можно больше, потому что у нее, наверно, сейчас талант открылся во всю свою силу. Шура недоверчиво покачивала головой и говорила, что она два года вовсе не брала в руки ни кистей, ни карандашей, и даже сама не понимает, как, хотя и очень скверно, набросала этот эскиз. Может быть, потому только, что уж очень сильно полюбила она Алешку.
Конечно, слушать это мне было очень приятно, как и всякому отцу. Однако вдумайтесь сами: получалось как-то так, что Алешка теперь уже не целиком только мой и Машин, а словно бы какую-то долю в нем и Шура тоже имеет.
Потом мы обедали. Ленька сидел вместе с нами и все время влезал в разговор. Нужно же было ему рассказать, как он сдал свой последний экзамен! И, понимаете, на пятерку!
Я никогда не платил Леньке за хорошие отметки, как об этом по радио Миронова с Менакером сценку разыгрывают. Но последний экзамен, да еще на пятерку, полагалось, конечно, отметить. Я вынул из кармана деньги, дал Леньке и сказал:
— Пока чайник вскипит, сбегай купи килограмм глазированных пряников, а на остальные себе чего хочешь. Кроме того, куплю тебе новые ботинки на толстой микропорке. Шагай.
Меня по-прежнему не покидало великолепное настроение. Я мог бы Леньке подарить даже автомобиль. На одну покрышку для колеса денег у меня хватило бы.
Ленька засиял, как звонок на двери Терсковых, и помчался выполнять мой заказ. Но Шура на пути поймала его за руку и выдернула из своей сумочки тоже деньги.
— Ленечка, а это от меня. Поздравляю! Поздравляю!
— Шура, — сердито крикнул я, — не смей этого делать!
— Костенька, — виновато сказала Шура, — не брани. Я Леню так люблю!
И ласково заулыбалась ему. Ленька тоже ей в ответ улыбнулся и шмыгнул за дверь. У Шуры сразу переменилось лицо. Она вся словно бы сжалась, как бывает, когда на людей с потолка сыплется штукатурка.
— Костенька, милый, — сказала Шура, торопясь, — прости меня, прости! Я тебя обманула!
Но я не понял всей этой быстрой перемены. До меня ее слова всерьез не дошли. Не дошло сразу, почему Шура так побледнела, почему у нее голос дрожит и пальцы бегают по клеенке стола.
Ну да, я замечал, и все эти дни она как-то кисла и утром говорила что-то такое беспокойное, а вчера — Ленька рассказывал — она снова плакала. Но только ерунда все это, когда день такой превосходный, веселый, на портрете Алешка вон как улыбается, а Маша, наверно, уже подъезжает к Кирову.
— Обманула? — спросил я. Мне это было совершенно безразлично. — Велика важность! А как обманула?
— Костенька, я больше не могу, я должна всю правду… — Она говорила часто-часто, видимо боялась, что не успеет до конца рассказать, пока Ленька ходит за пряниками. — Костенька, делай со мной что хочешь… Я тебе врала, я тебе все врала… Я не послала твое письмо Шахворостову, я ему написала сама…
Здрасте-пожалте! Чего опять этот Шахворостов ей дался? Будто нет ничего на свете важнее, никого интереснее.
— Шура, да плюнь ты на все это, — сказал я решительно. — Я написал, ты написала, он написал, мы написали. Я и слышать об этом не могу. Стоит страдать! Ну, написала — и ладно. Включай музыку!
— Костенька, нет!.. Я вовсе запуталась. До того запуталась… Я не знаю… Я написала еще и Тетереву…
— Фью! Тетереву? Ну, так я и думал, что там фальшивка какая-то. А они, чудаки! — Я захохотал во все горло, вспоминая, с какой серьезностью и сочувствием читал вслух Вася Тетерев это письмо. — Вот это купила ты наших ребят так купила! Сказать им — действительно разорвут тебя на куски.
Шура потянулась через стол, схватила меня за руки.
— Да нет, нет, ты не шути, это же очень серьезно! Костенька, я за тебя боялась…
— Снова здорόво! Боялась за меня: Шахворостов рассердится. Вот она, «защита королевой». Э-эх!..
Но Шура продолжала и говорила что-то странное, дикое, говорила все так же часто:
— …я за себя боялась… Если я ему не помогу, он и меня посадит. Помнишь, в его письме: «Ты тоже была не святая»? Костенька, ну, честно, честно сейчас, ни капельки, ни одного слова не вру… Когда уволили меня с теплохода, мне Шахворостов помог… И познакомил с одним своим другом. Тогда я вовсе не думала — выйду замуж. А получилось так… И вот стала я… Там, на Севере, я продавала, что посылал Шахворостов нам, моему мужу… На много тысяч… Мне тогда хотелось, чтобы у меня было много… Ну, всего: и денег, и платьев, и украшений, и всюду ездить, ну, в общем жить хорошо… Я работала, и он работал, муж мой, чтобы было незаметно. Оба на морозе работали. И в пургу. Тяжести разные… Как мне все это доставалось!.. А мне хотелось, чтобы еще и еще деньги… Чтобы потом долго было все у меня, а мне не работать… Мы же не государство обкрадывали. Люди сами знали, что платят дороже. Но им очень хотелось купить такое, чего нигде не достанешь… Особенно заграничное… Ведь каждому за хорошую, красивую вещь заплатить лишнее не жалко… И мне тогда не стыдно было… — Она заплакала горько-горько навзрыд. — Теперь мне ничего не нужно, Костенька. Я ничего не хочу… Я хочу только… только… Я думала, всему давно конец….. Я же полтора года брошенная… Кроме проклятой отметки в паспорте, мне от него ничего не осталось… А Шахворостов за мной десять тысяч считает. Костенька, какие три тысячи ты ему должен?..
Бедная Шура, действительно, как она запуталась! И думает, наверное, что и мои три тысячи, «долг» Шахворостову, — это тоже какие-то расчеты с ними по купле-продаже. Ну что мне делать с ней? Какая она убитая, жалкая! На дверь показать: «С такими я даже разговаривать не желаю?» За Шахворостова и то ребята вон как вступились. А что Шура, разве хуже его? Вася Тетерев сильно сказал: «А ты, Барбин, хочешь, чтобы в коммунизм пришли одни прокуроры?»
— Шура, — сказал я, — а сейчас, вот сейчас забудь все старое совесть твоя чиста?
Она посмотрела на меня заплаканными глазами. Взялась рукой за шею.
— Костенька… ну, я не знаю, как еще сказать. Неужели больше не веришь?
— Ладно. Все! Что написала — написала. А теперь забудь, что на свете есть Шахворостов. Не бойся его и не думай о нем. Работай — и все! — Мне захотелось закончить наш разговор шуткой. — Сегодня ведь суббота, твой самый любимый день. А? Но, может быть, понедельник все же лучше? Когда пойдешь на работу, сравни…
Влетел Ленька с полными руками разных пакетов. Вывалил на стол. Заорал:
— На все! Я угощаю. А это…
Он развернул бумажку и вытряхнул два каменных цветочка-брошки, совершенно одинаковые. Ты гляди, какой стал рыцарь! Протянул одну Шуре.
— Тебе. А другой — Маше.
Шура взяла цветочек:
— Спасибо, Ленечка!..
И вдруг, снова брызнув слезами, выбежала из-за стола. Из кухни. Из комнаты, И я услышал, как застучали ее каблуки на лестнице.
Во дворе я не успел догнать Шуру, а бежать за ней по улице было нельзя. Вы сами представьте картину: девушка в слезах, а за ней здоровенный парень гонится. Это для посторонних. А соседи, кроме того, все знают Костю Барбина и знают, что жена его, Маша, в Москве.
Я вернулся, Ленька смирненько сидел, разложив свои покупки. Он действительно нисколько не оставил денег себе, израсходовал все. Такой щедрости у Леньки никогда раньше не было. И вообще на лице у него сейчас мелькало что-то юношеское, и сидел он прямее. Словно этот последний экзамен сразу перевел его не только в восьмой класс, но и в старший возраст.
Глазированные пряники высокой горкой лежали на тарелке. И мне вспомнилось, как всего лишь в прошлом году Ленька купил и принес вот так же полкило пряников, а пока я заваривал чай, он все их облизал в надежде, что я побрезгаю и пряники достанутся ему одному.
— Ну что ж, брат Ленька, — сказал я, — давай чай пить!
— А она хорошая, — сказал Ленька.
И больше мы ничего не говорили. Пили чай.
Не знаю, о чем думал он. А я думал так. Вот завтра я пойду к Васе Тетереву в гости, соберутся свои ребята. Будет весело. Послезавтра — на работу. Кессон все идет и идет в глубину. Хорошо! Может, уже через четыре дня приедет инженер Мария Степановна Барбина. А главное, моя Маша! Алешка вот-вот заговорит и встанет на ноги. Ленька — почти студент. Сам я осенью поступлю в институт на заочное. Словом, все ясно, просторно, открыто и хорошо. А «королева» Шура будет стоять у своей тележки, считать мокрые пятаки, с тревогой вынимать из почтового ящика письма и приходить домой, не знаю тоже, к веселому ли разговору. «Она хорошая», — сказал Ленька. Почему в годы Шуриной юности полюбилась ей суббота, а не понедельник?
Глава десятая Дина поправляет
Леньку похвалил я напрасно. Юношей он пробыл неполный день, вторую половину субботы. А в воскресенье с утра превратился снова в мальчишку. Он превосходно знал, что я приглашен на обед к Тетеревым. Значит, он должен был сидеть дома и нянчиться с Алешкой. Хотя бы то время, пока мы обедали. Но он тихонько поднялся утром, доел глазированные пряники, забрал с собой весь хлеб, сахар, неоткрытую банку консервов «лещ в томате», а в кухне на столе оставил записку: «Я отправился на Столбы со Славкой Бурцевым». На Столбы — значит, на весь день. Вот тут и соображай: идти или не идти в гости? Я пошел. Погрузил Алешку в коляску, туда же положил две бутылки портвейна, бутылку кипяченого молока, штук пять сухих простынок, «Сагу о Форсайтах» — Дина узнала, попросила почитать — и тронулся в путь.
У меня был запас времени, я провез Алешку по набережной, показал ему бык, где работаю, показал понтонный мост, который только начали наводить, поднялся на горку, что высится над музеем, и оттуда мы вместе полюбовались на правый берег с его сплошными заводами. А потом я повез парня просто по улицам города. И, не знаю как, очутился на углу возле аптеки. Шура стояла у своей тележки в белом халате, похожая на врача, нацеживала в стаканы сироп и газированную воду, рылась в тарелке с мокрыми пятаками. Меня она не заметила. Я почему-то моментально повернул коляску с Алешкой, покатил ее в обратную сторону. И очень боялся, вдруг за спиной услышу: «Костенька!»
Тетеревы жили в большом каменном доме на пятом этаже. И с очень крутыми лестницами. Я подумал сперва: «Оставить коляску внизу. Но, во-первых, ее могут увезти, мягко говоря, несознательные элементы, потому что вещь очень красивая, а во-вторых, мне не забрать в охапку все сразу: Алешку, три бутылки, запас простынок и «Сагу о Форсайтах». И я решил подняться на пятый этаж по лестнице вместе с коляской.
Но когда я пробовал толкать коляску, она своими маленькими колесиками упиралась в ступеньки, а когда я на очередной площадке разворачивался и пробовал ее тащить за собой, Алешка поднимал крик, потому что он оказывался вниз головой и на него катились бутылки. Наконец я сообразил: поставил коляску себе на плечи и великолепно осилил остаток пути.
Все были уже в сборе, недоставало только Виталия Антоныча.
Алешку у меня немедленно подхватила какая-то Васина бабушка — я всегда их путаю: Елизавета Ефимовна или Вера Прокопьевна — и утащила не знаю куда.
Вообще, если идти в гости к Тетеревым, нужно брать с собой список, чтобы не запутаться, кого как зовут, — двадцать один человек не шутка! Правда, в последнее время им дали еще одну квартиру, потому что в прежней у них было, как в вагоне пригородного поезда: можно стоять, можно сидеть, а ложиться не разрешается. Но они, между прочим, даже ложились. И вообще жили очень дружно. Я не знаю, как они поделились на две квартиры. По-моему, никак. Только прописались в милиции, кровати развезли, а спали на них кого где ночь застанет. Надо сказать, что вторую квартиру дали им далеко от первой, совсем в другом конце города.
Придешь к ним вечером, только и слышишь: «А Тонечка где? Она ночевать будет там?» Или: «Тетя Нюра, я лягу сегодня здесь, на Пашкиной кровати?» Или: «Бабуся, пусть Вовка идет туда».
Так и обедали. То вдруг к одному столу соберется человек пятнадцать, и «главная бабушка» не знает, как племя свое рассадить, где взять тарелки и где взять супу в эти тарелки. То наготовят на полное семейство, а явятся к столу всего пятеро. Остальные «туда» ушли. Вася все добивался, чтобы в обе квартиры им поставили телефоны, тогда бабушкам было бы легче управляться. Диспетчеризация.
При общих для всей семьи званых гостях за столом распоряжалась «главная бабушка», по-моему Елизавета Ефимовна, а если персонально своих гостей созывал Вася, командование поручалось, конечно, Дамдиналии Павловне. Делала она это с большим удовольствием, не знаю, с каким умением, потому что у Дины всегда получались какие-нибудь накладки. Или селедку с луком поставит на стол уже после компота, или вдруг окажется, что еще в самом начале обеда гости съели весь хлеб и кому-то бежать в булочную. Но у них даже и это всегда выходило весело, со смехом. За столом Дина сама почти не ела, а только хохотала.
Все сбежались, когда я вкатился со своей коляской в переднюю. Дина меня поцеловала: «За Алешку». И тут же на совесть треснула по щеке: «А это за бутылки». Вообще она очень любила целоваться. Не знаю, только на народе и с посторонними или всегда.
К столу она нас не пустила, загнала в другую комнату, где был патефон.
— Пока Виталия Антоныча нет, покрутите пластинки.
Жен Володи Длинномухина и Пети Фигурнова она забрала с собой:
— Девочки, поможете свеклу чистить, у меня винегрет еще не готов.
Но мы пластинки не стали крутить, а попросили Васю Тетерева сыграть на мандолине. Он очень красиво играл серенады и неаполитанские песенки. А Тумарк тихонечко напевал слова. Голос у него приятный, как раз для неаполитанских песенок. И всем это очень понравилось, такой концерт. Только один Кошич сказал хмуро и словно бы вскользь: «Мандолинят из-под стен: тара-тина, тара-тина, тэнн». Но это можно было принять и как декламацию к случаю.
А потом начался разговор. Всякий, пестрый. Его не только в книгу, а и на пленку не запишешь, не поймешь, что к чему, — лоскутки. Словом, по поговорке: и о дровах и о грибах. Вася Тетерев упомянул о повести, которую он недавно прочитал. Оказалось, ее читали все.
Суть дела такова. Московский парнишка, десятиклассник, едет куда-то на большую стройку в Сибирь. Парнишку в семье от всякого физического труда оберегали, да и какой там физический труд в московской квартире, когда человеку даже не нужно ни дров наколоть, ни воды принести, ни ведро мусора на помойку стащить! В школе парнишке почему-то внушили, что труд — занятие пустяковое, все делается по щучьему велению, без пота, без усталости, без мозолей. Учителя, сторожихи и уборщицы в этой школе совсем не трудились; то же самое и его папа с мамой и все родственники; мужчин никогда не было дома, а женщины все время крутились около зеркала и шили себе неизвестно на какие деньги новые платья. Так что живого примера большой трудовой жизни у парнишки не было вовсе. Книги читал он исключительно про шпионов и уголовников, которых ловят, как бабочек сачком, про полеты в бесконечность и куда-то дальше, где весь труд такого полета — один раз на старте нажать кнопку. Других книг то ли он сам не брал, то ли библиотекари ему не предлагали, то ли писатели для него не писали, — словом, из книг он тоже понял только одно: жизнь проста и легка, знай нажимай на кнопки и на пробки. А пшеница растет на полях, плавится руда в доменных печах, и заводы, фабрики, дома воздвигаются как-то так, сами по себе, без приложения силы рук человеческих. И никто, никто не говорил ему о жизни настоящей правды. И родители, и учителя, и газеты, и книги — все чего-то хитрили, приглаживали, прятали. А руки свои на ночь он сам смазывал питательным кремом «Снежинка».
Как видите, парень — хлюпик. Но за работу на стройке взялся честно. Распузырил себе кровавыми мозолями руки, ноги повывертывал в глине, живот надсадил и нажил бронхит в холодном, сыром котловане. Ночью кашляет, стонет, мечется, во сне проклинает родителей, школу и книги, газеты, почему они все скрывали от него правду жизни, а утром снова на дрожащих ногах и под дождем идет в холодный, сырой котлован, натирает на руках мозоли, уже такие, что пальцы совершенно согнуть невозможно и приходится орудовать лопатой, притиснув ее локтем к боку. Он бы умер от мучений прямо там, в котловане, но рядом работают девушки, легко и весело, без всяких мозолей, без бронхита — и парень держится, копает землю, хотя в голове у него нет уже никаких мыслей, кроме одной, страшной: «Вот она какая, настоящая жизнь. Будь проклята школа!» И он бы все же, наверно, умер, но девушки показали ему, как нужно держать лопату, и напоили молоком с содой. Кашель прошел, мозоли тоже. Наступила хорошая погода. Котлован закончили и начали кирпичную кладку. Парень занял первое место, девушки — второе. Парень послал родителям письмо: «Теперь я знаю, что такое труд. И я люблю труд. Остаюсь в Сибири навсегда». Не помню только в точности, женился или не женился парень на этих девушках. Кажется, все-таки женился. На какой-то одной.
Вася Тетерев сказал:
— Хорошая книга. Я ее прямо за один присест проглотил, а Дина, по-моему, раза три перечитывала. Как там дана Сибирь! А стройка! Девушки какие! И парень из хлюпика стал героем. Мне очень нравится мысль автора: труд переделывает человека.
— Читаешь другие книги — скука, — поддержал Тетерева Петр Фигурнов, — словно инструкцию читаешь. Все там описано, что из чего делается, как делается, какой брак на производстве бывает и как с ним бороться. А вот пойти мне потом на это производство работать — все равно ничего знать не буду. Читал инструкцию, а какую-то все же неясную. И не с полным доверием к ней. Все-таки писателем, а не инженером написана! Откуда ему все тонкости в деле знать? Ухватится в производстве за что-нибудь завлекательное, а оно не главное. Вот журналы «Знание — сила» и «Техника — молодежи» — это да! Там точная наука. Настоящая. И написано очень понятно. Коротко. Все как-то плотно, вместе. Не надо вот такую книжищу читать. Науке, производству любовь и природа там не мешают.
Тетерев:
— Да ты, Фигурнов, не про журнал «Знание — сила», ты про эту книгу скажи свое мнение. Нам очень интересно знать твое мнение о книге. Я думаю, оно есть у тебя.
— Так я уже и сказал. Для ясности. Нравится. Захватывает. Где о самом парнишке и о девушках.
— Язык прекрасный, чистый, — сказал Тумарк, подергал челочку на лбу и сразу подтянулся, откинул голову, стал в позу лектора, какую он принимал всегда, когда разговаривал с нами об искусстве. — Язык у автора великолепный. Книгу вслух очень легко читать. Природа там тонкой кистью выписана. Это не Пришвин, но к Пришвину приближается. И характеры обрисованы крупно, ярко. Конфликт взят очень острый: разрушение у человека иллюзий, ложных представлений о действительности. Человек слабый, маленький, вышел в открытое море жизни, оно его может погубить, захлестнуть, но человек выходит победителем. Книга эта по смыслу своему, по своей тональности как древнегреческая трагедия: человек бросает вызов… богу! Столкнулись два титана, всемогущее божество — жизнь и человек. Мы с мамой думаем сделать по этой книге инсценировку для театра. Ух какая сильная получится сцена, когда парень стоит с распухшими руками, ноги дрожат от усталости, голова кружится, надо успеть закончить котлован, а тут надвигается гроза с ливнем, который может все смыть, уничтожить!
— Погоди, Тумарк, — сказал я, — но ведь он же просто так, столбом стоял в котловане! Мучился.
— А это не имеет значения, — возразил Тумарк, — в художественном произведении всегда выделяется психологически самый сильный момент. Он преодолевает себя в это время.
И мы заспорили:
— А что завидного в этом моменте? Парень — хлюпик. Черт его знает, как он вырос таким! Ну, привыкает к работе. И ладно. В чем тут подвиг?
— Костя! Он духовно пересиливает свою физическую слабость.
— Так он же в котлован, как на казнь, идет!
— Вот это и здорово. Это показывает мужество человека.
— Не понимаю. Тумарк, ты когда-нибудь на теплоходе или теперь в кессоне так вот стоял, с распухшими от работы руками? Шел на работу, как на казнь?
— Костя, так нельзя сравнивать. Мы же с тобой ниоткуда не приехали. И родители нас не баловали.
— Ну да, и школа нас не погубила, а мы ведь с этим хлюпиком по одним программам учились. И для нас почему-то совсем другие книги были написаны. Леньке моему таблица умножения никак не давалась, мучился человек, едва-едва в четвертом классе ее запомнил. Так что же, теперь о нем книги писать? Он герой?..
— Костя, это не совсем одинаково. И не типично. А таких, как тот парень, много.
— Ну, во-первых, я не верю, что их очень много. Во-вторых, нас, кто ниоткуда не приехал и от работы в обморок не падал, куда больше, а о нас с таким умилением книг не пишут. И, в-третьих, такой книгой человека вернее от труда оттолкнешь, потому что труд там показан мучительным и тяжелым. А это неправда!
Я не знаю, сколько бы еще мы вдвоем с Тумарком спорили, потому что остальные ребята слушали и нам не мешали, но влетела Дина.
— Это невозможно! — сказала она. — На третье у меня было приготовлено ягодное желе, от вашего крика оно все расклеилось. И Верочка Фигурнова в испуге: «Они нехорошо спорят. Костя обижает приезжих». Казбич, миленький, я всегда ваша защита, хотя я тоже ниоткуда не приехала. А кроме того, пришел Виталий Антоныч. Поэтому к столу.
Она, так сразу взяла все в свои руки, что никто и не пикнул, даже Кошич, которого от «миленького Казбича» прямо передернуло. Мы сели как попало, но Дина сейчас же сделала свои поправки:
— Мужу с женой рядом нельзя. Двум мужчинам рядом тоже нельзя.
И я оказался соседом «главной бабушки». Кошича она посадила в конце стола, рядом с Верочкой Фигурновой: «Ухаживай, дорогая, за ним». Но через минуту вытащила ее, послала к Виталию Антонину, а сама заняла Верочкино место.
— Можно? — спросила Кошича. — Мне здесь удобнее. — А ко всем: — Напоминаю. Порядок у нас постоянный. Пьют и едят без приглашения. Женщины ухаживают за мужчинами. Но не особенно. Только там, где опасно, где мужчины могут запачкать скатерть. Кто вздумает выпить лишнее, вспомните о моей профессии. Не пощажу. Смеяться — без нормы. Меня Язвой не называть, Дуоденалией — можно. Уксус в чайнике. Начали!
Не знаю, кому как, а мне порядок в доме Тетеревых и сама Дина очень нравились. Все просто, открыто, без церемоний. И весь дух у них в доме светлый, бодрый, я бы сказал, возвышенный. Я никогда не слышал у них, чтобы говорили о ценах на картошку, чтобы жаловались на управдома или на горсовет, почему в квартире рассохшийся пол не перестилают, чтобы вздыхали: как это врачи до сих пор не могут надежно вылечить рак!
И Вася, когда домашний, говорит — не подбирает слова, как для стенной газеты. Прежде, еще на теплоходе «Родина», мы только и знали его одним: весь в своей должности. Даже больше, чем надо. Хотя и тогда мы понимали: Вася добрый, простой. А сухие, скучные слова из него всякие протоколы и деловые бумаги вытягивали. Теперь он с бумагами дела почти не имеет.
Я не буду описывать, как был накрыт стол и чем нас кормили. Это неинтересно. Обед как обед. Настоящий, рабочий, какой бывает в воскресенье, когда торопиться некуда, и повкуснее чего-нибудь на закуску поставить можно, и даже выпить, кому нравится. Но, кстати сказать, Дина напрасно, только для остренького словца грозила своей профессией. Среди нас не было таких, никто из нас не любил петь «Шумел камыш, деревья гнулись». Да и трудно это было бы сделать у такой хозяйки, как Дина. Она все время вызывала каждого на разговор. Попробуй заскучай, помолчи или запой «Камыш», когда тебе нужно отвечать на вопросы! Поэтому за столом у нас стоял беспрерывный веселый галдеж.
Особенно хохотали мы, когда кто-нибудь из ребят все-таки «ляпал» на скатерть, потому что по Дининым суровым правилам отвечали за своих соседей женщины и должны были тут же исправлять беду: нашатырным спиртом, солью или теплой водой с мылом.
Но посреди сплошной зыби такого веселого смеха, тоже по обычаям Дины, обязательно появлялись и островки, когда все должны были замолкнуть и послушать одного. У Дины для этих случаев была сигнальная дудочка, детский рожок.
Первый такой островок появился у нас, когда поднялся Виталий Антоныч. Дине даже подудеть не пришлось. Она только предупредила:
— Виталий Антоныч может произнести любую речь.
И он сказал, вглядываясь на свет в фужер, наполненный чуть желтоватым виноградным вином:
— Моя здравица, дорогие, за наших матерей. — Он поклонился в сторону «главной бабушки». — А прежде всего за нашу великую мать Родину, которая сделала осмысленным труд человеческий. Меня тянет по-стариковски в воспоминания. Сдержусь. Скажу только, что мост через Енисей в моей жизни двадцать четвертый. А я всю жизнь кессонщик! Я не знаю, сколько я еще построю мостов. Сердце Байрона, вы, наверно, читали, ребятки, похоронено в Греции, которую он очень любил. Я бы хотел, чтобы мое сердце, когда придет пора, похоронили в кессоне, на дне реки… Хозяйка грозится. Не буду. Вот вы, речники, вы построите для своего города мост и вновь вернетесь к родному Енисею. А я никогда не построю до конца «своего» моста, потому что все будущие мосты тоже мои, хотя специальность моя будет называться как-то иначе. Куда я вернусь, закончив мост на Енисее? Мне никуда не нужно возвращаться. Я просто останусь на месте, на «своем» бесконечном мосту, а подо мной будет струить воду какая-то другая река: Лена, Ангара или Сыр-Дарья… Диночка, нет, это не из категории печального!.. Я счастлив, я глубоко счастлив своей судьбой. Вот вам, может быть, иногда кажется, что дни наши проходят совсем одинаково, что в наш век высокой техники обидно работать в кессоне все той же заслуженной лопатой. Где же новаторство? Я вам скажу. Не каждый день рождаются великие идеи. Но если оглянуться хотя бы на сорок лет назад — и в нашем, кессонном деле вы бы увидели разницу. О-о, сорок лет назад работать в кессонах было намного тяжелее и хуже! Но главная разница в другом. И прежде искали, как облегчить, обезопасить труд рабочих в кессонах. Но, главное, искали, как взять побольше от мускульной силы рабочего. А теперь ищут и нашли уже новое в том, как уничтожить опасности. И тяжелый труд. И малую его производительность. Я люблю кессонное дело. Привык к нему. Но в этих поисках состояла, пусть маленьким пайщиком, и моя седая голова. Я много искал. И мало находил. Не каждая мысль — золото. Но каждая найденная крупица золота уже оправдывает твою работу на промывке пустых пород. И когда я вот так находил свои крупицы золота, это становилось моим большим счастьем. Принято пить за счастье, то есть за поиски счастья. Я хочу вам предложить выпить, наоборот, за счастье поиска. Нам не нужно готового счастья, которое где-то лежит и надо только поднять его. Быть в поиске — вот наше великое счастье. И у вас, молодых, оно впереди…
Виталий Антоныч выше поднял руку, в которой держал фужер, и мы все потянулись к нему чокнуться, а Дина даже поцеловала Виталия Антоныча.
— Спасибо, спасибо вам за хорошие слова!
И мне в этот раз Виталий Антоныч особенно напомнил академика Рощина. Любовью к труду, к своей профессии, желанием видеть нас, молодых, идущими по большим путям жизни. Я подумал: а берем ли полностью мы все то драгоценное, что накопили для нас в жизни своей старшие? Не слишком ли стремимся жить мы целиком «по-своему»? Не протаптываем ли мы «новые» тропинки там, где наши деды уже пробили надежную, широкую дорогу?
Да. Но Виталий Антоныч кончил, и снова пошла мелкая зыбь разговорная. Хотя примерно уже и по этому кругу.
Володя Длинномухин сказал, что мы как-то жмем все больше на технику. Нельзя, чтобы человек в своем духовном развитии отставал от техники.
Но Тумарк Маркин ему возразил. Если бы советский человек оставался внутренне таким, какими были люди до революции, то и в технике нашей никакого прогресса не было бы. Духовное развитие людей все время идет впереди техники, только они этого просто не замечают, как вообще человек не замечает, к примеру, своих глаз и ушей.
Дина тут же вставила, что она свои уши и глаза все время замечает, видит в зеркале и очень довольна: глаза и уши становятся все красивее.
Верочка Фигурнова крикнула:
— Надо с прошедшим временем все сопоставлять! Виталий Антоныч правильно говорил. Была я маленькой, папа каждый год на дверном косяке отмечал мой рост, а я росла и сама этого не чувствовала. Только когда к косяку подойду, погляжу на папину отметку, поверю — подросла.
Кошич немного свысока заметил ей, что путь к сияющим вершинам будущего проходит по горным кручам и надо смотреть только вперед: кто будет оглядываться, тот непременно оборвется в пропасть.
Петр Фигурнов заявил, что все должно быть в меру.
А Дина встала:
— Казбич, миленький, дайте я вас поцелую! — Наклонилась и действительно поцеловала его в макушку. — Не могу оставаться равнодушной, когда говорят о родном Кавказе!
Кошич покраснел, дернулся, но сообразил: рявкни он что-нибудь грубое, ему не простят, его же и высмеют.
— Я говорил вообще о горных кручах, а не о Кавказе! — Он не нашел, как ему отшутиться. — И это слова не мои, а Карла Маркса.
Вася Тетерев осторожно покашлял в ладошку.
— Я думаю, Кошич ошибается. Здесь только два слова принадлежат Карлу Марксу — «сияющие вершины», а все остальные слова его.
И мы захохотали, чего больше всего боялся Кошич. А Вася Тетерев, видимо, и не думал ставить человека в глупое положение, он сказал просто так, по своей начитанности и по привычке поправлять то, что было явно неверным. Кошич растерялся, поморгал глазами. Начал было:
— Дамдиналия Павловна…
— Не надо так, Казбич, миленький, — простительно сказала она. — Я ведь предупреждала: Язвой не надо называть. Зовите меня просто Бэлой.
И Кошичу надо было или принимать шутку, или уж вставать и вовсе уходить из-за стола. А Дина снова сказала:
— Как нехорошо, мы все время обижаем человека. Костя Барбин говорил неуважительные слова о приезжих. Я перепутала географию. А Васюта вздумал и вовсе бог знает что. Казбич, миленький, приносим вам свои извинения.
Ну вот, ей-богу, не знаю кто как, а я на Дину и вообще, а в этот раз в особенности, не мог бы рассердиться. Правда, иголки свои она всаживала глубоко. Но лечебно. Как в китайской медицине.
Дина кричала:
— Товарищи! Тише, товарищи! Казбич хочет произнести тост за мое здоровье. И, кроме того, от имени приехавших в Сибирь ответить Косте Барбину.
Куда было деваться Кошичу? Он стал так, как стоял до него Виталий Антоныч, и так же приподнял фужер, только не решался рассматривать вино на свет.
— Как мне приказано, — сказал он, но хорошей шутливости в голосе у него не было, — как мне приказано, я поднимаю этот тост (Дина тихо прошептала: «бокал») за здоровье Бэлы, за хозяйку дома, стоящего не на горных кручах Кавказа, а на отрогах Саян. Еще мне приказано ответить Барбину от имени молодежи, приехавшей в Сибирь. Я буду отвечать только от своею имени. С той книгой, о которой он говорил, я тоже мало согласен. Хлюпики не герои, кровавые мозоли на руках и даже преодоление этих мозолей не подвиг. У меня сперва тоже были мозоли. Я не горжусь ими, я стыжусь их: не умел держать инструмент. В Сибирь приехать — тоже не геройство. Но Барбину хочется, чтобы умиленно писали только о тех, кто ниоткуда не приехал. Желание скромное. Сам Барбин как раз ниоткуда не приехал…
Надо сказать, действительно поддел он меня ловко. Все засмеялись. Мне тоже вообще-то понравилось: не возьмешь парня голыми руками! А Дина весело хлопнула в ладоши.
— Казбич, за мной двадцать копеек!
А Кошич, довольный, продолжал:
— С чем я не согласен? Труд для человека не может быть удовольствием, радостью. Труд — это необходимость. Одному тяжелая, другому полегче, но все равно необходимость. Дай человеку все готовое — и его никогда не потянет к работе…
— Неправда, юноша, — тихо, но внятно перебил его Виталий Антоныч. — Человека к работе потянет, свинью не потянет. Простите, я вас прервал.
— А что, разве я плохо работаю? — вдруг закипел Кошич и сразу сделался Казбичем. — Или я других призываю: не работайте? Работать надо. Но именно потому, что мы люди.
— Казбич, миленький, — жалобно сказала Дина, — я вам двадцать копеек уже не должна. Я не хочу быть свиньей!
Кошич медленно передохнул, сбычился, свободной рукой резко рубанул по воздуху. Понимай так: «Сейчас дам я вам деру!»
— Мне не нравится, когда говорят красивую неправду о труде, что это потребность, что это радость. Зачем человеку неправда? Работать все равно ему необходимо. Но ему говорят…
— Кто говорит? — тихо-тихо спросил Виталий Антоныч.
— Говорит один другому. Но только тому, который должностью пониже: вы — мне, вам — главный инженер, главному инженеру — начальник строительства, начальнику строительства — министр. — Кошич теперь уже совершенно разгорячился, все лицо у него было в багровых пятнах, как штаны у маляра. — Если бы рабочим были вы, а мастером я, я бы вам говорил!
— Казбич, вам девятнадцать лет, — напомнила Дина.
— В девятнадцать лет люди писали философские произведения, а старики по этим произведениям учились понимать мир, — отчеканил Кошич и еще выше приподнял фужер. — Я предлагаю выпить за самостоятельность мысли!
Мы сидели и переглядывались: дурак он или Наполеон? Пори любую чушь, но зачем же снова оскорблять нашего Виталия Антоныча?
Да нет, если как следует вдуматься, чего там Виталия Антоныча… Он оскорбил всех! Он оскорбил рабочих, наши отношения между собой, он правду назвал неправдой.
Понятно теперь, почему он всегда грозиться «дать деру» любому «начальству».
Эх! Подраться разве? Обидно испортить хороший, веселый обед…
Но мы молчим, а он стоит Наполеоном. Затеять серьезный опор? Нет, сейчас не это нужно. Читал я где-то, как однажды этот самый Наполеон, император французский, сказал: «От великого до смешного один шаг». Вот этот шаг бы! Срубить одним веселым, ядовитым словом… Дина, ну, где же ты, Дина?
Об этом долго пишется, а заминка была всего на какую-нибудь минуту. И наверно, все же начался бы общий галдеж. А может быть, и драка. Во всяком случае, я не видел уже ничего, кроме красного уха Кошича, которое так и тянуло к себе мою ладонь. Я даже с дрожью где-то в горле чувствовал, как тяжело пошатнется Кошич, как станет он цепляться тонкими пальцами за скатерть, за кромку стола. Этого еще нет, но это сейчас, сию секунду будет. Я не мог уступить ему нашу, рабочую честь. Но стал приподниматься побледневший Виталий Антоныч.
— Простите… Простите… Я не знаю, тогда, по-видимому, мне…
Похоже, что он просто хотел уйти. Уйти потому, что не связываться же с мальчишкой ему, когда мы все молчим.
Я вскочил, отвел руку, определяя расстояние. Но Дина сделала быстрый жест: «Подожди!» Не знаю, хорошо ли умела Дина играть в шахматы, но этот новый ход у нее был рассчитан здорово. Его не понимал Кошич, а мы все поняли: «Дина «поправляет». И ждали теперь, какой фигурой она его сделает. Дина вдруг звонко чокнулась с Кошичем, засветилась улыбкой и эта улыбка как-то сразу передалась и нам. Дина сказала восторженно:
— Выпьем! Выпьем, друзья! За самостоятельность мысли! Я, например, думаю… — Дина сразу сбавила голос и с состраданием шепнула Кошичу так, что все мы тоже услышали: — Казбич, миленький, я самостоятельно думаю, что вы скушали слишком много пирогов с черемухой. От нее бывает и не такое…
В этой главе я больше ничего не буду писать…
Глава одиннадцатая Алешка купается
Хорошо, что Маша едет поездом номер четыре, который идет до Владивостока, а не сорок восьмым, нашим собственным, красноярским. Расписание составлено так, что владивостокский состав проходит через Красноярск в семь часов вечера, а «свой», который дальше уже никуда не идет, прибывает в 4,59. Ни ночь и ни утро. Попробуйте пять дней подряд встречать такой поезд.
Вообще за эти дни я стал совершенно своим человеком на вокзале и узнал не только, как составляются графики, но и какая сила тяги у паровоза серии СО, серии П-36, как устроена автоблокировка, что такое селектор и за кого вышла замуж дочка начальника станции.
Вы сами понимаете, мне очень хотелось встретить Машу с Алешкой на руках. И с букетом цветов. Так, что цветы эти будто бы держит сам Алешка. Правда ведь, здорово?
Уже вовсю цвели любимые Машины желто-оранжевые махровые огоньки. Еще можно было найти кремовые и темно-фиолетовые подснежники. Иногда попадались даже первые туго закрученные и словно сделанные из воска красные саранки.
После работы я сразу садился на пригородный поезд и ехал до остановки, где начинался настоящий лес. Я рассчитывал свое время так, чтобы успеть набрать хороший букет и вернуться обратно чуть-чуть пораньше прибытия владивостокского. К этому времени Ленька привозил на вокзал Алешку в коляске, потому что в автобусе ездить с ним не дай господи.
А дальше действие развивалось так.
Когда по радио девушка с постоянным насморком и совсем без запятых объявляла: «Граждане пассажиры с соседней станции вышел скорый поезд номер четыре следует Москва — Владивосток встречающие и провожающие приобретайте перронные билеты за нарушение штраф поезд принимается на второй путь камера хранения находится с восточной стороны вокзала», — я покупал Леньке ягодное мороженое и оставлял его с коляской на привокзальной площади, а сам с цветами и Алешкой выходил на перрон.
Скорый поезд прибывал на второй путь всегда точно в тот момент, когда по первому пути проходил встречный товарный длиной километра четыре и засыпал всех пылью и угольной гарью. Я бегал по перрону взад и вперед, заглядывал товарному поезду под колеса, чтобы понять, в каком месте остановится третий вагон скорого.
Мне были видны только ноги пассажиров, выходивших из третьего вагона. Выходили главным образом мужские ноги. Я знал, в каких туфлях Маша. Но Машины туфли не показывались. Конечно, в Москве она могла купить и новые. И если я все же замечал женские ноги в новых туфлях, я на всякий случай кричал: «Маша!» Алешка тоже кричал. Но он кричал просто от испуга, потому что товарный поезд грохотал невыносимо. И крики наши поэтому, вообще-то говоря, были ни к чему.
Потом товарный поезд пролетал. Открывалась полная панорама. И оказывалось, что Маши там нет. Я подходил к окошечку справочного бюро, показывал девушкам телеграмму и спрашивал: «Когда же все-таки приедет Маша?» Девушки читали, улыбались и говорили: «Не знаем. Может быть, завтра?» И я им отдавал цветы, потому что за целые сутки они все равно завянут.
Потом менял у Алешки пеленки, грузил его в коляску и катил домой. Ленька, отработав свое, бежал прямо на Енисей купаться.
И вот так подряд пять дней. По одной и той же системе. На пятый день контролерша сказала: «Гражданин, вы бы взяли в отделении постоянный пропуск на перрон. Чего же зря убытиться?» А девушки из справочного бюро подсчитали: «Вам осталось ходить в крайнем случае три дня. Потому что билеты в Москве продаются заранее не больше как на неделю вперед».
На пятый день, в воскресенье, за цветами я не поехал. Послал с утра Леньку со Славкой Бурцевым. У них получалось три часа лишних, съездить за это время могли они даже за Маганск и набрать там по берегам ключей пунцовых марьиных кореньев — роскошных, каждый цветок в ладонь величиной. Условились, что теперь уже они подъедут на пригородном к владивостокскому поезду, а я прикачу Алешку в коляске. Надо было непременно его выкупать. За эти дни он так пропитался угольной гарью, что стал похож не на речника, а на железнодорожника.
Выкупать Алешку я собирался пораньше. Но увлекся уборкой квартиры. Погода стояла теплая, немного ветреная, через раскрытые окна в квартиру тащило густую пыль. Ленька полы мыл вполне прилично, а с пылью бороться не любил. И вообще пыль не считал грязью. Положишь руку на книгу, швейную машинку — пожалуйста, отпечаток как рентгеновский снимок, доктор может операции делать. Занавески тряхнешь, потом не расчихаешься. Ну и пришлось всю эту беду мне выгонять. Шура теперь заходила лишь изредка, пасмурная, хотя о Шахворостове и не вспоминала, тютюнькалась с Алешкой, а тряпку в руки почти не брала. И правильно: у Леньки летние каникулы!
С пылью я справился только перед самым обедом.
Согрел воду для купания — остыла. Пришел Петр Фигурнов. Поговорили.
Свои, рабочие разговоры. По данным разведочного бурения, согласно «легенде», ниже пойдут косые скальные пласты, которые придется все время взрывать и долбить пневматикой — много за смену не сделаешь: компрессор стал что-то пошаливать.
О Кошиче пошел разговор. После того обеда у Тетеревых всю неделю мы его молотили. Начисто, правда, не вымолотили. Работает на совесть. С нами не заедается, Виталию Антонычу тоже всегда в конце смены говорит: «Будьте живы». Но все потряхивает своими камешками в кармане, улыбается: «Я мальчик с пальчик, погодите немного…»
Ушел Фигурнов. Снова нагрел воду. Опять остыла: Алешка уснул. Не станешь купать сонного человека. А время между тем движется.
И я рассчитал так. Коляска у нас скоростная, обтекаемая, до вокзала Ленькиного ходу полтора часа. Я дойду за пятьдесят минут. Алешке купаться тоже около часу. Значит, он должен проснуться не позже пяти. Или поедет на вокзал грязный.
На глаза мне попалась «Сага о Форсайтах». Дина ее вернула вчера утром, а Ленька так и не сдал в библиотеку. Дина сказала: «Интересная, глубокая книга». Когда только Дина сумела ее прочитать, если верить, что в лаборатории все анализы она делала правильно?
Я стал перелистывать книгу, потом кое-где прихватывать глазами отдельные строчки, потом целые страницы и, наконец, подсел к окну, рассчитывая почитать до пробуждения Алешки.
Книга действительно оказалась очень интересной. Я читал и читал главу за главой, пока солнышко не вывернулось из-за угла каменного дома и не стало мне жечь глаза. Так бывало уже под вечер, но я посмотрел на часы — только тридцать пять минут пятого — и успокоился: дни все еще прибывали.
Через три главы явилась Шура. На этот раз веселая. Тугие кудряшки по щекам перекатываются. Губы яркие, словно накрашенные. Сама в нарядном, праздничном платье с короткими рукавчиками. Приколола каменный цветок, брошку, которую подарил ей Ленька. На плечах тоненький шарф. Сказать бы, как на свадьбу наряженная. Но если вспомнить нашу свадьбу — на Маше было надето платье куда скромнее. Принесла два каких-то кулька: «Для Ленечки». И красивый будет цветов. Не лесных, оранжерейных.
— Костенька, а разве Маша еще не приехала? Я так была уверена, что она дома.
С этого и пошел наш разговор. Главным образом о Маше: как это могло получиться, что вот такая нелепая телеграмма…
Шура обвиняла в небрежности телеграфистку, говорила, что та не должна была принимать телеграмму, если человек по рассеянности не поставил число, день выезда; говорила, что на телеграфе работают не люди, а куклы. Она высмеивала телеграф, но мне почему-то казалось: высмеивает Машу. Ее обвиняет в небрежности, ее называет рассеянной, ее называет куклой. Слушать это мне было неприятно; Шура, наверно, поняла по моим глазам. Она тут же, как от комара, отмахнулась рукой: «Да ну их, этих телеграфисток!» И взялась расхваливать Машу за ее способности. Ох как трудно заочницей, имея ребенка, закончить вуз! Да еще технический! Бедная, всем-всем приходилось ей жертвовать! И опять как-то так получалось: забросила Маша семью, Алешку, меня, а впереди беспокойная судьба, сиди по ночам над чертежами и расчетами. Похвалы Маше оборачивались вроде бы осуждением. Но сами слова у Шуры все время были хорошие, правильные. А меня изнутри они обжигали. Так же, как обжигали ее через меру полные, яркие губы и очень пристальные глаза, серые, с блеском стали. Случалось с вами такое?
И я чуть не закричал на Шуру, чуть не оборвал ее грубо и резко. Но тут же вдруг понял, почему все это так. Я соскучился по Маше, и особенно сильно оттого, что она едет и все никак не может приехать. Я хочу Машу. Я хочу, чтобы не Шура, красивая, внимательная, а Маша, красивая и милая, стояла передо мной. Я хочу слышать не Шурин, а ее голос. Я хочу видеть Ленькин каменный букетик на груди у Маши, а не у Шуры. Я хочу обнять Машу за плечи и подойти с ней вместе к Алешкиной кроватке, посмотреть, как он спит. Я…
В кроватке заерзал Алешка.
Шура почему-то приподнялась на цыпочках, приложила палец к губам, потом беззвучно похлопала ладошками, подбежала, обняла меня за плечи и потащила к кроватке.
— Костенька, он проснулся!
У нее было написано такое удовольствие на лице, что даже Алешке стало сразу весело. Он, моргая заспанными глазенками, потянулся к ней.
— Барбинчик мой, цыпа маленькая, — сказала Шура, причмокивая и помогая ему выбраться из кроватки.
А я сказал строго:
— Капитан! Сейчас будем купаться.
И пошел на кухню готовить ванну, по пути мельком взглянув на часы, которые лежали у меня на столе. Нет еще пяти. Превосходно! Вовремя проснулся Алешка. А мне, между прочим, казалось, что только с Шурой я проговорил час целый. Вот как тянется каждая минута, когда она скучная!
При наших семейных обстоятельствах ясное деление домашней работы на мужскую и женскую я давно потерял. Еще когда мы вдвоем с Ленькой были. Надо сказать, Маша тоже не очень стремилась законную женскую работу непременно взять на себя. Так у нас и шло без разбору. И шло совершенно нормально, пока не появился Алешка и не понадобилось его кормить, купать и все прочее.
Тут пошли споры.
«Кормить, — заявила Маша, — пока у него коренные зубы не вырастут, я тебе не позволю, ты на всю жизнь испортишь желудок ребенку. Притом первое время по самой природе своей это дело чисто женское». Хотя, замечу сразу, до коренных зубов Алешке еще далеко, но сейчас кормлю его я, и желудок у парня не портится. А кроме манной каши и молока, я даю ему и колбасу, и селедку, и даже кедровые орехи.
«Купать Алешу, — сказала Маша, — тоже стану я, это дело тоже женское. Я, как мать, его хрупкое тельце лучше чувствую. А ты ему можешь вывихнуть руки и ноги. Поэтому ты стирай пеленки и подходи к малышу, когда он закричит. Надо сразу оказывать на него мужское влияние, а стирать ты так и так уже умеешь».
Вот тут у нас и пошла борьба. Подходить к Алешке, когда он закричит, меня не очень-то завлекало, потому что, понимаете сами, по какой причине чаще всего дети кричат. А купать Алешку мне очень хотелось. Именно тут самое сильное мужское влияние можно на него оказать. Температурой воды. Кроме того, такого мокрого лягушонка держать в руках очень приятно. Это самое главное. И я доказал Маше, что отделять пеленки от ребенка неправильно: кому пеленки стирать, тому и ребенка мыть.
Но я уходил на работу. Возвращался, и Алешка, выкупанный, лежал себе, сопел, кормился под боком у Маши, а пеленки лежали в тазу и ожидали мужского влияния. Маша мне разъясняла: «Костя, купать надо обязательно до еды. Пора кормить, а тебя дома не было». Будто Алешка ел один раз в день: именно тогда, когда я на работе!
Я долго не мог сообразить, как мне одолеть в этом деле Машу, но все же догадался: стал купать Алешку по второму разу. Выбрать время перед едой было нетрудно: ел он часто. И Маша сдалась, сказала: «Ну ладно, давай будем вместе. Два раза в день купать ребенка не надо — простудить можно».
Теперь я наверстывал все, что раньше у меня перехватила Маша.
Не знаю, у всех ли отцов одна технология, но у меня в отличие от Машиной такая.
Воды в ванночку я наливаю сколько придется, но побольше. Маша — по точной мерке: сидящему Алешке до пупка.
Я сажаю парня на его собственное сиденье. Маша — на мяконькие пеленки.
Температуру воды Маша определяет локтем, я — носом: локти у меня чувствуют только кипяток.
Маша в воду пускает резинового утенка, я — пластмассовый пароходик. Во-первых, это приучает человека к профессии речника, а во-вторых, пароходик крупнее утенка и проглотить его нельзя никак. Можно совершенно безопасно намыливать Алешке спину, не заглядывая все время ему в рот.
Маша намыливает парня ладошкой, я — рогожной мочалкой, потому что мочалка все-таки мягче моей ладони.
Маша поливает из чайника, тоненькой струйкой, я — из кастрюли, водопадом. И Алешке это нравится больше. Когда на него так вот льются крутые потоки воды, он не кричит. Кричит немного позже. Маша говорит: «От этого». А я считаю, наоборот, кричит он потому, что я воду лить перестал.
В ванне Маша Алешку держит по медицинскому справочнику, а я по потребности — и Алешкиной и своей. Маша постепенно подливает горячую воду, а я холодную. После купания Маша с большим трудом закутывает Алешку в простынку, так он вертится, будто налим на крючке. Я просто опускаю руку, поддеваю его снизу, как экскаваторным ковшом, и он весь остается у меня между растопыренными пальцами. Пожалуйста, хочешь — сразу простынку сверху накидывай, хочешь — махровым полотенцем сперва ему спину протри.
Ну, присыпаем, где надо, и надеваем на него рубашонки мы оба, в общем уже одинаково.
Пока я в этот раз налаживал все для купания, разводил воду, раскладывал мыло, мочалку, простынку, чтобы иметь под рукой, Шура стояла рядом, держа голенького Алешку, и повторяла:
— Костенька, позволь мне. Ну позволь. Мне так хочется!
И мне вспомнилось, читал я у Марка Твена, как Том Сойер красил забор и как ребята старались выкупить у него это право. Я сказал:
— Если дашь мне сердцевину от яблока, купай.
А Шура, наверно, не читала Марка Твена и поняла мои слова как-то иначе.
— Обязательно сердцевину? Костенька! Да пожалуйста.
И плюхнула Алешку в ванночку, не боясь за свое нарядное платье. А я вовсе не вдумался в то, что она сказала, и ответил: — Ты должна мне принести еще дохлую крысу на веревочке.
Шура посмотрела испуганно:
— Нет. Этого, Костенька, никогда я не сделаю!
Но тут мой капитан забил по воде руками, брызги полетели по всей кухне, и Шуре пришлось искать Машин передник, чтобы не вымокнуть самой больше Алешки.
А парень тем временем расходился так, что даже я не смог с ним справиться, хотя в воду опустил уже, кроме пароходика и утенка, еще и верткий полосатый мячик, который ему подарила Шура. Алешка хватал по очереди все эти предметы и не совал, как полагается, в рот, а выкидывал прочь из ванны, давился радостным смехом и выкрикивал по-своему что-то похожее на «Полный вперед!». Определенно, за этот месяц он очень возмужал.
Прибежала Шура, давясь таким же смехом, как Алешка. И не успели ни я, ни он и глазом моргнуть, как Шура плеснула водою парню на голову и моментально ее намылила. Образовалась высокая шапка пены. Алешка очень любит купаться и ненавидит, когда ему моют голову с мылом — да это, наверно, так бывало и с каждым из вас, — и я потому откладывал «головомойку» на самый последний момент. Там уже кричи не кричи — все равно.
— Что ты наделала! — сказал я Шуре. — Откуда ты подвернулась? Теперь все пропало. Голову ему надо мыть после всего.
— Костенька! Да всегда головку моют первой! Что ты! Нельзя же потом грязной водой.
А сама знай себе взбивала пальцами пену все выше и выше.
— Вот мыло попадет ему в глаза, — зловеще сказал я, — тогда узнаешь!
И набрал полную грудь воздуха. Сейчас я услышу страшный Алешкин крик…
— Не попадет, — сказала Шура.
Непостижимо быстро нагнула Алешку одной рукой, ухватив его прямо за мордочку, а другой рукой смыла все, как будто ничего и не было. Алешка только успел выговорить «Бу-бу!» и вцепиться в резинового утенка, которого я успел ему подбросить.
— Ну вот и все, цыпа моя дорогая! Теперь давай, барбинчик, лапки мыть…
— Уйди. Пусти. Говорят тебе, он обревется. Хорошо, что я подбросил ему утенка, — сказал я, задетый за живое: почему не заорал Алешка? — Теперь надо спину мыть и всякие мелочи. Я сам. Пусти.
— Нет, теперь надо мыть ручки, — возразила Шура, — дай мне закончить.
Я знал, что мыть надо ручки. Маша делала все точно в такой же последовательности, как и Шура. Но у меня был разработан свой порядок. Своя система. Превосходная система. И потом: что же получается? Шура, посторонняя, совершенно захватила Алешку, а я — родной отец — только бегаю около ванны с полосатым мячиком и утенком.
— Откуда ты знаешь? Ручки, ножки… — с размаху сказал я. Мне хотелось в эти слова вложить только то, что касалось Алешки, того порядка, который в купании установил для него я. А получилось так, что я исподтишка кольнул Шуру: «У тебя же не было своих детей!»
Она сразу остановилась, как, бывает, останавливается в кино живая картина, когда вдруг прорвется перфорация. Мне показалось, что даже Алешка замер.
— Ну, не было, — сказала Шура, опуская руки и явно отвечая на не произнесенные мною слова. Туго повернула голову в мою сторону и улыбнулась. — Так я ведь женщина. Это я должна знать, — зажмурила глаза, как от едкого дыма. — Эх, Костенька, почему…
Руки у нее снова забегали свободно, намыливая Алешку. Он хохотал, как всякий человек хохочет, когда ему мягкой ладошкой намыливают живот. Он ничего не понял. А я недоговоренную Шурой фразу понял. И мне сделалось страшно неловко. Каким же образом Алешка мог бы стать сыном Шуры?
Она теперь говорила вовсе другое. И опять уже, как всегда, беззаботно и весело:
— У меня нарисован спящий барбинчик. Прелесть! Надо только кое-где еще немножко дотянуть. Я принесу тебе. Но мне очень хочется нарисовать его вот такого, голенького, мокрого. Я непременно нарисую. Не понимаю сама, но я совершенно свободно рисую его по памяти. И вообще я так давно не бралась за карандаш, за кисти, думала, уже все, конец. И сейчас пробую другое — ничего не могу нарисовать. А он выходит! Удивительно!
Я хотел ей сказать, что особенно-то удивительного в этом, конечно, нет ничего: например, я сам рисовать совершенно не умею, а лошадиные головы в профиль получаются у меня здорово. Но в этот момент Алешка закричал — наверно, все-таки занес себе мыло в глаза, — а в комнате хлопнула дверь. Что-то загремело, падая на пол.
— Кто там?
Я быстренько зачерпнул чистой воды из кастрюли, плеснул в лицо Алешке и выскочил в комнату. Вот тебе…
— Костя!
— Маша!
Я обнял, схватил ее за шею мокрыми руками, стал целовать, ничего не понимая: каким образом она оказалась здесь, почему приехала раньше поезда?
— Костя, скажи мне, я дома? Как только я дотерпела? — Маша забралась пальцами мне в волосы. — Ты здоров? Где Алеша?
Она вдруг скользнула встревоженным взглядом по пустой кроватке. На полу, возле наших ног, как попало лежали Машины вещи, бумажные свертки, сумка, чемодан. Ленька со Славкой втаскивали еще что-то, целую охапку цветов — огоньков, саранок и марьиных кореньев.
— Костя, где Алеша?
— Купается. Маша, да как это так? На чем ты приехала?
— На такси! — вместо нее ответил Ленька. Он светился: парень первый раз прокатился на такси!
Маша, как была, не снимая пальто, бросилась в кухню. Ей, наверно, представилась страшная картина: Алешка уже захлебнулся.
— Он там один?
И… Вы, может быть, ждете, что дело дальше пойдет, как в кинокомедии? Маша даст мне пощечину и убежит из дому в слезах. Или даст пощечину Шуре, и та убежит в слезах. А Ленька начнет распутывать недоразумение.
Если вы ждете этого, вы совершенно не знаете Машу. Никакой кинокомедии не было. Просто Маша вздохнула с большим облегчением:
— Ох! А я так испугалась… — Вгляделась. — Шура? Здравствуй!
И они начали целоваться. Вернее, начала Шура. Но Маша тоже ее поцеловала. Это уже закон природы. Женский закон.
Потом Маша вместе с Шурой стала домывать Алешку, а он хотя и не плакал, но глядел на Машу косо и все тянулся к Шуре.
Мне пробиться к ванночке стало совсем уже невозможно, я только издали показывал Алешке козу и, лишь когда женщины стали вынимать его из воды, один раз поймал за розовую пятку. И потом натянул на него рубашонку, ту самую, которую, шутки ради, принесла мне Шура за деньги, пропитые Ленькой. Я, может быть, и не припомнил бы этого, но Маша сказала: «Какая славная рубашечка. Новая». Она сразу заметила.
Говорили мы много и как попало. Быстро привели в ясность все. Что Маша действительно пропустила в телеграмме слово. Что вместе с телеграммой отправила еще и письмо, но письмо пока не дошло. Что часы свои я забыл завести, и они до сих пор показывают тридцать пять минут пятого. Что Леньку со Славкой к поезду не пустили, потому что деньги, отпущенные на перронные билеты, они проели на мороженом и даже ехали от Маганска зайцами. Что с привокзальной площади их все время прогонял милиционер, думал, ребята торгуют цветами. И по глазам Леньки было видно: жалеет парень, что зря действительно не продали они хотя бы половину цветов — еще на мороженое.
Маша выгружалась из вагона при помощи добрых попутчиков, и сердце защемило у нее оттого, что никто не встретил. Она взяла такси и только тут заметила ребят с цветами. Уже в машине они ей рассказали: дома все благополучно.
— Костя, как хорошо, что все у нас в порядке!
Я сказал, что иначе оно никак и быть не могло.
Маша немного похудела. Наверно, тяжело ей достался этот диплом. И потом, хотя она и не писала и сейчас не говорит, а тревога, конечно, и там сосала ей сердце.
В лице у Маши появилось что-то новое. Так, как она заметила на Алешке не ею сшитую, рубашечку, так и я заметил это. Инженер! И Маша поняла меня. Чуть-чуть приподняла свою левую бровь, отчего еще сильнее запрыгали у нее мягкие смешинки в глазах. Сказала:
— Костя, теперь твоя очередь.
Я шепнул ей на ухо:
— Маша, я очень люблю тебя.
И поцеловал где-то под волосами, не обращая внимания, что рядом стояла Шура. Вообще, кроме Маши, в мире для меня сейчас никого не было.
А Ленька уже приготовил чай. Растормошил все привезенные Машей свертки и пакеты, нагромоздил на стол целые груды всякой всячины, вкусно пахнущей, в красивой московской упаковке, и бегал теперь вокруг нас, подгоняя:
— Пошли. Пошли. Остынет чай!
Я забыл сказать, что Алешку Маша сразу же забрала к себе. Он сидел, уцепившись одной рукой Маше за шею и в то же время как бы отстраняясь, а другой рукой, указательным пальцем, то лез к себе в рот, то показывал на Шуру. Она ему улыбалась: «Цыпа моя, барбинчик маленький».
А Маша грозилась: «Смотри! Ты, кажется, совсем его покорила».
— Пошли, — подталкивал Ленька.
И мы все потянулись к столу. Маша с Алешкой самая первая. Шура шла последней. Но когда нужно было уже занять места за столом, она вдруг остановилась. Сказала каким-то низким, словно бы простуженным голосом:
— До свидания! Машенька, Костя, все.
И повернулась, чтобы уйти. Ленька перехватил ее, остановил:
— Ты куда? Тут же такие вкусные штуки!
Шура настойчиво отстранила его, потрясла головой, и кудряшки возле щек, мне показалось, зазвенели у нее жалобными колокольчиками.
— Нет, Ленечка, нет, спасибо. Я совершенно забыла: у меня дела.
Маша тоже пошла к ней. А я не знал, что мне делать. Получилось что-то такое, и вежливое, и грубое, и, во всяком случае, неладное, потому что щеки у Шуры пылали, а слова были пустые, неубедительные.
— Нет, я никак не могу…
— Шура, ты оставайся, — говорила Маша, — я очень прошу тебя.
— Машенька! Ну я же понимаю…
Ленька с сожалением посмотрел ей вслед.
— Она хорошая, — сказал он, будто перед этим кто-то из нас назвал Шуру плохой. — Она вон как Алешку нарисовала!
Маша с недоверчивой улыбкой подошла к стене. И сразу лицо у нее сделалось неподвижное, а голос прерывистый, ломкий.
— Пра-авда! Я не заметила. Отличный рисунок! Да нет, просто талантливо! Очень талантливо. Правда, это она сделала? Вы меня не разыгрываете? Маша вгляделась в подпись. — Л. К. — «Александра Королева». Ш… — «Шаганэ». Чудесный портрет.
Теперь мне кровь прилила к щекам. Вот это ловко! Я не мог понять, что значит буква «Ш» с многоточием, а Маша сразу свободно прочитала: Ш… — «Шаганэ». Да как же могла Шура играть этим именем. Она ведь знала, помнила, что тогда, на теплоходе «Родина», она милое имя Шаганэ променяла на шелковый гарнитур, подсунутый ей Ильей Шахворостовым в уплату за фальшивую посылку.
— Ну, пошли чай пить, — уже как всегда сказала Маша, — мне страшно хочется есть. Как проехали Мариинск, я даже крошки в рот взять не могла: волновалась. Костя!.. Нет, я не верю еще, никак не верю, что я, наконец, дома! — И, усаживаясь за стол, оглядывая стены, спросила так, словно мимоходом: — Что, Шура опять в Красноярске? Чем она сейчас занимается? Где работает?
— Торгует газировкой, — быстро сказал Ленька. — Вот, около аптеки.
— Да, — сказала Маша и снова, сразу становясь холоднее, повернулась к Алешкиному портрету. — Ну, это непростительно. У нее несомненный талант.
— Она каждый день приходила к нам, водилась с Алешкой, — снова выставился Ленька. — Костя на работу, я на экзамены.
Леньку прямо-таки распирало желание рассказать все поскорей. И он во всех подробностях стал разворачивать картину нашей жизни. Будто не я, а именно он был здесь самый главный. И Шура — вторая.
Маша кормила Алешку, успевая все-таки и сама ухватить что-нибудь, и слегка посмеивалась:
— Ага! Крепко досталось вам, троим мужикам, без меня. Будете помнить. — А потом совершенно серьезно и твердо сказала: — Нехорошо, отпустили мы Шуру. Она столько сделала доброго! Эх, мы! Ротозеи.
Не знаю почему, но мне сразу сделалось легче, когда Маша сказала: «Ротозеи». Я мог уже больше не думать какой-то тайной мыслью о Шуре, о том, что вдруг она стала лишней и даже вовсе не желанной в доме, что в чем-то я виноват, — я мог теперь смотреть только на Машу, слушать только ее голос, ее рассказы о Москве, о дороге, о том, как она писала и защищала диплом, думать, как хорошо, что Маша приехала, и как я ее люблю.
Поздними сумерками, перед сном, мы вышли с ней на набережную к Енисею. Понтонный мост уже был наведен, на нем цепочками светились электрические огни, урча моторами, ползли тяжелые грузовики.
Делая круг на посадку, низко прошел самолет с красным и зеленым фонариком на крыльях. Молодые тополя пахли медом. Под каблуками трещал песок.
У острова Молокова с буксирного парохода сбросили якорь, он шумно рассек воду. Прогрохотала с полминуты в клюзе якорная цепь. Потом зашипел пар, и все затихло.
Вдоль чугунной ограды по всей набережной стояло много людей — смотрели на реку. На движущуюся, живую реку можно смотреть, как на пламя костра, хоть всю ночь.
Мы прошли дальше. Спустились к воде. Енисей плескался в берег волной, что-то рассказывая. Мы зашли на понтонный мост. Он качался и сильно вздрагивал, когда на лязгающие железные стыки между понтонами накатывалась пятитонная автомашина с бутовым камнем, который везли на стройку. Тут было прохладнее. Над Такмаком, разве чуть-чуть полевее, зажглась белая, тихо мигающая звездочка.
— Костя, — сказала Маша, — давай как-нибудь на всю ночь уйдем из дому? Посидим над рекой. Подумаем. Поговорим. Посоветуемся с такой вот звездочкой. Костя, может быть, нам надо жить как-то быстрее? У меня столько разных мыслей. Костя, ведь ты и я совсем молодые! Ты скучал без меня?
Она зябко прижалась ко мне.
Навстречу ехал велосипедист. Я наклонился и поцеловал Машу в губы. Велосипедист позвонил.
Нам было все равно. Мы были одни.
Глава двенадцатая Мальчик с пальчик
В каждой семье, наверное, кто-нибудь да уезжает. В командировку. Или в отпуск, куда-нибудь к Черному морю. В общем далеко и надолго. И чаще всего таким образом уезжают мужья. Жены — реже. Не беру в пример семью, как у Васи Тетерева, где не поймешь, кто кому отец, брат, муж, свояк, дочь или бабушка. У них пятеро сразу уедут, и то не заметишь, пожалуй, кто именно.
Женщинам, конечно, виднее, как, хорошо или плохо, когда мужья уезжают надолго. И очень радостно или нет, когда мужья, наконец, возвращаются. И это вообще происходит в доме, когда возвращается муж.
После того как мы поженились с Машей, один я никуда не уезжал; если плавали на теплоходе, так вместе. Теперь я понял, что такое, когда из дому уезжает жена. И что такое, когда она приезжает. И кто, по сути дела, является, как это пишут в анкетах, главой семьи.
Может, некоторые мужчины на меня и обидятся, но я прямо скажу: глава семьи — жена. И правильно, как я читал, что прежде на земле, у первобытных, существовал матриархат. Они, дикари эти, вовсе не дураки были. Понимали, что к чему.
Словом, без Маши был я похож, наверно, на электрон в обмотке динамо-машины, который хотя вообще-то без движения быть и не может, но все время крутится на какой-то одной короткой проволочке. А приехала Маша, включили рубильник, и я сразу двинулся вперед по большому рабочему проводу.
Все сразу стало ясным: куда идти, что делать. Короче говоря, в дом вернулась сила.
Шагаю на работу — мост вроде ближе к дому. Спущусь в кессон — потолок выше и машинным маслом воздух не пахнет. Окунусь в Енисей — вода теплее. Поспорю с Кошичем — я умнее. Зарплату получу — денег больше. В квартире пол не скрипит, чайник кипит быстрее, подушка мягче. В двухпудовой гире — пятнадцать килограммов, а то и меньше. Хлеб не черствый. Молоко не прокисшее. Ленька послушный. В кино показывают смешные комедии. Вечером подмигивают звезды на небе. Понтонный мост сильнее качается. Без конца звонят встречные велосипедисты. Вот что такое — Маша приехала!
Но по-настоящему счастливая жизнь развернулась, когда из Железноводска прибыла еще и Ольга Николаевна, совершенно здоровая. И по весу меньше на двести граммов. Хотя она и мечтала сбавить по крайней мере килограмма два.
Теперь не Алешка держал нас при доме, а мы старались удержать его при себе, потому что бабушка Оленька моментально утаскивала внука в свою квартиру.
Она прямо-таки в ужас приходила, что мы нарушаем в «режиме питания» какие-то правила, хотя, я уже говорил, Маша тоже любит действовать по инструкции, по книге «Мать и дитя». Маша с ней спорила. А я улыбался. Знал: за те полтора месяца, в которые управлял Алешкой я, парень так закалился, что никакие «режимы питания» теперь ему уже не повредят.
Без службы Маша побыла только до приезда бабушки. Должность Машина называлась длинно. А смысл этой должности — самая старшая по технике радиосвязи. Хочешь, носи китель и беретик с «капустой», хочешь, ходи в шелках. Маша редко надевала китель, предпочитала легкое ситцевое платье. А я говорил ей:
— Зря. В форме ты — не сказать, красивее, но определенно крупней, сильнее выглядишь.
Маша смеялась:
— Меня и так все радисты боятся.
Сам я Машу никогда не боялся. Так, как, бывает, другие мужья боятся своих жен. По возрасту я все же чуточку старше Маши, силы у меня больше раз в десять; зарплаты я получаю, пожалуй, вдвое, хотя Маша теперь инженер, а я просто рабочий. Словом, самостоятельность у меня полная. Но при всем этом… Ну, как вам сказать?.. В общем ничего не скажешь. А какая-то власть у Маши есть надо мной. Она, может быть, и не знает, а я знаю.
Я сейчас все время говорю о Маше, хотя даже главу эту назвал «Мальчик с пальчик», имея в виду Кошича. Но попробуйте не говорить о Маше, когда сейчас только ею голова моя и занята! Вот что значит сорок три дня побыть одному!
А с Кошичем вот какие дела получились.
Накануне выдачи заработной платы, под вечер, мы с Васей Тетеревым зашли к нему поглядеть, как он живет, хотя сам Кошич не приглашал нас ни разу. Просто гуляли и зашли.
Светлая, чистая комната. Две койки с никелированными спинками. Радио. Цветы. Мадаполамовые занавески. Графин с водой. Стаканы с алмазной гранью.
Но при всей этой благодати в комнате и позор: дым столбом, в стаканах окурки плавают, по одеялам словно бы зыбь от ветра прошла. Смятые газеты на полу валяются…
В светло-грязной комнате человек шесть парней, нам незнакомых, сидят кто и где попало. Кошич стоит у стола. В руке целая пачка рукописных листков. Читает нараспев. И я подумал: «Хоть бы раз намекнул нам парень, что стихи пишет. Стесняется! Тумарк Маркин, например, как тень ходит за каждым, кто только чуть согласится его инсценировку послушать».
Раньше, в теперешних годах Кошича, я как-то мало разбирался в поэзии. К стихам, правду сказать, Шура меня приучила. Своим превосходным чтением. Дала мне первый толчок. Ну, Маша, понятно, продолжила. Уже в глубину. В красоту.
Но все это сейчас я к тому рассказал, что прямо-таки с радостью приготовился послушать Кошича. Наверно, стихи о Красноярске, о Енисее, о том, как мы строим мост, о дружбе, о любви, душевные, красивые стихи, с новыми, звонкими словами.
Кошич сперва было замялся, остановился. Но потом все же стал дальше читать.
И я тут сразу забегу вперед: оказалось, читал он не свои, а присланные ему друзьями, списанные от руки, стихи поэта Жужжина, о котором не знаю, как вы, а я почти ничего не слыхал. Стихи были написаны от руки потому, что Жужжин пока читал их только где-то в клубе, а в печати они еще не появлялись.
Были стихи замечательные, умные, горячие, я бы сказал, прямо-таки музыкальные; строчки крепкие, стальные; слова как гвозди.
Короче говоря, я тут же признал бы Жужжина за самого лучшего поэта и после стал бы читать только его одного.
Но таких стихов было маловато. А в остальных словесное месиво. Вроде и красиво, а такой мысли нет, чтобы за сердце, за душу тебя тронула.
И это еще ничего. Но встречались стихи и вовсе странные. Я бы здесь привел их целиком, но память на рифмы у меня не цепкая. А суть — как раз то самое, чем любил сам Кошич у нас щеголять. Начальство «зажирело», забюрократилось, пережитки капитализма, как осьминоги, нас оплели и душат, а мы стесняемся об этом говорить и вообще плохо понимаем, что такое правда. Словом, только он один, Жужжин, как потайной фонарик, светит, и то вот-вот иссякнет даже у него заряд в батарейке.
У Кошича лицо горит вдохновением: вот это поэзия! Другие ребята сидят молча, с отзывами своими не очень торопятся. Тут действительно подумать надо.
А Вася Тетерев при всей своей деликатности сразу:
— Я думаю, напрасно Кошич нахваливал эти стихи. Я тоже читал кое-что из Жужжина. И Дина читала. Мне кажется, Дина правильно определила диагноз: у Жужжина глисты. Потому он и зубами скрипит.
Ну, и я прибавил:
— По-моему, Жужжин — летучая мышь. Она хотя и на крыльях, но все равно мышь, а не лебедь. И при солнечном свете она ничего не видит. Летает только по ночам, когда действительно ползают лишь червяки да мокрицы. А днем она спит, висит вниз головой на чердаке или в какой-нибудь пыльной щели.
Надо было видеть, как тут взвился Кошич, как он закричал на меня с Тетеревым, что мы ничего не понимаем в стихах, в общественном назначении поэзии, которая всегда была и будет вечевым колоколом.
— Если бы все так, как Жужжин, — кричал он, — всякую мерзость и грязь вскрывали, мы бы тогда скорей к коммунизму пришли! Вон комендант в общежитии на стирке постельного белья «зарабатывает», каждый месяц в карман себе кладет. Это Барбин не видит. Комендант — орел! Комендант — лебедь! Или Виталий Антоныч. Сколько раз он на работу на казенном грузовике приезжал! Легковой ему не положено. На такси — свой карман бережет. А ножками топать не хочется. Грузовик что, рейс из карьера запишут. Поди проверь! А кому проверять положено, тот тоже на грузовике ездит.
— Тут действительно что-то неладно, — сказал, я — только с другой стороны. Ездить на такси Виталию Антонычу и зарплаты не хватит, очень дорогие у нас такси, а ножками каждый день топать — не каждый день так превосходно, как мы с тобой, Кошич, он себя чувствует. Он бы ведь мог давно уже и на пенсию. А не уходит. Тянет его работа. Понимаю: ездит на грузовике, это неладно. Но коммунизма Виталий Антоныч никак не испортит. При коммунизме такси, наверно, будут дешевле стоить.
— При коммунизме люди на работу будут ездить бесплатно, — сказал Тетерев.
А Кошич снова закричал, что до такого коммунизма, когда на такси все будут ездить бесплатно и все будет бесплатное, еще далеко, а его племянник Кошкин Федор Петрович, как заведующий, уже сейчас жрет бесплатно в своей столовой. И нет такого, даже самого маленького начальника, который хоть что-нибудь да не тянул бы с государства. И вообще в каждом человеке еще подлости из остатков капитализма сидят. Вот и надо выжигать их раскаленным железом поэзии…
Тогда и меня забрало.
— Прежде всего, — заорал я, — отстань ты от Виталия Антоныча. Хватит его честное имя трепать! А насчет раскаленного железа — штука хорошая. Да у Жужжина не очень-то оно раскаленное, пользы нет, только боль от него. Вот я вошел в комнату вашу. Хорошая комната. Умей я рисовать, я бы все, и койки с никелированными спинками написал бы, и радио, и занавески, и солнечный свет в окошке, и пиджачки шевиотовые на вешалке, а окурки в стакане алмазной грани не изобразил бы. Не место им в стаканах. И на картине тоже не место. Хотя вон они плавают. И ты над ними стихи Жужжина читаешь. Жизнь! А я окурков этих на картине видеть не хочу. И в комнате тоже. — Ткнул ему в руку стакан, прямо-таки приказал, и Кошич выполнил: — На, выплесни за окно. Гляди! Превосходно и без каленого железа получилось. И как раз осталась та картина, которую раньше я видел: хорошая комната.
— Вот Жужжин потому об окурках и пишет, — со злостью сказал Кошич, — чтобы люди их выплескивали! Спасибо поэту, что он видит всю грязь.
— Что он видит ее, допустим, спасибо, — сказал я, — а то, что он на ногах всюду тащит эту грязь, совсем не спасибо. И вообще мне больше нравится, когда поэты читают свои стихи, стоя в рост, а не на четвереньках.
Вася Тетерев пришел ко мне на подмогу с Белинским который сказал, что завидует внукам и правнукам, которым суждено увидеть Россию, стоящую во главе образованного мира, дающую законы и науке и искусству и принимающую благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества. Он, Белинский, из того далека угадывал, какая будет Россия, а Жужжин и Кошич живут в этой России, которая действительно сейчас дает законы всему миру и принимает благоговейную дань уважения, но видят не это, а только всякие гадости и ничтожности.
Я здесь умышленно пишу только то, что говорил Кошич и что говорили мы с Тетеревым, хотя и остальные ребята тоже потом не молчали. Но передать подробно все их слова — этой главы никак не хватит. Скажу только, что из шестерых сперва двое или трое поддерживали Кошича и тоже кричали: «А чего нам бояться правды?» «Стихи острые!», «Правильно, Николай!» Но потом и они задумались. Стали носы гладить. В затылках чесать. Папиросами задымили.
В общем же на Кошича такая стена надвинулась, что он уже не искал никаких доводов в защиту Жужжина, а только кривил губы и повторял одно:
— Ну и что же?
С тем мы и разошлись.
А назавтра он выкинул новую штуку. Тут у него была, как бы сказать, теория, философия, а там получилась живая практика.
Пошли мы после работы зарплату получать. До этого нам выдавали аванс. Теперь — расчет за месяц.
У конторы доска показателей. На доске по выполнению плана наша бригада на первом месте. Стало быть, при зарплате будет еще и прогрессивка. Лица у всех веселые.
У кассы очередь. Заняли. Кошич из нашей бригады оказался вторым. Первый — Вася Тетерев. Стоим, пересмеиваемся, планируем: на прогрессивку кто какой своей жене подарок купит. Тумарк и Кошич холостые. Петя Фигурнов говорит:
— Отобрать у них прогрессивку. Для ясности. Распределить среди женатых.
Тумарк спорит:
— А на знакомых девушек тратишь больше, чем на жену.
Хохочем.
Вообще правильно. Но откуда он знает, на жену сколько?
А Кошич отошел к сторонке, насвистывает. Потом достал из кармана записную книжку, вырвал, из нее листок и подает мне.
— Фокус. Вот ты сколько получишь, Барбин.
Посмотрел я в листок. Приятно. Тысяча пятьсот сорок семь рублей чистых на руки.
— Только в чем тут фокус? — говорю. — Без бухгалтерии высчитал? А для чего? Бухгалтерии нашей я, как себе, доверяю. А ты, видно, весь вечер дома трудился?
— Вообще потрудился. Может, даже больше, чем вечер, — говорит Кошич. И по карману себя похлопал. — Сюда не напрасно я камешки складывал. Расчеты действительно сложные были. Но фокус мой продолжается. Интересуешься, сколько я получу?
Пожал, я плечами. В бригаде все мы получали поровну.
— Непонятный вопрос, — говорю.
Кошич подает мне второй листок. Там обозначено девятьсот восемьдесят восемь рублей.
— Вот моя зарплата, — говорит. И опять хлоп себя по карману. — А здесь заявление…
И к кассе. Уже его очередь.
Вася Тетерев отходит от окошка. Шевелит сотенными бумажками, звенит мелочью.
— Здόрово работнули ребята. Полторы с хвостиком.
А у кассы между тем такой разговор.
Кошич. Я получаю только девятьсот восемьдесят восемь. Разницу заприходуйте.
Кассир. Товарищ Кошич, я ничего не знаю. Получайте, сколько вам по ведомости полагается.
Кошич. Не возьму. Принимайте разницу с моим заявлением. А мне выдайте квитанцию.
Кассир. Не могу. Для меня ведомость — закон. Идите в бухгалтерию, разбирайтесь. А деньги получите.
Кошич. Не возьму! Моих, честных, здесь только девятьсот восемьдесят восемь. Разбирайтесь вы сами. А я пойду в другое место. К прокурору!
Ну, вы сами понимаете, что от таких слов очередь сломалась. Кассир Кошичу деньги в окошечко подает, Кошич их обратно заталкивает. Оба кричат. Все, кто в очереди стоял, тоже закричали. И я закричал:
— Ты объясни!
Взял или не взял Кошич деньги, не знаю, но от окошка ребята его оторвали, и он оказался в кругу. Все возбужденные, злые, хотя, на кого злые, пока не понять. Но ведь не шутка же дело, что парень чуть ли не от половины заработка отказывается и кричит: деньги нечестные!
Зажали Кошича: «Говори!»
— А я не зря, как мальчик с пальчик, камешки в кармане из кессона выносил, — говорит Кошич. — У меня каждый камешек — мера выданного наверх грунта.
Ну и в общем сквозь разные крики вот какую собственную картину он нам развернул.
Без приписок начальство жить не может. Приписки — это премии за выполнение плана, похвалы сверху, а от рабочих, снизу, денежная благодарность. План наша бригада перевыполнила намного. Каким образом? Тем более что в этом месяце грунт был ужасный. Не наводит это на размышления? Короче говоря, Кошич камешки стал носить в кармане. Каждый камешек — кубло. Этим счетом получается одно, а поглядеть на документ в бухгалтерии, подписанный Виталием Антонычем, — другое, хотя там счет и идет на погонный метраж посадки кессона. А от завышенного объема и весь денежный расчет, как известно, завышенный: и зарплата, и прогрессивка рабочим, и премии за перевыполнение плана начальству. Конечно, и Виталию Антонычу. В бухгалтерии на документ Кошич не взглядывал, но расценки по метражу известны, метраж в кубометры тоже перевести нехитро, процент выполнения плана бригадой выставлен на доске показателей. А такую-то математику, чтобы суметь от начисленной зарплаты обратным ходом объем выполненной работы высчитать еще в пятом классе проходят. Вопрос к нам: кто как хочет, а он, Кошич, может ли такие незаконно начисленные деньги получать? Об этом он и написал заявление.
Стоим. Глядим друг на друга. У Васи Тетерева в руках пачка сотенных. Остальные ребята не получили еще. Кассир приглашает к окошку. Никто не идет. Рабочие из других бригад на нас косятся, сами понимаете, какие слова о нас говорят.
Не поверить Кошичу — носил же он исправно из кессона свои камешки! А дальше арифметика совсем уже не такая мудреная. Лезет в голову всякая чертовщина, и вместе с нею даже проклятый грузовик, на котором действительно иногда приезжал на работу Виталий Антоныч.
Поверить Кошичу — значит, сдавай третью часть заработка. Поверить — значит, не только в этом месяце, но и раньше нечестные деньги мы получали, всегда мы шли с большим перевыполнением плана. Поверить — значит, Виталий Антоныч круглый подлец, а мы полукруглые, потому что все время ходили со славой передовой бригады.
Чувствую, не только у меня, у всех ребят кругом идет голова. Вспомните «Поднятую целину», как там дед Щукарь накормил мужиков лягушатиной. Ели, думали — курица. Мы-то ведь тоже, получается, сколько времени ели вместо курицы лягушатину! В самом прямом смысле. Покупал я копченую колбасу, омуля, сыр, по воскресеньям Маша для лапши покупала именно курицу. А на какие деньги? Противно подумать.
И еще противнее подумать, что Виталий Антоныч, которого мы все так любим…
— Знаешь, — говорю Кошичу, — тут не место Виталия Антоныча судить. И народ раздражать против него нечего. Пиши заявление куда хочешь, а я зарплату свою получу полностью. И тратить буду ее без стеснения, верю: деньги честные. Становись, ребята, в очередь к кассе!
У Кошича в голосе вата. Понервничал и он сильно.
— А я и не собирался здесь шум поднимать, — говорит. — Когда дело разберут где следует, тогда шум поднимется. Кассир виноват: не захотел от меня деньги принять.
— Врешь, — говорю, — тебе именно такой спектакль разыграть и хотелось. Показать свое благородство! Иначе ты бы не стал к кассиру с заявлением соваться, которое, всякий знает, он от тебя не имеет права принять. Словом, с Виталием Антонычем вместе ты в который раз общую нашу рабочую совесть оскорбил. Сейчас у тебя заявление, бумага — двигай. А в будущую зарплату я тебя на этом самом месте вот так же, на всем народе, перед Виталием Антонычем извиняться заставлю.
Ребята из нашей бригады все дружно сказали: «Правильно!» Из посторонних — разные голоса: «Пусть разберутся сперва где надо!», «Всяко бывает», «Жулье на свете тоже еще не перевелось».
Кошич за эти пять минут прямо осунулся, похудел заметно — штаны сползают. Понял, что замахнулся он здорово, а есть ли настоящая сила в кулаке, чтобы ударить, — это еще как сказать. И больно мне глядеть на него. Такой же, как мы, рабочий парнишка, только в плечах поуже, не развился еще, но руки сухие, жилистые, крепкие, а вот стоит лицом к нам, лицом против нас и мы с ним — как совершенно разные люди.
Очередь в кассу в норму вошла, отходят ребята с деньгами, и замечаю: никто теперь не пересчитывает, прямо в карман суют. Кошича обходят стороной. Будто только один я почему-то и обязан с ним разговаривать.
— Вот так, — говорю.
— Вот так, — и он говорит. — Будь жив, Барбин!
Я ему вслед:
— И ты будь жив, Кошич. А здоровья что-то не очень тебе желаю.
К дому я шел медленно. Долго кружил по городу. Все думал. Факты приписок вообще-то в жизни встречаются. И не редко. Честь и хвала тому, кто борется против жулья. Но хорошо ли сразу начинать обязательно с подозрений? Еще я думал: почему Кошич какой-то отравленный? И даже губы у него тонкие, белые. Может, без шуток, у него печень больная и надо, чтобы Дина проверила ее своей резиновой кишкой? Нельзя не поверить, ну никак нельзя поверить, что Виталий Антоныч — жулик!
На прогрессивку я все же купил Маше подарок: красивую кожаную сумочку. Продавщица сказала: «Самый последний фасон. Обратите внимание, какой чудесный товар». Я погладил сумочку. Кожа мне показалась холодной и склизкой, как у лягушки.
Глава тринадцатая Пена
А Маше сумочка очень понравилась. Ей нравятся все мои подарки. Она говорит: «Костя, у тебя очень тонкий вкус на дамские вещи». Но если бы мне продавщица подала не эту кожаную сумочку, а, скажем, брезентовый рюкзак, я купил бы рюкзак. Спрашивается: у кого тонкий вкус? За подарок Маша поцеловала меня. По справедливости следовало поцеловать продавщицу.
В жизни так бывает часто: поцелуй достается не тому, кому следует.
Но случается и обратно, бьют не того, кого надо.
Вот вам пример. Ленька сидел за столом, держал на коленях Алешку. На столе лежали мои наручные часы. Алешка смахнул их на пол. Часы остановились. Кто виноват? Я влепил своей широкой ладонью Леньке по тому именно месту, на котором он сидел. Если бы он сам не вскочил со стула, не нагнулся за часами и не выставил свой магнит для моей ладони, он бы не получил. В этом кто виноват? По сути своей смешно. Но ладонь у меня тяжелая. Ленька заплакал. Настоящими слезами.
Кошич дело насчет приписки раскрутил вовсю. То есть дальше уже не Кошич — оно само завертелось. Бумага, пока не сгорит, — сила. Атомная энергия. Бомба. Один листок бумаги может целый город снести.
Мы с Васей Тетеревым побывали в месткоме, в парткоме, у начальника строительства: «Голову отдадим за Виталия Антоныча». Всюду ответ примерно один: «Правильно. Верим. Но есть заявление. Надо разобраться». А заявление Кошича из бухгалтерии попало, правда, не к прокурору, но все-таки к ревизору, который как раз, на эту беду, подъехал из Москвы.
И пошло. С Виталия Антоныча — объяснения, с Кошича — разъяснения. С каждого из нас потребовали тоже какие-то показания. На бумаге! Но как проверить, сколько было на самом деле именно нашей бригадой вынуто грунта, когда его из кессона сразу же выбрасывают в реку? Сопоставить, насколько кессон вглубь опустился, — этим тоже ничего не определишь. Работали и другие бригады. Им в ущерб метраж можно было на нас записать. Да и грунт был все время разной плотности. Словом, никому не нужная канитель. А заявление есть. И Кошич обратно его не берет.
Тем временем дни идут. И вместе с нами в кессон спускается Виталий Антоныч. Показывает, как надо работать, откуда грунт выбирать. И Кошич работает. Хорошо, прилежно работает. Но, между прочим, каждый день камешки опять в кармане выносит. Прощаясь, каждому из нас, а Виталию Антонычу обязательно «будь жив» говорит.
Ревизор проверяет тщательно, обстоятельно. Куда торопиться? Тем более что, с его точки зрения, все это выеденного яйца не стоит. Но заявление есть. И Кошич…
Дней через десять Кошич начал скучать. И не только потому, что мы его каждый день за Виталия Антоныча грызем, — начал скучать и по другой причине. Подсчитал он свои, вынесенные из кессона за эти десять дней камешки. В среднем на день примерно столько же пришлось, за сколько нам и в прошлом месяце заплатили. И работали мы, надо сказать, тоже примерно одинаково. Казалось бы, полный порядок. Но тогда выходит одно из двух: или в прошлом месяце мы работали хуже, чем в нынешнем, — а это не так, — или Кошича «галечный» счет подвел. Каким образом? Задумался он. Но, между прочим, нам об этом честно сказал. Хотя заявления все-таки не взял обратно. Очень хотелось ему «дать деру» Виталию Антонычу.
А ревизор знай себе проверяет…
Появился на воле Шахворостов. О нем, как завязалась эта канитель с заявлением Кошича, мы все совершенно и думать забыли. И вот пожалуйста, Илья.
Встретился я с ним в первый же вечер его «новой» жизни. Во дворе. Я, кажется, говорил, что квартиры у нас в одном доме. Илья уже сходил в баню, побрился. Голова голая, без единого волоска, кроме бровей. Блестит, словно отполированная. Голубой галстук с белым корабликом. Новенький клетчатый пиджачок. Ботинки на каучуке. Запах парикмахерский. Но не тройным одеколоном от Ильи пахнет, а цветочным. Девять семьдесят пять стоит вместе с бритьем головы.
— Привет! — говорит. — Мы с вами, кажется, где-то встречались?
— Привет! — и я говорю. — С легким паром!
— Да вот помылся, побрился. Здорово. Баня там все-таки хуже. Все там хуже. Ты, Барбин, очень туда не стремись.
— Спасибо за совет, — говорю. — А ты оттуда надолго?
Мигнул он злым левым глазом своим.
— Так ведь это как друзья помогут. Посадить человека нетрудно. А без шуток: хватит, довольно! Первый раз был я там и во второй раз не хочу.
— Это правильно, — говорю. — Еще какие планы?
— На работу. Куда больше? Жить на что-то надо.
И дальше такой же все разговор. Я его не спрашиваю, как он досрочно освободился, что ему помогло; он не спрашивает, почему я не похлопотал за него. Но понятно одно: это он в своей голове с ямками где-то на мой счет записал.
Поговорили. Куда на работу? Конечно, в нашу бригаду, если возьмут. Когда? Да вот дух немного перевести. Я чуть не брякнул: «И дела насчет спекуляции замазать?» Но стерпел, сказал:
— Работа в кессоне тяжела, опасная. Может, лучше где на берегу?
Он:
— Зато свои ребята.
Сказал так, будто он ради нас на жертву идет.
Еще поговорили. О погоде. О Столбах. Он спросил, давно ли приехала Маша. Как с дипломом? Похвалил ее. Потом круто:
— Ну, а Шурка Королева часто бегает к тебе? Где же вы теперь, при Терсковой, встречаетесь?
— Тебя-то это с какого боку интересует?
— Да так пока. Из уважения к Терсковой.
— Если из уважения, — говорю, — так не к Терсковой, а к Барбиной. И Королеву ты оставь в покое. Не бегает, а ходит она. И не ко мне, а к нам. И столько, сколько ей хочется.
— Учти, — говорит, — я на ней жениться хочу. Вернее, не жениться — это давно. Оформиться. Понял? Так что пусть она к тебе больше не бегает. Пора к одному берегу. Буду работать, так зарплате все же и «пена» нужна.
Сразу не понял я и спрашивать бы не стал, но как-то вырвалось само:
— Какая пена?
— Ну, с газировки «пена» маленькая, а на пиво перейдет, побольше будет. Да ты не гляди так. Это не воровство. Это богом положено, как официантке чаевые. В нашей фамилии воров нет, воровку в дом я и сам не возьму.
Он что-то еще хотел сказать, но меня уже и от этого трясло: «Пора ей к одному берегу…» Он хочет только «оформиться». Шура Королева — жена Ильи! Да что это такое!.. Никогда не может этого быть!
Я молча повернулся и пошел. Но грязная метла, которую засунул мне в душу Илья, теперь ворочалась. Почему так за Шахворостова старалась, хлопотала Шура? Боялась… Подумаешь, страх какой! И еще: сколько я помню, с первого дня нашего знакомства Илья всегда звал ее не Шурой, а Шуркой, с оттенком пренебрежительности. Почему?
Пока я поднимался по лестнице, эти мысли жалили меня больно, как осы. Но осы прилетают со стороны, это не своя, изнутри идущая, скажем, зубная боль. И скверные мысли о Шуре тоже только ужалили меня, а потом снова, как осы, и улетели. А зубная боль о ней, о том, что Шахворостов теперь не даст ей покоя, — эта зубная боль осталась. И твердое, твердое решение: нет, Шахворостову я ее не отдам!
Маши дома не было. Алешки тоже. Значит, гостит у бабушки. А Маша очень была бы нужна. Она все время Шахворостова защищает, все время убеждает меня как-то приблизить его к себе. Да я этого Илью сейчас…
Ленька сидел, вырезал из тополевого сучка свисток. Несчастье. Пока присохнет кора на тополях, он этими свистками, как Соловей-разбойник, всех в сыру землю загонит. Правда, я в его возрасте весной тоже такими свистками увлекался, но у меня не было старшего брата.
А Ленька обрадовался, закричал:
— Костя, сделай, как у милиционера! Чтобы заливался свисток!
— Это, — я говорю, — могу сделать. Только надо сучок потолще. А этот выкинь.
— Ну-у…
Но все же послушался, бросил в плиту. Хоть на один день отсрочку от свиста я получил.
А Ленька, помните, как Ноздрев Чичикову — не хочешь шарманку, купи щенка, — сразу другое:
— Костя, давай тогда в шахматы сыграем.
Чувствую: не отвяжется. Сели. Первый раз белые у меня. Двинул сразу я пешку е2-е4.
— А королеву? — говорит Ленька.
— Чего «королеву»?
— Королеву отдай сперва. И коней.
Вот нахал!
— Знаешь, — говорю, — королеву больше отдавать я не стану. Никому! Хочешь — бери обе ладьи и коней.
Леньке это понравилось еще больше: теперь мне нельзя рокироваться, нечем.
Проиграл я, конечно, партию с треском. Чем было играть? Тем более что королевой я почти уж и забыл, как надо ходить. Все время Леньке «фору» она отдавалась. И мысли у меня «королевой» все время были заняты, но другой.
А у Леньки глаза разгорелись: «Давай еще!», «Давай еще!»
Пять партий сыграли, и с таким же результатом.
Нет, вы подумайте: Шура — жена Шахворостова! А Илье нужна «пена».
Маша вернулась поздно. Алешка остался у бабушки. Ленька спал. Я тоже лежал уже в постели. Маша сказала:
— Костя, а ты знаешь новость? Шахворостова выпустили.
— Как же? Знаю, — сказал я. — От радости до сих пор в себя прийти не могу.
— Ну, — засмеялась Маша, — приветствую такой поворот. Хотя вы и действительно там всей бригадой какое-то письмо писали. Но мало оно помогло. Папа рассказывал: это начальник пароходства Шахворостова выручил. Как депутат. Славный он все-таки человек, отзывчивый!
— Маша, а я тебе вот чего расскажу.
И я полностью рассказал о своем разговоре с Ильей, а потом и обо всем, что мне в разное время говорила Шура.
Свет был погашен. Маша не ложилась, слушала молча. Говорил я все-таки долго и под конец подумал: Маша сидя уснула. Тогда я тихонько окликнул ее. Она отозвалась не сразу и совсем словно бы издали. Неласковым, деревянным голосом.
— Костя, это возмутительно, гадко! Шура должна обо всем рассказать следственным органам.
— Пошла бы она с самого начала на какую следует работу, — с досадой сказал я, — и не было бы с ней такого.
Маша помолчала, впотьмах точно подплыла ко мне, легонько толкнула в плечо:
— Спи! Чего-чего, а с газировкой Шуре, конечно, лучше расстаться. Я поговорю в управлении. Может быть, устроим чертежницей. Ты тоже ее поддержи, чтобы у нее хватило мужества.
И голос у нее стал вроде бы мягче.
Днем в кессоне Кошич совсем без всякого повода сказал:
— Я допускаю возможность ошибки и со своей стороны, но не в таком размере. Приписка все же была.
Он подкараулил момент, когда Виталий Антоныч поднялся наверх. Мы поняли: совесть уже начала его грызть. Парень потихонечку ищет себе пути к отступлению.
Работал Кошич в этот день особенно старательно, со смыслом. Было видно, что Кошич теперь не заставляет себя идти на работу.
В самом конце смены он сказал:
— Не знаю, что делать до вечера. Дома скучно сидеть. Никто не хочет со мной покататься на реке?
По Енисею на весельной лодке плавать не разрешается. Можно только по протоке. Но у Кошича хотя бы и этого руки просят. Им еще работа нужна. И кроме того, парню хочется, чтобы с ним поехал кто-то из нас.
Когда люди выходят из кессона, давление воздуха в прикамерке снижается постепенно. Кошичу нужно было, чтобы тоже вот так постепенно снизилось наше «давление».
А как «снизить давление», когда он не хочет открыто признать свою вину перед Виталием Антонычем? Это виляние, слова «я допускаю возможность ошибки» — подготовка для хода назад, все это не по-мужски. И правильно будет только одно, то, что я сразу тогда у кассы сказал Кошичу: «На этом самом месте у Виталия Антоныча попросишь прощения». Другого ничего быть не может!
Так я считал. Да и все ребята в бригаде тоже так считали, хотя и ждали, когда ревизор свою проверку закончит.
А Виталий Антоныч не при Кошиче несколько раз нам повторял: «Обидно. Горько. Но что на него, на мальчишку, зло мне иметь? Сам поймет». И у Тумарка Маркина, оказалось, сердце не камень, он сказал Кошичу:
— Мне тоже очень хочется покататься на лодке.
Тот чуть не заплакал от радости. А я подумал: «Нет, я бы подождал с тобой вместе на лодке кататься! Сломи сперва свое самолюбие, открыто скажи, виноват».
Вечером точно на том же месте опять мне повстречался Шахворостов. Только теперь и я и он выходили из дому. Одет Илья был уже не так празднично. И чем-то очень озабочен. Вроде бы даже посерел лицом. Во всяком случае, политура с бритой головы у него слетела. Голова была уже его постоянная, глиняная и вся в ямках.
До ворот нам нужно было идти вместе. Он спросил, куда иду. Я сказал: билеты в кино купить, Илья усмехнулся:
— А я на угол к аптеке. Газировки попить. — Подождал, не скажу ли я чего-нибудь. Но я молчал. Я понимал, ему хочется проверить меня, вступлюсь или нет я снова за Шуру. Мы уже подходили к воротам. Шахворостов прибавил: — На работу, пожалуй, выйду только с первого. Деньжонок тоже у Шурки взять нужно. Зарплату дадут не скоро. Может, и ты подкрепишь сколько-нибудь? За счет старого долга.
— Нет, не подкреплю. А долг мой тебе не денежный.
Илья покосился на мой кулак. Пожал плечами, будто не понял.
— Не деньгами ты мне тоже долг не отдал, — сказал он, явно намекая, что я не подписал хвалебное о нем письмо. — Ладно. Не тороплю. За тобой как в сберкассе. Поживу пока на «пене».
В кино показывали хорошую картину, Я не запомнил названия, но картина была про любовь и о том, как молодые ребята пришли на завод, стали рабочими. И хотя станки на экране мало показывали, но было понятно, что завод большой, работа интересная, а все ребята хорошие. Но, к слову сказать, один и там оказался точь-в-точь как Илья, только не с бритой головой, а лохматый, и девушку, которую он угнетал, звали не Шурой, а Лидой.
После кино мы с Машей долго гуляли по набережной. Любовались на мачтовые огоньки пароходов, на рубиновую звезду, которая у нас над речным вокзалом горит, как кремлевская. Потом спустились к Енисею и любовались уже на другую звездочку, над Такмаком. Ходили и по понтонному мосту. А встречные велосипедисты опять нам звонили.
Я не знаю, о чем мы говорили. Может быть, и вовсе не говорили. Или только: «Как хорошо на реке!» Но домой я пришел какой-то очень свежий и сильный. И хотя Маша просила не делать этого, я взял ее на руки и взбежал по лестнице к себе на второй этаж. Я не сказал в это время ей ничего. И после тоже ничего не сказал. Такие слова мне и теперь все равно выговаривать вслух очень трудно. Но про себя, пока не заснул, я, наверно, сто раз повторил: «Я тебя очень люблю, Маша!»
На следующий день в кессоне Кошич сказал уже не нам, а прямо самому Виталию Антонычу:
— Я ведь не от личного к вам недоверия. Так расчеты показали. Мало ли встречается нечестных людей? Но бывают и ошибки. И у вас и у меня могут быть.
Мы знали: вчера вечером Кошич хотел взять свое заявление обратно, без объяснения почему. Но ревизор отказал: «Виноват. Теперь уж я обязан закончить проверку».
Виталий Антоныч поморщился:
— Ошибки, конечно, бывают у каждого. Гадкая, черная подозрительность — далеко не у всех. А мужества, кажется, только вам одному не хватает. Вдумайтесь. Вот вы меня, старого человека, затеяли изобличить в подлостях, вывести на чистую воду. Мастеру-старику, видите ли, незаконную премию от родного государства сорвать хотелось. Бывает и так, рвут, конечно. И старые и молодые. И надо со свету сживать таких. Но знаете ли вы, что нет для честного человека более тяжкой и страшной обиды, как подозрение? И еще, для человека, который в ваши годы, юноша, сам голодал и ходил босый. Но верил, твердо верил, что зато новому, вашему поколению он завоюет светлую жизнь. Вам на это, оказалось, наплевать. Вы не потрудились не только с другими обо мне поговорить, вы и со мной не подговорили. Для вас человек — фамилия. Эх, юноша, юноша, откуда и как к вам это пришло? Бог с вами! За оскорбление вас привлекать я не стану. Я вам поверю, хотя вы мне не поверили. Но неужели вы камешки за пазухой всю жизнь свою будете носить?
Кошич было рванулся. И тут же сник, тихонько отошел в сторону, взялся за лопату.
Немного погодя он подошел к Тумарку.
— Вечером поедем кататься на лодке?
Тумарк поморщился, отрицательно мотнул головой: «Нет, не поеду». Но вмешался Виталий Антоныч, сказал:
— А почему бы? Езжайте, ребята, погода хорошая.
Кошич сразу заулыбался:
— Поедем!
И когда, закончив смену, мы поднялись наверх, в прикамерок, стояли там, задрав носы и ожидая, пока полностью выравняется давление воздуха и никаких пузырьков азота в крови у нас не останется, Кошич все еще улыбался. Не нам, а себе.
На пути к дому меня перехватила Шура. Такая, как всегда, красиво одетая и в туфлях на высоком каблучке. Из-под косынки аккуратные кудряшки. Но в лице страшное беспокойство. Под мышкой свернутый белый халат. Значит, убежала прямо от тележки.
— Костенька, можешь ты на минутку? Ой! Как только я тебя дождалась! — И потащила меня за рукав в переулок.
Мы сели у какого-то палисадника на скамеечке.
— Что случилось, Шура? Какая беда?
— Ой! Я к вам не могла… Маша и так, наверно, думает…
Вид у нее был совершенно подавленный. Сказала это и дальше от волнения никак не может. Кусает платок…
Когда я говорил Шахворостову, что Шура ходит к нам сколько ей хочется, — это было правдой. И Маша всякий раз, когда была дома, снова ее приглашала. Не очень горячо, не как самую дорогую подругу, но все же приглашала. С открытым сердцем. Маша вообще хитрить не умеет. Шура гостила не подолгу. Все кружилась возле Алешкиной кроватки, и пела ему «Куда бежишь, тропинка милая», и носила его на руках. А когда Алешка сам гостил у бабушки, почти не задерживалась. Немного посидит с Ленькой, походит по комнате, нахваливая нашу квартиру: «Как у вас замечательно!», поможет Маше поделать что-нибудь и убежит.
И вдруг: «Маша и так, наверно, думает…» Маша что думает, то и скажет! Я даже обиделся за Машу, хотя и видел, что Шура говорит сейчас просто какие попало слова, как всегда, когда она сильно волнуется.
— Костенька, что мне делать? Что делать?.. Шахворостов…
Мне все стало ясно. Шахворостов хочет на ней жениться, Шахворостов к ней ходит за «пеной». Но Шура не хочет, не может. Правильно! Не будь я прямо с работы, в грязном, я бы схватил ее за плечи и поднял, как один раз уже было: «Ободрись!»
— Да гони ты его от себя палкой! — закричал я.
Шура помотала головой.
— Костенька, он требует, чтобы я отдала все квитанции, по которым переводила деньги ему из Норильска. Или десять тысяч. Помнишь, я тебе говорила? А у меня никаких квитанций, никаких денег. Ну ничего, ничего!.. Я знаю, он боится, что я покажу эти квитанции. А у меня нет ничего. Я ведь только переводила. Все деньги, все эти проклятые тысячи, клал на свою сберкнижку мой муж. И уехал. С другой. И с квитанциями. И с книжкой… Я не знаю, может быть, он и остался Шахворостову должен эти десять тысяч. Но у меня нет ничего. Это было давно. И я ничего не знаю. Я забыла уже это все, я уехала оттуда, я работаю… Где я возьму десять тысяч? И так я старалась сделать все для него…
— Зря старалась! Ну чего ты? Сама же сказала: он боится этих квитанций. А дрожишь ты.
Но Шуру эго не успокоило.
Он хочет, чтобы я давала ему «пену»! Костенька, он хочет, чтобы я стала… Он всем говорит… А у меня с ним никогда не было, ничего не было!..
Я встал.
— Ладно, я сам что надо сделаю, у меня рука потяжелее.
Шура тоже вскочила.
— Костенька, так и у него ведь квитанции! У него они сохранились. Шахворостов отправлял посылки на мое имя. Если я не соглашусь теперь стать… такой, его на время… он покажет эти квитанции. Он сказал, если он сядет за спекуляцию, я обязательно сяду вместе с ним. Костенька, ну за что? Я-то за что? Мне никаких денег от этого не осталось, ничего. Я не знаю, почему тогда мне хотелось это делать, почему я получала эти тысячи… Сдавала в разные сберкассы, на разные книжки, мужу и той, с какой он потом уехал; брала облигации… Костенька, пусть будет у меня только одно вот это платье! На те деньги я ничего себе не купила! Я ведь зарабатывала… С деньгами те уехали… Костенька, я боюсь…
— Пустые все это угрозы, Шура, и ты ничего не бойся. Но «пену» эту самую, между прочим, брось.
— Костенька, нет! Я так не делаю. Я даже не знаю, кто так делает. Это Шахворостов думает, велит. Он говорит: мне надо было сразу на пиво поступать. Я даже сдачу всегда сдаю. Я не знаю, если у меня случайно что остается… Брошу, брошу!.. Ничего мне не надо, никаких пятаков! Буду лучше почтальоном работать, письма разносить!..
— Маша вчера мне сказала: тебя куда-то там в пароходство могут чертежницей взять.
Шура рывком повернула голову. Постояла как каменная. Что-то светлое и тут же совсем безнадежное промелькнуло в ее глазах.
— Маша?.. Нет, Костенька, я не могу тебе все сказать… Прости. Спасибо. Я как-нибудь одна…
Повернулась и пошла. На мягкой, песчаной обочине тротуара каблучки у нее подламывались, белый халат выполз из-под руки, концом тащился по земле. Я догнал Шуру, остановил ее у другого конца палисадника. Отвел чуть в сторону, к забору, чтобы не так оглядывались идущие мимо люди.
— Нет! Говори, Шура! Все говори!
Это было как приказ капитана. Шура хотела что-то возразить, но подчинилась. Проговорила вовсе тихо, но уже не запинаясь:
— Костенька, он сказал еще: если я не сделаю, как он хочет, он напишет твоему тестю Терскову и Маше тоже напишет, что я твоя… Он это сделает! А я не могу, чтобы Маша… Я этого никогда не думала, Костенька, я только… Так тяжело одной! Все — одной!.. Прости меня… Я уеду снова в Норильск. Пусть меня посадят там!
От Шахворостова можно было ожидать всяких штучек. Но такой подлости я не мог себе даже представить. Пиши он кому хочешь, хоть сам весь чернилами излейся, я знаю, Маша не поверит, ее со мной он не поссорит. Но каково, действительно, будет Маше, когда и родители начнут ей говорить такое? А Степан Петрович может сказать. Он видел, знает, что Шура, пока Маша была в Москве, ходила к нам каждый день! Да-а! Маша не поверит, Степан Петрович и Ольга Николаевна могут поверить. Потом мне с ними как? Шура бережет меня, бережет Машу. Но это ведь будет и о ней. Своя честь каждому человеку дорога. Если Илья захочет, чего-чего, а уж это он сделает, тут его не остановишь. И такой удар ничем не отведешь.
Маша не поверит… Но, как говорится, клевещи, клевещи, что-нибудь да останется…
И вот смотрю я на Шуру. Не знаю еще, чем и как я ей помогу, но знаю: уйди я сейчас, оставь ее вот здесь, у забора, одну, и обязательно сделает она глупость. Или согласится на требования Шахворостова, или уедет в Норильск. Для смелого решения у нее не хватит мужества. А Маша мне сказала: «Костя, ты ее поддержи…»
Стоит человек. Обманутый, запутанный. Чья-то бывшая жена. Стоит без всякого блеска в глазах. Даль ей видится: «пена», бритая голова Ильи, вся в ямках, дома на столе бутылки. И еще дальше — решетка в окне… Стоит, подламываясь на тонких каблучках, будущая временная жена Ильи. А для меня — Шура, Шаганэ… Красивая девушка. И сердечная. Хороший человек. Немного хитренькая. Неправду от себя никак не может прогнать. А в общем друг. Надежный друг. И я не могу такую оставить у забора одну. Она давно просила: «Костенька, не отдавай королеву!..» Сейчас уже не просит. Сама королевой меня защищает от «шаха».
Не знаю, как поступили бы вы. А я сказал:
— Пошли.
— Куда? — спросила она. Похоже, что ей было все равно. Главное, что не надо думать самой.
— Куда? Сам не знаю куда. Пошли.
И я действительно точно не знал куда. Я повел ее к центру города. А сам поглядывал на вывески. Подходящих не попадалось. И я не помнил, на каких улицах есть то, что приблизительно мне было нужно.
Шура шла пошатываясь, ее плохо держали ноги. Взять ее под руку я не мог: куртка у меня была вся в глине. Мы шли, не разговаривая, только иногда у Шуры вырывалось: «Ой, как я устала!»
Наконец на улице Диктатуры подходящая вывеска мне попалась. Мы почему-то все время шли по солнечной стороне. От этого, может быть, Шура и раскисла так сильно. Хотя, к слову сказать, в своей брезентовой спецовке и резиновых сапогах я тоже напарился. В самый бы раз окатиться холодной водой. Возле трехэтажного каменного дома росли молодые, пахучие тополя, на ветерке тихонько шевелили крупными листьями и словно приглашали: «Заходите».
Шура глянула на вывеску и попятилась: «Костенька, нет…» Мне пришлось применить силу.
У дежурного я спросил:
— Как пройти к начальнику?
Дежурный посмотрел на нас с подозрением. Парень в грязной куртке и сапогах привел миленькую девушку с белым халатом под мышкой.
— Это рядом. Сдашь оперативникам. Здесь краевое управление.
— А нам и надо к самому начальнику, — сказал я.
— Завтра. Через бюро пропусков. Сегодня у полковника депутатский прием.
— Без пропуска?
— Это без пропуска. Живая очередь.
Пошли к депутату. За товарища Иванова я голосовал.
Очередь к товарищу Иванову оказалась не очень большая. На столе для ожидающих были разложены журналы. Я взял какой-то, стал читать, совершенно не понимая написанного. Шура все время в руках мяла свой носовой платок и зябко вздрагивала. Люди оглядывались на нее, наверно, думали, человека трясет малярия. Один мужчина сказал: «Милая девушка, позвольте для вас уступить очередь». Но Шура отказалась. Она сама готова была уступить свою очередь кому-нибудь, если бы мы не оказались в ней последними. А между прочим, если честно сказать, ждать в приемной начальника краевого управления милиции действительно как-то невесело. Не театр, во всяком случае. Особенно тому, у кого совесть не очень чиста. И даже с чистой совестью лучше сидеть в театре, чем здесь.
Я не буду описывать весь наш разговор с полковником. Главное вы уже знаете.
Шуре не пришлось мучиться, полковник так задавал вопросы, что ответы у нее сами слетали с языка. Я позавидовал товарищу Иванову: вот техника профессии! Через пятнадцать минут душа у Шуры была промыта, словно ершиком бутылка из-под молока: сквозь стекло газету читать можно. Шура тоже посветлела. Сами понимаете, такую муть начисто выплеснуть!
Разговаривал полковник очень вежливо, я бы сказал, ласково, и под конец все подшучивал: «Так, так, девушка. Говорите, много денег в запас иметь хотелось? Тысячи? Другим в запас даже миллионы иметь хочется. Сибирь наша плоха. Рассчитывали ездить на юг, в Сочи? Хорошо еще, что не в Монте-Карло». Меня спросил: «Вы что добавить можете?» Я ответил, что добавлять мне совершенно нечего, потому что сверх рассказанного Королевой я ничего не знаю. Но уж если добавлять, так только одно: Шахворостов — давний подлец. А Королевой я лично больше, чем самому себе, верю.
Полковник полистал календарь, сделал на нем пометку. Шуре велел зайти к нему в понедельник после пяти. А меня задержал: «На минутку». Когда Шура, пошатываясь, вышла из кабинета, полковник сказал:
— Слушай, парень, на своем веку я много видел и спекулянтов, и воров, и матерых бандитов. Настоящие спекулянты в милиции, конечно, не так разговаривают. Они все законы знают. А эта самого главного, кажется, не знает. Спекулянты всегда говорят: «От нужды. На кусок хлеба». А эта прямо: «На юг, в Сочи, в Ялту в панбархатных платьях ездить хотелось». Эх-хе! Словом, тебе я скажу начистоту. Мне она понравилась. Но одно обстоятельство надо проверить. Спекуляция все-таки грех тяжкий. И по внутреннему смыслу своему занятие очень грязное: в белых перчаточках отнимать у другого честно заработанные деньги. Но я вижу: девушка очень убита. И сознанием своей вины и этакими показаниями, которых она теперь боится. Как же: Шахворостов! Так ты, парень, эти дни ее побереги. Понял? Побереги. К какому решению придем мы, я не знаю, но ты будь с ней повнимательней. Духовно, духовно ее поддержи. Ну, погубила себя девушкой. А женщина она молодая. Словом, желаю вам всяких благ… И надеюсь. Есть некоторое основание. Шагай. Догоняй ее. Но, понимаешь, ей — молчок! — И засмеялся: — Я ведь сегодня не как начальник милиции, а как депутат вас принимал. Депутаты — они всегда добрее. Но в понедельник, пожалуй, опять и ты с ней зайди.
Шуру я проводил до самого ее дома. Иначе, наверно, ей бы и не дойти: у нее все время подкашивались ноги на ее высоких каблучках. Пришлось вести под руку. Хоть грязь у меня на куртке уже и подсохла, но все равно платье запачкалось. Ничего, выстирает.
В доме Шуры я никогда раньше не бывал. По рассказам ее, когда еще на теплоходе «Родина» плавали, знал, что это превосходный особнячок. Собственный. Правда, не ее, а матери. Но у Шуры там отдельная комната. Прелестная обстановочка, трельяж, радиола и все прочее. И мама у нее — «веселая хлопотунья».
А домик-то оказался: ногтем сковырни. Врос в землю, гнилая деревянная крыша, окошки, наверное, свободно моей ладонью можно закрыть. Какие там внутри отдельные комнаты? И трельяжи и ковры? Во всяком случае, на заборе висел тканый тряпочный половик, из которого палкой выбивала пыль какая-то женщина. И я понял: Шурина мать. В лице у нее ничего веселого не было. Скорее злое. И мне даже показалось, что я часто видел ее на базаре. Она продавала полынные веники. И я сам их покупал у нее.
Шура молча сжала мне руку, прощаясь, и вошла во двор. Я заходить не стал. Шура, наверное, боялась, что я вспомню ее прежние рассказы и стану теперь считать уже совсем круглой лгуньей. А я, наоборот, почему-то обрадовался, что она все мне лгала. И что, хотя она и «королева», дом у нее — совсем не королевский дворец. И я подумал, что Шуре, наверно, просто хотелось жить в действительно хорошей квартире, но она не верила, что когда-нибудь дадут такую квартиру, а «веселая хлопотунья» со своими вениками зудела ей в уши вредные советы. Заставляла и бездумные, но доходные картинки рисовать на стекле, торговать ими; и на работу подталкивала такую, где хоть и мокрые, а пятаки остаются; и мужа-спекулянта, наверно, она ей нашла; и лгать, хитрить ее приучила. И еще я подумал: полковник Иванов говорил со мной так, словно Шура была моей невестой. А я почему-то ему не возразил. И полковник будет считать: я так сильно люблю Шуру, что не отказался от нее, хотя, может быть, даже и станут ее судить. Хорошо ли я сделал?
Маша потеряла меня совершенно. Дело в том, что к нам прибегала Дина, договориться насчет воскресенья. Вася Тетерев достал у знакомого лодку с подвесным мотором. Лодка большая, возьмет всю нашу компанию. Мотор немного барахлит, но до воскресенья Васюта вместе с Володей Длинномухиным его наладят. Ждали меня и гадали, куда я мог деваться. Дина так и не дождалась меня. А Маша сказала ей, что ехать надо на Шумиху, где будет строиться наша Красноярская ГЭС, там очень красивые места, или хотя бы до устья Маны. Дина предупредила, что выезжать надо чуть свет, пока спит речная инспекция: могут не позволить такой лодке с народом выйти в дальнее плавание.
Маша спросила меня:
— Правильно сказала я: на Шумиху?
Я подтвердил:
— Правильно. Очень хочется поплавать по Енисею.
А потом начал объяснять, где я был и чем это дело пока закончилось. Маша погрозила мне пальцем:
— Костя, ты настоящий турок: имеешь две жены. Поэтому в воскресенье Шуру придется взять с собой. — Она смеялась, а я не мог засмеяться, потому что в самих словах Машиных был вроде бы упрек. Но Маша тут же очень душевно прибавила: — Пусть она пока больше будет с нами, в нашей семье.
Тогда я сказал уже вслух слова, которые всегда повторял про себя:
— Маша, я тебя очень люблю!
И мы стали обсуждать, как нам лучше устроить эту поездку на лодке, что надо купить нам и что поручить Дине.
Это было в пятницу. А в субботу произошло то, с чего я начал главу. Пришел на работу Кошич, по виду уже не Казбич, а скорее Мышич.
В газете «Известия», которую в киосках продавали с утра, была напечатана статья об одном негодяе. Он заявлениями и доносами на своих соседей по дому завалил все ростовские организации, где работали эти люди, поднял на ноги областную прокуратуру, редакции газет, облпрофсовет и даже некоторые райкомы партии. В общей сложности только за четыре последних года он написал шестьсот сорок семь заявлений, по этим заявлениям работало двести двенадцать комиссий, в которых было занято около тысячи человек. И ни одно заявление негодяя не подтвердилось. Он писал о слонах, а были мухи. И то не всегда. Его пригласили в редакцию «Известий» и спросили: как он мог оболгать столько хороших людей и за что, собственно? Он задергался, закричал: «Я боролся и буду бороться за правду! Все, о ком я писал, двуличные, мелкие человечки. Все равно я их разоблачу! Если вы, в редакции, меня не поддержите, я напишу на вас в Центральный Комитет!»
Понимаете? В создавшейся обстановке статья эта как звучит?
И в этот же день, так совпало, ревизор закончил проверку. В своем заключении он признал заявление необоснованным, назвал Кошича молодым сутягой, демагогом и дезорганизатором производства и рекомендовал привлечь его за клевету к уголовной ответственности. Каково?
Но и это еще не все. Выяснилось: Кошич свои камешки ссылал в картонную коробку из-под ботинок, которую держал у себя под кроватью. Хозяйка его квартиры, тетя Дуся, прибираясь, рассыпала камешки. Часть из них сложила обратно в коробку, остальные вымела. Представляете?
Короче говоря, в этот день хотя и не возле кассы, где я назначил ему, но при всем народе Кошич просил у Виталия Антоныча прощения. И было видно, что все это, вместе взятое: статья в газете, заключение ревизора, история с камешками и тот «дер», который уже мы ему дали теперь, — прожгло Кошича насквозь. Он не кричал и не дергался. Только спрашивал, ловя всех нас по очереди: «Меня с работы не выгонят? Ведь я же хотел для всех лучше сделать. Я был убежден. Мне казалось…»
А когда шел с Тумарком домой, по пути сказал ему:
— Мне, наверное, самому надо уволиться?
Глава четырнадцатая Комета Галлея
Люди часто говорят: «Как я рад, что, наконец, вырвался из города!» А другие: «Как я рад, что, наконец, вырвался съездить в город!» Вообще-то понятно. Где надоело, оттуда и вырываются. Куда очень тянет, туда и рвутся. На Енисей меня всегда тянет и будет тянуть. Я рвусь на Енисей. Но я не сказал бы, что поэтому я хочу откуда-то и вырваться. Из города, из дома или с работы. Слово «вырваться» ко мне никак не подходит. Я люблю и свой город, и свой дом, и свою работу. А на Енисей все же рвусь, хотя и сам не знаю откуда.
Мы все обдумали и рассчитали. Едут четыре пары: Барбины, Тетеревы, Мухины и Фигурновы — и пять одиночек: Тумарк, Кошич, Шура, Виталий Антоныч и Алешка. Итого, тринадцать.
Тут вы можете сразу спросить: «Почему Кошич?» Да потому. Виталий Антоныч сказал: оставить Кошича одного в такой момент — значит вовсе от него отвернуться. Он сейчас разбит, потрясен, душа у него приоткрылась, надо войти в нее доверием к нему. Тем более что и сам он еще до этой развязки с камешками стал делаться как-то мягче, дружнее со всеми. Ревизор при этом тоже присутствовал, сказал: «А я, пожалуй, дело все-таки двину». В руке он держал газету «Известия». Но Виталий Антоныч подошел к ревизору: «Позвольте, мы пока им сами займемся».
Вот почему Кошич.
Шура сказала: «Я тринадцатой не поеду».
Виталий Антоныч сказал: «Я, ребятки, стал человек суеверный. Езжайте без меня».
Кошич сказал: «Не поеду, я плаваю плохо». Будто он должен был плыть до Шумихи стилем брасс!
Тумарк и Алешка соглашались ехать тринадцатыми.
Было ясно, почему отказываются Шура, Виталий Антоныч и Кошич. Маша, смеясь, сказала: «Очень просто. Совсем не нужно нам брать с собой Алешку. Какая он нам компания?» Заявленные отказы тогда сразу повисли в воздухе, числа тринадцать не стало. И Маша с Диной постепенно всех уломали.
У Васи Тетерева никак не ладилось дело с мотором. В субботу он вместе с Володей Длинномухиным чистил и протирал эту штуку, наверно, часа четыре, но мотор все равно чихал. Вася сказал: ночь не будет спать, но к рассвету все сделает.
А мне пришла такая мысль: уйти еще с вечера пешком с Машей и Алешкой по берегу до той самой скалы, под которой мы встречали «наш ледоход», и там переночевать у костра. Утром подъедут на моторочке остальные, и мы, если понравится, так и проведем весь день под этой скалой, а не то поплывем дальше, до Шумихи. Маша засомневалась. Неловко отрываться от компании и тем более обманом включать в нее потом «тринадцатым» Алешку. И вообще нести его по жаре больше пятнадцати километров, а потом на ночь укладывать на холодную землю очень рискованно. Я сказал, что понесу Алешку сам, мне это не тяжело, а поспать парню на открытом воздухе, наоборот, очень полезно. И никто не рассердится на «тринадцатого», потому что все же знают, что «тринадцатый» был только предлогом, чтобы сперва поломаться. А то, что мы встретим нашу компанию на берегу, — так это даже интереснее, веселее. И пусть об этом знает только Дина. Она придумает для остальных про нас какую-нибудь легенду, всех позабавит.
И Маша согласилась.
Нам повезло. В самом прямом смысле. Зашел Степан Петрович и сказал, что на известковый завод катерок управления пароходства сейчас потянет баржу. И мы успели на нее погрузиться не только сами, но и взять старенькое одеяло, ведро картошки, еще там какой-то ерунды, чтобы готовым завтраком встретить «наших». Алешку я устроил в ямке на мотке пенькового каната. В открытый Енисей парень выходил на настоящем судне первый раз.
Плавать по Енисею я привык на пассажирских теплоходах, которые режут его со скоростью двадцать пять километров в час. Наша баржа тянулась не знаю с какой скоростью, но Маша сказала шутя: «Костя, ты утречком разбуди меня, когда мы под железнодорожным мостом проплывать будем».
Мост виден был прямо от пристани.
Однако в ее словах звучала и правда: дай бог, если мы только лишь к самой ночи притащимся на известковый завод.
Но я готов был плыть туда хоть целую неделю, до того хорошо было на реке. Стояли самые длинные летние дни, дул маленький попутный ветерок, приятно холодил спину, а когда вдруг спадал совершенно, горячий скипидарный воздух от баржи окутывал тебя, словно мягкое облачко. Люблю этот запах снасти и дерева, пропитанного черной кипящей смолой!
Красноярск — город шумный. Но когда выходишь вот так на барже на самую середину реки, он словно немеет. Видно, как по улицам бегут автобусы, грузовики, у пристани кивают длинными стрелами подъемные краны, дальше, на перевалочной базе, работают бревнотаски, подхватывая лес из реки железными цепями. И все без звука. Будто на весь мир опустилась удивительная тишина. И только стучит мотор на буксирном катере, бурлят винты, выбрасывая за кормой зеленоватую волну; и масляно трется вода о крутую обшивку баржи, чуть-чуть журча и похлюпывая; и вполголоса поет Маша: «Енисей, Енисей, брат полярных морей…»
Плотник не построит дома, сапожник не сошьет ботинок, художник не нарисует картины — словом, никакой мастер не сделает вещи, если еще в работе не посмотрит на нее со стороны. На Красноярск тоже надо по временам смотреть со стороны. Хотя бы с самолета, с Афонтовой горы или вот так, с Енисея. Только тогда по-настоящему и поймешь, какой это превосходный город, какой он красивый и могучий и как растет он и все хорошеет день ото дня!
Куда ни погляди — труд человека. И для человека. Если бы Красноярск такой, как он есть, построили не люди, а муравьи, я не назвал бы его красивым. Если бы руки мои ворочали камни, но из этих камней не сложилось бы ничего для людей полезного, я не назвал бы это работой.
Я давно не плавал по Енисею и сейчас готов был плыть сколько угодно. Даже прыгнуть с баржи и начать отмахивать саженками до самой Шумихи. Против течения! Вдохнуть, заглотнуть в себя весь этот пахнущий медом и смолой речной воздух, только не разорвалась бы грудь. Подпрыгнуть, чтобы тебя подхватило тугим, теплым ветром, вытянуться и полететь. Вы когда-нибудь во сне летали над землей? Я летал. И это очень просто. Надо только стремиться сильно, всем телом, вперед и вперед и все время забирая чуточку выше. И можно, летать хоть всю ночь. Днем это не получается. Но в этот раз могло получиться, если бы Маша то и дело не дергала меня за руку: «Костя, куда ты тянешься? Свалишься в воду с баржи!»
Енисей для меня не может быть скукой. Его разговор можно слушать не отрываясь сколько угодно. Он не просто течет, он все время работает, красиво и сильно; несет на себе пароходы, баржи, бревна, по дну катит звонкую гальку; глиной, песком забивает, заделывает трещины дна, чтобы вода не ушла в землю, чтобы побольше донести ее в океан, пока — для солнца, которому вода потребна на изготовление облаков. Енисей с солнцем и ветром давно работает заодно. Когда человек воздвигает стометровую по высоте плотину в Шумихе, Енисей станет больше работать заодно с человеком. Носить на себе только пароходы, бревна и баржи — легкий труд. А вот поворочать турбины будет труднее. Ничего, справится богатырь!
Мы проплыли и под мостом, по которому как раз проходил курьерский поезд Москва — Иркутск. И мимо мелькомбината, где белые элеваторы, глухие и высоченные, стояли для меня постоянными загадками: как они устроены там, внутри? И мимо Базайской лесоперевалочной базы, где бревен и на берегу, в крутых штабелях, и на воде грудилось столько, что можно было бы из них построить, наверно, еще два Красноярска. И мимо высокой скалы, о которой старожилы спорят, как ее правильнее называть: Шалунин бык или Шеломин бык. Шалунин потому, что вода под ним шалит, балуется, а Шеломин потому, что видом своим походит он на шлем, шелом по-древнеславянски.
Навстречу нам один за другим попадались пароходы. Раза три они и обгоняли нас. Мы обогнать никого не могли. Но мне очень хотелось, чтобы и мы начали кого-нибудь обгонять.
Говорят, счастливые часов не наблюдают. Правильно. И еще говорят, что в журнале «Знание — сила» было написано, что, когда человек полетит в небесные дали со скоростью света, время для него почти остановится. На Земле, к примеру, тысяча лет пройдет, а он вернется из полета, если бритву с собой забыл захватить, только чуть отпустив бородку. То же и с едой. Взял колечко краковской колбасы, банку свиной тушенки, пива бутылочки четыре — и пожалуйста, обеспечил рейс: Полярная звезда и обратно. А на Земле за тысячу лет сколько бы человек съел колбасы и пива выпил?
Вообще это очень выгодно и дешево людям будет — летать со скоростью света. А главное, можно смерть свою обмануть. Как ни говори, тысячу лет прожить не худо, к тому же еще летая между звездами. Но это все я лишь к тому говорю, что хотя часов в этот раз я и не наблюдал, а поплыть со скоростью света мне очень хотелось. Во-первых, пока баржа наша тащилась бы до известкового завода, я уже успел бы скатать вниз по Енисею до самой Дудинки, вернуться обратно, обогнать самого себя, половить рыбки у Большого порога, в самом сердце Саян, и прибыть под скалу «нашего ледохода» хотя бы на недельку раньше, чем туда приплывет Дина со всей компанией. А во-вторых, тогда я, наверно, мог бы свободно продюжить только на обеде, который мы с Машей проглотили дома совсем на ходу.
К берегу наша баржа притравилась точно в тот момент, когда последний солнечный луч на правобережной горе мигнул и погас. Под «нашу» скалу мы добрались уже вовсе впотьмах. Алешка орал. С ним случилась обыкновенная история, а все его имущество было затянуто в каком-то одном из двух узлов, которые я нес на ремне, перебросив через плечи. Маша сердилась. Не на Алешку, а на меня. Будто это я орал и для меня нужно было впотьмах искать сухие пеленки. Она говорила: «И зачем мы взяли его с собой?»
Но когда загорелся костер и ввысь полетели светлые искорки, когда от огня сразу стало тепло и уютно, словно мы забрались в темный шатер с открытым лишь верхом, все сразу повеселели, и особенно Алешка, который видел костер в первый раз.
Надо сказать, что Алешка в первый раз и выкупался в Енисее. Не весь. Одной половиной. Иного выхода не было. Маша начала греть воду в котелке, но я сказал:
— В котелке лучше сварить картошку, ужасно хочется есть.
И мы с Алешкой превосходно обошлись Енисеем.
Маша, недовольная, покачала головой:
— Вот схватит он воспаление легких…
Хотя помыл я его только там, где у него никаких легких нету.
Ночь была сухая и теплая, совсем не такая, как во время «нашего ледохода», когда я из карманов плаща, полных водой, вытаскивал каких-то колючих жуков. В кустах тенькали птички, которым спать не давал свет костра, под скалой в реке плескались ельцы. Я нарубил мелкого лозняка, устроил из него для Алешки глубокую постель, чтобы он не выкатился в костер, и парень через минуту захрапел, как взрослый мужчина. Маша с сомнением прислушалась:
— Не бронхит ли у него начинается?
Для нас я приготовил такую же шикарную постель. Но спать нам не хотелось. Мы уселись на плоском камне над самой водой, по которой бегали отблески пламени. Здесь, немного в стороне от костра, ночь не казалась очень темной. Хорошо был виден правый берег, а вдоль него — глубокие тени от деревьев, сбежавшихся к самому Енисею. Спокойно, размеренно вспыхивали и гасли белые ацетиленовые огоньки на перевальных столбах.
Маша глядела вверх, искала свою звездочку, которая всегда стояла над Такмаком, если смотреть от нашего дома. Тут обзор неба зажат был горами, оно казалось не круглым сводом над землей, а длинной дорогой — где Енисей, только там и небо. Но Маша все-таки нашла звезду, хлопнула в ладошки:
— Вот она!
И долго не могла отвести от нее глаз.
Я сказал:
— Мне кажется, это другая. Та была поменьше.
Маша сказала:
— Костя, да как же другая! Это созвездие Козерога. Точно. А кажется она крупнее только потому, что здесь воздух чище, прозрачнее, чем в городе.
И Маша стала мне показывать разные созвездия на небе, словно она среди них уже летала сто раз и знает, как знаю я перекаты на Енисее от самого Красноярска и до Игарки.
— Как хорошо, что мы сюда приехали с вечера! — сказала Маша. — Какой здесь воздух! Свежесть. Тишина. — Прислушалась. — Костя, ты слышишь, что говорят сейчас там, на планете, похожей на нашу Землю, около этой звездочки?
— Слышу, — сказал я и тоже прислушался. — Кто-то там шепчет тихонько: «Я очень тебя… люблю».
Маша засмеялась:
— А я кроме этого, слышу еще: прилетай!
Она встала, подвинула свой камень так, что теперь мы могли сидеть рядом, тесно, плечом к плечу. Запустила свои прохладные пальцы мне в рукав рубашки.
— Костя, — спросила она, — а когда люди начинают стареть? Какие признаки этого?
— Нам далеко, — сказал я.
— А все-таки?
— Ну… морщины появятся, седина. У мужчины лысина. Этот, как его, ревматизм.
— Нет, — сказала Маша и снова взглядом потянулась вверх, — нет, не это. Человек начинает стареть тогда, когда он перестает слышать, что говорят там, на этих далеких звездах.
Я не знал, как на это ответить Маше, хотя я превосходно понимал, что она имеет в виду. Какие звезды и какую глухоту человеческую. Но сейчас я чувствовал удивительную силу у себя в руках.
— Маша! Поплывем на тот берег! Вода не очень холодная.
Она оглянулась на костер.
— Смешной! А как же Алеша?
— Возьмем. Я его к голове своей привяжу.
Я мог бы действительно поплыть через Енисей, взобраться на отвесный утес, под которым мы сидели, полететь к Машиной звездочке. Я слышал все, что там, на планете около нее, говорили!
Маша своими пальцами, теперь уже потеплевшими, забралась мне в рукав до самого локтя.
— Костя, нам надо жить как-то быстрее.
Мне вспомнилось, что эти слова Маша говорила и в день своего приезда из Москвы. И я тоже их понимал. И знал, что они означают. И душой готов был жить «быстрее». Машу эти мысли одолевали давно. Немного другими словами она их высказывала и раньше. «Быстрее…» Конечно, надо быстрее. Но как?
Маша начала тихонько, все так же глядя в манящую вышину неба:
— Костя, скоро люди полетят на Луну, на другие планеты. Почему они это не делали уже сто лет тому назад? Почему двести лет тому назад люди не ездили на поездах? Почему тысячу лет назад люди не печатали книги?
— Не умели. Не знали как.
— Да, не умели, не знали. Но у каждого времени был свой уровень развития науки, творческой мысли.
— И гении тоже. Это главное!
— Н-н-не главное, Костя. Самый величайший гений не осуществит, нет, не осуществит ничего, если решение его замыслов не подготовлено. Понимаешь? Не подготовлено всем современным ему уровнем науки и культуры.
— Ну, например? — спросил я.
Это у нас всегда. Маша любит начинать с общих определений, а я — сразу с прямых, видимых примеров. Люблю не алгебру, а арифметику. С картинками. Тем более когда смотришь на звезды.
— Пожалуйста, — сказала Маша. — Могу и примеры.
И стала говорить, что Иван Федоров не напечатал бы свои первые книги, если бы люди тогда еще не умели делать пергамент, краски, не знали, что такое пресс. Черепанов не построил бы свои первые паровозы, если бы люди все еще не умели делать листовое железо, пригодное для больших котлов, не знали уже, что по рельсам колеса катятся легче. Люди нашего времени обязательно уйдут в звездный полет. Циолковский уже доказал, на что способна ракета. И люди уже умеют выплавлять такую твердую сталь, которая не сгорает, молнией пробиваясь сквозь атмосферу Земли. И люди уже умеют удивительно быстро и точно вычислять орбиты и траектории тел, движущихся в космическом пространстве.
Мне подумалось, что, пожалуй, зря я даже сам для себя отвергаю алгебру: штука вообще-то очень дельная, без нее, на одной арифметике, теперь действительно никуда не уедешь. А Маша между тем говорила:
— Костя, чуть не триста лет тому назад астроном Галлей вычислил орбиту кометы, которую он сам наблюдал всего лишь один раз в жизни. И предсказал, когда она снова покажется в небе. Уже после его смерти. Галлей немного ошибся: она появилась с «опозданием» на год. Другие астрономы поправили расчеты Галлея, и комета в следующий раз «опоздала» только на три дня. Вот что знают уже о небе и что могут люди.
— А куда она девалась теперь, эта комета? Я что-то ни разу даже в газетах о ней не читал.
— Она появляется один раз в семьдесят шесть лет, — сказала Маша, — и теперь мы ее увидим только в тысяча девятьсот восемьдесят седьмом году.
— Ого! — сказал я. — Ну, ничего, мы будем тогда еще не совсем стариками.
— Костя, а я хочу увидеть комету Галлея совсем молодой! Мы с тобой обязательно должны увидеть ее молодыми!
Ленька, конечно, тут же запел бы свое: «А-а, хитрая какая!» Мне хотелось тоже примерно это сказать. Но я угадывал в Машиных словах не прямой смысл, она говорила о молодости души, о тихом звездном разговоре, который мы должны слышать и тогда.
— Маша, — сказал я, — мы не постареем. Подумаешь будет нам по пятьдесят четыре года. Мы с тобой придем тогда на этот же берег и будем смотреть.
— Костя, нет, мне хочется посмотреть на комету Галлея раньше, не в пятьдесят четыре года.
— Как это?!
— С космического корабля! Полететь ей навстречу! Тогда мы действительно увидим ее молодыми.
Мы оба сразу замолчали. И оба, наверно, от неожиданности. Потому что заранее и Маша вряд ли представляла себе, как вслух прозвучат эти слова. Ночью. Под торжественным небом. Когда со всех звезд и нас тоже слушают.
И чем дольше молчали мы, тем огромнее казались мне сказанные Машей слова, они, раскручиваясь тугой спиралью, ввинчивались в небо, и мы вместе с Машей неслись в вышину внутри этой спирали.
— Маша, а как сделать это? — наконец спросил я.
Она еще долго молчала, чуть поглаживая пальцами мою руку.
— Может быть, я очень дерзко сказала: «Нам полететь…» Может быть, только Леша наш полетит. Может быть, полетят даже после него, вовсе нам не знакомые люди. Но мы с тобой уже теперь обязаны сделать что-то такое, чтобы они могли полететь. Хотя, конечно, больше всего мне хотелось бы самой полететь! — Маша поежилась от зябкой, счастливой дрожи, толкнула меня плечом. — Костя, нет ничего страшнее нуля — ничего не значить для жизни. Таких круглых нулей, наверно, у нас и нет. Но быть каким-то бессильным человеком, который хотя и двигается вместе со всеми, но не ведет никого за собой, — это почти тот же нуль. Я не о славе, я говорю о силе человека. Человек должен, обязательно должен подтягивать другого. Знаешь, вот как в гору, когда поднимаются люди. Костя, тянем ли мы кого за собой?
И мне припомнилось, как я сам люблю всегда, чтобы у меня все кипело в руках, чтобы в движении тугой ветер бил мне в грудь.
А Маша говорила, что есть удивительно простое средство добиться задуманного. Как у скульптора. Тот берет глыбу камня и отсекает от нее все лишнее, ненужное. Остается дивное произведение, та воплощенная творческая мечта художника, стремясь достичь которой он взял в руки молоток и резец. Чтобы стать знающим, нужно последовательно на пути к этому отсекать свое незнание.
Академик Иван Андреевич Рощин когда-то мне подарил свою книгу. Чтобы прочитать и понять ее, мне много пришлось прочесть и понять других книг. Я теперь знаю, хотя и не точно и не полностью, о чем писал Иван Андреевич. Мне это нравится: так читать трудные книги. Я сейчас тоже отсекаю одно за другим свои «не знаю». Но когда у меня накапливаются мои «знаю», я не собираюсь делать из них что-то новое и большое. Они пока просто лежат у меня в уме, в памяти, одни полезные, другие такие, что и снова забыть не жаль. Маша говорит: собирай «знаю» не как попало, а подчини их определенной цели. Когда ты устранишь все свои «не знаю», ты достигнешь мечты. А тебе тогда снова откроется вторая — дальше, впереди. Вообще-то здорово!
Да-а! Конечно, речником или бетонщиком на строительстве ГЭС я все равно буду работать. Во-первых, другого я пока ничего не умею. Во-вторых, это нужно народу, нужно государству нашему. В-третьих, мне такая работа просто нравится, ее руки просят, просит душа…
— Маша, я хочу! — сказал я. — Только сейчас я хорошо не знаю, какая у меня самая главная мечта, вторая, та, которая впереди. А сил, Маша, у меня хватит. И воли тоже. Это ты знаешь.
Костер позади нас погас совершенно. И вместо розовых пятен от него на воде забегали золотые черточки от звезд. А скала вычертилась глубокой черной тенью, и там, где она обрывалась, все время плескались веселые ельцы.
— Костя, — сказала Маша, — я тоже пока ищу ее, свою большую мечту. Давай вместе поищем. Одну на двоих или каждому свою. Только давай будем жить ответственно! И быстро! — Маша засмеялась, затормошила меня: — Иначе лучше быть просто травой. Но мы, Костька, будем умными-умными!..
Маша так сильно ткнула меня в бок, что я потерял равновесие и свалился с камня. И мне стало тоже очень весело. Оттого, что я такой сильный, а свалился от Машиного толчка. Оттого, что она первый раз назвала меня Костькой и сказала, что мы будем не травой, а умными-умными. И оттого еще, что я ее очень люблю, а жить хорошо.
Потом, разувшись, мы долго бродили по самой кромочке берега, не заходя глубоко в воду; потому что в глубине холоднее. Постояли под скалой, в той самой расселине, где во время «нашего ледохода» мы ежились под проливным дождем. Хотели сходить туда, где мы с плывущей льдины выскочили на песок, но это было далековато и покинуть надолго Алешку одного было нельзя. Тогда мы оба взобрались на скалу.
Наверху было еще лучше. Совсем как на Столбах. И даже почти так же пахло сосной, чабрецом и мятой, мокрыми от росы. Стоять у самого обрыва над Енисеем было немного жутко, все время в трещинах, морщинах скал журчали мелкие камешки. Когда они, падая, касались воды, казалось, что там позванивают колокольчики. А звездное небо было высоким, большим и круглым.
Маша сказала:
— Никуда дальше завтра нам ехать не нужно. Посмотри, какой тут, на горе, прекрасный лес! Какой отсюда вид на Енисей!
А я сказал:
— Все правильно. Только не завтра, а сегодня.
Я сказал так потому, что часы показывали половину третьего. А на севере, чуть к востоку, небо уже белело узкой полоской.
Потом мы стояли, положив друг другу руки на плечи, и молча разговаривали.
По небу иногда катились метеоры, и мне казалось, что это мы летим на космическом корабле. Где-то над большим подводным камнем вдруг вскипал Енисей, бурлил глухо и тяжко, и мне казалось, что там работает турбина ГЭС, которую мы только что поставили. У поворота реки молол воду винтом маленький катерок, медленно пробиваясь против течения, поблескивая ночными сигнальными фонарями, и мне казалось, что я веду трехпалубный теплоход, борясь с могучим Большим порогом Енисея.
Эх, выбирай, Барбин, что лучше!
По зубцам гор правобережья можно было добраться до плоского Майского Белогорья, выйти к сплетению верховий рек Казыра, Кизира, Бирюсы и Уды, проникнуть в совершенно невообразимые таежные дали Ангары и Лены, врезаться, врубиться в горные хребты Забайкалья, уйти дальше еще на восток, где сейчас над землей уже высоко стоит солнце, и принести с собой образцы найденных там руд.
Если оглянуться, темная просека в лесу напоминала о железной дороге, которую сейчас ведут к Тайшету, перемахивая мостами одну реку за другой, и где, может быть, не хватает как раз Кости Барбина.
Уголь черен. В шахтах и тесно и сыро, совсем не тот простор, размах и свет, что на открытом Енисее. Но уголь — на земле пока главная сила, главное богатство. И я готов был даже опуститься в шахты и на спине своей поднять все залежи черного сокровища Сибири.
Там, где по три месяца стоит полярная ночь, а пурга наметает сугробы под крышу двухэтажного дома, в Норильске, стучали стальные шары, дробящие руду. Там город был, пожалуй, больше и красивее любого другого, кроме Красноярска. И Костя Барбин великолепно мог бы ходить и по цехам норильских заводов в какой положено рабочей спецовке, вытаскивая из электролизных ванн мокрые, блестящие чушки меди и никеля.
Он мог бы, Барбин этот самый, рубить ангарские сосны, прямые, звонкие и высокие — до облаков. Мог вязать их в огромные, как остров, плоты и гнать по штормовому Енисею навстречу океанским кораблям, идущим в Игарку за сибирским лесом.
Степь вроде бы и не очень Сибирь, от свирепой жары в ней спрятаться негде, но целина — это хлеб, нужный всем. И хотя степь не река, сейчас Барбин поплыл бы по сибирской степи и на тракторе.
Словом, так. У индийского бога Брамы, я видел на картинке, было четыре руки. Мне в эту ночь хотелось иметь десять рук. И я знал, что я стал бы делать каждой из них. Я стоял на крепкой скале, словно бы сросшись с нею, и чувствовал, моя ли кровь уходит в скалу и возвращается обратно или каменная кровь скалы вливается в мои жилы, но я становлюсь огромным, как сам этот утес, и сильным, как сама земля. Я могу сделать все, что захочу.
Наверно, и Маша чувствовала себя такой же огромной и сильной, только ей хотелось лететь, потому что она все время подступала к обрыву. Она сказала:
— Давай мы здесь встретим солнце.
И я согласился. Но Алешка разрушил наши замыслы. Он запищал внизу, совершенно невидимый отсюда, и Маша запрыгала к нему по камням. А я боялся, что впотьмах она переломает ноги.
Восход солнца мы встретили у реки. Оно долго продиралось сквозь цепкие ветви деревьев правобережья, и радужные тонкие лучики от него скользили во все стороны, светлыми узорами ложились на быстро бегущий и в то же время словно бы и неподвижный Енисей. Но постепенно и наш берег весь засиял мелкими огоньками, вспыхнувшими на каплях росы. И я увидел, как сразу в песке и на траве зашевелилось много разной живности, ползающей, бегающей и крылатой. Даже цепочка серого мусора, которой прибоем все время выплескивается на берег, тоже оказалась живой. Там плавали и шевелили тонкими длинными усиками какие-то козявки. Сорока только сейчас заметила нас и полетела в чащу рассказывать всем подряд о своем открытии. Кукушка предсказала нам столько лет жизни, что Маша заулыбалась: «Костя, мы будем бессмертными». Ночные, неясные тени на реке одни совсем ушли куда-то, а другие на месте очертились резко, сильно. Нам не было холодно, зябко и ночью, но сейчас повсюду в воздухе разлилась такая нежная теплынь, такой пьяный запах согретой солнцем росной травы, что Машины глаза посоловели. И я не знаю, откуда он потом сразу взялся, этот могучий, все заливающий радостный свет, когда солнце само такое маленькое и все еще никак не может выкатиться поверх леса!
Глава пятнадцатая Воскресенье
Это был тот же самый день, но вроде бы и другой, потому что мы все же славно поспали. Алешка, выпущенный на одеяло, пробовал ползать, садиться самостоятельно. Маша готовила завтрак и все время предупреждала меня: «Костя, смотри, там всюду бегают разные насекомые. Не наглотался бы Леша!» Но я этого не боялся. Если насекомое с мягкими ногами, оно не повредит, а крепкого, колючего жука Алешка и сам выплюнет. Жук не пуговица.
Мы рассуждали: скоро ли подъедут «наши»? Получалось, если мотор наладили как следует, то скоро. И мы все время поглядывали на поворот Енисея, из-за которого один за другим появлялись пароходы и катера.
Маша строила различные предположения, какую историю насчет нас придумает Дина. А потом сказала, что надо нам самим разыграть Дину.
— Сделаем так. Только моторка покажется, я с Лешей спрячусь. Ты скажешь ей, что приплыл на барже один, я, дескать, передумала и решила приехать с ними. Требуй: «Где Маша?»
Я немного посомневался: у Дины наверняка что-нибудь такое приготовлено, что Маша как раз больше всего и будет при встрече нужна. Может быть, мне лучше спрятаться? Но Маша сказала:
— Выйди из положения.
И я сказал:
— Ну ладно.
Хотя знал заранее, что Дину мне все равно не перехитрить.
Лодку нашу мы заметили издали, вернее, узнали по звуку мотора. Он работал, как телеграфный аппарат, отбивая тире и точки. Маша — превосходная радистка, но из этих точек и тире ни одного слова составить не могла. А я знал, какие слова, но написать их здесь не могу. И только удивлялся, как Вася Тетерев решился поплыть в далекий путь при таком моторе.
Когда лодка приблизилась к берегу, я стоял один, как Робинзон Крузо, только в трусах из черного сатина, а не из козьих шкур, размахивал руками и орал:
— Где вы запропастились? Я есть хочу!
Вася тихонько подруливал к бревну, концом лежавшему в реке. Дина спрашивала:
— Костя, где Маша?
А я спрашивал Дину.
— Нет, правда, где Маша?
И в лодке все хохотали. А я видел, что Шуры среди приехавших не было. Только ее одной. Но спросить не решался. Я догадывался, почему она все же не поехала.
— Костя, а где Королева? — кричала Дина.
И я уже вовсе не знал, что мне теперь отвечать на ее вопросы.
Верочка Фигурнова протестовала: не следует задерживаться здесь, надо сразу плыть до Шумихи. Володя Длинномухин говорил, что на таком моторе туда и к вечеру не добраться. Тумарк уже разделся и по-собачьи плавал, не отдаляясь больше как на два шага от берега. Кошич и Володина жена Света играли вдвоем в волейбол, закатывали такие звонкие пощечины мячу, что он от боли крутился в воздухе. Виталий Антоныч аккуратно выставлял из лодки сумки и корзинки с едой и приговаривал: «Отличное, великолепное место!» Петя, Петр Фигурнов, злился: «Забыли топор. Для ясности». Словом, все шло совершенно нормально, как всегда бывает на таких прогулках.
Все повторяли: «Где же Маша? А я рассказывал, как мы затеяли вдвоем уплыть на барже, но Маша передумала, не захотела ночевать на сыром берегу и решила приехать вместе со всеми. Почему ее не подождали?
И все кричали на Дину: «Ты же говорила, что Шура Королева утром раньше нас уплыла на обстановочном катере!»
Дина тихонько и совершенно серьезно спрашивала меня: «Неужели правда, Маша с тобой не поехала?» Я говорил: «Да». И Дина по глазам моим видела, что я вру.
А я так же тихонько спрашивал ее: «Правда, почему не приехала Королева?» Она подтверждала мне, что Шура выехала раньше, на каком-то обстановочном катере. Наверно, катер прошел мимо, не заметив нас. И я по глазам Дины видел, что она тоже врет.
Словом, все запуталось настолько, что лучше было никого и ни о ком не расспрашивать.
Не знаю, долго ли Маша просидела бы еще в своем укрытии, но Верочка Фигурнова нашла в траве соску-пустышку с колечком, спросила: «Чья?» Я с размаху сказал: «Алешкина». И тогда все бросились делать облаву. Конечно, Машу сразу нашли. Крик подняли такой, что мне показалось: я на стадионе и «Спартак» забил «Локомотиву» штрафной с одиннадцати метров.
Серьезный человек посмотрел бы на нас, подумал: «Не смешно». Мрачный и вовсе сказал бы: «Идиоты!» Но мы все равно хохотали, и по самым пустым причинам. Ну, я думаю, всем вам это дело тоже знакомое. Раз поехал в компании за город — хохочи! И не по принуждению вовсе. Действительно, бывает почему-то весело. Без компании так не станешь смеяться.
Описать весь этот день нет возможности. И надобности.
Ясно, что пили и ели.
Пили не допьяна, потому что в нашей компании такого никогда не бывает. Ели не досыта, потому что на воздухе сколько ни ешь, все равно сыт не будешь.
Ясно, что играли и пели песни.
Играли в волейбол без сетки. Играли в прятки, и Дина хотела спрятаться в Енисей, но побоялась: Кошич ее там не найдет. Играли в догоняшки, и я ловил всех, а Тумарк не мог поймать никого, потому что у него удивительно короткие ноги. Песни пели только веселые.
Ясно, что купались, плавали и гуляли на горе по лесу.
Плавали, делясь не на мужчин и женщин, а по способностям. Маша, я и Володя Длинномухин с женой Светой выплывали на самую середину Енисея и ныряли. Виталий Антоныч, Петя Фигурнов и Вася Тетерев заплывали далеко, но не поперек, а вдоль реки, по течению. Дина при своем высоком росте могла бы свободно вброд перейти Енисей, но почему-то не решалась. И не плавала, а только ныряла. Тумарк с Верочкой Фигурновой молотили ногами воду на полуметровой глубине и плыли очень быстро, даже против течения. Этот способ я знаю, Ленькин способ — руками хвататься за дно. А Кошич, в штанах, но без рубахи сидел на берегу и загорал: плавать, по-видимому, он вовсе не умел.
В лесу было удивительно хорошо. Как раз такая пора, когда комары и мошка еще не вывелись.
А цветы в лесу были всякие: синие ирисы, орлики, пунцовые и желтые с пунцовыми открылками орхидеи, золотые лилейники, сиреневые саранки. Женщины навязали из них десятки больших букетов. Виталий Антоныч вырезал палку-трость, разукрасил ее желобками и шашечками, поднял, шутливо грозя, и спросил:
— Кого?
Кошич ответил мужественно:
— Меня, Виталий Антоныч.
А Дина поцеловала Кошича и сказала:
— Казбич, миленький, этого я никогда не забуду!
Вообще Кошич держал себя в этот день превосходно и даже за поцелуй очень тонко отомстил Дине. Ловко и незаметно для самой Дины он ей вымазал сажей нос. И Дина в таком виде ходила, наверно, часа два. Мы все помирали со смеху, глядя на ее нос, а Дина думала, что мы смеемся ее острым, колючим словечкам.
Не знаю почему, но мне часто вспоминалась Шура. Я думал: нам всем хорошо, весело, а она там, в городе, сейчас совсем одна со своими тревогами. Мать — «веселая хлопотунья» — ее не развеселит. А может к тому еще прийти Илья и нагнать ей новой тоски. Зря она не поехала! Чего постеснялась? Об этом я даже несколько раз сказал вслух.
А когда мы ходили по лесу, собирали цветы, Дина поманила меня к себе. Подхватила под руку и увела подальше от Маши, весело крикнув ей: «За нами не подглядывать!» Поставила меня к толстой сосне и сказала:
— Костя, я тебя сейчас расстреляю.
Нос у нее был уже не в саже, и я без смеха спросил:
— За что?
Она потрясла головой:
— Не понимаешь? Ты что же, всерьез, что ли, Машу на Королеву поменять хочешь? Или думаешь, что я ничего не понимаю?
Я ни капельки не рассердился и ответил, что она угадала, я именно так и думаю. То есть думаю, что она ничего не понимает. А Дина поняла мои слова так: она угадала, что я Машу хочу поменять на Королеву. И влепила мне такую здоровенную оплеуху, будто все еще играла в волейбол и стояла на подаче мяча. А я поглядел вверх: не оторвалась ли и не улетела ли моя голова?
После этого мы долго и спокойно объяснялись. И Дина меня поцеловала.
— Ну, все же смотри, Костя!
Верочка Фигурнова вскоре спросила, почему у меня одна щека такая толстая и красная. И я ответил:
— Напекло солнцем.
Дина была поблизости, сказала:
— С этим, Костя, не шути. Это действительно очень похоже на солнечный удар.
Я только пожал плечами:
— Ты медицина. Тебе лучше знать.
Слух об этом дошел до Маши. И хотя к тому времени щека у меня стала совершенно обыкновенной, Маша заставила меня сделать из газеты пилотку и надеть на голову.
О Шуре больше я не говорил. А думать думал. Почему у людей возникают разные предположения? Почему только «так» вот должно быть, а никак иначе быть не может? Ведь лучше Маши на всем свете нет никого! Да разве кто-нибудь и когда-нибудь нас разделит? Что я, в Шуру влюблен, что ли? Чепуха! Дина, когда мы с ней объяснялись, сказала: «Ну, ты сам, Костя, может быть, и ничего. А Королева?» Что Королева? Что, Шура не понимает, не знает разве: Мы с Машей навеки! Зачем ей-то самой такая глухая, бесполезная любовь? Еще раз: чепуха!..
В это время ребята запели: «Если бы парни всей земли…» И я стал с удовольствием подтягивать. Я очень люблю эту песню. Мотив у нее красивый и слова железные, крепкие. Вокруг только одних этих слов, «если бы парни всей земли», тысячу, миллион разных картин нарисовать себе можно. Один человек — и то сила. А какая же тогда сила — парни всей земли! И если… Эх!.. Да —
Если бы парни всей земли Хором бы песню одну завели. Вот было б здорово, Вот это был бы гром!После такой песни нельзя было просто перейти на другую. Все замолчали, задумались. И каждому, наверное, представилось: нет такого на свете, чего не сумели бы сделать люди. Для себя. Для счастья общего. Все вместе. Если все вместе. Это главное.
Кажется, я забыл вам сказать, что Алешку мы не все время носили с собой. И тогда с ним на вахте по очереди оставались женщины. Была очередь Светы. А это все равно что остался бы, скажем, Тумарк. Опыта у Светки тоже не было никакого.
Но тут на гору к нам влетела она. С Алешкой на руках. Задыхается, от слез вся мокрая. Алешка тоже заходится криком. Представляете, какая поднялась тревога? Маша так и побелела: «Что с ним? А Светка и слова выговорить не может, только на горло показывает. Знакомое дело: проглотил что-нибудь! Но кричит — значит, еще не так страшно: воздух проходит.
— Чего проглотил? — спрашиваю.
Светка:
— Рыбу!..
И снова давай обливаться слезами.
Какую рыбу? Оглядел я Алешку. И Дина оглядела. Она-то специалист по глотательным делам. Кругом полный порядок. Алешка Машу увидел, орать перестал. Улыбается. Только руки у него действительно сырой рыбой пахнут. Ну и что же? Рыба — полезная пища. Не все мужику жить на каше!
Постепенно и Светка слезы свои все выплакала. Выяснилось: Тумарк наудил штук пять малюсеньких пескарей, в банку налил воды и пустил туда рыбок. Пусть плавают. А Светка давай показывать парню этот аквариум. Оглянуться не успела, Алешка из банки пескаря выловил — и в рот. Глаза выпучил, задыхается. Светка к нему, видит, в глубине торчит, трепыхается живой рыбий хвостик, но пальцами никак невозможно за него ухватиться, обратно выдернуть пескаря. А парнишка между тем уже совсем посинел. Что делать? Конечно, Светка схватила на руки парня — и в гору! К нам.
Как у нее хватило духу бегом без остановки такой подъем вымахать, даже представить себе не могу! Владимир Куц и тот, наверно, не добежал бы скорее. Вот что значит страх погнал! Спрашиваю:
— А когда Алешка орать начал?
Она:
— Ой, не помню, Костя! Кажется, сразу, когда я с ним побежала.
Говорю:
— Чудак человек! Так если он сперва молчал, а потом заорал, стало быть, рыбка-то у него уже проскочила. Чего же ты тогда так бежала?
Светка под носом слезы размазывает:
— Да-а, ты бы не побежал? Когда хвост торчит… а за него… не поймаешься…
Правду сказать, наверно, и я побежал бы, и вы побежали бы.
Маша Дину спрашивает:
— Не опасно теперь?
А та:
— Нет. У меня один шкипер как-то целый зонд проглотил. Тонкий зонд. Я его узелком завязать забыла. Ничего, принес через два дня.
Но все равно после этого сложные разговоры вести как-то уже не хотелось. Мы спустились вниз и стали на песке загорать. А Маша с Диной взялись обдумывать, чем теперь правильнее кормить Алешку.
Пока они совещались, парень чуть-чуть не выловил из банки и второго пескаря. И я его вполне понимаю.
Два слова насчет загара. Моя норма — цвет каленых кедровых орехов. Пожалуй, даже к угольку приближаясь. Но никаких подсобных средств при этом я не применяю. За лето загар накопится сам постепенно. Маша придерживается правил. На часы не глядит, но время свое знает. И я бы ее загар точнее всего сравнил с… Сравнить не с чем — такой он красивый! На Васю Тетерева солнце вообще не действует. Он даже никогда не говорит: загорать. Погреться! Дина себе загар делает любой. С помощью химии. Один раз целый месяц ходила темно-зеленая. Потом начала шелушиться и превратилась в канарейку. Но все это я к тому говорю, что Кошич нам похвалялся: он знает какой-то особый способ. И вот он то забирался в Енисей, то посыпал себя песком, то натирался соком одуванчиков и распластывался на горячей гальке. А под конец весь сделался красным, как ободранный заяц, и на плечах у него вскочили пузыри.
Словом, день прошел замечательно.
Но, оказывается, не совсем. Главное было еще впереди.
Выяснилось, что горючее в бачке почти все сожжено, а запасную канистру взять с собой никто не подумал. Значит, придется плыть самосплавом, подрабатывая мотором только в трудных местах. А времени до сумерек оставалось в обрез.
Дальше оказалось: там, где мы сидели, когда с Алешкой прибежала Света, Виталий Антоныч вытряхнул из кармана очки.
И мы все помчались снова на гору. Футляр из пластмассы, в котором лежали очки, вы сами понимаете, был зеленого цвета. Как раз чтобы надежнее спрятаться в высокой траве. А кустиков, мелких лопушистых березок оказалось так много, что и сам Виталий Антоныч растерялся:
— Ах, память! Здесь… Нет, кажется, вон там…
Мы бродили по полянке, уже исполосованной длинными прохладными тенями, до тех пор, пока Петя, Петр Фигурнов, не наступил каблуком на футляр. Раздавил его, конечно, вместе с очками. И хотя на душе стало как-то спокойнее — сами по себе поиски увенчались успехом, — но час целый светлого времени все же улетел!
Наконец тронулись. Мотор начал отбивать свои тире, точки, и Дина весело закричала:
— Мальчики, сосчитайте, сколько нас! Никого на берегу не забыли?
Кошич сказал:
— Двенадцать.
А Света сразу же всполошилась:
— Как? Должно быть тринадцать. Алеша прибавился.
Володя ей разъяснил:
— Так Королева же не поехала. — И повернулся ко мне: — А почему все-таки она не поехала?
Эх, знал бы я уже тогда, почему она не поехала!..
— С чего это я должен знать? — в десятый раз ответил я. — Мы ведь раньше вас из города уплыли! А вы — тоже друзья! Не могли подождать человека…
— Мы законно полчаса ждали, — сказал Тумарк.
— Это Дина виновата, нас разыграла, — сказала Верочка Фигурнова.
Дина только улыбнулась. Она-то была довольна, что так получилось.
На середине реки Вася Тетерев мотор выключил: надо было беречь горючее. Я люблю быструю езду. Но все равно и так вот, при выключенном моторе, проплыть по вечернему Енисею вниз по течению километров двадцать — это… я не знаю, что «это». Надо проплыть самому!
К вечеру Енисей всегда кажется еще шире, а берега — круче и величественней. Сосны — зеленее. И если нет ветра, над ним курятся… не скажешь, туманы, а какие-то совершенно прозрачные голубовато-серебристые струйки. Они видны только издали. К ним никогда вплотную не подплывешь и рукой до них не дотронешься. Если глядеть сверху, с крутой горы, в реке солнце словно бы шевелится, плещется, а с лодки — весь Енисей изнутри пылает и красным и золотым пламенем. Глазам больно, а спрятать их некуда. И не хочется прятать. Разве только к небу иногда их переведешь. Да и то сразу за борта лодки руками схватишься — такая в небе глубина. И пугает и тянет. В самую ясную и теплую погоду там все равно найдешь облака. Или маленькие беленькие комочки, бегущие куда-то вперегонки, как цыплята без курицы-мамы; или длинные и тонкие стрелки поверх всякой уже высоты, которые начинают светиться, когда на земле и последнего лучика солнечного не найдешь.
Выше Красноярска Енисей весь в горах. Но не просто в горах, а в скалах. И в скалах живописных. К примеру, скала Глухарь, действительно как птица. Сними фотоаппаратом в сумерках, чтобы мелкие подробности не были заметны, и всякий скажет: точно, живой глухарь! Скала Монах. Правда, тут и в сумерках по очертаниям монаха не получится. И здесь уже не в очертаниях дела. Настроение! Посиди неподвижно пять минут, вглядись хорошенько — и постепенно почувствуешь всю глубокую силу камня: строгость, спокойствие, даже печаль. О Шалунине, Шеломине быке я уже говорил. Была бы только подходящая голова, а шлем, шелом, готов — надевай. Есть и забавные, веселые скалы. У двух — глядят друг на друга — совершенно лисьи мордочки. Есть и широкие утесы, богатырские, открытые солнцу и ветру: «Э-эх, ударь меня в грудь — загудит!»
Так вот и плывешь часа два среди этой красоты. И ловишь шорохи речные, песка и гальки движение в глубине. А там вода вдруг горбом выпрется, забурлит и тут же змейками в стороны разбежится. А там, на самой середине реки, долбанет хвостом не какой-нибудь ерш или ельчик, а сам таймень — хозяин енисейский.
Стрекоз по вечерам над Енисеем носится видимо-невидимо. Ловят мошек, которых тут тоже хватает. Стрекозы синие, зеленые и золотые. А крылья у них, как родничковая вода, переливаются.
И вот плывешь, плывешь, и кажется: не будет края череде этих скал, не будет конца сосновому бору, бегущему рядом с тобой вдоль реки, ничто не пересечет ее ровной глади — ты совершенно вдали от дорог человеческих. Но сразу один поворот — и город открылся, близкий, большой. Мост железнодорожный как торжественный въезд. Под средним пролетом горит зеленое око: путь свободен. Скоро второй, «наш» мост, пятью радугами в небо впечатается. Эх, Красноярск, сам-то ты понимаешь ли, какой ты красивый!
Если бы возвращались в лодке только втроем, Маша, я и Алешка, мы, наверно, и рта не разинули бы. Когда рот открывается, уши глохнут и глаза видят тоже только наполовину. А вечер был такой на Енисее, что даже я, матрос, не помню лучших. Мы плыли все время в каком-то сиянии. И не знаю, шло оно от солнца к воде или от воды к солнцу. Мы плыли и пели песни. Двенадцать молодых без песен передвигаться не могут. Это не двое. Плыли, пели и ждали, когда откроется Красноярск. Всем очень хотелось застать его в солнечном свете, хотя бы в самом последнем, на крышах домов. Полюбоваться пять минут, а потом плыть себе и в сумерках.
Все смотрели вперед. Беседок в лодке было три, и на каждой по три человека. Алешка, десятый, на руках у Маши. Вася Тетерев за рулем, а Тумарк в самом носу лодки распластался на животе, как лягушка. Маша сидела на беседке в самой середине. С одного края Кошич, с другого — я.
Приближались к Шеломину быку. Енисей здесь разделяется надвое длинным и узким островом. И сам в главной «ходовой» тоже становится узким. Страшно глубоким и быстрым. Не знаю, почему Шеломин бык подсказал это, но мы все дружно сразу запели: «Из-за острова на стрежень, на простор речной волны…» Наверно, утес нам чем-то напомнил легенды о Стеньке Разине, и мысль от могучего Енисея перенеслась к такой же могучей Волге…
Я ставлю здесь многоточие потому, что песня вдруг перешла в гудки, которые словно бы навалились на нашу лодку. Все ближе, ближе и чаще. Откуда только они взялись? И как это никто из нас не оглянулся раньше? Вниз, налегке, без барж, полным ходом летел какой-то небольшой буксирный пароход, бил широкими плицами по воде, гнал за собой крутые, пенистые волны и требовал гудками, чтобы мы убирались к чертям с его дороги. Вообще-то правильно и законно.
Женщины в испуге завизжали, а Вася Тетерев начал заводить мотор. Но эта телеграфная штуковина только выстукивала свои отдельные точки и тире и тоже, должно быть с перепугу, никак не могла из этих точек и тире составить хотя бы одно длинное слово. Винт булькнет раз, другой и снова остановится. А пароход совсем уже нависал над нами, хотя чуточку и отваливал в сторону, жался к самым бакенам, нельзя же прямо носом врезаться в нашу посудину!
Я закричал передним:
— Беритесь за весла!
Но там, на той беседке, как раз на беду, сидели остальные три жены, и, кроме того, весла были завалены багажом. Мотор по-прежнему не заводился, только пыхал синим вонючим дымом. Дина с Верочкой сгоняли с беседки Свету, чтобы самим сесть попросторнее и вложить в уключины весла, которые они все еще тоже никак не могли выдернуть из-под всякого барахла. А с парохода теперь уже через рупор прямо в уши кричали нам. Что именно кричали, понимаете сами.
Говоря честно, фарватер у Шеломина быка узкий, пароходу сильно в сторону тоже податься нельзя. Конечно, он мог бы застопорить машины. Но он не застопорил. Промчался вовсе рядышком с нами. И тогда нас рвануло прямо к нему на крутой волне. Лодка стала боком, сильно накренилась. Маше не за что и нечем было ухватиться: руки заняты Алешкой. Она повалилась плечом на Кошича, и все трое выпали за борт…
Я не успел схватить Машу. Между лодкой и Машей тотчас же всплеснулся пенистый гребень волны, на котором я увидел Алешку в цветном одеялке, совсем одного. Кошич, кажется, сразу пошел ко дну. И в этот же миг в воду бросились Дина и я. Через секунду я заметил, как метнулся в Енисей и Володя Длинномухин.
На пароходе — черти! — засвистали тревогу. Теперь-то он остановил машину. Медленно стал разворачиваться.
Алешку отнесло уже далеко. Но я видел, что Маша быстро его настигает. Алешка, закутанный в пуховое одеяло, плыл великолепно, волны подкидывали его, как мячик. А Маша не выбрасывала правую руку так свободно, как всегда. И мне вдруг стало страшно: падая, не повредила ли она себе плечо? Надо было скорее спешить к Маше на помощь. И надо было искать Кошича.
Теперь об этом мне легко писать. Все равно что полет пули на экране при замедленной съемке просматривать. А тогда думать вообще было некогда. Именно без всякой думы, но потому, что Маша и Алешка прекрасно держались на поверхности, а Кошича не было видно, я нырнул глубоко, погнавшись за какой-то тенью. Нагнал и понял: Дина. Тоже ныряет. Мы всплыли вместе. Она шумно выплюнула воду: «Видела…» И тут же щукой снова пошла в глубину.
Я сделал то же самое. В воде обогнал ее и вдруг увидел над собой болтающиеся черные ноги. Я толкнул, поддал плечом и сам вдогонку столбом пошел кверху. Мне нужно было хоть крошечку хватить свежего воздуха.
Волны теперь вздымались отложе. Но я угодил в самую макушку волны и на мгновение все увидел как бы сверху. Маша была вовсе рядом с Алешкой. К ним, отмахивая саженками, быстро плыл Володя. Светка с Верочкой все же вдели в уключины весла. Они сверкали на солнце. А подо мной во впадине мелькнуло белое лицо Кошича. Дины нигде не было. Чертов пароход стеной надвигался на меня, отрезая от Маши. С него один за другим летели в воду спасательные круги. Будь у меня руки раз в пять подлиннее, я ухватил бы Кошича за волосы. Но волна распрямилась, снова поднялась горбом уже далеко от меня, и Кошича словно языком слизнуло. Затянет под пароход! Я глубоко нырнул опять, почти до самого дна. Вокруг меня завихрились серебристые песчинки. Подо мной, как под автомобилем на полном ходу, летели навстречу крупные камни. Течение тут очень сильное. Но и всех нас ведь несло одинаково.
Куда девался Кошич? Почему так часто человеку нужен воздух? Наверх!..
— Костя!.. Буль!.. Фль!.. Пфф!..
Мы чуть не столкнулись головами. Дина тоже откуда-то вынеслась пробкой, как кит, выплевывая воду. И Кошич был при ней. Все. Больше ничего не надо!
Пароход окончательно пересек мне дорогу, из-за него я не видел, что там с Машей. И я, в который раз уже, опять нырнул. Хорошо, что еще в лодке я успел содрать с себя рубашку и брюки. Заряда воздуха у меня хватило, чтобы пролететь под корпусом парохода, но на выходе я чуть не попал в колеса. Если бы плицы работали, я получил бы оплеуху почище, чем дала мне Дина, когда мы с ней объяснялись в лесу.
Вынырнув, прежде всего я услышал красивую брань капитана, который сверху через свой рупор накрыл меня ею, словно шляпой. А потом уже услышал я и другое — полной силы Алешкин крик. Его успели забрать в лодку, а Машу туда же поднимал Володя Длинномухин.
Дина устроилась великолепно. В один спасательный круг продела Кошича, а в другой пролезла сама. И теперь они спокойно покачивались на затихающих волнах, ожидая, когда пароход подрулит к ним поближе. Кошич явно был жив. Все время шевелил руками.
Ну, а потом все вместе мы поплыли уже на пароходе. Лодку свою прицепили к нему на буксир. Вася Тетерев объяснил, что мотор отказал окончательно. А на весла в сумерках плохая надежда. Эго можно было и не говорить. Всем хотелось быстрее добраться до дома.
На пароходе мы страшно поругались с капитаном. Сказали, что его надо под суд отдать. Он видел, с лодкой что-то неладно, и все-таки шел прямо на нее, не сбавляя даже ходу. А капитан сказал, что это он нас под суд отдаст. Как мы посмели с неисправным мотором и не держа наготове весла занимать узкий фарватер! В общем все были правы, а три живые души чуть не пошли на дно. Орали мы друг на друга долго. Потом Тетерев сказал:
— Я думаю, довольно, ребята. Мне кажется, тому, кто мокрый, лучше пойти и выжать свою одежду. Мне очень хочется, чтобы вы это сделали. Речная инспекция все равно под суд отдаст и его и нас.
А капитан сказал:
— Вот это правильный разговор. Я думаю так же. — И позвал всех к себе в каюту. У него там стоял ящик пива.
Маша ходила бледная, повторяла:
— Все-таки ужас какой, если вдуматься! Костя, мы могли потерять сына…
Алешка чувствовал себя превосходно. Просил есть. Но покормить его было нечем. Еда осталась в лодке, а лодка моталась на буксире. Капитан предложил кусок соленого свиного сала. Маша перепугалась. Но Алешка был рад: дорвался, наконец, до настоящей еды. Вместо молока ему дали пива. Не отказался. После рыбы, пескаря да еще сала всегда пьется здорово!
Кошич лежал на капитанском диване позеленевший.
Он порядком таки наглотался воды. Известным ей способом Дина выкачала из Кошича воду. Теперь он мог помаленьку уже объясняться, Дина сидела рядом с ним, говорила:
— Казбич, миленький, вы должны мне купить новые туфли! Я свои из-за тебя утопила.
Она прыгнула в Енисей как была в платье и туфлях.
С ног обувь сбросила уже в воде. Туфлишки у Дины, по совести, были неважные, но с Кошича законно теперь полагались по крайней мере лаковые. Вася Тетерев пожимал плечами:
— Я не понимаю, почему ты раньше не сняла туфли.
И Дина открыла карты.
— Видишь, Васюта… мне очень хотелось получить от Казбича новые. Если бы это ты свалился за борт, я, конечно, прежде чем прыгнуть в воду, аккуратненько сняла бы и туфли и платье. — Вздохнула: — Оно у меня, кажется, тоже попортилось. Казбич, миленький, купите мне новое!
А капитан горько говорил:
— Какого черта им дома не сиделось? Еще и вправду станут судить.
Он сидел один около ящика пива.
В Красноярск мы приплыли в сумерках. Пароходу следовало стать на якорь у острова Отдыха. Но капитан причалил к пассажирскому дебаркадеру. Тем более что он оказался незанятым. Прощаясь Дина чмокнула в щеку капитана:
— Спасибо, миленький! Мы бы на своей лодочке, наверно, еще не скоро приплыли.
Кошич, расставаясь с нами, виновато сказал:
— Как это я?.. Спасибо, ребята… Это навсегда. Я не забуду…
Кто-то крикнул ему:
— Ладно. Поняли. Будь жив, Кошич!
Но он теперь отозвался иначе:
— До свиданья, ребята.
Мне всю ночь снилась Антарктида. Высокие айсберги, Дина в виде кита. Я плавал, старательно уходя от нее. А подо мной в прозрачной воде с ужасной скоростью проносились острые черные камни. И я боялся, что они расцарапают мне живот. Маша, развернув на воде пуховое одеялко, загорала, Алешка лежал рядом с ней, сучил ногами и дразнил меня. Показывал язык. Только вместо языка у него почему-то высовывался рыбий хвостик.
Глава шестнадцатая Понедельник
Утром поднялся я вовремя. Маша — вслед за мной, хотя ей на работу уходить на целый час позже, чем мне. Но у Маши такое правило: все вместе, все одинаково.
Это она сама так говорит. Но вместе и одинаково у нас только подъем получается. А даже утреннюю зарядку мы уже начинаем делать по-разному. Маша на коврик ложится, слегка шевелит руками и ногами, а я двухпудовую гирю подбрасываю. Потом она встает и начинает ходить по комнате на цыпочках, заложив руки за голову, а я, наоборот, хожу на руках, вниз головой. Маша после зарядки выпивает стакан теплого молока, а я два стакана самой холодной воды из крана. В общем даже на одном этом примере вы теперь сами видите, что называется у мужа с женой «всегда вместе и одинаково». Но это так, только к веселому слову. А серьезно, Маша всегда на себя брала куда больше разных забот, чем я.
И в это утро. У меня одна мысль: в кессон. А Маша говорит: «Костя, я, пожалуй, зайду сегодня к Ивану Макарычу. Расскажу по-честному, что случилось на Енисее вчера. А то, если видели посторонние с берега и напишут ему или в газету, могут быть серьезные неприятности капитану. Пусть Иван Макарыч посмеется». Я говорю: «Конечно, если сам начальник пароходства посмеется, так всему делу и конец. А если он не засмеется?» Маша: «Засмеется! Я сумею ему рассказать!»
Ладно. Это первое. Одни забота. Вторая: «Костя, после работы не задерживайся. Лешу все же нужно врачу показать. Поможешь». Я удивился невероятно. Парень спит. Ночью, правда, он кричал, но это понятно: ему тоже, наверно, киты и айсберги снились. А Маша: «Нет, Костя, лучше с врачом посоветоваться. Пескарь, он все же колючий».
Третья забота: «Надо бы все же узнать, почему Шура вчера не поехала с нами». Говорю: «Вот это другое дело. В пять часов нам назначил прием товарищ Иванов. Встретимся. Узнаю».
И я ушел. А Маша, конечно, в свой лишний утренний час все еще находила для себя заботы.
У ворот, словно ждал он меня, попался опять Шахворостов. С каким-то мужиком. Совсем незнакомым.
— Привет, Барбин! — говорит. — Как отдохнул вчера?
— Хорошо отдохнул, — говорю.
— По Енисею плавали?
— По Енисею.
— Завидую, — говорит. — А мне не повезло. В субботу с обеда поехал вот к другу в Черноречинскую. Бумажник с деньгами и с документами при выходе из вагона вытащили. Семьсот сорок рублей пискнуло. А паспорт на перрон утром в воскресенье, черти, подбросили. Ну, вместо отдыха всю субботу и воскресенье в черноречинской милиции я и провел. Разные протоколы да акты о происшествии составляли. Знакомьтесь: Барбин — Сидоров.
— Очень приятно, — говорю. Но даже руки ни Илье, ни этому самому Сидорову не подал. — Извиняюсь: опаздываю на работу.
Хороший понедельник начался как-то не так. Но я знал, что через полчаса я уже буду в кессоне, возьмусь за привычный мне инструмент, заиграют мускулы, разогреется кровь — и все пойдет замечательно.
Енисей был такой же красивый, как и вчера. Спокойный, могучий. Только гуще, плотнее стлался вдали голубой дымок.
Какой-то старик с палочкой стоял на берегу, поглядывал издали на нашу стройку. Остановил меня:
— Ты не оттудова? Чегой-то целый месяц хожу на берег, а быки, как были, все одинаковые. Не выше. Когда же?
Посмеялся я. Пришлось коротко объяснить ему, что мостовые опоры все время растут да опускаются в воду. Но слова старичка запали мне в душу. Ждут люди мост. Когда же? Человек, оказывается, целый месяц ходит на берег. Так и другие. Вот праздник будет для народа, когда над рекой сомкнутся арки пролетов, верхний настил моста мы бетоном и асфальтом зальем, а секретарь крайкома партии разрежет красную ленточку: «Шагайте, дорогие товарищи!»
У катера встречает всех Виталий Антоныч.
С подачей давления нелады.
Виталий Антоныч сжатый воздух чаще давлением называет. Мудрят у компрессора инженеры. На аварийной подаче начинать работу нельзя. Пока исправляют компрессор, гляди, вся наша смена пройдет.
Опять не так начался понедельник!
— Распоряжение есть вынужденный простой вам записать, — говорит Виталий Антоныч. — Так что можете по домам. — И на Кошича: — Вот, кстати, и плечи у Николая отойдут. Больно, поди, даже пошевелить.
Кошич крутит, вертит руками во все стороны.
— Нет, ничего. — И к Виталию Антонычу оборачивается с улыбкой.
Петя, Петр Фигурнов, сбивает с себя кепку с затылка на лоб.
— Ну что же, пошли тогда. Для ясности.
Но никто не идет. Все стоят и ждут чего-то. У меня чувство такое, будто это именно я испортил компрессор. По лицам вижу, и у всех вроде этого. Для всей земли советской — понедельник. По малой мере сто миллионов людей полезным делом заняты, а у нас, видите ли, «вынужденный простой»… Но кто нас «вынудил». Это у компрессора простой. Почему должны мы простаивать? Повернуться сейчас спиной к Енисею и пойти домой… Да со стыда сгоришь! Так и будет казаться, все глядят вслед тебе и спрашивают: «А что это за бездельник такой идет?» Вынужденный простой! Как там его ни называй, а это одинаково, что просто потихонечку от товарищей с работы удрать.
— Нет, — говорю, — давайте не пойдем по домам, ребята. Что, другого дела нам не найдется? Не могу.
— И я не могу, — сказал Тумарк.
Так один за другим все сказали. И Петр Фигурнов поправился:
— Я ведь позвал домой только по необходимости.
Но Виталий Антоныч даже замахал руками:
— Все наряды мастерам в конторе заранее расписаны. Мне поставить вас некуда. И у каждого мастера свой комплект. Можно, конечно, в контору сходить. А время тоже течет. Пошлют куда-нибудь на протоку. Опять течет время. Полсмены пройдет. А ради полсмены в конторе и наряд выписывать не станут: бухгалтерия запутается — кессонщики на разной работе. Ладно, гуляйте. Милым женушкам вашим привет.
Правильно. Все справедливо. Но все равно стоим. Это как бывает в кино на очень интересную картину. Объявят: «Граждане, билеты все проданы». А народ не отходит от кассы, чего-то ждет: вдруг кассир ошибся и какие-то билеты все же найдутся?
Рабочий день разгорается. Гуще по понтонному мосту пошли грузовики. В утренней тишине слышно, как на Правом берегу завизжали бревнотаски. На острове Отдыха застучал движок. Там работают бетономешалки. Для нашего моста полуарки готовятся. Заворочались в речном порту длинные шеи подъемных кранов. Садовники на клумбах у пассажирского дебаркадера цветы высаживают. Женщины на Енисее белье полощут. Рабочие улицу под асфальт готовят, машины подвозят чистую гальку речную, а девушки в штанах лопатами ее разгребают, ровняют. Где закончат, чугунный каток прикатывает. Только вроде нашего «вынужденный простой» у него: девушки не успевают разгребать, растаскивать гальку, слышно, между собой переговариваются: «Вот какие лбы стоят на берегу — нам бы на выручку». А одна — даже вовсе вслух:
— Эй, парни, что ворон считаете? Помогли бы!
И не знаю, кто первый сказал:
— Пошли!
По-моему, Кошич сказал. Но пошли мы все очень дружно. И дали жару — катку и подвозчикам гальки. Завертелись те, как на огне. Старший из них сперва на нас навалился:
— Кто такие? Денег не будем платить.
Мне опять Том Сойер вспомнился.
— Ладно, — говорю, — я сам тебе заплачу. Дам сердцевину от яблока и дохлую крысу на веревочке.
Этот читал, оказывается, Марка Твена.
— И еще цветное стеклышко давай, — говорит. — На этих условиях, так и быть, становитесь. Кто сюда, кто на машинах езжайте. В карьере на погрузке механизация у нас неважная.
Хвастаться не хочу, но сила девушкам на помощь пришла огромная. От удовольствия у них просто глазенки горят.
— Этак мы сегодня и всю улицу закончим!
Нет интереса описывать технику нашей работы. Но вот ее суть.
С утра лежала улица глинистая, желтая и пыльная, продавленная в дождливую пору колесами тяжелых грузовиков. Они шли по ней, раскачиваясь с боку на бок, как раскормленные утки. В ухабах скрипел раздавленный шлак. Шоферы давали самый полный газ, чтобы выхватить из рытвины осевший кузов машины. Пешеходы от бензинного дыха чихали и отплевывались.
Теперь она вся от края до края засыпана пестренькой речной галькой. Ухабов нет никаких. Каток утрамбовал, налощил гальку так, что улица стала словно покрытая разноузорчатым штапелем. Пожалуйста, хоть ложись в белом костюме. Уже сейчас грузовики не стали бы корчиться в ямах, а покатились бы легко, не запоганивая воздух дымом из выхлопной трубы. Но галька еще и прикрывается сверху. Горячим асфальтом. Он застывает, делается твердым и гладким, как палуба парохода. Что грузовик — положи горошину, щелкни ее ногтем, и покатится метров на пятьдесят. Жара — пыли нет. Дождь — грязи нет. По бокам зеленые посадки. Тополя. Акации. Цветы. Словом, улица. Настоящая городская улица. Утром была одна, сейчас стала вовсе другая. Чьи это руки сделали? Не буду говорить: мои, наши, бригады кессонщиков. Сидят девушки, отдыхают, брезентовыми рукавицами разметают на еще теплом асфальте присыпку, желтый песочек, поют:
На закате ходит парень Возле дома моего. Поморгает мне глазами И не скажет ничего…По такой улице можно ходить. Не только на закате — и самой темной ночью.
Я, пожалуй, малость перехватил, когда сказал, что улица утром была одна, к вечеру стала другая, вся улица. Не вся конечно. Квартал один примерно мы сделали. Но так уж у меня всегда: работаю и рисую себе, как и что дальше будет.
Кончили мы ровно в пять. Общее время. Представляете? Спохватился я. Во-первых, Маша не велела опаздывать. Во-вторых, именно в пять назначил явиться к нему начальник милиции. Как быть?
Маша долго сердиться не будет. Объясню, поймет. Алешку отнести в поликлинику в крайнем случае и Ленька годится. Сколько раз он парня в коляске возил на вокзал! Шуре, конечно, я сейчас нужнее.
Переодеться бы! Неловко второй раз идти к товарищу Иванову в грязной куртке. Но опаздывать — и тем более. Ладно, сойдет!
Прибежал я на улицу Диктатуры, когда было минут пятнадцать шестого. Красноярск — город большой, кузнечиком из конца в конец не перескочишь. Притом дал я и крюк в два квартала, к аптеке, — вдруг Шура стоит себе у своей тележки, не пошла, не решилась. Но тележка была откачена в сторону, к забору, и, как мне показалось, была даже в пыли — значит, работу Шура закончила давно.
Дежурный меня не пустил. Потребовал пропуск. Я сказал, что иду к депутату. Он объяснил мне, что у начальника сегодня день не депутатский. Тогда я сказал, что товарищ Иванов мне сам назначил в пять часов прийти. Дежурный пожал плечами:
— Если назначил — шагай в бюро пропусков, там должен быть и пропуск тебе заготовлен.
Там, конечно, ничего не было и не могло быть, потому что я Иванову даже не называл своей фамилии. Через окошечко отвечал какой-то сердитый лейтенант. Я начал ему объяснять, что мне сказал Иванов и как мы вообще попали к нему.
Лейтенант куда-то глянул, отчеканил:
— На Королеву заказан пропуск. А на тебя нет. Королева свой еще не брала, — и захлопнул окошко.
Вот так так: оказывается, Шура не приходила.
Хорошо о нас подумает товарищ Иванов! Заявили — и сами в кусты. Трусость? Или рыльце в пушку? Как понимать иначе? Мне стало неприятно, я даже разозлился на Шуру. Если честная, так чего ей бояться. А виновна, так этим не поможешь, надо — везде найдут.
Прошло еще с полчаса. Я все время крутился у бюро пропусков. Обрывал и растирал между пальцами пахучие листочки молодых тополей. Шура не появлялась. Тогда я снова постучал в окошко. Там сидел уже другой лейтенант. Я начал снова.
— Товарищ Иванов назначил Королевой и мне прийти в пять часов…
Лейтенант поглядел куда-то. По-моему, туда же, куда глядел и первый. Сказал наставительно:
— Надо приходить вовремя. Давайте паспорта.
Вот те раз! «Паспорта»… Во множественном числе. Когда у меня всего один, и то при себе нету.
— Я, — говорю, — прямо с работы.
— Ладно. На Королеву выпишу. Тут так и заказано: «Королева — двое». Давайте паспорт Королевой.
— Она, — говорю я, — еще не пришла. Кто ее знает, когда придет. А товарищ Иванов назначил в пять.
Лейтенант подумал.
— Не знаю тогда, как с вами быть. Лично к товарищу Иванову?
— Он сказал: лично к нему.
Лейтенант еще подумал. Снял телефонную трубку. Прикрыл окошко, стал с кем-то разговаривать. Сперва очень тихо, стеснительно, слова ко мне совсем не доходили, а потом громко вскрикнул: «Ах, это та самая!» — конечно, о Шуре, и так, будто с ней случилось что-то страшное.
У меня сделалось горько во рту. Не пришла… «Ах, это та самая!..» Лейтенант закончил разговор: «Слушаюсь, сию минутку, товарищ полковник». Открыл окошко, спросил мою фамилию и сразу подал пропуск.
Я не заметил, как очутился около дежурного на лестнице. Он крутил, вертел красную бумажку.
— А паспорт?
Да будь ты проклят! Опять паспорт! Я чуть не заорал на него по-речному. Но он вчитался в бумажку: «без паспорта». Сказал:
— Проходи.
Тогда только я спросил:
— А что с Королевой?
Он пожал плечами:
— С какой Королевой? Не знаю.
В приемной меня не задержали. У полковника в кабинете сидел какой-то майор. Но Иванов прервал разговор с ним и подал мне руку.
— Садись. Барбин, кажется? Н-да, вот такое дело. Ну, ничего. В жизни все бывает. Ты сам виноват. Я говорил: побереги. Выходит, зря понадеялся.
— А что случилось-то? — У меня слова вязли на языке. Я и здоровался с полковником молча. В голове стучала страшная мысль: Шура отравилась. — Что с ней случилось, товарищ полковник?
Он поглядел на меня с недоумением. Я бы сказал, даже с недоброжелательностью. Во взгляде полковника было: «Да как же ты можешь не знать? Зачем ты тогда пришел сюда?» И я объяснил, где я был вчера и в субботу вечером. А сейчас — прямо с работы.
Полковник побарабанил пальцами по столу.
— Что случилось? В больнице лежит. В хирургическом корпусе.
— Как?
— Да так. Ничего: жизнь вне опасности. А в остальном врачи разберутся.
— Подколол, что ли, ее Шахворостов?
Я готов был сейчас вынуть из Ильи душу. Мелькнула в памяти утренняя встреча: когда он только успел? До чего докатился…
Полковник подумал немного. Обменялся взглядом с майором.
— Да нет, — сказал он, — не подкололи, а просто избили. И не Шахворостов. Это проверено.
— А кто?
Полковник развел руками:
— Выясняем. Но пока…
И он рассказал, что произошло.
Шура из дому вышла в четыре часа утра. В воскресенье. Как мы условились, чтобы успеть на моторку. Начинался рассвет. На улице было пусто. Домик у них, я уже говорил, в глухом переулке, на Каче. Только за угол Шура — ей навстречу двое парней. Похоже, пьяные. «Стой!» — на нее. Она в сторону. Догнали. Ударили. Шура крикнула. Тогда один сорвал косынку у нее с головы, заткнул ей рот, а потом оба стали бить. Били страшно и долго. Упадет Шура — поднимут. И снова бьют. Пока совершенно она не повяла. Нашли ее в бессознательном состоянии. Часа через два. «Скорая помощь» увезла в больницу.
Он говорил, а у меня внутри все переворачивалось, комом шло к горлу. Подлость какая! Из-за угла…
— Да как же не Шахворостов, товарищ полковник! — закричал я. — Точно! Его рук дело. Сдержал свое обещание. Расстрелять его!
Полковник даже не шевельнулся.
— Я тебя понимаю, Барбин. Но в этих делах ревность — плохой советчик. Проверяли. Шахворостов в это время был в Черноречинской. Доказано документами. Королева, пока не потеряла сознания, помнит: били молча. Прямого вывода не сделаешь: за что. Могло быть и простое хулиганство, пьяная злоба — не остановилась, не подчинилась «приказу».
— Товарищ полковник, да разве Шахворостов дурак? — сказал я. — Он потому и в Черноречинскую уехал и в милицию там попал, чтобы отвести от себя подозрения. Дело сделали дружки. Это же ясно!
— Возможно. Возможно, Барбин. Но ты знаешь, кто они, эти «дружки»?
— Н-нет, не знаю… А все равно это он.
— Не защищаю, Барбин, Шахворостова, но и виновным пока назвать не могу. Правила у нас твердые: нужны доказательства. Проверяли мы и ваше заявление насчет спекулянтских дел Шахворостова. Пока нигде никакие ниточки к нему не тянутся.
— Значит, успел спрятать!
— Слова, слова, Барбин, а доказательств нет никаких. Повторяю: ревность в таких делах — плохой советчик.
Первый раз эти слова полковника меня еще как-то мало задели. Мне нужно было знать, слышать, как все это случилось. Я видел избитую Шуру: «Костенька, не отдавай королеву», нахальную рожу Ильи: «Учти, я на ней жениться хочу». Я видел подлость Ильи только с одной стороны. Теперь слова полковника дошли до меня иначе. Шахворостова вызывали сюда прежде меня. Шахворостов все объяснил. И с доказательствами. Хоть двадцать свидетелей подтвердят, что Шура каждый день ходила в наш дом, пока Маша была в Москве.
Поставь передо мной скалу — разобью. Посреди океана брось — выплыву. Закопай в землю — вылезу. Против подлости не умею бороться. Сразу жар в голове и все слова пропадают. Зеваю ртом, как налим на сухом берегу, результат тот же самый: не докажет налим, что он речной житель, что его нужно пустить в воду.
— Какая, — говорю, — ревность, товарищ полковник? Да что я… Я ведь женатый. У меня сын Алешка.
— Знаю, теперь все знаю, Барбин. Но ты ведь не за жену свою хлопочешь, а с Королевой ты как с женой своей приходил.
Еще дальше он этими словами оттащил налима от реки. Можно сказать, положил прямо на сковородку. Ну, зевни, рыбка, напоследок еще раз-другой — сковородка-то горячая.
— За жену, — говорю, — хлопотать мне нечего. Она с пути не сбивалась и не собьется. А Королева… За человека я хлопочу, товарищ полковник.
— Похвально. Но в этой обстановке возникает и вопрос: почему?
— Нам до всего дело должно быть, — говорю.
— Машины давние слова! Но сейчас только я понял их самый глубокий смысл: не береги себя, когда за правильное дело борешься.
— Если я женат, товарищ полковник, а вижу: другой человек может погибнуть, — значит, погибай! Становись спекулянткой, а там, дальше, может, и воровкой. Выходит, так?
— Нет, не так, Барбин, — говорит полковник. — Все ты правильно сделал. Что касается человека. И уж, кстати сказать, с этой стороны за Королеву ты можешь быть спокойным. Если с тех пор, как рассталась она со своим муженьком, действительно спекуляцией она не занималась, старое ей прощается. До общей амнистии дело было. Помнишь, я говорил: законов она не знает. Не матерая спекулянтка. Иначе бы она так не боялась за старое. И не пошла бы сюда. Прощена государством, и мы ворошить старое не будем. Ты правильно решил оберечь ее от новых соблазнов. Человек за человека. Похвально. Очень! Но ведь Королева — женщина. Если Королева была подругой Шахворостова еще до ее замужества, а теперь у вас с ним…
Я поднялся. Зеленые круги вертелись у меня перед глазами.
— Все мне ясно, товарищ полковник. Дальше не говорите. Только скажите, если сегодня «Скорая помощь» отвезет Шахворостова в ту же больницу, где Королева лежит, вы меня судить станете?
Другого придумать я не мог ничего, других средств против подлости Ильи у меня не было. Полковник вышел из-за стола. Взял меня за плечо. Долго в упор смотрел мне в глаза.
— Верю, — сказал наконец. Ласково, как в первый раз. И сразу же строго: — А судить будем. Жестоко будем судить.
На улице меня обдуло ветерком. Во всяком случае, снаружи голова стала холодная. Молодые тополя за оградой размахивали крупными листьями, что-то мне бормотали, но что, я не мог понять. На углу я остановился, как в сказке богатырь, который не знал, по какой из трех дорог ему поехать. У меня тоже было три дороги: домой, к Шахворостову и в больницу к Шуре. Не знаю, по какой дороге пошли бы вы, а я сел в автобус и поехал за город, в хирургический корпус.
Уже у самой больницы я вспомнил, что с собой полагается приносить подарки. Хоть какой-нибудь пустячок — больному это очень приятно. Но больница стоит особняком, на пустыре, и поблизости от нее нет никаких магазинов.
Около дорожки, которая ведет от автобусной остановки к подъезду, я увидел несколько одуванчиков, блестевших ярко, как солнце. Я их сорвал и сложил в букетик.
На двери регистратуры висело объявление: свидания разрешаются только один раз в неделю, по воскресеньям. Сегодня был понедельник.
Дежурная сестра, уже старушка, сказала мне:
— Вообще-то плохо. Били, камни зажав в кулаке. Но сотрясения мозга нет, и переломов нет — это главное. Выходим. — И улыбнулась: — Красоту свою не потеряет.
Она тоже принимала меня за жениха. Все время косилась на мои резиновые сапоги, грязную рабочую куртку и жалкий букетик одуванчиков. Может быть, букетик мне и помог. В вестибюле не было никого. И вдруг сестра сказала:
— Вот вам халат. На две минуты я вас проведу. Отдайте эти цветочки ей сами.
Шура лежала вся забинтованная. Только и видны были открытые глаза, кончик носа и губы. Тоже распухшие, черные. Руки в бинтах, как обрубки бревен, лежали поверх одеяла. Я показал Шуре букетик, положил на тумбочку. Сказал:
— Поправляйся быстрее.
Три женщины, которые лежали в этой же палате, повернули к нам головы. Сестра торопила:
— Идемте, идемте, с ней нельзя разговаривать.
Но Шура очень просила меня глазами. Я нагнулся к самым ее губам. Она тихонько выговорила:
— Костенька, самый лучший день — понедельник.
Сестра дергала меня за рукав.
В вестибюле сам черт не мог приготовить для меня лучшей встречи. Там расхаживал Илья Шахворостов. И в руках у него была большая коробка шоколадных конфет, наверно рублей за сто. Увидев меня, Илья переменился в лице, стал белым, как халат, в каком я спускался по лестнице. Он хотел подойти к сестре, но я не дал этого сделать. Я быстро сбросил халат, взял у Шахворостова коробку с конфетами и передал сестре:
— Дорогая гражданочка, это вам. Лично вам. Большое спасибо. До свидания.
И повел, как щуку на спиннинге, туго упиравшегося Илью.
Сестра ничего не поняла. Взяла конфеты. Видимо, решила, что мы с Шахворостовым пришли оба вместе. Друзья. Но Шуре дарить конфеты пока бесполезно. Ей, сестре, это подарок за доброту, за внимание.
Шахворостов больше не упирался. Он хотел сесть в автобус, который как раз в эту минуту остановился у больницы, но я сказал:
— Пройдемся пешком. Мимо кладбища. Тут недалеко.
Илья сверкнул глазами, не поворачивая ко мне головы:
— Пешком так пешком.
Мы шли левой стороной шоссе, чтобы видеть машины, летящие нам навстречу. Илья старался идти ближе к кювету. И я догадывался, он хочет меня держать под страхом: нечаянный толчок — и я под машиной. Дурак!
— Ну вот что, Илья, идти нам вместе близко ли, далеко ли, — сказал я, — а разговор у нас будет короткий.
— Принимаю, — сказал Шахворостов. — Ты мне поперек дороги не становись.
— Дорога, вот она, перед нами, — сказал я, — и мы идем вдоль дороги. Так можем и до самого дома дойти. А меня не пугай. Того, что с Королевой, со мной не сделаешь.
— И ты меня не пугай, — сказал Шахворостов. — Со мной ты тоже ничего не сделаешь. А насчет Шурки — это мне не подводи, я был в Черноречинской. Самого, как обухом, весть ударила. Чего бы я к ней в больницу побежал?
— А за тем самым ты побежал, за чем и в Черноречинскую ездил. Подозрения от себя отвести. Ладно. Отомстил ты ей полной мерой. Не знаю, как тебе отомстить за нее. Избить и тебя до смерти? Этого я не могу. Мне природа не для этого руки дала. Не могу! — И повернулся, уперся грудью в грудь ему, чуть — и полетит в кювет. — Я не могу. А ты можешь? Или ты хочешь меня ножом? И на это пойдешь?
У Шахворостова губы задергались. Он видел, что он разгадан, хотя улик против него нет никаких. Пугать меня впустую глупо, а по-серьезному — самого страх берет. И не дошел он все же до этого.
— Я не знаю, чего ты от меня хочешь, Барбин, — сказал он. И прежнего рыку у него в голосе уже не было. Даже всхлип какой-то вырвался. — Я по себе, ты по себе. Чего тебе от меня нужно? А Шурку мне жаль самому!
И в этих словах была правда. Я это понял, сыграть он так не мог. Видимо, дружки его постарались больше, чем он их просил. Все-таки в глубине в нем человек еще оставался. Хотя обтянут был не кожей, а шкурой.
От тебя, Илья, вот чего я хочу. Королеву ты больше не знаешь. Забыл, где дом ее. Забыл, как ее зовут. На улице встретилась — незнакомая. Понял? Смертью тебе грозить я не буду, сказал уже: не могу. Но если ты по земле этой будешь ходить, каждый твой шаг будет считан. Среди людей хочешь быть — будь человеком… Пути тебе два. С людьми и работать, с этой минуты все прежнее отруби. Против людей, не работать и не знаю чем жить — отворачивай в поле, дальше шагу рядом с тобой не ступлю. Где тогда встретимся, судьба покажет. Королеву я тебе не прощаю. Но с этой минуты из памяти тоже ее отруби. Теперь сам выбирай.
Мимо нас грохоча прокатился грузовик с длинным прицепом. Сзади у него мотались концы арматурного железа, иногда опускаясь совсем до земли и царапая асфальт на дороге. Я знал, что Шахворостов меня не толкнет. Хотя мог бы: чуть — и прихлопнет тяжелыми железными концами, неизвестно сколько будет потом волочить за собой. Других машин и пешеходов поблизости не было. И вдруг Шахворостов рванул меня. Рванул в кювет. Побелевший, тяжело дыша. Действительной опасности не было никакой. Но, видимо, эта страшная картина на миг мелькнула и у него в мозгу. Он бежал от нее!
Потом мы стояли в кювете молча.
По откосу цвели одуванчики. Я сорвал несколько штук и сделал маленький букетик. Подарок Маше. Шахворостов стоял не шевелясь. Я не глядел на него. Сложив букетик, я выбрался на шоссе и пошел домой. Мне показалось, что Илья опустился и сел на откос кювета. Но вскоре я услышал его шаги и дыхание за спиной. Он шел за мной, как баржа на буксире. Если я прибавлял шагу, быстрее шел он, если я ступал медленнее, и он сбавлял ход. Наверно, ему хотелось, чтобы я заговорил с ним, обернулся к нему, пошел с ним рядом. А я считал: мне говорить с ним больше не о чем.
Хирургическая наша больница, я уже говорил, стоит как бы за городом, хотя город все время приближается к ней. Больница стоит на высокой горе, с которой открывается сразу весь Красноярск, Енисей в зеленых островах и острые зубцы Такмака за рекой. Невозможно не остановиться здесь хотя бы на минуту. Я, например, считаю, что даже с Афонтовой горы Красноярск не так красив, как отсюда. Особенно же красив Енисей, дали которого открываются, наверно, километров на сорок. И я остановился, как всегда. Я совершенно забыл о Шахворостове.
— Костя, наш теплоход!
Действительно, далеко, на Ладейских перекатах, меж зелени островов, скользила белая, будто снежная, «Родина». Она отсюда казалась совсем маленькой. Не только названия не разберешь, даже окон на ней не сосчитаешь: все сливаются в одну полосу. Но речник всегда без ошибки узнает дорогой его сердцу теплоход. Не знаю, была ли «Родина» дорога Илье и чем именно. Я его возглас и то, что он назвал меня Костей, понял только так: он ищет, как бы заговорить со мной просто, по-дружески, вернуться на несколько лет назад. А у меня перед глазами все еще стояло недовольное лицо полковника и вся в бинтах, неподвижная Шура.
— Да, сказал я, — это «Родина». — И повернулся, показал назад. — А вон там хирургический корпус. Я пока помню лишь это.
Так мы и до дому дошли. И Шахворостов, как связной за генералом, все время держался на три шага позади меня.
Глава семнадцатая То ли луковичка, то ли репка
Начальник пароходства не засмеялся. Так рассказывала Маша. Когда она к нему попала на прием, Иван Макарыч все знал. Точнее, он все знал уже через два часа после происшествия. И правильно. Иначе какой бы он был начальник пароходства? В начальники он вышел из кочегаров. Нутро любого речника понимал, как свое собственное. Но главное — в редакцию газеты от группы рабочих, отдыхавших на берегу, пришло коллективное письмо, где описывалось происшествие на реке как пиратство со стороны капитана парохода. Письмо это редакция переслала Ивану Макарычу для принятия мер. Короче говоря, запахло жареным.
Прибежал Вася Тетерев.
— Слушайте, Барбины, — сказал он нам с Машей, — слушайте, получается очень неприятная вещь. Я все узнал. Если бы мы были по-прежнему речниками, все дело можно бы повернуть только как ведомственное, служебное. А мы теперь, поскольку мостовики, оказывается, «пострадавшая сторона», просто граждане. Тут подход будет строже. Капитана снимут с работы. Рулевого — тоже. И могут обоих отдать под суд. А капитан из матросов тридцать лет в капитаны поднимался. Мне очень не хочется, чтобы так случилось. Я думаю, Барбины, мы этого не допустим.
Кому бы этого не хотелось!
— «Не допустим». Но как? — сказала Маша. — Я ведь сразу же, в понедельник, ходила к Ивану Макарычу. Папа тоже с ним разговаривал, и без пользы.
Тогда Тетерев развил свои идеи. Он полностью возьмет всю вину на себя. Он-де сидел за рулем, и мотор у него завелся бы, но ему просто хотелось позабавиться и покачать всю компанию на волнах.
— А что? — говорил он. И добрые его глаза светились удовольствием. — А что? С работы в кессоне меня никак не снимут. Это точно. Раз я один кругом, виноват, за что снимать капитана? Пароходство в суд на меня не подаст потому, что «пострадавшая сторона» мы, а не пароходство. Вы все на меня тоже не подадите. В худшем случае сообщат о моем недостойном поступке нашему начальству. Обсудят на общем собрании. Мне очень хочется, чтобы все получилось так. Лучше часть чужой вины взять на себя, чем свою часть сваливать на другого.
Меня таким разговором Вася поставил просто в тупик. Как-то получается все и правильно и неправильно. А Маша сразу сказала, что она согласна только на единственное — на чистую правду. Я вообще-то тоже стоял за правду. Но за справедливую. А не по инструкции, где всяких обстоятельств заранее не могли предвидеть. Маша согласилась, что и она хочет такой правды. И если инструкция этой правде мешает — поправить инструкцию. Вася возразил:
— Инструкцию не поправишь. Она железная.
Маша сказала:
— Я лгать не могу, не буду.
А я сказал:
— Тогда все вместе, и начистоту, пойдемте советоваться с Иваном Макарычем. Будто при коммунизме. Когда каждый такой случай будут разбирать опытные люди не по железной инструкции, а по коммунистической совести.
И Маша заулыбалась.
— Вот это и мне нравится. Я не знаю, что теперь получится из нашего разговора. Но вот так, по коммунистической совести поговорить и мне хочется.
В кабинет к Ивану Макарычу не просто попасть. У него всегда люди. По самым срочным вопросам, когда пять минут стоят полмиллиона. И мы подкараулили начальника пароходства в его приемный депутатский день, вернее, вечер. Я теперь знал уже вкус ходить к депутатам.
В этот вечер Иван Макарыч засмеялся, прямо-таки захохотал, когда мы ему все по порядку и начистоту рассказали.
— Вот, прохвосты, как вы меня обошли! К депутату явились разговаривать по коммунистической совести. А! Та-ак. А с начальником пароходства она, — показал на Машу, — по какой совести разговаривала? По казенной? Стало быть, у меня две совести? И закон — штука не коммунистическая? Ну, а как начнем мы сейчас каждый только по своей совести решать, что нарешаем? Без законов-то жить нам пока еще рановато. Накажем капитана. Полной мерой. А прочувствует он свою вину, тогда я сам за него похлопочу.
Маша вступилась.
— Не знаю, Иван Макарыч, — говорит, — но действительно как-то не очень по-коммунистически получается. Обязательно сперва наказать. Потом поверить. А если бы поверить в человека сразу, без наказания?
Походил по кабинету Иван Макарыч.
— Тогда наказаний не станут люди бояться. И будут чаще нарушать всякие правила, порядок, закон. Наказание не только последующая мера, она и предупредительная. Для других.
Маша опять:
— Но ведь никогда же не гонялся раньше этот капитан за лодками, специально чтобы людей утопить! И никогда не погонится. И никакой капитан не погонится. Иван Макарыч, если вы его на работе оставите, он же с радости не начнет за лодками гоняться? Нет, не начнет. А другие капитаны? Тоже нет. Ну, а если снимете с работы, что тогда? Тридцать лет своей трудовой жизни человек потеряет. Только! И веру в справедливость потеряет. Он все равно это виной своей не будет считать, а наказание поймет как беду, как несчастье.
— На транспорте дисциплина особая, Мария Степановна, как военная, вы это знаете, — сказал Иван Макарыч. — И если в общем, особенно с заглядом в будущее, вы интересно, правильно говорите, то к нашему времени это пока не очень подходит.
— А вот я объявлю только себя во всем виноватым, — сказал Вася Тетерев. — Тогда как, наказывать капитана не будет у вас оснований?
— Позволь, позволь, — сказал Иван Макарыч, — как это: «Объявлю себя во всем виноватым»? Но ведь ты поступишь нечестно. Против совести. Пойдешь на заведомую ложь.
Но мы к этому уже были готовы, мы это уже сто раз обсудили между собой. Когда «мальчик с пальчик» хотел опозорить Виталия Антоныча, хотел уличить его в нечестности, мы не отдали нашего старого мастера, не отвернулись от него, потому что мы верили в человека. И если бы ревизор правильно сам не разобрался во всем этом деле и занял сторону Кошича, мы дошли бы не знаю куда, а Виталия Антоныча защитили бы. Но когда Кошич с треском провалился и по справедливости его самого действительно надо было отдать под суд за клевету, а Виталий Антоныч вступился за парня, не отвернулись и мы от него, потому что тоже поверили в человека и знали: доверием своим к нему мы Кошичу больше поможем, чем уголовной статьей. Если бы Кошич этого сам не понял, мы не знаю сколько возились бы с ним, но в душу к нему все же проникли бы. Обошлось хорошо: оба, как говорится, они остались целы.
А вот теперь этот капитан, по письму рабочих, — пират, который, вообще-то говоря, конечно, мог пустить на дно Енисея троих. Все инструкции и статьи закона легко поворачиваются против него. А совесть наша человеческая за него. Она никак не может позволить нам отдать этого капитана под суд, после чего он и капитаном не будет и человеком в своей уже близкой старости станет тоже разбитым, подломленным.
Как же быть? Тетереву брать вину на себя — действительно против совести. Но быть нам только свидетелями против капитана, когда его станут судить, — в два раза против совести. Потому что, если веришь в человека, надо верить в него до конца.
Так мы и заявили начальнику пароходства. Он задумался:
— Хм! Так вы что же, хотите, чтобы я все это на товарищеский суд просто поставил? Собственную власть, которая для таких случаев по закону мне положена, не проявил?
— А что? — сказал Тетерев. — Я думаю, это было бы правильным. Мне очень хочется, чтобы вы сделали именно так.
И Маша прибавила:
— Если все люди будут знать, что разбирается проступок своего товарища и товарищу этому не определено уже заранее наказание, как в магазине цена на товар, они будут очень глубоко вникать во все обстоятельства. Да. А как же иначе? Они не простят ему даже самой маленькой оплошности. Они, Иван Макарыч, заставят его переживать свою вину. Действительную вину! И все решать будут только по совести. Потому что, как они сами решат, так и будет.
— Ну, Мария Степановна, ты уже совсем в полный коммунизм залетела. Сказала б хотя: пусть посудят товарищи, но применительно к уставу водного транспорта, — сказал Иван Макарыч.
И мы поняли, что он поддался.
Часа полтора мы потом еще говорили, и Маша все время настаивала, что мы вообще должны уже и теперь жить, примеряясь больше к коммунизму, а не к старому времени. Как же мы тогда войдем в коммунистическое общество, если до последнего дня за старые отношения между людьми будем цепляться?
Одним словом, кончился наш разговор тем, что Иван Макарыч шутя сказал:
— Ладно, к коммунизму я в этом деле настолько подойду, насколько социализм позволит. На капитализм, феодализм и рабовладельчество, будьте спокойны, равняться не буду.
Шли домой довольные. Особенно сияла Маша: «Хорошее дело сделали!» А я думал: правильно я заступился за Шуру правильно, что не отдал ее Шахворостову, — не потеряется человек. И вообще нельзя отступаться ни от чего, во что ты твердо веришь.
Иван Макарыч слово свое сдержал, разобрали происшествие наше на товарищеском суде. Капитана не наказывали. Но до слез довели. Кстати сказать, и Васю Тетерева тоже, поскольку он от нас выступал главным ответчиком, как кадровый речник, который только временно перешел в другое ведомство. Вася даже сам удивлялся:
— Ребята, ну никак я не думал, что, оказывается, настолько действительно я был виноват. Вот здорово бы получилось, если бы Иван Макарыч двинул дело в железном порядке через прокурора! Я думаю, не только капитан, и я теперь бы тоже не улыбался.
Под таким настроением все мы ходили дней десять. А потом, у меня во всяком случае, оно испортилось. Вышел на работу Шахворостов. Именно в нашу бригаду. Опять-таки Иван Макарыч посодействовал, позвонил начальнику строительства моста: «Не надо мужика отрывать от своего коллектива». Шахворостову этого, видимо, тоже хотелось. Он, чтобы сразу всем в тон войти, только и знай повторял: «Эх, и соскучился я по настоящей работе! Даже ладони зудят». Это верно он говорил. Как ни поглядишь на него там, в кессоне, — либо стоит, либо сидит и ладони чешет.
Кроме как по работе, других разговоров я с ним не вел. Должен сказать, что в беседчики ко мне он и сам не набивался и за все время ни одного разу о Шуре Королевой даже словом не обмолвился. Хотя, собравшись вместе, другие ребята часто говорили о ней: жалели.
Где-то в эти самые дни меня вызвали к майору, который по поручению полковника Иванова вел дело «о хулиганском нападении на гражданку Королеву». Вызывали уточнить какие-то там обстоятельства. Хотя что же тут уточнять, если для меня Шахворостов ясен, а для милиции обязательно нужны только такие доказательства, которые можно руками пощупать. В общем из разговора с майором я понял следующее. Во-первых, мало надежды найти хулиганов, которые избили Шуру. Во-вторых, признать виновным в этом Шахворостова нельзя: алиби полное, а улик никаких. В-третьих, привлекать Шахворостова за спекуляцию тоже нет оснований. Старое, если и было, как и для Шуры, подпадает под закон об амнистии. А на новое опять же нет прямых доказательств. Нехорош Шахворостов — надо в общественном порядке человека воспитывать. Что же все — милиция да милиция.
И я шел домой и думал: «Все это чистая правда. Вот с Шахворостовым я жестко и резко насчет Шуры поговорил — и прикусил язык Илья, и, наверно, дорогу к ней теперь он вовсе забудет. Сколько лет, по сути дела, твердо я знал, что Илья — спекулянт. А почему не поговорил с ним вот так же резко и прямо, как насчет Шуры? Ясно: тут меня «лично» задело, а чего и кому продавал — моя хата с краю. Взять ту же историю с пьяным хулиганством в кино. Ведь на глазах у всех нас Илья после каждой получки шел в пивной ларек и там напивался до безобразия. А хоть раз мы попробовали оттянуть его от ларька? Занять его мысли чем-то другим? В лучшем случае только сами отмахнемся: «Не попутчики». А то еще и с улыбочкой: «Давай гуляй. Твое дело. И деньги твои». Не то что с радостью, даже с простым удовольствием никогда не работал Шахворостов.
Маша, может быть, и права: надо было его как-то к себе приблизить. «Нам до всего дело должно быть», — всегда говорила она. До всего-то до всего, кто от этой правильной мысли откажется, только кто и на деле-то полностью этой мысли придерживается? В том-то и штука. Других обязательно надо воспитывать. Но, между прочим, и себя повоспитывать тоже не мешает. Вот именно в этом самом «до всего должно быть дело».
Маша встретила меня радостной новостью. Алешка сегодня выговорил: «ма-ма». И после того, как первый раз прорвалось у него это слово, он целый час болтал «ма», «ма-ма» и «ма-ма-ма», хохотал, заливался, довольный, пока не уснул. Я заглянул в кроватку. Рожица у него была такая веселая, что можно сравнить ее только с Машиной. И еще с тем портретом, какой был нарисован Шурой.
После ужина вместе с Машей мы сидели и изучали четвертую полосу «Комсомольской правды», на которой красовался заголовок «Куда пойти учиться?».
Мне, понятно, хотелось в речной. Или хотя бы в гидростроительный. Но Маша немного задумчиво проговорила:
— Костя, а может, на филологический? На журналистику?
Я понял, что она имеет в виду.
— Нет, Маша, — сказал я, — сперва мне хорошую рабочую специальность приобрести хочется. Книги пишут одной рукой, а мне нужно, чтобы у меня вместе обе руки работали. Филологический — после.
— А все же думаешь? Думай!
— Буду думать.
— Костя, тогда стоит пока посоображать насчет физико-математического. Это ведь сейчас во всех главных профессиях необходимо.
Я сказал ей, что не люблю математику. Как-то не видишь ее, рукой не пощупаешь. Физика — дело другое. Но ее почему-то обязательно связывают с математикой.
А Маша возражала. Как раз математика — самая предметная наука, она подчинена самым твердым законам. И полюбить ее вовсе не трудно, когда она станет для тебя главной наукой. А без математики нет и физики. Их не люди, а сама природа вместе соединила.
Я еще сказал:
— Маша, а как же тогда Енисей?
Маша засмеялась:
— А как же тогда комета Галлея? Костя, ты же будешь учиться на заочном. И работать на Енисее. Пять лет. А когда закончишь вуз, мы тоже найдем такую работу, где вместе будет все: и физика, и математика, и Енисей.
И мы договорились, что, пока я собираю разные документы к заявлению, мы еще вместе подумаем. Но я уже знал: будет так, как захочет Маша. А наука в конце концов всякая мне подчинится, если я захочу.
Не помню точно, был этот разговор в четверг или в среду. А вот другой разговор, с Ольгой Николаевной и Степаном Петровичем, мне точно запомнилось, был в воскресенье.
Маша с утра засела за шитье для Алешки. Ленька в коляске укатил парня на воздух в городской сад. А я прибрал, высветлил всю квартиру. Только помылся сам после этого, переоделся, хотел отобрать у Маши работу, чтобы с ней вместе пойти тоже в сад и подразнить там всех гуляюших Алешкиным разговором: «Мама, мама» И вдруг — Ольга Николаевна. Поманила меня пальцем:
— Костя, зайди к нам на минутку.
Идти, вы помните, через лестничную площадку только. Зашел. Усадили меня, зажали в угол. Оба, вижу, взволнованные. Но крепятся, выдерживают ровный тон разговора. А разговор вот такой, если собрать все слова каждого вместе.
Ольга Николаевна:
— Костя, золотой мой мальчик. Прости, пожалуйста, но мы должны поговорить с тобой серьезно, очень серьезно. Ты мне дорог, как сын мой. Ты и Маша — одинаково дети мои, по давнему народному обычаю. Я говорю с тобой, как с родным сыном, и пусть слова мои будут тебе словами родной матери. Мне очень трудно начинать такой разговор, но это необходимо. Когда об этом мне говорят соседи и когда мы получаем анонимные письма, я не имею права молчать. Я огорчена и убита свыше всех нравственных сил моих. Ах, зачем я поехала в Железноводск и еще задержалась там! И как небрежен, невнимателен был к тебе Степан Петрович! Костя, золотой мой мальчик, этот разговор глубоко между нами, о нем не должна знать Маша! Ты должен немедленно порвать с этой… Немедленно! Нельзя и часу лишнего допускать, чтобы к твоей семье притиралась посторонняя женщина. Ах, как я этого не заметила в первый же день! И нужно было, чтобы другие открыли мне глаза на истину! Я верю, мальчик, я понимаю: прежняя дружба и прочее. Верю, извини, что до прямой и грубой измены Маше дело, может быть, еще и не дошло. Тем более необходимо удалить ее. Немедленно! Немедленно, Костя! Боже, я потрясена! Так счастливо сложившаяся семья, и… Костя, ты обязан это сделать!
Степан Петрович:
— Ты пойми, Константин, твоя связь с Королевой дошла до грани, после которой начинается разрушение семьи. Оля совершенно права во всем. А я по мужской тупости и доверчивости, из-за служебной занятости проморгал, когда это у вас начиналось. Вернее, не придал значения. Полностью беру вину на себя. Но свою вину, Константин, ты должен сам снять с себя. Ты мужчина. Поступи круто и резко, как мужчина. Ведь это же возмутительно! На почве ревности избивают женщину… Королеву — кому же не ясно? — а ты, даже не стесняясь жены, бегаешь каждое воскресенье к ней в больницу! Можно придумать для Маши большее оскорбление? Ты говоришь, что Маша все знает… Так ты ведь тоже должен бы знать Машу. Она, разумеется, ничего не скажет. Она верит тебе. Безоговорочно верит, хотя законная ревность невольно и точит ее сердце. Она не может представить себе, что такое подлость. Не вскакивай! Скажем, подлость не с твоей стороны. Со стороны той… Королевой. Ведь она-то с явно определенной целью втирается в вашу семью! Несомненно: она же хочет разделить вас с Машей. Что? Ты даже этого не понимаешь? Ты не читаешь в газетах объявлений о разводах, ты не разговариваешь с людьми, не видишь, что еще бывает дикого в нашей жизни? Ты, может быть, думаешь, прости за резкость, что всякие любовные безобразия встречаются только в заграничных фильмах? А у нас славненько дружат втроем? Нет, Константин, втроем не дружат, третий в семье всегда лишний! Если беды, к счастью, еще не случилось — она неизбежна, если ты не поступишь по-мужски, круто. Сегодня Королева приходит к Маше как подруга, завтра придет как ее соперница; сегодня она целует Машу, завтра будет бесчестить. Это закон жизни, проверенный веками. Я не сомневаюсь, что ты любишь Машу и не любишь ту. Поэтому и не доводи дело до катастрофы. Здесь никаких колебаний быть не может. Ты говорил, Королева хорошо поправляется, выйдет на днях из больницы. Ты обязан сделать, чтобы, выйдя из больницы, она больше никогда не вошла сюда. И с Машей об этом не смей советоваться. Это только по Достоевскому держат с любимой женщиной такие советы. Делай один. И сегодня же.
Костя Барбин (я):
— ……………
Такое длинное многоточие означает, что все мои слова для них в конечном счете не значили ничего, как эти вот точки.
Степан Петрович говорил, пожалуй, много крупнее, чем я здесь написал, а Ольга Николаевна переменила несколько носовых платков, о чем я сразу не упомянул. А общий итог был таков. Мне, точь-в-точь как я Шахворостову, было приказано: с этой минуты отрубить Шуру.
Да-а… Вот такая ее судьба человеческая — ото всех быть отрубленной. Пусть куда хочет, туда и прирастает. Если прирастет. А подгниет корень, засохнет — пойдет на топливо…
Крепко разделался с ней Илья. Его это штучки — и письмо и соседские разговоры. А доказательств у меня нет опять никаких. Илья это понял. И вот… Да-а… крепко, крепко… А я было настраивал себя и в него поверить.
Домой я даже не заглянул. Маша начала бы расспрашивать, почему я так позеленел. И я бы не смог слукавить, смолчать, как правильно этого потребовал от меня Степан Петрович. Еще и такая мысль жгла меня: Маша ревнует. Можно ли сейчас еще лить масла в огонь? Я не сел в автобус, а пошел пешком. Выиграть время, хорошенько обдумать, что я должен сказать Шуре.
Но я ничего не выиграл, потому что к больнице пришел с той же совершенно пустой головой, с какой вышел от Терсковых. Два дятла дорогой долбили мне череп. Один: и Дина тебе говорила, и Терсковы тебе говорят, и все скажут. Другой: неправда все это, неправда! И хотя я подошел к больнице более чем за час до начала приема посетителей, никаких готовых фраз для разговора с Шурой за это время я так и не подобрал.
Ожидающих было уже много. И все сидели с передачами. Я ничего не принес. И правильно. Как бы это выглядело? Точно по-шахворостовски. Только наоборот. Он сперва избил Шуру, а потом принес ей коробку конфет. А я бы ей подал сперва конфеты, а потом избил жестокими словами.
Я стал прогуливаться вдоль шоссе. Спустился в кювет. И сам не заметил, как набрал маленький букетик одуванчиков, поздних, на которых уже едва держались желтые лепестки.
Дежурила как раз та самая сестра, которой я подарил шахворостовские конфеты. Она узнала меня, поискала для меня новый и чистый халат, сказала укоризненно:
— Что это вы своей девушке одуванчики носите? Желтые цветы — измена.
Я посмотрел на букетик. У многих одуванчиков уже наметился пушок.
— Ничего, — сказал я, — посредине они белые.
Шура встретила меня в коридоре. Никаких бинтов на ней не было. Ходила она совершенно легко и свободно. Повела меня и усадила куда-то в угол на диван.
— Костенька, ну зачем ты пришел сегодня? — сказала она и бережно, чтобы не осыпать лепестки, взяла букетик. — Эти врачи… Я так просила их выписать меня вчера вечером! Я уже совершенно здорова! Но они сказали: до понедельника. И я только поэтому согласилась. Понедельник теперь — мой самый любимый и самый счастливый день. Ты помнишь наш разговор о том, какой день самый лучший? На работу я выйду теперь обязательно лишь в понедельник. Костенька, ты только не смейся, это очень хорошо, что все так случилось. Спасибо тем, кто меня так избил. Они мне дали много времени думать, разговаривать здесь с очень славными, мудрыми женщинами. Правда, одно эти хулиганы сделали плохо: врачи говорят, что они серьезно повредили мне почки. Ты, Костенька, прости, в больнице все только о печенках да селезенках и говорят. Ну, вот какое-то время я должна остерегаться тяжелого физического труда. Но это ничего, это пройдет… — Повертела букетик: — Костенька, ты все время приносишь мне подарки. А знаешь, чем я тебя отдарю?
И убежала к себе в палату. Пока мы сидели на диване, я не сказал ни слова, кроме «здравствуй», Шура разливалась одна ручейком. Весело и как-то уже чересчур свободно, легко — так говорят пьяные. А я должен был в этот кипящий ручеек бросить комок глины. Должен был, но не знал, как это сделать.
Шура принесла несколько листов толстой белой бумаги, положила себе на колени.
— Вот, Костенька, — сказала она немного торжественно, — мое первое решение. Газировкой я больше не торгую. «Пены» не будет. Стану работать маляром. Да, да. Правда, в художественной мастерской, но… на малярных работах. Не смею иначе назвать то, что я буду там делать. Здесь лежит один художник. Ему делали операцию. Не страшную. Он сказал, что поможет устроиться в мастерскую. Спасибо Маше за хлопоты, но мне лучше поработать маляром, чем чертежницей. Чертежник прикован линейкой к прямым линиям, а у меня руки гибкие. Там только черная тушь, мне хочется ярких красок. Вот… Этот художник дал мне несколько листов рисовой бумаги. Карандаши. Вот что я сделала для тебя, Костенька, и для Маши.
Она подала мне принесенную ею бумагу. На одном листе был нарисован мой портрет, на другом — Машин. По-честному говоря, нарисованы не очень-то хорошо: мало похожими и без живинки. Совсем не то, что Алешка, который почетно висел у нас на стене и так и лез с листа бумаги. Но все же спроси любого из наших знакомых: «Кто?» — сразу ответят: «Как кто? Барбины!» В уголках портретов были сделаны пометки. На Машином — «Ш. К», а на моем «А. Королева».
— Конечно, плохо, Костенька, я сама знаю, плохо. Тем более для подарка. Но я ведь по памяти, да и руки еще очень дрожали. Я у художника этого весь запас бумаги извела.
И длинно стала рассказывать, как она рисовала. А я чувствовал: ей хочется говорить о чем угодно, только бы говорить, она боится, что говорить начну я. Мне же как раз хотелось молчать, и я боялся, что Шура замолчит и тогда говорить придется мне. Получалось как-то так, будто Шура уже все знает.
Пока она говорила, я разглядывал портреты. Теперь они мне казались лучше, живее. Притягивали внимание подписи: почему Шура подписалась не одинаково?
А Шура все говорила. Уже другое:
— …После этого я еще много думала. Все твои слова вспоминались: «Лучше журавль в руках, чем в небе». Синицу и ту я не удержала. Где же мне тогда схватить журавля? И вдруг даже самой стало смешно. Может, потому синичку-то я и не удержала, что очень уж маленькая она, обманула меня, проскочила между пальцев. А журавль большой. Не проскочит, не схитрит. Силы у меня хватит. Удержу. Пойду за журавлем. Словом, возьму, Костенька, малярную кисть и пойду. Либо я его поймаю, либо… я поймаю его! — Она засмеялась. — А ведь чуть-чуть не сказала: «…либо — и синица будет тогда не нужна». Понимаешь, Костенька, я попробовала по-твоему. Сказала себе: «Сегодня понедельник. Что ты, Королева, сделаешь за шесть дней?» И я представила себе, как в понедельник я загрунтую стены, как во вторник наложу фон, как в среду… Словом, Костенька, я увидела красивую комнату, такую, какой у меня еще никогда не было. И я представила себе еще другой понедельник. Загрунтовано полотно. Вторник. Сделаны карандашные кроки. Среда… Не знаю, пятая или сотая среда, но с полотна на меня глядит что-то живое. Журавль этот самый, может быть! Костенька, что же ты молчишь? Я опять все неправильно говорю?
И лицо у Шуры немного испуганное.
Я сказал, что в общем мне нравится, как она говорит. Только твердо ли обещана ей работа в художественной мастерской? Может быть, сначала все же поработать чертежницей? Там ждут…
Шура ладонью потерла лоб.
— А-а… — сказала она каким-то гаснущим голосом. — Нет, Костенька, туда я не пойду. Туда — нет… — Набрала воздуху, шумно выдохнула. — Все болтаю, болтаю… Тебе пора уходить, а я не могу добраться до своего второго решения. Хотя оно уже совершенный пустяк… Дай мне тридцать пять копеек. На счастье.
Я пошарил в кармане, там было много мелочи и вынул два двугривенных. Подал Шуре. Она посмотрела на них прямо-таки со страхом и сказала:
— Костенька, я просила тридцать пять. Неужели у тебя нет?
— Пожалуйста, — сказал я, — каких угодно.
Вытащил целую горсть и в пару к двугривенному дал ей пятнадцатикопеечную монету. Она бережно засунула их за обшлаг халата.
— Спасибо.
И затихла, как-то все уже становясь в плечах. Я тоже молчал.
— Костенька, что ты все смотришь на эти подписи?
— Почему? — сказал я. Хотя смотрел действительно на подписи. — Я все смотрю на портреты. Вообще-то здорово ты умеешь рисовать…
— А мне показалось… Костенька, к тебе еще просьба: на Алешенькином портрете зачеркни, замажь нагусто мягким карандашом последнюю букву подписи.
— Это почему? — спросил я.
— А ты помнишь ее? Какая там буква? В скобках…
— Я не только буквы помню, я все слово помню. Мне Маша его прочитала.
— А-а! Ну вот и затри ее, эту букву, наглухо, начерно.
Она то улыбалась одними губами, то становилась совершенно холодной и строгой, как раз такая, когда я ее на «Родине» в первый раз увидел: все время меняющаяся, двойная, и не знаешь, где она сама, настоящая, и где чужая, сделанная.
— Почему?
Не знаю, для чего повторил я это. Получалось, что Шура вела именно тот разговор, какой должен был вести я, а я, наоборот, мешал ей. Но мне просто жаль было Шуру.
— Костенька, ты не помнишь, какой это генерал, когда нельзя было отступать, сказал своим солдатам: «Если я дам приказ об отступлении, застрелите меня»?
— Нет, не помню. А что? Читал вообще-то. По-моему, так многие генералы говорили.
— А был бы ты солдатом, ты выполнил бы такой приказ?
— Приказы выполнять всегда нужно, — сказал я.
Лицо у Шуры сделалось напряженным. Совсем, наверно, таким, каким бывало оно у тех генералов.
— Костенька, — медленно проговорила Шура, — если я тебе когда-нибудь скажу «люблю», ударь меня по щеке. — Я совершенно остолбенел от неожиданности. Шура быстро прибавила: — А если это скажешь ты, я ударю тебя.
И засмеялась звонко, хотя и принужденно.
— Теперь это не в моде, теперь следует быстрее отвечать: «Да, да, я тоже». Э-эх!.. Один раз, в Норильске, я уже так ответила.
Шура встала. Какая-то угловатая и прямая. Пошла подламываясь. У двери она задержалась, чтобы вперед пропустить меня. Подала холодную руку, сказала торопливо:
— Спасибо, Константин Федорович, за все, за все. Передайте привет Марии Степановне. Ленечке. Дорогого сынка своего поцелуйте.
И просто выставила меня за двери.
В автобусе было тесно, жарко. Со всех сторон меня толкали и кричали:
— Стал, как дерево! Чего задумался? Сходишь на следующей?
А я думал: сама Шура все это решила или Ольга Николаевна постаралась, успела еще до разговора со мной написать и послать ей письмо?
И еще думал: зачем Шура говорила разные слова о генералах? Никакой любви между нами никогда не было. И быть не могло. Я любил и люблю только Машу. «Константин Федорович» — это тоже почти удар по щеке. Только не за любовь, а за неверие в человека. В друга. Хотя, вероятно, Степан Петрович и прав: «Втроем не дружат, третий в семье лишний». Удержит ли Шура одна в руках своего журавля? Завтра ее выпишут из больницы. Как начнет она новый свой понедельник? К нам больше она не придет. «Костенька, не отдавай королеву…» Отдал!
Маша так и развела руками.
— Костя, я ничего не понимаю. Мама сказала, что ты от них пошел немного побродить по набережной. А сейчас… Ты погляди на часы! Где ты был?
— Играл с Шахворостовым в шахматы, — сказал я.
— Скажи пожалуйста! Вот уж никак не подумала бы.
— Хорошо! Ты очень правильно сделал, Костя. Ну, а какой результат?
— Я отдал ему королеву, — сказал я. — И проиграл.
— Это ты зря, Костя… — протянула Маша. — Это брат твой приучил тебя к такой щедрости. Что за игра: всегда вперед отдавать королеву!
— Он выиграл королеву в самом конце, — сказал я. — Я объявил ему шах. И поставил ее под удар сразу двух ладей. Даже не думал, что так получится. Старшие посоветовали.
— Костя, в шахматы надо рассчитывать только на себя, — сказала Маша и засмеялась.
Мне стало немного легче от этого разговора. Я ничего не сказал Маше, сделал, как велели мне Ольга Николаевна и Степан Петрович. И в то же время я ей не солгал, выложил чистую правду.
Маша увидела у меня в руках наши портреты, подаренные Шурой в больнице. Удивленно спросила, откуда это. И я ответил, что их вместе с приветом от Шуры тоже передал Шахворостов.
— Нет, есть у нее, несомненно, есть зернышко настоящего таланта, — сказала Маша. И приколола кнопками портреты на стену так, что Алешка оказался у нас в серединке. — Династия Барбиных! И придворная художница — А. Королева! Она хорошо себя чувствует?
— Завтра выпишут, — ответил я не прямо.
— Костя, а мы какие свиньи, — сказала Маша, — могли бы тоже сегодня вдвоем сходить проведать Шуру! Вот тебе и лучшее доказательство, какой он на самом деле, Шахворостов. Теперь-то ему алиби уже не нужно было обеспечить.
— Да, не нужно, — сказал я. — Он все себе обеспечил.
— Садись быстренько ешь, — сказала Маша, — и пойдем в парк. Я просто не знаю, что там теперь с нашими мужичками.
За «мужичков» Маша напрасно тревожилась. С ними оказались Тетеревы. У Алешки была бутылочка молока; Дина подогрела ее в ресторане. Парень был сыт и на всю аллею выкрикивал: «Ма-ма, ма-ма!..» А Ленька был похож на свежемороженую камбалу. Сами посудите: в животе у него находилось восемь порций пломбира. За счет Тетеревых.
В парк уже набиралась публика. Наступила пора вечернего гулянья. И Маша отправила Леньку с Алешкой домой, к бабушке с дедом.
Мы сделали с Тетеревыми по парку несколько кругов. Вася рассказывал, что завтра в нашем кессоне согласно «легенде» буровой разведки должно обнажиться скальное дно, и тогда наступит пора самых интересных работ. Еще он сказал, что в Антарктиде температура сегодня была семьдесят восемь градусов ниже нуля. И Маша засмеялась:
— А я в Москве хвасталась: у нас пятьдесят пять бывает!
Дина сказала:
— А я всегда хвастаюсь тем, что у нас яблоки растут и арбузы.
Я сказал:
— Когда я поеду в Москву, я буду хвастаться Енисеем и Красноярском.
А Вася Тетерев сказал, что он прежде всего будет хвастаться людьми, сибиряками.
Кто-то позади нас громко спросил:
— А нельзя ли вообще без хвастовства?
Мы все сразу обернулись и ответили прямо хором:
— Нельзя! У вас душа холодная!
А Дина прибавила:
— И язва двенадцатиперстной.
И после этого нарочно мы ходили, дурачились и говорили во все горло:
— Эх, и сосны же в нашем парке! Нигде нет таких!
— Эх, и парк вообще: самый первый во всем Советском Союзе!
— Дом-то Советов какой отчеканили! Площадь — цветник, улицы — струна. Куда тебе Невский проспект!
— Наши красноярские подъемные краны… Наши красноярские комбайны… Наш красноярский шелк…
Потом Тетеревы стали прощаться. Они сегодня еще не обедали. А мы с Машей побрели по самым малолюдным дорожкам. После большого смеху хотелось немного побыть в тишине, в прохладе. Здесь дорожки были немного сырые, песок не скрипел под ногами. Было слышно, как остренько пощелкивают где-то бильярдные шары, потом слышна стала далекая, тихая музыка. Мы повернули к Зеленому театру, в котором, судя по афишам, самодеятельный хор Дворца культуры правобережников исполнял песни стран народной демократии. Маша заторопилась:
— Костя, послушаем…
Пели чешскую: «Околица села, где яблоня цвела, где кузница была в старом саду…» Ну, да вы, конечно, знаете. Пока мы пробирались, отводя тугие ветви кустарников, пересекавших дорожку, песня окончилась. Нежной грустью прозвенели последние ее слова: «Узнаешь ли меня, если приду?» И припев:
То ли луковичка, То ли репка, То ль забыла, То ли любишь крепко? Ах, яблоня цвела В старом саду.И потом, наверно минут пятнадцать, публика била в ладоши и вызывала исполнителей. А мы с Машей смотрели на сцену сквозь щели в заборе. Покупать билеты было уже бесполезно. Это был последний номер программы. Маша вздохнула.
— Почему так горячо аплодируют? — и сама же ответила: — Глубоко народная мелодия, глубоко народные слова. Вот целая жизнь человека. Несложившаяся любовь. Разве не может это всегда случиться? Во все времена. «То ли луковичка, то ли репка, то ль забыла…» Правда, Костя, тяжело?
Я сказал:
— Очень тяжело. И может случиться всегда. А как быть?
Маша задумалась. Тихонечко сжала мне пальцы, повела за собой в темную аллею. Остановилась, глядя на звезды, яркие и чистые.
— Костя, если бы я могла ответить, все несчастливые в любви в складчину поставили бы мне золотой памятник. — Помолчала. — Но все же несчастливая любовь — это чаще всего неумелая любовь. Любовь, неправильно начатая.
— Разве любовь начинают? — сказал я. — Любовь всегда сама начинается.
— Правда, — сказала Маша. — Любовь сама начинается. Но ведь сердце свое. С ним тоже поговорить можно.
Она опять потащила меня:
— Пойдем. Пойдем к Енисею. Мне хочется подышать речным воздухом.
И мы прошли через весь сад, обгоняя гуляющие пары. В музыкальной раковине струнный оркестр играл «Эх, полным-полна коробушка…».
Кажется, сегодня вообще был вечер народной музыки. У всех гуляющих радостью и удовольствием светились лица. Кто-то шел, легонько пританцовывая. Маша вполголоса подпевала: «…знает только ночь туманная, как поладили они…»
Над Енисеем катился свежий речной ветерок, тот самый, которого так хотелось Маше. И мне тоже. Нет ничего на свете лучше ночного ветерка над Енисеем. Понтонный мост качался. Звезды тянули свои тонкие лучи к воде. Мы на минуту остановились.
— Костя, — сказала Маша, — как хорошо!..
Но встречный велосипедист нам не позвонил.
Глава последняя
Почему она последняя? Когда она уже никакая не глава, а просто заметки — только для самого себя. Но все равно, любое дело нужно доводить до конца.
Эту книгу свою я писал на чердаке, либо когда все крепко спали. Пока ты пишешь, ты должен быть обязательно наедине с бумагой. Не потому, что надо прятать свои мысли от людей. Пишешь как раз для того, чтобы они прочитали. Но только тогда, когда все готово. Жизнь, поступки свои предъявить я готов кому угодно.
Показать свою рукопись я хотел прежде всего Маше. Кому же другому? А вышло так, что первым прочитал ее Тумарк. Не знаю, что подтолкнуло меня это сделать. Может быть, то, что мать у Тумарка была знаменитая артистка и он сам среди нас считался больше всех понимающим в искусстве. А может быть, то, что он, автор одной очень удачной инсценировки, по секрету сказал мне: «Теперь я пишу роман», — и я ответно должен был поделиться с ним тоже каким-то секретом. А других секретов у меня не было.
Словом, дал я ему свою рукопись. Потом мы условились поговорить о ней на берегу Енисея, где нам никто не помешает.
Был тихий вечер. Солнышко вот-вот свалится за горизонт. Поэтому наш берег был в глубокой тени, а тополя на островах и весь Правый берег, горы за Енисеем, ущелье речки Лалетиной, вдоль которого идет веселая тропа на Столбы, — все это сияло, и светилось, и тянуло к себе. На Енисее мелкая рябь плескалась, как стадо золотых рыбок.
Тумарк долго молчал. Я ждал, не спрашивал. А Тумарк все примерялся, как бы ему попасть камешком в плывущее мимо нас бревно. Наконец метнул камень. Попал. Камень звонко щелкнул по бревну.
— Костя, — сказал он, — я тебе эту книгу печатать не советую.
— Почему? — спросил я. И мне показалось, что солнце уже закатилось совсем. Сразу все потемнело. И золотые рыбки нырнули в глубину.
— Получается, что ты Королеву любишь больше, чем Машу. С каким сердцем Маша станет читать эту книгу? И люди, которые знают вас? За Машу обидно.
— Тумарк! — закричал я. — Да я Машу люблю больше всего на свете! Ее одну, и никого больше! И Маша — это вся жизнь моя. А Королеву мне просто жаль. Хороший она человек. Ну не сложилась судьба у нее, хотя и сама во всем виновата. Не сложилась, так сложится. Я хочу, чтобы поверили люди: сложится! Я хочу, чтобы к Шуре пришел человек с хорошей, чистой душой, чтобы не осталась она одинокой.
Тумарк вздохнул, покачал головой.
— Любишь Машу… А в книге у тебя очень уж много таких слов о Королевой, что… Нет, нет, Костя, все люди поймут, что Королева для тебя вторая! Хотя бы в сердце. Понимаешь? Вторая!
— В сердце у меня все. Я не верю в плохих, я хочу, чтобы все люди были хорошими. Даже и Шахворостов. Хотя и правильно — так и надо! — сел он снова в тюрьму. За Шуру. Отыскала милиция ниточки.
Все равно. Не это главное. Что — Шахворостов? Сколько возились мы с ним? Не за Шуру — так сел бы за новое хулиганство. Главное в Королевой. Она для тебя вторая. Тем более что к вам она и теперь по-прежнему ходит. И дела не меняет, что работает она маляром, учится в художественной школе. Ты написал, что «отдал королеву». А ты ее не отдал.
— Так разве я должен был ее отдать? Разве я мог это сделать?
— Не знаю. Но Терсковы, Степан Петрович с Ольгой Николаевной, вообще рассуждали правильно. Так, как и все люди считают. У тебя есть одно только средство: заменить все фамилии и книгу переписать от третьего лица. Но Маша, мне кажется, все равно догадается.
— Чего догадываться, когда я ей все, совершенно все рассказал!
— Я не знаю, что и как ты ей рассказал, а написал в книге так, что Маше читать все равно будет больно.
Мы молча пошли домой. Гасли не только веселые огни за рекой, гасли на небе последние краски заката.
Труда своего мне не было жаль. Работать я могу сколько угодно. Но книга — это не просто труд. Книга — это часть души человеческой. А бывает, и вся душа. Я не могу назвать Шуру дрянью, я не могу закрыть перед ней двери своей квартиры. Я ее люблю. Но совсем-совсем не так, как Машу. И она для меня не «вторая». Она тоже первая, но совсем другая. Не Маша. Не свет мой. Маша все поймет правильно, я верю. Потому что Маша — моя. Она совесть моя, она мое сердце. Но Тумарк говорит: «Все равно…» Он тоже понимает. Да-а…
Переделывать Королеву на Журавлеву, Машу на Дашу, Красноярск на Красноперск, Барбина на Турбина, «я» на «он» не могу. Не буду. Покажу рукопись Маше. Как она решит, так и будет.
1960
Медленный гавот («Козья морда»)
Глава первая, Без которой никак нельзя
Итак, теперь я студент-заочник, Костя Барбин — студент МИСИ.
Мы с Машей не раз и подолгу бродили по четвертой странице «Комсомольской правды», выбирая самый подходящий для меня институт. Но еще дольше бродили по берегу Енисея, решая — идти мне на дневное или на заочное отделение.
Маша говорила, что надо идти на дневное, что сама она училась заочно и знает, как это трудно. Пока я буду студентом, ее заработка хватит прокормить всю семью, то есть меня да еще Леньку с Алешкой. А мне было стыдно даже слушать такие жертвенные слова. Маше тяжело достался диплом инженера, это верно, а почему мне должно быть легче, чем ей? При всем равноправии я все же мужчина!
Ну и как хотите, только за учебниками и без всякой работы сидеть бы я не смог. У меня тогда, наверно, сразу мускулы превратились бы в рогожу, из-под кожи ее по ленточке выдергивай, пока не наберешь хороший пучок, чтобы сходить потом с такой мочалкой в баню. Эту проблему помог решить Енисей. Правильно, что на берегу родной моей реки мы ее обсуждали. Енисей сказал: «Слушай, Костя…» — и задержался на этих трех точках, потому что рядом со мной была Маша. Но я все понял. Маша тоже поняла. От Енисея мне оторваться никак невозможно.
А вот насчет самого института, кроме «Комсомольской правды», в советчики пришлось скликнуть всех своих друзей. Тумарк кричал: «Поступай в ГИТИС. Из тебя выйдет превосходный комик, ты совершенно не можешь разговаривать серьезно».
Дина говорила: «Только в медицинский! Костя, ты рожден быть хирургом, любую кость ты с одного замаха перерубишь».
Вася Тетерев задумчиво покашливал в ладошку: «А если в педагогический? У Барбина определенно есть что-то от Макаренко. Ему перевоспитывать людей хочется».
Кошич плечом отодвигал Тетерева: «В университет поступать ему нужно. На юридический факультет».
Ленька прямо к глазам моим подставляет веснушки свои, дышит мятными конфетами: «Костя, а как же я потом? Ты ведь обещался: мы оба — в речной!»
В общем, не знаю, чем окончились бы наши споры, но Шура Королева пустила по рукам листок бумаги, тут же нарисованную карикатуру на меня. Кольцо из институтских дверей и вывесок, а я, с хвостом, по-лисьи извиваясь, хожу по кругу и выбираю, какую дверь открыть. Подпись: «Абитуриент! Не лиси, а шагай в МИСИ!»
Посмеялись.
А когда все разошлись, Маша немного нараспев и говорит: «Московский инженерно-строительный институт… Звучит неплохо! Костя, а знаешь, в самом деле, не лиси…»
И я понял. Правильно! Я же строитель. Зачем мне для себя искать какую-то другую профессию? Тем более что эта профессия мне очень нравится. И от Енисея никуда не уйдет. На Енисее — и мне, и Алешке, и внукам Алешкиным строить всего не построить!..
Сдавать вступительные экзамены Москва мне разрешила на месте, в нашем Красноярском политехническом. Заочникам это можно. И я обрадовался. Дома, как говорится, и стены помогают. Особенно когда в этих стенах с тобой живет Маша, да и товарищи толковые к тебе забегают.
Ну, Ленька было по привычке ноту свою тоскливую все же пустил: «Костя, ты бы мне из Москвы диоды привез — транзисторный приемничек хочу смонтировать». Кому что, а шелудивому — баня! Попробовал было я отшутиться, сказал, что диоды-диоты придумали идиоты, а Маша, как главный специалист по радиотехнике, научит его сделать транзисторный приемник совсем без всяких диодов и триодов. Но старого воробья не проведешь на мякине. Ленька всерьез обиделся.
В политехническом, между прочим, мне попеняли, почему не в свой родной, а в московский институт я поступаю. Пришлось ответить: «Куда же тогда москвичи поступать будут, если мы здесь все места сами займем?» Таким образом и стал я студентом МИСИ.
Учиться не было трудно. Опять-таки стены и Маша мне помогали всю зиму. Под ложечкой засосало, когда получил я вызов на летнюю экзаменационную сессию. До этого все еще не верилось по-настоящему, что заканчиваю первый курс и буду уже переходить на второй, словом, ступенька по ступеньке, через шесть лет доберусь и до инженера. Тут я вдруг с какой-то особой силой почувствовал ответственность за само это слово — инженер, — насколько оно не простое. Подумал с особенным уважением к женщинам, что Маше, например, диплом достался куда труднее, чем мне: ей надо было еще и с малышом возиться.
Теперь Алешка бегает великолепно, сам взбирается на стульчик к столу, ест уже не только ложкой, но даже и вилкой, хотя Маша до смерти боится, что мужик наш вилкой непременно выколет себе глаз. А разговаривает он сейчас сплошными цитатами из книги Корнея Чуковского «От двух до пяти». И это удивительно потому, что читать он все же пока не умеет и никто ему содержания этой книги не рассказывал. Ольга Николаевна просто житья не дает: «Костя, все, что он говорит, ты обязательно должен записывать!» Ну, я студент, это так, и мне положено записывать лекции. Но ведь Алешка все-таки еще не профессор!
Словом, повезло мне во всех отношениях.
А вы знаете, когда человеку долго и подряд везет, он к этому привыкает. И даже не может представить, что вдруг ему жизнь хоть в чем-нибудь возьмет да и покажет фигу. Вот так капиталисты, игроки в Монте-Карло все свое состояние в рулетку спускают. А Ленька в лотерею — все деньги, какие от Маши получает на газировку и на мороженое. Ну, было, в самом начале, на три билета, за девяносто копеек, он выиграл сразу пылесос, электробритву и рублевку. С этого и погиб парень. Славку Бурцева тоже втянул. Теперь после каждого тиража они сидят и статистикой занимаются: на какие цифры чаще всего оканчиваются номера счастливых билетов. Соответственно и покупают потом. Соответственно потом и проигрывают.
К везению я постепенно привык. Но не в том смысле, чтобы посвистывать беззаботно: дескать, никакой беды или горя большого лично в моей жизни уже не случится. Тут ко всякому был готов, детство свое трудное хорошо помнил — привык я к мысли, что и всем людям живется в общем-то превосходно и всем везет так, как мне.
И я не стал бы писать эту повесть, если бы мне хотелось лишь рассказать, как я впервые приехал в Москву. Сдавать экзамены. Взялся я за перо потому, что вдруг столкнулся здесь с большой бедой, постигшей людей, которые тоже думали вроде меня и Леньки, что в жизни им здорово повезло и счастье уже никогда не изменит.
Кроме положенного мне на экзаменационную сессию отпуска я взял еще и свой очередной. Можно в Москве поконсультироваться, поработать в библиотеках и — Маша очень настаивала — разглядывать столицу не совсем ошалелыми от учебников глазами.
Все равно свободного времени было мало. Но когда я подружился со Стрельцовыми и самое важное узнал от них самих, а кое-что увидел собственными глазами или потом додумал, угадал, — я понял, что время для того, чтобы все это записать, я непременно должен найти.
Так, постепенно, у меня накопилось много отдельных листков. Можно было уже соединить их в повесть, хоть я и не знал, какое последнее решение примет Василий Алексеевич по отношению к Мухалатову, а «большая» точка в конце здесь требовалась обязательно. Но тут почти совсем неожиданно в Москву прилетели Маша с Ленькой, и рассчитанная по минутам программа моей студенческой жизни сразу пошла наперекос. Тем более перекосилась работа над рукописью.
Я сказал, что Маша прилетела «почти совсем неожиданно», вот почему. Было давно известно, что ей предстоит командировка в Ригу на завод ВЭФ. Радио, электротехника! Потом все заглохло. Вдруг спохватились: послать немедленно. И Маша срочно вылетела с обязательной деловой остановкой в Москве. Не успела даже известить меня телеграммой.
А Ленька увязался с ней, выпросил эту поездку как награду себе за успешное окончание девятого класса. Маша не отказала. Парень вообще-то самостоятельный. Пора. Но в то же время и не совсем один он окажется сразу в таких больших городах, как Москва и Рига. Он ведь дальше пригородной станции Маганск из Красноярска не ездил еще никуда. А выкинуть какую-нибудь штучку, несмотря на свои девять классов, Леньке нашему никакого труда не составит.
Словом, свалились они на меня буквально с неба. И при этом, уже по пословице, как снег на голову.
Первый вопрос: «Как долетели?» Второй: «Как там Алешка?» И третий: «А где же вам самим в Москве якорь бросить?»
Ну, долетели, конечно, хорошо, если оба стоят на ногах и со мной разговаривают. Алешка при бабушке Ольге Николаевне проживет надежнее, чем, допустим, было при мне и Шуре Королевой. А вот в Москве-то где приезжим нашим приютиться — дело похитрее.
Особенно для Леньки. Командировочного удостоверения у него не имеется. А паспорт собственный хотя и есть, но в Машином паспорте сделана отметка о регистрации брака с Константином Барбиным и, хоть убей, в одном номере с ней Леониду Барбину жить не позволят. В наше студенческое общежитие поместить его тоже не просто, комендант — что скала. Да, по совести, ни единой коечки свободной там и нет, а валетом с Ленькой ложиться на одну койку — утром сразу записывайся к зубному врачу, вставлять искусственную челюсть.
И осталось только единственное: поселить Леньку временно на даче у Стрельцовых. Можно и вместе с Машей. Даже вместе со мной. Стрельцовы — люди широкой, открытой души, и места на веранде нам всем троим хватит.
Но тут уже Ленька взбунтовался. Обидно стало человеку. Выходит, мы двое будем водить его на ночевку, как маленького. Очень хотелось ему пожить у Стрельцовых на даче, но еще больше хотелось полной самостоятельности. Тогда можно будет приходить в гости ко мне в общежитие, к Маше в гостиницу, звонить ей по автомату, передавать через дежурного записочки. Словом, пожить в Москве на полный ход, чтобы было потом чем похвастаться перед Славкой Бурцевым.
Маша пожала плечами, сказала:
— Не знаю, как ты, Костя, а я бы Леонида отправила и одного.
Ну, я и тем более согласился.
До конца дня мы вместе обедали, разговаривали, с боем устраивали Машу в гостиницу, а потом вручил я Леньке записку для Стрельцовых и проводил до вокзала.
— Езжай до платформы двадцать третьего километра, — объяснил ему. — Сойдешь и тропиночкой вдоль железной дороги шагай минут пятнадцать. Тут ты увидишь лужок, козу на веревке. В этом месте сворачивай направо, в Березовый переулок. Дача Василия Алексеевича под номером четырнадцатым. Жену его зовут Вероникой Григорьевной, а дочь — Риммой. Все! Завтра как штык с поездом восемь сорок семь будь в Москве. Маша здесь тебя встретит. Понял?
— Понял, Костя. Только что мне делать, если козы на веревке не будет? Вдруг ее уже хозяева домой уведут.
— Тогда поступай как хочешь. Тоже мне: сам я, сам! А для чего я назвал Березовый переулок и номер дачи? Забыл? Козу так запомнил!
И Ленька расплылся в улыбке:
— Нет, не забыл. Это ты меня, Костя, просто поймал на козе. А я все равно нашел бы Стрельцовых. Мы со Славкой Бурцевым на Правом берегу так…
В общем, отправил я парня. Не пропадет. С ним коробку зефира для Риммы послал, она зефир очень любит. Попалась еще на глаза лимонная кислота, тоже купил, послал с Ленькой. Это уже для Вероники Григорьевны. Жаловалась, что давно не продается в их дачном поселке лимонная кислота.
Тут два слова, пока не больше, об этой семье, потому что вся книга главным образом о ней и будет написана. Стоит сказать, кто такой сам Стрельцов, — и все сразу станет ясным. Василий Алексеевич одно время был красноярцем, дружил с нашим начальником пароходства и через него всю «фамилию» Барбиных знает превосходно. А теперь он — заместитель директора московского экспериментального завода.
Первый раз привела меня к себе на дачу Вероника Григорьевна, встретились мы с ней случайно, в электричке. Разговорились. А потом уже я стал у Стрельцовых, что называется, своим человеком. По землячеству. И вообще.
Ленька утром приехал на электричке точно «как штык». Его встретила Маша, и вместе с нею прямо с вокзала они явились ко мне в институт, чтобы сообща нам точнее расписать программу тех дней, пока Маша находится в Москве.
Но Ленька с ходу же заявил, что Рига ему сейчас не нужна. Пусть Маша едет без него. За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. Лучше как следует погостить в Москве. Стрельцовы приняли его очень ласково, сказали, что жить у них на даче он может сколько захочется. Римма проигрывала на патефоне новые пластинки, а Вероника Григорьевна пообещала показать ему все самое интересное, что только есть в столице. Уже сегодня дала билет на выставку, а на завтра — в Оружейную палату. Потом они вместе…
— Я же знаю, Костя, тебе всегда будет некогда. И Маше тоже некогда. И стану я по твоему или Машиному приказу ходить только от одного угла до другого. А Вероника Григорьевна…
Старая песня! Ему с Машей или со старшим братом ходить — так «под конвоем», а с посторонними — ничего. Только легче ли от этого станет Стрельцовым?
— Костя, у тебя здесь оказались удивительно хорошие друзья! — сказала Маша.
И я молча наклонил голову. Правильно!
Поздно вечером, вволю нагулявшись по выставке, Ленька уехал ночевать на свой «23-й километр». Расставаясь с нами, он между прочим почему-то спросил:
— Костя, а лимонная кислота не ядовитая?
Догадался я:
— Ну, если ты все еще живой, значит, сам видишь, не ядовитая.
Он таинственно заулыбался.
— Костя, а можно — купи снова для Риммы зефир, а Веронике Григорьевне эту самую кислоту.
Что вы с ним будете делать! Съел подарочный зефир. И с газировки на сухую кислоту перешел…
Проводив Леньку, мы с Машей отправились в Парк культуры. Долго бродили по тихим дорожкам. И я рассказывал о Стрельцовых.
Вдруг хлынул теплый проливной дождь и загнал нас в самый угол Нескучного сада, под огромное ветвистое дерево.
Далекие светились огоньки. Еле слышная доносилась музыка. Крупные капли дождя стучали по широким листьям лопухов. Ствол дерева был слегка наклонен, здесь было сухо и потому еще, что мы стояли, тесно прижавшись друг к другу.
И я опять рассказывал Маше о Стрельцовых. Говорил, что не могу не написать книгу, хотя пока и не знаю, как завершить ее, потому что и в самой жизни конец этой истории еще не определился. Маша решительно меня поддержала: «Об этом написать книгу надо». И мы вместе с ней попробовали заново пройтись по всему течению событий.
Маша сказала:
— А знаешь, Костя, конец для книги надо все-таки определить заранее. Иначе трудно писать.
— Пожалуйста, — сказал я, — если надо, так надо. Для меня, например, законный конец повести совершенно ясен. Даже, гарантии ради, могу начать с конца. Сейчас так многие писатели делают. Вот тебе конец, вернее, начало: «Когда я плечом все-таки высадил дверь, я увидел на полу…» И дальше, сама понимаешь, потом можно размотать все обратно.
Но Маша не согласилась.
— Во-первых, я не думаю, Костя, чтобы в действительности мог быть подобный конец и тем более, что такой конец должен быть. Во-вторых, так начинаются только детективные романы, а ты ведь обязан рассказать о простой человеческой драме некоторых современных Дон-Кихотов. И в-третьих, на этот раз ты все имена и фамилии непременно замени и не пиши от первого лица, потому что здесь, в самих событиях, совсем не ты главную роль играешь.
Мне стало немного обидно. Вот в точности так прошлый раз Тумарк советовал мне писать о Шуре Королевой. Но Маша тогда не настаивала. Почему же теперь и она переменила свой взгляд?
— Да я ведь и никогда, Маша, не играл главные роли, я просто пишу без утайки, открыто, об всем, что сам хорошо знаю и вижу. От первого лица тогда писать мне легче.
— «Скажите вы, калеки и калекши, где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легше…» — смеясь, продекламировала Маша. — А надо подумать и о Стрельцовых. Тут ведь иное, чем с Шурой Королевой. И потом, когда ты пишешь от первого лица, ты часто бываешь не очень серьезен. Не все читатели это любят.
— Все равно, — сказал я упрямо, — от первого или третьего лица, даже хоть от четвертого, никуда я себя не спрячу. И не хочу прятать. И пусть считают меня несерьезным. А мост через Енисей с ребятами построил и я. Шуру Королеву из беды вытащить тоже помог я, а Шахворостову рога обломали накрепко. И помочь Стрельцовым я просто обязан…
— Ну, а зачем передо мной хвастаться? Это ведь тоже от первого лица получается, Костя! Да ладно, ладно, делай как хочешь. Только все же не прав ты, что от первого лица писать легче. Особенно о тех обстоятельствах в жизни своих героев, которые автору, что называется, подглядеть невозможно. А от третьего лица, ничуть не нарушая правды, ты можешь свободно домыслить многое.
— Хорошо, Маша, я согласен заменить все имена и фамилии, я согласен и написать книгу от третьего лица, но только те места, где нет меня в действии. Самого себя другой фамилией уж я никак называть не могу и говорить о себе «он», будто я умер и вижу какого-то чужого Барбина с того света. Оставь меня мне.
Ливень все хлестал в три ручья, сырость теперь подступала уже к самым ногам. А дальние огоньки сквозь дождевую завесу светились по-прежнему, и так же тихо играла музыка. Мне вдруг захотелось передать Маше то настроение, какое собираюсь я вложить в свою повесть.
— Слушай, Маша, давай я тебе сейчас изображу одну сцену. На пробу. От третьего лица. Может быть, именно с такой сцены надо начать, считая, что это как раз и есть конец повести.
Закрыл глаза и стал рассказывать:
— «Человек сидел, низко пригнувшись к столу. В комнате было темно. Отчетливо тикали стенные часы. В дальнем углу комнаты царапалась мышь. Пахло плесенью.
В окно упал пучок слабого света, косым четырехугольником обрисовался на белой стене у двери. Стекла в окне запотели, испестрились потеками воды, и светлое пятно у двери казалось уродливой картиной, брошенной киноаппаратом на экран.
Человек вздрогнул. Настороженно прислушиваясь, вытянул шею, тихо сказал:
— Нет, это просто так.
И подошел к окну.
Свет падал через улицу из другого дома. От палисадника, поперек дороги, протянулась неясная зубчатая тень. Блестели лужи, разделенные гребешками намокшей земли. Конец улицы терялся в белом, парном тумане.
— Уйти?
Он распахнул дверь в сени. Однотонно стучал крупный редкий дождь. С крыши обрывались тяжелые капли и звонко плескались в какой-то посудине. Человек оглянулся назад, в пустую темь комнаты, и выскочил на крыльцо, испуганно хлопнув дверью.
Во дворе было очень темно. Тучи, невидимые, ощущались близко, у самой земли.
Все время поглядывая вверх, он спустился с крыльца. Вязкая глина тотчас густо облепила сапоги. Ступать было неудобно: ноги то разъезжались на скользких бугорках, то, противно чмокая, засасывались вязкой жижей. И выдернуть их стоило больших усилий.
В конце двора буйно кустились полынь и лебеда. Высокие мокрые стебли тесно припадали к ногам, и человек сквозь одежду чувствовал острый холод. Била дрожь, короткая, сотрясающая. На коже высыпали мелкие пупырышки. Они были такие же колючие и жесткие, как зернышки лебеды, набившиеся в складки одежды.
Чаще забарабанили по крыше капли дождя. Откуда-то издали донеслось приглушенное шипенье — это ливень врубался в глубокие лужи.
Человек повернул обратно, злобно рванул дверь и вбежал в сени как раз в тот момент, когда тяжелая дождевая коса вплотную придвинулась к дому.
Колеблясь постоял. На ощупь пробрался к вешалке. Сорвал с нее и накинул на плечи брезентовый плащ. Тут же швырнул его на пол.
— Некуда… — Приподнял и снова бросил плащ. — Ч-черт!..
Он протяжно всхлипнул, вцепился руками в волосы.
И вдруг заметался. Подскочил к письменному столу, выдернул и уронил на пол ящик. Не наклоняясь, оттолкнул его ногой. Достал из кармана помятую, раздавленную пачку папирос. Прислушиваясь к шуму дождя, закурил. И тут же выплюнул папиросу. Приник головой к косяку.
По запотевшим стеклам окна сбегали вниз, в темноту, широкие струи воды. Человек отвернулся. Его рука нечаянно нащупала сбоку, на столе, раскрытый патефон. Стукнула опущенная мембрана. Тихо и ласково затрепетали первые такты гавота.
— Какая духота! — прошептал человек, расстегивая воротник. — Боже, какая духота!
Ударил кулаком в раму. Посыпались осколки стекла. С жадностью вдохнув струю свежего воздуха, он вытащил из бокового кармана пиджака пистолет. Шевельнул большим пальцем, и сухо, тоненько щелкнул курок…
…В разбитое окно брызгали редкие капли дождя. На противоположной стороне улицы, в доме, погас свет. И сразу исчезло световое пятно на беленой стене. В полной темноте еще несколько минут звучала медленная, нежная мелодия. А потом завод пружины вышел весь, и диск патефона остановился…»
Маша молчала. Я открыл глаза. Дождь перестал. Но огоньки почему-то не светились. Вокруг нас лежала глубокая тьма. И музыка там, вдалеке, тоже не играла.
— Тебе не понравилось, Маша?
— Не могу понять, о ком ты это? Кого ты имеешь в виду?
— «Кого»! Никого. Неправду, несправедливость — вот кого я имею в виду. И мне бы хотелось, Маша, передать свое настроение, свое отношение к этому густыми красками. Не могу я примириться с тем, что произошло!
— И все-таки надо быть более сдержанным, — сказала Маша. — Нельзя по настроению факты окрашивать так, что они становятся на себя не похожими. А потом, это чуждо тебе даже по стилю. Чересчур много символики. Например: духота, грязь, пистолет. И самое название книги «Медленный гавот»…
— Название книги — самое точное! — сказал я. — Нужен контраст.
— Не знаю, Костя, как ни сложна личная драма Стрельцовых, жизнь всегда ведь в надеждах. И люди могут, должны понять Василия Алексеевича без излишнего нагнетания красок. Я бы, Костя, на твоем месте попробовала написать книгу мягче, спокойнее. А для контраста, наоборот, назвала бы жестоко. Например, «Козья морда».
Маша принялась рассказывать по-своему. И я сперва мысленно взбунтовался. А потом подчинился.
Всю ночь я обдумывал Машино вступление, а утречком попробовал перенести его на бумагу. Получилось. Мысли-то никуда не денешь — они мои! А к Машиной интонации и к «третьему лицу» можно привыкнуть.
И я стал, насколько позволяли мне время, экзамены и Ленька, прилепившийся к Москве, работать над этой книгой, начав ее не с конца, а, как привычно мне, с самого начала.
Глава вторая Перед лицом Москвы
Москва таилась в легком сизом дыму. Удивительно близкая, если смотреть прямо вниз, медлительно прощупывая взглядом крутые откосы Ленинских гор, все в сочной весенней зелени. Невообразимо далекая, уходящая вовсе за кривизну земного шара, если с такой же неторопливостью приподнять голову и попытаться найти глазами черту горизонта среди серого, зыбучего тумана.
И оттого, что нельзя было отыскать ни самой ближней, ни самой дальней границы города, казалось, уже не имели никакого значения бесчисленные улицы, рассекающие скопления каменных домов вдоль и поперек, — пустившись в путь по любой из них, человек все равно не смог бы покинуть Москвы, настолько она была беспредельной. Так представлялось отсюда, с гор, выше которых поднимались, может быть, только ажурные мачты радио, телевидения да еще золоченый шпиль университета. Но даже древний Кремль с его рвущимися к облакам стрельчатыми башнями, соборами и колокольней Ивана Великого все-таки оставался внизу.
Впрочем, была и еще одна часть Москвы, превысить которую уже ничто не могло. Это — московское небо, тут и там расчерченное серебристыми следами пролетевших реактивных самолетов. Оно, это небо, спокойное и бездонно глубокое, тянуло, приковывало взгляд больше всего.
— Нет, ты понимаешь, Володя… Ты понимаешь… — Александр сдавил ладонями виски, постоял так минуту и бросил руки толчком вперед. — Помнишь, у Герцена: «Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас…» Правда, похоже?
— Память на цитаты у меня дырявая, я этих слов не помню. Но я знаю, что где-то здесь, на бывших Воробьевых горах, Герцен и Огарев дали клятву всю жизнь свою посвятить народу, — сказал Владимир и слегка прислонился к Александру, толкнул его плечом.
— «…постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу», — медленно проговорил Александр. — Вот так у Герцена сказано.
— Начетчик! Зубрилка! — добродушно засмеялся Владимир.
— Нет. Ты же знаешь, как я всегда ненавидел зубрежку. А это запомнилось потому, что слова-то особенные. Возвышенные. А такие слова всегда глубоко западают в душу.
— Сказано тоже возвышенно!
— Ну и что же? Пусть! А балаганить бессмысленно где-нибудь за столиком в ресторане — это лучше? Останешься потом один, переберешь в уме всю эту трепотню, и станет противно-противно.
— Живем на земле, Саша…
— Земля только и рождает все прекрасное!
— И гадов тоже, — Владимир снова засмеялся. — Я понимаю. Ты предлагаешь нам повторить клятву Герцена и Огарева: пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу. Отлично! А ты не выяснял, какого роста были Герцен и Огарев? И мы с тобой — какого роста?
— Без балагана!
Владимир сделался серьезным. Изучающим взглядом скользнул по лицу Александра, потом повернулся к Москве, той, которая за рекой, за светлыми просторами Лужников уходила в бескрайние дали. Сквозь дымчато-сизый туман по-особенному ярко поблескивали золоченые купола кремлевских соборов. Словно стремясь притянуть к себе все остатки лучей заходящего солнца, выпячивались вперед тяжелые громады высотных зданий. Над ними белой метелицей кружились голубиные стай. По крутой насыпи тащился бесконечный состав: цистерны, цистерны, потом открытые платформы, загруженные высокими белыми ящиками, автомашинами, приподнятыми на дыбы, потом снова цистерны…
— Клянемся! — негромко проговорил Владимир. И подал руку Александру.
— Перед лицом Москвы! Перед лицом Родины! — торжественно отозвался Александр. — Клянемся ничем не опозорить своего доброго имени, всю жизнь свою посвятить борьбе за счастье людей. Быть честными и справедливыми во всем.
Он потянулся, неловко пытаясь обнять Владимира, но тот сердито загородился локтем:
— Ладно! Мы не в театре. Можно и без красивых жестов.
— Клятва должна быть как клятва, — виновато сказал Александр.
— Помнится, Герцен писал, что и свою клятву, позже, он счел театральной. Чего же нам с тобой спустя сто лет повторять ошибки классиков?
Александр поморщился:
— Володя, ну зачем опять балаган? Нас же здесь только двое.
— От смысла нашего обещания я не отказываюсь, — лениво сказал Владимир. — У меня память плохая только на чужие цитаты, а свои слова я всегда хорошо помню. Разве этого мало?
— Нет конечно…
— Ты хочешь, чтобы я стал на колени, поцеловал холодную сталь шпаги, расписался на пергаменте собственной кровью? И я сделал бы это, Сашка! Если бы… Если бы нас было здесь действительно только двое. А мы стоим — ты погляди! — «перед лицом всей Москвы». И на меня с тобой отовсюду тоже посматривают. Сам знаешь, я очень люблю балаганить на людях, но балаганить, произнося публично клятвенные слова, я не стану.
— Да разве…
— Времена нынче иные, не герценовские, — Владимир подавлял все попытки Александра вставить хотя бы несколько слов. — Двадцатый век, вторая половина. Физика, химия, высокие скорости, высокие энергии, высокий к.п.д. На земле нынче все происходит проще, земнее. Не тоскуй, Саша, по герценовским временам! И перестань озирать ангельским взглядом макушки кремлевских соборов. Долг гражданина перед родиной во все времена и эпохи остается незыблемым. — Он хлопнул Александра по плечу: — Вот что, давай-ка лучше сядем в троллейбус и в приличнейшем месте скрепим наше обещание. Строго по ритуалу наших дней, не кровью, а бутылочкой саперави. Не бычись! Конечно, я балаганю. Но балаган ты уж мне оставь. В этом — и я и вся жизнь моя!
Он потянул Александра за рукав, сдержанно похохатывая и подмигивая. Александр отрицательно затряс головой, отмахнул упавшую на лоб тугую прядь волос.
— Не надо так, Володя… Не надо… Как ты не понимаешь? Ну, отпусти! Куда ты меня тянешь?
Владимир снова сделался серьезным.
— Понимаю ли? Все понимаю, друг Александр Иванович… — И раскололся звонким хохотом: — Вот черт, сочетание точно такое, как и у Герцена, — Александр Иванович. Раньше я и не замечал. А вот у меня нет ничего огаревского… Да ладно, ладно, понимаю я все. Но ровно в девять часов двадцать минут на одном из углов меня будет ждать хорошо и тебе известная Римма. Если здесь задержаться хоть немного, я рискую явиться на свидание только с самим собой. Римма не ждет даже одной минуты. Едем, Сашка! Едем, Александр Иванович!
— Ты в ресторан меня зовешь или…
— Нет никаких противоречий! Железная логика: сначала за Риммой, а потом — в ресторан. Точнее, в кафе. Да-а, втроем! Приобщим девушку тоже к нашей священной клятве. Достойна вполне. Жанна д’Арк! И святая. И воин. Блузку носит силоновую, а под блузкой — кольчуга. Едешь?
— Н-нет…
— Как хочешь… А я не могу, связан словом. Вот тебе адрес: кафе «Андромеда». Молодежное. Поэтому никакого пьянства не будет. Римма не позволит. Да я, пожалуй, при ней и сам не позволю. Разговор насчет саперави с подтекстом «коньяк» — просто шутка. Надумаешь — приезжай! Место для тебя я займу. — И на ходу уже бросил: — А клятву нашу — слушай, еще раз говорю — не считай балаганом. Во всяком случае, для себя. Тебе она и по профессии очень подходит.
Александр долго глядел ему в спину, прямую, крепкую, словно литую. Следил с доброй завистью за его широким свободным шагом, каким он пересек на красный свет проезжую часть шоссе, даже не поворачивая головы в сторону несущихся на него машин. Милиционер был далеко, свистел, грозил полосатым жезлом. Владимира это словно бы и не касалось. Он спокойно вскочил на подножку троллейбуса, как раз подкатившего к остановке.
Гасли золотые макушки кремлевских соборов. Теряя сочность своих красок, багрово-дымное зарево над домами, среди которых упал, исчез огненный шар закатного солнца, постепенно расплылось ровной полосой по всему горизонту. Сумерки не опустились на город, а как бы наоборот — медленно поднялись из его глубоких улиц и затопили, залили чернью все видимое пространство. Потом как-то враз вспыхнули бесчисленные цепочки электрических огней, не уничтожив темноту, а только резче ее оттенив. Глухо постукивая мотором и как бы таща за собой золотое сияние, по Москве-реке прополз прогулочный катер.
Александр восхищенно оглядывал этот новый, ночной лик города, по-особенному величественный и спокойный.
Было наивно и глупо вдруг удариться в сентиментальность. Владимир, пожалуй, прав. Нынче не герценовские времена, совсем не тот строй и образ мыслей. И «ритуал» для клятв не тот. Ведь даже и Герцен, действительно, впоследствии вспоминал лишь со светлой улыбкой о своем юношеском порыве — не клятва определила весь дальнейший жизненный путь и его и Огарева. Поклялись или не поклялись бы они друг другу «перед лицом Москвы», а делу, которое они задумали, все равно остались бы верны. Не надо красивых жестов и высоких слов там, где и без слов все понятно. Еще более наивно и глупо проводить, хотя и далекую, параллель между собой и Герценом. Опять-таки Владимир прав. Как говорится, не те масштабы. Не те возможности и замыслы. Герцен и Огарев готовили себя в революционеры. Он же — рядовой финансовый работник. Профессия, которую почему-то неловко называть в компании незнакомой молодежи. Это почти все равно что объявить: «Работаю продавцом в магазине».
А между тем… Между тем высокая принципиальность, безупречная честность, гражданственность и благородство — это личные качества человека, а вовсе не признаки должности и даже целой профессии. Миллионы людей в стране заняты счетной работой. Кто они: педанты, регистраторы или творцы? Формалисты, крючкотворы или ответственные стражи государственных интересов? Задай такой вопрос любому — засмеют: «Вы ломитесь в открытую дверь! Да кто же может отнести огульно всех счетных работников к разряду регистраторов, педантов, крючкотворов? Болезненная мнительность у вас, дорогой!»
А между тем… Между тем все-таки неизмеримо лучше бы иметь в кармане диплом инженера-электрика, как у Владимира. Любого инженера! Или врача, или хотя бы педагога. Это тоже совершенно бесспорно.
Ну, а если отбросить все унижающие себя сожаления и сомнения в неправильно выбранном пути? Идти дорогой, которой пошел.
Да, да, вот именно поэтому, только как внутренний протест против собственной неудовлетворенности, он и выкрикнул вслух свою клятву, позаимствовав неумирающие слова Герцена. Слова и силу страсти, с какой «перед лицом Москвы» теперь он обязался быть человеком-борцом. Независимо от диплома, независимо от профессии, независимо от своей должности бухгалтера расчетного отдела. А вернее, пусть зависимо, сто раз зависимо от всего этого! Так и только так!
А почему бы не поговорить об этом и еще? Володя Мухалатов — умница.
С Владимиром они ровесники и друзья детства. Потом судьба и трудные конкурсы при поступлении в вуз разбросали их по разным городам. И вот второй год они снова вместе. На одном заводе. Такие же. И что-то новое в каждом. Мужское, упрямое. А Владимир молодчина, сумел разработать даже какой-то необыкновенно емкий и потому экономичный аккумулятор…
Александр посмотрел на часы. Всего лишь четверть одиннадцатого. А до кафе «Андромеда» можно доехать за двадцать минут.
Глава третья Кафе «Андромеда»
Даже не читая вывески, издали, можно было легко догадаться, где находится кафе «Андромеда»: возле его стеклянно-алюминиевой двери виднелась изрядная очередь. Но не уныло-неподвижная, как обычно перед открытием магазина, где малыми дозами по утрам продают какой-либо дефицитный товар; эта очередь, веселая, говорливая, беспрестанно пульсировала, передвигалась, с непостижимой быстротой иногда превращаясь в комок. Значит, для кого-то в этот момент открывалась заветная дверь.
Александр замедлил шаги, стеснительно поворошил волосы, наползающие на воротник. Подумал с безнадежностью: «Куда тут! Вон как рвутся. Вечером разве попадешь в молодежное кафе? Володя с Риммой и то, наверное, не сумели — пошли куда-нибудь в ресторан».
Но все же, порядка ради и для очистки совести, решил немного потолкаться перед дверью. Авось…
Ему частенько выпадали удачи именно таким образом. Смешно представить себе, но даже работу в Москве, и очень все-таки неплохую, он получил, зайдя к Стрельцовым домой совсем на авось. В Сибирском финансово-экономическом институте, где Александр учился, Стрельцов — вообще-то специалист-электрик — в то время читал курс лекций также и по новой вычислительной технике. Там и познакомились, казалось, не слишком даже прочно. Потом Стрельцова отозвали в Москву, назначили заместителем директора специального экспериментального завода. А он, Александр Маринич, спустя три года получил свободный диплом и уж конечно не отказался от возвращения в родной дом. Зашел он тогда к Стрельцовым просто так, а вышел с запиской Василия Алексеевича в отдел кадров…
Володя Мухалатов первые два курса политехнического института закончил совсем в другом городе, потом каким-то образом сумел перевестись в столицу, в Бауманское высшее техническое училище. И диплом ему был выдан с назначением на Дальний Восток. Но аккумулятор необычайной силы, задуманный им в ходе работы над дипломом, с такой же необычной силой, даже как будто вопреки желаниям Володи, заставил его остаться в Москве и оказаться на том же экспериментальном заводе в должности начальника одной из лабораторий. Все дело в том, что дипломная работа Владимира как раз и познакомила его со Стрельцовым. Тот консультировал Владимира. А позже именно он, Василий Алексеевич, отхлопотал его в Министерстве высшего образования, взял к себе на завод. Владимир говорил тогда, что это очень здорово: у Стрельцова будет еще чему поучиться и на заводе.
Маринич тихонько вышагивал, заглядывая в струящиеся голубоватым «дневным» светом широкие окна кафе. Вообще-то недурно здесь посидеть за столиком в компании часок-полтора, потягивая через соломинку прохладный земляничный коктейль с пломбиром. Ну, с голодухи если, так можно заказать и хорошую отбивную с хрустящим картофелем. Допустим, даже и со стаканчиком саперави, которое так нравится Володе Мухалатову. Сюда приходят поэты, читают еще не опубликованные стихи, а молодые композиторы и артисты выступают с новыми песенками. Отлично! И есть где потанцевать…
Он вдруг остановился. Ну ты подумай! Володя с Риммой за крохотным столиком, у самого окна, на самом лучшем месте. И только вдвоем. А в зале полным-полно, и у двери очередь становится все нетерпеливее и нетерпеливее. Ай да Володя! Вот это талант!
Но как войти? Он стукнул в окно. Владимир повернулся, сделал рукой успокоительный жест: «Минуточку!»
И появился в дверях вместе с дежурным членом совета, таранящим себе путь красной повязкой на рукаве. Очередь возбужденно зашумела:
— Куда?
— Не пускать!
— Мы тут стоим час целый, а этот не успел появиться и…
Владимир наклонил голову к плечу, элегически объяснил:
— Товарищи, человек бегал домой за деньгами. Ну, случается же: забыли… А платить надо. На стол все подано. Саша, проходи!
Дежурный член совета с красной повязкой на рукаве пустился в сложные дипломатические переговоры с очередью.
Усаживая Александра за столик, Владимир сочно, от души хохотал.
— Ничего, Валентин их успокоит. В любом деле нужна смекалка, Саша. Где инженерная, а где простая, мужицкая. Думаешь, просто было и столик этот занять? На лице у тебя полная растерянность. Что это ты! Ах, все еще, поди, в облаках витаешь? — Взял, как вещь, со стола руку Риммы, украшенную тоненьким золотым колечком с рубиновой капелькой, и положил к себе на ладонь. Бережно, осторожно стиснул пальцы. — Александр Иванович, она во все посвящена. И конечно — с нами. Готова тоже «на избранную борьбу». А оружие журналиста, ты сам знаешь, какое это могучее оружие в такой борьбе. Да, Риммочка?
Она попыталась высвободить руку. Владимир отрицательно качнул головой. Весь подавшись к ней, не сводя с ее лица пристального взгляда, с минуту сидел молча.
— Прости, пожалуйста, — сказал наконец. И разжал пальцы. Оглянулся на тесную эстраду, где в электрическом свете мерцал никель и перламутр, а барабанщик, раздувая щеки, слегка подпрыгивал на своем стульчике. — Не хочешь еще потанцевать? Превосходная музыка!
Римма отказалась. Нельзя же подряд каждый танец, почти совсем без передышки.
А маленький оркестр на эстраде играл что-то такое забавно-веселое, быстрое и молодая певица в глухом вязаном свитере так зазывно нашептывала в микрофон, что невозможно было оставаться бесстрастным. Не только людей от столиков, но словно бы занавеси от окон, как насосом, потянуло на пятачок перед эстрадой. Лихо выстукивали девичьи каблучки, пощелкивали перламутровые клавиши на аккордеонах. Никелированный саксофон квакал как лягушка.
— Люблю! Хорошо-о! — проговорил Владимир. — Напрасно ты отказалась, Риммочка.
Поднялся и, шаля, приплясывающей походкой отправился разыскивать официантку. Тут же на столике у них появилось три стакана того самого земляничного коктейля с пломбиром, о котором недавно с таким удовольствием мечтал Александр.
— Даже на сухое вино у Риммы сухой закон, — с сожалением вздохнул Владимир. — Но история доказывает, что жестокие законы неизменно оборачиваются против самих же законодателей. Риммочка, муж у тебя будет горьким пьяницей.
В кафе было жарко и душновато от табачного дыма, от позднего времени, от глухого свитера молодой певицы, кваканья саксофона и тесноты танцующих пар. Лучше коктейля с пломбиром сейчас ничего нельзя было придумать.
Управление разговором полностью взял на себя Владимир.
Маринич искоса бросал взгляды на Римму. Всегда решительная, бойкая на слово, она здесь во всем охотно подчинялась Владимиру. Девушка не отличалась красотой. Узкое лицо, по-мужски раздвоенный подбородок и чересчур широкие брови обычно делали ее строгой и деловой, но в этот вечер она была совсем иной — сияла невидимым светом изнутри и время от времени, необъяснимо почему, вдруг заливалась глубоким, быстрым румянцем.
«Да у них, оказывается, любовь. И по-настоящему, не шутя. Как говорится, на всю катушку», — подумалось Александру.
Он с Риммой не встречался всего лишь месяца полтора, не был в доме Стрельцовых. И вот гляди, какие в жизни девушки перемены. Ай да Володя! А между прочим, об этом — молчок. Так, при случае, нечто неопределенное, вскользь. Ну что же, ну что же… И Володя и Римма не пустышки. Хорошая пара. Пожалуй, чуточку самому даже завидно. Если тоже влюбиться — так вот в такую бы только, как Римма. Да не успел. Или не сумел. А Володя и успел и сумел.
Бухгалтеру вообще труднее, чем инженеру, что-либо суметь. Вон инженер Мухалатов так успел еще и…
Именно об этом Владимир сейчас и рассказывал. Не подчеркнуто свысока, но все же с явной ноткой покровительственной иронии: «Ладно уж, так и быть, непросвещенные…»
— Ты послушай, Сашка! Послушай. А Римма, между прочим, так же как и ты, сперва совсем не поняла, что значит практически увеличить электрическую емкость аккумулятора почти в пятнадцать раз. А ведь это не менее значительно, чем на пшеничном поле вместо одного колоса вырастить два.
Александру вдруг захотелось поддержать девушку, повернуть хвастоватые слова Владимира против него самого.
— Ну, если ты и ей начал свои объяснения с такой же вот абстрактной фразы и длинной, как настоящие итальянские макароны, вполне естественно, что Римма ничего не поняла. Редактором научно-популярного журнала я бы тебя не назначил.
Но Римма оказалась покладистее.
— Не дошло до сознания, — согласилась она с готовностью. — Хотя журналиста такая величина должна бы сразу ошеломить. Чего бы это ни касалось: аккумуляторов, урожаев пшеницы, редиски, повышения к.п.д. уходящих уже на техническую пенсию паровозов. Решительно не понимаю другого: почему Володя не хочет, чтобы я написала о его открытии статью. Почему не рассказывает никаких подробностей. Так, только подразнил. Тогда — для чего же?
— Во-первых, Риммочка, я должен повторить, что это вовсе не открытие, — добродушно поправил Владимир. — В Коперники, Колумбы и Фарадеи я не гожусь. Фортуна, слепое счастье под ручку со мной не ходят.
— Хорошо, и я повторяю: пусть будет изобретение.
— Во-вторых, это и не изобретение. До Томаса Альвы Эдисона и даже до Ивана Ползунова я тоже не дорос. Умишко слабоват.
— Ну хорошо, хорошо, пусть крупное рационализаторское предложение!
— Мм… А рацпредложения, Риммочка, может быть, и маловато. Уж очень убого звучит. То, что я сделал, далеко от круглого дурака, но, увы, еще дальше от гения. Главное в том, что шуметь в печати пока не следует. Я ведь об этом сказал и тебе и Сашке просто так, доверительно, по дружбе. Порадуемся все вместе, а насчет подробностей, дорогая, ты не допытывайся.
— Володя работает на экспериментальном заводе, — многозначительно напомнил Александр.
Владимир задвигал плечами:
— Н-ну… Будто Римма не дочь заместителя директора, будто сама она не знает, чего нельзя, а что можно печатать о нашем заводе! Известным облачком секретности моя лаборатория действительно окружена. Однако мои аккумуляторы сейчас находятся вне этого облачка. Дело совершенно в другом. Риммочка, не допытывайся! Я очень сожалею, что в телячьей радости своей проговорился.
— К тому, что открыл или изобрел Володя, некоторое отношение имеет Василий Алексеевич, — объяснил Александр.
— Папа? — спросила Римма. И ее широкие брови удивленно приподнялись. — Вот странно. Он ничего не рассказывал. Это для меня новость.
— Сашка, ну, а тебя-то кто за язык тянул? — сердито спросил Владимир. И показал ему кулак. — В какое положение перед Василием Алексеевичем теперь ты меня поставил?
— Но он же не считает существенным свое участие в этом деле, ты мне сам говорил, — возразил Александр, продувая соломинку. Плохо тянулся коктейль. И надо было как-то поправить свою оплошность, выручить Владимира.
Но тот не принял его защиту.
Основная идея, даже высказанная мимоходом, хотя бы еще и студенту-дипломанту, никак не может быть несерьезной. Несерьезным быть могу только я.
Римма сидела задумчивая, покусывала губы, словно бы сама делала какое-то сложное открытие.
— Понимаю. Если папа подал или отдал какую-нибудь идею, он больше уже не станет считать ее своей. И не станет рассказывать дочери, журналистке, о том, что ему не принадлежит. Понимаю и узнаю папу.
— Василий Алексеевич скромнейший человек. Это давно известно. Так же как и то, что я — хвастливый болтун, — с досадой проговорил Владимир.
— А я в таком случае обязана написать статью, — Римма смотрела на него влюбленно, — потому что ты, Володя, хотя и болтун, но тоже скромнейший человек.
Владимир отрицательно покачал головой. Сказал и с жалостью, и с огорчением, и с упреком:
— Да, но будешь ли ты, Римма, достаточно скромным человеком, если станешь в своей статье восхвалять заслуги родного отца, о которых он сам даже родной дочери ничего не рассказывает, считая, по-видимому, их несущественными? И к тому же будешь ли ты честной журналисткой, если, наоборот, об этом ничего не напишешь, а мысли своего отца щедро подаришь мне? — Заметив, что Римма протестующе завертела головой, он смягчил голос и добавил совсем виновато: — Риммочка, извини, я не стремился к такому ходу нашей дискуссии, меня вынудил Маринич. Получилось грубо, неловко. Еще раз прости!
Александр с готовностью принял упрек. Римме все же хотелось еще поспорить. Но тут оркестр заиграл какое-то по-особому печальное и нежное танго. Весь зал на минуту притих, вслушиваясь. Владимир вздохнул.
— Кибернетика и электроника принесли нам невероятные скорости вычисления, — сказал он, как бы накладывая свои слова на задумчивую мелодию танго, — лазеры фантастически уплотнили луч света, транзисторы позволили упрятать в карман радиоприемник. Да, куда конь с копытом, туда и рак с клешней! Что поделаешь: одержим неотвязным стремлением к повышению к.п.д. электромоторов, аккумуляторов, ботинок на микропорке. Всего на свете! Включая и самого себя, а главным образом — собственный язык.
Энергично провел рукой черту в воздухе, ставя заслон продолжению этого разговора.
И опять с доброй завистью Александр подумал о превосходном характере Владимира. Как бы то ни было, в какие времена ни зарождалась бы начальная идея и кто бы ни был автором этой идеи, но ведь то, что сделал Мухалатов, — сделал все-таки именно он, и только благодаря его уму, настойчивости и вере в успех новый аккумулятор вот-вот станет реальностью, суля огромные выгоды народному хозяйству. Не надо присваивать себе хотя бы капельку чужого, но нет необходимости и самому старательно уходить в тень. Что, так и не встретится на пути нового аккумулятора всевозможных препятствий, бюрократических рогаток? Во всяком случае, толковая газетная статья, даже общего характера, была бы сейчас вполне уместна и полезна. Только позаботиться о должном чувстве меры. Но Владимир решительно и бережно отстранил Римму и столь же решительно погасил вообще весь этот разговор. Молодчина!
— Аккумуляторы и все прочие к.п.д. давайте оставим в покое, — сказал Александр, — но в к.п.д. человека все-таки разберемся. Что это такое? И каким образом его можно повысить?
— Человек в мире самое главное, — сказала Римма, не сводя с Владимира преданного взгляда, — и, следовательно, к.п.д. абсолютно всех технических устройств — это в конечном счете к.п.д. человека.
— Люблю представлять вселенную от нейтрино до метагалактики в единой, неразрывной связи, где каждый пшик материи зависит от другого пшика, хотя бы удаленного от него на миллиарды парсеков, — уже, как всегда, немного ерничая, сказал Владимир. — И если бы мне удалось когда-нибудь повысить к.п.д. бесконечности, пусть даже на ноль-ноль-ноль, но все-таки повысить, я был бы тоже бесконечно счастлив, как ноль-ноль-ноль от всего человечества и тех разумных существ, которые обитают в безднах вселенной. Римма, прости! Очередной треп. И не по твоему адресу. Ты очень удачно остановилась как раз на самом пороге.
— То есть?
— «Мир» у тебя прозвучало размашисто, почти как «вселенная». Если это и в действительности было бы так, я перестал бы читать твои статьи.
— Володя, для меня «мир» — образ…
Поискала продолжение и сразу не нашла. Владимир не дождался, подверстал свои слова так, будто отодвинул Римму плечом:
— …пространства, населенного человеками. Ужасно умными, думающими, полными благородства и мало пьющими, с невероятным к.п.д., близким к единице. Точно? Риммочка, не обижайся! А между прочим, эти самые человеки очень часто и пьют и толкаются…
Под потолком, вразброс, погасло несколько лампочек, дальние углы погрузились в сумерки. Музыканты заиграли чарльстон. По зеленоватому пластику пола зашмыгали десятки подошв.
Владимир силой заставил Римму подняться, втащил ее в зыблющийся людской круговорот на пятачке перед эстрадой и между столиками. Танцевал он со страстью, фокуснически работая ногами. Скалил в простодушной улыбке крупные белые зубы, подмигивая Римме, и веселым баском помогал саксофонисту, когда тот ставил особенно остренькие «акцентики». Танцевал так, словно во всем кафе, кроме него и Риммы, не было никого, совершенно не обращая внимания на то, что кого-то ударил локтем, кого-то резко толкнул спиной, кому-то неожиданно и сильно дохнул прямо в лицо.
Оркестр поиграл недолго. Музыканты взглянули на часы. Раскрасневшийся и словно бы даже раздавшийся в плечах Владимир, как ледокол пробивая путь среди еще толпящихся пар, провел Римму к столику и заботливо усадил на место. Попенял Мариничу:
— А ты все сидишь со своей соломинкой…
Возле стола появилась молодая стройная официантка. Щеки у нее были бледные, на висках — мелкие капельки пота. Устало, но очень приветливо она улыбнулась. Предупредила, что через пятнадцать минут кафе прекращает работу, и попросила рассчитаться.
Владимир ответил такой же усталой улыбкой, небрежно вытащил из кармана брюк смятую в комок десятку, бросил на стол. Сказал девушке, как совершенно свой здесь человек:
— А скажите, Ларисочка, если в течение пяти минут вы нам успели бы подать еще по чашечке кофе, ваш к.п.д. повысился бы?
Лариса взяла деньги, отсчитала сдачу, опять улыбнулась. По обязанности, только губами.
— Хорошо, кофе сейчас принесу. А насчет к.п.д. я не поняла. Что вы этим хотели сказать?
— Ну, допустим, как это отразилось бы на выполнении плана всей «Андромеды»? И лично вашего плана? к.п.д. — коэффициент полезного действия.
— Три-то чашечки кофе? Ерунду вы говорите!
— Нет, а в принципе?
У Ларисы в глазах заблестели веселые, дружелюбные огоньки.
— Смешной вы всегда какой! Без шуток вы просто не можете. Если я и принесу, так только потому, что вы смешной.
Она собрала со стола лишнюю посуду, ушла. Владимир проводил ее внимательным, сочувственным взглядом.
— Вот тебе на! — сказал он. — Как раз иллюстрация к нашему разговору. Выходит, по логике, ее, а на деле мой к.п.д. сейчас увеличился. — Выбил пальцами короткую дробь на столешнице. — Замоталась сегодня Лариска, едва улыбнется, а то смеется всегда, звенит как колокольчик. Обаятельная девочка. Но, между прочим, эта девочка — уже мама. И сын у нее Евгений Ларисович. Как говорится, такова жизнь. Но, Риммочка, с этим чарльстоном я тебя перебил. Развивай свой образ мира, свое представление о к.п.д. человека.
Она заговорила не сразу. И как-то не очень охотно.
— Человек находится на работе положенные ему семь часов. Все там рассчитано по нормам и проверено опытом. И если человек, допустим, сумел выполнить план на двести процентов, мы восхищаемся: он полагающуюся от него долю внес в общее благополучие народа в двойном размере. Значит, по срокам он вдвое приближает и создание того, что мы называем материальной базой построения коммунизма…
Владимир ее перебил:
— Чем чаще повторяется какое-либо слово, тем меньшую силу воздействия оно имеет. Прости, Римма! Пожалуйста, продолжай, но если можно, в интересах убедительности, избегай служебно-возвышенных формул и слов.
— Коммунизм — не служебное слово. И не ложно-возвышенное. Оно такое, как хлеб, постоянное, — запротестовал Александр. — Как же нам и в наше время разговаривать, обходясь без этого слова?
— Одна из десяти ветхозаветных заповедей гласила: не произноси имени господа бога твоего всуе. Подобная этой заповедь не помешала бы и нам. О коммунизме проще надо, проще. От формул людей начинает тошнить, — быстро и повелительно проговорил Владимир. — Я только это имел в виду. Сам грешу формулами.
— Постараюсь, — сказала Римма, и в голосе у нее зазвенела неожиданная злость. — Так вот, когда человек не выгоняет свои двести процентов, в остальное время какой у него к.п.д.? Люди пьянствуют…
— Не все и не всегда пьянствуют, — вставил Владимир.
— …или режутся в карты, в козла…
— Не все и не всегда режутся в карты и в козла, — не меняя тона, сказал Владимир.
— …или просто бесцельно, по-обывательски проводят время или говорят друг другу возвышенные слова о любви, а потом по земле ходят усталые девочки-мамы с сыновьями Евгениями Ларисовичами…
— Не все обыватели. И не все девочки — мамы.
— Но я ведь и не обобщаю!
— Тогда не говори «люди», говори прямо — Володька Мухалатов или Сашка Маринич. А кстати, семь часов повышать производительность труда, а все остальное время повышать свой культурный уровень и укреплять здоровье регулярным сном — это уже почти птицефабрика, где куриц кормят по графику и по графику потом отрубают им головы. Нет ничего ужаснее однообразия, размеренного ритма! И нет ничего безрадостнее пути только в гору и в гору! Вальс прекрасная музыка, ты даже любишь гавоты, но, черт возьми, за сотни лет и прекрасная музыка надоедает своим, в конечном счете, однообразием. Все роки, твисты, я согласен, — музыкальная дрянь. Но они встряхивают своей неожиданностью, лавиной новых звуков и ритмов, после чего и вальс становится снова приятным. А в гору подолгу вышагивать лишь тогда хорошо, если можно затем и скатиться с нее. Вихрем, кубарем. На лыжах, на санках или на собственных ягодицах. И девочки-мамы не такие уж страдалицы, ни государство, ни общество их не отвергают, а любовь у них, несомненно, была. Пусть даже не возвышенная, а самая обыкновенная. И все-таки радостная! Нет, нет, к.п.д. человека измерять следует только по сумме всех его движений. И вверх, и вниз, и по горизонтали.
— Твой к.п.д. явно превышает к.п.д. Риммы. Ты совершенно не даешь ей говорить, — сказал Александр.
Владимир высунул язык, ударил по нему пальцем и молча поднял руки.
— Я вовсе не собиралась спорить, — сказала Римма, и злость еще больше ломала ей голос. — Но теперь я обязана вступить в спор. И для этого нам придется начать сначала, потому что разговор у нас чрезвычайно перекосился.
Лариса принесла кофе. Расставила чашечки, опять напомнила, что помещение закрывается. Владимир хитренько ей подмигнул:
— Это ты, Ларисочка, нам разговор перекосила.
— Что-о?
— Скажи, зачем мы сегодня пришли сюда?
Девушка устало передернула плечами, салфеткой смахнула на поднос крошки.
— Откуда я знаю? Попить, поесть, потанцевать и вообще провести время. Отдохнуть. Как и все.
— Правильно. Золотые слова. Именно: как и все.
— Не знаю только как у вас, — сказала Лариса, — а вот у меня, например, так лишнего времени совсем нет. Хоть бы в сутках было еще двадцать четыре часа. Дело всегда найдется.
— Вам очень трудно живется? — спросил Александр.
— Почему трудно? Как всем. Ничего не трудно. А только времени лишнего у меня нет. Так, чтобы убивать его как попало, лишь бы убить.
— Лариса, ты молодец, ты идеал, я тебя просто люблю, — сказал Владимир. — Понимаешь, без всяких шуток: люблю!
Она ушла, позванивая пустой посудой на подносе.
Еще какая-то часть фонариков погасла. Стало и вовсе сумеречно. Оборвалась музыка. Аккордеонисты и саксофонисты принялись бережно укладывать свои инструменты в футляры. Эстрада казалась теперь странно большой и просторной. Гуськом потянулись к выходу пары.
— Продолжай, Римма. На чем ты остановилась? — Владимир с интересом рассматривал кофе, осторожно помешивая ложечкой. — Не обращай внимания на гаснущие огни. Мы можем выйти отсюда и впотьмах и самыми последними.
Римма торопливо отпила несколько глотков и встала.
— Я уже все сказала. Даже наговорила много лишнего.
— Ты обиделась? И рассердилась? — Владимир оказался рядом с нею. Задел нечаянно ногою столик, и кофе выплеснулось, зазмеилось черным ручейком. — Ну, прости меня, Римма! Действительно, я совершенно не давал тебе говорить, без конца балаганил. Несчастье мое — язык. Завтра же отправлюсь к Склифосовскому и попрошу, чтобы его отрезали! Но я ведь знаю, и Сашка Маринич знает, о чем тебе хотелось поговорить. Правильно, человек должен быть прежде всего Человеком! Не в показателях выполнения плана его к.п.д., а в духовном устройстве, в чистоте и благородстве стремлений. Так ведь, Римма? Но и мы с Сашкой сегодня «перед лицом Москвы» пообещали следовать этому правилу, истреблять неблагородство у самых его нор, и ты присоединилась к нам. Давай же в открытую! Володька Мухалатов перешел границы, трепался так… и проявил пример неблагородства — руби его Зачем же так? Гордость, знаешь, это несовременно. На все следует смотреть проще. Ну позволь, я провожу. Ты ведь поедешь на свой двадцать третий километр?
— Да. Но провожать меня не нужно. Мне хочется побыть одной.
— Римма, — просительно сказал Владимир, — ты будешь совершенно одна, гарантирую, но я тебя все-таки провожу. Поверь, я не могу иначе. Никак не могу! — Он повернулся к Александру: — Слушай, Маринич, иди спать, что ли. Я с Риммой поеду на двадцать третий километр.
— Не надо, — сказала Римма.
— Надо! — сказал Владимир.
И повел ее под руку. Повел с той решительностью и свободной небрежностью, с какой он недавно пересекал на красный глазок светофора гудящую моторами, падающую на него улицу.
Глава четвертая Ну, знаете ли!..
Когда Иван Иванович Фендотов, директор завода, позвонил по внутреннему телефону Стрельцову и сказал, что им обоим нужно сейчас же поехать в госкомитет — приглашает Галина Викторовна, не называя темы предстоящего разговора, — Василий Алексеевич некоторое время тоскливо молчал, держа трубку на отлете и глядя в круглый глазок мембраны, как в дуло направленного на него пистолета. Фендотов там, у себя, отчаянно дул в микрофон, повторял с директивной настойчивостью:
— Алло! Алло! Василий Алексеевич! Вы меня слышите?
Стрельцов наконец отозвался, со вздохом, нехотя:
— Слышу, Иван Иванович, да вот ехать-то мне сейчас очень не в пору. Проверяю тут одну закавыку. Не могли бы вы съездить один? Тем более что у Лапик мы с вами были всего лишь во вторник.
— Василий Алексеевич, да господи! Ну и что же, что были во вторник? Начальство навещать почаще очень даже не вредно, в особенности когда оно не вызывает, а приглашает. Притом еще такое милое, как Галина Викторовна. Едемте! Она сказала: «Всего на пятнадцать минут».
И Стрельцов сдался.
Он понимал, что действительно, если приглашают, не поехать в госкомитет нельзя. И понимал логику Фендотова, да, собственно, не только Фендотова, — обычную деловую логику. Галина Викторова не ахти какое начальство, она только готовит бумаги, подписывают их другие, выше, Елена Даниловна Жмурова например. Но это же азбучная истина: как будет доложено, так чаще всего будет и подписано. Поэтому Галина Викторовна — сила. И временами, право же, не меньшая, чем сам председатель госкомитета Горин, не говоря уже о Елене Даниловне.
По штатному расписанию Лапик занимает не бог весть какую должность. Обиходно Галину Викторовну называют куратором. Фендотов, здороваясь с ней, говорит «наш фельдкуратор», ассоциируя это каким-то непонятным образом и с фельдмаршалом Кутузовым и с фельдкуратом Отто Кацем из «Похождений бравого солдата Швейка». Последнее сопоставление не в пользу Лапик, действительно очень милой женщины, но Галина Викторовна на фендотовский гибрид всегда отзывается простодушным смехом. Она и умна, и деликатна, и превосходно разбирается в искусстве, в литературе. Хохочет Галина Викторовна над «фельдкуратором» не потому, что это — броское и точное сравнение. Хохочет она над прошлепом Ивана Ивановича, вообще-то не лыком шитого, но в этом случае не потрудившегося проверить по первоисточнику свою уже немного склеротическую память — кто же такой был этот самый фельдкурат.
Стрельцов подбирал разрозненные листки своих заметок и расчетов, аккуратно подкладывая их один к другому и выравнивая по верхнему левому уголку. Это была отличительная черта его характера: поддерживать на рабочем столе идеальный порядок. Он не смог бы отлучиться из кабинета даже на пять минут и оставить там все, как было у него под рукой, зная, что и секретарша Евгения Михайловна абсолютно надежная и никому не позволит войти в пустой кабинет, защелкнет замок, а ключ возьмет; зная, что в бумагах нет ничего секретного. Просто сверх сил Василия Алексеевича было представить себе, что вот он куда-то уйдет, а после него словно бы отпечатаются грязные следы. Если ехал по железной дороге, то, прежде чем покинуть купе, он все в нем прибирал так, как не сумела бы сделать и самая заботливая проводница. Он не был скаредным, не трясся над каждой копейкой, но не терпел, чтобы в доме или в конторе, где угодно, в пустом помещении бесцельно горел огонь. Рука у него сама тянулась к выключателю, и он вслух или мысленно с удовольствием приговаривал: «Уходя, гаси свет!» Этот святой простоты шаблонный плакатик, налепленный повсюду в непарадных местах, Василий Алексеевич шутя приравнивал к сократовским изречениям, видел в нем глубокий философский смысл, один из главнейших постулатов человеческого поведения вообще.
Он не успел закончить сборы, как снова зазвонил внутренний телефон.
— Василий Алексеевич, голубчик, вы еще на месте? Я спускаюсь к машине. — В голосе Фендотова звучала томительная радость. Он тут же поспешил поделиться ею: — Сейчас мне Павел Никитич Дроздов подарил необыкновенную катушку для спиннинга. Самодельный автомат. Но что за автомат? Вот золотые руки! Вы послушайте. Он сам выбирает леску, сообразуясь с сопротивлением. Рыбы, конечно! Ваше дело, то есть мое дело, — только держать удилище в руках. И сачок наготове.
— Невероятно! — сказал Стрельцов, проверяя, при нем ли очки, авторучка и постоянный пропуск в госкомитет.
— Да нет, это еще не все, — живо отозвался Фендотов, — доскажу в пути. Ну, спускайтесь, голубчик!
А вот в этом, в какой-то наивной детскости своих увлечений, был весь Иван Иванович.
Трудно определить, насколько они мешали делу, может быть даже и совсем не мешали. Во всяком случае, не больше, чем другим людям другие увлечения. Человек не автомат, как «необыкновенная катушка» для спиннинга; он не в состоянии сматывать «леску», всегда точно определяя сопротивление; он может и оборвать леску и упустить крупную рыбу. Это очень досадно, и это все-таки свойственно человеку. Фендотов любил повторять свое присловье: «Никогда не ошибается только тот, кто никогда не ловит рыбы». Работа на заводе дополняла рыбалку, а рыбная ловля — работу на заводе. Фендотов мог самым неподдельным образом «запрыгать от радости» в служебном кабинете, получив вот такую «необыкновенную катушку», и мог безропотно покинуть самый жадный сазаний клев и умчаться в Москву, если этого вдруг потребовали бы интересы завода, даже не очень крупные интересы и даже в законный выходной день.
Иван Иванович стихийно, всей душой отдавался рыбалке, но, кстати, не был уж слишком умелым рыбаком. Если бы его раньше не задурманила именно эта страсть, он мог бы увлечься, допустим, футболом и орал бы и свистел на стадионе, как все завзятые болельщики, сам не будучи способен не только забить гол в ворота противника, но и вообще попасть ногой по мячу.
В машине Фендотов, захлебываясь от радости, объяснил Стрельцову, что Павел Никитич Дроздов придумал к своему автомату и еще совершенно удивительное приспособление. Как только определится, что блесну заглотнула крупная рыба, нажатием рычажка это приспособление отделяется от удилища, по леске сбегает в воду и хватает рыбу за голову сразу со всех сторон шестью крючками, зажимает как в клещи. Тут даже голубому киту вырваться невозможно, только бы сдюжила, не оборвалась леска.
— Не может быть! — вежливо удивлялся Стрельцов, весь еще погруженный в свои расчеты. Он знал: Иван Иваныч теперь до самого госкомитета будет пускать фейерверки в честь необыкновенного автомата и его молодого изобретателя. — Не может быть! Это же тогда не спиннинг, а какой-то аппарат точнейшей механики. Он или весит двадцать килограммов, или сломается на первом же забросе.
— Василий Алексеевич, это и в самом деле ювелирная работа, но прочность его вне сомнения, и весит он сущие пустяки. Да нам ли с вами удивляться! А мухалатовский аккумулятор? Черт знает какая способная пошла молодежь!
По рангу своему Фендотов сидел на переднем месте рядом с шофером, но беспрестанно поворачивался лицом к Стрельцову и сыпал, сыпал словами, как всегда, когда находился в приподнятом настроении. Тут уже для него не имело никакого значения, что говорит и говорит ли собеседник. Фендотов в таких случаях внимал лишь самому себе. Но видеть собеседника должен был обязательно.
Василия Алексеевича это нисколько не обижало. У кого нет своих странностей или слабостей в характере? Тем более что работается им вместе очень хорошо, Фендотов во всем добрый товарищ. И вообще Иван Иваныч ни капельки не чванлив, хотя имеет и весьма солидную производственную биографию, и высокое образование, и нешапочное знакомство «в верхах», и два ряда орденских колодок, которые, опять-таки не чванясь ими, он из глубочайшего почтения к правительственным наградам любит носить по праздникам.
Так всю дорогу до госкомитета Фендотов и провертелся на переднем сиденье, то и дело оглядываясь на Стрельцова и засыпая его вопросами, но ведя разговор по существу с самим собой.
Госкомитет размещался в новом здании и не был еще как следует обжит. Крепкий запах лака, масляной краски и скипидара заставлял Стрельцова чихать и гнал обильную слезу у Фендотова. Иван Иваныч прикладывал носовой платок к глазам и весело жаловался:
— Собачья старость наступает, Василий Алексеевич. Все время плачу теперь. На морозе, на ветру и в госкомитете.
С этого начался разговор и у «фельдкуратора» Галины Викторовны.
В ее комнате стояло еще два стола, тоже, как и всюду в госкомитете, новеньких, «модерных». Но Лапик занимала комнату одна. Все знали, что она упорно держит круговую оборону, не соглашаясь на соседство двоих курящих мужчин, связанных с нею общей работой. Но эти самые мужчины никак не собирались расставаться с никотинной отравой, а начальство, в свою очередь, не давало согласия на служебную чересполосицу в одном отделе. Галина Викторовна поэтому немного нервничала, чувствуя, что на таких позициях долго не продержаться, и мечтала лишь о том, как бы ей выговорить наиболее почетные и выгодные условия капитуляции.
— Плáчу при виде вас, наш дорогой фельдкуратор, плачу, — сказал Фендотов, отнимая от глаз платок, беря с осторожностью руку Галины Викторовны и церемонно ее целуя. — Плáчу, понимая ваше тревожное положение. И не рискую подать один вполне практический совет.
— Совет? И практический? В самом деле? Рискуйте!
По моде, лиловой помадой с каким-то даже синеватым оттенком, подкрашенные «под утопленницу» полные губы Галины Викторовны растянулись в просторной и влажной, тоже модной, улыбке. Почти незаметным движением головы она пригласила: «Садитесь».
Фендотов, небольшого роста, по-спортивному сухощавый, легко опустился в креслице на паучьих ножках. Стрельцов, более крупный и несколько уже погрузневший, с сомнением подвигал свое кресло, прежде чем сесть.
— Что поделаешь: немного консерватор, — сказал он и нерешительно заложил ногу на ногу. — Люблю устойчивую мебель.
— Ну, вы, положим, консерватор не только в отношении мебели, — отозвалась Галина Викторовна и опять по-модному улыбнулась. — Вы консерватор во всем, кроме лишь, может быть, новой техники. Тут, признаюсь, упрекнуть вас невозможно, вы — на уровне! — Ловкими, очень гибкими руками она поправила прическу, высокую, похожую на стожок свежевымолоченной соломы, повернулась к Фендотову: — Ну, какой же практический совет хотите вы мне подать?
— Чтобы не страдать от табачного дыма посторонних, вам надо начать курить самой!
Немного кокетничая, Лапик приподняла левую бровь.
— Ваш мудрый совет запатентован еще в девятнадцатом веке. На современном экспериментальном заводе можно бы придумать и что-либо пооригинальнее. Но, кстати сказать, Иван Иваныч, это потому уже не годится, что мы с мужем оба смертельно боимся рака. А судя по выступлениям печати, рак легких курильщикам гарантирован.
И разговор постепенно и надолго уклонился в проблемы рака, а заодно и в проблемы несовершенства медицины вообще. Каждый, подбрасывая по сучочку в костер разговора, вспомнил несколько случаев, когда врачи грубейшим образом ошибались, ставя диагноз, назначая лечение даже на операционном столе.
С оговоркой, что это, конечно, не типично, не характерно и совершенно не массовое явление, Галина Викторовна рассказала, что где-то когда-то одного мальчика будто бы собирались хоронить, а он, оказалось, находился всего лишь в летаргическом сне. Иван Иваныч махнул рукой пренебрежительно: «Чепуха! Если такое где-нибудь и могло случиться, так врачи-то здесь уж, во всяком разе, ни при чем». Лапик охотно с ним согласилась: «Ну разумеется!» И принялась нахваливать новые препараты, волшебно снижающие кровяное давление. Их пока еще в открытой продаже нет, но в лабораториях, где они синтезированы, достать через хороших друзей все-таки можно.
Стрельцову надоела эта бесцельная трата времени, он вышел из общего разговора и, полуприкрыв глаза ладонью, мысленно погрузился в те расчеты, которые остались у него замкнутыми в ящике стола. А в расчетах — тревожная закавыка…
— Василий Алексеевич заснул, — сообщила полушепотом Галина Викторовна, адресуясь к Фендотову, но так, чтобы услышал это и Стрельцов. — А может быть, он сочиняет стихи?
— Да, да, — подтвердил Василий Алексеевич, внутренне досадуя, что разговор теперь обязательно перейдет на поэзию и до существа дела, ради которого их вызвали, то есть пригласили сюда, они доберутся еще очень не скоро. — Да, знаете, Галина Викторовна, вдруг совсем импульсивно, у меня родились такие строчки: «Смежая веки, вижу я острей. Открыв глаза, гляжу, не замечая». А дальше, как говорится, рифму заело. Вертится что-то такое, совсем несуразное: «острей» — «хитрей»…
— «Хитрей», «хитрей»… Не очень-то хитро, Василий Алексеевич! Не мистифицируйте, меня вы не проведете. — Галина Викторовна ладошкой ударила так, словно бы прихлопнула на столе кузнечика. — Это же Шекспир! Из сонетов Шекспира. Вот так! Правильно?
Смежая веки, вижу я острей. Открыв глаза, гляжу не замечая. Но светел темный взгляд моих очей, Когда во сне к тебе их обращаю.Стрельцов потрясенно развел руками. Он знал, что Лапик очень начитанна в поэзии, но это… Это уже дело чистого случая! Картежники называют: дать в масть партнеру.
Страх как неловко и неладно получилось. Он покраснел и начал извиняться.
Фендотов плавился в счастливой улыбке: «Ай да Галина Викторовна!»
При любых с нею разговорах, когда Стрельцов оказывался третьим, Иван Иваныч подчеркнуто становится на сторону Галины Викторовны. Маленькая тактическая хитрость. Любой женщине приятно не обороняться, а нападать, имея при этом еще и могущественного союзника. Приятное настроение от пустой болтовни потом само по себе, незаметно распространится и на деловой разговор, принесет какие-то выгоды. Стрельцов же на эту игру не обидится. И хотя Василий Алексеевич любит всегда брать быка сразу за рога, он тоже ведь понимает, что Галина Викторовна совсем-совсем не бык и взять ее за рога попросту невозможно. Приходится говорить и о поэзии.
Фендотов между тем расспрашивал Лапик, кто больше всего ей нравится из современных поэтов.
— О фамилиях после, — ответила Галина Викторовна, — сначала вообще о поэтах. В моем восприятии, они проверяются прежде всего своим отношением к женщине. Я ненавижу поэтов, у которых женщины только целуются. Но я отвергаю и поэзию, в которой о женщине говорится лишь как о равноправном с мужчиной человеке. Ну, спутник жизни, друг, товарищ в борьбе, все это верно. Но коли сама природа нашла необходимость создать раздельно мужчину и женщину и женщину наделить, как вы там ни хотите, большей красотой, привлекательностью, изяществом движений, мягкостью голоса, отзывчивостью сердца…
— О любви, о любви не забудьте, Галина Викторовна, — торопливо подсказал ей Фендотов.
Лапик посмотрела на него укоризненно:
— Разумеется! Это наиглавнейшее, но об этом попозднее, особо. Итак… Коли сама природа отдала женщине все лучшее, поэзия, которой положено разговаривать с читателем прежде всего языком чувства, — поэзия должна возвеличивать женщину, восхищаться ею. Нет, нет, я не кокетничаю, говорю совершенно серьезно. Кто из поэтов делает это? Назовите, пожалуйста, мне поэта, который не только в строчках своих стихов — они могут быть и ремесленными, — а всей жизнью, поведением, строем мыслей доказал бы, что он высоко, высочайше чтит женщину? Да, с большой буквы — Женщину!
— Надо позвонить в Союз писателей, — сказал Фендотов — проверить личные дела поэтов.
— И Пушкин и Лермонтов в конечном счете пренебрегли собственными жизнями и были убиты, защищая честь женщины, — задумчиво проговорил Стрельцов.
— Ну, это примеры неточные и из времен давно минувших, — протянула Галина Викторовна.
Фендотов тотчас к ней присоединился. Легко вскочил с креслица, сделал маленький круг по комнате.
— Пушкин и Лермонтов убиты самодержавием, — наставительно сказал он. — Женщины в их судьбах — только декорация трагедийных спектаклей, поставленных венценосными негодяями. Галина Викторовна совершенно права: где тот поэт, который… — И безнадежно махнул рукой. — Поэзия нынче — это прежде всего проза — пишущая машинка, договор, аванс и прочее. Не станет нынче никакой, даже сверхпоэт, стреляться на дуэли или дома пускать себе пулю в лоб во имя Женщины, в защиту Женщины!
— В защиту женской чести? — уточнил Стрельцов.
— Да чего угодно! Тем более чести, — опять махнул рукой. — Чести! Да вы первый, Василий Алексеевич, ради этой самой чести, вы застрелились бы?
Василий Алексеевич пожал плечами:
— Знаю, это весьма несовременно.
— И глупо! — выкрикнул Фендотов. — Прежде всего глупо!
— Тоже знаю. И все-таки женскую честь я выделяю особо, — продолжил Стрельцов, не смущаясь ни грубоватой репликой Фендотова, ни тоненькой, иронической улыбкой Лапик. — В моем понимании женская честь — это такая нравственная величина, ради сбережения которой, смотря по обстоятельствам, мужчина должен вести себя как Мужчина. Не исключая и пули.
Галина Викторовна снова прихлопнула ладошкой кузнечика.
— Какой неожиданной стороной вы раскрылись, Василий Алексеевич! Вы просто рыцарь!
— Гидальго Дон-Кихот Ламанчский, — ей в тон прибавил Иван Иванович.
— Да, я, пожалуй, в этом действительно немного Дон-Кихот, — сказал Стрельцов. Поморщился, украдкой взглянув на часы. — Но это у меня врожденное и никак не проходит.
— Уже во времена Сервантеса женщина не нуждалась в рыцарях и могла, если хотела, постоять за себя, за свою честь, — поучающе заметила Галина Викторовна. — Оттого появился и бессмертный роман Сервантеса, оттого и бедняге Дон-Кихоту доставались бесчисленные тумаки и шишки. Он сражался с призраками, увы, во имя таких же призраков.
— Сражался с призраками, а получал вполне реальные, земные оплеухи, — сказал Иван Иванович. — Теперь же если бьют, так бьют еще сильнее. Современному Дон-Кихоту выезжать на поле брани следует в танке, не менее. Так ведь, Галина Викторовна?
— Да, но я хотела сказать еще, что в наше время даже самое бескорыстнейшее донкихотство по отношению к женщине встретит наиболее жестокий отпор именно со стороны самих женщин. В наше время оно не возвышает, а, наоборот, принижает женщину. Не выезжайте против призраков даже в танке. И продайте своего Росинанта, дорогой Василий Алексеевич, пока еще не поздно.
— Может быть, за его шкуру все-таки хоть что-нибудь да выручите, — присоединился Иван Иваныч.
— Какого же тогда восхищения женщиной ждете вы от поэтов? — недоумевая, спросил Стрельцов. Надел очки и снова снял. — Вы даже, как я понимаю, осмеиваете чистый смысл — а не какую-то там пошлую трактовку! — самого слова «рыцарство».
— Средневековое рыцарство умерло навсегда, как стиль ампир или барокко в архитектуре. Нас восхищают и радуют теперь простые геометрические линии, только они создают и действительную красоту современного здания и позволяют строить так, что человеку удобно жить в новом доме. Не нужно нам рыцарство, нужна простота. Но простота, подобная дому-столбу из бетона, стекла и алюминия. Восхищаться женщиной подлинный поэт должен так, как замирает, допустим, архитектор перед дивным творением Оскара Нимейера — городом Бразилиа. Для наших дней — не улыбайтесь — это пока эталон, каким был Акрополь для античной эпохи…
— Кажется, сегодня впервые я очень доволен, что я не женщина, — невнятно проговорил Стрельцов, совершенно подавленный бесплодной потерей времени.
Но Галина Викторовна расслышала.
— Пожалуйста! И где же ваше рыцарство? Вот видите, как я права!
— Простите! — сказал Стрельцов, понимая, что слова, им только что произнесенные, чрезвычайно больно укололи Галину Викторовну и что она ему эти слова не скоро простит.
— «Рыцарство»… — усмехнулась Лапик уже совсем обыкновенной, не модной улыбкой. — Если хотите, Василий Алексеевич, достойным образцом современного мужчины-рыцаря я назвала бы вашего Мухалатова. Он удивительно прям и прост. Даже известная его грубоватость, — Лапик нажала на слово «его», как бы противопоставляя стрельцовской грубости, — его грубоватость для женщины ни капельки не обидна. Если вернуться к образцам архитектуры, Мухалатов — новый дом из бетона, стекла и алюминия, без лишних завитушек, — взгляд на Стрельцова, — без лишних завитушек, весь из простых геометрических линий, но чрезвычайно светлый, просторный, удобный для жилья. Женщине с Мухалатовым…
Открылась дверь, в комнату вошла Елена Даниловна Жмурова, начальник главного управления и начальник над Галиной Викторовной.
В госкомитете все побаивались Жмурову. Подчиненные потому, что была она предельно строга и требовательна, терпеть не могла расхлябанности и неисполнительности. Равные ей по положению — потому, что на партийных собраниях или на заседаниях госкомитета Елена Даниловна рубила правду напрямую, всем говорила «ты», невзирая на лица, и если в ее присутствии разбирался чей-либо служебный промах, виновник его заранее мог считать себя печальным героем партийного или административного решения. Даже сам председатель госкомитета Федор Ильич Горин полушутя говаривал: «Елена Даниловна, вы уж, в случае чего, меня полегче как-нибудь. Боюсь — стенокардия…» Жмурова на это сухо отзывалась: «У меня тоже стенокардия, и волноваться во время выступлений мне запрещено. Так что же — смотреть на все сквозь пальцы? Или на больничном листке сидеть прикажешь?»
Она не любила шуток, не любила праздности, не признавала никаких объективных причин и побочных обстоятельств. Было известно, что однажды, допустив не так-то уж и грубую ошибку в деле, она сама себе, в буквальном смысле слова, выхлопотала строгий выговор. Где же тут потом было спорить с Евгенией Даниловной и рассчитывать на ее снисходительность!
Внешность Жмуровой тоже не слишком-то располагала к идиллическим с ней разговорам. Глубокого пенсионного возраста, Елена Даниловна была худа, угловата в плечах, с плоской грудью и той абсолютной сединой в волосах, которая носит уже слегка зеленоватый оттенок. Сухим, угловатым было и лицо Жмуровой. Резко очерченный большой нос казался перехваченным ниткой недалеко от кончика. Голос отрывистый и глуховатый, как у всех завзятых курильщиц.
В семейной жизни, когда-то еще в цветущих своих годах, Елена Даниловна «обожглась» и с тех пор потеряла интерес к мужчинам, не скрывая, что считает их всех сделанными на одну колодку. Очень плохую колодку! Но вместе с тем утверждала, что если и разбиваются всякие там любовные лодки, то в этом единственно виноватой бывает именно женщина: не на той лодочке, не по той реке и не к тому берегу поплыла. Руль-то ведь всегда у нее, а мужчина только так — на веслах.
Жмурова вошла, и все дружно встали. Даже Лапик, сразу как-то растерявшись, хотя по любым правилам служебного этикета ей вставать бы и не следовало. Елена Даниловна быстро, толчками, каждому подала руку. Сказала на всех одно «здравствуйте» и тут же приступила к делу:
— Ага! И они здесь. Кстати. Ты, Галина Викторовна, уже договорилась с ними?
— Да… В общем — да… Они согласны… — Лапик покраснела, страдающе бросила быстрый взгляд на Фендотова.
— Да… В общем — да, — выручая Галину Викторовну, Фендотов смог повторить лишь только эту формулировку.
— Молодцы, — одобрительно сказала Жмурова. — Не стали ломаться. Правильно поняли обстановку. Любое крупное открытие, изобретение и запоминается и звучит лучше, когда оно связано с определенным именем. Тормоз Матросова, котел Шухова, свечение Черенкова… Не будь у них предшественников и помощников, они бы тоже вряд ли вышли в гении. Играет целый самый первоклассный оркестр, а в афишах называют все-таки имя одно — дирижера. Пусть ваша новинка тоже так и зовется: «аккумулятор Мухалатова». Тем более что мы решили патентовать его за границей. А там любят человеческие имена, а не заводские аббревиатуры. Документ подготовлен?
— Да… да… — сказал Фендотов, чувствуя на себе все тот же страдающий взгляд Галины Викторовны. — Мы в принципе с товарищем Лапик обо всем уже переговорили. Но мне хотелось бы еще немного посоветоваться с Василием Алексеевичем. Вы позволите?
— Ну, вот это называется — «договорились»! — уже слегка сердясь, ответила Жмурова. — Советуйтесь. Да сразу, при мне. И так вы это дело достаточно затянули.
Стрельцов мотнул головой, как конь, которого хозяин вдруг ни с того ни с сего хлестнул поводом по морде. Он никак не мог привыкнуть к жесткой безапелляционности Жмуровой. «Позвольте, — захотелось крикнуть ему, — да я сейчас лишь впервые слышу об этом!» Но Фендотов не дал ему выговорить ни слова, подтолкнул локотком, дескать: «Да ты пойми, с нас как с гуся вода, а Галина Викторовна пострадать может. Потом разберемся». Поспешил сам:
— Признаюсь, Елена Даниловна, виноваты.
В конце концов какая беда от такого неопределенного признания? Зачем задираться там, где в этом нет никакой надобности? Зачем злить, раздражать начальство? И подводить милейшего «фельдкуратора» Галину Викторовну, которая, по-видимому, сперва забыла выполнить срочное поручение Жмуровой, а вызвав их сегодня именно для этого — заболталась…
— Ну что же вы не советуетесь? — Сердитость в голосе Жмуровой не прошла. — И что тут вообще неясного? Или сомнительного? Основная идея принадлежит Мухалатову, в работающий образец эту идею воплотил тоже главным образом он. И сам Мухалатов среди других — парень вполне приличный. Так ведь, Галина Викторовна? Ты все проверила?
— Безусловно! Отличный инженер, отличный человек. Знающий, открытый, прямой. Он много раз был у меня, подробно рассказывал, как у него возникла эта идея…
— Простите, и как же она возникла у Мухалатова? — не очень-то вежливо перебил Галину Викторовну Стрельцов. Сообщение Жмуровой и Лапик о том, что основная идея нового аккумулятора принадлежит Мухалатову, его ошеломило своей внезапностью.
— Н-ну… Архимед засунул руку в воду, Ньютон увидел падающее на землю яблоко, а Мухалатов потряс банку с горохом. Извините, вы что же, не знаете даже этого, Василий Алексеевич?
— А-а… Да… Нет, это я хорошо знаю, — сказал Стрельцов.
— Так в чем же тогда дело? — Еще на одну нотку сердитее спросила Жмурова. — Ты согласен? Или ты против? Ведь имя Мухалатова, присвоенное аккумулятору, не позорит тем самым ваш завод. Наоборот, в истории завода останется прекрасная страница с именем умного человека.
— Согласен полностью, — сказал Фендотов.
— А я не согласен, — вырвалось у Стрельцова. И снова, как конь, он мотнул головой. Он все еще не мог отделаться от щемящего чувства как-то враз захватившей его обиды и горечи.
— Что? — удивилась Жмурова. — Один согласен, другой не согласен. Это называется — «посоветовались»! Объясни, Стрельцов, свою позицию. Причина твоего несогласия?
— Причину позвольте не объяснять… Я… я возражаю… только в нравственных интересах Мухалатова.
— Причина! — потребовала Жмурова.
Стрельцов ладонью потер лоб.
— Ну, знаете ли! — сказала Жмурова. — Тогда предположим так: не в своих ли «нравственных» интересах?
И резко повернулась, пошла к двери.
Стало тихо. Всем было известно, что произнесенная сейчас Жмуровой фраза, да с обращением не запросто «знаешь ли», а церемонно «знаете ли» — крайняя степень выражения ею недовольства. Столь крайняя, после чего опасным становится любое продолжение разговора. Начни хоть что-нибудь теперь объяснять — «Ага, вывертываешься?». Большое понадобится время, чтобы Елена Даниловна забыла постыднейший, по ее мнению, для мужчины ответ: «Причину позвольте не объяснять…» Сомневаешься в чем — все равно руби напрямую! Не бывает такого, о чем нельзя рассказать. Личные достоинства Стрельцова в глазах Жмуровой упали до нуля.
— Фендотов и ты, Галина Викторовна, втолкуйте товарищу, что к чему, — сурово, через плечо сказала она от порога. — И оформляйте немедленно на Мухалатова все документы.
— Василий Алексеевич, да что же это вы? — чуть не плача и в то же время зло накинулась на Стрельцова Лапик. — Вот этого от вас уж никогда я не ожидала. Рыцарь!
И Фендотов, стремясь скорее погасить грозящий разгореться огонь, немедленно ее поддержал:
— Характера Елены Даниловны вы, что ли, не знаете? Если у вас серьезные возражения, так и сказать бы сразу. А если пустяк — зачем было тогда и высовываться? Не вижу ничего плохого в предложении госкомитета. Право, какие у вас возражения?
Стрельцов хмуро молчал, поглаживая подлокотник кресла.
— Возражений у меня нет никаких, — наконец сказал он.
— Ну, знаете ли!.. — совсем как Жмурова, воскликнула Галина Викторовна.
И, адресуясь за сочувствием к Фендотову, драматически развела руками.
Глава пятая Вы в блины влюблены
Хотя завод именовался экспериментальным и весь был в поисках наиболее прогрессивного, в его бухгалтерии особых технических новшеств не наблюдалось. Работало, правда, несколько счетно-клавишных машин. А в основном выполняли — и добросовестно выполняли — свои привычные обязанности испытанные в деле, немного трескучие арифмометры и еще более заслуженные деятели бухгалтерского искусства — обыкновенные конторские счеты.
Не было особой надобности заводить здесь большую механизацию. Объем вычислительной работы этого не требовал. Так же как и главный бухгалтер Андрей Семеныч, который резонно считал, что не следует покупать собственную автомашину для поездок из дому на службу тому, кому и пешего хода всего-то десять минут.
Александр Маринич, по праву бухгалтера расчетного отдела и недавнего выпускника финансово-экономического института, все же отвоевал себе персональный новенький арифмометр. Счеты ему полагались столь же автоматически, как и отгороженный фанерой закуток, именовавшийся кабинетом, и двухтумбовый стол с шестью выдвижными ящиками, и сейф для хранения наиболее важных и ценных документов. Которому из двух вычислительных устройств — арифмометру или счетам — отдать решительное предпочтение, он и сам не знал. Ошибки получались на любом из них. Но счеты и по весу были легче и оказывались обычно ближе всего под рукой.
Маринич сидел и, осторожно постукивая косточками, проверял кассовый журнал, «дневник». По самым строгим, хотя и неписаным правилам, делать это полагалось, сопоставляя итоги с остатками наличных денег, которые он тоже должен был лично пересчитывать в присутствии кассирши. Но кто же работает строго по правилам? Тем более когда правила содержат в себе оттенок определенного недоверия к должности человека, а личность этого человека не вызывает ни малейших сомнений.
И Маринич постепенно отступил вообще от всяких правил, стал принимать дневники от Лики Пахомовой, лишь когда она сама находила нужным эти дневники ему принести, обычно исписав с обеих сторон отрывной лист. Это случалось никак не чаще одного раза в неделю, а остатки кассовой наличности Маринич ходил снимать только в конце месяца. И то не брал в руки денежные купюры и звонкую монету, а просто заглядывал в распахнутый несгораемый шкаф, спрашивал: «Ну, все сходится?» Лика подтверждала, что все сходится, и Александр расписывался в кассовом журнале. Выше всего на свете он ставил доверие к человеку. Особенно к такому, как Лика Пахомова.
Ей шел двадцать второй год. Но в трудовой книжке было заполнено уже четыре страницы. Доставщица телеграмм, билетерша в кино, контролер на станциях метро, кондуктор на загородных автобусных линиях. Все увольнения по собственному желанию.
Другие графы в ее анкете при поступлении на работу в бухгалтерию экспериментального завода выглядели так. Образование — незаконченное среднее. В партии и комсомоле не состоит. Под судом и следствием не была. По семейному положению — незамужняя. Домашний адрес: Деревянно-Слободской переулок, 33, квартира 1. Телефона нет. На фотографии, приклеенной к личному листку, выделялись глаза узкого, как бы монгольского разреза. И еще — губы, сложенные печально. Во всем остальном это было совершенно обыкновенное девичье, немного сухощавое лицо, с обыкновенной гладкой прической и маленькими серьгами в ушах. Двойная, свисающая низка искусственных янтарных бус делала ее лицо еще более вытянутым.
Из автобиографии, уместившейся на одной стороне бумажного листа и написанной, к чести Лики, без существенных грамматических ошибок, можно было еще узнать, что живет она вместе с отцом Петром Никанорычем, матерью Верой Захаровной и тринадцатилетней сестренкой Евдокией. Отец — пенсионер, мать — домохозяйка. Сестра в школе не учится по болезни.
Почти к каждому из этих пунктов анкеты и автобиографии следовало бы сделать некоторые совершенно необходимые примечания. Или хотя бы одно на все пункты сразу, но главное: Пахомов Петр Никанорыч — закоренелый пьяница, алкоголик.
Оттого он и пенсионер, инвалид второй группы в возрасте только пятидесяти двух лет. Пенсию ему по нескольку раз назначали и вновь снимали и все же чудом каким-то в конце концов оставили, пожалев семью. Исключительно!
Оттого и у Лики образование незаконченное среднее, оттого и в комсомоле она не состоит и незамужняя. Хорошо еще, хоть под судом и следствием не была. А могла бы оказаться. Отец упорно заставлял ее пойти на такую работу, где через Ликины руки проходили бы деньги. «Не будь дурой, что-нибудь и прилипнет!» Но Лика боялась этого, предпочитала как раз не иметь никакого дела с деньгами. Меняла же она так часто место работы единственно потому, что сестренка Дуся появилась на свет уродиком, горбатая, косоглазая, с сердечной недостаточностью и восемь-девять месяцев в году лежала прикованная к постели, а мать временами совсем не могла за ней ухаживать, лежала сама, до полусмерти избитая мужем. Петр Никанорыч был не просто пьяница, а буйный, хулиганствующий пьяница.
Опять-таки по этой же причине и жили они в дряхлом деревянном доме, неизвестно в какие сроки предназначенном к сносу, а пока густо набитом клопами и черными тараканами, бороться с которыми можно было только сообща, но дружбы в их доме как раз и не было. К тому же почти все остальные жильцы состояли в близких уже очередях на получение новых, благоустроенных квартир. Петр Никанорыч в очередниках вообще не значился. Райсовет ему отказал. Да его, собственно, и не интересовали новые дома. Он привык к своей двери и своему порогу, к своим стенам с клопами и тараканами, привык к прошитому шпагатом ватному матрацу.
Пенсию, разумеется, Петр Никанорыч всю начисто пропивал. Брал контрибуцию с Лики и с жены, которая прирабатывала дома, сидя у постели Дуси, вязанием шерстяных кофточек и детских гарусных шапочек, незаконно сбываемых потом из-под полы. Не хватало и этого, он шел в пригородные поезда, вихляя кривыми ногами, тащился по вагонам и собирал довольно приличный медный урожай. А Лика носила одну и ту же кофту, связанную матерью, до тех пор, пока эта кофточка не расползалась совершенно. Зимнее пальтишко служило ей уже пятый год и было узким, тесным, коротким в рукавах.
Вот это все было за рамками Ликиной анкеты и автобиографии. И может быть, отражалось только в печально сложенных губах на маленькой фотографической карточке, приклеенной к анкете.
На завод ей устроиться помог Александр. Ехал как-то поздним загородным автобусом, почти пустым, и разговорился с кондукторшей. Немножечко дерзкой вначале и в то же время с каким-то очень усталым, отмеченным тяжелыми заботами лицом. «Сестренка больная, постельная, ухаживать некому. С завтрашнего дня увольняюсь. А когда и куда поступлю потом?» — доверительно ответила на вопрос Александра, чем она так озабочена. И Александр с такой же доверительностью дал ей служебный свой телефон и обещал поговорить с начальством насчет работы, когда в этом будет нужда. Лика сказала, что ей хотелось бы устроиться наконец на постоянное место и в тепло, очень она боится простуды.
Позвонила Лика уже через две недели, объяснила, что сестре немного полегчало, что мама теперь и одна управится с нею и что сама она готова бы выйти на работу хоть сейчас. Очень трудно без заработка.
Потом они встретились несколько раз, и Лика ничего не скрыла от Александра, рассказала ему про всю свою горькую долю.
Маринич вскипел. Тут же отправился к ним на квартиру, застал Ликиного отца в сравнительно трезвом еще состоянии и припугнул его всем, что только пришло в голову: и милицией, и прокурором, и судом, и высылкой из Москвы. Наконец, видя, что для пьянчужки эти грозные слова и понятия — звук пустой, что пуган этим он уже, наверно, десятки раз и без толку, Александр мрачно, чеканя каждый слог, объявил ему: «Или займусь вами лично я». Категоричность заявления Маринича произвела впечатление, Петр Никанорыч вдруг подобрался: «Так я что же… Ну, не будем больше, если так…»
И кто знает, может быть, именно тогда впервые со всей отчетливостью шевельнулась у Александра мысль посвятить свою жизнь борьбе за справедливость, борьбе против всяческого негодяйства, а после — по-герценовски, вместе с Владимиром Мухалатовым, присягнуть в этом «перед лицом Москвы».
Главбух Андрей Семеныч долго чесал в затылке, не зная, что ответить на настойчивые просьбы Александра. Кандидатура-то предлагается с очень уж малым весом, опыта счетной работы совсем нет никакого. Но он был человек с добрым сердцем и все-таки согласился взять Лику. Картотетчицей с месячным испытательным сроком.
Выдержала она этот срок хорошо. А потом, когда штатная кассирша ушла в декретный отпуск, Александр убедил главбуха временно перевести на эту должность Лику. Работая кондуктором автобуса, она уже имела дело с деньгами. И все же хотя четыре-пять месяцев станет получать зарплату побольше, для нее это очень существенно.
Лика оправдала и новое назначение. Маринич гордился.
Сейчас она сидела напротив Маринича и вдохновенно наблюдала, как он передвигает косточки счетов по медным проволокам. Следила не только за косточками, сколько за движениями пальцев Александра. Он это чувствовал и оттого еще больше терял уверенность в правильности своих подсчетов. Когда его итоги не совпадали с выведенными в кассовом дневнике рукой Лики, Александр все равно сбрасывал косточки и вполголоса говорил: «Правильно!» Он знал — Лика не ошибется, Лика не подведет.
Был последний день месяца, и полагалось обревизовать кассу. По книге остаток наличности значился совсем небольшой. На последний день месяца, чтобы не портить качество баланса и не объясняться перед госбанком, старались не иметь в кассе значительных сумм. И за этим, по собственной инициативе, тоже следила Лика. К концу месяца она принимала подписанные чеки с осторожностью, расспрашивала Александра: «А успеем истратить наличные?» — и если это не удавалось сделать, брала от него распоряжение и тут же сдавала лишние деньги в банк. Такой дотошностью, несмотря на свой большой стаж, не обладала ушедшая в декрет кассирша. И Маринич уже несколько раз намекал главбуху Андрею Семенычу, что не худо было бы Пахомову вообще оставить на этой должности, а ту кассиршу «потом» перевести на картотеку.
— Семь рублей шестнадцать копеек… Молодец, Лика! — похвалил Маринич девушку, завершая подсчеты. — Опять красивый будет у нас по этому счету баланс. Так бы и по всем позициям.
— Подотчетники мучают, тянут? — вздохнула Лика. Она знала и это. — А кассу, Саша, пойдете снимать?
Он отказался. Зачем же? Такие пустяки: семь рублей… И вообще он полностью ей доверяет. Взял авторучку и расчеркнулся в журнале. Но Лика все равно не уходила. Сидела и смотрела, как Александр взялся за какую-то другую работу, как снова забегала его рука над счетами, перебрасывая желтенькие косточки. Ей почему-то очень нравилось глядеть на руки Маринича.
— Можно?
Вошел Власенков, один из младших сотрудников лаборатории, которой заведовал Мухалатов. Он ездил в Ленинград добывать какие-то особенные приборы. На его командировочном удостоверении размашистым почерком Мухалатова было написано: «Задание выполнено. Прошу командировку продлить». И ниже резолюция Фендотова: «Командировка продлена до 29 мая».
На ловца и зверь бежит: явился подотчетник. Очень хорошо, вовремя. Александр повертел командировочное удостоверение, железнодорожные билеты, счет гостиницы, пришитые нитками к заполненному бланку авансового отчета. Все в полном порядке.
— Спасибо, товарищ Власенков! — сказал он. И принялся тут же проверять правильность расчетов по начислению суточных и квартирных. — Да вы садитесь. Понравился Ленинград? Хороший город! А чего это вам к шести дням еще шесть дней добавили?
— Город хороший, да посмотреть на него и за двенадцать-то дней было некогда, носился как черт из конца в конец. Ломал рогатки, давил из бюрократов цикорию. Издержался: такси, ресторан, за гостиницу платил в сутки три рубля, а вы только по рубль восемьдесят две принимаете. Грабеж все-таки это, товарищи бухгалтера! — сердито сказал Власенков. И крупные, толстые губы у него презрительно перекосились. — Теперь на полмесяца, по существу, остался я без зарплаты. Вам-то что: дебет-кредит, будь здоров!
— Ничего не поделаешь, для всех так, такая норма. Это не от нас, от Министерства финансов зависит, — не обращая внимания на грубый тон Власенкова и как бы извиняясь перед ним, сказал Маринич.
Он привык уже, что чуть ли не каждый подотчетник, возвращаясь из командировки, ругает его самыми злыми словами. И все за неполную оплату гостиниц, за неоплату постельного белья в мягком вагоне, комиссионных при покупке билета в кассах городских станций. Действительно, почему это так? Почему, если разрешен проезд в мягком вагоне, человек должен спать в нем без простынь и одеяла? Почему человек должен покупать билет на вокзале за несколько часов до отхода поезда, рискуя вообще не попасть на него? Или — плати, плати свои денежки.
— Законники! — между тем продолжал издеваться Власенков. — Самих бы вас погонять по командировкам…
У Маринича зачесался язык ответить Власенкову такой же грубостью, но он все же сдержал себя. Нет ничего более унизительного, как ввязываться в перебранку с горлопанами. Никакой логикой их не убедишь, а тем более не перекричишь. Есть у них еще и такой испытанный прием. Вдруг остановиться и убивающе-тихим голосом строго спросить: «Да вы что на меня орете? Хулиган!» И как на это ответишь…
Маринич стиснул зубы. Пусть, пусть изливается, а он, бухгалтер, обязан делать то, что по службе ему делать положено. Уже не чувствуя прежнего расположения к Власенкову, он молча закончил проверку и так же молча выписал ордер.
— Вот возьмите. У вас перерасход двадцать три рубля сорок две копейки. Но я выписал этот ордер завтрашним числом. Сегодня у нас в кассе нет такой суммы.
Власенков сострадательно покачал головой. Сказал убивающе-тихо:
— Интересно, за что вы зарплату получаете?
Лика вдруг оскалила зубки, словно собираясь куснуть Власенкова, и выдохнула со свирепостью, которой обзавелась, работая кондуктором автобуса на трудных линиях:
— Вот хам!
Маринич протестующе поднял руку. Власенков с угрозой повернулся к девушке. Но в этот момент взгляд Маринича нечаянно упал на документы, приложенные к авансовому отчету, и в какой-то игре света он явственно различил, что счет на оплату гостиницы очень ловко подчищен, исправлены цифры, сумма прописью и вместо 23 мая подведено — из тройки девятка — 29 мая.
В сравнительно короткой еще бухгалтерской практике иметь дело с подложными документами Мариничу не приходилось. Он густо покраснел, не веря даже сам себе, своим глазам и не зная, как ему поступить.
— Слушайте… товарищ Власенков… — сказал в растерянности. — Верните ордер… Тут у вас…
— Что у меня? — голос Власенкова зазвенел металлически.
— Под… чистка… Вот…
Власенков как-то расслабленно уронил толстую нижнюю губу. И тут же овладел собой. Потянулся к отчету. Но Маринич успел придавить бумаги своей рукой. Теперь он был уже уверен.
— Подделка, — сказал он тверже. — Вы подделали счет гостиницы. И выехали из Ленинграда не двадцать девятого, а двадцать третьего. А продление командировки получили обманом.
— Ах, вот как! — И без того широкий в плечах, крупный Власенков стал словно бы и еще крупнее. Вдруг перешел на «ты»: — Как точно ты все это знаешь! Ты ездил вместе со мной?
— Я вижу…
— Дубина! — Он снова сделал попытку завладеть документами. И безуспешно. У него в горле клокотала злость. — Дубина! Ты посмотри не… а глазами на компостер билета — увидишь, когда я приехал. Счет! В гостинице его не захотели переписывать. За оскорбление я тебя еще к ответственности привлеку. Дай документы! Ну! Покажу их Мухалатову, Фендотову…
— Я сам покажу кому надо, — теперь уже совершенно твердо сказал Маринич. И сразу же опять заколебался, рассматривая железнодорожный билет. — Компостер… двадцать девятое…
— Вот то-то же! — удовлетворенно проговорил Власенков и несколько притушил металл в голосе. — Поосторожней надо быть на поворотах.
— Так, а билеты — что? Пойдите на вокзал к поезду, у приезжающих сколько хотите ненужных им билетов выпросить можно, — вмешалась Лика. И снова зло оскалила зубки, словно собираясь куснуть Власенкова.
Тот неожиданно расхохотался. Никакого металла в голосе у него уже не было. Заговорил, как бы посмеиваясь над собой:
— Вот черт! Выходит, я поддурил Фендотова, Мухалатова, а сам эти шесть дней провалялся на постели дома, в Москве. Хитер мужик я, оказывается. — И махнул брезгливо рукой. — Да ну вас к лешему! Не платите хоть и вовсе ничего. Переживу. Пользуйтесь! Пользуйтесь!
Он швырнул ордер на стол. И тут же, пользуясь замешательством Маринича, очень ловко выхватил из-под руки у него авансовый отчет. Быстро-быстро изорвал вместе с документами в мелкие клочки и засунул их в карман пиджака.
— Вот так! Не платить — так не платить уж и совсем ничего. Подавитесь! Черт с вами!
И грузно зашагал к двери, прямо и гордо неся голову. Лика вслед ему зашипела:
— Ну и гусь!
— Гуси подделкой документов не занимаются, — сказал Маринич. — Лика, не обижайте гусей.
— За двадцатку и на такую подлость пошел! Саша, а теперь, раз отчет он не сдал, так с него ведь и аванс взыскивать надо? Дурак! Погорел на свои кровные полсотни.
— Он погорел больше, чем на полсотни. За подделку документов он будет отвечать в уголовном порядке!
— Вы не простите ему? — уже немного испуганно спросила Лика.
— Не прощу! Не могу простить, — твердо сказал Александр.
Обещание, данное «перед лицом Москвы», обязывало к этому.
Руки его подрагивали от волнения, так неожиданно разыгралась эта безобразная история. На душе было невыносимо противно. Оказывается, поймать на маленьком, грязном деле подлеца — радость совсем небольшая. Черт! И нужна же была этому Власенкову какая-то несчастная двадцатка!..
Занятый одной этой мыслью, Александр достал из сейфа, стоящего у него за спиной, готовый подписанный чек и отдал Лике, сделав пометку на обложке чековой книжки.
— Завтра получишь. Две тысячи. Тут отпускные Дроздову и Петровскому. А еще — оплатишь вот эту ведомость на выдачу премиальных.
Он рассеянно простучал ее на счетах раз и другой и вывел под жирной чертой итог ведомости: 1171 рубль. Повторил его прописью.
Лика взяла документы. Ушла с явной неохотой, словно бы ожидая, что Маринич ее остановит, вернет и можно будет с ним еще поговорить.
Вскоре зазвонил внутренний телефон. Маринич снял трубку. Услышал немного ленивый голос Мухалатова:
— Слушай, Сашка, ну что ты там к Власенкову придрался? Все ведь было оформлено правильно. А по существу и тем более — правильно.
— Ого! Да у него подлог. Подделка! — закричал Александр. — И порядок требует…
— А это порядок, — с той же ленивой тягучестью перебил Мухалатов, — это порядок, когда человек по служебной необходимости вынужден по Ленинграду из конца в конец гонять на такси, а ты ему фигу?
— Ему — суточные…
— Ты прокормись на эти суточные! Он платит за номер в гостинице трешку, а ты ему — рубль восемьдесят. Это порядок?
— Так по норме. Для всех.
— Слушай! Ну что ты равняешь Власенкова, скажем, с Фендотовым? «Норма для всех». А зарплата его и зарплата Фендотова? У мужика семья. Надо же понимать. Потом, если бы это, скажем, приписка за невыполненную работу — согласен: обман! А здесь совершенно законное и честное возмещение того, что человеком в действительности израсходовано.
— «Законное»! Это уголовщина! Володя, я тебя не понимаю, ты смеешься или… — От волнения у Александра перехватывало в горле, он запинался. — Ты же сам… ты сам… на Ленинских горах… ты помнишь, говорил… обещал… бороться со всякими гадами…
— Да ты хоть гадом Власенкова не называй! — Мухалатов заговорил басом. — Гадов действительно давить надо. И я их буду давить! А создавать из честных людей уголовников — это как раз на пользу гадам.
— Честные люди подделкой документов не занимаются.
— Заладил! Ну, виноват мужик — с тобой заранее не посоветовался, как лучше сделать. Так подскажи ему, найди свой способ компенсации. На то ты и бухгалтер. А ты уж с места в карьер: подлог, уголовщина, караул, ограбили государство! Еще в прокуратуру сообщить догадки хватит?
— Обязательно!
Трубка отозвалась частыми, короткими гудками.
До самого конца рабочего дня Маринич уже не мог сосредоточиться. Писал — и делал грамматические ошибки. Считал — и получались все время разные итоги. Брался за арифмометр — и умножал вместо деления. Пробовал сам вызывать по телефону Мухалатова, надо же до конца, по-дружески, с ним объясниться, — Владимир не отвечал. Заглянул в кабинет к главбуху — и Андрея Семеныча на месте не было.
Надо ли сразу же готовить бумагу в прокуратуру? Или, может быть, пока только докладную Фендотову? Или просто рассказать обо всем секретарю партбюро? Власенков — беспартийный…
С кем бы посоветоваться?
В ушах еще звучал возмущенный голос Владимира. Вообще-то он умница, и в словах его доля истины есть. Власенков собственных денег, конечно, израсходовал больше, чем полагается ему получить по нормам. Но нельзя же подделывать документы! И не он один, все командированные получают по этим нормам.
Если верить Мухалатову, Власенков порядочен в высшей степени. Вдруг это действительно лишь необдуманно глупый поступок честного человека? А поднять сразу шум — значит неизбежно испортить ему «биографию». С кем попало начинать разговор об этой истории никак нельзя. Да-а… Вот загадана загадка!
Спросить бы совета у матери. Она вдумчивая, рассудительная. И справедливая. Но сегодня она на дежурстве в больнице и не вернется домой даже к началу завтрашнего рабочего дня. Можно ли отложить это дело или следует ковать железо, пока горячо?
Так, ничего не решив, Александр просидел до конца занятий в конторе. У проходной он встретился с Ликой. Это повторялось давно уже, каждый день. Похоже было, что девушка нарочно здесь его поджидает. И хотя на дню они видели друг друга по многу раз, Лика всегда встречала Александра широкой улыбкой.
— Вы домой, Саша? — спросила она. И тут же отвела взгляд в сторону, прикусила губу. Иначе как погасить улыбку?
— Вообще домой. Но сперва надо зайти в столовую, пообедать. Мама сегодня на дежурстве. Хочешь составить компанию?
— Хочу, — немедленно сказала Лика.
И снова принялась гасить улыбку. Ни разу еще Маринич не приглашал ее пообедать с ним вместе.
В столовой они уселись в уголок, и два места остались пока еще, как нарочно, незанятыми. Официантка не спешила подойти. Лика уперлась локотками в стол, положила подбородок на раскрытые ладони и стала молча смотреть на руки Александра. Он это заметил, и ему сделалось как-то неловко, не по себе. Руки у него как руки. Что она всегда находит в них интересного?
А Лика сидела, чуть раскачиваясь из стороны в сторону, щурила и без того узкие глаза с подкрашенными ресничками и все улыбалась. Теперь уже совсем не Александру — самой себе, какому-то своему, известному только ей одной счастью.
А Мариничу вдруг вспомнилось кафе «Андромеда», коктейль с пломбиром, фонарики, сумеречно горящие под потолком, саксофон, гудящий и подвывающий так, что под ложечкой становилось сладко. И Римма Стрельцова, о которой он подумал с легкой завистью к Владимиру: почему не успел или не сумел в нее влюбиться? А Римма тогда смотрела на Владимира точь-в-точь так, как смотрит сейчас на него Лика.
Александр схватил лежащее на столе меню.
— О, да сегодня блины! — закричал он. — Вот это здорово! Люблю! Закажем?
Лика сидела все такая же, внутренне счастливая, а ко всему остальному совсем безразличная. Александр угадывал — и не мог разгадать до конца, что это значит. Понимал — и не мог понять, что девушке просто очень приятно сейчас пообедать с ним за одним столом…
— Ты согласна на блины? Лика!
…и все, что он закажет для нее, — все будет вкусно.
— Лика! Ты слышишь: бли-ны! — повторял Александр, уже забавляясь глухотой Лики.
Она вернулась на землю. Сняла подбородок с распахнутых ладоней. Улыбнулась. Уже Александру, не себе.
— Вы в блины… влюблены, — сказала она.
И слезинка зазвучала в ее голосе от обиды, что ничего-то Александр не понимает. И прорвался немного нервный смешок оттого, что нечаянно получились у нее почти стихи. Глупые стихи. Такие, как чаще пишут на рекламных плакатах, чтобы люди читали и улыбались.
Но — может быть — и запоминали их.
Глава шестая Палка об одном конце
Утро вечера мудренее…
На этот раз пословица не оправдалась. Александр протомился всю ночь, а утром встал, по-прежнему не зная, что делать с Власенковым. Пустить все это, что называется, на самотек? Или начать немедленно же действовать? И если действовать — то каким образом?
Беда заключалась еще и в том, что он не мог сосредоточиться только на власенковской истории. В его сознание вплеталась теперь и другая забота.
Вчера, пообедав с Ликой, он предложил проводить ее до дому. Девушка охотно согласилась. Можно было ее и не спрашивать. Если бы он позвал ее на дно морское, Лика опустилась бы с готовностью и на дно морское. Полететь на Луну? И на Луну бы полетела.
Они ехали сперва в автобусе, потом в метро, потом на трамвае, в беспрестанной сутолоке людской, обычной к концу рабочего дня. Связного разговора у них не получалось. Но когда сошли с трамвая и побрели неторопливо пешком, пересекая наискосок тихий окраек Измайловского парка, слово за слово Лика поведала Александру, что в семье у них стало опять очень плохо. Притихший было на некоторое время, отец теперь снова пьет, буйствует, избивает маму. И все требует от них: денег, денег… А разве эту прорву когда-нибудь заполнишь?
Лика шла потупясь, стыдясь, что ей приходится такое неприглядное рассказывать о родном отце. А сдержаться уже не могла. Когда человеку больно, он кричит.
Александр держал ее холодные, тонкие пальцы в своей руке, ласково, ободряюще пожимал. Больно было и ему. Та душевная откровенность, с которой Лика делилась своим горем, захватывала и его, не позволяла оставаться безучастным.
Он принялся убеждать Лику, что ей следует бросить все это, уйти из дому, жить независимо. Лика печально качала головой: «А как же тогда мама? И сестренка? Нет, я не могу бросить их, я не такая…» Александр говорил, что надо тогда ей уйти вместе с матерью и сестрой. И Лика опять покачивала головой: «А куда уйдем, на какую жилплощадь? Да если бы и ушли, так папа все равно и там нас разыщет, станет снова жить вместе. Ему же деньги от нас нужны». Александр возмущался. Гнать его прочь! С милицией, наконец. Какой он родной человек, если жизни им не дает? Но Лика и тут не могла принять его советы: «Гнать… Будто испугается! В милицию мама пробовала заявлять. Там отвечают: «Нет у вас права запрещать ему жить со своей семьей. Отвлекайте сами его от бутылки. Вот уж если нахулиганит, сообщите, посадим суток на пятнадцать или оштрафуем». Посадят, так на нас он обозлится еще больше, а оштрафуют — нам же с мамой платить».
Не отступая, Александр говорил, что надо тогда Вере Захаровне попросту оформить развод. Пробовали, оказывается. Петр Никанорыч категорически отказался давать развод. Это же понятно! И в суде их тоже не поддержали. Отец на суд явился чистенький, выбритый, трезвый, выложил на стол свои документы инвалида-пенсионера и расплакался, обещал все уладить миром и по-хорошему…
Чем дальше забирался Александр в непроходимые дебри внутрисемейных отношений Пахомовых, тем отчаяннее представлялось ему положение Лики. Так вот и пролетят все ее молодые годы, без радостей, без тепла на сердце, без ясной цели — день прожит, и ладно. Чем же и как ей помочь?
Он нечаянно ударил Лику в самое больное место, мимоходом обронив, что вот, дескать, она выйдет замуж, и тогда все уладится. Лика сразу выдернула из его руки свои тонкие, так и не потеплевшие пальцы, воскликнула: «Да вы что, смеетесь? Как я замуж выйду? Маму тогда и сестренку вовсе на погибель оставить? А с собой такой хвост никому не приведешь, сама я и то никому не нужная».
И тогда Александр, вдохновясь, заявил, что он еще строже, чем в первый раз, припугнет ее отца. Не бросит все-таки Петр Никанорыч бесчинств своих — никто иной, он, Александр Маринич, возбудит против него уголовное дело. От имени общественности. Лика только лишь недоверчиво улыбнулась: при чем тут «общественность», когда их дело чисто семейное? Так всюду считают.
Петр Никанорыч был дома. Но припугнуть его Александру не удалось. Он бесчувственно-пьяный лежал на своем бражно-пропахшем матрасе и ни на слова, ни на довольно-таки крепкие толчки не отзывался. Лика стеснительно теребила Александра за рукав: «Не надо, Саша, не надо! Мы тут уж сами как-нибудь…» Вера Захаровна сидела у постели Дуси, тихо плакала. Она даже не отозвалась на приветствие Маринича, не повернулась в его сторону. Мало ли всяких любопытствующих людей к ним заходит…
Потом Лика показывала ему самый короткий путь к трамвайной остановке, через парк, по малохоженой тропе. Брела прижимаясь к его плечу, и рассеянно, думая совсем о другом, с какой-то отчаянной душевной надсадой говорила, что есть же на свете такие счастливые люди, которые в лотерею или по займу выигрывают крупные суммы. Даже по десять тысяч! А ей — хотя бы рублей пятьсот! И себе и матери пальто зимнее. Кровати хорошие купить. И еще, на месяц целый, обо всем забыть и закатиться куда-нибудь на юг, к морю, пожить без всяких забот…
И вдруг ткнулась головой ему в грудь, мгновение так замерла и отпрянула. Пошла обратно со средины пути, не попрощавшись, не сказав вообще ничего, то и дело сбиваясь с протоптанной тропы на непримятую траву.
Александр провожал ее взглядом. Славная девушка! Чем же, чем и как ей помочь?
Откуда-то сбоку вынырнул, почти столкнулся с Ликой высокий, взлохмаченный парень. Волосы тяжело напирали ему на поднятый воротник пиджака. Маринич узнал, это — Жора, сосед Пахомовых по дому. Парень по-свойски, развязно махнул рукой в попытке схватить Лику за талию, но девушка, словно копируя, таким же быстрым и небрежным взмахом руки хлестнула парня по лицу. И, не запнувшись, не задержавшись даже на секунду, пошла своей дорогой.
Парень было кинулся за ней, но тут же остановился и только вдогонку прокричал какую-то злую похабщину.
Всю ночь потом Александру мерещилось черт знает что. Но выспался он все же отлично и наутро в свой отгороженный фанерой кабинет вошел с таким ощущением, будто вообще ничего не было накануне.
А день начался — и все вновь предстало в своей реальной действительности.
Заглянула Лика, не очень умело подрисованная, но с хорошо лежащей прической. Поздоровалась, сказала:
— Саша, я в банк поехала!
Ей не хотелось уходить. Она стала что-то припоминать из вчерашнего. Вдруг в ужасе спохватилась: «Машина стоит дожидается. Ну, будет мне от водителя!»
Едва за Ликой закрылась дверь, явился Мухалатов. Привычно подсел к столу, локтем оттолкнул счеты, чтобы лежать руке было удобнее.
— Ну — сказал он, позевывая.
— Поехали, — сказал Александр, догадываясь, за, чем пришел Владимир.
— Очень кстати. Не надо самому начинать. Пусть он сперва до конца выговорится. А вообще, если Владимир, вчера бросив телефонную трубку, сегодня сам лично пожаловал, значит, дело Власенкова серьезное.
— Как живем? — спросил Мухалатов. И снова протяжно зевнул. — Не выспался. Фигурально, всю ночь провел с Риммой. Сперва сидели в знакомой тебе «Андромеде», потом провожал ее на дачу, и там высококультурный Василий Алексеевич с такой отменной любезностью, будто пещерного жителя, принял меня, что Римма выскочила из дому вслед за мной и провожала до Москвы. Ну, а потом, разумеется, и я снова ее проводил. До ворот только. Положение обязывает, все-таки девушка. И совсем потом, под утро, она еще приснилась мне. Да. Но проклятый будильник зазвонил на самом интересном месте.
— Володя, мне не нравится… ты как-то так о ней говоришь…
— А когда, о ком и о чем я говорил иначе? Язык мой! Что же касается Риммы — подозрения да не коснутся жены Цезаря. Это хирургическая бестеневая лампа. Римму можно поднять к потолку и при ее свете спокойно делать любые операции.
— Римма любит тебя!
— Вот потому я так высоко, под самый потолок, ее и поднимаю. А меня нельзя не любить. Я тоже человек хороший. Хотя, наоборот, весь соткан только из теней. Меня не любит один Василий Алексеевич. И то несправедливо. К студенту Мухалатову он, между прочим относился хорошо.
— Почему, ты думаешь, он не любит тебя? — с сомнением спросил Александр.
— Отцы всегда не любят тех, кого любят их дочери, — афористично разъяснил Владимир. — А товарищу Стрельцову, в частности, кажется, что дети его единственной дочери будут непременно носить отчество — Риммовичи.
— А тебе давно бы уже следовало сказать Василию Алексеевичу, что его внуки будут носить отчество — Владимировичи.
— Трепаться, Сашка, сам знаешь, я люблю, но трепаться насчет Владимировичей — преждевременно. Пусть уж лучше по ночам товарищ Стрельцов со мной разговаривает высококультурно и Римма провожает меня до Москвы. Это никому не в ущерб, а жизнь между тем крутится, вертится, как шар голубой.
— Для меня мудрено, Володя.
— Вполне естественно. Новый аккумулятор, да еще такой, которому дается собственное имя автора, тебе не придумать бы. Хочешь проще? Владимировичей я пока не хочу, а Риммовичей — порядочность не позволяет. Ты же сам любишь напоминать о герценовской клятве! Ну, а Василий Алексеевич заурядно ревнив, до тошноты обыкновенно ревнив. Не знаю, каких диоптрий и из какого сплава у него очки, но явно сквозь эти очки он видит не Владимира Нилыча Мухалатова, а Мефистофеля и Дон Жуана. Хотя, как известно, упомянутый Дон Жуан соблазнил две тысячи трех женщин, а бедному Володьке до этого райского счета не хватает пока еще ровно двух тысяч. Включая и Римму, которая вообще несоблазнима и оттого наиболее соблазнительна. В этом частном случае можно бы и на Риммовича рискнуть… Ну да ладно, — он звучно хлопнул по столу ладонью. — У меня к тебе есть и другой разговор.
— Я думал, что именно этот разговор будет первым, — сказал Александр.
Мухалатов пожал плечами. Простодушно посмотрел на него:
— По значимости, Саша! Раздавленное яйцо стоит все-таки больше выеденного.
— Не будем спорить. Слушаю.
— Тебе слушать нечего. Все, что следовало, я сказал вчера по телефону. Мне просто хочется узнать, когда Власенков получит свои деньги.
— Но я ведь тоже все сказал по телефону вчера! — Волнение начало одолевать Александра. — Могу повторить. Он вообще ничего не получит, потому что он изорвал все документы, даже и не подделанные. Наоборот, теперь я взыщу с него выданный ему аванс. Жуликов надо учить только так!
— От какой суммы начинаются жулики? — с напускной вялостью спросил Мухалатов. И словно бы какая-то серая пленка затянула ему глаза. Это было признаком зреющего недоброго настроения.
— То есть как — от какой? — в самом деле не понял Маринич.
— Ну, от ста украденных рублей или от пяти копеек?
— От одной копейки! Если она присвоена нечестным путем.
— Только в денежных знаках и звонкой монете или и в любом другом виде?
— Володя…
— Ты отвечай.
— Конечно, в любом! Странный вопрос…
— А может ли один жулик судить другого жулика, взывая при этом к высоким нравственным принципам?
— Нельзя ли проще?
— Проще? Так вот… — Мухалатов встал, лениво обошел вокруг стола, запустил руку в карман пиджака Александра и вытащил горстку, пятнадцать — двадцать проволочных скрепок, встряхнул их на ладони. — Надеюсь, ты не скажешь, что эти скрепки купил на собственные деньги? А тут их будет, пожалуй, копейки на три. Письмо личное ты позавчера здесь, при мне же, писал. На казенной бумаге. И в рабочее время. Оно тоже в рубли и копейки переводится. Как быть? Тебе можно, а Власенкову нельзя? Тебе можно, так сказать, в чистом виде присвоить государственные, а Власенкову собственные денежки, израсходованные по службе, возместить нельзя. Что-то не сходится, если согласиться с твоим же определением принципа честности. Принцип должен быть принципом. И честность тоже для всех должна проверяться единой мерой. Тут я снова в обнимку с тобой.
Александр сидел багровый от стыда. Не за себя, за Владимира, за тот способ, какой он избрал, чтобы выдать черное за белое. Господи! Полтора десятка скрепок, положенных в карман на всякий случай, вдруг где-нибудь не здесь, не за столом, понадобится соединить бумаги. Черт возьми, служебные бумаги! Ну, даже и свои… Письмо, написанное товарищу в рабочее время. Прибавил бы еще чернилами завода!
— Это называется софистикой и демагогией, — прерывающимся голосом наконец выговорил он. — Как можешь ты ставить в один ряд столь разные вещи…
— Не натуживайся понапрасну, Саша! — махнул рукой Владимир. И серая пленка опять пробежала у него по глазам. — И я знаю и ты знаешь, что в нормальной жизни как ни верти, а существуют две логики. Прокурорская и адвокатская. Мой пример — только для этого. Поклялись мы с тобой бороться за справедливость и единую логику? Поклялись бороться против гадов? Поклялись! Так вот, Власенков — не гад. А пока единой логики нет, не надо подводить под него только прокурорскую логику. Давай вместе подумаем не как ему зло причинить, а как поступить по справедливости. Это я тебе второй день и пытаюсь втолковать.
— И зря пытаешься! Никогда ты мне не втолкуешь, что делать подлоги простительно и что здесь не годится прокурорская логика. Да все равно, и «адвокатская» логика тоже осудит подлог!
— Но это не подлог, это простая ошибка! И ты не помог ему разобраться, сделать как надо, а сразу ухватился — удобный случай — вот, мол, какой я принципиальный и бдительный.
У Маринича задрожали губы.
— После этого… после этого, Володя, я не могу тебя называть своим другом!
— Ну вот, сразу и за шпагу схватился! А у меня при себе нет даже перочинного ножа. Не будем, Сашка, перебрасываться звонкими словами, а выйдем сразу на итоги. Скажи, какую ты поставил цель: утопить Власенкова во что бы то ни стало или ты хочешь с человеком обойтись все-таки по-человечески?
— По закону! И по совести.
Мухалатов подтянул к себе счеты, молча, по одной, перебросал косточки на двух-трех проволоках, потом поставил счеты на ребро, и косточки шумно упали все враз.
— Ну, дело твое. Не подумай, что я жуликов защищаю. И если ты Власенкова знаешь лучше, чем я, — действуй. По закону. И по совести. Посмотрим, какая у тебя совесть, и посмотрим, какие у нас, при твоей совести, существуют законы. Надумаешь — позвони.
Он ласково погладил, потрепал, как пригревшегося кота, блестящий черный аппарат внутреннего телефона и удалился.
Александр стоял, врезавшись упрямым взглядом в квадратный лист зеленой настольной бумаги. Да-да… По существу, это ссора. И не по пустякам. Нет, нет после такого разговора нечего колебаться. Всякое промедление будет постыдным соглашением с собственной совестью и служебным проступком перед законом.
Главбух Андрей Семеныч, выслушав Маринича, весь как-то сразу осунулся. На добром стариковском лице его отразились страдание и досада.
— Вот удружил! — всплеснул он сухими руками, неизвестно к кому относя эти слова: к Мариничу или Власенкову. — Вот удружил!
Маринич спросил, как все это происшествие нужно оформить. Андрей Семеныч, будто подстреленная утка крыльями, коротко и нервно взмахивал руками.
— Ай, срам какой! Вот срам какой! Зарплату в цехах начали выдавать без кассира. Я собирался поставить вопрос о безнарядной оплате выполненных работ, по саморапортичкам. И вот на тебе! Всем наплевал в душу.
— А как с ним поступить теперь, Андрей Семеныч?
— Да что — как поступить! Расстрелять его за это, что ли? Он тебе сказал: «Подавитесь, не платить — так не платите уж и совсем ничего»? Вот и выпиши приходный ордер на весь выданный ему аванс. И делу конец! Ах, до чего же это все неприятно…
— Но он подделал документы, Андрей Семеныч! Ведь это же нельзя простить.
— Говорю: расстрелять его, что ли? Сколько он там приписал себе суточных и этих, квартирных? На двадцать один рубль десять копеек? Так если он порвал сгоряча все документы и вернет полностью весь выданный ему аванс, он накажет себя больше чем втрое против этого. Чего еще от него ты хочешь?
— Подделка! Подделка же, Андрей Семеныч! Сам факт подлога.
— За этот факт он на полмесяца верных без зарплаты остался. Ну что ты думаешь — это ему и так крепкий урок. Какого ты еще зла ему хочешь? Иди, иди! Весь день ты мне отравил. Взять бы тебе да просто приходный ордер сразу выписать! Коли на это сам человек согласился.
— С бранью, с оскорблениями. И, собственно, не согласился, а выкрикнул, будто в лицо мне швырнул эти слова.
— С бранью… Небось забранишься, когда сядешь на полмесяца без копейки… Гадко это, конечно, других же еще и ругать, да человека и момент понять тоже надо. Взыскивай с него аванс и — иди, иди! Ну тебя!
Очутившись за дверью, Маринич недолго раздумывал. Все ясно: как и Володя Мухалатов, Андрей Семеныч решительно неправ. И разница лишь в том, что один, по наивному заблуждению, не считает вообще поступок Власенкова преступлением, а другой, просто по доброте своей, не хочет наказывать виновного больнее, чем обыкновенным рублем. Что ж, вот так и создается удобная обстановочка для разных сперва мелких воришек, а потом от безнаказанности, и крупных воров. Читая уголовную хронику, мать частенько вспоминает какой-то рассказ «Пятачок сгубил» из хрестоматии еще ее школьного детства. А здесь и побольше пятачка и обстоятельства гаже. Иван Иваныч Фендотов подписал продление командировки Власенкова; Фендотов, во всяком случае, должен знать, как злоупотребил человек его доверием. Скажет ли ему об этом Андрей Семеныч? И вообще, конечно, не главному бухгалтеру, а директору завода следует решать вопрос о привлечении к уголовной ответственности жулика, пойманного с поличным.
В приемной директора была небольшая очередь. Но Маринича секретарша пропустила немедленно, стоило только шепнуть ей на ушко: «Аля! На три минуты. По чрезвычайно срочному делу».
Фендотов, должно быть весь поглощенный какой-то неотвязной мыслью, поглаживал ладонью затылок, сновал из угла в угол по кабинету. Заметив вошедшего Маринича, остановился, спросил нетерпеливо:
— У вас действительно что-то очень срочное? Что?
— Иван Иваныч, извините, позавчера вы подписали продление командировки Власенкову.
— Ну да, подписал. Надо бы сделать это Василию Алексеевичу, да его не было. Просил Мухалатов. А что?
— Он подделал счет гостиницы и приложил чужие железнодорожные билеты к отчету. И получилось, будто он пробыл в Ленинграде эти шесть дней, на которые вы продлили ему…
— Андрей Семеныч мне ничего не говорил, — перебил Фендотов.
— Еще не успел.
— Ну, а в чем дело?
— Так… как «в чем дело»? Власенков сделал подлог, хотел незаконно получить двадцать один рубль десять копеек.
— Ого! И дачу себе на эти деньги отгрохать? — рассмеялся Фендотов. — А как же он это объясняет, попытку свою?
— Так, Иван Иваныч, что его объяснения… Он-то, конечно, говорит, что на такси эти деньги проездил и за гостиницу сверх положенной нормы по рублю двадцать из своих доплачивал. Дело не в этом. Подлог…
— Вот черт! По рубль двадцать доплачивал, — даже как будто с завистью опять перебил Фендотов. — Значит, всего за трешку снимал номер? Мне дешевле как по пятерке жить в Ленинграде не приходилось. А такси — правильно — одно разорение. Город пространственный. И в совнархозе машину ему не дадут.
— Уголовное дело, Иван Иваныч. Надо Власенкова привлекать к ответственности. Вот я и пришел…
— Погоди! Двадцать один рубль, чтобы покрыть действительные расходы на такси и гостиницу? Какое же тут уголовное дело?
— Он подделал счет…
— Ну и пес с ним! Порви его, чтобы ревизоры не прискребались. А Власенкову эту двадцатку там или четвертную я из директорского фонда выпишу. Все?
— Иван Иваныч, так ведь подделка!
Фендотов замотал головой и даже зажмурился, показывая, до чего не ко времени и не к месту идет у них разговор.
— Ну я тогда не знаю. Ступайте к Василию Алексеевичу, он и финансовыми и юридическим делами у нас занимается. А я подмахнул командировочное Власенкову только по просьбе Мухалатова. — Фендотов крутнулся на одной ноге, давая понять Мариничу, что разговор закончен. Однако прибавил еще: — А насчет двадцатки Власенкову, нет, лучше уж четвертной, там вместе со Стрельцовым заготовьте проект приказа. Я подпишу.
Теперь, после столь неожиданного поворота событий, Маринич и вовсе не мог остановиться на полпути, считал себя обязанным непременно довести дело до конца. Подумать только, а! Подлог — пустяк. И жулику еще четвертную из директорского фонда…
Подталкивая на переносье сползающие очки, Стрельцов внимательно выслушал рассказ Александра. Попросил повторить некоторые подробности. Задумался.
— Тут трудно применять сильные слова и устанавливать чеканные категории в оценках, — проговорил он наконец. — В прежние времена, когда игроки за карточными столами уличали партнеров в мошенничестве, этих шулеров просто били подсвечниками. А на Востоке мелких воришек обмазывали смолой, вываливали в перьях и сажали на осла, лицом к хвосту. Хотя, вероятно, законы позволяли наказывать и как-то иначе, не так публично и позорно. А люди поступали в общем-то правильно. За мелкие, гаденькие дела и наказывать следует соответственной казнью. Мелких жуликов надо заставлять на народе гореть от стыда. Не в прокуратуру же, в самом деле, передавать материал о неудавшейся попытке Власенкова сорвать с государства двадцать рублей.
— А почему не в прокуратуру? — Маринич недоумевал. Вот тебе раз: и Стрельцов либеральничает. — Василий Алексеевич, подделка документов, как я понимаю, преступление уголовное.
— Подделка не удалась, деньги он не получил, наоборот, своими даже поплатится… Александр Иванович, может быть, не совсем то слово, но тогда и с нашей стороны это будет какой-то мелочностью, если хотите, местью за то, что он в разговоре с вами держал себя по-хамски. Наказание должно быть неотвратимым, но и соразмерным вине. Только тогда оно воспитывает. Давайте предположим, что Власенкова посадили бы в тюрьму на пять лет. Не только он сам, но и все окружающие сочтут это величайшей несправедливостью. О существе самого преступления тогда никто не вспомнит, но решительно все будут жалеть осужденного и осуждать осудивших.
— Не надо на пять лет. Пусть на полгода. И условно. Даже без вычетов из зарплаты. Но как полагается, по статье Уголовного кодекса.
— Само название «Уголовный кодекс» звучит жестоко.
— Зато запоминается.
— На осле, лицом к хвосту, тоже запоминается.
— Ну, если премию за это выдать, как хочет сделать Иван Иваныч, и тут запомнится! Или Мухалатов…
— Да, Владимир Нилыч тоже ведь защищает Власенкова? — с какой-то торопливостью и особой интонацией, словно бы это почему-то сразу меняло все существо дела, спросил Стрельцов.
— Василий Алексеевич, вы знаете, какие мы с Володей Мухалатовым друзья. Но здесь я просто не могу его понять. Он так защищает, так защищает Власенкова. Он даже считает его вообще ни в чем не виноватым! — Маринич выпрямился, лицо у него стало торжественным. — Вероятно, мы с Володей очень сильно поссоримся.
«Мухалатов… Опять Мухалатов… Столкнуться с ним вновь? И на чем…» — пожалуй, даже не выговорил, а только пошевелил губами Стрельцов.
Он медленно снял очки, сложил заушники вместе, развел и снова сложил.
— Не поймите меня превратно. Иван Иваныч вас направил ко мне. Но выходит, и я должен действовать сейчас тоже по этому принципу: гони зайца дальше. Мне представляется, Александр Иванович, что всей этой мутью следует заниматься не в административном, а в общественном плане. Проступок Власенкова прежде всего — против морали. Посоветуйтесь в завкоме.
С председателем завкома Лидией Фроловной разговор у Маринича был, пожалуй, самым продолжительным. Лидия Фроловна, женщина пожилая, но очень свежая и какая-то ясная, присасывая ноющий зуб, выслушала рассказ Александра с пылающим интересом. Она сразу же согласилась, что, конечно, товарищ Стрельцов прав целиком и решение о Власенкове должно принять завкому. Только вот какое решение…
— Палка-то, она ведь всегда о двух концах, — присасывая зуб, вслух размышляла Лидия Фроловна. — Скажем, денежно. Ну, ударим мы одним концом по самому Власенкову, а другой-то конец — кого ударит? У мужика семья, живется им трудно, знаю. Если мы тебе от профсоюза дадим санкцию ничего не платить человеку да еще и аванс с него взыскать, — прибежит ведь жена, плакать станет, детишек с собой притащит. И отменим мы свое постановление. По закону, сколько верных дней он пробыл в командировке да за билеты, — все ему отдай.
— И подлог ему простить? — вскрикнул Александр. — Какое же будет тогда ему наказание?
— Наказания не получится, — согласилась Лидия Фроловна. — А скажем, морально. Это Василий Алексеевич насчет смолы и перьев и осла тоже, это он лишнее. Но, скажем, в стенную газету или на общее собрание вынести. Опять же и тут палка о двух концах. Видимой кражи нет. Чего-то он пробовал, подчищал, а подчищенные бумаги, сам говоришь, уничтожены. Что народу предъявить? И другим концом дурная слава на нас же. Подняли шум вокруг мыльного пузыря — народу нынче не слова, документы подай. Здорово живешь голосовать не станут.
— Значит, и нравственного осуждения не получит?
— Может не получить, — снова согласилась Лидия Фроловна. И даже свистнула, присасывая зуб. — Это ведь тебе не прогул и не драка под пьяную лавочку, не бытовщинка. Предмет, скажем, не совсем для общего собрания. Подлог пахнет уже чистой уголовщиной. А это снова палка о двух концах. Заостри один конец — и могут человека потянуть к Иисусу. Не заостри — могут сказать: потакаете. А другой конец: почему профсоюз входит в дела уголовные? Тут все тонко обдумать надо. Может, просто, не вынося на народ, я одна с глазу на глаз побеседую. Хочешь — и ты прими участие. Ведь главная-то задача в чем: ущерба государству чтобы причинено не было и человек чтобы все понял. Так? А с Андреем Семенычем ты посоветовался?.
Круг замкнулся. Маринич встал. Постоял, вглядываясь в ясное лицо Лидии Фроловны, наполненное доброжелательностью и ожиданием хорошей, умной подсказки.
— Ущерба государству, Лидия Фроловна, причинено не будет, а понимать Власенков и раньше все понимал превосходно, — сказал Маринич, рывком растягивая узел галстука. — Вы тут, конечно, подумайте. А я уж Власенкова тогда сам, своей палкой — она у меня об одном конце.
— Только ты… не… в прямом смысле… — забеспокоилась Лидия Фроловна. И тоже встала. Подала ему теплую, мягкую руку. — А мы тут подумаем. Посоветуемся. И давай держать друг друга в курсе дела.
Вернувшись к себе, Маринич привычно, почти автоматически потянулся рукой к телефону. На дню по нескольку раз перезванивался он с Мухалатовым. Хорошо бы и сейч…
И не стал звонить. Зажав ладонями виски, он перебрал в памяти разговоры и встречи этого дня, ожесточая себя против Власенкова все больше и больше.
Может быть, мелочно это, как говорит Стрельцов? Мелочно по всей строгости наказывать жулика, когда он пытался прикарманить только двадцать рублей? Сколько же надо: двести, пятьсот?
Зазвонил телефон.
— Сашка? — искусственно ленивый голос Владимира. — Так когда Власенкову зайти за деньгами? Иван Иваныч…
Маринич положил трубку. Вытряхнул из кармана скрепки, все до единой. Взял лист бумаги, перо.
И вывел решительно: «Прокурору…»
Глава седьмая Коза на веревке
Будто мальчишка подул в ключ, электричка тоненько посвистела у поворота и втянулась, яркая, зеленая, в такую же яркую зелень невысокого и негустого подмосковного леса.
Стрельцов проверил замки портфеля, набитого так туго, что стал он похож на бочонок, и двинулся по узкой пешеходной дорожке в том направлении, в каком умчалась электричка, доставившая его из Москвы.
День был веселый, солнечный, а настроение у Василия Алексеевича пасмурное. Не мрачное, подавленное, а именно лишь пасмурное. И это было хуже всего. Ему казалась противной любая серятина, одинаково в погоде или в жизни, когда все идет как будто бы так и в то же время совсем не так.
В часы пасмурного настроения он обычно возвращался мыслью к Сибири. Вот там у него душа горела! Как говаривали врачи, высок был жизненный тонус. А почему?
Начать с работы. Там он был директором хотя и не столь солидного, как здесь, завода, но зато — в рамках своего хозяйства — полностью свободен и независим. Он вел на том заводе свою линию. И все — начальство и подчиненные — это понимали и ценили. В «верху» на него надеялись, ему доверяли — знали, что он не подведет. Рабочие и служащие его любили. За прямоту, твердость характера, когда касалось это интересов завода, и за готовность каждому помочь, участливо вникнуть в личную просьбу каждого. Придешь домой усталый, а на душе хорошо. И дело движется как надо, и люди с уважением руку тебе подают. Чтобы не отставать от века, следил за всеми новинками в области электричества и вычислительной техники, сам придумывал кое-что, внештатно читал в институте лекции.
Здесь, в Москве, тоже как будто бы «наверху» доверяют, а рабочие и служащие относятся с уважением. Но когда сам ты оказываешься только лишь «вторым» лицом, происходят странные вещи. Успехи завода становятся в первую очередь заслугами Ивана Иваныча Фендотова, а ошибки и просчеты в работе — его, Стрельцова, виной. Работникам завода Фендотов охотно и щедро во всем помогает, но преимущественно в том, в чем не трудно помочь. Все остальные заботы лежат на нем, на Стрельцове. Естественно, что теплых улыбок достается больше Ивану Иванычу, а сердитых взглядов и слов — ему. Совсем не до чтения лекций, регулярно следить за новинками специальной литературы и то некогда. Почему-то как раз на него — прежде всего инженера — свалились все хозяйственные, снабженческие, финансовые дела. Но главное — скованность, скованность. И тягостная необходимость обо всем докладывать и на все испрашивать разрешения. У Фендотова, у Лапик, у Жмуровой, у председателя госкомитета. Впрочем, к председателю госкомитета, когда-то своему студенту, он, по существу, и не вхож. Туда его, стрельцовские, идеи ревниво носит лишь сам Иван Иваныч.
Безусловно, все это правильно. Заместитель всегда есть только заместитель. Но следовало ли назначать его заместителем, если он способен и к полностью самостоятельной работе? Ведь вызов сюда был же вполне определенный. В Сибири сдал дела. А потом… «Потом» совпало как раз с моментом упразднения ряда министерств и создания госкомитетов. Понадобилось дать место Фендотову, крупному работнику министерского аппарата. Утешили: «Товарищ Стрельцов! Вас же все-таки перевели в столицу!»
Да, конечно, Москва прекрасна. Но для него, для Василия Стрельцова, Сибирь — земля, прекраснее которой на свете просто быть не может. Все самое лучшее в жизни у него связано с той землей.
Здесь на городской квартире голова пухнет от грохота грузовиков, от угарного бензинного дыма. А на сибирском заводе дом инженерно-технических работников стоял в тихом уголке территории, весь в окружении молодых лиственничек и тополей. Прямо с балкона открывался вид на синеющие в отдалении горы. По вечерам оттуда сползал густой аромат цветущей сосны. Посмотреть влево — вся в переливах солнечных огней, стремилась на север могучая река, своей прохладой смягчая зной летних дней. Все было широким, открытым, просторным. Закончится рабочий день — и ты уже среди природы. А здесь вот, чтобы хоть немного хлебнуть свежего воздуха, приходится ишачить, потому что сюда ни трамваи, ни автобусы не ходят, от электрички же добрых полчаса пешего пути. Портфель выворачивает плечо, набит он служебными бумагами, над которыми приходится работать по ночам.
На этом заводе легковые машины тоже есть, но две из них «разгонные», только по городу, а третью, как раз за счет сокращения пробега «разгонных», тихим манером забрал себе в персональное пользование Иван Иваныч. Неизвестно, кто у кого или чего стал неотъемлемой частью: машина у Фендотова или Фендотов у машины. Ивану Иванычу легче, наверно, отрезать собственный палец, нежели позволить кому-то другому — без себя — проехать на «его» машине. А дача у Фендотова, кстати, в этом же самом поселке и в трех минутах ходьбы от электрички.
Так, может быть, есть серьезные нелады с Иваном Иванычем? И это они создают дурное, пасмурное настроение?
Чушь! Ерунда! Все эти маленькие эгоистические странности Фендотова вспоминаются лишь потому, что туго набитый портфель сегодня особенно зверски оттягивает руку, побаливает правый бок, а ревматические ноги еле волочатся, — вот и захотелось подъехать на машине. А так что же, по чистой совести, Иван Иваныч отличный человек и товарищ. Со странностями, конечно. Но у кого их нет? Зато не так-то уж часто встречаются руководители больших предприятий, обладающие веселым, живым характером, которых никакая беда и никакие заботы не могут выбить из душевного равновесия. Иван Иваныч не потеряет ни сна, ни аппетита, хотя бы даже небо стало падать на землю. Крутнется на одной ноге, расскажет малосольный, с гвоздичкой, анекдот, и любые неприятности с него словно рукой снимет. А когда «сам» не падает духом в беде, и всем остальным как-то легче. Притом и спина у Ивана Иваныча «широкая». Он теперь депутат Верховного Совета республики, и член районного комитета партии, и член госкомитета, которому подконтролен завод. Где этими высокими званиями, где личным обаянием и прежними связями, а где и уменьем, при надобности, «сыграть в поддавки» с начальством поменьше Фендотов обеспечивает заводу прекрасные условия работы. Нет, нет, отличный руководитель и отличный человек Иван Иваныч!
Ну так что же тогда? Завидно, что Фендотов у всех на виду, а твоя звезда уже не светит, как прежде?
Ты ведь тоже в Сибири был и депутатом, правда областного Совета, и членом обкома партии, и сиживал во всех президиумах. А вот теперь идешь по узенькой тропочке в потоке дачников, совершенно ничем не приметный, отличаясь от них разве только лишь тем, что у тебя в руке добротный кожаный портфель с блестящими медными замками, а у них плетеные авоськи и синтетические хозяйственные сумки. Опять по самой чистой совести, перед самим собой, нет ни малейшей зависти к Фендотову! Но если ты действительно что-то потерял, так не чины, звания и президиумы, а огромнейшую, интереснейшую жизнь, которая сопутствует этим званиям. Не стало поднимающего тебя чувства ответственности за доверие, которое нужно оправдать перед народом. Депутатские хлопоты и заботы о людях — совсем иные, иной душевной наполненности, чем хлопоты и заботы по должности заместителя директора завода. Общественная твоя деятельность, каждодневно открывающая новые горизонты, ах, насколько она теплее сердцу и желаннее, чем служба! И только служба. А вот большой общественной деятельности как раз теперь и не хватает…
Стрельцов поднял голову. Скажи пожалуйста! Задумался и чуть было не прошел сворот к своей даче. Забавно, но тут надежная примета: чья-то белая коза пасется на веревке, привязанная к колышку, вбитому в землю. Василий Алексеевич рассмеялся. Ему вдруг стала ясна причина душевной неустроенности и пасмурного настроения. Ну да, он ведь тоже сейчас как эта коза на веревке!
Все хорошо, все отлично для этой козы. Трава на лужайке отменная, сочная и разнообразная. Ошейник широкий и выложен изнутри суконкой, он не натирает на шее плешин. И довольно просторный, не душит, если коза натянет веревку. Заботятся о козе — что говорить, «начальство» у нее превосходное, шерсть вымыта, вычесана, а где могла бы и повиснуть безобразными клочьями — аккуратно подстрижена. И веревка не какая-нибудь завалящая дрянь, найденная среди чердачного хлама, — превосходная кунжутная веревка. Ну чего еще могла бы она себе пожелать? Что ей мешает?
Да веревка-то и мешает! Веревка точно определила круговую границу, за которую переступить уже никак невозможно.
— Ну что, коза, как живем? — спросил Стрельцов, остановясь.
Он знал, что коза — сладкоежка. Ее так вот, проходя мимо, прикармливали лакомствами многие дачные жители. Он тоже всегда припасал для нее что-нибудь вкусное: пряник, конфетку, кусок сахару. Больше всего коза любила зефир.
Для Риммы он сегодня купил большую коробку зефира. Дочь не обидится, если из этой коробки он угостит козу. Стрельцов опять рассмеялся. Не просто козу, а своего двойника…
Коза стояла, терпеливо ожидая, пока Стрельцов расстегнет портфель, вынет из него коробку, а из коробки приятное угощение. Стояла, блаженно вытянув гладенькую белую морду с черным блестящим носом, и ноздри у нее чуть-чуть подрагивали. Иногда она легонько постукивала копытом в землю.
— Ух, морда-то, морда какая счастливая! — услышал Стрельцов голос Мухалатова у себя за спиной. — А подсыпать бы ей, скажем, черного перцу. Вот морда вытянулась бы.
Стрельцов быстро повернулся. Откуда взялся здесь Мухалатов?
— И вы на это способны, Владимир Нилыч?
— Ну, особых способностей для этого не требуется, Василий Алексеевич, — лениво отозвался Мухалатов. — Дело, как говорится, чистой техники.
— Я не решился бы сказать, что такая техника — «чистая»!
— Каламбуром по каламбуру! Люблю. Однако сказано слишком серьезно. Извините, Василий Алексеевич, но, между прочим, вы почему-то перестали понимать самые простые шутки.
— Мне не хотелось бы предстать в роли козы, чтобы проверить на себе эту вашу шутку. Для меня и так очевидно, что ваша шутка, хотя и простая, все же очень жестокая.
— Ва-силий Алек-сеевич, — протянул Мухалатов, — у вас дурное настроение сегодня. Ну что козе, чихнет — и только. Не знаю, натянул бы я на самом деле этой козе «морду», но, ей-богу же, иногда хочется еще выкинуть какую-нибудь такую ребячью штучку. А вы на меня смотрите, словно я только и одержим такими идеями. Василий Алексеевич, это же совершенно побочный продукт моей мысли!
— Да, конечно, — согласился Стрельцов. И не смог скрыть раздражение. — Основной продукт у коровы молоко, но при этом, естественно, корова вырабатывает побочный продукт… для удобрения полей.
— А-а! — опять протянул Мухалатов. — Вы могли бы сказать и злее, взяв в пример не корову, а кошку, у которой этот побочный продукт является единственным и основным.
— Пожалуйста, если это вам больше нравится.
Какое-то время они шли рядом по узкой тропе. Потом Мухалатов немного отстал. Стрельцов тоже убавил шаг. Проговорил, смягчая голос:
— Что же вы отстаете, Владимир Нилыч? Вы к нам? То есть, я хотел сказать, к Римме?
— Не-ет, Василий Алексеевич! Нет. Я приехал сюда специально для того, чтобы поиграть с козой.
— Предполагая, что меня сегодня до поздней ночи не будет дома?
Мухалатов с напускной мужиковатостью почесал в затылке.
— Да, оно конечно… Последний раз даже поздней ночью и то, мне кажется, у нас с вами был не столь категорический разговор. Позвольте мне сегодня действительно полюбоваться только козой.
— Как знаете, — с вновь вспыхнувшим раздражением сказал Стрельцов. Пошел. Но, перебарывая себя, тут же вернулся: — Простите, Владимир Нилыч, сам не знаю почему, но у меня сегодня на самом деле дурное настроение.
И замолчал.
Мухалатов пожал ему руку. Проговорил просто и с глубоким сочувствием:
— Понимаю, Василий Алексеевич!
Но все-таки сделал вид, что не понял слов Стрельцова, его молчаливого приглашения пойти вместе. Он остался на дорожке, забавляться с козой.
А Стрельцов тяжело вышагивал, теперь совершенно отчетливо сознавая, что главная причина пасмурного настроения и сегодня и многих других дней — именно Владимир Мухалатов. Все прочее — лишь бесплатное приложение к этому.
Вероника Григорьевна встретила его своей обычной «золотой» улыбкой, так называвшейся в семейном словаре потому, что три верхних передних зуба у нее были из золота.
Она, как всегда, копалась в земле, устраивала цветники — страсть, которой Вероника Григорьевна отдавалась полностью. У нее уже вовсю цвели какие-то необыкновенные тюльпаны, махровые нарциссы, тянулись ввысь желтые ирисы. От буйной пестроты анютиных глазок рябило в глазах. Сейчас она высаживала левкои.
Дача принадлежала госкомитету, сдавалась в аренду весной, подчеркнуто каждый раз только на один год. Гарантии, что договор будет продлен на новый срок, не было никакой, но Вероника Григорьевна все равно, где только годилось место, насажала и вишен, и яблонь, и многолетних ягодных кустарников. Иначе ей и жизнь казалось бы не в жизнь. «Не нам — пусть другим достанется!»
Она радостно удивилась, что Василий Алексеевич приехал рано. Ахнула, что обед не совсем готов, и, отряхивая измазанные землей руки, побежала в дом. С крыльца посветила своей золотой улыбкой.
— Вася, зайди на веранду, посмотри этюд — ну, никак не дается мне подмосковное небо!
А небо, между прочим, было как небо. Стрельцов разглядывал новую работу жены и не мог сообразить, что же ее не устраивало. Отличный этюд, отличное небо. А Вероника никогда не кокетничает. Если вещь получилась, она так и скажет. Не прихвастнет, но и не прибеднится.
Н-да, вот что значит глаз мастера своего дела! Он смотрит и не может понять, что здесь плохо, а Вероника не успокоится, найдет свою ошибку, исправит, и он сам будет тогда радоваться, говорить от души: «Ну как же здорово получилось!» — так и не разгадав, что же именно в картине исправлено.
Конечно, Вероника художник не сильный. Ее картины прежде, в Сибири, еще принимались, и довольно охотно, на областные выставки. А вот на Всероссийскую, не говоря о Всесоюзной, она никак пройти не может. В ее последних работах — так определяют комиссии — всегда чего-нибудь не хватает.
Чего не хватает в этом этюде, в этом притягивающем взгляд сероватом небе дождливого дня? Казалось бы, полная гармония…
— Почему ты сегодня такой пасмурный? Как небо на моем наброске! — Вероника Григорьевна стояла рядом, оглядывая попеременно то Василия Алексеевича, то свой этюд.
— Я тебе отвечу, Ника, если ты мне сумеешь объяснить, что не удалось тебе в этом наброске.
— Лучше всего любую свою неудачу художник может объяснить только кистью, переписав заново то, что ему не удалось. Ну, а словами… В этом небе все как будто бы так и в то же время совсем не так. — Она засмеялась. — Вразумительное объяснение!
— А представь себе, Ника, вполне вразумительное. Даже больше, — изумленно сказал Стрельцов и повернулся к ней. — Точнее и я не смог бы определить собственное настроение. Ты повторила мои раздумья.
— Вот как! Ну тогда я попытаюсь прибавить к своим словам еще что-нибудь. Видишь ли, это небо — как резиновый занавес, изолятор, оно непроницаемо, даже для мысли, за ним ничего не угадывается, ничего.
— Бывает и такое.
— Бывает, конечно. А человеку всегда хочется, даже за хмарью, видеть солнце. Или хотя бы предчувствовать скорое наступление хорошей погоды. Этого у меня пока не получилось.
— И у меня, Ника, в моем небе тоже солнце пока не угадывается. Опять твои слова великолепно подходят к оценке моего настроения.
— Ах, какая я умница! А есть способ исправить твое настроение?
— Каким способом собираешься ты исправить небо в своем этюде?
— Очень просто. Перепишу его заново!
Стрельцов беспомощно развел руками. Грузно переступил с ноги на ногу.
— Да-а… Здесь у нас уже начинаются расхождения. Все-таки сама жизнь и ее отражение в искусстве далеко не одно и то же. — Он попытался переломить себя, заговорил шумно, весело: — Пообедаю хорошо, и все пройдет. Хороший обед — это солнце. «Подайте мне быка на вертеле! Вкатите для меня бочонок пива!..» Откуда эти стихи?
— По-моему, ниоткуда. Сам придумал.
— А не Шекспир?
— Всего Шекспира я не знаю, а такие строчки мне как будто бы не попадались.
— Ну вот, а Галина Викторовна сегодня снова поймала меня: «Шекспир, опять Шекспир!» Хотя и мне такие строчки у него как будто бы не попадались. И даже вполне возможно, что я их придумал сам. Пошли, Ника, на кухню. При всех обстоятельствах это больше всего приблизит меня к обеду и, значит, к солнцу.
Но приблизиться к обеду и к солнцу Стрельцову не удалось. Его перехватила Римма, затащила к себе в комнату.
Затащила, а начать разговор не могла. Василий Алексеевич тоже выжидал, хотя и угадывал: так или иначе речь пойдет о Мухалатове. И если Римме нужен этот разговор, пусть она первая и начинает. В чем, в чем, а в этом он не может выручить ее, пойти с желанием ей навстречу.
Он передал ей свой подарок. Римма открыла коробку.
— Ой, папа, спасибо тебе! — И шутливо покачала головой: — Но… я смотрю, кого-то ты успел уже угостить прежде любимой дочери. Или сам соблазнился?
— Я угостил козу.
— Ну папа! Ту, которая на веревке?
— Да, — сказал Стрельцов. — И это все равно что попробовал сам. Мы с ней — коллеги.
Римма весело рассмеялась. Сопоставление было столь неожиданным, нелепым и далеким от каких-либо реальных связей, что она сочла это надежным признаком очень хорошего настроения отца. Тут же схватила со стола рукопись своей статьи и, немного торжествуя — знала, что литературно сделала ее отлично, — и все же с тревогой, протянула исписанные листки бумаги.
— Папа, пожалуйста, прочитай.
Статья действительно была написана с блеском. Таких Римминых статей Стрельцову еще не приходилось читать. Она увлекала страстностью и мастерством изложения, содержала в себе массу любопытных сведений для непосвященных читателей, а знающих заставляла обратить самое пристальное внимание на судьбу рождающегося феномена электротехники — аккумулятора необычайной емкости.
Стрельцов сосредоточенно перечитал статью еще раз. Нет, в ней ничего не говорилось такого, что преждевременно раскрывало бы секрет аккумулятора и помешало его патентованию за границей. Здесь в полную меру рассказывалось лишь о творческих исканиях молодого инженера Владимира Мухалатова, об озарении, с которого начались потом падения и взлеты, надежды и разочарования, длительная, кропотливая работа в лаборатории и, наконец, успех. Человек и его дело, упрямая одержимость одной идеей и результат этого — вот смысл статьи, вот ее зажигающая искра.
Что ж, очень хорошая статья. И нужная. Так мало еще у нас пишется о молодых фанатиках науки и техники, так мало рассказываем мы в печати вообще о тех, кто приходит к успеху долгим и тернистым путем, но не теряя ни на мгновение веры в захватившую их идею. Молодец Римма! Но…
— Читал ли твою статью Владимир Нилыч? — спросил Стрельцов, медленным движением руки возвращая дочери рукопись. — И откуда ты взяла весь фактический материал?
— Да, он читал. И весь материал для статьи я тоже получила от него. Я допустила здесь какие-нибудь неточности и ошибки, папа? Или об этом вообще нельзя писать?
— Что же сказал Владимир Нилыч, прочитав статью? — словно бы не слыша вопроса дочери, проговорил Стрельцов.
— Он сказал, что ты должен прочесть статью непременно. И если ты не найдешь в ней ничего неверного, то у него тем более нет никаких причин что-либо в ней опровергать.
— Так… — медленно сказал Стрельцов. — Значит, все отдается на мое усмотрение?
— Да, Володя сказал, что хотя аккумулятору и предполагается присвоить имя Мухалатова, но в статью о нем ты можешь внести любые поправки, какие только тебе вздумается сделать. И он с большой неохотой согласился на то, чтобы я опубликовала такую статью.
— Из скромности? — чуть иронизируя, спросил Стрельцов. — Я понимаю.
Но Римма не уловила иронии в словах отца, приняла их за чистую монету и подтвердила, что, разумеется, всякий скромный человек не легко согласился бы на публикацию такой статьи. Володя же тем более…
— Володя, разумеется, «тем более»… — вдруг сердито сорвалось у Стрельцова.
И Римма оскорбленно воскликнула:
— Чтό — он заимствовал твою идею? Ты действительно имел к ней какое-то отношение? Так вот же, рукопись перед тобой. Вноси любые свои поправки. Володя очень просит. И я прошу.
— Спасибо, девочка. Исправлять мне здесь нечего, — устало сказал Стрельцов. — Спасибо уже за то, что ты дала мне прочесть эту рукопись. И после Владимира Нилыча.
— Папа! Да как ты можешь? Ты ничего не понимаешь!
— Девочка, прости, но кое-что я понимаю.
— Когда ты называешь меня девочкой, папа, я не могу… мне трудно, папа, с тобой разговаривать.
Стрельцов потер лоб рукой.
— Риммок, тебе не потому трудно. Тебе трудно потому, что речь у нас идет о Владимире Нилыче, с которым, не скрою, мне давно уже стало трудно разговаривать.
— Не только трудно, ты вовсе не хочешь с ним разговаривать, ты даже не хочешь, чтобы он входил в наш дом!
— Риммок, все это очень сложно, однако не нужно преувеличивать. Тот ночной разговор, который ты имеешь в виду, затеял не я. И я держался все-таки в рамках приличия.
— Папа! Надо же понимать Володю. Его показная грубость и резкость — на самом деле удивительнейшая человеческая простота. Папа, я очень прошу тебя — сегодня, когда придет Володя, поговори с ним добрее.
— Владимир Нилыч сегодня не придет, — сказал Стрельцов. — Мы некоторое время шли с ним вместе, но он потом остался забавляться с козой…
— Папа!..
И, не дослушав отца, Римма выбежала из комнаты.
Василий Алексеевич устало опустился на табуреточку, сцепил кисти рук. Риммок, Риммок, миленькая моя, ах какая все же ты еще девочка! Но любовь тебя захватила уже так, что разум целиком подчиняется только сердцу. Любовь слепа, любовь глуха. Да, да… И что же тут сделаешь?
А может быть, это он сам, идя к старости, слепнет и глохнет и не способен уже отличить черное от белого? Может быть, это он сам, действительно, в хорошей простоте человеческой предубежденно видит что-то недоброе? Может быть, черт возьми, и ему, по-мухалатовски, следует держать себя проще!
Но как — проще? Сказать, например, Римме, что все же идея нового аккумулятора принадлежит никак не Мухалатову, а ему, что это он сам предложил Мухалатову поработать над нею и потом помогал советами. Предложил, совершенно не думая о возможной утрате своего приоритета, личной славы. Была бы науке и государству польза. И дело совсем не в том, что новый аккумулятор будет носить имя Мухалатова, а не Стрельцова или двойное — Стрельцова и Мухалатова. На вещи действительно надо смотреть проще. Но просто ли, когда Мухалатов, отлично зная, чью идею он доводит до конца, нигде, никому не считает нужным объявить об этом? И даже, читая рукопись Риммы, говорит ей, что, мол, отец твой тоже имеет к предмету «какое-то» отношение и может внести собственной рукой любые поправки, то есть, выходит, включая и ту, что аккумулятор создан Мухалатовым по идее Стрельцова.
Так отчего бы тогда ему, «человеку удивительной простоты», и не сказать Римме об этом? Почему бы не сказать твердо, что именно без такой поправки он ни за что не сможет согласиться на публикацию статьи? Почему, наконец, этот «удивительно простой человек» ничего не рассказал в свое время Галине Викторовне Лапик? Наоборот, использовал в разговоре с нею его, стрельцовский, образ банки с горохом. Какое иезуитство, ах какое иезуитство!
Нет, нет, он не считает Мухалатова шарлатаном, работа Мухалатовым проделана серьезная. Конечный успех — это его успех. Но что убавилось бы у него, если бы Мухалатов пришел к человеку, подсказавшему чрезвычайно интересную и плодотворную идею, поблагодарил за нее и предложил всюду об этом объявить публично! Ведь он, Стрельцов, ни за что не принял бы такого предложения! Он просто — именно просто — пожал бы руку Владимиру Нилычу и сказал от души: «Спасибо, дорогой! Ну что же, что моя идея — осуществили ее вы. И молодец. Мне с нею, вероятно, так-таки было бы и не справиться. Радуюсь вашей удаче!» Но Мухалатов не пришел. Не пришел, зная, что «подарена» ему идея была без свидетелей. Зачем же рисковать? А вдруг этот Стрельцов теперь спохватится, начнет цепляться: «Примите меня хоть в соавторы!»
Не жаль своей идеи, она не пропала зря, жаль поколебленной веры в благородство человеческое. И жаль Римму, которой все это объяснить невозможно, потому что любовь и глуха и слепа, и отцов дочери слушают со вниманием и уважением только до той поры, пока обращение «девочка» не вызывает у них раздражения.
Вот она, главная причина пасмурного настроения, все прочее — только лишь приложение.
Стрельцов поднялся с табуреточки, подошел к распахнутому окну. Сквозь листву деревьев проглядывало солнце. Светлое, сверкающее. Приятно пахло молодой зеленью, сосновой смолкой.
Он постоял, представляя себе, как сейчас бежит Римма по дорожке к платформе электрички, все вглядывается, где же ее Володя, а сама твердит слова осуждения отцу, — постоял и отвернулся.
Солнце светило. И пахло молодой зеленью, сосновой смолкой. Все было как будто бы так и в то же время совсем не так.
Глава восьмая На второй космической скорости
Истинным и самым высоким удовольствием для Лидии Фроловны было — делать людям приятное. В этом ее предприимчивость не имела границ. Во всяком случае сметно-финансовых. Не подходило по статьям профсоюзного бюджета или вообще бюджет был исчерпан, а что-то приятное человеку сделать было необходимо, — Лидия Фроловна шла к Стрельцову, к Фендотову и выбивала недостающую сумму из директорского фонда. На самый худой конец — тратила свои личные деньги, зарплату. Но от задуманного, а тем более обещанного никогда не отступалась.
Своеобразна была манера ее работы. Лидия Фроловна всегда со всеми соглашалась, на посторонний взгляд — беспринципнейший человек. Но «соглашалась» она по-разному: или по существу дела, или просто ради вежливости. Просто так можно было только сочувственно покивать головой. Ну, а то, что Лидия Фроловна считала бесспорно правильным по существу дела, она непременно уж доводила до конца. Тихонечко, без шума, а доводила.
В молодости Лидия Фроловна учительствовала, преподавала географию, без памяти любила ее и знала назубок. Возможно, именно потому больше всего ей нравилось устраивать людям поездки.
Ехать!.. Относилось ли это слово к коллективному выезду в подмосковную зону отдыха, к туристской ли поездке за границу или по отечественным маршрутам, относилось ли к индивидуальному направлению на лечение в санаторий, — одно это слово «ехать» сразу преображало Лидию Фроловну. Наделив заинтересованных лиц обширнейшими сведениями по географии тех мест, куда предстояла поездка, Лидия Фроловна тут же вдохновенно хваталась за телефонную трубку, звонила и туда и сюда и обеспечивала самые идеальные условия передвижения. Ее уже знали всюду: в управлениях пассажирской службы воздушных, железных, водных и шоссейных дорог. Короче говоря, для Лидии Фроловны все дороги были открыты. За исключением разве дороги в космос, к звездам.
На этот раз Лидию Фроловну захватила мысль: организовать в воскресный день коллективную прогулку на теплоходе по каналу Москва — Волга.
Поначалу все складывалось как нельзя лучше. Перворазрядный буфет от кафе «Андромеда» стал бы обслуживать участников поездки не только на борту теплохода, но и на берегу, во время длительной стоянки у какого-то «нетарифного» острова на Учинском водохранилище. Самодеятельный заводской оркестр тоже готов был играть столько, сколько понадобится. А на всякий случай к нему добавлялось и еще два магнитофона с усилителями звука. Разумеется, не забыла Лидия Фроловна и о врачах, медсестрах и фотографах. Заводской физрук, по ее установкам, приготовил целый ворох мячей, волейбольных сеток и городошных комплектов. Пароходство выделило специальным рейсом один из самых лучших прогулочных теплоходов. Словом, поездка обещала быть веселой, бодрящей и комфортабельной в полной мере.
Но вдруг все зашаталось. Когда Лидия Фроловна подсчитала на карандаш, во что обойдется ее замысел профсоюзному бюджету, она так и ахнула. Смета завкома решительно не выдерживала. И собственной зарплатой никак ее не подкрепишь — уж очень велик разрыв.
Лидия Фроловна тут же пошла «по грибы» к Фендотову. Тот переадресовал к Стрельцову. А Василий Алексеевич, просмотрев печальные выкладки Лидии Фроловны, только покачал головой: «Нет, здесь я вам не союзник. Но выход из положения вижу, между прочим, совсем неплохой. Зачем вы зафрахтовали такой большой теплоход? Он пойдет наполовину пустым. Возьмите еще какой-нибудь коллектив в пай. И все сойдется». Лидия Фроловна немедленно согласилась, но высказала сомнение насчет того, что полного удовольствия тогда уже не получится, «чужие» станут мешать «своим», непринужденность исчезнет. «Ты сам первый в трусах одних не пойдешь по палубе разгуливать!» Но Стрельцов был неумолим, и Лидия Фроловна, чтобы не загубить в целом свою идею, вынужденно пошла на всемерное сокращение расходов, и прежде всего по пути, предложенному Стрельцовым.
Так на теплоходе вместе со «своими» оказалась и добрая треть «чужих».
Первые же часы плавания по каналу доказали, что тревоги Лидии Фроловны были напрасными. «Чужие» нисколько не мешали «своим», вперемешку они сидели в салоне и просто под тентом за столиками, знакомились друг с другом, увлеченно беседовали, а молодежь танцевала. Василий Алексеевич, правда, не разгуливал по палубе в одних трусиках, но за дымовой трубой, где был устроен солярий, с удовольствием позагорал в том виде, в каком и положено загорать.
Каюты не распределялись, можно было зайти в любую свободную, посидеть в холодке и даже прилечь на диване. Только для Галины Викторовны Лапик сделали персональное исключение — ей вручили ключ от люкса. Иначе она не соглашалась поехать. Иван Иваныч провел в госкомитете почти целый день, неизвестно — лишь ради этого или попутно решая и еще какие-то другие дела.
А вот визит к Жмуровой у него окончился неудачей. Елена Даниловна не только отказалась от поездки, заявив, что это вовсе не отдых, а ей хоть один-то день в неделю необходимо отдохнуть «как следует», но и пробрала Фендотова тоже «как следует» за неправильное оформление документов на мухалатовский аккумулятор. Оказывается, требовался еще протокол специального совещания при директоре, которое почему-то не было созвано.
Лапик вдвоем в Фендотовым сидела теперь на защищенной от солнца и ветра скамье в корме теплохода и повторяла жмуровские упреки уже на свой лад:
— Как это можно было упустить! Ну, вас я понимаю, Иван Иваныч, весь завод у вас на плечах. А что же Василий Алексеевич?
Фендотов попробовал защитить своего заместителя:
— Не отделяйте меня от Стрельцова, Галина Викторовна. Прохлопали мы — так оба. На плечах Василия Алексеевича тоже немало всяких забот.
— Вы известный гуманист, Иван Иваныч. Вы никого не желаете обижать, — сказала Галина Викторовна. И добавила с досадой: — А вы думаете, от Елены Даниловны только вам попало? Думаете, меня похвалили за это?
Сказала и спохватилась. Неладно вышло: сама набивается на сострадание. И действительно, Фендотов не прозевал.
— Галина Викторовна, мы вам столько всегда причиняем неприятностей и забот своей, ей-богу же, какой-то совершенно невероятной разболтанностью, что следует только удивляться вашему долготерпению. Если кто из нас двоих и гуманист — так это вы, добрейшая душа!
Фендотов говорил легко, не вдумываясь в свои слова, даже не подбирая их как следует. Для него это был день отдыха, веселая прогулка, вдобавок без жены, и любой разговор на прогулке — простая и пустая болтовня.
Но если Лапик охотно принимает его неискренне-искренние хвалебные речи, что же, он может и еще добавить, это ему ровным счетом ничего не стоит, а расположение Галины Викторовны всегда кое-что значит. Сейчас, например, она готовит проект записки от имени госкомитета в Совет Министров, где испрашиваются довольно-таки крупные, а главное, очень нужные суммы на приобретение специального оборудования. Вне плана. Тоже в свое время «прохлопали». Жмурова негодует, председатель госкомитета морщится, а Лапик все-таки действует. По методу «капля камень долбит». Один вариант, другой вариант записки, один разговор, другой разговор с Еленой Даниловной, а у той — с председателем госкомитета, — и надежд на успех появляется все больше и больше. Да, да, аппаратные работники — великая сила. Нельзя, ни в коем случае нельзя ею пренебрегать.
И Фендотов принялся нахваливать Галину Викторовну сверх всяких мер, а себя и Стрельцова, тоже сверх всяких мер, ругать и выставлять недоумками.
А теплоход между тем шел и шел, оставляя за кормой недолгую пузырчатую дорожку, взбегающую потом шумливыми волнами на зеленые откосы канала. Дул вкусный речной ветерок и уносил прочь каменные и нефтяные запахи большого города, Москва давала знать о себе только далеким набором высоких и острых шпилей. Трудился самодеятельный духовой оркестр, а на другом конце теплохода в полную мощь гремела еще и радиола. Здесь танцевали, там пели песни. В буфете, стоя, мужчины пили коньяк и пиво, а женщины — лимонад и черный кофе. На столики под тентом подавались горячие сосиски и пирожки с капустой. Сопротивляясь наступлению голодающих на столики, доминисты невозмутимо забивали козла. Словом, все развивалось по замыслу Лидии Фроловны — людям было приятно и весело.
Только Маринич и Лика бродили по теплоходу, как-то отделившись от всех. Им было не очень весело.
Накануне, в субботний день, из банка, где получала крупную сумму денег для выдачи зарплаты рабочим, Лика вернулась заплаканная, хотя и постаралась скрыть следы слез. Александр подписал приходный ордер, вручил ей ведомости, которые Лика должна была вместе с деньгами отнести в цехи, там оставить, а к концу дня собрать остатки денег и заполненные расписками рабочих ведомости, — выплаты производились без кассира, по доверию, — и тут только заметил, что Лика сама не своя. Спросил, что случилось. Она, жалостливо дернув губами, выбежала из кабинета. В течение дня Александр больше не видел Лику. Не встретилась она и по окончании работы, у проходной.
Дома он провел беспокойный вечер. Перед глазами так и стояло потемневшее, растерянное лицо девушки, к которой у него… Словом, ему далеко не все равно, какая новая беда у нее приключилась!
Он предположил: опять распоясался Петр Никанорыч. Но утром на работу Лика пришла веселая, ничуть не встревоженная. Получая чек и готовясь к поездке в банк, она еще пошутила, что видела американский фильм, в котором у кассира отнимают деньги, и теперь боится — вдруг и на нее нападут. Нельзя ли выдать ей пистолет?
Подумал и другое. Под вечер, в пятницу, его и Лику вызывали в прокуратуру. Следователь долго расспрашивал их о том, о сем, как им работается, какая вообще обстановка на заводе, много ли случаев приписок, хищений и всяких недобрых дел приходится пресекать бухгалтерии. Потом вздохнул:
«Получается, в целом-то коллектив у вас вполне здоровый. И вот такая история. Мы тут наводили некоторые справки. Характеристику, между прочим, этому самому Власенкову, — он просмотрел свои записи, — администрация вашего завода дает в общем-то неплохую. Звонила мне и председатель завкома. Мнение профсоюза: человек осознал. Так как? Стоит ли раздувать это дело, при его малозначительности?» Следователь движением руки в воздухе как бы перечеркнул заявление Маринича.
«Раздувать — не надо, — сказал тогда Александр, — а поступить как положено, по закону».
«По закону положено подобные дела в отдельных случаях прекращать. По малозначительности, — сказал следователь. — Тем более что характеристики Власенкову даются хорошие, человек осознал и, кстати, даже и факт-то подлога документами не устанавливается. Вот вы сами пишете: документы Власенковым уничтожены».
«Так вот же свидетельница! — Маринич показал на Лику. — Дело происходило при ней. Она все видела».
«Потому я и вызвал Пахомову вместе с вами, — сказал следователь, явно стремясь побыстрее провести свой разговор по заранее составленному плану. — Только что она, согласно заявлению вашему, видела? Как Власенков изорвал документы? Или то, что они были поддельными? Что именно видели вы, гражданка Пахомова?»
«Я видела, как он их порвал. Он безобразно ругался, и если…».
«Ну вот — «безобразно ругался»! А видели только то, что Власенков документы порвал. А разве не мог человек это сделать в запальчивости, в раздражении? Так, между прочим, и толкует председатель вашего завкома, она беседовала с Власенковым. Короче говоря, мое мнение: заявление ваше, ввиду малозначительности содержащихся в нем фактов и отсутствия достаточных доказательств, к производству не принимать. — Следователь слегка подтолкнул по столу к Мариничу его заявление. — Согласны? Вижу: нет. А вы тогда подумайте. Денька три. Ну, допустим, в среду скажете окончательно. И я доложу прокурору. А там — как он решит».
«Такому хаму прощать? — изумленно сказала Лика. И вскочила, оскаливая зубки. — Да я его увижу, глаза ему выцарапаю! Это он «осознал»! Он порвал документы «в раздражении»! Да я ему…»
И потом, выйдя из прокуратуры, Лика так много раз повторяла свои угрозы, что Александр шутливо предупредил ее: «Гляди, сама тогда попадешь в обвиняемые!»
Не случилось ли так, что Лика в субботу, уже по возвращении из банка, где-то встретилась с Власенковым и выпалила ему свои злые, но справедливые слова прямо в лицо? А тот конечно же ответил ей оскорблениями! Ну что другое так еще могло бы расстроить девушку? Маринич готов был в этот же вечер навестить ее, но как раз пришла с дежурства мать, заговорились — именно об этом, — и время наступило позднее. А с утра в воскресенье предстояла прогулка на теплоходе… Если Лика на место общего сбора в Химках не явится, он не поднимется вместе со всеми на теплоход, а вернется в Москву — поедет к ней!
Лика, такая же расстроенная, как и в субботу, со следами слез на глазах и плохо подкрашенными ресничками, появилась у причала как раз в тот момент, когда готовились убирать трап, а Маринич уже сбежал с теплохода на берег.
Теперь они бродили по палубе, с теневой наветренной стороны, где меньше было народу, и разговаривали, не зная о чем. Каждый хотел и ожидал от другого взаимной и полной откровенности, а решиться на это, особенно Лике, было не просто. Когда она первый раз, в автобусе, открыла всю душу свою Александру, тогда ей совсем незнакомому, сделать это было не трудно, разговор с чужим — все равно что разговор с самим собой. А теперь…
Но тем не менее, слово за слово, круг за кругом по палубе, Мариничу стало ясно: действительно, была у Лики и неприятная стычка с Власенковым, и действительно, буйствует снова Петр Никанорыч. Власенков мало того что первый налетел на Лику и изругал совершенно бесстыдными словами, он назвал ее еще и подлой провокаторшей, шептуньей, которая без всякой для себя нужды обратила внимание бухгалтера на железнодорожные билеты. А Петр Никанорыч в кровь избил Веру Захаровну, она кое-как дотащилась до автомата и позвонила на завод в тот момент, когда Лика уже закрывала кассу, готовясь ехать в банк за зарплатой. На обратном пути Лика попросила шофера завернуть к ним на минуту. Вбежала в комнату…
— Саша, хотя и родной отец он мне, но зверь он или человек? — говорила Лика и сглатывала слезы. — Сестренка с приступом лежит, мама вся забинтованная, ногу волочит, так избита, а папа за столом, в обнимку с бутылкой, поет себе: «Траля! Ля-ля-ля-ляй!..»
И все же, сверх перепалки с Власенковым и сверх отчаянного положения у себя в доме, еще что-то сковывало Лику, наполняло тревогой. И это, третье, Александр никак не мог разгадать.
Они проходили мимо двери, ведущей в буфет. Дверь стояла распахнутой настежь, аппетитно позванивали стаканы, и доносились веселые, возбужденные голоса. Лика вдруг сказала с ожесточением:
— Саша, давайте и мы зайдем, тоже выпьем! Мне хочется.
Она пробилась к буфетной стойке впереди Александра. По ее заказу были налиты два больших фужера шампанского, и, как ни протестовал Александр, Лика не позволила ему заплатить.
— Это я вас позвала и угощаю. Иначе даже пить не стану, выплесну за окно!
Заметно было, что Лика нарочито подбадривает, взвинчивает себя, пытается искусственно сбросить ту связанность, которая почему-то все время одолевает ее. Она первая подняла свой фужер, чуточку полюбовалась на бегущие по стеклу пузырьки и выпила длинным глотком до дна, как воду. Выпила и закашлялась. На щеках, на шее проступили горячие красные пятна. Лика распахнула воротник заношенного пыльника. Открылась двойная низка желтых бус. Лика ухватилась за нее, скомкала в горсточке, преодолевая глубокий сильный кашель.
— Ой, чуть не порвала свои новые янтари! — сказала она, посмеиваясь сквозь слезинки и глубоко переводя дыхание. Шагнула снова к буфетной стойке. — Лариса, налей еще!
— Лика! — с упреком остановил ее Александр.
Она беспечно отмахнулась, бросила на прилавок деньги.
— А! Хоть раз в жизни. Все равно. Пить так пить. Я угощаю…
— Правильно, Ликочка: пить так пить! Но только угощаю я.
Сильно навеселе, между ними врезался Мухалатов. С ловкостью фокусника он схватил с прилавка бумажку, брошенную Ликой, бесцеремонно сунул ей чуть ли не в вырез платья, заплатил Ларисе своими деньгами и роздал фужеры. А выпили молча.
Мухалатов потащил Маринича за собой.
— Виноват, Ликочка, у меня к нему несколько вопросов.
Он увел Александра в самый нос теплохода, пьяно перегнулся через перила и, поплевывая в широкие пенные усы, расходящиеся в стороны от быстро скользящего по каналу судна, заговорил с недоброй ленивостью в голосе:
— Сашка, вот тебе вопрос первый. Почему не поехала Римма? — И не стал ждать, сам ответил: — Потому что не поехал и супруг Галины Викторовны Лапик. А дальше — цепная реакция. Логично и убедительно? Ну, а Василий Алексеевич именно этой параллелью подкрепил мне свои разъяснения. Фендотов, дескать, тоже поехал один. Вопрос второй. Как должен это расценить я? Наплевать на Римму или наплевать на Василия Алексеевича? Третьего не дано. Римма, конечно, не маленькая, за руку папа не водит девочку уже давно, а факт остается фактом: она могла бы поехать, но не поехала. Снова спрашиваю: почему? Тебе это известно, Александр Иванович? — Он вяло покрутил головой. — Тогда я вообще плевал на все! Вопрос третий. Где тут можно принять душ? Сегодня я обязательно и еще пить буду, а голова у меня уже как компас: стрелка одним концом показывает только на север, другим — на юг, а где расположены прочие части света, ей совершенно не важно. И вопрос последний. Василий Алексеевич Стрельцов на севере сейчас или на юге?
Не слушая Александра, Мухалатов снова потащил его за собой. Шел и спрашивал на пути чуть не каждого встречного, где на теплоходе можно принять душ. Маринич убеждал Владимира: душ принять, а потом лечь и выспаться. Не надо себя настраивать против Стрельцова и вообще не надо пить. Напоминал Владимиру, что он никогда ведь особым пристрастием к спиртному не отличался. Чего ради он себя горячит?
Мухалатов отмахивался:
— Ты что, думаешь, я сейчас уже очень пьян? Или хочу сегодня напиться до безобразия? Шалишь! Плохо ты знаешь Володьку. Интересуешься, почему же я тогда стремлюсь в душ, а потом снова пить собираюсь? Мне необходимо иметь состояние духа, точно отвечающее моим расчетам. Состояние вроде второй космической скорости, как раз достаточной, чтобы преодолеть земное тяготение и выйти на круговую околосолнечную орбиту, но не улететь совсем В безграничные просторы вселенной. Вот так. А Василий Алексеевич Стрельцов интересует меня ровно настолько, насколько я интересую Римму Васильевну Стрельцову.
И скрылся за дверью душевой.
Досадуя, что не сумел и не успел убедить Владимира в ненужности его затеи насчет «второй космической скорости», Маринич по нескольку раз обошел и верхнюю и нижнюю палубы. Заглядывал в буфет, в музыкальный салон, во многие каюты, поднялся даже на капитанский мостик — Лики нигде не было. Куда она исчезла? Буквально как в воду канула!
Крутые берега канала, поросшие травой и мелким тальником, быстро убегали назад. Тут и там неподвижно сидели рыбаки с бамбуковыми удилищами в руках. Они провожали теплоход сердитыми взглядами: «Черти, пугают рыбу!» И Александру подумалось: куда спокойнее было бы этим рыбакам сидеть дома, закинув удочки в ведра с водой. Там теплоходы не помешали бы, а результат — такой же.
Еще он подумал, что день удивительно хорош, тихий, теплый, солнечный, всем весело, а Лика печальная. Чего-то она все же недоговаривает. Почему? И что именно?
Наискосок от него под тентом, за столиком, где можно было и коньячку заказать и как следует подкрепиться горячими сосисками, расположились Фендотов, Стрельцов и Лапик. Все радости выходного дня, все его солнце, тепло и свет лежали на лицах Ивана Иваныча и Галины Викторовны. Стрельцов был как-то ко всему безразличен. Казалось, он сидит здесь по обязанности.
Вдруг появился Мухалатов. Он шел, держась чересчур прямо, вороша мокрые волосы растопыренными пальцами. Было заметно, что он хочет пройти мимо, но так, чтобы на него все же обратили внимание.
И действительно, Галина Викторовна весело захлопала в ладоши, засуетилась, сдвигая бутылки, стаканы, тарелки, чтобы освободить одни край столика.
— Владимир Нилыч, к нам! — Дождалась, когда он уселся. — А мы только что о вас говорили.
— Обо мне все говорят, а вот со мной — далеко не все.
Лицо Мухалатова светилось добродушием. Он обращался персонально к одной Лапик. И Галина Викторовна, немножко подогретая коньячком, откликнулась ему тоже совсем персонально и тоже светясь, может быть, добродушием, а может быть, и чем-то большим.
— Вы удивительно остроумный и находчивый человек, Владимир Нилыч. Люблю таких! Позвольте тогда и мне чуть-чуть поиграть словами. О вас могут говорить и совсем ни к чему не способные люди, а с вами говорить могут только способные говорить с вами.
— У-у, какой я, оказывается, исключительный, — протянул Мухалатов и поискал среди бутылок, чего бы выпить. Нашел коньяк, налил Галине Викторовне первой, потом и остальным. Дождался, когда Лапик выпьет все, до капли. — Какой я исключительный! А мне так о многом хотелось сегодня поговорить с вами. Оказывается, это невозможно.
— Ого! — В голосе Лапик прозвучала шутливая, ласковая угроза. — Берегитесь! Значит, я не способна разговаривать с вами? Ну, знаете ли… Я вас пригласила, но сама вынуждена уйти.
Она с подчеркнутой театральностью встала. Поднялся и Мухалатов, сгорбившись по-медвежьи.
— Галина Викторовна, у меня есть только единственное средство исправить свою грубую выходку, это — уйти вместе с вами.
— О-о, еще каламбур? Ну нет, — сказала Галина Викторовна многозначительно, покачивая головой, — это средство совсем-совсем не единственное. Есть у вас и другие, гораздо лучше. Но сегодня, знаете, как на гастролях Аркадия Райкина, любые пропуска и контрамарки недействительны.
И Лапик ушла. Фендотов силой притиснул Мухалатова к стулу, торопливо наполнил фужеры.
— Ты понял? Ты понял? Ну, поздравляю! Победа!
— Я не понял, для чего вы задержали меня, Иван Иваныч, — с искусственной сердитостью в голосе сказал Мухалатов.
Выпил ожесточенно. И посмотрел искоса на Стрельцова. Тот сидел молча, немного хмурясь.
— Дорогой мой! — всплеснул руками Фендотов. — Да как же вы не понимаете, что любому человеку время от времени становится просто необходимо побыть одному! Ну? И он — или она — подыскивают тогда какой угодно повод, чтобы красиво удалиться. Галина Викторовна еще до вашего появления пять раз пыталась уйти, но я, глупейший и жестокий человек, неизменно препятствовал этому. Вы оказались очень кстати. И так и этак. Владимир Нилыч, как говорится, «если счастье лежит у вас на пути, не проходите мимо». Не проходите мимо каюты люкс!
В глазах Фендотова прыгали озорные бесенята. Праздничное настроение, армянский коньячок рисовали в его воображении черт те что. Мухалатов быстро выпил еще.
— Совет или приказ, Иван Иваныч?
— И совет и приказ. Переждите пятнадцать — двадцать минут и, пока Галина Викторовна сама сюда не вернулась, постучитесь к ней. — Он вяло помотал рукой, засмеялся: — И все будет великолепно! Ваши акции, и так неплохие, поднимутся тогда в комитете до невероятнейшей высоты…
Стрельцова передернуло. Он снял очки, бросил на столик. Сказал очень строго:
— Иван Иваныч, вы уже изрядно хлебнули. Может быть, и вам следовало бы уединиться? А потом постоять на ветерке?
— Дорогой Вас-силий Ал-лексеевич, мне просто хочется сделать сегодня приятное и Владимиру Нилычу и Галине Викторовне. Мне кажется, я сегодня председатель завкома…
— Иван Иваныч, я прошу вас…
— Не надо просить, Василий Алексеевич, я сам все хорошо понимаю, — весело перебил Фендотов и показал себе на уши: — Это режет ваш рыцарский слух. Пуританский слух. Владимир Нилыч, — он наполнил фужеры, свой и Мухалатова, — давайте все же выпьем и, последовав рекомендациям Василия Алексеевича, тоже уединимся. А там спланируем все остальное.
— Иван Иваныч, — с еще большей строгостью сказал Стрельцов, — вы много выпили, и ваши шутки…
— Какие шутки? Почему шутки? Это научно обоснованная программа вполне серьезных действий! А главное, полезных… — Фендотова озарило: — Да, да, полезных и для завода. Владимир Нилыч, вы окажете заводу неоценимую услугу! Мы будем тогда в госкомитете действовать исключительно через вас. А уж для своей лаборатории и еще для какого-нибудь новейшего аккумулятора вы там, конечно, получите…
Стрельцов оскорбленно вскочил. Он понимал, что продолжать разговор с захмелевшим Фендотовым совершенно бессмысленно, а оставаться здесь, слушать эту развязную болтовню просто непереносимо. Лучше уйти. Мухалатов повертел свой фужер, рассмотрел на свет, повернулся к Стрельцову, на этот раз выпил очень медленно, как бы с философским раздумьем.
— За здоровье той, кого сейчас нет за этим столиком!
И потом с недоумением, просительно, вслед Стрельцову:
— Василий Алексеевич, погодите, остановитесь. Вы меня, как обычно, не поняли.
Глава девятая Папа пошел пить пиво
Теплоход осторожно втягивался в шлюз. В бетонной его коробке команды капитана отдавались гулким эхом. Попахивало рыбой и ржавым железом. А где-то там, выше, за тяжелыми запорами, еще более тяжелое, неотступно давящее на все шлюзовые сооружения, лежало подобное морю водохранилище, и резвый ветерок оттуда порывами трепал узкий вымпел на флагштоке теплохода.
Галдеж на верхней палубе стоял невероятный. Все были знатоками речного дела, все считали себя обязанными разъяснить, каким образом начнется шлюзование. И так как объясняли все, а слушать никто не хотел, шум усиливался.
Только Стрельцов держался в стороне. Он пытался перебороть в себе гадкое чувство чисто физической неприязни к Мухалатову. Ну в самом деле, что особенного было в той пьяной мужской болтовне? Обычная словесная пена — и только. Без цели, без мысли, без содержания. Сейчас их, наверно, уже продуло ветерком, они сидят, беседуют, как и полагается умным, вдумчивым инженерам даже в день отдыха. А он сорвался, убежал, будто мальчишка, которого задразнили приятели. Фу-ты, как глупо! И почему он двусмысленную здравицу Мухалатова отнес именно к Римме? Ведь за столиком в тот момент не было и Галины Викторовны. Хотя — чем это лучше?
Нет, надо взять себя в руки, стать выше личных антипатий, Владимир Нилыч Мухалатов прежде всего отличный специалист своего дела, и этим, только этим должно определяться к нему отношение. Ужасно, когда вступают в силу собственные интересы и входят в противоречие с общественными, государственными интересами.
И Жмурова и Лапик совершенно правы. Накладка с оформлением документов на аккумулятор Мухалатова — да, да, черт возьми, Мухалатова! Мухалатова! — это накладка получилась в известной степени и по его, Стрельцова, вине. Он сделал эту промашку неосознанно, никак не стремясь чем-то насолить неприятному для него человеку. Ему просто удалось выключить на какое-то время из своих особых, душевных забот это дело, так, как будто не существовало вовсе ни нового аккумулятора, ни Мухалатова. И он обрадовался той приятной легкости, которая сразу его охватила.
Но разве это достойно порядочного человека? И заместителя директора завода? Чем, собственно, такой психологический вакуум отличается от активной борьбы против неприятной для себя личности? Именно личности!
Нет, нет, Фендотов мог о чем-то забыть или чего-то не предусмотреть, это естественное и милое свойство его характера. Он, Стрельцов, человек совсем иного склада и обо всем должен помнить. Тем более постоянно должен помнить о «зеленой улице» для нового аккумулятора. В частности, и потому, что это — «аккумулятор Мухалатова».
А личное… Личное надо и решать всегда в строго личном плане, отделив его от общественного с такой же тщательностью, с какой разделяют изотопы урана, без чего ядерная реакция невозможна. Ты ведь решил для себя: забыть, что в самом начальном замысле это полностью твоя идея — новый аккумулятор. Ты решил: воплощенная в жизнь, твоя идея, как бы то ни было, принадлежит все-таки советской науке — и этого уже достаточно. Да, но как забыть, что Римма с Мухалатовым…
И, значит, ты неизбежно опять соединишь общественное с личным! Какой же выход?
В шлюзовой камере клокотала, бурлила вода. Теплоход вздрагивал. Поскрипывали стальные тросы. Небо, облака над головой разбегались вширь. Стрельцову все это было не ново, а бессодержательный, праздный галдеж на палубе раздражал. Он отступил в прохладный тихий коридор, рассекавший теплоход по длине надвое, вошел как раз в ту его часть, где располагались каюты люкс.
Вошел — и запнулся. У каюты, отведенной Лапик, к Стрельцову спиной стоял Мухалатов и осторожно давил на ручку двери. Потом заглядывал в замочную скважину и снова давил на ручку, очевидно пытаясь разгадать, заперта ли дверь на ключ или просто открывается туго.
Первым, непроизвольным движением Василия Алексеевича было — уйти, пока не заметил его Мухалатов. Но тут же, стихийно ломая весь ход предыдущих, сложных его рассуждений, ворвалась простая и отчетливая мысль: так поступить он не имеет нравственного права. Ведь этот человек считает себя женихом Риммы. Он ходит к ней в дом, и Римма, покорно влюбленная, готова бежать за ним, куда бы он ее ни позвал. Нельзя! Нельзя стать молчаливым соучастником и даже как бы поощрителем, оказывается, совсем не шуточной пьяной затеи Фендотова и Мухалатова! Личное это или не личное…
Холодные мурашки стянули ему кожу на лице.
— То, что вы пьяны, Владимир Нилыч, не освобождает меня от обязанности дать вам пощечину, — негромко сказал Стрельцов и подошел ближе.
Мухалатов быстро выпрямился. Не выпуская дверной ручки, подергивая губами в неопределенной улыбке, смотрел на Стрельцова. Потом сказал:
— Символически или в натуре? Если символически, — он пожал плечами, — что ж, принимаю смиренно. Но если в натуре — произойдет драка, Василий Алексеевич!
— И вам не совестно, Владимир Нилыч? — тем же негромким голосом спросил Стрельцов.
— А вам не кажется, Василий Алексеевич, что вы иногда оказываетесь не совсем там, где вас ожидают?
— Не думаю, чтобы вас здесь ожидали.
Не надо думать за других, Василий Алексеевич. Это хорошо умеет делать только знаменитый Вольф Мессинг. Вы помните Марка Твена? Том Сойер ходил на голове, чтобы обратить на себя внимание белокурой девчурки Бэкки Тэтчер. Не раздражайтесь, если женщины обращают на меня благосклонное внимание, когда я хожу на ногах…
— Вы едва держитесь на ногах, — уже несколько повышая голос, сказал Стрельцов. — У меня нет желания продолжать состязание в остроумии.
— А я жду пощечины, — заявил Мухалатов. И серая пленка на мгновенье затянула ему глаза. — Мне надоело. Хочу, наконец, с вами подраться!
— Уйдите отсюда, Владимир Нилыч! Немедленно уйдите! — едва сдерживая гнев, вскрикнул Стрельцов.
Добродушная усмешка вдруг промелькнула на губах Мухалатова.
— Как обычно, вы ничего не поняли, Василий Алексеевич. — И слегка наклонился к Стрельцову, продолжил с той двусмысленностью, с какой недавно провозглашал за столиком тост: — Здесь, за этой дверью, находится совсем не та, о ком вы думаете…
Теряя самообладание, Стрельцов оттолкнул Мухалатова, занес руку… Но — щелкнул замок, и на пороге появилась Галина Викторовна, слегка заспанная, сияя своей просторной, модной улыбкой.
— Что за шум? Вот петухи! — проговорила она, поправляя измятую прическу. — Это серьезно?
— Да, совершенно серьезно, Галина Викторовна, — сказал Стрельцов, морщась от вдруг возникшей боли в висках.
— Василий Алексеевич распекает меня за то, что я в выходной чуточку лишнее выпил. Что делать — такова жизнь. Виноват, — спокойно объяснил Мухалатов и в обе свои ладони поймал, крепко зажал руку Стрельцова. — Честно и от чистой души во всем, абсолютно во всем прошу у вас прощения, Василий Алексеевич!
— Ох уж мне эти трезвенники! — Лапик шутливо боднула головой в сторону Стрельцова. — Зачем только и ездят они на прогулки вместе со всеми? Хотя вид у вас, как говорится, вполне соответствующий. Сознайтесь, Василий Алексеевич, и вы сегодня себе разрешили? — Лапик многозначительно ему подмигнула. И повела рядом с собой Мухалатова. — Владимир Нилыч, а это что такое? В окно видны какие-то унылые бетонные стены… Ах, как хочется скорее на остров, на зеленую травку!
— А вот выйдем из шлюза и…
Они смешались с толпящимися на палубе пассажирами.
Стрельцов отыскал незанятую каюту, прилег на диван. У него разболелась голова, покалывало в сердце.
До желанной «зеленой травки» добрались не так-то скоро. Зато теплоход причалил действительно близ превосходнейшей лужайки, позади которой, осыпанный солнцем, белел густой березовый лес.
Все бросились к трапам с таким видом, словно бы никогда уже и не собирались возвращаться обратно. Включив мегафон, Лидия Фроловна безуспешно призывала своих подопечных внимательно прислушиваться к сигналам и повторяла, что продолжительность стоянки только четыре часа и после второго гудка теплоход отойдет ровно через пятнадцать минут, предупреждала, что потом выбираться отсюда будет не на чем, рейсовые суда на этот остров не заходят, — никого это не трогало.
Люди побежали в березовый солнечный лес, и он сразу наполнился веселым ауканьем. Городки, как дрова сваленные в кучу возле трапа, лежали без пользы. Никому не хотелось готовить площадки. Волейбольные сетки все же натянули на какие-то жердочки. Они падали всякий раз от сильного удара мячом. И только буфет, вынесенный на лужайку под тень березок, сразу заработал на полный ход. Возле него плотней всего теснились люди.
Маринич отыскал Лику только на берегу и именно здесь, у буфета. Она стояла немного в стороне, под ветвями березы, спустившимися почти до самой земли, и тянула пиво прямо из горлышка бутылки.
— Лика! — обрадованно закричал Александр. — Я обыскал весь теплоход. Где ты была?
— Не знаю, — сказала Лика. — На теплоходе была.
— Вот странно! А я искал, искал. Что это ты пьешь? Пиво! Ты много пьешь сегодня.
— Мне скучно, — сказала Лика. — Сама не знаю, так скучно мне. Хоть в воду…
— Ну пойдем, пойдем куда-нибудь!
Маринич потащил ее на лужайку. Они поиграли немного в волейбол, но команда быстро распалась. Рядом две «чужие» женщины неумело перебрасывали волан бадминтона. Обе грузноватые, веселые, сочным смехом отзывающиеся на свои неудачи. И особенно одна из них, которую в пути еще, на теплоходе, лихие острословы прозвали «Не Может Быть» за совершенно невероятные формы. Изнемогая от своего веса, усталости и беспрестанного смеха, «Не Может Быть» повалилась на траву.
— Ну нет, у меня решительно ничего не выходит, — пожаловалась она Лике. — Вероятно, волан плохо сбалансирован, он не взлетает, а кувыркается. Попробуйте, тоненькая девушка, — и залилась раскатистым, сочным смехом: — А может быть, это я сбалансирована плохо?
Волан был «сбалансирован» отлично. Словно беленькая птичка, он красиво перелетал у Лики и Маринича с одной ракетки на другую, менял высоту и стремительность полета, но ни разу не кувыркнулся в воздухе и не упал на землю. Лика оживилась, перебегая по лужайке, пританцовывала. «Не Может Быть» смотрела на игру как зачарованная и вслух подсчитывала:
— …семьдесят восемь, семьдесят девять… Нина Григорьевна, это вы подавали мне плохо… восемьдесят два, восемьдесят три…
Маринич не стремился «резать» волан. Пусть Лика попрыгает, порадуется, что у нее ловко так получается.
Вокруг них постепенно образовалось довольно большое и плотное кольцо болельщиков, любителей красивых спортивных зрелищ. «Не Может Быть» теперь уже настойчиво и простодушно хвалилась:
— Это я привезла с собой бадминтон. Правда, хорошая вещь?
«Чужие» отвечали ей сочувственными восклицаниями. По всему было видно, что «Не Может Быть» среди них — любимица, душа общества, огонек, способный растопить любую льдину.
На счете сто шестьдесят с чем-то Лика опустила ракетку.
— Устала рука, — проговорила она, довольная. — Не могу больше!
Ее наградили аплодисментами. В кольце болельщиков оказались и Фендотов с Галиной Викторовной; и Мухалатов, снова лишь в легком хмелю, на желанной ему «второй космической скорости»; и Стрельцов, стоящий поодаль от них, чувствующий себя и здесь козой на веревке, но не оставленной свободно на привязи, а хуже — козой, которую на веревке неведомо куда хозяева тащат за собой; и Лидия Фроловна, до смерти довольная тем, что все идет хорошо и что представителями ее коллектива побиты какие-то рекорды.
— Товарищи! — закричала Лидия Фроловна, ловя момент общего подъема духа. — А теперь я предлагаю провести блицвикторину. Когда на земном шаре образовался этот остров? Ну! Быстро!
Кто-то из «чужих» немедленно отозвался:
— Пять миллионов лет назад.
Смеясь его поправили:
— В тысяча девятьсот тридцать девятом, когда образовалось Учинское водохранилище.
Лидия Фроловна в упоении торопила:
— Правильно! А кто открыл планету Нептун? Ну! Быстрее!
Тут уже наступило короткое замешательство. Стрельцов, непроизвольно, совсем механически, буркнул ответ себе под нос. Его не расслышали. Галина Викторовна тянулась. Ее не видели. Лидия Фроловна нетерпеливо прищелкивала пальцами.
— Коперник! — выкрикнул тот же «чужой», который определил возраст острова в пять миллионов лет.
— Бред собачий, — холодным густым баском и с возмущением заявил Мухалатов. — Планету Нептун открыл французский астроном Леверье.
«На кончике пера…» — тогда погромче прибавила и Галина Викторовна.
«Не Может Быть», шумно протестуя, пошла по кругу. Такая викторина интересна специалистам и кандидатам наук, а люди с обыкновенным средним образованием и не обязаны знать, кто и на чем открыл Нептун. Лучше отгадывать шарады. «Чужие» дружно ее поддержали.
— Вот, пожалуйста, — предложила «Не Может Быть». — Первый слог: место, где растут арбузы. Второй слог: место, куда их складывают. А целое: место, где крымский хан ел арбузы.
— Бахчи…
— Сарай… — понеслись голоса, «чужих» главным образом.
— И опять бред собачий, — тем же густым баском сказал Мухалатов. — Крымские ханы ели арбузы не только в Бахчисарае. И потом, если хан назван в единственном числе, то какой именно?
— Не придирайтесь, — обиженно откликнулась «Не Может Быть». Пробилась к Мухалатову и ткнула указательным пальцем ему в грудь: — Вы, заноза! Сочините тогда умную шараду сами.
— Сочиняют писатели. И не шарады, а романы, стихи и рассказы, — все так же, как дятел, продолбил Мухалатов.
— Ну и пожалуйста, рассказ сочините. Если можете! — И обрадовалась: — Ага! Ага! Не можете? Слабо? Коротенький рассказик, слов на пятнадцать. Но так, чтобы в нем было все, как и в большом рассказе. И сюжет, и обстановка, и разговор. Можете? А вот американцы сочинили. Двенадцать слов всего. Товарищи, слушайте: «Купе. Два пассажира. «Бывают привидения?» — спросил один. «Да», — сказал другой. И исчез». Здорово? Правда? — «Не Может Быть» в азарте, как танк, своими формами надвигалась на Мухалатова. Даже ему становилось неловко, он отступал. — А! Боитесь? Не можете? Вы — заноза, «бред собачий»! Ну, сочините рассказ, где все слова на одну букву. Это — можете?
Лидия Фроловна безуспешно пыталась их развести, войти как клин между ними. Но вокруг все хохотали так доброжелательно, хотя и с озорной подначкой, что Лидия Фроловна отступилась. И сама принялась хохотать.
Неожиданно выдвинулся Иван Иваныч Фендотов. Помахал рукою над головой, привлекая внимание.
— Отец Онуфрий, обозревая огород, около огурцов обнаружил…
— Старо! Старо! — оставляя Мухалатова, закричала «Не Может Быть». — Сто лет рассказу вашему. Взялись, так придумывайте сами. Ну, хотя бы на букву «эс». Можете?
Фендотов засунул руки в карманы, слегка повертелся на одной ноге. Потом уставился в небо и начал:
— Соловей свистел среди сирени…
Запнулся.
— …Сукин сын стегнул соловья сучком, — мрачно продолжил Мухалатов. И, видя, что Фендотов замер в замешательстве от столь неожиданного сюжетного хода, решительно, жестко закончил: — Соловей сразу скис. Все! Коротко и ясно.
— Это да! Признаю, — сложив ладошки вместе, восторженно сказала «Не Может Быть» и снова двинулась на Мухалатова. — Вот здорово! А на букву «пэ»?
Она не замечала уже никого, кроме Мухалатова. Как в танце, куда делал шаг Мухалатов, туда, держась очень близко к нему, ступала и «Не Может Быть». Лидия Фроловна суетилась, не зная, предложить ли какую-то новую словесную игру или позабавиться еще этой, явно полюбившейся многим. Она расчетливо прикидывала. Правда, Стрельцов морщится. Но это ведь особенный интеллигент, ему что чуть погрубее — все не по губе. А Лапик из госкомитета то поведет плечами недоуменно, то вдруг взорвется чистым детским смехом, особенно когда посмотрит на Мухалатова. Это признак хороший. Лапик — очень тонкая женщина. А что же, и в самом деле, что смешно, то смешно…
Все сомнения Лидии Фроловны снял Фендотов. Возбужденно жестикулируя, он объявил:
— Владимир Нилыч, я тоже принимаю вызов! Давайте опять дуэтом. Начинаю я. Итак. Папа пошел пить пиво. Пил, пил… мм…
— …Пьяный, попал под поезд, — свободно продолжил Мухалатов. — Перерезанный пополз поперек перрона…
Фендотов, как дирижер, размахивал руками. И, едва дождавшись паузы в длинной фразе Мухалатова, тут же врубил свое:
— …Прибежал постовой, посадил папу… мм…
— …«Пить пиво полезно», — печальный, проговорил папа, подбирая печенку…
Мухалатов, как и Фендотов, наслаждался игрой.
— …«Предъявите, пожалуйста, паспорт!» — потребовал постовой…
— …«Почему?»…
— …«По правилам полагается подобные происшествия протоколировать по предъявлении паспорта. Потом позвоним, пригласим профессора…»
— …«Поздно… Пожалейте… Паспорт пискнул под поездом»…
— …«Превосходно!.. Пройдемте, перерезанный! Полковник проверит, почему пискнул паспорт»…
— …«Пахомов Петр, — помирая, прошептал папа. — Похороните, пожалуйста, посередине площади, перед пивной…»
Мухалатов не успел закончить. Лика рванула у себя с шеи «новые янтари», горько, надсадно охнула, будто ее ударили ножом, и побрела прочь, расталкивая собравшихся. Александр кинулся вслед за ней.
Он понимал: утешать Лику нечего. Пусть потихонечку перестрадает непонятную и жестокую грубость Владимира. Но оставлять ее одну сейчас тоже никак нельзя. Лика должна твердо знать, что у нее есть друзья.
И тут же Мариничу подумалось: в который раз это он повторяет сам себе? А что в действительности сделал он для Лики как добрый друг?
С буяном и пропойцей ее отцом, Петром Никанорычем, он все же так и не справился, дело не довел до конца. И вот теперь Володя Мухалатов… Тут же, на людях, следовало дать ему самый резкий отпор, а потом уже догонять Лику!
Нет, нет, довольно миндальничать. Надо всегда и во всем действовать только так, как в истории с подлогом Власенкова. Никаких уступок, никаких скидок на обстоятельства. Золото, которое содержит различные примеси, уже дешевое, плохое золото. Высокая принципиальность, разбавленная побочными соображениями, уже не принципиальность, а компромисс с совестью, с истиной, с честностью!
Завтра же он пойдет в районный Совет и потребует, чтобы начато было дело о выселении из Москвы тунеядца и пьяницы Петра Никанорыча Пахомова. Пойдет к следователю в прокуратуру и заявит ему, что относительно Власенкова решительно остается при своем мнении. Владимира он заставит извиниться перед Ликой. И наконец, он завтра же скажет Лике, что любит ее. Зачем твердить и вслух и про себя какие-то слова-заменители о дружбе, когда все яснее и проще? Он любит ее! Любит! Любит…
Но это он сможет сказать только лишь тогда, когда сделает все, что он обязан сделать завтра же. Математика утверждает, что от перестановки слагаемых сумма не меняется. В этом случае математические законы неприменимы…
…Они сидели на берегу. Тонкий ивняк низко наклонялся к воде. По ней на длинных ногах проворно шныряли серенькие легкие пауки. Рыбки выскакивали, хватали неосторожных. И непонятно даже, ткнулись ли это вдали, подчиняясь течению, бесконечные вереницы комков белой пены, или в небесной вышине проплывали светлые облака, отражаясь в воде.
Казалось, и время здесь шло по-иному, следуя своим, особым законам тихих, бескрайних далей, где нет никаких резких границ и потому нет и определенных точек отсчета. Все видимо, все достижимо и в то же время загадочно и неизвестно. Глядя в такую уходящую за край земли даль, невозможно думать о мелочах, о каких-то подробностях жизни. Хочется встать, расправить, как птице, широкие крылья, взмахнуть ими свободно и — улететь. Туда, к загадочному и достижимому, видимому краю земли в невидимой дали.
Они сидели молча, торжественно. Лика грызла белый кончик пырейного стебелька и, словно бы что-то выверяя в уме, иногда чуть заметно, сама себе, кивала головой. Александр сидел, боясь даже шелохнуться. Вдруг все это — и светлая, манящая даль, и влажная речная истома, и Лика, пригревшаяся на солнышке, — вдруг все это исчезнет. Или станет простым, обыкновенным.
А время и тишина делали свое дело…
И когда, еле слышный, донесся первый гудок теплохода, им не хотелось и думать, что отсюда все-таки придется уйти. Вернуться из мечты в обыкновенность. Не надо, не надо!
— Я не хочу, Саша, я останусь здесь, — сказала Лика.
И это было как бы ответом за двоих, внутренним спором самих с собой. Александр сочувственно улыбался: «Лика, дорогая, не будем уходить отсюда!»
Протянул к ней руки…
Неведомо сколько еще пролетело минут. И с большей настойчивостью прозвучал второй гудок теплохода. Он требовал, он приказывал: «Бросайте все и — ко мне!» Он отдавался, казалось, даже мелкой рябью на воде, пугал длинноногих серых паучков.
Все сразу стало обыкновенным. В сердце плеснула житейская тревога: не опоздать бы! Они пошли скорым шагом, напрямую пробиваясь сквозь мелкий кустарник, а кое-где припускаясь бегом.
Запыхавшиеся, разгоряченные, они одолели свой путь ровно за четверть часа. Взбежали на верхнюю палубу и рассмеялись:
— А мы неслись как угорелые!
Теплоход был полупустой. Люди беспечно, по одному, парами и большими группами, только теперь потянулись из лесу. Капитан в отчаянии повторял всю серию гудков, вплоть до третьего, отвального.
Пожалуй, самыми последними поднялись по трапу, бережно поддерживая друг друга, Фендотов и Мухалатов. Разговаривали они между собой на «ты».
Шахтером, вытащенным из аварийного забоя, казалась Лидия Фроловна. И все-таки она бродила по теплоходу, счастливо оглядывая всех и повторяя:
— Ах, как хорошо получилось! Как славно все отдохнули! И даже «чужие» нам ничуть не испортили прогулку.
Целую охапку полевых цветов унесла в свой люкс Галина Викторовна. И сразу же, едва теплоход отчалил от берега, улеглась отдыхать.
Лике страшно хотелось пить. Александр пошел разыскивать что-нибудь прохладительное. Но буфет уже был на замке — все выпито и съедено. Лариса подсчитывала выручку.
— Хотя бы простой воды нацедить из «титана»…
У лесенки, ведущей к нижней палубе, он встретился с Мухалатовым. От Владимира сильно пахло вином. Он грубо хлопнул Маринича по плечу, оттеснил его к перилам, путаясь в словах, заговорил доверительно:
— Сашка, ну вот, сегодня вот, знаешь, я…
Маринич гневно его перебил:
— Как мог ты, Володя, так жестоко, бесчеловечно обидеть Лику? Ну зачем? Зачем ты ее выставил на всеобщий позор?
Владимир долго моргал глазами, смотрел на Александра, ничего не понимая, а потом вдруг ударил себя по лбу.
— Фу, черт! — сказал он, немного трезвея. — А знаешь, я все-таки перебрал сегодня, со второй космической скорости нет-нет и метнет меня на третью. Ф-фух! Со Стрельцовым в общем орбиту свою я правильно рассчитал. Лика… А в этом деле сработали не туда тормозные двигатели. Признаю. «Зачем?» — говоришь. Но, между прочим, Сашка, механизм тут самый простой. Представь себе, из глубины памяти вдруг выплыло сочетание «Пахомов Петр»… А к кому оно относится? Черт его знает! Ты сказал, и только сейчас я сообразил. Лика Пахомова… Ликин папа «пошел пить пиво…». Ну да, я понимаю: обидел девушку. Согласен: жестоко и бесчеловечно. А знаешь, с Фендотовым как мы закончили? «Постовому поставили памятник…» Здорово? — Язык у Мухалатова опять стал заплетаться: — Ну? А где Лика? Где она? Пойду просить прощенья…
— Ты оскорбил ее на людях! На людях и должен просить прощенья, — строго сказал Маринич.
Он заказал самому себе: не отступать от этого требования.
— Превосходно! Справедливость всегда должна торжествовать, — сказал Мухалатов. И выбросил руку вперед: — Где люди? Собирай всех. Стану при всех на колени. Пожалуйста…
— Володя, не балагань! Ты напишешь письмо с извинениями, и его опубликуют в заводской многотиражке.
— Правильно! — согласился Мухалатов. — Когда я виноват, то виноват. Печатайте мое письмо во всех газетах, передавайте по всесоюзному радио, по телевизору. Сообщение ТАСС… Сашка, я не пойму, сейчас я на второй или на третьей космической скорости? Завтра ты продиктуй мне, что написать надо. Все напишу! — И засмеялся пьяно: — А ты, я вижу, с этой Ликой Пахомовой…
— Володя!
— А что? Нормально! Знаешь, и я тоже сегодня с «Не Может Быть»… Произошло… Теперь Володьке осталось одна тысяча девятьсот девяносто девять, и он — законный Дон Жуан… А «Не Может Быть» действительно, в полном смысле, «не может быть».
Маринич отшатнулся.
— Ты пьян!
— Конечно, пьян. И тогда тоже был пьян. И весь день сегодня. Иван Иванович — мужик он какой замечательный! — планчик один разработал относительно Галины Викторовны, такой великолепный, что Дон Володьке осталось бы уже всего одна тысяча девятьсот девяносто восемь до нужного итога, а Стрельцов на мягких лапах… В общем… — Мухалатов вытянулся, стал в гордую позу дуэлянта. — Короткий диалог на шпагах и потом дружеское фальшивое рукопожатие в присутствии названной дамы… Ф-фух!.. Какой план провалился!.. Во всяком случае, сегодня…
— Слушать не хочу твою болтовню. Отстань! Зачем ты это мне рассказываешь?
Мухалатов слегка отодвинулся, слипающимися глазами удивленно посмотрел на него.
— Как другу рассказываю… Выходной день… Хорошее настроение… Все получилось отлично… Я даже сейчас и Стрельцову про «Не Может Быть» рассказал, да, в порядке вновь установленного доверия… — Он покрутил головой. — Сашка, ты видел, какая у козы бывает морда, когда ей, — Мухалатов сотрясался от легкого жизнерадостного смеха, — когда ей вместо пряничка подсунут перца?
Маринич схватил его за воротник, потянул на себя. Отбросил.
— Ты говоришь так просто…
— Как жизнь… Она тоже абсолютно простая… И не надо ничего в ней выкручивать, — Мухалатов повертел пальцем, — в стиле ампир или барокко… Должны быть прямые линии и простор…
— А Римма? Если ты сейчас говоришь правду!
— Что Римма? Превосходная девушка!.. Ты спрашиваешь: «Правда ли?» Не знаю. Ничего не знаю. Козьей морды после перца я и сам еще не видал — это действие пока гипотетическое. А все остальное…
Он пошел, перехватывая поочередно обеими руками перила и вполголоса свободно, легко напевал: «Воскресенье — день веселья… Тра-ля-ля-ля! Ля-ля-ля…»
Глава десятая На осла! Лицом к хвосту!
Газета со статьей Р. Стрельцовой «Озарение — труд» с самого утра ходила на заводе по рукам. Ее читали, передавали друг другу рабочие, мастера, инженеры. Говорили: «Смотри, о нашем аккумуляторе пишут». Или: «Смотри, это дочка нашего пишет». Или: «Смотри, нашего Мухалатова расхвалили».
Так или иначе, но для всех на заводе статья Риммы имела общую, приятную основу: «мы», «наше», «о нас». Пусть кое-что в ней было сказано и неточно, одно преуменьшено, а другое преувеличено, и явно через меру понаставлено восклицательных знаков — все равно, в целом статья горячо одобрялась.
Василию Алексеевичу газету торжественно вручила секретарша, едва он появился на пороге приемной. Евгения Михайловна вошла со Стрельцовым даже в кабинет, все повторяя:
— Отлично, отлично Римма Васильевна написала! Вы, конечно, уже прочитали?
Ей очень хотелось увидеть сияние на лице Василия Алексеевича. За последнее время это случалось не часто.
Но Стрельцов только вежливо кивнул головой:
— Благодарю вас. Да, я читал. Будьте добры, Евгения Михайловна, пока никого не впускайте ко мне. Я должен подготовиться к совещанию.
Он заново просмотрел статью. Редакция значительно ее сократила, но смысл и пафос остались прежними: Владимир Мухалатов безраздельно владел монополией и на идею и на материальное воплощение нового аккумулятора. Статья завершалась сухо и строго, по-деловому: «Еще, к сожалению, много, слишком много порой воздвигается препятствий на пути нового. И не всегда легко понять, какая злая сила их воздвигает: косность, бюрократизм, обыкновенная лень или, тоже совсем обыкновенная, черная зависть. Гораздо раньше страна получила бы новый, высокоэкономичный аккумулятор Мухалатова, если бы… Но нет смысла оглядываться в грустное прошлое. Верим в могучую силу этого дня, а значит — и в счастливое будущее!»
Да, конечно, Римма не думала, что эти заключительные фразы статьи, напечатанной как раз в день совещания по этому самому аккумулятору, только сильнее осложнят положение ее отца. Хотя, собственно, при чем здесь отец? Осложнят положение того человека, который в действительности выносил идею и потом бескорыстно отдал ее другому. Недоставало еще старому инженеру Стрельцову публичных обвинений в «обыкновенной черной зависти», затормозившей на какое-то время признание успеха молодого инженера Мухалатова! Но сейчас Римма захвачена одной мыслью: помочь своему Володе сбросить все, что стоит у него на пути.
Стрельцов дернулся. Нет, зачем же так грубо? Римма просто хочет помочь делу.
И что же тут раздумывать на разные лады? В его руках был не напечатанный еще текст статьи. И Римма предлагала внести любые «поправки. Такое право ему великодушно предоставлял и Мухалатов. Он же сам отказался тогда от главной поправки! Заставил себя стать выше личной обиды. Так что же теперь, повторяя слова из статьи Риммы, «оглядываться в грустное прошлое»?
Ах, если бы только это! Ну, а к тому, что произошло вчера, обязан он возвратиться?
Римма уже спала, когда он из речного порта добрался домой. Не поднимать же было девочку с постели, чтобы в той или иной форме сообщить ей о циничном признании Мухалатова в его амурных делах и победах над некоей «Не Может Быть»! А утром Римма исчезла еще до завтрака. Вероника объяснила: «Помчалась закупать газету. Ты знаешь, что в сегодняшнем номере идет ее статья?» Возможен ли будет, хотя бы вечером, этот тяжелый, щекотливый, но абсолютно необходимый разговор с Риммой? Возможен ли такой разговор вообще когда-нибудь? Римма обращается в глухой камень, если ей говорят не очень лестные слова о Мухалатове…
Дверь приоткрылась. Евгения Михайловна сообщила:
— У Ивана Иваныча все собрались. Ждут вас.
Совещание было непродолжительным. Фендотов сделал привычный для всех знак рукой: «Это не в стенограмму!» — так чаще всего начинал он совещания — и сперва полушутливо изложил суть дела. Госкомитету требуется протокол, в котором была бы подтверждена ведущая роль товарища Мухалатова и т. д. Разумеется, Мухалатов делит эту честь с коллективом завода и т. д. Но в интересах и т. д. Короче говоря, «есть мнение» присвоить новому аккумулятору имя В. Н. Мухалатова. Известно, что лиц, персонально претендующих на присвоение их имен аккумулятору, кроме Владимира Нилыча Мухалатова, нет, а интересы государства и коллектива, как уже говорилось, и т. д. Притом все уже, вероятно, знакомы со статьей Р. Стрельцовой, и будет очень выигрышным сообщить в редакцию газеты свой немедленный отклик.
— А теперь прошу стенографировать. Итак, в повестке дня…
И дальше все двинулось в быстром темпе. Выступали до предела коротко, сжато. Да и о чем же, собственно, было теперь разглагольствовать, если Иван Иваныч задачу совещания еще до совещания определил уже с достаточной ясностью? Следовало лишь записать в протокол мнения по возможности всех присутствующих. И Фендотов просто, по часовой стрелке, показывал пальцем на очередных ораторов, называя их фамилии.
Когда стрелка приблизилась к Василию Алексеевичу, Мухалатов порывисто встал.
— Прошу прощения, Иван Иваныч, — сказал он, — только сейчас я сообразил, что мне следует уйти. Вы сами понимаете, мое присутствие здесь… Возможно, кому-нибудь из товарищей хочется выступить против, а это легче, когда… — Мухалатов улыбнулся и как-то безразлично махнул рукой: — Ну, я пошел!
И тогда, естественно, Фендотов спросил:
— Василий Алексеевич, кажется, вы собираетесь выступить против?
В этих его словах сквозило недружелюбное напоминание: «В госкомитете однажды вы что-то такое уже заявляли…» Стрельцов помолчал, припоминая и это и вместе с тем думая, что на такой аудитории деловым языком тоже никак не объяснишь, почему он против. Все слишком переплелось, и все носит слишком частный, глубоко интимный характер.
— У меня страшно болит голова, и я вообще не собираюсь выступать, — отозвался он.
Фендотов показал стенографистке раскрытую ладошку.
— Это не надо записывать. После вчерашнего голова болит не только у Василия Алексеевича. Но… возможно, у него и побольше. А не записать ваше мнение, дорогой Василий Алексеевич, мы просто не можем. Ну как же это так! Давайте и вас отметим.
Стрельцов пожал плечами. И Фендотов легко и свободно закончил, обращаясь к стенографисткам, ведущим протокол:
— Пожалуйста! Слова товарища Стрельцова для полноты и соответственно положению Василия Алексеевича как-нибудь там разведите канцелярской водичкой. Кто следующий?
— Стенограмма — это когда слова записываются точно, — сказал Стрельцов.
Иван Иваныч весело засмеялся.
Потом, у себя в кабинете, Стрельцов долго расхаживал из угла в угол. Правильно или неправильно он поступил, воздержавшись от выступления?
Ему представилось, как он действовал прежде, когда был с чем-нибудь не согласен. Открыто, смело, без колебаний и без раздумья о возможных неприятных последствиях лично для себя. Важно было отстоять истину, справедливость. Этим руководящим принципом проверял он всю жизнь свою. Именно на этом прежде всего основывалось общее к нему уважение. Почему же теперь этот высокий жизненный принцип у него вдруг разошелся с действительностью? И ясно лишь одно: раскрыть публично и во всей обнаженности истоки своей неприязни к Мухалатову он не может. Никак не может. Даже если при этом на него же, на Стрельцова, обрушатся самые крупные беды…
Ах, Римма, Римма, насколько теперь все запуталось!
А Мухалатов в это время сидел у Маринича. Разговор у них начался не очень-то складно. Владимир вошел с беспечно-добродушной своей улыбкой, здороваясь, хлопнул Александра по плечу так, что у того из руки вылетел карандаш. Сел, зевнул протяжно: «А-а-у-у!» — и подтянул к себе счеты. Ему нравилось перебрасывать на них косточки.
— До сих пор башка дурная… Ловко и вовремя с совещания от Фендотова я удрал… Сашка, ты читал сегодняшнюю статью Риммы? Какой молодец Мухалатов! Только вопрос: Мухалатов — это я или кто-то другой?
— Кто-то другой, — сухо сказал Маринич. — Если бы вчера Римма тебя видела и слышала, она бы ночью выхватила свою статью из печатной машины.
— Ну-у, — Владимир замахал руками, — Римма не такая уж мелочная. Она видит в человеке главное: на что он способен как творческая, общественная личность.
— Ты доказал вчера, на что способен как личность!
Мухалатов оживился.
— Слушай, Сашка, а у меня в сознании весь вчерашний день — будто кентавр. Голова и руки у него человеческие, а ноги лошадиные. Ну честное слово, не помню, не знаю, что именно в действительности было, а чего не было. Сохранилось одно ощущение: широко, с размахом прошел этот день, на полной свободе воли и при общем радостном настроении.
— Вот, вот, «при полной свободе воли», — сказал Маринич и выдернул из руки Владимира счеты. — Сегодня ты начал свой разговор с Риммы Стрельцовой, а вчера…
— Слушай, Сашка, не может быть, — перебил Мухалатов. И захохотал, легко, победительно, словно сделал неожиданное открытие. — Неужели и вправду была вчера какая-то «Не Может Быть»? Фантастика! Такое же только во сне бывает.
— Вчера ты не сон мне рассказывал. И с Василием Алексеевичем о ней тоже не во сне говорил.
— Фантастика! Фантастика! — повторял Мухалатов. — И ничего я никому не рассказывал. А если и говорил, так тоже — фантастика.
— Что же, и Галина Викторовна — фантастика? — Маринич не верил словам Владимира. Вчерашняя его развязная откровенность никак не похожа была на пустую болтовню. — И то, что Лику ты оскорбил, такое тоже «только во сне бывает»?
— Галина Викторовна? Сон! А Пахомова… Лика… Это совсем другое дело… «Папа Пахомов пошел пить пиво…» Это я хорошо помню. И обязательство свое публично перед ней извиниться я тоже помню. А вообще-то было очень смешно. И можно бы из-за этого не лезть на стену. Но что правда, то правда! Володька хотя потрепаться и не прочь, но оставаться свиньей перед девушкой не желает. Вот тут, Александр Иваныч, есть уже совершенно точные границы. Переступил — на осла! Лицом к хвосту! — как говорит наш рыцарствующий Василий Алексеевич Стрельцов. Не легко мне сегодня это далось. — Мухалатов вздохнул, вытащил из бокового кармана пиджака листок бумаги и подал Мариничу. — Но имей в виду, написал я сам, без диктовки, и уже на мыслящую голову. Передаю в твое распоряжение. Без всяких шуток. Наисерьезнейшим образом.
И Маринич вслух прочитал:
— «Письмо в редакцию. Во время воскресной загородной прогулки на теплоходе, будучи в состоянии непозволительного опьянения, грубо и безобразно я оскорбил сотрудницу бухгалтерии товарища Пахомову. Особенно отвратительно то, что случилось это в присутствии очень большого круга свидетелей, включая и совсем посторонних людей, а издевательские мои слова были облечены в форму невинной шутки. Поэтому я считаю себя нравственно обязанным извиниться перед товарищем Пахомовой публично, через нашу заводскую печать. В надежде, что товарищ Пахомова меня простит, я добавлю уже совсем просто: Лика, поверьте, это было без всякого злого умысла, я очень и очень вас уважаю. Владимир Мухалатов».
— Вот так, Саша! Я готов внести в это письмо любые поправки, но только усиливающие мою вину и степень осознанности этой вины. Не иначе. У меня есть собственные меры порядочности. И потом, знаешь… к некоторым фамилиям в конце очень ловко присоединяется совсем некрасивая «щина». Но она, друг мой, лепится всегда с таким ведь значением, которое ко мне, шалишь, никак не подходит. И поэтому, чтобы сохранить мне свою фамилию звонкой и чистой, без всяких довесков, я не могу не опубликовать это письмо.
Маринич подобрел. Но какой-то остаток недоверия все еще мешал ему заговорить с Владимиром на прежней, дружеской ноге.
— Зачем же ты отдал это мне? — спросил он с сомнением. — Взял бы да сразу и отнес в редакцию сам.
— Мне было бы легче, если бы это сделал ты. Могу, конечно, отнести и я. Будь покоен, по дороге не потеряю. Но тебе я отдал потому — слушай, Сашка! — очень уж долго между нами плывет какая-то муть. Не товарищи мы с тобой, что ли? — Он подмигнул Александру. — Не на одной земле живем и не за одни идеи боремся?
— Хорошо, Володя, — и Маринич протянул ему руку. — Действительно, черт его знает. Так вот и надо: друг другу в открытую. А это оставь. Ко мне как раз должен зайти редактор многотиражки. Я тебя понимаю, я передам ему. Но если смягчу кое-где?
— Александр Иваныч! Ни слова, ни запятой. Иначе станем врагами!
И Мухалатов не ушел — исчез. Но едва Маринич принялся на счетах проверять итоги платежных ведомостей, сданных Ликой в субботу, появилась и сама Лика. Под глазами у нее обозначились глубокие черные круги. Взгляд усталый, потерянный, а лицо — серое, словно припорошенное землей. Злая беда, точившая Лику весь воскресный день, за одну эту ночь, казалось, подрезала ее совершенно.
— Лика! Да что это с тобой? Второй день ты сама на себя не похожа. Ну скажи, наконец, в чем дело? Мы же с тобой друзья, — Маринич схватил ее за руки, холодные и безразличные, притянул к себе. — Ли-ка! Нельзя же так!
Она отвела взгляд в сторону.
— Саша… — проговорила совсем безнадежно, — Александр Иванович, у меня недостача в кассе… Пятьсот сорок рублей.
Маринич попятился. Какая ерунда! Что она говорит? Пятьсот сор… Да нет, не может быть… Наверно, Лика о чем-то другом… Не может быть у нее такой гигантской недостачи! Вообще никакой недостачи не может быть!..
— Постой! Постой! — сказал он, все еще думая, что это несерьезно. — Ты что-то такое… Ты хорошо ли проверила? Такая с-сумма… Это же…
— Проверила. Еще в субботу. Все думала, надеялась: просто ошиблась… И сегодня снова журнал пересчитала… Я не знаю, куда девались эти деньги… Андрей Семеныч сказал: «Плохо ваше дело, Пахомова!» Саша, меня будут судить?
— Зачем же ты сразу Андрею Семенычу?
— Ну, я сидела, все ордера пересчитывала… А он зашел в кассу… Я не могла…
И Лика заплакала. Беззвучно, не шевеля даже плечами. Просто частой очередью покатились слезинки у нее по щекам.
А Маринич стоял оглушенный и не знал, что ему делать. Все оказывалось серьезным, очень серьезным. Когда не сходится в балансе актив с пассивом, можно заставить себя в наказание просидеть над оборотными ведомостями хоть всю ночь напролет, но ошибку в подсчетах — пропавшую сумму — найти. Наказание не слишком-то страшное. Если не хватает наличных денег в кассе, а все подсчеты и записи верны, здесь уже ничего не высидишь. Вкладывай в кассу свои, и как можно скорее. Все равно, знаешь ты или не знаешь причины недостачи. Иначе будет худо. А где Лика возьмет пятьсот сорок рублей?
— Когда? Лика, ты точно знаешь, когда это случилось? — все еще не представляя себе дальнейшего хода событий, в растерянности спросил Маринич. — Может быть, тебе в госбанке по чеку неправильно выдали деньги?
— Саша… Александр Иванович, я не знаю когда. Больше недели я не сверяла кассовый дневник с наличностью. А приход и расход все время был крупный. В субботу вдруг поняла: не хватает. А в банк сегодня утром я уже позвонила. Ответили: нет, никаких излишков не обнаружено.
— А по цехам? Люди зарплату получают у нас без кассира.
— Ну-у нет… Даже рубля полтора оказалось в излишке, мелочь многие не берут… Нет, в цехах люди честные.
— Тогда где же, Лика? Ну где эти деньги? Кто-то украл? Или ты их украла сама у себя!
Девушка вздрогнула, лицо у нее совсем побелело, а левой рукой она потянулась к шее, точно бы проверяя, на месте ли те «новые янтари», которыми она так похвалялась на воскресной прогулке. Прямая, повернулась и, не сказав ни слова в ответ Александру, вышла из кабинета.
На столе требовательно зазвонил телефон.
Глава одиннадцатая Палка о трех концах
Вызывал главбух Андрей Семеныч. Путь до него — десяток шагов. И Маринич не успел, хотя бы немного, собраться с мыслями. А безотчетно — приготовился защищать Лику, любыми доводами, но защищать. Не имело значения, сколь велика и неоспорима недостача в кассе. Важно было, чтобы Лика не пострадала. Милая, славная Лика…
— Вот удружил! Ну и удружил ты мне снова! — набросился главный бухгалтер, едва Маринич переступил порог. — Ведь это ты привел ее на завод. Ты и в кассиры ее протаскивал — человека, совсем никому не известного. И вот…
— Разобраться надо, Андрей Семеныч.
— Да чего же тут разбираться, когда она сама, понимаешь, сама ответственно заявляет: «Нет у меня денег в кассе!» Ну, акт проверки, понятно, составить надо. Займись этим. Только денежки-то все равно плакали. Кого мы на кассу поставим? Ты думал уже?
— Пахомова и должна оставаться, пока все проверим. И потом, даже…
Андрей Семеныч так и подпрыгнул на стуле, замахал руками:
— Да ты что — шутишь? Или правил не знаешь? У кассира огромная растрата, она сама признает, а ты — оставить!
— Но, может быть, что еще и не растрата.
— Ах… ну… ну, просто… Да ведь денег-то в кассе нет! Растрата, кража, просчет — какая разница… Вон, оказывается, на пути из банка она домой заезжала. Допустим, не сама украла, пьянчужка отец у нее эти деньги вытащил. Чем же легче?
— Так его и судить за воровство! А Пахомову Лику поддержать надо.
— То есть как — поддержать? — Андрей Семеныч даже выскочил из-за стола и заметался по комнате. — Насчет ее отца — это ведь только мои предположения. Украл или не украл. Юридическое лицо — сама Пахомова! Никто другой, только она перед нами, государством за кассу ответчица.
— Андрей Семеныч, неужели… Ну зачем же судить? Она и так вся извелась от горя. Каждый день у нее дома… Ну пусть она недостачу эту возместит из зарплаты своей!
— Ты думаешь, что говоришь? Да из зарплаты-то ей такой ущерб возмещать по малой мере года два потребуется! Кто же на это пойдет? И давай не будем спорить, давай делать, как по закону полагается.
Ахая и вздыхая, Андрей Семеныч принялся инструктировать Маринича, объяснять, каким именно образом он должен оформить все необходимые документы. И пенял ему: нельзя же было так, совсем непроверенного человека ставить на кассу. А Маринич твердил свое, что Лику надо пожалеть, что надо ей помочь, что это никакая не растрата, Лика человек честный, а хапнула деньги чья-то подлая чужая рука. Но главный бухгалтер оставался неумолимым и, при всей своей доброте, чем больше его уговаривал Маринич, тем больше раздражался.
— Да иди ты, иди, делай, чего тебе говорят! Не я же сам буду акт составлять! — закричал он, окончательно выходя из себя. — Ты пойми, даже если кто другой за Пахомову деньги вложит, все равно от кассы я ее отстраню. Не может быть доверия к такому человеку. Ступай!
Но, выйдя из кабинета главбуха, Александр не пошел в кассу. Он никак не мог примириться с необычно жестоким для Андрея Семеныча решением. И вдруг его озарило. К Фендотову! Прямо к Фендотову. Если Иван Иваныч поддерживал какого-то проходимца Власенкова, так…
Фендотов, оказывается, знал уже все. Главный бухгалтер успел доложить ему о чрезвычайном происшествии. Он и рта не дал разинуть Мариничу.
— К Стрельцову! К Стрельцову! — закричал сердито. — Это его кадры. По делам финансовым все вопросы решает он. У меня и без этого пухнет голова!
— Иван Иваныч, если у Пахомовой и получилась недостача, так это же не растрата. Это ее несчастье… Пахомова такую сумму никак не сможет выплатить. Помогите!
Фендотов недоуменно вздернул плечами. Дудочкой вытянул губы…
— Не понимаю…
— Выдайте ей пособие из директорского фонда!
— Пять-сот со-рок рублей из директорского фонда? — Фендотов передернулся через стол, вглядываясь в Маринича. — Насколько я способен соображать, вы просите выдать ей, по старому счету, пять с половиной тысяч рублей премии за… хищение государственных средств? Товарищ Маринич, кто из нас двоих…
И Александру захотелось крикнуть: «Вы, конечно!» Но он сдержался, сказал совсем тихо, в отчаянии:
— Но как же быть, Иван Иваныч? Ведь если Пахомовой не помочь, ее станут судить за растрату, на всю жизнь опозорят. Она же не взяла этих денег!
— А откуда вы знаете, что не взяла? Разыграть невинность не так-то уж трудно — обмануть простачков! Вот недавно как раз о похожем случае фельетон я читал.
— У Пахомовой отец — горький пьяница. И может быть…
— Та-та-та! Вот именно: «Папа пошел пить пиво…» И это вы тоже ставите ей в добродетель! — Фендотов нажал кнопку звонка. Появилась секретарша. — Аля, вызовите машину. Я уезжаю в госкомитет. «Пошел пить пиво — попал под поезд…» — Фендотов торопливо собирал бумаги, засовывал их в ящик стола. — Приходит приятный парень, почтительно просит: «Подпишите приказ премировать Пахомову, прикарманившую пятьсот…» Восхитительно! Расхитительно! Извините, я уезжаю.
«Что же делать? Что делать?» — думал Маринич, возвращаясь к себе. И спохватился, что не сделал самого главного: не проверил кассовый журнал и остаток наличных денег. Лика пересчитывала сама, и может быть, все же ошиблась…
Но — нет. Все записи в дневнике за последнюю неделю точно соответствовали приходным и расходным ордерам, скрепленным его же, Маринича, подписью. А денег в кассе действительно не хватало.
Лика безучастно смотрела, как летают косточки на счетах под рукой Александра, — совершенно не вслушиваясь в его слова. Так бывает с человеком, когда ему становится уже все равно, что впереди ожидает.
Маринич составил акт проверки. Не читая, Лика поставила под ним свою фамилию. Расписываясь, свободной рукой тронула шею, как бы ощупывая «янтари». И Мариничу вдруг, против воли, вошла в сознание мысль, что стоят они ведь не дешево. Если настоящие. А вчера, на прогулке, Лика заказывала еще и шампанское, стремилась уплатить непременно сама…
— Ну, а теперь мне куда? — вяло спросила Лика.
— Жди — сказал Александр. — И не тревожься.
Нет, нет, не может быть Лика воровкой! Прочь от себя эти оскорбительные мысли! Прежде чем акт, подписанный сейчас, вступит в свою грозную силу, надо еще попытаться… Надо поговорить со Стрельцовым, с Лидией Фроловной — председателем завкома…
В коридоре Маринича перехватил запыхавшийся редактор многотиражки:
— Ты знаешь, я как раз к тебе. Мухалатов сказал, что он оставил у тебя свое письмо с извинениями перед Пахомовой. Очень просил напечатать. И я мог бы. Но тут слух какой-то пополз по заводу: у Пахомовой крупная растрата. Верно это или не верно? А газету мне через час надо сдавать в набор. Ну?
Вопрос задан в лоб. А что на него ответишь? Маринич стоял, покусывая губы. Вот сейчас он, Александр, никто другой, распоряжается добрым именем Лики. И он не может…
Да, но он ведь не может и…
— Ну чего ты молчишь? — нетерпеливо спросил редактор.
— Я не знаю, верно это или не верно, — с трудом выговорил Маринич. — Пока еще это не ясно. — И закричал: — Печатай!
— А-а! Понятно. Ну, тогда я все равно воздержусь.
Редактор побежал дальше.
Василий Алексеевич Стрельцов выслушал Александра, явно думая о чем-то другом. Повертел в руках акт проверки кассы и остановил свой взгляд со вниманием лишь на его заключительных строчках.
— Та-ак. Почему же вы непосредственно ко мне обратились, Александр Иванович? — спросил он, снимая очки и покачивая их в руке. — Передайте этот документ Андрею Семенычу. Пусть он подготовит свои предложения. Н-да-а… Сумма солидная…
— Василий Алексеевич, но я же вам говорил: Андрей Семеныч настроен против Пахомовой! Иван Иваныч тоже почему-то…
— А почему должен быть настроен в пользу Пахомовой я? — сдержанно бросил Стрельцов. — Дело-то совершенно очевидное. Возможно, я что-то пропустил в ваших объяснениях, простите, но документ говорит сам за себя. Впрочем, прошу, повторите: чего вы хотите именно от меня?
— Иван Иваныч сказал, что бухгалтерия — ваши кадры и что решать вопрос о Пахомовой будете вы. Я прошу: не отстраняйте Пахомову от работы, а недостачу она постепенно погасит сама.
Он чуть не сказал вслух: «И в этом я ей помогу». Про себя он уже решил сделать это. Какая же иначе цена всем его заботам о Лике! Но Стрельцов пожал плечами:
— Не понимаю вас, Александр Иванович. Всего лишь несколько дней тому назад вы настоятельно требовали, чтобы я передал в прокуратуру дело о неудавшемся присвоении инженером Власенковым двадцати рублей. Теперь вы хотите, наоборот, чтобы я пригасил дело о реально совершенной растрате кассиром Пахомовой пятисот сорока рублей. Согласитесь, это не очень последовательно. И я, безусловно, подпишу приказ о снятии с работы Пахомовой и передаче дела следственным органам.
— Зачем же обязательно следственным органам? — Маринича так и обожгло. Он никак не ожидал от Стрельцова столь сурового решения. — Пахомова погасит недостачу и так. А разница с Власенковым у нее в том, что Власенков жулик, а Пахомова порядочный человек. И если человека постигла беда…
Стрельцов перебил его:
— Так категорически, как вы, Александр Иванович, я не могу высказывать своих суждений о людях, которых знаю мало. Допускаю, что вы искренне убеждены в порядочности Пахомовой. До недавнего времени я, например, тоже был убежден в порядочности одного человека, которого, казалось, знал я чрезвычайно хорошо. Но… Впрочем… — Он надел очки, поправил их на переносье. — Сейчас я вижу документ, из которого неоспоримо следует, что Пахомова — растратчица. Оставить растратчицу на прежней работе, ну честное же слово, и сами вы это знаете хорошо, — никак невозможно. А в следственные органы передать материал мы обязаны, чтобы в конечном счете через суд получить хотя бы исполнительный лист. Это вы тоже хорошо знаете сами.
— Пахомова даст подписку… добровольное обязательство…
— А что в нем толку, в таком обязательстве? Это не юридический документ и, главное, так сказать, безвалютный!
— Лику станут судить?
Голос у Маринича вздрагивал. Со всей отчетливостью представилось ему, что, если дело дойдет до суда, жизнь Лики будет загублена навсегда. И так она еле-еле справлялась с горькой своей долей, тогда ей уж и совсем не подняться. Стрельцов не спешит с ответом, — должно быть, и его самого больно ударило слово «судить». Понимает и он, какие последствия…
— Если бы она сегодня же или завтра погасила растрату? — Стрельцов спрашивал не то Маринича, не то самого себя. И решительно снял телефонную трубку, назвал номер. — Андрей Семеныч, дайте мне на подпись приказ о немедленном отстранении Пахомовой от работы… Да… Да… Ну, а это решим послезавтра… Знаю… На чудо не рассчитываю… И все равно… Словом, с передачей дела куда полагается давайте потянем… Да, два дня. — Он положил трубку, сдернул очки и бросил их на стол. — Вот все, Александр Иванович, что я могу сделать, и не все, что я обязан сделать.
И Маринич заметил, что, категорически ставя на этом точку в их разговоре, Стрельцов тут же вернулся к каким-то прежним, относящимся сугубо только к нему самому размышлениям — так было в самом начале, — лицо у него померкло, а взгляд ушел в сторону. Ну что же, Стрельцов Лике дал целых два дня, чтобы погасить недостачу, готов не передавать дело в суд и только уволить человека с работы. Чего еще требовать? Фендотов и Андрей Семеныч даже на это не соглашались.
Но чем помогут Лике два дня? Маринич теперь все пересчитывал уже на себя: чем помогут ему эти два дня? Где он возьмет пятьсот сорок рублей, чтобы внести их в кассу от имени Лики? Собственных сбережений у него нет никаких, всю свою зарплату он отдает матери. Возможно, у нее к отпускным дням и поднакопилось на книжке двести — триста рублей. Мама поймет. А где же взять остальные? Залезть в долги. Но даже и это не просто, когда всего два дня…
И снова Маринича озарило. Лидия Фроловна! Если ее увлечет мысль каким-либо образом выручить Лику, она своего добьется.
Он сразу было и не узнал Лидию Фроловну. За ночь флюсом ей разбарабанило щеку так, что глаз отмечался лишь узенькой щелочкой. Говорила она, издавая главным образом только гласные звуки. То и дело придыхала в ладошку.
— Да знаю, все знаю, — сказала она, снимая платочком слезинку с заплывшего глаза. — Только ведь профсоюза это ни с какого боку не касается. Уволят — так правильно. Под суд отдадут — тоже правильно. И на завкоме обсуждать нечего: дело чисто уголовное. А ты сам, выходит, не так думаешь? Ну, подскажи.
Александр вглядывался в ее измученное болью лицо. И с чего так быстро налился флюс? Продуло, наверно, на теплоходе. Лидия Фроловна, как всегда, просит подсказать ей. Но в самом деле, можно ли подсказать, чтобы завком опротестовал увольнение кассира, допустившего растрату! А что еще? Лидия Фроловна спрашивает с заботой, участливо. Но почему бы ей самой не предложить денежную помощь Лике? Сейчас ведь в этом все дело…
— А обыск-то на квартире Пахомовой сделали? — вдруг спросила Лидия Фроловна. — Если она заезжала с деньгами домой и если у нее папаша такой, что… Тут бы самое первое дело — обыск.
— Так… Так ведь… Кто же сделает обыск? Санкция прокурора нужна!
— Ну, а чего ж ты зеваешь? Двигайте дело скорей к прокурору! Вот и обыск скорее, пока, может, концы еще не запрятаны. Не о девушке говорю, об отце ее, коли он такой…
Крутой, неожиданный поворот мысли у Лидии Фроловны привел и Маринича в замешательство. Как это? Выручить из беды человека тем, что поскорее дело на него передать прокурору…
— Чего ты уставился? Если сама девушка честная, чистая — так к чистому ничего и не пристанет. А вора схватить за руку!
Ну конечно же так! Не Лика взяла себе деньги — их украл Ликин отец. А она не может выговорить этого, всю вину берет на себя. Оттого сегодня она и такая, по-особенному придавленная. Бедная Лика, ее можно понять. Но она ведь все равно ничего против отца не скажет и прокурору, как не сказала даже ему, Александру, своему самому лучшему другу. Сообщить скорей прокурору… И тогда уже не воспользуешься двумя днями, которые дал Стрельцов.
— Опять не согласен? Ну, подскажи.
Нет, нет, надо скорей погасить недостачу, погасить любыми путями, а уж потом разбираться. Нельзя рисковать судьбой Лики, нельзя вписывать ее имя в уголовное дело. Черт с ними, с деньгами! Только бы где-нибудь достать их побыстрее. А уж с этим пьянчужкой потом расправиться без всякой пощады.
— Лидия Фроловна, выход есть! Примите в завкоме решение: выдать Пахомовой ссуду, или пособие, или как там, безвозвратно или в рассрочку — словом, хотя бы триста рублей, — торопливо сказал Маринич, соображая, что остальные двести сорок он так или иначе, а в два дня раздобудет.
И Лидия Фроловна сразу же согласилась. Взмахнула платочком.
— Ссуду, — это бы можно. На срок, — сказала, придыхая в ладошку. — Даже и пособие можно бы, в сумме поменьше. Только ведь если бы у Пахомовой пожар или какое другое несчастье. А это, ведь даже если папаша, это, как тебе сказать, ну — воровство. На папашино воровство ссуду не выдашь. Нас не поймут.
— Дайте тогда такую ссуду или пособие мне!
Дубина, дубина! С этого надо было начинать. Как не пришла такая мысль в голову сразу!
— Ссуду тебе? — переспросила Лидия Фроловна и платочком опять смахнула слезинку с заплывшего глаза. — Ну, это я понимаю. Чтобы вложить за Пахомову? Только палка-то эта о двух концах. Один конец — выручка из беды — окажется у Пахомовой, а другой конец ударит по нас, по завкому. Тут никуда не уйдешь. Этого не спрячешь. Сразу заговорит народ: растратчицу от суда укрываете. Всему заводу про случай с Пахомовой уже известно. Такие слухи пуще всякого радио сквозь стены проникают. Вот ведь как!
— И пусть себе проникают! Человека бы поддержать!
— Поддержать человека надо, — согласилась Лидия Фроловна. — Только палка эта, пожалуй, даже о трех концах. И третьим концом ударит она как раз по тебе. Без того было заметно, что с Пахомовой ты под ручку похаживаешь. А тут… Говорю: на кого ссуду ни выпиши, суть дела не скроешь. Это же так все раздуют — зачем тебе? Или, ты извини, как-то так с Пахомовой нагрешил, что уже совесть тебя призывает?
Она разглядывала Александра одним глазом своим ласково, участливо. И Александр не смог ответить ей грубостью.
— Думайте обо мне, что хотите, — сказал он, сдерживаясь, но чувствуя, как все лицо его заливает горячая краска. — Обо мне что хотите, но о Пахомовой плохо думать не смейте. Она очень хорошая девушка. Если вы можете выдать мне ссуду — выдайте. И пусть себе эта палка будет о трех концах! Я не боюсь.
— Ты-то не боишься, — подышала в ладошку Лидия Фроловна, — да я боюсь. Второй-то конец у палки, говорила я, ударит как раз и по мне. Решает завком, а весь ответ, коли что, с одного председателя. Дай мне день-другой подумать, посоветоваться. — И поднялась, дружелюбно протянула Мариничу теплую руку. — Ладно! О тебе, не о Пахомовой думать буду.
Это чем-то несколько обнадеживало. Но опять те же два дня. Ничего, где два — там и третий выпросить будет можно. Все-таки есть чем, хоть немного, порадовать Лику. Из завкома Маринич промчался прямо в кассу. Лики там не было. Там уже сидела Валечка, одна из сотрудниц бухгалтерии.
— Приказ насчет Пахомовой подписан, — сказала она, — принимать кассу буду я. Вот, ждали вас, чтобы оформить все в вашем присутствии. А Лика не вытерпела, отпросилась выйти на воздух. Очень сильно у нее кружится голова.
Едва Маринич переступил порог своего кабинета, зазвонил телефон. Мухалатов не просто кричал — грохотал в трубку:
— Сашка, это черт знает что! Ты задержал у себя мое письмо, не отдал сразу редактору, и оно не будет опубликовано. Слов не подберу такому свинству! Что? Что? Да, редактор мне сказал. И весь завод уже об этом трезвонит. А мне-то какое дело? Не знаю и знать не хочу, в чем виновата и виновата ли Пахомова. А я вот перед нею, точно, виноват. И обязан был извиниться публично. Бить человека, если заслуживает, могу, но добивать — не способен!
Он бросил трубку. Маринич сидел оглушенный. Вот это разделал его Владимир! Правильно разделал. Почему во всех его попытках защитить Лику у него самого нет такого решительного баса, как у Владимира? И выходит, Лику бьют, а он ее добивает.
В глаза назойливо лезла карандашная запись на календаре: «Во вторник — насчет Власенкова».
Какой он даст следователю окончательный ответ во вторник о Власенкове, если, может быть, уже в среду ему придется этому же следователю давать показания относительно крупной растраты у кассира Пахомовой?
Глава двенадцатая Ваша воля — закон
Фендотов позвонил Стрельцову из госкомитета. В голосе у него булькала радость. Еще бы! Совсем неожиданно в составе небольшой специальной комиссии, даже без заезда домой, он через два часа вылетает в Тбилиси. Кто-то заболел — радикулит! — ему предложили заменить хворого, и он, конечно, согласился. Можно ли было упустить такой случай? Грузия летом божественна! По обстоятельствам дела придется побывать и у моря, — как поет Леонид Утесов, у самого синего в мире — Черного моря. Всласть накупаться, а может быть, половить на «самодур» и ставридки, скумбрии. Командировка всего на несколько дней. Немного свински получается, что он уезжает так внезапно и бросает завод целиком на плечи Василия Алексеевича, но эти плечи выдержат. А в другой раз он отпустит куда-нибудь в такую же интересную поездку и Василия Алексеевича… Лады?
И Фендотов принялся засыпать своего заместителя наказами такого характера и таким тоном, каким, уходя на работу, поучает мать несмышленыша малыша. И чужим дверь не открывать, и не баловать со спичками, и не гладить кошку.
Стрельцов пробовал перебивать Фендотова, говорить, что он и сам великолепно разберется в делах, пусть себе на здоровье Иван Иваныч наслаждается божественной Грузией и сколько угодно, сколько возможно ловит ставриду и скумбрию, — на заводе все будет в порядке. Затем уже просто так, механически, произносил ничего не значащие: «Да… Да…» — потому что наказы Фендотова явно были избыточным продуктом радости от предстоящей поездки к Черному морю. И вряд ли даже сам Иван Иваныч отчетливо сознавал, что именно говорит он своему заместителю. Иногда до слуха Стрельцова доносился ликующий голосок Галины Викторовны Лапик, суфлировавшей Фендотову.
Наконец поток наставлений иссяк, Фендотов протяжно, так, что телефонная трубка отозвалась металлическим звоном, перевел дыхание, и Стрельцов успел вклиниться со своим вопросом:
— Иван Иваныч, а что с оформлением дополнительных материалов на аккумулятор? Единственное, чего я точно не знаю. Вы говорите из госкомитета — вы все там уладили, согласовали? Мне не хотелось бы этим заниматься.
И стало слышно, как Фендотов переговаривается с Галиной Викторовной.
— Да, да, Василий Алексеевич, все улажено, все согласовано, — сообщил он. — А на бумаге надо доделать следующее. У меня в портфеле есть служебные бланки завода. Письмо, которое требует от меня наш дорогой фельдкуратор, я сочиню сам, здесь же перепечатаем на бланке, и я, за своей подписью, оставлю его в госкомитете. А вы — вы только поторопите расшифровку стенограммы, облеките ее в должную форму протокола, подпишите и самым срочным образом дошлите сюда. Галина Викторовна очень просит вас считать это задачей номер один. Вы поняли, Василий Алексеевич?
Стрельцов едва преодолел желание ответить грубостью, вроде: «Нет, я слишком туп для этого». Но сдержался. И лишь сказал:
— Понял вас, Иван Иваныч. Понял даже и Галину Викторовну.
После этого они перебросились еще несколькими пустыми фразами и попрощались. Стрельцов тут же справился у Евгении Михайловны, как скоро будут расшифрованы стенограммы. Надо было выполнять задачу номер один. А на душе лежала какая-то противная-противная тяжесть.
Евгения Михайловна пообещала взять все заботы на себя и к концу дня готовый протокол представить на подпись непременно. Стрельцов ей благодарно улыбнулся. Он знал: Евгения Михайловна не подведет. Стало быть, хоть это — вон из головы. И стало быть, вторую половину дня уже будет можно заполнить полезной работой.
Надо тщательно изучить заявку отдела снабжения на цветные металлы. Жадничают, стремятся запастись наиболее дефицитными материалами про «черный день», забивают в сверхнормативные остатки собственные оборотные средства, а другие хозяйства тем самым ставят на голодный паек. А оправдание этому: своя рубашка ближе к телу. Когда же, когда, заботясь о собственной рубашке, мы перестанем снимать рубашки с других!
Он с увлечением занялся работой. Копался в отчетах за предыдущие годы, листал нормативные справочники, советовался по телефону с мастерами, начальниками цехов, прикидывал различные варианты возможных замен дорогостоящих материалов более дешевыми. Но полностью отрешить себя от посторонних мыслей так и не смог.
Римма… В их маленькой семье существовало твердое правило: завтрак, обед, ужин — всем вместе садиться за стол. Если что-то мешало этому, заранее договаривались: поголодать ли, пока не соберутся все-таки вместе, или подкрепиться каждому врозь. Только совершенно непредвиденный случай мог сломать накрепко установившийся обычай. Сегодня Римма убежала из дому натощак, до завтрака, не сказав никому ни слова и даже не оставив записки. Такого у них в семье еще никогда не бывало. Это подчеркнутый вызов со стороны Риммы. Она не доверяет своим родителям, тогда как отношение родителей к дочери ни чуточки не изменилось.
А так ли? Разве ты сам и теперь доверяешь Римме, совсем беспредельно, как прежде? Разве не точат тебя и сейчас вот сомнения в правильности сделанного ею выбора? Ведь это только тебя передергивает от одного лишь упоминания имени Мухалатова, а для всех других он — человек как человек, для Галины же Викторовны — даже эталон человека. То же самое и для Риммы. Чего же тебе хочется? Отнять у дочери самое дорогое? Но ведь это любовь, ты пойми, любовь! А любовь способна творить чудеса — истина древняя, как мир. Римма никогда не поступится нравственными критериями, и, значит, или она поднимет этого Мухалатова до своего уровня, или… Что — или? Это же «или» ужасно! Боишься? Так помоги же ей, помоги! Дети не очень-то верят в мудрость и житейский опыт отцов. Пренебреги этим. Пренебреги собственным счастьем видеть доверчиво и влюбленно устремленный на тебя взгляд дочери. Передай ей свой опыт так, чтобы она не заметила. Позже она все поймет. И скажет спасибо. А сейчас — не разбей любовь. Римма и простит и забудет все, только не это. Не разбей!.. Но тогда — что же? — поступись уж своими нравственными критериями…
На листе бумаги кривым столбцом стояли какие-то совершенно нелепые цифры. Откуда они взялись? Стрельцов в недоумении вертел в руках счетную линейку. Дошел! Вместо того чтобы множить, он добрых полчаса занимался делением. Под сомнением и вся проделанная работа. Теперь понятно, как иногда ошибаются и умелые бухгалтеры. У них ведь тоже есть дочери, сыновья, семейные и прочие заботы.
Бухгалтеры… Утром приходил бухгалтер Маринич. Он очень нервничал и волновался, когда просил о всяческом снисхождении к проворовавшейся кассирше, худенькой, бесцветной девушке. Но — любовь! О Мариниче и Пахомовой рассказывала Евгения Михайловна. А она все знает. Любовь… Так, может быть, ради этого следовало отнестись к Пахомовой еще более мягко? И даже не отстранять от работы? Нет… Невозможно! Растрату она признала сама. Ей даны два дня, чтобы возместить недостачу, если она не хочет мотаться по прокурорам и следователям. Это уже большое снисхождение. Да, ну, а поговорить с нею по-человечески, прежде чем подписать приказ, тоже ведь не помешало бы. С Пахомовой разговаривал главный бухгалтер Андрей Семеныч. А когда он, Стрельцов, решал судьбу этой девушки, перед ним ведь лежал только холодный лист бумаги. Нехорошо…
Вошла сияющая Евгения Михайловна, торжественно положила на стол чистенько отработанный протокол-стенограмму.
— Готово, Василий Алексеевич. Все вычитала, выправила я сама. — Она улыбалась. — Навела литературный блеск. Подпишете?
— Да, да! Спасибо вам большое, Евгения Михайловна! — Стрельцов быстро занес над последним листком авторучку. И задержался. — Простите, я все-таки сперва прочитаю.
— Как хотите, — уже с легкой обидой сказала Евгения Михайловна.
— И еще просьба. В конце дня пригласите, пусть зайдет ко мне побеседовать кассирша Пахомова.
— Хорошо.
Стрельцов углубился в чтение протокола. Евгения Михайловна стояла, с холодком поглядывая, как он переворачивает страницу за страницей. Евгения Михайловна действительно потрудилась на славу. Все выступления, короткие, энергичные, были отредактированы отлично. Такой документ не стыдно подписывать, не стыдно посылать в госкомитет. Не секретарь — клад Евгения Михайловна.
Но вдруг Василия Алексеевича точно обожгло. Он добрался в протоколе до своей фамилии. Все речи были записаны так, как и в действительности произносились они на совещании — в безоговорочную поддержку предложения директора завода. Доброжелательные, деловые речи. Его, стрельцовское, выступление звучало чистейшим панегириком Мухалатову.
— Все превосходно, просто превосходно, — медленно сказал Стрельцов. И расписался в конце протокола. — Но эту вот страничку, Евгения Михайловна, я попрошу вас перепечатать. Мои слова оказались записанными неточно, на совещании я говорил совсем не так. — Он размашисто, вздрагивающей рукой, на чистом листе бумаги набросал: «Стрельцов В. А.: У меня очень болит голова, и выступать я не буду». — И все. Именно таково было содержание моей огромной речи. Перепечатайте и самым спешным образом перешлите в госкомитет Галине Викторовне Лапик.
Евгения Михайловна смотрела на Стрельцова непонимающими и обиженными глазами.
— Василий Алексеевич, но я ничего не меняла! Так записали ваше выступление стенографистки. Я только выправила некоторые, как мне показалось, неправильные, несвойственные вам обороты речи. Сейчас я принесу расшифровку стенограммы, с которой я печатала этот протокол. Вы сами убедитесь, что…
Расстроенная, обескураженная, она сделала движение к двери, но Стрельцов ее удержал.
— Кому же лучше знать, мне самому или Ивану Иванычу, что я говорил на совещании!
— Почему Ивану Иванычу? Я вам принесу, что записали стенографистки.
— Под диктовку Ивана Иваныча, — скороговоркой сказал Стрельцов. — Но не в этом дело, Евгения Михайловна. Записали — не записали. Имею я право, что называется, выправить стенограмму?
— Да, конечно, конечно. Только я не понимаю…
— Так вот, я просто выправил стенограмму. Перепечатайте и отошлите в госкомитет. А понимать — я тоже ничего не понимаю. Впрочем, если даже и понимаю, увы, объяснить не могу.
Евгения Михайловна вышла вконец огорченная. Она не поверила тому, что говорил Стрельцов. Обычно он был с нею полностью откровенен, охотно посвящал во все свои дела и замыслы. А тут… Весь день происходит что-то неладное. Василий Алексеевич с самого утра не такой, как всегда. Ну как это может быть, чтобы Иван Иваныч продиктовал стенографисткам чужую речь и не так, как она была сказана? А если Василий Алексеевич действительно отказался от выступления, значит, по существу, он выступил против общего мнения! И против этого интересного Мухалатова, аккумулятором которого все так гордятся. Тут что-то нечисто. Расспросить бы стенографисток, как это происходило на самом деле. Но они сдали материал и ушли. Любопытно! А раньше чем завтра ничего не узнать. И, страдая от неведения, Евгения Михайловна уселась за пишущую машинку.
А Стрельцов, оставшись один, опять принялся за свои расчеты. Принялся, насилуя ход мыслей и понимая, что никакого толку от сегодняшней его работы не будет — все расчеты придется потом проверять заново. Он прилежно верстал на бумаге столбцы многозначных цифр, а между тем думал все-таки о предстоящем разговоре с Риммой, без которого никак нельзя обойтись и повести который с прямой откровенностью мужчины тоже никак невозможно. Римма истолкует это лишь как очередную попытку отца очернить любимого ею человека. Не дослушает, убежит. И только. А тогда между ними встанет и вовсе глухая, непроницаемая стена…
— Василий Алексеевич, звонит председатель госкомитета товарищ Горин, — с тревогой в голосе сообщила Евгения Михайловна, не входя в кабинет, а лишь просовывая голову в дверь. — Простите, если товарищ Горин станет спрашивать о протоколе, так я отправила. Повезла на легковушке Аля. Через двадцать минут она будет уже в госкомитете.
— Спасибо, Евгения Михайловна, — сказал Стрельцов и поднял трубку.
Он держал ее довольно долго, пока Евгения Михайловна и секретарша председателя госкомитета выверяли, действительно ли Стрельцов полностью готов к разговору. Только тогда что-то щелкнуло в мембране — секретарша товарища Горина переключила какой-то рычажок — и послышался голос, сильный, веселый:
— Василий Алексеевич? Здравствуйте!
— Здравствуйте, Федор Ильич, — сказал Стрельцов. Я вас слушаю.
— У меня к вам, собственно, вопрос — не вопрос, а… Но прежде всего я хочу поздравить ваш завод, весь коллектив, вас лично как одного из руководителей завода и моего учителя… Не забыли?
— Нет… не забыл, Федор Ильич.
— …Вас, инженера Мухалатова, всех поздравляю с великолепной творческой удачей!
— Спасибо, Федор Ильич!
— Важное дело сделано, очень важное. Такое, какое входит в историю развития техники и в мировом масштабе. — Горин немного помолчал, и стало слышно, как он перелистывает какие-то бумаги. — Но вот тут мне работники нашего аппарата докладывают относительно целесообразности срочного патентования нового аккумулятора за границей. Это правильно, это необходимо. Подписываю документ. Однако вот тут-то у меня и вопрос к вам, Василий Алексеевич. Просто так, частный вопрос. И может быть, даже бестактный. Тогда простите. Я по душам, по-товарищески, как бывший ваш ученик. Всплыло, знаете, в памяти… Отлично помню, насколько глубоко в свое время вы занимались именно этой проблемой — существенного увеличения электрической емкости аккумулятора. Признаться, я давно уже был подготовлен к тому, что это вам непременно удастся. И вот — победа! Победа грандиозная! Но… еще раз простите меня, почему эта победа никак не связывается с вашим именем?
— Я работаю на заводе, где удалось осуществить интересную идею, и я вполне удовлетворен, — дрогнувшим голосом сказал Стрельцов.
— Да… Но это уж слишком скромно, Василий Алексеевич. Говорю вам честно и откровенно. Вот здесь предлагается присвоить новому аккумулятору имя Мухалатова. Разумеется, я не возражаю. Документация вся в порядке. Наши товарищи очень поддерживают. И сам Мухалатов был у меня. Понравился. Способный, энергичный инженер. Но вы знаете, повторяю, я с вами вполне откровенен, когда у меня с ним завязался серьезный разговор об истоках замысла, Мухалатов держался как-то неуверенно. Было что-то такое… Одним словом, мне представилось, что Мухалатов не сам открыл идею, а как бы подхватил ее у кого-то другого. И я вспомнил вас. Разумеется, об этом я ничего тогда не сказал Мухалатову. Не сказал бы и сейчас вам, Василий Алексеевич. Но вот я рассматриваю чертежи, технические обоснования, читаю письмо в госкомитет, подписанное Иваном Иванычем Фендотовым, где излагается ход обсуждения вопроса о присвоении аккумулятору имени Мухалатова, и все-таки недоумеваю — неужели ваше имя не должно стать хотя бы в ряд с его именем? Ей-богу же, в основе работы Мухалатова лежит ведь ваша идея! Так, Василий Алексеевич? Не скромничайте. А я намерен…
— Идей бывает много, Федор Ильич, а результатов мало, — перебил его Стрельцов, хотя еще и не окрепшим голосом. — Во всяком случае, мое имя стоять рядом с именем Мухалатова никак не может. Это твердо. Как говорят сейчас молодые люди — железно.
— Н-да… Понимаю, Василий Алексеевич. Ваша воля — закон. А я, знаете, все-таки решительно хотел вмешаться, невзирая даже на письмо Ивана Иваныча, где, кстати, также подтверждается ваша позиция. Вот… Но счел себя обязанным переговорить предварительно лично с вами. И все равно мне как-то трудно отказаться от своей мысли. Да… Я мог бы не посчитаться в этом деле с Фендотовым, но с вами, с вашим желанием — не посчитаться не могу. Итак, вы решительно хотите, чтобы аккумулятор носил только одно имя — Мухалатова. Что ж…
— То, чего я хочу, Федор Ильич, мною высказано сегодня на совещании у директора. Протокол послан в госкомитет.
— Да что же протокол, стенограммы, Василий Алексеевич… Ох, бумаги, бумаги! Мне вполне достаточно письма Ивана Иваныча и — тем более — нашего с вами дружеского разговора. Извините, что я вас растревожил, но, право же, зная вас, мне показалось — тут все дело лишь в вашей повышенной щепетильности. Всего вам лучшего, Василий Алексеевич! Вы что-то совсем ко мне не заглядываете. Стесняетесь? Ну, в этом, очевидно, я сам виноват.
Теперь и вовсе Стрельцов не мог ни на чем сосредоточиться. Нестерпимо болело сердце. Вот и сейчас окончательно отрекся от своих моральных прав на идею нового аккумулятора. Отрекся в личную пользу Владимира Нилыча Мухалатова. Нет ничего нелепее этого. Но и другого ничего тоже быть не может. Федор Ильич почуял неладное, он не забыл, выходит, институтские годы, когда слушал его, стрельцовские, лекции, и запомнил даже существо идеи, которой тогда был одержим он, Стрельцов. Запомнил и теперь удивился, почему же единоличным владельцем этой идеи оказался Мухалатов, тоже один из учеников Стрельцова. Федор Ильич хотел восстановить истину, восстановить справедливость…
Может быть, следовало за это ухватиться? И что же тогда? Вступить в открытый спор с Мухалатовым? Вступить в спор и с Р. Стрельцовой, блестящая статья которой в поддержку Мухалатова, одного лишь Мухалатова, опубликована как раз сегодня? Нет, нет! Все он сделал правильно, и сожалеть ему не о чем. Не сделал пока только лишь одного… Пусть новый аккумулятор носит имя Мухалатова — нельзя допустить, чтобы и Римма стала носить это имя!..
Стремительно распахнулась дверь; испуганная, вбежала Евгения Михайловна.
— Василий Алексеевич, беда! — проговорила она, едва шевеля побелевшими губами. — Позвонили сейчас от Склифосовского: Лика Пахомова попала под машину.
Глава тринадцатая Радиус действия собаки
Москва скрывалась в тяжелом сизом дыму. Далекая-далекая, даже если смотреть прямо вниз, на Лужники, прощупывая безразличным взглядом откосы Ленинских гор, покрытых уже поблекшей зеленью. Неведомым вовсе казалось то, что находилось за окружной железной дорогой. Плотное скопление каменных стен, холодных, темных, и только. Есть ли там улицы? Кто-нибудь ходит по этим улицам? Или только пустой резвый ветер гуляет над городом?
Александр стоял у парапета, положив руки на жесткий, скользкий гранит. Ему всегда нравилось смотреть отсюда на Москву, на стрельчатые башни Кремля, на золоченые купола соборов. В любую погоду и при любом настроении здесь было ему хорошо. Огорчения забывались, тревоги сглаживались, усталость проходила. И постепенно охватывала необыкновенная, непередаваемая радость. Хотелось уйти в полет над зеленой землей, над голубой лентой Москвы-реки. Особенно хорошо было стоять здесь вдвоем, обмениваться мыслями о чем-нибудь важном, большом, возвышающем душу. О повседневных житейских мелочах ни думать, ни говорить не хотелось.
В этот раз Александр стоял один. Долго стоял. Резвый ветер трепал густые пряди его волос. На стылом граните зябли пальцы. И таким же внутренним холодком был наполнен он весь. Светлое настроение не создавалось. Да и откуда явиться светлому настроению, если…
…В институте имени Склифосовского, куда Маринич примчался тотчас же, как только узнал о несчастье, случившемся с Ликой, дали короткую справку: «Состояние очень тяжелое». Маринич ходил от двери к двери, ловил, останавливал куда-то спешащих людей в белых халатах и все допытывался: «Ну скажите точнее, точнее!»
Пробился к заведующему отделением. Тот принял напористого посетителя стоя и разговаривая одновременно еще с двумя врачами, должно быть только что закончившими какую-то очень сложную операцию, исход которой остался для них неясным. Александр чувствовал, понимал, как он здесь некстати со своими вопросами. Эти врачи делают для спасения жизней других все, что только в человеческих силах, каждая минута у них на счету, каждая потерянная минута может стоить чьей-то жизни, а он своей назойливостью отнимает у них драгоценное, решающее время. Но он не может уйти в неведении, он должен твердо знать…
— Вы слышали такое слово — «реанимация»? — торопливо спросил его заведующий отделением, тут же давая ожидающим врачам какие-то быстрые, безоговорочные советы. — Так вот, Пахомова начала сейчас свою вторую жизнь. Будем надеяться, что завершать эту, вторую жизнь придется ей не у нас. Вот все. Извините. Нам некогда.
Александр приблизительно знал, что такое реанимация — оживление. И это всегда представлялось ему фантастикой, редчайшей врачебной удачей, случаем. Теперь совсем обыденно, по-деловому и на ходу, в соединении с именем Лики произнесено это слово. И еще сказано: «Будем надеяться…» А что же еще остается? Но если Лика начала свою вторую жизнь и можно надеяться — это уже чуточку легче.
Из больницы он вышел поздним вечером. Машины по Садовому кольцу бежали, помаргивая красными огоньками. От бензинового дыма щипало в горле. Беспомощность и подавленность, которые все время одолевали Александра, пока он бродил вдоль коридоров, пропахших аптекой, теперь сменились чувством ярости, потребностью действовать. Он должен наказать тех, кто стал виновником страшной беды! Но как наказать? И кого именно? Шофер той машины, которая сбила Лику, уже находится под следствием, и у него отобраны права, хотя он доказывает, что предотвратить катастрофу никак не мог — девушка шла по панели словно слепая и ни с того ни с сего метнулась прямо на проезжую часть. Можно было подумать — пьяная…
Пьяная… Ее отец Петр Никанорыч, вор и пьяница, вот кто во всем виноват! И как это было можно так долго с ним церемониться — не засадить в тюрьму?
Александр ворвался в квартиру Пахомовых весь кипящий гневом. Хотя время было и позднее, дверь оказалась незапертой. Горел свет. Остро пахло селедкой и луком. Примостившись на краешке Дусиной постели, поверх одеяла, нераздетая, только скинув туфли, спала Вера Захаровна. Дуся трудно перекатывала голову по подушке, не открывая глаз, тихо стонала. Похоже, что она была без сознания. Лицо словно бумага — белое.
А Петр Никанорыч один сидел за столом, в грязной майке, обвисшей под мышками, небритый, опухший, выставив перед собой целую батарею пивных бутылок. Он и бровью не повел, увидев вошедшего Александра. Отхлебнул из стакана и вяло стал сосать селедочный хвост.
Преодолевая отвращение, Александр уселся против него. Гадина! Хлещешь пиво, купленное на деньги, которые украл у дочери, и дела тебе нет, что она сейчас, изломанная, лежит в больнице, борется со смертью…
— Ну? — уставясь мутным взглядом в Маринича, спросил Петр Никанорыч. — Выпьем? Ты кто такой? Я тебя где-то видел. — Плеща на стол, он наполнил свободный стакан. — Давай! За здоровье дочери Лидии!
— Да ты знаешь ли, где она? И в каком состоянии?
Маринич говорил глухим, сдавленным голосом. В этой душной комнате, где тихо стонет тяжело больная девочка и спит измученная горем, бесконечными тревогами ее мать, он не мог кричать. Хотя он должен был кричать. И не мог называть на «вы» и по имени-отчеству этого бесчувственного пропойцу. Хотя должен был соблюдать положенную вежливость.
— Знаю. Все знаю. Потому и предлагаю: «За здоровье…» — вытирая ладонью мокрые губы, с пьяной сосредоточенностью проговорил Петр Никанорыч. — Все знаю. Под машину попала, грузовиком в спину… Давай выпьем… За здоровье… А тебя я помню, ты уже приходил сюда.
— Это ты Лику толкнул под машину, — не тая ненависти, сказал Маринич. — Пьяница, вор!
Петр Никанорыч дернулся, рука у него скользнула по мокрому столу.
— Никто не толкал ее, угодила сама… Бывает… — Он всхлипнул, туго повернул голову в сторону постели, где лежали Дуся и Вера Захаровна. — А ты молчи. Не знают они пока ничего. Молчи… Лику в больнице вылечат. А эта, Дуська, тут… пропадет. Ежели без матери… Ты понял?
— Надо было тебя давно в тюрьму посадить. Тогда никто не пропал бы, — сказал Маринич. И с еще большей ненавистью повторил: — Пьяница! Вор!
— Н-ну… Ты! — В голосе Петра Никанорыча прорвался хриплый и злой басок. — С тобой я не пил! И не воровал тоже.
— Это ты вытащил деньги у Лики! Ты! Я все знаю! Где они? Отдай сейчас же!
Он с такой стремительной настойчивостью бросал в лицо Петру Никанорычу эти слова, что тот, лязгнув испуганно челюстью, вдруг застыл, озадаченный.
— Взял… Ну взял… — наконец проговорил он, выходя из окаменения. — Тебе какое дело? Моя дочь! Об отце родном кто — она должна заботиться. Инвалид второй группы… Пенсионер… А она — рубля не допросишься…
Александр вскочил, обежал вокруг стола, рванул Петра Никанорыча за плечи:
— Отдай! Добром отдай! Сейчас же, говорю тебе! Ворюга!
Он тряс его грубо, безжалостно. Бутылки на столе звенели, подпрыгивали. Ах, как он опоздал, как опоздал! Почему он не примчался сюда в ту же минуту, как только Лика заявила о недостаче в кассе? Да, конечно, тогда это было еще трудно предположить. Но после, немного после — ведь были же подозрения! А Лика все взяла на себя. Ей тяжело было обвинять отца.
Петр Никанорыч мычал беспомощно:
— Пусти… Нет ничего у меня, все израсходовал…
— Нет, ты отдашь мне, ты отдашь! Я тебя заставлю, — сквозь зубы выговаривал Александр, весь холодея от мысли, что, может быть, теперь и действительно у этого пьянчужки уже ничего не осталось. — Заставлю! Заставлю! Пятьсот сорок рублей ты выложишь как копеечку!
— Уйди! Какие пятьсот? — Петр Никанорыч вырвался из рук Александра, сидел, заслонясь локтем, выставленным вперед. — Уйди, говорят! Десятку я взял у нее.
— Ты выкрал у нее пятьсот сорок рублей! И ты вернешь сейчас же эти деньги! Или я тебя сведу в милицию. Тебя посадят в тюрьму.
— Ну, ну, не пугай, в милиции меня знают. — Глубокая убежденность звучала в его крепнущем голосе. — Там знают меня. Инвалид второй группы. Пенсионер. А взял я из сумочки только десятку одну. Я человек! Я отец! Почему она сама об отце не заботится? За десятку в тюрьму родного отца не посадят.
И Александр со всей отчетливостью понял по лицу, по глазам, по голосу Петра Никанорыча, что стащил он у дочери действительно только десятку, что и вправду не знает, о каких пятистах сорока рублях идет речь. Совершенно бесцельно тратить здесь время на разговоры.
Но теперь уже сам Петр Никанорыч вцепился накрепко в рукав его пиджака и не отпускал, требовал:
— Какие пятьсот? Нет, ты мне скажи: какие пятьсот?
С пьяной настойчивостью он заставил Маринича рассказать все. И Маринич не стал сопротивляться. Подумалось: а вдруг его рассказ подтолкнет, заставит Петра Никанорыча припомнить что-нибудь существенное? Ведь так или иначе, а деньги у Лики пропали скорее всего в тот именно день, когда она из банка заезжала домой. Может быть, в те часы находился здесь и еще кто-то, совсем посторонний?
Каждый думая о своем, они вели разговор бессвязный, непоследовательный и состоявший главным образом из взаимных вопросов.
Наконец до помутненного сознания Петра Никанорыча дошло все-таки самое основное: Лику обокрали. Она в тяжелом состоянии находится в больнице, но, если бы с нею и не случилось такой, самой страшной беды, все равно бы ее подстерегала другая — следствие, суд и непременное увольнение с работы, потому что пятьсот сорок рублей сумма не маленькая. Петр Никанорыч заворочался на стуле, икая и хрипя.
— Дык… дык… А кто же тогда отцу-инвалиду помогать станет? Я как же тогда? Какая у меня пенсия? — Глаза у него остекленели в испуге. — Искать надо! Ищи, кто стащил у нее эти деньги… Ты слушай… Угрозыск вызвать… с собакой. — И в отчаянии схватился за голову: — Нет, не возьмет след. Было давно. И далеко уже где-нибудь… Радиус действия собаки…
Глухо подвывая, выбросил руки вперед. Бутылки с грохотом полетели на пол.
Приподнялась на постели Вера Захаровна. Спросонья она не поняла, кто у них в доме, не узнала Маринича. Голосом, полным горя, выкрикнула:
— Пьяницы вы проклятые, чтоб вам подохнуть! Вовсе совести нет у вас. Девочка еле дышит… Вон отсюда, вон! — И упала головой на подушку, забилась в беззвучных рыданиях.
Маринич снова рассвирепел. Он заломил за спину руку Петру Никанорычу и принудил его встать, пойти вместе с ним. Дотащил до отделения милиции и сдал дежурному. Тот было поморщился:
— А, старый приятель! Да на черта он нам? — Но, выслушав Маринича, согласился: — Ладно, пусть переночует, отдых семье надо дать. На сутки, конечно, я этого гуся могу задержать. А больше — прав нету.
Остаток ночи Александр провел в разговорах со своей матерью. Она выслушала сына очень сочувственно. Сразу же объявила, что одобряет все его решения. Лика очень хорошая и просто несчастная девушка. Ей надо помочь. Ужасно, что так трагически стянулись в один узел все обстоятельства. Не надо слишком тревожиться за жизнь Лики, в институте имени Склифосовского хирурги действительно делают чудеса. Только бы не осталась девушка калекой. А растрату Ликину следует погасить. Это правильно. В сложившихся обстоятельствах это просто необходимо. Деньги Лика, конечно, не присвоила. А негодяя, который их украл, все равно не найти.
Она грустно улыбнулась, когда Александр привел слова Петра Никанорыча о «радиусе действия собаки» и рассказал о своих предположениях, что деньги были похищены все же в доме Пахомовых.
— Ну что же, хотя бы и так, — проговорила она. — Все равно, из рассказа твоего у меня сложилась твердая уверенность — эти деньги теперь, безусловно, уже вне «радиуса действия собаки». А с Ликиной души надо снять хотя бы этот гнет, внести недостающую сумму в кассу и сказать, что произошла простая ошибка. Для Лики это будет самым лучшим лекарством. Я ненавижу ложь, но ложь во опасение — признаю. У меня на сберкнижке есть двести тридцать рублей. Где бы нам побыстрее раздобыть остальные?
На работу Маринич явился невыспавшийся, усталый, с тупой болью в голове. По пути он сделал большой крюк, заехал в больницу. В справочном сказали, что ночь прошла удовлетворительно. Подробностей никаких. Дежурная посоветовала позвонить попозже, когда к ней поступят новые сведения после обхода врачей. «Удовлетворительно…» Что это — хорошо или плохо?
Глаза мозолила запись на календаре: дать окончательный ответ следователю насчет Власенкова. А что, если с этим следователем посоветоваться? Спросить его, как начать розыск денег, похищенных у Лики? Куда с таким заявлением следует обратиться? На заводе никто эту мысль не поддерживает. Всех победил акт, подписанный самой Ликой без всяких оговорок и, значит, избавлявший от необходимости предполагать, что в хищении денег замешано еще какое-то третье лицо.
Однако разговор со следователем получился совсем не такой, как ожидал Александр.
— Минуточку! Люблю порядок, — сказал следователь. — Давайте сначала закончим о Власенкове. К какому решению вы пришли? Оставляете в силе свое заявление или готовы его отозвать? Как доложить прокурору?
— Ничего не изменилось, — ответил Александр. — Мое заявление остается в силе. Привлекайте его по статье сто семьдесят пятой.
— Хорошо, что ж, так и доложим начальству. — Следователь неторопливо перечитал заявление Маринича. — А статью, в случае надобности, мы и сами уж подберем. Других свидетелей, кроме Пахомовой, не назовете?
— Нет. Но дело в том…
И Маринич со всеми подробностями рассказал, какая беда постигла Лику. Попросил помочь советом.
Следователь выслушал его сочувственно. Выдержав профессиональную паузу, спросил:
— У вас все? — И когда Маринич подтвердил, что больше ему сказать нечего, принялся размышлять вслух:
— Итак, о Власенкове. Заявлению вашему я дам ход. Но ведь убедительными доказательствами оно совершенно не подкреплено! Теперь — даже и свидетельскими показаниями. Очень-то не ждите интересующего вас исхода при таких обстоятельствах. Рассмотрим дело Пахомовой. Если растрата ею будет погашена добровольно, в полном размере и не последует заявлений, подобных вашему относительно Власенкова, у нас нет никаких оснований самим возбуждать против Пахомовой уголовное преследование. Другое дело, если этого потребует ваша организация, — тогда нам придется рассматривать.
— Но если…
— Минуточку! Я сейчас беру юридическую сторону дела, и только. Давайте рассуждать. Вы отвергаете растрату, хотя она подтверждена признанием самой Пахомовой, ее личной подписью на акте проверки кассы. Вы предполагаете: была совершена кража третьим лицом. Но подозрений в адрес конкретных лиц не можете высказать. Так?
— Но я пришел…
— Минуточку! Да, понимаю. Вы просите у меня только совета. Но тогда я напомню позиции. Пахомова заявляет: «Эти деньги растратила я сама». Вы заявляете: «Нет, их у нее украли. Но кто, где и когда — не знаю». При этом даже мать, сестра и пьянчужка отец исключаются. Исключаетесь, очевидно, и вы сами, главный бухгалтер, и вообще весь коллектив вашего завода. Слушайте, товарищ Маринич, при таких исходных позициях единственный вам совет: обратитесь к Шерлоку Холмсу.
— Но ваш опыт, чутье…
— Мой опыт до сих пор складывался из следственных дел, возникавших на реальной основе. А чутье, извините, у меня не собачье.
— Да, конечно, — сердито сказал Маринич и встал. — Если бы эта кража произошла в радиусе действия собаки…
— Чепуха! — перебил следователь. — Какие там «радиусы»! Собака может взять след только в случае…
— До свидания, товарищ следователь! Мне почему-то казалось, что вас могла бы заинтересовать судьба очень хорошей и очень несчастной девушки. Я ошибся.
Следователь вдруг рассмеялся. Мягко, дружелюбно.
— Зато, кажется, я теперь не ошибся. Мое чутье, на которое вы так рассчитывали, подсказывает: чтобы очень хорошую девушку сделать по возможности менее несчастливой, вам следует таинственно исчезнувшие деньги вложить в кассу лично самому и считать во всем виноватым только себя. Тогда не пишите ничего и покойному Шерлоку Холмсу. Не тратьте еще лишних четыре копейки на марку. Такой совет принимаете?
— Деньги в кассу я уже внес полностью, — заносчиво сказал Александр. — Внес именно потому, что Пахомова не воровка и не растратчица.
— Ну, вот видите, как здорово наши мысли совпали! Жалею, что не совпали они и по делу Власенкова. А отсюда — еще один совет. Уже без вашей просьбы. Не выставляйте, Пахомову свидетельницей по делу Власенкова. Разумеется, даже когда она поправится. Неудобно это. Особенно после того, как вы сделали за нее свой взнос в кассу.
Из прокуратуры Маринич направился прямо в завком. Двести тридцать рублей, взятых матерью со сберкнижки, придавали ему уверенность в себе. Сказанные с размаху в разговоре со следователем слова о том, что он уже погасил Ликину недостачу, теперь и совсем обязывали довести дело до конца. Явился Маринич в завком очень в пору. Лидия Фроловна как раз обсуждала с двумя своими заместителями вопрос о выдаче ему ссуды. Глаз у Лидии Фроловны заплыл окончательно, и говорила она уже вовсе невнятно.
— Без тебя-то нам бы легче решить, — просвистела она, поглаживая щеку. — Ну да вошел — так слушай. Есть такое мнение: выдать. Сто рублей как пособие, а двести — возвратную ссуду, скажем, на полгода. Только знаешь, как в воду глядела я, мужики, — показала на заместителей, — сразу весь мой ход разгадали, зачем и для чего ты деньги просишь. И мы бы тебе уже все оформили, да вот у Бориса Ларионовича есть мысль одна. Давай, Борис, сам высказывай.
Борис Ларионыч сразу завозился на стуле, принялся почесывать подбородок. Закашлялся.
— Так ты что же, Лидия Фроловна, — сказал он растерянно, — это же свой был у нас разговор, совсем между нами. Ему-то зачем же знать?
Но Лидия Фроловна была неумолима: зарубил — дорубай! И с тысячью разных оговорок Борис Ларионыч изложил свою мысль о том, что не надо бы Мариничу слишком торопиться со своим заявлением. Пахомова в очень тяжелом состоянии. А вдруг… Дело-то житейское, всякое может с человеком случиться. И если, не дай бог… Тогда ведь просто списали бы эту сумму с нее. Не Маринич же виноват в недостаче. А внесешь — уже не воротишь. Зачем же такими большими деньгами сейчас без нужды рисковать? Конечно, бедной девочке надо пожелать всяческого здоровья, а…
…Маринич стоял у парапета, положа руки на жесткий, скользкий гранит. Москва внизу опалово светилась бескрайним разливом маленьких огоньков. И не угадать никак, где там среди них затаилось Садовое кольцо, Колхозная площадь, институт Склифосовского; палата, в которой лежит вся окутанная бинтами Лика. Жива ли она? Легче ли ей стало? Или…
Конечно, Борис Ларионыч по-своему прав: «всякое может с человеком случиться…» — люди и умирают. Он не от огрубленности душевной давал свои советы. Все знают, Борис Ларионыч очень отзывчивый человек. И все знают тоже: в его большой семье как-то так несчастливо получилось, что кряду проводил он на кладбище пятерых: родителей-стариков, младшего брата, жену и сына. Горе накладывалось на горе. А надо было работать. И надо было хоронить. Надо было тратиться на похороны. Жизнь идет своим чередом. И в самые горькие дни все равно приходится считать деньги, соображать, как поэкономнее распорядиться каждой рублевкой. Борис Ларионыч это все испытал, потому и сказал, тысячу раз оговорясь, пересиливая в себе неловкое чувство: «Зачем же спешить?»
Эх, Борис Ларионыч! За твои слова тебя нельзя осудить, ты раскинул умом просто «по жизни». Тебя можно понять. Но и ты пойми, Борис Ларионыч, что тут дело не просто в деньгах, а в чести человеческой. Если уж тоже рассуждать только «по жизни» и случится самое страшное — пусть на имени Лики не останется ни единого пятнышка, доброе имя стоит дороже любых денег. Ради сбережения своего доброго имени люди и жизнь свою отдают…
От этой мысли Мариничу стало холодно. А что… что, если в поток машин Лика шагнула сознательно, страшась оказаться на скамье подсудимых? Ведь в те часы, когда другими людьми определялась ее судьба, Лика оставалась совершенно одна и тоже судила сама себя по собственным своим законам.
И вот теперь Ликина растрата — черт, какая там «растрата»! — им, Александром, погашена. В кассе наличие денег соответствует записям в журнале. Акт, подписанный Ликой, по существу, не имеет никакого значения. Лика не числится дебитором по разделу «растраты и хищения». Акт можно бы уничтожить. Но Андрей Семеныч сказал: «Из песни слова не выкинешь. Было — было».
Да, конечно, по бухгалтерским правилам любая история недостач и их возмещения должна быть отражена в документах. Андрей Семеныч в первую очередь подумал об этом. Он очень добрый человек, но дело прежде всего, переживания — потом. И правильно! Если бы он, Маринич, не поддавался безотчетным чувствам, а действовал, всегда руководствуясь только трезвым расчетом и строгими правилами, возможно, всего этого и не случилось бы. Да, да, в этом, как там ни считай, именно в этом корень всех Ликиных несчастий.
Почему так холодно? От Москвы-реки, что ли, тянет сыростью?
— Сашка! — И на плечо Маринича легла чья-то ленивая рука.
— Володя!
— Слушай, чем это объяснить? Опять мы с тобой оказались на этом же месте? Кроме отпечатка следов Герцена и Огарева, чем оно и еще примечательно? Ну не сердись! Все помню. Значит, просто Москвой любуешься? Ночными огнями… — Мухалатов был в отличном настроении. — А-а! Понимаю тебя: в одиночестве, под звездами и на ветерке, стремишься осмыслить драму Лики Пахомовой…
— Без балагана, Володя.
— Без балагана! И хоть со мной ты поступил подло — задержал мое письмо в многотиражку, но в общем блеснул благородством. Все знаю! Сашка, люблю такие порывы! Черт их задави, какие-то там пятьсот сорок рублей, зато поют же сейчас у тебя в душе соловьи!
— Совсем не поют.
— Н-да! А у меня поют, между прочим. Вот и занесло меня на высшую точку Москвы. Был я сегодня в госкомитете у Галины Викторовны. Самым наибольшим начальством подписано все. Вхожу собственным именем в историю техники, в учебники и так далее. Каково?
— Хвастливо.
— Вот теперь признаю: балаган. Но ведь по-человечески, просто могу я и порадоваться? Слушай, Сашка, ну чего нам стоять на этом древнем холме, оглядывая сверхдревнейшее небо? Давай закатимся на часок куда-нибудь в современность…
— Володя, сегодня я не могу. Не только в ресторан — даже в самое тишайшее кафе. Мне нужен воздух.
— Воздух, воздух… Ну что же, и это хорошо. Мы не пойдем тогда в кафе «Андромеда», мы сядем с тобой под созвездием Андромеды. Ты что-нибудь смыслишь в астрономии? Можешь найти дорогу к созвездию Андромеды без помощи милиционера?
— Если мы спустимся поближе к Москве-реке и сядем там на скамейку, оно окажется у нас немного справа и за спиной.
— О-о! Тогда ты можешь работать даже космонавтом. Пошли.
Он вышагивал широко. Сбегая по крутому спуску, хохотал громко. Радость плескалась у него через край.
Вдруг, заметив немного в стороне девушку в белом халате и с корзиной цветов, Владимир остановился:
— Саш-ка…
Приблизился к девушке, окинул быстрым взглядом цветы. Спросил энергично:
— Сколько стоят все эти розы?
Продавщица, молоденькая, пухлощекая, пожала плечами. Поправила прическу, стянутую шелковой лентой. Улыбнулась.
— Не знаю… Наверно, еще рублей на двадцать осталось. А вы что, хотите купить их все сразу, оптом?
— Хочу.
— Не смешите!
Мухалатов, как фокусник, сунул руку в боковой карман пиджака, пошевелил там пальцами и вытащил две десятки.
— Получите!
Все так же пожимая плечами и улыбаясь, продавщица взяла деньги. Начала пересчитывать стебельки.
— Пожалуй, на двадцать рублей не наберется…
— Не имеет значения. Вместо сдачи назовите мне свое имя, и будем в расчете.
— Вот чудак! Меня зовут Лилей.
— Великолепно! Какой каламбур: Лилия продает розы! Лиленька, не пересчитывайте стебельки, не колите понапрасну о них свои пальчики. Эти цветы, все, я подарил вам.
Он подхватил Маринича под руку и потащил прочь. Но Лиля тут же настигла их, забежала вперед, выкрикнула растерянно и сердито:
— Как… как вам не совестно! Я ведь от государственного магазина!
Сжатым кулачком толкала Мухалатова в грудь, совала ему деньги. Но он очень ловко стиснул между своими ладонями ее кулачок, притянул к себе, сказал просительно:
— Лиленька, не отказывайтесь. Вы можете поверить мне, что я сегодня необыкновенно счастлив? И чтобы полностью насладиться своим счастьем, я должен кому-то сделать приятный подарок. Почему я не могу подарить вам эти цветы? Ну, не хотите — я их возьму и стану раздавать кому попало. Чем это лучше? Лиленька, не отказывайтесь. А если вы никогда не видели счастливого человека — посмотрите.
Легонько погладил Лилин кулачок и отпустил. Девушка недоуменно повторяла: «Вот чудак! Ну и чудак же!» Но больше не стремилась во что бы то ни стало отдать Мухалатову деньги. Повернулась и тихонько пошла к своей корзине.
— А знаешь, Володя, все-таки в этом есть действительно что-то нехорошее, — с упреком сказал Маринич, когда они остались одни. — Отдает купеческим душком. На, дескать, бери, я богат, я могу, я ничего не жалею… Даже если ты счастлив через меру, зачем себя так выставлять напоказ?
Мухалатов присвистнул:
— Вот те на! Хорошенький поворот! Да купцы-то самодуры напоказ выставляли именно себя, личность свою, фамилию. А что Лиленьке этой известно о человеке, подарившем цветы? Что она станет рассказывать подружкам своим? Фамилию и место работы я ей не называл. Она всем будет рассказывать просто о счастливом чудаке. И верить в таковых, что на свете они еще водятся. Чем это плохо?
— Все-таки… Сам этот размах: двадцать рублей. Ты мог бы подарить ей один-два цветочка.
— Послушай, Сашка, — в добродушный тон Мухалатова вползла уже ворчливая нотка, — вот ты меня называешь загулявшим купцом. А я повторяю: здесь никакой игры на публику не было. Порыв души! Кроме Лиленьки и тебя, о моей выходке никто и не знает. А вот ежели ты публично покрываешь растрату Пахомовой, не каких-нибудь двадцать, а целых пятьсот сорок рублей, и об этом теперь говорит весь завод — кто подгулявший купец? Кто выставляет себя напоказ?
Гнев и обида захлестнули Маринича, он сдавленно выкрикнул:
— Володя! Да как же ты можешь это сравнивать! Лику постигло такое несчастье…
— По-годи! Признаюсь: переборщил. Давай уточним. Искать обидные сравнения начал ты, а не я. Значит, квиты. Но не в этом дело. Понять, что такое несчастье, я способен. Ты опередил, а я тоже готов был бы внести за Пахомову пятьсот сорок рублей. И даже, пожалуй, совершенно без шума. Способен ли ты понять, что такое счастье? А если способен — молчи и наблюдай. Сегодня, кажется, еще и не такое Володька Мухалатов может выкинуть. — Он рывком сдернул с шеи галстук, шелковый, новый, и повесил на зеленую ветвь молодого клена. — Цена этой штуки — всего два с полтиной. Пусть кто-нибудь возьмет. Кто — все равно! Он не увидит меня, и я его не увижу. Надеюсь, ты больше не скажешь, что это тоже сделано напоказ?
— Не понимаю, Володя…
— Великолепно! Я тоже ничего не понимаю. Конец! Выходит, мы нашли общий язык: мы оба ничего не понимаем. Давай на этом и остановимся, не будем забираться в глухие дебри психологии. Эта, что ли, скамейка под созвездием Андромеды? Садись! Говорю: садись!
Глава четырнадцатая Под созвездием Андромеды
Они уселись на скамейку, удобную, низенькую, прикрытую с боков мелколистным кустарником. Управлял разговором один Мухалатов. Правда, иногда он с видимым удовольствием принимал точку зрения Маринича и подтверждал ее: «признаю», но уже через две-три минуты забывал об этом. И Маринич безуспешно пытался разгадать: хочется Владимиру серьезного, глубокого разговора или скамеечка над Москвой-рекой — простая замена ресторанного столика и сам Маринич — такая же замена восторженно глядящих на Мухалатова его ресторанных собеседниц. Последнее предположение больше всего походило на истину. Но что же тогда заставило Владимира предпочесть скамейку под созвездием Андромеды хотя бы кафе с таким же звучным названием? Этого Маринич понять не мог.
Он попытался напрямую спросить Мухалатова. Владимир ответил искусственным зевком. А потом спросил в свою очередь:
— Тебе не хочется именно со мной как с личностью разговаривать? Или не хочется видеть рядом с собой счастливого, жизнерадостного человека? Или ты жаждешь, чтобы Володька напился, устроил скандал и попал в милицию? Он на все это сегодня способен! Но…
Маринич сказал, что действительно ему в этот вечер как-то не по себе, давят тяжелые мысли о Лике и пустая болтовня не идет на язык. Но, уж во всяком случае, он никогда не чурался Владимира, тем более не может чураться в такой для него радостный день. Противна даже мысль о том, что все это может закончиться скандалом и милицией.
Мухалатов лениво потянулся.
— Не понимаю, Сашка, чего ты пошел в бухгалтера. Тебе бы — в дипломаты! Но я верю, верю. Хотя и языком дипломата, но ты сказал от души. На генеральный твой вопрос я тебе не отвечу. Пока. А там будет видно. Или сам сообразишь, что значит мое «но». Или у меня возникнет потребность объясниться. — Он опять зевнул. — Заговорили мы о ресторанах, выпивке, и вот, по ассоциации идей, какая в памяти у меня всплыла легенда. В одном из древнейших греческих городов — Аргосе, кажется — в свое время был поставлен памятник ослу. Эта глупейшая скотина однажды изгрызла, общипала у своего хозяина лучшую виноградную лозу. Осла, понятно, хозяин вздул. А люди потом приметили, что на следующий год именно эта лоза дала самые крупные ягоды. И тогда виноградари стали обрезать лозы. И получать великолепные урожаи. Так и до сих пор. Ты понимаешь, насколько справедливыми оказались те люди — они не забыли осла! Они не присвоили себе его открытия.
— Легенда, эта имеет значение и в нашем разговоре?
— Пожалуй, нет. А впрочем… Все дело в том, что осталась только легенда. Сам памятник давно уже обратился в пыль.
— И ты намерен хлопотать, чтобы его восстановили?
— Пожалуй, да. Хоть и глупо. Чрезвычайно глупо. Осел ведь не сделал никакого открытия, он просто нажрался вкусных зеленых побегов. Открытие сделал человек, который первым заметил полезный результат ослиной шкоды. Ему бы памятник! Да вот беда — имя этого человека не донесла история.
— Ты сам себе противоречишь, Володя. Всего минуту назад ты стоял решительно на стороне осла.
— С позиции времени, Саша! — наставительно и уже совершенно серьезным тоном сказал Мухалатов. — Все следует оценивать исключительно с позиции времени. Ослов, людей. И их поступки. А время исчисляется не только веками, но и секундами.
Сияя желтыми огнями, по реке проплыл грузовой теплоход. Вода клокотала, билась у него под винтами так сильно, что Маринич не смог уловить дальнейших слов Мухалатова. Глухая пауза продлилась несколько минут. Найдя неизвестно какой логический переход, а может быть, как и вообще в этот вечер, совсем не считаясь с логикой, Владимир теперь говорил о другом:
— …Когда я женюсь и обрасту семейством, воспитывать своих детей я стану иначе. Мы много рассуждаем о познании ими правды жизни, а эту правду наши дети все равно узнают для себя неожиданно, приносят с улицы. Они бывают оглушены такой, в противовес родительским сентенциям открывшейся правдой. У них в сознании все перевертывается вверх дном! Кумиры, в том числе родительский авторитет, падают и разбиваются в прах, а всяческая муть, по закону коромысла, тогда взлетает к облакам. При такой катастрофе прежде всего страдают сами родители. Им приходится расплачиваться за это наиболее высокой ценой — потерей к себе доверия, уважения. И вот бесчисленные драмы.
— А я что-то не наблюдал таких ужасных последствий, — сказал Александр. — Мы с мамой отлично понимаем друг друга.
— Ты еще не совсем новое, жадно ищущее истину поколение, — с прежней назидательностью отозвался Мухалатов. — И ты и я — мы оба еще воспитывались в обстановке мягкой, но непреклонной муштры. Речь идет о тех, кому надлежит думать самостоятельно, не дожидаясь кончины своих наставников и опекунов.
— Туманно что-то, Володя. Смена поколений, на мой взгляд, всегда происходит приблизительно одинаково, и никогда при этом не бывает никаких особых катастроф.
— А было ли когда-нибудь еще в истории человечества, чтобы люди так жадно тянулись к правде? Любой — радостной, горькой. Ничто так не принижает, как ложь. Но увы, из всех живых существ, кажется, только человек и обладает этим мерзостным качеством.
— Не знаю, Володя, в звериной шкуре я не бывал, хотя, мне думается, звери по-своему тоже хитрят иногда и обманывают друг друга. То есть, иными словами, лгут. А человек велик уже тем, что способен отличать злую неправду от доброй неправды и бороться с неправдой злой.
Мухалатов торжествующе, победительно рассмеялся. Притянул к себе зеленую веточку, подержал и отпустил, прислушиваясь, как она пружинисто ударила по густой листве.
— Оправдание «лжи во спасение»? — спросил он иронически. — А вдумывался ли ты, Александр Иванович, в то обстоятельство, что любая, подчеркиваю, любая ложь всегда подается только «во спасение»? Мало найдется таких идиотов, которые сами вывернулись бы наизнанку: «Лгу потому, что хочу причинить тебе зло!» Стало быть, надо нам не подсортировочкой заниматься — хорошая там или плохая неправда, — а вышибать из жизни ее всю, подчистую. Добиться того, что врачи сделали с оспой: всеобщая обязательная прививка еще в двухмесячном возрасте — и ни одного заболевания! Только так.
— Конечно, все это очень заманчиво, и я тоже хотел бы этого, — сказал Маринич, — но я не могу представить себе способ, при помощи которого можно было бы осуществить твою идею практически. Прививки от оспы все-таки делать проще.
— Для начала: не лгать своему ребенку. Ни в чем! Пусть он любую правду — простую, сложную и даже, может быть, практически пока ему совсем ненужную — приносит не с улицы, а узнает от своих родителей. Не может быть деления: это для маленьких, а это для больших. Правда, как хлеб, как воздух, для всех едина. Ребенок должен знать о жизни все.
— Не понимаю… Не могу себе представить… У детей же бывают такие вопросы…
— И надо отвечать на них как есть! Все это чепуха насчет нездорового любопытства и прочего. Оно, любопытство, тогда нездоровое, когда от ребенка утаивается правда. Не будет тайн — все сразу станет совершенно здоровым.
— Меня ты прочил в дипломаты, Володя, — сказал Маринич, — а тебя бы — в президенты Академии педагогических наук.
— Ну нет, хватай выше, — отозвался Мухалатов. — Это проблема не только педагогическая.
— Н-да…
— А выше, сам понимаешь, Володьку не пустят. И стало быть, он останется со своими идеями только философской «вещью в себе». — Мухалатов теперь говорил уже с обычным для него ерничеством. — Прежде чем гелиоцентрическая система Коперника получила всеобщее признание, Джордано Бруно сгорел на костре. Меня, конечно, не сожгут, и я в историю войду как мыслитель. Но опять-таки, увы, как мыслитель, способный понимать что-либо лишь в области аккумуляторов, и ни в чем ином.
— А будущих своих детей воспитывать ты станешь соответственно изложенной программе?
— Это софистика. По свидетельству современников, Лев Николаевич Толстой в таких случаях говорил: «Это совсем другое».
— Как отнесется к этому Римма?
Мухалатов снова подтянул к себе упругую зеленую ветку и долго забавлялся ею. То отпускал почти совсем, то пригибал к самому сиденью скамейки. Медленными движениями, свободной рукой, ощипывал листья и скручивал их в трубочки. Скручивал и бросал далеко, куда-то в потемки, в сырой холодок туманной ночи. Вполголоса напевал модную английскую песенку о парне, которому нравятся все девушки, а девушкам всегда нравится кто-то другой. Потом, наконец, не просто отпустил — оттолкнул от себя ветку, видимо уже изрядно ему надоевшую. Спросил Александра сдержанно, отчужденно:
— Почему — Римма?
— Ну, я думаю, Володя, когда речь идет о воспитании твоих предполагаемых детей, они одновременно будут и детьми Риммы Стрельцовой? Точнее, тогда уже Мухалатовой. Разве не так?
— Удобная вещь — думать за других! Я предпочитаю думать только сам за себя.
— Володя, я не понимаю.
— Когда ты не понимаешь меня, нам легче понимать друг друга. Мы это констатировали совсем недавно. А без лишних слов — с чего ты взял, что Римма должна быть матерью моих детей? Ты разве вместе с нею был в женской консультации?
— Всего лишь несколько минут тому назад ты говорил, что собираешься жениться!
— Ах, вон что! — протянул Мухалатов. И заговорил беспечно, легко, будто предметом их разговора была вот эта, так надоевшая ему ветка, все время почему-то припадавшая теперь к скамейке. — Жениться? Да! Но не на Римме.
— То есть?
— Володька Мухалатов женат на Жанне д’Арк! Фантастика! Не только братьям Стругацким — самому Жюль Верну такого не придумать.
— Но ты ведь любишь ее!
— И этого братьям Стругацким не придумать. С чего ты взял?
— Ну… ну… Я же знаю, я вижу, как Римма влюблена в тебя!
— А-а! Это другое дело. Вот это братья Стругацкие могут придумать. И может быть, даже старик Флобер с нее написал «Госпожу Бовари»?
— Да как ты можешь так…
— Слушай, Сашка! — остановил его Мухалатов. И Маринич понял, что при всей напускной легкости своего тона Владимир говорит вполне серьезно. — Ты можешь, конечно, и методом вопросов и ответов выяснить интересующую тебя истину, но я готов пойти тебе навстречу и сделать эту операцию гораздо короче. Мне прятать нечего. Вообще. И тем более от тебя. Это вошло бы в противоречие с только что провозглашенными мною принципами.
— Не балагань, Володя!
— Ты жаждешь истины. Она слагается из четырех пунктов. И первый, главный пункт: Римму я никогда не любил, не люблю и любить не буду. Это с моей стороны высоконравственно по отношению к таким девушкам, как Жанна д’Арк. Пункт второй. Римма Стрельцова, возможно, была и влюблена в меня, в данную минуту — не знаю, но уже завтра, бесспорно, любить меня она не будет. И это с ее стороны тоже высоконравственно, ибо нельзя Жанне д’Арк любить какого-то паршивца. Как видишь, все идет нормально. Третий пункт. Под созвездием Андромеды я охотно уселся и болтаю с тобой потому, что в это время в кафе «Андромеда» Римма Стрельцова сидит за чашкой уже совершенно остывшего кофе и ждет меня. А я не приду. Не приду потому, что это самый лучший и самый надежный способ закончить все высоконравственно. Иначе для достижения того же самого результата пришлось бы истратить миллионы и очень пышных и очень нищих слов. А как бы дешево ни стоили любые слова, в наш век всеобщей экономии нельзя пренебрегать и такими пустяками.
— Не понимаю…
— И пункт четвертый, — Мухалатов вытянул руку и посмотрел на свои часы со светящимся циферблатом, — пункт четвертый заключается в том, что уже довольно скоро я должен буду расстаться с тобой, подняться вновь на самую высшую точку Москвы и встретиться там с возможной своей будущей женой.
— Володя!
— Не восклицай разгневанно и удивленно. Быть может, я еще и не женюсь на Ларисе, да, да, той самой официантке из «Андромеды», но если женюсь, так что же — это вполне в порядке вещей. «Пора, мой друг, пора!» — как сказал по сходному поводу, только в иное время Александр Сергеевич Пушкин. Мне кажется, ты и сам был готов жениться на Лике Пахомовой. Чему же тогда удивляться?
— Не понимаю, Володя, я ничего не понимаю, — растерянно повторял Маринич. — Ты просто дурачишь меня.
— Серьезнее этого я вообще говорить не умею, таким меня мама родила, — сказал Мухалатов. — Но я угадываю, в каком именно месте у тебя в мозгах получилось короткое замыкание. Почему не Римма, почему — Лариса? Так?
— Если ты действительно говоришь всерьез — конечно.
— Не Римма потому, что она мне надоела, как надоедает, наверное, рисовая каша. Она бела, красива на вид, зернышко к зернышку, полезна, хороша и к праздничному столу и в будни, идет в пирожки с яйцами, подходит в рыбный пирог, на гарнир к вареной курице и в поминальную кутью. Словом, куда угодно. Первоклассная вещь! А я люблю обыкновенную картошку. Она тоже — и в суп и в борщ, годится с курицей и с селедкой. Но такого интеллигентного вида, как у риса, от картошки не требуется. Ее можно резать ломтиками и жарить, можно сварить целиком и даже в мундире, можно истолочь. Жареная пригорит — не беда, своеобразный привкус; в пюре черный глазок попадется — тоже не страшно, можно пальцем выковырнуть. Вот и вся нехитрая аллегория. Вот и ответ тебе, почему не Римма, почему — Лариса. — Он опять посмотрел на часы. — К тому же Ларисе и куда труднее живется с ее вообще-то превосходным малышом, но которому все-таки лучше именоваться, допустим, Евгением Владимировичем, нежели Евгением Ларисовичем, как обозначено в метриках малыша сейчас. Отец-мотылек даже об этом не подумал.
— А ты — не мотылек? Ты подумал, Володя? Ты обо всем подумал? — закричал Маринич.
Мухалатов медленно повернул голову направо, налево, прислушался. Сказал ворчливо:
— Здесь, правда, не очень громкое эхо, но все же отдается. Ты можешь регулировать силу своего голоса? Тебя интересует: обо всем ли подумал я. Если исходить из постулата бесконечности пространства и времени, обо всем подумать невозможно. А в том смысле, в каком ты заорал на меня, подумал. Я не уверен, может или не может быть у меня от «Не Может Быть» ребенок, но от Риммы, полагаю, не будет. Моей любви к ней для этого было, как я представляю, маловато, а ее любви ко мне — уж слишком много. Таким образом, эпитет «отец-мотылек» в наших отношениях с Риммой вряд ли возможен. Что еще ты собираешься мне поставить в вину?
— Но ты же держал себя с ней так… Я же сам был свидетелем… Ты влюблял ее в себя!
— «Влюблять в себя…» — медленно, как бы рассматривая на свет каждый слог, повторил Мухалатов. — Это очень похоже и на такие словосочетания: «умереть человека», «проснуть мальчика» и так далее. Ну, допустим, сама Римма действительно могла в меня влюбиться. Потому я и сижу сейчас под созвездием Андромеды, а не в одноименном кафе. «Влюблять» же в себя, согласно Михаилу Юрьевичу Лермонтову, умел только Печорин. Девушки нашего времени к черту пошлют любого Печорина, который вздумал бы их «влюблять в себя»! Уж если быть тому, так девушка и сама сумеет влюбиться. Что как будто и сделала Римма, и, как я уже определил, совершенно напрасно.
— Ты так спокойно, так издевательски рассуждаешь об этом!
— Просто моя обычная манера, ты и сам хорошо знаешь. А что я спокоен — я и должен быть спокоен. Небо не упало. И не упадет. Единственное, Римме сегодня поздно ночью придется возвращаться на дачу без провожатого. Но это ей приходилось делать всегда и раньше, до знакомства со мной. Притом это вполне безопасно, горят фонари, а иногда на платформе даже дежурит милиционер.
— Это цинично, отвратительно, все, что ты говоришь!
— Я не люблю Римму, понимаешь, Сашка, не люблю, как не люблю и все стрельцовское, начиная и кончая высокогуманным и высокоинтеллектуальным Василием Алексеевичем. Бродить под ручку с Риммой, танцевать, пить кофе и болтать о чем придется, признаюсь, мне было интересно. Но ведь есть же и пределы, когда надо останавливаться. И было бы, Сашка, куда отвратительнее, циничнее, если бы я стал продолжать свою затянувшуюся — черт! — «дружбу», что ли, с Риммой.
— Ты мог бы раньше остановиться! Если ты это все понимал.
— Да, я понимал. Но и Римма тоже ведь понимала, к чему клонится дело. Как она бегала последние дни за мной! И знаешь, Сашка, тут меня просто захватил спортивный интерес: посмотреть на нее, когда я скажу ей, какая все же она… Ну, что-нибудь вроде «дуры», только помягче. Не могу иначе: девушка!
Маринич сорвался с места, раздраженно отстраняя мелкие веточки, нависшие над скамейкой.
— Так почему… почему же… ты даже не посмотрел на нее? Почему ты заставил Римму сидеть в кафе в полном одиночестве и лишь догадываться, что все это значит!
— Спортивный интерес у меня уже иссяк, — пожимая плечами, спокойно ответил Мухалатов. — Дело в том, что с этой целью я сегодня под вечер как раз и направился на дачу к Стрельцовым. И представляешь, какие в своем воображении я видел лица? Но тут на пути мне попалась коза. Она исчерпала все.
— Какая коза? При чем здесь коза? — Маринич злился все большё.
— Беленькая, чистенькая коза. На веревке. Чем-то очень похожая на Дон-Кихота и на Василия Алексеевича. А у меня с собой была коробка зефира для Риммы. Она очень любит зефир. И не мог же я начать свой горький разговор, даже не предложив ей сладкого угощения!
— Ну?
— А кроме того, в кармане у меня оказался пакет молотого черного перца. Это предназначалось для Вероники Григорьевны. Обмолвилась как-то: нет в их магазинчике черного перца. Ну вот, я и приготовил зефир с начинкой, предложил козе. Меня давно занимало: какую морду сделает она? Сашка, это надо было видеть! После этого уже не имело никакого смысла идти к Стрельцовым. Коза изобразила сразу всех, все их семейство. Я вижу эту козью морду до сих пор.
— Какая жестокость! Володя, я больше не могу с тобой разговаривать… — И бросился прочь.
Мухалатов тоже вскочил, поймал его за руку:
— Постой! Постой! Да не горячись ты. Это, вероятно, в моем вдохновенном рассказе все получилось таким преувеличенно страшным. А на деле коза прокашлялась, потрясла своим коротким хвостиком и уже через пять минут как ни в чем не бывало принялась щипать зеленую травку. Да ты постой же, ну постой! Вот это-то больше всего меня и убедило в бессмысленности и полной ненужности какого-либо словесного объяснения с Риммой. Как и коза, она сегодня прокашляется, а завтра уже спокойно будет щипать зеленую травку. Пойми, я тоже хочу быть гуманистом.
— Ты только что отстаивал как высшее качество человека правдивость — правдивость во всем. А сам, оказывается, ломал комедию перед Риммой, обманывал девушку, заведомо лгал ей…
— «Это совсем другое» — я повторяю слова великого старца, Толстого Льва.
— Пусти!.. Пусти!.. Все это никак не укладывается у меня в голове, — говорил Маринич, пытаясь высвободить руку. — Римма всегда так хорошо к тебе относилась!
— И я в конкретных условиях из худшего выбрал для нее самое лучшее. Зачем бы я стал Римму бить еще словами?
— Бессовестный! Она о тебе написала такую восторженную статью!
— Она получила за нее гонорар, это ее обычная работа. Кроме того, хорошая статья прибавила ей и авторитет, что важно для молодой журналистки на будущее. Здесь все в полном порядке.
— Как будто статья Риммы тебе не прибавила ничего!
— Так что же, — в голосе Мухалатова появилась ленивая тягучесть, которая у него возникала всегда, когда ему надоедало спорить со своим собеседником и хотелось лишь диктовать самому, — так что же, в уплату, что ли, за эту статью я должен на Римме жениться? Вот это уж получилось бы и вправду совершенно безнравственным и жестоким!
— Не знаю, ну не знаю, Володя… К тебе всегда так хорошо относился Василий Алексеевич. Ты сам, я прекрасно помню, рассказывал, что это именно он подал тебе идею…
Мухалатов перехватил Маринича за плечи, силой посадил, придавил его к скамье.
— А разве я не требовал от Риммы, чтобы она непременно, еще в рукописи, показала отцу свою статью? И разве он ее не читал? Разве он не вычеркнул бы в ней все, с чем не согласен? И не вписал своих поправок? Церемониться ему было нечего. Перед ним лежала рукопись родной, любимой дочери, а не моя. Уж будь покоен, имей его идея для него действительную цену — он ее никак не продешевил бы! Он это понимал отлично. Статья Риммы — это прежде всего проверка совести Василия Алексеевича Стрельцова, как говорится, пробный оселок. Он дал «добро» статье. Иначе он не мог.
— Вот это и подтверждает его безупречную честность!
— А-га! А ты знаешь, что он потом отколол, на совещании у Фендотова, после того, как я удалился из кабинета? Он заявил, что выступать в мою поддержку не станет, что у него «болит голова». Ну, знаешь, Сашка, извини, я тоже кое-что в таких делах понимаю. И все это восприняли как трусливенький и жалкий намек на что-то такое… Спасибо, Иван Иваныч не растерялся. И спасибо еще — Галина Викторовна в госкомитете все сделала как надо. А если бы «больная голова», иными словами — протест Стрельцова попал в официальные документы? Надеюсь, Сашка, надеюсь, что результат в конечном счете был бы тот же самый, но каких нервов все это стоило бы мне и светлейшей Галине Викторовне! Так вот оно, лицо высоконравственного и высокоинтеллектуального товарища Стрельцова! А ты мораль читаешь мне. И хотел бы меня сделать его родственником.
Из одной лишь случайной фразы Василия Алексеевича и ты делаешь столь решительные выводы?
— Брось, Сашка! Ты помнишь школьный арифметический фокус: «Напиши любое трехзначное число, переверни его задом наперед и из большего вычти меньшее. Назови мне только одну крайнюю цифру полученной разности, и я назову тебе полностью весь результат». Стрельцов для меня уже очень давно такая крайняя цифра. Словом, понял ты меня или не понял, Сашка, согласен или не согласен со мной, черт я для себя сейчас или ангел, но я ухожу. Вскоре должна появиться Лариса. Кафе «Андромеда» уже закрыло свои гостеприимные двери, и меланхолически настроенная Римма, покашливая, едет в электричке на папину дачу. А я сегодня счастливый! Я подарил какой-то пухленькой Лилии большую корзину роз, подарил неизвестно кому свой лучший заграничный галстук, и я могу сегодня выкинуть еще черт знает что. Если я именно сегодня женюсь на Ларисе, это будет не самое удивительное и не самое безрассудное. Может быть, даже самое правильное. Хуже будет, если я встречу сейчас где-нибудь на этих романтически темных дорожках Галину Викторовну, и еще хуже «Не Может Быть»! До завтра, Александр Иванович! Прощай! А вечер мы провели с тобой в общем неплохо. Такая и само- и взаимопроверка всегда бывает полезна. Она укрепляет уважение к собственной личности. Пойдешь в больницу навещать Пахомову, то есть Лику Маринич, — от меня ей самый сердечный привет!
Глава пятнадцатая Чьи это стихи!
Всю ночь Александр во сне спорил с Мухалатовым. Путано, трудно и безуспешно. Он никак не мог доказать Владимиру, что Лику искренне любит, любит и потому ради сбережения ее доброго имени готов поступиться не только какими-то деньгами, но даже пожертвовать собственной репутацией — пусть люди думают и говорят о нем что хотят! А Мухалатов только обидно посмеивался: «Нет, Сашка, не любишь ты Лику. Вот я Римму люблю, я на пробу не ей — козе подсыпал перца!»
Потом они стояли, опять-таки с Мухалатовым, на каком-то высоком мосту над Москвой-рекой и вместе сочиняли буриме на рифмы «мгла — угла», «нажала — пробежала». Оглядывая сумеречную Москву, Александр начал первый: «По улицам ползет сиреневая мгла». Откуда-то неожиданно возник Иван Иваныч Фендотов, крутнулся на одной ноге, торопливо добавил: «А раньше здесь собака пробежала». И Мухалатов тогда, еще быстрее, отработал все до конца: «Ногой на клавишу нажала и — мгла ушла из-за угла!» Победителем стал Владимир; как боксеру, Фендотов поднял ему правую руку, а Маринича столкнул с моста.
Он летел очень долго, ветер свистел у него в ушах, замирало сердце. А когда, наконец, он встал на ноги — оказался перед школьной классной доской, густо исписанной трехзначными числами, и теперь он должен был их перевертывать задом наперед и вычитать меньшее число из большего. Мухалатов нетерпеливо долбил его в плечо кулаком, но все равно результаты вычислений получались не те, какие были нужны, и Фендотов грозился, кричал, что опять столкнет его с моста…
Эту ночь мать была на дежурстве. Проснувшись с тяжелой, дурной головой, Маринич сам себе изжарил яичницу. Поел. Хотелось бы думать о чем-то другом, но в ушах назойливо отдавались все одни и те же слова: «По улицам ползет сиреневая мгла. А раньше здесь собака пробежала…» Александр даже вскрикнул вслух:
— Вот черт, привязалась эта собака!
И все-таки она никак его не оставляла, «бежала» вместе с ним до больницы, стояла у справочного окошка и снова сопровождала до самого завода.
В больнице Маринича ничем не порадовали. Состояние Лики оставалось по-прежнему очень тяжелым, девушка не приходила в сознание. И никто не мог Александру ответить со всей определенностью, когда наступит облегчение и наступит ли. Он вышел на улицу ожесточенный. Вот пишут, все пишут в газетах о чудесах, которые творят в наши дни врачи. Так где же, где это чудо?!
Новая кассирша Валечка, бывшая картотетчица из бухгалтерии, дожидалась Маринича со стопкой кассовых документов, накопившихся за эти дни. По привычке, как было раньше, он спросил: «Все в порядке? Можно подписывать?» И механически расчеркнулся, не проверяя итогов. Но, тут же спохватившись, сказал:
— Оставьте пока! Зайдите немного позже.
Ему неловко было просчитывать журнал на глазах у кассирши после того, как он с размаху в нем расписался.
Валечка вышла. Маринич принялся за проверку итогов, внушая себе, что это следует делать неукоснительно каждый день, хотя бы первое время. Кто знает, так ли бы все получилось с Ликиной недостачей-растратой, если бы раньше он сам не нарушал обязательных правил, а Лика тоже требовала бы от него их непременного выполнения? Деньги счет любят!
У Валечки записи были сделаны правильно, все итоги тоже сошлись. Александр полюбовался ее отличным круглым почерком. Цифры она прямо-таки рисовала.
Остаток наличности в кассе значился круглый: 421 рубль. Без копеек. Огромный остаток! Лика наверняка такого большого остатка не допустила бы. Но, между прочим, трехзначное число…
Маринич записал его на листе бумаги, а ниже, перевернув задом наперед, — 124. Детская забава, о которой вчера вечером напоминал Мухалатов и которая всю ночь мерещилась во сне. Если теперь из большего числа вычесть меньшее, в разности, посредине, окажется девятка. Обязательно девятка! И девяти тоже будет равна сумма двух цифр, стоящих по обе стороны этой, центральной девятки. Пожалуйста: 2 и 7 — 297! Совсем нехитрый арифметический фокус. Но тех, кто не знает его, он неизменно повергает в изумление: как это по одной лишь цифре можно узнать весь результат? Пожалуйста, пожалуйста: 765–567 = 198;622–226 = 396; 842–248 = 594…
Он еще немного побаловался на бумаге. Сколько их, этих математических фокусов! Этот фокус, собственно, практического значения не имеет. Маринич взялся за счеты. А вот если по ошибке на соседнюю проволоку, классом выше, положить, скажем, 8 — получится 80. И разность тогда составит 80 — 8 = 72. Если 6, то 60 — 6 = 54. При многозначных, к примеру 84, так 840 — 84 = 756. И так далее. Комбинации могут быть бесконечными. Но у опытных бухгалтеров на такие комбинации — а они сплошь и рядом встречаются в практической работе, — на такие комбинации, что называется, есть тоже свой нюх. Не сходятся итоги в столбце, где, казалось бы, им непременно надо сходиться, и величина расхождения как раз одна из таких — ну-ка попробуй! Поищи исходные числа!
Маринич постукивал на счетах: 850 — 85 = 765; 920 — 92 = 828…
Можно идти и обратным порядком, от разности, определять, какие числа по ошибке могли создать такую разность. Он опять принялся перебрасывать косточки: 54 + 6 = 60; 81 + 9 = 90…
Недостача в кассе равна 540 рублям. Это могло бы получиться, если вместо 600 где-то записать или положить на счетах 60. Еще тогда у него мелькнула эта мысль, но такой суммы ни в одном документе не значилось, да и кассовый дневник был просчитан им лично несколько раз. Какая еще комбинация на разность могла бы дать 540? Маринич пробовал и так и этак. 540 что-то никак не выходило. Ну и довольно забавляться пустяками!
Теперь все кассовые документы за месяц налицо, и следует заняться их бухгалтерской обработкой, контировкой — разметкой по балансовым счетам. Здесь каждый листочек бумаги, ордер, скрепленный подписями его и Лики Пахомовой, не просто свидетельство о выплате или поступлении денег — это как бы и памятная страничка из жизни. Что ни ордер — то эпизод!
Вот расходный ордер на пятьдесят рублей. Аванс Власенкову на командировку в Ленинград. Нетерпеливо, как-то туго дыша, тянется Власенков к ордеру. И подшучивает: «Эх, бюрократы вы, бюрократы! Погибели нет на вас! К каждой копейке на цепь собаку приковать готовы…» Собаку… Ну что ж, и приковали, кажется…
«…Ногой на клавишу нажала, и — тьма ушла из-за угла!»
Вот ордер на двадцать рублей. Он выписан вслед за уходом Власенкова. Это Василий Алексеевич Стрельцов распорядился выдать уборщице Пане пособие из директорского фонда. Не хватало ей как раз этой суммы на покупку для внучки модной «болоньи». Тетя Паня никогда и ничего не просит ни у дирекции, ни в завкоме. Но о ее нуждах знают все. И все, как только могут, ей помогают. Очень хороший человек тетя Паня! Жена колхозного председателя. В годы Отечественной войны сдали они свое имущество подчистую в фонд обороны и оба ушли на фронт. Вместе с тремя сыновьями. Все погибли, осталась на свете лишь сама тетя Паня. И то прошла через гитлеровские лагеря. По разным местам потом кидала судьба тетю Паню. Да вот прибилась все же к заводу и тихо работает, внучат растит. Стояла в тот день у стола, ожидая, пока выпишут ордер, застенчиво объясняла: «Да я бы, может, и сама как изловчилась купить Маринке эту обновку, приработала бы где еще на стороне, так прознал же как-то Василий Алексеевич про заботу мою: «Ступай, мол, тетя Паня, в бухгалтерию, получи. Давно мы тебя не поощряли». А чего — как все я работаю…»
А вот расходный ордер, выписанный уже в тот день, когда Власенков вернулся из командировки. Выписанный чуть после того, как этот гусь, пойманный на мелком жульничестве, крутился вот здесь у стола. И заискивал, и орал, и безобразно ругался. Лика тогда сидела до крайности взволнованная, разозленная подлостью Власенкова. Этот ордер на 1171 рубль к ведомости на выплату премиальных. Всегда приятно выписывать ордера на такие цели. А в тот момент и у него руки тряслись от ярости. Как растравил этот Власенков! Ведомость он тогда пересчитывал дважды. Проверила ли ее итоги Лика? Или доверилась выписанному ордеру? Может быть, снова пересчитать? Так, на всякий случай…
Маринич прилежно простучал на счетах всю ведомость, и косточки, как им и полагалось, расположились на проволоках тонким рядком, лишь на одной проволоке приподнявшись высоким торжественным столбиком, — 1171. Александр не успел смахнуть косточки, как ворвался Мухалатов.
— Сашка, слушай! — заговорил он с ходу, трудно переводя дыхание. — Дай мне трешку, пятерку, сколько есть налицо! На такси. Свои я вчера спустил до последней копейки, даже домой добирался пешком. Мне надо немедленно ехать в госкомитет. Звонила Галина Викторовна. Ну, давай, давай же скорее!
Он был бледен, весь какой-то взвинченный, пальцы вздрагивали. Маринич поискал в бумажнике, подал Мухалатову два рубля.
— Есть еще мелочь. Если надо… А что случилось?
— Давай! Все давай… Потом разберемся… Что случилось? Иллюстрация ко вчерашнему нашему разговору! Ну и покажу я этому высокоинтеллектуальному! Галина Викторовна сказала по телефону: нонсенс! В переводе с ее языка на обыкновенный это значит по меньшей мере — подлость! А по-мужицки… — Рассыпав длинную площадную брань, Мухалатов выскочил из комнаты.
Зазвонил телефон: Лидия Фроловна приглашала прийти немедленно в завком. Александр поспешил на вызов. В свистящем голосе Лидии Фроловны было что-то тревожное.
— Так я и знала, — всплеснула руками Лидия Фроловна при виде входящего Маринича, — так и знала, что каким-то концом палка ударит по мне обязательно! На все пошла, все учла, одно, дура баба, запамятовала! И надо же, как раз, ни раньше ни позже, сегодня из горпрофсовета с ревизией! Ты ли меня подвел, я ли тебя подвела, а получилось неладно. В акт записывают.
— Лидия Фроловна, а что же тут незаконного? Пособие, которое дали мне? Ну запишите все триста рублей как возвратную ссуду! Расплачусь.
— Превысили, — потянув воздух через больной зуб, жалостливо сказала Лидия Фроловна. — Превысили. Вот в чем дело. Права свои мы превысили. Такие крупные суммы полагается через вышестоящие организации оформлять. Хоть пособия, хоть ссуды. Знала ведь, дура, а тот час как черт подыграл, из головы у меня вон вылетело.
— Это я всему виной. Простите меня, — сказал Маринич. — Но я ведь тоже не знал. Как поправить, Лидия Фроловна? Неужели на вас наложат взыскание? Да я…
— От взыскания-то на президиуме я отбрешусь. Не это заботит меня, хотя и это, конечно. Все-таки палка бьет и по мне. Да главное в том, что ревизор записал: восстановить незаконно выданные суммы. — Она взялась за щеку, с тоской посмотрела на Маринича. — Не болел бы мой зуб — заговорила бы я ревизора; до решения президиума. А тут визгнула на него, он на меня. И пожалуйста!
— То есть?
Восстановить надо суммы. Немедленно. Либо ты, либо я.
Маринич побледнел. Вот так так! Восстановить, вернуть триста рублей… И немедленно. Да где же он возьмет такие деньги? Если бы он знал, где их взять, он бы и сразу не обращался к Лидии Фроловне.
— Хуже того, ревизор этот треплив на язык. Сразу уже телефон, по начальству: на какие цели даны были деньги. Со смаком это. Он мужик сообразительный! На всех пятно, а на тебя — больше. Знаешь анекдот: «И кому это было нужно?» — Лидия Фроловна опять схватилась за щеку. — Так я вот, ты извини, за тебя сама уже нашла ход один. Словом, шагай сейчас к Стрельцову. Договорилась я с ним: заем тебе временный он разрешит. Ну, до президиума, а там я наизнанку вывернусь и свое докажу. Разрешат, никуда не денутся! Шагай к Стрельцову. А как там по бухгалтерии, ты сам придумай. Только ты весь этот мой разговор непременно напомни Василию Алексеевичу. Он сегодня какой-то чокнутый. С тобой говорит и тебя не видит. Очень даже просто может сказать: «Ничего я не знаю».
Ноги не несли Маринича к кабинету Стрельцова. Был ведь он уже у Василия Алексеевича по этому делу. Правда, с пользой. И тогда он не просил никакой денежной помощи для себя. Но все равно… Второй раз… И после рассказа Лидии Фроловны… Да и как просить заем? Он же бухгалтер и знает, что с точки зрения финансовой дисциплины это совершенно невозможно. Заем — частному лицу! Но другого выхода нет.
Евгения Михайловна, сочувственно покачивая головой, пропустила Маринича без задержки: «Знаю, все знаю». Но, провожая к двери, все же шепнула ему:
— Вы как-нибудь покороче и попроще. Василий Алексеевич сегодня, ну, я сказала бы, совершенно невменяем. Вы представляете: Римма Васильевна не ночевала дома! И где она — до сих пор неизвестно.
Маринич все рассказал Стрельцову «и коротко и просто». Напомнил Василию Алексеевичу о его обещании, данном Лидии Фроловне. Стрельцов слушал молча, глядя пустыми глазами поверх головы Александра. Потом снял очки, протер в них стекла и сложил заушники вместе.
— Да, да, что-то такое действительно Лидия Фроловна мне говорила. Хорошо, я согласен, — и сделал неуверенный и неопределенный жест рукой. — Только… как это будет выглядеть… юридически? Вы сами все это… ну, исследовали?
— Василий Алексеевич, я думаю… — сказал Маринич и запнулся. Он сам не знал, что он думает. Никакая удобная бухгалтерская формула на ум не приходила.
Открыла дверь Евгения Михайловна.
— Простите, Василий Алексеевич, вам звонит Лапик.
Стрельцов снял трубку.
— Я слушаю, Галина Викторовна.
Мембрана журчала, иногда сыпала короткими, резкими междометиями, пронзительно, тонко попискивала и снова журчала. Стрельцов то и дело относил телефонную трубку подальше от уха.
— Да, да, я слушаю, — в редких паузах подтверждал он. — Слушаю… Слушаю, Галина Викторовна.
Наконец долгий разговор завершился. Стрельцов нажал кнопку.
— Евгения Михайловна, пожалуйста, проверьте, когда — точно — прибывает ночным рейсом из Тбилиси самолет, и пошлите машину в аэропорт. — Заметив удивление на лице Евгении Михайловны, разъяснил: — Да, да, вот так, командировка уже закончена. Иван Иваныч сообщил Галине Викторовне. И еще запишите, пожалуйста: мне вместе с Иваном Иванычем завтра к двум часам непременно явиться в госкомитет к товарищу Жмуровой. Материалы? Да нет… как будто никаких материалов специально готовить не надо. — И повернулся к Мариничу, посмотрел на него еще более пустыми глазами, чем в начале разговора. — Александр Иванович, если можно, зайдите ко мне завтра с утра. Продумайте все, как там надо сделать.
И безразлично махнул рукой. Евгения Михайловна немного проводила Маринича. Ее томила необходимость с кем-то поделиться.
— Вот многие считают Василия Алексеевича каким-то сибирским богатырем, который может с голыми руками ходить на медведя. Вы понимаете? Это образно. А Василий Алексеевич в одних делах действительно богатырь и может голыми руками задавить медведя, в других же делах… Вы тоже заметили, как он весь почернел? А как вы думаете, что могло бы случиться с Риммой Васильевной?
— Не знаю, Евгения Михайловна.
Так говорить Мариничу было тяжело. Но что иное он мог сказать? Сослаться на вчерашнюю болтовню Мухалатова? А вдруг это и была только болтовня!
— Я по секрету от Василия Алексеевича все такие места обзвонила: и милицию и несчастные случаи. Нет, говорят. А когда Лика Пахомова под машину попала, нам ведь они сразу сообщили сами же.
— Да, да…
В маленькой комнатке Маринича настоялась какая-то теплая горечь. Уходя, он забыл распахнуть окно. Теперь он это сделал. Немного постоял, опершись руками о подоконник и с наслаждением вдыхая свежий утренний воздух, чуть отдающий асфальтом и железом — обязательными запахами заводского двора.
Пробежала пестренькая лохматая собачонка. Маринич усмехнулся: «…ногой на клавишу нажала…»
Он вернулся к столу и принялся за работу. Потянулся к счетам, собираясь сбросить косточки, обозначавшие какое-то число, и вдруг остановился, замер. Косточки лежали тоненьким рядком, и лишь на одной проволоке торжественно поднимался высокий столбик — 7. Да, но это же… 1711. Одна тысяча семьсот одиннадцать!
А вот перед глазами ведомость и ордер, подписанные им. Ведомость, уже трижды пересчитанная, и общий итог в ней выведен тоже его, Маринича, рукой. И цифрами и прописью — 1171. Одна тысяча сто семьдесят один!
— Нет, нет, не может быть… Что за наваждение!
Маринич торопливо вычел из большей суммы меньшую. На счетах осталось 540. Ровно столько, сколько все эти дни без конца фигурировало в различных документах и устных вариациях, связанных с именем Лики! 1711–1171 = 540…
Арифметический фокус… Бухгалтерская, счетная ошибка… Рассеянность, небрежность человеческая… Что это?
А Лика в больнице лежит без сознания, изломанная грузовой автомашиной, и о кассирше Пахомовой когда говорят, все добавляют: «Растратчица!»
Так кто же виновник всей этой страшной беды? Кто Лику толкнул под машину? Чьей рукой выведен неверный итог в конце ведомости? Чья рука, трижды перебрасывая на счетах косточки, все же ошиблась? Вернее, ошиблись глаза…
Еще несколько раз пересчитал Маринич ведомость, идя по ее строчкам и сверху вниз и снизу вверх и в разной последовательности складывая отдельные листы ведомости, — все равно в итоге теперь неизменно получалось 1711 рублей.
Убедившись, что это так и только так, что здесь теперь уже нет никакой ошибки, Александр несколько минут просидел неподвижно. Счастливый, радостный…
И презирающий, ненавидящий себя всеми силами души.
Он закрыл глаза. Чередой промелькнули лица Лидии Фроловны, Бориса Ларионыча, Евгении Михайловны, Стрельцова, главбуха Андрея Семеныча, рабочих, длинной цепочкой текущих через проходную, — бесчисленное количество людей, перед которыми он, и никто больше, виноват в скандальной истории с «растратой», а главное — в трагической…
Нет, нет, все, что угодно, только не это! Он примет на себя любой позор, но только не… Лика не может, не может… Лика останется на свете… Она будет жить! Лика будет жить потому, что он ее любит!
Теперь Маринич весь кипел действием. Нельзя бесполезно терять даже доли минуты. Схватил трубку внутреннего телефона.
— Василий Алексеевич? Простите, вы можете принять меня сейчас же? По важному, очень важному делу! Только через четверть часа? Хорошо… Спасибо!
Потом он позвонил Лидии Фроловне, главбуху Андрею Семенычу, следователю, редактору многотиражки. Резко и четко рассказал им, как он грубо ошибся. И пошел к Стрельцову.
Евгения Михайловна удивилась:
— Что это вы так зачастили к Василию Алексеевичу? — И, чуть-чуть прищуриваясь, добавила: — А знаете, Саша, я сейчас только звонила к Склифосовскому. Мне ответили: Пахомова пришла в сознание, чувствует себя хорошо.
Маринич до боли закусил губу. Иначе он не смог бы удержаться от широкой, просторной улыбки: «Милая, милая Лика!» А выдать свою радость такой, чисто ребяческой улыбкой он стеснялся.
Стараясь казаться совершенно спокойным, Маринич со вкусом прочитал:
По улицам ползет сиреневая мгла. А раньше здесь собака пробежала. Ногой на клавишу нажала, И — мгла ушла из-за угла!— Вы понимаете: «И — мгла ушла из-за угла!» Чьи это стихи, Евгения Михайловна?
Она прищурилась еще больше. Ишь, враз заговорил стихами! Эх, молодежь! «Чьи это стихи?» С некоторых пор такой вопрос не только ей, но и кому придется частенько задает Василий Алексеевич, по-видимому внутренне иронизируя над кем-то. Этот юноша просто обалдел от радости. Но он, конечно, тоже знает о новой маленькой причуде Василия Алексеевича и вот теперь немного обезьянничает.
— С чем вы связываете этот вопрос?
— Ни с чем. Просто так. Хочу проверить собственную память.
— Ну что же… Скорее всего, кто-то из ранних футуристов. Я думаю… Я думаю… Давид Бурлюк?.. Это стихи Велимира Хлебникова!
— Мои стихи, Евгения Михайловна! — сказал Маринич.
И словно бы на веселых пружинах вошел в кабинет Стрельцова.
Глава шестнадцатая Козья морда
Электричка тоненько просвистела, вильнула зеленым хвостом и скрылась за поворотом.
Стрельцов посмотрел на часы. Да, теперь он пропустил уже и ту, что пойдет в 7.16. А хотелось уехать пораньше. Непереносима была эта вторая бессонная ночь. На работе, среди людей, телефонных звонков, в действии, все же как-то полегче. Конечно, оставлять Веронику совсем одну — ужасно. А что же делать? Она за эти дни извелась еще больше, чем он сам. И это понятно. Ей все представляется абсолютной загадкой. Впрочем, и ему самому — тоже. Обычная логика здесь неприменима.
Он медленно брел вдоль штакетных оградок, под кустами раскидистых вишен, уже набравших мелкую завязь. На плечи Стрельцову, как слезки, сыпались капли росы. Туго набитый портфель оттягивал руку. А в нее и так отдавалась сердечная боль. Что-то с утра уже стало неладно.
Ах, Римма, Римма! Две ночи не ночевать дома. И даже голоса не подать. Как это все-таки жестоко!
Впрочем, разумеется, надо понять и ее. Это не какая-то холодная и рассчитанная жестокость. Это не злая пощечина отцу и матери. Это…
Евгения Михайловна тайком от него обзвонила все учреждения, в которых регистрируются различные происшествия. Дорогая, заботливая Евгения Михайловна! Он тоже вчера поздним вечером прошелся как раз по ее следу по всем телефонам этих учреждений, и всюду ему отвечали: «Да ведь только что кто-то спрашивал!» А спрашивать и не стоило. С Риммой ничего не случилось. То есть случилось, должно быть, самое страшное, что в этих учреждениях не регистрируется. Уж он-то знает свою дочку! Знает и Вероника. И потому всю эту ночь они оба просидели у раскрытого окна молча. Так встретили рассвет, веселое щебетанье просыпающихся птичек, и первый солнечный луч, и металлический лязг первой утренней электрички.
И все же еще позавчера утром с Риммой было можно разговаривать попросту. Хотя холодные нотки внутренней отчужденности уже и тогда слышались в ее голосе.
Они, эти нотки, стали проявляться с тех недобрых пор, как в дом зачастил Мухалатов. И еще больше, когда он, Стрельцов, дал понять Мухалатову, что его посещения маложелательны. Римма это приняла как наитягчайшую обиду для себя лично. Не Мухалатов к ней — она стала ходить к Мухалатову!
И в тот вечер, после которого она домой не вернулась, Римма, конечно, тоже пошла к нему. Не имеет значения, куда именно. И не опросишь Мухалатова, что произошло между ними в тот вечер. Впрочем…
Может быть, стиснув зубы, попустившись отцовской гордостью, все же набраться решимости и спросить? Спросить… Но это же все равно что через замочную скважину подглядывать в комнату своей дочери! Нет, нет, на это он ни в коем случае не способен! Пусть Римма поступает так, как находит нужным сама. В ее нравственную чистоту он верит!
И еще пробежала одна электричка. Да все равно…
Прилетел ли ночью Иван Иваныч? Любопытно, зачем так, с ходу, вызывают и его в госкомитет? Лапик вчера по телефону говорила взволнованно и сердито, но из слов ее можно было понять только одно: предстоит тяжелый разговор у Жмуровой. И все. В чем дело? Что случилось?
Черт, как сильно болит левая рука! И ноги — глиняные…
С узенькой боковой тропинки Стрельцов вышел на открытую поляну. Его «коллега», коза, уже ходила по кругу на веревке, пощипывая траву. Здесь было как-то по-особенному солнечно и весело. День обещал быть очень жарким, но сейчас, в эту рань, повсюду, на траве, на разлапистых кустах шиповника, еще мерцала тихими огоньками роса.
Стрельцов сунул руку в карман. Он по утрам всегда брал для козы кусочек сахару. Вчера почему-то его любимицы на месте не оказалось, и сахар так и пролежал в кармане. Очень кстати.
— Ну что, коза, как поживаем? Не собираешься подавать заявление: в другое бы место колышек вбить?
Коза потрясла коротким хвостиком, приподняла голову. Уставилась на Стрельцова выпуклыми глазами с продолговатыми черными зрачками, но не подошла.
— Что же ты? — спросил Стрельцов. — Обиделась за вчерашнее? Ну, знаешь, вчера не я опоздал — ты опоздала. Получай свое, законное.
Приблизился к ней. Ласково потрепал по белой, чистенькой морде, почесал между рогами. И подал на ладони угощение. Коза не торопилась взять сахар, тыкалась носом, и черные, в мелких пупырышках ноздри шевелились у нее беспокойно. Наконец все-таки осторожно, зубами, ухватила лакомство. Сахар хрустнул и тут же вывалился изо рта козы на землю.
— Ну, дело твое, как хочешь! — сердито сказал Стрельцов. — А я совсем не уверен, что вечером буду тебя угощать зефиром.
Коза стояла, трясла своим коротким хвостиком. Потом потянулась к упавшим на землю сахарным крошкам. Обнюхала их, опять не взяла и, приподняв голову, оскалила крупные желтые зубы. Тихонько проблеяла. Стрельцов пожал плечами.
— Ты хочешь, коза, чтобы я тебя понял. А ты меня понимаешь? Меня сейчас понять еще труднее, чем тебя.
Коза копытила землю в том месте, где лежали кусочки сахара.
Потом Стрельцов бездумно сидел в вагоне электрички на залосненной скамье. Вагон пошатывало на быстром ходу. Убегали назад телеграфные столбы, тонкие березки и клены, изгибающиеся на ветру. Проплывали одна за другой платформы. Мелькали огороды, картофельные поля, дачные домики. Поодаль стремились к небу широкоплечие осанистые мачты высоковольтных электропередач. Обгоняя поезд, пылило по замощенной булыжником дороге несколько легковых автомашин.
Привычное все, очень привычное взгляду. Так и всегда, каждый день. Но ведь сегодня все иное… Ах, Римма, Римма!
Евгения Михайловна встретила Стрельцова докладом: Иван Иваныч прилетел благополучно, здоров и через водителя машины передал, что должен хоть раз в жизни основательно выспаться, а потому он приедет прямо в госкомитет.
— Еще Иван Иваныч просил сказать вам, — прибавила Евгения Михайловна, — что, если на заводе пожар, он может приехать и раньше.
— Следовательно?
— Я думаю, что «пожара» у нас нет никакого!
Не только по неписаным своим секретарским обязанностям и по женской своей доброте, но и по особой дружеской симпатии, которую она всегда питала к Стрельцову, Евгения Михайловна произнесла эти слова с такой степенью убежденности, что их можно бы легко и переиначить: «Когда на заводе остаетесь вместо Ивана Иваныча вы — и не может быть никакого «пожара»!
— Спасибо, Евгения Михайловна!
— Ну, а дома у вас как? — спросила она в сторону, искусственным равнодушием пытаясь прикрыть свою встревоженность. Она в любой обычный день задавала такой вопрос, но в любой обычный день это было лишь простой вежливостью.
Стрельцов знал это. И всегда отшучивался.
— Да ничего… — устало сказал он на этот раз. — Благодарю вас, Евгения Михайловна!
Вошел в кабинет. Уронил тяжелую голову на ладони. Сквозь неплотно прикрытую дверь он слышал жужжание наборного диска на телефонном аппарате, слышал, как Евгения Михайловна осторожно, вполголоса спрашивала:
— Алло! Это справочная о несчастных случаях? Скажите, пожалуйста…
«Добрый, добрый человек! Что хорошее сделать бы для нее?»
Стрельцов потер виски. Голова была набита ватой. Это результат двух бессонных ночей. А что впереди?
Но работа — лучшее лекарство от всех болезней, лучшее средство от любых напастей. Стрельцов часа два ходил по цехам, разговаривал с рабочими, с мастерами, инженерами, давал советы, указания. Хитря, обошел далеко стороной помещение лаборатории Мухалатова. В кабинет к себе он вернулся немного посвежевший. Но усталость в ногах у него прибавилась и, пожалуй, сильнее поднывала левая рука.
В приемной накопилась небольшая очередь, «свои», с деловыми бумагами. Стрельцов почти все бумаги подписал не читая. Только спрашивал иногда: «Не подведете?» Сегодня он негож был вести никакие споры.
Последним в очереди оказался главбух Андрей Семеныч. Он принес проект приказа. Параграфом первым отменялся приказ номер такой-то, согласно которому кассир Л. Пахомова, как растратчица, снималась с работы, назначалась В. Демьяненко, а главному бухгалтеру вменялось в обязанность подготовить материал для передачи следственным органам. Вторым параграфом Л. Пахомова объявлялась находящейся на больничном листке вследствие полученной бытовой травмы, а на В. Демьяненко возлагалось временное исполнение обязанностей кассира.
Эту бумагу Стрельцов прочитал с большим вниманием. Долго держал перо в руке, не ставя подписи. Глухота конторского помещения давила виски.
— Вот ведь как нехорошо получилось, Андрей Семеныч, — наконец сказал он. Перечеркнул слово «бытовой травмы», написал «производственной травмы» и положил авторучку на стол.
— Да, — сказал Андрей Семеныч, — только ведь признает ли профсоюз?
— Докажем! Но я не только об этом.
— А-а! Конечно, очень нехорошо получилось, — подтвердил главный бухгалтер. — А вообще могло бы и хуже быть. Не дай бог, насмерть бы угодила Пахомова под машину! Тут бы совсем другой суд. По другому поводу. Учитывая, что вины у Пахомовой вовсе и не было. Вернее, совсем не ее вина.
— Ужасно! — сказал Стрельцов. — И тогда почему нет еще одного параграфа в приказе?
Андрей Семеныч помял подбородок, пробежался пальцами по застежкам легкой летней рубашки.
— Насчет привлечения к ответственности? — нетвердо спросил он. — Думал я… Ну что же, если находите нужным… Тогда уж меня. Чего же, по молодости, портить биографию Саше Мариничу? Большого опыта у него еще нет. А этакое дело проверить я сам был обязан. И проверил бы, коли пришлось бы посылать его прокурору. А тут, на этом этапе…
Он развел руками. И опять стал тискать, щипать подбородок.
— Ну, а строго по правилам, по закону? Без самопожертвовании? — сказал Стрельцов. — Тогда как?
Главный бухгалтер стоял потупясь, крутил пуговицы на рубашке.
— Так ведь как… Очень тонкое это дело, Василий Алексеевич! Если совсем уж формально: халатность Маринича. Преступная халатность, которая привела к таким-то последствиям. Какое же это объяснение, Василий Алексеевич, что три раза считал человек, в глазах у него там, что ли, рябило и прочее… Детское это объяснение, если для прокуратуры!
— Очень сурово могут наказать Маринича?
— Шофера, который Пахомову сбил, он ведь тоже никак не по злому умыслу, но все равно — будут судить. А вина их обоих с Мариничем, по сути, одинакова. Когда действовать по закону…
— Законы всегда справедливы.
— Это так… Да вот не всегда по жизни их применяют, и жизнь не всегда ложится точно по закону. Саша-то Маринич в эту самую Лику Пахомову вот как влюблен! За нее и везде хлопотал, и растрату ее покрывал. В больницу теперь то и дело бегает, звонит по телефону. А может и под суд пойти. Мы тут Уголовный кодекс листали. Не прямо гласит статья сто четырнадцатая, а все же гласит: «Неосторожные тяжкие или менее тяжкие телесные повреждения». Шофера как раз по ней привлекают. А кто, как не Маринич, довел Пахомову до такого состояния, что под машину попала она? Могут ведь подвести всякую логику.
— Эта логика не выдерживает критики.
— Логика, она не выдерживала и того, чтобы Пахомова под машину попала. Как пойдет следствие, гарантию дать нельзя.
— Но если сама Пахомова не станет поддерживать обвинение…
— Так ведь Пахомова и помереть может! А приказ-то ваш будет работать. Тогда и еще сильнее. Вот если бы, к примеру, дали вы мне «строгача», ну, конечно, и с предупреждением. А Маринича в сторону…
Стрельцов задумался. Вчера бухгалтер Маринич влетел к нему в кабинет веселый, взволнованный, радостный. Ах, как он сиял! Все выяснилось. Произошла ужасная, непозволительная ошибка. Никакой растраты у Пахомовой не было. Девушка поправляется.
Он, этот юноша, совсем не представлял себе, какая опасность может нависнуть над ним. Приказами о привлечении к ответственности не шутят. Вот стоит только взять перо и добавить параграф третий…
Не надо! Нет, не надо!
Но можно ли обойтись без этого параграфа? Имеет ли он, заместитель директора, на это право? Он тоже ведь ответственное лицо! Кем рисковать — собой или этим юным Мариничем?
А может быть, действительно дать только лишь главбуху «строгача»? И с предупреждением…
Андрея Семеныча томило молчание Стрельцова. Он в этом угадывал недоброе. Василий Алексеевич человек отзывчивый, и если он сейчас так надолго задумался над бумагой, значит, набирается злости, чтобы подавить в себе доброту и поступить, как полагается по закону. Независимо от последствий.
— …И какие только в жизни не случаются драмы! Вот тебе любовь, нежность, и вдруг… — Андрею Семенычу хотелось возвышенностью своих слов повлиять на Стрельцова, пробудить и в нем такие же ответные мысли. — Василий Алексеевич, вероятно, и в вашей молодости…
Стрельцов выпрямил плечи. Чудак Андрей Семеныч! До чего же наивен, прозрачен весь этот пафос!
— Добавьте в приказ параграф третий, и я подпишу. — Он замахал рукой, заметив, как испуганно дрогнула и упала нижняя губа у главного бухгалтера. — Да нет, нет, нет! Параграф третий: учитывая безупречную работу кассира Л. Пахомовой, выдать ей из директорского фонда сто рублей. У нее ведь очень трудно в семье…
Появилась Евгения Михайловна.
— Извините, Василий Алексеевич, звонит из госкомитета Галина Викторовна. Спрашивает: будете вы сегодня у Жмуровой? Мне ответить или вы сами возьмете трубку?
— Отвечу я сам.
Странно. Галина Викторовна прежде никогда не задавала подобных вопросов секретарю. Она запросто и весело просила Евгению Михайловну соединить ее с «начальством» и все, что было ей необходимо, выясняла «из первоисточников».
Стрельцов несколько раз повторил: «Алло! Алло! Я слушаю», прежде чем трубка отозвалась:
— Да? Это вы, Василий Алексеевич?
— Доброе утро, Галина Викторовна! Это я, — как можно непринужденнее сказал он и сделал знак Андрею Семенычу: «Идите, дорабатывайте приказ, разговор по телефону будет у меня продолжительный».
Однако на этот раз его предположения не оправдались.
— Доброе утро! — протяжно сказала Галина Викторовна как бы с недоумением. — А я ведь просила Евгению Михайловну не отрывать вас от работы, только напомнить вам: нет никаких перемен и вам с Иваном Иванычем в два часа надо быть у Елены Даниловны.
— Будем. Иван Иваныч прилетел, отдыхает. В госкомитет проедет прямо из дому. Но, Галина Викторовна, если это не сверхсекрет, вы, может быть, все-таки намекнете, о чем пойдет разговор… — Он стремился держать себя так, как обычно, зная наклонность Лапик завязывать по телефону длиннейшие дискуссии на любые темы.
Галина Викторовна его перебила. Такое случалось не часто.
— Елена Даниловна вам все скажет сама и без всяких намеков. Вы знакомы с Еленой Даниловной?
— Д-да, — сказал Стрельцов.
Это было уже «под ребро», звучало как очень нехороший предвестник.
— Какие новости? — все же не вытерпела Галина Викторовна.
— Собственно, нет ничего… Да, впрочем! История с растратой, о которой…
— Эту новость мне уже сообщила Лидия Фроловна. И не «впрочем», а как весьма существенную новость. Вы знаете о том, что Пахомова находится в больнице? На грани жизни и смерти?
— Д-да, — сказал Стрельцов.
Это уже нарушало даже самые минимальные нормы приличия. Такое трудно прощать, хотя бы и женщине. Но Василий Алексеевич стиснул зубы и только еще раз повторил: «Д-да, знаю».
— Ну, до встречи. В два часа ровно, — и в мембране запищали частые тонкие гудки.
Столь короткого разговора с Галиной Викторовной по телефону еще никогда не бывало. Д-да… Какой же предстоит разговор там, в госкомитете? Он смутно начинал угадывать, в чем дело.
По-видимому, Жмурова недовольна его беседой с Гориным, председателем госкомитета. Она очень ревниво относится ко всему, что делается через ее голову. Но позвонил ведь сам Федор Ильич! И не было говорено ничего такого, что могло бы впрямую задеть самолюбие Жмуровой. Впрочем…
Опять «впрочем»! Да стоит ли гадать? Надо терпеливо дождаться назначенного времени. Елена Даниловна способна вскипать в гневе, но она способна и все правильно понимать, оценивать. Она справедлива.
А голова тупа, словно набита ватой. Клонит в сон, не в сон — просто полежать бы немного… И сердце пощипывает, точно муравьи туда забрались.
В госкомитет он приехал минут на десять раньше назначенного времени. Этикет обязывал его зайти сначала к Лапик, хотя она подчеркивала и вчера и сегодня, что вызывает сама Жмурова.
Каким путем, неизвестно, Лапик все-таки удалось захватить комнату целиком для себя одной. Стояли еще два стола, но никто за этими столами не занимался. На них красовались подмосковные полевые цветы. Зато на столе Галины Викторовны и высился и ширился огромнейший букет нежно-розовых гладиолусов, бесспорно привезенных Фендотовым из Тбилиси.
Сам Иван Иваныч был тоже здесь, и, по-видимому, давненько. Войдя в комнату Галины Викторовны, Стрельцов застал их обоих уже уставшими от какого-то веселого, беспечного спора — спора в любимой манере Лапик и Фендотова.
— …Знаю, знаю отлично, что такое ваша гипербола! — восклицала Галина Викторовна, красиво изламывая брови. — Но все равно, дорогой Иван Иваныч, не только сорок раз — трех раз вы этого мне не повторяли!
— Галина Викторовна, в Японии сконструирован магнитофон, который свободно монтируется в корпусе наручных дамских часов. Когда вы мне устроите командировку в Японию, я привезу оттуда эту штуковинку и все буду записывать.
— Я полагаю, дамские часы уместнее носить на руке не мужчине, а даме. Вы этот магнитофон должны будете подарить мне, и записывать ваши безответственные обещания буду я. Но главное, Иван Иваныч! — вы же директор экспериментального завода, где конструируются, по вашей терминологии, и не такие «штуковинки», а следовательно… — Лапик, наконец, посмотрела в сторону Стрельцова: — Извините, Василий Алексеевич, мои похвалы в равной степени относятся и к вам.
И как-то вбок подала ему руку. Фендотов всегда целовал ее. Стрельцов этого не умел делать. Да и не любил. Он просто подошел и пожал руку.
— Аплодисменты — хлеб для артистов, — сказал, стараясь попасть в общий тон разговора.
— Н-ну, скорее — вино, — поправила Галина Викторовна. И головкой с высокой прической издали как бы боднула Стрельцова. — Вы, кажется, сегодня к рюмочке уже прикоснулись. Глаза у вас сегодня с особым блеском.
— Мне нездоровится, Галина Викторовна, — сказал Стрельцов.
— Как? «Не поздоровится?» Ну почему же сразу такой печальный прогноз? — играя словами, играя глазами, отозвалась Лапик. — Да, нам пора передвигаться к Елене Даниловне!
Постукивая каблучками, она повела их по длинному коридору, в котором теперь витал лишь очень слабый запах лака, масляной краски и скипидара. Его забивала парфюмерия Галины Викторовны.
— Наш фельдкуратор сегодня на подъеме, — шепнул Фендотов, беря Стрельцова под локоток.
— А в чем дело? Зачем нас вызывает Жмурова?
— Абсолютно ничего не знаю. А она только посмеивается, — Фендотов плечом показал на идущую впереди Лапик. — Я уж и так и этак. Бранился даже.
Елена Даниловна, настроенная явно недоброжелательно, встретила их, расхаживая по кабинету. Толчками, быстро сунула руку одному, другому. Показала на кресла:
— Садитесь!
Еще походила.
— Что там у тебя, Стрельцов, получилось с кассиршей?
Василия Алексеевича так и обожгло. Вон, оказывается, в чем дело! Неужели только из-за этого вызов в госкомитет? Ему не часто приходилось бывать в этом кабинете. Каждый раз его коробил резкий, стремительный тон Жмуровой. Иначе она не умела разговаривать. Но тут было и нечто особенное — заведомая предубежденность. И в голосе и в самом наборе слов: «там у тебя», «получилось». Но отвечать надо.
— Дело было так, Елена Даниловна. Проверяя остатки наличных денег в кассе, Пахомова обнаружила, что не хватает пятисот сорока рублей. Причину этой недостачи она объяснить не смогла. И тогда бухгалтер расчетного отдела…
— Да ты мне историю не излагай, — остановила Жмурова, — историю мне уже изложили. Ты мне скажи, как это все получилось, что кассирша под машиной оказалась!
— Но… я должен тогда все рассказать по порядку. Иначе как же… Бухгалтер Маринич…
— Стрелочник виноват! Всегда и во всем стрелочники виноваты! Приказ о снятии Пахомовой с работы и передаче материала в следственные органы кто подписал: Стрельцов или Маринич?
— Подписал, разумеется, я, но все документы в то время свидетельствовали о бесспорной…
Жмурова покачала головой:
— Бумаги тебе «свидетельствовали», говорили! А что сам человек тебе говорил, девушка эта, которую ты приказом своим толкнул под машину?
Стрельцов молчал. На это ответить было нечего. Да, действительно, он тогда подписал приказ, основываясь на докладе главного бухгалтера и не поговорив предварительно с Пахомовой. Он хотел это сделать в конце дня, но в конце дня уже было поздно.
— Вот видишь!
— Елена Даниловна, этим приказом я только отстранил Пахомову от работы и поручил главному бухгалтеру подготовить материал. О немедленной передаче материала в следственные органы указаний в приказе не было. Наоборот, я согласился тогда потянуть…
— Ну слушай, ну слушай, — тоскливо сказала Жмурова. — «Потянуть»! Вот и сейчас ты тянешь, прости, как… Ну что тут меняет дело по существу? С человеком ты, лично ты, поговорил?
— Нет, но…
— Опять «но»! А хоть в больнице ты девушку эту проведал?
— Н-нет, но…
Его бросило в жар, застучало в висках. Да что же это такое: какой невозможный, мучительный разговор! Чего от него добиваются? Самопризнания, что он бездушный, черствый чинуша? Уголовный преступник?
— Вот видишь, поперхнулся, — сказала Жмурова. — Правда, она всегда глаз колет. Ну, а теперь, когда вся эта неприглядность наизнанку вывернулась, какие ты выводы сделал? Кого наказал?
Стрельцов облизнул сохнущие губы. Посмотрел направо, налево, ища поддержки. Галина Викторовна разглаживала на колене платье и этим была занята вся целиком. Фендотов глядел в потолок.
«Ну, что же ты ни слова не скажешь!» — хотелось спросить Стрельцову. Фендотов, должно быть, почувствовал на себе его ищущий взгляд.
— Да, действительно, прошлеп небольшой у Василия Алексеевича получился, — пробормотал он. — Так… Бывает…
— А вот Стрельцов даже в простом «прошлепе» не хочет признаться, — сказала Жмурова. И подняла ладони кверху. — Он от всего вот так загородился. У него — «но»!
— Елена Даниловна, я не мальчишка! Я не позволю… — закричал Стрельцов.
И остановился: сердце покусывали муравьи.
— Так ведь и с тобой не девчонка разговаривает! Седины у меня побольше твоего, — отрезала Жмурова. И села, наконец, за свой рабочий стол. Принялась перелистывать бумаги. — Здесь все, Галина Викторовна?
Лапик молча сделала знак глазами: «Да, все».
— Так вот, давай ближе к делу, Стрельцов. Только, знаешь, не виляй, как вначале, а по-честному, прямо.
Значит, главное «дело» еще впереди? И разговор о Пахомовой был так, попутный, между прочим. Естественно…
Стрельцов снял очки, протер и снова надел. Но все равно фигуры людей сейчас виделись, словно в тумане.
— Слушаю, Елена Даниловна, — глухо сказал он превозмогая какую-то странную усталость.
— Какого ты мнения о Мухалатове? — Жмурова смотрела в бумаги. — Только мнения истинного.
К чему этот вопрос? Ведь все уже решено, все подписано. Это подтвердил в телефонном разговоре и сам Федор Ильич, председатель госкомитета. И на заводе все знают. Мухалатов вчера сиял, как новый двугривенный.
Стрельцов молчал. Даже об аккумуляторе он ничего сказать не может. Тем более о самом Мухалатове.
— Ну что же, Стрельцов, я жду.
— Позвольте, Елена Даниловна, на этот вопрос не отвечать.
— А этот вопрос, Стрельцов, самый основной. Другие вопросы я задавать буду тогда, когда ты ответишь на этот.
— На этот я не отвечу.
Надо беречь силы, надо сохранять спокойствие.
— Ну, знаешь ли! — вскрикнула Жмурова. И голос у нее стал басовитым. — Причина?
Стрельцов достал платок из кармана, помял в кулаке. Неловким казалось вытереть испарину, выступившую на лбу. Восклицание Жмуровой не предвещало ничего доброго. Но что же делать? Надо держаться, управлять собою.
А может быть, просто встать и уйти? Он же не на допросе у следователя! Даже пропуск не нужно подписывать — пропуск у него в госкомитет постоянный.
Уйти? Нет, это будет мальчишеством. Жмурова должна понять…
— Причину, Елена Даниловна, позвольте тоже не объяснять.
— Это давняя и упрямая позиция Василия Алексеевича, — быстро вставила Галина Викторовна.
— Помню, помню, — сказала Жмурова. — Такой случай и три мне был. Но давай же, Стрельцов, рассуждать по-взрослому. Все это значит, что ты дурного мнения о Мухалатове. Так руби напрямую! А мы его имя присвоили аккумулятору, возможно, на весь земной шар ему создали славу. И ты не возразил, не обосновал своих прямых, убедительных возражений. Что за двурушничество?
— О Мухалатове я плохого мнения. Но это совершенно частное дело, лично мое. В расчет вы его не принимайте. Достаточно этого, Елена Даниловна?
— Нет, не достаточно, Стрельцов! Ты все время так ведешь свою игру, что голых слов твоих не достаточно. — Она постучала косточками согнутых пальцев по столу. — Ты докажи! Или объясни!
Стрельцов закрыл глаза. Голова у него кружилась, слабость охватывала все его тело. Он чувствовал, как теперь уже и по спине ползет горячая испарина.
Что должен он доказывать? Или объяснять? Как Мухалатов присвоил себе его идею? Но в грубом смысле слова он ее не присваивал! А все тонкости этого — в таком жестоком, наполненном предубеждениями разговоре, разве их объяснишь! Рассказать, как подло поступил Мухалатов с его дочерью, с Риммой. Но это значит рассказать о циничном признании Мухалатова, какое он сделал на теплоходе ему, отцу Риммы, относительно «Не Может Быть» и относительно Галины Викторовны. Нет и нет, что угодно, а этого он рассказать не может!
— Так что же он, с моральной, с бытовой стороны не чист? — нетерпеливо спрашивала Жмурова. — Или бездарный инженер? Фендотов! А ты что же помалкиваешь?
Василий Алексеевич открыл глаза, посмотрел на него с надеждой.
— Насколько я понимаю, Мухалатов вообще-то очень способный инженер. Как говорится, Елена Даниловна, дай бог, чтобы и все инженеры были такие, — поглядывая на Лапик, осторожно сказал Фендотов.
— А я прибавила бы к этому, что дай бог, чтобы и все современные мужчины были такими, — поддержала Галина Викторовна. — Удивительной ясности человек! Остроумен, весел, душа нараспашку. Порой бывает с женщинами грубоват, но в этой грубости такая наивная непосредственность, такое потаенно-глубокое уважение к женщине! Мне всегда хочется сравнивать его с современным домом из бетона, алюминия и стекла…
— Погоди, Галина Викторовна, — остановила ее Жмурова. — Пусть говорит Стрельцов. Ты это все опровергаешь?
Василий Алексеевич платком вытер испарину со лба.
— В архитектуре я плохо разбираюсь, — через силу выговорил он.
— Да ты не играй словами! — вдруг взорвалась Жмурова. — Я предупреждала: говорить так говорить!
И встала.
— Не буду я говорить! — тоже вскрикнул Стрельцов.
И тоже встал.
— Ну, знаешь ли! — грозно сказала Жмурова. — Это совсем уж не доблесть. Держать в кармане кукиш, а разыгрывать из себя благородного Дон-Кихота! Так, что ли, Галина Викторовна?
— Это очень резко, Елена Даниловна. Хотя, конечно… — потупив глаза, ответила Лапик. — Василий Алексеевич действительно склонен к известному рыцарству. Но в этой ситуации он перещеголял даже и Дон-Кихота, когда тот сражался с ветряными мельницами. Дон-Кихот защищал Дульцинею. Нападая на Мухалатова, Василий Алексеевич сам не знает, кого и от чего он защищает.
— Нет, почему же? Он знает, — чуточку поспокойнее возразила Жмурова. — Давай, Стрельцов, напрямую. Не хочешь ты говорить — я за тебя скажу. Тебе хотелось, чтобы на мухалатовском аккумуляторе значилось и твое имя, вместе с ним вошло в историю техники. Примеров нам не занимать. Не успеет изобретатель придумать что-нибудь — его начальник уже тут как тут. И мы пахали! Посмотреть списки кандидатов на премии — нет такого случая, чтобы обыкновеннейший человек один выдвигался. Обязательно при своем начальнике. А как же Мухалатов войдет в историю техники без Стрельцова? Вот с этого прямо и начал бы.
— Я неизменно повторял и повторяю, что я… — Голос совсем не повиновался Стрельцову. Толчками, с болью при каждом ударе, билось сердце. Надо бы положить таблетку валидола под язык. Но это невозможно сделать у всех на глазах. Получится какая-то жалкая сцена. — Я никогда не заявлял о том, что…
— Вот в этом все и дело! — опять вскрикнула Жмурова. — Лучше бы ты заявлял! Галина Викторовна, ну-ка, напомни, какой это литературный образ ты называла? В архитектуре он плохо разбирается, он любитель литературных образов!
Лапик задвигалась в кресле. Раскрыла сумочку, щелкнула замком. Опять принялась что-то искать в сумочке.
— Извините, Елена Даниловна, тот разговор был совсем не к этому случаю. И совсем… не относился к Василию Алексеевичу.
— Яго! — удовлетворенно сказала Жмурова. — Вспомнила: Яго! Он тоже ничего открыто не «заявлял», а делал свое дело потихоньку. Одному на ухо одно, другому — другое.
Перед глазами Стрельцова, как крылья ветряной мельницы, вертелись темные круги. И не было сил, совсем не было сил не только заорать или ударить по щеке эту женщину — да, женщину! — не было сил выговорить хотя бы несколько слов. Стрельцову показалось, что он быстро пошел к двери. Но он еще стоял на том же месте. Ноги ему не подчинялись.
Жмурова немного переждала. Прошлась по кабинету. Сказала в пространство:
— Молчать, трусливо намекать и уходить, отказываться от своих же намеков. Говорить при людях одно, а писать, подписывать на бумаге совсем иное… — И повернулась к Василию Алексеевичу: — Стрельцов, тебе сколько еще до пенсии?
Стрельцов молчал. Он никогда не думал о пенсии, даже не представлял себе вообще, что когда-либо может стать пенсионером. Работать до конца, до последнего дыхания — он только так понимал свою человеческую обязанность. Что означает вопрос Жмуровой — отработал свое?
Да не все ли равно, что он означает! Лбом стену не прошибешь. И только бы послушались ноги. Уйти. Но он боялся: вдруг шагнет — и покачнется, повалится…
— Василию Алексеевичу еще три года до пенсии, — расслышал он бодрый голос Фендотова. — Гигантское время!
Жмурова еще походила по кабинету, теперь уже спокойнее размышляя и анализируя вслух:
— Мухалатов — воспитанник, ученик Стрельцова. Достойный продолжатель его пути в науке. Радоваться бы! Журналистка Римма Стрельцова, дочь хорошего инженера и хозяйственника Стрельцова, пишет глубокую, объективную статью о работах Мухалатова… Она, дочь-то твоя, в твоем доме живет, Стрельцов? Ты ее статьи все читаешь?
Стрельцов молчал. Зачем здесь произносится еще имя его дочери? И связывается с именем Мухалатова!
А где сейчас Римма? Кто скажет?
— Василий Алексеевич читал статью Риммы Васильевны еще в рукописи и полностью одобрил, — торопливо вставила Галина Викторовна. — Между ними существует взаимное доверие. Василий Алексеевич отличный семьянин.
Стрельцов молчал. Он все еще не решался сделать хотя бы единственный шаг. Муравьи щипали сердце беспощадно. Откуда знает Галина Викторовна, что он читал статью Риммы еще в рукописи? Но какое сейчас все это имеет значение…
— Так вот, Стрельцов, — сказала Жмурова уже совсем спокойно, — давай подведем черту. Объяснились с тобой мы полностью? Вопросов нет? Мотай на ус! И работай. А Федору Ильичу и докладывать не будем, поговорили здесь начистоту — и конец. Понимать я тебя понимаю, но оправдать не могу. Поэтому выводы сделай ты сам для себя. За плечами у тебя жизнь большая. Надо бы под старость из жизни самое доброе отобрать, да, бывает, как раз под старость люди и оступаются. Говорю сейчас о тщеславии. А это первый шаг к тя-ажелому эгоизму! Вот и пошел язык твой сочиться, скажем прямо, жалкими словами. Какими-то намеками… Ну, это встречается, когда у человека, извини, духовный, творческий климакс наступает, а у тебя-то впереди еще работа и работа…
Глядя в одну точку, Стрельцов сделал необходимый десяток шагов и вышел из кабинета, хлопнув дверью. Постоял в коридоре, привалясь плечом к стене и безразлично думая о том, что сейчас происходит за его спиной. Не все ли равно? А достоинство свое сохранить он был обязан.
Появился Фендотов. Дружески ухватил Василия Алексеевича за локоток и повел, весело балагуря:
— Ну вот, сеанс массажа и завершился. А вы держались просто молодцом! И покинули поле боя как полагается. Железные у вас нервы. Это произвело впечатление, Елена Даниловна стала пить воду. Но, между прочим, и я ведь однажды ловко вам подыграл — правда? — когда начальница наша суровая предпенсионным возрастом вас подколола. Сама небось в отставку не собирается. Но фельдкуратор, наш милейший фельдкуратор! Нет, это просто Капабланка! Или Михаил Таль. Вы поняли, какие восхитительные, тончайшие комбинации в вашу пользу разыгрывала она?
— Я ничего не понял, — сказал Стрельцов.
Кружилась голова, ему хотелось прилечь, расстегнуть ворот рубашки и не хотелось слушать болтовню Фендотова. Болело сердце. Он вытащил из специального карманчика в подкладке пиджака алюминиевый патрон с валидолом, положил таблетку под язык. Фендотова он не стеснялся. Приятный холодок во рту и запах мяты сразу облегчили дыхание. Но глиняная тяжесть в ногах все еще не покидала его.
— Я ничего не понял, — повторил Стрельцов. — Что все это значило? И для чего?
— Служба! — с искренним убеждением сказал Фендотов. — Что ж тут такого? Служба. Вероятно, был какой-то сигнал. По сигналу — проверка. И все. А что касается тона…
— Нет, не тона, а смысла, — сказал Стрельцов.
— Когда она дважды произнесла свое знаменитое «ну, знаешь ли!», я подумал: будет буря. А оказался лишь гром и даже без дождичка. Превосходный финал! Вы ищете смысла, дорогой Василий Алексеевич? Спросите, зачем меня приглашали сюда? Вопрос-то в повестке был ваш.
— Не понимаю вообще, зачем нас вызывали в госкомитет. Не понимаю, в чем обвиняли меня, — сказал Стрельцов.
— Да не страдайте вы так, Василий Алексеевич! — небрежно махнул рукой Фендотов. — Ведь даже выговора вам не объявят. Вы что — и этого даже не поняли?
— В чем меня обвиняли?
— Ну… предположили, вероятно, что вам под занавес очень захотелось сделаться соавтором Мухалатова. Дескать, упустили в свое время момент, а теперь… Эти ваши намеки, драматическое молчание… И еще — эта нелепая история с кассиршей.
— Ужасная история! — сказал Стрельцов.
— Согласен. Вас теперь она миновала. Но Маринича все же надо будет немедленно уволить. Или закатить строгача Андрею Семенычу. Кого из них принести на алтарь Елены Даниловны? Как вы думаете?
— Я уже подписал приказ и не стану менять в нем ни единой буквы, — сказал Стрельцов.
— Ах, подписали уже! Ну тогда все в порядке! — с облегчением воскликнул Фендотов. — Кого же?
Стрельцов промолчал.
— Не вмешиваюсь, не вмешиваюсь, — с готовностью сказал Фендотов. — Бухгалтерия — это ваше хозяйство.
Они спустились по лестнице, вышли на улицу, жаркую, душную, наполненную запахом выхлопных газов от бегущих мимо машин. Голова у Стрельцова по-прежнему была еще какая-то не своя. Трудно было стоять, глядя на этот шумящий поток машин, рвущихся вперед и вперед.
— А знаете, Василий Алексеевич, время-то, что называется, критическое. Стоит ли нам возвращаться на завод? Давайте с ходу рванем к себе на дачки? Подвезу?
— Если вы только довезете меня до вокзала, Иван Иваныч, я буду вам очень и очень благодарен, — с усилием сказал Стрельцов. — Мне на вокзале нужно кое-что приобрести.
— Пожалуйста.
Стрельцову ничего не нужно было приобретать. Ему было очень плохо. Хотелось поскорее, только бы поскорее добраться до дому и лечь в постель.
Но он подумал, что лучше все-таки уехать на переполненной людьми жаркой электричке, чем в мягко покачивающейся, удобной «Волге» час целый слушать болтовню Фендотова.
Глава семнадцатая Уходя, гаси свет!
И эту, третью ночь он провел тоже без сна. Он обманул Веронику Григорьевну, сказав, что принял нембутал. На самом деле он выбросил таблетку. И выпил только валокордин. Пусть сердце немножечко отдохнет. А мозг — мозг должен работать. Мозг должен же наконец разобраться во всей путанице событий, и главное — разобраться, почему бесследно исчезла Римма.
Она могла бы все же в «тот день» вернуться домой и потом уж уйти, если ей необходимо было уйти. Она должна бы сначала сказать… Почему она ничего не сказала? А пока этого не поймешь — не поймешь ничего.
Вероника спит крепко, глубоко, хотя и часто вздрагивает, что-то бормочет. Она честно выпила свою дозу снотворного. И это хорошо. Неизвестно еще, какие потрясения могут ожидать ее впереди. Она совсем не богатырь, хоть и не жалуется на нездоровье. Ей надо отдохнуть как следует, она тоже провела две ночи почти совсем без сна. Стрельцов встал, осторожно поправил одеяло в ногах жены и вышел на крыльцо.
Зябкая сырость сразу охватила плечи. Начинался рассвет. Белая тишина царила над всем дачным поселком. В вершине высокой ели, ближе других подступившей к дому, ворочалась и трепыхалась какая-то птаха. Несмело, спросонок, чирикнула и успокоилась. Прогрохотала далекая электричка.
Утро начиналось как всегда, но было сегодня оно непохоже даже на вчерашнее утро — вчера на душе было еще как-то полнее, больше надежд. И больше тревоги, возбужденности, заставлявшей остро чувствовать время. Ах, Римма, Римма!.. Сегодня впереди монотонное течение рабочего дня на заводе и даже не надо ехать к Елене Даниловне Жмуровой.
Зачем все-таки она вызывала?
Елена Даниловна бывает резка, безапелляционна в своих суждениях, может обидеть человека грубо притесанным словом, но Елена Даниловна все же очень умна. И справедлива. Этого у нее не отнимешь. А то, что было вчера, никак не назовешь ни умным, ни справедливым.
Иван Иваныч ко всему отнесся с обычным своим юморком. Он все это определил как «службу». Он может острить, его не били прямо в сердце.
Жмурова, как никогда, была категорична. Значит, ей все было ясно, все открыто как на ладони, и требовалось только принять свое решение о нем, Стрельцове, в его, Стрельцове, присутствие Ну что ж, решение принято «гуманное». Никаких взысканий, и даже ничего не будет доложено председателю госкомитета.
«Мотай на ус!» — сказала Жмурова. Приходится наматывать. Произошло самое страшное в его жизни, куда страшнее любых выговоров, — потеряно его доброе имя, потеряно к нему уважение. Теперь у Жмуровой, честной и справедливой, навсегда останется в памяти брезгливое чувство: «А, это Стрельцов, который…» И у «милейшего фельдкуратора» тоже. А с ними вместе работать. Но хуже, хуже всего то, что и сам о себе он станет теперь думать точно так же: «А! Ты, Стрельцов, который…»
Почему же он все-таки стал «который»? Что заставило Жмурову так жестко разговаривать с ним, не делая даже предположений, что он может оказаться и ни в чем не виноватым? Что так бесспорно доказывало его «вину»? И какую именно вину?
«Он был бездушен к кассирше Пахомовой…» Что ж, вероятно, это так, если совсем ничего не принимать во внимание. И надо хотя бы теперь исправить это. Перед самим собой, перед собственной совестью. Надо навестить девушку в больнице. Надо навестить ее родителей. Им, кажется, живется очень тяжело. Что эти сто рублей, какие будут выданы Лике из директорского фонда!
«Он — Яго! Он силился различными намеками очернить Мухалатова, чтобы хоть и запоздало, но поставить свое имя рядом…» Стрельцова затрясло. Об этом он не мог думать последовательно и связно.
«Он говорил одно, а подписывал другое…» Нет, нет, никогда! Что он говорил, то и подписывал. Он отказался объяснить причину своего нежелания давать оценку личности Мухалатова? Но ведь не мог же, не мог он превратиться в базарную сплетницу, рассказывать одной женщине о другой женщине, и о мужчине, который… Да, да, вот это — «который»!
Галина Викторовна издевается над рыцарством, донкихотством. Это ее дело. Но у него, у Стрельцова, свои понятия о нравственной цене женской чести, и он, как бы трудно ему ни приходилось, никогда не прикроет себя этим щитом. Пусть все, что произошло вчера, останется на совести Галины Викторовны. Ведь это ее слова: «Василий Алексеевич перещеголял даже Дон-Кихота…» Эти слова еще плеснули масла в огонь. Он не подставил доброе имя Галины Викторовны под меч Жмуровой, а Галина Викторовна стрельцовским добрым именем легко и не задумываясь прикрыла Мухалатова. В этом смысл той жалкой сцены, в которой он вчера сыграл главную роль. Пародийную роль Дон-Кихота…
Но все-таки почему еще Яго? Почему двурушник? Откуда подул этот убивающий ветер?..
Восток постепенно желтел, наливался зарей. Уже вовсю щебетали в вершинах деревьев веселые птахи. По дорожкам вдоль штакетных оградок потянулись пешеходы. Рабочий день начался.
Не пойти ли сейчас и ему на электричку? На заводе — дела. А несколько опоздав на работу, пожалуй, можно будет побывать и в больнице и у родителей Лики Пахомовой. Это деятельность, это — движение. И хотя весь он словно разбитый, покалывает в сердце, кружится голова, но работа помогает забывать о болезнях.
Стрельцов вернулся в дом. Ступая осторожно, прошел на кухню. Сварил и выпил залпом два стакана крепкого кофе, почувствовав сразу, как горячий ток крови бросился к ногам и в голову. Оделся. На цыпочках прокрался к постели жены. Вероника Григорьевна спала, редко и глубоко дыша: нембутал действовал во всю свою силу.
Василий Алексеевич карандашом на листке из блокнота набросал несколько строк: «Дорогая Ника, еду пораньше с тем, чтобы навестить пострадавшую девушку. Постараюсь вернуться домой, ни минуты лишней не задерживаясь на заводе. Если узнаю что-нибудь насчет Риммы, примчусь немедленно. И ты сделай так же. Мне кажется, она сегодня днем вернется домой. Целую. В.». Он почему-то не смог написать ни Василий, ни Вася. Именно «В.» сейчас было точнее всего.
Потом он тихонько обошел дом, проверил все окна — закрыты ли? — не напугал бы кто спящую Веронику.
Постоял над ее этюдом, изображавшим подмосковный пейзаж. Вероника сумела-таки переписать небо. Оно было по-прежнему серым и пасмурным, но теперь где-то в толще дождевых туч угадывалось солнце, и это придавало необъяснимую прелесть мокрым лужайкам, березам, устало опустившим к земле длинные, тонкие ветви, все в тяжелых каплях дождя.
Этюд комиссией наконец-то был принят на Всероссийскую выставку. Вероника вымолила дать ей полотно еще на один день, подправить какие-то пустячки.
«Молодчина! — подумал Василий Алексеевич. — Сумела все же найти изъян в своей работе и сумела отлично исправить его. На полотне сделать это все-таки, видимо, легче, чем в жизни».
Над крыльцом горела электрическая лампочка. Стрельцов повернул выключатель. «Уходя, гаси свет!» — вспомнилось ему. Мудрое правило. Проверил специальный кармашек в подкладке пиджака. Валидол при себе. Полный патрончик.
Он медленно прошел вдоль клумб, устроенных руками Вероники Григорьевны. Набрал большой букет тюльпанов для Лики. Их желтые сердцевинки похожи были на «золотую улыбку» Вероники. А как хороши на клумбах рядочки махровых нарциссов, милых анютиных глазок! Стрельцов оглядывал все это так, будто уходил отсюда совсем или очень надолго.
Солнечный луч вспыхнул на коньке крыши и сразу померк. Над лесом стлалась густо-синяя туча с белой каймой — предвестница большого ненастья.
В больнице дежурная сестра сказала Василию Алексеевичу изумленно:
— Милый, да кто же в такую рань на посещение? И то — сегодня день не приемный.
Стрельцов виновато улыбнулся.
— А цветы передать можете? И хотя бы записку.
— Цветы — пожалуйста! Передадим и записку. Дело у Пахомовой пошло на поправку. Теперь ей все можно.
Он написал, что просит принять цветы, что приказом по заводу полностью исправлена допущенная по отношению к ней несправедливость и что он лично просит прощения за поспешно подписанный им приказ. Пожелал быстрейшего выздоровления. О деньгах, выделенных из фонда директора, он ничего не сказал в записке. Это было бы неуместным. Пусть об этом Лика узнает от Маринича.
По телефону дежурной сестры он справился у Евгении Михайловны, нет ли каких новостей. Потерянным голосом Евгения Михайловна ответила, что новостей нет никаких. Она, конечно, имела в виду только Римму. Только о Римме спрашивал ее и Стрельцов.
Помолчав, он предупредил Евгению Михайловну, что задержится еще на некоторое время, и попросил назвать домашний адрес Пахомовой, если он ей известен. Евгении Михайловне было известно все.
Стрельцов поймал такси и поехал в Измайлово.
На квартире Пахомовых он застал самого Петра Никанорыча, пьяного в дым, Дусю, тихо стонущую под стареньким суконным одеялом, и еще какого-то лохматого парня, тоже пьяного, назвавшегося Жорой. Веры Захаровны дома не было.
Петр Никанорыч и Жора резались в карты, азартно шлепали ими по столу. Кислый пивной дух шибанул Стрельцову в нос. Пиджак Петра Никанорыча валялся посреди комнаты на полу. Тут же худая, облезлая кошка грызла кусок копченой колбасы.
«Да, семейная обстановочка у девушки не из веселых», — подумал Стрельцов. И стал объяснять, кто он такой и почему здесь появился.
Прикрыв ладонью карты, Петр Никанорыч смотрел на него злым, мутным взглядом.
— Так, — сказал он, тяжело ворочая языком и выслушав Василия Алексеевича до конца, — извиняться, оправдываться, значит, пришел? Высказывать свое сострадание родителям? Нужно оно, твое сострадание! Дочь моя, кормилица, изломанная грузовиком, в больнице, а я нетрр… нетрудоспособный пенсионер, инвалид труда и войны, я что без нее? Мне твои извинения… — Он сделал резкое движение рукой, и карты посыпались на пол. — Убир-райся! Жора, пр-роводи гражданина до трамвая!
Жора молча поднялся. Идя чуть-чуть позади Стрельцова, короткими фразами подсказывал, куда повернуть. Он вел его через парк по какой-то совсем малохоженой тропе. Никто не попадался навстречу. Стрельцов пожалел, что отпустил такси. Жора тяжело сопел за спиной, и Василию Алексеевичу стало не по себе, будто его вели на расстрел.
— Профессор! — вдруг сказал Жора. — А ну, повернитесь! Снимите очки!
И когда Стрельцов, недоумевая, выполнил это, Жора ударил его по щеке. Спокойно, деловито. И после стоял, разглядывая, словно выискивая место, в какое можно бы еще побольнее ударить.
Василий Алексеевич тоже стоял не двигаясь. Щека у него пылала. Он понимал, что он сейчас полностью во власти этого хулигана. Убежать от него он не сможет, на помощь никто не придет, а вступить в драку с ним… Он едва удержался на ногах от одной лишь пощечины.
— Что вам нужно от меня? — сказал он, негодуя. — Дайте сейчас же дорогу!
— Мне нужно… Мне нужно… — сказал Жора. И снова, еще сильнее, ударил Василия Алексеевича по щеке. — Цыц! Ни с места!
Стрельцов бросился на него. Все-таки это единственное, что он должен сделать, хотя и неизвестно, что после этого произойдет. Он уже ощущал острую боль в левом боку, будто туда вошла сталь ножа. Перед глазами, словно крылья ветряной мельницы, кружились какие-то черные тени.
— Тихо, профессор! — И Жора сдавил ему обе руки в запястьях так, что Стрельцов вскрикнул. — Стоять смирно! Часы мне твои не нужны, я не вор. А деньги все отдай. Добровольно. На гостинцы для больной Лики Пахомовой, поскольку ты там извинялся и выражал готовность. — Он ловко выхватил бумажник из внутреннего кармана пиджака, выгреб деньги, а бумажник бросил вперед, на тропинку. — Шагай, профессор. И помни: деньги ты отдал мне добровольно. Забудешь об этом…
Он развернул Стрельцова и сильно толкнул в спину. Василий Алексеевич упал. А когда поднялся, Жоры не было и в помине. Только чуть шелестели остренькие листочки стоящих близ тропинки кустов.
Все это произошло так стремительно быстро, что Стрельцову представилось: это случилось не наяву, а в каком-то странном, фантастическом полусне. Но крапивным ожогом горела щека, впереди на тропинке лежал опустошенный бумажник и глухо, неровными ударами постукивало сердце. Стрельцов понял, что до трамвая ему сейчас не дойти, ни за что не дойти. Он положил таблетку валидола под язык, сунул в карман бумажник, сделал один шаг, второй, и вдруг его потянуло куда-то совсем в сторону…
Пришел в себя он не скоро. Все небо теперь было в тучах. Дул резкий ветер и шумно трепал ветви куста, под которым он неведомо как оказался. Стрельцов ощупал рукой лоб, весь в липкой испарине.
«Выходит, я еще жив», — подумал он. Почему-то совсем равнодушно, будто даже не о себе, а о ком-то постороннем. Превозмогая слабость, встал, двинулся по тропинке.
Постовому милиционеру у трамвайной остановки он рассказал обо всем, что с ним случилось. Милиционер вежливо козырнул, поморщился.
— Что же это, гражданин, без всякого сопротивления отдаете деньги, а потом с заявлением. Мужчина же вы все-таки, а не дамочка! К тому же днем… Давайте пройдем в отделение, составим протокол, запишем приметы. Жора? Ну, эти — все они Жоры.
— Сейчас мне некогда, — сказал Стрельцов, — я не могу с вами пройти в отделение. Притом я очень плохо чувствую себя.
— Ну, приходите, когда будет время. И здоровье позволит.
Такси теперь нанять было не на что. Стрельцов отыскал в кармане брюк несколько медяков. Их было достаточно, чтобы доехать до завода, пользуясь трамваем, метро и автобусом.
— Василий Алексеевич, на вас лица нет! — всплеснула руками Евгения Михайловна, когда он вошел в приемную. — И чего было вам приезжать? До конца работы осталось каких-нибудь два часа!
— Да знаете, задержался. А у меня до сих пор не готова заявка на цветные металлы. Совесть мучает.
— Ну-у! — протянула Евгения Михайловна. — Эго только вы такой щепетильный. А что думали снабженцы, когда вам сначала на подпись совсем муру какую-то представили?
Она знала все, и знала, что Стрельцов собственной рукой пересчитал, переписал чуть ли не всю полностью заявку. Теперь она, исправленная, проверенная, заново напечатанная, лежала у него на столе, ожидая подписи.
— Нет новостей, Евгения Михайловна?
— Нет, — она помялась немного. — Два раза звонил, спрашивал вас Владимир Нилыч Мухалатов.
— Соедините! Скорее!
— Я выясняла. Он просто хотел вас поблагодарить за все.
— А-а! — устало сказал Стрельцов. И опустился в кресло. — Тогда не надо.
— И потом, — Евгения Михайловна замялась еще больше, — приходила от Ивана Иваныча его секретарша Аля и велела, чтобы я… Да я лучше вам покажу!
Тут она принесла копию того самого протокола стенограммы, который готовила она, а подписывал Стрельцов после отъезда Фендотова в Тбилиси.
— Видите, — показывала Евгения Михайловна, — помните эту вот страничку, которую вы меня заставили перепечатывать?
— Да, помню, конечно.
— Иван Иваныч велел эту страничку изъять и восстановить все, как было.
Кровь медленно и тяжело прилила к вискам Стрельцова.
— То есть как — изъять? На ней же записаны подлинные мои слова!
— Я так и объяснила Але. Тогда Аля взяла весь протокол и отнесла Ивану Иванычу. А когда вернула мне, в нем вместо исправленной вами лежала прежняя страничка. Та, в которой вы хвалите Владимира Нилыча. И я не знаю… Рядом с нею я все-таки положила и вашу. Заново перепечатала с черновика и положила. Как вы скажете? Какую оставить в деле?
Стрельцов потер лоб рукой.
— Спасибо, Евгения Михайловна, спасибо! Пусть обе рядом так и лежат. Это совсем не имеет никакого значения.
— Да… Но Иван Иваныч, кажется, уехал в госкомитет.
— И это, Евгения Михайловна, не имеет никакого значения.
Она ушла. Стрельцов ладонями закрыл лицо. Все теперь стало понятно, вся эта дикая сцена у Жмуровой!
Иван Иваныч, перед отъездом в Тбилиси, на бланке завода — прямо в госкомитете, у Галины Викторовны, составил обстоятельное письмо, к которому он, Стрельцов, должен был только дослать в подкрепление протокол-стенограмму. Основываясь исключительно на письме Фендотова, председатель госкомитета Горин Федор Ильич скрепил своей подписью окончательный документ, создавший навечно славу «аккумулятору Мухалатова». Но когда протокол попал в руки Галины Викторовны, она увидела, что подлинное мнение Стрельцова совсем не совпадает с той его трактовкой, которая содержалась в ранее составленном письме Фендотова. А Стрельцов на заводе — все же фигура!
И вдруг об этом расхождении в документах станет известно Горину? Вдруг Стрельцов пойдет и еще дальше, не останется просто нейтральным — «у меня очень болит голова, и выступать я не буду», — а выступит против! Это же скандал, нонсенс! Так долго готовить документы и не подготовить. Что стоят работники госкомитета! А Стрельцов не раз намекал, что не симпатизирует Мухалатову. Вдруг у него действительно что-то есть и он выложит напрямую? А для Галины Викторовны Мухалатов — человек «из бетона, алюминия и стекла».
Теперь понятно все. И звонок Горина перед подписанием окончательных документов. И нервный, сухой тон Галины Викторовны, спешно организовывавшей встречу со Жмуровой. И сам разговор у Елены Даниловны, имевшей перед собою все бесспорные документы, все, кроме протокола, подписанного Стрельцовым. Он не годился, чтобы показать его Жмуровой. Нужную Галине Викторовне страничку сейчас повез в госкомитет Иван Иваныч. Тогда еще и этот протокол ляжет на стол Жмуровой. Все совпадет. А Стрельцов в сознании Елены Даниловны навсегда останется как тот, «который»…
Да, крепко теперь все завинчено.
Так что же, бороться? Или уступить, сдаться?
Чьему пострадать доброму имени — твоему или Галины Викторовны? Решай, Дон-Кихот!
И решай, хочешь ли ты в таком случае еще и борьбы с Мухалатовым? Тут неизбежно будет затронута тогда еще и честь твоей дочери, Дон-Кихот…
А результат?
Ведь ты не жаждешь видеть имя свое в ряду с Мухалатовым. Ты даже боишься этого, брезгаешь этим. Тогда что же тебе принесет борьба? Только голую истину?
А сможешь ли ты для доказательства этой истины рассказывать о женщинах, включая и дочь свою, то, что ты о женщинах не способен рассказывать? Дон-Кихот… И почему ты доброжелательно не хочешь подумать, что Галина Викторовна Лапик, всеми силами отстаивая интересы Мухалатова, может быть, нечаянно впадает и сама лишь в горькое заблуждение относительно этого человека «из бетона, алюминия и стекла»? И так тоже могло случиться. Ведь Галине Викторовне, к примеру, неизвестен даже «план», выработанный Фендотовым и Мухалатовым во время прогулки на теплоходе, после которого Мухалатов отправился искать приключений в ее каюте…
Повернется разве язык такое рассказывать? И кому? Самой же Галине Викторовне? Слепому объяснять, что по ночам бывает темно и надо ходить осторожнее… Елене Даниловне Жмуровой, которая вообще не любит пространных рассуждений? А телеграфный стиль для подобных вещей решительно не подходит. Но самое главное: оправдывая себя, ты как щит выдвинешь женскую честь! Способен ты это сделать?
Может быть, рассказать Федору Ильичу, бывшему своему ученику? Все-таки мужчина — мужчине. Он ведь сам приглашал: заходите! И вот зайти к нему с таким разговором… Когда Горин звонил по телефону, в его голосе звучали нотки глубочайшего уважения к своему бывшему учителю. После такого визита Горин закономерно с презрением подумает: «Старый сплетник…»
И поэтому ты можешь сколько угодно мысленно бегать по заколдованному кругу, но посторонним никому ни слова, если не хочешь и еще ниже уронить свое достоинство и доброе имя. Вернись к своим обычным заботам о деле, о заводе, о людях, работающих на заводе. Ты ведь любишь все это. Ты этому посвятил всю свою жизнь. И люди тоже любят тебя и тебе доверяют. Ждут от тебя советов и помощи…
Ворвалась сияющая, совершенно вне себя, Евгения Михайловна.
— Василий Алексеевич! Василий Алексеевич, от Риммы Васильевны письмо! — выкрикивала она сквозь радостный смех. — Я ведь знала, как вы переживали! Вот только что мальчик какой-то принес.
Положила на стол голубой конверт и убежала, захлопнув на защелку дверь.
— Не буду мешать. И пусть никто не мешает.
Стрельцов торопливо разорвал конверт. Он заметил, что обратного адреса на нем обозначено не было и трижды подчеркнута пометка «личное».
«Папа, — писала Римма своим быстрым, решительным почерком, — ты удивишься и встревожишься, получив так необычно это письмо. Я знаю, ты хотел бы лично поговорить со мной. И знаю, как вы с мамой страдали эти дни. Прости! Простите! Но то, что прошло уже несколько дней, я вдруг поняла только сейчас. И поговорить с тобой, глядя тебе в глаза, я не смогу. Не хватит сил моих. Не хватит потому, что есть вещи, о которых девушке трудно писать, а рассказывать и совсем невозможно. Тем более отцу своему. Именно — отцу своему.
Это письмо мое не исповедь. И я написала его лишь для того, чтобы ты и мама знали: я жива, ничего со мной не случилось, нет надобности звонить по разным двузначным номерам телефонов. И еще чтобы вы знали: не надо ждать от меня других писем. Мой адрес останется для вас неизвестным. Возможно, вы будете читать мои статьи в газетах, но публиковаться они будут под псевдонимами. Как толстовский отец Сергий, разуверившись в любимом человеке, я хочу, я должна уйти в другую жизнь.
Не в тихое одиночество — это глупо. За эти дни я поняла, что человек все-таки должен жить и работать даже тогда, когда у него вырвано сердце. Кроме любви, у него есть другие обязанности. И очень ответственные обязанности.
Почему я пишу так жестоко (это я и сама сознаю)? Папа, я сейчас никого не люблю, ни тебя, ни маму, ни единого в мире человека. Странное состояние. Когда подрубаются корни у дерева, падает и засыхает все дерево. Корнями моего дерева была большая, необыкновенная любовь к Владимиру Нилычу Мухалатову. Теперь эти корни подрублены. А вместе с ними все — вся моя способность любить кого бы то ни было.
Это прозвучит, возможно, парадоксом, но тебя я, например, сейчас не люблю больше всего за то, что ты восстал против моей любви к Мухалатову. Ты отравлял мне мои счастливые часы, которые тогда вовсе не были мифом. И вот за это я тебя теперь не люблю.
Я вижу, как сейчас сжимаются твои кулаки и ты готов закричать: «Подлец!», адресуя эти слова Мухалатову.
Не знаю… Этого слова я Владимиру Нилычу не сказала. Не он меня влюблял в себя, а я сама в него влюбилась, и значит, за любовь свою сама же я и несу всю ответственность.
Подлой с его стороны была, может быть, только форма — способ, каким он подрубил корни моей любви. Имею в виду развязку. Сперва он не пришел в условленное место, где я прождала до полуночи, готовясь радостно сообщить ему, что, кажется, стану матерью; потом он объявил, что женится на другой (и это прежде я узнала от «другой»); и, наконец, он все же встретился со мной (нашла его я) и сухо отрезал: «Я тебя никогда не любил и не люблю».
Скажи, должна была я крикнуть ему в лицо: «Подлец!»?
Я не крикнула. Потому что это самое жалкое слово, а мне дорога моя честь.
Кто-то, возможно, стал бы выпрашивать у Владимира Нилыча любовь, какое-то пустое подобие ее продолжения; или грозить ему судом, предстоящими алиментами; или на страницах газеты делиться своими переживаниями с миллионами читателей, чтобы сгладить эти переживания волной сочувственных откликов…
Попробуй понять меня, папа, войти в мою душу: ничего этого сделать я не могу. Ну ведь есть же, есть на свете такие интимные вещи, о которых трудно, о которых невозможно рассказывать посторонним! И ведь бывают же такие состояния у человека, когда трудно и даже невозможно ходить ему по привычным улицам, видеть знакомые лица, видеть родные лица…
Не знаю, может быть, сейчас в чем-нибудь я и не права, но попробуй все же понять меня так, как есть. Сейчас я никого, никого не люблю. Дай поработать времени.
Это письмо я посылаю с вокзала. С какого — не имеет значения. Через десять минут отойдет мой поезд. Последний раз я подписываюсь своим прежним именем и фамилией. Прости меня, папа! И мама, тоже прости!
Римма Стрельцова».
Еще дочитывая заключительные строчки письма дочери, Василий Алексеевич почувствовал, что пол уходит у него из-под ног. Теперь нестерпимо горячим обручем стягивало ребра. И это все намного сильнее, чем вчера в кабинете Жмуровой, и сильнее, чем было утром, когда Жора швырнул его на пустынную дорожку Измайловского парка.
Он отчетливо понимал, что эта невыносимая, туманящая сознание боль просто так уже не пройдет. Схватился за патрончик с валидолом, вытряс из него на ладонь все таблетки, зажал в кулаке. Другой рукой набрал номер внутреннего телефона. Услышал в мембране: «Да, Мухалатов». Сказал через силу:
— Владимир Нилыч, это Стрельцов. Я вас очень прошу сегодня вечером приехать ко мне. Нужно с вами переговорить…
О чем?
Стрельцов положил трубку, косо, как попало.
И бросил себе в рот сразу всю пригоршню таблеток, стал жевать, задыхаясь от знойного мятного запаха.
В глазах у него посветлело. Он заметил рядом с телефоном подготовленную заявку на цветные металлы. Почти автоматически подписал ее.
Потянулся к кнопке звонка, чтобы вызвать Евгению Михайловну…
Глава восемнадцатая Медленный гавот
Мухалатов сидел, низко пригнувшись к столу. В комнате было темно. Отчетливо тикали стенные часы. В дальнем углу комнаты царапалась мышь. Пахло корицей и ванилином, сдобным печеньем. Такое печенье любила Римма.
В окно упал пучок слабого света, косым четырехугольником обрисовался на оклеенной солнечно-желтыми обоями стене. Стекла в окне запотели, испестрились потеками воды, и светлое пятно у двери казалось фантастической картиной, отброшенной киноаппаратом на экран.
Мухалатов прислушался, вытянул шею.
— Нет, это просто так, — тихо сказал он. Зевнул. И подошел к окну. — Перегорели пробки, что ли? Везде огни, а здесь — тьма.
Свет падал через улицу из другого дома. От штакетной оградки, поперек дороги, протянулась неясная зубчатая тень. В колеях блестели лужи. Конец улицы терялся в белом, парном тумане.
— Уйти? И черт с ним, с этим Стрельцовым!
Он распахнул дверь на веранду. Однотонно стучал крупный редкий дождь. С крыши обрывались тяжелые капли и звонко плескались в какой-то посудине. Мухалатов оглянулся в пустую темь коридора и вышел на крыльцо. Плотнее запахнул легонький пиджачок.
Во дворе было очень темно. Тучи, невидимые, ощущались близко, у самой земли.
Все время поглядывая вверх, Мухалатов спустился с крыльца. И тут же потерял узкую гравийную дорожку, очутился на клумбах с цветами. Вязкая глинистая земля густо облепила ботинки. Ступать было неудобно: ноги то разъезжались на скользких бугорках, то засасывались грязной жижей. И выдернуть их стоило больших усилий. Похрустывали цветочные бутоны.
Он отступил к стене дома. Но здесь буйно выкустились полынь и лебеда. Высокие мокрые стебли тесно припадали к ногам, и Мухалатов сквозь брючную ткань чувствовал острый холодок. Била дрожь, короткая, сотрясающая. На коже высыпали мелкие пупырышки. Они были такие же колючие и жесткие, как зернышки лебеды, набившиеся в мокрые носки.
Чаще забарабанили по крыше капли дождя. Откуда-то издали донеслось приглушенное шипение — это ливень врубался в глубокие лужи. Мухалатов повернул обратно и вбежал на веранду как раз в тот момент, когда тяжелая дождевая коса вплотную придвинулась к дому. Мухалатов сердито рванул за собой дверь. Колеблясь, постоял. На ощупь прошел в глубь коридора, припоминая, что где-то здесь находится вешалка.
Снял с нее и накинул на плечи скользкий хлорвиниловый плащ. Тут же швырнул его на пол.
— Еще не хватало, чтобы уйти мне отсюда в плаще высокоинтеллектуального Василия Алексеевича! Заочно воспользоваться и еще одной его щедростью.
Приподнял плащ, подержал на весу и снова бросил.
— Вот ч-черт! Попал в мышеловку. Надо же быть такому идиоту: примчаться по приглашению, совершенно необязательному. Кому — мне, что ли, нужна была эта встреча? Тем более что ясно вполне, о чем разговор. Мог бы и сам он прийти ко мне.
Мухалатов несколько раз прошагал взад и вперед по темному коридору. Опять вернулся в комнату Риммы и присел к ее столу.
«Вот черт! Вот черт!..»
Сюда он приехал в сумерках, рассчитывая, что разговор со Стрельцовым не будет продолжительным. Если понадобится, оборвать его можно в любой момент.
Дом оказался на замке. Но Мухалатов знал, где прячут ключ. Накрапывал мелкий дождик. И коли уж приехал, согласился приехать, так надо дождаться хозяев. Он открыл дверь и вошел в дом.
Вкусно пахло сдобным печеньем. Значит, в доме празднично. И конечно, не в честь же его приезда! Попраздновать товарищу Стрельцову есть совсем другие основания. По словам Галины Викторовны, товарищ Жмурова была необыкновенно чутка и добросердечна. Намылив товарищу Стрельцову голову, она тут же смыла пену теплой водой. Она даже не позаботилась о выговоре ему! Прочитала лекцию о моральном облике советского инженера, хозяйственника и отпустила с миром. Поистине, старея, люди становятся беззубыми и в прямом и в переносном смысле слова. Итак, товарищ Стрельцов празднует, в доме у него пахнет сдобным печеньем — пусть празднует! Теперь, когда все позади, можно и по отношению к нему стать великодушным.
Вероника Григорьевна со своей «золотой» улыбкой счастлива и тем более. Вряд ли она посвящена товарищем Стрельцовым во все служебные дела. Он бережет свою женушку, а служебные дела не всегда бывают приятными, не всегда, скажем, и Елена Даниловна Жмурова бывает ласкова. К тому же этюд Вероники Григорьевны обещали взять на Всероссийскую выставку. Для нее это — вершина счастья. Можно отпраздновать.
Римма… Ничего! Все это быстро проходит. И правильнее сказать «не люблю» раньше, чем это же сказать слишком поздно. У Риммы всегда был хороший аппетит, и ей сегодняшнее сдобное печенье Вероники Григорьевны уже компенсирует все духовные потери. Во всяком случае, должно компенсировать.
Мухалатов ходил и пофыркивал.
А вообще-то забавная ситуация! Дорогих хозяев отрезало дождем от дома, вероятно, где-то в городе. Дорогого гостя дождем отрезало от города здесь, в чужом доме. Дождь может продлиться и всю ночь. Вон как полосует за окном ливень! У кого из них — у хозяев или гостя — найдется больше решимости, чтобы первому пренебречь дождем и окунуться в грязные лужи?
Дьявольски хочется есть. Может быть, гостю не зазорно отведать свеженького, пахнущего корицей печенья?
Впотьмах натыкаясь на стулья, Мухалатов пробрался в кухню. Поискал. Печенье, уже совсем холодное, показалось ему необыкновенно вкусным. Что значит проголодаться! А может быть, это великолепное мастерство Вероники Григорьевны? В чем она сильнее: в живописи или у газовой плиты? «Поэтом можешь ты не быть, но щи варить всегда обязана!» К чему Римма, между прочим, совершенно не способна.
В темноте, возле плетеной корзиночки с печеньем, он разглядел квадратный лоскуток бумаги. Записка. Вот, наверное, и ключ к тому, по какой причине здесь нет никого. Жаль, что сразу не подумалось зайти на кухню. Но как прочесть записку в такой темноте? Теоретически где-то возле газовой плиты должны бы лежать спички. Мухалатов повел рукой по подоконнику и опрокинул, свалил на пол жестяную банку с какой-то жидкостью, плеснувшейся ему на ботинки.
— Вот черт! — сказал он. — Какая это может быть гадость?
Вдруг вспомнил: на столе у Риммы всегда лежал электрический фонарик. Набив карманы печеньем, он с запиской прошел опять в комнату Риммы. Постоял, прислонясь к косяку и с аппетитом грызя печенье.
По запотевшим стеклам окна сбегали вниз, в темноту, широкие струи воды. Мухалатов отвернулся. Где же фонарик? Его рука нечаянно нащупала раскрытый патефон. Стукнула опущенная мембрана. Тихо и ласково затрепетали первые такты «Медленного гавота» Лекока. Потом нежный девичий голос, чем-то напомнивший голос Риммы, пропел:
Слышишь, ненаглядный, шепот непонятный? Тайно убаюкивая, он сердца зовет. Этот монотонный, вежливо влюбленный, Тихо улыбающийся медленный гавот.Любимая пластинка Риммы! Предмет постоянной пикировки между ними. Кошачья музыка и нелепейший танец. Для рахитиков. Или подагриков, у кого вовсе не гнутся ноги. А Римме нравится. По закону контрастов: Жанна д’Арк, железные доспехи и силоновая блузка.
Лариса смотрит на мир гораздо проще. И видит точнее. Железные доспехи ей совсем ни к чему. И пожалуй, теперь даже силоновая блузка. А вот вязаная шерстяная кофточка — хорошо. Хорошо и мужу, когда жена полностью признает его превосходство. Жизнь Ларису уже научила. За одного битого можно двух небитых отдать!
Мухалатов отыскал фонарик, нажал кнопку. Тонкий лучик света упал на бумагу.
О, мой ненаглядный, ты плыви со мною, Сердце не нарадуется, сердце влюблено! Это ведь бывает раннею весною, Раннею весною…«Вася, я проснулась в радостном настроении, я вдруг поняла, что все наши тревоги напрасны и Римма, как всегда, приедет с поездом 17.16. Конечно же она уезжала в какую-нибудь срочную, внезапную командировку, а это ведь не больше чем на три дня. Я приготовила все ваши самые любимые блюда… Но вот уже поздний вечер, а нет ни Риммы, ни тебя. Ты обещал не задерживаться. Мне как-то не по себе. Я закрываю дом на замок и еду к тебе в Москву. Больше я ждать не могу. Дорогие, если мы разминемся в дороге, — обедайте без меня. М. и В.».
Разве так уж плохи трепетные вздохи? Оттого так радостно сияет нам луна…Оказывается, вон какая карусель: Римма исчезла!
Но все ерунда. Римма исчезла — Римма найдется. А с Василием Алексеевичем, по старинной пословице, больше детей не крестить. Никаких новых идей он все равно уже не подбросит. Да и не нужны они больше. Два раза одному и тому же человеку Ленинская премия не присуждается. Именами Вольта, Ампера, Ома названо только по одному их открытию. Второго «аккумулятора Мухалатова» тоже не будет. Теперь надо укреплять свое служебное положение…
Мухалатову вдруг стало душно. Он потянул шпингалет, ударил кулаком в раму. Рама не раскрылась. Посыпались разбитые стекла.
— А, черт! — пробормотал Мухалатов. — Этого еще не хватало!
Слышишь, милый, слышишь, милый? Вот и звезды засверкали, заиграли…— Н-да, теперь мне ничего не остается, как все-таки взять плащ и уйти. Не ночевать же, как дураку, одному в этом доме! А если придется ночевать не одному — тут начнется…
Он взял с собой фонарик, надел плащ Василия Алексеевича, вышел из дома и закрыл дверь на ключ, спрятав его в условленном месте.
Через разбитое окно в комнату брызгали редкие, тяжелые капли дождя. На противоположной стороне улицы, в чьей-то даче, погас огонь, и сразу исчезло световое пятно позади стола Риммы. В полной темноте еще несколько секунд звучала спокойная мелодия «Медленного гавота».
А потом завод пружины вышел весь и диск патефона остановился.
Глава девятнадцатая Без которой тоже никак нельзя
Ну вот, теперь снова вступаю в дело и я.
Прежде всего я должен признаться читателям: книгу эту я писал не только между экзаменами. Между экзаменами можно придумать разве одно лишь название повести. На эту книгу у меня ушло больше года. И привез я рукопись в Москву, как раз когда подоспела пора сдавать мне экзамены уже за второй курс.
В первой главе я погрешил, да, погрешил против истинной хронологии. И вообще кое-что изобразил не так, как было на самом деле, а так, как мне хотелось, чтобы было. Чтобы и Маша с Ленькой в те дни приехали, потому что с ними хотя и хлопотнее, но веселее. Чтобы и вся семья Стрельцовых жила спокойно и дружно, а Ленька ездил бы к ним ночевать и возил с собой подарочные коробки с зефиром, который так любит Римма. Чтобы Ленька по простоте своей душевной угостил козу лимонной кислотой, а после терзался угрызениями совести: не ядовита ли она? Чтобы, наконец, этот же самый Ленька с каким-то парнем на спор забрался в Оружейной палате в старинную екатерининскую колымагу, а охранник тут же извлек его, приговаривая: «В карете прошлого далеко не уедешь!» И пусть себе на Леньку составили бы протокол, а отдуваться за него, как и всегда, пришлось бы старшему брату. При таком положении дел о драме Стрельцовых следовало бы говорить словами поэта: «Что пройдет, то будет мило!»
С этой точки зрения первая глава повести недействительна, она отражает только мои, — верю, что и ваши, — желания.
В действительности было так, как написано у меня во всех остальных главах, кроме первой. К сожалению, нельзя даже сейчас повторить слова поэта: «Что пройдет, то будет мило», потому что полностью ничего пока еще не прошло.
От Риммы хотя и получено было второе письмо — только: жива, здорова, — но адреса ее по-прежнему родители не знают.
Василий Алексеевич после инфаркта выписался из больницы и назначен сменным цеховым инженером. «Похлопотала» Галина Викторовна. Ведь Стрельцов «тот, который…». Предложили было ему принять планово-экономический отдел и, значит, оказаться в прямом подчинении у Мухалатова. Василий Алексеевич, конечно, не согласился. И разве мог он согласиться?
Ну Мухалатов, что же Мухалатов?.. В том-то и дело, что он работает как раз на месте Стрельцова. Тоже похлопотала Галина Викторовна. Это естественно. Он знаменит. «Его» аккумуляторы пошли сейчас по всему белому свету. Бессмысленно сидеть по-прежнему в лаборатории, он прав, «второй» аккумулятор тем же самым собственным именем уже не назовешь. И нечего понапрасну ломать голову, тем более если новую идею подсказать некому. А вообще Мухалатов на очень хорошем счету. И я не оспариваю, Мухалатов — прекрасный инженер, хороший хозяйственник. У него замечательная семья: красивая, заботливая жена Лариса и двое детей. Оба — мальчики. Из них один, Евгений, усыновленный, теперь не Ларисович, а Владимирович. Недавно Мухалатов получил медаль «За спасение утопающих» — бросился в Москву-реку и вытащил шестилетнюю девочку.
Маринич, между прочим, тоже потомством скоро обзаведется. Лика уже в декретном отпуске. Он на работе проявил себя отлично. Главбух Андрей Семеныч сделал Александра своим заместителем, а на общем собрании его поставили во главе группы содействия народному контролю, потому что на заводе все знают — Маринич ни в чем не сфальшивит, будет за правое дело биться до конца. А характер у него постепенно мужает, твердеет, закаляется. Кстати сказать, Маринич Власенкову все-таки полгодика принудки обеспечил: каждый месяц по пятнадцать процентов у Власенкова из зарплаты вычитают. Единственное, чего Маринич не смог одолеть, — Петра Никанорыча и Жору. Живут себе «молодцы», в ус не дуют. От любых законов пока благополучно уходят. Дружба с Мухалатовым у Маринича постепенно рассохлась.
Иван Иваныч Фендотов теперь увлекся подледным ловом рыбы. Достал какую-то заграничную обманку с вечным запахом и по воскресеньям таскает окуньков, на зависть другим рыбакам, прямо-таки сотнями. Дела на заводе по-прежнему идут успешно. Да, собственно, иначе и быть не должно. Все, что случилось здесь, никак не набрасывает тени на хозяйственные способности Ивана Иваныча.
Галина Викторовна Лапик немного пополнела…
Но это похоже на эпилог из романов Тургенева или Гончарова. А эпилога быть никак не может, пока тяжелая беда все еще висит над семьей Стрельцовых, над добрым именем Василия Алексеевича.
Именно потому я и написал эту книгу.
Я говорил уже вначале, как Маша мне помогала. Здесь я хочу еще раз подтвердить, что напрасно она себя прячет в тень, прикрывается подписью редактора. Ну, да это в ее духе. Мне ее не переспорить.
Когда все было готово и надо было решить, как поступить с рукописью дальше, я дал ее прочесть еще Тумарку Маркину и Шуре Королевой.
Тумарк мне сказал:
— Знаешь, Костя, все так, но ты в своей книге не отвечаешь на один щекотливый вопрос: как все это могло произойти на глазах у многих людей? Почему ни Горин, ни Жмурова, ни Лапик, ни даже Лидия Фроловна своевременно не разгадали Мухалатова и не поняли Василия Алексеевича?
А кто-нибудь может ответить на такой вопрос? Ведь любая житейская драма только тогда и разыгрывается, когда люди чего-то или кого-то не сумели вовремя «разгадать» и «понять».
— Допустим. Но почему бы тебе не изобразить эту историю именно так, что люди вовремя все разгадали и не позволили событиям принять столь драматический оборот? Тогда бы очень выиграла мысль о возможности предотвращения зла.
— Это очень мудро, — сказал я. — Собственно, так оно всегда и бывает. Но мы просто не замечаем тех событий, когда зло удастся пресечь в самом его начале. Это норма нашей жизни. А в истории со Стрельцовым зло уже нельзя предотвратить. Оно свершилось. И надо восстановить справедливость. Вот я и пишу о том, как создалась такая обстановка. И мне кажется, говоря почти твоими же словами, тогда очень выигрывает мысль о неизбежности торжества истины, торжества справедливости. А это тоже очень важно.
Тумарк пожал плечами:
— Не спорю. Хотя… Но вообще я бы все это переделал в пьесу. А еще лучше — в киносценарий. У тебя здесь мало описаний природы, портреты героев в деталях не вычерчены. Например, какой нос у Маринича? Или брови у Фендотова? Неизвестен рост Лидии Фроловны. А в театре, особенно в кино, все это превосходно дополнят режиссеры. Там тебе о носах и бровях заботиться нечего.
Шура Королева задумалась:
— Но в книге мысль автора могут усилить художники. Костя, ты попроси издательство, пусть позволят — это сделаю я! Под какой-нибудь вымышленной фамилией.
А Маша посоветовала так:
— Костя, независимо от всего этого, мне кажется, следует напечатать три лишних экземпляра рукописи. И пока в издательстве решают… Припомни, как мы ходили к начальнику пароходства Ивану Макаровичу, когда капитану грозила беда: человека несправедливо под суд отдавали.
Я понял все. Надо действовать, действовать!
Приехав в Москву, один экземпляр рукописи я положил на стол председателя госкомитета.
Секретарша не хотела меня пускать, все выспрашивала, но какому делу. Я ей сказал, что я родственник Федора Ильича, и тогда она тонким плоским ключиком открыла дверь.
— Прочитайте, — сказал я товарищу Горину.
И положил рукопись. Конечно, сперва я все-таки поздоровался и объяснил, как обманул секретаршу.
Он рассмеялся и спросил, почему он должен прочесть эту рукопись. И я повторил настойчиво, очень настойчиво:
— Прочитайте!
А чтобы он не подумал, что я какой-то авантюрист или графоман, я показал ему свои прежние книги. Федор Ильич больше не стал допытываться «почему», взял рукопись и засунул в портфель. Толстый, похожий на чемодан.
— Вы можете зайти через неделю?
И я ответил, что зайду.
Второй экземпляр рукописи я отдал секретарю райкома партии по месту нахождения экспериментального завода.
— Прочитайте!
Не дожидаясь вопросов, выложил перед ним свои книги.
— Любопытно, — сказал секретарь райкома. — С такими просьбами писатели пока ко мне не приходили. В Краснопресненском и во Фрунзенском районах, вот там, кажется…
— А я из Сибири, — сказал я.
— Да-а? Добро! — сказал секретарь райкома. И посмотрел на календарь. — Вы можете зайти через неделю?
Третий экземпляр рукописи я занес в Моссовет. Попал на прием к заместителю председателя. Он спросил меня, по какому делу к нему обращаюсь. Я сказал:
— По делу о выселении Петра Никанорыча Пахомова из Москвы, а также о привлечении к уголовной ответственности хулигана Жоры. Вот мое заявление, — и положил рукопись на стол.
Заместитель председателя засмеялся:
— Вы шутите?
— Нет, — сказал я, — не шучу. Один экземпляр этого заявления, правда в связи с другим вопросом, уже читает председатель госкомитета товарищ Горин…
— Горин?
— Да… А другой экземпляр читает секретарь райкома партии.
— А-а! Вот как! — сказал заместитель председателя Моссовета. — Оставьте. Но почему, такое толстое заявление? — Он хлопнул ладонью по рукописи.
— Потому что заявлением всего в один листик ничего не объяснишь.
— Хорошо. Зайдите через неделю.
В течение этой недели я успел сдать два зачета и схватить четверку на экзамене по физике. Профессор сказал, что по билету ответил я в общем очень и очень неплохо, пожалуй на «пять». Но он предварительно прочел все мои контрольные работы и убедился: я слишком свободно обращаюсь со словом, не хочу подчиняться некоторым грамматическим правилам, допускаю необоснованные инверсии, не всегда серьезен и так далее. А при этих условиях он просто обязан снизить мне балл. Так сказать, с воспитательной целью.
Я взял зачетку, печально посмотрел в нее — как объяснить Маше? — и сказал профессору, что примерно то же самое говорили мне и редакторы, но что иначе я писать не могу. Он удивился:
— При чем здесь редакторы? — Вдруг хлопнул себя по лбу: — Барбин, так вы же — писатель!
Выхватил у меня зачетку из рук и поправил четверку на тройку.
Через неделю я отправился собирать свои рукописи.
Получилось так, что первым принял меня заместитель председателя Моссовета.
— Выселили, уже выселили вашего Пахомова, поместили в больницу на принудительное лечение! — сделал он рукой победительный жест сразу, как только увидел меня. — А насчет Жоры… Тут, знаете, пока затруднение. Прямых свидетелей, кроме самих пострадавших, у вас в рукописи не названо. А с места работы этому Жоре дана вполне приличная характеристика.
— Значит? — спросил я без всякой надежды.
— Значит, — с некоторой надеждой ответил он.
Федор Ильич Горин долго в раздумье поглаживал рукопись. Потом развернул ее, посмотрел отдельные страницы, где у него были оставлены закладки.
— Скажите, это роман или правда? — наконец с прежней задумчивостью спросил он. — Вы дали мне это просто на отзыв или для принятия мер?
— Это и роман и правда, — сказал я. — А остальное решайте сами.
— О романе пусть отзываются критики, я не специалист, — сказал Горин. — А что касается правды… Я ошеломлен. Когда я читал, я многое угадывал, хотя вы тут, кажется, заменили все имена и фамилии. Правда как таковая до чтения вашей рукописи мне представлялась совсем по-другому. Например, о назначении Василия Алексеевича рядовым инженером мне докладывали иначе. Говорили, что решено поберечь его после болезни.
— Потому я и принес вам эту рукопись.
Горин снова задумался.
— Тот, кого вы назвали Стрельцовым, мог бы прийти ко мне и все по-товарищески рассказать.
— Нет, Федор Ильич, он не смог бы. Такой у него характер. Да и сам предмет разговора требует особой обстановки. А у вас не нашлось бы служебного времени терпеливо слушать его несколько часов подряд. Телефон. И прочее. Вы стали бы перебивать Стрельцова вопросами, как это делала Елена Даниловна, и вам тоже истина не открылась бы. Вы и меня не выслушали бы. А вот рукопись, книгу, как роман, вы прочитали. И теперь знаете то, чего вам ни за что на свете не сказал бы Василий Алексеевич.
— Да, да… Вот оно, рыцарство, как против него обернулось. Попал в Дон-Кихоты. Хотя вообще-то Дон-Кихот был все-таки далеко не плохой человек.
— И такие понятия, как рыцарство, благородство, особенно в вопросах, касающихся женской чести, нам выбрасывать из современной жизни не следует. Эти понятия — вечные.
— Да, конечно, — еще подумав, сказал Горин. — «Разве так уж плохи трепетные вздохи?» И Василия Алексеевича сейчас я очень хорошо понимаю. Но все же, если бы он тогда пришел ко мне, все могло бы сложиться иначе. Говорили по телефону… И у меня ведь было предчувствие…
— Так не рано ли вы сами тогда положили телефонную трубку? Положили, чувствуя нечто неладное в ответах Василия Алексеевича.
— Да, да, но это было так тонко… А Стрельцов мог бы и грохнуть по столу кулаком, проявить свой характер, он ведь есть у него. Впрочем, теперь-то я понимаю: действительно, не мог он грохнуть. И мне следовало не по телефону начать такой разговор.
— Вот это правильно!
— Ну что же, твердо могу вам обещать: лично сам все исследую доскональнейшим образом и меры приму. Решительные меры приму! Куда вам сообщить о результатах?
— Никуда. Важно, чтобы справедливость была восстановлена.
— Будет восстановлена! Даю вам слово. — Прощаясь, Горин добавил: — Рукопись вашу прочла и Елена Даниловна. Она тоже потрясена. Она была введена в ужаснейшее заблуждение и теперь не может себе этого простить. Сегодня мы вместе с ней едем на квартиру к Василию Алексеевичу.
Секретарь райкома партии начал с упреков.
— Ну что же ты; Барбин! — тут же перейдя на доверительное «ты», сказал он. — Что же ты, ушел — и потерялся! По всем гостиницам тебя искали.
— Так вы же сами назначили мне срок: через неделю! А живу я в студенческом общежитии МИСИ.
— Вот тебе на! И как я не подумал? А рукопись твою за две ночи я прочитал. Ты понимаешь, история-то, оказывается, мне очень знакомая. Ну как же! Внезапное исчезновение из дому дочки Стрельцова, между прочим отличной журналистки, очевидно связанный с этим инфаркт у отца ее — на заводе заговорили. Маринич выступал на партсобрании против Мухалатова. И Лидия Фроловна тоже. Но вышло как-то глухо все это, самой сердцевинки в деле не хватило, чтобы истину полностью открыть. А она, сердцевинка-то, оказывается, была в самом Василии Алексеевиче, в его нравственных принципах. Без нее как разгадать? Но после выхода его из больницы я с ним сам разговаривал. Дружески, хорошо говорили, однако на некоторые вопросы мои — понимаешь? — он все же отмалчивался. А у меня проницательности не хватило. Беспокойство, впрочем, осталось. Как тебе удалось вызвать его на откровенность?
— Удалось. Раньше дружили. И в больнице я его навещал.
Секретарь райкома встал, прошелся по комнате.
— Да! Конечно, со временем мы тоже до истины добрались бы, — сказал он, — что называется, «закрыть» это дело никак нельзя. Но ты нам сейчас очень помог своей рукописью. — И вздохнул досадливо: — Привыкли мы как-то любые сложности жизни решать на публике! На собрании, на заседании. И это, конечно, в общем-то правильно. Ан все же есть иногда и такое, что человек открыть публично не может. А тут жмут свое: не хочешь сказать, значит, и сказать тебе нечего, — следующий! Вот и случай этот конкретный, со Стрельцовым, — болью душу у него так захватило, что по обстановке правильного решения быстро он не нашел. А никто этого не заметил. И завертелось колесо… Ладно! Давай садись, и будем уточнять…
Маше я отправил телеграмму в тот же вечер: «Со Стрельцовым все идет как надо зпт по литературе тройка тчк Целую Костя».
Утром я получил ответ: «Костя что за шутки зпт по литературе втором курсе технических вузах экзаменов не сдают тчк Что это значит как это получилось тчк Но не волнуйся зпт главное Стрельцов тчк Поздравляю Маша».
Потом я долго бродил по вечерним улицам, взобрался на Ленинские горы, где перед лицом Москвы принесли свою клятву Герцен и Огарев, и все думал, думал.
Вот она, сила печатного слова, сила книги. Иного хама, дубоватого, вроде Ильи Шахворостова, отличным образом и барбинский кулак приводит в норму. Попробуй этаким образом одолеть хама тонкого, хитрого. Да такого еще, который и сам убежден, что живет он правильнее всех других. Подыми на таких голос — гляди еще, тут же найдутся защитники. А что, дескать? Что тут такого? Ничего особенного. Такова жизнь!
Нет, слушай, Костя, ты хорошо знаешь матросскую речную службу, ты научился работать в кессонах, строить мосты, ты вот уже студент строительного института — и ты, Барбин, писатель. Пусть не включенный ни в какие справочники, энциклопедии, хрестоматии. Но все равно, тебе дана огромнейшая сила печатного слова, и ты умей распорядиться ею, как ты умеешь одним рывком захлестывать канат на кнехте, как ты умеешь подрубать отбойным молотком в кессоне любую скалу. Силой печатного слова умей сшибить с ног негодяя и поддержать хорошего человека.
Не допусти только, чтобы даже и нечаянно как-то, а получилось наоборот. Припомни, как наставлял отец Илью Муромца перед ратным выездом: «Я на добрые дела благословенье дам, а на худые дела благословенья нет. Поедешь ты путем и дорогою, не помысли злом на татарина, не убей в чисты;´м поле крестьянина».
Илья честно выполнил отцовский завет. Победил в открытом бою Соловья-разбойника, Идолище поганое, Калина-царя. И не тронул, не обидел ни разу доброго человека.
В писательском деле тоже так. И только надо знать точно, уметь определить, кто друг, кто враг, кто добрый человек, кто злой. Нельзя полуубить врага, нельзя полуспасать друга. И нельзя выходить на ратное поле, только лишь ненавидя и никого не любя.
Вот ты, Барбин, заварил сейчас новую кашу. А вдруг ты ошибся? И вдруг, кого ты поднял в своей книге на щит, читатель, народ не примет? И вдруг, кого ты осудил, читатель прямо-таки каменной стеной поддержит, подопрет? Слушай, Костя, это очень серьезная проверка тебе! Это еще один экзамен по литературе. И это тебе не в связи с контрольными работами по физике — это контрольная работа по жизни. Здесь тройка — все равно что единица.
За спиной у меня высилась сияющая огнями скала Московского университета — символ учености, молодости и вечных благородных стремлений. Как море, вся Москва, рабочая, трудовая и тоже в огнях, лежала передо мною. Если бы мгновенно смог я охватить взглядом и всю страну родную — я тоже увидел бы огни, огни… Свет, созданный человеком, свет, побеждающий ночь.
И этот свет, пока жива земля, пока жив на земле Человек, никогда не погаснет!
Здόрово!
1966
Послесловие автора
Как-то понадобилось мне сфотографироваться, сделать художественный поясной портрет. Жил я тогда уже около четверти века в ставшем по-особому мне родным Красноярске. Фотографическая мастерская, способная отлично выполнить такой заказ, на примете была одна. Более того, в ней и работал всего-то один великолепный умелец, к которому даже создавалась своеобразная очередь. Мастер, надо сказать, человек достаточно образованный, в особенности по своей профессии, выписывая квитанцию, заметил:
— Редкая у вас фамилия. Но, впрочем, не помню где, а как будто бы мне она попадалась. Не подскажете?
Я молча пожал плечами.
Хлопоча с установкой света и усаживая меня в наиболее выгодную позу, фотограф между тем приговаривал:
— Вам, вероятно, уже лет под пятьдесят, а мне хочется скинуть вам, даже если без ретуши, хотя бы годков пять, ну, с ретушью сниму и весь десяток. Каждому ведь хочется выглядеть помоложе. Покрасивее. Поинтереснее.
Мне действительно приближалось пятьдесят, но я не стремился искусственно выглядеть ни моложе, ни красивее, ни интереснее, и сказал об этом фотографу. Тот сокрушенно вздохнул и заметил:
— Тогда зачем вы добивались, чтобы портрет обязательно сделал я?
Я наговорил ему множество комплиментов в том смысле, что он хорошо умеет схватывать в лице живое движение мысли и это, мол, для меня самое главное. На этом мы и расстались.
Получилось так, что за своим заказом я почему-то явился с очень большим пропуском назначенного срока. Фотограф долго рылся в ящике с готовыми работами и все повторял мою фамилию. Потом вдруг хлопнул себя ладонью по лбу:
— Вспомнил, вспомнил — редкая фамилия! А вы знаете, что под вашей фамилией не так-то давно какой-то молодой матросик — не читали? — о себе книжку написал. Разве так допускается, называться чужим именем? Или это ваш однофамилец?
— А вам не подумалось, что эту книгу именно я написал?
Он иронически смерил меня взглядом с ног до головы.
— Ну какой же из вас, хоть сейчас, хоть и раньше, матрос? Я тысячи людей фотографировал и сразу вижу, кто чем дышит.
— Чем же я дышу?
Фотограф особенно пристально посмотрел на мои руки, на слегка сутулящуюся спину и лысинку.
— Не сказал бы, что из большого начальства, — нету у вас в лице этого, — а так что-нибудь вроде бухгалтера.
Он прямо под корень срезал меня этими словами. Возразить было нечего. Среди многих моих профессий, которыми приходилось за пятьдесят лет мне заниматься, была и такая. И не малое время. Но, между прочим, и в роли достаточно «большого начальства».
— Что верно, то верно, — сказал я.
— А вы почитайте все-таки эту книжку, помнится, «Горный ветер» она называется, и поищите молодого матросика, — посоветовал фотограф, вручая мне пакет со снимком, который он наконец отыскал. — Может быть, за вашу фамилию, что он обозначил на книжке, и вам что-нибудь причитается?..
Молодежь, ее жизнь, мечты, стремления — одна из наиболее любимых мною тем. Как всегда это бывает, после публикации очередной новой книги писатель получает множество писем. Но вот диво, даже тогда, когда этакая «молодежная» книга мною ведется не от первого лица, читатели, дотоле знакомые с моими романами, написанными в расчете, что называется, на старшее поколение, тем не менее считают меня явным ровесником молодых книжных героев. Так, впрямую, иной раз ко мне и обращаются. Чему я, кстати, и рад. Право же, совсем неплохо для самого себя как можно дольше не чувствовать наступления душевной усталости.
Не менее лестно, когда читая, в тебе узнают своего коллегу по работе. Насчет профессии бухгалтера я уже говорил. Но помимо того я был и охотником и рыбаком (не спортсменом-любителем, а добывая единственно этим средства к существованию), гнал смолу, деготь, рубил и сплавлял лес, мастерил телеги и сани, а позже стал и столяром-краснодеревщиком. Могу сшить любую одежду, — разумеется не по последнему крику моды, — умею тачать сапоги, ковать железо, исправить любой электрический прибор и починить самый хитро устроенный замок. Есть такая, немного лукавая русская поговорка: «нужда заставит калачи есть». Пшеничные калачи, разумеется, штука очень вкусная, но тут весь вкус, вся изюминка в тонкой иронии — «нужда всему научит».
Она, нужда житейская, всему этому меня и научила. Нужда не в смысле крайней нищеты, я никогда не голодал и не ходил в рубище, но было известное всем время трудных первых лет революции и оставленной ей в наследство тяжкой военной разрухи. Многих промышленных товаров попросту не хватало. Вот мы, жители глухих сибирских таежных поселков, и приспосабливались тогда к обстановке как могли. Выменивали у железнодорожников на дичь или рыбу свинцовые вагонные пломбы, рубили на мелкие ровные кубики, а потом обкатывали их на сковороде. Получалась вполне приличная картечь и дробь. Из спичечных головок ухитрялись делать пистоны, которые порой после спуска курка довольно долго шипели, прежде чем их огонек воспламенял порох в патроне. Стрелять при таких, мягко говоря, странностях самодельных пистонов можно было только в спокойно сидящую птицу. На крупного зверя ходить было опасно.
Смолу и деготь в специальных ямах — «корчагах» гнали не для собственных нужд. Много ли надо смолы, чтобы раз в год покрыть ею самодельную лодку-долбленку? И много ли надо дегтя, чтобы подмазать телегу, а еще — мазать им лицо, спасаясь от таежного гнуса. Смола и деготь были нашей «валютой», на нее мы покупали, точнее, тоже, как и пломбы у железнодорожников, выменивали муку в ближних земледельческих селах. В нашем таежном поселке сеять хлеб было негде.
Телеги, сани, дуги и прочие изделия крестьянского обихода находили в тех же селах устойчивый сбыт. А вот обучиться этому делу было не просто. Во-первых, не было «учителей», а во-вторых, таежная береза, как ее ни распаривай, плохо гнется, чаще в самый последний момент, когда ты готов торжествовать победу, загнув санный полоз до положенной отметки, — он с треском ломается.
И если случится счастливая возможность раздобыть несколько метров «мануфактуры» на штаны или рубашку, кто тебе их сошьет? Берись сам за ножницы и иглу с ниткой. Настрелял диких коз. Сам выделал шкуры, сам же из этих шкур и доху себе сшил. А из «камусов», — шкурок, снятых с козьих ног, — отличные шапки и унты (сапоги меховые) получаются. Раз испортил, два испортил, а на третий раз — залюбуешься.
Рыбалка с острогой в те времена браконьерством еще не считалась, а ленка или тайменя, этак пуда на полтора, чем возьмешь в горной реке осенью кроме «луча»? И кто тебе скует хорошую острогу? Доставай, значит, где-нибудь стальной прут, раздувай огонь в самодельном горне и стучи молотком. Сваривать, закалять сталь — наука. Но после семи потов и разбитых на руках пальцев она дается не трудно.
Обо всем этом я сейчас вспоминаю с истинным удовольствием. С сыновней признательностью к матери-тайге, наставнице и воспитательнице. Быть смекалистым, находить ловкий выход из самого трудного положения, это, право, в жизни всегда пригодится. Но особенно, когда ты оказываешься в одиночку лицом к лицу с безграничной сибирской тайгой.
Итак, я сибиряк по рождению и таежник с детских лет. Мои дед, спасаясь от безземелья, пришел из центральной России, точнее, из Тамбовской губернии, в числе рабочих, прокладывавших Великий железнодорожный путь, что прорезает ныне с запада на восток всю Сибирь и Забайкалье до берегов Тихого океана.
Осела тогда на жительство наша семья на станции Омск, ныне одном из крупнейших промышленных городов, а тогда имевшем значение лишь как железнодорожный узел с главными ремонтными, мастерскими. Этот давний Омск предстает теперь передо мной лишь как далекое видение с ребячьими забавами. Бумажные кораблики в дождевых лужах, игра на пустырях в лапту и в «чижика»…
Отец мой унаследовал профессию деда, тоже стал железнодорожником. Но уже не строителем, а эксплуатационником. Проще сказать, сцепщиком поездов, осмотрщиком вагонов, проводником, кондуктором. А позже — все-таки в детстве закончил он церковноприходскую школу — и табельщиком, конторщиком в депо.
Но степной пыльный Омск, — вспоминаю высокие черные вихри над городом, — сгубил его здоровье. Он заболел туберкулезом. В тяжелой форме. И это совпало с контрреволюционным мятежом в Сибири, с захватом власти Колчаком. А отец был активистом омского совдепа, начальником одной из рабочих дружин по охране спокойствия в городе. Значился в списках и стало быть…
Спешно пришлось покидать Омск. Но — куда? Вдобавок, и с кровохарканьем. Знакомый умный фельдшер посоветовал: в тайгу.
И вот мы забрались в отроги Восточного Саяна, поблизости от Нижнеудинска, в поселок всего из четырех дворов. Жить надо тем, что подарит тебе природа или ты сам своей сноровкой и силой сумеешь добыть у нее.
Отец — лежачий больной. Мне десять лет, а старшему брату Мише двенадцать. У матери домашних забот по горло. И мы с Мишей разделили обязанности. За ним огород, — в тайге овощи росли хорошо, — топливо на зиму, сено для коровы, а за мной — ружье, сети, охотничий промысел. Что-то из этого, конечно, делали и вдвоем.
Ружье — старая одноствольная берданка. Первый выстрел своей отдачей в плечо чуть не свалил меня с ног. А потом ничего, приспособился, стал настоящим таежным бродягой. И охотником добычливым и удачливым.
Мне та трудная жизнь никогда не была в тягость. Для городского мальчишки романтика, что ли, черт подери? Да, пожалуй, и романтика! Такая, что настраивает человека на свой лад уже до конца дней его.
Помнится, у Джека Лондона есть такой эпиграф к одному из его сборников рассказов: «К северу от 55 параллели нет ни божеских, ни человеческих законов». Не вступаю в спор с великим знатоком «белого безмолвия». Его земля другая, эпоха была другая, и другие страсти там владели людьми. Сибирь наша почти вся — «к северу от 55 параллели», и я утверждаю, что законы сибирской тайги самые божеские и самые человеческие. Больше того, величайшего, какое только можно представить, товарищества. Сибирскому охотнику, сколь ни богата у него была бы добыча за плечами, никогда такой же охотник не всадит в спину пулю из шестизарядного кольта, чтобы воспользоваться его успехом. Уголовники, «варнаки», всюду не в счет. Тяжело заболевшего товарища друг вытащит на себе из любой далекой тайги. А погибнуть случится на трудном пути — так вместе. И нет в тайге такого зимовья — срубленной на всякий случай и бог весть кем избушки — где не лежал бы обязательный запас сухого топлива и какой-нибудь пищи, чтобы заблудившийся человек мог там поесть и отогреться.
С одиннадцати лет, и даже очень часто в одиночку, шатаясь с ружьем за плечами по отрогам Саян в поисках добычи, я привык именно к этому «закону тайги» и знал, что тайга — она всегда и добрая и щедрая. Бояться в ней абсолютно нечего, кроме собственной несмышленности. Ну, конечно, меня кое-чему подучивали старшие наставники, обитатели трех остальных дворов в нашем поселке, вековечные таежники, но самым верным учителем оставалась все-таки житейская практика, ибо именно она-то обычно и задавала такие премудрые задачи, решение которых заранее никак не предусмотришь. И я не знаю как, посредством какого метода, руководствуясь какими признаками, но я достаточно свободно выберусь к жилью из самой дикой глухомани, опусти туда меня хоть на парашюте с завязанными глазами — так, интуитивно, летят птицы весной из теплых стран к своим северным гнездовьям — и в то же время очень просто могу запутаться в коридорах сложно построенного здания, либо в кривых улицах большого города.
Я не испытывал ни малейшего чувства страха, ночуя в тайге один, там, где захватила темнота. И чего было бояться, если за опояской топор, а за пазухой коробок спичек? Значит, обеспечен костер, а разжечь его, умеючи, и в дождь и в снежную метель, не столь уж хитро. Будет тепло. Да к тому же есть и такие способы сооружать костры, «нодьи», что возле них можно преспокойно проспать всю ночь напролет, не вставая, чтобы подбросить топливо. Дикий зверь к огню не приблизится, а человек подойдет к тебе в тайге — это друг. Пищу себе, захочешь до смерти есть, так или иначе — тоже добудешь. Понятно, не всегда отменно вкусную и сытную, но все-таки пищу.
Вот на этом: на любви и доверии к щедрой и доброй природе, если ты и сам к ней добр, на незыблемых законах товарищества там, где одному порой не справиться без поддержки другого, я и вырос. Привык любоваться восходами и закатами солнца, сонным бормотаньем лесных ручейков, доверчивым перекликом ранних птиц; чувствовать себя этаким непобедимым героем, когда вокруг тебя с треском валятся сломанные ураганом деревья; или пыша драконовым пламенем, охватывает тебя со всех сторон лесной пожар; или вышедшая из берегов горная река грозит смыть, утащить твою лодчонку, единственное спасенье; или когда черная — да, да иной ее не назовешь! — столь мрачная и плотная пурга тебя сбивает с ног, и кажется в ее безумной круговерти, что вот всему уже приходит конец.
Привык я с той поры в людях тайги — и вообще в людях — видеть главным образом светлое, чистое, как бы упругую и настойчиво тянущуюся вверх ветвь могучего дерева жизни.
О таежниках иногда ходят легенды, что это люди какой-то особой породы, что, дескать, они физически неимоверно сильны, выносливы, а что касается морозов — так и за полсотни градусов ниже нуля им нипочем. Все это так и не так. Уже говорил я, что сама обстановка заставляет человека к ней приспосабливаться. Будешь много ходить по горам, да глубоким снегам, да среди непролазной чащи и бурелома, да таскать на горбу, допустим, мешки с добытым кедровым орехом, обязательно станешь и сильнее и выносливее. И несказанную радость мускульную будешь при этом чувствовать. А что касается невосприимчивости к морозам, тут, конечно, сказывается определенная закалка, коли ты каждый день зимой все на морозе да на морозе; но, между прочим, умение одеться — дело тоже далеко не последнее. К этому я добавил бы еще и другое: таежник знает — с морозом шутки плохи, и когда хочешь не хочешь, а надо из теплой избы надолго уходить в палящий мороз, у него и сознание и подсознание по-особому готовятся к трудной борьбе с беспощадной стихией. И победа остается за ним. Как за всяким борцом, верящим в свою ловкость, силу и хорошо знающим наиболее коварные приемы противника.
Есть и еще одна своеобразная черта в характере исконного сибиряка. Не обязательно и таежного жителя. У него для всего какие-то «уплотненные», что ли, масштабы. Расстояние в тысячу километров — «по соседству». Недельный пеший путь по безлюдным местам — ну и что здесь особенного? Надо так надо. И когда ему прямо-таки в кровь с молоком матери впиталось представление о могучести земли сибирской: разливах зеленой тайги, многоводности северных рек, бесконечности горных хребтов, неоглядности ягельной тундры, обильной стадами оленей и голубыми песцами; тундры, размахнувшейся чуть не на половину земного шара вдоль побережья Ледовитого океана, — он уже невольно и самого себя, дела, к которым призван велением совести, оценивает такой же крупной мерой.
Одним словом, сибиряк любит размах. Просторы. Для мысли и для практического ее воплощения. А трудности… Человек все может!
Но это все я рассказал, чтобы объяснить приподнято романтический склад, как в описаниях сибирской природы, так и в характеристиках личных свойств героев моих повестей. Влюблены они в родной край без памяти. Вместе с ними и я. А влюбленным многое прощается.
И еще потому все это я рассказал, что, на мой взгляд, нет биографии книги без биографии ее автора. Так или иначе, а в каждом своем произведении писатель в какой-то доле как бы растворяет себя. В одном случае, вкрапляя в книгу происшествия, личным участником которых был он сам, в другом случае — свою философию, свои взгляды на жизнь, свои критерии по отношению к тем или иным нравственным нормам, бытующим в обществе. Ведь он не простой регистратор, архивариус, вкладывающий листы текущей жизни людей в свои рукописи. Он осознанно или неосознанно, а непременно стремится привить собственные мысли и взгляды читателю, стать его духовным наставником, воспитателем. Иначе в чем же общественный смысл писательского труда? Нельзя же литературу ставить, допустим, в один ряд с игрой в карты, которая тоже способна захватить человека, но, увы, лишь натянуть его нервы, увести за собой в мир коварных иллюзий. И может быть, сделать сразу богатым. Впрочем, и разорить дотла.
Мое увлечение литературным трудом — не просто новая профессия, а духовная потребность рассказать читателю через образный строй своих книг о том, что меня самого охватывает или радостным волнением или глубокой тревогой.
Не отрицаю возможности создания писателем правдивых, психологически убедительных, захватывающих своим драматизмом книг, при этом оставаясь прилежным сидельцем в кабинете за писательским столом и конструирующим романы лишь силой воображения да еще из той информации, которая, как воздух, незаметно проникает к нему сквозь стены. Таких примеров более чем достаточно, и очень достойных примеров, без малейшей иронии вызывающих мое искреннее восхищение. Ведь дело не в методе, не в системе работы, а в ее конечных результатах.
Но есть и другая категория литераторов, которая, как рыба, вытащенная из воды на берег, задыхается, если теряет прямое соприкосновение с жизнью, если не видит своих героев, не разговаривает с ними, не угадывает ход их мыслей, подталкивающих к действию. К этой категории принадлежу я, не зная — хорошо это или плохо. Для самого писателя и для читателей. Во всяком случае, лично мне это создает дополнительные профессиональные трудности. Расставшись со своими скитаниями по саянской тайге в поисках хорошей добычи, я теперь, аллегорически, все равно продолжаю свои скитания. По житейским горам, обрывам и перевалам, в сиянии солнечных дней и в слякотной мерзости. Ищу добычу.
Но есть такая пословица: на ловца и зверь бежит. Мой «зверь» ходит вокруг меня пока еще большими табунами. Поиск не труден. Это жизненные впечатления и наблюдения, отложившиеся в сознании, в памяти, в душе столь мощным пластом, что много времени еще понадобится мне, чтобы его разработать.
Теперь хочется объяснить, почему меня не только фотограф спутал с молодым матросиком, но собственно и я сам не очень-то хотел бы отказаться от столь привлекательного для меня профессионального сходства.
Дело в том, что уже после того, как я прекратил заниматься чисто охотничьими и лесными промыслами и судьба из глухой тайги меня снова вытащила в город и превратила сперва в столяра-краснодеревщика, а после службы в Красной Армии в бухгалтера, я поселился опять-таки на реке. С тех пор и навсегда для меня самой любимейшей — на реке Енисее. Стал служащим крупнейшего по тем временам в Сибири лесопромышленного и лесоэкспортного треста, владения которого захватывали часть Иркутской области, весь север Красноярского края и все притоки Енисея, включая Ангару и Тунгуски — Подкаменную и Нижнюю. Не говорю уже о малых реках и справа и слева. Управление треста находилось тогда в Енисейске, а ныне всемирно известную Игарку, ее лесопильный комбинат и морские причалы начинал строить именно наш трест. И я как раз оказался «финансовым богом и контролером» этого строительства, И вообще всего строительства лесопромышленных предприятий на Енисее и Ангаре.
А коль так, и тайга и сплавные водные артерии, плоты, пароходы, баржи и, главное, люди, трудом своим связанные со всем этим, — снова остро вошли в мою душу. Вернее, и не покидали ее, только теперь предстали в ином живописном цветении.
Кстати, и еще об Игарке. О тех ее начальных днях, когда там над бескрайной тундрой летом стоял неумолчный комариный звон, и немногочисленные деревянные домики — балки — словно бы плавали на болоте, густо затянутом жирной троелисткой. Смешно вспомнить теперь, как я был напуган дуплетом из двухстволки, ночью, во время крепкого сна, прогремевшим над моим ухом, как я вскочил, озирая маленькую комнатку, наполненную синим пороховым дымом, который медленно вытягивался в распахнутое окно. Солнце било прямо в глаза, а начальник строительства Игарского комбината Евгений Николаевич Деспотули, у которого в балке я нашел себе приют, стоял в одних трусах и счастливо улыбался. Оказывается, своим дуплетом он подстрелил сразу пять крякв из большого табунка, усевшегося кормиться на тундровое озерцо под окном его балка. Насчет же ночного солнца я не обмолвился, в конце июня на широте Игарки оно не заходит за горизонт.
Такими экзотическими эпизодами вообще изобиловала моя служба в лесной промышленности. Она, эта служба, не только способствовала бесчисленным поездкам по отдаленнейшим местам лесозаготовок и сплава — она меня неумолимо, в силу самой профессии, обязывала к этому. И когда наступал обычный мой отпуск, меня опять-таки тянуло не в столицу и не на ласкающе теплое Черное море, а в тайгу; да в тайгу, куда поглуше, да по Енисею вплоть до устья, где еще за семьсот километров до впадения в Карское море он совершенно теряет свои берега, разливаясь необозримо.
Сколько раз и сколько десятков тысяч километров я проплыл по Енисею и по таким его могучим притокам, как Ангара, известная теперь всесветно своей первой в Енисейско-Ангарском каскаде грандиозной Братской гидроэлектростанцией — не ведаю. Могу сказать, что судовые и плотовые хода этих рек я знаю не хуже любого «речного волка» и поставь меня к штурвалу, по памяти проведу пароход вдоль всей реки, не заглядывая в лоцию, до того знакомы мне все пороги, опасные перекаты, отмели и крутые излучины с вонзившимися в них острыми утесами.
И хотя на пароходах, как и все, именовался я пассажиром, но терпеть не мог валяться на мягкой постели в каюте, а все время проводил на палубе, толкаясь среди народа, вслушиваясь, о чем толкуют люди между собой; либо спускался в машинное отделение, где неутомимо пощелкивали горячие поршни двигателей, а механики в промасленных спецовках наблюдали за их работой; либо поднимался в стеклянную рубку с пугающей надписью «Вход посторонним строго воспрещен» и с разрешения капитана на какое-то время становился к рулевому колесу. Словом, на деле был абсолютно своим человеком, незаметно для всех членов экипажа от матроса до капитана входил в их жизнь, а они, не подозревая этого, постепенно становились персонажами моих книг. Сперва в писательском сознании, а потом и на страницах рукописей. И мне нравится писать именно так, все рисуя с подлинной натуры, и только кое-что добавляя для заострения сюжета, без чего читать книги бывает скучно, как бывает невкусным хлебать суп без соли, добавки перчика, лаврового листа и других ароматных приправ.
Так возник перед моим писательским взором Костя Барбин. Но не как уникум среди товарищей по работе, а наоборот, как органическое соединение наиболее свойственных каждому речнику особенностей характера. Ну, а жизненный путь Кости Барбина, записанный мною в этих трех повестях, — жизненный путь Барбина, мне думается, также вполне обычен и типичен для нашей молодежи. Думается, не удивит моих читателей и тот стремительный прыжок, что сделал Костя Барбин в своем развитии от первых страниц к последним страницам книги, — из чуточку озорного, малоопытного матросика он стал студентом-заочником строительного института да к тому же еще и пробующим силы в литературе. Объясняется это, с одной стороны, именно тем, что подобные «прыжки» совсем не диво для современной молодежи, скорее, правило, а с другой стороны — писателю все-таки больше пристало звать вступающего в самостоятельную жизнь молодого человека вот к таким целеустремленным прыжкам, чем к тоскливому и бесцельному шатанию в ожидании неведомо чего.
Для ясности. «Барбинские повести», по календарю, отнюдь не начало моего писательского пути. Начинал я доверительным разговором с читателями об Алексее и Катюше Худоноговых, разговором впоследствии образовавшем «роман в рассказах» — «Каменный фундамент». В ряд с ним сложились повести «По чунским порогам» и «Журавли улетают на юг». Все это — тоже о молодости, о той зоревой поре человеческой, когда, что называется, при перемене погоды косточки еще не мозжат и потому пишется с особо веселым придыханием; об очень серьезном, не поверхностном — и очень серьезно! — а все же пока не сдвигая кожу на лбу в глубокие складки. Тем более, что все это писалось от непосредственного восприятия жизни, и чаще — от прямого участия в ней.
Помню, к примеру, как сплавная бригада, сплошь состоявшая из девушек и женщин, при лоцмане-старике, провела огромный плот из Богучан до Игарки, не потеряв ни одного бревна. А это была поздняя осень, со штормовыми валами на Енисее, в низовьях подобному морю. Не хватало буксирных пароходов, девушки направляли плот реями и тяжелыми волокушными цепями. По опасной реке они проделали путь почти в две тысячи километров. Навстречу им, спасаясь от холодов, летели журавли, а девушки с плотом, сквозь леденящие дожди и снежные метели, упрямо пробивались на север. Мне самому довелось проплыть на этом плоту. И я написал повесть «Журавли улетают на юг». Вряд ли я сумел бы ее выдумать.
И герои «Каменного фундамента» в человеческой основе своей тоже не вымышлены. Как не вымышлена и драма со спасением замороженного леса и «замороженной» души Марии Баженовой в романе «Ледяной клад».
Иногда меня спрашивают: почему я от жгучих проблем современности порой удаляюсь в историю. Но, во-первых, рубежи XIX–XX веков не древняя история, это история революции, положившей начало Советскому государству, а мы не «Иваны не помнящие родства»; и во-вторых, — многое в нашей действительности имеет вполне живые, свежие корни, питающие нас светлой героикой тех времен. Трехтомный роман «Хребты Саянские», которому я посвятил восемнадцать лет творческого труда, и на параллелях с которым написана добрая половина других моих книг, это разрез и по вертикали и по горизонтали всех социальных слоев общества в годы прокладки Великого сибирского железнодорожного пути, зарождения подпольных марксистских кружков, первой русской революции и жестокого ее подавления карательными экспедициями Ренненкампфа и Меллера-Закомельского. Как об этом забыть? Как не рассказать современному молодому читателю?
«Философский камень» — падение колчаковщины в Сибири и последующее развитие страны до начала событий в Испании, призвавших на помощь людей доброй воли со всех концов земли. Разве без глубокого знания той поры нынешним поколениям проще понять полосу тяжких испытаний, когда советская держава вынуждена была грудью принять удар фашистских полчищ? Мне «Философский камень», в работе над ним, виделся как необходимое звено, соединяющее наши дни с эпохой наших отцов.
В 1977 году исполнилось 100 лет со дня рождения пламенного революционера И. Ф. Дубровинского, обелиск на могиле которого высоко чтим красноярцами, как и улица, названная в честь его брата — Якова, первого председателя городского Совета. Годы, годы… А ведь жива и не может — не должна! — утратиться добрая память о них. О всех, кто тогда, сквозь черные тучи самодержавного гнета, нависшего над Россией, угадывал светлое будущее родной земли. Отступление ли это от современности в неподвижные холодные пласты далекой истории? Или это ее живое, горячее дыхание, ее чеканный, звонкий шаг, отдающийся и сейчас на брусчатке Красной площади?
Историко-революционная тематика в художественной литературе разработана основательно. Хорошо разработана. Но в ней постепенно стали выделяться две вариации творческого решения. Первая, с определенным оттенком авантюрности, приключенчества, когда с особым нажимом описываются приемы конспирации, тайные встречи, полицейские слежки, облавы, аресты, допросы, тюрьмы и побеги из тюрем. Вторая вариация — стремление создать обязательное и полное классовое «представительство», стремление к живописанию быта. И то и другое вполне закономерно, это именно те кирпичи, из которых и было построено здание революции.
Но есть в этом и грозная опасность повторения, как известно, не двигающая искусство к новым вершинам. И если из книги в книгу читатель встречается с похожими одна на другую жизненными ситуациями, у него теряется интерес к чтению. Не тешу себя надеждами, что мне традиционные «кирпичи» удалось заменить железобетоном, стеклом и алюминием, да я и не желаю этого, но все же в романе «А ты гори, звезда» я решительно выдвинул на первое место не описание быта или подробностей конспирации и сопряженных с нею подвигов и приключений, а политическую борьбу. Она — главный герой. Иными словами, И. Ф. Дубровинский в революции — это как бы часть жизни всей партии.
Да, эти три романа, конечно, историчны. Но помимо социально-общественных коллизий, которые в них исследованы, они ведь о живых людях, с их богатым внутренним миром, с их повседневными радостями и печалями. Среди этих людей, как и во все времена, встречались самые разные, однако тут уж мой собственный характер, что ли, таков, что я в свои любимцы избирал лишь тех, кто светел, молод душой и уверенно смотрит в будущее.
С ними — ушедшими в историю и с нашими современниками — как-то и самому хочется долго быть молодым. Морщины на лице, седину в волосах и прочие признаки неизбежной старости, конечно, никуда не денешь. И кокетничать со всеизменяющим временем бесполезно и глупо. Но по возможности долго жить молодо, то есть так, чтобы тебе всегда удавалось хорошо понимать молодых, и столь же хорошо понимало бы тебя идущее вослед нашему времени новое поколение, — вот в чем счастье работающего человека. А писателя — в особенности.
Себя я считаю счастливым.
Такого же счастья желаю и читателям. Оно ведь, вообще-то говоря в собственных руках каждого. Умей только не оттолкнуть его.
С. Сартаков

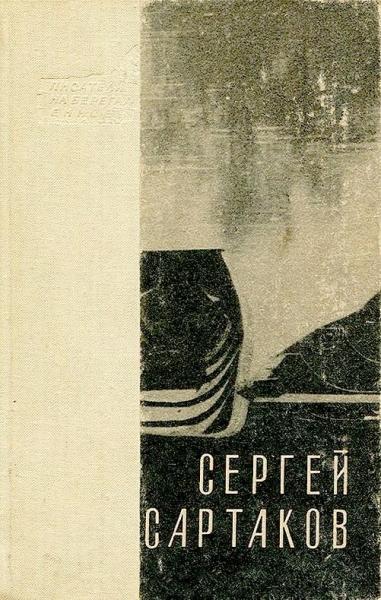


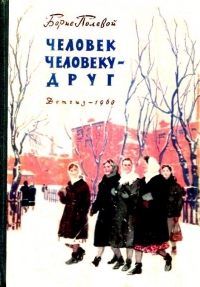
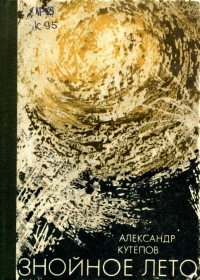
Комментарии к книге «Горный ветер. Не отдавай королеву. Медленный гавот», Сергей Венедиктович Сартаков
Всего 0 комментариев