Михаил Стельмах ПРАВДА И КРИВДА
Запев
Бой гремел впереди, с боков и сзади. В нем, как могли, метались люди, техника и ночной покров; он нараспашку развернувшимися окровавленными клочьями отрывался от горизонта, взмывал ввысь и снова, угарным, распухшим, вонючим, падал на вздыбленную землю.
Прорвались наши, прорвались и немцы!
Огонь был таким, что в воздухе снаряды встречали со снарядами, мины с минами, гранаты с гранатами. И только «катюши», как жар-птицы отмщения, как куски неоткрытых комет, как предвестники грозного суда над фашизмом, непобедимо проносили через все небо свое смертоносное уханье.
Свирепствовало железо, свирепствовали кони и сходили с ума люди. Отблески взрывов вспыхивали в их глазах, в отблесках взрывов темно лоснились лужи крови. Танки с землей срывали ее, налетали на танки, в неистовом сцеплении вздымали друг друга вверх, вколачивались друг в друга беснованием гусениц и огня.
Если был на свете бог войны, то сейчас он шагал по этому полю боя техническими ногами и отрывал небо от изуродованной земли.
На холме под цепами боя в страхе вздрагивало село. Фантастические созвездия мин выхватывали и выхватывали его из тьмы, и казалось, что хаты хотели куда-то улететь, далеко-далеко от всех ужасов войны… И они улетали — с гнездами аистов, с детскими зыбками, с недопитой жизнью.
На погосте от взрывов то и дело вздрагивала ветхая, казенного стиля церквушка. В ней возле царских врат протягивал в мольбе ко Всевышнему старческие руки застреленный, смертью забытый батюшка. Ему по старости лет казалось, что из-под земли убегают библейские киты и что уже наступает страшный суд. В церкви сами гасли свечи и падали столетние боги.
Вот заскрипели побитые шашелем двери, и батюшка в ужасе прянул назад. Но с паперти входили не видения страшного суда, а обычные измученные девочки в военной форме. Согнувшиеся, покрытые копотью, осыпанные землей, они заносили в церковь тяжело раненных бойцов и клали их рядом с богами. Еще не выйдя из ада боев, стеная, командовали и передавали команды потерявшие сознание, с широко раскрытыми глазами воины, и молчали боги. Но батюшка заметил, что и у них расширились глаза.
В церковь, как из кинокадра, влетел молодой русоволосый полковник. За его плечами в багряном кипении шевелилась накидка неба. Он остановился у правого притвора и неизвестно у кого спросил:
— Здесь Марко Бессмертный?
— Здесь все бессмертные, — строго ответил ему немолодой солдат, у которого грудь и все ордена были залиты кровью.
— Да, воин, — вытянулся полковник. — Здесь все бессмертные.
— Только я один, грешный, потихоньку затесался сюда, — не сокрушаясь таким переплетом, приветливо улыбнулся солдат, рука которого была небрежно завернута в верхнюю солдатскую сорочку.
— Почему же ты грешный? — не понял полковник, осторожно ступая между раненными.
— Потому что штрафником почему-то был, словом, согрешил, — почти счастливая улыбка играла на лице раненого.
— Теперь среди нас нет штрафников, — поправил его немолодой воин. — Есть одна семья. Кто тебя сорочкой так плохо перевязал?
— А я сам, потому что разве медицина напасется бинтов на наши руки и ноги? — он поднял вверх раненную руку, и на ней начала раскручиваться, расправляться сорочка, как будто кровь бойца вдохнула в нее жизнь.
К полковнику подошла девушка-подросток с охапкой расплетенных волос. В ее слезах дрожали измельчившиеся отблески восковых свечек. Девушка еще не привыкла к войне и оплакивала всех безнадежных, которых выносила из боя.
— У меня Марко Бессмертный, — покусывая губы, горестно сказала она.
— Где он, Оксана? — встрепенулся полковник.
— Вон там, рядом с Георгием Победоносцем лежит, — стояла в красоте своих волос и слезинок, как пшеничный колосок в вечерней росе.
Они потихоньку пошли в глубину церкви, остановились перед двумя воинами: рисованным — небесным и раненным — земным. Вокруг небесного воина белели комья облаков, вокруг земного — темнели пятна крови. Полковник опустился на колено, пристально, с сожалением взглянул на обескровленное, смуглое, с неровной подковкой усов лицо солдата, наклонил голову к его неподвижной груди и шепотом спросил у девушки:
— Живой?
— Дышит, — неровной мучительной оборкой собрались пересохшие девичьи губы.
Полковник встал с пола.
— Сейчас же кладите его на телегу — и в госпиталь.
— А доедем ли? — скривилась девушка, и с двумя слезинками оборвались две крохотных свечки.
— Доедете! Иначе не возвращайся! — угрозой сверкнули глаза полковника.
— Есть не возвращаться, — не то сказала, что думала, но полковник и не заметил этого.
Спустя какую-то минуту он и две пары девичьих рук бережно выносили Бессмертного в рассвет.
Между кладбищенскими вишнями и черешнями пряли ушами напуганные кони, кожа дрожала и перекатывалась по ним. Лиловый жеребенок боязливо прижался к задним ногам матери и после взрывов попадал головой в ее вымя, из которого сочилось молоко. Мать сейчас держалась спокойнее, чем рослый подручный конь. Легоньким ржанием она, как могла, успокаивала свое дитя и кусала коня, когда тот, выворачивая глаза, вставал на дыбы.
Всякие чудеса бывают с раненным человеком, даже когда его жизнь уже держится не знать на чем. В церкви возле святых и богов ничего не слышал Марко Бессмертный, но едва лишь закрутились, заскрипели колеса, он сначала ощутил темную распаренную жару, и это возвратило его в детство, когда больным лежал в пару разомлевшего зерна, потому что в те времена в селе зерно было и хлебом, и лекарством… Ну да, лежит он сумерками в хате, а улицей на телеге возвращается домой его дед. Над ним гремит и гремит сильный гром, а деду хоть бы что: сидит себе на сене и напевает свою любимую песню:
Ой не знав козак, та й не знав Супрун, А як славоньки зажити, Гей зібрав військо славне запорозьке Та й пішов він орду бити.«Не подтянуть ли и себе?» — думает Бессмертный и тихонько присоединяет свой голос к дедовой песне:
Ой у неділю рано-пораненьку Супрун із ордою стявся…«И таки в самом деле он в воскресенье с фашистской ордой схлестнулся», — думает о себе Марк, перелетая из детства в настоящие бои.
Оксана испугано оглянулась. Почти неслышно срывалась, шелестела песня на губах Бессмертного, как неслышно падали с телеги на дорогу капли его жизни. Девушка заплакала, ее слезы тоже падали на дорогу и рассеивались с каплями крови бойца. А Марко и пел дальше, хоть его песню то с той, то с другой стороны глушили какие-то невменяемые громы и хоть ее не слышали ни бойцы, ни дед, ни кони, ни союзники.
«Чем же он поет?» — с ужасом думала девушка, зная, как горячий свинец порвал и поломал Бессмертного. Но вот песня затихла. Оксана остановила коней, наклонилась к Марку. Его сердцу уже не хватало крови, и оно останавливалось, стихало, как песня.
— Товарищ Бессмертный, товарищ Бессмертный! — закричала Оксана, перепугано касаясь руками его плеч. — Не умирайте, будьте так милостивы… Я должна сдать вас живым…
— А я не у… мираю… Я в… выздоравливаю. Только зерно подогрей… Стынет, — не так услышала, как ощутила тихий ответ.
Марко хотел расплющить веки, но теперь для него это была непосильная работа. От всех его стараний лишь легонько дрогнули скрестившиеся ресницы. Это не удивило его, а удивляло то, чего это дед так долго ездит под окнами, а во двор не въезжает, и чего так страшно гремит гром, а дождь даже не зашелестит…
Полевой армейский госпиталь находился под землей, а на земле, как обрубленные и необрубленные кругляки, лежали раненые — для них не хватало места ни на операционных столах, ни в подземелье палат. Посеревший, злой от бессонницы и усталости, начальник госпиталя неприветливыми глазами встретил новоприбывших и хрипло спросил Оксану:
— Что, до сих пор порядка не знаешь? Раненный не из нашей армии. Везите в свой госпиталь.
Девушка растерялась, безнадежно опустила руки, и слезы сами покатились на шинель.
— Чего ревешь, недотепа!? — рассердился начальник госпиталя. — В куклы бы еще дома играла, а она на фронт побежала. Добровольно же пошла?
— Добровольно, — виновато всхлипнула девушка, притихла и вдруг не она, а слова ее зарыдали: — Что же я в тот госпиталь довезу? Одно тело без души? И полковник Горюнов приказал под расписку передать вам, — беспомощно и упрямо, как колосок в росе, клонилась и выправлялась девичья фигура.
— Полковник Горюнов? — почтительно переспросил начальник. — Кто же этот боец? — кивнул на телегу.
— Бессмертный.
— Какая хорошая фамилия! — подобрели слова и лицо начальника госпиталя. Длинным, как у пианиста, пальцем он подозвал двух санитаров, показал им на Бессмертного:
— На стол!
Санитары подошли к телеге, на миг настороженно обернулись, прислушиваясь к западу. Колеса войны уже громыхали недалеко от госпиталя.
— Да, — глубокомысленно сказал один.
— Бывает, — согласился второй и вздохнул.
— Не слоняйтесь! — подогнал их начальник госпиталя.
Санитары положи на носилки Бессмертного и понесли в подземелье, которое ругалось, стонало, плакало, командовало и задыхалось в испарениях лекарства, крови, земли.
— Роза, Роза, я Лилия! — вызывал кого-то из дали раненный радист. — Как слышно? Прием… Роза, Роза!..
— Пошел ты к чертовой матери вместе со всеми своими цветочками. Ой, болит.
— Что болит?
— Нога болит.
— А где же она?
— Нет. В окопе осталась, а здесь болит…
Кто-то рванул Марка за ногу, потом за другую и удивился:
— Вы посмотрите на этого новичка — у него вместо онуч разодранный эсэсовский флаг.
«Топчу фашизм!.. Топчу кривду!», — хотел сказать Марко, но слова его были такими слабыми, что не могли раскрыть губ.
Марка снова подхватили чьи-то руки, куда-то понесли и положили на что-то холодное. Он ощутил, как на него наложила приторно-едкую маску, и понял, что лежит на операционном столе. Но его охватила такая слабость, что впервые за всю войну подумал о смерти. И после этого перед ним качнулись, расходясь в разные стороны, две дороги. Одна, осветленная, бежала в родное село, к ней примыкали головастые подсолнечники и его хата-белянка, а вторая, серая, мглистая, погружалась в мрак.
«Эта первая — на жизнь, а вторая — на смерть», — понял Марк, стараясь как-то не замечать той второй дороги. Но видения чередовались — их нельзя было перехитрить. Вдруг все вздрогнуло от взрыва. Рушась, ухнула земля, послышались вскрики, а потом кто-то крякнул:
— Хирурга, хирурга выноси?
Густые горячие волны, обдавая Марка, начали безумно накручиваться на него и растягивать все тело. С этим невыносимым ощущением он куда-то провалился, но со временем начал всплывать или выходить из небытия. Он услышал, как кто-то, крадучись, подошел и встал у его ног. Марко раскрыл глаза, холодея: на фоне тьмы, как на громадном рентгеновском снимке, увидел смерть. Она была точь-в-точь такая, какой знал ее из старинных сказок, из рисунков или сновидений.
Смерть отделилась от своего рентгеновского снимка, взглянула на Марка и устало, без угрозы сказала:
— Теперь уж, Марко Проклятый, настал твой смертный час.
— Врешь, костлявая! — не испугался — возмутился Марк.
Сверхчеловеческим усилием он поднялся со стола, слабыми ногами встал на землю и сжал кулаки, готовясь драться до последнего дыхания.
Но смерть не бросилась на него, а изумленно спросила:
— Почему же я вру?
— Потому что я не проклятый… Это давно, еще до революции, так дразнили мой бедный обездоленный род и меня. Тогда мы были прокляты… И время мое не вышло, потому что я еще не напахался, не насеялся, не налюбовался землей, не нажился.
— Это все правда, — согласилась смерть. — Но тебе нечем жить.
— И снова ты врешь — у меня все есть, чтобы жить.
— Все? А где ты возьмешь кровь для своего сердца?
— Ее дадут мне братья.
— У тебя их уже нет. Разве забыл, что я всех троих забрала на кладбище?
— Этого не забывают. Ты забрала троих, а у меня их тысячи, братьев, — по вере, по совести, по любви. Я с ними, они — со мной, и у нас одна кровь, одна жизнь… Пошла вон от нас! — Марко, пронизывая глазами глазницы смерти, поднял на нее кулаки.
И смерть скисла, отступила назад, вошла в свой снимок и исчезла.
Перед Марковыми глазами снова появилось две дороги. На той, ведущей через всю землю к его хате, сверкнуло солнце, и на его сияние поворачивали и поворачивали золотые головы усеянные росой и пчелами подсолнечники. А на другой дороге качнулся мертвый туман.
Марко, теряя сознание, качаясь, падая и снова поднимаясь, как мог, пошел к подсолнечникам. Они увидели его, закачались, здороваясь с ним. Он дошел-таки до золотого поля и уже должен был упасть, но подсолнечники шершавыми хлеборобскими руками поддержали его, как он когда-то в непогоду поддерживал их род. И теперь между ними он тоже был похож на изуродованный, с вывороченными корнями подсолнечник, которому по всем правилам и законами надо было бы умереть, но который своими законами держался за жизнь.
I
У нас только в марте после вьюги бывают те неожиданно удивительные дни, когда, широко просыпаясь от сна, природа каким-то одним страстно-волшебным завершением так соединяет землю и небо, как даже бог не мог соединить душу и тело.
Посмотришь о такой поре на небо, нарисованное, по самые венцы заваленное лебедиными облаками, сквозь которые пробивается голубизна, посмотришь на землю милую, свежо-свежо занесенную мягким, с солнечной росой снегом, который позванивает первыми голубыми ручьями, — и не знаешь, где начинается и где заканчивается белая неистребимая вселенная и где ты находишься в ней.
Так теперь и Марко Бессмертный не знал, выныривая из волн тревожного и дурманящего полузабытья.
Хмельной, с прохладой, барвинковый цвет, цвет ранней и зрелой весны, с размаха ударил крылом ему под веки и выбил несколько слезинок, которые, как прицепленные, закачались на темной основе опущенных ресниц. От неожиданности Марко на миг прикрыл глаза рубцами скрепленной и склепанной, но уже отбеленной в госпитале руки, отогнал ею остатки полузабытья, встал на санях и радостно, как-то заговорщически-хитровато, бросил улыбку в пучки морщин под глазами и в задиристую от естественной неровности подковку усов. А разве же не было чему радоваться человеку?
Перед собой он видел не пропитанные кровью бинты и не мертвенно-стерильные стены госпиталя, до кирпича и цемента пропахшие медициной, а титаническую безмерность снегов и облаков, из которых в предчувствии весны высекалась, выплескивалась, вырывалась, колобродила и лепетала в стремительных поисках новых форм подрисованная просинь. Теперь ничего мелкого не было и не хотело быть в природе — все разрасталось само по себе, отдельные тучи перегибались, заплывали за край земли, как неоткрытые материки, и даже невидимое солнце таки выхватывало из далей целые участки освоенной земли, из небесных ковшей проливало на них кипень всколоченного серебра и все это озерами перегоняло под все части света.
Марко сначала даже не поверил, что он живым и наполовину здоровым въезжает в глубину творения такой красоты. Вот когда он умирал, к нему всегда приходили не грязь и кровь войны, а наплывала в буйной праздничной обновке земля. И Марко сквозь все свои боли предупредительно, беспомощно и жадно присматривался к ней, присматривался даже крепко закрытыми глазами, потому что, и умирая, он оставался земледельцем.
И земля тогда тоже смотрела на него, как живая, и угадывала его желания.
Он хотел видеть вишневое цветение, и перед ним, прямо на знакомых и незнакомых улицах, на весенних плесах и заводях, даже на бесплодной, проржавленной передовой зацветали, по-братски прислоняясь плечом к плечу, краснокорые, в веснушках вишняки. Он вспоминал леса — и они, высвобождая ноги от покореженной колючей проволоки, а корни от смертоносной минной начинки, подходили к нему со своими мудрыми целебными травами, с добрыми стаями птиц, которые пением проклевывали ночь, с теми пугливыми и милыми зайчатами, о которых он еще в первой группе пел:
А нікуди зайчику вискочити, А нікуди зайчику виплигнути…«А некуда выскочить?!» — и это не о нем теперь? Ведь попался в лапища смерти, как заяц лисице…
Но силой воли прогонял такие мысли, как грачей, и звал к себе или утреннее, в свадебном венке солнце, или полузабытое детство, или мать. И они со всех концов спешили к нему, как будто он был чародеем.
А чаще всего хотелось видеть свою милогубую, золотоволосую, как осенняя вербочка, Еленку, которую по-настоящему начал любить после законного брака. И Елена, прижимая к груди их единственную дочь, спешила навстречу ему; напрямик переходила танковые рвы, змеящиеся мотки Бруно, переходила линии оккупации, линии фронта и линии смерти, чтобы увидеть мужа, хоть и знал он, что Еленки уже нет.
Так земля жалела его, когда он, еще не нажившись, должен был попрощаться с нею; наверно, поэтому и выживал, что видел не хищные химеры и страхи, нацеленные, вонзающиеся в человеческое сердце, а тихую мать с младенцем, и росистую, в пыльце пшеницу или кудрявый овес в ложбинке, и крестьянскую хату с подсолнечниками и мальвой перед ней, разноцветы и поздноцветы возле нее, и смешно напыщенного аиста с аистятами на ней, что в туманный лунный вечер кажется уже не птицей, а самым сном…
От такого удивительного воспоминания об аисте Марко весьма веселеет, снова бросает улыбку в подмороженную годами подковку усов и снова от края и до края вбирает в душу весь празднично-белый свет.
«Ведь и хорошо же сейчас в нем, будто его недавно и не разъедала зараза войны», — удивился мужчина, жадно присматриваясь к изменяющемуся величественному единству земли и неба, между которыми где-то, как утерянный колокольчик, непрестанно звенит и позванивает овсянка.
«Ишь, какое маленькое сердце, а весну чует. Вот скоро и журавли принесут на крыльях тепло, и тогда люди выйдут сеять овес и ячмень. Еще как будут сеять!» — аж рукой махнул, словно в ней выгревалась ярь.
В мыслях Марко уже выводил сюда сеяльщиков, видел, как по пашне, словно гуси, с боку на бок переваливались скоропашки, а зерно нежно лепетало земле: «Жил-жил».
Марко в самом деле услышал это «жил-жил», будто вокруг него уже брызгали семена. Но то отозвалось не зерно, а еще невидимый ручей; он в придорожной лощине мостил над собой снеговую бороздку и искал себе своего протока на оледеневшей земле.
«Житие», — по привычке в мыслях произнес Марк, и сейчас он совсем забыл о своих костылях, без надобности лежащих возле него, забыл и о весне, что уже неистовствовала за немецким порубежьем. Но вскорости единство мира и мыслей нарушили два подбитых «фердинанда». Они, как доисторические монстры, тяжело выползли на взгорок, подминая его. Даже мертвые, с вырванными внутренностями, они еще грозились одним задранным, а другим опущенным хоботищем и небу, и земле. Только это у них и было от королевской злой родословной.
— Заяц, заяц! Вот смотрите! — неожиданно вскрикнул белобрысый, степенный на свои двенадцать лет Федько, проворно соскочил с плохоньких саней, воинственно махнул трофейным кнутом и остановился посреди поля.
В самом деле, от «фердинандов» выскочил исхудавший за зиму заяц и во весь дух покатил к лесу, что стоял в таком синем трепете, будто только что вынырнул из фиалковой воды. И что только этот самый мирный на свете зверек, зверек детских песен и снов, делал возле кособоких, неуклюжих уродов смерти? Или он случайно прибился к железным гробницам, или на пригорке возле них легче было добраться до сладкой озими?
— Где только примостился длинноухий! — до сих пор удивляется малый машталир[1].
— Федя, а ваши зайцы часом не подгрызают «фердинандов»? — засмеялся Марко.
Но паренек, который привык на полном серьезе отвечать на вопросы старших, сомкнул вместе широковатые, в сосенку брови и благоразумно произнес:
— А пока что не подгрызали. Зайцу железо — без надобности.
Он вскочил на сани, еще раз взглянул на подвижный комочек, который докатился до дубравы, удобнее накрыл Марку ноги овчиной, басовито вйокнул, и худые мохнатые лошаденки неторопливо затрясли зеленой от влажности дорожкой; казалось, они потерялись в беспредельности, в этом белом очарованном круге между войной и миром. На крутой колдобине полозья встряхнулись, крякнули, и крякнул Марко, прикладывая ладонь к правой ноге.
— Так даже сковырнуться можно! — еле удержался на санках Федько и с сочувствием обернулся к Бессмертному. — Заболело? — В серых, с ясной прозеленью глазах мелькнули недетская печаль и опасение.
— Заныло.
— Вот беда, — забеспокоился паренек. — Может, чем-то помочь?.. Снова нога?
— Да не только она. Я теперь, Федю, вдоль и в поперек сшитый, как перкалевая кукла; боюсь, чтобы по всем швам не распоролся, — с насмешкой осмотрел себя и замурлыкал песенку, где много было «ой»: это тоже уменьшало разные боли.
Паренек, понурившись, остановил коней возле дикой груши, а Марко тем временем прощупал под штаниной свитки бинтов, которые туго скрепляли его тридцатипятисантиметровый рубец, на котором то выпирали, то западали незалеченные места, — это уже зависело от того, на холоде или в теплые находился человек. Сукровица просочилась лишь в одном месте, которое Марко в шутку называл сливой, потому что когда оно замерзало, то и в самом деле было похоже на сливу. А то еще были на теле Марка такие себе «черешни» и «смородинки». И от того, что о них думалось и говорилось тоже с насмешкой, они меньше болели.
— Так как нога, Марко Трофимович? — становится жалостливым худенькое, с впадинами вокруг рта лицо малолетка.
— Все танцевать просится, а медицина пока что запрещает, — не сердятся и не искажаются болью карие глаза с теми золотыми ободками, в глубине которых таятся тени. — Есть хочешь, Федя?
— Да… я, говорил же ж, тот, на станции ел, — замялся малый машталир и повернулся к коням.
— Врешь, Федя.
— Вот и нет.
— Странный ты мальчишка: вот так, не испекши рака, думаешь обмануть меня?
Паренек покраснел, смущенно цьвохнул кнутом по пористому вокруг груши снегу, на котором угольными чешуйками прыгали льдинки, и тихо спросил:
— А разве видно, что неправду говорил?
— Пока что видно, а если и дальше будешь таким безобразием заниматься, — вранье войдет в кровь, и она уже не будет краснеть. Вот и мотай себе на ус, что старшие говорят. Слышишь?
— Кабы-то все старшие так говорили, — выхватилось у ребенка, и он уже покраснел не за себя, а за вранье старших.
Марко насторожился:
— Кто-то сбивает тебя с толку?
— Ну да, — коротко ответил, стыдясь говорить о таком безобразии.
— И кто же это, Федя? — удобнее пристраивает в соломе ногу, чтобы не промерзала.
— Да…
— Ну и не говори, если не хочешь. Это дело хозяйское и добровольное.
Федько неожиданно рассердился, в его точечных глазах потемнела прозелень, а в уголку рта затрясся гнев:
— А сам Безбородько не сбивает меня с толку? Ему же, бывало, везу мед с пасеки, а должен говорить, что в колхозный амбар. Так это порядок или не очень?
— Безобразие, Федя!
— Так вот!
— И что ты сделал?
— Что же мне пришлось делать? — сразу будто кто-то подменил паренька, и на его потрескавшихся губенках и вокруг них весело заиграл вызов. — На полном карьере подъехал к председательскому срубу да как крикну на всю улицу, чтобы люди услышали: «Тетка, где вы там проживаете? Или, может, ненароком, говорил же ж тот, за трудоднем на работу пошли?»
Выхватилась председательша из клетки сруба, как пурга на Крещение: не любит она шуток, особенно когда кто-то о ее незаработанных трудоднях напомнит.
— Чего тебе, вражеской веры басурманин? Тише, анафема, не можешь горланить, вызвал бы ты Гитлера на том свете через все плоты и перелазы!
— Хорошо вам тише, а у меня кони из-за клятых оводов упряжь обрывают, потому что разве теперь упряжи. Вот же мед согласился везти, да дорогой забыл куда: к вам или в амбар?
— Придурковатый! Не голову, а казан дырявый выкапустил[2] на плечах! — вызверилась председательша и одним глазом меня поедает, а вторым улицу осматривает.
— Чего уж не имею, то себе, а не кому-то! — будто рассердился, а сам аж губы кусаю, чтобы не расхохотаться.
— Не мог тихо заехать во двор? — шепотом спрашивает, а дальше громко, чтобы кругом все люди слышали: «Вези-паняй[3] в амбар, бестолочь малая!..» А мне что? Вйокнул на коня и так потарабанил, что председательша и смеха не услышала. Приехал в амбар, а там снова незадача: кладовщик Шавула напал и тоже бестолочью обругал, что не отдал председательше мед.
— Они и не догадываются, Федя, какой ты горячий, смельчак и хитрец! И где только научился?
— А разве война всякому не научит человека, — сразу стал серьезнее паренек.
— Таки научит, — сузил глаза Марк, прижал сиротку, а неприятное упоминание о Безбородько поразило и растревожило. «Ох, снова придется, Антон, тукнуться с тобой, лучше бы ты с фашистами дрался».
Марко добыл из соломы зеленый мешочек с харчами, вынул нахолодившийся хлеб, американский бекон с красными лампасами и подольскую, с кулак величиной, чесночину, к шелухе которой прилипли крошечки той земли, которая перекатила на себе армии и машины нескольких сплетенных в клубок ненависти и смерти государств.
— Ешь, Федя.
— Спасибо.
— Одним «спасибо» не отбудешь, — ласково прищурился Марк, смешно шевельнув неровной подковкой усов.
— Так я еще, говорил же ж тот, чем-то постараюсь, — улыбнулся паренек, сразу решив, что дядя Марко совсем свой человек, об этом и глаза, и даже усы говорят, вот и нечего долго опасаться и стыдиться его.
Он по-хозяйски плечом столкнул коней на обочину, нацепил им опалку с какими-то объедками, поправил свои великоватые чехлы на рукавах, а потом уже присел на краешек саней и стыдливо потянулся к еде. Заокеанское сало и нашенский хлеб сладко таяли во рту, потому что с тех пор, как Федько стал сиротой, никогда вволю не наедался, а голодал каждый день.
Марко ел для видимости, и не потому что даже чеснок пронялся запахами опостылевших лекарств, которые до сих пор мутили душу. Мысли на изменчивых крыльях и волнах заносили его в родное село, и он его сейчас видел таким, как в день прощания в сорок первом: с веселыми хатами, которые, как девушки-блондинки, прислонялись к садам и улицам, с осокорями, подпирающими небо, и скрипучими журавлями, всегда готовыми днем напоить человека, а ночью, став великанами, оберегать его сон.
Четыре года, как четыре века, прошли над землей, миллионы глаз угасли на ней и стали землей. Тысячи сел огнями просьб и скорби поднялись вверх и углем и пеплом упали на землю. Исчезло и село Марка: что можно было разрушить, убить и украсть, — фашисты разрушили, убили и украли. Даже землю, черную подольскую землю, и ту начали воровать и вывозить в рейх, и тогда некоторые понимающие попы заговорили по церквам, что наступает конец света. И не угадали: наступал конец фашизма. А ты, Марко, уже не будешь добивать его в самом логове: топай на костылях, искалеченный и осиротевший, к своему дому. Хотя, к какому дому, когда его тоже нет!
Ой, каким теперь страшным, как заклятие, стало это слово «нет». Даже этот ребенок, который сидит перед ним, скажет: «Нет у меня ни матери, ни отца, нет ни брата, ни сестры, нет ни села, ни дома, нет ни хлеба, ни обуви, нет ни детства, ни судьбы».
Некому его ни пожалеть, ни утешить… И у Марка нет жены, нет дочери, но есть старая мать, у которой всегда так хорошо пахнут потрескавшиеся руки то весенним зельем, то подсолнечником, то бархатцами, то осенними грибами, то свежим хлебом. Даже отец-покойник под хмельком не раз удивлялся:
— Когда ты, Анна, была девушкой, у тебя славно пахли косы, а теперички пахнут руки. Или так оно всегда бывает у вашего брата, или и здесь имеете какую-то хитрость?
Не в снегах и не под белоснежными раздерганными тучами, а в поле между подсолнечниками на миг пронесся образ его матери, когда она еще была моложе его теперешнего, мелькнуло ее смуглое, присыпанное золотой пыльцой лицо, к которому мы так мало присматриваемся в свои молодые годы. Марко почувствовал, как проснулась забытая боль в груди, зашевелилась под веками. Скорее, скорее бы увидеть свою единственную, ощутить на своих плечах ее вечно потресканные руки, пахнущие каким-то зельем или хлебом.
Вот и исчез где-то за горизонтом образ матери, а над горизонтом снова образовывались новые материки, и новые воды омывали их берега. Перед ними и за ними лежала незалеченная, с безобразными следами войны дорога к матери, к его детству, к его будущему, к жизни, которая так странно сложилась у него. Но зачем роптать на это? Она могла быть и лучше, но могла быть и хуже. Теперь, когда не укоротили голову, незачем сетовать, что твое счастье где-то завалялось, ищи и создавай его в своем же сожженном селе, невзирая на то что руки твои еще прикипели к костылям.
— Дядя Марко, вы курите? — перебил его мысли Федор.
— Нет, а что?
— Я вам хотел игрушку подарить. Смотрите, хорошая какая! — малый машталир бережно вытянул зажигалку. Она была похожа на сказочную девочку, которая наглухо закутала головку шапочкой с крохотным кольцом.
— Хорошая, — согласился Марко, рассматривая металлическую фигурку, в которой вместо сердца таился огонь.
— Так возьмите себе, — попросил мальчик, а в глазах его на миг задрожала жалость.
— Нет, Федя, не возьму. Такая игрушка тебе пригодится в хозяйстве. Ты же теперь сам себе хозяин!
— Горе мне с таким хозяином.
Паренек поблагодарил за хлеб-соль, проворно отцепил от дышла опалку, поправил упряжь, и подбодренные лошаденки, помахивая хвостами, веселее затрусили по зеленоватым колеям, в которых под полозками шипел и посвистывал сок мартовского снега. Перед глазами в прекрасном единстве двигались земля и небо, а мысли выплескивались за их венцы, радуясь и скорбя, птицами кружили над полем и опускались на родных просторах и притуманенных лоскутах земли, между которыми когда-то вольготно и ярко красовалось его село.
Спустя каких-то пару часов Марко, волнуясь, вбирал глазами очертания полей, которые мерещились ему и во сне, и перед боями, и во всех госпиталях. Вот пройти мимо еще это горбатого пожарища, и в широкой долине должен быть большой пруд. Когда-то Марко строил его, обсаживал молоденькими ивами, запускал сюда рыбу и здесь вечерами прислушивался к молодецким голосам:
Ой на ставу, на ставочку Кличе голуб голубочку.Куда теперь залетели и куда подевались голуби и голубки, которые встречали здесь звездные вечера и первую любовь?.. Марко удобнее уперся спиной в задок саней, а мысли его кружили и вокруг ставка, и вокруг всего села, и вокруг единственной хаты, которой уже не было, и залетали аж в те края, где и сейчас бесновалась война. Темная тень ее мелькнула пространствами и на миг притемнила красоту дня. Марко нахмурился, перекусил какой-то сладковатый пересохший стебель, а Федор проткнул пространство кнутовищем.
— Смотрите, скоро уже будет наш ставок.
— Федя, а как он — живет? Или и его не помиловали фашисты?
— Кто живет? — не понял сначала паренек.
— Ну ставок.
— А-а-а. Живет. Воду не убьешь и не вывезешь.
В низине уныло наклонившиеся ивы исполинской подковой охватывали заснеженный пруд, а на плотине одиноко темнел дородный деревянный монах. Он и в самом деле чем-то был похож на откормленного монаха, который застрял в снегу.
— А рыба же есть теперь, Федя?
Паренек призадумался, потом покачал головой:
— Не знаю.
— Почему же ты не знаешь?
— Потому что когда немцы пришли, то они вылавливали рыбу бреднями и волоками, а когда наши гнали фашиста, — глушили толом: нашим некогда было ловить.
— Паняй, Федя, к плотине! Посмотрим, есть ли рыба.
— Как же сквозь большущий лед вы увидите рыбу? — удивился паренек, поворачивая коней к плотине. — И зачем она вам? Ловить же не будете?
— И что из того? Не все, Федя, старайся ловить, это не самое мудрое дело. Вот здесь можно и остановить твоих рысаков, где ты их только достал?
— Их дед Евмен у каких-то разномастных вояк выменял, когда те драпали, выменял за последнего селезня и бутылку самогона. Еще обещал им наловить съедобных жаб, но тем воинам было уже не до лакомства. Такой был торг! А когда уже начал устанавливаться колхоз, дед привел свою пару к председателю и сказал, что сдает ее добровольно, но под расписку с круглой печатью.
«Может, еще и гербовую бумагу скажете достать? — рассердился Безбородько. — Надоедать пришли?»
Дед и себе не остался в долгу:
«Хоть ты, Антон, и председатель, но без документа тебе не верю. Видишь, когда я шел в колхоз в тридцатом, то тайно сбыл своих коней цыганам. Тогда я был темным элементом. А теперь прилюдно сдаю, исправляю пережиток, а ты их не исправлял ни тогда, ни теперь. Пиши расписку и хукай на печать свекольным духом!» Этими рысаками дед Евмен первым и запахивал поле.
— Живой дед?
— Живой. Так же конюхом работает.
— И так же всех ругает? — засмеялся Марк, зная неугомонный характер старика, который не привык ни спину гнуть, ни держать языка за зубами.
— Конечно, даже наших ругал, и когда они отступали, и когда наступали.
— Чего же, когда наступали?
— Конфуз, говорил же ж тот, вышел с ним. Когда немцы убежали из села, а наши еще не подошли, дед первым вернулся домой и на своем пожарище принялся для освободителей гнать ночью самогон. Очень старался человек. А кто-то из нашей разведки не распознал, что это свой, и стрельнул по дедовой машинерии. Тогда старик так начал ругаться, что разведчики сразу распознали своего и пришли, раз такое случилось, извиняться к нему.
Когда на плотине возле рядка мелких кленов-покленов остановились кони, Марко начал осторожно ссовываться с саней. Вот он здоровой ногой крепко уперся в снег, удобно подхватил костыли, шагнул к разбухшему монаху и припал к его потемневшему телу. Внутри монаха весело лепетала и побулькивала вода, понемногу переливаясь в ложбину.
— Федя, есть рыба — вода линями пахнет! Понюхай! — весело подмигнул пареньку. — Вот я немного выздоровею, и станем мы с тобой хозяевами ставка.
— Хм…
— Не хмыкай, а таки будем присматривать ставок.
— И похлебку будем варить?
— И рыбу разводить. Вырастим аж полупудовых карпов, большущих!
Паренек посмотрел на Марка, который прыгал на костылях, скособочил лукаво глазенки и ответил:
— От кого ни услышишь о карпах, то только о полупудовых, и никак не меньше ни на грамм.
— Правильно подметил, — рассмеялся, широко осмотрел ложбину, на которой, подмывая снег, разрастался плес, осмотрел и корявые, ветрами наклоненные ивы, подошедшие к нему, как прошлое. И Марко в раздумьях ближе подыбал к ним, свидетелям своих молодых лет, которые тоже уплыли, словно вода. Неожиданно неподалеку от себя увидел двух сощурившихся пичужек, лежащих у кустика телореза, как два трепетных комочка земли. «Не показалось ли? Нет, не показалось», — внимательнее присматривается и даже радуется, что в тех притихших комочках узнал куликов-травников, которых тоже не видел ни в каких краях четыре года.
«Не рано ли вы, дорогие, прилетели из далекого ирия? Видите, вам приходится отдыхать не на весенней земле, а на белых снегах». Марко осторожно подыбал к птицам, что плотно жались друг к другу в снеговом гнезде. Но они почему-то и не думали убегать от него, как не убегали во снах или видениях, когда он умирал. Или, может, и сейчас он видит сны и на самом деле перед ним только видением дрожали и небо, и прибывающая вода, и двое птенцов в холодном неуютном гнезде?
Марко, раскачивая тело, еще прыгнул вперед. Одна пташка обеспокоенно повела головкой и жалостным, ну, прямо детским глазом взглянула на человека, словно просила: не делай мне, человече, зла. Ты же властитель вселенной, а я мелкая пичужка.
«Не бойся, маленькая, я никогда не обижал ваш род, ни для забавы, ни для еды. Только взгляну на тебя», — молча ответил пичужке Марко. А она в это время, пошатываясь, встала на непрочных красных ноженьках и болезненно тряхнула проржавевшим серпом одного крыла. Марко изумленно увидел, что скромно испещренная грудь кулика и второе крылышко были окровавлены и пятно крови с несколькими перышками темнело на сыром снегу.
«Кто же тебя покалечил, беднягу, когда ты радостно со своей немудрой, но искренней песней-посвистом полетел в родные края? Или война, или хищная птица? И неужели ты собрался умирать, не дождавшись своей весны? Слышишь, не умирай, пичужка, живи и выводи свою песню, выводи деток, потому что без птиц и человеческое сердце станет черствее».
Марко обернулся, заковылял к саням, упал на них и начал удобнее умащиваться в своем гнезде. Сани снова запетляли дорожкой, а из памяти мужчины долго не выходила окровавленная птица и ее унылый глаз, в котором жалостно светилась человеческая скорбь.
— Вот и заехали! Теперь хоть вплавь бросайся. А чтоб тебя ездило вдоль, поперек еще и наискосок! — недовольно забубнил Федор и соскочил с саней.
— Чего, юноша, сердишься?
— А какой-либо гад за сегодня мост развалил, только зубья торчат.
В самом деле, единственная уцелевшая доска и истерзанные пеньки возле нее напоминали какую-то гнилозубую пасть, поджидающую свою жертву.
— Так вот, хочешь или не хочешь, а придется теперь, как забаламученной овце, кружить объездами до самой ночи. Нужны нам эти объезды на гниловодье, — Федько в сердцах потряс ногой подкрошившийся зуб моста, потом секанул его кнутом и недовольно повернул коней назад.
День клонился к вечеру. Солнце, вволю накупавшись в тучах и голубых прорубях, стряхнуло на снега венок лучей, бросило на небосклон сиреневые краски и легко впаялось в промерзший край земли. Из-под снега то здесь, то там начали выходить вечерние тени и туман, а в небесных погустевших разводах появлялись первые звезды. Война уже не беспокоила ни подольскую землю, ни небо, только беспокоила человеческую душу, более уязвимую, чем вся природа, даже вместе со своим наилучшим дитятей — солнцем…
Подумав об этом, Марко с удивлением увидел между вечерними вербами свою Еленку; к ней приближалось солнце, а она протягивала к нему свои красивые и кроткие руки. Потом, когда уже солнце начало прислоняться к плечу Еленки, мужчина понял, что это было совсем не солнце, а их единственная Татьянка. Она, как грибок, приросла к матери и жаловалась, что ей очень тяжело в немецкой неволе.
«Татьянка, дитятко, когда же ты говорить научилась? — спросил, не понимая, как в мире безнадежно перепутались года: его дитя погнали на далекие торжища людьми в ее шестнадцать лет. Так чего же он из уст грудного ребенка слышит такие страшные слова?.. Или, может, его изуродованная, искалеченная дочь в чужом краю имеет горем, насилием и стыдом родившегося ребенка?.. Лучше бы не дожить до такого позора…»
— Дядя, вы стонете. Очнитесь!
— Что? Федя, это ты?
— Конечно я, сам, своей парсуною, — засмеялся, вспоминая кем-то сказанное такое удивительное слово. — Снова что-то разболелось?
— Сон… разболелся.
— Сон? Это хорошо, что я его прогнал! — воинственно хлестнул своим трофеем.
А Марко еще отдирал от тела и души липучие опасения, навалившиеся во сне.
Вокруг стояла отволоженная вечерняя тихость, а в ней золотым мальком помалу колобродили звезды. Но не высокость небесная, а невидимое подземелье поразило мужчину: он из глубин его ясно услышал какие-то голоса, казалось, что это говорила сама изуродованная земля.
— Федя, ты слышишь?
— Слышу, — безразлично отозвался паренек.
— Кто же то гомонит в земле?
— Вот здесь дед Анисим, которому до сих пор восемьдесят шесть лет, — засмеялся, удивляясь, для чего деду надо приуменьшать года. — А по правую сторону проживает семья Гончаренко.
— Что же они делают под землей?
— Разве же вы забыли: все люди теперь у нас в земле живут, ее фашист не смог сжечь.
Так Марко и встретился после долгой разлуки с селом, о котором гений человечества[4] писал, что на Украине оно похоже на писанку. И вот эта писанка сейчас едва очерчивалась в темноте в беспорядке разбросанными кочками землянок и осиротевшими, снегом присыпанными печами, которые не только не грели людей, но и сами, как нищенки, дрожали от холода. То здесь, то там, прямо из подземелья поднимались тусклые столбы огня, и село казалось не селом, а скоплением измельчавших действующих вулканов. Вот ниже корней старой груши распахнулась глубина, засияло прямоугольное отверстие, а на его фоне, как в кино, задрожали человеческие тени, послышались голоса:
— Ой люди добрые, послушайте меня, глупую бабу, и сделайте по-моему, по-старосветски.
— Не послушаем, и не просите, мама. Какие же вы упрямые, — возмущался молодой женский голос.
— И в кого ты, бесовская дочь, пошла, такая непослушная та болтливая?
— В вас, мама…
— Га-га-га, — забухал, как в кадку, пожилой простуженный бас.
— Разве же теперь, люди добрые, можно без попа? Новорожденная душа должна святость чувствовать, а вы ее сразу в загс. Подрастет — тогда выпихивайте хоть и за все загсы и конторы, — не утихал первый женский голос.
— Ты утихомирься, Евдокия, и рассуди своей умной головой: где же это видано, чтобы сына героя и к попу?
— Теперь такое время, что на всякий случай дитя надо носить и к богу, и в загс, тогда из него прок выйдет.
— Не баламутьте, мама, миром. Крайне вам надо растревожить всех…
— Сама баламутка, каких земля не знала. И что только тот герой нашел в такой шкварке? Было к кому спешить аж из фронта, — и женщина громко всхлипнула.
Но ее сразу же начал весело успокаивать пожилой бас:
— Что это, Евдокия, с тобой? Это же крестины, а не похороны. Покисла немного — и подсыхай.
«Да это же старый Евмен». Лишь теперь по пословице узнал голос неугомонного и придирчивого деда. Марко хотел улыбнуться, но кто-то невидимый перехватил и улыбку, и дыхание, а по телу поползли мурашки. Неужели ты, человече, до сих пор не разучился волноваться?..
Земля внезапно проглотила свет и приглушила голоса двух миров, сошедшихся в одной маленькой землянке.
Спустя какой-то миг Марко с удивлением услышал, что где-то вверху обиженно загудели пчелы. Где же это видано, чтобы в мартовскую темень, когда вокруг лежит снег, летало теплолюбивое, похожее на капли солнца насекомое? Или он снова начинает грезить?
— Федя, не слышишь: будто пчелы гудят?
— Ну да, гудят, — сказал, как об обычном. — Что же им остается делать? Только гудеть. А если бы могли говорить, так и говорили бы, потому что и им пришлось за войну вытерпеть, словно людям.
— Не выдумываешь, Федя?
— Чего же выдумывать? Уничтожали фашисты людей, уничтожали и пчел. А когда горело село, так горели и ульи. Убегали люди куда подальше, убегали куда-то и пчелы. А как вернулись люди на пепелище, так вернулись и некоторые рои. Правда, только один из них не покинул села: покружил, покружил над пожарищем, а дальше и шуганул в одинокий дымарь. Оттуда пчелы вылетели совсем черными: или от сажи, или от горя потемнели. Ну, и не бросили они пасечника в беде: поселились в дымаре. И живут теперь пчелы выше человека!
Последние слова удивили и поразили Марка: вишь, как говорит малое, — и он с любовью взглянул на сосредоточенное лицо паренька.
— Ты, Федя, философ!
Но и этим не удивился малолетка: он лишь на один миг насторожился, а дальше спокойно ответил:
— А в такое время и философом не удивительно стать: есть над чем подумать людям.
— Ой Федя, Федя, — аж прижать захотелось паренька, но вражья нога мешала, и Марко снова пустил улыбку и в пучки морщин под глазами, и в неровность усов. — А в чьем же дымаре поселились пчелы?
— У Гордиенко.
— Так мы уже и Гордиенко проехали?
— Конечно.
— А я ничего и не узнал.
— Где же узнать в такой содоме. Вйо, чистокровцы!
Марку еще сильнее перехватило дыхание: это же рукой подать до его хаты. Хотя, до какой там хаты?.. И он так просверливает взглядом тьму, что аж глаза начинают щемить.
Вот и старые вербы зашумели над Шавулиным закоулком. Еще немного проехать — и начнется рукав реки. А где же тот могучий древний явор над водой? Таких яворов Марко, хоть сколько мира прошел, нигде не видел. Ага, вот и он стоит над руинами, покрытый сединой, как одинокий великан, который силится достать до неба. Выжил-таки, дед! Выстоял ненастье!
Лошаденки засеменили по плохонькому дощатому мостику, повернули налево и остановились между какой-то соломенной кочкой и обгорелой неаккуратной печью. Так неужели этот расхристанный взгорок и есть его двор, неужели это земля его детства, его счастья и горя? Неужели эти обломанные пеньки были когда-то садом и цветом? Как сгорбилось, одичало и уменьшилось все вокруг. А мать же дома? И пока Марко хватался и забывал за мыслями о своих костылях, Федько уже соскочил с саней, выстручился и, как взрослый, протянул загрубелую, потрескавшуюся руку:
— Поздравляю вас, Марко Трофимович, с благополучным приездом в родительский дом, хотя его, говорил же ж тот, уже и нет. Но лесничество у нас понемногу выписывает людям дерево, вот и собьете себе какую-нибудь хавиру, а дальше видно будет. Если не так вез, то уж простите, лучше на этих рысаках, не сумливайтесь, никак не мог: и они голодные, как и люди.
— Спасибо, Федя, спасибо, сынок, — растроганно ответил, вжимая костыли в снег. — Ты же никуда не уходи, поужинаешь с нами. Слышишь?
— Отведу лошаденки и загляну. Вот и двери в вашу землянку. Помочь?
— Я сам.
— Тогда я вещи снесу.
— Сноси, — не думая ни о каких вещах, ответил, лишь бы ответить.
— Хорошо же пригибайтесь, чтобы, говорил же ж тот, лоб не подковали.
Паренек стоял возле ступенек, готовый, когда надо будет, помочь мужчине, которого сейчас горячо волновали воспоминания, радость и тревога… Неужели из-под самого края смерти ты добрался, доковылял до тех дверей, за которыми тебя ждет твоя единственная, которой ты даже не писал после последнего ранения: сначала не знал выживешь ли, а когда начал выздоравливать, решил, что тебя уже раз похоронили, то не хуже ли будет матери, если с тобой что-то случится на фронте и она вторично будет хоронить тебя?..
Ветер птицей взлетел на подвижное покрытие землянки, вытряс из соломы несколько певучих, с крошками льда капель, и сердце Марка сейчас под бременем воспоминаний и мыслей тоже ледяным комом падало вниз.
«Хоть бы воротник расстегнуть», — потянулся рукой к шее, но сразу забыл, что должен был делать.
Сколько раз из передовых и госпиталей его встревоженное сердце рвалось домой, а теперь, когда он стоял перед своим новым печальным жилищем, оно готово было вот-вот остановиться. Гляди, еще и лопнет, как мяч, и никто не узнает: от радости или от жалости.
Костыли вслепую, неуверенно прощупывают землю, давят хрупкую наморозь и вязнут в полуоттаявших ступенях. Вот он раненной ногой касается небольшой одинарной двери, сквозь щели которой струится тепло. Марко ощупью находит запотевшую щеколду, толкает ее кулаком и, пригибая голову, вваливается в жилье каменного века. Что-то маленькое, живое бросается под ноги, и вдруг словно издалека-издалека отзывается до боли знакомый голос матери:
— Не выпустите мне зайчонка.
«Какой зайчонок?» — удивляясь, не может понять мужчина. Из тускло-золотистого туманного света жилища к нему приближается красивая фигура матери, и Марко еще не верит, что это она. Мать как раз сидит за прялкой — пальцами выводит, а губами выравнивает свою бесконечную нить. Одна нога матери обута в чуню, а вторая, что крутит колесо прялки, босая. Это сразу напомнило детство, когда мать всю зиму пряла и людям, и себе, и всегда она крутила колесо только босой ногой.
— Добрый вечер, — выдавливает из себя приветствие Марко и ощущает, как из его глазниц высекаются те искры, от которых можно и заплакать, и засмеяться.
— Затворяйте двери, человече добрый, — не отрывается мать от пряжи. — Доброго здоровья вам.
— Хорошо, как-то уж закрою, — хочет и не может улыбнуться: волнение заморозило его лицо, лишь кровь неистовыми колесиками раскручивается под висками, и они начинают вспухать.
— Ой? Что это? — по-птичьи встрепенулась и аж уменьшилась в испуге мать. Небольшая, сухая, немного надломленная в плечах, она ошеломленно соскакивает с табурета, поворачивается к сыну, разводит руки, а потом сжимает узлом и кладет на середину груди. — Ой людоньки добросердечные, да что же это?.. — Какой-то миг ищет по стенам невидимых людей, дальше безмолвно останавливает взгляд на сыне. — Ты?.. Марко, неужели ты? — и в словах ее дрожат боль и слезы.
— Это я, мама, — хочет плечами закрыть двери, а они снова, налегают на него.
— Марко!.. Дитя! — аж теперь надрывно вскрикнула мать, еще не веря, что перед ней стоит сын, и не радость, а испуг и видимая скорбь проходят ее вспаханным и темным, как земля, лицом, вздрагивают в тех морщинистых гнездышках возле губ, где когда-то были кроткие ямки молодости. И глаза, налитые страхом, боятся засветиться хотя бы росинкой надежды. Будто опасаясь, что сын ее вот-вот исчезнет, как сон, она болезненно допытывается: — Марко, так ты на самом деле живой?
— Живой, мама, — начинает покусывать нижнюю губу, чтобы не тряслась. — Вот видите: починенный, на трех ногах, как старый конь, но живой. — Хочет шагнуть, но здоровая нога вросла в вязкий пол, как чугунный столб, а костыли все норовят выпасть из отерпших рук.
— Ой Марко, это же ты!.. — мать вскрикнула, теснее прижимая к груди выкрученный узел рук, а ноги начинают сами терять равновесие — одна обутая, вторая босая. — А я ж на тебя похоронную, черновую, получила…
— Черновую? Вот еще! Этого мне не хватало. — Он сразу в темной дали неясно увидел развороченное поле боя, на котором кто-то умирал, и этим «кто-то» — был он. На мгновение в видении смотрел на себя, как на чужого, а в тело неприятно ввинчивалась горячая и ледяная роса. Однако надо успокоить мать, и он улыбнулся к ней. — А это, мама, не так уж и плохо: кого живьем хоронят, тот будет долго жить. Такая примета у людей.
— Марко! Сыночек мой дорогой!.. Живехонький… И для чего же я за упокой твоей душеньки правила? Зачем такой грех брала на себя!.. — застонала всем телом, а самые радостные чувства закачали ею, как росяным кустом.
И только теперь старая Анна бросается к сыну, замирая, вместе с тем обнимает и придерживает его, а он, горбясь, наклоняется над ней, и пучки морщинок под глазами покачивают радость, боль и движение слезы. Марко губами поднимает выше темный платок и впервые целует материнскую седину. Когда он шел на войну, мать еще была черноволосой. Она обеими руками пригибает его голову к себе, заглядывает в глаза и убеждает самую себя:
— Ей-бо, это ты, Марко, а присядь — ведь это ты, и никто другой. Дитя мое дорогое, кровинка моя выплаканная, — смущенно, радостно, пораженно вглядывается в узковатое, с той непостоянной смуглостью лицо, что зимой становится белым, а летом темнеет, в веселую и решительную правдивость глаз, в добрые и насмешливые губы, во все то, что называется ее сыном. А мелкие слезы осыпаются и осыпаются с ее ресниц и глаз, которые и плачут, и улыбаются. Марко никогда не видел на материнском лице таких крохотных слез, наверно, старость или тяжелые времена измельчили их, как измельчили все на свете.
— Не плачьте, мама.
— Да разве же я плачу? — искренне удивляется она, совсем не замечая, что и сейчас слезы растекаются по ее морщинам. — Я радуюсь, Марко, что это ты… И усы твои, даже за войну не выровнялись. А люди же не поверят…
— Что мои усы не выровнялись?
— Нет, что ты вернулся… Как оно только на свете бывает… Вот увидишь — не поверят.
— Ну почему же?
— Они теперь такие стали растерянные, сбитые с толку, что не верят и в закон.
— В закон божий? — сразу веселеет мужчина.
— И в закон божий. Говорят — это хвантазия. Только верят в конец войны, а некоторые — в конец света.
— А вы, мама, и в то, и во другое верите? — засмеялся Марк.
— И даже убиение тебя не изменило… — всплеснула руками старая Анна, сразу же перепугалась того страшного слова, а потом тоже улыбнулась всеми морщинами. — И до сих пор никак не соображу, что ты вернулся. Раздевайся же, дитя. Намерзся, и конечно, голодный.
Переводит взгляд на больную ногу и безмолвно выпытывает ее о том самом, что выпытывали тысячи матерей, боясь спросить об этом у детей.
«По землице ходить тебе, на росе здоровья набираться», — словно заклиная, обращается к ноге, а потом говорит сыну:
— Присядь, Марко, дай хоть насмотреться на тебя, потому что уже даже и в снах мало видела, — на миг положила голову на грудь своего дитяти.
— Поверили в ту бумажку?
— И верила, и не верила, и сердце запеклось как камень. Ты же один у меня остался, — как луна в небе… А знаешь, где твоя похоронная? — оглянулась назад.
— Конечно, за каким-то образом.
— И как ты угадал? В самом деле, за образом Георгия Победоносца. Вот я тебе сейчас покажу ее, — махнула рукой на молодцеватый, хотя и почерневший образ святого, что упирался в бочечку, из которой выглядывал ребристый чеснок и первые зеленые косички лука. — Кум Василий говорил, чтобы я похоронную или в рамку взяла, или в конституцию положила, а я — за Георгия, потому что и он, и ты душили Гитлера-гада, чтоб его все громы и землетрясения выбрасывали из святой земли… Ой Марко, пусть тебе все хорошо… Раздевайся же, дитя. Вот я сейчас помогу…
Мать только теперь догадалась смахнуть слезы с глаз и снова в оцепенении прислонилась головой к сыну. А он ощутил, что ее руки не пахли ни подсолнечником, ни бархатцами, ни грибами, ни свежим хлебом, а из всех застарелых и свежих морщин веяло дымом. Может, и он теперь въелся в крестьянские руки, как сама земля.
II
Сегодня печаль отступила в землянке Анны Бессмертной; радость веселой ласточкой летала, трепетала над матерью, и она иногда аж руки поднимала вверх, чтобы перехватить и прижать к груди то невидимое снование, которое дрожало и ткалось над ней, как теплое марево. В материнское оттаявшее сердце сеялись и сеялись Марковы слова, как под Новый год сеется в доме рожь-пшеница и всякая пашница, перемешивались с ее мыслями. И даже слушая что-то тяжелое, она могла улыбнуться, потому что в эту минуту кто-то тихонько говорил ей: «А Марко вернулся».
И она снова с удивлением и безмерной любовью смотрела на сына, удивляясь, как он, перешитый на разные лады всякими врачами, остался тем самым Марком, каким был до войны, ей снова хотелось прижимать к себе своего ребенка, касаться его рук, больной ноги, выговорить все слова, которые камнем запеклись вокруг сердца, но имела ту невероятную деликатность крестьянской души, которая всегда во всем сдерживала себя, кроме работы. И тот, кто привык по всякому случаю охать и ахать, едва ли поймет тех глубоко любящих матерей, которые редко целуют своих мужей и своих детей, и даже ласки встречают удивленным: и-и!
— Навоевался же ты, сынок, как накосился. И чего бы только ни жить людям в добре и согласии? Позавидовали фашисты на наши души, вот и сами без тела останутся, потому что как кто в мире ни выкручивает темные мозги, а все равно кривда никак и нигде не победит правду. Может, тебе какую-нибудь припарку приложить к ноге?
— Обойдется.
— Ой Марко, Марко, — больше не остается слов у матери, и она с любовью несет своему ребенку полукружия по-девичьи длинных ресниц, которые не старели над выплаканными привядшими глазами, — весь ты у отца пошел.
Боль волнами прошлась внутри мужчины: как поздно он вспомнил о своем родном.
— Давно были на могиле отца?
— Осенью, дитя, когда с его живого креста осыпалось листья.
В землянке залегла тишина. Сквозь даль лет мать и сын на какой-то миг увидели живым самого родного человека и живую вербу над его могилой.
Далеко от родного порога погиб в сече с деникинцами комбедовец Трофим Бессмертный. Порубленного и пострелянного похоронили его друзья в степи у реки — на том же месте, где он упал с коня. Мастера не тесали Бессмертному кленовый гроб, боями задымленные друзья не накрывали ему глаза китайкой, не насыпали высокой могилы, не говорили печальных и красивых слов, как подобает в таком случае.
Молча в кручине соскочили боевые побратимы с графских и кулаческих коней, саперными лопатками и саблями выкопали неглубокую яму, опустили в нее своего товарища, а возле него положили саблю, чтобы и на том свете крошил ею скверну, да и помчали догонять врагов. Даже трехкратного выстрела не дали на прощание, потому что маловато было зарядов. А потом какая-то христианская душа поставила на могиле небольшой, из молоденькой ивы вырубленный крест, чудо произошло в степи — после дождей ожило мертвое деревце, из порубленной середины выбросило веточки, и они зелеными рученьками потянулись к солнцу. Со временем страстной силой жизни деревце сняло мертвую поперечину и уже стало не крестом, а гонкой ивой и человеческой памятью. А матери, когда она приходила сюда, иногда казалось, что в той вербе поселилась ее наболевшая душа…
— Говори же, сынок, говори, — первой отгоняет старые воспоминания и боль.
— О чем же вам говорить? Могу только о войне, потому что не выходил из ее упряжи…
— А кто теперь кому о другом рассказывает? Чем живем, тем и дышим.
После еще какого-то рассказа о сражении мать с извинением посмотрела на Марка, метнулась к очагу, чтобы приготовить сякой-такой ужин. Уже от огня иногда с недоверием посматривала на сына и на сбитый с двух досок стол, на котором лежала черновая похоронка. Как теперь быть с ней? Или бросить в огонь, или положить в разные налоги, которые тоже лежали за Георгием Победоносцем?
Но потом решила: то уже такая судьба сына, и пусть он делает с ней, что захочет. Все-таки недаром, даже после похоронной, умоляла судьбу и на ранних, и на поздних звездах, чтобы возвратился Марко. Вот и нагрянул нежданно, как первый гром, то ничего, что костылями гремит. И не очень постарел, только усы немного в молоко макнул и на висках морщины накипели. Ох, еще бы внучка из Германии вернулась и запела так, как пела ее горемычная мать:
Ой сяду я край віконця та виведу золоте волоконце…Но не внучка, а она, баба, все ночи сидит теперь край слепого окошечка, пополам из пряжи и мыслей прядет свое тяжелое волоконце и уже не померкшими глазами, а душой, болью своей выглядывает свой род. Ой, а чего же это она до сих пор топает в одной чуне? Прочь все, все вытряслось из головы. Анна выхватывает из-под скамейчины плохонькую починенную обувь, а к ней подкатывается зайчонок и начинает тереться у ног.
— Есть, глупенькое, хочешь? — спрашивает, будто зверек может что-то ответить.
Зайчонок смешно шевелит подвижной фасолью носа и кладет на спину длинные, как игрушечные лодочки, уши.
— Чего же тебе, сиротка, дать? — и дальше разговаривает с ним, как с ребенком.
— Откуда он у вас, мама?
— В лесу нашла, замерзал бедняга, сейчас уже выздоравливает. Это теперь весь наш скот, потому что Гитлер и курей пожрал, и коров в салотопке перетопил, чтоб его нечистые до судного дня на бесовское сало топили. — Мать, как могла, проклинала безумного фюрера и здесь же кротко улыбалась сыну или сразу молча начинала грустить, что нет у него ни жены, ни дочери, а потом утешалась мыслью, что и внучка вернется, как придет Гитлеру капут, и незаметно для себя начинала говорить: — Какая же она хорошенькая была. А глаза — сам синий цвет, и все.
— Где только она теперь? — загрустил Марко и загрустили все его морщинки под глазами.
— Может, добивается домой, как та перепелка.
— Может… — начал мыслями разыскивать те затуманенные дали, из которых, несомненно, добивается домой его единственное дитя. Как топольку, растили ее, а война с корнями вырвала его топольку, а ты, отец, мучайся и казнись, есть ли она на земле, или, может, лежит в земле.
Мать, угадав его мысль, поспешила успокоить:
— Не грусти, дитя. И Гитлер не сможет всех передавить.
— Мама, а какие у вас теперь глаза? — неожиданно спросил Марко. — Никак не рассмотрю при этом электричестве, — косо взглянул на ночник, сработанный из гильзы снаряда.
— И зачем оно тебе? — удивилась, смутилась и вздохнула мать. — Разве же дети присматриваются к нашим глазам? Это только мы любуемся ими…
— Иногда присматриваемся, — Марка поразило, что мать застеснялась такого вопроса, потому что и в самом деле: кто интересуется глазами стариков? — У вас были синие-синие, как весеннее небо после дождя.
— Как ты, сынок, хорошо сказал, — вздохнула мать. — За всю жизнь ни от кого не слышала таких слов, даже от отца твоего… Да неужели у меня в самом деле такие были глаза? — аж удивилась, вспоминая прошлые года.
— Синие были, как барвинковый цвет в росе.
— А теперь стали седыми. Другая роса выполоскала мой синий цвет, — ответила тихо.
— Ты знаешь, в нашем роду долго не седеют, деды холостяцкими чубами хвастаются. Ну, а теперешние терзания не посмотрели на это. Сначала у меня поседели косы, а потом глаза… Таки присматривался к матери? Очень старая стала? — с признательностью улыбнулась к своей кровинке, и отблеск молодости мелькнул в ее на самом деле седых од скорби глазах.
— Я тебя еще голодом не заморила? Вот сейчас картошечка будет.
— В мундирах?
— И в мундирах, и раздетая, и толченная, и так… кусками, — в гнездышках возле губ дернулась и замерла улыбка. — Только приправы к ней нет — растертым рапсом или маком посыпаю. Привыкай, сынок.
— А зачем вы столько навариваете?
— О, еще спрашивает. Думаешь, услышав о тебе, не соберется спустя время капелла? Тебя же люди и живого, и мертвого любили… Тьху, снова эта бумажка баки забивает, — кивнула головой на стол. — И что только с ней сделать? Лежит же, как сама печаль. Не сжечь ли ее? — посмотрела на сына.
Марко кинул взгляд на страшный документ, который теперь смирно лежал возле деревянной солонки и темной, как земля, буханки. А лежал же он раньше в этой землянке, как покойник в склепе.
— Жгите, мама, о смерти жалеть не будем, — отвернулся от той бумажки, что волей случая, словно черный ворон, поторопилась принести его, Маркову, смерть к матери. Но нечему удивляться: садился же ворон на охладевшую грудь Марка, выдирал его душу, возле которой мостилась смерть, и, может, по ошибке, отодрал ее, костищу, вместо жизни да и полетел стремглав со своей добычей в далекий край.
Мужчина аж улыбнулся, отчетливо увидев такое зрелище, хотя немало их всегда проходило перед глазами, потому что в сердце Марка с самого детства мир наполнялся гулом земли и отголоском песни.
Мать с затаенным страхом подошла к столу, двумя пальцами взяла бумажку, где какими-то каракулями была нацарапана смерть, и понесла ее к печи. Марко в задумчивости, с любопытством взглянул на мать. На ее сосредоточенном лице закачался мир и выразительно прошли тени страдания, что их принес этот обрывок войны. Мать еще раз глянула на него и бросила в огонь, а сама, как молитву, торжественно и страстно зашептала какое-то заклинание. Марко только и услышал: «Иди, смерть, на болото и в безвестность, где люди не ходят, где звери не бродят, где петухи не поют…»
— Таки горит смерть, — сказала после всех колдовских «тьху-тьху».
Марко не знал, что в таком случае надо делать: надуться, быть ли сурово-торжественным, как его мать, или махнуть рукой и улыбнуться, как умеют со стороны посмотреть на свои беды наши люди. «Практики еще такой не было», — насмешливо ответил своим мыслям, присматриваясь, как на шестке кукожился, чернел и крошился вестник смерти.
— Сожгла, пропади она пропадом, смешала с жаром пепел черновой. — Отошла от печи и начала вытирать стол, будто хотела стереть и след, где лежалая похоронная, и снова с боязнью взглянула на ногу. — Не болит она?
— Не болит она, — подчеркнул материнское уважение к раненной ноге.
Мать покачала головой, в мыслях отделяла обман от правды.
— Разве ты скажешь о своих болях, какие они есть? Знаю тебя хорошо. Ты увечьем хвалиться не будешь… И не обманывай, что скоро будешь ходить.
— Вот увидите. Еще и танцевать буду шивертом-вывертом.
— Вы все нас утешаете под старость, как мы вас утешаем малыми. Это тоже немного помогает, потому что сердце нас хоть и мучает, но все верой живет. А как на той неделе, когда как раз мело на дворе, что и света божьего не видно, утешала меня какая-то молодица. Вот достучалась до этого жилища, отряхнула снег и встала у дверей, как рисованная. Долго расспрашивала о тебе, душой уговаривала не верить похоронной: все они ошарашивают человека, а не все правду говорят. Поговорили вместе, погрустили вместе да и разошлись, как родня.
— Что же это за молодица была? — встрепенулся и удивился Марк.
— Будто учительница приезжая. Приветливая такая, хоть с лица грусть и не сходила.
— Учительница?
— Ну да. Тебя хорошо знает. Сама хорошенькая, темноглазая. И подарок мне под полой принесла — муки на замес. От пайка своего оторвала.
— Чудо! — Марко наморщил лоб, припоминая, какая бы это учительница могла допытываться о нем. — И вы взяли муку?
— Отказывалась, так она обижаться начала. Говорила, что через день придет на свежий хлеб. Да и не пришла. А я для нее и шикухи[5] достала, чтобы сварить вареников с урдой[6].
— Как же ее звать?
— Как? — мать поправила платок, напряженно задумалась. — Вот тебе и на: стерлось из памяти. Г олова стала, как решето — ничего не удержит.
— Может, потом припомните.
— Может и вспомню. А еще раньше новый учитель приходил, тоже очень хороший с лица и душой, Григорием звать, этого запомнила. О, уже кто-то идет.
Сверху в самом деле забухали чьи-то шаги, отозвались голоса, а в землянке заволновался ночник. Марко удобнее сел на топчане, выпрямился, чтобы людям меньше бросалось в глаза увечье. Первым на пороге появился седой, как голубь, пасечник Зиновий Петрович Гордиенко, а из-за его плеча выглядывала по-старосветски накрест зачехленная двумя платками подвижная голова Христи Гордиенчихи. Старик незаметно отдал матери рамку с сотами и сразу пошкандыбал[7] к Марку, обнял его, защекотал зеленоватой бородой, пахнущей дымом и медом.
— Ну, здоров, здоров, Марко! Слава богу, живым вернулся в свои хоромы.
— Не тю ли на тебя! — сразу же набросилась на мужа Гордиенчиха. — Теперь никто не удивится таким хоромам. Теперь счастье, когда душа хоть в каком ни есть теле нашла пристанище.
— Эт, зазвонила на Рождество, так и до Пасхи не остановишь, — отмахнулся старик рукой от жены. — Хоть здесь не тарахти, как порожняк.
— Доброго здоровьица, тетя, — с любовью и жалостью смотрит на округлое с курносинкой лицо, а перед его глазами, словно быстротечные лучезарные вагоны, аж мигают далекие года, когда в доме Гордиенко он находил и сердечную радость, и встретил свою первую любовь. — Как вы там?
— И не спрашивай, дитя. Как люди, так и мы, — протянула, вытерев об подол, руку.
Марко поцеловал ее. Христя от неожиданности аж потеряла равновесие, по привычке хотела тюкнуть на него, но сразу же запечалилась и этой же рукой потянулась к глазам.
— А когда же я, Марко, своих деточек увижу, как тебя? Когда же они вернутся из далекой стороны?
— Вернутся, глупая, если меньше будешь собирать слезы в сумку. У тебя и сейчас хватит ума открывать похороны, — оборвал ее Гордиенко… — Так же иногда плачет, Марко, что от слез десяточные рубашки тлеют.
— А он и слова не даст, ирод, сказать, росинки не даст пустить, хотя возле пчелы целый век толчется. — Гордиенчиха кулаком и глазами погрозила своему «трутню» и пошла к печи помогать матери, которой женщины незаметно передавали какие-то мисочки или хлеб, а мужчины разнодержавные бутылки, закупоренные кочанами кукурузы.
Сыны черной земли и жестокой судьбы, вечные землепашцы и списаны под «чистую» воины, великие целинные натуры, вдоль и поперек переголосованные войной, и обычные простые дядьки, в меру дипломаты, а без меры труженики, которые брели своим горем, как темным морем, подходили к Марку. Подходили в неловкой одежде, в грубой обуви, сляпанной казна из какой кожи или склеенной из трофейных автомобильных камер. Подходили с тяжелой давней тоской на лицах и с добрыми словами на устах. Потрескавшимися и жжеными, стреляными и рубленными руками обнимали мужчину и молча утешали его этими же руками.
Матери как матери, спрашивали одно и то же: не встречал ли где-то их сынов, которые стучат уже собаке-Гитлеряке в железные двери. Родители же допытывались, скоро ли закончится война, потому что если еще дальше продолжится такое безумство, то и люду на свете не останется. И только девушки не спрашивали о своих женихах, которых с каждым днем становилось все меньше и меньше — на чужих далеких землях досевалось наше наиболее дорогое зерно и любовь. И в девичьих глазах Марко видел неизъяснимую тоску, которую не передадут, наверно, и гении кисти, потому что разве можно в одних глазах вместить и черные тени войны, и муки потерь, и годами да свинцом прерванную или кровью сошедшую любовь, и самой природой, а не девичьим целомудрием едва намеченные пугливо-трогательные и тревожные признаки материнства.
Еще кто-то забухал наверху, скрипнули двери, и в подбитом тьмой косяке, как в рамке непокорный портрет, зашевелился невысокий, крупнотелый, в свитке нараспашку дед Евмен Дыбенко, за ним тенью гнулся похожий на журавля Петр Гайшук, которого в селе называли министром без портфеля. До черта умный, но по-мужицки осторожный, Гайшук, может, и дослужился бы до высоких должностей, кабы бы не имел естественного недоверия к неземледельческому хлебу и не так любил скот, особенно же волов. Наедине он им и пел, и говорил с ними, и они понимали его язык. Теперь, когда война уничтожила волов и забрала добрую частицу Петрова здоровья, он перенес свою любовь на коня, хотя от езды верхом не имел удовольствия: его длинные ступни почти всегда волочились по земле.
Из-за спины Гайшука протиснулась лукавая остробородая мордочка Максима Полатайка, тоже конюха. Он без единого слова щедро-величавым движением подал матери бутылку какого-то заморского вина с цветистой этикеткой.
— Краденное? — тихо и строго спросила мать.
— Неужели вы хотели, чтобы я в подвале самого Антонеску торговлю разводил? — удивилось и вознегодовало все лицо Максима.
— Как же оно из подвала Антонеску долежало у тебя до сегодняшнего часа?
— А вы думаете, я только одну бутылку взял себе на память об Антонеску? Для чего тогда было ездовым служить в армии?
— А что здесь: собрание или спектакль? — сразу же, еще не поздоровавшись, загремел старый Дыбенко.
— Ой молчи, Евмен, вечно ты… — как боль, встала возле мужа Евмениха, с безнадежно опущенными руками и боящимися глазами.
— Разве же я памятник, чтобы молчать? — показывается из рамок косяка. — Пропустите и меня, люди добрые, к председателю.
— К какому, дед, председателю? — удивился одноногий Василий Трымайвода, на груди которого красовались три ордена Славы и все три — за «языки». — Адресом ошиблись.
— Молчи и дыши, разведка! — старик остроглазо обвел всех взглядом, а кого-то и плечом подтолкнул, пробираясь к Марку. — Хочет, вылупок, чтобы я в таком деле ошибся! Пришел к истинному председателю — Марку Трофимовичу Бессмертному.
— Что вы, Евмен Данилович, какой я вам председатель, — удивляясь, откликнулся Марко.
— Не безымянный, не безродный и не черте что, а истинный, довоенный, который в голове и в душе имеет понятие и к земле, и к людям, и к коням, и к хлебу святому, и к рыбе в воде, и к птице в небе, и к вдове несчастной, и к сироте безродной! Что, может, вру, люди?
— Правду говоришь, Евмен, — первым отозвался Зиновий Гордиенко. — Марко мужчина с любовью. Помните, какая пасека была при нем?
— Пасека, пасека, — перекривил его Евмен. — Когда-то люди воск к богам в праздники носили, а теперь кое-кто к самогонщице во все дни тащит. Так какая же пасека не переведется на трясцу?
— Молчи, Евмен, молчи и дыши, — с болью попросила Евмениха.
— Сама помалкивай. Безбородько и на горе живется хорошо: глаза и макоеды от жира и самогона запухли. Так как я буду нынешнего председателя признавать? — непримиримый блик забился в глазах старого Евмена. — Не признаю его — и конец!
— А тебя же, Евмен, Безбородько хоть немного признает? — подколол Гордиенко.
— Мы с ним живем, как разные царства-государства. Я и советскою власть до двадцатого года не признавал, аж пока землю не получил, потому что разверстка была. А теперь этого ловкача Безбородько признавай! И за какую ласку или заслуги? — вызверился на Г ордиенко, — или, может, за то, что этот нерадивец совесть прогулял, как червонец, а хитрости набрал в долг? Молчишь, скука? Вот то-то оно и есть!.. Доброго здоровья, Марко.
— Добрый вечер, деда, — сердечно здоровается со стариком. — Разрешил Безбородько вам?
— Если бы только мне, то полбеды было бы. Разве же это работник? Он перед глазами — мелун[8], а за плечами — кладун[9].
Вокруг оживились лица, а Марко весело покачал головой:
— Вы, деда, ничуточку не изменились.
— Таки ничуточку. Чего же меняться деду? — притронулся красной от холода рукой к седой аккуратно подстриженной свеколке бородки, которая уместно удлиняла круглое лицо. — Я же не тот мотылек, который «ура-ура», на все трибуны вприпрыжку летел, когда же загремело — под трухлой корой куколкой притаился, а там и в гусеницу превратился. Вот какое в жизни кино бывает. А я — война не война — все время возле коней топчусь, и в рай или в ад на конях думаю добираться, потому что такая моя участь лошадиная. А все время меня элементом называют.
— За язык, деда, только за язык, — с насмешкой отозвался светлоглазый Василий Трымайвода. — Длинный он у вас.
— А ты его измерял? У меня, бесовская макитра, когда хочешь знать, ничего кургузого нет. И возраст мой длинный, и труд, и стаж, и язык. И говорит он только правду, а вы ее в резолюции не записываете. Как, Марко, не отсобачило тебе ногу? Теперь это дело не трудное: техника высокая. Что оно только будет, когда еще выше станет? Так как нога?
— Скоро на двух буду шкандыбать.
— Это дело! — обрадовался старик. — К книгам или там к портфелю хватит и головы, а к земле еще и ноги нужны. Значит, обеими будешь ходить?
— У Марка Трофимовича дела куда хуже моих, — тряхнул бело-золотистым, как зрелый хмель, чубом Василий Трымайвода. — Я один сапог пять лет буду носить, а ему надо целую пару на год.
— Ой молчи, бесчувственное чучело! — с сожалением отозвалась возле полуприкрытых дверей горячеглазая и горячеустая Варька, Василева жена. — Притарабанился же ко мне осенью; встал у плетня и в хату не заходит. Увидела его, выбежала во двор и застыла, как тело без души, и в слезы: «Ноженька моя дорогонькая, не ходить уж тебе по земле». А он, чудак, уперся спиной в плетень и хохочет: «А будешь летать по небу и со святыми играть в футбол…»
— Что-то же ей надо и там делать, — мило, с улыбкой или насмешкой над собой ответил мужчина, который никогда не мог натешиться работой: он был столяром и каретником, сапожником и бондарем, лодочником и рыбаком, слесарем и радиолюбителем, ткачом и даже костоправом, не говоря уж обо всех умениях земледельца. Кто в селе, как куколку, вошьет кровлю? Василий Трымайвода. А кто завершит, как пышные дворцы, скирды? Снова-таки он. Теперь энергичный, широкого характера Василий Трымайвода, кажется, не столько сокрушался о ноге, сколько о том, что напрасно пропадает половина его талантов.
— Хоть бы немного ниже одфугасило, — иногда жаловался Василий домашним, и туча набегала на его высокий, пополам рассеченный морщиной лоб. — Тогда сам под нее, как под пани, вырезал бы какое-никакое креслице. Ну, как не уважила она меня, не уважу и я ее: обойдется без креслица.
…Иногда, лишь в снах, Василий видел себя совсем здоровым, и тогда на его доверчивом лице всюду — и вокруг губ, и вокруг носа, и в межбровье, и вокруг глаз — начинала трепетать счастливо-недоверчивая улыбка, и это сразу же вгоняло в слезы страстную Варьку, от горячих и лихих глаз которой мало кто мог отвести взгляд.
Дед Евмен внимательнее посмотрел на Марка, потрогал его ногу, потом костыли, заметил, что сделаны они из непрочного материала, а потому надо скорее выздоравливать.
— Ты, Евмен, свои насмешки дома или в конюшне оставил бы, — не выдержала мать и собрала губы в оборку, забыв, что единственный сын старика недавно погиб в Словакии.
— Какие же это, женщина добрая, насмешки? — с удивлением пожал плечами дед Евмен. — Я хочу, чтобы твой Марко сразу выздоравливал и брался за председательство. Потому что это мужчина приехал к нам! Он колхозную кладовую не сделает своей хижиной и с человеком не поздоровается матюгом.
— Эта песня хороша — начинай сначала. Ну чего ты прицепился, неугомонный, с тем председательством? Мало тебе одного Безбородько? — уже совсем возмутилась мать.
— Эге, если бы он один, хулитель, был! — На белковатых глазах старика зашевелились колючие искорки. — Одного шелягового[10] правителя, куда ни шло, можем и водкой по уши залить, и раскормить, как свинью. А вот все его кодло, увидишь, пустит нас с сумами по миру. Ты этого хочешь?
— Эт, ничего я не хочу, только не болтай лишнего, не забивай мне баки в такой праздничный день.
— Ох и умные твои баки, как у Николая Второго.
— А чтоб тебе всячина, уже и до царя добрался, — сразу повеселела мать.
— Я весь век к правителям добираюсь, а они ко мне, так пока что и живем. А ты что-то свои воспоминания на очень осторожное сито начинаешь пересевать! — с полным пренебрежением отвернул надувшееся лицо от Анны. — Тебе же, Марко, хоть бы ты и без ног был, все равно придется председательствовать. Вот и принимай задаток! — бережно вытянул аж из-под рубашки какую-то истрепанную и потемневшую от времени или ненастья книгу.
Она напомнила Марку что-то далекое и родное, и сердце, опережая ум, ускорило свои перебои.
— Что это, деда?
— Не узнаешь?
— Узнаю и не узнаю.
— Довоенный список нашего села, — печаль прокатилась глазами старика. — Помнишь?
— Помню. — Марко, волнуясь, взял книгу. — Где же вы ее раздобыли?
— В конторе, когда немцы входили в село. Уже только ветер играл ею, поднимал вверх всех вписанных людей и швырял, куда хотел. И страшно, и больно мне тогда стало. Беру ее в руки, а она и в руках трепещет, как птица… Так и оказалась у меня… Надо же, чтобы какой-нибудь дурак списки сохранил, а потом заглядывал и сокрушался над ними, куда какая душа залетела.
В землянке сразу стало тихо. Дыхание прошлых лет прошлось по всем лицам, вспомнилось, что нет уже на земле многих людей, которые были в этих списках. Марко взял книжку, перелистал первые две страницы, и старые, выцветшие буквы глянули на него живыми человеческими глазами.
— Антоненко Федот Владимирович…
— Под Сталинградом в танке сгорел. Ордена расплавились на груди, — сразу окаменело доброе лицо Василия Трымайводы.
— Бакун Михаил Тимофеевич.
— На Букринском плацдарме героем стал. Теперь в Саксонии командует артиллерийской бригадой. Если очень захочет, выскочит в генералы.
— Вовк…
— Был и остался волком. Убежал, как полицай, бесследно. Убегая, проклинал свою судьбу. А разве же она виновата?
— Геращенко Максим Данилович.
— Связист в артиллерии. Пишет: столько размотал по разным НП и огневых кабеля, что хватило бы обмотать вдоль и поперек всю землю. Наверное, врет.
— Дыбенко Иван Евменович.
— В Высоких Татрах закрыл дот грудью. Клубок пуль прошел через самое сердце и расколол его. В Словаки похоронили воина, а песня о нем живет в Словаки и у нас.
Марко взглянул на приоткрытые двери, будто оттуда должна была донестись песня. И она в самом деле донеслась. Сверху отозвались приглушенные девичьи голоса. Они уже просили не людей, а гром, чтобы тот не тряс землю, потому что в ней отдыхал их кареглазый Иванко, и гром не трогал землю, а наклонял к ней облако, и оно плакало над словацкими горами, куда залетел с братьями Дыбенко Иван.
И сейчас без голоса, молча заплакал дед Евмен Дыбенко, подняв к глазам морщинистый полумисок ладони. На конце его шпакуватых[11] усов заблестели две капли. Он пальцами раздавил их, опустил руку вниз и спустя время сказал себе:
— Скис ненадолго — и высыхай. Тебе еще лучше, чем другим: сына убили, а судьба его по свету ходит.
Пораженный нечеловеческой силой песни и судьбой своих земляков, Марко вслепую нашел костыли, молча протиснулся к порогу, настежь отворил набухшие двери и тяжело запрыгал по хрустящим ступенькам.
Сразу за невидимой улицей темной пашней упало неспокойное мартовское небо. Между тучами и в ломких ветвях одинокого обгоревшего дерева блестели вещие звезды, и совсем недалеко от них или рядом с ними стелилось девичество. Оно, как бессмертие, шло по земле, шло выше людей, теснящихся в землянках.
III
Огородами и пожарищами на все стороны света расходились гости, и под всеми четырьмя сторонами света их ждали влажные землянки, шерстистый холод в уголках, тяжелые недостатки, сожаления и неусыпные, на страстных, на кровавых слезах замешанные, ожидания.
От самого края жизни отцы высматривали живых сынов, матери — живых и мертвых, и свои руки чаще всего прикладывали к груди, то ли чтобы усмирить сердце, то ли чтобы ощутить те годы, когда под сердцем вынашивались, а возле груди смеялись, плакали и засыпали дети. Так разве же они могли заснуть навеки в чужой земле? Разве могла безжалостная кривда потушить, пеплом развеять их глаза и все то, что было радостью и любовью, тревогой и надеждой? И снова тяжелые, мольбами набухшие руки опускались на грудь, которая до сих пор, после всех страданий, берегла тепло детей, даже тех, на которые уже пришли похоронки.
Девушки постарше тоже из-под самого края жизни, в глубокой грусти, соединяющей мятущееся прошлое с неизвестным грядущим, ждали суженых; прошедшие вечера под синецветом звездного неба им казались недосягаемой сказкой, которая прошла мимо них, и, может, поэтому затертые солдатские письма-треугольники они носили возле груди, где когда-то лежали молодые мужские руки.
А младшие девушки, которые еще стыдились своих форм и очертаний юности и не знали, для чего им дано девичество, ждали последнего выстрела и какого-то чуда, которое сразу же тогда настанет. И они уже на свои незатверделые плечики с серьезностью богинь и с улыбкой богинь брали тяжелейшую мужскую работу, не жалея юности и будущего материнства.
Марко даже в темноте видел доверчивую и чистую красоту их глаз, на которых не раз уже закипала роса тяжелейших потерь, вспоминал свою дочь и думал над одним: сумеют ли люди, близкие и далекие, за своими ежедневными хлопотами хотя бы постичь, как эти непорочные девочки, надрываясь от мучений и непосильной работы, спасали и их судьбу от фашистской свинцовой точки? Сумеют ли их, богинь двадцатого века, на добрых руках носить вчерашние воины, найдутся ли такие слова у тех, кто книги пишет, которые приворожили бы сердца людей к этим еще не расцветшим подснежникам, что рученьками своими, душой своей, будущим своим, в нищете и недостатках, без хлеба и человеческой одежды останавливали войну и провещали весну!?
А они как чувствовали, что думал о них дядя Марко, и кольцом окружили его, оберегая, чтобы где-то не поскользнулись неверные костыли. Так как же, посмотрев в такие глаза, можно было чем-то обидеть людей или обмануть их ожидания? Если подумать, твои старшие и младшие друзья больше желали тебе добра, чем ты сам мог им дать. И даже то, чего они ждут от тебя, в сущности, становится твоим добром или славой. Они ждут, чтобы ты не обленился, а стал истинным хозяином той земли, на которую впервые ступил мягкими ноженьками. Они хотят видеть в тебе своего отца и брата, а не верзилу, от которого уже утром разит самогоном. Они желают, чтобы им весело, с песней, а не с матюгом работалось с тобой. Они надеются, что при тебе земля будет родить не только на хлебозаготовки, налоги, натуроплаты, встречные планы и председателя, но и на земледельца. Итак, не забывай об этом, человече, когда имеешь голову, а не брюхо на плечах…
На ночь взялся морозец. Под ногами, как чертовы семена, хрустели угольки и звонко вскрикивали кружочки пузырчатого мартовского ледка; разламываясь, он какую-то минутку в самом деле нес запах земляного холодка только что сорванных подснежников.
Дед Евмен последним вышел из землянки, у преддверья набил трубку едким измельченным корнем и принялся добивать огонь из кремня, приговаривая к нему.
— Ну-ка же, бесовская культура, давай жару, а чтоб тебе испекся Гитлер в нем, как жаба… Ну-ка же!
Евмениха вздохнула и подняла на Марка сухие до блеска глаза, в которых, кроме скорби, ничего уже не было.
— Слышишь, Марко, с камнем говорит. Вот каким у меня стал муж. Все это после смерти сына… Как он утешался своим одиночкой. Теперь, когда меня нет, достанет сынову рубашку или пиджак и говорит с ними — сокрушается. Или подойдет к яблоне и тоже гомонит с ней; вспомнит, как подсаживал на нее свое дитя, и даже руки протянет вверх. Да от такого сожаления и дерево может заголосить. А со мной молчит.
— Ты что там, старая, наговариваешь? — с подозрением спросил Евмен, наконец выбив искру.
— Да ничего. Радуюсь, что Марко вернулся, — съежилась Евмениха и темными ресницами прикрыла свою скорбь.
— Ага, — успокоился старый и снова для чего-то выбил сноп искр.
Но неожиданно этот, всегда прошпигованный ветрами и сам ершистый, как ветер, мужичонка в один чирк выскочил во двор и, задрав вверх свеколку бородки, сосредоточено начал прислушиваться к небу, из облачной середины которого трогательно пробился звездный кустик.
Евмениха обеспокоено посмотрела на мужа, коснулась рукой его плеча:
— Может, месеры?
Но старый даже не шевельнулся и этим еще больше встревожил жену:
— Слышишь, Евмен, бомбовозы или месеры?
— Где там, отведьмилось, отбесновалось их. Гуси летят! — тепло содрогнулся голос старика.
Он снял шапку и поприветствовал ею птиц, которые как раз летели под цветом одинокого звездного кустика. А Марко поднял вверх костыли и в эту минуту сам был похожий на подбитую птицу с одеревенелыми крыльями.
— Гуси-лебедята, возьмите и меня на крылята, — певуче взмолилась дочь вдовы Ольга Бойчук, и среди ее подруг всплеснул невеселый смех.
— Как найдется кто-то — возьмет! Полетишь.
— О, и второй ключ подает голос, — отозвалась угловатая с сочными губами Галина Кушниренко и потянулась к небу обеими руками, а за ней и остальные девушки; теперь казалось, что и они стали похожими на птиц.
— Жизнь… Откуда-то из-за Дуная летят. А ребята наши именно на Дунае смерть крушат, в дым бы она рассыпалась. Ну, бывай, Марко.
Дед Евмен натянул шапку на уши и пошел домой. За ним тихо, как понурая тень, побрела Евмениха. Стариков стайкой обогнали девушки. А Марко еще прислушался и к их шагам, и к простуженному клекоту гусей, которые возвращались и возвращали его в далекое детство, когда больше было птиц в небе и меньше калек на земле.
Как тогда веснами славно и легко бегалось ему вслед за птичьими ключами, аж пока те на взмахах крыльев не уносили часть его радости и детского сердца. И почему-то защемило у мужчины в груди и в глазах. Он взглянул на небо, махнул костылями и пошел вслед за ключом, который уже отряхивал на снега последнее гоготание. В мыслях мужчины тоже всплывали и всплывали слова детской песенки: «Гуси-лебедята, возьмите меня на крылята», — несмотря на то что другие, деревянные крылья приковывали его к земле.
Марко шагал своим родным оледеневшим селом, словно по куску какой-то омертвевшей планеты. Теперь и тополя не радовали его: черные, с содранной корой, без живых нитей почек, они походили на скелеты доисторических рыбин. Как тяжело, грустно и неуверенно вокруг, среди убитых деревьев, муравейников-землянок и кладбищ печей, которые стояли безобразными памятниками фашизму. И эта печаль усиливала немоту: нигде ни песни, ни слова человеческого, лишь иногда спросонок отзывались одноногие, как и он, журавли, поскрипывали, что теперь и люди, как родниковая вода, живут в глубинах земли. На чьем-то покосившемся, с трещинами колодезном срубе он сел отдохнуть, вглядываясь в неспокойную темень; она все время менялась, переодевалась, шевелилась, будто живая, иногда раскрывала прогалинки с одной-двумя звездами, дрожащими, как дорогие украшения. Из глубины колодца сонными испарениями дышала вода, и нежданно из ее темноты он выразительно услышал детский плач.
От неожиданности мужчина прикипел к срубу, ежом сама по себе зашевелилась шевелюра, а в голову полезли самые страшные догадки. Он с ужасом наклониться к воде, и снова услышал плач, но уже не из колодца, а со стороны тот дошел до воды. Марко облегченно оглянулся. Неподалеку от сруба темно горбатилась землянка, там беспокоился чей-то ребенок, и голос его какими-то неизвестными щелями пробивался до сердцевины колодца. Мужчина начал отдирать эту боль от груди, прикидывая, когда сможет поднять село от земли, весело раскинуть по ней белые, как лебеди, хаты, а возле них вырастить молодые деревца и подсолнечники.
«Эге, я уже, кажется, сам себя назначил председателем», — улыбнулся в мыслях, хотя, чего греха таить, не раз думал, что после войны ему придется председательствовать, несмотря на то что кроме больших забот и неприятностей почти ничего не имел от того чина.
Он не был ни славолюбцем, ни сребролюбцем, ни хитрецом, ни тем, кто может под ударом сразу же пригнуться и испоганить душу. Она у него была мягкая, но и упрямая и даже норовистая. Тогда он думал только об одном: как вывести людей черной земли в настоящие люди и чтобы не нищенский хлеб имели они. За председательство трясли его разные верхогляды со скользкими языками, как прядь конопли, выбивали не так терпение, как гордость, а он держался своего, и жизнь его попадала на разные чаши весов: то в высокие передовые, то в судебные инстанции. Бывало, сегодня о его успехах аж медом капало с газетной страницы. А завтра он оказывался анархистом, диверсантом, саботажником и вообще подозрительным элементом. Но и в тяжелейшие минуты не сгибался перед своей нелегкой судьбой, как дед под церковью, и не пил с ней мировую. Он кричал на нее, спорил, как мог, отстаивал себя и людей, казнился, сокрушался, но не впадал в безысходность и не жаловался за рюмкой на свои шрамы, которые справедливо, а чаще всего несправедливо прорисовывались опять-таки в мыслях.
«Вот и начал свой старый сундук перебирать и таким получился, хоть икону рисуй и в церковь неси», — пожурил сам себя, встал с согревшегося сруба и снова качаясь попрыгал по снегу, присматриваясь к тому, что называлось селом, но не было им, и нес в мыслях видения новых хат-белянок.
За плотиной, что пересекала неширокую ложбину луга, темнела громада старых осокорей, в ее перешептывании с ветром, в благоухании коры и ветвей уже чувствовалась жизнь. Еще недавно между этими деревьями стояла каменная, земством построенная школа. В ней когда-то он познавал премудрость «отченаша» и считался сообразительным, но непоседливым сорвиголовой. В этой же школе его, подростка, в гражданская войну допрашивал деникинский офицер — с хмурыми глазами и темный, будто снятый с афонских образов. На розовой дорогой бумаге, в кругах которой прозябали двуглавые орлы, четко и красиво вписал ему расстрел без суда и перекрестился на божью мать троеручицу. А уже после гражданской войны он, Марко, в этой же школе встретил свою первую любовь — молоденькую учительницу, которая перед самым браком неизвестно почему сбежала от него. Он не догонял ее, словно молодые лета. Большой гордостью побеждал большую любовь, но до сих пор не знает, кто ее победил: или гордость, или годы, или песня золотоволосой, как осенняя вербочка, Елены. И вот уже нет ни первой, ни второй его любви, но есть большая тоска и по первый, и по второй любви, а третьей не будет… Только бы дочь вернулась из неволи…
Тихо-тихо шумят-перешептываются осокори, а между ними комьями битого кирпича, седого недозрелого гранита и мерзлой остекленевшей грязи лежит то, что называлось школой. Неужели те уроды, которые высаживали в воздух это здание, тоже когда-то в свою школу ходили? И к человеческой ли мудрости приникали они, или к какой-то грязи?
Марко поднимает кусок ноздреватого седого камня, которому не хватило еще нескольких тысяч лет, чтобы заиграть синим бликом. И этот обломок гонит по его руке тихий печальный трепет, переполняет им все тело, перелистывает прошлые дни. Значит, и камень имеет силу всколыхнуть и детство, и юность и напомнить сегодняшние слова матери. У человека с годами седеют глаза, а холодный седой камень через тысячи лет впитает в себя теплое синецветье. Не мудрствование ли?
Марко бережно роняет частицу бывшего фундамента, поворачивается и замечает, что возле осокоря, растущего у бывшего торца школы, зашевелилась невысокая женская фигура. Вот она замерла и что-то по-птичьи пугливое и по-женски растерянное, беспомощное чувствуется в ее тонком абрисе. Что в такой поздний час здесь делать женщине или девушке? Одеждой горожанку напоминает, а платок по-крестьянски завязала. Марко видит, что неизвестная собирается впопыхах уйти от руин, и он быстрее шкандыбает вперед.
— Кто ты, добрая женщина? — останавливается недалеко от торцевого осокоря и пристально вглядывается в наглухо задернутое лицо неизвестной. Только глаза глянули на него, и по ним он догадывается, что лицо женщины должно быть красивым. Настороженность, неуверенность и глухое предчувствие охватывают мужчину. Он еще раз спрашивает: — Кто ты?
— Я твоя судьба, — звучит неожиданный и загадочный ответ.
Даже фронтовика могут поразить и ошеломить эти слова. Марко удивленно столбенеет и еще чего-то ожидает, а дальше начинает улыбаться.
— Такая у меня хорошая судьба?
— Ты лучшей стоишь, — слышит мелодичный, сожалением перевитый ответ. Ему показалось, что давность, и даль, и сон зазвучали в ее голосе. Марко аж голову отвел, будто должен был увидеть в темноте что-то из далеких лет. Но ничего, кроме осокорей, которые тоже, казалось, проросли из самой тьмы, не увидел.
Он поворачивает голову к неизвестной и сначала даже не верит, что ее уже нет. Каким чародейством так быстро могла она исчезнуть, забрав с собой и неожиданность встречи, и отголосок давности?
— Эй, судьба, куда же ты снова побрела? — с укором, насмешкой и настороженной заинтересованностью бросает в ночь, выпрыгивает на тропинку, но нигде ни куколки. Женщина и появилась, как лунатик, и лунатиком исчезла.
Так, в конце концов, и встретился мужчина со своей судьбой. Хоть бы догадался попросить, чтобы скорее забрала у него костыли. Много счастья не просил бы он. Но судьба, видно, догадалась, какая у него будет просьба, и скорее убежала. А через какую-то минутку Марко уже сомневался: встретил ли возле этого осокоря какую-то странную женщину или ему примерещилось? Но у него душе до сих пор тревожно звучали ее слова, и что-то в них было знакомым, будто где-то он уже слышал этот голос… Хм, если по росту судить, небольшая у него судьба, но, видать, бойкая: сразу как водой смыло. Удержи такую за полы!
Он еще какую-то минуту чего-то тревожно ожидает, прислушается к темноте, а потом, улыбаясь и насмехаясь над собой и загадочной встречей, минует руины, выбирается на площадь. Перед ним туманно поднимаются очертания старой колокольни и церкви. Эти единственные здания только и остались неразрушенными в мертвом и живом селе. Видать, так всегда бывает на белом свете: богам больше перепадает счастья, чем людям…
IV
В клетчатых окошках трехкупольной церкви неровно дышит тусклый свет, кажется, он все время раздумывает: то ли качаться ему между небом и землей, то ли вздохнуть в последний раз и потухнуть. И хотя у Марка уже все чаще предательски подгибается здоровая нога, а в подмышки болью врезаются костыли, он решает добраться до необычного огонька: кто там возле него студит, греет или растравляет душу?
Перед церковью одиноко виднеются железные ворота — изгородь вокруг нее тоже проглотила война. Шагая кладбищем, Марко удивился: на снегу пестрело множество детских следов. Что здесь было делать мелким птенцам? И не многовато ли чудес на сегодня: возле школы встретил свою судьбу, а возле церкви детские следы… Что же это за женщина была? Говорила, будто из какой-то забытой сказки или книжки вышла… А голос все равно что-то напоминает ему. Только что?..
В таких раздумьях Марко поднимается на протертую паперть, гремит по ней костылями и плечами налегает на тяжелые церковные двери. Они, вздохнув, проворачивают в уголок устоявшуюся перед дверью тьму, а к Марку пробивается неверный масло-серный блеск безжизненных лучей царских врат и неясные пятна святых и богов.
Но не царские врата и не уставшие боги поражают мужчину. Он с удивлением, недоверием и даже со скрытым страхом расширил глаза, потому что в церкви творилось что-то не то: возле алтаря стоит не батюшка в ризе или рясе, а коренастый, в офицерской шинели нараспашку, лет тридцати пяти горбоносый красавец, на груди которого сияют ордена и медали.
«На порядочный иконостас разжился человек, только зачем с ним в церковь залез? Богов удивлять?» — тихонько хмыкнул Марко, присматриваясь к неизвестному русому красавцу. Возле него, на не застеленном поставце, немилосердно коптит сделанный из гильзы снаряда светильник, неровно кладет свет и тени на сбитых в кучу и одиноких святых. А к поставцу по-братски прислонились кобза и бугристый автомат.
«Навряд, чтобы такой инструмент когда-то в церкви лежал. Чудеса, да и только!» — Марко становится недалеко от правого придела, где среди темной живописи его когда-то удивляла святая Варвара, которая была похожа на празднично убранную сельскую девушку в ожерелье, вышитой сорочке и венке.
Красавец в офицерской шинели заглянул в раскрытую книгу, что с другими лежала на поставке, выпрямился, выпятил грудь кузнеца, которая аж отозвалась серебряным звоном, и сосредоточено, даже немного артистически встал перед святыми и низковатым голосом начал говорить к ним:
Один у другого питаем: Нащо нас мати привела? Чи для добра? Чи то для зла? Нащо живем? Чого бажаєм? I, не дознавшись, умираем, А залишаємо діла.Рисованные праведники и мученики, все больше и больше выходя из темени, слушают непривычные святые слова и строго молчат. Молчит и бог, держа в руке исковерканную землю. Наверно, и он никак не может понять, почему ему приходится вместо теплого благоухания настоящего воска вдыхать угарный бензиновый смрад и выслушивать поэзии не Матвея и Иоанна, а пророка Тараса.
Как и все неожиданное, Марка увлекает это удивительное приключение в церкви, и он уже с полной приязнью смотрит на неизвестного и решает, что это артист.
«Они странные, могут, когда нет людей, и богам стихи читать. Может, это и неплохо — репетировать перед богами, чтобы чувствовать святость перед людьми».
Скоро догадка, что он имеет дело с артистом, находит новое подтверждение: неизвестный, что-то пробормотав себе под нос, берет бандуру, садится возле поставца и начинает перебирать струны. Но вот зарокотали, загрустили они и начали заполнять всю церковь тоской далекой старины, над которой забился красивый, но надорванный голос.
«Эх, артист, провоевал ты, наверно, свои связки», — с сожалением подумал Марко. Но песня, хоть и срывалась, как подбитая птица, уже крепко цеплялась крыльями за сердце, переносила его в далекие края, в века, в печаль.
Закувала та сива зозуля Рано-вранці на зорі; Ой заплакали хлопці-молодці, Ген, ген, у турецькій неволі, в тюрмі.С каждым словом грустнело, мрачнело лицо певца, будто его самого заковывали в кандалы. У него хватало голоса вырваться на пик мелодии, когда на волнах синего моря взлетали запорожские байдаки, но этого уже не замечала Маркова душа; с нее смывается любопытство к церкви и святым, а рождается интерес, доверие и сочувствие к певцу-бурлаке, который, видать, тоже черпнул горя не с мелкого дна, оно и сейчас оживает в глазах, и в размашистом рисунке бровей, и в тенях, охватывающих лицо.
И вдруг Марку показалось, что неизвестный застонал, застонала и кобза, к которой он припал головой. Какая же беда или отчаяние нагнули его к печальным струнам, от которых еще до сих пор отрывалась тоска и поровну плескалась возле рисованных рая и ада?
Марко хорошо знал цену мужской тоске и мужской слезе.
Не в церкви — в жизни он имел и рай, и пекло, хотя никогда не был ни святошей, ни грешником. Когда выпадало райское время, счастливо удивлялся: почему оно досталось ему, а не кому-то лучшему? Когда же ему выпадали адские испытания, тоже сокрушенно удивлялся: почему же не разберутся, чего он стоит? Тот, кто волей времен оценивает, кладет на весы чью-то душу, должен сам быть, как хрусталь, и неуклонно понимать, что самые большие муки — это даже муки не потери или прощания с единственным миром, что могут увеличиваться или мельчать, а муки несправедливости суда или даже осуждения.
И вот сейчас Марко уже не по лицу неизвестного красавца, а по линиям его согнутой фигуры ощущал, что не сила предковой песни, а что-то другое надрывало его. И ему надо помочь дружеским пожатием руки, или верным словом, или взглядом. И Марко как можно тише забухал своими костылями. Но они все равно разбудили чуткое эхо, оно понеслось и вверх к рисованному небу, и в масляно-серное золото царских ворот.
Неизвестный вздрогнул, поднял голову од кобзы, и от прикосновения его волос тихотихо зазвенели струны. Он пристально вглядывается в Марка темным, настороженным взглядом. Но вдруг его глаза начинают светлеть, как светлеет рассвет, вырываясь из темного лона ночи. Тряхнув вихром, красавец в приятном удивлении привстает на ноги, поднимает вверх две косые стрелки бровей и мягко, хорошо улыбается Марку.
— Вы Бессмертный?
— Что вы! Я обычный смертный, — отвечает усмешкой на улыбку.
— Я не об этом, — смущается неизвестный, и на его продолговатом отбеленном лице появляются неровные румянцы, которые при неверном свете больше похожи на тени.
— А о чем же вы? — Марко прямо-таки любуется красавцем, ощущает, что встретился с истинным человеком, и хочет все в ней видеть хорошим.
— Вы Марко Бессмертный? Правда же? — допытывается и яснеет мужчина.
— Что правда, то правда, — соглашается Марк. — Неужели это видно по мне?
— Безусловно, видно, — сильно смеется неизвестный, а его лицо становится прекрасным от сердечности и какой-то милой загадочности. — Я именно таким вас и представлял.
— Представляли? — удивляется Марк. — Так до этого времени никогда не видели меня?
— Не видел, только слышал.
— Буйная у вас фантазия, как и шевелюра. А вы кто же будете? Наверно, артист?
— Разве похож?
— Выкапанный артист.
— Нет, я выкатанный учитель.
Марко весело прищурился:
— Учитель — и в церкви?
— Так в святом же месте, а не в аду, — отвечает ради шутки. — Теперь два мира сошлись не только в гигантской битве, а даже в этой смирной церквушке, доживающей свой век.
— Даже так?
— Конечно.
— Как это понять?
— Просто. Прислали, верней, я сам напросился в ваше село детей учить. Удивило мое желание заврайоно, растрогался он и сказал на прощание: «Хоть на морозе, а учи, потому что война войной, а ум человеческий не должен перелогами лежать. Сей хорошее и вечное!..» Ну, и приехал я сеять, посмотрел на руины школы и начал присматриваться к церкви. Но убедил людей лишь на половину: сошлись на том, что в будни здесь будет школа, а в праздник — церковь.
— Интересно! — засмеялся Марко, только теперь заметив в церкви ряды школьных парт.
— Интересного, сказать по правде, не так уж и много, но выбирать не было из чего, да и некогда было. Так и пристал примаком к отцу Хрисантию, который до сих пор большую революцию называет большим потопом. Сначала в этой удивительной школе кое-кто из детей пугался чертей, а теперь ничего — привыкли, называют их фашистами и, как могут, смеются над ними. Это не очень нравится нашему попу, поэтому он сам своей персоной начал проявлять интерес к строительству школы. Вы бы, может, присели, потому что я такой негостеприимный… — бережно придвигает некрашеный стул, который еще пахнет свежестью леса.
— Можно и присесть, — Марко удобнее опускается на стул, чтобы спиной опереться о парту. — Как зовут, величают вас?
— Григорием Стратоновичем Заднепровским.
— И сами из-за Днепра?
— Да, с самого низовья, где солнце, волна и степняк, — замечтавшись, взглянул поверх святых, и не нюхавших благоухания ни степи, ни большой воды.
— А теперь сеете… в церкви?
— Неповторимое время, как сказал один поэт. Его не забудут ни ученики, ни учителя, ни наши потомки… Вы, я слышал, на лугу родились?
— На лугу, в сенокосную пору.
— А я на море, в шаланде, — хотел улыбнуться, но неожиданно погрустнел, и около губ появились полумесяцы морщин. — Но видать, не вышел из меня достойный сын моря.
— Укачивает?
— Нет, заносит, — еще больше помрачнел Григорий Стратонович. Будто ища утешения, он сжал пальцами струны, и они отозвались стоном.
— Заносит? — переспросил Марко, думая, что есть такое морское слово. — Не понимаю.
— Что же, когда-то расскажу об этом сроке, — с прижимом выговорил последнее слово.
— А может, сейчас?
— Разве вам не пора отдыхать? Вы же только что с нелегкой дороги вернулись.
— И это знаете?
— Все, что было до войны, понемногу знаю о вас. И о вашей похоронной слышал. И вашу мать, как мог, утешал, потому что и самому что-то подобное похоронам готовила жизнь.
— Теперь?
— Теперь не странно. У меня же было до войны, — больно взлетели вверх и подломились брови.
— В тридцать седьмом году? — встрепенулся Марко, вспомнив свое.
— Еще раньше.
— Раньше?.. Эге, и вас, вижу, судьба не ласкала. Так и рассказывайте, Григорий Стратонович. Ночь длинная, церковь просторная, можно не только со святым гомонить. Поговорим и мы, грешные, чтобы чище или умнее стать.
— Приключение мое, Марко Трофимович, длиннее ночи, и не светлее ее. Сколько лет, и каких лет, всплыло, а оно и не думает затмеваться, будто картина редчайших красок, — сказал Заднепровский с горькой улыбкой или насмешкой. — Вам, знаю, можно во всем довериться… Наверно, слышали, как играл песню о турецкой неволе?
— Слышал. Растревожили, растравили ею.
— Она частица нашей давней истории, а для меня — давней и недавней.
— Даже недавней?
— Да. Почти все теперь думают, что турецкая неволя была каких-то триста-четыреста лет тому…
— Правду говорите.
— А я попробовал ее в тридцатых годах, — гневом и болью вспыхнули глаза, а красивое лицо и особенно веки на глазах постарели. — В те года я встречал свою молодость. Тогда мне не ходилось, а леталось. Все мне было дорогим, доступным, радостным. И в самом деле, чего желать было? Куда ни пойду — всюду желанный гость, за что ни возьмусь — работа горит в руках, наука же сама лезет в голову, а здесь еще и синие глаза к сердцу припали. На людях идешь с ней, как с королевой; в одиночестве — несешь к морю, как русалку, хотя и не любила моя Оксана моря, неверным называла. А я только подсмеивался и запрещал стихию хулить предательством. Не радовали Оксану ни мои щедрые уловы, ни причудливые редчайшие создания, добытые из морских закоулков. Все хотела, чтобы я переехал на Полесье, где возле междуречья и леса выросла она. Вот там вода, так вода: возле нее все девушки синеглазыми рождаются. А какие дубравы, боры! Ранней весной голубеют от подснежников, весной белеют в земляничниках, летом краснеют от ягоды, а осенью пылают золотом и пурпуром. Я не соглашался с нею, называл это местным патриотизмом.
— Разве море имеет меньше цветов, чем твои леса?
— То сокровенные цвета, — сердилась и морщилась Оксана. — В них жертвенная кровь выступает.
Так и спорили с ней, аж пока однажды не поплыл с побратимом Дмитрием ловить скумбрию. Перед тем Оксана никак не хотела пускать меня в море, прямо слезно умоляла, как чувствовала несчастье. Я уже начал сдаваться на ее уговоры, но Дмитрий поднял нас обоих на смех, пообещал мне на день рождения подарить юбку и газовую косынку. Такие косынки тогда в моде были. Насмешка победила девичьи слезы.
Прижал я свою грустную пичужку, чмокнул в то место щечки, где всегда брал начало ее гневный румянец, да и в шаланду. И поехали мы, напевая, за горизонт, ближе к морскому сердцу. А оно и показало свой нрав, когда мы уже радовались доброму улову. Поздно, ой как поздно спохватились мы и изо всех сил начали грести к берегу. Мелкой чешуйкой затанцевала, закрутилась наша шаланда по распаханному бешеным плугом морю. Мы, как могли, боролись с волнами, но они нас погнали туда, где уже и море, и небо, и темень, и гром бесновались в одном клубке… Да, таких красок мне никогда не приходилось видеть на волнах, и если на них выступала чья-то кровь, то это была бесовская кровь, жаждущая человеческой.
Не раз мы утопали в бешеной купели и каким-то чудом или злодейством вылетали на пену обозленных гребней, чтобы снова провалиться в разверстую душу стихии. Всей дикой силой она, кажется, на третий день выбросила нас на чужой берег, прямо в турецкую неволю.
Темнокрылым вороньем с воплями радости и победы налетела на нас пограничная стража. Закольцевала веревками и помчала к высшему начальству, а дальше — в тюрьму. Чужое адское злорадство дрожало над нами, полуживыми, с закоченелыми сердцами и кровью. Но в этот же день в тюрьме наша кровь закипела огнем и запеклась смолой — тюремщики сразу же начали выбивать из нас показания, что мы шпионы. Им для чего-то очень нужны были шпионы… О человеческих мучениях немало написано книг. Наши мучения были не большими, но, наверно, и не меньшими. Три года из нас старались вырвать, вытянуть или выжать нужные им свидетельства, и наши тела даже до боли отупели. Кажется, только однажды я испугался, и не мук, а слов, когда меня завели в застенок к новому палачу, в свежей шелковой рубашке, в старательно выглаженном костюме, в петличке которого безнадежно покачивал головкой вниз повешенный цветок. От этой цивилизации в застенке мне стало жутко. Вымучивая не грозную, не злопыхательскую, а радушную улыбку, насколько может быть радушной улыбка палача, он обеими руками ласково показал на костер возле столба и заговорил почти на чистом украинском языке:
— Хватит вам упорствовать, сударь Заднепровский. То, что было с вами до меня, это был запев. А песня может начаться сейчас, подошел ближе к столбу. Кричать на вас не хочу, брать на испуг — нет смысла, но так буду поджаривать, что растопятся остатки вашего смальца и загорятся на этом костре. Сами услышите, как он будет шипеть.
Улыбка погасла на лице палача, а в глазах его шевельнулось такое дремучее, такое первобытное одичание, что меня охватил ужас: как такой выродок пещерного века мог дожить до наших дней и откуда у него взялся человеческий язык? И неужели это создание знает, что в мире есть слова: любовь, добро, человечность. Неужели и оно, может, говорило о любви какой-то доверчивой женщине, или даже целовало ее?..
Это был последний допрос. Я выдержал его, выдержал и Дмитрий. А после этого к нам, представьте, даже тюремщики пронялись уважением. Правда, это не помешало присудить нас к смертной казни — надо же было прятать концы в воду. Мы с побратимом спокойно выслушали приговор, только плотнее прислонились плечом к плечу, взялись за руки и глянули друг другу в глаза. Они были искренние, измученные и скорбные. Но это уже была скорбь не по жизни, а скорбь по нашей земле, по правде, которая сохранила бы наши затихающие имена. Нам хотелось только одного: чтобы на Родине знали, что мы выдержали испытание на звание человека. Потому что здесь следователь сказал: нас на Родине уже проклинают как предателей-перебежчиков и даже показал страшный клочок газеты. Это было самым большим наказанием.
После вынесения приговора к нам была даже проявлена тюремная гуманность: спросили, какая в этой жизни будет наша последняя воля, особенно соблазняли тем, что мы, как русские люди, можем вволю напиться. Так легче жить и легче умирать.
— Дайте нам увидеться с советскими людьми, — в один голос заявили мы.
— Это невозможно, — развел руками наш темный тюремный дух Фатин. — Они грешники, а вам уже пора думать о святом, — и, выбив из оливковых глаз смешинку, великодушно махнул рукой: — Так и быть — повезу вас сегодня в райский уголок.
И повез-таки на какой-то банкет тюремщиков, где были и музыка, и цветы, и вино, и танцорки, которые под тягучую музыку так извивались всем телом, будто из него уже были вынуты и кости, и женственность. Как на дурной сон, смотрели мы на этот предсмертный танец, а сами видели свою землю и сокрушались одним: неужели она покроет позором наши имена?
К нам подошел хмельной, веселый и довольный своим великодушием Фатин, кивнул головой на танцовщиц:
— Славные?
— Не знаю, — ответил я.
— Вы даже женскую красоту не цените? — тюремщик удивился и расплылся в сладострастной улыбке.
— Теперь мне женщины уже кажутся другими созданиями, теми, о которых давно когда-то только в книгах читал.
— За эти три года ни женщины, ни их прихоти не изменились, — засмеялся Фатин. — Выбирай, Григорий, какую хочешь из них. Выполню твою последнюю волю.
— Мне такая воля не нужна.
— А может, передумаешь?
— Нет, незачем.
— О, ты очень умный или очень хитрый, — одобрительно сказал тюремщик. — Если бы ты всерьез посягнул на какую-нибудь из этих краль, тебя мертвого повезли бы отсюда. Всюду и всегда надо честь знать, — с достоинством, без чувства юмора сказал тюремщик о чести. — Еще, пока не поздно, говори свое последнее пожелание.
— Дайте нам увидеться с советскими людьми. Разве это так тяжело?
— Тяжело, Григорий. Шум поднимется. А шум хороший только на банкетах, — сверкнул остротой и уже будто с завистью взглянул на меня. — Ох, и упрямые вы, большевики. Или вас из металла выплавляют, или из камня высекают? Наверно, мало вы радости имеете в жизни.
Я возмутился:
— А ваша радость — это не кощунство, приправленное вином и пороком? Разве вам не жалко, что эти раздавленные девочки не красотой, не материнством, а дурными болезнями наделят ваших людей?
Тюремщик даже вздрогнул, но сразу же овладел собой:
— Я не мулла. У меня хватает и своих забот… Что же, пора ехать.
А на следующий день возле нас пуще обычного засуетились черные духи тюрьмы. Сначала мы подумали, что это наш последний день. Но потом появились другие предположения, и в сердце забились надежды. О советских узниках узнало наше посольство, и скоро оно вырвало нас из лапищ костистой… Такое вот, Марко Трофимович, и до сих пор бывает на белом свете.
— Бывает, — тяжело вздохнул Марко, еще переживая то, что переживал когда-то этот красавец.
— А потом из турецкой неволи попал я в немецкую — в окружение раз и второй раз попал. Правда, вырвался из мешка на вашем Подолье. Ну, здесь я уже знал, что делать: за обе неволи мстил извергам.
— Партизанили?
— Партизанил. Командиром отряда стал. Трижды мою голову фашисты оценивали, и так оценивали, что некоторым нашим дуракам даже завидно стало, — глубокая печаль и обида мелькнули в глазах Заднепровского, и он едва сдержал стон.
— Что же случилось с вами? — забеспокоился Марко. Он уже понимал, что недаром партизан припадал головой к кобзе в пустой церкви. Очевидно, немалая скорбь подтачивала сердце красавца. — Какая-то беда?
— И сам не знаю: или это начало беды, или только коварство тех слов, которые бьют под сердце, а самого сердца не прокусят. Да не будем об этом! — понурился мужчина, прижал к груди кобзу и так ударил по струнам, что где-то в церковном закоулке проснулся, испуганно пискнул воробей и полетел за алтарь. Заднепровский провел его взглядом и, отвечая своим мыслям, вымучил улыбку: — Такое бывает: можно подумать, что над тобой божий дух махнул крыльями, а то обычный и к тому же вредный воробей. И смотри, куда полетел, — в алтарь, чтобы и там нагадить. У вас, Марко Трофимович, тоже когда-то был такой воробей?
— Да всего было, человече добрый, — задумчиво взглянул на учителя. — Жизнь — не шелковая травка, на которой ног не наколешь. Есть в ней и воробьи, есть и похуже создания. Если подумать, каждый человек имеет свою гадюку, но имеет и своего лебедя, какое-то время или всю жизнь поднимающего его на своих крыльях.
— Хорошо, Марко Трофимович, очень хорошо сказали. Таким я вас и до встречи представлял: душевным мужчиной, сельским интеллигентом, сельским энциклопедистом.
— Да что вы, — отмахнулся рукой. — Не передавайте, Григорий Стратонович, кутьи меда.
— Нет, не передаю. Разве же я не слышу, какой только язык у вас!
— Язык как язык — от людей и книг взятый. Правда, в других книгах очень боятся язык нашего деревенского жителя до уровня хотя бы какого-то слесаря дотянуть, будто это угрожает рабочему классу или интеллигенции. — И чтобы не говорить о себе, спросил: — Не обижают вас, Григорий Стратонович, в нашем селе?
— Да, кажется, пока что я больше кое-кого обижаю. Безбородько жалуется, что строительством школы жилы из него выматываю.
— Из него не очень и вымотаешь. Строитесь-таки?
— Строимся с грехом и скрипом. Денег нет, материалов маловато, только и живем — надеждами… Скорее бы уж скрутить голову фашизму. Как хочется произнести, услышать над всей землей святое слово «мир»! Тогда, кажется, и в завороженный мир по-иному будешь входить.
— Это правда… Нашли же вы в этом завороженном мире свою Оксану?
Заднепровский нахмурился, помолчал, для чего-то потянулся к Шекспиру, но снова положил книгу на поставец.
— Нашел, лучше бы и не находил… Она вышла замуж за учителя, перетянула его в то междуречье, где появляются на свет дети с синими глазами, и родила двух темноглазых дочерей. Имеет корову, телку, свиней, свой дом, зобастый табун гусей и гитару с розовым бантом. Но даже не это, другое поразило меня: тогда, когда я вернулся из турецкой неволи и проходил проверку, обо мне кто-то пустил ядовитый слух. Он, очевидно, дошел и до Полесья, куда я поехал работать, потому что когда встретился с Оксаной, она побелела, скособочила лицо, глаза, фигуру и чуть слышно произнесла произнесла:
— Чего вы?.. Я не знаю вас.
Я пришел к ней хоть, как говорят, с разбитой, но с любовью. Пока я доискался Оксаны, пока дожидался ее во дворе и в хате, мою любовь разрушили и скороспелый брак, и удойная корова, и достойное хрюканье свиней, и даже розовый бант на гитаре. И все равно хотел хоть посмотреть на свою милую, как на свою молодость, ее слова ошеломили меня.
— Оксана, неужели ты слухам поверила? — застыл возле ее гитары. — Я перед всеми чистый, как голубь.
Но она упрямо и уже со злостью повторила:
— Чего вам?.. Я не знаю вас.
— Не знаешь? — вспыхнул и я. — Тогда познакомимся. Григорий Заднепровский, новый инспектор вашего районо.
— Ой! — ойкнула она, и ее глаза засветились другим испугом. — Садитесь, прошу вас. Извините, Григорий Стратонович… Извините… Вот не думала, не думала.
Она, значит, испугалась не моей большой любви, а моего маленького чина… Когда же ты, человек, измельчать успел? А Оксана уже как-то и улыбку вымучивала, и нижними половинками глаз просила примирения.
— Как ты нехорошо, бедно живешь, — обвел я взглядом дом с голубками, со всюду натыканными ришелье и цветами из пересохшей деревянной стружки.
— Неправду говорите, — обиделась, не поняв меня. — У нас теперь все есть. Помучились студентами, а теперь, слава богу, оперились.
— Да, хвалился удод пером, а о духе своем молчал, — брякнул я на ее гитаре и спросил лишь одно: — Зачем же ты море неверным называла? — и ушел из хаты, перед порогом которой два лопоухие подсвинки подняли розовые мордочки, как знаки благосостояния.
Он уставил пренебрежительно-скорбный взгляд в церковный мрак, будто там колебалась та частица его прошлого, которое и кровью и сукровицей оторвалось от сердца, но порой прибивалась к нему, как прибивается к берегу потрепанная бесплодная льдина, на которой, однако, остались и крошки земли, и пепел давно угасшего костра.
Каждый по-своему отталкивает от себя дурные льдины прошлого, и редко кто, даже долгие годы спустя, признается в том, что когда-то и у него было много гнева, да мало великодушия. Не признавался в этом, верней, никогда и не задумывался над этим, и Григорий Стратонович, который только что наглухо зачернил подсвинками образ Оксаны.
— Так и разбилась жизнь, как стеклянная кукла, — с сожалением сказал Марко, потому что он не только слушал, но и вникал в сказанное, в те неспокойные, тенями подозрения заштрихованные года, которые разрушили не одну любовь к женщине и, опять-таки подозрением, разрушали любовь к людям.
Григорий Стратонович встрепенулся: его поразило сочувствия в голосе Марка.
— Вы словно пожалели Оксану?
— Таки пожалел, и вашу любовь, и судьбу девушки. — Марко помолчал, потому что в одно переплелись и житейская горечь трудных лет, и мысли и воспоминания о чьей-то и своей любви, и муки по своей дочери, которая неизвестно где и как встретила свою обокраденную, искалеченную юность. Насколько все сложнее бывает в жизни, чем мы думаем, когда наказываем осуждением чью-то судьбу, чью-то любовь. Не так ли было и с Григорием Стратоновичем?
А ему уже не терпится узнать, почему же Марко пожалел Оксану.
— Наверное, потому, что я больше прожил на свете… Вы, Григорий Стратонович, не раз и не два пели песню «Коло млина, коло броду два голуби пили воду». Бог знает, кто и когда сложил эту песню, а мы, уже насмотревшиеся на разное в жизни и заглянувшие в глаза смерти, думаем и сокрушаемся над теми птенцами, что имели любовь. Так разве же меньше надо думать о женской любви, хотя бы потому, что женщины, к сожалению, не более нас счастливы? За большими заботами, за грандиозными деяниями, за страшными битвами не забываем ли мы часом, что их надо больше оберегать от всего плохого и непосильного? Да и сама история забывает об этом: теперь она, как никогда, кладет на женские плечи такую ношу, что не всякий монумент выдержал бы. Но монументам же детей не надо рожать…
— Это уже, Марко Трофимович, другое дело, обобщение. Я обеими руками голосую за них.
Марко невесело посмотрел на учителя:
— Мы часто за обобщения голосуем обеими руками, а от конкретного, будничного умеем отмахнуться тоже обеими руками. А соедини эти два берега мостиком, сколько по нему добра пройдет для человека… Не вышла тогда Оксана вслед за вами?
— Порывалась раз и второй раз, но ухватилась за косяк, приросла к нему, и только плач догнал меня у калитки, где уже мельчали, засыпая, ипомеи… И такой тот плач был безутешный, что хотелось пожалеть не себя, а ее.
— Не пожалели, не вернулись, не сказали ей слов утешения, не вытерли ее слез.
— Не было кому, не было! — запальчиво вырвалось у Григория Стратоновича, его милое горбоносое лицо взялось чертами непримиримости.
— Может, и не было, и это неудивительно… Ну, а хоть спросили, как ей жилось тогда, когда вы оказались в турецкой неволе? Не отравил ли кто-нибудь ее сердца вашей необыкновенной историей? Или, прикрываясь так называемой бдительностью или другой высокой материей, не звонил ли на похороны вашей любви?
— Не признаю ни любви, ни дружбы, ни приятельства до первых заморозков или до первого грома!.. Хоть как бы там ни было, а она виновата!
— Все это правильно как обобщение, а правильно ли было с Оксаной?
— Безусловно!
— Вам, знаю, виднее, и вы, наверное, более решительный человек. А я, по старости своей, взвесив сказанное вами и свои догадки о том, какие от вашей истории в те годы могли расходиться круги, не знаю, винить или оправдывать девушку.
Учитель поднял косые брови, поправил шинель, что начала сползать с плеча:
— Оправдывать? Но почему?
— Потому что у нас уже стольких судили, что много более слабых людей увяло, не успев расцвести, — встал со скамейки Марко. Хмурые морщинки посекли вдоль, поперек и наискось его лоб, надбровье, задрожали в бровях и возле глаз, сразу потерявших часть своего блеска. — Я тоже, Григорий Стратонович, пил свою чашу в тридцать седьмом году. Она не оставила зазубрин на моей душе. Но я видел, сколько в те годы поломалось людей, от высокого метнувшихся к тихим закоулкам, к мелким делам и заботам, за них, дескать, могут ругать, но не наказывать. Есть и такая страница в нашей жизни, лучше бы не было ее. Не знаю, кто мудрствовал-лукавил над ней, кто был ее черным или, может, ослепленным автором, кто страшно согрешил, или не зная наших людей, или не веря им, или ненавидя нас, но он змеей подозрения ослабил и силу нашу, и любовь, и веру.
Заднепровский слушал, затаив дыхание. От волнения мужчина побледнел, а взгляд его не раз косился на двери: он знал, что при таком разговоре свидетели могут стать судьями.
— Проклятый вопрос, проклятый узел, кто только завязал его!? — страстно вырвалось у него. — И я не раз думал над ним и мыслей этих боялся. И вот теперь снова возвращается к нему одна гадина, может, вы и знаете ее — Поцелуйко Игнат. Ему я не выдал справки партизана. А за что же было давать?.. Не знаю, откуда оно, например, такое взялось: когда я один-на-один встаю на смерть — мне верят все, когда я погибну — уважают все, а когда я, может, чудом, разжав лапища смерти, остаюсь живым, кто-то начинает докапываться: почему я выжил и нельзя ли за это просеять мою душу на решете подозрения? Так это бдительность или что-то другое?
— Может, кому-то наша смерть больше нужна, чем жизнь! — мрачно сказал Марко.
— А ваша гадюка, которой вы не выдали справку, может, становится колесиком в проклятой игре. И такое может быть в этом узле, кто его только разрубит!?
Блуждая в сумраке догадок и прибиваясь к каким-то шатким выводам, два воина сами еще не знали того, что затронули те страницы народной драмы, которые мог породить исключительно трагедийный случай, но которые мог пережить и одолеть только большой народ!
Встревоженный взгляд учителя выхватил из полутьмы тусклый образ Иуды. И аж вздрогнул мужчина. Марко тоже пристально взглянул на Иуду.
— Что, и до сей поры люди не смогли вырвать Иудины корни?
— Значит, да. Они цепкие, приспособилось с веками ко всяким обстоятельствам… Помните: библейский Иуда после своего черного дела взял веревку и побежал вешаться. А мой Иуда, если ему удастся хоть на часок одолеть меня, смотри, как обиженный, на высший чин выползет, меня смертельным грешником заклеймит, а себя, не моргнув глазом, запишет в правдолюбцы и начнет поганить все вокруг себя и подозрением, и доносами, и враньем, и корыстолюбием.
— Что правда, то правда: на человеческом горе большое не уродится, а насиживающая червей муха поживу найдет.
— Мне иногда удивительно и страшно становится, — продолжал Григорий Стратонович, — как возле нашей святыни и величия, и такого величия, какого еще не знал человеческий род, могла, неизвестно в каком тайнике, вылупиться та никчемность, которая, прикрываясь идеями и именем революции, бьет в идеи и в революцию своим жалом? Мы самого страшного врага — фашизм — уже закапываем в могилу, а этот враг еще между нами ходит, то бросает грязь на наши свершения, то втыкает тлен в святыни. И смотри, его не хватают за руку, как скрыто-убийцу, а еще и прислушаются к нему, потому что он умеет выдать свое шипение за голос масс.
— А вы лбом хоть раз столкнулись со своим «правдолюбцем»?
В глазах Заднепровского сошлись страдания и гнев.
— Гадину и ее шипение за спиной слышу, но не могу поймать ее за хвост. Ведь она против тебя не выступает прилюдно, а бьет анонимкой, наушничеством, карканьем. И она оказывается на более выгодных позициях, чем ты, потому что не ты судишь негодяя, а он тебя руками твоих не в меру доверчивых единомышленников и подозрением комиссий.
— И все равно Иудиными корням недолго извиваться. Скорее бы закончилась война!
— Марко сказал эти слова как заклинания того времени.
Тяжелый разговор им перебил стук у дверей, и оттуда сразу же кто-то басовито спросил:
— Граждане православные, когда же вы дадите чистый покой или отдых храму божьему!? — цепляясь за парты, из тьмы, как ее клочок, выкачнулся сучковатый, широкогрудый батюшка с носом перезрелого огурца.
Граждане православные засмеялись, а поп вытаращился на них круглыми пьяненькими глазами, под которыми цыганскими сережками выгибались перепойные синяки, неодобрительно покачал головой и возгласил:
— Истинно, слышу не смирение слезное, а еретический смех в храме божьем, вяще же ничто же!
— Изыди, батюшка, не брюзжи напрасно, потому что не твой день сегодня, — сдерживая улыбку, заговорил Григорий Стратонович. — Не оскверняй святого и школьного места недостойной буряковкой.
— Не буряковкой, а сладчайшей абрикосовкой, — поучительно уточнил отец Хрисантий, и на его довольно земное лицо легло выражение комедийной святости. — Абрикосовка — воистину веселит сердца, ее и на благочинном соборе постановили.
— За что же вы, батюшка, сегодня потягивали увеселитель сердца: за крестины или поминки?
— Не угадали — за последнюю сводку Информбюро! — он победно поднял вверх указательный толстенный перст.
— Тогда прощаются грехи ваши.
— Богохульник! — выпалил отец Хрисантий и опустился на парту, прикрыв ее пышными телесами и одеждами. — А ты ведаешь, чадо младоумное, что мой отрок под самым Бреслау сто двадцатидвухмиллиметровым дивизионом командует? То-то и оно! Если бы у него было не духовное, а рабоче-крестьянское соцпроисхождение, он, может, в полковники выскочил бы, и я тогда пил бы только генеральские коньяки!
Такое чистосердечие развеселило Бессмертного и Заднепровского.
— Так отрекитесь, отче Хрисантий, от своего сана, повесьте рясу на огородное чучело, чтобы собственные дети не стыдились вас, — посоветовал Марко.
— Не могу отрешиться от сана, тогда весь мой род перевернется в могиле: он начал поповствовать еще при крепостничестве, это я сам нашел в клировых сведениях, а отец мой был аж отцом-ключарем. Так как же мне прощаться с поповством? Да и лета мои не те, и голос не тот: руководить самодеятельностью не возьмут, а заглядывать в руки детям не хочу, — совсем откровенно заговорил батюшка. — Опасаюсь только, чтобы потом из-за меня чадо мое не уволили из дивизиона, — истинная печаль легла на мясистое лицо попа и на его обвислый огурец носа.
— Кто же его может уволить, когда он в самом аду побывал! — успокоительно сказал Марко.
— Э, не говорите мне: я не сегодня родился на свет. Фортуна — неверная девица. Адам в раю возле самого бога проживал, но прогнали же его даже из рая. Молюсь и за свое чадо, и за все святое воинство.
— И по совместительству пьете?
— И пью, — согласился отец Хрисантий. — Этим христианин и отличается от турка. — Раскачавши тело, он встал с парты, подошел к угарному светильнику, провел над ним рукой и драматически наморщил лоснящийся лоб. — Это невменяемое копчение скоро всех святых в грешников превратит, и не будут люди знать, кому поклоняться. И зачем такие хлопоты святым?.. Грехи, грехи и военная суета, пойду еще благовест почитаю. — Но сначала он, пошатываясь, повернул на клирос, где висел реестр святых с определением, кто из них и в чем помогает грешным мирянам — или в хозяйстве, или в медицине. Там отец Хрисантий чем-то остался недоволен, потому что забубнил, как осенний дождь, прошаркал сапожищами по стертому полу и скрылся в темноте.
Когда заскрипели и громыхнули церковные двери, Григорий Стратонович спросил Марка:
— Как вам наш душеспаситель?
— По-моему, жизнелюб.
— И даже бабник.
— До сих пор?
Григорий Стратонович засмеялся:
— До сих пор. Однажды под хмельком признался, что его грешить заставляет только давняя привычка, а не что-то другое.
— Хорошее имеете соседство. Чего он так поздно приходил? Проверить, как приемыш ведет хозяйство или привела любовь к храму божьему?
— Скореє, любовь к водке. Наверное, где-то немного не допил. А в ризнице у него есть некоторые запасы не только красного вина. Может, воспользуемся ими? Не раз отец Хрисантий соблазнял меня в подходящий час наведаться в его закуток.
— Глядите, еще этот душеспаситель споит вас, — улыбнулся Марко.
— Такое не угрожает мне. Но сегодня можно было бы отметить ваш приезд.
— Спасибо, воздержусь.
— Не употребляете этого зелья?
— Употребляю, но теперь, к сожалению, перешел на наперстки: медицина так обчекрыжила мне внутренности, что там теперь больше души, чем тела… Полуживого выпотрошили, разобрали меня как-то в подземном госпитале, а здесь как ударит артналет и перекалечил чуть ли не всех, кто работал возле меня. Остался я сам и через некоторое время, придя в сознание, сгоряча встал на локти. Нигде никого, только на операционном столе лежат возле меня все мои внутренности и потихоньку паруют. Никогда не думал, что такие они непривлекательные и так их много. Но потом медицина так походила с ножами, что остались рожки да ножки: постарались, чтобы человек меньше хлеба и напитков потреблял.
Григорий Стратонович с сочувствием и увлечением взглянул на Бессмертного:
— Чтобы кто-то так сказал о своем увечье, поверьте, впервые слышу!
— Поверю. А теперь заиграйте, Григорий Стратонович, что-то душевное, печальное.
— Печальное? Почему?
— А в этих песнях, кажется мне, всегда больше души.
— Вы же подтянете?
— Об этом и не просите. Тело мое фашисты здорово покромсали, а дух и голос почти довоенного калибра остались.
— А мой голос, как и молодость, оборвался в турецкой неволе… Слышал, что много знаете песен.
— Какой украинец не знает их? На бесхлебье, или на хлебах, или в хлебах вырастает, а с песней не расстается.
— Это правда, что когда вы вернулись из нехорошего места, то семь дней со своими друзьями выпивали и лишь одни свадебные песни пели?
Марко весело покачал головой:
— И здесь приврали — только четыре дня.
— И только свадебные?
— Только их. Тогда на печальные не тянуло.
— И на четыре дня хватило свадебных песен? — с недоверием посмотрел на Марка.
— Как раз только на четыре, а дальше пошли работать. Да вы не удивляйтесь, тогда у меня память крепче была и к песням, и к книгам. Не начнем ли с «Забіліли сніги та забіліли білі»?
Печальной тоской и стоном отозвались струны кобзы; в унылом звучании загрустила песня двух бурлаков над судьбой неизвестного человека, который вместо судьбы имел несправедливость, холодную, как снега забелевшие, но имел и верность побратимскую, горячую, как кровь, набежавшая из чистого сердца.
Молчаливые святые, застоявшиеся на своих пожизненных местах, с удивлением прислушались к житейскому пению, а Марку не раз казалось, что их песню слушает еще кто-то, притаившийся в темени возле дверей. Это снова и снова напоминало ему встречу с неизвестной женщиной.
«Не причудлива ли судьба его?» — послал мысли к разрушенной школе и во все концы, где встречал или проходил мимо того, что люди назвали судьбой.
Где-то, как в подземелье, невыразительно пропели первые петухи. Марко встрепенулся, прислушиваясь к полузабытому пению.
— Как быстро время прошло, — начал собираться домой.
— И для меня мелькнуло, как минута.
Григорий Стратонович провожал Марка до руин школы. Здесь он, как перед этим Марко, тоже поднял кусок холодного камня и молча взглянул на него.
— Спрашиваете, когда школа будет?
— Спрашиваю, потому что живу ею и во всех наилучших снах вижу ее. Думаете, роскошь морозить ваших детей в церкви, а своих на колокольне?
— Как на колокольне? — удивился и нахмурился Марко.
— А кто же мне зимой в сожженном селе мог приготовить хоромы? Вот и нашел себе на колокольне временный приют. Есть у меня пятеро детей…
— Пятеро!? — с недоверием переспросил Марко. — Сколько мира, столько и дива! Когда же, извиняйте, вы разжились на пятеро детей? Где время взяли?
Заднепровский улыбнулся:
— Время обо мне само позаботилось.
— Близнецами награждало?
— Нет, обошлось без них, а то еще больше было бы.
— Так вы до встречи с Оксаной уже имели деток? Ничего не понимаю.
— И не коситесь, Марко Трофимович, придется еще задержать вас до третьих петухов одной историей.
— Рассказывайте.
— Может, присядем на срубе?
— И это можно, — Марко, зацепив головой клюку журавля, сел на балку, а напротив него примостился Заднепровский.
— История эта тяжелая и простая. Был в моем отряде один разведчик-сорвиголова, из тех, что и в ад с песней полезет. Сам статный, глаза большие, с огнем и смехом пополам. Вызовешь иногда его, ставишь перед ним такую задачу, что у самого заранее душа болит, а он стоит, улыбается и глазами играет, как на рассвете:
— Выполню, товарищ командир, ей-богу, выполню, а что мне, молодому-неженатому.
Поначалу его самоуверенность раздражала, коробила меня — все грешил, что проявляет легкомыслие или бравирует мужичонка, и начинал свою лекцию:
— Понимаешь, Кульбабенко, что от этой задачи зависит судьба сотен людей? Соображаешь, что нужно проявить ловкость и осторожность, расшифровывая фашистскую систему охраны? На этом деле, как и сапер, можно ошибиться только один раз. Ничего не делай, как это ты умеешь, с копыта!
Он будто серьезнее станет, сверкнет двойным взглядом смельчака и остряка и сразу же заверит:
— Конечно, товарищ командир, все понял до крышки! На больной зуб черту должен наступить. Но не сомлевайтесь: притаюсь у эсэсовцев под носом, как мышь под метлой…
Выпалит такое, и у тебя от сердца отляжет.
— Береги себя, Иван.
— Конечно, буду беречь, отец. Ночь, наша мать, — не даст погибать, — скажет звонко, уверенно, козырнет и с улыбкой исчезнет, растает в первобытный лесах, словно лесной царь. И так же неожиданно выныривал из ночи, в грязи, в своей и чужой крови, но непременно выполнив задачу. В его фортуну начали верить даже нытики и кислые люди, которые больше, чем надо, думали о смерти. Кто-то о нем даже песню сложил. Она прибилась и к нашему отряду. Помню, как-то вечером запели ее ребята у костра, и на нее именно наткнулся с разведки герой. Поняв, что поют о нем, он сразу побледнел, возмутился, замахал руками:
— Ребята, оставьте это безобразие.
— Чего? — удивились партизаны.
— Потому что я еще живой…
Сколько его ни убеждали, он стоял на одном, что песни должны петь только об умерших, и ужасно сердился, когда кто-то начинал петь о нем.
И как-то в сильную гололедицу зашел ко мне в землянку наш особист, вы его знаете, теперь он работает в нашем районе начальником МВД.
— Как его фамилия?
— Григоренко Демид.
— Григоренко? — пораженно переспросил Марко. — Этого знаю еще с двадцатого года. Хороший мужичонка, только страх каким недоверчивым был.
— И теперь таким остался, — улыбнулся Григорий Стратонович. — Так вот, заходит он ко мне, садится на колоду и неожиданно спрашивает:
— Как тебе, Григорий, спится вообще?
— На сон и сны, — говорю, — не обижаюсь.
— Не обижаешься? — многозначительно переспрашивает особист, которого часто мучила бессонница. — А на разведчиков тоже не обижаешься?
— Чем же они провинились?
— Кто его знает чем, — загадочно посматривает на меня. — Кульбабенко еще не вернулся?
— Нет, сам знаешь.
— Ничего я теперь вообще не знаю, — с сердцем пригнулся к печке, рукой вытянул уголек, прикурил. — А не долго ли, по-твоему, разгуливает он по разным местам?
— Думаю, не долго, — начинаю беспокоиться, не попал ли Кульбабенко в фашистские лапы, заглядываю мужчине в глаза, а он отводит взгляд от меня. — Что-то случилось?
— Да пока что и сам не знаю… А что ты вообще думаешь о Кульбабенко?
— Что же о нем можно думать? Герой!
— Герой? Ты уверен? — презрительно переспрашивает. — Но чей герой?
— Да чего ты начал со мной разговаривать загадками? Что тебя беспокоит?
Григоренко пропек взглядом:
— Успехи его беспокоят. Большие успехи! Видишь, в песню уже успел попасть. Так, гляди, и в историю попадет, тогда снимай шапку перед ним, — надвинул картуз на глаза.
— А чего, может, и придется снять! Еще мы не знаем, что он может сделать.
— Вот этого-то действительно не знаем! — зловеще сказал Григоренко. — А тебе, Григорий, никогда не приходил в голову такой вопрос: почему Кульбабенко так везет? Случайность это, умение или что-то другое?
— Другое? Что же может быть другое? — уже и меня начинает охватывать неуверенность.
— До этого я еще не докопался.
— Так чего же ты авансом начинаешь каркать на человека?
— Потому что твой Кульбабенко, — уже передает разведчика только мне, — загадочный тип! Не знаю, с какого берега и как он оказался у тебя.
— Чего же у меня, а не у нас?
— Потому что он тебе сразу понравился. Может, не так?
— Так. И что ты против него имеешь?
— Пока что только одни крохи, — скрытный твой Кульбабенко.
— Вот и хорошо, что скрытный. Это характер разведчика, профессиональная жилка.
— Профессиональная? А может, если копнуть глубже, вражеская? — насовывает на хмурые глаза растрепанные брови. — Подумай, что делает обычный человек, если он женат? Будет он с этим крыться?
— Навряд.
— А вот я узнаю, что Кульбабенко женат, имеет хорошую жену, выводок детей и иногда, конечно, самочинно, наведывается к ним, а себя выдает за молодого и неженатого, — перекривил голос разведчика. — Сегодня я переспросил всех его дружков, и все они тоже не знают, что Кульбабенко женат. Так чем объяснить это засекречивание и вообще единственное ли оно в биографии этого типа? Может, пока мы крутим над ним свои мозги, он продает фашистам наши души.
Я соскочил со стула.
— Что ты, Демид!? Разве такое может быть? Это так не похоже на Ивана.
— Похоже не похоже, а задачку с иксами он задал. Пахнет здесь паленным! Правда, может быть, что у него жена из сомнительных социальных прослоек и он таится с этим… Знал я и таких оригиналов. Тогда еще было бы полбеды. Когда вернется — беру его под свой надзор. А в разведку чтобы и не заикался больше. Кто его знает, что он там делает, с кем водится и кому служит.
Эти слова обдали меня жаром. Я перебрал в памяти поведение и работу разведчика, но ни к чему не мог придраться, хотя для нас не было новостью, что враг засылает в партизанские отряды самых ловких агентов. А Григоренко тем временем вытащил из планшетки фотокарточку и подал мне. Любуйся, когда еще можешь любоваться, и вообще… На фото я увидел самого Кульбабенко, непривычной, своеобразной красоты женщину и четверо кульбабенят. Невольно я улыбнулся к ним, а Григоренко покосился на меня и мрачно ткнул пальцами на женщину:
— Чем не краля? Так и прет из нее голубая кровь. Окульбабила какая-то уличная аристократка или чертова поповна нашего Кульбабенко. Если продался только из-за нее, — у Григоренко была особая неприязнь к женщинам за собственные семейные неурядицы.
На всякий случай мы удвоили дозоры, перенесли в другие места огневые точки, а в село, где жил Кульбабенко, послали своего человека и узнали, что наш разведчик в самом деле имеет семью, четверо детей, а жена его с деда-прадеда крестьянка, до войны была звеньевой и награждена орденом «Знак почета». Отрывной Кульбабенко, оказалось, был образцовым семьянином и даже теперь, без разрешения иногда навещал свое немалое семейство. В этот же день вернулся и Кульбабенко, обвешанный бельгийскими вальтерами и ребристыми гранатами. Он молодцевато встал на пороге командирской землянки, встряхнул с себя звон чужого оружия и по-юношески ясно глянул мне в глаза. Этот взгляд подкупил меня и как-то сразу развеял мои сомнения.
— Задачу выполнил?
— Выполнил, товарищ командир! — скрывая улыбку подал мне похищенную карту города с обозначенными на ней военными объектами.
Я сразу же припал к карте, прикинул некоторые раньше добытые сведения. Нет, это была не фальшивка.
— И как ты ее достал? — допытываюсь у Кульбабенко, а сам знаю заведомо, что он непременно промолчит о себе, а вспомнит неизвестных друзей.
Так оно и вышло.
— Дружки помогли: они в гебитскомиссариате ездовыми служат, — отвечает разведчик.
— Не многовато ли у тебя разных дружков?
— Таки многовато, — снова улыбается Кульбабенко, — я парень компанейский.
И это тоже была правда: он как-то сразу умел сдружиться с людьми, сразу становился душой компании.
— Иван, а ты мастак врать? — неожиданно спросил я Кульбабенко.
— Умею, — смутился он, а потом, подумав, что в разведочных делах это необходимо, веселее ответил: — Врать — не цепом махать.
— А правду от вранья умеешь отсеять?
— Смотря у кого. Но постараюсь, отец, — с готовностью смотрит на меня. — Кого-то надо перехитрить?
— Постарайся себя перехитрить.
— Себя? Для чего бы оно? — удивился Кульбабенко.
— Не догадываешься? — нахмурился я. — Ну-ка, как на духу, расскажи всю правду о себе.
Кульбабенко заволновался. В больших глазах угас огонь, а губы налились жаром.
— Я всю правду, отец, когда-то сказал о себе. Утаил только о семье.
— Только и всего?
— Женой и детьми клянусь! — горько вырвалось у него.
— Для чего же это было делать?
— Побоялся, отец.
— Ты, и побоялся!? Чего!?
— Что пожалеете многосемейного и не пошлете в разведку. А у меня личные счеты с фашистами. Вот и весь мой грех перед вами и партизанами.
— А какие же у тебя счеты с врагами? Кого-то убили?
— Родного брата на Пиренеях, в Испании, значит…
Все сомнения развеялись, как дым. Хотелось подойти, обнять, поцеловать дорогого человека, но сдержал себя.
— Больше ничего не скрываешь?
— Нет, есть еще один грешок. Когда было с руки, я проведывал свою жену. Мы до сих пор очень любимся, — произнес как-то виновато, все его лицо и шея покраснели, и он провел рукой по румянцам.
— Дети знали об этом?
— Нет, не знали.
— Так втайне наведывался?
— Это уж дело партизанское. Да и жена у меня чуткая, как тихая вода. Только ударю пальцем в боковое окно, она уже на ногах. Давненько не был у нее… Простите меня, глупого.
Мы, конечно, простили ему, правда, выбатьковали[12] для порядка. И снова Кульбабенко исчезал ночами, как лесной царь, и выходил из ночей, как добрый рассвет. А позапрошлогодней весной, когда как раз начинали развиваться глухие дубы, Кульбабенко не вернулся с разведки: какая-то каинова душа выдала его. Он сам до последней пули и гранаты держал бой со всеми фашистами и полицаями, какие были в районном центре. К нему, уже убитому, некоторое время боялись подступить враги, а потом в бессильной злобе мертвого повесили на площади. Через два дня мы сняли его с виселицы и похоронили с самыми большими партизанскими почестями. После войне, есть надежда, и памятник поставим ему…
После похорон я сам партизанскими тропами пошел к него жене. Ночью подобрался к небольшой крестьянской хате. Между двумя высокими ясенями она казалась белой колыбелью. И это на самом деле было так: вырастила же она стольких кульбабенков. Долго я стоял перед боковым окном, перед чужим бывшим счастьем и настоящим горем. Надо мною печально шумели ясени, словно и в их зеленые души вошла человеческая печаль. Наконец тихонько постучал в оконное стекло. В доме послышалось шебаршение, отозвались чьи-то шаги, заскрипели двери, и на пороге появилась фигура полураздетой женщины, вокруг ее фигуры, как темный дождь, зашевелились косы. Она поправила их, застыла на пороге, и даже в темноте было видно, каким счастьем осветилось ее лицо.
— Иваночка, родной, как хорошо, что ты пришел: у нас уже сын родился, — низковатым, клекотливым и страстно-радостным шепотом обдала меня и сразу же испуганно подалась назад: — Ой, горе мое, кто вы, что вы!
— Не пугайтесь, Екатерина Павловна, я командир вашего Ивана.
— Ой, а что с Иваном!? Боже мой!.. — ойкнула она, качнулась, и ливнем качнулись ее буйные косы, закрывая лицо и всю фигуру. Она обеими руками разметала их, приблизила ко мне лицо. — Что же с ним?
И у меня тогда не хватило силы сказать ей правду.
— Он ранен, — еле выжал из себя это вранье и едва сдержал вздох.
— Ранен? Куда же? Тяжело? Ой, скорее говорите! — она отвела руки от сердца, потащила меня в дом, то без надежды, то с надеждой допытываясь: — Скажите правду: он будет жить?.. Не молчите! Будет жить?
— Жить он будет, — не сомневайтесь, — это я сказал более уверенно, потому что знал, что в нашей памяти разведчик Иван Кульбабенко никогда не умрет, никогда!
Женщина немного успокоилась, вытерла слезы и начала меня благодарить.
«За что ты благодаришь, дорогой человек, — за мое страшное вранье?» — мучился я, а Екатерина, поправляя косы и одежду, уже спокойнее спрашивала:
— Где же он теперь?
— Самолетом перекинули на Большую землю.
— На Большую землю… Неужели она здесь ему была малой? — призадумалась женщина, с мольбой и надеждой взглянула на меня. — На Большую землю… И сына не увидел. Как бы он обрадовался.
— На кого сын похож?
— Снова на Ивана. Все сыны в отца пошли, — впервые улыбнулась она, а я чуть не застонал.
Екатерина впопыхах позакрывала окна, засветила керосинку, начала готовить какой-то ужин. Я тяжело опустился на скамью и не спускал глаз ни с женщины, ни с колыбели, в которой лежал маленький, уже недовольный жизнью человечек, только для матери похожий на Ивана. А сама мать была наделена той красотой, которая будто утверждала похожесть между женщиной и землей. И хоть она имела пятерых детей, в глазах, в слезах, в движениях ее просматривалось девичество… Что же, позже Екатерина узнала, что ее Иван погиб, со временем и мое вранье простила. А когда мы вышли из лесов, я подался к Ивановой Екатерине, помог немного со всякой всячиной, пожил немного в ее доме и полюбил сначала детей, а потом и саму Екатерину. Однажды лунной ночью ощутил, что не могу быть без нее, и, как умел, сказал об этом:
— «Был я, Екатерина Павловна, отцом вашему Ивану, а теперь хочу быть отцом его детям. Выходите замуж за меня…» Так и приобрел себе пятерых детей. — И, чтобы Марко не подумал, что немного восхваляет себя, ради шутки добавил: — Пайка как раз теперь на неделю хватает: мелет детвора, как на жерновах. Но партизаны не забывают нас.
Марко неловко наклонился к Заднепровскому, поцеловал его в щеку.
— Спасибо, Григорий Стратонович.
— За что? — удивился тот.
— За любовь к вдове… За человечность…
— За истинную любовь я должен ее благодарить… Вот увидите, какая она у меня, — сказал не без гордости. — Кажется, долгие-долгие годы я искал, ждал ее.
— Хорошо сказали. А в ожидании хорошеет и человек, и природа… Когда это проходит — все становится будничным. На дружбу! — пожал руку учителю.
— На дружбу! — растрогано ответил. — Хорошо, что вы есть на свете и хорошо, что мы встретились. Я вас домой доведу.
— Доберусь сам. Завтра же заходите ко мне. Дорогу не забыли?
— Нет. Непременно зайду.
— Доброй ночи.
— Доброй ночи.
Вот и расходятся двое новых друзей с такими чувствами, будто они давно знали друг о друге, только как-то до этого времени им не приходилось встречаться.
V
Заднепровский еще долго стоял на распахнутом кладбище, присматриваясь к фигуре Марка Бессмертного, а потом, когда она исчезла, прислушивался к неравномерному перестуку костылей. Но, в конце концов, затихли и они, а в душе не улеглась теплынь чувств.
Человек приехал, — вслух говорит учитель. — Ишь, как об ожидании сказал — хоть в книгу записывай. Это не Безбородько с подземным лабиринтом крота, — морщится при одном упоминанию о Безбородько.
На дворе немного посветлело. На небе из туч сотворялись темные чащи лесов, и в их движении и разворачивании чувствовалось шествие весны.
И Заднепровский вслух спрашивает у нее: «Ты идешь?» В стороне отозвался ветер, заскрипело дерево, изменился рисунок неба, а мужчина улыбнулся и покачал головой.
Еще несколько лет тому он удивлялся, когда его отец мог разговаривать с нивой или лесом, с солнцем в небе или колоском в руке. А теперь вот такое незаметно пришло и к сыну. Или годы приносят это человеку, или с годами острее становится ощущение живого в немой природе? После своих партизанских лет он не может не говорить с лесом, с деревьями, под которыми когда-то лежал или под которыми навеки лежат его друзья.
И сейчас дебри туч на небе приблизили к Заднепровскому настоящие леса, леса его страданий и борьбы. Прошлое крылом мелькнуло над мужчиной и удивила его: как он смог выйти из всех окружений, свинцовых дождей и из таких удавок огня, когда в подожженных лесах зверь бежал к партизанам и даже гадюки не кусали людей…
В церкви Григорий Стратонович из кремня высек огонь и снова засветил медную коптилку, в которой еще недавно таилась смерть; вокруг сразу же раздвинулась тьма, коптилка угрожающе зафахкала и начала завиваться черным снованием. Но теперь сгрудившиеся святые как-то веселее смотрели на учителя, будто и им было приятно, что он встретился с другом.
«Так можно понять и корни импрессионизма — все зависит от настроения… Но не ангелы ли нагнали холод своими крыльями?» — зябко повел плечами и взглянул на ангелов.
В самом деле, от белизны их крыльев, которые замерзали на фоне зеленоватого рисованного неба, веяло стужей. Еригорий Стратонович, чтобы разогреться, походил по церкви, крепко ударил несколько раз руками по плечам, а потом присел возле поставца и начал просматривать свое писание о партизанских годах. В душе и перед глазами начали оживать события, люди, леса, пламенем охваченные села, но на бумаге все это выглядело беднее. И он, казнясь, обхватил лоб руками.
Как же ему в мелкоту черных букв втиснуть безмерность любви, вдохнуть жизнь его друзей, жизнь незаметных в будни людей, которые в дни войны врастали в песни и легенды? Или как, например, передать силу обычного зерна?
Он вспомнил, как под самый Новый год в фашистскую тюрягу попал старый партизан Данило Пивовар, который, отпустив бороду, с лирой ходил побираться по селам. А в отряд Данило Пивовар приносил ценные сведения и куски хлеба; и, раздавая их партизанам, он говорил о людях, красивых и добрых, которые вынесли ему хлеб, смолотый в бессонные ночи на жерновах и замешанный на женских слезах.
— Главное, хлеб должен быть без слез, — не раз в задумчивости говорил старый хлебороб.
И за этими словами стояли его вера и надежда. Когда Данилу Пивовара впихнули в забитый людьми каменный склеп, он назвал себя Дедом Морозом и, играя свою роль, непринужденно начал знакомиться и разговаривать со всеми узниками. А когда наступило двенадцать часов, когда Новый год невидимо встал на пороге каменного мешка, дед Пивовар откуда-то достал зерна и начал им засевать узников, торжественно приговаривая: «Сейся, родись, рожь-пшеница, всякая пашница, на счастье, на здоровье, на Новый год, чтобы лучше бить врага, чем в прошлом году!»
Снимая шапки, узники вскакивали с промерзшей земли, удивленно прислушиваясь к знакомым словам, к далеким дням мира, к древней сказке своих родителей. Зерно им падало на головы, а в главах рождалось новое упорство, а в руки прибывала новая сила. В эту же ночь они все и вырвались из тюрьмы. Так не помогло ли им получить волю то зерно, что должно расти и родить без слез? Но как об этом написать, чтобы оно дошло до людей, всколыхнуло их сердца?
— Алхимик и чернокнижник еще до сих пор не спит? — в темноте неожиданно легко зазвенел мелодичный голос, и к Григорию Стратоновича незаметно подошла невысокая хрупкая женщина. Унылая улыбка дрожала на пересохших лепестках ее полураскрытых губ.
Учитель од неожиданности вздрогнул, рука, по привычке, сама потянулась к автомату. Он сразу же одернул ее, взглянул на женщину и засмеялся:
— Ну и напугала ты меня, Степанида!.. Как раз почему-то партизанское прошлое вспомнилось.
— Странно было бы, если бы ты о чем-то другом думал. Ну, чего улыбаешься и жмуришься?
— На светило всегда приходится жмуриться, — засмеялся Григорий Стратонович. — Да и удивляюсь на голос твой: как звенел в детстве колокольчиком, так и до сих пор звенит — не переводится серебро в нем.
— Какое уж там серебро, — в опущенных уголках ее округленных губ шевельнулась печаль.
— Чистое! — убежденно сказал Григорий Стратонович. — А ты чего не отдыхаешь?
— Не спится, брат, перед дорогой. Да и молодость встала, шевельнулась перед глазами, — произнесла с иронией к себе. — Прошлась же вот селом, и все-все вспомнилось, что промелькнуло навеки. Здесь же я встретила свою восемнадцатую весну. Какие сады, какие усадьбы стояли тогда…
— А в глазах тогда не стояла первая любовь? — заговорщически покосился на сестру Григорий Стратонович и улыбнулся.
— Откуда ей было взяться? — чуть ли не вскрикнула женщина и бросила испуганный взгляд на брата. — Мелешь такое…
— Так уж и мелю… В восемнадцать лет к хорошеньким девушкам любовь приходит отовсюду, — не заметил ее волнения.
— Эт, не болтай лишнего.
— Никогда не думал, что любовь — лишнее, — так же полушутливо говорит Григорий Стратонович, но Степаниде сейчас не до шуток, и скорбь проходит ее лицом, дрожит в только что выбитых морщинках возле носа и забивается под веки. Но женщина как-то овладевает собой и даже в удивлении ведет плечом:
— И чего ты сегодня так много говоришь о любви?
Заднепровский ясно взглянул на свою сводную сестру, встал и протянул вперед могучие ручища молотобойца:
— Спрашиваешь, чего? Потому что имею только эти простреленные руки и лишь одно ничем не ограниченное богатство — называется оно любовью!.. Это не чудо, когда кто-то в свои восемнадцать или двадцать лет полюбит кого-то. Это любовь для себя, или для двух, или для своего костра. Я не порицаю и ее, но горжусь, что имею любовь, больше этой. Она, как наследство, досталась мне от моих родителей, от их хлеба и песни, от чар нашей мягкой задумчивой природы и от моих побратимов по сердечности, по мысли и оружию. И хоть я сейчас живу на нищем пайке, а моя жена, пока разрезает хлеб, несколько раз ножом вычерчивает на корочке пайку детям и мне, я бы за все вместе взятое золото Рокфеллера не отдал бы и толики своего богатства. Видишь, как расхвалился перед тобой, потому что ведь имею чем.
Степанида улыбнулась и вздохнула:
— Какой ты счастливый и… несчастный, брат.
Григорий Стратонович нахмурился, в душе шевельнулись его сожаления и неудачи, но он отогнал их и возмутился:
— Почему ты словно с горячки заговорила? Почему я несчастный!?
— Потому что разная нечисть дергает тебя, как горох при дороге.
— И это потому, что я иду по дороге. А сойду я, сойдет другой, третий с дороги, и нечисть выползет гадиной греться на солнце.
— Но как она жалит тебя!
— Да, она может ужалить меня, унизить мое достоинство в глазах равнодушных людей, омрачить мой день, а проглотить — не проглотит. И не делай меня несчастным, потому что большое счастье было в моей жизни: когда гремело над всей землей, я, как умел, и руками, и плечом, и грудью отводил несчастье от людей… Когда-то меня удивлял своей поэтической силой один образ из песни: «А я тую чорну хмару рукавом розмаю». А пришло время — и я тоже разгонял самую страшную тучу и живым вышел из-под нее. Это, сестра, называется не слепым, а истинным счастьем. — Он легко, обеими руками прижал Степаниду и забубнил ей в самое ухо: — И поменьше думай о всяком таком, потому что на свете есть над чем более хорошим думать. Да и погости у нас еще с денек.
Лицо Степаниды немного распогодилось:
— Хорошо, что ты у меня такой…
— Сякой-такой Пантелей, а все-таки веселей, — засмеялся Григорий Стратонович. — Так побудешь еще денек?
— Не получается — уже каникулы заканчиваются.
— Да и на колокольне жить хуже, чем в хате, — насмешливо прищурил глаза.
— И это правда, — не стала возражать. — В ней от холода и тело, и кости немеют. Это не жилье, а наваждение какое-то.
— Зато дети под большими колоколами растут! Примета хорошая!
Степанида подперла рукой лицо.
— Горюшко мое с такой приметой.
— Это же временно, — успокоил ее Григорий Стратонович. — Завтра-послезавтра переберемся в землянку и заживем, как люди. Сегодня уже и стекло раздобыл на оконца, по сходной цене досталось.
— Еще и радуется, словно бога за бороду поймал, — укоризненно покачала головой. — Кто-то другой на твоем месте, при твоих заслугах, уже во дворце сидел бы.
— Оставь, Степанида, старые песни, страх как не люблю их, — сразу нахмурился Григорий Стратонович. — Придет время — и во дворце буду жить.
Женщина недоверчиво посмотрела на брата:
— Когда же оно, романтик мой, гордость моя, придет?
— Когда все люди будут иметь дворцы или что-то подобное. Не раньше и не позже.
— Подвижничество и снова подвижничество, а какой-то тебе хитрый Безбородько уже сейчас во дворце сидит и подсмеивается над такими как ты.
Григорий Стратонович пристально посмотрел на сестру и постучал себя пальцем по лбу:
— У тебя голова или ее эрзац на плечах? Голова?.. Так напомни мне случай из истории, когда честные люди имели больше материальных благ, чем приспособленцы или ворье?
— Сдаюсь, брат, перед твоими знаниями, твоей логикой и славянским стоицизмом. Ты у меня лучший случай, — не рассердилась, а мило улыбнулась женщина. — Хорошо, что твой отец, овдовев, нашел мою маму… Какой он высокий и хороший был! Помнишь, как мы на их свадьбе в лощине за домом танцевали.
— Кому что в голове, а тебе танцы и в церкви вспоминаются, — засмеялся, махнул рукой Григорий Стратонович. — Ты умела крутиться, как голубь-вертун.
— И это все уже насовсем отошло, — вздохнула, призадумалась Степанида, — и детство, и жизнь родителей, и твоя молодость. Только мамина хатка иногда так напомнит всю преждевременно утраченную родню, что и слезы, и искры аж брызнут из глаз.
— Поредел наш косарский род, — и себе вздохнул Григорий Стратонович. — Подкашивал всюду он смерть, но и смерть косила его. — Он бережно посадил сестру на скамейку, внимательно посмотрел на нее. — Но кручина кручиной, а жить надо. Не думаешь ли ты иногда, что живешь теперь, как в дупле? Грусть ни ума, ни сорочки не даст. На людях надо побольше бывать, сестра, на людях!
— Они такие же несчастные, как и я, — встрепенулась и встала со скамейки.
— Хм! Новость открыла! А счастье, думаешь, им союзники из-за морей привезут? — недовольно хмыкнул Григорий Стратонович. — Они же, люди, со слезами посеют его, но дождутся своей большой жатвы. Хочу видеть в этом посеве истинное зерно и своей сестры. Больше ничем тебя не могу утешить. Плакать с тобой не сяду за один стол… Ну, прояснись, неудашка моя. Ты же такая добрая, славная, только слишком хрупкая душа у тебя, как колосок в жатву. — Он снова прижал Степаниду, поцеловал в надбровья и сразу же приложил пальцы к губам: — Тихо! Все святые на грешников смотрят!
Степанида невольно улыбнулась, взглянула на святых, подняла над продолговатыми глазами черные дуги бровей.
— Что бы я, Григорий, делала без тебя?
— Неужели бы хуже борщ заправляла?
— Наверное, хуже. И как ни тяжело, Григорий, бывает на душе, а всегда жду, что ты разберешься в ней лучше, чем я.
— Потому что душа твоя похожа теперь на каталог, а я хочу, чтобы она была недописанной книгой, — махнул кулаком. — Больше ныряй в жизнь, большего и дождешься от нее.
— Чего же мне еще ждать?
— Да не старости же, в конце концов, — это само нежданно придет. — Жди хотя бы… любви!
— Откуда?
— И от людей, и, может, от какого-то… мужчины.
— Не говори такого. Любовь теперь — не актуальная тема.
— Она всегда актуальная. Пока человек живой — должен ждать чего-то большого.
— Это иллюзия романтики?
— Это сила жизни, — сказал убежденно.
— Хорошо, что у тебя жизнь похожа на перекресток дорог, где никогда не бывает пустынно, а у меня она — непротоптанная тропинка… К тебе приходил Бессмертный? — спросила, как бы между прочим, а в душе отозвалось волнение.
— Чего лукавишь? Ты же видела, — пытливо взглянул на сестру. — Почему не подошла к нам?
— Боюсь… и не знаю, о чем с покалеченными разговаривать, — покраснела Степанида. — Чего-то я и до сих пор не научилась утешать людей.
— Что-то ты, сестра, наговариваешь на себя. В госпиталях разговаривала же с раненными, как-то утешала их. Ну, чего забегала глазами по святым местам?
— Не все же тобой любоваться, — ответила нехотя. — Говорят, будто он очень покалечен?
— Очень. Но такой человек будет жить, как дуб-старожил.
— Он чем-то на тебя похож… Постарел, поседел этот дуб-старожил?
— Присыпала, притрусила изморозь, да и чему удивляться? В такие лета даже без войны седина — не диво. Что же, пошли отдыхать, — перевесил на плечо автомат, взял кобзу и задул свет.
Сразу всех богов и святых проглотила сгустившаяся тьма, и только теперь Степанида провела руками по лицу, что пылало жаром, и тяжело всхлипнула.
— Ты чего, Степанида? — удивленно остановился Григорий Стратонович.
— Да так, вздохнулось, — опустила руки на грудь. — Столько собралось за эти годы, что просто дохнуть или выдохнуть нельзя.
Из церкви, пригибаясь, брат и сестра переступили порог колокольни, где сяк-так был оборудован чуланчик, в котором временно приютилась семья Григория Стратоновича. Здесь, в уголке, чадил изготовленный из патрона ночник, на узковатом полу вповалку поперек спали дети и мать. Взгляд Григория упал на смуглое лицо жены с красивыми бровями. Даже под грубым одеялом выделялись ее привлекательные дородные формы. Брат и сестра переглянулись, снова сильно посмотрели на спящую мать.
— Земля? — шепотом спросил Григорий, который до сих пор, как юноша, не мог насмотреться на свою Екатерину.
— Земля, — кивнула головой Степанида и подошла к плетеной колыбели, где хранилось, спрятанное от церковных мышей сякое-такое пропитание.
Григорий присел на краешек пола, присматриваясь к лицу жены. Какой-то нехороший сон начал беспокоить женщину. Вдруг она застонала, шевельнула руками и грудным слабым голосом произнесла только одно слово:
— Ива-а-ночек!..
Степанида, как от удара, съежилась от этого зова, со страхом взглянула на брата. А он, отгоняя облачко от лба, успокоил сестру.
— Чего ты страшишься?.. Не впервые она зовет его. А как же иначе? Он — ее первая любовь. Он отец ее детей… Так можно, хоть во сне, послать к нему свой голос?.. Не ревновать же ее к убитому?
У Степаниды заблестели глаза: она сейчас винила братнину жену, хотя и знала, что та не виновата.
— Но как же тебе тяжело от этого. Она так может весь век его призывать… Весь век быть с тобой, а бредить им.
Григорий нехорошо посмотрел на сестру:
— Так, может, ей сказать, чтобы она во снах была более верной своему второму мужу и не вспоминала первого?
— Нет… но… — растерялась женщина.
Григорий рассердился, порывисто вскочил, встал напротив сестры:
— Не «нокай» мне, хватит. Вредной же, скажу тебе, стала ты бабой! Сама столько пережила, овдовела, перестрадала, а сорняк до сих пор растет в твоей голове. Жизнь людей, что сошлись, пройдя трагедии, не раз выбрасывает обломки этих трагедий. Разве я маленький — не догадывался, что мне может быть тяжело? Не на медовые девичьи поцелуи шел. А подумала ли ты, что я мог бы жениться на Екатерине даже без ее любви ко мне?
— Христианское сочувствие к ближнему?
— Нет, любовь к ней. И как бывает противно слышать, когда кто-то удивляется, что я пошел на пятерых детей, и говорит такой хлам, как только что ты… Ложись наконец спать. Я отвернулся…
Степанида подошла к брату, протянула руки и виновато поцеловала его.
— Женская последовательность, — буркнул тот.
— Прости мне, Григорий. Это же не злость, а моя боль выплеснулась наружу.
— Кому она только нужна? Носишься с ней, как курица с яйцом. Сама замуж выходила бы, все веселее было бы с книжками и пеленками.
Степанида вспыхнула:
— Не будь, Григорий, жестоким.
— Вот и отблагодарил тебе. Иду на мировую. Могу даже в честь тебя ударить в колокол. Скажи только в какой: в великий или постовой? — решительно пошел к порогу.
— Сумасшедший, еще в самом деле ударит! От тебя всего можно ждать! — крепко уцепилась за руку брата, оттащила его от порога.
— Что вы только делаете? — в удивлении проснулась Екатерина, привстала от пола, а ее косы полились по плечам и затопили подушку темной волной. — Дети же проснутся… Григорий, ты ужинал? — потянулась к нему взглядом, налитым такой радостью и любовью, что за ней видно было всю раскрытую душу.
Григорий Стратонович улыбнулся жене, обеими руками взвесил ее косы, сказал, что вес их снова увеличился, победителем взглянул на сестру и незаметно шепнул ей:
— Земля?
— Святая, — искренне ответила Степанида.
А сама «земля», ощущая, что о ней говорят что-то душевное, похорошела и, закрывая руками грудь, крепкими ногами коснулась пола. Вот и не пошла, а поплыла женщина по странному жилью, чтобы поставить на крохотный стульчик для своего мужа несколько печенных картофелин, тарелочку с маслом и солонку с мелкой солью.
VI
Подбитая птица почти всегда остается одна. И тогда в немой безысходности ее глаза тоскливо светятся смертельной тоской. Кто хоть раз на веку видел такие больные, смертельной влагой обведенные птичьи глаза, тот еще больше должен уважать все живое. А кулика-травника не оставил в беде его товарищ, так вот, наверно, выздоровеет пичужка, да и в глазах бедняги была жалость, боль, но не было той влаги, какую приносит тлен.
Прислонившись плечом к вербе, которая сутулилась над чьей-то небольшой криницей, Марко снова почему-то вспомнил птиц, которых видел сегодня в ложбине. Он хорошо запомнил эту пару и, возможно, узнает ее, если птицы поселятся у пруда. Вот нашел чем беспокоиться! И все-таки хорошо было бы, если бы он увидел их уже здоровыми, в настоящем, а не в снеговом гнезде, или с мелким выводком… А когда же ты, Марко дождешься своего выводка?
Так и сновали мысли у мужчины — от церковного рая до ада неволи, от гнезда до землянки, от птиц до людей, и ничего непривычного не было в этом сплетении, потому что разве не пичужкой он звал когда-то свою дочь? Вырвали ее еще без крылышек из родного гнезда и бросили на чужую чужбину, чтобы не пело, а мучилось дитя. Живое ли хоть оно?.. И теперь встреча с неизвестной женщиной, которая назвалась его судьбой, показалась горькой насмешкой, кощунством. Всыпать бы такой березовой каши, чтобы не хитрила, как цыганка на ярмарке.
От ветра тихо поскрипывала и вздыхала верба, ее однотонная стариковская жалоба проникала в тело человека, расходилось по нему и рождала другой отголосок и думы.
Когда-то за искристые, словно из солнца выплетенные косы он называл свою жену золотой вербочкой. Такие же косы в наследство достались и дочери. Искрятся ли они где-то на белом свете, или истлели в земле, или сгорели в дьявольских печах, — неужели человеческий ум придумал их!.. И сейчас уже застонала не верба, а человек, вглядываясь в неразгаданную даль. Но что эта даль могла сказать ему? По ней то стихал, то усиливался ветер, раскачивая и деревья, и темноту, и облака.
Где-то совсем недалеко послышались голоса, застучали копыта.
Кто же так поздно собрался в дорогу? Скоро Марко увидел, как закоулком проскочили чем-то высоко нагруженные сани, а возле них тенями гнулись две фигуры. Мужчина сразу почувствовал темное дело, шагнул от вербы ближе к дороге и в это время услышал знакомый голос Антона Безбородько:
— Ну, Тодоша, ни пуха ни пера. Езжай с богом, только, смотри, не продешеви…
— Все будет в аккурат, не сомлевайтесь, потому что дела идут — контора пишет! — засмеялся второй мужик, вскочил на сани и вйокнул на лошадей. Те дружнее начали разбивать копытами хрустящую дорогу.
«Неужели это поехал Тодох Мамура? — Марко пораженно и гневно взглянул вслед саням, уже слившимся с темнотой. — И какое у него панибратство хоть с крученым, но ведь председателем колхоза?»
В селе Тодох Мамура когда-то считался самым ловким, коварным и жестоким вором. Не раз его забирала милиция, но он всегда так выкручивался, что никогда не попадал под суд. Из милиции он как-то даже горделиво, с шиком наглеца возвращался домой, и на его лице с крупными челюстями жестоким самодовольством поблескивали небольшие глаза, похожие на поджаренные тыквенные семечки.
— Фортунит тебе, Тодоша, — часто завидовали ему конокрады, более мелкие преступники и разное отрепье.
— Наговариваете, братцы, и напраслину городите на бедную голову Тодоха, — как-то аж кособочились от лукавства воровские глаза. — С вами, по слабости своей, знаюсь, выпиваю, а сам никак не ворую — помню: жизнь вора мимолетная, а я о большем думаю, потому что дела идут — контора пишет.
Это вызывало среди злоумышленников веселый хохот, к которому охотно присоединялся и коренастый, но бойкий Тодох. Только иногда, уже допиваясь до бессознательного состояния, он мог пренебрежительно махнуть рукой на своих завистников и, раздуваясь от водки и самоуверенности, бросить им:
— Глупое ворье! Не мозги, а свиная шерсть торчит в ваших макитрах. Святое в преступном деле одно: не иметь соучастника и свидетеля! — На его выгнутых, как турецкие ятаганы, челюстях отражалась дикая жестокость, которую он подчеркивал ударами кулака. — Соучастника — сам не беру, свидетеля — не милую, разве что того, который в колыбели пищит, потому что дела идут — контора пишет.
— Отчаянный ты, Тодоша, истинный храбрец, — неистовствовало в восторге ворье, выпивая за здоровье избранника фортуны.
— Может, и не храбрец, но чего-то, однако, стою, — великодушно позволял воровской мелкоте восхвалять себя и начинал напевать свою любимую:
Не в одного дядю с налъота стрелял, Не в одной тьоті губки целовал, і-ххх!В колхоз Мамура, конечно, не подавал заявления, а, чтобы на него не косились люди и начальство, пристроился сторожем в райпотребсоюзе. И за время его сторожевания ни один лиходей не отважился залезть в магазин. Это было несомненным доводом дальновидности председателя райпотребсоюза и причастности Мамуры к воровской кодле. Но где-то в сороковом году Мамура нежданно-негаданно появился на колхозном собрании и там, жуя и глотая слова, начал прилюдно раскаиваться, признался, что имел за собой воровские грешки, но теперь желает работать честно, как все, потому что дела идут — контора пишет, а он никак не хочет, чтобы ему в спину старое и малое тыкало пальцем. Людей это признание растрогало, и Мамуре задали только один вопрос:
— Что же, Тодоша, заставило тебя прийти с раскаянием? Совесть или попался, может?
— Нет, не попался, я не с таких, которые вслепую промышляют… Дочь, люди добрые, заставила, — и здесь не солгал Мамура. — Сказала, что возьмет и навеки убежит от меня. А я ж ее, клятую, люблю больше всего на свете. Вот, и подумал себе: а зачем я должен ее молодые лета своим воровством паскудить? Дочь же растет, скоро девкой будет, потому что дела идут — контора пишет.
И тут же люди услышали плач пятнадцатилетней, с не по-девичьи серьезными глазами Галины, которая не один день воевала со своим любящим отцом. Сначала он, разводя в стороны искривленные челюсти, с кулаками-молотами бросался на дочь:
— Научилась в разных семилетках-десятилетках и комсомолах на мою голову, трясца бесила и дубила бы тебя и твою тихую мать! Как дам тебе, негодница, раскаяние, так скрутишься, завертишься и кровью зарыдаешь мне!
Но и это не испугало Галину. Хрупкая, с первыми очертаниями девичества и с трагедийным надрывом во взгляде, она твердо выжидала, пока отец выбросит из груди свое неистовство и бранные слова, а потом гордо швырнула ему в лицо:
— Я и без твоих кулаков теперь каждый день кровью плачу. И не пугай меня, если хочешь, чтобы тебя отцом называла. Я тебе не мать, которую ты навеки запугал. Не сделаешь по-моему — больше никогда не увидишь меня.
Мамура остолбенел тогда и растерянно опустил кулаки. В характере дочери он увидел свое упрямство, увидел, в конце концов, что она уже не ребенок и ищет свою тропу в неспокойном мире. И найдет, чертова девка, потому что дела идут — контора пишет. Уже даже с какой-то приязнью взглянул на утонченную фигуру одиночки, на ее рисованное красотой и упрямством лицо.
«Королевна! Эта ни за что не наденет какой-то штуковины с чужого плеча. И в самом деле, если пораскинуть мозгами, зачем такой быть воровской дочерью?» Чертыхаясь и удивляясь в душе, он таки должен был уступить перед этим ростком, но злость свою все равно сорвал на жене.
Мамуру приняли в колхоз. Он неторопливо, неохотно, но все же выходил на работу, «домучивал» свою норму и отшил от себя злодеев. Люди начали верить ему. Но перед самой войной милиция снова схватила Мамуру. Однако пофортунило и тогда: война спасла его от суда. Под Проскуровым, в первой стычке с немцами, храбрец Мамура поднял руки вверх, а еще через неделю-две появился в своем селе и ревностно взялся за старое ремесло. Но не учел одного: фашисты, грабя целые государства, не любили иметь соучастников в этом деле, ни больших, ни малых. Они быстро добрались до вора и, не обременяя себя процедурой следствия, приговорили его к смертной казни.
Теперь храбрец Мамура уже не поднимал руки вверх, а, извиваясь по земле, хватался ими за добротные немецкие сапоги, целовал и слезами обливал их, клялся в своей верности «освободителям». Но и это не помогло — его бросили в тюрягу. Однако и здесь судьба не разминулась с Мамурой: он, уже безнадежно посеревший, с глазами, потерявшими поджарено-карий цвет, оказался в партизанской камере. И когда лесное племя сделало подкоп, Мамура убежал со всеми, но сразу же подался не в леса, а на хутор к одной неразборчивой скупердяйке, которая не сторонилась ни процента, ни украденного, ни подобранного добра, ни чужих мужиков. У этой потаскухи и прожил Мамура, как воробей в стрехе, до весны освобождения. Вот тогда он и появился в своем селе, появился даже с бумажкой, что был осужден немцами за… связь с партизанами. Поняв, что люди поверили бумажке, Мамура со временем и себя убедил, что имел связь с партизанами. После этого он чуть ли не каждый день приписывал себе новые заслуги и даже начал проявлять интерес к общественной жизни. Сначала он желал не так много: посидеть в президиумах, потому что ему уже теперь без президиумов нельзя.
Марко не знал, как Мамура жил последние годы, но он никогда не верил никакому его слову, чувствовал непроглядную, кровью и грязью забрызганную бездну его воровского естества. И вот теперь на одной дорожке он увидел Безбородько и Мамуру. Это тоже может показаться плохим сном. И, чтобы проверить себя, Марко оказывается на дороге и наклоняется до земли. Неблестящая намерзшая колея за ночь покрылась наморозью, и ее четко прорезали следы полозьев. Сделав несколько шагов на костылях, Марко в колдобине заметил какую-то вещь. Это была обычная тряпичная кукла, ее трогательная головка с растрепанными волосами напоминала женскую. Значит, Мамура повез пряжу. Не к шорнику или веревочнику ночью возят эти куклы, похожие на женские головки. И Марку их стало жалко, как живых, а внутри зашевелилась, увеличилась злоба против Безбородько. Видно, совесть никогда не мучила его, даже в часы большой беды. Недаром сегодня так бушевал дед Евмен. А как горько пошутил старик за ужином:
— Теперь наш колхоз стал легкий, как птица, тронь — и полетит.
Вот и летят сегодня куклы, завтра еще что-то полетит, а люди работают, тоскуют, ропщут, зарабатывают нищенские граммы, но надеются, что закончится война и начальство налоги уменьшит и безбородьков погонит с постов и президиумов, потому что иначе — погибнет село. И в тяжелейшие будни село надеялось дождаться своего праздника, с хлебом-солью на столе, с детьми вокруг стола и с правдой возле хлеборобского дела.
И палки, и мысли утомили Марка, но не мог он выбросить сейчас ни своих костылей, ни мыслей, ни ожиданий. Правда, от костылей избавиться быстрее, а когда повеселеют его мысли, как вон те две звезды, обведенные золотистым, с предвесенней влагой, туманцем?.. Скорее бы закончилась война!..
Вот уже скоро и его двор. Он снова, собираясь отдохнуть, останавливается возле чьей-то обсыпавшейся печи и замирает: из челюстей печи высунулись чьи-то ноженята, примостившись на шестке. Марко сначала растерялся. В голову жгучими угольками посыпались страшные предположения, и он чуть ли не выпустил из рук запотевшие костыли.
«Что-то надо делать, что-то надо делать», — несколько раз молотом била та же мысль. Но что именно делать — не знал. Наконец с опасением наклониться к шестку. Ему показалось, что он услышал чье-то дыхание. Или это, может, ветерок зашелестел? Нет, таки на самом деле дыхание! Фу! Теперь он одной рукой потрогал растоптанные сапожки, и в них ощутил жизнь. От сердца понемногу начал отлегать страх, и Марко уже потянул ноженята к себе. Из глубины челюстей послышалось невыразительное бормотание.
— Гей, кто там зимует!? — почти радостно закричал. — Ну-ка, вылезай скорее!
Ноженята зашевелились, подвинулись ближе к Марку, перегнулись и скоро перед мужчиной вкусно и заспанно потягивался Федько.
— Ну и напугал ты меня, головорез, — потянулся рукой к мокрому лбу. — Что ты здесь делаешь?
— Что делаю? Ночую. Разве что? — зевнул и сразу же улыбнулся Федько.
— В печи ночуешь?
— А что же, на снегу? — и себе спросил паренек, доставая с шестка свои книжки и тетради.
— Так у тебя нет никакого приюта?
— …Я всегда у себя в погребе ночевал. А сегодня, пока был на станции, вода подтопила погреб. Так надо же было где-то ночевать, — рассудительно сказал паренек и хихикнул: — Так вы очень перепугались?
— И не спрашивай. Пошли, Федя, ко мне.
— Если пошли, то и пошли, — сразу же согласился паренек и дмухнул на свой ученический пакетик.
В землянке давно беспокоилась мать, вытягивая свою бесконечную нить.
— Где так, сынок, задержался? А я уже чего ни передумала: не упал ли на дороге. Мерзлота, гололед теперь, что и здоровый рушится с ног, как старик-побирушка. Федя, а тебе не пора спать?
— Он, мама, пока что поживет у нас, а дальше увидим. Правда, Федя?
— Не знаю, — растерялся паренек. — Я завтра вылью воду из погреба и переберусь туда.
— Ой ты горе мое, — Марко прижал ребенка. — Раздевайся скорее, есть не хочешь?
— Я же у вас ужинал.
— Но в печи тебе, может, такие приснились блюда, что сразу оголодал. Не снились?
— Маму видел во сне, — тихо сказал паренек, и лицо его стало взрослее. — Они шли долиной, а я настигал их и догнать не мог.
— Уже и не догонишь, дитя, — запечалилась Анна и кончиком платки вытерла глаза. — Не тесно вам будет здесь? — показала на застеленный помост из нескольких досок, который служил кроватью.
— Поместимся, мама.
— Должны. Только подушек у меня нет. Мурашки и те имеют подушки, а мы сейчас без них живем.
— Как, Федя, переживем это бедствие, или ты никак не можешь без подушек?
— Такое скажете, — улыбнулся паренек, снимая великоватую рубашку.
— Мама, а что делает Тодох Мамура?
— Нашел кого против ночи вспоминать, — сразу же недовольство начало затекать в ее морщины. — Был душегубом и вором, таким и остался. Сначала он грабил отдельных людей, а теперь весь колхоз. Безбородько назначил его завхозом.
— Мамура — и завхоз!?
— Ну да. Вот и стараются оба, социализм растягивают по уголкам и закоулкам.
— Ну, а люди как же?
— Люди! Да кто советуется с ними? Мужчины на войне, а здесь бабами командовать не тяжкое терпеть, трудности военные, — перекривила Безбородько. — Его иногда еще и нахваливает начальство, потому что сяк-так выполняет планы. Хитрый мурло, знает: сколько бабы ни станут кричать, но не они, а начальство будет снимать или назначать его. Отдыхай уже.
С невеселыми мыслями ложился Марко. Он долго не мог уснуть, а когда сон начал плести возле глаз свою теплую основу, ее разорвал зайчонок: он хоть и тихонько прыгал по землянке, но крепко бил о пол обрубком хвоста.
…К Марку сходились и сходились люди, и те, что жили, и те, что остались только в списках. Потом приятное покачивание вынесло землянку наверх, и она стала хатой, из окон которой было видно сады, луки и ставок. Сады были обгорелыми. Но на их черных искореженных руках буйно цвел и трепетал розовый цвет. Марко в удивлении остановился перед одной яблонькой, которая завершалась роскошным гербом цвета, припал к ее обугленному стволу и услышал под корой перестук сока. Он так отзывался в дереве, будто оно имело человеческое сердце. А на пруду рыбаки тянули тяжелую тоню, над ними пели те самые кулички-травники, которых он видел под кустом телореза. Дальше появилась церковь, старые образа на ней казались потемневшими куклами пряжи. Сучковатый отец Хрисантий встретил его с какой-то бутылкой в руках и хитро улыбнулся:
«Нет вашего Заднепровского, — уже в новой школе орудует. А я перехожу в самодеятельность. В последний раз в церкви пью, хватит грешить».
Марко пошел в школу. Возле осокорей, где он встретил свою судьбу, над ним загремел пушечный гром. Марко поднял голову и на облаке увидел бородатого веселощекого деда с солдатскими обмотками на ногах. Дед подмигнул ему:
— Испугался? Это не пушки, а я, гром, гремел. Слышишь, война закончилась! Вот и будь здоров и ничего не бойся. Поплыл на облаке прорицать победу…
Марко проснулся с улыбкой на устах, повернулся, крякнул и услышал тихий голос Федька:
— Вы не спите?
— Не сплю.
— А слышали, как во сне смеялись?
— Не слышал.
Паренек рукой нащупал Маркову руку и что-то ткнул в нее:
— Возьмите себе, Марко Трофимович.
— Что это, Федю?
— Зажигалка. Все-таки пусть она будет у вас. В хозяйстве пригодится, — сказал словами Марка.
Мужчина понял, что сейчас делается в детской душе.
— Ну, спасибо, Федя, за подарок. Теперь и я буду с огнем! Давно не имел такого славного подарка.
— В самом деле? — обрадовался паренек.
— В самом деле. А если захочешь поиграть ею, бери у меня, обижаться не буду, — прижал к себе ребенка и вздохнул.
VII
Ночь лучший пособник влюбленных, только тех, что неженаты. Дела женатых ночью куда хуже, даже если ты председатель колхоза.
Антон Безбородько, проведя глазами сани с Мамурой, оперся спиной о колодезный журавль и думает о том, над чем иногда думают по ночам некоторые мужчины. В голове неоднолюба, потесняя все хозяйственные заботы, неровно крутится и плетется один клубок: «К кому и как пойти?»
Кто-то, может, и не очень мудрствует возле такого, сокровенной страстью напутанного клубка, но степенный Безбородько — не легкомысленный баламут. Он знает, что любовные ласки рождаются в тайне и лучше всего, когда в тайне, без завязи, отцветают. Кому в этом мире, практически, нужны огласка или подозрение? Ни тебе, ни твоей любовнице, ни тем более собственной жене, которая на всякий взгляд мужчины имеет кошачьи глаза. Ты на заседание идешь, а она и здесь, как из колышка, цюкнет:
— Долго будешь сидеть?
А разве же он знает, сколько будут говорить и свои активисты, и представители? Да и на фермы, какими они теперь ни есть, надо заглянуть, чтобы хоть сторожа начальство чувствовали. А баба как баба: все равно государственную работу никак не отсортирует от любви и ревности.
«Эх, Мария, Мария, славная ты была девушкой, и молодица ничего себе вышла из тебя, а вот, набравши сорок лет с хвостиком, не набралась, практически, деликатности. Еще и не подумает муж повести на кого-то бровью, а у тебя уже все и для всех написано-разрисовано на лице, как на афише. С годами еще и новый недостаток прорезался у жены: неважно спит по ночам. Не успеешь ступить на порог, а с постели уже шипит ее голосок:
— Чего так поздно притарабанился? Уже скоро первые петухи запоют.
Прицепилась к тем певцам, будто и не знает, сколько председатель имеет хлопот от петухов и до петухов».
Журавль грустно поскрипывает, будто сочувствует мужчине, и он тихонько начинает напевать:
Ой у полі три криниченьки, Любив казак три дівчиноньки: Чорнявую та білявую, Третю руду препоганую.Нет, прескверной он никогда не любил, а что у него есть чернявая и белокурая, кроме жены-шатенки, как в городе говорят, так это факт, с одной стороны, приятный, а с другой, лучше не спрашивайте… Как там теперь его законный факт? Спит ли, или отдавливает бока, ожидая мужа? Хоть бери и незаметно сон-зелье подсыпай своей паре. И медициной втолковываешь ей, что сон — это витамины здоровья, но разве же такую медицину победит или переговорит? У нее, практически, своя медицина и свои примечания к ней. Эт, никогда мужчина не проживет спокойно: то войны, то разные планы-заготовки, то кампании, то фермы, то женщины. И какую они силу взяли над нашим братом! Взглянет-моргнет глазами на тебя, поведет бровью — и потащит куда-то душу, словно за поводок. Еще ничего, если у кого-то один поводок, а вот когда их аж два в разные стороны дергают, и ты стоишь в нерешительности: куда повернуть? Конечно, лучше пойти к Мавре, но это такая дичь, что до сих пор, практически, не разберешь, как поддобриться к ней: или лаской, или продукцией, или еще чем-то. А в последнее время, вражья личина, и не смотрит в его сторону. С какой бы ласки или тряски?
Из тьмы на Безбородько глянули голубые, с диковатым серым бликом глаза молодой вдовицы, которая больше приносила ему хлопот, чем радости. Но почему-то и тянуло больше к ней, словно сам черт в медах выкупывал ее.
«Грехи, грехи», — чистосердечно вырывается у мужчины. Он решительно вытягивается и с достоинством, как хозяин, выходит на дорогу: чего ему сейчас крыться, когда идет проверять конюшню. Вот после нее надо будет съеживаться под чужими печами, а это, практически, разве убежище? Скорее бы всем огородиться плетнями, перекладинами и разжиться на хаты. И людям было бы лучше, и для высшего глаза, и для него — меньше бы тыкали пальцами на его усадьбу. Не одному мозолила она глаза, а никто не поблагодарит, что он и для людей зубами вырывал лес аж с трех лесничеств. В этом году много настроят хат, ну, а все одинаково жить не могут, потому что до неба высоко, а до коммунизма далеко.
Он осторожно, почти на цыпочках, подходит к конюшне, откуда слышны голоса конюхов, вытягивается у ворот и прислушается, не болтает ли чего-то о нем безумный дед Евмен и его братия. «Никогда старику ничем не угодишь. Уже, так и знай, отвез Марку Бессмертному три фуры побасенок, а четвертую жалоб. И принесло же этого Марка еще до окончания войны, будет кому воду мутить, — это такой, что не усидит и не улежит. Гляди, еще и потурит с председательства, потому что он рыболов».
Последнее слово Безбородько уже со злостью выговорил в мыслях: вспомнил, как Марко насмеялся над ним. Еще когда они ходили в школу и сидели на одной парте, Марко был завзятым рыбаком, а он приладился и руками драть раков, и раколовлей вылавливать, потому что за них от попа-ракоеда во всякую погоду перепадала свежая копейка. Те годы уже и конями не догонишь. Когда же в тридцать восьмом году его, Антона, снова сняли с председательства, а назначили Марка, как-то под рюмкой он спросил на крестинах:
— Почему, Марко, тебе фортунит на председательство, а я никак не могу долго удержаться на нем?
Марко тогда, не мудрствуя долго, и выпалил на людской смех и молву:
— Наверно потому, что в принципе ты раколов, а я рыболов; ты под коряги заглядываешь, а я в плес смотрю.
Ну, да за войну рыболову больше досталось, чем раколову; на плесах войны со шкуры быстро делают решето… Вот уже имеешь на завтра новую заботу: пойти к рыболову, посочувствовать его ранам, чем-то помочь ему, а он, лукавоглазый, гляди, и спихнет тебя с председательства, как раньше спихивал.
Эти опасения совсем растревожили мужчину, потому что в глубочайших своих тайниках иногда с сожалением и нехорошей завистью признавал, что Марко, хоть бы он сгорел, ведет хозяйство лучше его. Но на людях, где мог и как мог, а чаще тайно, кусал и ел своего соперника. Правда, это он прикрывал и разными идеями, и всяческими заботами о колхозе. А как же иначе? Это только не очень большого ума кладовщик Мирон Шавула может напрямик выпалить, как уже выпалил сегодня о приезде Марка, что два кота на одном сале не помирятся. А он под это именно должен подвести базу, идейную или экономическую, потому что теперь без теории никак не обойдешься. Она имеет резонанс. Даже жена иногда опасается ее.
За воротами потихоньку пофыркивали кони, неприятно пахло прелой соломой, забродившим жомом, добавляемым к сечке, а благоухание сена давно уже выветрилось из конюшни. Чем только дотянуть до паши?
Голоса конюхов рассыпались и затихли. Потом аж в конце конюшни чертов Максим Полатайко, который прошел и медные трубы, и чертовы зубы, складно пустил низом песню, и сразу же над ней чудесно плеснул и взлетел вверх чистый, с осенней мягкостью и грустью тенор.
Отпущу я кониченька в саду, А сам піду к отцю на пораду. Отець мій по садочку ходить, За поводиы кониченька водить.«Кто возле лошадей вырос, тот о лошадях думает и поет», — улыбнулся Безбородько и вошел в конюшню. И только здесь, прислушиваясь к песне и присматриваясь к скотине, загрустил: чем он в этом году вспашет поля? Этими полуголодными, отовсюду стянутыми калеками за три года не обработаешь их землю. А на МТС надежды не возлагай: трактора тоже — одна рухлядь, и горючего нет. Конечно, что можно будет списать на войну, он спишет. Но все равно, кого же, как не его, будут стегать со всех сторон. Вот и думай, мужик, как выкрутиться из такого передела. Песня еще вспорхнула вверх и затихла, но те же мысли жалили и раздражали человека.
В конюшне, кроме конюхов, был и скотник Емельян Корж, высокий, как жердь, мужичонка с простреленной рукой.
Он еще больше вытянулся перед председателем, не зная, куда деть здоровую руку с папиросой.
— Даже сюда курить пришел? Когда я вас порядка научу? — громыхнул Безбородько.
— Так я же, Антон Иванович, папиросу в рукаве держу, — ответил смирный человек.
— И дым в рукав пускаешь?
— Нет, до этого еще не додумался.
— А ты додумайся! Вишь, каким высоким, до неба, вытянуло тебя, а ум все вниз клонится. Пропорции надо иметь. Чего пришел сюда?
— Пожаловаться, — нахмурился мужчина.
— Пожаловаться? Что же у тебя? — мягче спросил. — Что-то с фронта пришло?
— Да не у меня, а у нас: последние корма аптекарскими порциями даем скотине, а что же дальше делать? Или ясли на сечку рубить, или острить ножи на весь товар? У коров уже вымя на рукавички ссохлось, и так плачет скотина, что себе голосить хочется, как на похоронах. Вот какое дело.
— Что поделаешь — война, — ничего более умного не мог ответить Безбородько. Разве ему нынешняя зимовка тоже не сидит в печенках?
И сразу же из темноты строго отозвался Евмен Дыбенко:
— Война войной, а два стога переложного сена ни за что, ни про что сгноили.
Безбородько нахмурился:
— Таки вспомнила баба деверя. Из-за вас, дед, об этих двух стогах весь свет и союзника знают.
— Да они нам ни сеном, ни душевностью не помогут, — и не думал смолчать старик.
— Что же мы, Антон, через пару дней будем делать?
— Святого Лазаря петь.
— Запеть можно и святого, и грешного, а выпоешь ли у него хоть вязку сена? Не знаешь? — неприступно стоял в темноте старик.
— Об этом, дед, лучше своего Марка Бессмертного спросите, — еще больше насупился Безбородько. — Приехал ваш совет и дорогой разговор.
— При Марке я не спрашивал бы о таком деле: он сохранил бы и человека, и скотину.
— Дыбенко, вспомнив прошлые года, невольно вздохнул.
На миг увидел прошлое и Безбородько: в самом деле, Марко как-то всегда умел выкручиваться. Ну, а теперь не выкрутился бы — война. Этим Безбородько немного утешил себя и уже спокойнее заговорил к старику:
— И чего вы так въедаетесь? Думаете, у меня душа не раздражена этими недостатками?
— Наверное, мало, потому что довели скотину до измора, доведем и до падежа. Готовь веревки подвешивать ее. — Он вздохнул и вышел из мрака, хмурый, сосредоточенный. — Не придется ли нам, Антон, по людям, шапочку снявши, пойти: может, хоть немного чем-то разживемся?
— Да, наверное, придется же, только что теперь, практически, есть у людей?
— Кроме беды имеют они и сердце.
— И тоже ободранное. Ну, увидим, что выйдет с этого дива. Доброй ночи.
— Будь здоров и ты, начальник милый, — насмешливо бросил дед и, не подав руки, отвернулся от Безбородько. Тот бешеными глазами стрельнул ему в спину.
«Элемент! Ждешь не дождешься, чтобы снять меня с председательства, на Марка, как на икону, молишься. Нет, практически, порядка на земле!»
Не было порядка и на небе — по нему то рощами, то сцепленными химерами скучивалась потаенная с такими глазами облачность, что нельзя было понять зиму или весну отряхнет она на землю. Хоть весна тоже не мед председателю колхоза, но быстрее бы наступала, чтобы, в самом деле, не пришлось на веревках подвешивать скотину. Еще хорошо, что у него не так и много ее: было бы немного больше — и уши объела бы.
На улице хозяйственные заботы покидают мысли Безбородько, потому что приходят другие, горячие и огнистые. Теперь Антон Иванович как-то уменьшается, будто вбирает вглубь частицу своего роста, и не идет, а то таится, то по-злодейски возникает между муравейниками землянок, стайками деревьев и осиротевшими печами; они иногда, как живые существа, неожиданно выныривают из тьмы и льдом обдают все тело мужчины, потому что не большая радость возле землянки полюбовницы наскочить на какого-нибудь свидетеля. И он на всякий случай заранее подыскивает ответ, чего оказался на этом углу.
Вот уже и землянка Мавры Покритченко горбатится. Тоже кто-то влепил такую фамилию какому-то покрытченку[13] и милосердия не имел в душе. У Безбородько на какой-то миг просыпается жалость к Мавре, которая не раз наплакалась, пока, стала его любовницей. Да и теперь она еще не оклемалась: когда заходишь к ней, старается избавиться от тебя и слезами, и проклятиями, даже себя не жалеет, — тоже проклинает за свой грех. Почему-то никак не может посмотреть на бабскую судьбу военными глазами: живи, как живется, люби, когда любится, потому что и это преходящая вещь: сойдет привлекательность с лица, тогда никто уже тебя, женщина добрая, не будет ждать, разве что одна земля. Теперь Мавра клянет его и себя, а не будет ли когда-то жалеть об этом? Будет раскаяние, да не будет возврата. Вот как оно значит, когда, практически, заглянуть наперед. И чего оно так повелось на земле: кто меньше льнет к тебе, к тому больше липнешь ты? Кажется, и Пушкин об этом писал в «Пиковой даме» или где-то еще.
Еще просверлив подозрительным взглядом тьму, Антон Иванович, как в молодости, вкрадчивыми прыжками одолевает расстояние от улицы до огорода, с краю которого кротовой норой темнеет землянка. Не переводя дыхания, он затискивает рукой ледком намерзшую дужку и начинает вызванивать ту вкрадчивую песню, в которой есть лишь два и то одинаковых слова: «Отвори, отвори!» В эту мелодию сейчас впитывается все естество сластолюбца. Щеколда стонет и умоляет смилостивиться над мужчиной, но из жилища не доносится даже шороха.
«Или так крепко спит, или, может, ночует у какой-то подруги-вдовы?» Недовольство берет верх над осторожностью, и он начинает стучать, и потом дубасить кулаком в дверь.
— Кто там? — наконец слышит такой желанный и ничуточку не сонный голос.
— Это я, Мавра, — повеселев, пригибается, чтобы послать свой голос сквозь отверстие для деревянного ключа. — Добрый вечер тебе!
В землянке залегает тишина, потом нехорошо отзывается голос вдовы:
— Чего вам?
«Еще и спрашивает, бестия, будто не знает чего», — довольно улыбается Безбородько и, смакуя радость встречи, целует воздух. В жилье зашуршали женские ноги. Мавра подошла к дверям и строго произнесла:
— У меня тетка ночует.
Наверно, молот не ошарашил бы так Безбородько, как эти неожиданные слова.
«Вот так ни за что, ни про что и влипает наш брат, как муха в патоку. И принесло же его на свое безголовье. Разве не знает он Мавриной тетки-сплетницы, у которой рот — как хлев: если распахнется — замком не закроешь, глиной не подмажешь. Практически, завтра по всем уголкам зазвонит языком, как церковным колоколом. Не имел мужчина беды, так пошел к полюбовнице. Мария ему теперь и хату, и голову разнесет… Как же здесь выскочить хоть полусухим из такого переплета? Тогда и глаз не бросал бы на ведьмовский род в юбках, где он взялся на нашего брата?»
Хватаясь то за одну, то за другую мысль, он отбрасывает их, как шелуху, еще лихорадочнее копаясь в памяти, в книжках, где пишется о таких штучках, на глаза лезут какие-то куски из сцены, и вдруг его осеняет догадка:
— Ху! — облегченно вздыхает мужчина и с достоинством говорит сквозь дверь: — Ну и пусть твоя тетка ночует себе на здоровье. Она, знаю, компанейская щебетуха, — поддабривается к чертовой сплетнице. — А тебе телеграмма пришла. Дай думаю, занесу, порадую человека. Или, может, завтра возьмешь — не буду беспокоить твою родню.
Он, вздохнув, облегчено поворачивается, чтобы выйти во двор, а его догоняет мучительный вскрик, и сразу же от порога отскакивают двери.
— Подожди, Антон. От кого же она, эта телеграмма? — с мольбой протягиваются руки вдовицы. Она стоит перед Безбородько, как печаль, как ожидание, как боль, а ветер перебирает подол ее рубашки и широкие рукава. — От кого? От Степана?
— Да что ты, женщина добрая, говоришь! Опомнись! — Безбородько страшится такого вопроса и неловко входит в землянку. — Это ты спросонок?
Мавра поворачивается за ним на одном месте и уже без надежды переспрашивает:
— Не от Степана?
Безбородько зябко поводит плечами:
— Чего спрашивать об этом — он же убит.
— А может, не совсем убит, — сразу вянет женщина и голос ее наполняется слезами и мукой.
— Ну, чего ты, несчастная? Не надо беспокоить себя, — начинает успокаивать вдову, а сам прогоняет глупые мысли: разве полегчало бы ей, если бы вернулся Степан, — он, ревнивец, не помиловал бы ее, месил бы, как тесто в кадке, а она и сейчас так побивается о нем. И кто на свете поймет, что такое женщина и что такое женские слезы и сердце?
Мавра только теперь в темноте находит на перилах кровати юбку, быстро надевает ее через голову, а сама дрожит, как в лихорадке:
— Как ты мою душу разволновал, как оборвал ее с последней нитки.
Он украдкой дотрагивается руками до ее еще сонных плеч, пахнущих разогретым сеном, женственностью и горьковатостью пыльной землянки.
— Чем я тебя разволновал?
— Телеграммой, будь она неладна. Никогда ни от кого на свете не получала их, кроме своего Степана… Только сказал ты это слово, а я увидела его, мужа своего, и ожила, и обмерла: а может, он каким-то чудом уцелел.
— Какое уж там чудо может быть, когда на мине подорвался? Нашли от него, сама знаешь, лишь пару клочков шинели и кусочек сердца. Как только не развеялся этот кусок сердца, когда даже кости дымом развеялись? — бесцеремонно, будто и не при жене, вспоминает смерть мужа, а сам топчется по землянке, присматривается к кровати и к лежанке. Но почему нигде никого не видит он? — А где же твоя тетка? — спрашивает повеселевшим голосом.
— Какая тетка? — забыв свое вранье, сквозь слезы удивляется Мавра.
— Драсте вам! — Безбородько насмешливо кланяется в пояс вдове. — Она еще спрашивает — какая! Твоя же — уличная сплетница!
— А-а-а… Это я со сна сказала, — неохотно отвечает Мавра и засвечивает плошку.
— Будто ты уже спала? — недоверчиво косится Безбородько и на женщину, и на лампу.
— Заснула. От кого же телеграмма пришла? Кто мог вспомнить меня?
— Ге-ге-ге, — неловко смеется Безбородько. — Интересуешься?
— Да чтобы очень, так нет, потому что радости сейчас нет ни в письмах, ни в телеграммах, — осторожно ставит на шесток мигающий свет. — Так от кого?
Безбородько засмеялся:
— Это я, Мавра, выдумал под твоими дверями, когда ты мне теткой такого страху нагнала. Надо же было за какую-то загогулину ухватиться…
— Выдумал!? — Мавра пораженно застыла возле печки, вокруг ее рта затряслись мучительные и горькие складки, но вот их смывает злая решительность, и она чуть ли не с кулаками бросается на гостя. — Вон, иди прочь, ненавистный! Сердце оборвал, еще и радуется. Вон, шляйка уличная!
— Ты что, женщина добрая, не той ли, не ошалела ли, практически, перед новым днем? — Во все тело Безбородько ввинчивается мерзкий холодок, и уже куда-то далекодалеко отлетает непрочная радость встречи.
— Вон, мерзавец, а то людей позову! — вдова руками и слезами гонит Безбородько к дверям.
— Приди в себя, Мавра, приди в себя! Какой овод тебя укусил? Разве я, практически, худшего тебе хочу? Я же люблю тебя, — запыхавшись останавливается на пороге, хочет прижать женщину, но она люто бьет его по рукам и так начинает сквозь плач поносить, что и в самом деле кто-то может услышать крик в землянке. — На какую оттепель развезло тебя сегодня?
Вдова отворяет двери:
— Исчезни с глаз, баламут! Он еще мне добра желает, он еще любит меня, а чтоб тебя болезнь полюбила.
— Чего ты разбрызгалась, сумасшедшая! Тише, практически, не можешь? — цыкнул на вдовицу, негодующе громыхнул дверями, а за ними послышался безутешный плач.
Ну, вот не переделка ли мужчине? Еще минуту тому назад он чуть ли не подпрыгивал, придумав историю с телеграммой, а теперь проклинал ее последними словами: техника испортила ему все удовольствие. Правду говорят теоретики: нет ничего постоянного в жизни — все течет, все меняется, а бабы больше всего.
В таких раздумьях идет покрученными улочками надувшийся Безбородько домой, а мысли поворачиваются и поворачиваются к странной вдовице, которая так бесцеремонно выпроводила его из жилища. Если бы не такой поздний час, можно было бы снова вернуться к ней. Хоть бы утешил ее каким-то словом, бабы это любят и тогда становятся добрее к нашему брату. А может, она его вытурила только для того, чтобы больше тянуло к ней? И такая бабская стратегия может быть.
Неподалеку хрипло загорланил, забил крыльями петух и сразу же, чуть дальше, отозвался второй и тоже тряхнул крыльями, будто отделял ими утро от ночи. Безбородько удивился — неужели это полночь?
«Так за глупую ложку супа и проходил полсуток. Хоть бы Мария не проснулась».
Да разве женщина догадается когда-нибудь сделать так, как захочется мужчине? Не успел он с порога вдохнуть запахи сушенных яблок, как Мария и цюкнула, как долотом, по темечку.
— Чего так рано пришел? Еще где рассвет, а муж уже на пороге.
Безбородько с ходу отрезал жене:
— Слышал уже не раз эти глупые вопросы на проблемы. Что-то более умное выковыряла бы или проинформировала, что скоро первые петухи запоют.
— Бедненький, он и не слышал, как они пели! — со сладкой иронией кусает Мария.
— Разве пели? — удивляется мужчина. — Вот чего не слышал, того не слышал. Да и петухов теперь на селе по пальцам, практически, сосчитать.
— Эге ж, теперь полюбовниц больше, чем петухов, — как бы между прочим сказала Мария и снова взялась за свое: — Так, говоришь, не слышал, как петухи пели?
— Сказал же тебе.
— И еще скажешь, что на конюшне был?
— Таки на конюшне.
— А потом возле чьих дверей щеколду целовал?
— Эт, не забивай ты мне баки ни петухами, ни щеколдами! Загалдела черте что! — естественно рассердился, но и забеспокоился муж: жена таки что-то пронюхала. Но что именно и сколько именно? Если бы много — все одним духом вычитала бы, как стихи. А то так подкалывает, лишь бы что-то вырвать из него. Тоже свои теории имеет. Значит, надо суживать свою практику, чтобы не попасться зря. Вот так, а не иначе, дорогая женушка. — Ты бы, может, догадалась ужин поставить на стол?
— Будто нигде не ужинал? — снова сладко удивилась Мария, а сама чуть ли не шипела в постели.
— Да мог бы поужинать, так к тебе спешил, летел, как на крыльях.
— Боже милый, хоть бы раз мой муж осчастливил меня и не поломал по дороге те крылья, — так ехидничает Мария, что у Антона кончается терпение. Он решает или оборвать, или довести до конца похабную игру. Лицо его выражает презрение, беспокойство и нелегкие раздумья, а в голосе отзывается угроза:
— Ей еще ревность, девичество в голове, а ты дни и ночи не спишь, выворачиваешь мозги, потому что уже весна к самому селу подходит, а кони с ног падают. Еще скажи хоть одно глупое слово, и все горшки и миски полетят и на пол, и в твою горячую пазуху.
— Чтоб тебя черт побрал! — зная его характер, Мария испуганно соскочила с постели, метнулась к свету, а потом так загрохотала ухватами, будто должна была доставать из челюстей печи не горшки, а весенний гром.
«Это уже, практически, другое дело, — чуть ли не улыбнулся Безбородько. — Ну, чье сверху? Знала бы немного больше, не метнулась бы, как ошпаренная, к печи. Знаем вас, как облупленных». Он степенно разделся, небрежно бросил пальто на мешок с сушкой, которая пахла еще холодком: наверно, внесли ее в дом поздно вечером, и прикрикнул на старуху:
— Чего босиком носишься? Из чьего бы только ума такой горячей стала?
Женщина исподлобья взглянула, мигнула на него, вознамерилась отрезать, что только ее муж никогда под собой места не нагреет, но передумала и молча поставила, как прилепила, миску перед самым носом:
— Ешь!
— Может, и ты поможешь?
— Подожду завтрака — недолго осталось ждать, — затопотала к кровати.
— Как хочешь, если до утра не похудеешь. — В душе он праздновал победу, и потому даже спать ложился веселее. Но утром жена таки показала буйный нрав.
Каждый человек имеет какую-то свою слабость или прихоть. Безбородько тоже не был исключением между адамовыми потомками. Весной в прошлом году он был легко ранен в бок. Эта рана возвеличила его в собственных глазах и в глазах партизан. Лесное племя великодушно забыло, что Безбородько пришел в отряд только тогда, когда запахло победой. Рана принесла мужчине и правительственную награду — медаль. Так чего же было и дальше не раздувать свою славу и раной, и наградой? Так вот при всякой возможности Безбородько поддерживал эту славу, будто между прочим вворачивая в разговор.
— Побывали мы, практически, в разных и всяких переделках, попробовали, почем фунт лиха, когда командира убили, а меня ранили.
Или:
— Полежал я тогда в крови, как в весенней воде. И до сих пор не верится, что остался живым.
Ему даже вдруг жалко стало, что рана начала быстро заживать, потому что тогда люди меньше могут уважать его. Так вот он и додумался продлить срок выздоровления. Дядьки не раз удивлялись, что у Безбородько такое капризное тело, удивлялся на людях и Безбородько, но что сделаешь, если природа является природой и никакая медицина еще не раскусила ее до корешка.
Вот и сегодня утром, когда возле его дома собрались бригадиры, он сквозь приоткрытые двери позвал Марию, которая работала на дворе:
— Старая, где ты там делась? Давай скорее бинты для перевязки.
— Для какой перевязки!? — нахально вызверилась на него жена. — До каких пор ты будешь тот рубец перевязывать? Не многовато ли чести для него!?
Во дворе вдруг стало тихо, а потом громом обрушился хохот. Безбородько чуть не потерял сознание от неожиданного бесчестия, лицо у него стало таким, будто его держали три дня и три ночи в квашенном перце. Вот так, одним кончиком глупого языка, можно слизать все заслуги человека.
«Ну, разве не придешь ты домой, ведьма конотопская! Полетят из твоей умной головы отрепки, как перо с дохлой курицы. Я тебе прорублю такой рубец, что надвое язык перекусишь», — сжимал в злобе кулаки.
А Мария, когда услышала смех бригадиров, со страхом поняла, что вышел незаурядный пересол, и сразу же сообразительно сменила пластинку:
— Я тебе, Антон, рану йодом замажу. Уж, поверь мне, обойдется без бинта. — Выворачивая глаза на людей, она, красивая и энергичная, в раздутых ветром юбках летит в хату, не затворяя за собой дверей, твердо, будто прибивает, ставит подойник с молоком и так начинает плакаться, чтобы все услышали со двора: — Вот горюшко мое, снова где-то йод подевался! Куда я всунула его?
— Это ты можешь, языкастое чучело! Посмотри-ка на полке для посуды, — обиженным голосом тянет Безбородько, которого хоть немного утешает сообразительность жены.
— В самом деле, на миснике[14]! — Мария берет с подоконника бутылочку, посматривает на двери. — Поднимай рубашку! — И, не взглянув на мужа, снова ставит йод на подоконник.
Нет, таки жена у него еще не совсем ведьма, скорее — ведьмочка. Вот бы ей только наполовину подрезать язык и выцедить ревность, так из нее еще были бы люди. Но все равно, как ни старается теперь, ее надо проучить.
И проучил бы, хоть немного, после наряда. Но как раз подъехал Тодох Мамура, и Мария, ненавидевшая завхоза, сегодня предупредительно поставила им завтрак, а сама быстренько исчезла, крутнулась перед зеркалом и умотала в соседнее село к сестре, у которой не была больше года. «Вишь, как сразу потянуло на прогулку! Ну и пусть. Обойдутся гости без нее».
После первой рюмки Безбородько спросил у Мамуры:
— Как ездилось?
— Ездилось и возилось, потому что дела идут — контора пишет, — беззаботно ответил Мамура, орудуя челюстями, как жерновами: под ними и косточки хрустели, как зерно.
— Все сошло с рук?
— Все шито-крыто, все в самый аккурат, хотя и сидит у меня наш участковый милиционер — вот здесь, — удовлетворенно засмеялся Мамура, весело запел:
Не обіймай мене рукою, Не називай мене своею.— Никого не встречал?
— Ани куколки.
— Это хорошо.
— Старался же. Объездами кружил, все мыло спустил с конюшенных коней.
— Сколько выторговал?
— Шесть кусков! — полез в карман и выбросил на стол несколько пачек денег.
Безбородько подозрительно ощупал глазами всю распухшую выручку, что, видать, побывала в разных укрытиях, пока попала на этот стол.
— Шесть. Не продешевил? — За этим вопросом стоял другой: не обманываешь меня?
— Не продешевил, потому что покупатель тоже знает, что привезенное ночью дешевле ценится.
— Пусть будет так, — кивнул головой Безбородько. — Итак, практически, себе возьмешь две тысячи. Шавуле отделим тысячу, а остальное — мое.
Мамура поморщился:
— Шавуле и пятьсот хватит с головой.
— Э, нет, в таком деле не надо скупиться. Зачем свой человек должен коситься на своего. Пусть и он имеет интерес, — великодушно заступился за кладовщика.
— Голова у вас министерская! — засмеялся Мамура и запил похвалу самогоном.
Но сегодня он и этой похвалой не умаслил Безбородько.
— Министерская, говоришь? — остро глянул глубоко посаженными темно-серыми глазами. — А у тебя какая?
— Да куда моей до вашей, — насторожился Мамура и тише спросил: — Какие заботы едят вас?
Лицо Безбородько взялось озабоченностью.
— О скотине, Тодоша, надо что-то думать. В печенках она сидит мне.
— А что делать, когда никаких лимитов не спускают? Разве мало бумажек писали?
— Бумажками не накормишь скотину. А здесь еще Марко Бессмертный приехал. Он как уцепится за лошадей, так и мы копытами загрохочем с должностей. Вот, практически, о чем надо думать. Потому что ты же знаешь Марка.
— Кто его не знает, — нехорошо надулось лицо завхоза, похожее на тыкву, — вчера некоторые, словно на прощу, пошли к нему. Знаю, месили нас, как тесто.
Безбородько нахмурился:
— Вот гляди, чтобы и не испекли, как тесто. Какой ни есть наш колхоз, а без него не сладко будет.
— Что и говорить… — Мамура даже рюмку отодвигает от себя. — И принесло же его на костылях, а к нему идут, как к апостолу какому-то.
Они оба долго молчат, думая об одном.
— Может, к товарищу Киселю заехать, какого-то поросенка отвезти, а он и выписал бы сякой-такой нарядик? — со временем осторожно выпытывает Мамура.
— Можно попробовать и это, а пока что берись за резервы — пойди по людям. Сегодня же! Кто-то свеклы даст, у кого-то разживемся картофелем или сеном. Брать все надо только под расписку: уродит — отдадим.
— Лишь бы взять, а за отдачу у меня голова не болит, — таки прорвался воровской характер Мамуры.
— Ты еще и ляпни кому-то такое, — недовольно поморщился Безбородько, — И с кузницы надо не спускать глаз, чтобы наши плуги не последними плелись в изготовлении. Железа теперь хватает — всюду война разбросала такое добро. Запас бы надо какой-то сделать. Не думаешь ты над такими вопросами ни практически, ни теоретически. А главное сейчас — скотина, кони. Только бы хоть как-нибудь дотянуть до паши и обсеяться.
— Через часок пойду по селу, что-то выходим. К Бессмертному заходить?
— А чего же, и к нему зайди, узнаешь, каким духом дышит человек. Только заешь самогон сухим чаем — Марко за что хочешь может уцепиться.
— Принесла же его нелегкая година с той войны. Пусть бы воевал себе понемногу и разживался на славу и ордена. — Мамура выказал то, что скрывал Безбородько, засунул деньги поближе к душе и вышел во двор, где снега из-под туч перехватывали солнечные лучи. Кони подняли головы од опалки, и в их синих больших глазах, как на рисунке, закачались росинки солнца и измельчавший до точки облик Мамуры.
VIII
Когда Марко проснулся, в задымленной землянке не было ни матери, ни Федька, только возле бочонка, на котором стоял образ Георгия Победоносца, шуршал и пугался своего шороха зайчонок.
В открытых дверях предрассветной паутиной качался дым, а навстречу ему пробивалась такая солнечная пыльца, будто он происходил в пору яблоневых цветений. С потолка прямо на лицо упала капля влаги и прогнала остатки сна.
«Хорошо же спалось у родной мамы, словно детство вернулось, — удивился, что проспал восход солнца. Даже в госпитале, даже после снотворного Марко чуть ли не всегда просыпался на рассвете. А здесь сразу осрамился перед матерью и Федьком. Что они там делают?»
Со двора голосисто отозвался петух, бухнул топор, ойкнуло расколовшееся дерево, потом послышались чьи-то шаги и отозвался голос Безбородько:
— Доброго утра вам, тетка Анна! Живы-здоровы ли? — удивился Безбородько.
— Да живем твоими молитвами и трудоднями, — неласково ответила мать.
— Чего вы такие сегодня?
— А ты всегда такой.
— Разве?
— Не помнишь? За круглый год ты хоть раз так, как ныне, подошел ко мне или спросил о моем здоровье?
— Вот чего не припоминаю, того не припоминаю. Вас много, я один. А если что-то не так было, извиняйте… С праздником вас — с возвращением сына.
— Спасибо на добром слове.
— Одним «спасибо» не отбудете… Хоть бы вчера на беседу позвали.
— Почему же сам не зашел? Мои хоромы не так далеко от твоих. Только твой дворец уже над землей возносится, а мой глубже в землю входит.
— Теперь и ваш, как из воды, выйдет из подземелья. Марко — хозяин, да еще какой! Чем-то, практически, поможем ему, что-то сам подумает-погадает, ну, и вылезете из этого склепа, — рассудительно говорит Безбородько.
Кажется, будто его не гневят не очень радушные слова матери, но намеком о помощи он таки смягчает женское сердце.
— Древесиной надо помочь, — уже жалуется мать на хозяйственные заботы.
— Поможем, разживемся на какой-то нарядик, конечно! Сами понимаем практику!
«Лиса везде остается лисой. Вишь, как принялся умасливать мать», — посмеивается Марко, прислушиваясь к разговору.
— Здоровье же сына, слышал, не очень, чтобы очень? — стелет сочувствие Безбородько.
— Да не очень, Антон. И снарядами изрывали в клочья его, и ножами врачи резали, как скотобойцы.
— Да, ничего не поделаешь: война войной, мало кто вынесет из нее не продырявленное тело, — но теперь в сочувствии, как роса на паутине, зависают капли радости.
Марко ощущает их, сначала удивляется, а потом начинает негодовать:
«Надеешься, что я, искалеченный, не буду тебе мешать? Не рано ли радуешься?»
— С наградами же, с орденами приехал сын? — допытывается Безбородько.
— Не знаю, не видела.
— Да что вы, тетка Анна! Такого не увидеть!? — выкрикивает Безбородько. — Неужели ничего не сияло, не бряцало на него гимнастерке?
— Не присматривалась. Я с него, горемычного, глаз не сводила, — становится тише голос матери.
— И даже какой-то медали не увидели? — притворно удивляется Безбородько, а сквозь удивление пробивается радость.
— Даже медали, — сначала смущается мать, а потом начинает сердиться: — А чего у тебя, Антон, за чьи-то медали так глава болит?
— К слову пришлось, — гасит радость в голосе. — Как-никак, друзья мы с Марком, вот и не безразлично… Ну, пойду я, тетка Анна.
— Может, друг, в наш дворец заглянешь?
— Позже, позже приду на посиделки, потому что сейчас некогда: работы, практически, до самой субботы, а от этого дня и снова же до этого — и вверх некогда глянуть. Сами знаете — село висит на плечах. Привет передавайте Марку, пусть скорее выздоравливает и не натруживает себя заранее, потому что он у вас непоседа, — говорит с веселым сочувствием.
«Зачем бы ему так допытываться о наградах? Наверное, у самого не густо их. Вот и обрадовался…» — догадался Марко.
В землянку с охапкой хвороста вошла нахмуренная мать. Увидела сына, прояснилась:
— Как спалось, Марко?
— Где же может лучше спаться, как не у родной мамы?
— А я такого дыма напустила, ошалеть можно, — прикрыла двери. — Безбородько приходил, расспрашивался о тебе. Помочь умыться?
— Как-то постараюсь сам, — на одном костыле попрыгал к ведру с водой, а мать с сожалением взглянула на искалеченную ногу и что-то зашептала к ней.
— Что вы, мама, шепчете?
— Да ничего, это уж от старост идет, тогда человеку хочется и в одиночестве говорить. Марко, а ты хоть какую-то медаль имеешь за свои битвы и увечья? — неловко взглянула сыну в глаза.
— Зачем оно вам? — засмеялся Марк, изображая, что не слышал разговора с Безбородько.
— Так себе спрашиваю. Ты мне и без медали хороший.
Больше мать ни словом не обмолвилась о наградах. Но на душе у нее стало грустно: видать, обошли ее сына, как не раз обходили на веку. Если бы меньше разные мины да снаряды рвали его в клочья, больше бы заслужил.
Умывшись, Марко вышел во двор. Утро сразу охватило его свежестью и солнцем. Весь воздух был густо переткан почти невидимыми нитями изморози. Только вглядываясь против молодого солнца, можно было заметить, как они щедро расщеплялись на крохотные снежинки-искорки, создавая вокруг неощутимую золотую метелицу. Да, это была истинная, но необыкновенная метелица, которая ослепительно двигалась своими путями и кругами. Марко, любуясь ею, удивлялся, почему раньше никогда не видел, что может создавать обычная, солнцем подсвеченная изморозь.
И только после этого начал присматриваться к селу, захламленному наростами землянок и скорбными памятниками печей. Но уже на пожарищах лежала древесина, кое-где поднимались желтоватые, как будто из воска вылепленные срубы, а за мостиком среди убогости руин возносился большой дом, к которому неуклюже лепились пристройки.
«Это, наверно, и есть хоромы Безбородько. За чьи деньги проползает под сердцем, за какие заслуги строился он?» — кипит злоба, а глаза берутся гневом.
Когда-то и Марко не раз мечтал, что придет время — и новые, белые, как лебеди, хаты разбредутся по зеленым садам, чтобы человек имел где отдохнуть, принять гостей и научить уму-разуму детвору. Разве у нас не хватит глины на такие дома, чтобы против них кулаческие казались нищенскими? И это будет! Но он первой прямой наводкой ударил бы по тем хоромах, которые выросли на мошенничестве среди бедности, руин и нужды.
Что-то неподалеку зашипело, Марко невольно вздрогнул, но сразу же понял, что это была не мина: пошипев, заговорил громкоговоритель. Мужчина подыбал к нему послушать последние известия.
— Не спеши так, Марко! С приездом тебя! — услышал сбоку знакомый смешок и голос.
И вот к нему степенно подходит проясненный внешне и нахмуренный изнутри Безбородько, среднего роста, складно сложенный мужичонка, которого можно запомнить с первого взгляда. На узковатом с упрямым подбородком лице хозяйничает немалый, раздвоенный на кончике нос, зато темно-серые подремывающие глаза глубоко засели в глазницах, а над ними выпяченные надбровные дуги перегнули ржаные навесы бровей. Губы у мужчины полные, смачные, о которых говорят, что ими хорошо целоваться или в церкви свечки гасить. А вот большие оттопыренные уши подкачали: очевидно, за счет размера они утончились, и лучи процеживаются сквозь них, как через розовое стекло.
Марко острым взглядом сразу схватывает все лицо, на котором удивительно соединяется властность и дрема, всю преисполненную достоинства фигура Безбородько, потом крайне удивляется, отворачивается, а дальше так заливается хохотом, что его аж качает на костылях.
Взволнованный Безбородько искоса взглянул на себя, потом взглянул на Марка, даже не ответившего на приветствие, пожал плечами и с обидой на лице выжидает, что будет дальше. Но, когда на темноте Марковых ресниц заколебались росинки слез, он с удивлением и пренебрежением выпятил раздутые губы:
— Вот так, значит, практически, и встречаются друзья. Даже «здравствуй» не выцедили, а уже насмешечки нашли. Чем-то таким смешным позавтракал?
— Да нет, Антон, — сквозь смех и слезы отвечает Марк, — я натощак хохочу.
На длинных щеках Безбородько появилась какая-то чужая и обязательная улыбка, а раздвоение носа покраснело.
— С какой бы это радости так хохотать?
— Не от радости, а от удивления: откуда на тебе теперь гусеница взялась?
— Гусеница!? Да что ты!? — пораженно переспросил Безбородько и тоже отклонился от Марка, прикидывая в мыслях, не потерял ли он тринадцатую клепку после всех своих ранений. — Какие-то у тебя такие умные насмешки, что я ничего толком не разберу. Где же в такое время, когда еще снег лежит, практически, может взяться гусеница?
— Об этом я и сам спрашиваю у тебя. Присмотрись хорошенько к своему пальто.
Безбородько на всякий случай отступил пару шагов назад, а потом глянул на свое пальто и пришел в ужас: три небольших розовых, с красными головками червя извивались на его праздничной одежде. Это было так мерзко — в предвесеннюю пору увидеть на себе неожиданную гадость, — что и лицо, и вся фигура Безбородько передернулись.
— Откуда она, такая напасть? — побоялся рукой снять червей: а что, если это трупожорки?
Марко понял Безбородько, успокоил его:
— Это плодожорка.
— Плодожорка? Не может быть.
— Присмотрись.
Безбородько спокойнее начал рассматривать гусеницу, потом сбросил ее с пальто и пробормотал:
— Откуда же она, практически, взялась?
— Часом в дом не вносил сушку с холода?
— Жена вносила! — вспомнил Безбородько. — А я еще ночью бросил пальто на мешок. Ожила, получается.
— Значит, ожила. Понравилось ей в твоем дворце — там почуяла весну.
— Ну и перепугал ты меня сначала. Аж до сих пор в ногах дрожь гопака выбивает, — с облегчением улыбнулся Безбородько.
— Как-то у нас, Антон, так всегда выходит: то я тебя, то ты меня пугаешь, — засмеялся Марко.
— То прошлое, довоенное дело было. — Безбородько даже рукой махнул, будто навсегда отгонял те недоразумения и несогласия, которые были между ними. — Теперь люди научились ценить жизнь, стали дружнее жить. И мы за войну, практически, поумнели, думаю, не будет между нами ссор и распрей. Когда я раненный лежал в госпитале, не раз перебирал в памяти прошлое, не раз думал о тебе, вспоминал, как мы когда-то черт знает чего враждовали с тобой, и решил поставить крест на том, что было.
— А как решил? — удивился и даже обрадовался Марк: а что, если и в самом деле Безбородько к лучшему гнет свой довольно-таки крученый характер. Тогда следует помочь ему отсеять грешное от истинного.
— Так и решил, — искренними глазами взглянул на Марка. — И перед тобой винюсь, потому что много когда-то по злобе попортил тебе крови и по девичьей линии, и по другим линиям, — понизил голос Безбородько. — Все вперед по глупости своей хотелось выскочить, в чем-то обогнать тебя. А когда ранили, понял, что это суета сует и разная суета… Думаешь, я теперь хотел председательствовать среди такого безголовья и кавардака? Так всунули же, запихнули, а теперь от критики не только уши — вся душа вянет, потому что за что ни подумай — того теперь нет. Трудности на трудностях едут, трудности трудностями погоняют.
Марко насторожился: припомнилась давняя песня Безбородько — он всегда все старался столкнуть то на трудности роста, то на трудности пятилеток, то на трудности сельской отсталости, а теперь ухватился за трудности войны.
— А твои хоромы тоже на трудностях выросли? — глазами показал на жилье Безбородько.
— Вот, вишь, даже ты камешком швырнул в мой шалаш.
— Не ко времени ты размахнулся, Антон, на такое строительство, поэтому и летит этот камень.
— И зря, братец. Здесь ты чего-то не додумал, — даже с гордостью сказал Безбородько. — Если подумать по-настоящему, по-хозяйски, то зачем мне или кому-то, кто, конечно, может, переделывать одну работу несколько раз? Вот, например, сначала я выстрою себе маленькую хату, как все, а потом, через несколько лет, придется ломать ее и начинать строительство сызнова. Так не лучше ли сразу строиться на весь свой недлинный век и людям давать пример: делайте, кто может, как можно лучше, сейчас тянитесь к светлой цели. Это раньше был лозунг: мир лачугам, война дворцам. А теперь надо объявлять войну лачугам, чтобы ставить добротное жилье.
— Хорошо ты запел, да немного рано, — покачал головой Марко на демагогию Безбородько. — Сейчас надо добиться, чтобы люди хотя бы не жили в плесени с червяками и жабами. Объявляй раньше войну землянкам.
— Это ты так думаешь, а я иначе, и не знаю, на чьей стороне правда.
— А ты у людей расспроси, может, правда возле их землянок ходит.
— Горе одно там ходит, — и себе помрачнел Безбородько.
— Значит, надо как-то его ломить. Зерно готово к посеву?
— Где там. Считай, свистит в амбаре.
— Почему?
— Еще осенью разные планы переполовинили его.
— Чем сеять будем?
— Тем, что есть и что государство даст.
— А если не даст?
Безбородько развел руками.
— Ну, братец, я не бог, чтобы отвечать на такие вопросы… Если вывезли, то и привезут… Не впервой, — сказал, твердо зная, что здесь не подкопаешься к нему.
— А гной вывозишь на поля?
— Нечем… кони едва на ногах держатся.
Марко нехорошо взглянул на Безбородько.
— И те не держатся, на которых Мамура ночью пряжу возил?
— Мамура!? И ты видел? — неуместно выхватилось у Безбородько, и снова что-то чужое появилось вокруг его глаз.
— Наверное, видел, коли спрашиваю.
— От твоего глаза ничто не спрячется, — уже спокойно цедит Безбородько. — Продавать возил пряжу, потому что нужны деньги, чтобы прокормить скот.
— Чего же по ночам, тайно, ездить?
— Э, это хозяйственное дело: ночью пряжа больше весит, а днем подсыхает, — победно улыбнулся Безбородько. — А у тебя уже, несомненно, и закрутилось что-то в голове? Ну, бывай, Марко, здоров. Заходи ко мне. Если начнешь строиться, чем-то поможем. Непременно. Для фронтовика мы из шкуры вылезем.
Простившись, Безбородько сразу поплелся к завхозу. Тот как раз собирался с кабанистым, заросшим кладовщиком Шавулой пойти колядовать по людям.
— Возвращайте, ребята, сегодняшнюю выручку! — сразу же накрыл мокрой дерюгой своих верных помощников.
— Какую выручку возвращать? — удивились мелковатые зрачки Шавулы, удивился и его кургузый нос, который зряшно выбивался из чащи седой, сизой и рыжеватой щетины.
— А ты разве не получил своей пайки? — тихо спросил Безбородько.
— Тысячу карбованцев?
— Да.
— Так зачем возвращать? — забеспокоился и будто немного уменьшился Тодох Мамура. — Милиция пронюхала? Я же все делал без соучастника и свидетеля.
— Нашелся свидетель: Марко Бессмертный! — аж зашипел Безбородько. — Уже достучался, стучал бы он своими костылями в двери самого ада.
— Началась новая жизнь, — сморщился Шавула и бросил какое-то бранное слово в свои заросшие чащи.
IX
И утренние, и вечерние дороги скрывают в себе тайну, ожидание и сожаление. И сколько ни собираешься в те дороги, они качаются перед глазами, проходят через все твое сердце, плетут в нем надежды, развертывают пережитое.
Какая-то непостижимая сила и привлекательность есть в синем туманце дали, он с детства смущает и влечет тебя. И извечно кажется, что за тем туманцем или маревом дали лежит твоя самая лучшая страница жизни, что там, в рамке росистых дубрав или синеглазых лугов, затерялся такой уголок земли, что не снился и гениям Возрождения, и, может, там по утренним или вечерним росам спешит навстречу тебе твое счастье.
И утренние, и вечерние дороги всегда волновали Степаниду, как волновали ее предрассветные и вечерние зори, как волновала сизая рассветная и розовая вечерняя роса. Казалось бы, что такое роса? Обычные осадки, и все. А для крестьянского ребенка, да еще с мечтательным характером, — это волшебное начало мира, когда он из реальности и сказки разворачивает зеленую, росой обрызганную землю; это лучшие воспоминания, когда проснешься в хате и слышишь, как в раскидистой долине отец косой подрезает ночь и на волю широко выходит голубоглазый рассвет; это стеснительная заплаканная ромашка в праздничном венке, и радость, когда ты сама, как ромашка, в белой косынке весело ступаешь по травам, неся завтрак косарям; это те жемчужные рассветы, когда ты уже с росой и шпажниками жнешь поседевшую рожь или сгребаешь хрупкий ячмень и с надеждой посматриваешь на старших: не помощница ли вам? Это те чаянные, мятущиеся и самые святые вечера, когда кто-то сидит возле тебя, в своей руке держит твою руку и не может выговорить ни слова. А ты ждешь и боишься его, того слова, которое может сказать только пора любви.
Неужели это тоже было? Приснилось ли тут, в холодной колокольне, где над ней, Степанидой, как память старины отозвались праздничные колокола? Женщина порывисто поднимает голову, прощается с молчаливыми нахолодившимися колоколами, прощается с руинами школы, где сжатой в комок птичкой когда-то пробежал год ее молодости, и огорченным взглядом смотрит вдаль, присматривается, как перламутровое утро, краснея от напряжения, выкатывает из-за края земли прикрытое туманом солнце.
— Что вспомнилось, сестра? Что смущает тебя? — Григорий Стратонович улыбнулся той нежностью глаз, какая бывает утром у лугового с росой колокольчика. Как ей когда-то, в отрочестве, хотелось иметь вот такие глаза!
— Для чего они тебе? Кого-то очаровывать не терпится? — насмехался Григорий.
— Глупый, — краснела она. — Да что ты понимаешь?
— Да что-то уж понимаю, но никак не соображу: для чего цветом мальвы подрисовывать щеки? — смотрел на нее своими веселыми самоцветами.
И вот сколько лет промелькнуло с тех пор, сколько пережито, сколько раз ее Григорий встречал смерть и сколько раз сам кого-то наказывал ею, но глаза у него остались такими же, как в детстве. Великое дело, когда человек имеет чистую совесть, когда никакие тени не мутят, не обедняют взгляд. Однажды даже спросила у него:
— Григорий, а не мучат ли тебя плохие сны?.. Не приходят убитые?..
И он сразу же насупился, даже с укором посмотрел на нее.
— Зачем это тебе, сестра?.. Люди, сеявшие рожь или державшие молот или книгу в руках, не умеют хвалиться убитыми. Только необходимость заставила нас смертью останавливать смерть. Но если допытываешься, скажу: никто не беспокоит моих снов, потому что я карал нечисть, врагов Родины. И только врагов!.. Вижу, что и ты интересуешься тайной славянской души, как некоторые буржуазные теоретики.
«Милый мой, милый», — шепчет она сейчас только дрожью губ и насматривается на такое мужественное и такое младенчески открытое лицо сводного брата. Как она любит его, кажется, и родная сестра больше не смогла бы любить. И хоть это нехорошо — она ревнует его к Екатерине и страдает, что его сразу обсела такая семья. Разве он девушки не мог себе найти?
Да, она менее великодушна, чем Григорий, ни за что не вышла бы замуж за вдовца с пятью детьми. Даже если бы и вышла от большого сожаления к детям, все равно не могла бы прикипеть всем сердцем к мужчине, как прикипел Григорий к Екатерине…
«Неплохая, даже славная жена у брата, а все равно жалко брата», — упрямо твердят те же мысли.
А Григорий Стратонович смотрит на сестру, и его снова поражают ее глаза с двумя пятнышками унылого осеннего солнца. «Это не только война, но и искалеченное материнство дрожит в тех каплях осеннего солнца. Хоть как сложилась жизнь, а детей тебе надо, сестра. Детей!» И он переводит любящий взгляд на фигуру Екатерины, такую желанную, такую волнующую, что хочется к ней припасть будто к самому родному человеку и вместе с тем ласкать как женщину.
На дороге загудела машина.
— Твоя идет!.. — уверенно сказал Григорий, вышел вперед и по-ученически поднял руку.
Запыхавшийся студебеккер остановился у обочины, и шофер с перевязанным лбом и седыми волосами коротко спросил:
— Куда?
— В Дубово.
— Хорошее село. Где же оно будет? — Степанида сказала. — Тогда садись, молодица, по дороге. Это все? — показал глазами на маленький чемоданчик.
— Это все!
— А веселуха там найдется?
— Найдется, — ответил Григорий.
— Тогда порядок в войсках, — удовлетворенно сказал шофер и смачно улыбнулся.
Степанида впопыхах целуется с братниной женой, всхлипывает в объятиях брата и с его помощью оказывается в кабине.
— Марку Трофимовичу привет передать? — шепчет напоследок.
— Ой, что ты, Григорий! Молю, умоляю, чтобы ни слова обо мне. Слышишь?
— Странные вы люди, женщины, тайные.
— Честное слово, не скажешь?
— Честное слово. С чем-то ты кроешься от меня?
— Вот прицепился.
— Ну, не буду, — сильно смеется Григорий Стратонович. — Пиши, приезжай.
— Летом приеду.
И вот тронулась машина, качнулась дорога, и качнулись боли и воспоминания. Прощаясь с истерзанным селом, она все присматривалась к улицам и закоулкам, не увидит ли что-то знакомое и не заприметит ли где-то фигуру на двух костылях. Но не Марка Бессмертного, а степенного Антона Безбородько увидела возле его дворца. Он куда-то нес свою внешнюю почтенность, как нехороший призрак прошлого, как нехорошую частицу ее судьбы, мелькнул перед глазами и исчез…
* * *
Когда-то молоденькой учительницей она приехала в это село, приветливо жмурящееся в пучках солнца и нитях паутины. Отбракованные, с обнаженными шрамами кони, отслужившие свое в конницах, до звона клепали сухую предосеннюю землю, оставляя на ней синеватые полумесяцы.
Она задумчиво присматривалась к незнакомым улицам, к непривычным лесам: они или вились, как вздувшаяся вода на быстрине, или красовались совершенным шитьем из краснотала.
«Только истинные художники могут сделать из каких-то прутьев такое чудо», — подумала тогда и спросила у извозчика:
— Где вы столько краснотала берете?
— С Китай-озера, — коротко ответил тот, не выпуская изо рта надгрызенную трубку.
Это слово приятно прозвучало в ее душе, перед ней привлекательно, как тайна, начала приоткрываться новая частица неизведанной дали. И уже более близкими становились и дома, и улицы, и закоулки этого села, купающегося в теплом благоухании снопов, подсолнечников и яблок.
Яблони здесь заглядывали чуть ли не в каждую хату, где начиналась жизнь, и, не грустя, стояли на кладбище, где жизнь заканчивалась…
Одноногий школьный сторож с пчелой в бороде долго, недоверчиво рассматривал документы, сверял ее года с лицом и неизвестно или с осуждением, или с одобрением сказал:
— Гляньте, такое малое, а уже панночка учительница.
Она, задетая за живое классовой обидой, так покраснела, что аж в глазах потемнело, и со всей непримиримостью обрушилась на высокого мужичонку, похожего на поджарый ветряк с двумя крыльями:
— Не панночка, а просто учительница? Никогда не смейте меня так гадко называть! Слышите, никогда! Потому что иначе!.. — замахала своими маленькими кулачками.
Сторож смешно, по-сорочьи, посмотрел на них и не рассердился, а наоборот, подобрел, кротко засмеялся:
— Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем? Вот какие мы! Вы, вижу, задиристая, как скворец, — поднял голову вверх, где на плакучей березе висел скворечник.
— А вы въедливы, как… — в гневе не смогла найти нужного сравнения.
— Досказывайте, досказывайте до самого конца, не сомневайтесь, — ободрил ее сторож и из-под роскошных усов натряс на вьющуюся медь бороды и восхищенную улыбку, и смех.
Почему ему так понравился ее гнев? Всякие люди бывают на свете…
Сторож, расправив бороду, освободил пчелу и уже с уважением вернул документы:
— Все в исправности. Не прогневитесь, что так сказал наугад свеклы: хотелось знать, что вы за человек, с какого теста слеплены, каким духом дышите — старосветским или уже нашим.
— Вот как! А вы же каким живете? — отошла она.
— Кавалерийским! У Котовского служил и воевал, а теперь со школьниками воюю, — искоса взглянул на кусок скрипучего дерева, ставшего его ногой. — На все село звоню, чтобы попа победить, видите, какой колокол пристроил?
Она только теперь увидела, что на школьном дворе с высокоподнятой дубовой перекладины словно шляпа свисал потемневший колокол пудов на тридцать.
— Неужели вы, Зиновий Петрович, им звоните на уроки? — спросила ошеломленно.
Сторож утвердительно кивнул головой:
— А разве плохо придумал для науки? Зазвоню — и все люди знают, что революция учит их детей! Вот оно как! Не нравится вам?
— Очень нравится, очень! — воскликнула в чистосердечном восторге и сразу забыла о своей обиде.
— Вот и хорошо, Степанида Ивановна, — задумчиво посмотрел на колокол. — И ему здесь веселее, потому что не звонит на похороны. Все поповство завидует этому колоколу. Не раз приезжали разные и всякие, чтобы как-то выпросить или выменять его у меня. Не знают, что это мой лучший трофей.
— Трофей? Где же вы его взяли?
— Под Волочиском отбил у белополяков. Это еще когда я на коне, как ветер, носился. Были и такие времена… Ну, а привез я его в село уже после госпиталя, где укоротили мне ногу. На одной телеге ехали. Как раз обложной дождь шел, и колокол перед новой службой так плакал, будто вспоминал все души, над которыми в последний раз звонил. А я держал свои слезы внутри, не зная, как встречусь с родом, с женой, не уменьшится ли в них любовь ко мне. Тогда я, девонька, как и мой трофей, грустно смотрел на жизнь: оба мы были не на месте, ведь что такое колокол и всадник на телеге, да еще в соломе?..
Теперь она другими глазами посмотрела на сторожа, на школу, на колокол, что наконец нашел свое место, и даже на подсолнечники, роскошными золотыми решетами просевающие солнечный лучи.
— А вы нашей первой трибуны еще не видели? — оживился Зиновий Петрович.
— Нет, не успела.
— Непременно посмотрите, — аж прыснул от удовольствия. — Наш Марко Бессмертный приказал ее сделать больше и выше уездной. Вот мы и постарались с ребятами — такую сотворили, что пришлось к ней пристраивать две стремянки. Приехало к нам начальство на Октябрьские праздники, и кое-кто побоялся подниматься на такую высоту, начали цепляться к Марку. А ему, поразительного характера, хоть бы что: стоит, подсмеивается еще и рукой вверх показывает:
— Поднимайтесь, не стесняйтесь, чтобы и вы видели далеко и высоко, и чтобы вас люди видели на высоте! Тогда будет смычка.
— Интересный ваш Марко.
— Таки интересный. А теперь, Степанида Ивановна, пошли — покажу ваше хозяйство, — пригласил Зиновий Петрович.
Он показал небольшую, на два класса школу, перед которой школьниками в зеленых нарядах стояли два молодых тополька. А потом завел ее в запустелую комнату, где остатки дворянской роскоши до сих пор куксились на соседство с молодыми и упитанными плебеями. Тут возле разобранного бильярдного стола, сукно которого пошло на другие нужды, улыбались розовыми прожилками крестьянские крепконогие стулья, а под тяжеленной лампой с омертвелым огнем и запущенными купидонами дышал переложным сеном новенький ясеневый топчан.
— Вот и ваши хоромы, привыкайте. Топчанчик сам смастерил, как раз по вашему росту.
— Спасибо.
— Если не имеете перин — еще внесу вам какую-то охапку сена. Оно у нас как чай.
— Внесите.
— О, теперь я вижу, что вы крестьянский ребенок. А сейчас пошли ужинать ко мне. Хоть вы и не панночка, а попьете молока аж от графской коровы, — и его кудрявящаяся борода снова налилась смехом.
Со школьного двора, обойдя чью-то пустошь, они вышли в небольшой сад. Здесь на бездонках[15] стояли дуплянки, накрытые большими глиняными полумисками.
— Это мое самое большое добро, — Зиновий Петрович рукой показал на ульи, гудевшие как крохотные ветряные мельницы.
— Бортничаете?
— Люблю пчелу и детей, что-то в них есть одинаковое.
В нарядной хате, тоже пропахшей подсолнечником, яблоками и вощиной, их приветливо встретила тетка Христя, хваткая молодица, с такой доверчивостью на округлом курносом лице и двумя беззаботными ямками, что от всего этого сразу делалось приветливо на душе.
— Дитятко, и вы уже учительница? — всплеснула руками тетка Христя. — И как же вы, такие хрупкие, наших махометов будете учить? А сколько вам лет?
— Семнадцать.
— Уже и семнадцать! Значит, вы или хлеба не употребляете, или наукой крепко нагружены?
— Не тарахти, прялка, — перебил ее муж. — Лучше поворожи возле печи и стола, потому что человек с дороги — целый день на спеце и на сухой еде.
Тетка Христя метнулась к печи и застыла с поднятым ухватом: с улицы, пробиваясь сквозь листья подсолнечников, славно, под сухой перестук копыт, полилась песня о тех тучах громовых, за которыми солнышко не всходит, о тех врагах, из-за которых милый не ходит.
— Как хорошо поют у вас, — припала к старосветскому, вверх поднятому окошку на четыре оконных стекла.
— Это Марко Бессмертный и Устин Трымайвода выводят, — с гордостью объяснил Зиновий Петрович.
— И фамилии непривычные у вас.
— Запорожские. Там человеку давали такую фамилию, какую он сам заработал. Светил пупом — называли Голопупенко, думал головой — становился Головань или Ум, а думал чем-то другим — и то место беспокоили, — веками погасил довольную улыбку, а она выпорхнула на уголки губ.
— Ты уж наговоришь, бессовестный, всякого такого. Хоть бы учительницы постеснялся на капельку, — рассердилась тетка Христя, а ямки возле ее курносого носа и сейчас весело щурились и разглаживались. — Тебя в том Запорожье непременно назвали бы Языкань или Брехун.
— Запряла свою нить, — махнул рукой на жену. — Таки хорошо поют наши ребята?
— Очень славно, как серебро сеют. А кто же они — Бессмертный и Трымайвода?
— Марко, считайте, — высшая власть, председатель сельсовета, а Устин — председатель комбеда. Такие парни, хоть напоказ, хоть под венец с красавицами веди, — похвалил ребят сторож.
— Все за бандитами гоняются, а бандиты за ними, — запечалилась тетка Христя.
— У вас еще водятся банды?
— Не перевелись и по сей день. Мы недалеко от границы живем. Засылают враги всякую нечисть, чтобы своя не вывелась. У нас здесь орудовали и Гальчевский, и Шепель, и Палий. Сами за границу, как крысы, убежали, а корешки остались по разным закуткам. Подберемся и к ним!.. О, не к нам ли идут ребята! — радостно воскликнул Зиновий Петрович и тоже высунул голову в окно.
Заскрипели, широко отворились новые ворота. Два всадника легко соскочили с коней, привязали их к загородке и, пригибаясь под ветками вишняков, пошли к хате. Вот и встали они на пороге с карабинами за плечами, одинаковые ростом, но один из них темнолицый, похожий на вечер, а второй с золотыми волосами — на ясное утро.
— Добрый вечер добрым людям на весь вечер! — пропели оба и засмеялись.
— Добрый вечер, Марко, добрый вечер, Устин. А я думаю, кого мне бог на ужин несет, аж оно — начальство. На банде были? — затарахтела тетка Христя.
— На банде. А это чья дивчина прибилась к вам с продолговатыми глазами? — спросил чернявый.
— Это, Марко, новая учительница. Такая молоденькая, а уже всю науку прошла!
— И прошла всю науку? — весело посмотрел. — Мне меньше удалось пройти. — Ровно подошел к столу. — Может, познакомимся?
— Степанида Ивановна, — стесняясь, неумело протянула руку чернявому. Он слегка, как перо, взвесил ее в своей, а пожать побоялся.
— Марко Трофимович, а моего побратима зовут Устином Васильевичем, первый коммунист и лучший парень на все окружающие села — красавчик, и все.
— Да что ты наговариваешь, — смутился Устин, который и в самом деле был хорош, словно сошел с какой-то картины. — Вот учительница сразу и подумает, какие здесь хвастливые люди проживают. Вы не очень слушайте Марка. — Устин тоже подошел знакомиться, а она спросила у Бессмертного:
— На кого же вы учились?
— Тоже на учителя! Чуть ли не перебил ваш хлеб, — белозубо засмеялся Марко. — Только учился я немного иначе, чем вы.
— А как же?
Марко, заглядывая ей в глаза, присел на краешек лавы.
— На прежние годы я чуть ли не ученым стал: закончил аж церковноприходскую, — в скошенных уголках глаз пробилось лукавство. — После нее подался в другую науку: ходить за чужими волами и плугами. А в восемнадцатом, подростком, прямо с батрачества на чужом коне попал в партизанский отряд. Там всякого было: часом с квасом, иногда с водой, временами с победой, часом с бедой. Когда прогнали Петлюру за Збруч, командир нашего отряда, на мое счастье, стал секретарем губкома. Вызвал как-то меня к себе, спросил, не голодный ли я, и, как в отряде, приказывает:
— Поедешь, Марко, учиться! Хватит тебе саблей орудовать — пора стать студентом! Я засмеялся:
— Вот нашли скубента[16], что и деление забыл.
Командир строго посмотрел на меня:
— Деление ты не забыл: саблей делил и отделял правду от кривды. А теперь наукой защищай правду. Баклуши бить я тебе не дам. Завтра же являйся в техникум! Задача ясна?
— Ясна!
— Повтори!.. Вот и хорошо. А в ремешке загодя пробей новые дырочки, чтобы подтягивать живот. Наука не любит пузатых, и хлеба на нее даем в обрез. И будь здоров! Если припечет, заглядывай ко мне.
В дороге я повторял те слова, как стихи, и уже видел себя студентом. А перед своей хатой даже загордиться успел новым званием, да никому ни слова не сказал о нем.
Утром я начистил остатки своих сапог сажей, оделся снизу в трофейную немецкую, а сверху в австрийскую одежину, все это придавил холостяцким с пружиной картузом, прифасонился перед зеркальцем, положил в сумку хлеба и яблок и, где бегом, а где и так, рванул в город. В техникуме какая-то миловидная девушка сразу спровадила меня к заведующему. Тот со всех сторон осмотрел мою одежку, хмыкнул раза два, спросил умею ли читать-писать, каково мое отношение к мировой буржуазии и крепок ли в моем теле дух к науке.
— Дух, говорю, в теле крепкий, а вот под знания в голове не пахалось и не сеялось.
Тогда заведующий засмеялся:
— Облогом лежал мозг? Значит, лучше уродит! Теперь представь, что на тебя вся наука со всеми гегелями смотрит, и докажи, как может учиться дитя революции. Докажешь?
— Докажу! — ответил я, с трепетом ощущая, как ко мне подступает та наука с неизвестными гегелями.
— Старайся, Марко, — ободрил заведующий. — Чувствую, что сабля твоя блестела в боях, как молния. Теперь желаю, чтобы ум, если он есть, заблестел… — А на сапоги можешь на вокзале заработать: мы посылаем студентов грузить кирпич.
Так я стал студентом, начал стараться. Как засел за книги — дни и ночи сидел.
— И высидел человек аж три месяца, — улыбнулся Устин.
— Три месяца и семь дней, — серьезно поправил Марко. — А потом со студенческой парты снова взяли на банду, дальше пришлось председательствовать. И вот как-то живут наука и Гегель без меня, а я без них, — хотел шутливо пригасить боль, но вздохнул и уже молчал все время.
А где-то недели через три, осунувшийся и бледный, поздним вечером, пошатываясь, он пришел к школе, где она чумела над разным книжным хламом, оставленным украинскими сечевыми стрельцами и просвещением.
— Что с вами, Марко Трофимович!? — ойкнула тогда. — Болеете?
— Хуже, Степанида Ивановна, намного хуже, — снял карабин с плеча.
— Что же случилось? — обомлела она. — С Устином несчастье? Не нашли?
— И не найдем. Нет уже Устина.
— Как нет? — еще не поняла, но ужаснулась она.
— Убили бандиты. Замордовали.
Теперь Марко Бессмертный был черным, как ночь. Нетвердой походкой подошел к первой парте и долго вглядывался в глубину темного класса, будто что-то искал в той глубине. Охваченная сожалением, болью, она не могла сказать ни слова, а у него тряслись губы, тоже темные, словно обведенные углем.
— Устин! — позвал друга, позвал свое детство, а потом обернулся к ней. — Позвольте, Степанида Ивановна, посмотреть на его парту.
Она молча подняла над головой пятилинейную без стекла лампу, а он медленно пошел между старыми облупившимися партами, пахнущими яблоками, сухим хлебом и привядшим желудем.
— Неужели нет ее? — дернулись губы, когда обошел весь класс. — Перед вами дьячок учительствовал, лентяй был. Он старые парты пилил на дрова. А разве их можно пилить? Это же не дрова… Так я думаю недоученой головой?
— Да, Марко Трофимович. Парты нельзя пилить.
— Так вот… Оно следует и списочек завести, кто на какой учился. Это потом кому-то и пригодится или вам, когда старше станете. А дров привезу, пока что не до этого было.
— Может, эта парта в другом классе?
— В самом деле, может, вынесли туда, — Марко болезненно провел рукой по лбу и снова пошел впереди нее, тускло освещенный трепетным огоньком.
Во втором классе он нашел старую трехместную парту, нашел на ней между другими вырезанное свое и Устиново имя.
— Вот здесь мы сидели, плечом к плечу, душа к душе. Вы не знаете, что это за человек был, какое у него сердце было! — Марко еще хотел что-то сказать, но, охватив голову руками, заплакал, и слезы его закапали на ту парту, за которой теперь сидели другие дети, тоже плечом к плечу, душа к душе.
Она еще не умела утешать людей в горе, посмотрела на Марка, всхлипнула, хотя никак не могла представить, что на свете уже нет того мальчишки с кудрявыми, как хмель, волосами, похожего на ясное утро.
Спустя некоторое время Марко, досадуя на себя, срывал слезы с ресниц, но не мог сорвать: наплывали новые и снова падали на ту парту, где от их детства только и остались ножом вырезанные имена.
— Эх, Устин, Устин! — несколько раз звал к себе друга и будто укорял его, что он так рано покинул и добрую, и страшную землю.
Нежданно он спросил у нее:
— Чему вы думаете учить детей?
Она пожала плечами:
— Читать, писать, арифметики.
— И это надо, очень надо, а более всего — научите их любви. С ненавистью, злобой мы, старшие, как-то покончим. А детские сердчишки должны звенеть любовью, как деревца весенним соком. Учите их человечности, добру. Вы счастливая — вы учительница. Поймите это.
— Я понимаю, Марко Трофимович.
— Да, да, это я для себя, потому что тоже думал быть учителем, перо, а не саблю держать в руках, — спохватился и уже другим, одеревенелым голосом сказал: — Запомните, как замучили Устина. Это и учительница должна знать… В соседнем селе у него была девушка — сирота из того батрацкого рода, что все имеет: и красу девичью, и здоровье, и руки золотые, да не имеет счастья и сапог. В эту зиму мы случайно встретили ее босой у колодца. Глянули сначала на посиневшие девичьи ноги, скользящие по намерзшему льду, потом на девушку, снова на ноги, соскочили с коней — и к ее хозяину. Тогда мы из него не только сапоги, но и душу вытрясли бы. При нас обулась девушка в новые сапоги и кланялась нам в пояс. И так поклонилась, так приложила руку к сердцу, так посмотрела открытыми, как мир, глазами, что Устин за воротами, еще не сев на коня, взволнованно шепнул мне:
— Вот, брат, и моя судьба! Искал хозяйские сапоги, а нашел судьбу!
— Причинный! — зная его характер, воскликнул я. — Ты же даже пары слов не связал с ней!
— Так судьбу связал.
— А может, она тебя не полюбит!
— Поговори мне… Я глянул на нее…
— Ну, и что?
— А она на меня.
— Да и на меня она смотрела.
— Эт, кривой ты на глаза, и все.
— Ей, вероятно, и года не вышли.
— Подожду.
И ждал ее, свою зорьку вечернюю. Сам ей пошил красный полушубок, чтобы имела в чем выйти на люди. Вот теперь, осенью, собирались пожениться. Я должен был быть старшим боярином. Да подследило кулачье. Сердцем чувствую, что выдал Устина хозяин девушки. Он до сих пор не мог простить нам и батрачке те проклятущие сапоги. Обменял их на души. На лугу, когда Устин возвращался от своей бесталанной, застигли его бандиты, разрубили вдоль до горловины и всю середину засыпали землей и рожью, за то что отрезал землю и забирал кулаческий хлеб. После истязания прикопали Устина между кустами калины возле Китай-озера. Мы долго не могли найти его. Аж сегодня люди увидели, что на лугу между калиной почему-то проросла полоска ржи. По этому памятнику и отыскали Устина.
Охваченная ужасом, ошеломленная бездной дикой подлости и силой жизни той ржи, проросшей из человека, она припала к той же парте, на которой когда-то лежали Устиновы руки, и неутешительно заголосила.
В кручине оба просидели до полуночи, аж пока в дверях не появилась фигура Антона Безбородько, председателя потребительского общества. Из темноты, не разобравшись, что и к чему, он изумленно сквозь смех выкашлял:
— А здесь будто рассветом пахнет. Быстро познакомились, — и осекся. Придавлено подошел к той трехместной парте, где было вырезано и его имя, верхом сел на свое бывшее место.
И это же тогда обидело больше, чем его глупый смех.
«Этот и на гроб сядет. Марко бы никогда так не сделал… Три имени — три судьбы…» — подумала тогда, с неприязнью глянув на узковатое, с раздвоенным носом и глубокими глазницами лицо Безбородько.
На следующий день вторично хоронили Устина. Над его гробом сокрушались люди, рыдала босоногая невеста, а на него могиле Марко посеял рожь, чтобы прорастала она не из человека, а из земли.
Так впервые увидела она по одну сторону от себя смерть, а по другую — жизнь. Это были не обычные похороны. Что-то невыразимое, легендарное, не улетучивающееся стояло возле нее, шумело с одного края флагами, а с другого — помрачившимися хоругвями. Молодые парни с грустными глазами и карабинами за плечами, звездоносные чоновцы, босоногая невеста, детвора на изгороди и яблонях, зерна ржи на могиле и мясомордый причет позади людей — все это переворачивало ее душу. И она только здесь начинала понимать, что такое народ, жизнь, понимать его не с прилизанных, интригами и сюжетами наэлектризованных или любовью натоптанных книжек, не по одежде, не по чертам красивых и некрасивых лиц, а по трудной босоногой истории, творящейся возле нее…
X
Сразу же с поминального обеда Марко обвешался гранатами и с карабином за плечами пошел в леса. Спустя несколько дней он выследил в Литинской Синяве банду, загулявшую в лесном жилище дукача[17] Оноприенко. Марко сам ворвался в дом, гранатами перебил, перекалечил бандитов, разрушил жилье и подорвал себя. В бессознательном состоянии, в своей и чужой крови, его повезли в больницу, сделали операцию и забинтовали всего, как куклу… Она, Степанида, пришла навестить его. Марко улыбнулся одними глазами, показал рукой на свое завивало и едва слышно прошептал:
— Хорош?
— Самый лучший! — невольно вырвалось у нее.
— Да что вы! Обезьяна обезьяной, самому противно смотреть на себя, — пустил хорошую улыбку под бинты и уже серьезно спросил: — На могиле Устина были?
— Была.
— Взошла рожь?
— Зеленеет.
— Вот и все, что осталось от человека, — вздохнул и уже нескоро спросил: — А его несчастную Марию видели?
— Нет, только слышала, что она перешла жить к Устиновым родителям.
— Так и дождались старики невестку… Жизнь! — загрустил мужчина. — А какие супруги были бы… пара голубков…
— Что вам врачи говорят?
— А что им говорить? Лежи, как колода, и ешь из ложечки, как дитя. Так и осень пролежу. Здесь только лекарство и испарения крови пахнут, а в селе сейчас… — и не досказал, потому что как раз в палату зашел Безбородько в новом английском френче, синем галифе и в сапогах на скрипах. В руке он бережно, как незащищенный свет, нес лоснящийся кожаный картуз с пуговкой посредине. Гордясь дорогой обновой, Безбородько не знает, как ему лучше всего встать на виду и где себя посадить. Казалось, что он и в больницу пришел лишь бы только гнуть фасон. Расставив ноги, театрально встал посреди палаты и сочувствием прикрыл какую-то свою радость.
— Так как тебе, Марко, здесь живется? — И, не дождавшись ответа, бережно сдувает пылинку с картуза.
Бессмертный жгучим взглядом измерил Безбородько и его одежду.
— Ты, Антон, собираешься пировать или свататься?
— Вот и не угадал, братец, — довольная улыбка расползается по узковатому лицу. — Притопал к тебе прямо от городского портного, он хоть и дерет, но умеет иглой играть, как смычком, — выгнулся, осматривая одежину с боков. — Галифе не малое сделал?
— Брось поросенка в каждый карман, — увеличит, еще и музыка без смычка будет визжать.
— Обойдется без музыки, — сразу насупился Безбородько, не зная, куда девать картуз.
— Гляди, обойдется ли, — на что-то намекнул Марко.
Безбородька передернуло от этих слов, будто задыхаясь, раскрыл рот, чтобы ответить, но промолчал. И дальше уже сидел в палате, как осенняя туча.
Из больницы она сумерками возвращалась с Безбородько на кооперативной телеге. Удобно усевшись на рядне, чтобы не замаслить новенькую одежду, Антон Иванович и сяк и так увивался возле нее и все просил угощаться «монпансье» рыбкой. Эти мелкие цветные рыбки он прямо пригоршней вылавливал из кооперативного мешка, демонстрируя свою гостеприимность. В лесу Безбородько притих, съежился, обеспокоено посматривал на все стороны и немилосердно подгонял коней, а когда они выскочили в чистое поле, снова стал говорливым и энергичным. О Марке он заговорил с сочувствием, но с осуждением.
— Кому нужно такое геройство? Тоже нашелся послереволюционный индивидуалист-террорист. А не лучше ли было бы коллективно окружить банду и разнести ее в пух и прах. Жаль, жаль человека, но очень безрассудный он, во всем безрассудный, горячий. И все впереди хочет быть, а коллектив, массы недооценивает. Еще не сообразил своим черепком, что век героев прошел. Об этом и в «Интернационале» поется: «Ни царь, ни бог и ни герой». Вот как оно, практически, должны быть.
В то время ходили разные теорийки о героизме, и она, по молодости и неопытности, не знала, что ответить Безбородько, который стоял за массовость во всем. Правда, оказалось, что сам Безбородько в боях с бандитами никогда не участвовал, потому что работал по другой государственной линии. Набрасывался он и на тяжелый характер Марка:
— Он, кроме себя и Устина, никого не терпел. Такой нрав имеет, что на десятерых хватило бы. Если упрется, как столбец в плоту, ничем не пошевелишь, хоть кол на голове теши… Вы не знаете, как его по-уличному называют?
— Не знаю.
— А вы когда-нибудь слышали сказку о Марке Проклятом?
— Слышала. И книгу такую читала.
— Так вот и нашего Марка за характер за глаза называют Марком Проклятым.
— Бог с вами, Антон Иванович! Что вы, извините, мелете о таком человеке! — аж вскрикнула она.
— Не я же выдумал такое прозвище — село, — начал оправдываться Безбородько. — Ну, что бы там ни говорили, а храбрости у Марка не отберешь. Это, конечно, штука не скверная. Но надо иметь милосердие и к другим. А он его, — уменьшил голос, — даже к девушкам не имеет… всюду герой.
Последнее более всего поразило, насторожило ее, и почему-то защемило тогда девичье сердце. Правда, сначала верила и не верила, но через некоторое время об этом, словно ненароком, услышала от хитрющего, с лицом в виде горшка лавочника потребительского общества. И слухи омрачили образ Марка, потому что она волокит ненавидела всей страстью девичьей души. Но почему же тогда так уважают Марка и Зиновий Петрович, и тетка Христя? Спросить бы у них, так что они подумают о ней? Но о прозвище Марка она как-то заговорила с теткой Христей, которая чуть ли не во всем стала ее наперсницей. Молодица сразу набросилась на неизвестного врага:
— Плюньте прямо в глаза какой-то роже, моей слюной плюньте. Мелом швырните в рыло тем, кто Марка называет проклятым. Это так въелись в него дукачи-крикуны и всякая шантрапа, дубило бы и гнуло бы их на чертов обод! Наш Марко не проклятый, а Бессмертный! — стояла гневная и красная, а на энергичном лице сжимались и разглаживались причудливые ямки.
От этой ругани и защиты ей стало теплее на сердце.
Работала она в две смены. Работы и мороки было много. Много родителей до заморозков не посылали детей в науку. Не хватало книг, тетрадей, карандашей, а чернило ученики делали из дубовых яблочек или из бузины, заправляя его ржавчиной и отваром дубовой коры. Она и не заметила, как упала зима. А с первой метелицей пришел к ней осунувшийся, но веселый Марко. От него еще пахло лекарством и тем несравненным духом сена, когда к нему от первого влажного снега ненадолго возвращается благоухание лета.
— Степанида Ивановна, добрый вечер вам. Не замерзаете в своих хоромах?
— Дров привезли, — почему-то обрадовалась она, хотя и знала, что Марка надо остерегаться.
— А вы когда-нибудь видели такое чудо: метелицу и звезды?
— Одновременно метелицу и звезды, разве такое может быть?
— Пойдемте — посмотрите.
Она в чем стояла выбежала вслед за Марком на неогражденное крыльцо, взглянула на небо, но с него сыпался снег, а звезд не видно было.
— Подождите немного, адаптируйте глаза, — успокоил ее Марко, и они оба начали смотреть вверх. Через некоторое время метелица будто притихла и сквозь сжиженную сетку снежинок она в самом деле увидела несколько звезд. Но сразу же свежее дыхание метелицы закрыло их, а потом снова открыло.
— Как хорошо! — вырвалось у нее.
— Конечно! — яснело и его лицо. «Неужели он мог быть безжалостным и неверным?» — шевелилась та же устоявшаяся мысль.
Марко, не замечая ее любопытного взгляда, доверчиво говорил дальше:
— Как я люблю, когда в небе звездно-звездно, когда в полях под звездами светлеют, как реки, дороги, а подсолнечники прямо от звезд перехватывают росу, спросонок шелестят ею и нанизывают на свои лепестки.
Она удивилась его речам:
— Вы, Марко Трофимович, стихи не писали?
— Да писал, — неохотно признался он.
— И что-то получалось у вас?
— Наверно, получалось, потому что одно стихотворение, против мировой контрреволюции, даже в губкомовской газете напечатали. А кто-то в нашем отряде возьми и пусти слух, что это стихотворение я откуда-то переписал. Я тогда вскипел гневом, нашел обидчика и начал доказывать свое авторство кулаками. Но тот партизан со своим дружком обмолотили меня, как сноп. Ну, тогда и подумалось мне: «Если так бьют писателей, еще и оговаривают их, то лучше бросить это дело», — засмеялся Марко. — Теперь на писания не тянет, а учиться хочется побольше, люблю, когда разные картины проходят перед глазами.
— И какие картины вы более всего любите?
— Гоголевские. Там все как-то живым получается, будто это и не в книге написано. Тарас Бульба — это Бульба, а черт, который хватает месяц под рождественскую ночь, — это истинный черт, а Плюшкин — это наш кулак Саврадим, который даже перед богом гасит свечку, чтобы потом поставить ее перед сыном божьим. В больнице я в свою волю начитался, от этого и выздоровел быстрее. У вас чего-нибудь интересного не найдется?
Он ушел от нее с книжками, а в ее голове оставил неуверенные впечатления, по ним стригунцами скакали догадки: кто же такой на самом деле Марко? Или отважный запорожец из «Тараса Бульбы», или тайный сельский соблазнитель? В ту ночь он приснился ей Левком из «Майской ночи», а Безбородько — одноглазым председателем. И забредет же такая глупость в сон, что и наяву страшишься, и удивляешься, и не знаешь, что оно и к чему. Да и хорошим же был Марко над ставом, только вместо шапки у него была буденовка. Но и во сне девичья душа тянулась к нему и боялась его…
Каждая девушка, ожидая свою любовь, надеется, что она у нее будет самой лучшей, и ждет ее с открытыми на весь мир глазами, с открытой душой и тем милым самоотверженным доверием, которое часто и растаптывает девичью долю. Так и она ждала до Марка свою любовь, а на самом деле она или предчувствие ее пришло с тревогой, боязнью, болью и тоскливой неизвестностью. А здесь еще, на беду, и Безбородько зачастил в школу: придет, раздуется всеми карманами английского френча и невероятно большим галифе и начнет говорить и о политике, и о школе, и о музыке, хотя сам даже на балалайке не бренчал. В разговорах он всегда был самоуверенным и хвалился своими связями аж в округе. Марка же называл другом, но время от времени бросал на него такие угольки, что от них она вся начинала гореть.
В большой тревоге и все равно в большой надежде встретила она свою восемнадцатую весну. А она пришла в громыхании ледохода, в буйном наводнении и в таком цветении подснежников, что казалось, будто само небо кусками упало в леса. На Пасху как раз зацвели сады, вакханалия вишневого цвета прямо-таки ошеломила ее, а больше всего удивляли огромные, как столетние дубы, подольские груши — они белыми горами поднимались над селом и, казалось, поднимали его ближе к солнцу или луне и отряхивали на него птичье пение.
На Пасху празднично одетые люди гуляли на кладбище. Детвора стучала пасхальными яйцами или развлекалась на колокольне, девушки водили хороводы и пели веснянки, парни играла в длинную лозу или верниголову, а старики прислушивались к щебету и гулу молодежи. Пошла и она на кладбище, чтобы услышать и запомнить те веснянки, которые не знала.
Птичьими крыльями и чарами любви шумели они над ней, посматривали глазами весенних цветов и таинственного нивяник-зелья[18], привлекающего к девушке милого. И тысячу лет тому так же кто-то поджидал свою любовь, как она теперь, кто-то спрашивал у матери, как надо очаровывать желанного: или лесными корнями, или карими глазами, или черными бровями, и проливал слезы, стеля постель немилому. Столетние настои песенной любви морочили голову, древние чаяния входили в сегодняшние, словно это для нее воспевались и радость, и муки любви. Но нежданно в этот поэтический отголосок старины ворвались другие мелодии — отозвались выстрелы и крики.
Широкой соседствующей с площадью улицей, отстреливаясь, убегали бандиты, их редкой цепочкой настигали чоновцы, и среди них был Марко Бессмертный. Недалеко от церкви высокий и упитанный бандит поднял обрез, показал на людей, что-то крикнул, и все бандиты бросились на кладбище, смешались с пасхальной гурьбой и люто начали обстреливать чоновцев, растерянно остановившихся: не стрелять же в людей. Вперед выскочил Марко Бессмертный, поднял руку с карабином, который еще дымился, и крикнул, как в колокол ударил:
— Гей, люди, ложитесь на землю!
В один миг толпа упала, оголяя бандитов, и они, как ошалевшие, бросились убегать с кладбища.
За несколько минут прошумел над ней бой, осколок человеческой битвы за счастье, за будущую песню людей и даже за древний поэтический отголосок, который со временем перейдет на сцену и в книги… И едва затихли выстрелы за селом, в селе снова встрепенулись песни о любви, цвет-зелье и работе. И снова в этом она видела поступь истории, колесо которой не в силах остановить ни короткий бандитский обрез, ни куцые мозги разных батькив, которые до сих пор продавали Украину сразу нескольким государствам, хотя на словах и распинались за ее самостийнисть.
Эти мысли сновали под громкую веснянку, что звучала в широком танце и в душе, а сердце не раз порывалось далеко за село, где и сейчас, наверное, Марко бьется с бандитами. Только бы живым остался он!..
Кроковоє колесо Вище тину стояло, Много дива видало. Чи бачило колесо, Куди милий поїхав? За ним трава зелена И діброва весела.«И там, куда он пошел, зеленая трава, только бы не покраснела она… „Кроковоє колесо вище тину стояло…“» Так, беспокоясь, молча поет она о шагающем колесе, а он движет колесо истории. «Дорогой мой… Ой, что она, глупая, только думает себе? „Кроковоє колесо вище тину стояло… „“.
— Нравятся вам наши веснянки? — подошел к ней Зиновий Петрович Гордиенко. От празднично одетого пчеловода веяло ранней пергой и благоуханием свежей земли.
— Чудесные они, чудесные, будто из девичьей души вынуты.
— Как славно сказали вы, — удивился и обрадовался Зиновий Петрович. — Верите, мы их у Котовского пели! И так пели, будто сами с весны выходили… Запишете их на ноты?
— Непременно запишу.
— Марко их очень любит. Иногда, в одиночестве, и в сельсовете напевает их. Пережитки, как говорит Безбородько.
— Как теперь Марко Трофимович? — в тревоге взглянула на волнистую бороду мужчины, в которой, казалось, непременно должна запутаться пчела. Но там не было насекомого, а лежал лепесток вишневого цвета.
— Уже возвращаются ребята домой, все в аккурат, — успокоил Зиновий Петрович, а потом по-сорочьи, как умел только он, взглянул на нее. — А беспокоитесь понемногу за Марка.
— Конечно, беспокоюсь, — хотела сказать спокойно, но сразу же покраснела.
— Ну, вот и хорошо, дочка, — тепло, с лукавинкой улыбнулся мужичонка. — Может, в свой колокол ударю и рюмку выпью на чьей-то свадьбе.
— Ой, что вы говорите? — аж ойкнула она.
Зиновий Петрович засмеялся:
— Вот и испекся на одной щеке один рак, а на другой — еще один.
— Что вы только выдумываете…
— То, что со стороны видно, — она не знала, что ответить, и растерянно опустила голову: — То, что со стороны видно. Да не стесняйтесь. Кашель и любовь не утаишь.
И, натрясая смешок на вьющуюся медь бороды, весело подыбал к своим пчелам.
А вечером к ней пришел Марко, по традиции с вишневой веточкой. Он как-то непривычно взглянул на нее, непривычно улыбнулся, приблизил свои глаза к ее глазам, и она с трусливой радостью поняла, что перед ней стоит ее судьба.
— Какие же вы сегодня хорошие, Степанида Ивановна.
— Только сегодня?
— И раньше тоже… И встрепенулись вы сейчас так славно, как вишенка, что должна зацвести, — вынул по традиции вишневую веточку и поставил в глиняный кувшин, где отцветали бледные и розовощекие ромашки.
— А зачем вы сломали? — строго глазами показала на отломленную веточку, с росинкой глея.
— Это ветер, Степанида Ивановна. Я цвет не порчу. Его тоже любить надо.
Марко сразу почему-то нахмурился, увял, простился и ушел. А скоро забрел Антон Безбородько. Он увидел вишневый цвет, ревниво скособочил распухшие губы, на которых дрожал водочный дух.
— Марко принес?
— Марко, — нехотя ответила, не желая иметь посредника ни в доме, ни в душе.
— Бойкий, ничего не скажешь… Не говорил, практически, что цвет надо любить? — напустил на свой узкий облик жалость к ней.
— Говорил, — сразу насторожилась она, а боль ударила под самое сердце. — А что?
— Да ничего такого, — как-то таинственно ответил Безбородько, сел на парту, и все нашитые карманы френча зашевелились на нем, как крабы.
— Говорите, если начали.
Безбородько закинул ногу на ногу, покачал головой:
— Вам скажи, а вы ему передадите, тогда он и дохнуть мне не даст. И так он имеет работу: подкапывается и под меня, и под моего лавочника.
— Честное слово, все будет между нами.
— Даже честное слово? — призадумался на какую-то минуту. — Тогда смотрите!.. Нехорошо говорят о Марке. Правда, может, это кто-то и напраслину возводит.
— Или напраслина, или правда — говорите! — приказала она, хотя и ощущала, как немеют ноги, как млеет душа.
— Было бы что говорить. Вы видели невесту Устина Трымайводы?
— На похоронах видела ее, — в предчувствии чего-то плохого чуть ли не вскрикнула она.
— Ну да, она там была, хорошая такая девушка. Так вчера Марко в больницу ее отвез.
— Что-то случилось? — едва выговорила, а спиной оперлась о шкаф с книжками.
— Ну да, случилось: дитя должна родить.
— Ну, и что?
— Да ничего, дело житейское. Но чей это будет вишневый цвет — еще неизвестно.
Она застонала, чувствуя, как на исполинском колесе закружились и школа, и земля.
„Кроковоє колесо вище тину стояло…“ — невыносимой болью врывались чьи-то голоса…
Остановись же ты, колесо мучения.
И оно послушалось ее, но на душе было так, будто туда кто-то вбросил жабу. Хотелось наброситься на Безбородько, но сдержала себя: а что, если и такое может быть?
— Вы переживаете? Вам плохо? Как вы побледнели! Вот горе! — забеспокоился Безбородько. — Не надо, Степанида Ивановна, так близко все к сердцу принимать. Может, это все вранье. Чего люди не наговорят. Язык не надо ни одалживать, ни покупать.
Он начал искать воду, а она, как подкошенная, села на стул. За окном снова отозвалась трепетная веснянка, в ней было и ожидание любви, и нивяник-зелье, и милый, который появился еще до того, как закипел корень любви. Все это было в песне, но не у нее.
Она взяла отломленную вишневую веточку и выбросила в окно.
А через несколько дней в семье Трымайводы она увидела несчастную мать, увидела и дитя, которое будет выкопанным, только без хмелин шевелюры, Устином. В честь отца его тоже назвали Устином. И тогда какое-то облегчение пришло в девичье сердце, хоть она и решила больше никогда не думать о Марке.
И в этот же вечер, когда на леваде приземистый молочный туман вбирал в свою основу серебряные лунные брызги она лицом к лицу встретилась на кладке с Марком.
— Ой! — вскрикнула от неожиданности, шагнула назад и чуть не бултыхнулась в речушку.
— Так и искупаться можно, — засмеялся и взял ее за руку. — Перенести?
— Перенесите, — неожиданно для себя выпалила и отшатнулась от Марка, но уже было поздно.
Он, как ветер, подхватил ее на руки, под ней качнулась кладка, всхлипнула вода, а над ней в исполинском небесном колесе закружились звезды. „Так вот какое оно, шагающее колесо“, — замирая, подумала тогда, и весь мир пьяно закружился вокруг нее.
Марко выскочил на берег, заглянул ей в глаза, теснее прижал к себе:
— Уже не отпущу!
— Что вы, Марко Трофимович! — только теперь перепугалась, вырываясь из рук парня. Так сразу стало страшно, словно летела в бездну.
Марко молча опустил ее на землю, и она поникла перед ним, как школьница: боялась его и все равно ждала от него самых лучших слов.
— Степанида Ивановна, вы знаете, что я люблю вас? — наклонился над ней взволнованный и суровый.
Под кладкой вскинулась рыба, в лугах отозвался коростель, в полях протарахтела телега, и совсем недалеко встрепенулась девичья песня, преисполненная надежды и сожаления.
— В самом деле? — сказала совсем не то, что думалось сказать в таком случае.
— В самом деле. Вы, несомненно, и не замечали этого?
— Не замечала.
— А я еще в больнице влюбился в вас… Там сошлись моя боль и любовь. Но вижу, вы ничуть не любите меня…
— Не знаю, Марко Трофимович, — и правду, и неправду смущенно сказала она.
— Я так и думал… Наверное, вы не моя судьба.
— Почему же?.. Никто судьбы не угадает, — тихо возразила, и он с надеждой взглянул на нее.
— Подумайте, Степанида Ивановна, подумайте, взвесьте, потом скажете… Люблю вас, как душу, — обеими руками пожал ей руку и исчез в темноте.
„Чудной какой… Почему бы еще было не постоять, не сказать какие-то слова. Милый…“ — стояла в тумане под звездами, а потом пошла по той самой тропинке, которой прошел он, думая, что не раз наступает на его следы…
Думалось недолго ей; в один вечер, как цвет, расцвело все то, что собиралось давно. И на следующий день она радостно ощутила себя невестой.
В сладком тумане, в шепоте наилучших слов и опьянении первых поцелуев промелькнули предсвадебные вечера. Простенькую, негромкую свадьбу должны были отгулять они после окончания учебного года. И вот наступил несчастный день ее свадьбы. В школу к ней подъехал в английском френче и в еще большему галифе Безбородько, и они оба стали ждать жениха. Но он не приходил. Безбородько красноречиво несколько раз стучал ногтем по стеклу лукообразных, из американского золота часов, а она краснела и бледнела в разных тяжелейших догадках, вбирала в себя невыплаканные слезы, которые боялась показать при постороннем человеке. И чувствовала, что любовь ее, будто раненная птица, бьется в последних муках.
— Уже и есть хочется, а Германа все нет, — показал свою ученость Безбородько. — У Марка все может быть. Я, кажется, вам когда-то намекал… Пойду на разведку.
Обметая двери своим галифе, он вышел из жилища, безнадежно махнул рукой вознице и исчез за хатой. Вернулся возмущенный и аж зеленый от злости.
— Вот разжились, Степанида Ивановна, на женишка себе! Какое только бездумье погнало вас в брак? Еще до свадьбы, практически, имеете уважение, а потом, глядите, каждый день будут бредни! Подумайте: ему корова дороже любви. Всего ждал, но такого — никогда.
Она уже ничего не могла сказать, лишь безмолвно, только видом скорби допытывалась у Безбородько: ’’Что же и за что такое произошло?“ А он, довольный своими предвидениями, всеми движениями, шагами, словами, как колдун, делал каменным ее сердце, тело и втискал в лед, в темень, где и надежды нет на доброе предчувствие или чувство.
— Корову в эту ночь у какой-то вдовушки украли. На рассвете бросилась она, раззява, к Марку искать помощи. А ему что? Свадьба в голове? Без колебаний, практически, натянул, извините, штаны на себя, наган в руку и, даже без рубашки, рванул по следам за ворьем. Да я в такой праздничный день свою собственную корову подарил бы той дурище, чтобы не отходить от молодой. Так есть ли в его умном чугунке и крученом сердце хоть какая-то малость любви!? — он посмотрел в окно и злорадно ткнул пальцем: — Вот, посмотрите и взгляните — идет герой, но не с молодой, а с коровой!
Больно выворачивая глаза, она увидела на улице Марка. Но какого? В одних штанах, забрызганный грязью с головы до ног, он медленно вел пузатую, тоже забрызганную корову и что-то весело рассказывал людям, которые полукругом следовали за ним.
Его веселость громом выбивает остатки ее любви и переполняет все тело самыми неприятными подозрениями и рыданием. Она уже не видела, как счастливо, с каким нетерпением взглянул Марко на ее окно. Не в силах сдерживать слезы, которые сразу брызнули на свадебное с ромашками платье, метнулась по комнате, схватила чемоданчик, что-то запихнула в него.
— Антон Иванович, умоляю, пусть ваш возница отвезет меня на станцию.
— Если имеете еще до брака вот такое уважение, то пусть, практически, везет без проволочек, — боком отвернулся от нее Безбородько.
Она завядшая, чужая среди цветов своего свадебного платья, закапанных не росой, а слезами, села на телегу, убегая от своей любви, от своих наилучших и тягчайших дней, от того шагового колеса юности, что у каждого по-своему кружит…
* * *
И вот случай снова привел ее на следы прошлого. Когда ехала к брату, она думала, что с годами растерялись все чувства. Да вышло не так. Г оды как вода — им нет возврата. А утраченные чувства, как птицы, вернулись, закружили над давним гнездом, боясь заглянуть у него…
„А почему было и не встретиться с Марком? — разом увидела перед глазами и чернявого, как предвечерье, парня, и пожилого, с сединой мужчину на костылях… — ’’Кроковоє колесо вище тину стояло, много дива видало…“ И несомненно, Марко, не столько ты видел дива, как саму смерть», — снова пожалела и свои молодые лета и
XI
Теперь Григорию Стратоновичу кажется, что и среди тысячи людей он узнал бы шаги своей Екатерины. Своей!.. Хотя нет в ее походке юной легкости, украдчивого или испуганного перестука, но есть в ней трогательная нерешительность, будто говорящая, как, замирая, спасается и дрожит женщина над своей любовью.
А она таки и дрожит над ним, веря и не веря, что и вдовья судьба может встретиться со счастьем. Не пройдет ли оно, как непрочная сетка золотого дождя, который не насыщает землю, а только оставляет на ней обилие слез?
Из тьмы печалью и нежностью смотрит женщина на своего второго мужа, который иногда кажется ей сыном. Тогда вдали оживал первый муж, а всю душу охватывали страдания: имела ли она право на второй брак, на вторую любовь? И даже пятеро детей, которые пропадали бы на вдовьих достатках, в такие моменты не могли защитить ее, и никто в мире не мог стереть холодные капли боли, повисающие на ней, как повисает роса на неразвитом дереве. Что же, другие женщины проще смотрят на любовь, страсти, а она до сих пор таит в себе чувство вины и перед людьми, и перед Григорием, и перед первым мужем.
В такие тяжелые моменты она себя со стороны видит пересаженным деревом, что и само не знает: приниматься ему или засыхать. Таково ее вдовье счастье, как солнце вне туч, и долго ли оно будет светить ей?..
Испуганные мысли забегают и забегают наперед и останавливаются перед той бездной, что пугает каждую женщину, в силу горя ставшую вдовой: не станет ли равнодушной, не откажется ли от нее вторая любовь?..
Чувства Екатерины в какой-то мере передаются Григорию, которого до сих пор удивляет глубокая стыдливость жены в любви. Ведь пятеро детей родила, но до сих пор осталась чистой, как девичья слеза. И ни вспышки, ни тени женской страсти или удовлетворения никогда не увидел в ее движениях и на ее лице. Только материнством, только им и в нем то грустно, то настороженно, то упрямо жила она, и все плохое не цеплялось к ней, как болото к белой лебедке. И чего сомневаться тебе? Уже за одни косы, за один голос ты достойна любви, любовь… Уродятся же такие слова в глубинах человеческой души, будто звезды на ресницах ночи. И разве это не чудо, что каждый по-своему находит любовь и каждый по-своему любит?..
Но почему в стольких людях любовь так похожа на перелетную птицу: мелькнет крылом над твоей весной, сбросит с того крыла несколько сияющих светом росинок или слезинок и исчезнет за теми горизонтами, где тучи бредут, как старцы, и оставит для обедневшей души жизненную необходимость или жизненное бремя… Что-то подобное и у него было после истории с Оксаной. Но вот негаданно пришла и к тебе твоя запоздалая весна, пришла неожиданно, как ливень, и щедрая, как ливень.
Он ехал к Екатерине лишь с одной мыслью: чем-то помочь ей, чтобы не пухли от голода дети. Они сразу потянулись к нему: старшим хотелось как можно больше знать о боях, а младших привлекали его партизанские игрушки: автомат, пистолет и немецкий кортик.
Екатерина же тогда сторонилась его, и на ее лбу все время при нем упрямо и испуганно дрожали складки. Хотя она без отдыха крутилась возле своего выводка, тяжеловатыми и легкими руками прижимала их к самой душе, сидя, засыпала над ними, но в глазах ее светилось закрытое женское одиночество. Он замечал, как это одиночество тверже очерчивало ее веки, делало менее подвижными не угасшие глаза, накладывало на лицо скульптурную выразительность. Хоть это было жестоко, но ему не раз приходило в голову, что Екатерина сейчас похожа на тот образ, который выходит из камня или входит в камень, чтобы из него без слов и слез говорить о человеческом горе и порушенной любви.
Как-то его в хате Катерины разыскал скульптор Колесниченко, крепыш, со стожком разлохмаченных волос и бездонными глазищами; ему от природы дано было жить среди каменных глыб. В партизанском отряде он почерком разгневанного Микеланджело срывал железнодорожные мосты и гордился этим разрушением, как гордился когда-то первыми творениями своих рук, сначала называл их гениальными, а потом — бездарными. Теперь в соседнем райцентре он должен был реставрировать свою лучшую довоенную работу: счастливую мать с дитем над водой.
Война из-под ног скульптуры забрала воду, осколком оторвала голову матери, а осиротевший неразумный младенец до сих пор улыбался довоенной улыбкой, пугая ею людей. Принимая во внимание время и смену своих вкусов, Колесниченко хотел дать матери другое лицо, и он слишком требовательно подбирал типаж и подобрать не мог.
— Вот тебе истинный образ, — показал ему глазами на Екатерину, которая в полутьме босой ногой качала колыбель, а руками ворожила возле куска парашютного шелка, чтобы пошить с него сорочку.
Колесниченко профессиональным глазом глянул на вдову, подошел к ней, взглянул на ее шитво, поговорил немного, а потом вернулся к столу и тихо, даже с увлечением, забубнил:
— Божественный типаж! А нельзя ли, Григорий, и мне тут квартирантом стать? Ох, и типаж, но, к сожалению, не оптимистичного звучания, а это — недостаток. Видишь, как тени и складки подрезали ее жизнерадостность, смех.
— А тебе после такого тяжелого времени непременно надо на камне резать материнский смех? — возмутился он. — Именно такой образ и зацепит за живое людей, переживших войну. Или тебе и твоему союзу нужен ведомственный энтузиазм и плакатная улыбка?
— Это ты уж загнул, братец, не читая статей некоторых искусствоведов. Они, живые, хоть и редко улыбаются, но из мертвого камня требуют побольше смеха, — расхохотался Колесниченко, потом задумался, снова подошел к вдове и, присматриваясь к ней, начал помогать шить сорочку грудному ребенку…
Скульптор таки прислушался к совету и не ошибся, не ошибся и он, поверив, что Екатерина его суженая.
А началось оно совсем неожиданно и просто. Как-то перед вечером, когда солнечные отблески прокладывали на морской зелени небосклона золотые мосты, он от партизана-мельника привез наволочку муки, пахнущей и грозовыми полями, и теплом мельничного камня. В сенях, снимая ее с плеча, увидел на пороге Екатерину, верней ее расплетенные косищи и две зависшие слезинки в неподвижных глазах. Те две косы, две слезы и стали мостиком к большой любви. Стлался этот мостик невероятно быстро, как все быстро делается в войну.
В предосенний вечер он поздно возвращался с совещания. Сонное село так дрожало в тихом лунном сиянии, что казалось, будто дома и сады, и журавли понемногу переходили с одного места на другое. Он любил эту непостоянную таинственность вечеров, когда разбухший подсолнух луны засыпал и засыпал своим причудливым цветом все, что находилось под крышей неба.
У плетня, по которому завивалась с цветом и плодами тыквенная ботва и жердевая фасоль, он увидел Екатерину. В испуганной игре теней и лучей она казалась высеченной из камня, и только в глазах ее дрожала лунная роса. Женщина услышала его шаги, плотнее прижалась к плетню, а он смущенно остановился напротив нее. Почему-то показалось, что такой же вечер и такая же встреча с Екатериной у него уже были. В тишине он слышал, как бухало его сердце, но стоял, как завороженный, без единого слова и движения.
Наконец Екатерина в мольбе подняла руки, и он увидел, что в ее глазах из лунной росы набегают слезы.
— Что с вами, Екатерина Павловна? — спросил, будто проснулся от сна.
— Григорий Стратонович, — больно заклокотал ее голос, мукой исказилось ее привлекательно округленное лицо, — вам надо уезжать от нас.
— Уезжать? — подсознательный страх сдавил его сердце и начал разрушать в душе выпестованную за последние дни радость. — Я вам надоел?
— Не надоели, — запнулась она, — но так надо…
— Почему?
Она опустила тяжеловатые руки, отвела от него взгляд и чуть слышно произнесла:
— Потому что я стыжусь вас, а это уже нехорошо.
— Неужели стыдитесь? — он почему-то аж обрадовался.
— Разве не видно?.. Нельзя вам и вдове быть под одной крышей, — печалью, тревогой и волнительной женственностью обрисовались ее полные трепетные губы.
И его потянуло к ним, потянуло к ее тяжеловатым рукам, безвольно свисающим вниз, к ее плечам, к стану. Он, кажется, лишь теперь понял, сколько прекрасного есть в женщине.
— Вы боитесь молвы? — спросил хрипло, уже понимая, что не может жить без Екатерины, без ее глаз, ее губ, ее бровей и вот этой сонной груди, на которой так хорошо лежать детям.
Она покачала головой:
— Нет, молвы я не боюсь. На меня никто никогда не тыкал пальцем.
— Так чего же вы? — и его голос становится глуше, чем у нее.
— Так будет лучше, — подняла на него искренние и скорбные глаза, из которых вот-вот должна была оборваться лунная роса или слеза.
Он рукой хотел дотронуться до них, но женщина, не поняв его, отшатнулась назад, обдала его теплой волной кос, которые как-то сразу темным наводнением упали ей на стан, луна заиграла на том наводнении, и он руками, душой потянулся к этому паводку…
«Две косы, две слезы», — и сейчас в мыслях, как стихи, повторяет Григорий Стратонович, а сам ощущает, как женщина в нерешительности остановилась возле церковных дверей, как из тьмы присматривается и глядит на него. А он делал вид, что прикипел к книжке, потому что разве же не приятно, что такие глаза верными звездами тянутся к нему, будто молятся на такого ученого мужа.
И при упоминании, что Екатерина считает его очень ученым, он невольно начинает улыбаться.
— Григорий, ты кому улыбаешься? — низким голосом, с непостижимыми переливами клекота и звонкости спрашивает она.
Что-то есть в ее голосе и от волны, которая плещется-всхлипывает, и от пения, когда он замирает. Ему кажется, что Екатерина не говорит, а создает свой язык, потому что никогда не угадаешь, какие звуки пробьются в ее следующем слове. Он был влюблен и в ее голос. Часто, просыпаясь ночью, ему хотелось разбудить жену, чтобы услышать ее неровный певучий клекот. Даже смех у нее — необычность: каждый раз звучал иначе. Иногда, отрываясь от тетрадей или книг, он просил ее:
— Екатерина, засмейся.
— Ты что, Григорий? — удивлялась она, а в глазах занимались загадочные огоньки, тоже кажущиеся открытием, но страшащие его: что еще неразгаданного таится в них?
— А тебе жалко засмеяться?
— С какой бы радости?
— С той, что есть такой смех на свете.
И в самом деле, имел наслаждение от него и от тех двух бороздок, которые от подбородка выбегали на щеки, и удивлялся, чего не подарит прихотливая природа человеку в свой добрый час творчества…
Григорий Стратонович привстает с обожженного табурета, радушно идет навстречу жене.
— Спрашиваешься, кому улыбался? Угадай!
— Где уж мне угадать, — протягивает к нему тяжеловатые и такие милые руки, но сразу же боязливо опускает их вниз — вспоминает, что в церкви.
— Улыбался твоим мыслям.
— Моим мыслям? — удивлением отзывается не только клекот голоса, а вся ее глубина. — Разве ты слышал, когда я вошла?
— Конечно! Еще слышал, как ты с землянки выходила, как улицами и закоулками шла.
— Снова насмехаешься, — влюбленно и благодарно смотрит на своего мужа и не верит, что он насовсем ее. — Но скажи по правде: слышал, как сюда пришла, как смотрела на тебя?
— Конечно. Как я мог не услышать такого?
— И притворялся? — увеличиваются ее глаза, что в темноте кажутся черными, а на самом деле они ясно-зеленые, как весенние листочки, увлажненные росой, соком и каплями солнца.
— И немного притворялся.
— Вот ты какой! — так понижается ее голос, что он, кажется, звучит во всем теле, как гудение в колоколе. — А о чем же я думала?
— О том самом: что имеешь очень ученого мужа. Угадал? — сердечно смеется он.
— Таки угадал, — удивляется Екатерина, удивляются сочные, переполненные морщинами губы, молодица красиво поднимает вверх полное округлое плечо. — И все насмехаешься надо мной?
— Только немножко, потому что твое недоразумение о моей учености недоученной приносит мне одну приятность. Я тоже падкий на уважение, как муха на мед.
— Смейся, смейся. А мне, бывает, аж страшно становится, что ты так много знаешь, а я ничего не стою, — припала лбом к его плечу, и теперь он уже на минутку кажется ей не сыном, не мужем, а родным отцом, к которому было так хорошо прислониться головой.
Григорий положил руку на платок, из-под которого выбивался ароматный сноп волос жены.
— И о себе, и обо мне выдумываешь по доброте своей… Что я? Вот меня учили учителя! Это были истинные праведники в буденовских шапках! — обвел взглядом святых. — Спасибо им, что человеком сделали меня. Где они теперь?..
— И ни о ком из них не знаешь?
— Мир большой, дороги широкие. Разошлись по ним мои праведники, только о двух и знаю: один командовал дивизией, а теперь после тяжелого ранения работает председателем облисполкома, а второй работает аж в ЦК.
— Ты бы хоть написал им.
— Неудобно, чтобы не подумали чего…
— Таким точь-в-точь Иван был: все умел, а держался в тени, чтобы люди не подумали чего. А этим, Григорий, и пользуются разные хамоватые проныры… Они и на стол вылезут, чтобы себя показать.
— На стол еще не беда, а вот когда они в души влезают и начинают их топтать… Ну, как у тебя дела по отделу строительства и реэвакуации из богоугодной колокольни?
— Мы уже совсем перебрались в землянку. Совсем! — радостно и печально улыбнулась Екатерина.
— Да что ты!? Когда же успели? Там неизвестно какой беспорядок творился, — удивился Григорий Стратонович.
— Для тебя все-все старались. Даже младшенький не пискнул, будто понимал. Пошли же, посмотришь.
— Спасибо. Пошли. — Он хочет прижать жену, но она уклонилась: Григорий снова забыл, что находится в церкви. — И как тебе новое жилье?
— Ничего. Потолок над головой есть, только все равно капает с него.
Вспомнилась та, уже проданная хата, которую добрыми зелеными руками, как колыбель, покачивали ясени. И стало жалко и старого жилья, и ясеней, как близкой родни.
Григорий Стратонович берет автомат, раздувшийся портфелик, задувает свет и плечо в плечо идет с женой, которая сразу же притихла — страшно стало в темной церкви. На дворе аж вздохнулось с облегчением, и она прислонилась головой к мужу.
— Это что за нежности перед самой колокольней? — заворчал будто недовольно, остановился, поцеловал жену, а она вздохнула. — Чего ты?
— Боюсь, что уплывет это, как сон, — уныло призналась она и прислонилась к нему, руками охватила его плечи, а свою голову опустила мужу на грудь.
— Ну, что ты, любимая! — к его любви присоединилась жалость: — Зачем только печальное видеть впереди.
— Потому что так оно часто и бывает в жизни. Насмотрелась я на это, Григорий; сначала воркование и нежности, а дальше — чего не бывает: равнодушие, неприязнь или даже слезы.
— Пусть ни одна не прольется у тебя, — обеими руками поднял ее голову и поцеловал глаза, брови, межбровье.
— Милый мой, милый, — заклекотал ее голос, и она теперь вся стояла перед мужем, как сама любовь.
— Вот так и забыли о новоселье, — полушутя произнес он и взглянул на колокольню.
— Может, по поводу такого исторического события ударить во все колокола? Пусть сходятся к нам люди добрые.
— А чем ты их будешь угощать? — набежала тень на прояснившееся лицо Екатерины.
— Хоть бы буханка или какой-то кусочек сала был на столе.
— Зато картофель есть! А соль какая? Чего печалиться? В лесах это показалось бы роскошеством! Так ударим в колокола? Я умею! Пареньком не раз вызванивал разное. Сам дьяк мне за это уши обрывал, но и хвалил за талант, — Григорий Стратонович на самом деле подошел к дверям колокольни, но Екатерина обхватила его по-мужски крепкими руками.
— Хватит. Иногда ты бываешь как ребенок.
— Вот и разберись, что ты за штучка! — сказал будто с обидой. — То ученым величаешь, то укоряешь детским умом. Когда же ты правду мне говоришь, а когда лукавишь?
— Люблю тебя, — тихо загудела в ответ.
— И сейчас выкрутилась, — провел рукой между плечами, где спина резковатой линией выгибалась к талии. И бедра резковато выделялись у женщины, будто отталкивались от талии, но вся ее фигуру была преисполнена такого своеобразия и женской привлекательности, что мало кто не заглядывался на нее. Григория это радовало, но иногда и бесило, когда чьи-то глаза дольше обычного паслись на фигуре жены.
Когда супруги подошли к землянке, там как раз потух огонек, зато поднялся невероятный шум.
— Что только эти проказники вытворяют!? — встревожилась Екатерина.
— Наверно, в жмурки начали играть, потому что воля: ни меня, ни тебя нет.
Но вскоре в окошках снова мигнул свет, поколебался какую-то минутку и погас.
— Дети, что вы только делаете? — гневно встала на пороге Екатерина.
— А мы ничего, мама, не делали! — сразу же загомонило несколько голосов. — Засветим ночник, а он гаснет, засветим, а он гаснет, потому что из потолочин выбивается ветер и дует на свет, — показали и губами, и коловоротом рук, как ветер задувает плошку.
Екатерина сама засветила лампу, но ветер сразу же нагнул лепестки огня вниз. Женщина молча, с укором, посмотрела на потолок, прикрыла утлый свет рукой, перенесла в другое место. Здесь меньше дуло, и огонек, вздрагивая, начал освещать бледные, но веселые лица детворы и влажное убожество землянки, которая на сегодня считалась чуть ли не роскошью.
— Хорошее имеем жилье, — Григорий Стратонович, скрывая улыбку, серьезно осматривается вокруг. — Даже печь есть, и место за печкой, и лежанка, только хлеба нет на печи. Ну, дети, как вам здесь живется?
— Хорошо, отец! Очень хорошо! Мама даже к картошке вволю хлеба дала! О! — разными голосами закричала со всех углов детвора.
— Вот какая у нас сегодня щедрая мать. Подраться на новом месте еще не успели?
— Успели, только немножко!
— Василий мне подзатыльники дает! Так дайте ему щелкан, — пожаловался малый Степка.
— А чего ты без мамы лезешь к хлебу? Ел же сегодня, как молотильщик! — баском сказал Василий на неразумного братца.
— Сейчас, дети, еще поедите, — погрустневшим, с улыбкой взглядом пересчитала детские головки.
На застеленном свежей полотняной скатертью столе из начищенной гильзы снаряда нежно просматривал пучок сонных, еще запечатанных подснежников и веточка орешника, покрытая уже распухшими сережками. Это были первые весенние цветы. Они сразу напомнили Григорию и детство, и партизанские весны, когда вестники их — подснежники — прорастали между гильзами патронов или стояли в гильзе снаряда в его землянке.
— Вот и дождались весны, — поднял цветы к лицу, вдохнул их свежий земляной запах. — Кто насобирал?
— Я, отец, — отозвалась зеленоглазая, как и мать, Люба. — Это для вас, потому что вы их любите.
— И не побоялась в лес пойти?
— Мы с соседской Ольгой бегали. В озере под берегом щуку увидели, большую-большую, — развела руками. — Глаза у нее были как фасоль. Она чуть ли не к самой кладке подплыла. Там у озера и насобирали цветов.
— Спасибо, дочка, — прижал к себе крепенькую, скуластую десятилетнюю девочку, которая уже три дня не могла нарадоваться своими новыми сапожками и где надо и не надо хвалилась:
— А у меня обновка, отец купил.
Наплыв добрых чувств заполняет душу учителя, когда он чувствует, как доверчиво приникает к нему ребенок. Но на этой светлой радости нет-нет да и отзовется болью холодная капля: к этой бы компании хотя бы еще одно дитя. Но на это пока что не имеет он права.
— Дети, и у меня есть для вас гостинец! Угадаете? — приглушает печальную росу.
— Конфетки? — первым закричал малый Степка.
— Не угадал. Кто дальше? — поощрял Григорий Стратонович, тряся обтрепанным портфелем.
— Булка!
— Где она теперь возьмется? — рассудительно возразил самый старший, одиннадцатилетний Владимир, такой же большеглазый смельчак, каким был его отец.
— Сахар!
— Кислицы!
— Яблоки!
Григорий Стратонович, напустив на лицо таинственное выражение, раскрыл портфель, и в землянке сразу стало тихо.
— Вот что! — вынул толстую и чистую, как снег, четвертинку сала, а дети аж захлопали в ладони. — Сейчас и у нас будет королевский ужин. Знаете, как ужинали короли?
— У них было много пирожных, мяса и продуктов, — отозвался Василий.
— Правильно, Василий, у них было много пирожных, мяса и… печенного картофеля.
— И у нас есть печеный картофель! Слышите, как пахнет, — подал голос Степка, который и в самом деле поверил, что короли лакомились печеной картошкой.
— Вот и будем есть ее с салом. Так даже не каждый король ужинал. Правда, дети?
— Правда, отец! — засмеялась детвора.
— А сейчас быстро садитесь мне! — и положил в глиняный полумисок свое добро.
Дети так смотрели на этот кусок, будто перед ними лежало какое-то чудо. Мать подобревшими глазами наблюдала за этой сценой, а когда малышня облепила стол, украдкой шепнула Григорию:
— Люблю тебя.
— В самом деле? — лукаво взглянул на жену.
— Очень! — чуть ли не застонал ее низкий с непостижимым клекотом и звоном голос.
— Что же, и это неплохо, когда любовь переходит в новое жилище. Пусть оно без хлеба, зато с любовью.
— А ты же меня? — уголком глаз глянула на детей, не слышат ли их. Но детям уже было не до родителей.
— Да не без этого, — загордился мужчина.
— Противный. Чего-то лучшего не мог мне сказать на новоселье?
— И здесь скажу: ты наилучшая!
— Почему-то боюсь за тебя, за нас, — сразу же исказилось болью ее лицо — с едва заметными скулами, хорошо округленное, где в самом деле звездами сияли искренние весенние глаза.
— Да что ты, Екатерина? — любуется ее крупным разломом бровей, ее глазами, что всякий раз меняют свой цвет. — Чего тебе бояться?
— И сама не знаю, что-то беспокоит и беспокоит. Иногда так задрожу, словно росинка; даже оглянусь, не садится ли возле тебя предвестие беды.
— Вот уж этого я не хотел бы слышать в новом доме.
— Проклятый Поцелуйко отравил мое счастье, — трагедийно изогнулись брови у женщины.
Григорий Стратонович помрачнел:
— Счастье само никогда не ходит. Недаром говорят: из счастья и горя народилась судьба.
— Но не хватит ли нам, Григорий, и горя, и нужды, и поцелуйков?
— Все это пройдет, сердце, потому что оно не постоянное, а преходящее.
— Утешаешь меня?
— Нет, свято верю в это. Победим фашизм — доберемся и до нужд. Придет время — и не над хлебом будем сушить головы… Будем думать, как им более умными стать… А поцелуйки что? Грибы-поганки. Высыпало их на здоровом теле, пока мы боролись за все лучшее, высыпала их грязь пережитков и войны, вот и снесет, как грязь.
— Почему-то долго не сносит его. Научились же некоторые людей не любить, а слепить. С той анонимкой все улеглось?
— Как же иначе могло быть?
— Могло быть и иначе. Сколько щипали тебя из-за первой, — провела рукой по его шевелюре.
— Да ничего не нащипали, потому что у нас нет зерна неправды за собой.
— Но видишь, каким чертом кривда шипит. Сначала от тех оговоров даже смешно и странно было. А теперь — страх охватывает. Хоть бы посмотреть со стороны на того черта, — стало злее ее лицо и даже брови озлились. — Что он собой представляет и на кого похож?
— На человека смахивает, а переродился в свинью. А свинья даже в церкви лужи ищет.
— Это правда, — метнулась к печи, рдея, засуетилась возле нее, проворно поставила ужин на стол и снова к своему мужу, прислонилась и улыбнулась ему. — Но никак не пойму, где ты мог сало достать?
— Где? Партизанская сообразительность, — улыбнулся, а глазами показал на детей, дескать, не расспрашивай при них.
После ужина Григорий Стратонович собрался в церковь, где лежали все его книги.
— Снова к богам и Шекспиру? — с сожалением спросила Екатерина, когда они по ступенькам поднялись наверх.
— Снова к ним.
— Скоро придешь?
— Поработаю еще немного, пока детвора уснет, а потом и к тебе, если не надоел.
— Только не медли. Слышишь? — обвилась, оплелась вокруг мужа, будто входя в него.
— Постараюсь. Какая ты крепкая!
— Ты же меня землей называешь.
— А чем твои косы пахнут?
— Угадай.
— Моим далеким детством… Напоминают мать, когда она еще молодой была… когда сады и люди не горели в огне.
— Ой… И не вспоминай всего…
— Так чем пахнут косы?
— Любистком.
— Значит, угадал: моим детством пахнут они. Глупый у тебя муж?
— Самый умный, наилучший, — загудела вся, как медь. — Неужели так можно век прожить? — снова вверх посмотрела со счастьем, доверием, любовью.
Григорий нагнулся над ней, поцеловал.
— Гляди, еще дети выйдут, а мы стоим, как молодожены.
— В самом деле, уже нельзя так, — удивилась и погрустнела Екатерина. — Боже, если есть счастье на свете — это ты, — обнимая, не выпускала его. А скрипнули двери землянки, она сразу же отклонилась от мужа. Прощаясь у двух столбиков, где когда-то была калитка, спросила: — А все-таки, Григорий, где ты сала достал? У тебя же ни копейки за душой не было.
— Так душа была.
— Таишься?
Григорий Стратонович загадочно улыбнулся:
— Я ж тебе говорил, что проявил партизанскую изобретательность.
— Да как ты ее проявил?
— Ох, жена, подбираешься ты к моим самым большим секретам. Сердиться не будешь?
— Ну, что ты!
— Тогда слушай: сегодня я заглянул в тайник отца Хрисантия, где лежит его выпивка и закуска. Скажу тебе — приятное зрелище увидел.
— Григорий, ты полез в тайник? — неподдельный ужас забился на ее лице.
— А чего же и не полезть, если такая оказия была? — засмеялся мужчина. — Разве плохое сало раздобыл? Понюхай только, как оно пахнет!
— Ты еще и смеешься? — заклокотала укором и скрытым негодованием. — Нет, ты шутишь! Это ни в какие ворота не лезет.
— А в царские ворота полезло.
— Ну, никогда не ждала от тебя, — прижала руки к груди.
— Вот и говори тебе правду, а ты начинаешь сетовать на мужа. Отец Хрисантий сам несколько раз набивался, чтобы я что-то взял на новоселье из его тайника.
— И сегодня говорил? — на высших нотах задрожал голос Екатерины.
— И сегодня. Но я сомневался. А вечером-таки победил соблазн. И не переживай, отец Хрисантий человек дальновидный, понимает, что ему с партизанами лучше жить в согласии. Переживешь мое грехопадение?
— Ох, не нравится оно мне. А ты нисколечко не переживаешь?
— А ни на маковое зернышко. С тем и пока. Я скажу отцу Хрисантию, как ты убиваешься над уменьшением его продовольственно-водочной базы. Старик растрогается и в ризнице выпьет за здоровье рабы божьей Екатерины и всех ее потомков.
Жена, повеселев, засмеялась:
— Неужели он в самой ризнице пьет?
— И в ризнице, и в алтаре. И даже из бутылки не стыдится хлобыстать. Тогда бульканье и счастливое чмоканье так поднимаются до самого купола, что пробуждаются напуганные воробьи. Отец Хрисантий говорит, что это, может, святой дух машет крыльями. Он человек не без юмора.
— Такой, как и ты. Жду тебя.
— Ложись спать, накрутилась за день…
И когда он вышел на улицу, и когда подходил к церкви — все время чувствовал, что вокруг него витает ее любовь. Протяни руку — и притронешься к этому странному снованию.
«Земля!» Как это слово шло Екатерине, ее весенним с темными крапинками глазам, голосу, фигуре. Ни в жизни, ни в одной картине от эпохи Возрождения и до наших дней не встречал чего-то подобного. Роден, только Роден нужен для такого образа! Хотя, может, кому-то она покажется самой обычной женщиной. Но это тому, кто не знает ее, кто не умеет видеть всех тайн человеческой красоты, а видит ее лишь на ограниченной плоскости, что называется лицом. Эта плоскость у его Оксаны была более правильной, более совершенной, но разве она может выдержать любое сравнение с его Екатериной?
Вот так и идет человек по мягко стелющейся любви, светится улыбкой. И не только взгляд женщины, но и добрые, в скорби и заботах человеческие глаза сияют ему, несмотря на то что в мире есть война и поцилуйки.
Когда он вошел в церковь, там в полутьме исполинской птицей испугано засуетилась сучковатая фигура отца Хрисантия.
— А, это ты, чадо многоумное, — успокоился отец Хрисантий. — Что на фронтах?
Григорий Стратонович крепко сжал растопыренные пальцы:
— Подходим к самой голове гадины.
— Хорошо сказал, хорошо. А о моем сыне часом ничего не слышали?
— Не слышал.
— Жаль, — покачал головой отец Хрисантий, а на его ноздреватом лице заиграла улыбка.
— А что такое?
— Достойное чадо! Получил богоугодный орден — Александра Невского. Вот я и пришел сюда воздать за него хвалу Всевышнему, — отец Хрисантий потянулся вверх всей своей неуклюжей фигурой, густые рукава его рясы опустились вниз, обнажая ту запущенную мохнатость рук, которая наглядно подтверждала небогоугодную истину о происхождении человека.
— У вас, батюшка, чуть ли не каждый день находится повод заглянуть в свой закуток, — засмеялся Григорий Стратонович.
— В такое библейское время живем, чадо, — поучительно изрек отец Хрисантий.
— Может, в историческое?
— Для вас историческое, для меня библейское — различие мировоззрений, как пишут теперь. Иногда себе зрю ясно и мыслю ясно: вот-вот пойдут пророки по земле.
— Что же тогда они с вами, отче, таким многогрешным, сделают?
— Смиренно в робости сердца буду уповать на милость божью. Питие хмельное — это не первородный грех, — беззаботно ответил поп. — Обмоем, Григорий Стратонович, достойную награду мою или нет?
— Не могу, батюшка.
— Гордыня обуяла, Григорий Стратонович. А я приложусь, потому что имею праздник в душе своей.
— Так для чего же тогда чреву угождать? — насмешливо взглянул на отца Хрисантия, которому уже не терпелось заглянуть в свой уголок, и он тянулся к нему всей дородностью своего тела, особенно вздернутым носом, на котором аж выигрывали большие, чувствительные к запахам ноздри.
— Грех идет не в уста, а из уст, — решительно махнул рукой и пошел в ризницу. Скоро что-то в ней забряцало, клюкнуло и забулькало.
А Григорий Стратонович возле дверей с удивлением услышал шаги своей Екатерины.
— Что, сердце? — улыбаясь, пошел ей навстречу.
— Как у тебя холодно, — аж задрожала, кутаясь в теплый платок. — Бр-р-р…
— Это все, что ты должна была сказать?
— Нет. К тебе приехал какой-либо человек. Очень хочет увидеться с тобой наедине.
— А у меня разве сегодня приемный день.
Екатерина засмеялась:
— Смотри, какой бюрократ, и в церкви не принимает.
— Откуда же этот мужчина и зачем?
— Будто бы из района. Тебе гостинец привез: несколько досок, чтобы постелить в землянке пол, и аж целый кулек муки. Я не хотела брать, так он сам доски снял у порога, а муку занес в землянку.
— Что-то мне это не нравится, — сразу насторожился, нахмурился учитель.
— Может, он твой партизанский побратим? Разве знал бы кто-то из чужих, что тебе доски нужны?
Григорий Стратонович призадумался.
— Может и так. Как он выглядит?
— Долговязый, белокурый и будто растерянный, потому что взгляд как-то не держится середины: то вниз выгибается, то поверх ресниц проскальзывает.
— Чем не картина!? Сразу негодяя нарисовала, — изумленно хмыкнул Григорий Стратонович. — С такой парсуной после твоих слов никогда и нигде не хотелось бы встречаться.
— Вид много о чем может сказать, но не обо всем. Пусть приходит к тебе этот человек?
— Где он?
— Возле колокольни ожидает. Со мной почему-то не захотел зайти.
— И это мне не нравится.
— Так позвать его?
— Что же, зови, а сама иди спать.
— Ну и пошла, если надоела, — осветила свое и его лицо улыбкой. — Ты же не медли. — Забирает с собой частицу его радости.
Снова заскрипели церковные двери. Из тьмы медленно показался долговязый человек. На его стволистой шее громоздилась небольшая с укороченным подбородком голова, будто боясь выбиться за пределы неровно раздутой шеи. Когда он поднял тонкие лепленные веки, в глазах нехорошо заметался отсвет колеблющегося светильника, и они с этим отсветом так забегали, будто кто-то разворошил их на невидимом решете.
Если бы с рисованного ада внезапно отделился какой-нибудь припаленный черт и придвинулся к Григорию Стратоновичу, он, несомненно, меньше удивился бы, чем встрече с долговязым.
— Это ты!? — не веря себе, спросил учитель, и его потрескавшиеся губы вздрогнули, вознегодовали и искривились от безграничного отвращения.
— Это… я, — так, будто не веря, что это он, сказал долговязый, безжизненно сделал еще шаг и замер в оцепенении, а на его бровастом лице с помятостями под глазами туманом проходит унижение, просьба, неловкость, упрямство и страх. Неверный свет, казалось, выхватил это лицо из темени испорченного экрана, изменял его и вгонял в зрачки не только зловещий мерцающий отсвет, но и копоть, собирал ее под веками, на которых, когда они опускались, тоже дрожали страдание и испуг.
— Как же ты посмел прийти ко мне? — переходит на шепот Григорий Стратонович, а сжатая в кулак рука сама потянулась к сердцу, придавливая боль и гнев. — Как ты посмел… нечестивец? — еле сдерживает себя мужчина.
Лицо долговязого еще больше сереет, и на нем появляются три выражения: мука, просьба, раскаяние. Он тоже прикладывает руку к груди, и его растопыренные пальцы клеткой втыкаются в сердце, а скомканные тонкие губы вздрагивают, передергиваются и он не может или опасается сказать первые слова, но вот они срываются и сначала скрипят, как старая калитка в темноте, а учитель сразу же отгоняет их рукой:
— Уходи, урод. Не доводи до греха — мой автомат еще при мне, — кивнул головой на поставец.
— Григорий Стратонович, убивайте, но выслушайте великодушно, как умеете вы. — Слова долговязого, кажется, рождаются во мраке и падают в темному. Он, откашлявшись, высвобождает голос от хрипа, а сам гнется, качается, оживает и вянет, готовый вот-вот распластаться перед учителем. — Детьми своими, чем хотите, умоляю — примите мое мучение и не дайте погибнуть, человеку… Мое дурноголовое ослепление принесло вам неприятности и даже горе. Но дайте покаяться мне.
— Ты, Поцилуйко, извиняться пришел?! — искренне удивился и даже оторопел Григорий Стратонович. — Да что это? Или у тебя окончательно сгинула совесть?
— Верьте не верьте, а выходит… не совсем… Раскаяние теперь поедом жрет, доедает меня. — Поцилуйко до боли нажал клеткой пальцев на сердце, желая показать, как его съедают душевные терзания. Но в этом движении Григорий Стратонович безошибочно улавливает фальшь, и насмешка искажает его припухшие губы:
— Что же, неплохое место для этого нашел, — перевел взгляд на картину ада. — Разве хоть одному твоему слову можно верить? Разве ты и сейчас не исходишь всей хитростью и коварством?
— Ваше право и ваша воля не верить мне, но я тоже когда-то не был таким.
— Охотно верю, что мать родила тебя похожим на всех детей. Это была заслуга матери. Как она, несчастная, где-то уповала на свое дитя, когда кормила молоком, как надеялась, что ее потомок человеком пойдет в люди, а он вырос и свиньей втерся в жизнь.
— Это сделала война, будь она трижды проклята! — завопил Поцилуйко, оторвал руку от сердца, поднял ее к губам и окаменелому носу. — Как я ненавижу ее!
— Многое можно свалить на войну, но не вина ее, а даже заслуга, что она раскрыла твою мутную душу. Пусть люди обходят ее, как грязь.
— До войны у меня, Григорий Стратонович, не было… эт самое — мути. У меня была, так сказать, голубая биография, без никакого пятнышка, без никакой марашки.
— Даже без марашки? — у учителя размашисто взлетели брови на лоб, и вспомнилось, сколько же неприятностей было у него со своей биографией. — Какими же делами, подвигами она голубела у тебя?
Поцилуйко выпрямился:
— Внимательностью, любовью к Советской власти. — Хотел сказать с достоинством, но сами слова не послушались его и прошелестели нездоровой, никчемной скороговоркой.
— Ох, и наглец же ты! — снова вознегодовал Григорий Стратонович. — Какое же ты имеешь право говорить о любви к Советской власти!? Это же кощунство, святотатство!
— Нет, это любовь, — упрямо сказал Поцилуйко.
В выражения муки, просьбы и раскаяния вплелась злость, а укороченный подбородок и жировая дужка под ним нервно затряслись.
— Хоть бы в церкви не врал. Помнишь, как в сорок первом году я отыскал тебя в схроне?
— Помню, — вздрогнул и понурился Поцилуйко.
— В это самое трудное время для Советской власти ты стал не воином, а прихвостнем, и площадь твоей любви ровно ограничилась площадью твоей шкуры. А Советская власть, надеясь на Поцилуйко, оставляла его для подполья, не для приживальчества. Так ты затоптал в грязь свою голубю анкету!.. Молчишь? Так я еще кое-что напомню. Помнишь, как мы с комиссаром выспрашивали у тебя, где закопано оружие, что осталось для подполья? «Не знаю», — соврал ты. А когда приперли тебя, что сказал? Оружия не отдам, потому что после войны мне надо будет за него отчитаться перед райкомом. Ты думал о бумажных отчетах и тогда, когда лучшие люди отчитывались кровью и жизнью. Мы выкопали пулеметы и гранаты, а ты плакал над разрытыми ямами, словно над покойниками, голосил, что не сможешь по форме отчитаться после войны. Партизаны тогда смеялись и плевали на тебя… Почему ты хоть тогда не пошел с этим же оружием бить врага? Почему?
Поцилуйко обвел языком сухость на устах и не сказал, а снова заскрипел:
— Почему не пошел?.. Потому что ваш партизанский подраздел, извините, был самодеятельным.
— Как это самодеятельным? — не понял Григорий Стратонович.
— Вы сами, стихийной массой, значит, организовали его, без никакого распоряжения, без никакого указания. В то время я не мог довериться стихийному движению, потому что масса — это масса…
Григорий Стратонович оторопел:
— Скажи, Поцилуйко, ты от хитрости или от страха стал придурком?
— Добивайте, Григорий Стратонович, — ваше право. В тогдашней ситуации и самый умный становился глупым как пень. Одурел и я. Думал, что сохраню себя, а опытные кадры будут нужны стране. Ну, и дух смелости покинул меня, дух уныния потянул в болото, я стал трусом, однако же не предателем… От вас, только от вас теперь зависит моя жизнь, мое будущее. У меня же есть дети. Без матери остались… умерла она на этих днях… перед смертью сказала, чтобы я пришел с раскаянием к вам. И вот я падаю ничком перед вами. — Он в самом деле в мольбе опустился на колени и всхлипнул.
На чье сердце не подействуют покаяния, слезы, слова «дети» и «мать»? Подействовали они и на Григория Стратоновича. Он подошел к Поцилуйко, взял его за одну и ту же руку, которая в течение войны не притронулась к оружию, но которая теперь столько сделала ему зла обыкновенной ученической ручкой.
— Поднимись! Я тебе не бог и не судья.
— Не встану, Григорий Стратонович. До утра, до своего судного дня простою, умру тут, инфаркт схвачу, — всхлипнул и прикрыл глаза рукой Поцилуйко. Было похоже на то, что он на самом деле сможет так простоять целую вечность.
— Чего ты от меня хочешь?
— Простите мою злобу к вам, простите, как говорилось когда-то, мои наветы.
Григорий Стратонович покачал главой:
— Хорошо, Поцилуйко, если ты чистосердечно покаялся, постараюсь не держать больше на тебя зла, постараюсь выдрать из сердца ту беду, что ты принес мне, моей жене, моим детям. Только больше ничего не требуй. Уходи от меня и не попадайся мне на глаза. Хоть это ты можешь сделать?
— Для вас все сделаю, Григорий Стратонович, сырую землю буду грызть! — встал Поцилуйко, и его слеза упала на руку учителя, тот вздрогнул, вытер ее об шинель. — Только дайте мне еще справочку, что оружие сдал в исправности.
— И эту справочку дам: оружие, действительно, было в исправности, хоть ты и не прикасался к нему.
— Боюсь оружия, Григорий Стратонович, у меня какое-то отвращение к нему. Я даже в детстве не играл в войну. — Поцилуйко снова облизал пересохшие губы и понизил голос до умоляющего шепота: — В этой справочке, будьте милосердны, черкните пару слов, что я имел какую-то там небольшую связь с партизанами.
— Такое просто так не черкают — оно жизнью зарабатывается. И на что это тебе?
— Эта приписочка, Григорий Стратонович, эти несколько слов восстановят меня в партии. Тогда я оживу, стану совсем другим человеком, а вас во веки веков не забуду… И детей, сирот своих несчастных, научу уважать вас, — с мольбой и мукой смотрел на учителя.
— Я понимаю, партия нужна тебе, но нужен ли ты ей? — безжалостно отрезал Григорий Стратонович. — Да кто теперь тебя примет в нее?
— Примут, увидите, примут. У меня сохранились старые знакомства, связи… Приписочка спасет меня. Я же не прошу чистой партизанской справки. А мое оружие, если подумать, все-таки помогало вам, а не врагу.
— И что же ты дальше думаешь делать? — уже с интересом посмотрел в жалкое лицо Поцилуйко.
— Мне теперь придется идти по хозяйственной линии, идеологические, считайте, отсеклись, ну, и тяжеловаты они для меня. Стану себе директором маслозавода и буду тихо выполнять планы. Это как раз пост по моим нервам. И все уже наклевывается, только вы немножко помогите.
— Нет, не помогу я тебя восстанавливаться в партии, не помогу тебе стать и директором маслозавода. На этом и распрощаемся, езжай себе своей дорогой, и не забудь забрать взятку, что привез. На моей совести нет никакой чужой копейки.
Поцилуйко задрожал, как осина на ветру.
— И моих детей не пожалеете? Вы же учитель, гуманист.
— Разве дети станут хуже, если их отец не будет директором маслозавода?
— Вы убиваете меня пожизненным бесчестием!
— Нет, ты сам себя убил тремя отравленными пулями: пренебрежением к людям, мелким интриганством и большой любовью к собственной шкуре. Так какое же ты имеешь отношение к партии? Если у тебя осталась хоть одна почка человечности, дрожи над ней, развивай ее не на директорском масле, а на черном хлебе и благодари людей, что хоть какую-то работу будешь выполнять рядом с ними.
Ужас потряс всю фигуру Поцилуйко:
— Поймите, Григорий Стратонович: если я пойду на низовую работу, меня заклюют.
— Кто же тебя заклюет?
Поцилуйко качнулся, и одно слово сорвалось с его губ:
— Люди.
— Зачем приписывать им свои недостатки? У людей есть более важные заботы…
— Это теория, — оборвал его Поцилуйко. — Люди не забыли, как я был секретарем райисполкома, а вы же знаете, что тот не родился, кто бы всем угодил.
— Но родились такие, что пожинали человеческую славу, доброту и плоды их труда, а людям возвращали свинство никчемных погасших душ. Боишься людей?
— Не так их, как их насмешек, — признался Поцилуйко. — Я не переживу такого стыда.
— Переживешь, — успокоил его Григорий Стратонович. — Если в схронах пересидел войну, то все переморгаешь — ресницы у тебя не стыдливые, отвеют все, как ветрячки.
После этих слов у Поцилуйко невольно зашевелились ресницы, шевельнулись веки и стали такими, будто их только что кто-то макнул в мучительную злость. Ею наполнились измятости под глазами, а дальше злость расползлась по щекам, скапливаясь в складках у губ и носа.
— И никак не измените своего решения? — стала тверже шея и фигура Поцилуйко.
— Никак.
— Подумайте, Григорий Стратонович. Подумайте! — Теперь в голосе соединились просьбы и угроза. — Это же только одна маленькая приписка.
— С ней ты уже именем живых и мертвых начнешь выжимать масло личного благосостояния. Иди…
Злоба посыпалась с век на лицо Поцилуйко, по-другому исказила его. Теперь мутная и черная душа Поцилуйко выходила из игры и прекращала прибедняться, в голосе его холодным металлом заскрипела угроза.
— Гоните! Ну, и прогоняйте себе на горе. Я пойду с ничем, но за мой позор вы и ваша жена прольете ведро кровавых слез. Я найду тот желобок, по которому они польются.
При упоминании о жене Григорий Стратонович вздрогнул, перед ним за короткий миг развернулась страшная гниль бездны, называемой жизнью негодяя. Вылупливаясь из всех одежек, она уже грозила и шипела, как гадюка:
— Я знаю, вы, отхватив высшее образование, до сих пор живете великим, разным художеством, Шекспирами и духом. Но если зло пошло на зло, я стащу вас со всех высот на такое дно, что и Шекспирам не снилось. Торчмя головой будете лететь в такой ад, что хуже, чем вы показывали мне.
— Врешь, мерзавец!
— Кто врет, тому легче. Это тоже народ выдумал.
— Не народ, а его подонки! И далеко ты думаешь выехать на вранье?
— К своему берегу. И думаете, не выеду? Вспомните: разве не граф Толстой писал, что истина переплетена с враньем тончайшими нитями?
— Это же он о религии писал!
— Этого я уже не помню, а цитата сама по себе стоящая. И я не постесняюсь набросить на вашу биографию такое вранье, что оно станет правдой. А что мне остается делать? Удавиться?.. Да вы знаете, что цыпленок тоже хочет жить. И я хочу жить. Не становитесь у меня на пути, потому что тогда чем угодно, а стащу вас с высот духа. Я знаю, как это делается, знаю, что вы имеете открытую, как рана, душу, уязвимое, незащищенное сердце. Оно во сто крат слабее моего. И я, захочу, сгрызу его, как кочан капусты. И это не так тяжело сделать, потому что вы хоть высокий духом, но теневой человек.
— Какой, какой я человек? — переспросил Григорий Стратонович, страшась, даже не веря, что столько нечистот может собраться в одном уроде.
— Теневой, не на виду. По деликатности или легкомыслию своему вы не умеете занять соответствующее вашим заслугам положение. А его вам на тарелочке не поднесут. В наш век у каждого по горло своей работы, и поэтому никто не имеет времени разбираться в скромности какого-то индивидуума. И это тоже против вас. Так не делайте меня таким подлым, каким я еще не был. Это будет лучше для меня, для вас, а значит, и для общества. Что вам стоит, пусть против воли, черкнуть несколько слов? Зато будете иметь возле себя чистый покой. А для таких людей покой очень нужен, чтобы расти духовно. Не буду мешать.
Теперь пришло время побледнеть Заднепровскому. За войну он успел насмотреться и на злобу, и на убожество тех подонков, которые имели человеческое подобие. Но такого гада еще не видел. И главное, он так и сделает, как говорит. А может, это плохой сон?.. Нет, реальный, настороженный и озлобленный Поцилуйко стоит перед ним и еще с каплей надежды смотрит ему в лицо, словно считывает с него слова желанной приписочки. Взять автомат и секануть по этому столбу гноя. Но Григорий Стратонович побеждает себя и будто с любопытством спрашивает:
— Достойную себя нарисовал перспективу. Как же ты будешь отрывать меня от высот духа?
— Это будет зависеть от политической ситуации, — недолго думая, выпалил Поцилуйко, и в его глазах стало больше надежды.
— Как это понять?
— Могу раскрыть карты и масть. Только не прогневитесь — выслушайте спокойно.
— Говори!
— И скажу! — у Поцилуйко как-то из-под кожи вытекло подобие неуместной улыбки. — Будут у нас главными врагами нацисты — я и те, что возле меня крутятся, сделаем вас нацистом; будет главной опасностью национализм — мы вам подбросим ежа в образе украинского буржуазного национализма. А можем тем и другим сделать еще и добавить какое-то моральное падение. Вот тогда и попробуйте выкрутиться, когда такие сигналы начнут поступать с разных мест и когда даже добрые знакомые начнут коситься на вас и переходить на другую сторону улицы… Удивляетесь, что я иду ва-банк? Он страшный не для меня, потому что на оговорщика еще нет закона, а оговоренный может встретиться даже со смертью. А это такая тетка, что и чистейшим лебедям откручивает головы. Так и выходит: кто мед собирает, тот скоро умирает. Логично?
Небывалый обнаженный цинизм, страшная гнусность так возмутили учителя, что он, повернувшись, хотел схватить автомат и хоть прикладом измять мерзкую морду Поцилуйко, которая уже оживала в предчувствии мести. Но в это время открылись царские врата, и из них с высоко поднятым крестом, пошатываясь, вышел отец Хрисантий.
— Изыди, темнозрячий ябедник! И глаголю тебе: бог любит праведника, а черт ябедника, — торжественно провозгласил и махнул крестом. — Изыди, бродяга, не пожирай древа жизни, древа разума.
От неожиданности глаза Поцилуйко расширились, остекленели, и он с ужасом подался назад. Появление отца Хрисантия сначала показалось ему библейской картиной. Ожили старые предрассудки, на какую-то минуту затмился разум, и Поцилуйко позорно выскочил из церкви.
Только на кладбище, придя в себя и разобравшись во всем, он чуть ли не заплакал от бессилия и злости: как же не повезло ему — при их разговоре с Заднепровским был свидетель! Он разрушал его планы, как паутину, и кто мог ждать вот такой неожиданности? Теперь измышляй, человече, что-то другое или и на себя опасайся заявления. И где этот поп взялся на его беду? А может, надо ухватиться за какую-то полу его рясы, узнать, что он собой представляет и какие грешки водятся за ним?.. А почему он так защищал Заднепровского?.. Глядите, какой трогательный союз, — поп и учитель! Надо подумать, чем это пахнет. Он подошел к коню, вскочил в сани и, новыми нитями опутывая свое порванное хитросплетение, в самом плохом настроении поехал сонным селом.
А в церкви, довольный своим «выходом», отец Хрисантий до сих пор метал громы и молнии на клятвоотступника Поцилуйко, который от отца лжи влезает в мир.
— Бездельник, корыстолюбец, завистник, голодранец, мерзавец, легкого хлеба и масла ищущий. Такой, думаете, человеческой насмешки боится? Работы боится. Воистину, шашель, — обратил взгляд на старинный обветшалый образ богоматери. — А шашели и богов едят.
— Этот Советскую власть ест, а сам кричит, что любит ее и будет любить до гробовой доски, — мрачно ответил учитель, отряхивая и не в силах отряхнуть с плеч отвращение и нервную дрожь.
А как он правильно об открытой душе сказал! Тоже разбирается в психологии для выгод своих, для мерзопакости своей. Склонился над книгой, развернул ее, но долго ничего не мог прочитать: не слова, а темные шекспировские образы приближались к его глазам, и среди них вытягивал свою стволистую шею мелкоголовый Поцилуйко…
XII
Дети наконец уснули, а она босиком, с поднятыми ладонями снует и снует по землянке — руками и всем телом прислушивается, как из сырых потолочин слепо выбиваются и дрожат нити холода, как снизу неторопливо вьются струйки ветерка. А может, это в досаде дышит сама земля, недовольная тем, что люди без сожаления выворачивают и выворачивают ее нутро?
«И забредет же такое в голову!» — удивляется Екатерина, а руки ее быстро ворожат то в уголках, то возле двери, заделывая глиной невидимые для глаза щели.
Спустя некоторое время в жилище становится уютнее, пугливая лампа смелее, без дрожи за жизнь, выравнивает свой золотистый, но угарный цветок. И это уже радует молодую женщину. Вымыв руки и обувшись в сапоги, туго обтягивающие икры, женщина становится посреди землянки, еще недоверчиво прислушается к коварному потолку: не вытекут ли оттуда ледяные жала. Но вместо холодного дыхания слышит сверху тихий отголосок девичьей песни. Не о битвах, не о войнах выводят девушки, а старинную, как вечность, песню о том, что имела мать одну дочку и купала ее в медочке.
И душа молодицы встрепенулась навстречу песне, соединилась с ней, а дальше полетела через плетение дорог, через поля, леса и луки к тому клочку земли, где мать имела одну дочь, и этой дочерью была она, Екатерина. И отец был у нее, всегда белый и теплый от муки. Шел он по земле — за ним оставалась белая пороша, смеялся или пел — с одежды, волос и лица его сыпалась ароматная пыльца, а когда мельник Павел упорно извивался в танце, то с него так сыпалась мука, что он становился похожим на метель.
Он дневал и ночевал в старенькой покрытой лишаями и простуженной мельнице, обросшей ольшаником, вербами и ивняком. То синяя, то голубая, то зеленая, то темная вода всегда лихорадила мельницу, она переругивался с ней и в то же время из-за раздутых щек выдувала муку или дерть.
Она сначала боялась и мельницы, и колеса, под которым копошились черти и водяной. Но отец убедил ее, что мельница имеет совсем кроткую душу, а под колесом черти жили только до революции, потом они где-то повеялись с панством и разными графьями, потому что жить с землепашцами нечистой силе не было никакой выгоды. И малая мельниковна[19] после этого уже не боялась ни заглядывать во все щели мельницы, ни ночевать на ней. Перед сном отец сам укрывал ее дерюгой, что тоже пахла мукой, и рассказывал разные удивительные истории, сказки или вызванивал песню на черных цимбалах. В селе долго люди подсмеивались над мельником Павлом и тулупником Владимиром. Оба они побывали на войне, оба настрадались, намучились в Карпатах, а привезли из тех краев такое, что мало кому пришло бы в голову: Павел приехал с цимбалами, а Владимир — с сумкой камешков. Увидела мельничиха цимбалы — засмеялась, увидела кожухарша[20] разложенные камешки — заголосила, что для нее не нашлось лучшего подарка.
Цимбалы отец всегда держал на мельнице, и хорошо было осенними вечерами или в метель прислушаться к мягкому серебру музыки. За стенами крохотной комнатушки гудели мельничные камни; падая с лотков, в гневе клекотала и шумела вода, а здесь струны вызванивали о человеческой радости, печали или друг другу говорили о любви.
— Как славно вы играете, — однажды потянулась она руками к отцу со своей подушечки, набитой отрубями.
— Славно? — переспросил ее отец и заговорщически повел бровью, из которой сразу же посыпалась мука. — Это у меня цимбалы такие: сами играют.
— Как же они сами играют?
— Потому что имеют живую душу.
— Разве цимбалы имеют душу? — расширились глаза у девочки, и ей почему-то становится страшно.
— Если говорю, значит имеют. Думаешь, они из дерева сделаны?
— А из чего еще? — уже недоверчиво посматривает на почерневшее от ненастья и лет дерево: какая тайна, какое чудо кроется в нем?
— Цимбалы эти, Екатерина, сделаны из самой любви… Достались они мне от гуцульского рода, в котором родился самый лучший цимбалист. Когда-то, скажу тебе, на Гуцулыцине было три прославленных музыканта: Веселые Цимбалы, Печальная Скрипка и Нежная Свирель. Они побратимами ходили от села к селу, развеивали человеческую тоску, приносили радость в душу и бодрость в ноги. И до тех пор они всюду были вместе, пока не встретили в горах возле ручейка одну девушку, красивую, как рассветная заря. Увидели ее музыки — онемели и все трое влюбились в эту девушку. Такое бывает. Из-за этой любви побратимы перессорились между собой, затаили злобу друг на друга и даже играть перестали. А потом вместе пошли к красавице, чтобы выбрала она из них кого захочет, мужем. Девушка полюбила Веселые Цимбалы. Но утаила свою любовь и так сказала побратимам:
— Я люблю и Веселые Цимбалы, и Печальную Скрипку, и Нежную Свирель, а потому не могу выйти замуж за кого-то из вас. Если хотите, буду вашей сестрой… — после этого снова на земле еще лучше заиграли Веселые Цимбалы, Печальная Скрипка и Нежная Свирель, потому что в них вошло то, что является лучшим на свете, — любовь!
У ее отца чуть ли не все было самым лучшим: и друзья, и жена, и дочь, и их хата, не говоря уже о старенькой мельнице, равной которой не было в целом мире. Даже их коровенка тоже была самой лучшей, потому что хоть она и мало давала молока, зато у нее были роскошные рога, как корона…
Вспомнив это, и улыбнулась, и загрустила женщина: где теперь, в каких мирах ее отец? В сорок второму году его с несколькими подпольщиками схватили немцы, а мельницу облили керосином и подожгли. Уже охваченная кровавыми руками огня, она честно молола свой последний помол. Только обгоревшее колесо осталось от мельницы, потому что догадалось упасть в ту воду, с которой все время переругивалась мельница. А от отца остались одни воспоминания. Но, может, настанет тот час, когда в какой-то день отворятся двери и в землянку войдет ее седой, не от муки, а от страданий отец и, как в детстве, положит свою руку на ее косы и скажет, что она лучшая и дети у нее лучшие в мире.
С глазами полными слез и видений Екатерина подошла к детям, посмотрела на все головки, поправила постель и начала думать о завтрашнем дне: чем она накормит свою семью? И только теперь ощутила, какая она голодная. Хотя сегодня и дети, и Григорий вволю поели хлеба, но она себе не могла позволить такой роскоши: переделила свою пайку и оставила на утро для самого маленького.
Молодица подошла к миснику, достала из-под полумиска[21] кусок хлеба, отливающий искорками картофеля, взвесила в руке, вдохнула его благоухание и снова бережно накрыла полумиском, ее губы задрожали, на них шевельнулась боль, а мысли закружили вокруг того мешка с мукой, что привез сегодняшний гость. Разве же мог плохой человек приехать к ним? Помог кому-то Григорий, вот, спасибо, и благодарит. Она подошла к мешку, пригнулась, обхватила его обеими руками, и снова перед глазами закачалась старая мельница, заставленная мешками с зерном и деревянные короба с вымолом, возле которых весело трудились тяжелые крестьянские руки.
Екатерина развязала завязку, с детства знакомый дух пшеничной муки, запах далекой степи охватывает все ее естество. Молодица уже не знает, или убеждает, или обманывает себя, что вот-вот гость придет с Григорием ужинать. А что же подашь им на стол? Ту детскую пайку? Надо хоть какой-то корж испечь. Она ясно представляет, как неудобно почувствует себя Григорий, когда не будет чем угостить гостя. И уже без колебаний снимает с вешалки сито, а из мешка набирает полную миску муки. Легко в ее руках залопотало, затанцевало сито, а на стол белым дождиком потекла пшеничная мука, дыши — не надышишься ею. У женщины прояснилось лицо, хотя совесть иногда колола ее своими колючками: не рано ли начала она управляться возле чужого добра?
Вверху забухали чьи-то шаги.
«Идут!» — обрадовалась и перепугалась Екатерина, возле ее красиво очерченного рта шевельнулась нерешительность, а в глазах ожидание.
Скоро чьи-то руки неумело зашуршали по дверям, и в землянку, низко пригибаясь, вошел Поцилуйко. Он сразу же отвел взгляд от ее глаз, будто они высвечивали его мысли. И это настораживает женщину: истинные партизаны всегда ровно, с приятностью или любопытством, смотрели ей в глаза, невзирая что они были зелеными.
— Вы сами пришли? А Григорий где? — удивилась и насторожилась она.
— Там, — невыразительно махнул обмякшей рукой Поцилуйко и устремил взгляд куда-то за стены землянки. Следы обескураженности шевелятся на его нездоровом сером лице и на красных белках.
Екатерина еще больше настораживается, сразу несколько вопросов обеспокоено появляются в голове, и хоть она не может сдержать их, но уже больше ни о чем не расспрашивает гостя, а приглашает садиться за стол.
— Спасибо, Екатерина Павловна, я постою, — только теперь взглянул на нее, как на женщину. И хотя это совсем было несвоевременно, неуместно, но отметил про себя: «Хорошая, с какой-то тайной. К такой тянет мужчин. Недаром Заднепровский взял ее с целым выводком. Эх, если бы можно было вернуть прошлые года… сам бы закружил вокруг такой».
Потом перевел взгляд на развязанный мешок, и какое-то подобие улыбки выгнулось на его широковатых страдальческих губах. Дальше посмотрел на детей, в покрасневших глазах мелькнуло сочувствие. Он, будто укоряя кому-то, покачал головой.
И этот немой укор нехорошим предчувствиям охватил молодицу, она положила сито на стол.
— Что-то случилось? — шепотом спросила у незнакомого.
— Случилось, Екатерина Павловна, — наконец глянул ей в глаза. — Я таки присяду, потому что очень волнуюсь. Садитесь и вы, чтобы беда садилась, а не гналась за вами.
Они напряженно садятся друг против друга, их разделяет кучка муки, которая пахнет далекой степью и жизнью. Поцилуйко некоторое время прислушается, что делается наверху, косится на двери, а потом, подавляя боль в груди, обиду и остатки своей гордости, начинает медленно и убедительно говорить:
— Екатерина Павловна, вы жена Григория Стратоновича, мать аж пятерых детей. Вам всем надо иметь сякое-такое счастье. Но так вышло, верней, так оно получается, что вы можете навсегда потерять его, потому что счастье, говорят люди, перелетная птица.
Каменея, молодица подняла к груди сплетенные руки, вздохнула, ощущая, как от нее отходит Григорий, любовь. Болезненный туман налег ей на глаза и душу.
— Господи, что же случилось? — не спросила — крикнула всем телом. — Какая беда встала на дороге?
— Еще не встала, только стоит… Еще не поздно, — успокоил ее Поцилуйко, и надежда зашевелилась в его груди: он сразу понял, как женщина любит своего второго мужа. Такие молодицы за любовь все сделают, даже на преступление пойдут.
— Говорите-ка скорее!
— Конечно, скажу. Только слушайте — и не удивляйтесь, и не бойтесь, и не сердитесь, а взвесьте все. У каждого человека, Екатерина Павловна, есть такие уголки, в которые он и сам не хотел бы заглядывать. Но что сделано, то сделано, а человеку надо жить… В войну и я немного ошибся, не развернул подпольной работы, словом, не сориентировался… Отсюда и все беды… Не первый день оно наказывает мою душу. Страдает и моя семья, и дети мои. Теперь моя и их судьба в руках вашего Григория. Напишет он справочку о моей деятельности, черкнет пару слов — и все у меня изменится, не напишет — утопит меня. Ну, а когда на это пойдет, то, утопая, я потащу за собой и вашего Григория. А кто из нас потом выплывет — это тяжело сказать, потому что в Турции я не был и в окружение не попадал… Пока не поздно, помогите мне, а этим поможете и себе.
— Вы Поцилуйко! — с ужасом воскликнула женщина.
— Предположим, вы частично угадали, — настороженно встал Поцилуйко. — Вы-таки, можно сказать, действительно угадали, что это я. Но не обрушивайте на меня свой гнев, не проклинайте, а послушайте мое слово, ибо жизнь разные имеет узлы и сети, всякий негаданно может попасть в них.
— Какой вы негодяй! — порывисто встала Екатерина, и в ее глазах возникли гроздья искр. От злых румянцев она помолодела и стала красивее.
«Ведьма, злая волшебница!» — с негодованием и завистью вглядывается в разгоряченное лицо молодицы. Злоба исказила и сделала Поцилуйко более старым. О, как ему не хватает бывшей власти, чтобы хотя бы цыкнуть по-настоящему, поразить эту диковатую красоту, если нельзя надломить или обмануть ее.
— Ругаться не штука! — с угрозой взглянул на молодицу.
— И у тебя, грязного лешего, хватило совести приволочить сюда свое предательское мясо!? Сейчас же выметайся к черту! Сейчас же! — свирепствует молодица.
Поцилуйко опасливо отходит к двери, а в глазах его появляются решительность и бешенство.
— Я уйду, но запомните, вместо меня сюда придет горе!
— Хоть и смерть! Убирайся! — вид у женщины был таким грозным, что Поцилуйко, молча проклиная ее, обернулся и слепо, крестом, уперся в двери, не в состоянии найти щеколду. — Муку свою прихвати! — приказала женщина. — И доски забери! Может, тебе или какому-то негодяю на гроб пригодятся!
Последние слова аж скукожили Поцилуйко, но он обеими руками ухватился за узел мешка и, подталкивая его коленом, поперед себя выволок за двери. В землянку клубками тумана вкатился мороз. Екатерина было бросилась к порогу, а потом что-то вспомнила и начала рукой сгребать в миску просеянную муку. Сверху она высыпала розовый грис[22] и быстро выскочила на улицу, где Поцилуйко управлялся с досками.
— И это, мерзавец, забери! — протянула ему миску. — Может, кого-то другого купишь.
— Зачем оно мне, — люто огрызнулся Поцилуйко, отводя взгляд от молодицы.
Тогда она плеснула мукой ему на голову.
— Ешь, давись, чтоб тебя разорвало!
В темноте клубком тумана закружило ароматную пыльцу. Поцилуйко, задыхаясь в нем, закашлялся и замахал обеими руками. А Екатерина, сдерживая слезы, ровно пошла к землянке, оставляя за собой на земле белую порошу, как когда-то оставлял ее отец…
Еригорий Стратонович поздно вернулся домой: хотел, чтобы жена не заметила его терзаний. Он так вошел в землянку, что и Екатерина не проснулась. Спать не мог. Плохие мысли и предчувствия мучили и мучили уязвимое сердце, не загрубевшее и в тяжелых испытаниях. «Интеллигентик ты, и все, — ругал себя, но и от бранных слов не становилось легче. — Что же, Поцилуйко на все пойдет. Может, в самом деле надо было черкнуть ему несколько слов?.. Нет, не дождешься, вражина! Тогда сколько еще страданий выцедит из него этот уж? Но пусть даже страданиями, но ты должен остановить хоть какую-то частицу подлости: отступлю я, отступит кто-то от нее — и она лишаем поползет по живому».
На кровати зашевелилась жена, зашелестели ее косы, осыпаясь на пол. Он встал, чтобы поправить их, и пораженно застыл.
— Ива-аночка, — не его, живого, а убитого мужа позвала Екатерина.
Это сегодня было тяжелейшей каплей горечи. Проведя рукой по ресницам, он сел у стола и, как обиженное дитя, положил чубатую голову на стиснутые руки.
«Две косы, две слезы», — напевом отозвалось то, что было началом любви, отозвалось, чтобы отогнать их другие чувства…
Он вышел из землянки и на дворе увидел следы полозьев… «Ага, вот здесь стояли сани Поцилуйко. Но кто это рассыпал муку?» — Григорий Стратонович наклоняется к земле, впитывает благоухание рассыпанной муки и никак не может понять, что здесь произошло, когда его не было дома.
XIII
Конь ударил копытом, под ним ойкнула, хрустнула и будто из щедрой пригоршни брызнула в лицо ледяной гречкой предвесенняя земля.
— Ирод! — отплевываясь, нехорошо искривился Поцилуйко. Он рукавом протер наколотые землей щеки и снова почувствовал на них липкий, как паутины, след муки. Поцилуйко со всей силы огрел нагайкой занузданного коня и, когда тот, взметнувши гривой, вылетел на улицу, безжалостно рванул на себя вожжи. Воронец, болезненно выворачивая увеличившиеся глаза, выгнулся в дугу, а из удил закапала кровь.
— Я тебе, ирод, отобью и печенки, и селезенки! — Поцилуйко вытаращился на коня, считая его причиной всех неудач, потом еще раз сорвал с себя пальто и начал вытрушивать из него ту пыль, что так нежно пахла сказкой созревшей нивы, неусыпных, почерневших от ненастья мельниц и жизни. Но не это, а только свежую обиду напоминала ему пшеничная пыль, которая запорашивала, а не веселила его.
Очень давно, будто и не было их, прошли те времена, когда и Поцилуйко со своим хитроватым отцом радостно на худых лошаденках ездил на мельницу, с плотинки вглядывался в подсиненную заросшей водяной крапивой реку, где сновали жуки-водолюбы, или долго простаивал возле коша, подставляя все пальцы под резвые ручейки муки. Тогда они утешали, теплом ласкали руки, и ему хотелось быть мельником, которого так уважали все люди.
А потом, спустя годы, сбежавшие, как вода под мельничным колесом, как-то поздним вечером привезли Поцилуйко в просторную кладовую ту муку, над которой не старался ни за плугом, ни за косой, ни за своим служебным столом. На минуту она обожгла руки и кровь, будто мололась не на обычной воде, а на кипятке. Не гордым мельником, а напуганным тряпичником обмяк он возле сомнительного добра, слыша, как внутри что-то омерзительно трясется в сетях соблазна, противоречий и страха. Но жилось ему не в роскошах, и он принял подарок. Взамен ткнул в растопыренную с сучковатыми пальцами пятерню клочок бумаги, с которой оскорбленным глазом смотрела на мир обычная печать. Позднему гостю она была нужна больше хлеба насущного.
— Спасибо вам, большое спасибо. Вашу ласку запомню во веки веков, — зашелестел словами, бумажкой и одеждой дородный гость и нырнул в темноту, как жук-водолюб в воду.
Тот голос долго смущал Поцилуйко и тогда, когда приходили глупые мысли, и тогда, когда говорил перед людьми о честности, и за обедом, когда дармовой хлеб еще пек его пальцы и совесть. Но со временем спокойнее стал смотреть на то первое вечернее приключение, потому что за ним пошли другие, а в душе нашлось оправдание. Ведь не только он один грешит! В конце концов, не подрывал же он основы Советской власти и политики, не подделывал государственные знаки. А что в справках к истинным данным об имени, фамилии и месте рождения добавлялись некоторые неточности, так даже у писателей еще и не так бывает. Тогда о них пишут, что они имеют буйную фантазию или ошибаются. А будто не может ошибиться обычный секретарь райисполкома! Разве не приходится ему по велению некоторого начальства завышать данные по району? И это уже называется не ошибкой, а достижением! Правда, на таких фальшивых данных Поцилуйко однажды чуть не испекся, но, в конце концов, все обошлось: он пошил в дураки своих недругов, а сам конем красноречия выскочил на сухое. Когда его загнали на скользкое, сразу же признал свою вину и даже не подумал спихнуть ее на более широкие плечи, потому что они, если не теперь, так в четверг, могли взять его под защиту.
Он до сих пор помнит, как лихорадочно нащупывал лирическую нотку у председателя контрольной комиссии, как присматривался к его ордену Красного Знамени, к шраму на щеке, к поседевшим вискам. Такого каким-то хитрым ходом, предупредительностью или лестью не объедешь. Он собрал в свои глаза всю, какую только мог, правдивость и подобие ее, добавил к ним горечь раскаяния и всем этим взглянул на председателя контрольной комиссии, вздохнул, как на похоронах, и краешком глаза проследил, дошли ли по адресу это вздохи…
— Ваше слово, товарищ Поцилуйко, — вроде более ласково сказал председатель контрольной комиссии.
Он так встал, будто из него вынули середину.
— Я, товарищи, не буду оправдываться, защищаться: только на моей совести лежит моя тяжелая вина — больше никто не причастен к ней, — покосился на председателя райисполкома, и тот облегченно вздохнул. — Вы хотите знать, почему я это делал. Так пусть мой чистосердечный ответ не удивляет и не возмущает вас: буду резать правду-матушку в глаза. Мы, после всех своих разрух, злоключений, недостатков, так теперь хотим видеть у себя побольше достижений, что ради этого не поскупишься лишним словом или цифрой, чтобы людям лучше было хотя бы на душе. Вы читаете наших поэтов. Сколько у них кругом в стихах, например, насажено садов! А разве это преувеличение вредит народу? Наоборот, мобилизует его, вселяет радость. Вот и я так думал недозрелой головой: цифра тоже похожа на стихи; даже не совсем точная, она служит общему делу — кого-то веселит, кого-то подгоняет, а врагов бьет по голове. Если можете, простите, что не так понял силу и поэзию цифры.
— Хоть и путаник, но молодец! — удовлетворенно ударил кулаком по столу председатель контрольной комиссии, которого умилила эффектная исповедь Поцилуйко. — Не крючкотворство, а переживание за общественное я вижу теперь в цифрах Поцилуйко, пусть и дутые они, как пузыри. Он, как вы догадываетесь, своей фальшивой поэзией цифры не дошел до истинного понимания цифры, не понял, что такая статистика имеет не три, а все четыре измерения: она может бить по голове не только врагов, но и нас самих. Запомните это, товарищи и не играйтесь с цифрами. За ними стоит жизнь людей. А относительно Поцилуйко, то на первый раз, думаю, не надо его сурово наказывать.
После этого случая акции Поцилуйко, нежданно для него самого, пошли вверх, и он потихоньку начал расправляться со своими недругами. Красноречия и здесь ему хватало: оно сначала перемещало людей на низшие должности или изгоняло их в другие места. А в тридцать седьмом году погнало в тюрьмы и в ссылку.
Поцилуйко в районе начали бояться, мало кому хотелось встретиться с его холодным и властным взглядом, видеть его тонкие, злобой намоченные веки. У него увеличился круг знакомых и подхалимов, которые восхищались его выступлениями и решительностью. В глаза Поцилуйко все больше хвалили, а за глаза, тоже все больше, проклинали. Возрастал вес лукавого, правдоподобием подбитого слова Поцилуйко, росла и цена его справок. Правда, ими он не очень разбрасывался, но драл за них, как за родного отца. Из фальшивых бумаг он выстроил просторный, как клуб, каменный дом, обзавелся хозяйством и уже на свою зарплату смотрел как на мелочь, которая ни в какой мере не вознаграждает его заслуг и талантов, в которые он уверовал с годами, как и в то, что вокруг него сидят менее способные люди. Эта вера породила спесь и острую неприязнь к по-настоящему талантливым и знающим людям. Для них у него всегда находилось пренебрежительное определение: антиллигенция, то есть прослойка, что начинаются с «анти»; с ними надо ухо востро держать.
После тридцать седьмого года лабиринт ходов Поцилуйко стал сложнее, но житейская философия обеднела. Официально людей он делил по классовому происхождению или по анкете. А неофициально — на конных и пеших. К первым он тянулся, вторыми пренебрегал. Правда, масса еще нужна была для отчетов, но карьера его зависела от тех, что сидели на коне. И Поцилуйко примерялся к гривам этих коней, чтобы и самому оказаться в высоком седле.
Если бы не война, он выстроил бы себе не только каменный дом, но и трон честолюбца, но она, проклятущая, оторвала его от золотого шелка грив и бросила под те копыта, под которыми трескались и не такие головы. Чтобы спасти свою, он, оставленный на подпольную работу, с ужасом начал отрывать от себя все нити, которые связывали его с прошлой деятельностью и подпольем. Убегая от нечистой совести, он ночью сжег партбилет, бросил свой неправедностью построенный дом. После многодневных блужданий зашился в уютный хуторок к бледной вдовушке с короткими губами и коротким носом. Вокруг ее рта почти всегда дрожала прекрасная женская жалостинка, в глазах светилась тихая предосенняя печаль, и даже длинные густые ресницы держали в своем сплетении застарелую грусть.
— Сколько же вашего брата погибает на войне. Тьма-тьмущая! Кто спрячется, тот, может, и спасется, — по-бабьи прикладывая руку к лицу, не раз сокрушалась она, не порицала тех, кто испугался войны, ни словом не упрекнула Поцилуйко. И за то, что он сделался нахлебником. Но и жить не стала с ним. Она придерживалась мнения, что только истинная любовь украшает человека, а женолюбие — калечит его.
«Одна лирика и никакой биологии», — пренебрежительно подумал тогда о ней Поцилуйко.
Чтобы казаться старшим, он запустил бороду, усы и даже стал прихрамывать. А чтобы не захиреть от безделья, взялся за сапожное дело. И часто заплаты на сапогах напоминали ему следы его бывших печатей и бывшей власти. Когда на хутор заскакивали немцы или полиция, он заползал в тайник, но бывало, что не успевал уберечься, и тогда сидел на сапожном стульчике, как на электрическом стуле.
Как-то в пасмурный предосенний день в дом вскочила перепуганная хозяйка. Щеколда дверей вырвалась из ее дрожащей руки, а взгляд сказал ему все. Он хотел броситься к тайнику, но уже по двору с автоматами на животе осторожно шло несколько немцев. Не то вздох, не то стон вырвался у Поцилуйко, изгибаясь, он болезненно опустился на сапожный стул, впопыхах зажал губами несколько гвоздей и начал чинить чье-то рванье.
«Главное в таком случае — не растеряться, не растеряться», — уговаривал себя и приказывал себе.
Он кожей ощутил походку немцев, кожей посчитал, сколько их, а когда один из них на украинском языке приказал хозяйке что-то поставить на стол, вздрогнул кожей и всем телом: какая-то знакомая нотка послышалась ему в голосе непрошеного гостя. А тот уже допытывался у вдовы:
— Это кто чинит сапоги?
Поцилуйко тоже кожей ощутил, как в его спину ввинчиваются чужие глаза, но вгонял шило в кожу, будто в собственное тело.
— Мой ловик, — спокойно ответила Василина, и Поцилуйко немо благодарил ее, хотя сегодня же, какой-то час тому назад, ужалил вдову насмешкой, что ее верность едва ли нужна тому, кто лежит на кладбище.
— Ваш муж? — удивился и насторожился захватчик. — Вы правду говорите?
— Конечно.
— А может, это партизан? — спросил уже с угрозой.
— Что вы, господин офицер!? — совсем естественно засмеялась женщина. — Партизаны в лесах воюют, а не шкарбуны латают.
— Что-то ты, хозяйка, очень ревностно своего сапожника защищаешь, — посмеялся чужеземец. — Может, лучше скажешь, когда умер твой муж? Только не пробуй выкручиваться.
В руке Поцилуйко мелко задрожал и повис в воздухе молоток, а с ниточки губ, приплясывая, начали выпадать гвозди.
«Вот и все! Зачем она назвала меня своим мужем?» — наливался болью и вдруг увидел себя на заброшенном сельском кладбище, где лежал первый муж вдовы. Поцилуйко в ужасе уже оплакивал свою смерть не слезами, а потом, который густо выступил на лбу, наплывал на брови и пригибал веки и ресницы.
Но женщина не смутилась и так же спокойно ответила захватчику:
— Чего же мне, господин офицер, выкручиваться? Первый мой муж умер шесть лет тому… Ну, а мои года еще не те, чтобы вековать одной.
— Приняла себе приемыша? — подобрел и стал жирным голос неизвестного.
— Вынуждена была, — ответила игриво.
«И откуда все это взялось у нее? Вот тебе и тихая осенняя грусть». Поцилуйко увидел, как от него, пошатываясь, отдаляется кладбище.
— Говоришь, вынуждена была? — захохотал чужак, многозначительно похлопал хозяйку по плечам и подошел к сапожному столику: — Здравствуй, бородач!
— Дай бог здоровья.
Поцилуйко, чтобы ничего не подумали, выпустил молоток, встал с сапожного стула и скосил глаза: что-то до боли знакомое было и в голосе, и в округленной приглаженной фигуре этого небольшого мужичонки, на картузе которого укороченными вилами кособочился петлюровский трезубец.
— Ой папа родный! Какое стечение обстоятельств! Кого я только вижу! — аж потерял равновесие от неожиданности бандеровец. — Самого секретаря райисполкома товарища Поцилуйко! Кто бы только мог подумать и поверить?
Испуганно вскрикнула, прислонившись к печи, вдова, жуткий страх исполинским клещом впился в душу Поцилуйко, перед глазами снова поплыло кладбище. И Поцилуйко впервые пожалел, что не пошел в партизаны.
— Так вот где вы отсиживаетесь, товарищ Поцилуйко! — все больше удивлялись и морда, и фигура бандеровца, но он не спешил вынимать оружие.
— Вы ошибаетесь, господин офицер, — насилу оторвал где-то из живота не округлость слов, а какие-то пересохшие выжимки их, потому что ужас заглотнул весь дар его красноречия.
— Да неужели ошибаюсь? — сладкоречиво и насмешливо спросил бандеровец. Его мохнатые руки почему-то напомнили жука-водолюба. Какая-то паутинка старины соединяла образ этого насекомого с образом неизвестного.
— Эге, ошибаетесь, потому что я не Поцилуйко, а сроду Вакуленко.
— А может, вы не сапожник Вакуленко, а кузнец Вакула из гоголевской «Ночи перед Рождеством»? Может, вы из этих ошметков шьете себе царские золотые черевички? — уже аж качался от смеха бандеровец, и качался у него на боку пистолет. — Наш век — век переодевания, век такого театра, какой и не снился сыновьям древней Эллады. Так, господин, или сударь, или товарищ, или приемыш Поцилуйко? — Он прямо упивался своей властью и остротами, а Поцилуйко уже в полной безнадежности тупо повторял свое:
— Вы ошиблись. Я не Поцилуйко.
Лицо бандеровца изменилось, в темных впадинах осторожно расширились глаза, взялись пленками холода, на них задрожали неровные ледяные пятнышки.
— Может, и так, может, я ошибся, — что-то раздумывая, согласился он. — Вы, мужчина, документально докажете, что вы Вакуленко? Пашпортом или некоторой справочкой?
Поцилуйко через силу взглянул на бандеровца:
— Не докажу. Все мои документы погибли.
— И партбилет?
— Я никогда не был партийным! — наконец ужасом вырвался на волю голос Поцилуйко. Он ощущал, что на него вот-вот вместо глаз бандеровца посмотрят глаза оружия и глазницы смерти. Он так потеет, что его рубашка на спине берется горячими пятнами.
Но бандеровец не потянулся к своему «вальтеру», а весомо, отрубая каждое слово, произнес:
— Кажется, только теперь вы сказали правду: действительно, как я понимаю, вы никогда не были партийным, хотя и носили партбилет.
Если бы ему раньше эти слова бросил в глаза кто-то из советских людей, Поцилуйко потратил бы все свои силы, чтобы съесть, изуродовать его. А теперь, когда эту страшную правду сказал бандеровец, Поцилуйко был даже признателен ему: немцы, как он понял, и к коммунистам подходят не с одинаковой меркой — идейных не милуют, а путаников по-разному просеивают на своих решетах. Не в объятия смерти, а на какое-то из них и он может попасть. И начал отовсюду лихорадочно стягивать всю ту рухлядь, которая сейчас могла бы оградить его от идейности и большевистского фанатизма. Очевидно, об этом что-то знает и бандеровец. Тогда как-то можно будет объясниться с ним.
— А припоминаете, господин Поцилуйко… «Это уже хорошо, что он меня начал господином называть», — просыпается надежда, — …как мы когда-то познакомились с вами?
— Нет, не припоминаю, — напрягал память. По ней паутинкой выкручивалось давнее воспоминание, снова почему-то вспоминалась старая мельница, жуки-водолюбы, но за ними не видно было человека.
— Не длинную вы память имеете, — вытаращил заплесневелые, чуть голубоватые глаза на Поцилуйко.
«Что крылось за тем змеиным взглядом, какой приговор выносился ему?»
И Поцилуйко предупредительно приноравливал свой взгляд так, чтобы чем-то понравиться или хотя бы вызвать сочувствие у бандеровца и у немцев, которые уже, гогоча, расселись за столом, не обращая внимания на то, что делалось возле сапожного рванья.
— Садитесь, господин офицер, за стол. Зачем вам сдался мой штурпак[23]? Он прямо ошалел от страха. Вот вам и водочка из своего завода — ежевичная, может, и не употребляли такой, — Василина заиграла белозубой, с лукавинкой и все же с жалостинкой улыбкой, будто непринужденно защебетала и поставила на стол бутылку. — Люблю, когда в доме людно и водочно. Угощайтесь, пожалуйста.
— Хорошую любовницу имеете. С такой не пропадешь, — сладострастная улыбка поползла по толстому, как крестец, лицу бандеровца. — Не баба — огонь. К такой и я пристал бы приемным мужем. Вкус имеете, господин Поцилуйко, — смерил с головы до ног вдовушку и повернулся к Поцилуйко: — И до сих пор не припомните нашу первую встречу?
— Нет, господин офицер.
— А помните, как вы мне как-то вечером давали в амбаре справочку? Я за нее привез вам пшеничной муки и сказал, что во веки веков не забуду вашей ласки. Было такое?
— Было, — прошептал Поцилуйко.
Из тьмы лет, как из воды, вынырнул тот жук-водолюб, с которого началось его падение. Какая страшная и невероятная случайность! Но разве может тот, кто купил справку для жизни, забрать его жизнь?
— Вам повезло, господин Поцилуйко, крепко повезло. Несомненно, в рубашке вы родились! — ободрил его бандеровец. — Кто-то на моем месте сильно заработал бы за голову секретаря райисполкома, а я сохраню ее, потому что знаю, что к подполью и партизанскому движению вы пока что непричастны.
— Спасибо вам, большое спасибо, — так же поблагодарил и поклонился бандеровцу, как он когда-то благодарил и кланялся ему в амбаре. Жизнь снова возвращалась в тело Поцилуйко.
— А может, отсидев свое на хуторе, начнете сотрудничать с нами?
— Нет, господин офицер…
— От сапожничества и гречкосейства думаете есть хлеб? — смерил его долгим взглядом.
— Хоть бы и так, господин офицер, — угодливой улыбкой хочет умилить бандеровца.
— Как вас зовут-величают?
— Олейком Гавриловичем Крижаком. Это и в справочке вы писали. Только тогда я назывался не Олейком, а Александром и вместо глитаєнко[24] стал бедняцким сыном. Жизнь — это всегда театр! Только одним в этом театре выпадают истинные роли, а другие становятся пожизненными статистами. Не станьте им… Не соблазняет вас новая власть? Не хотите, как большевики говорят, перестраиваться? К этому разговору мы когда-то еще вернемся, а сейчас могу выдать бумажку, чтобы вас по ошибке не взяли за жабры. Глаз за глаз, ухо за ухо! — засмеялся и открыл разбухший планшет. Из него вынул бланк со штампом начальника украинской полиции, согнулся над столом и стоя черкнул на нем несколько слов и скрепил их хитроватой подписью, похожей на туловище общипанного крижака.
И вот еще не просохшая бумажка дрожит в руках Поцилуйко и укрепляет, и увеличивает клубок жизни в его душе. Фортуна снова улыбнулась Поцилуйко, но зачем было при этом иметь свидетеля? Разве нельзя было на это время выпихнуть вдову хоть в каморку или в сени? Теперь ее взгляд больше смущал Поцилуйко, чем змеиные глаза начальника полиции.
Когда гитлеровцы съели все, что было на столе съедобного, и когда ежевичная водка пятнами вышла на широкощеком лице Крижака, он властным жестом руки вызвал Поцилуйко на улицу и на пороге тихо зашептал:
— Не поймите мое великодушие и мой добрый юмор, как мою слабость. Я пока что не заставляю вас работать с нами, потому что с вас еще не слезла шкура труса. Но если на хуторе появятся партизаны или подпольщики, вы сразу же должны будете об этом сообщить меня. Иначе с вами будет разговаривать гестапо, а оно вытянет со шкуры ваше мясо. До свидания, господин Поцилуйко.
— До свидания, — вздрогнул от остекленевшего взгляда полицая.
Как в плохом сне, мимо него прошли немцы, и он, как побитый пес, съежившись, пошел в дом. Вдова даже не взглянула на него. Но ее лицо, вся фигура и даже одежда встопорщилась против сомнительного нахлебника. Потрескавшимися, шершавыми руками она открыла все форточки и двери, чтобы из хаты выветрился дух проклятых чужаков.
Этой ночью они долго не могли уснуть. Она проклинала себя, что приютила слизняка и дурака, который еще до войны стал выродком. А он мучился, что его позор каплями масла всплыл на воду, и ругал своего, как оказалось, довольно опасного свидетеля. «Тоже какую-то идейность имеет! В постели должны заканчиваться все бабские идеи. Но эту ведьму, наверно, не привлечет и царская кровать. И как в ней уживается любовь к мертвому и жестокосердие к живому! Ох, Василина, Василина, много ты можешь принести горя, если клубок войны покатится назад».
С этой ночи он начал бояться нашей победы. В фальшивой душе мололся страшный помол фальшивой справочки.
А спустя недели три в полночный час к дому вдовы прибились новые гости — два партизана. Голодные, в изодранной одежде, плохо вооруженные, они совсем не были похожи на грозных народных мстителей. Василина узнала одного из них, начала собирать ужин. Партизаны сели за стол, пригласили и хозяйку посидеть с ними, а Поцилуйко пронизывали и измеряли нехорошими взглядами. После ужина оба подошли к нему, и старший, с полумесяцем бородки, насмешливо спросил:
— Так вы, гражданин Поцилуйко, всю войну собираетесь как пень, трухнуть в этом закутке? Не тяжеловаты ли для вас вдовьи харчи и сапожные заработки? Или, может, к «новой власти» перекинетесь? Ну, скажите что-то красненькое, как вы на трибуне, бывало, щебетали.
Но красноречие и сейчас покинуло Поцилуйко. Он что-то невыразительное промямлил, а партизан изумленно пожал плечами.
— Кумедия, и все! Каким был когда-то оратором, а теперь мамулой[25] стал. Неужели у вас язык закостенел? Или, может, душу заклинило? Я еще давно грешил на вас, что в лихой час вы станете если не предателем, то пень-колодой. А наш командир не верит в это. Что прикажете ему передать?
— Кто же ваш командир?
— Мироненко.
— Мироненко!? Тот самый?.. — неожиданно вырвались глупые слова.
— Тот самый, которому вы когда-то объявили политическое недоверие. И все равно он еще верит в вас, хоть и залили вы ему сала за шкуру. Я тоже охотно выпил бы мировую с вами, но я не такой доверчивый, как мой командир. Так что ему сказать?
— Я еще подумаю над этим вопросом, — пробубнил Поцилуйко. — Это сложный вопрос.
— Даже очень сложный! — насмешливо сказал партизан. — И долго будете думать?
— Подождите хоть немного.
— Что же, подождем, пока кое-кто всю войну просидит на хуторе. Спасибо, Василина, за хлеб-соль. Бывай здорова.
Мстители даже не взглянули на Поцилуйко и тихо выскользнули из хаты.
Не кровь, а пламя бухнуло тогда в мозги Поцилуйко. Слова партизана выжимали из него все соки. Страх омерзительно расползся по всему телу и морозил его отравляющим холодом. Вот и зашился ты, человече, в тихий закуток, а попал зразу между трех огней. Что, если завтра немцы или полиция узнают о партизанах? Одно упоминание о гестапо бросило его в дрожь, и он чуть не застонал.
— Чего вас так лихорадит? — удивилась Василина. — Это же не фашисты, а свои люди приходили.
— Да, да, свои люди, — ответил будто спросонок, а хищная мысль долбила свое: «И за этих людей гестапо освежует тебя, как зайца… А если и не попадешь в лапищи гестапо, свой суд доберется до тебя. Чего только этот свидетель в юбке не скажет о нем?» — шевельнулась ненависть к вдове.
Бессонная ночь гадюкой шевелилась в его душе, жалила, заглатывала ее, а в голове гудели и скрипели проклятые мельничные жернова. И днем он ходил как неприкаянный, с ужасом присматриваясь и прислушиваясь к лесным дорогам. И спать лег в одежде и сапогах. А на рассвете, не глядя на Василину, сказал, что пойдет посоветоваться в район к одному человеку. Пора, дескать, за живое дело браться, не вечно же быть приемышем.
— И то правда, — сразу согласилась вдова. — Только будьте осторожны. Непременно справочку захватите с собой, что тот чертов баламут оставил. Как раз теперь будет полезной. Я вам что-то поесть приготовлю.
— Не надо.
— И не говорите такого, — вдова бросилась к амбару, а он тупо посмотрел на ее тугие ноги, которые розовели из-под широкой юбки, и вздохнул.
— Чего так вздыхаете? — из-за плеча глянула на него вдова, остановившись.
— Нелегко идти от вас, — потупил взор вниз.
— Благодарю на добром слове. А я, грешным делом, думала, что вы хуже. Теперь не удивительно растеряться, как вы растерялись. Но и это должно пройти, — она подошла к Поцилуйко, впервые доверчиво прижалась к нему, посмотрела в глаза и метнулась к амбару.
В это же утро с ее сумкой, с ее харчами Поцилуйко оказался у начальника украинской полиции и заявил, что Василина Вакуленко держит связь с партизанами.
— Хорошую имели любовницу, господин Поцилуйко! — так сказал о Василине, будто ее уже не было на свете. — За нее и вы бы могли потанцевать на веревке, — встал из-за стола Крижак. — Спасибо вам. Теперь, когда вы неофициально начали работать на нас, можете выбрать уже и официальную должность.
— Нет, — испуганно замахал руками и отшатнулся назад Поцилуйко.
— Как хотите. На принужденном коне не наработаешь, — снисходительно сказал Крижак. — Но рано или поздно придете к нам, потому что сегодня вы сожгли последний мост к тому берегу, — махнул рукой на стену позади себя.
Поцилуйко вздрогнул, его болезненное воображение нарисовало в темноте изуродованный мост в огне, а слова начальника холодными мурашками расползались по всему телу.
Ведь его, Поцилуйко, мысли не шли так далеко, как сейчас сказал начальник полиции. Думалось не о последнем мостике, не о двух берегах, не о двух мирах, а лишь об одной женщине в этом мире, которая может опозорить его. И он, трясясь за свой поступок, здесь, в кабинете начальника полиции, молча клялся, что больше никогда-никогда не заглянет сюда. Скорее бы только закончилась вся история с вдовой.
Широко без стука отворились двери, и на пороге кабинета остановился длиннорукий, придавленный сутулостью немец, тяжеловатая голова которого поражающе нависала над туловищем. В крупных морщинах его лица притаились тени и звериная жестокость. Но не фигура фашиста поразила Поцилуйко, даже не звериные черты лица, а страшный дух анатомички, мертвой крови, который шел от длиннорукого. Фашист бросил Крижаку несколько слов по-немецки, стрельнул глазами и вышел, а Поцилуйко чуть не вывернуло: ему до сих пор казалось, что перед ним стоял не человек или его подобие, а смерть в форме.
Крижак посмотрел на него, засмеялся:
— Стошнило?
— Стошнило. Кто это? — кивнул головой на двери.
— Дух нашего гестапо. Этот железом, огнем и пальцами, видели, какие они у него, выжмет из тела каждую каплю жизни. Смотрите, не попадитесь ему.
Рвота подступила к горлу, но Поцилуйко как-то победил себя, чтобы не рассердить начальство.
Вечером он вернулся на хутор, покружил вокруг дома вдовы и, будто не своими пальцами, постучал в окно. Скоро отворились двери, и из сеней повеяло духом осенней калины.
— Как ваши дела? — приветливо встретила его Василина.
— Будто ничего… Встретился с добрыми людьми, — ответил на удивление спокойно и, плотно поужинав, улегся спать.
Через два дня, когда Поцилуйко не было дома, полиция арестовала Василину. Хуторяне, как только он появился на хуторе, посоветовали ему подыскать другое укрытие, потому что черные вороны искали и его. Поцилуйко внимательно выслушал их и пошел к вдовьему жилью, чтобы взять что-то на дорогу. Не засвечивая лампу, он с кадки выбрал сало, с полки для посуды взял почерствевший хлеб и вышел в сени. И здесь привядшее благоухание калины на миг ошеломило его, потому что вспомнилось, как вдова приносила ягоды из лесу… Вот, несомненно, и все, что осталось от нее. Он в последний раз переступил порог остывшего дома, и враз навстречу ему из тьмы качнулась фигура Василины. Поцилуйко задрожал от ужаса, наволочка с харчами выскользнула из рук. Он спиной уперся в косяк, и одно слово стоном выхватилось из груди — ты!?
Но никто не ответил ему. Только спустя какую-то минуту Поцилуйко понял, что навстречу ему подалась не Василина, а ее распятое платье, которое срывал с металлических прищепок осенний ветер. А какие металлические крючки распинали теперь саму Василину?..
Несколько лет прошло с того страшного времени. Поцилуйко избавился от опасного свидетеля, но не избавился от тревоги: а что, если Василина осталась жива и не сегодня-завтра вернется из какого-нибудь лагеря смерти? Правда, она, наверное, ничего не знает о том, кто отдал ее в руки полиции. Но может случиться так, что однажды схватят и Александра Крижака. А тот, спасая свою шкуру, начнет топить всех, кого можно утопить.
Страшная мука, взятая за первую фальшивую справку, до сих пор молола его душу. Об этом и сейчас напоминал мешок, лежащий за плечами. Если бы знал человек, что судьба готовит ему через какой-то промежуток времени, тогда бы десятой дорогой обошел сомнительные дорожки и имел бы такую чистую печать, как сердце ребенка.
Конь крушит и крушит копытами замерзшие лужи, брызгает из них водой, а память Поцилуйко брызгает тем, что навеки хотелось бы стереть, выжечь из тела. Если бы на свете, были такие огни… И он снова клянет войну, будто она виновата во всем, и снова, как сети, плетет и разбрасывает мысли, как ему по-настоящему ухватиться за ветви жизни, как вписать в свою биографию если не подвиги, то хотя бы такие поступки, которые могут вынести его на гребень. Разве же его ум не понадобится еще в каком-то деле? Разве его бывшие заслуги хотя бы сяк-так не залатают его растерянности в войну? Разве же не он первым из шкуры лез, разрушая хутора и те дома, что отдалялись от сел. Мороки тогда было с дядьками, а особенно с тетками: то у них не было древесины на новую постройку, а старая еще бы постояла, то новое место не нравилось, то еще что-то выдумывали. Тогда он собственной персоной сел на трактор и поехал к самым ярым. У него недолгий был разговор с ними — бечевой заарканил сруб, крикнул трактористу: «готово», трактор заурчал, напрягся, а хата, как живая, тронулась за ним, скособочилась, ойкнула и развалилась на груду дров. И в этом селе он снес не одно жилище. Правда, тогда кляли его бабы, как проклятого, даже в глаза придурком называли, но план был выполнен с опережением графика. Дядька только припеки, так он и черта сделает, не то что другую хату.
Поцилуйко оглянулся, будто должен был встретиться с прошлым. Но вокруг увидел только наросты землянок и расстегнутое, кое-где огражденное жердями мелкодворье. Около конюшни показалась человеческая фигура. Когда конь поравнялся с нею, она властным движением остановила его.
— Стой! Кто едет?
— Это я, товарищ Дыбенко! — узнал голос деда Евмена и невольно поморщился.
— Кто «я»? — недоверчиво спросил старик.
Поцилуйко соскочил с саней, подошел к старику.
— Добрый вечер, дед Евмен! Разве не узнаете?
— А чего бы я должен тебя узнавать? Показывай документы.
— Какие документы? — возмутился Поцилуйко. — Что с вами, дед?
— Не то, что с вами! — отрезал конюх.
— Неужели не узнали меня, Поцилуйко?
— Поцилуйко? Это того, что до войны был аж секретарем райисполкома?
— Того самого, — не уловил в голосе старика презрения.
— И того самого, который войну пересидел на харчах вдов и сирот?
— Как мог, так и пересиживал, — рассердился Поцилуйко. — Какое вам дело до меня?
— Даже большое, — старик проворно ощупал карманы Поцилуйко. — Оружия, значит, нет?
— Зачем оно вам? — пришел в себя Поцилуйко.
— Чтобы ты часом не стрельнул в старика. Кто же тебя знает, в какого черта ты превратился за войну… Ну-ка, показывай документы.
Поцилуйко зло полез в карман.
— Брони вам хватит?
— Брони? За какие же такие заслуги достал ее?
— Это уже не вашего ума дело.
— Глядите, каким вельможным стал! А не великоват ли у тебя довесок ловкости к уму?
Старик в одну руку взял броню, а второй повел коня к конюшне.
— Куда же вы, дед?
— Документы проверять.
— Я вам посвечу.
— Мне не надо чужого света. Ты уже раз посветил мне.
— Когда же это было?
— Забыл?
— Не помню.
— Ой, врешь, обманщик. А кто мой дом в труху раструсил, не помнишь?
— На то была директива.
— Директива была советская, чтобы людей не обижать, а разрушал ты, как фашист, плюя на людей.
— Я вам таких слов во веки веков не забуду.
— И на меня донос напишешь? — оживился старик. — Напиши, напиши! Бумага все стерпит. А люди не захотят таких свиней терпеть, хотя они и успели броней запастись от войны. От людей никто не выдаст тебе брони.
— Недаром вас элементом называют.
— И таки называют. А на деле элементами выходят такие, как ты.
— Все своей мелкособственнической хаты не можете забыть?
— Вижу, ты как был дураком, так им и остался. Не хаты, а издевательства не могу забыть! Тогда же у меня ни деревца на поленнице, ни копейки за душой не было. Старуха моя только одного просила: проститься с хатой — хотела побелить ее, одеть насмерть, как одевают человека, потому что в том доме мы век прожили. А ты и этого не позволил. Так кто же тебя мог руководителем назначить?
— Нашлись такие, что не имели времени совещаться с вами.
— Теперь, надеюсь, будут совещаться. А мы уже, поломав хребет фашизму, поломаем и броню таких выскребков.
— Бге, так вам и дадут демократию в обе руки! Надейтесь…
На перепалку с конюшни вышли конюхи.
— Ребята, к нам Поцилуйко с броней заехал! — обратился к ним дед Евмен.
— С какой Броней? С новой женой или полюбовницей?
— Вот жеребец! — кто-то возмутился в темноте.
— Да нет, не с Броней, — потряс дед Евмен книжечкой, — ас этой бумажкой, которая освобождает Поцилуйко от войны, от армии, от людей, отгородила бы его гробовая доска.
— Где там, этот пройдоха из гроба вылезет, если учует добрую взятку, — деловито отозвался кто-то из конюхов.
— Слышишь, как народ голосует за тебя? Упал бы, сучий выродок, ты на колени и попросил бы, чтобы простили тебе разную твою мерзопакость. Или, слышишь, давай сделаем так: я рвану твою броню в клочья, а ты завтра рви на фронт?!
— Придите в себя, дед! — испуганно уцепился в руку старика.
— Не шарпайся, а то как шарпану! — старик оттолкнул Поцилуйко и обернулся к конюхам: — Что же нам, ребята, с ним сделать? Не выпускать же такую добычу из рук? Взятки он брал?
— Брал.
— Дома наши разрушал?
— Разрушал.
— От фронта и партизанщины убежал?
— Убег! — уже грозно отозвались конюхи.
— Так, может, придавим его здесь, чтобы не паскудил земли?
— А чего с ним церемониться, — конюхи кругом обступили Поцилуйко. Он испуганно осмотрелся кругом, но на лицах прочитал суровый приговор и начал икать.
— Люди добрые, смилуйтесь. Я еще исправлюсь… — надломилась вся его фигура.
В ответ грохнул неистовый хохот. Рубленные, калеченные, огнем паленные люди смеялись и насмехались над верзилой.
— Кому ты нужен, падаль? Кто будет паскудить руки об тебя? — возвратил ему броню дед Евмен. — Ну, а на коня тоже имеешь броню?
— Какая же может быть броня на скот?
— Тогда конька мы оставим у себя.
— Это же произвол, грабеж, дед! — наконец отошел от страха Поцилуйко. — Отдайте коня!
— Без документов никак не могу — теперь военное время.
— И этого я вам не забуду, — уже осмелел Поцилуйко. Он круто повернул от конюшни и трусцой побежал к Безбородько.
Антон Иванович уже сквозь сон услышал назойливый стук в оконное стекло. Зевая и чертыхаясь, он соскочил на пол, подошел к окну.
— Кто там?
— Это я, Антон Иванович, — услышал знакомый голос. «Поцилуйко», — узнал и снова тихо чертыхнулся Безбородько. Припрется же такое счастье ко двору. Он бы охотно прогнал сегодняшнего Поцилуйко, однако же неизвестно, кем он станет завтра. Руководить — это предусматривать.
Не одна ниточка связывала его раньше с Поцилуйко, может, свяжет и теперь, потому что Поцилуйко — это такой ловкач-доробкевич, что сегодня подо льдом тарахтит, а завтра, гляди, в каком-то министерстве вынырнет. Тогда он и вспомнит, как зря стоял под чужими окнами. Безбородько, ругаясь и раскидывая на все лады умом, быстро одевается, открывает двери и приветливо встречает гостя:
— Припозднились вы, Игнат Родионович. Уже первые петухи скоро будут петь.
— Что вам до петухов?! Они знают свою службу, а мы свою, — с достоинством отвечает гость и почтенно, как и до войны, входит в жилище.
В голове Безбородько появляется догадка, что дела у Поцилуйко, наверное, пошли к лучшему. Хотя кто раскусит его? Как раз, может, сегодня Поцилуйко погорел, как швед под Полтавой, а перед ним бодрится, забивает баки! Артист! Но что делать с ним? Или для видимости послушать его болтовню, да и будь здоров, или от всей души ставить на стол печенное и варенное?
— Далеко же ездили? — Безбородько осторожно прощупывает Поцилуйко.
— Отсюда не видно, — беззаботно отвечает тот. — Подворачивается новая работа, — говорит с доверием, но красноречиво оглядывается.
Безбородько сразу же становится ясно, что гостя надо угощать хлебом, и солью, и чем-то более стойким.
— Раздевайтесь, раздевайтесь, Игнат Родионович, а я сейчас свою старуху потревожу.
— Не надо, Антон Иванович. Поздний час, пусть отдыхает женщина.
— Ничего, ничего, разбужу, а то еще бока перележит, — чистосердечно смеется Безбородько, идет в другую комнату и тормошит за плечо жену.
— Кто там еще так поздно? — спросонок спрашивает Мария и сердито зевает.
— Поцилуйко.
— Это тот засядько, что…
— Прикуси язык, — сжимает жене плечо, — потому что он когда-то припомнит твоего засядька.
— Как это все надоело мне! — зевая, неохотно приподнимается с постели. — Чем же угощать вас?
— Бобрятиной, — фыркает Безбородько. — Что есть, то и давай. И мед неси, только не из горлового горшка, а с липовки, и налавник[26] на покутье[27] постели.
— Снова пошел Поцилуйко вверх? — оживилась Мария, разбирающаяся в местном начальстве только по тому, чем его надо было угощать.
Скоро гость и Безбородько сели за стол, а Мария крутилась по светлице, как мотылек возле света.
— За твое здоровье, Антон Иванович. — Поцилуйко высоко поднял первую рюмку. — Пусть тебе все будет из земли, из воды и росы.
— Спасибо, Игнат Родионович. Хорошо, что вы не забыли меня. На чем же сюда добирались?
— На рысаке. Оставил его в вашей конюшне, хотя и брюзжал дед Евмен.
— Тот на все брюзжит.
— Вреднючий дед. Документ захотел на коня. Ну, не бюрократ?.. А как твои дела?
— Хвалиться нечем, но живем не хуже некоторых соседей.
— Может и хуже стать, — с сочувствием на что-то намекнул, и Антон Иванович закрутился на стуле. — Понимаешь, о чем идет речь?
— Пока что не догадываюсь.
— Жаль, — многозначительно помолчал Поцилуйко.
— Так договаривайте, Игнат Родионович.
— Могу и досказать. Бойся Марка Бессмертного. Он подкапывается под тебя. Наверное, пронюхал, что ты когда-то на него заявочку носил.
Безбородько от этого намека свело судорогой:
— Неужели догадывается?
— Утверждать не буду, но… Ну, а в районе кое-кто тянет его руку… Уже раза два отстаивал тебя. Я хотя пока что и небольшой голос имею, но старые друзья, спасибо им, не сторонятся, — напускает на лицо таинственность.
— Благодарю, Игнат Родионович. Вы всегда поддерживали меня! Ваше здоровье! Чего же этот Марко подкапывается?
— В чье-то гнездо хочет сесть, а в чье — поразмысли. Председателем колхоза и на костылях можно быть, кони повезут. За твое процветание! Ох, и бешеную держишь ты веселуху. Мелясовка?
— Мелясовка.
— А знаешь, кто в селе обеими руками уцепился за Марка?
— Кто его знает.
— Ваш новый учитель.
— Заднепровский!? — изумленно воскликнул Безбородько. — Да что же он имеет против меня?
— Этого уж не знаю, — развел руками Поцилуйко. — Свиньяковатый он человек. С одной стороны, подъедает тебя, что не помогаешь школе, с другой — бьет тебя Бессмертным, а сам дружит с попом. Поговаривают, что у Заднепровского и заслуги не тот — липовые. В лесах был не командиром, а грибником — грибы собирал. Но орденов насобирал, как грибов. Присмотрись к нему, Антон Иванович, потому что очень он остроглазым стал к тебе.
— Надо будет присмотреться, — угрюмость залегла в глубоких глазницах Безбородько.
Поцилуйко видит, что брошенный им еж уже шевелится внутри Безбородько, и, чтобы не передать кутьи меда, переводит разговор на другое. Но хозяин сам поворачивает его на своих недругов, раздухариваясь, марает грязью Бессмертного и Заднепровского, который за всю войну даже ни разу не был ранен, да и потери в его отряде почему-то были наименьшими.
— Неужели наименьшими? — переспрашивает Поцилуйко.
— Честное слово! А почему? Потому что только сидел в лесах, перекапывал их разными ходами, как крот кротовище.
— Это же неплохо для обороны, — Поцилуйко уже даже начинает защищать Заднепровского, а сам надеется выловить из гнева хозяина какую-то пользу для себя.
— Для обороны, может, и неплохо, а вот наступал Заднепровский только в крайних случаях. Берег себя и своих сторонников. Надо копнуться в нем. В нашем отряде погибла почти половина партизан, а у Мироненко, считайте, никого в живых не осталось.
— Неужели никого? — пораженно переспросил Поцилуйко. Он вспомнил встречу с двумя партизанами в доме Василины Вакуленко, и мысли его закружили в неистовой круговерти. Безбородько не заметил, с каким любопытством ждал его рассказа Поцилуйко, и спокойно говорил дальше:
— Несчастному Мироненко больше всех не повезло. В болотах окружили его фашисты. Только четверо партизан спаслось тогда.
— А где же они теперь? — с замиранием спросил Поцилуйко.
— Все пошли воевать. Один из них отвоевался, а об остальных не знаю.
«И это небольшая беда. В крайнем случае, можно будет стать связным Мироненко… На это я имею право, потому что встречался с его людьми». Наконец за эти последние дни большая радость шевельнулась в мыслях Поцилуйко. Он поднял рюмку, выпил до дна и поцеловал Безбородько.
«Это истинный гость», — растроганно подумал тот…
XIV
Мотре никогда не нравилось, когда ее Евмен начинал умирать.
Хоть она и знала, что ее ершистый муж с доброго дива не станет собираться в дальнюю дорогу, но в эти часы начинала-таки думать о потустороннем мире, и всякая всячина тогда скомкано ворочалась в голове. Страх пронимал от самой мысли, что где-то в глубокой темноте есть ад с растопленной смолой и хвостатыми чертями, мерещился и рай, очень напоминающий святоивановское поле, огород и сад заодно… Как хорошо было бы в том раю снова, как на земле, встретиться с Евменом; там он уже совсем бы не ругался, не сердился, не покрикивал, а только кротко улыбался бы, как улыбаются на избирательных портретах разные кандидаты. В раю Евмен где-то правил бы конями пророка Ильи, а она полола бы свою небесную норму и все, прикладывая руку к глазам, любовалась бы подсвеченными солнцем гречками.
Ее кроткая крестьянская душа ничего так не любила, как цвет самых чистых и густых красок, а особенно розовый на ранних и поздних гречках, когда пчелы взбивают крыльями и сладкий утренний туман, и теплую волну, и тихий звон.
Что бы еще могло быть хорошего в том раю? Может быть, там следует посадить мак с ее огорода? Он, когда зацветает, такие пышные и славные имеет румянцы. И укропа, наверное, в раю нет, а разве можно осенью обойтись без его запаха?.. — думала сейчас Мотря, сидя в изголовье мужа, умирающего без термометра и врачей, но при рюмке и бешеном, из Германии завезенном аспирине. Старик самокритично относился к себе — знал, что его не очень ожидают в раю, поэтому для храбрости, чтобы не спасовать перед чертями, забавлялся свекольной веселухой, а закусывал аспирином, который потом вышибал из тела лошадиный дух.
Ежистая и даже теперь ничем не довольная дедова глава отдыхала на подушке, набитой сеном с голубыми кудрями чабреца. Над головой старика, на углу сундука, потрескивала самодельная восковая свеча, а в ногах лежал хороший плетеный кнут, — на том свете он тоже может понадобиться ему… — сейчас дедова душа качалась между небесными видениями и мирской суетой. Он еще молча продолжал ругаться с Безбородько и тосковал по коням, которых только поят, но не кормят. Это и уложило старика в постель: напоил сегодня утром коней, наклонился, почернел над пустыми яслями, почувствовал боль внутри и в голове и решил проститься с миром.
От рюмки и аспирина из тела аж капает тепло, но голос деда потрескивает, как лед:
— Мотря, ты же мне, когда умру, не ставь ни железного, ни каменного креста, потому что это господский, мертвый материал, на нем даже гриб-поганка не вырастет. И яблоньку посадишь мне, потому что птица поет и на кладбищенском дереве, — дает старик последние указания, а перед его глазами стоят кони: они склоняют удрученные головы к деду, тепло дышат на него и плачут по нему, как люди.
Жена, не раз слышавшая за свой век эти распоряжения, спокойно отвечает:
— И яблоньку посажу, конечно. Только — зимнюю, ранет какой или летнюю скороспелку?
— Наверное, лучше зимнюю, — по-хозяйски размышляет дед. — На ней яблоки дольше держатся.
— А разве тебе не все равно будет? — лишь движением плеча выказывает Мотря удивление.
— Это уж не твоего ума дело, не ты умираешь, — Евмен ощущает в движении жениного плеча неучтивость и начинает сердиться, но еще сдерживает себя. — Значит, посадишь зимнюю, прищепу возьмешь у кума Александра. — На миг над собой, над своей могилкой он видит деревце в первом цвету и невольно вздрагивает. Лучше бы ему сейчас возле коней управляться, а не лежать там, где и копыто лошадиное не отзовется звоном. Эх, если бы хоть кум Александр пришел, посветил снопом своей бороды, что-то о политике сказал бы, и то все легче отходила бы душа из тела.
— Да не забудь кнут положить в гроб. Слышишь? — недоверчиво смотрит на жену, что будто и послушная у него, но тоже умеет все повернуть своим порядком…
— Кнут? Зачем там сдалось такое счастье? — будто не о том свете, а о чем-то будничном говорит Мотря.
— А разве на том свете коней не будет? Там такая белая масть водится, что куда твое дело! — со знанием дела говорит Евмен, а сам возмущается тем, что Мотря, по всему видать, нисколько не верит, что он должен умереть.
— Если там будут кони, так будут и разные кнуты, — рассудительно, но и с недоверием отвечает жена. — Ты лучше скажи толком, что у тебя болит?
— Я ж тебе говорил: вся душа!
— В каком именно месте?
— Во всей середине, — старик обвел рукой несовершенную окружность вокруг своей души. Эта окружность, несомненно, ничегошеньки не сказала бы медицине, потому что внутрь попадали и сердце, и легкие, и печень, и даже часть присохшего живота.
Мотре после такого определения души осталось только спросить:
— Ты бы, Евмен, может, что-то закусил? А то ведь какая там польза от этого аспирина? Пот гонит, а питания не дает.
— Не тявкай о пище. Не хочу и не могу есть, — скривился и застонал мужчина.
— Но почему?
— Глупая ты баба…
— Я у тебя умной была только тогда, когда невестилась, — не сердясь, отвечает Мотря.
Этот ответ поражает старика. В самом деле, когда Мотря была незамужней девушкой, тогда он не обозвал ее ни одним нехорошим словом. Муж ощутил свою вину и спокойнее заговорил:
— Как же мне что-то на душу пойдет, когда кони с ног от ветра падают, окончательно пропадают? Думаешь ты головой или нет? Вот даже эта свеча, мне кажется, капает не воском, а плачет невинной слезой моего карего. Помнишь, как я спасал его?
— Помню твоего полукровку, — покосилась на свечу, и теперь ей тоже восковые капли напомнили слезы раненного коня. — И все равно есть что-то надо, потому что кто знает, чем там будут угощать. Может, на том свете и картофель не родит.
— Не может такого быть, потому что тогда вымрет крестьянин и в раю, и в аду. Эх, Мотря, Мотря, если бы я имел толстые тысячи или какое золото!
— И что бы ты тогда делал?
— Нашел бы что. Накупил бы сена ароматного и овса чистого, как слеза, привез бы коням и был бы кум королю! — на миг оживился и снова загрустил старик. — А есть же паразиты, что все имеют: и деньги, и золото, и зерно, а совести у них и на маково зернышко не уродило. И они, ироды, не умирают, еще и до коммунизма доживут! — старик сжал кулаки, а в его усах и бородке шевельнулась злость.
— Да всяких людей на свете хватает, — поняла Мотря намек, но не стала разжигать гнев мужа.
— Есть, пусть бы над ними кладбищенская трава поросла, — он еще болезненно о чем-то подумал, прогнал мысли о кресте, зимней яблоньке и попросил жену: — Слышишь, поставь возле меня мое хозяйство — глиняных коней. Хорошо, что хоть эти есть не просят.
Мотря подошла к полке для посуды, неподалеку от которой стоял гончарный круг, взяла несколько игрушечных коньков (их в свободный и веселый час всегда с улыбкой или лукавинкой лепил старик), поставила на стул и сама залюбовалась разными игрушками о четырех ногах.
Теперь уже не ад и не рай, а мир милой сказки и далекого детства возвращали к ней эти веселые, завзятые создания с хитрыми глазами. С такими лошадками не грех бы даже в городе ямарковать. Но разве скажешь об этом мужу? Он только при немцах, когда беда приневолила, позволил ей однажды распродать глиняный скот. И женщина, удивляясь, сбыла его за какой-то недолгий час. Чего так люди набросились тогда на глазурованные игрушки и чего так радовались им, когда узнавали в них черты своих заклятых врагов?
— Ей-бо, этот косолапый всем на Геббельса похож, — удивлялся кто-то из покупателей.
Она не видела никакого Геббельса в чуть ли не самой худшей, на ее усмотрение, фигурке. Хорошо, что и такую нечисть сбыла с рук. А через день люди передали, чтобы Мотря больше не выносила на торг свой товар, потому что нашелся каин, который и в глине усмотрел политику, и гитлеровцы уже разыскивают крамольного скульптора.
— Ну, так варит ли у них, у фашистов, глиняный горшок!? Они уже и меня в скульптуру вписали! — насмехался тогда над недоумками Евмен, который о скульпторах думал, как о каком-то недосягаемом чуде. Старику никогда и в голову не пришло, что из его коньков сквозь их веселые, хитрые глаза или злобные, у врагов одолженные черты просматривала не только любовь к игрушке, а истинный талант.
Мотря же на игрушки старика смотрела проще, как хозяйка, прожившая свой век без благосостояния и всегда страдавшая от характера мужа: с этих коньков Евмен, если бы захотел, мог бы есть более спокойный хлеб и не грызть своего сердца с Безбородько и его шатией. Вот она посмотрела на одну игрушку и, забыв, что старик собрался умирать, неуместно засмеялась:
— Муж, а этот вислоухий и пузатый, ну, совсем похож на того начальника, что приезжал к нам.
— На Киселя? — оживился Евмен, скосил глаза на игрушку, и не предсмертная, а довольная улыбка творца поползла от его губ до самого кончика бородки.
— Ну да, на него. Но почему он у тебя вышел таким неумехой?
— Потому что он и есть дурак.
Мотря всплеснула руками:
— Не многовато ли, муж, ты дураками разбрасываешься? Кисель же, говорят, в начальстве аж с тридцатого года.
— А глупый еще с рождения, — махнул Евмен рукой, будто снимал с должности Киселя.
Ответ хоть и понравился Мотре, но все равно она засомневалась, не передал ли старик, как он это умеет, кутье меда.
— Никто, Евмен, вижу, не угодит тебе и в судный день. Разве же может безмозглый так славно и долго, вплоть до сна, говорить с трибуны? За что-то же ему деньги платят и держат на посту.
— Потому что имеет таких сватов и братьев, которые не мозгами, а зубами держатся друг друга, и, пока гром не грянет, они свежего и головастого человека на место Киселя не пустят. А он же имеет в руках и власть, и ордера, и печати, а не спасает наших коней. Он же не к коням, а только к свиньям заглядывает, чтобы вывезти себе какое-то кувикало… Ой, не могу я больше жить на свете. Никак не могу, — ухватился обеими руками за сердце, и во всех его потом увлажненных морщинах зашевелилась боль. — Прозвали меня элементом и, значит, правильно прозвали.
— Бездушные глупцы, балагуры и невежды прозвали! — сразу же возмутилась, забеспокоилась и похолодела Мотря: она хорошо знала, как не любит этого похабного прозвища муж, а когда он начинает признавать его, то это уже пахнет бедой — может, и в самом деле, бедный, не приведи святая Дева, чует свою смерть? — Никакой ты не элемент, а справедливый, очень справедливый дед, только с характером.
— Элемент, Мотря, и все, — и дальше упрямо позорил себя старик. — Ведь что такое, если подумать наперед, кони? Красивый пережиток, как говорит кое-кто из бойких. Разная машинерия некоторое время спустя начисто заменит, выдавит их, и не станет тогда на свете ни гордых всадников, ни добрых скрипучих телег, ни легкокрылых саней. Исчезнут, как исчезли чумаки, и ездовые, и конюхи, и конокрады заодно. Все это я понимаю, а все равно умираю от того, что нынешние кони не имеют корма. Так разве найдешь еще такого балду?
Глаза старика заблестели влагой. Ему вдруг жалко стало не только коней, но и себя; увы, неизвестно как отшумели его года: не нашел он своей участи в жизни, и прошла она, как осенний слякотный час, с малой радостью и большим горем, не заслужил он ни спокойной старости, ни почета, ни хотя бы одной строки в райгазете, а ни за что, ни про что заслужил похабный «элемент». Все это сразу волнами набежало на мужчину, и он, несомненно, заплакал бы от досады, но плакать не любил, поэтому сжал кулаки и челюсти, принудил себя рассердиться снова же на свою жизнь, и на «элемент», и на Безбородько, и на похабную бесхозяйственность. Вот так, в волнах гнева, забывая о смерти, решительно опустил ноги с кровати, ощупью нашел растоптанные шкарбуны и, покрякивая, начал обуваться.
Мотря аж остолбенелая от такой перемены:
— Ты куда, Евмен?
— Ой, — скривился старик, — болит все… Пойду к Марку Бессмертному, поговорю с ним немного.
— Как же ты пойдешь, когда пот с тебя аж льется?
— А я его вытру, — покосился на свежее белое полотенце.
— И что ты за человек? Болезни же не вытрешь!
— Не цепляйся, жена, потому что у меня душа ненадолго размякла.
— О чем же ты хочешь говорить с Марком?
— О чем же еще, как не о лошадях. Надо же что-то думать или делать.
— Опять за рыбу деньги… Ты же умирать собрался, — напомнила жена.
— Приду от Марка, тогда уж, наверное, буду умирать. Пусть тебе веселее будет.
Он дунул на свечку, старательно, раз и второй раз, отер полотенцем пот, оделся и нетвердыми шагами, чтобы жена видела, как он ослабел, подался из влажного жилища, но сразу же вернулся.
— Ты чего? Что-то забыл?
Евмен отвел глаза от жены:
— Хочу подушку взять с собой.
— У Марка думаешь полежать или что? — недоверчиво удивилась жена.
— Да нет, — недовольно поморщился мужчина. — Высыплю из нее сено.
— Куда?
— Вот все тебе надо знать! Не на улицу же, а своему карему. Пусть хоть немного ему сеном запахнет! — хмуро бросил мужчина, сунул еще теплую подушку под руку и вяло вышел из землянки, чтобы не слышать глупых увещеваний и укоров.
Вот и кончилось умирание. Мотря молча провела мужа повеселевшими глазами, выглянула в окошко и засмеялась к дедовым сапогам, которые уже упорно мерили землю. Таки несерьезный у нее дед. И после этого вывода снова начала рассматривать лошадок, находить в них черты знакомых людей и удивляться, как оно так получается у ее несерьезного мужа.
В землянке Бессмертных дед Евмен застал только Федька, который, подогнув под себя ноги, громко читал какую-то книгу. Увидев деда, паренек вскочил со скамейки и почтительно замер. Это умилило старика: хоть и война, а таки учтивое дитя растет. Да и возле коней уже умеет ходить, а это тоже что-то значит. Он погладил малолетка по голове, прижал его к себе одной рукой.
— Читаешь, Федя, науку?
— Читаю, — едва заметно улыбнулся мальчонка.
— Ну читай и пей ее, как здоровье. Ничегонько живется у Марка Трофимовича?
— Очень хорошо, деда.
— Поесть дают?
— Дают, — покраснел паренек.
— Значит, расти будешь. А в школе единиц не пасешь?
— Пока что без них обходится, — даже с гордостью ответил Федько.
— Гляди, не хватай такое добро, потому что тогда сам кнутом буду выбивать его из тебя, — погрозил пальцем на мальчика. — Правда, ты смекалистый и должен учиться только на медаль. Заходи ко мне, я тебе какого-нибудь конька подарю, потому что больше не имею чего подарить — скапцанел[28] дед за воину.
— Спасибо.
— Э, Федя, да ты уже разжился на новые сапожки и не хвалишься! — удивился старик.
— Это Марко Трофимович сам пошил мне со своих довоенных сапог. Сам и колодки вырезал. Тоже приказывал, чтобы я единиц не хватал.
— Конечно, мы с ним заодно, хотя и не учились по классам. Не знаешь, где Марко Трофимович?
— Они пошли на конюшню.
— На конюшню? — заинтересовался, обрадовался старик и начал набивать трубку табаком. — Не знаешь зачем?
— Беспокойство погнало их. Здесь они долго с дядей Трымайводою и дедом Гордиенко и сяк, и так прикидывали, чтобы спасти коров и свиней. Надумались, что надо их, пока не появится подножный корм, раздать людям. А с лошадьми дело хуже. Кто их возьмет?
— Так оно, Федя, и выходит: кто больше всего и тяжелее всего работает, о том меньше всего заботятся, — загрустил старик, посасывая угасшую трубку. Через какую-то минуту его снова туманом охватили мысли, он забыл, что в землянке сидит Федько, и начал разговаривать сам с собой: — Ну что его на милость божью придумать? Еде бы им чего-то раздобыть? Хоть бери и на воровскую тропу пускайся!
После этих слов дед в самом деле начал размышлять, нельзя ли где-то украсть сена, вспомнил стожки своего кума Александра, потом удивился, как такое паскудство могло прийти в голову, и вслух возмутился:
— Черте что лезет в голову! Странно и все.
— О чем вы, деда? — с любопытством взглянул на него Федько. — Что-то не выходит?
— Да это такое, никому не нужное, — уклонился от ответа и вздохнул. — Приходи ко мне. — Он еще раз положил руку на голову мальчику, приласкал его, вспомнил своего сына и быстро вышел из землянки. Но и по дороге к нему снова подкралась воровская мысль, и старик хоть и прогонял ее, но и прислушался к ней, как к тайному советнику, что залез внутрь.
— А у кума Александра таки без надобности стоят стожки, — снова сказал вслух. — Что он, квасить или солить их будет?
— О чем вы, деда? — изумленно остановилась возле него Мавра Покритченко.
Старик встал посреди дороги, нехорошим взглядом измерил женщину и недовольно буркнул:
— О любви…
— О какой любви? — сначала удивилась, а потом пришла в ужас от страшной догадки вдова.
— О незаконной. Есть и такая для кое-кого.
Разгневанный, пошел к конюшне, а женщина наклонила голову, и в оттаявшую колею из ее диковатых глаз упали две слезинки.
XV
Более старые кони узнавали Марка, тянулись к нему, потихоньку ржали, бархатными губами касались его рук, плеч, одежды, и в их скорбных проголодавшихся глазах очевидно воскресало прошлое.
— Узнают, Марко, свое лошадиное счастье, когда у них сена было по колени, когда и овсом пахло в желобах, — отозвался с порога дед Евмен, который как раз оказался в конюшне.
— Таки не забыли меня, — растроганный, взволнованный и вместе с тем разгневанный Марко сутулился на костылях и не знал, чем утешить, чем порадовать четвероногих друзей, которые ждали от него и ласки, и еды. Он гладил, обнимал их свободной рукой, не стыдясь, прислонялся к ним лицом и с большой скорбью заглядывал в их глаза. Куда девалась из них доверчивая веселость, унылое всепрощение к человеку, который чаще необходимого хватается за кнут, горячий с кровью и вспышкой огонь или умная, совсем человеческая лукавинка?
Призрак, страшный призрак голода все это высосал из теплых лошадиных глаз, окружил их опухшими веками, и он же безобразными тенями висит над еще живыми костями, ожидая, когда они свалятся с ног. Выскочить бы из этой лошадиной каторги, заплакать, как плакалось в детстве, или хотя бы разнести в щепки костыли по Безбородько и его воровской кодле. В гневе и отчаянии Марко не замечает, как на его веки набегают слезы. Он сейчас бы попрыгал с конюшни, но сбоку снова к нему, беспокоясь, тянется высокий вислогубый конь. Надо и его утешить, хоть рукой.
— И Лорд узнает тебя, — подходит ближе старик, — помнишь его?
— Почему же не помню. Был огонь — не конь.
— На глазах сгорел огонь, только пепел держится под шкурой.
Конь воткнулся Марку в грудь, и мужчине припомнилась давняя пора щедрого разомлевшего лета, когда председатель колхоза забывает, что, кроме работы, на свете бывает и сон. Засыпать приходилось только в дороге, пока телега котилась от одного урочища к другому. Как-то в беззвездный вечер они выехали с дедом Евменом к дальнему полю, где люди круглые сутки работали возле молотилки. Собиралась гроза, продольные молнии разрывали, а поземные огнем отталкивали вверх почерневшее небо. Под их щедрые вспышки и грохот грома он спокойно заснул, а когда проснулся, услышал, как над ним шелестели колосья и дождь. Он еще спросонок не сообразил, что это дед Евмен на скорую руку сделал на телеге шалаш из снопов, еще не понимал, что делается вокруг, когда что-то темное и теплое приблизилось к нему. Он вздрогнул, подался назад и вдруг увидел, как возле крайних снопов на какой-то небольшой, округлой плоскости замерцал раз и второй раз измельчавший корень молнии. И тогда он понял, что это играет молния в лошадином глазу.
— Лорд, это ты? — обрадовался и засмеялся, совсем выходя из сна.
Напуганный громом, конь тихонько заржал, губами нашел тогда Маркову голову, прислонился к ней и снова заржал, а молния и дальше то и дело мерцала в его глазах…
Марко подходит к Лорду, который едва держится на ногах, гладит гриву и с болью смотрит на его большой глаз: неужели в нем навеки отыгрались вспышки молний?
— Дай своему баловню сенца, — дед Евмен из вспоротой наволочки извлекает жменю[29] сена и протягивает Бессмертному.
Марка поражает и дедова наволочка, и пучок сена с привядшим чабрецом, который чем-то напоминает вспышки молнии в лошадином глазу. Он, дрожа, с руки скармливает сено и быстро уходит с конюшни, хотя к нему из уголка еще отзывается доверчивомучительное ржание.
— Подожди, Марко, — настигает его у порога дед Евмен со своей подушкой в руках.
— Сенцо же осталось…
Эти слова, и наволочка, дрожащая в стариковских руках, и бескорыстная любовь деда Евмена, и его сочувствие голодной скотине окончательно режут сердце мужчине.
— Не могу, деда, сил не хватает смотреть на эти мучения, — и у Марка сжимается кулак.
— И я уже не могу. А сколько вертопрахов крутится возле колхоза, что-то глубокомысленно напевают, в блокноты записывают, где-то докладывают — и ничего… В сердце бы им все их записи врезать, чтобы каждая буква к живому делу влекла. Вот за какую я сердечную грамоту! Тогда кони будут с сеном, люди с хлебом, а ученые не с блокнотами, а с головами на вязах.
— Это вы, деда, все разоряетесь? Уже ученые чем-то не угодили вам? — проснулся за перегородкой Максим Полатайко и, зевая, округлил широкие губы.
— А ты, мошенник, все спишь? — возмутился старик.
— Кто там спит, когда на душе такие терзания, — удивился Максим и сразу же нырнул в сон с полной уверенностью, что в такое время никто из конюхов не может спать.
— Украл же сегодня этот сорванец где-то бобу для коней, а сам спит, как праведник, — старик даже с сочувствием кивнул головой на перегородку. — Да я уж и сам думаю, где бы что-то можно было выхватить для коней.
Что мог ответить на это Марко? С болью взглянул на деда Евмена, пожал ему руку и подыбал с тяжелыми мыслями на дорогу.
— Ты куда, Марко?
— К добрым людям.
— Просить помощи?
— Просить.
— И далеко собираешься? — какая-то надежда проснулась в голосе старика.
— Поеду колядовать к своим друзьям. Может, чем-то разживусь у них.
— Так я тебя на конюшенных лошадях повезу, они еще держатся на ногах. Куда же тебе с костылями?
— Спасибо, деда, но не хочу, чтобы вас потом Безбородько распекал. Вы уж здесь смотрите, потому что я, наверное, задержусь на день-два.
— Удачи тебе, Марко, — старик снял шапку и помахал ею вслед Бессмертному, который будто уменьшился после посещения конюшни.
Сегодня, как на зло, долго молчала дорога, только потемневшие оттаявшие липы изредка отзывались простуженными голосами грачей. Серенькое небо с невыразительными лоскутами туч иногда посматривало на землю измельчавшим глазом солнца и не знало, что ему делать: или сеять туман, или трясти крупу?
С вязками хвороста из лесу брели уставшие женщины, плечи их были согнуты, глаза устремлены в землю. И эта картина болью сдавила сердце Марка: она снова яснее всяких отчетов говорила, что село не имеет хозяина. Женщины подошли к Марку, поздоровались, выпрямились, но не сняли вязок с плеч, и теперь они были похожи на кучку кладбищенских обтрепанных крестов. Марку стало жутко от этого зрелища. Тяжелый свой крест молча несли женщины в войну. Но зачем его нести тогда, когда нет в этом нужды?
— Жены Безбородько, Мамуры и Шавулы тоже так стараются ради топлива? — спросил, изменяясь в лице.
— Где там, они живут на господских дровах и харчах.
— Таким привозят и из амбара, и из лесу.
— Это, Марко, еще не беда, мы все претерпим, — отозвалась вдова София Кушниренко, у которой до сих пор большие глаза светились детской голубизной. — Только бы наши сыны вернулись.
— Да у тебя же, София, нет сынов, — кто-то поправил вдову.
— Так у людей есть, — сказала с такой материнской тоской, что Марко аж задрожал.
— Ты, сынок, как-то выздоравливай скорее и забирай в свои руки наше хозяйство, осиротело оно теперь, совсем осиротело, — вдова ближе подошла к Бессмертному и голубой, детской печалью смотрела ему в глаза.
Как раз на дороге показался старенький грузовик. Женщины сошли на обочину, а Марко поднял вверх костыль. Машина заскрипела всем скелетом, остановилась, из кабины выглянуло угловатенькое лицо Галины Кушниренко, младшей Софьиной дочери. И хоть улыбка дрожала на шероховатых с милой окантовкой губах девушки, но в ее необыкновенных, дымчато-сизых глазах, затененных берегами густых ресниц, лежит грусть.
— Добрый день, Марко Трофимович. Вам далеко?
— Прямо да прямо, на самый край света.
— На самый край нельзя — война остановит.
— А может, пока доедем, она и закончится.
— Тогда поехали, хоть и нагорит мне от Безбородько, — снова улыбнулась окантованными устами, а в глазах, как и раньше, стояла печаль.
Лицо Галины, если рассматривать каждую его часть, не было красивым: и скулы, и широковатые щеки, и обычный, не утонченной работы нос — казались будничными. Но в эти будни таким праздником входило надбровье и размашистые, беспокойные брови, непривычная сизость глаз и пухлая доверчивая свежесть губ, что каждому, кто смотрел на девушку, сразу становилось хорошо на душе.
Галина выскочила из кабины, дружески поздоровалась с женщинами и сказала матери, чтобы та бросила хворост в машину.
— Обойдется. Как люди, так и я, — ответила вдова.
— Ну как себе хотите, — немного обижено сказала дочь и помогла Марку сесть в кабину. Машина чмыхнула, задрожала и, минуя мешанину оголенных печей и наростов землянок, тронулась в серенькую даль.
— Так на край света? — изучающее взглянула на Марка.
— Нет, дорогая девушка, значительно ближе… На край света поедешь со своей любовью.
— Если она будет, — просто сказа Галина, сжимая небольшими огрубевшими руками руль.
— Непременно будет! — горячо вырвалось у Марка. — А как же иначе!
У девушки сузились ресницы:
— Может быть и иначе: много нашего брата останется девушками на всю жизнь, потому что война разбрасывает возлюбленных и раскалывает любовь — так же просто ответила, ее печальное благоразумие удивило и даже неприятно поразило Марка. Откуда это взялось у девушки? Неужели за войну притупились ее чувства?
— А у тебя есть возлюбленный? — неожиданно вырвалось, хотя и знал, что не надо говорить об этом.
— Нет и не было, — вздохнула Галина.
— Даже не было?
— Может, и был, но я ничего не понимала тогда, поэтому и что такое любовь не знаю, только от других слышу, — недоверчиво сказала девушка и совсем откровенно, как, возможно, и матери не говорила, рассказала о своем первом, юном волнении: — Перед самой войной на меня начал засматриваться Василий Денисенко. Помните его?
— Помню. Чернявый такой, с чубом…
— Чернявый, коренастый, как дубок, — легла печаль возле девичьих губ. — Где бы я ни появилась, сразу его взгляд ощущаю. И себе украдкой засматривалась на него… И так тогда ожидалось чего-то доброго, непривычного. И в снах видела, как он смотрел на меня. А потом пришлая война. Ни Василий мне, ни я ему даже слова не сказали. Когда он прощался с селом, то тоже больше всего смотрел на меня, потом подошел, протянул руку:
— Прощай, Галинка, — и улыбнулся.
— Прощай, Василий, — чуть ли не заплакала я, насматриваясь на него. И вот Василия уже нет. А взгляд его не могу забыть до сих пор. Так это, Марко Трофимович, была любовь или что-то другое?
— Наверное, любовь, — с жалостью и удивлением глянул на полное доверия и грусти лицо девушки, которая теперь уже казалась ему красавицей…
За лесом, в долине, будто совсем из иного мира появилось с беленькими и голубыми хатками село. Над округлым, как полумисок, прудом стояли длинные опрятные колхозные здания, на льду белыми островами сбились гуси, а возле колодезных желобов теснились исправные, не оголодавшие кони.
«Сразу видно домовитую руку Броварника», — подумал Марко.
— Здесь и остановись, девушка! Приехали.
— Это ваш край света?
— Нет, только начало! — он поблагодарил Галину, свернул с дороги на мягкую тропинку и попрыгал к колхозному двору.
Гуси, увидев незнакомого мужчину, загелготали, зашипели, а кони встретили его мягким фиалковым сиянием глаз. Правда, в некоторых глазах он видел и тени тревоги. Это были те кони, которые носили шрамы и вмятины войны. Мужчина на костылях снова им напомнил их увечья.
— Вы кого-то ищете? — подошел к Марку немолодой конюх, раскачивая длинные и плотные закорючки усов.
— Ищу лошадиное счастье, если оно еще не перевелось, — поздоровался Марко. — Любуюсь вашим скотом.
— Есть чем любоваться, — в усах старика зашевелилось пренебрежение. — Это уже одни переборки и выскребки. Вот до войны у нас были кони! Змеи! Им даже я боялся показывать кнут, чтобы на небо не вынесли. От них только воспоминание, и медаль осталась, — нахмурился старик. — Вы же будете из ходоков или попрошаек?
— Нет, — растерялся Марк. — А что?
— Да немало приезжает теперь разных просителей в наш колхоз: тем одолжи того, другим — другого, а кое-кому просто положи что-то на телегу или в машину.
— И кладете?
Конюх осмотрелся, поправил закорючины усов.
— И это бывает. С некоторым начальством надо ладить, потому что оно если не найдет недостатков, так может что-то приписать, если не по хозяйству, то по идеям… Изгадились, превратились в босяков некоторые за войну, сами не очень хотят переживать трудности, а нас агитируют. Вы к Броварнику?
— К нему.
— Знаете его?
— Знаю.
— И как он вам? — спросил заинтересованно.
— Хозяин.
— Конечно, конечно, — обрадовался конюх. — Этот не председательствует, а хозяйничает. Такой ни человека, ни землю не обманет. Сейчас в правлении его не ищите — он домой с одним гостем пошел. Как раз попадете на обед. Дом Данила Васильевича найдете или показать?
— Найду.
Марко хорошо знал, где стояла старая, похожая на бабушку, хата Броварника, в окна которой целое лето заглядывали подсолнечники, мальвы и ипомеи. Данило Васильевич принадлежал к тем широким натурам, которые, взявшись за общественную работу, никого не забывают, кроме себя. Его, умного и начитанного правдолюбца, совсем без той хитринки, которую так часто приписывают украинцу, село чуть ли не носило на руках. Хорошо зная и глубины, и мелкие места земледельца, он к каждому имел свой подход и слово, им человека никогда не пугал, не грозился, и кулаками тоже не бил по столу, потому что и дерево не терпит человеческой глупости. Бригадиров он подбирал таких, что имели любовь к людям и земле, звеньевых — наиболее певучих, а сторожей — наиболее ленивых.
— Что такое на данном этапе наш крестьянин? — любил иногда за рюмкой пофилософствовать Броварник. — Это — подсолнечник! Голова его тянется к солнцу, а корни — в землю. И что ему надо для полного цветения и счастья? Побольше солнца и поменьше воробьев, которые выпивают зерна. Сейчас этот подсолнечник еще опечален, ведь чего только не берут из него и кто ему только не наклоняет голову. Но придет время, и истинный хозяин прогонит воробьев и разных тех, что наперед прицелились к каждому зернышку, прогонит дармоедов и рвачей — и сметет все туманные недоразумения и бюрократические инстанции между подсолнечником и солнцем.
За эту философию опечаленного подсолнечника и приложения к ней не раз перепадало Броварнику: нашлись воробьи и на его голову, полезли и в его анкеты. Но Броварник не растерялся и на пленуме райкома сказал, что его анкета имеет восемь пунктов — восемь полей и каждое из них пока что дает по району высший урожай. И это только потому, что он верит людям, а они ему. Он старается заглянуть им в душу, а не запустить когти в печень. И, повернувшись к критиканам, так закончил свое выступление:
— Так будут еще вопросы со стороны печеночных? Или закончим демагогию?
Весь пленум грохнул аплодисментами и хохотом, а после пленума к Броварнику навсегда прилипло прозвище «Подсолнечник», хоть он и носил на голове уже не золото кудрей, а зимнюю изморозь…
Во дворе Данила Васильевича стоял мятый и тертый, видно, собранный из нескольких поломанных машин «виллис», а на его бампере примостился красавец петух; он одним глазом разнежено, с пренебрежением посматривал на стайку своих неревнивых любовниц.
Марко, как с человеком, здоровается со старой хатой, еще больше вросшей в землю, возле нее караулом стояли посохшие, с не открученными головами подсолнечники и унизанные пуговицами семян высоченные мальвы, а на хате красовалось гнездо аиста. Все здесь было таким, как и когда-то, кроме землянистой немецкой каски, из которой куры пилы воду.
Марко, как росу, отряхивает воспоминания довоенных лет и с волнением идет к дверям: как его встретит Подсолнечник? Очень ли он изменился за войну, как откликнется на его просьбу. Скрипят-мурлычут двери, на полуслове обрывают зажигательный спор в доме хозяина. Марко сразу чувствует на себе взгляды трех людей, сидящих за обеденным столом, и с приятностью вдыхает настой ржи: на покутье красуется роскошный сноп, а его колосья нависают над головами Броварника и дородного гостя. Неизвестный повернулся, поднял руку к голове, ударил ею по колоску и поморщился.
— Марко, это ты? — вскрикнул Броварник, порывисто встал из-за стола и застыл в удивлении.
— С деревяшками узнали меня? — Марко стукнул костылями об пол.
Загремел стол, что-то звякнуло, перекинулось на нем, отлетает в сторону стул, и к Марку, сияя сединой и улыбкой, приближается седоголовый Подсолнечник. Лицо его за эти годы подсохло, потемнело, в серо-голубых глазах сквозь удивление и радость пробивается грусть — таки, видно, горе не обошло человека.
— Живой, значит! — Данило Васильевич, присматривается, кладет большие руки на плечи Марка, потом крепко целует его. — И не забыл старика? Молодчина! Спасибо, спасибо, парень! Жена, посмотри, это же Марко, — поворачивает мужчину. — Поставь еще одну рюмку на стол.
— Сейчас. Здравствуй, Марко, здравствуй, сынок. — Тетка Соломия, будто выходя со сна, вытирает руки и потихоньку подходит к Марку, а сквозь прореженную оправу ее коротких ресниц начинает просачиваться влага. И мужчина уже знает, что единственный сын больше никогда не переступит порог родительского дома, не скажет «мама», не поцелует ее. И Марко сейчас целует ее, как сыны целуют матерей. Тетка Соломия припала головой к его шинели, потом выпрямилась, тяжело вздохнула. Огонь от печи обагрил ее обвислые слезы: — Слава богу, что хоть ты вернулся, — уголком платка вытирает глаза. — Садись, сынок, где мой Дмитрий сидел.
— Не надо, старая, не надо, — тихо успокаивает ее Данило Васильевич.
Марко подходит к столу, за которым безмолвно и напряженно сидит разрумяненный мужичонка лет сорока пяти с головой льва, подстриженной под бобрик. Глаза у него административные, как пропуска, а одежда того полувоенного фасона, который может ввести в обман лишь сугубо гражданских женщин.
— Знакомься, Марко, с моим гостем. Это Андрон Потапович Кисель, — хозяин считает, что этим он сказал все, но Марку фамилия Киселя пока что ничего не говорит.
— Очень приятно, — с достоинством привстает гость и через стол протягивает холеную, пухленькую руку, но на его лице разливается не приятность, а плохо скрытая кисловатость. Потом он вопросительно посматривает на Данила Васильевича, тот одним движением надбровья говорит, что с таким мужчиной и рюмку можно выпить. Кисель успокаивается, с его зрачков соскакивают настороженные пропуска, и ямка на вареникоподобном подбородке становится мягче.
Марко перехватывает этот молчаливый разговор, присматривается к нездоровому жиру Киселя, который сузил его белкастые глаза, но расширил живот и противоположную ему часть тела. Полувоенное галифе Киселя честно выдерживало свою нагрузку, хотя и не могло похвастаться совершенством форм. Но не эти формы, а лицо с печатью грубой властности и заносчивости подсказывают Марку, что Андрон Потапович не принадлежит к тем, которые любят приносить людям радость, покой или хотя бы одаривать их обычной улыбкой. «Но первое впечатление часто бывает ошибочным, — думает Марко. — Увидим, как оно дальше будет».
— Садись, Марко, пока водка не скисла, — Броварник приглашает гостя к столу и, когда тот усаживается на скрипучем стуле, высоко поднимает рюмку: — За тебя, воин, за твое здоровье, за нашу печь, в которой сгорят твои костыли.
— Хорошо сказал. Что хорошо, то хорошо, — похвалил Кисель Броварника, жмурясь, нацелился рюмкой на Бессмертного и с достоинством выпил водку.
— А перед этим я не так хорошо говорил? — обернулся к гостю Броварник, и насмешка задрожала в морщинах его век.
— Не говорил, а болтал черте что, — у Киселя скривились губы, подбородок и ямка на нем.
— А мне показалось, что ты, Андрон Потапович, попал на скользкое, а признаться не хотел, — засмеялся Броварник.
— И снова мелешь черте что. Хороший ты хозяин, а мыслитель никудышный, не перерос тех дядек, которые чуть ли не каждый свободный час точат лясы, даже, словно министры, лезут в политику и международную жизнь. Они, видишь ли, без высокой политики никак не могут обойтись.
— Жаль, что ты, Андрон Потапович, среди таких дядек не увидел истинных мыслителей. Иногда в их слове больше мысли, чем у другого во всей голове.
— Вот опять за рыбу деньги, — Кисель скривил пренебрежительную ухмылочку. — Темный ты, неисправимый идеалист, Данило Васильевич. В своих дедах ты видишь крестьянских пророков, в дядьках — мыслителей, а сам, как видится, как понимается со стороны, мечтаешь построить крестьянский рай. А мне плевать на него! — высоко махнул рукой и ударил ею несколько ржаных колосков.
— Это можно, — сразу стали пасмурней морщины на высоком лбу Броварника.
— Что можно? — изумленно спросил Кисель, не уловив неприязни в голосе Броварника.
— Да наплевать на все, — исподволь, будто с ленцой, ответил Броварник, а Кисель встрепенулся, как воробей после купания.
— Уже уцепился за слово?
— Нет, за стиль в руководстве, за стиль!
— Вот, куда достал… Это уж не твоя епархия и не твоя печаль, — сразу хочет ошеломить, но не ошеломляет Броварника.
— Да, это не моя епархия, но печаль моя, даже больше, чем кто-то думает или догадывается. А наплевать — это не руководить. Наплевать можно и в колодец, из которого воду берешь, можно и с людьми расплеваться, можно и на ржаной колосок, и на землю под ним плюнуть, но землю не обманешь: на плевок она и ответит плевком. Вот так я думаю, Андрон Потапович, и что-то, вижу, не нравится тебе моя речь. Ну, а подслащивать ее, извини, совесть не велит. Это уж твои подхалимы умеют делать.
Кисель трибунно махнул кулаком:
— Хитришь, Данило Васильевич, ох и хитришь, защищая со всех сторон своего дядьку.
— Кусать его легче, но кому это нужно?
— И это нужно! Хитрость, индивидуализм и разные пережитки надо выбивать из дядьки. Мы рано или поздно заставим его работать на социализм.
— Будто он сейчас на капитализм работает? — потемнело лицо Броварника, нахмурился и Марко.
— Нет, на социализм, но отдает ему только частицу, а не всю работу. Из дядьки добрым молотом надо выбивать разные пережитки, разные садочки, и ставочки, и огороды.
— А может, не молотом, а благосостоянием! — вмешался Марко, напряженно присматриваясь к раскрасневшемуся лицу Киселя. — Молотом легче бить по голове, чем думать ею.
У Киселя сначала обиженно вздрогнули две отвисшие складки, идущие от губ, потом гневно подскочили вверх коротковатые неровные брови. Он вперил свой грозный взгляд в Марка, и тот неприятно удивился: весь вид Киселя говорил, что он сразу возненавидел его, возненавидел, как врага. И Марко понял, что мстительная натура Киселя не простит этих слов, всюду будет вредить ему, если где-то хоть краешком сойдутся их дороги.
«Значит, мелкий ты человек», — выдержал взгляд Киселя, а тот уже строптиво шевельнул плечом и грозно заговорил к Броварнику:
— Не нравится мне, Данил Васильевич, сегодняшний разговор с тобой. Все с самого начала не нравится… Война всегда развязывает языки, вольнодумство и анархизм, их надо держать в бутылке, как нечистую силу, потому что сегодня какому-то философу из какой-нибудь Захлюпанки захочется либерализма или крестьянского рая, а завтра он уже начнет пересматривать государственные налоги и планы… Так я тебя понял? Или, может, мне это показалось за рюмкой?
— Нет, не показалось.
— Вот-вот! — обрадовался Кисель. — А послезавтра эта демагогия уже запахнет не только ревизией нашей экономической политики, но и экономической контрреволюцией! — и снова трибунно махнул кулаком. Колоски отскочили от него, закачались и ударили Киселя по лицу. Он встал и, сминая их, начал затыкать в сноп, а когда расправился с колосками, уже с улыбкой бросил Броварнику: — Вот так, голуб сизый, на этих мыслях можно докатиться и до белых медведей.
Данило Васильевич изменился от гнева, но пересилил себя и, спрятав обиду, ровно взглянул на Киселя:
— Зачем же так быстро, за рюмкой, не подумавши головой, хвататься за контрреволюцию, за молот, за белых медведей? Разве это игрушки? Мы начинали с тобой за здравие, чего же ты тянешь за упокой? Ну, бейте дядька молотом, добивайте граммами, замазывайте собственные ошибки или недостатки подчищенными рапортами или словесным глеем, а кому от этого легче будет? Государству, дядьке, вам?.. Узлы, которые завязывались годами, не так легко разрубить. Их надо решать. И рано или поздно мы-таки будем их, засучив рукава или и снявши сорочку, решать. Сначала, может, и зубами, но без молота, без вопля о контрреволюции, а с осуждением ошибок и с уважением к этому же дядьке, над которым ты изволишь насмехаться и называть его темным, как ночь.
— Откуда ты набрал каких-то подозрительных узлов? — морщится, но уже спокойнее говорит Кисель.
— А ты, бедненький, до сих пор не догадываешься? Из несовершенства нашего хозяйствования.
— Чего еще тебе обижаться, если у тебя не так много разных ошибок.
— Я меньше о себе думаю.
— А больше о крестьянском рае?
— Нет, о крестьянском счастье. О черном хлебе и что надо человеку к этому хлебу… Сколько раз, Андрон Потапович, с высоких, средних и низких трибун ты говорил о крестьянском счастье, а на самом деле верил ли в него хоть на один грамм? Между трибунным и истинным счастьем не видел ли отличия? Или тебе живется на белом свете, как тому петуху: прокукарекал свое, а там хоть и не рассветай?
— Эт, не порть окончательно настроения, потому что сегодня мне еще выступать надо, — отмахнулся кулаком Кисель, весь вид его начал багроветь, а в словах отозвалась угроза: — когда-то мы, крестьянский апостол, поговорим детальнее и в другом месте о твоем рае.
— Не пугай — мы уже пуганые.
Кисель что-то нахмурено подумал, побарабанил пальцами по столу:
— Да-да, Данило Васильевич, навязал ты, накрутил каких-то узлов, как паршивая пряха. Ну, а как думаешь их решать, что для этого надо сделать?
— Мыслить, думать, и не только о заготовках и закупках, но о жизни и земле, и земледельце, — задумчиво вел Броварник. — Здесь есть над чем пораскинуть мозгами, и ни я, ни ты сразу не решим, не разрубим эти узлы.
— А кто же их разрубит?
— Партия, только она.
— Фу, — облегчено вздохнул Кисель и улыбнулся: — Прямо гора свалилась с моих плеч. А я уже все передумал о тебе: не скапустился ли ты часом за свою партизанщину, не сагитировал ли тебя какой-нибудь элемент…
— И уже что-то искал во мне?
— И искал… Другую душу нащупывал, — снова улыбнулся Кисель.
— Другую душу нащупывал? — нехорошие огоньки вспыхнули в серо-голубых глазах Броварника. — Так заведи в мою душу милицию, чтобы она потрусила ее.
Кисель удивился:
— Ну чего ты после партизанщины таким горячим стал?
— Потому, что много хладнолобых крутится возле села.
— Ну, это, знаешь, переходит всякие границы! — встал из-за стола Кисель. — Гости гостями, но и хозяин должен честь знать.
— Это и гостя немного касается, — и себе встал Броварник.
— Данило, бог с тобой, что ты мелешь… Посидите еще, Андрон Потапович, будьте настолько ласковы… Мой старик как только выпьет, так найдет какой-нибудь узел, — начала утихомиривать мужа и гостя жена Броварника. — И прошу, ешьте, ешьте, чтобы меньше говорили.
Эти слова как-то успокоили всех, а Марко засмеялся.
— Прямо не узнаю тебя ныне, — настороженно смотрит на хозяина Кисель и нехотя садится на скамейку. — Ну чего ты раскапризничался? На мозоль наступил тебе?
— На корень мой наступил.
— Хрупкий он у тебя. Посоветую тебе по-товарищески: твои мысли про дядьку и разных узлах — это мысли на стремянке. Слишком много берешь на себя.
— Я всегда брал на себя столько, сколько мог выдержать, иногда даже больше. А ты, как присмотрюсь, всюду жалел себя. Теперь, когда я бросаю правду в глаза, ты готов стать моим врагом. Вот и послушай еще немного меня и о моей душе тоже. Ты плюнул сегодня в нее и даже не понял этого, потому что, извини, ты не пашешь, не сеешь, а только подгоняешь, подталкиваешь, и горе твое только в этом. Как ты мог подумать о другой душе партизана, коммуниста в такое время, когда даже некоторые принцы и короли с удивлением присматриваются к коммунизму? Вот и значит, что отстал ты от нас лет на двадцать.
— Скажи: на тридцать! — криво засмеялся Кисель.
— Хватит с тебя и двадцати… И откуда только берутся знатоки, которые любят нащупывать другую душу? Пусть они лучше разберутся в настоящий единственной душе земледельца без крика и подозрений.
— Жаль мне тебя! — сдерживая гнев, сказал Кисель. — Рано ты благодушие начал разводить. О бдительности надо думать.
— Надо и о бдительности не забывать, но не так, как кое-кто делает — бросает подозрение на каждого человека, как заплату на одежку, — вмешался Марко.
Его слова взбесили Киселя.
— Вы тоже в крестьянские пророки лезете живьем?! — мигнул одним глазом на Марка, но он был таким, будто в него перекачалась злость со всей души. — И в конце концов, кто вы такой, чтобы поучать меня?
— Кто я такой? — переспросил Марк. — Я тот, кто хлеб сеет, а не геройствует. Еще вам какие-то анкетные данные нужны?
— Идите вы к черту! — воскликнул, неистовствуя, Кисель.
— Я уже там был! — отрезал Бессмертный. Кисель нагнулся, схватил шапку и бросился к дверям. Когда они с громыханием закрылись, Броварник покачал головой и сказал:
— До булавы еще надо и головы… Прощай, отсталость.
— Разве же так можно, — запричитала жена. — Теперь он насолит тебе.
— Эт, ничего мне не будет до самой смерти.
— Что это за чудо гостило, такое неприветливое и тупое? — спросил Марко.
— А ты и не знал? — удивился хозяин. — Это же Кисель!
— Оборотня Адама Киселя из истории знаю, а этого — нет. Кто он?
— Как тебе сказать, — задумался Броварник. — Люди его прозвали Приехал-уехал. Это его суть: приехал, не разобрался, накричал и уехал. А служба его — начальник областного управления сельского хозяйства.
— Грозного имеем погонщика, — вздохнул Марко.
— Грозный, но не ко всем. Перед высшим начальством — он из шелка соткан. Там и приязнь выказывает, и улыбкой играет, а в селе только и слышишь от него: «Давай, давай, выполняй, вывози, потому что я из кого-то похлебку сделаю!» Этот, наверное, долго будет есть начальнический хлеб: людей подбирает только с чистыми анкетами или по чьим-то серебряным звонкам, работает только по указкам. Самостоятельно тоже может, но не пошевелит даже пальцем, чтобы кто-то потом не подумал чего-то об этом пальце. Твое здравие, Марко.
— За нашего Подсолнечника!
— Не забыл моего прозвища? А все-таки крестьянин — это подсолнечник?
— Подсолнечник.
— Вот закончится война, подлечим свои раны, решим разные узлы и узелки, сметем с дороги всякую нечисть, которая хочет, чтобы мы более дурными были, и таки потянемся и дотянемся всем цветом к солнцу. Такую, а не иную веру имею в голове.
— И я такой живу.
— То-то и оно. И опять-таки вернусь к подсолнечнику. В полное лето, после цветения, каждый его семечек венчает золотая корона, каждое зерно тебе прямо королевой выглядит. А почему же так боятся гордиться человеком разные кисели? Потому что любовь у них оторвалась от сердца, будто яблоко-червивка от яблони. Вот когда будет директива о любви к человеку, тогда и кисели заговорят о ней с разных трибун.
— Еще как заговорят.
— Марко, а тебя еще не избрали председателем?.. Почему? — уже строго допытывается Броварник.
— Разве это от меня зависит?
— И от тебя. Скромность скромностью, а государственное дело выше этого.
— Так что же мне делать: на трибуну лезть и кричать, что хочу быть председателем?
— Не тумань меня трибунами. Ты что, хитрить сюда приехал? — ударил кулаком по столу.
— Нет, приехал… просить помощи.
— Помощи? Чем же я тебе помогу?
— Не мне, нашим лошадям, потому что уже последними слезами плачут они. Старцем приехал к вам.
— Не говори так: брат к брату, хоть бы он даже без сорочки был, не приходит старцем.
— И после этих слов взгляд Броварника затуманился. — А я, Марко, таки был истинным старцем. Попробовал и нищенского хлеба.
— Что вы, Данило Васильевич? Как это случилось?
— Научила беда и подаяние просить, и на лире играть, — провел рукой, будто крутнул ручку лиры, и улыбнулся. — В сорок втором году я прибился к отряду Григория Заднепровского. Он теперь у вас учительствует. Познакомился с ним?
— Познакомился.
— И как он тебе?
— Хороший человек.
— Хороший — мало. Чудесный! Имеет мужчина сердце льва, лоб мыслителя, а глаза — девушки. Вот он и сделал меня, как старейшего, чтобы не ел напрасно партизанский хлеб, старцем. Отпустил я себе волосы до бороды, а бороду чуть ли не до колен, достал какое-то отрепье и с сумой и лирой пошел по дорогам и селам. В одном месте псалмы пою, в другом — с людьми гомоню, а в третьем:
Гітлер высоко літав І хрести катам чіпляв, А ми його, розбишаку, Та й почепим на гілляку.Броварник тихонько запел, засмеялся.
— И ведь получалось у меня это дело. Прибивался со своей лирой и на явочные квартиры, и в лагеря. Правда, как-то схватили меня фашисты, и должен был я перед ними держать испытание: сел на пол и начал петь такие божественные, как «Мимо рая прохожу, горько плачу и тужу…» Таки перехитрил их. Обо мне, слышишь, и в московской «Правде» писали. Вот как пришлось ходить в артистах. А как Григорий Стратонович поживает? Бедствует со своей семейкой?
— Бедствует.
— Передашь ему гостинец от меня?
— Передам.
— Ну, а ты хлеба не имеешь?
— Зато картофель есть.
— Какой-то пуд муки возьмешь у меня.
— Я и так перебьюсь, не пропаду… А вот с лошадьми как?
— С лошадьми, с лошадьми! — перекривил его Броварник. — Еще на одной прыгаешь, а уже в лошадиную шкуру обеими влезаешь. И лошадям чем-то поможем. А теперь скажи мне, как думаешь председательствовать? Какие планы имеешь в своих закоулках?
— Какие могут быть планы, когда я не председатель.
— Ох, некому тебе, человече, всыпать березовой каши, чтобы не был таким хитрым. Не мне ли взяться за это дело? Ну-ка, придвигайся ближе. Вот за что ухватишься сейчас, чтобы вытянуть колхоз? И не крути мне головой, как кобыла в спасовку[30]. Говори!
— Что же я должен говорить?
— С чего начнем вытаскивать хозяйство. У меня тоже болит за это голова. Меньше будет безбородьков, всем, и мне, станет легче. Значит, плана у тебя никакого нет? Может, в голове сала уменьшилось? Или какого-то пережитка, как говорил Кисель, увеличилось?.. Горох у вас есть?
— Не знаю.
— Не знаешь? Ты зачем на свете живешь? — возмутился Броварник. — Ох, и разленился ты, как церковные ворота. А я знаю: нет у Безбородько ни горошинки в амбаре. А у меня такой, что по 30 центнеров дает с гектара. Помогу тебе им.
— Спасибо, — Марко обнял и поцеловал Броварника.
— Поддабриваешься? — хотел бухнуть Броварник, но обхватил Марка обеими руками и помрачнел: вспомнил убитого сына.
До полночи просидел Марко с Данилом Васильевичем и его женой. Десятки воспоминаний, десятки лет, десятки людей, живых и мертвых, прошло перед их глазами. Чего только ни вспомнилось и ни передумалось в этот вечер… Данило Васильевич даже вспомнил учительницу Степаниду, которая давно учительствовала в селе Марка.
— Помнишь, какие у нее были красивые продолговатые глаза?
— Помню, — призадумался Марко.
— Когда я увидел ее в больнице возле тебя, подумал, что это твоя судьба.
— Никто ее не угадает, — вздохнула тетка Соломия.
— Хорошая девушка была, очень хорошая, — вел дальше Данил Васильевич. — Где она теперь?
— И за кем она теперь? — Марко хотел полушутливо оборвать этот разговор, потому что прошлое болью зашевелилась в груди.
Когда пропели первые петухи, Данило Васильевич повел Марка в ванькир, где густо пахли сухие базилики и бархатцы.
— Вот здесь и отдыхай, Марко, — показал рукой на узкий топчан. — Когда проспишься, подумай, как начать председательствовать, и только тогда показывайся мне на глаза. Я тебе сделаю испытание, задаром не повезешь сено от меня. Ну, спи спокойно, — пригибаясь, вышел из ванькира.
И Марко в самом деле спокойно начал засыпать. К нему на цыпочках подкрадывались далекие годы, подошли вишняки в цвету и девушка, которой он когда-то принес веточку вишневого цвета и свою первую любовь. Потом кто-то поднял над землей и сады, и девушку, а он, как на крыльях, начал опускаться в теплое забвение.
И вот тогда услышал, как тихонько скрипнули, приотворились двери. Он чуть-чуть расплющил глаза и увидел на пороге Данилу Васильевича со свечкой в руке. Это удивило Марка, он хотел отозваться, но притворился, что спит.
А Данило Васильевич потихоньку подошел к маленькому столику, поставил свечку и сел на стул. А потом еще тише, как тень, в ванькир вошла тетка Соломия и молча встала возле мужа. Не скоро, не скоро, вздохнувши, она сказала:
— Как он похож на нашего Дмитрия.
— И в характере что-то такое есть, — и себе вздохнул Данило Васильевич.
Поняв все, Марко чуть не расплакался. Сдерживая себя, он застонал, пошевелился и ощутил, что над ним склонился Данило Васильевич. Марко расплющил глаза, на которые набежали слезы.
— Тебе, видать, плохой сон приснился, — неловко сказал Данил Васильевич. — Спи, дитя…
XVI
Тихо и темно в землянке. За плохоньким, тоже войной покалеченным столом над сорочкой сына горбится старый Евмен, а мысли его витают по далеким Карпатским горам и трущобам, тоскуют у неизвестной каменной тропы, с которой уже не встал его Иван, или встречают то прошлое, когда его Иван легко ходил по земле.
Ничего в мире нет лучшего, чем мягкая, аж попискивающая соком весенняя земля, созревшее, с текущим звездным туманцем осеннее небо и светлоглазые дети с родителями. Ни небо, ни земля никогда, даже во снах, не бросают человека. Так чего же, какой злобой и каким людоедским правом от родителей навсегда забирают то, что для них дороже всего на свете — их детей?.. Да будь проклято навеки то серебро и золото, из которого вылупливаются гитлеры, будь проклято и то семя, что пускает на свет палачей и убийц, будьте прокляты и те, ненавистью измятые, гадючьим смальцем насыщенные мозги, которые не умеют любить человека, его род, его обычные земные заботы; радости и высокие порывы.
Большой гнев и большая скорбь гнут, пригибают непокорную седую голову Евмена Дыбенко, а в его наболевшей душе клокочут самые страшные проклятья тем, у кого сердце обросло диким мясом человеконенавистничества; на слезах старика прорастают нежнейшие слова к своему единственному сыну, который не успел еще находиться и налюбоваться землей.
— Ластовенок ты мой, сокол мой, месяц ясный между тучами, — шепчет старик к сорочке сына, на которую изредка с сырого потолка, словно слезы самой земли, падают тяжелые капли…
С далеких лет и дорог приходят видения, и он видит своего сына то синеглазым ребенком, то стройным и пригожим юношей, то нахмуренным сероглазым воином. Будто век прошел с того дня, когда он за селом простился с родителями, с любимой девушкой, с кумом Александром, с родней и пошел битой дорогой догонять войну и ту линию фронта, на которой смерть не могла одолеть жизнь, а жизнь — смерти… Вот он одиноко взошел на крутой холм и исчез за белой громадой туч, за которой, казалось, обрывался мир… Ни работа, ни наука не были трудными для его Ивана, не была тяжелой и гордая солдатская слава, и чистое золото заслуг. И только тяжелым стал тот клубок свинца и угара, который он прикрыл своим добрым сердцем.
— О чем ты думало тогда, дитя мое? — потрескавшимися руками бережно касается рукава рубашки, а перед глазами ясно и неясно обрисовываются и оживают далекие неизвестные края. — О чем ты думало тогда?..
И старику видится и слышится, как раздвигаются стены землянки, как к нему через горы и долы из далекой Словакии долетает тихий ответ сына:
«Я думал, отец, о своем верном товариществе, которое было со мной, и о том, что только мы, простые, голодные, измученные, очень сердитые и очень добрые Иваны, сможем оттащить, оторвать смерть от людей, не ожидая себе за это ни выкупов, ни денег, ни земель, ни имений, ни чинов, ни заслуг. И думал, отец, о своей родной земле, по которой очень соскучился и щепотку которой носил в своем медальоне смерти, чтобы, когда убьют, эту землю оставили со мной. И думал о своей Оксане, у которой лучшие в мире улыбка и глаза и которая лучше всех умеет метать сено в стожки… Я всюду искал ее. И уже в проклятом лагере, где она была, нашел только стожок пересохших девичьих волос. Фашисты жгли в печах и девушек, и матерей, а их волосы отрезали для хозяйственных нужд и фальсификации арийской красоты. Я на оружии поклялся тогда, что не успокоюсь, пока хоть один изверг будет осквернять поруганную землю, протягивать лапищи и ножницы к волосам матерей и девушек. И в свою последнюю минуту я думал о вас с мамой, о том, сколько вы работы сделали своими ласковыми руками. Мне очень жалко было вас, я заранее видел, как плакали вы надо мной, когда вы еще не плакали. Но иначе, отец, я не мог поступить, потому что очень все любил…»
Старик поднимает главу, чтобы увидеть образ сына, который приблизился к нему. Но видение исчезает в сумерках, а в уголке человеческой тенью виднеется гончарный круг с немудрым изделием на нем. Как часто когда-то прибегал к такому кругу малый Иван и просил, чтобы отец ему сделал коня. Тогда отец бросал свои кувшины и горшки, брал кусок глины, начинал пальцами комкать его, а дитятко, затаив дыхание, радостно смотрело, как из глины рождается резвый гривастый конек, как оживают его губы, глаза и даже улыбка. А иногда кони были пузатыми, напыщенными или пьяными, и люди, хохоча, узнавали в них то попа с соседнего поселка, то своего же завмагазина, то Безбородько или какого-то напыщенного неумеху… Как недавно и как давно все это было.
Раздавленными работой руками старик разглаживает белую, с глазками барвинка сорочку и гнется над ней то как над колыбелью, то как над гробом.
Из тьмы отваливаются куски прошлого, в них он снова слышит и первый крик, и смех, и пение своего дитяти, слышит его милый голос над непостижимыми, самой мудростью начиненными книгами, и влюбленное воркование у старого парома, куда выходила Оксана… Это же все было и больше никогда уже не будет. И даже солдатский треугольник не постучит в окошко к родителям. Голова старика падает на распростертую сорочку, касается вышитого, безжизненного барвинка, который пережил его сына.
— Пока ты, Иван, ходил по земле, я старости не чувствовал; тогда я был отцом, а теперь стал немощным дедом, без детей, без внуков, — жалуется сорочке, словно своей судьбе.
Наверху послышались шаги, их отголоски отозвались в непросохшем потолке. Евмен вздрогнул, пошатываясь, встал, поспешно свернул рубашку сына, положил в сундук и провел рукой по лицу, чтобы уменьшить, стереть следы печали — зачем ее выносить на люди. Он подходит к гончарному кругу, на котором стоит еще не высохший кувшин, и притворяется, будто что-то делает.
На пороге, поблескивая огоньком папиросы, появляется худой конюх Петр Гайшук, похожий на журавля. От него всегда пахнет табаком, сеном и рыбой.
— У вас, деда, до сих пор темно? — удивляется он, по-птичьи расставляет ноги, а голову пригибает. — Почему свое электричество не светите?
— Конюх, как вор, должен и в темноте видеть, — Евмен, как может, отгоняет от себя скорбь, торопливо одевается в неизменную свитку и, не успев за своими думами прикоснуться к пище, выходит из землянки.
На закате в сумерках уже распадаются последние вишневые сгустки, оставленные солнцем, несколько наклонившихся деревьев под ними стоят, как скорбные матери. В такое время даже деревья печалятся, кого-то дожидаются из далеких дорог. А ему уже некого ждать. И старик тоже гнется, как дерево.
— Небо вроде на ветер показывает, — недовольством звучит тенор Гайшука. — А я завтра хотел рыбачить.
— Рыбачить? — изумленно переспрашивает… Хотя, если подумать, почему и не рыбачить человеку? Ему река не навеет мучительных воспоминаний… — Сегодня поймал что-то?
— Одного сома, фунтов на пять, — довольно улыбается Гайшук. — На клок пошел.
— Где поймал?
— На Королевщине, недалеко от парома. Хорошие там для сомов колдобины.
— Кума моего не видел?
— Видел. Все людей перевозит. И Оксанку ждет свою, — да и запнулся, чтобы не растравлять сердце старика.
— Оксану? Да что ты? Может, есть весть от нее? — задрожал Евмен.
— Есть весть. Пришла из Пруссии. Вчера на пароме ваш кум Александр всех, кто ни ехал, целый день угощал водкой. Так кое-кто только и делал, что перевозился с одного берега на другой. Всякого теперь есть люда.
— Значит, дождется кум Александр своего ребенка. Удачи им, удачи… — чуть ли не вздохнул старый, и глупые мысли снова полезли в голову: не отцом, а только согнутым гостем будет он сидеть на Оксаниной свадьбе…
— Вы, деда, хоть поужинали? — Гайшук перехватывает его мысли и хочет хоть немного повернуть их на другие стежки.
— Я-то поужинал, а вот что лошадям будем на ночь закладывать? — переходит от одной кручины к другой. — Может, поймать Безбородько и Мамуру и бросить их, леших, за драбины?
— Кони такой нечисти есть не будут, — невесело улыбается Гайшук и поправляет свою мелковатую и темную, как кротовый холмик, шапку.
Не обходя поморщенных, с ледком на дне луж, из которых выходят следы колес, конюхи сосредоточенно идут к конюшне, где чахнут от голода кони. И о них, и о войне, и об Оксане сейчас думает старик и вздрагивает от воспоминания, что в каком-то лагере возле печей смерти стожком лежала девичья краса — девичьи косы… Как же могли так одичать даже изверги?..
— Все уменьшается у людей любви, уменьшается, и все, — вслух отвечает своим мыслям старый.
Гайшук замедляет шаги и многозначительно поднимает вверх длинный указательный палец:
— Потому что война, деда, а при ней, костистой, всего уменьшается: и хлеба, и люда, и любви. Да и времени на нее война не дает. Целый век надо любиться человеку, а теперь другой на всю свою любовь не имеет даже одного малого часа.
Последние слова передернули старого, и он аж рукой отмахнулся и вздохнул.
— Я сейчас не об этом, Петр.
— А о чем? Может, снова о лошадях? — с сочувствием спросил Гайшук.
— Нет, о самой плохой скотине, о двуногой скотине! — понуро посмотрел себе под ноги Дыбенко.
— О двуногой. Значит, о самом Безбородько? Очень заелись вы с ним. И он вам не подарит своего. Смотрите, еще леса не выпишет на хату.
— Это он может сделать, по-всякому умеет скрутить человека. Да что мне, если рассудить, Безбородько!? Сейчас я, человече добрый, с темными тысячами заелся.
— С какими это темными тысячами? — Гайшук от удивления выплюнул окурок и покосился на Дыбенко: не начал ли тот часом заговариваться с горя.
Старик встал на след колеи и, сжав кулаки, страстно заговорил:
— С теми, слышишь, тысячами, что хитрость, злобу выливают на весь свет, а гробовую доску вытесывают на все живое, что родилось и что должно родиться… Не так уж много, если подумать, есть на земле этих черных могильщиков и мудрецов, и впрягли и взнуздали они в свой дьявольский золотой шарабан и науку, и обман, и бога, и черта заодно, и голод, и страх, и всем этим ловко заковали в оковы, сдавили, сделали мелким человека и выпихивают его на смерть: ищи в чужой земле свою могилу и свой крест. Вот я и думаю себе: время уже людям оторвать от своего тела эти несколько темных тысяч и хотя бы закинуть их на какой-нибудь океанский остров, чтобы там они немного очеловечились, доросли, ну, хотя бы до уровня обычных дикарей.
Гайшук, изумленно посматривая на старика, подался назад узкой статью, улыбнулся:
— Это утопия!
— И утопить можно таких, — согласился Евмен и этим еще больше развеселил Гайшука.
Возле самой конюшни по-весеннему бормочет ручей, он еще не пахнет никаким зельем, а только пресностью размороженной земли. Кони слышат приход Евмена и с печальным ржанием поворачивают к нему безнадежно опущенные головы. Над ними по стенам уродуются большие ломанные тени, и они кажутся нынче Евмену тоже костлявыми.
Жгучая жалость и боль переплетают свое снование. Старик молча, одним горьким взмахом руки отпускает смену, снимает со столба фонарь и медленно идет по конюшне, черкая своей тенью безвинно измученных лошадей. В их глаза, шевелясь, убегает золотое отражение фонаря, вычеркивая и очерчивая в них только темное мучение голода.
Евмен отводит взгляд от коней, ждущих спасения от него: он больше не может смотреть на них, не может видеть, как на их головах выбиваются линии костей. Съежившись, старик наклоняется к фонарю, гасит его.
И что-то нехорошее в этом учуяли кони: зашевелились, забили копытами, и жалостное, похожее на стон ржание отозвалось со всех сторон. Евмен задрожал, приложил руку ко лбу, а потом выбежал из конюшни, размахивая омертвелым фонарем. А позади в спину ему кнутами била голодная лошадиная мольба.
Возле ручья зашаркали шаги и отозвался обеспокоенный голос Безбородько:
— Гей, кто там огонь погасил!? Не нашел, чем забавляться?
Евмен Дыбенко, забыв, что сам задул огонь, поднял фонарь, чтобы лучше видеть председателя, который становится напротив его и гневно дышит водочным духом.
— Дед, почему темно в конюшне?
— А разве в гробу когда-нибудь был свет!? — рубанул наотмашь старик.
— В гробу? Что вы мелете? — возмутился Безбородько. — Не выпили ли часом лишнего? Кажется, ясно спрашиваю: почему нет огня в конюшне?
— А разве это конюшня? — напрягается голос у старика. — Это уже гроб! Слышишь, каким стоном проклинают кони твое безголовое председательство? На, посвети над ними похоронной свечкой, — втиснул в руку председателя фонарь, из которого вился дым.
Безбородько передернуло, словно в его руке оказался не светильник, а жаба. Он сразу же с размаха швырнул его в ручей и набросился на Евмена:
— Ей-богу, вы, дед, или напились, как последний сапожник, или натурально сошли с ума…
— От горя сошел с ума. А почему же ты не сойдешь с ума, так — хотя бы на несколько дней, и не мотнешься всюду искать какого-то спасения? Уже завтра можешь приносить акты о падеже. И после этого ты байстрюк[31] или председатель?
Безбородько затрясся:
— За такие слова, старое чучело, в тюрьме будешь костями цемент выгревать! В тюрьме!
— Сам, тебе на радость, пойду в тюрягу. Все принудительные по твоей резолюции и отработаю, и отбуду, только спаси, Антон, коней, потому что, ей-бо, не могу выдержать — душа разорвется, — и старик застонал.
— Легко сказать: спаси! А чем я их буду спасать? — немного отошел Безбородько. — Может, попробуем завтра выгнать в лес?
— Выгнать можно, какую-то почку найдут, но на ней не выживут. Сена, хотя бы соломы им надо.
— В конце концов, понимаете ли вы: я все делал, что мог, — снизил голос Безбородько. — Немного помогло государство, а больше не может, потому что война.
— На ее плечи все можно скинуть — и украденное, и сгноенное. Но этой басней не накормишь скота.
— Ну и пальцами я тоже не накормлю их! — протянул руки к Евмену.
— Такими пальцами не накормишь, — согласился старик, — потому что приросли они не к живому делу, а к печати. Тяжеловата она для тебя, Антон, тяжеловата.
Безбородько невольно нащупал в кармане печать, но сдержал себя, не вскипел, а насмешливо посмотрел на конюха:
— Если завидуете моей печати, охотно могу ее передать вам.
— Ты лучше Марку ее передай.
— Что с вами говорить! — махнул рукой. — Лучше посоветуйте, где что-то коням достать.
— Почему же ты раньше, летом, не совещался со мной? Но и сейчас еще не пропащий мир, только не послушаешься меня, еще и сердиться будешь.
— А может, и не буду?
— Будешь. Знаю тебя, Антон, как облупленного, — аж вздохнул старик.
— Все равно говорите.
— Прошу тебя, человече, раз такое тяжелое дело, найди в своем нутре то, что великодушием называется. Брось на корма все свои чистые и нечистые деньги, даже дворец продай, а потом еще больше наживешься на этих же лошадях и на нас, черт с тобой, не пожалеем! Если не заглядываешь наперед как председатель, загляни как ростовщик, ждущий процента. Ей-бо, не ошибешься! И перед районом гоголем выплывешь, всем пером заиграешь. Не один скажет: есть же такой председатель, что и от жилья избавился, чтобы общественных лошадей спасти! Это же, Антон, на перспективу, в анкету, в характеристику тебе самым приходным ордером впишется!
Эти слова одновременно и возмутили, и удивили Безбородько: смотри, старый дьявол начал заглядывать в его карман. Но какой чудный и не такой уж плохой ход каруселится. Гляди, что-то можно выиграть им и даже немного поднять свой авторитет… Таки есть клепка в голове конюха. Но, когда подумал, что надо избавиться всего своего достатка, сразу же испугался и вознегодовал: с такими приходными ордерами сам, как крот, в землянку попадешь, а если, не доведи господи, снимут с председательства, то станешь посмешищем всего села. Возле рта он изобразил кривую улыбку для старика:
— Ну и фокусник вы, дед, каких свет не видывал. Такого наговорили и назлословили, что на вас даже сердиться по-настоящему нельзя…
— Ничего не бросишь на коней? — увял Дыбенко.
— Вы думаете, что я банк или его филиал? Кто-то, может, и считает в моем кошельке деньги, а на самом деле там ветер свистит.
— Не в кошельке, а в голове свистит, — вздохнул старик.
— Сколько у нас есть теперь самых слабых лошадей? — нетерпеливо перебил его Безбородько.
— Зачем тебе? — насторожился старик: он всегда нюхом чуял какую-то каверзу или злодейство. У рта Безбородько шевельнулась жестокая складка:
— Придется добить их!
— Добить? — с ужасом переспросил старик, и у него пригнулась голова, будто по ней должны были ударить молотом. — Ты что? В своем уме?
— А что я должен делать?.. Я уже совещался с одним начальником, он тоже считает, что слабых лошадей надо убить и их мясо скормить свиньям, чтобы хоть они выжили.
— Прежде меня со своим начальником убьешь, сто чертей вашей матери, а потом уже коней! Вон, душегуб, вон, ирод, отсюда! — закричал не своим голосом Дыбенко и, подняв вверх кулаки, готов был пустить их в дело.
— Взбесился старик! — с опаской воскликнул Безбородько, пошел на попятный и исчез в темноте, не дождавшись, пока в конюшне засветят свет.
— Конеед! Пустомеля! Тупица! — вдогонку швырнул ему старик, слыша, что его валит с ног. — Эх, сердце, глупое сердце, — произнес сам к себе, но потянулся рукой не к нему, а к глазам, которые не могли удержать слез. Плача, он подошел к ручью, ощупью нашел фонарь, начал его вытирать дрожащими руками и полой свитки.
— Или ты меня изведешь со свету, или я тебя изведу, прилюдно вилами проколю, а лошадей не дам, — продолжал разговор с Безбородько и всем телом вздрагивал при одной мысли, что кто-то может убивать коней. И за что, за какую вину? Так почему же тогда не наказывают самого Безбородько, который на воровском поводу ведет смерть лошадям? Только потому, что он имеет на шее не лошадиную, а человеческую голову?
— Наговорились, деда? — с сочувствием отозвался с порога конюшни Гайшук.
— Я-то наговорился, а чего ты молчал? Язык проглотил на то время? — вытаращился старик на конюха.
— А зачем мне заедаться, — пробормотал Гайшук. — Разве это поможет? И справочку в лесничество буду брать не у кого-то, а к нему же приду.
— Много вас таких хитроумных на свете развелось.
— Не хитроумных, а осторожных, — поправил Гайшук. — Не от большого добра приходится иногда держать язык за зубами: учили уже нас, и хорошо учили.
— И меня же учили…
— Вам легче: что со старика возьмешь!
— Эх, Петр, не раз я себе думаю: чего в войну, да и без нее, одни люди становятся у нас орлами, а другие — прожорливыми мышами возле нашего зерна. Жрут, переводят, трубят еще и гадят его, а сами всюду галдят, что они охранники. И так мудро галдят, что им и сверху верят. Неужели наша жизнь не может обойтись без всяк безбородьков?
— Не может, — уверенно ответил Гайшук.
— Да почему?
Гайшук полез рукой к затылку, и на его высоколобой голове кротовой кочкой зашевелилась шапка.
— Это, деда, не простая арифметика, и задачка в ней составлялась не один день или год. Трудная и запутанная задачка!
— Говори — послушаем.
— Тогда слушайте, если имеете время. Как вы думаете: от старой несправедливости остались у нас рожки да ножки или еще что-то?
— Ну, осталось еще что-то. И оно, как прожорливый птенец кукушки, выхватывает для себя все, что может выхватить.
— Еще и как выхватывает! И это такая штуковина, что ее приказом не уволишь с работы, директивой не запретишь, не раскулачишь и не продашь на торгах. Не так ли я думаю?
— Не тяни. Сучи уже дальше свою веревочку.
— Она такая моя, как и ваша. Я свое мужицкое накипевшее выбрасываю, — насупился Гайшук. — И вот дальше выходит такое: при нашей большой правде, которая пришла от самой революции, перед несправедливостью есть только две дороги: она должна вслед за капитализмом с моста и в воду или лукаво напялить на себя одежку правды и ею же защищать свою шкуру. Теперь на свете правда стала большей, а несправедливость хитрее, ее не сразу и раскусишь в каком-то кабинете или на трибуне, где она будет говорить и голосовать за социализм для народа, а потом с этого же народа будет драть взятки. Ну, кто живет по правде, тот не ищет бесплатных льгот, не имеет наглости переться по чьим-то головам или и скручивать их, тот и конюхом охотно пойдет работать. А разные большие или меньшие безбородьки в конюхи уже не пойдут: они попробовали и легкого хлеба, и меда, заработанного языком или лукавством, и им это питание стало таким вкусным, как мамино молоко, они его уже до отвала будут сосать, хоть бы из мамы и кровь пошла. Вот такое налипшее начальство кнутом отсюда надо гнать истинному начальству. Кнутом!
— Нарисовал картину, — прикидывая что-то свое, прищурился старик. — Ну, а когда же им, пережиткам разным, конец придет?
— Это уже другая задача, и ее можно так начинать: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Я мыслю — одинаково надо верить людям, чтобы не было так: я, к примеру, сын, вы пасынок, а еще кто-то — и совсем незаконнорожденный, и не потому, что ему не нравится Советская власть, а потому, что он за мелкую вину или острое слово не нравится какому-то не рабочему, а чиновнику, который ближе стоит и к меду, и к идеям по совместительству. Вот пока что такому чиновнику больше верят, чем мне или вам, с ним не сразишься честно — крест-накрест. Он тебя быстрее схватит и подножку даст, прежде чем ты его ухватишь хоть за кончик хвоста. Вот поэтому много у нас болтовни по углам и закоулкам, а на открытом собрании мы в рот воды набираем. Наш дядька по-настоящему еще не заговорил и по-настоящему еще не показал умение и силу хозяйственную. А у партии хватает больших и неотложных забот. Она сейчас саму смерть крушит! И сокрушит! Но руки ее и до этого дойдут: раскусит она всех пустозвонов-свистунов, хоть бы как ни высвистывали они по разным трибунам — но аж зафурчат за ними. Сначала полетят, как гнилые груши, безбородьки, а дальше и более хитрые индивидуумы, а самые прыткие с высоких должностей уйдут по собственному желанию, не забыв выхлопотать себе высокие пенсии.
— Пусть жрут эти пенсии, лишь бы людей и государство не жрали. Но, по твоим словам, не быстро мы избавимся этих нахлебников?
— Да, наверное, на наш век хватит и прилипал, и бюрократов, и алчных жестокосердных людей, и невежд, смотрящих не в душу человека, а на свой живот.
— Не прибавил ли ты им возраста?
— Навряд, деда. Они о своем долголетии больше заботятся, чем мы.
— Умеешь ты, Петр, утешать человека, как скотобоец молотом. Подержи фонарь.
Старик засветил огонь, снова пошел к конюшне, но уже избегал смотреть лошадям в глаза. К нему потихоньку подошел широкогубый конюх Максим Полатайко. В невысокой крупной фигуре мужчины было что-то от комля, но это не мешало ему проявлять в некоторых делах удивительную ловкость. Максим из-под самого носа опытных сторожей, шутя, мог украсть для лошадей с десяток снопов овса или ночью выкосить чечевицу или вику на полях соседнего колхоза. Даже сейчас его любимцы были похожи на коней, потому что он откуда-то тайно приносил им в сумке или рептухе[32] какой-то дополнительный рацион. Когда же Максима ловили на горячем, он с таким трагизмом и слезой выступал в защиту коней, что ему все прощалось. Из-за того мужчину прозвали Артистом, но он даже таким прозвищем не гордился и не утешался, потому что не был честолюбивым. Сейчас Максим беспокоился: этой ночью он обрыскал два наиболее надежных амбара, но не нашел там и горсти овса. Правда, он таки набил свою сумку турецким бобом, но его надо было перемолотить на жерновах. Этой машинерии у Максима не водилось, а ткнуться к соседям не очень хотелось.
— Что же делать, деда? — Максим скривился всем лицом и повел головой в сторону коней. — Когда плачет человек — можно выдержать, а когда плачет скотина — не выдерживает сердце.
— Твои еще не плачут.
Максим пропустил намек мимо уха и продолжал свое:
— Что-то детское есть в лошадином плаче. И кричат они, как дети. Я на батарею подвозил снаряды. Ну, подо Львовом на рассвете и накрыли меня миной. Как раз, стерва, под копыта моих вороных шлепнулась. Я еще увидел, как обрисовались и рванулись они в огненном столбе, а потом так заголосили, закричали, что и я заплакал и, придерживая руками свое мясо, пополз к ним. А они на перебитых ногах потянулись ко мне, губами целуют меня, а у самих, невиноватых, слезы, как фасоль, летят… Так что сейчас надо делать?
— Возьмемся, парень, за воровское ремесло, может, оно немного поможет нам, — понуро, но твердо ответил старик.
— Да что вы, дед, против ночи говорите!? — изумленно развел руками Максим. — Все село знает, что вы нигде даже былиночки не подняли чужой.
— Что правда, то правда, а сейчас пойду на такой позор, потому что иначе, значит, нельзя. — Старик призадумался, пристально взглянул на Максима, который чуть ли не танцевал, найдя себе такого соучастника. — Не брыкайся. И слышишь, не всякая кража является воровством.
— Это уже что-то новое даже для меня, — аж рот разинул Максим.
— Помнишь, в книжках писалось о том великом человеке, что украл у бога огонь для людей. А его еще и хвалят. Вот и выходит: не всякая кража — воровство. А мы с тобой не такие большие люди, вот украдем для коней сена. Поедешь со мной или побоишься?
— И вы не шутите? — еще спросил с недоверием, а глаза воспылали воровским блеском.
— Не до шуток теперь.
— Тогда поехали! Сейчас же! — и парень бросился отвязывать выездных коней.
— Где же вы нагибали[33] это сено? — изумленно раскачивался на журавлиных ногах Петр Гайшук.
— Там, где ты рыбу ловишь.
— Так это же сено вашего кума! — аж вскрикнул Гайшук.
— А кум всегда косит сено, как барвинок, не ошибемся.
— Это так, а не иначе! — Гайшук полез рукой к затылку, не знал, что делать: или смеяться, или возмущаться. — Можно сказать, по-родственному.
— Летом по-родственному, так же как и взяли, отвезем куму сено. Не хвалился часом кум, что завтра поедет на ярмарку?
— Хвалился. Ему не терпится всем рассказать, что имеет такую большую радость.
— Это хорошо, — ответил своим мыслям старик. Скоро воз, разбрызгивая грязь и хлюпая по лужам, выкатился на мягкую луговину. На ней темными птицами очерчивались кусты ивняка, а между ними тревожно билась и стонала, словно раненная, невидимая вода.
Чуть ли не из-под копыт лошадей с треском и хлопаньем вылетела пара крякв, их сразу проглотило влажное нутро беззвездной ночи. И после этого захотелось лететь деревьям, они замахали своими крыльями, роняя на землю благоухание уже полураспустившихся почек. Беспокойно в этом году шла весна по земле, и тревожно встречался с ней дед Евмен. Подумать только: не к плугу, не к сеялке, не к чистому зерну, а к чужому добру потянулся он. Даже если не поймается, шила в мешке не утаишь, и что тогда подумают, заговорят о нем?! Ну, и пусть говорят и судят по всему району, а кони должны жить. И, чтобы ободрить себя, он прикасается рукой к плечу Максима.
— Не впервой тебе идти на такое сомнительное дело?
— Не впервой, деда, правильно догадываетесь, — приятным голосом признается Максим, толстые губы не мешают мужчине говорить напевно и чисто.
— И что же ты воровал?
— Вы лучше спросите, чего я не воровал, — весело говорит конюх. — И овес с поля, и сено да отаву с лугов, и зерно из-под машин и с амбаров, и хлеб с пекарни, и снопы со стогов, только шампанского не тянул из ресторанов, потому что не знаю, помогает ли оно лошадям, то ли по глупости помещики забавлялись. А знал бы — и к нему подобрался бы.
— Так ты попробуй.
— А вдруг кони алкоголиками станут? — серьезно спросил Максим. — Как-то неудобно выйдет: конюх трезвенник, а кони — пьянчуги. Не люблю я непорядков.
— Ну, а боб ты воровал, Максим?
— Какой боб? — насторожился и обернулся к старику.
— Турецкий.
— Турецкий? Воровал когда-то на огородах.
— А в амбарах?
— Нет. А разве его кони любят?
— О конях не знаю, а некоторые люди любят.
— Американцы больше всего. У них, видать, животы крепкие, — хитро выкручивается Максим.
— Ох, и испортился же ты, до самого края испортился, — с сожалением сказал старик, а Максим весело хмыкнул.
Где-то около полуночи они выехали на Королевщину, над которой то здесь, то там торжественно поднимались одиноко стоящие великаны дубы.
Максим поставил коней около парома, под которым попискивала и клекотала вода, и, чтобы не вляпаться, подошел к небольшому овину паромщика, в котором дед Александр всегда летовал[34]. Недалеко от овина, над оврагом, стояло два островерхих стожка сена, хозяйственный кум накосил их в таких болотах и зарослях, куда не добирался никакой косарь. Сейчас овражный ветерок поддувал стожки снизу, и они, окутанные благоуханием, казалось, хотели куда-то лететь.
— Дед Александр, где вы там, давайте перевоз! — громко позвал в ворота Максим раз и второй раз, прислушался к отголоску, а потом смело пошел к лошадям, подвел их под стожок, снял с телеги веревки, рубель[35] и вилы.
И только теперь старику Евмену стало не по себе, он чуть ли не застонал от боли и, чтобы приглушить ее, вилами сорвал шапку со стожка и с силой бросил ее на телегу.
— Укладывай!
— Слушаюсь начальника! — весело отозвался Максим и принялся утаптывать сено.
— Ох, и хулиганского ты характера! — покосился на него старик.
— Под вашим чутким руководством! — гигикнул Максим, ловко орудуя граблями.
Они по-хозяйски широко уложили и утрамбовали сено. Теперь Евмен пожалел: почему было не приехать на Королевщину двумя телегами? На душе у него сейчас не было ни терзаний, ни раскаяния, только из головы не выходил образ Оксаны, словно ее дух витал вокруг этих стожков.
— Эх, доченька дорогая, — вздохнул старик, когда заскрипела, закачалась фура.
— Вы что-то сказали? — отозвался сверху Максим.
— Да ничего, езжай, — он по-хозяйски сгреб раструшенное сено, пододвинул его ко второму стожку и прислонился к нему руками.
Далеким густым духом зрелого лета пахло потревоженное сено и семена, а берег реки откликался голосами его Ивана и не его Оксаны.
— Значит, не судьба, — старик положил грабли на плечо и повернул вслед за телегой, на которой курлыкал какую-то веселую песенку хулиганского характера Максим. Ему, крученому, намного легче живется на свете, чем серьезному человеку.
Еще фура не подъехала к ручью, а кони услышали свое спасение — и конюшня затряслась от ударов копыт, гудения цимбал и дружного ржания.
— Слышите? — победно отозвался с фуры Максим.
— Да слышу.
Из конюшни обеспокоенно выбежал Петр Гайшук.
— Взбесились кони. Скорее рубите, а то оборвут поводья. Все благополучно обошлось?
— Лучше, чем у Прометея! — клубком скатился с телеги Максим.
— Жаль, что он без тебя орудовал, — подколол Максима Гайшук. — Вдвоем вы и богов обхитрили бы.
— Сложи в сумку свои остроты и передай жене на память о ее до смерти умном муже. Ох, и поесть же захотелось после такого дела. У тебя сомины часом нет?
— Есть кусочек для воришки.
— Вот спасибо, пороскошествую, как кот возле сала, — и Максим первым понес сено в конюшню.
На следующий день он побывал и на Королевщине, и на ярмарке, сердечно встретился там с дедом Александром, который выпивал с родней и знакомыми, поздравил его с радостью, сам на дармовщину выпил рюмку и хитроумно узнал, что старик ничего не знает о ночном приключении. Это совсем развеселило мужчину, и он с ярмарки чуть ли не бежал в село, чтобы вторично съездить за дедовым сеном.
— Если оскоромили губы, так надо и в рот положить, а статья, если даже до этого дойдет, и за одну, и за две фуры будет одинаковая. Даже, если подумать, большая кража более выгодна меньшей. У нас и за тысячу, и за сто тысяч одинаково судят, — Максим исподволь излагал конюхам тонкость законодательства.
— И откуда это все тебе известно? — преувеличенно удивился Гайшук. — Или ты законы изучал, или что?
— Не законы, а щели в них, это иногда пригождается, — не кроясь, ответил Максим.
Поздно вечером он снова поехал с дедом Евменом на Королевщину, снова возле парома и овина на всякий случай просил перевоза, а потом подвел коней к стожку. И только с него слетела и улеглась на телегу шапка, как от овина послышался насмешливый, язвительный голос деда Александра:
— Может, вам, работнички, надо еще одного помощника?
От неожиданности Максим пригнулся и хотел погнать коней, но у деда Евмена вырвались глупые слова:
— О, вот и мой кум пришел к нам…
Максим в отчаянии застонал и опустил голову: убегать было уже поздно. И сейчас его добивает язвительный смех старика:
— Смотри, даже ночью узнал кума! Хорошие глаза у кого-то одолжили. — И кум Александр, сияя буйной сединой, как заснеженное дерево, подходит к телеге, здоровается с кумом и спрашивает его: — Промышляешь, Евмен, моим сеном? Хоть бы меня, для видимости, в долю взял.
— Не возьму, кум, никак не возьму, — твердеет и аж прерывается от боли и решительности голос Евмена.
— Ты чего так возгордился? — преувеличенно удивляется Александр; против Дыбенко он кажется великаном. — Почему бы тебе честно не поделиться выручкой? За работу и фурманку[36] возьмите, если надо, а немного и мне возвратите на угощение добрых людей. Я теперь, кум, гуляю — за дочь пью с людьми. И с тобой хотел бы выпить, но обижаешь, без денег оставляешь ты меня.
— Я себя, кум, больше обижаю, — аж заклекотало внутри Евмена. — Моя честь дороже твоих копеек, но с горя променял ее на сено. И не смейся, не насмехайся, Александр, надо мной, потому что, ей-бо, ударю тебя.
— Вот так! За мою рожь я же буду бит? — пораженно воскликнул кум и с улыбкой посмотрел на свой большой, будто молот, кулак — Не ждал такого от тебя!
— Молчи, кум! — и Евмен поднял руку для удара.
— Тю на тебя! — рассердился Александр. — Подраться захотелось возле моего добра? Ты лучше расскажи, что тебя приневолило приехать сюда?
— Беда заставила, кум.
— Да сам вижу, что не роскошь. Говори!
Когда старый Евмен рассказал всю свою историю, кум только головой покачал:
— За эту кражу я тебе не судья. И я держусь, кум, на том, что и кони, и земля, и все-все — это наше. А безбородьки с нашего только свое похищают себе. Поэтому они забыли уже не только о скоте, но и о людях. Вот как оно одно цепляется за другое… Забирай мой стожок до стебелька. Это даже хорошо, что ты ко мне приехал. Так я, может, пожалел бы отдать сено, а теперь некуда деваться… Только моей бабе ани гу-гу, потому что она пока что щедростью не болеет.
— Какой вы, дед, красивый! — вырвалось у Максима.
— А, это ты, трепло злоязычное! — старик кулаком погрозил Максиму и заговорил к Евмену: — И откуда оно, кум, такие клоуны берутся? Сегодня же днем этот болтун и балаболка пил мою рюмку, а вечером приехал воровать мое сено, еще и красивостью поддабривается. Так не следует ли его батогом гнать от моего стожка аж до вашего села?
— Руки заболят от такой работы, — ничуть не обиделся, а даже гигикнул Максим. В это время его чуткое ухо уловило, как кто-то зашаркал в темноте. — Ну-ка, тихонько мне. Не настоящий ли ворюга подбирается к сену? Тогда я ему дам боба, — угрожающе поднял вверх вилы.
— Ну, что ты скажешь об этом правдолюбце? — кум Александр, подсмеиваясь в бороду, взглянул на Максима, а тот аж вытаращился, подавая знаки молчать.
Скоро к овину приблизилась высокая фигура, и Максим разочарованно искривил свои толстые губы:
— Да это же наш министр без портфеля. И чего он только притащился? Часом не какую-то философию разводить?
Забрызганный, но веселый, Петр Гайшук подошел к телеге и, даже не поздоровавшись, радостно сказал:
— Снимайте, работнички, сено. Хватит вот так промышлять.
— А что случилось? — с надеждой взглянул на него дед Евмен.
— Марко Бессмертный привез от добрых людей и сено, и просяную солому. Добрый вечер, дед Александр. Вы не держите на нас большого зла? Вот и хорошо. Я всегда думал, что вы такой человек, каких мало на свете…
XVII
Привезенное сено и просяная солома сначала порадовали, а потом огорчили и встревожили Безбородько. Он, еще стоя между фурами подножного корма, ощутил, как они из темени надвигаются на него, как беды. Ну да, теперь лошадям будет легко, а ему до синей грусти тяжело. Уже сейчас, практически, от землянки до землянки аж подпрыгивает молва, что не он, а Марко спас скотину. Вот и начнут глупые языки до небес поднимать Марка, а его месить в грязи. И не одному пустозвону захочется сколупнуть председателя с председательства. Эт, никогда, практически, человек не знает, откуда ему поднесут понюхать тертого хрена.
Безбородько после этих раздумий сразу горьким стало благоухание привезенного сена. Но как тебе ни тоскливо, как ни горько на душе, однако тебе нужно улыбаться, даже от самой боли отодрать похвалу Бессмертному, хотя и шипит все твое нутро, словно поджаривают его на адском огне.
И махина чужих фур, и думы, и тьма аж сутулят Безбородько, и все равно он держит фасон — на кого-то покрикивает, кого-то распекает за бесхозяйственность. Мамуре приказывает накормить фурщиков, а потом кладет руку на плечо Бессмертному.
— Выручил, братец, практически. Даже не знаю, чем отблагодарить тебя. Ну, конечно, магарыч с меня, — так присматривается к Марку, будто хочет взглядом высверлить его скрытые мысли. — Пошли сейчас же, выпьем за твое здоровье.
— Да нет, Антон, потопаю домой — устал, перемерз.
— Вот рюмкой и прогонишь усталость и холод. Не брезгуй нами, — сдерживает и сдержать не может обиды.
— Когда-нибудь в другой раз загляну в твои хоромы.
— Ну, как себе хочешь. На прошенного гостя тяжело угодить, — Безбородько еще сдерживается, улыбается глазами, а сам ощущает, как в них проникает злость.
Несколько островерхих копен выросло возле конюшни, в конюшне кони хрустели просяной соломой, радовались люди, только не было и крошки радости у Безбородько. Он отовсюду стягивал разные мысли, просеивал их на своем решете, но мало было толку от этой работы. Так и домой шел мужчина, вымешивая мысли и меся грязь.
На дворе стало совсем по-весеннему, с тополиных и вербовых веток отряхивалось благоухание разбухших почек. Гляди, еще несколько дней пролетит — и земля пойдет в рост. Завтра же в район надо отрапортовать, что он-таки раздобыл подножный корм. Как только это с умом сделать? Дескать, трудности трудностями, но и с ними боремся понемногу… А тот дурак за свою работу и от рюмки отказался. Эх, только бы как-то украдкой выжить его из села, чтобы не баламутил людей.
У самого двора Безбородько осенила счастливая мысль. Он аж остановился, крутнул ею и сяк, и так, и вон так, распахнул ворота и довольно засмеялся, потому что еще, практически, что-то варит его казан.
— Чего это ты, муж, зубы сушишь? — отозвалась от городца[37] остроухая Мария. — Напился где-то?
— Не мели глупости. Радуюсь, потому что лошадям еда есть, — сразу же нашелся муж, подходя к плетню. — Разжились на подножный корм — и уже легче на сердце.
— Марко же, а не ты разжился, — укусила жена.
— Ну и что? А теперь и я, практически, попробую достать. Что ты там делаешь?
— Лед в сажалке разбиваю, чтобы часом лини и караси не задохнулись.
— И то дело, — похвалил жену. — Таки хорошо иметь в запасе свою линину и карасятину.
— Свою, но не для себя, — махнула рукой Мария.
— Чего же не для себя? А для кого? — удивился муж.
— Все для твоих гостей и представителей.
— Эт, не подкованная ты политически, бубнишь, как дед Евмен. Лучше сбегай к Галине Кушигиренко — пусть скорее заводит машину и подъезжает ко мне.
— Куда тебя несет против ночи? — в голосе жены проснулось давнее подозрение.
— Не туда, куда ты подумала.
— И скоро вернешься?
— К первым петухам. Беги, не болтай.
Женщина забряцала калиткой, исчезая в темноте, а он в задумчивости сперся на плетень и принялся до деталей обмозговывать свой план.
По соседству, в небольшом селе Зеленые Ворота, председательствовал старый и несильный Саврадим Капустянский. Только война поставила мужчину председателем колхоза, потому что эта работа была не по его силам. Не раз, не два Саврадим просил, чтобы его освободили от нелегкой должности. Вот пусть он теперь и ухватится обеими руками за Марка. Чем тебе плохой председатель? Такого завзятого не так легко найти!
Безбородько, увлеченный своим планом, даже не замечает, что чуть ли не впервые подхваливает Марка. Если бы удалось перетянуть его в Зеленые Ворота, то не знать какой магарыч поставил бы старому Саврадиму, пусть пьет на здоровье. Но чего Саврадиму ставить магарыч? За такое дело пусть лучше Саврадим старается на добрую рюмку. О нем же заботятся люди. Вот так — не иначе надо делать…
Спустя какой-то час Антон Безбородько степенно заходит в хату Капустянского. Бородатый, осунувшийся хозяин, кряхтя, лежал на кровати, а возле него трудилась жена, поправляя распаренное зерно и горчичники.
— Заболели, Саврадим Григорьевич? Хлебом болезнь выгоняете? — Безбородько поздоровался, натянул на щеки сочувствия и подошел к кровати.
— Да выгоняю же клятую, — мужчина нетерпеливо одной рукой отмахнулся от жены, а другую подал Безбородьку. — Трясет какая-то трясца, будто кто нанял ее за добрые деньги… Эх, лета, лета, пробормотали, как голуби, а теперь болячки и старость рыскают в теле, как ворье в амбаре. Если бы нашлись такие крюки на свете, чтобы вытянуть эту гадость. Да садись, хитрец, говори, чего приехал к старику. Ты же не просто так заехал? Что там надумал своей головой?
Сочувствие сошло со щек Безбородько, вместо него появились удивление и обида:
— Приехал, практически, проведать вас. Услышал, что недомогаете, вот и заглянул к вам.
— Крути языком, как лисица хвостом, — засмеялся и сразу же поморщился от боли Саврадим Григорьевич — Жена, у тебя есть что-то в печи?
— Только диетическое…
— Вот и давай этому лису диетическое.
— Как тебе не стыдно, будучи больным, такое плести!? — крикнула жена и, обернувшись, улыбнулась. — Еще человек через порог не переступил…
— Потому что этому человеку что-то надо от старика. Он даром порог не переступит, — засветилось бывшее упорство во взгляде Саврадима. — Ну, в каком месте тебе припекло?
— Эт, после такого приветствия потянуло на прощание, — надулся Безбородько. — За такой почет и сам получишь болезнь. Да и бывайте здоровы. Соседский привет вам, — оттопырил шапку на голове и собрался уходить.
— Да куда ты, оглашенный!? Смотри, уж и рассердится за правду на старика! — удивился и вознегодовал Капустянский. Рассыпая зерно и срывая горчичники, он соскочил с кровати и обеими руками усадил Безбородько на скамью. — Старуха, ставь что-то на стол, потому что, видать, Антон таки по-добрососедски приехал.
— Поставлю без твоей команды. А ты ложись скорее, — заахала жена.
— И не подумаю! Вот гости будут сидеть, а я лежать? — начал одеваться Саврадим.
— Так как же хворь отойдет от тебя, непутевого? — всплеснула руками жена.
— Трясет она меня, и я буду ее трясти! — погрозился на кого-то кулаком. — Хорошо тебе, Антон, что ты здоровый, как бут. К севу уже все подготовил?
— Эт, и не спрашивайте. Семян не хватает, скотина не того…
— У меня дела как будто получше, да здоровье вытекло, как вода… — старик вытер ладонью пот и тяжело сел на стул. — Мне бы уже на печи или на завалинке покашливать понемногу, а не председательствовать. Кручина поедом ест, что оказался на старости лет не на своем месте.
«Чудило», — насмешливо подумал Безбородько, а на лице изобразил сочувствие и душевно заговорил:
— Берегите себя, Саврадим Григорьевич, потому что здоровье не одолжишь и не прикупишь.
— А как его беречь, когда столько работы лежит на тебе?
— Оно такое дело, — Безбородько изобразил, что он призадумался, а потом сказал:
— А может, Саврадим Григорьевич, я мог бы что-то посоветовать вам?
— Советуй, советуй, послушаю.
— Э, какой вы быстрый, — Безбородько многозначительно погрозил пальцем на старика. — Ставьте магарыч, тогда скажу кое-что, может, и поможем вашей беде.
— Я тебе не магарыч, а целую канистру поставлю, если выручишь старика! — с надеждой, любопытством и подозрением взглянул на плута.
— А где она, эта канистра? Считайте, что она уже моя! — засмеялся Безбородько.
— Ну, не тяни, как богатого за печенки, говори уж!
— Скажу, если такое нетерпение, практически, берет. Марка Бессмертного помните?
— А кто его в районе не помнит.
— Вот и агитируйте, чтобы он взялся за дело. Пусть такая голова не ходит безработной. Вы же знаете, какой он хозяин? Это — кадр!
— Ты будто дело говоришь, — обрадовался старый, а потом засомневался: — А пойдет Марко на такой маленький колхоз?
— Это дело, считайте, в ваших руках. Марку сейчас даже лучше иметь небольшое хозяйство, потому что он еще на костылях ковыляет. У вас ему будет спокойнее. Ну, вот и надо создать ему условия, хату найти или построить, потому что он, горемычный, в землянке чумеет, то-се сделать, и дело закрутится колесом. Так заработал я магарыч?
— Заработал. Спасибо тебе за совет.
— Почему же не помочь доброму человеку, — великодушничал Безбородько.
Капустянский встал со стула и крикнул к жене:
— Слышала, старая, план!
— Не оглохла же!
— Так, где мой кожух?! Сейчас же поеду к Марку!
— Не дам! Никуда ты не поедешь. Ты в своем уме!? — в ужасе закричала жена.
— Врешь, поеду! — гневно взглянул на свою пару. — Еще и тебя для помощи прихвачу. Посмотрит Марко на нас и уважит мне. Слышишь?..
Но женщина уже не слушала мужа. Зная его характер, она метнулась к вешалке, сорвала с нее кожух и пальто и проворно побежала к дверям.
— Куда!? Подожди, бесовское семя! Да я тебе! — вознегодовал мужчина и себе бросился к порогу. Но женщина грохнула дверями и скоро под окнами затопали ее быстрые шаги.
— Вот видишь, с каким я чертом всю жизнь прожил? Антон, догони ее, ведьму! — в сердцах ударил кулаком в дверь.
Безбородько засмеялся:
— Теперь ее, практически, и машиной не догонишь, видно, даже духу вашего боится.
— Ты же видел, как боится. Бабы — всегда бабами остаются. Все плачется возле старика и не знает, что его свечка догорела до полочки. Что же мне теперь делать? Такое дело не хочется откладывать на завтра, — вытер пот, который аж лился с лица.
— Ехать вам сейчас нельзя, — благоразумно сказал Безбородько. — Напишите Марку письмо, душевное, со слезой, это он любит, и, практически, приглашайте к себе в гости. Это он тоже жалует, — и осекся, вспомнив, как Марко сегодня отказался прийти к нему…
— Бумага бумагой, а самому лучше было бы поговорить с ним, — вздыхая, сел на стул…
На следующий день Безбородько заехал к Бессмертному и с порога весело сказал:
— Не хотел, Марко, прийти ко мне на магарыч, так теперь ставь свой!
— За что?
— За эту штуковину! — вынул из кармана конверт и торжественно передал Марку. — Зеленые Ворота, практически, просят тебя председательствовать.
Марко прочитал письмо, пристально взглянул на гостя и ничего не сказал. Безбородько заволновался:
— Так как ты?
— Не знаю как. А старика проведаю.
— Проведай! И председательствовать иди, не прогадаешь. Там и земля лучше, и село не сожжено, и хозяйство небольшое — спокойнее будет тебе. Словом, ставь магарыч!
— А может, Антон, ты поставишь?
— Чего же я?
— Отступаю это председательство тебе. Согласен? — прищурился Марко. — Там лучше будет.
— Чего так думаешь? — растерялся Безбородько.
— Потому что там и земля лучше, и село не сожжено, и хозяйство небольшое, и сватать меня на председательство не придется — все меньше будешь иметь хлопот на свою очень умную голову, — засмеялся Марко.
— Доброго нашел себе свата, — не знает, что сказать Безбородько, но видит, что его план с треском провалился… «Выпьешь у такого черта рюмку, пусть она тебе в горле оледенеет…»
XVIII
Ставки — это голубые глаза земли, ей тоже надо смотреть и на солнце, и на зори, и на людей, и на эти зеленокорые вербы, что взялись за руки, как девчушки, и ведут свой хоровод.
Чинный аист, высоко подняв штаны, критически смотрит на воду, которая перекинула вербы вверх ногами и, будто попрекая ее, покачивает головой и удивляется: почему она так обеднела — даже жаб нет? Птица и не догадывается, что их за войну поели какие-то фашистские вояки. Сначала деликатным мясом лакомились и высшие, и низшие чины. А когда жабье царство задышало на ладан, лягушатину потребляли только офицеры. Тогда возле двух огромных кадушек с пучеглазыми и широкоротыми квакушами даже выставлялась при полном вооружении дневная и ночная стража. Думали ли когда-то жабы о таком почитании?
Вспомнив этот рассказ, Марко рассмеялся и испугал недовольного аиста. Тот настороженно повернул к человеку красноносую голову, но сразу успокоился и с достоинством задыбал по сырой прибрежной полоске, в напрасной надежде поднять с нее хоть какого-то глупого лягушонока.
За плотиной, в ложбине возле двух осокорей, на освещенной воде покачивающих свои тени, Марко увидел изрядную кучу растрепавшейся за зиму конопли. Полураздетые пучки матерки с отставшим волокном, с отломившимися верхами будто жаловались на человеческую бесхозяйственность.
«Чего же их вывезли к воде? — никак не мог понять мужчина. — Не могло же кому-то прийти в голову вымачивать матерку в ледяной воде… Не попробовать ли тут?»
Марко удобнее примостился за коноплей, размотал свою копеечную удочку, наживил крюк, поплевал на него, почти без надежды закинул его: «Ловись, рыбка, большая и маленькая!» К конопле прибрел аист, величественно остановился, и Марко подумал, что теперь, наверное, у птицы и у него будет одинаковый улов. Но неожиданно поплавок — торк-торк — и задрожал, а потом мелко пошел вперед и нырнул в воду. Мужчина в волнении, не подсекая, потянул удочку. Из воды, отряхивая брызги, выпрыснул радужный слиток и упал на траву. Это был серебристый, с золотым отливом карась. Темным глазом он трогательно и больно смотрел в высокое небо и не понимал его. Марко снова закинул свою снасть, и в течение каких-то пары минут так же затанцевал поплавок и, не утопая, пошел по воде… И на этот раз поймался карась, но он был крупнее и глупее первого: успел вобрать вглубь свою смерть — весь крюк.
«Вот завтра с Федьком придем сюда», — подумал Марко.
Пока он радовался рыбалке, от ставка донеслись возмущенные женские голоса, их утихомиривал густой ворчливый голос Тодоха Мамуры, а потом отозвался и грозный Антона Безбородько:
— Что вы мне бабский бунт поднимаете? Ишь, как развинтились за время оккупации!
— Бессовестный, чего ты нам выбиваешь глаза оккупацией!? — как боль, взлетел женский вскрик.
— Чтобы собственнические идеи выбить из вас.
— Со своей жены сначала выбейте! Кто-то за время оккупации в неволе умирал, а она аж в Транснистрию спекулировать ездила! — отозвалась Варька Трымайвода.
— А ты видела? — вызверился Безбородько.
— Конечно!
— Так вот гляди, чтобы своего села не увидела. За агитацию и к белым медведям недалеко.
— Только с вашей женой вместе! — отрезала Варка. — Меня ты на испуг не возьмешь.
— Да что вы, бабоньки, побесились или дурманом сегодня позавтракали? Разве же пряжа для меня или для председателя нужна? Все же для фронта, только для него! — Подобрел голос Тодохи Мамуры.
— Так бы сразу и говорил, а не пугал нас. Мы уже с сорок первого года пуганые.
Марко выглянул из своего тайника. К коноплям приближалась группа девушек и молодиц, а за ними ехали на лошадях Безбородько и Мамура. Некоторые женщины были с лопатами, у некоторых за плечами качались вязки лоснящихся свясел, с которых стекали капли воды и солнца. Сомнений не было: председатель гнал женщин мочить коноплю. Марко сначала оторопел, а потом вспыхнул от гнева. О чем же Безбородько думал в теплые предосенние дни? О чем же он думает теперь, на увечье посылая матерей и девушек!?
Возле конопли все остановились, кто-то из девушек согнулся над ставком, черпнул рукой воду.
— Ну, как, Анна?
— Немного теплее, чем на Крещение. Еще кое-где лед под берегом блестит…
— Вы, бабы, горячие, сразу нагреете воду, — пошутил Безбородько.
— Совести у вас нет ни на копейку, — задрожал от злости и слез голос Варки Трымайводы. — Это же мы все принесем домой простуду и колики. Разве мы колхозу только на один день нужны?
— Выйдете, как перемытые, — успокоил Безбородько. — А чтобы и другие стали деликатнее, не покашливали и не морщились — пошлю за водкой. Кто имеет такой-сякой запас?
— У меня есть, — отозвалась Мавра Покритченко, ее лицо, казалось, было обведено самой печалью.
— У тебя? — недовольно взглянул на вдовицу Безбородько. Кто-то из женщин значительно покосился на председателя. — Ну что же, давай ключ, Тодох в один чирк сгоняет верхом.
Мавра подошла к завхозу, с презрением ткнула ему ключ, и Тодох, крутнув коня, исчез между вербами.
— Ишь, как потянуло на дармовую водку! — и здесь не удержалась Варька.
Безбородько неодобрительно покачал головой:
— Разве ты, добрая женщина, не можешь хоть бы на часик удержать язык на привязи? Вон младшие смотрят и учатся у тебя ослушанию, — показал на девушек, которые уже пеленали свяслами высушенные пряди конопли.
— Моя наука не краденная и не пойманная, — повеяла юбкой Варька и упорно, как огонь, начала работать.
Безбородько слез с коня, взглянул на часы, потом прищурился на солнце:
— Вот видите, и припекает сегодня. Значит, потеплеет вода. Ну, бабоньки, кто самый смелый из вас? — А когда увидел, что первой пошла в воду Мавра, сердито остановил ее: — Чего впереди батьки в пекло лезешь? Младших нет? Лучше вяжи мандели[38].
— Таки хоть одну пожалел. С какого бы это чуда? — отозвался чей-то придирчивый голос.
Мавра покраснела, молча вошла в воду, а за ней побрели Ольга Бойчук и Василина Куценко.
— Стойте, прыткие! — крикнул к ним Марко Бессмертный, дыбая к женщинам. — Ну-ка, выходите быстро!
Женщины изумленно переглянулись между собой, зашептались. Их всех поразило лицо Марка, даже Безбородько сначала растерялся и подал какой-то знак Мавре, но она, как стояла в воде, так и осталась стоять, хотя девушки уже выскочили на берег.
— Выходи, Мавра! — коротко приказал Марко. — Русалкой или калекой хочешь стать? Это недолго при таком начальстве, — Беспросветным мраком взглянул на Безбородько.
Женщина безразлично, безвольно опустив руки, вышла на берег. С подола ее плохонькой юбки зажурчала вода. Марко круто обернулся к Безбородько:
— Новое крещение Руси придумал? Святым Владимиром хочешь стать?
— А тебе, практически, какое дело, кем я хочу стать!? Вишь, каким умным по истории выискался! Я еще покажу кому-то науки! Поучишь их — поумнеешь!.. Ты чего мой авторитет на людях подрываешь!? — и себе вызверился Безбородько. — Если нечего делать, хромай домой. А нам пряжа нужна.
— Надо было не вывозить ее ночами за облака.
— Мне не такие умные пишут указы. Бабоньки, чего развесили уши, безобразие слушая? В воду! — шикнул руками на женщин.
— Нет, голубок, они в воду не полезут! — отрезал Бессмертный.
— А кто же полезет!? Может, мне прикажешь? — в глубине глазниц Безбородько задымились тени.
— И прикажу! Ну-ка, лезь! — шагнул к нему Марко, а женщины испуганно ахнули.
— Я!? — позеленел от злости Безбородько. — Ты обезумел или забылся, с кем говоришь!?
— Лезь, жаба! И не раздумывая! — в глазах его уже кипел мрак.
— Марко, приди в себя! — уже перепугался Безбородько, поняв, что это не шутки. Под кожу, прямо в кровь, кто-то бросил ему горсть мурашек, и они, разъедая смелость, горячо побежала по всем жилам. Оступаясь, он спиной подался к коню.
— Я что сказал!? — Марко дрожащей рукой вынул из кармана пистолет. Черное отверстие его выбило из Безбородько последние капли смелости, а вместо них отравляла кровь едкая мошкара.
— Не шути, Марко, — завопил дурным голосом, а растопыренная пятерня его повисла в воздухе, не дотянувшись до повода.
— Лезешь? Раз… Два…
Марко сейчас имел такой бешеный вид, что Безбородько, уже притершийся спиной к коню, поднял руки вверх и испуганно воскликнул:
— Сдаюсь, то есть лезу… Но это насилие над председателем. Запомни, — жалкий в своем падении, он как не своими ногами подошел к воде и, когда в ней увидел себя плененным с поднятыми руками, снова ужаснулся, скособочился и попросил Марка: — Ты пристыдил и осрамил меня. Так, может, по-доброму на этом и кончим комедию.
— Она только начинается. Топай!
— Марко, зачем же нам судиться?
— Ты еще и о судах не забыл? Так я тебе сейчас буду судьей! Ольга, подавай своему председателю лопату. Причем самую увесистую. Силы у него, как у бугая.
Девушка, смутившись, выполнила приказ. Безбородько брал эту лопату как гадину. Он еще надеялся, что Марко опомнится и не принудит его прикапывать коноплю. Но и это ожидание развеялось, когда ему подали первые мандели. Он утопил их в воду, приколол кольями и начал срывать со дна болотную землю. А вода уже делала свое дело: хлюпала в сапогах, огнем обжигала бедра, каплями вспухала под ресницами и щемила слезами стыда и злости. Хоть бы никто не увидел их. Нагнувшись, он украдкой вытер глаза, а сам придумывал самую страшную кару для своего обидчика.
«Зажили твои язвы на ноге, так новые наберутся по всему телу. Уж я постелю тебе дорожку к дому с железными решетками». Чувство мести начало побеждать стыд, лишь не могло одолеть противного холода. И только теперь он подумал, что лучше было бы мочить коноплю в ямах. Почему это раньше ему не пришло на ум?
— Марко, брось эти шутки, потому что пропаду, — опираясь на лопату, обернулся к Бессмертному, но избегал его взгляда.
— Уже наработался? — злопыхательское удивление искривило губы Марка. — Отстоишь в воде вдвое дольше, чем должны были отстоять женщины.
— Почему же вдвое?
— Потому что тебе не надо рожать детей! — непримиримо взглянул на Безбородько и услышал, как кто-то из женщин вздохнул.
Это была Мавра. При последних словах Марка в ее диковатых голубых глазах встрепенулся серый страх.
У плотины забухали копыта. Тодох Мамура, держа возле груди, словно дитя, четвертину с самогоном, молодцевато подъезжал к женщинам.
— Вот она, веселуха! — радостно воскликнул и осекся. Четвертина выскользнула из его рук, упала на землю, но он и не посмотрел на нее, прикипев испуганным взглядом к фигуре своего начальника, который с лопатой в руках наклонялся над манделями. Тодох даже глаза закрыл и покрутил головой, отгоняя от себя, как ему казалось, сатанинское наваждение. Но Безбородько на самом деле стоял в воде.
— Ой-ой, что здесь произошло? — шепотом, ни к кому не обращаясь, спросил Мамура.
— Может, поможешь председателю? — отозвалась Варка Трымайвода. Она подняла четвертину, всунула в руки Мамуре. — Угости своего кормильца.
Тодох боязливо посмотрел на Марка, прибедняясь, согнулся в три погибели:
— Можно хоть одной рюмочкой помочь, чтобы кровь не застоялась?
— Помогай!
Мамура выхватил из кармана стограммовую рюмку, налил ее до краев и бережно понес председателю, демонстрируя ему глазами и всей фигурой свою льстивую преданность и сочувствие. Безбородько одним духом перекинул рюмку.
Завхоз подошел к Марку и шепотом заговорил:
— Ведь так и пропадет человек, у него же партизанская ревматизма, у него же жена. Зачем же нам калечить друг друга? Вы соседствовали когда-то, и ваши родители соседствовали. Чего на веку ни бывает: поскандалили, но сразу помирились.
Гнев у Марка уже начал остывать, и в этой истории он сейчас уже видел и смешное.
— Вылезай, мочильщик! — обратился к Безбородько.
Тот, кряхтя, вышел на берег, начал разуваться и выливать из сапог воду, а Мамура трудился возле четвертины, потому что надо было водкой и напоить председателя и натереть его закоченевшие ноги.
Село никогда так не встречало Безбородько, как сегодня. На улицу вышли старые и малые. Даже конюхи и скотоводы оставили работу, чтобы увидеть, как будет возвращаться с купания их председатель. И вот на околице появились два всадники, один понурый, а другой угодливо пригнутый, с бутылью в руках.
Увидев впереди столько людей, Безбородько забеспокоился:
— Какого им черта торчать в рабочее время?
На это и верный Мамура ничего не мог ответить. В его темной душе сегодня тоже покачнулась вера в Безбородько. Хорошо, если он упечет Марка в тюрягу, а если эта чертова конопля окончательно подмочит авторитет председателя? Тогда и тебя, Тодоша, вырвут из начальства, как луковицу с грядки. В бутыли тихо всхлипывала водка, словно сочувствовала завхозу.
Издали Безбородько не может разобрать, что написано на лицах людей. Сначала вся улица, кажется ему, слилась в единый коловорот насмешки, даже дерево возле собравшихся баб оскалило комли. Но подъезжая ближе, он видит сочувственные взгляды. Это ободрило его. Но почему вдруг то тут, то там веселеют глаза? Он хочет на чьем-нибудь лице перехватить, поймать эту веселость, и снова ловит жалость, неизвестно, мнимую или истинную.
С другого конца улицы выбегает растрепанная, в полушубке нараспашку его жена и еще издали начинает голосить:
— Ой Антончик родной, живой ли ты, здоровый ли, не утопил ли тебя этот идол на костылях, чтоб его топила и благовещенская, и святоюрская, и святоивановская, и крещенская вода, пусть бы его топило, не переставало и в лужах-мочажинах, и в морях-океанах.
— И в водке-калгановке, — неожиданно для себя выпалил несмелый Емельян Корж.
И вся улица сразу же взорвалась таким единодушным хохотом, что под всадниками испугались кони, а из рук Мамуры выпала бутыль и, жалобно звякнув, разбилась на две половины.
— Ая-яй, — запричитал Мамура, соскочив на землю, зачем-то хотел наклониться к осколкам бутыли, но перецепился и ничком упал под ноги коню.
Второй взрыв смеха пригвоздил Мамуру к земле, загудевшей под конскими копытами: то убегал от людей, от их хохота Антон Безбородько. Мамура встал, глянул вслед всаднику и понес жалкую улыбку навстречу людям:
— Вот шпарит-драпает.
— А ты почему же не догоняешь? — спросил длинноногий, как цапля, Емельян Корж.
— Я? — удивился Мамура. — А может, это мне без большой надобности!
— Безбородько без надобности тебе? — аж падали от хохота люди. — Вот выдал!
— Что имел, то и выдал, — огрызнулся Мамура.
Он, равнодушный, сел на коня и поехал, чтобы все видели, в свой двор, что-то крикнул жене, а потом поспешил во двор своего владыки.
Безбородько уже успел переодеться, выпить полыновки и под проклятия и причитания толстоногой Марии залезть на печь выгреваться в распаренном просе.
— Сразу же тут, на печи, пишите донесение, — с порога советует Мамура. В голосе его аж клокочет негодование.
— Кому писать? — печальная злость вынырнула из глубины зрачков Безбородько.
— Во всякие и разные инстанции, в разные! Как нагонять, так нагонять страха до самого страшного суда! Мария, подай бумагу, — уже командовал Мамура. — Во-первых, начальнику милиции — за утопление и оскорбление лица председателя, которого было названо жабой. Во-вторых, органам за диверсию! В-третьих, собственноручно первому секретарю райкома за подрыв политики. В-четвертых, в газету — за все разом и вместе. Потом посмотрим и увидим, кого топили, а кто захлебнется!
— Не многовато ли так разведем канцелярии? — засомневался Безбородько.
— Маслом каши не испортишь! Коли есть преступление, должно быть и наказание. А Марко такой, что с одной сети сможет выпрыснуть, хоть и на костылях. Пусть попробует с нескольких выскользнуть! — уверенно ответил, и Безбородько увидел на его лице давнюю решительность Мамуры-вора, где-то притаившуюся с тех пор, как он стал завхозом.
Мария подала на печь доску, на которой вымешивала тесто, чернильницу, ручку и бумагу. Безбородько, лежа на животе, наморщил лоб.
— Эх, жаль, что не было в это время какого-то писателя, он бы нарисовал картину, — пожалел Мамура.
— Как-то обойдется без литературы, — буркнул Безбородько.
— И Киселю надо об этом написать. Это такой теоретик, такой теоретик… — и не досказал.
На крыльце послышался топот, и в дом влетела его дородненькая Наталка. Поднимая вверх руки, она не своим голосом закричала:
— Ой люди, ой людоньки добрые…
— Наталка, что с тобой!? — перепугался Мамура. — Что там случилось?
Жена посмотрела на мужа глазами, полными слез, в которых дрожали боль и радость.
— Ой людоньки, ой Тодоша, жива наша Галя! Жива наша перепёлочка! Освободили ее наши воины из неволи! Ой, даст бог, дождемся своего дитятка!
Потрясение пришило Мамуру к полу. Он побледнел и глухо спросил жену:
— Кто-то передал, что живая?
— Только что почтальон письмо принес. Сама пишет, своей рукой.
— Где же это письмо?
— Дома на столе лежит.
— Глупая баба, не могла захватить его? — не прощаясь с Безбородько, Мамура выскочил за порог, оттуда махнул рукой: — Пишите! — и бегом подался домой.
В недостроенной, на две половины, хате Тодоха уже сидел льстивый кладовщик Мирон Шавула, который всегда первым в селе узнавал о рождениях и смерти, счастье и горе. Его кабанистая фигура, и заросшее седой, серой и рыжей щетиной лицо, и мелковатые глаза налились сочувствием и радостью.
— Такой уж я взволнованный, Тодоша, такой взволнованный, что устоять на месте не могу. О! Читай! — сначала понюхал, а потом протянул завхозу голубой, будто вытканный кусок бумаги.
— Она, дочь! — глянув на буквы, узнал Мамура, пробормотал про себя какие-то слова радости и пристально взглянул на фото: — Уже совсем девушка! А это с ней не Маркова ли Татьяна?
— Она же! — подтвердил Шавула. — Выкапанная Елена. Погуляем, Тодоша?..
— Почему и не погулять!? Сыпь, жена, что варила, — крикнул на весь дом, из-под печки достал четвертину самогону и поставил ее возле письма, которое не буквами, а уже глазами единственной дочери смотрело на него. — Радость, Мирон, у меня.
— Еще бы не радость! — кладовщик расстегнул свитку, отвязал от пояса поморщенное кольцо колбасы и, сияя всеми красками щетинистой бороды, самодовольно бросил его на стол: — Заграничная.
— В трясцу ее! Не хочу заграничного. Сколько там дети намучились наши.
— Глупый, то дети, а это колбаса. Понятие надо иметь, о! — поучительно сказал Шавула и раскапустился за столом, потому что надоело переминание с ноги на ногу. — Садись, — глянул на Мамуру и с удивлением впервые увидел в его глазах некое подобие бабской беспомощности.
Даже такой вор может переживать, — удивился и философски сказал:
— Люблю, когда есть причина выпить и дать работу зубам и желудку. Каким-то тогда человек более интересным становится.
— Когда же она может прибыть? — вслух думал о своем Мамура.
— Коли живая, то прибудет, а неживая — не встанет с земли, — дальше разглагольствовал Шавула. — Правда ли, что хулиганского характера Марко искупал Безбородько?
— Так ему и надо! Чего захотел: женщин простудить и девушек заодно! — вырвалось у Тодоха, но он сразу же остро глянул на Шавулу: — Гляди мне, не внеси только нашему в уши, а то оглохнешь.
— И снова глупый, — огрызнулся Шавула. — Не сегодня же я на свет родился, чтобы не знать политики, вот Наталка, не пора ли нам что-то в кишку вбросить?
— Сейчас, Мирон, — женщина счастливыми слезами кропила очерствевший хлеб, рукой вытирала их и роняла новые.
— Пересолишь хлеб, — не выдержал Шавула.
— Я сейчас другой достану, — опомнилась Наталка.
— Можно и этот хлеб, ты же не заразная, — успокоил ее кладовщик.
— Ну, как ты можешь? — с укором сквозь все слезы взглянула на кабанистого Шавулу, который даже удивился: «А что же он такого сказал? Тоже мне антеллигенцию корчите, будто не знаем, с чего ты жила и чем живешь».
Но Шавула не знал, что Наталка прокляла свою судьбу в ту самую ночь, когда муж принес краденное добро. Он тогда пригрозил ей за глупое слово ножом выбрать душу. И с той ночи ее охладевшая душа уже не жила, а прозябала, ежедневно и еженощно ожидая нового несчастья.
Уже хозяева и гость хорошо пообедали, когда отворилась дверь и на пороге встал бледный от волнения Марко Бессмертный.
— Вот такое. А я думал, Марко, что ты уже в тюрьме прохлаждаешься, — расползлась улыбка по всей щетине Шавулы.
Бессмертный даже не глянул на кладовщика.
— Тодоша, что в письме о моей дочке написано? — с мукой и надеждой взглянул на Мамуру.
— А он тебе не скажет, что там написано, — неожиданно для всех отрезал Шавула и встал из-за стола.
— Почему не скажет? — еще больше побледнел Марко.
— Потому что ты копаешься и подкапываешься под нас, — Шавула взял с подоконника конверт. — Вот оно, письмо, как миленькое… Сними шапку, поклонись, тогда и покажем!
— Шапку только перед богами снимают! — Марко люто взглянул на Шавулу и даже не почувствовал, как из-под рук выпали костыли. Он без них так ступил шаг и другой, что Шавула со страхом качнулся назад. — Давай письмо, негодяй!
— Да бери… Я же пошутить хотел, — в мелких зеницах кладовщика скрестились злость и страх.
Марко дрожащими руками выхватил конверт, достал фото, прикипел к нему, застонал, потом беспомощно оглянулся и начал ребром ладони вытирать глаза.
— Марко Трофимович, дорогонький… — и себе заплакала Наталка.
— Где она теперь? — глухо спросил женщину.
— Ой не знаю, дорогой человек, ничего не знаю. Развела же их страшная кривда еще в сорок четвертом, развела, как гром — голубят.
— За политику забрали ее, — с сочувствием сказал Тодох. — Только какая политика была у этих детей?..
XIX
Первыми к Марку пришли конюхи с дедом Евменом и Григорий Заднепровский. Дед Евмен, еще не успев снять блин картуза, загремел на всю землянку:
— Не ждал такого от тебя, Марко: либерал ты и попуртунист!
Таких слов Марко не надеялся услышать от деда и расхохотался.
— Почему же я, деда, либерал и попуртунист?
— Он еще и смеется, а не раскаивается! — возмутился старик. — Скажи, что ты сделал с Безбородько?
— Да разве же вы не знаете? Искупал немного.
— Искупал немного! — перекривил старик. — А еще фронтовик! Утопить надо было вора и никак не меньше! Хоть бы одни веселые похороны справили.
— Ей-бо, взбесился человек! — всплеснула руками мать, а все кроме деда Евмена засмеялись.
— Неужели тебе, Анна, жалко было бы чертового Безбородько? Может, еще и плакала бы за этим приставалой? — начал допытываться у матери старик.
— Бессовестный и еретический ты дед. Хоте бы, чтобы моего сына по судам затаскали?
— Не затаскали бы. Всю вину святая вода взяла бы на себя, — успокоил ее старик. — Но тебе, Марко, надо куда-нибудь исчезнуть на эти дни, потому что уже посланцы, как в жатву, помчали с бумагами и в райком, и в райисполком, и в редакцию, и в милицию, и к прокурору. Наконец пошел Безбородько воевать, и здесь он своего не упустит.
— Что оно только будет? — заплакала мать и, как перед новой разлукой, не спускала глаз с Марка.
— Да ничего сурьезного не будет, а беречься надо. Может, завезти тебя, Марко, на Королевщину? Это пока перекрутится веремия[39]. Там, в круговине[40] над рекой, стоит рига моего кума…
Конюхи, вспомнив, как дед Евмен ездил туда за кумовым сеном, засмеялись, а дед Евмен вытаращился на них:
— Чего пораскрывали рты? Разживитесь на такого кума, тогда и хохочите. Так вот, Марко, чертов Антон даже загубить тебя не постесняется. Пока здесь будет молотиться, ты с моим кумом возьмись рыбачить. Он повезет тебя на такие, слышишь, богатые карасями места, что и не снились никому. Недаром это урочище называется Королевщиной! Можешь на рассвете поехать щук бить. И тебе передышка будет, и куму радость. А мы всюду пустим молву, что ты поехал долечиваться. По рукам? — крепко ударил всеми мозолями по разнеженной по госпиталям руке Марка.
— Соблазн таки большой побывать на местах, богатых карасями, — заискрились глаза у Бессмертного. — Кум ваш исправный рыбак?
— Всю жизнь, как аист, в воду заглядывает, только к ней, а не к домашним благополучиям тянуло его. А какой он лодочник! Сделает лодку, как скрипку, — хоть играй на ней. И человек он душевный, потому что живет на человеческом перевозе.
— Так ваш кум лодочник? — вспомнил Марко седоголового, высокого дедугана, который летом всегда ходил в полотняной одежде и был чем-то похож на вздыбленное белое облачко. — На Королевщине паромом перевозит?
— Конечно, сызмала на пароме. Только при немцах не перевозил никого, кроме партизан. Хочешь, сейчас же в аккурат и завезу.
— Подожду, деда, — с сожалением сказал Марко.
— И сегодня же дождешься милиции. А она уж знает свое дело: имя — в протокол, а человека — в каталажку. Зачем тебе иметь эту коммерцию?
— Заработал ее, дед.
— Заработал, заработал! Безбородько не то еще заработал, а все время выкручивается в праведника. Его бы судить, что женщин в воду погнал, так они же ни в милицию, ни к прокурору не побегут.
— Надо, чтобы побежали. Это поможет Марку Трофимовичу, — отозвался Заднепровский.
— Пока это поможет, так время уже на стороне Безбородько. Это тоже надо понимать! Так вот, чтобы как-то и его, и наше время вошли в одинаковую силу, Марку надо ехать к моему куму.
— А в самом деле, время надо выиграть, — Григорий Стратонович вопросительно взглянул на Бессмертного.
— Постараемся без кума выиграть его, — улыбнулся Марко, — ведь что бы пришлось делать на белом свете, если бы у деда Евмена не было такого хорошего кума?
— Эт, умный человек, а мелете черте батька знает что! — рассердился старик. — Конечно, тебя не повесят за купание, но горькой желчи наглотаешься, потому что сейчас, после всех заявлений Безбородько, твое лежит снизу. Таки надо было утопить чертяку! Скорее бы его место занял!
— Как из лет, так и из ума, — безнадежно махнула рукой мать.
Григорий Стратонович встал со скамейки:
— Что же, когда Безбородько развил такую бурную деятельность, я, Марко Трофимович, потопаю сегодня к секретарю райкома.
— Не стоит.
— Чего там не стоит, пусть знает человек правду, — отозвался Гайшук.
— Кто секретарствует теперь у нас?
— Иван Борисенко.
— Черный, как цыган, — снова подал голос дед Евмен. — Когда впервые приехал к нам и начал своими глазищами осматривать все руины и все наше благосостояние, мы чуть ли не все сразу и решили: «Этот, глазастый, будет драть и со скота, и с людей, и с земли. Ничего не пропустит, никого не пожалеет, чтобы без орденов не ходить». И что ты думаешь, Марко? Все ошиблись. Ордена он и за войну имел, не надо было их из планов выжимать. Мужчина он оказался крепко душевный, а не печеночник. Ну, а глаза до сих пор имеет строгие, даже когда смеется. Это уж природа!..
Под вечер к землянке на забрызганном коне подъехал участковый милиционер. Пока он вытирал коня и подвязывал ему изгвазданный хвост, то успел рассердиться и в землянку спускался исполнять служебные обязанности не в безоблачном настроении.
— Здесь живет партизан Марко Бессмертный!? — ударил каблуками на пороге, отдал рукой честь, а глазами угрозу.
— Здесь живет солдат Марко Бессмертный, — встал навстречу участковому.
Костыли немного подействовали на гостя, он уже спокойнее осмотрел Марка, крутнув головой, и снова приложил руку к картузу:
— Честь имею — участковый милиционер Дорошенко. Значит, здесь живет солдат? А действия — партизанские?
— В зависимости от времени, обстоятельств и сил.
Ответ понравился участковому, и в его грозных глазах теплее сверкнули искры цвета недозрелой смородины.
— Правильно, служба! Сам так действовал — в зависимости от времени, обстоятельств и сил. Так поговорим душевно?
— А разве выйдет у нас душевно?
— Кусаешься, служба?
— Где там кусаться — дрожу перед него величественностью протоколом.
— Так и надо, — одобрительно кивнул головой. — Перед ним и генералы дрожат.
— В их чине перед протоколом страшнее.
— Ты, служба, оптимист! — засмеялся участковый. Подследственный начал ему нравиться. — Давно воюешь?
— Это тоже для протокола?
— Нет, для знакомства.
— Тридцатого июня сорок первого года стукнулся с десантниками. С того времени и пошла жизнь с переменным интересом: то меня били, то я бил.
— Раны болят?
— Нет, ноют.
— Хоромы для них не подходящие. Древесину свою быстро порубишь на дрова? — посмотрел на костыли.
— К весеннему Николаю.
Участковый удивился:
— Почему такая точность?
— Потому что люблю сеять гречку.
— Гречку, говоришь!.. Как она только пахнет! — призадумался и нахмурился милиционер. — Довелось мне в сорок первом обороняться на расцветшем гречище[41]. Минометы бьют — спасения нет, осколки фыркают, как чертова начинка, а гречка аж гудит от пчел и так пахнет, будто сама на меду вырастает. И еще я тогда впервые заметил, что пчелы в войну и ночью работали.
— Как и народ, — тоже призадумался Марко.
— Истинно, как народ! Хорошо сказал! — уже с приязнью взглянул на подследственного. — На том медосборе и подкосило меня. Когда пришел в себя, стебли гречки показались большими-большими; на них опять-таки вели хозяйство пчелы, собирали мед уже не здоровым, а раненым. Что же у тебя, служба, с Безбородько вышло? Конфуз?
— Думаю, для Безбородько.
— Опровергаете факты?
— Нет, утверждаю. Вынимай протокол.
— Пока что послушаю так, — милиционер не торопится расстегивать планшет, а сам присматривается к Марку. — Будем говорить как солдаты одной судьбы?
— Вон как! Тоже хорошо сказал. Да, будем говорить языком солдат одной судьбы. Слушай…
Когда Марко закончил свой рассказ, участковый молча встал, вышел из землянки и скоро вернулся с бутылкой явно медицинской формы. Он сам нашел две глиняные стопки, наполнил их и произнес единственный тост:
— За правду, какой бы она ни была!
— За правду! — с признательностью посмотрел на него Марко.
— А больше мне пить не положено. С этим бывай здоров, Марко Трофимович. Заеду на весеннего Николая: вместе пойдем сеять гречку! Согласен?
— Спасибо.
В колхозе участкового озабоченно остановил Безбородько, с чувством пожал ему руку:
— Как оно дела?
— Вы что имеете в виду? — официальным тоном спросил участковый.
— Спрашиваю, как мои дела!
— Как в «Интернационале», переведенном на украинский язык.
— Не понимаю.
— С охотой объясню. Там есть гениальные слова: «А паразитів жде біда!» Все уже в «Интернационале» было предусмотрено.
— Верно, голубчик, — по-своему понял Безбородько участкового. — Не что другое, а беда ждет Бессмертного. А как же иначе?
XX
Кони, тяжело дыша вспотевшими подмышками, подъехали к скверику, за которым белел дом райкома, огороженный живоплотом, и сами остановились у живой изгороди.
— Знают дело! — обернулся к Марку Мирон Шавула, который погонял конями. Замохначенная улыбка неровно расползлась по косматому лицу кладовщика, а в мелковатых зрачках вспыхнуло злорадство. — Значит, приехали! Тут, в партийном доме, и отмолотят тебя, Марко, без церемонии отмолотят, как сноп сухого гороха, чтобы не был таким умным! О! — люто крутнул над головой кнутом.
Марко поморщился, презрительно охватил все кособокое удовлетворение, просматривающееся не только в пьяноватых глазах и туго натянутых, без единой морщины губах кладовщика, но и в плотных пучках разноцветной щетины, которой Шавула в войну набавлял себе возраст.
— Радуешься, Мирон?
Кладовщик на мгновение прикрыл злорадство широкими веками, подобными столбам, а когда они снова метнулись вверх, то уже смех светился в мелких зрачках и больших белках.
— Спрашиваешь, радуюсь ли? Да не очень веселюсь, но и не крепко печалюсь — незачем, гы-гы-гы… — так засмеялся, будто вытрясал смех из пустой середины.
Марко, прислушиваясь к такому непривычному хохоту, похвалил кладовщика:
— А хорошо ты гигикаешь.
— Как умею, — не знает Шавула обидеться или удивляться. — А спросить бы, Марко, почему?.. Хоть мы и живем в одном селе, хоть ты мне где-то в седьмом или восьмом колене даже родней приходишься, но от тебя я никогда доброго слова не услышал. Не правду говорю?
— Правду, Мирон, — охотно согласился Бессмертный. — Как-то ни добрых слов, ни душевности никогда не было между нами, никогда, и навряд ли скоро будет.
— Вот видишь, какая у тебя натура, не тот… Так зачем же мне переживать о тебе, когда ты по собственному желанию взял и наступил на саму беду? Интереса реального не вижу… И сам не знаю, почему нам с тобой всегда было тесновато в одном селе. Тесновато и теперь, когда в селе стало просторнее, а на кладбище теснее. По какой бы это причине?
— А ты не знаешь этой причины? — уже заинтересованно спросил Бессмертный, берясь за костыли.
Откровенная болтовня Шавулы даже начинала нравиться тому: только под хмельком такая парсуна может вывернуть свое нутро, хоть и противное, но цепкое, как все, что приспособилось не создавать, а выхватывать, выдирать, пить, сосать.
— Таки по-настоящему не знаю, чего нам тесновато, как на кладке, с тобой, а только догадываюсь и так маракую по-своему, — удобнее уселся на телеге Шавула. — Ты, как кажется мне, нагрузил на свои плечи непосильную ношу: хочешь, чтобы все село взяло да и перешло в твою единственную веру. А я не желаю перед нею шапку снимать: у меня есть свой бог, свой закон, и я хочу жить сам по себе, сам в свою волю, насколько это можно при советской власти. Так мне и просторнее, и полезнее.
— Это верно. Ты всюду, Мирон, и всегда искал только такого бога, который капал на тебя золотыми слезами. Но ты не только у бога, но и у черта искал себе выгод. Сколько я тебя знаю — на рубле зависла твоя душа.
— А как же иначе? — чистосердечно удивился Шавула, и удивилась его разномастная щетина. — И рыба в воде, и птица в небе, и даже слепой крот в норе одинаково ищут себе своей выгоды, ищу и я ее, или своего рубля, как говоришь ты. А когда уж нахожу какую-то безделицу — не выпускаю из рук. О!
— Беда твоя даже не в этом, а в том, что руки у тебя липкие от этого скользкого рубля. И не рыба в реке, не птица в небе, даже не крот в норе, а шершень возле чужого улья, шершень, что и мед поест, и пчелу надвое перекусит.
— Вот в этом параграфе, Марко, ты уже загибаешь, — не возмутился, а деловито начал поправлять кладовщик. — Что иногда к моим рукам что-то прилипает, никак не отрицаю, потому что нет такого даже в законе, чтобы возле ульев ходить и меда не пробовать — это ненатурально будет. Ну, а чтобы кого-то перекусывать надвое или начетверо — этим категорически не занимаюсь. Я не такой жестокосердный, как Тодох Мамура, — такое мне самому ни к чему и невыгодно. О!
— А воровать выгодно?
— Понемногу — выгодно, а много — страшно, чтобы не влипнуть, а у меня же и хозяйство, и жена, и дети есть… Ну, чего так смотришь и косишься, будто впервые увидел Мирона? Не все же могут и хотят быть крепко идейными. Ты, например, желаешь быть идейным — будь им себе на здоровье, не прекословлю, не мешаю, но и не завидую. За все свои идеи аж с восемнадцатого года и поныне ты заслужил на плече одну солдатскую шинелишку и двое костылей под подмышки — и не горюешь.
— Я проклинаю свои костыли, но и горжусь ими! А проклинаешь ли ты свою душу, повисшую на костылях!? — вскипел Марко.
— Подожди, и об этом что-то, наверное, скажу, — пренебрежительно скривил улыбку Шавула. — Значит, заработал ты за долгие годы шинелишку и костыли и этим гордишься, потому что больше всего думаешь не о себе, а обо всех международных, мировых неблагополучиях, о революции, контрреволюции, демократии и разной оппозиции. А мне все это, даже когда сообща взять, и за ухом не зудит, мне, безыдейному, хочется хоть небольшого, а своего. Я желаю лучше сходить, что-то более сладкое или жирное в желудок положить, даже, не опасаясь партийного выговора, подержаться за чужую соблазнительную молодицу, да и запас кое-какой в своем амбаре иметь, чтобы не сидеть без хлеба, как ты, на мамином картофеле… У мамы только ее молоко хорошо, а остальные продукты надо самому добывать… Вот как я думаю! Ты хочешь общего солнца, коммунизма — поднимай его, а меня и обычное, извечное солнце пока что греет, не обижаюсь.
Марко сначала даже растерялся: не шутит ли по-дурному кладовщик. Но, когда взглянул на его заросшую морду, понял, что тому было не до шуток.
— Был ты сморчком и остался сморчком! Даже еще больше изнутри оброс щетиной, — Марко гневно махнул кулаком, а Шавула, сразу отозвался:
— Ну, и что из того? Все твои лекции до лампочки мне. Еще что-то скажешь?
— Скажу одно: как ты хитро ни крутишься, а твое темное солнце заходит уже!
— Ты мне не очень звони за упокой! — наконец обозлился весь вид Шавулы, обозлилась и его кабанистая фигура. — Вынес кости из войны, так береги их здесь, потому что, чего доброго, рассыплются, как драбиняк. И свою правду не очень навязывай другому. Мне пока что хватит и своей правды и кривды. Я не знаю, что тебе партия сегодня припишет, но верховодить и на трибунах, и в селе ты уже не будешь. Мы постелили тебе кривую дорожку по всем законным органам, а мало будет, еще достелем. Война учила тебя, но учила и нас, потому что жить хочет каждое создание.
— Угрожаешь?
— Нет, даже остерегаю тебя. Живи, если хочешь, если можешь и имеешь как, но не мешай и мне: Шавула тоже хочет жить, а не оглядываться. Можешь даже председательствовать, выскакивать в передовики, в сякое-такое начальство, в Герои, в портреты, но только в другом селе или районе! Понял, откуда ветер веет?
— Понял, откуда смрад идет! Ну, спасибо хоть за то, что полностью раскрыл свои карты, сам осветил себя. Это пригодится, — спокойно сказал Марко и ссунулся с телеги.
Кладовщик уже раскрыл рот, чтобы что-то ответить, но враз почему-то забеспокоился и повел головой к Марку, скосил глаза и даже руку приложил к заросшему шерстью уху: вторично сегодня он слышит подозрительный перезвон: когда Марко взбирался на телегу и когда покидал ее.
— Что у тебя, Марко, так позванивает?
Бессмертный оглянулся, вид кладовщика удивил его: обеспокоился щур с амбара!
— Не понял? — спросил едко из-за плеча.
— Таки нет, — тень прошла лицом Шавулы и будто подморозила его, даже в глазах застыли пленки неожиданного страха.
— Так разберешься, еще имеешь время. А перед своим богом заранее ставь свечку, чтобы спасал тебя.
Марко подыбал к райкому, а Шавула долго и пристально смотрел ему вслед, потом поправил налюшник[42] и полез рукой до растрепанного затылка.
«Неужели это ордена или медали так звенели. Что, если и в самом деле этот идейный чудачина заработал на войне не только костыли, но и иконостас? Тогда его труднее будет укусить даже из уголка. И надо ли было лезть в такой душевный разговор? Таки, кажется, зря начал загодя раскрывать свою масть. Теперь пойдет Марко идейным тузом — и сам пчелой станешь, которую перекусывают надвое. Эт, нет у тебя, Мирон, принципиальной выдержки, — тоже захотелось на свою голову полезть в ораторы».
Шавула в сердцах огрел кнутом по бугорчатым мышцам коней и в невеселых раздумьях поехал к чайной, где имел некоторый интерес к широкогрудой и бедристой буфетчице.
* * *
В приемной первого секретаря сидела темнобровая девушка с таким непроницательным видом, будто у нее где-то под парикмахерскими кудряшками стоял гриф «секретно». Но даже и ее, когда Марко назвал свою фамилию, на минутку проняло удивление, хотя она сразу же погасила его одним движением длинных русалочьих ресниц.
— Иван Артемович сказали, чтобы вы, когда приедете, сразу же шли на пленум, — вежливо, но вместе с тем и холодно встала со стула.
— На пленум? — неприятно удивился Марко и заглянул девушке в круглые глаза, где в потемневших разводьях серели крошки льда.
— Ну да. Он уже заканчивается — вы почему-то припозднились. Я проведу вас. Это на втором этаже. — Девушка старательно закрыла все ящики, подергала их за ручки, незаметно поправила пальцем брови и уверенно пошла впереди Марка, которого решение секретаря обеспокоило и нахмурило.
«Неужели ему приспичило выносить на люди такое мелочное дело? Наверное, хочет на мне еще кого-то проучить? А может, дружки и сторонники Безбородько вдувают в это купание какую-то „идейность“? Спокойнее, Марко, спокойнее, на люди идешь, а они за войну во всем научились разбираться», — успокаивал себя, но не мог успокоиться.
Еще с порога он быстрым взглядом окинул президиум пленума. За столом увидел только два знакомых лица: Киселя и Броварника. Между ними сидел, сосредоточенно прислушиваясь к голосу молодой женщины, стоящей на трибуне, мужичонка лет тридцати пяти с хмурым цыганским лицом и такой шевелюрой, будто из нее кузнецы наковали несколько рядов черных перстней.
«Это и есть Борисенко», — догадался Марко, вспоминая, как дед Евмен рисовал ему образ секретаря райкома: на офицерском без погонов кителе Борисенко красовалось три боевых ордена.
«Это уже легче», — подумал Марко, а Борисенко большими с огнем глазами показал ему на скамейку у дверей и снова начал прислушаться к прерывчатому звону женщины, которая мило и трогательно разбрасывала серебро над головами участников пленума. Женщина говорила о льне, как она его сеяла, как выхаживала, как он хорошо зацвел, потом зазвонил крохотными головками и постелился по сентябрьским росам.
— Порадовал лен и нас, а потом и государство, только почему-то не порадовал нашего бригадира… — запнулась молодица, а по залу прокатился смешок… — Из этого льна все мои девушки пошили тончайшие сорочки, их мы наденем в день победы, — закончила женщина и под аплодисменты сошла с трибуны.
Ее место занял упитанный мужичонка с хмурым взглядом и носом. Он долго, путанно и неуверенно объяснял, что на сегодняшний день ничего не имеет против льна и звеньевой, но у него на сегодняшний день были и другие культуры.
— Тыквы на сегодняшний день! — в тон ему бросил Борисенко.
Эта культура, очевидно, была не случайной во взаимоотношениях бригадира и звеньевой. Вокруг взорвался хохот. Бригадир окончательно растерялся, а звеньевая пригнулась, ладонями прикрыла румянцы и улыбку. Марко сейчас не завидовал бригадиру, которого уже начал отчитывать секретарь райкома за нелюбовь к льну и за внимание к той гречке, из-за которой можно избавиться головы и ног.
«Этот умеет пропесочить», — прислушиваясь, прикидывал в голове, что надо сказать в свою защиту. А Борисенко тем временем уже подобрался и к нему.
— Мы сегодня услышали не только о льне, но и о другой технической культуре — конопле.
В зале снова послышался смех, Марко повел плечами, будто встряхивал его, а в это время к нему сзади продвинулась узловатая рука и вручила наскоро сложенную записочку. В ней карандашом было написано несколько слов: «Марко Трофимович, не робейте, держите хвост бубликом! Григорий Заднепровский».
Узловатая, крученая всеми ненастьями и ревматизмами рука дружески потрясла Марка за плечо:
— Ну, что там по секрету пишут воину? Инструктируют, как мочить коноплю?
Марко изумленно оглянулся. Сзади него сильно смеялось подсушенное, слегка обметанное снежком бородки лицо старого овцевода Афанасия Гаркавого, который еще в восемнадцатом году был за Советскую власть, только без коммунистов, большевиков и комиссаров. На трофейном немецком пиджаке старика красуются четыре георгиевских креста, а над ними — серебряная партизанская медаль.
— Дед Афанасий, это вы?
— Га, вроде я, — довольно улыбается старик. — А чего ты на какого-то генерала не выскочил? Побоялся? Или счастье не улыбнулось?
— Не улыбнулось — оно у меня серьезное. И что же вы делаете на пленуме?
— Что? Всегда то же самое: сижу, слушаю, голосую, но еще не выступаю и не вношу поправок, чтобы не сбиться политически.
— Да неужели, деда, вы в партии? — еще больше удивился Марко.
Старый одобрительно кивнул головой.
— Теперь после партизан, я уже партийный и политический дед, и все мои дети партийные, потому что так воюют во всех сражениях, как я когда-то за веру, царя и отечество.
Марко улыбнулся:
— Дед Афанасий, это беспартийное выступление.
— А тогда же и война, небось, беспартийной была, и все равно Георгии кровью зарабатывались… На кресты мои удивляешься уже не для людей, а для овец — они любят, когда что-то позвякивает, — не разберешь, серьезно говорит или лукавит старик.
А тем временем на трибуну при медали и нескольких значках поднялся Антон Безбородько. Вся его обиженная фигура, все его лицо были такими, будто они только что вынырнули из волн смертельной опасности, оскорбления и страдания.
— Ты думаешь на пленуме рассматривать эту историю? — недовольно шепнул Кисель Борисенко.
— Нет, я думаю, почему вокруг нее в районе закрутилась целая пурга? С утра до вечера отовсюду только и звонят о купании, будто это было какое-то крещение Руси.
Кисель поморщился:
— Надо отдать Бессмертного под суд — и концы в воду.
— Раненного? — Борисенко в удивлении поднял дуговидные смоляные брови.
— А что с такими типами делать? Сегодня он пистолетом загоняет человека в воду, а завтра этим же пистолетом пошлет кого-то на небо овцы пасти. Какую анархию развела война!
— Разберемся, — и Борисенко, подперев голову рукой, начал прислушаться к обиженному Безбородько.
Антон Иванович убедительно рассказал о военных трудностях колхоза, который еще в прошлом году не имел ни былинки, ни зернинки, о подготовке к посевной, о трудностях и сразу, красуясь, заговорил о всяких-разных, что мешают работать на данном этапе. Когда же он, понизив голос, на самых драматических нотах сказал, как Марко оружием погнал его в ледяную воду, весь зал неожиданно взорвался смехом.
— Что это делается? Почему они хохочут? — изумленно спросил у Борисенко надувшийся Кисель.
— Наверное, есть такая веселая потребность у людей, — сверкнул чистыми белыми зубами.
— Человек издевательства перенес, а с него смеются. Это даже непристойно, это свидетельствует о падении чуткости, — негодующе забубнил Кисель, кивком головы ободрил Безбородько, и тот уже сяк-так закончил свой рассказ тем, что коммунист Марко Бессмертный нагло подорвал его авторитет среди тех людей, которые побывали в оккупации и к которым еще всячески надо присматриваться.
Бросая тень на село, Безбородько был уверен, что этим выкажет незаурядную бдительность, хотя корни ее были не очень глубоким — недоверием к людям, выдержавшим неволю, выгодно отличиться на их фоне, а на их сетования и сигналы отвечать пренебрежительным взмахом руки: «Все это штучки оставшихся, сеять их надо на сито, а перецеживать на цедило».
Последние слова Безбородько передернули Марка, да и Борисенко еще больше нахмурился, а Кисель чуть улыбнулся.
— Пусть товарищ Бессмертный здесь сразу и даст пояснение! — отозвался Броварник.
— А в самом деле! — поддержали его из зала.
Борисенко пристально посмотрел на Бессмертного и предоставил ему слово.
Марко медленно встал со скамейки, глянул на зал, но никого не мог отличить в нем. Ему казалось, что он бесконечно долго шел к трибуне, бесконечно долго находил место для костылей, которые норовили упасть на помост.
— Товарищ Бессмертный, вы внимательно выслушали товарища Безбородько? — услышал строгий голос Борисенко.
— Даже очень внимательно, — тихо ответил Марко.
— Вас товарищ Безбородько нигде не оговорил?
— Меня — нет, а людей оговорил: зачем им до сих пор колоть глаза оккупацией? Раны лечат, а не растравляют.
— Это правильно, — одобрительно кивнул головой Борисенко и уже внимательнее взглянул на Бессмертного. — Ну, а в истории с Безбородько вы свою, как бы ее назвать, ошибку признаете?
— Нет, не признаю, — уже ответил в безграничную тишину.
— Почему?
— Меня сызмала отец-мать учили уважать и женскую красоту, и женскую работу, и особенно материнство, потому что если этого будет меньше на свете, то беднее станет любовь и расстояние между человеком и обезьяной.
— Вон как! — изумленно вырвалось у Борисенко, он сверкнул глазами и зубами и впервые улыбнулся.
— Это уже философия, а не ответ на заданный вопрос, — недовольно бросил Кисель.
— А мы, крестьяне, все понемногу философы, потому что всю жизнь ходим возле земли, хлеба, меда, солнца, — спокойно ответил Марко, а внизу прокатился легкий, но одобрительный смешок. — Правда, книг разных мы не писали, но придет время — напишем, ибо есть о чем.
— Философы! — едко чмыхнул Кисель. — А почему вы, философ, свой пистолет в милицию не занесли? Может, им думаете книгу писать? Вы знаете, сколько можно отхватить лет за эту далеко не философскую штучку?
— Нет, не знаю.
— От трех до пяти лет! — Кисель аж встал с места и указательным пальцем прочертил в воздухе решительную линию.
— От трех до пяти лет? Немало, — раздумывая, сказал Марко и обратился к Киселю: — А если мой пистолет — личный подарок от моего генерала, сколько я получу?
— Этого я не знаю, это уже, значит, другое дело, если есть формальная бумажка, — на миг растерялся Кисель. И тогда со скамьи отозвался Безбородько:
— Бессмертному легко было воевать персональным пистолетом со мной, абсолютно безоружным и неподготовленным. Пусть он лучше расскажет, как воевал на фронте с фашистами и что там заслужил. Это дело более трудное. А у нас в селе пошли слухи, что и там он анархию разводил и его лишили наград или награды, словом, разжаловали…
— Было такое? — пронзительно глянул на Марка Борисенко.
— Нет, не было, — побледнел от незаслуженной обиды, даже кончик губы прикусил.
— Награды имеете?
— Имею.
— Пусть покажет! — крикнул Безбородько.
— Зачем, Антон? Это тебе невыгодно… — И Марко даже бросил улыбку в неровную подковку усов.
— И пусть покажет, если есть что показать, — весело отозвалось несколько голосов из зала.
Марко пожал плечами, взглянул на Борисенко, тот кивнул головой, а Безбородько в напряжении аж встал с места.
— Не заслоняй, водолаз, — кто-то сзади осадил его.
Марко расстегнул шинель, и Антона ослепил и ошеломил блеск орденов и медалей, а особенно Золотой Звезды.
«Да что это делается на свете? — едва не вырвалось вслух. — Как же оно так вышло все?»
— Ах ты боженька мой, ничогонько себе нахватал заслуг, — не то захрипел, не то застонал от радости дед Гаркавий, не замечая, что так неполитически вспомнил на пленуме бога, а все снова сердечно рассмеялись.
Повеселело и лицо Борисенко.
— Вот еще один Герой вернулся в нашу семью, — сказал ко всем, а потом — не то с уважением, не то с улыбкой глянул на Марка: — Трудно было столько заработать?
— Сначала — тяжело, а как до Героя доскочил — стало легче, — не кроясь ответил Марко.
— И на чем же ты, Марко, Героя заработал? — не выдержал дед Гаркавий, прикрывая рукой все свои Георгии.
— На танках, Афанасий Дмитриевич.
— Тогда это серьезные ордена! — многозначительно произнес старик, не отпуская руки од Георгиев, которых даже в голод тридцать третьего года не понес в торгсин. — И сколько же ты их фашистской машинерии истерзал?
— В том бою четыре или пять.
— Как это так: четыре или пять? — сразу насторожился Борисенко, снова не зная, что подумать о Марке: сам, чудило, себя подставляет под удар. — Такие бои не забываются.
— Такое не забывается, — задумчиво согласился Марко, а перед ним неровно вынырнул лоскут снарядами пробуравленной долины, клочок скособоченного неба, страшно соединявшегося с раненной землей непрочными столбами, в которых бесновались огонь, дым и чернозем.
— Так сколько же вы, в конце концов, танков подбили? — ожил Кисель, думая, что поймал Марка на вранье.
— Я как будто сказал, — ответил ему, а дальше обратился к людям: — О четырех точно помню, потому что тогда я еще был бойцом, а не продырявленным решетом. А пятый, не знаю, или сам при последней памяти подбил, или мои ребята. Наверное, все-таки они, а мне по великодушию своему дописали, чтобы я стал Героем, — чистосердечно глянул в подобревшие глаза незнакомых друзей, а взгляд его полетел аж на фронты, неся своим побратимам, живым, а может, и мертвым, благодарность, любовь и верность. И сейчас в глазах и фигуре Марка было что-то трогательное и даже трагедийное, как у журавля с перебитым крылом.
— Молодчина! — тихо вырвалось у Борисенко, которого поразил не так подвиг Марка, как его правдивость: ведь мог бы человек и не говорить об этом пятом, уже узаконенном танке. Нет, с таким человеком, наверное, хорошо будет работать. Этот не с бесхребетных, никогда двоиться не будет.
Хорошую глубокую тишину, которая очищала душу от ила разных мелочей, объединяла добрые чувства и возбуждала незабываемое, ибо чуть ли не о каждом, кто сидел здесь, можно было писать книгу, неприятно разрушил Безбородько.
— Вот видите, и примечание, или как его назвать, нашлось в геройстве товарища Бессмертного. И существенное примечание. Видать, не по всем правилам фортунило ему. И потому я хотел бы узнать еще об одном: знало ли командование, что товарищ Бессмертный сидел в тюрьме?
В зале кто-то аж вздохнул, а кто-то выругался в сердцах и снова залегла такая тишина, будто кто-то заколдовал людей.
Лицо Марка сразу же покрылось бледностью, а кончики усов задрожали: Безбородько искал и нашел наиболее слабое место.
— Знало, — едва сдерживая себя, ровно ответил Марк, а сам ощутил, как в коленях затренькали и начали подгибаться искалеченные ноги. — Я не скрывал своей биографии, не кривил совестью ни перед людьми, ни перед смертью, ей тоже так делал! — посеревший, с нахмуренными бровями, он взялся за костыли и хотел сойти с трибуны. Но его остановил Борисенко.
— Что же, товарищ Бессмертный, сейчас вас незаслуженно, коварно ударили под сердце. Ну, а чтобы не было потом по разным закоулкам кривых разговоров, закончим их здесь, перед людьми. Так лучше будет… Пришлось побывать в тюрьме?
— Не обошла тяжелая година.
— Расскажите коротко.
Марко невесело и упрямо взглянул на Борисенко:
— О какой же только тюрьме рассказывать: о царской или…
Борисенко ошеломленно поднял вверх дуги бровей:
— А вы там и там успели побывать?
— Имел такое счастье.
— Тогда обо всем и говорите, это даже лучше… — не докончил мысли.
— Может, не надо? — настороженно спросил Марко. — Кое-кому это может не понравиться…
— Кое-кому и сидеть не нравилось, а ему до сих пор этим колют глаза. Так неужели этим до конца века должны колоть вам? — разозлился Борисенко. — Если можете, говорите.
Марко потянулся к воде, стакан зазвенел на его зубах, а он никак не мог собрать давних лет: они то бродили где-то в темных полях, то всадниками летели в бою, то гнулись на каменных плитах бывшего храма, который дважды за свою историю становился темницей: при польном гетмане Потоцком и при правлении Деникина. А весь зал притих, ждал Марковых слов, и только нервничали Безбородько и Кисель.
— В восемнадцатом году, когда мне только что стукнуло семнадцать лет, я однажды вечером со своим другом Устином Трымайводою вывел из оборы хозяйских жеребцов и помчал к партизанскому отряду, в леса. Сначала не повезло мне: я тогда был чахлым, измученным хозяйской работой и походил на паренька лет четырнадцати. Но, все же нашлись свидетели и меня как-то приняли в партизаны, только приказали, чтобы скорее подрастал. Я пообещал, что так и сделаю, и для начала побрил пушок на верхней губе. Так и началась моя партизанская жизнь: в бою меня хвалят, а после боя насмехаются и допытываются, скоро ли я отпущу усища такие, как у польского магната. В одной стычке возле Буга деникинцы подстрелили подо мной коня и захватили меня в плен. С двумя партизанами нас бросили в старый католический монастырь, который всеми своими башнями тянулся к небу. Ночью под каким-то каменным святым мы голыми руками начали делать подкоп, покалечили пальцы, оборвали ногти — и все напрасно: на следующий день нас привезли в школу к темнолицему и темноглазому офицеру контрразведки. Он, артистически играя голосом, без крика, без бранных слов, приказал расстрелять нас, зевнул, перекрестился и подошел к телефону. И тогда я заметил, что у офицера блестели только сапоги. Нас еще для чего-то повезли в монастырь, а часа через три куда-то повели сонными улочками древнего уездного города, где трухлявела и рассыпалась каменная старина султанской Турции и родовитой Польши. Вокруг нее куда-то плыли и плыли обычные беленькие дома. Тогда все запоминалось и думалось о такой же хатке в своем селе, где из окон или с порога выглядывает мать своего старшего сына. На окраине города начинались поля, над ними поднимался наш старый липовый путь… И тогда мне так захотелось жить, что я не заметил, как на глаза набежали слезы. Это увидел только старый партизан, которого мы все звали дядей Тарасом. Он бережно вытер их ребром ладони, поцеловал меня в щеку и тихо сказал:
— Крепись, дитя, уже немного осталось. Кто детей убивает, тот долго не живет. А наша правда победит и никогда нас не забудет, а особенно тебя, дитя.
— Меня? — я удивился, представляя, как это правда вспомнит малого партизана, и тогда увидел ее — она была похожа на мою мать — и слезы уже больше не появлялись на глазах.
Через какую-то минуту нас поставили во ржи. Дядя Тарас еще сорвал ржаной колосок, положил его на ладонь, понюхал. А я только увидел, как поднялись ружья, сверкнули огоньки, как с руки дяди Тараса упал колосок и кто-то тихонько ойкнул. Потом снова поднялись ружья, и передо мной закачалась наша белая избушка… Пришел я в сознание уже на хуторе, где хозяйничали наши партизаны. Это было мое первое сидение…
А вторично попал в холодное место в тридцать седьмом году, за зерно. Тогда я был председателем колхоза. Выполнили мы хлебозаготовку, сдали и встречный план, после этого, чтобы не дожидаться еще какого-нибудь дополнительного плана, я за одну ночь раздал хлеб на трудодни. Ну, а кто-то сразу же и настрочил донос, и я за экономическую контрреволюцию оказался за решеткой. Мой следователь Черноволенко ужасно допытывался, кто меня завербовал…
При упоминании фамилии следователя Кисель приподнялся с места, хотел что-то сказать, но передумал и, наливаясь злым жаром, тяжело сел на стул.
Бессмертный краешком глаза заметил это и вел дальше:
— Следователю Черноволенко почему-то невыгодно бы поверить, что я мог раздать заработанный хлеб без вмешательства кого-то из шпионов. Я, как мог, держался, а когда не хватило сил, чтобы покончить с допросами, начал думать: кто бы меня мог завербовать? Разное тогда приходило в голову: и страшное, и печальное, и обнадеживающее. В нашем роду все очень любили музыку, дед и отец по слуху играли на скрипке, выменянной лет пятьдесят тому у заезжего волоха. Играл и я на ней, даже научился в ноты заглядывать.
Была такая глупость у меня, как говорил когда-то Антон Безбородько. А более всего замирала моя душа от этюдов Шопена. Уродится же такой талант людям на радость. Не раз в тюрьме вспоминалось, как ко мне в колхоз, задыхаясь, прибегала дочь:
— Отец, Шопена играют!
И тогда мы припадали к приемнику и имели праздник в душе, и лучше работали на поле, и веселее слушали голоса людей и птиц. Вот однажды ночью, вспомнив все это, я и сказал Черноволенко, что меня еще с юношеских лет завербовал этюд Шопена. Следователь на радостях так схватился за бумагу, что и не подумал над моей горькой шуткой. И часа не прошло, как я подписал протокол признания, а следователь все удивлялся, чего я так быстро ставлю свою фамилию… Когда же со временем мой приговор просматривала тройка, ее удивил и заинтересовал протокол признания. Вызвали меня, расспросили обо всем и сразу же отпустили домой.
Мертвая тишина залегла в зале. Тени и видение тридцать седьмого года ожили не перед одними глазами, и Марко тоже ощутил неловкость в душе: следовало ли было трогать свое, потому что оно же неизбежно растравляло боль многих людей, слушавших его.
— Нелегкая история… И что же вы, Марко Трофимович, вынесли тогда из тюрьмы? — взволнованно спросил Борисенко. — Оскорбление, боль, злобу?
— Может, что-то из этого и осело бы в душе, потому что она тоже не из лопуцька[43]. Но, на мое счастье, я несколько чуть ли не тяжелейших дней пробыл в камере со старым большевиком, астрономом по образованию. Он лично знал Владимира Ильича Ленина. Образ этого ученого, который создавал революцию на земле, а умом заглядывал в тайны вселенной, до сих пор часто вспоминается мне. Это был чистый человек, как хрусталь. Многому научил он меня. Больше всего из его рассказов я запомнил вековечный рассказ о свечке: человек, дескать, когда и горит, как свечка, должен свой свет отдавать другим. Я тогда же в камере, как мог, на камне высек рисунок горящей свечки и дал себе клятву: хоть бы на каких огнях пришлось мне гореть, а буду до последнего служить людям. С этой клятвой и на войну пошел. А там уже моя свечка ясным огнем жгла и самые страшные немецкие танки, будь они прокляты с войной вместе!
Дружеские аплодисменты покрыли последние слова Марка. Даже осторожный Кисель, которого морщил и кривил рассказ Бессмертного, приложил ладонь к ладони, и своевременно опомнился, сразу опустил их под стол и насупил брови.
Марко и это заметил, но даже не так с осуждением, как с сожалением подумал:
«Наверное, тяжело тебе, человече, носить в теле вот такую недоверчивую или пугливую душу. И образование получил ты, и чин имеешь, может, совершенно разбираешься и в философии, и в политике, и в разных планах, директивах, калькуляциях, в ведомственной дипломатии, а разве от всего этого кому-то легче на свете?»
Под одобрительные улыбки, добрые взгляды и слова Марко сошел с трибуны, сел на скамейку и рукой вытер пот.
— Молодец, сынок, — сразу же поздравил его дед Гаркавий, уже обеими руками прикрывая свои Г еоргии. — Вот кого б я в свои помощники взял.
— Даже кривого?
— Даже кривого.
— Так и берите.
— Э, нет, не возьму, — вдруг передумал старик.
— Почему?
— Потому что, может, ты и овец персональным пистолетом будешь загонять в воду. А овцы, как девушки, любят персональную ласку, — улыбнулся старик.
— Что же нам делать с Бессмертным? — спросил из-за стола Борисенко. — Привлекать ли к ответственности, или рекомендовать председателем колхоза?
— Председателем колхоза!
— Этот порядок наведет!
— Хозяин!
— Только председателем! — отовсюду зазвучали голоса, и они добивали сникшую фигуру Безбородько.
«И надо же так промахнуться на проклятой воде, а сухим из нее вышел только Бессмертный. Когда же, в конце концов, потухнет твоя фортуна или свечка?!»
Хотя ему было тоскливо и тяжело сносить свое внезапное поражение и думать, что будет после него, но и он отодрал и давил в себе воспоминание о доносе на Марка в тридцать седьмом году. Не совесть и не раскаяние мучили его, а только то, чтобы и его фамилия не выплыла на каком-то пленуме, как фамилия Черноволенко. Нашел на чем поскользнуться: на таком пустячке, как музыка. Или, может, и он свой план выполнял?
— Что, Антон, готовишься сдавать председательство? — беззлобно спросил его дед Гаркавий.
Безбородько тоскливо взглянул на него и молча пошел к дверям.
После пленума Кисель, в предчувствии разных неприятностей, недовольно говорил Борисенко:
— Не нравится мне сегодняшняя антимония. Молодой ты очень, Иван Артемович, ох и молодой…
— Есть такой недостаток в моей биографии, — беззаботно засмеялся Борисенко.
Кисель поморщился и так провел рукой, будто хотел отогнать от себя смех.
— Чует моя душа — наберешься ты всячины с Марком Бессмертным, черпнешь с ним не один ковш лиха. Чего только стоит его рассказ о тридцати седьмом годе? И что об этом художестве скажет наш начальник Управления государственной безопасности?
— Неужели вы ему об этом расскажете? — насупился Борисенко.
— Если не я доложу, то найдется кто-то другой. А наш начальник, сам знаешь, мужчина с горячим характером и холодной властью.
— Холодной и даже больше, чем бы надо, — задумано посмотрел Борисенко на затвердевшее от недовольства лицо Киселя.
— Так вот, сам это понимаешь, а выпускаешь джина из бутылки. Осторожнее, осторожнее ходи по земле, поскользнуться не тяжело. Здесь, если и говоришь о недостатках, то на две стороны мозгами раскинь и глазами коси.
Возле губ Борисенко выбилась ироническая оборочка складок.
— Почему аж на две?
— Потому что не дурак выдумал, что береженного и бог бережет. Когда ты говоришь о недостатках, так сразу же говори, что это одиночные факты на фоне больших достижений. Иначе это может кому-то не нравиться, а во-вторых, за это может ухватиться заграница, и тогда…
Цыганское лицо Борисенко налилось гневом:
— Кому же нужна эта осторожность! Кому? Вы же ею только окрыляете негодяев, не вырываете сорняки, а готовите под них площадь и удобрение. И почему это мы должны в ущерб себе оглядываться на ту заграницу, которая ненавидит нас еще с семнадцатого года?
— Ну, это вопрос большой политики… — придал лицу выражение глубокомыслия. — И не горячись, Иван Артемович, потому что обожжешься. Ты ранняя пташка, а я стреляная птица. Гляди, чтобы за сегодняшний рассказ Бессмертного и тебе не икнулось. На фронте твой Марко мог играть в демократию, а здесь ему надо и зубы подточить, и язык укоротить. Уже один вид Бессмертного настораживает меня.
— Один вид? Чего же? — удивился Борисенко.
— Видел, ну, как бы тебе сказать, какая решительная независимость написана на его лице?
— Так, это не коллегиальное лицо! — не мог удержаться от шутки Борисенко, но это еще больше раздразнило Киселя.
— Не нравятся мне такие самостоятельные или самостийницкие лица, которые не любят признавать чью-то волю. Ох, эти мне украинские лица… — в голосе Киселя отозвались не только нехорошие намеки, а и отзвук того страшного подозрения, которое неизвестно кто каиновой нитью годами протягивал в саму основу нашей жизни. — Чует моя душа, что этот самостийник накличет беду и на свою, и на твою голову.
— Почему самостийник? Что за неразумные намеки и аналогии!? — вскипел Борисенко. — Он же, в конце концов, не петлюровец, а Герой Советского Союза! На нем места живого нет…
— И это еще не факт! — лицо Киселя стало таким многозначительным, будто он еще что-то знал о Марке, но до какого-то времени держал при себе.
Эту противную личину многозначительности и глубокомыслия на лице, которая прикрывала пустоту в голове, Борисенко уже научился распознавать и горячо обрушился на Киселя:
— А что же тогда для вас является фактом? Мерка осторожности, практика подозрения и философия страха? А я хочу видеть своих людей, свою землю без этих мертвенных теней. И чем скорее они покинут нас, тем красивее, тем сильнее, тем дружнее будем мы.
— Это все стихи, декламация и пена на молодом пиве. Это все хорошо для какого-то поэта — начинающего, а не для солидного руководителя, который на обеих полушариях коры головного мозга должен зарубить теоретическую аксиому: чем ближе нам будет до коммунизма, тем большим будет классовое сопротивление… Я не хочу быть пророком, но предостерегаю: береги, Иван Артемович, свою голову, она еще для чего-то пригодится тебе, — с чувством преимущества сказал Кисель. — Иди уже, подвози на машине своего Марка. И гляди, чтобы не ссадил тебя он со временем и с машины, и с коня. Увидишь, как моя теория осуществится на практике.
— И чего вы так накинулись на Бессмертного?.. Родню защищаете?
— Какую родню?
— Ну, Черноволенко. Он же, кажется, ваш сват?
— А ты откуда знаешь? — насторожился Кисель.
— Слышал от людей о его художествах… Так родня он ваша?
— Эт, не в том сила! — помрачнел Кисель, но больше ничего путного не смог сказать.
XXI
За городом, оживая, закачались, закружили вечерние поля и их тени. В уютных долинах темнисто серебрились тихие пруды; на них, будто в глубоком сне, срывались птицы, и крылья их реяли и над водой, и в воде. А на холмах, как врезанные в небо, стояли в дремотном ожидании ветряные мельницы, казалось, они вот-вот должны были кого-то встретить и прижать своими ослабевшими руками.
Одинокие тополя и груши, выкупанные в лунном сиянии, трогательно искрились, голубели, туманились и имели ту прекрасную женскую задумчивость, которая сладко и тревожно манит в даль человека, стирает грани между ним и природой. И кто знает, не была ли когда-то девушкой вон та молоденькая, росой обрызганная березка? А может, и выросла она при битой дороге, как память о девушках, которые понесли свои слезы в чужие края?
Задумчиво глядя на березку, Марко вспомнил дочь, вздохнул.
— Нога болит? — Борисенко, ведя машину, строго посмотрел на Бессмертного, и только единственная трепетная морщина в межбровье говорит о сочувствии. Действительно, в зрачки Борисенко, в его голубоватые белки кто-то прямо вогнал такую строгость и сосредоточенность, что за ними не видно было других оттенков. — Может, медленнее ехать?
— Не надо. Отболелось мое.
— Что-то не похоже, чтобы отболелось, — покосился на костыли. — Очень мы во всем терпеливые люди.
— Нам, Иван Артемович, и надо терпеть.
— Почему?
— Если бы все наши боли за одну только эту войну всплеснулись криком, тогда, наверное, не только все люди, но и камни не выдержал бы того вскрика: горы начали бы колотиться на куски.
— Это вроде правильно, — задумчиво согласился Борисенко. — А есть же подлость, которую ничто не может растрогать, ничто: ни чистая красота жизни, ни безграничная любовь, ни безмерная скорбь, ни материнские слезы, ни детское щебетание. Откуда же взялась такая варварская убогость?
— От большого золота, от большого богатства. Они распростерли крылья смерти над людьми. И пока это богатство будет господствовать, до тех пор смерть будет тарахтеть своими костями по земле. Вот какой у нас невеселый разговор в такой вечер.
Марко взглянул на глубокое, с такой звездной пыльцой небо, будто кто-то только что проехал по нему серебряными телегами и поднял или посеял легонький туманец цветений.
— Ну, Марко Трофимович, а вы не сердитесь на меня? — изменил тему разговора Борисенко.
— С чего бы?
— Что, не спросив брода, посватал вас на председателя колхоза?
— От этого сватанья еще далеко до свадьбы, — улыбнулся Марко.
— Однако же не откажетесь от него? — пытливо взглянул на Бессмертного: кто его знает, что он может отчебучить и какие мысли крутятся в этой завзятой голове. — Не откажетесь?
— Отказаться легко, но кому-то же надо браться за тяжелое — за хозяйствование.
— Ого, вы будто хвалиться начинаете? — удивился Борисенко.
— Почему не хвалиться, идя на такую свадьбу: вместо каравая — сразу бери в одну руку двести сорок тысяч долгов, а в другую — треть земли, пролежавшей под перелогом. Есть где разгуляться… Еще сегодня эти грехи висят на Безбородько, а завтра они будут уже моими. И вы первый будете говорить об этом на всех совещаниях и будете ругать меня, будто бы их взлелеял только я.
— И ведь буду! А как же иначе? — изумленно посмотрел на Бессмертного. — Сын, не получивший наследства от отца, все равно называется его наследством.
— Спасибо, утешили таким наследством.
— А вы боитесь?
— Наше, крестьянское, дело всегда боязливое.
— Снова философия?
— Нет, правда. Разве, когда я бросаю сегодня в землю зерно, не дрожу, что будет завтра? Уже с этого часа начинаю бояться суховея и засухи, града и ветра и разной нечисти. Так и несешь все время в груди и большие опасения, и большие надежды.
— Безбородько не это носил в груди. Что скажете о нем?
— Да разве вы его не раскусили? — даже теперь не захотел оговаривать своего соперника.
— Значит, не совсем. Сегодня он раскрылся во всем блеске. И думается мне так: обычный человек имеет в сердце два предсердия и два поджелудочка, а у Безбородько все стало желудочками.
— Много еще есть у нас таких желудочных председателей, и кое-кого они удовлетворяют.
— Ваше «кое-кого» означает Киселя?
— Хотя бы и его, спорить не буду.
— Вы давно успели заесться с ним?
— Как увиделись, так и заелись, — с ходу, можно сказать.
Борисенко не улыбнулся, но лицо его так ожило, будто его изнутри подмывала усмешка.
— Быстро это у вас, Марко Трофимович, делается, очень быстро, по-партизански. Не сошлись характерами?
— И едва ли сойдемся. Так и начнется мое председательство, если вы за дорогу не измените своей задумки, — и присматривается, как далеко в поле работает одинокий, еще невидимый трактор — только подвижная игра света говорит об этом. «Вот что мне сейчас более всего нужно», — думает уже как председатель колхоза.
— Очень вы сегодня рассердились на Киселя?
Бессмертный изучающее посмотрел на Борисенко, неожиданно нашел в его взгляде что-то доброе и печальное. «Видать, не такой ты, человече, грозный, как кажется с первого взгляда».
— Нет, Иван Артемович, может, и сердился бы на Киселя, да честь на себя кладу. Я просто презираю его, весь род и всю родословную его.
— Вон как! У вас даже до родословной дошло!? — Борисенко уменьшил скорость. — За какой же родословный корешок вы ухватились?
— И это скажу, а вы уж подумайте, следует ли меня выбирать председателем, потому что мира с Киселем у нас не будет ни на людях, ни в поле. Когда я вижу настоящего руководителя — у меня раскрывается сердце, когда я встречаюсь с каким-то киселем — сердце мое щемит, как перед болезнью… Когда-нибудь ученые люди или писатели в своих книгах напишут, как село сразу после Октября свято верило каждому начальнику, потому что усматривало в них не обычных людей, а цвет революции. Но со временем начальников с потребностью, как в газетах пишут, роста и без таких потребностей становилось больше и больше, и не все лучшее прибивалось к нашему берегу и прыщами выскакивало на разных должностях и в канцеляриях. Прибились и кисели — не заслугами, не работой, а крученой ловкостью и проходимостью своей. Большого ума им, очевидно, ни родная мать, ни баба-повитуха не положили куда надо, а сами они, кисели, не очень старались на него ни за книгами, ни за работой. А быть же они хотели только на виду, держаться только сверху. Вот, чтобы дольше удержаться, и начали они не сходиться, а расходиться с людьми, стращать их, раскидываться их годами, их судьбой. Это вышло у киселей, это понравилось им, и они уже не говорят с людьми, а вправляют им мозги, снимают с них стружку, пропесочивают их и все что-то пришивают. Кисели даже успели уверовать, что не любовь, а их угрозы выращивают идеи в голове и хлеб на полях. А на самом деле вырастили они больше человеческих трагедий, чем их должно быть на земле. За это киселей прилюдно надо, ну, хотя бы со всех должностей снимать, как расхитителей большой людской веры и сокровищ революции.
— Не так от них легко избавиться, — задумчиво сказал Борисенко и повернул в поле к одинокому трактору.
В голубом туманному отсвете фар покачивалась свежая пашня, и даже теперь было видно, как глянцево поблескивали жирные долинные ломти. Молодой улыбчивый тракторист остановил машину, соскочил на землю и радостно поздоровался с секретарем райкома и Бессмертным.
— Где же ты, Ярослав, горючего достал? — с надеждой спросил Борисенко. — Неужели подвезли вечером?
— Нет, Иван Артемович, не подвозили. — порхают вверх пошерхшие кончики губ, и рот молодого тракториста становится похожим на юнца рожками вверх.
— Не подвезли? — мрачнеет Борисенко. — А чем же ты пашешь?
Тракторист изучающе смотрит на секретаря райкома, потом смешливо отводит от него взгляд:
— Пока что пашу смесью своего родного дяди.
— Дяди? Где же он расстарался на такое добро?
— А он может расстараться; у меня дядюшка очень хороший добытчик. Когда немцы убегали из нашего села, он, сам не зная для чего, стибрил себе несколько бочек горючего и запрятал свой трофей в тайник.
— Вот спасибо твоему догадливому дяде. Молодчага он! Надо будет чем-то отблагодарить человека за помощь, хоть в газете вспомнить.
— Да зачем, Иван Артемович, о нем еще и в газете печатать, обойдется. — У тракториста обеспокоенно осел полумесяц рта.
— Ведь родня! Ты что-то имеешь против дяди? — Борисенко с любопытством и удивлением взглянул на тракториста.
— Да нет, я ничего не имею против своего дяди, но, наверное, он что-то имеет против меня, — замялся Ярослав.
— Хитришь, парень? Ну-ка излагай, что у тебя.
Ярослав ногой провел по пашне дугу и потупил в нее глаза.
— Говори, говори, не паши ногой, — подогнал его секретарь райкома.
— Что же здесь говорить… Видите, Иван Артемович, мой дядя и не знает, что я пашу поле его добром.
— Как это так?
— Он, дядя, нечего сказать, скряга — прижимистый у меня. Так я сам… той, потихоньку его трофей делаю своим трофеем.
Марко, чтобы не рассмеяться, прикусил губу, а Борисенко дальше строго допрашивает тракториста:
— Хорошую нашел работу. А что будет, если дядя узнает?
Тракторист после этого вопроса ободрился:
— Он, я думаю, не узнает, потому что я деликатно тружусь возле его добра.
— Он еще и деликатность в краже нашел! — повеселело лицо Борисенко. — Как же ты деликатничаешь?
— Да… вы еще всем расскажете, а этим опытом не следует делиться.
— Говори уж, говори.
— Ну я делаю так: выбираю горючее не до самого дна — оставляю немного, а бочку доливаю водой. И все становится в аккурат. Бросится дядя к своему добру и подумает, что его так с водой и оставили немцы. А я даже посочувствую ему, чтобы не очень печалился человек.
— Ну и разжился твой родной дядя на сочувственного племянника, не всюду такого найдешь, — рассмеялся Марко, за ним Борисенко и, в конце концов, тракторист. — Дайте мне, Иван Артемович, эту жалостливую душу хоть на пару дней.
— Запорожскую Сечь начинаете собирать?
— Такие сечевики пригодятся, чтобы нужду нашу подсечь.
— Ярослав, поедешь с горючим своего дяди к Марку Трофимовичу Бессмертному?
— К Бессмертному?.. Тому самому? — оживилось лицо Ярослава, и он с любопытством взглянул на Марка.
— К какому «тому самому»? — спросил Борисенко.
— Ну, к тому, что Безбородько в пруду купал?
— К тому же.
— Тогда поеду! Где уж мое ни пропадало! — радостно согласился тракторист.
XXII
В этот же вечер Марко подыбал к пасечнику Зиновию Гордиенко. Старый пчеловод когда-то присматривал не только за пчелами, но и за гречкой, вот и надо было прикинуть с ним, как и где лучше всего взяться за посев гречихи.
Во дворе Гордиенко стояло несколько свежих ульев, а над ними с перекладины нависал старый, потемневший колокол. Марко остановился возле него.
Далекие годы, далекую молодость напомнил этот трофей котовца Гордиенко. Напомнил и ту молоденькую учительницу, которую все удивляло в его селе. Увы, все это давно отшумело-отгуло и стало только то тревожным, то удивительным воспоминанием.
Марко подергал рукой колокол, слегка качнул било, и медь, которая еще недавно мучилась в земле, отозвалась низким певучим голосом.
Еще в сорок первом году, когда фронт приблизился к селу, Зиновий Петрович закопал свой колокол посреди двора, закапывая, приказал соседям:
— Так вот имеет человек лишнюю работу. Ну, да колокол можно закопать и откопать, а фашизм надо только закопать. Еще будет гудеть над его могилой мой колокол. А как же, будут иметь праздник и люди, и колокол.
— Люди закапывают добро, а мой что выдумал! — ляпнула тогда тетка Христя. — Старое как малое…
В землянке Гордиенко стоял гул, на небольших оконных стеклах шевелились человеческие тени. Когда Марко отворил двери, он увидел за столом хозяев, деда Евмена, Василия Трымайводу и его тетку Марию, бригадира Демьяна Самойленко, Софию и Галину Кушниренко, Емельяна Коржа, Петра Гайшука и красавицу Ольгу Бойчук с веселыми глазами и тем нежным мартовским туманцем на щеках, на котором позже прорастут веснушки. Тетка Христя первой бросилась к Бессмертному, неся на лице улыбку, а на ресницах слезы.
— Добрый вечер, Марко. Садись, дитя, к столу. Вот спасибо, что зашел на радость нашу.
— На какую радость?
— А ты будто не слышал? — тетка Христя изумленно и даже немного обижено развела руками, а в разветвленных, как корешки, морщинах ее лица засветилась добрая улыбка.
— Она, Марко, думает, если ее сын стал генералом, так об этом сразу должен знать весь мир, — насмешливо отозвался Зиновий Петрович.
— А может, его и будет знать весь мир! Видишь, сыну еще и тридцати годков нет, а он уже генерал по артиллерии! Не то, что ты! — пренебрежительно взглянула на старика.
— Если бы я так рано не женился на тебе, может, до сих пор и маршалом был бы.
— Правда, Зиновий, правда: жена — главное препятствие нашему брату, — отозвался Евмен Дыбенко.
Марко обнял тетку Христю и поцеловал ее. Но теперь женщина не потеряла равновесие, не потянулась ладонью к глазам, а счастливо и благодарно смотрела куда-то далеко, где ее сын доламывал хребет фашизму.
— Садись уже, генеральша, а то картофель задубеет, — так же насмешливо сказал Зиновий Петрович и обратился к людям: — Что оно теперь за генеральши пошли? Вот посмотрите на мою: на ногах броненосцы с камеры, руки потрескавшиеся, как сама земля. Чем не портрет?
Тетка Христя посмотрела на свою неловкую одежду, на обувь и засмеялась. И засмеялись все, кроме Зиновия Петровича. Хоть он и говорил с насмешкой о генеральстве своей старухи, и его щедрая душа была преисполнена гордости. Только не стоит показывать ее. Он встал из-за стола, подошел к Марку, поздоровался и задумчиво сказал:
— Вот появились новые хлопоты — свой генерал.
— Да какие же это хлопоты? — улыбнулся Марк.
— Большие, — убеждено сказал старик. — Разве же это настоящий генерал в двадцать восемь лет? Ни тебе седых усов, ни шелковой бороды, ни даже живота. Вон о нем уже и французы написали, что не по правилам бил немцев. А французы — это же нация!
За столом снова засмеялись, а Гордиенко покачал главой, что-то подумал и вышел из землянки. В жилище все торжественно притихли, словно ожидая чего-то. Скоро на дворе празднично ударил колокол — раз, второй и третий раз.
— За сына? — спросил Марко.
— За тебя, — ответила тетка Христя. — За твое председательство. Мы уже знаем, что в райкоме сказали. Есть правда на свете!
— Не сошелся на безбородьках свет клином. Но цепкие они, как сорняк, — отозвался высоколобый, с упрямыми губами и резко очерченным лицом Демьян Самойленко, и в его взгляде вспыхнул нехороший огонь.
Зиновий Петрович внес в землянку самодельную, недоплетенную рафу и вручил Марку:
— На новое хозяйствование. Не забыл, для чего она?
— Для гречки?
— Точно!
— Расскажите, что оно и как оно, — попросила Ольга Бойчук, девушка с высокими грудями и рисованными бровями.
— Это Марко Трофимович расскажет. Пусть так и начинается новое председательство.
— Какое еще там председательство, — отмахнулся Марко.
— А ты не очень задавайся! — грохнул дед Евмен. — Расскажи! Кое-кто даже не знает, сколько стебель гречки содержит цветков.
— Об этом лучше всего расскажет Зиновий Петрович: он летом не вылезает из гречек.
Старый пасечник посмотрел на девушек:
— Запомните, цокотухи: каждый обычный стебель гречки имеет приблизительно триста цветочков, а на роскошном растении их бывает и шестьсот. Это мы когда-то с Марком Трофимовичем посчитали. Такой стебель вырастает из большого породистого зерна — его материнское питание дает растению и рост, и силу, и урожай. Вот я и смастерил эту рафу для отбора дородных семян. Жаль, что не приучают вас к гречкосейству.
— Как, девушки, работают ваши звенья?
— Неважно, Марко Трофимович, некому человеческое слово сказать нам, только ругать есть кому, — отозвалась Ольга Бойчук. — Даже землю не за всеми звеньями закрепили. Мою, лучше ухоженную, отдали родственникам Шавулы.
— Ты свеклу выращиваешь?
— Свеклу, как она уже надоела мне.
— Почему?
— Потому что половина ее идет на такой коньяк «три ботвы», что от него и слезы становятся мутными.
— У нас дела более или менее идут лишь в огородной бригаде, — Демьян Самойленко повернул голову в сторону Марии Трымайводы. — У нее и семян вдоволь, и парники уже зеленеют, и помидоры и огурцы рано родят. Знает женщина какое-то колдовство к овощам.
— Только никакого толку нет от этого: вся работа идет как в пропасть, — грустно сказала вдова. — На вас, Марко Трофимович, надежда.
— Лишь бы овощи были, а надежда найдется, — улыбнулся Марко. — Зиновий Петрович, у вас много гречки?
— В войну только горя много. Обижает война пчелу, обижает и гречку — нет ее в колхозном амбаре. Ну, я и наложил контрибуцию на соседей, которые сеяли гречку по огородам. Не очень, люди, ругаете меня за это?
— Что ругаем, то ругаем, потому что последнее ото рта оторвали, — отозвался дед Евмен.
— Таки последнее, — покачал главой Гордиенко. — Потому что с войной большая бедность свалилась на нас. Свалилась и отходить не хочет. Вот надо как-то сообща ломать ее, наводить порядок на земле. Жена, у тебя есть еще генеральские огурцы?
— Теперь он и сыворотку будет называть генеральской. Ешьте, люди добрые, что есть, и извиняйте. Мой трутень даже в такой день на блины не дал своей гречки…
Уже луна опустилась на край земли и потемнело село, когда Марко, простившись с людьми, украдкой потопал к колхозным парникам. В голове мужчины роились разные хозяйственные планы, надо было думать и о скороспелом рубле, а его могут дать только ранние овощи.
В долине тускло сверкнули первые рамы парников. Марко осторожно опустился возле одной, немного приподнял ее и вдохнул тепло-влажное благоухание молоденьких стеблей помидора. Стекло второй рамы было совсем темным. Марко вынул трофейный фонарь, присветил им и пораженно застыл: сотни людей смотрели на него из темного стекла негативов. Среди них он узнавал своих друзей, соседей, узнавал живых и мертвых, которые и после смерти собирали тепло солнца для людей… А ты же, человече, живой, вот и думай, и трудись, как живой…
XXIII
Мертвые глаза линей тупо смотрели на Безбородько, и эта же тупость была во взгляде Мирона Шавулы.
— На кого же ты нас, Антон, бросаешь, на кого бросаешь? — охмелело варнякал кладовщик, охватив голову жирными загребущими руками. Пьяная печаль растекалась по его запущенной растительности и мучительно шевелила мелким, как лесная груша, носом.
— На кого ты нас бросаешь?
— Цыц, заголосил, как на похоронах, — вытаращился на него Тодох Мамура. По его ятаганистых челюстях извивается презрение. — Ты лучше поразмысли, подумай, как удержать нашего дорогого Антона Ивановича на посту, потому что дела идут — контора пишет. Надо, поразмыслив, всю родню, всех друзей блоком сколотить, всюду массовую работу поднять на уровень, а на собрании своих людей пристроить по закоулкам, чтобы демократия была в голосах. Как ты думаешь, Антон?
— Теперь, люди добрые, из этого шума не будет пива: время неподходящее. Надо реально думать. За ваше здоровье, — нахмуренный Безбородько с достоинством поднял рюмку, соединил ее с двумя, опрокинул и крякнул: — Огонь!
— Да этот огонь не зальет душевного огня… Неужели, Антон, все твое из телеги упало, неужели вот так и сдашься? — бьет Шавула вилкой в глаз рыбине. — Неужели так и сдашься?
— Должен, братцы, не хочу, но должен, — трагедийно поднимает растопыренные руки. — Но дело не в том, что Марко поднимется на мой пост, а в том, как его быстрее всего сковырнуть с поста. Еще не народился тот председатель, который пропредседательствует без ошибок, или недостатков, или перекручиваний, или недокручиваний. Нам, практически, надо уже сегодня ухватиться за них…
— За что же ухватиться, когда он еще не председатель? — удивился недалекий Шавула.
— За те хвосты, которые остаются в хозяйстве. За них цепляйся и вяжи мертвым узлом, — поучительно сказал Мамура. — Подумай только: чем и как теперь обсеется Марко? Вот и хватайся сразу же за срыв посевной. Труби и пиши во все инстанции, борись за правду!
Последние слова немного развеселили Шавулу, потому что очень уж не шло слово «правда» Тодоху Мамуре. Но, смотри, произносит его и морду не кривит. Совсем опаскудился человек. Кладовщик хотел чем-то подколоть Мамуру, но тут заговорил Безбородько:
— Вы, братцы, не очень, практически, печальтесь, но порох держите сухим — понадобится! Мне, практически, теперь даже лучше снять с плеч председательство. Пусть все хлопоты этого года упадут на Марка, пусть его перешерстят за отсталость и в инстанциях, и в газетах, пусть запарится он, а тогда и мы — тут как тут, вынырнем и пригодимся для чего-то.
— Министерская у вас голова, министерская, — похвалил Мамура и засмеялся.
— Какая ни есть, а плеч держится, — не преувеличивает своих талантов Безбородько.
— Значит, нам сейчас надо, практически, отступить шаг назад, только с умом отступить, чтобы не замести дороги вперед. Документы разные подготовьте, чтобы и комар носа не подточил. Если что-то не так, значит делайте, чтобы было так, в ажуре, как ученые головы говорят, потому что неизвестно, какие ревизии наедут или наскочат на нас. Главное свести концы с концами, без хвостов. Ну, а коров, каких мы взяли из колхоза, должны сегодня же возвратить. Так и родне всей скажите. Здесь надо без глупой жалости и либерализма!
— Теперь, значит, и на ферме будет молоко, — скривился Шавула, оторвал руки от головы. — Неужели без этого никак нельзя обойтись?
— Нельзя! — твердо сказа Безбородько.
— Ой, падко мой, печали мои! Как же эти коровы заводить на ферму? Стыда на весь район не оберешься, — завопил Шавула и снова схватил голову руками.
Безбородько успокоил кладовщика.
— Какой там стыд? Не туда смотришь, не то видишь и не то мыслишь. Мы просто спасали коров от голода, спасли их — и снова честь-честью сдаем в колхоз. Мы колхозу добро делали.
— А в самом деле! — удивился, потом улыбнулся, а еще через минуту помрачнел Шавула. — Такую корову возвращать. У нее же вымя, как ведро! Может, ее, Антон, своей заменить?
— Не делай этого, Мирон. На все есть свое время, — строго взглянул Безбородько. — Лисицу собственный хвост погубил, а тебя может погубить коровий. Думай не тем местом, на котором сейчас сидишь, и готовься к ревизии. Ну, а чтобы тебе легче было сдавать свою корову, сначала, для практики, отведи мою.
— Когда?
— Сейчас.
Они все втроем встали из-за стола, вышли во двор. Безбородько решительно пошел в большой, жестью крытый сарай, отвязал породистую корову, пахнущую молоком и лугом, слегка ударил ее сапогом и повел к воротам.
— Это, Мирон, практически, делается так, — повернул голову к завхозу и кладовщику. — Отворяются ворота — и айда, коровенка, со двора. Отдирай, Мирон, пережитки от сердца и веди, чтобы не повело куда-то в нехорошее место, — даже улыбнулся Безбородько.
Шавула сплюнул, ругнулся в бороду и, изгибаясь, пошел за коровой.
— Неужели, Антон, не жалко вам рекордистки? — грустно покачал головой Мамура.
— Почему не жалко? Но мозги мои еще не притрусило каменной чешуей. Нам не положено быть дураками. Делай, Тодоша, как я сказал, не хватайся за разные увертки, вот и выплывешь, как ныряльщик. Ну, иди к своим документам, а дорогой пришли ко мне Галю с машиной.
— Куда-то в поход?
— К соседям по песни… Есть разные дела. Из председательства же ухожу. — Он простился с Мамурой и весь в невеселых мыслях вошел в хату. Мертвые глаза линей тупо смотрели на мужчину, и ему тяжело вздохнулось.
— Из председательств ухожу, — еще раз сказал сам себе.
Когда на улице заурчала машина, Безбородько погасил свет, вышел из дому и еще поколебался: ехать ли ему к Саврадиму Капустянскому, или оставить свою затею. Но как оставить ее, когда припекло до самого края? Он молча садится в кабину, косится на девчонку: не преисполнилась ли она насмешкой к председателю, и приказывает ехать в Зеленые Ворота… Чем тебе плохое село? И название хорошее, и стоит в садах, как в венке, и люди там более спокойные. Нет, если подумать, ни Евмена Дыбенко, ни Демьяна Самойленко. Этот думает, как горел в танке, так ему все можно, чтоб тебе язык заклинило.
Перед глазами Безбородько проходят и проходят его недруги, которые будут потрошить и рвать его в клочья на отчетно-выборном собрании. В этот день кого-то из них надо послать аж в область. Ну, а чей-то рот можно мудро замазать. Все надо с подходом делать.
В таких раздумьях Антон Иванович подъезжает к крестовидным воротам Саврадима Капустянского, перед порогом незаметно трижды сплевывает через левое плечо и, невесело улыбаясь, заходит в хату.
— А, сват приехал! — насмешливо здоровается Саврадим Григорьевич. Даже в жилище он сидит в полушубке, и все равно холод хозяйничает в теле мужчины. — Может, уговорил Бессмертного к нам?
— Не смог, — с сожалением отвечает Безбородько. — Вы как в воду смотрели: ему не хочется идти на малое хозяйство.
— Ну, это его дело, — с сожалением сказал Саврадим Григорьевич. — Когда уже я себе смены дождусь? Не выдерживает моя основа такой нагрузки, расползается. Эх, годы, годы… А когда-то же самые норовистые жеребцы танцевали подо мной, сабля блестела и пела в руках как сумасшедшая, плуг вынимал из борозды, как куколку, телеги с древесиной одним плечом переворачивал. Где те врачи на свете, которые дают человеку силу, а не могилу?
— Нет таких, и не скоро найдутся, — уверенно ответил Безбородько. — Вся их ученость еще способна что-то вырезать, что-то укоротить у человека, а добавить ему здоровья не умеет. Нет таких кувшинов у нее.
— Как ты славно о кувшинах сказал, — грустно согласился старик. — А когда-то и они будут, выпьешь из них здоровья — и ходи по земле, как солнце по небу… Так какая нужда тебя погнала ко мне? Помочь хочешь мне?
— Может, и помочь, как захотите, — еще с опаской говорит Безбородько.
— Почему бы помощи не захотеть? — оживился старик. — Говори, что у тебя.
— И неудобно о себе, но скажу: хочу к вам приемышем! — сразу выпалил Безбородько.
— Как!? — пораженно взглянул на него Саврадим Григорьевич. — Ты к нам хочешь председателем? Так я понимаю?
— Конечно. Надо же вам отдых дать. Я по-товарищески…
— Так это я за твоей спиной буду отдыхать? — старик округлил глаза, подался с доброго дива плечами к стене и расхохотался. И от этого хохота затанцевали его вихор и борода.
Внезапный смех передернул Безбородько, теперь в этом доме и ему стало холодно.
— Неужели это так смешно? — злобно искривил толстые губы.
— Для меня смешно, для тебя грустно, — хватался за живот Капустянский. — Ой, не могу больше… Безбородько позаботился о моем отдыхе… И не кривись, не злобствуй, человече. Ты извини старику, но я тебя и свинопасом не поставил бы в своем колхозе.
— Чего вы так загордились своим хозяйством? Серебром-злотом осчастливили его? — возмутился Безбородько.
— И скажу, послушай, когда время имеешь, — Капустянский наконец отсмеялся и с пренебрежением взглянул на Безбородько: — Слушай и мотай на ус. Такое редко в глаза говорят. Я думаю, человек, который ходит возле живого дела, только с радостью должен делать его. А вспомни, умел ли ты что-то делать с радостью? Решительно ничего. Ты даже хлеб не выращиваешь, а выжимаешь из земли. Ты и ешь его без радости, потому что краденный он у тебя. И хоть я больной дед, хоть я не имею твоих лет впереди, но я до сих пор радуюсь людям, земле, поникшей траве на лугу и звездам в небе. Даже умирая, я не дам тебе воли, потому что ты нехороший, злой человек! Ты не любишь даже тех, кто работает на тебя, ты боишься их взгляда, их слова и смеха. Еще Шевченко писал: «И нет злому на всей земле бесконечной веселого дома». Запомни эту великую правду. Ты и в своем доме не радуешься, потому что и он, и все в нем ворованное. Так как я могу тебя допустить до общественного добра? Ты же сразу начнешь думать не как его приумножить, а как украсть, честных тружеников заменишь хитрыми прохиндеями, подхалимами и начнешь рубить под корень человеческие надежды и человеческую радость!.. Не шипи, не кривись, человече, слушай старика, а постановление сам себе пиши, потому что рано или поздно напишут его люди… Жена, поставь нам что-то на стол, пусть поужинает Антон Безбородько. Мы еще поговорим по-соседски об исправлении души. Может, поможет.
— Ничего не надо мне — ни ваших докладов, ни ужина, ешьте сами! — люто встал злобой наполненный Безбородько.
Но жена Капустянского уже несла навстречу полумисок, снова-таки с рыбой. Мертвые глаза щук тупо таращились на Безбородько.
XXIV
Антон Безбородько не раз бывал и на коне, и под конем, и на это с годами начал смотреть, как на определенную закономерность фортуны. Когда его выбирали председателем, то он с достоинством держал собственную голову, когда же переизбирали, тоже с достоинством нес на побледневшем лице чувство незаслуженной обиды и на искренние или мнимые сочувствия отвечал одно:
— Разве нашим людям кто-то угодит?
Больше всего ему нравились те отчетно-выборные собрания, что не пахло переизбранием. Что-то тогда теплое, семейное шевелилось в душе, хотя вокруг бушевали страсти разных выступлений. На таком собрании он охотно признавал критику, обещал что-то вытянуть, где-то исправиться, везде улучшить, добиться и победить. А дальше снова шла та же карусель: его накачивали, критиковали, он по-боевому воспринимал критику, сам себя критиковал, на чем-то выезжал, что-то придумывал и в работе, и в рапортах, расправлялся с некоторыми критиканами, некоторым хитро замазывал рот и снова готовил новые обещания: хорошо, что их не надо покупать.
Когда же его переизбирали, беспокоился, но не отчаивался, потому что в тумане будущего видел падение новоизбранного председателя и свое переизбрание. Но в такие невеселые часы Антон Безбородько имел одну тяжелейшую минуту — разлуку с печатью. Недаром какой-то дурной язык пустил когда-то остроту, что печать стала для Безбородько вторым сердцем. Только тот, кто не понимает, что такое печать, может без уважения говорить о ней.
Сегодня же особенно трудно было ее класть на стол. Может, потому, что собрание происходило в церкви и на позорное падение председателя смотрели и люди, и боги, и нечистая сила. Остатки суеверной боязни иногда беспокоили Антона Ивановича, когда он встречался взглядом с бесовскими глазами, на которых мерцал горячий блик ада, невзирая на то, что возле него шевелилась громоздкая фигура отца Хрисантия в подряснике иеромонаха. Чего еще попу надо на отчетно-выборном собрании? Ага, это он об утвари печется… Безбородько не может угнаться за всеми мыслями и говорит сегодня значительно хуже, чем умеет. Позади кто-то вкусно зевает и громко говорит:
— Говорила-балакала до самой смерти. Хватит языком плескать!
— Не сбивайте человека! Он же в такое время трудился! — сразу отозвались по углам приверженцы Безбородько.
— Так трудился и хватал, что ни света, ни людей не видал.
— А ты видел? Чтоб тебе повылазило!
— Да уже вылез дворец у Антона и дурак возле Антона.
— Га-га-га!
— Клади, Антон, регалии на стол! Хватит колхозом торговать!
У Безбородько тряхнулись плечи, он замолчал, ввинтил глаза в ад и, овладев собой, кое-так закончил выступление, полез в карман за печатью и, наклоняясь, положил ее на стол. Однако же не Марко потянулся к ней — первым взял печать дед Евмен, нацелился недоверчивым глазом, бесцеремонно покрутил ее в руке, поднял к носу и понюхал.
— Чем пахнет? — спросил сбоку Василий Трымайвода.
— Буряковкой и шампанским, — серьезно ответил старик, и вокруг разлегся хохот.
Безбородько снова передернуло, но, в конце концов, и это не так плохо: лучше пусть смеются, чем сердятся. Может, за смехом никто не вспомнит о второй ревизии? Если бы эта туча обошла его. Он тоскливо вглядывается в лица людей и святых, больше всего опасаясь дополнительной ревизии, потому что и сам уже не знает, что может она обнаружить.
Но как-то обошлось без нее. О второй ревизии не вспомнил ни Борисенко, ни сам Бессмертный, и это уменьшило боли Безбородько: ему не придется продавать с торгов свой дворец. И зачем он его преждевременно вымахал таким? Это можно было сделать и через год-два.
Марко говорил коротко и в своем выступлении даже не вспомнил фамилии своего предшественника, чем удивил и людей, и самого Безбородько.
«Таки почему-то опасается меня», — по-своему понял это Безбородько.
— Каким бы ни был председатель колхоза, без вас, люди, без ваших рук, душевности и великодушия он погоды не сделает. Только в ладу с вами он будет хозяином, без вас — приказчиком. А земля приказчиков не любит, хоть им и перепадает больше ее даров, чем истинным земледельцам. Но горек и хлеб, и мед такого приказчика.
— Безбородько не кривила эта горечь, — отозвался кто-то сзади, и смех закачал человеческими головами.
Но и после этого Марко не вспомнил своего предшественника.
— Я не хочу есть хлеб и мед, что оторваны от вашего рта, потому что тогда и мед станет ядом. Если будет ваша большая поддержка, я надеюсь, обещаю, что уже в этом году у каждой вдовы и сироты будет хлеб на столе.
— Мы, Трофимович, не пожалеем ни кончиков пальцев, ни ручек, лишь бы только нас не забывали после жатвы, потому что помнят нас только до жатвы, — жалобно прозвучал голос вдовы Софии Кушниренчихи.
— Не забудем, тетка София. Сейчас нам очень тяжело, — продолжал Марко. — Тяжело и государству. Но мы все радуемся, что уже наш воин одной ногой стоит на пороге победы. Эту победу ковал и ваш святой хлеб. Государства, народы никогда не забудут вашего трудного хлеба. Нелегким он будет и в этом году: у нас даже семян не хватает, нечем пахать землю. Не один день лопаты, горели бы они ясным огнем, будут выдавливать мозоли на женских и девичьих руках. Но любой ценой мы должны обработать землю до последнего лоскута. Так и начнем расти, трудно, но крепко. И если мы будем одной семьей, то в этом году к нам придет хлеб, а через два-три года — истинное благосостояние. Через два-три года настоящей, как я думаю, работы будем только вспоминать и удивляться: неужели мы были еще в тысяча девятьсот сорок пятом году такими голодными и бедными. Так пусть с нашей большой победой над фашизмом, над несправедливостью скорее приходит победа над бедностью!
Последние слова Марка утонули в дружных аплодисментах.
Он ощущал, что люди верят ему, но ощущал также, что Борисенко что-то не понравилось в его выступлении: это видно было по его темных с голубоватыми белками глазах. Но что именно не нравилось ему?
XXV
После заседания новоизбранного правления Борисенко с Бессмертным последними вышли на улицу.
Над землей слегка дрожало и сеялось мглистое серебро лунной ночи, а на земле тени облачков цеплялись за тени осокорей. Прямо на дальние поля Млечный Путь с обеих рукавов высеивал свое зерно и клубился звездным туманом. Бездонность фиалкового неба подчеркивала совершенную завершенность и ночи, и тишины, в которой то всхлипывал, то причмокивал, как грудной ребенок на груди матери, то сердился на кого-то, то урчал невидимый ручей. Что-то ласковое и первозданно чистое было в его неровном голосе, в оттенках девичьей мягкости и мальчишеского упорства.
— Красота какая! — поднял голову к небу Борисенко. — Только бы любоваться ею или песни напевать, если бы война не так обидела землю и людей. Садитесь, Марко Трофимович, подвезу к вашей землянке.
— Что землянка! Везите лучше в поле, хоть посмотрю, как оно дышит.
— Взглянем, как оно дышит! — одобрительно улыбнулся. — Уже что-то примеряете?
— Да прикидывать — прикидываю, только толку мало, — вздохнулось Марку.
— Что беспокоит?
— Больше всего — сев. Чем только землю вспахать? Сколько под перелогами лежать ей?
— Скольких людей мучает сейчас этот вопрос! Только подумать: на Украине снова появились перелоги и те травы, что не растут на пахотной земле… И ничем я сейчас не могу утешить вас. Выкручивайтесь, как умеете. Пока что и государство не в силе помочь вам. Тяжело ему.
— Ох, и тяжело, — вздохнул Марко, садясь в машину. — А пройдет ведь не так много времени — и все окажется в прошлом, как сон. Жизнь всюду возьмет верх, и тогда люди начнут удивляться, как мы в огне горели и не сгорели, как в земле жили и не плесенью, а соками ее взялись, как выпрямились, как после всех руин и пожарищ цветом зацвели.
— Вам, Марко Трофимович, в эту ночь надо было бы стихи писать, — Борисенко, выезжая на дорогу, осторожно запетлял между осокорями.
— Я их таки писал прошлой ночью.
— В самом деле? Какая тема?
— Насущная: что нам сможет дать гектар баклажан, огурцов и лука. Как вам такие стихи?
— На данном этапе удовлетворяют. Почему сразу за баклажаны и лук взялись?
— Овощи — это деньги сверху, а глубинных мы пока что не можем зачерпнуть, есть только нашейные — долги. И снимать их будут овощами женские руки.
— Лопатой и сапкой? — аж губу прикусил Иван Артемович.
— Да, лопатой, сапкой, мозолями и даже новыми морщинами. Этот год нелегким будет для нас всех, а больше всего — для женщин. Очень обижаем их.
— Это еще хорошо, если есть кого обижать, — на миг мучительно прищурил глаза Борисенко.
— Вы о чем? — не понял Марко.
— Не догадался?.. О своей и твоей жене, — резко перешел на «ты» Борисенко.
— У вас тоже?.. — широко взглянул на хмурое, будто из черного камня высеченное лицо.
— У меня тоже, — вырвался хриплый клекот из груди. Ни одна морщина не шевельнулась на лице Борисенко, и боль холодом охватила его лицо и холодом заискрилась в глазах.
Вдоль дороги в прозрачном лунном тумане, как видение, отходили темные состарившиеся липы, и в их безмолвных очертаниях, в окоченевших с росой ветвях чувствовалась печаль скорбных матерей. Ох, эти «екатерининские» липы, эта широкая дорога! Сколько горя проходило мимо вас. Борисенко обернулся к Бессмертному:
— Я знаю, как погибла твоя жена… С ней расстреляли и ее песню. А мою жену сожгли с не родившимся ребенком. На седьмом месяце ходила, надеялась подарить мне сына, не такого цыгана, как я. Хату облили какой-то смесью, поднесли к крыше огонь, а по окнам ударили из автоматов… Моя жена была такой красивой, что ее, по правилам, и огонь не должен был бы взять… Вот такая, Марко, мы с тобой родня.
В долине возле ставка, забросившем в темную глубину неспокойную луну, Борисенко остановил машину. Они молча слезли с нее, молча подошли к берегу, который уже щетинился робкой травкой, им нечем было утешать друг друга — слова еще больше растревожили бы их. А сейчас только беспокоили мысли, воспоминания, видения, и то они теснились между неотложными заботами о самом будничном: о пахоте, севе, овощах, горючем.
«У нас горючего нет землю вспахать, хлеб посеять, а они, фашисты, им людей жгли». Перед Марком появлялись шаткие лапища страшного костра и очертание неизвестной красавицы, которую, по правилам, и огонь не должен был бы взять. Но взял, не пожалел ни красоты, ни материнства. А люди, не зная этого, до сих пор удивляются, почему у Борисенко такое хмурое лицо и строгий взгляд.
— Так, человече, и остались мы с тобой немолодыми вдовцами, — Борисенко положил руку на плечо Марку, и это многое сказало ему. — А жизнь идет, и держится она не на болях, а на надеждах. И у тебя их больше.
— Разве? — удивился Марк.
— Ты надеешься встретить дочь, а мне некого. Только бы скорее война закончилась.
Они по теням верб, между которыми туманцем чуть-чуть шевелилось лунное марево, подошли к плотине с рядом кленов. Пара чирят черными комочками сорвалась с плеса, с их крыльев закапала вода. На глубине всплеснулась рыба, и потревоженные круги, догоняя друг друга, начали набегать на берег.
— Что, Марко, будешь сеять в долине? — Борисенко махнул рукой за плес.
— Коноплю, мудрее ничего не придумаешь.
— Семян хватит?
— Где там! Разъела его шатия Безбородько, а концы в воду так бросила, что и ревизия не смогла уцепиться за них. Завтра правление пойдет по людям. Так и начнем стягиваться по нитке на сорочку.
— Чистосортного льна подбросим вам. Не лен — одна радость.
— За это спасибо. Вот и буду иметь в этом году трех китов: овощи, коноплю и лен.
— Долги снимешь ими? — хитровато прищурился Борисенко.
— Надеюсь.
— Говоришь об этом, а думаешь о большем?
— Есть такой грех, если уродит.
— Чувствую крестьянскую осторожность, — Борисенко пристально посмотрел Марку в глаза. — Ну, а сегодня на собрании новый председатель часом не заврался?
— Он такое дело не очень жалует, — сказал, будто и не о себе. — И не было потребности ему врать.
— Хорошо. Но ты действительно веришь, что через два-три года добьешься той картины, которую нарисовал на собрании? Или это только сказано так, для порядка, по случаю коронации, чтобы в первый день председательства людям пыль в глаза пустить?
Бессмертный сразу нахмурился, отвел взгляд от Борисенко, взглянул на тихий плес, шевелящий в своей глубине и облака, и луну, и звезды.
— Молчит новый председатель?
— Молчу, Иван Артемович.
— Зови Иваном, так крепче будет. А чарку на побратимство мы выпьем с тобой, когда ты хотя бы из своих долгов выскочишь.
— Уже и своих? Не помню, когда я их наживал.
— С сегодняшнего вечера. Значит, сам не веришь, что через два-три года люди твоего села забудут, в какой они бедности жили?
— Верю и не верю.
— Это ответ! Дипломатичный! — недовольно воскликнул Борисенко. — И ты уже хитрить начинаешь? На собрании — одно, со мной — другое, а на сердце — что-то третье. Как оно все это помещается и крутится в твоей умной голове?
— Зачем вы так, с плеча, о хитрости? Теперь, будем откровенны, я где-то не обойдусь без нее, где-то и вы сквозь пальцы посмотрите на это, потому что такая хитрость будет не для себя: я бедность должен сорвать с плеч.
— Ох, Марко, Марко, хоть бы ты помолчал об этих открытиях. Или ты меня загодя в соучастники по хитростям берешь? Так досказывай, как ты веришь и не веришь, что село через два-три года выбьется из нужды?
— Говорить об этом — только растравлять и себя, и кого-то.
— Растравляй, не деликатничай. Нас теперь уже ничем не удивишь, даже страшным судом.
— И скажу! Нарисую картину! — стал злее Бессмертный. — Вот первая: в энном колхозе полный беспорядок, развал. Председатель со своей теплой компанией пропивает все, что можно пропить. Люди на работу не выходят, на трудодни получают граммы, не интересуются соцсоревнованием и даже газеты не выписывают. И вот, в конце концов, молодому, красивому и энергичному секретарю райкома становится понятной вся картина.
Однажды вечером он привозит в село не менее молодого и красивого председателя, горячо рекомендует его, люди поддерживают, и все начинается, будто в сказочном царстве-государстве… Новый председатель не пьет и за работой даже не ест, люди на работу идут с энтузиазмом, на трудодни получают килограммы, все соревнуются между собой и все выписывают прессу, колхоз становится лучшим в районе, и о нем пишут в той же прессе, что он выписывает. Правда, как все гладенько и хорошо в этой картине?
Борисенко сначала изумленно слушал Марка, а потом расхохотался:
— Где ты выцарапал такую типичную картину?
— Из типичных романов. А много ли в романах писалось о следующем: сдавая, например, картофель, колхоз получает за него меньше, чем тратит на горючее, чтобы привезти ее на заготпункт? Или сколько писалось о золотом урожае, золотом зерне и как оно веселит счастливое хлеборобское сердце. А читали вы где-нибудь, как это золотое зерно после натуроплаты и расчетов с МТС под метлу идет на разные дополнительные и встречные планы и хлеборобское сердце подплывает кровью?
— Э-э, чего тебе захотелось! Не хочешь ли писателя подвести под такую критику, за которой начинается инфаркт? Писателей тоже надо жалеть, и им нелегко вырастить свое золотое зерно. Ну, а полова бывает во всяком деле — и в сельском хозяйстве, и в литературе… Так что же ты своей картиной хотел нарисовать?
— То же, о чем вы подумали, то же, что думают люди: плохо еще, очень плохо ведем мы хозяйство на земле. Я понимаю, что не на чужом золоте, а на рабочих мозолях поднималось наше государство, я понимаю, почему нам надо было и не доесть, и не доспать, я понимаю, что такое борьба за хлеб. Но я против той борьбы, когда экономим граммы, а теряем пуды и отдаляем земледельца от социализма.
— А не загнул ли ты, Марко? — насторожился Борисенко.
У Бессмертного болезненно зашевелились морщины у глаз и рта.
— Может, и загнул, о таком не часто нам выпадает совещаться. Сам хочу разобраться в этом. Я похож на человека, у которого болит корневой зуб, а ему кажется — все болят, и уже не разберешь, где зубное, а где сердечное. Правильно, что первая заповедь — есть первой, но когда мы, как и о первой, заговорим и о второй — о хлебе насущном на столе хлебороба? Об этом мы как-то стыдливо молчим, потому что кое-кому приходит в голову, что это собственнические тенденции, пережитки. А хлеб еще никогда не был пережитком!.. Каждый председатель колхоза, руководство перед первой заповедью чувствует истинно страх божий, а перед второй — кое-кому и за ухом не зудит: за это строгача не влепят, на суд не позовут, страха не нагонят… Что же остается делать земледельцу, когда после жатвы он все свои трудодни выносит из амбара в одном мешочке или сумке? Или пухнуть с голоду, или как-то выкручиваться и лукавить, теряя свое достоинство и сердце. Вот и начинает он выкручиваться, как может, как умеет: один, что видит, то и лямзит ночами с колхозного поля и даже не считает это воровством; другой, согнувшись в три погибели, тащит на базар овощи и становится рядом с перекупщицей или торговкой не гордым земледельцем, а съежившимся мешочником; а третий бросает землю и ищет где-то более уверенного куска хлеба, хоть и в охране, будь она неладна… Вот так и черствеет и ожесточается крестьянское сердце, и черствеет без его ласки земля. Об этом мы стараемся меньше говорить и еще меньше писать, но от всего этого мы, в конце концов, теряем больше хлеба, чем его надо на потребление, теряем человеческую веру в силу коллектива, отодвигаем земледельца от большой общей радости, и он вырывается на мелкую тропинку, что ведет его с широкого поля на лоскут своего огорода. Арифметика — это наука для всех, но с арифметикой колхозного трудодня мы не свели концов.
— Ну и чего ты хочешь?
— Хозяина земли. Хозяина, а не уполномоченного, не заготовителя, который зерно тянет в амбар, а теряет колосок на поле. Присматривались ли вы, например, как у нас идет косовица? Такие хозяева, как Броварник, дают людям часть укоса, и дальше картина выходит такой: зеленое, как барвинок, сено имеет и государство, и колхоз, и колхозник. А там, где косовица ничего не обещает земледельцу, — трава перестаивает, становится проволокой, сено гниет в покосах или затекает в скирдах, потому что и скирдуют его не любовью, а злом. Кому же нужна эта экономия: государству, колхозу или колхознику? Свои дырки в сельском хозяйстве мы часто хватаемся латать уполномоченными по картофелю, по молоку, по шерсти, по яйцам, по пуху-перу и по другим «по», будто и не знаем простейшей истины, что дело не в уполномоченных, а в том, кто засевает землю. Вот еще перед войной началось у нас хорошее дело с дополнительной оплатой. Но кое-кто сразу испугался, что крестьянин салом обрастет, и завопил не своим голосом. Не перевелись еще крикуны, которые все вспомнят: и рожь, и пшеницу, и коров, и свиней, и кроликов, и кур, но и слова не скажут о земледельце. А придет хозяин земли, мы и планы все выполним, и хлеб, и к хлебу будем иметь, и радости станет больше в глазах, и счастья в груди. Да и не будем писать те стихи, что кругом без конца и без края ходит урожай, а кто-то ножницами стрижет колоски. И какой бы черт стриг эти колоски, если бы порядок был на поле!
— Хороши, Марко, твои мысли, только пошей на некоторые из них котомку и держи при себе, — мрачно сказал Борисенко.
— Вот и беда, что мы их часто держим в котомке, все опасаемся, кабы чего не случилось. А разобраться бы во всем, высыпать все свои недостатки, перебрать их, откровенно сказать людям, поднять их на трудовой подвиг, так спустя какое-то время и дядька был бы не кумом королю, а выше короля, как и надо ему быть при социализме. Да все равно разберемся в этих делах, хоть кому-то и не хочется морочить себе голову мужицкими делами.
— Разберемся, Марко, только не все сразу делается. С тебя, если буду секретарствовать, не очень будем тянуть дополнительные планы. Укрепляйся.
— Спасибо. Хлеб, хлеб любой ценой должны в этом году дать земледельцу.
— Это сейчас главное, а впереди — самое главное, — с хорошей задумчивостью сказал Борисенко. — У меня тоже мужицкое сердце, гонит оно кровь с землей. Не раз я думаю, не раз казнюсь и терзаюсь нерешенными узлами, но не сомневаюсь, что решим их. И так решим, что каждый крестьянин ощутит себя хозяином земли, каждый! Ты знаешь, как не любит наш человек говорить о нуждах, как ему приятно сказать, что у него есть то, и другое, и третье. Для этого он и на свят-вечер ставит все блюда на стол. И вот я думаю не о свят-вечере раз в году, а о таких временах, когда отпадут разговоры и печали о хлебе насущном: все будет у нас! И верится, не за горами эти времена.
— Скорее бы дожить до них.
— Доживем. А как ты сейчас будешь обсеваться?
— Еще и сам толком не знаю. Вынужден как-то выкручиваться.
В это время на дороге заурчал трактор. Марко с Иваном Артемовичем пошли навстречу ему, и каким же было их удивление и радость, когда на машине увидели веселогубого Ярослава.
— О, это вы так поздно? — и себе удивился тракторист, соскакивая на землю. — А я к вам, Марко Трофимович. Примете на какую-то пару дней?
— Ну и молодчина ты, Ярослав, — растроганно обнял его Марко. — Ты и не знаешь, как я признателен тебе.
— И я рад, что к вам приехал, — добрым полумесяцем закруглились губы парня. — Так где мне начинать?
— А есть чем? — улыбнулся Борисенко.
— Есть, и знаем, где взять, — беззаботно ответил Ярослав. — Пусть только дядюшка больше спит.
— Ты же не голодный? — спросил Марко.
— Кто теперь сытым бывает? Только дармоеды и кладовщики.
— Может, поедем ко мне, поужинаем немного?
— Боюсь ночью есть, потому что привыкну к такой роскоши, и что тогда делать в военное время? Утром что-то передадите мне. Где начинать пахоту?
— Там, Ярослав, от тех верб, что гнутся к нам. Только веди ломоть не продольный, а поперечный.
— Это для чего?
— Чтобы чернозем и вода не стекали в ставок.
— Есть, порядок в войсках! — козырнул Ярослав, взобрался на трактор и поехал к вербам.
Скоро ровные ломти начали дыбиться за всеми плугами.
— На счастье! — Марко снял картуз и пошел, прихрамывая, бороздой, как подбитая птица.
XXVI
Марко поздно вернулся домой, но мать еще не спала — ждала его.
— Ну, покажись, сын, очень ли радуешься новой должности? — укоризненно и насмешливо посмотрела на него.
— Смотрите, мама! — бросил костыли и ровно встал посреди землянки. — Как оно вам показывает?
— А разве тебя разберешь? Ты внутри можешь плакать, а сверху смеяться.
— Вот это сказали о своем сыне, дали ему характеристику, — махнул рукой Марко.
— Так что имеешь новые хлопоты на свою голову, — мать грустно скрестила руки на груди. — Теперь будут таскать тебя и по районам, и по прокуратурам, и по бюро, и по судам: есть хочешь?
— Очень!
— Подогреть борщ?
— Конечно!
— Постный только он, вместо мяса — одни опята плавают.
— Голодному и опята — мясо.
— Он еще и смеется. Сейчас принесу дрова.
— Не надо, мама.
— А чем же тебе борщ подогреть?
— Есть чем! — нагнувшись, Марко достал из-под скамейки топор и ударил им по костылю.
— Сумасшедший, что ты делаешь!? — вскрикнула мать.
— На дрова стараюсь вам, — засмеялся Марко, рубя костыли. — Так, мама, и начнем председательствовать на своих ногах — хватит чужих.
— Не рано ли, сын? — печально и радостно смотрела, как разлетались костыли на чурки. Потом собрала их, бросила в печь и подожгла. Сухая древесина сразу взялась огнем и загоготала.
— Горят? — пригибаясь, посмотрел Марко.
— Горят! Пусть все плохое сгорит… А к тебе уже дважды гости приходили.
— Какие там еще гости?
— И не догадаешься, — ставит на стол полумисок борща с грибами. — Подожди, не они ли, неприкаянные, снова идут? — повернула голову к порогу. — Таки они, и ночи нет на них!
Кто-то со двора зашуршал руками по дверям, клацнула щеколда, и удивленный Марко увидел согнутые фигуры Безбородько и Шавулы.
— Государь-хозяин великий, к тебе можно? — выпрямляясь, с наигранной бодростью спросил Безбородько. — Или теперь и в хату не впустишь?
— В хату, когда она будет, может, и не впущу, а в землянку заходите, — не очень приветливо взглянул на поздних и непрошеных гостей, которые уже, тесно прижавшись плечом к плечу, подходили к столу.
— Одни опята плавают! — глупо вырвалось у Шавулы, когда он заглянул в миску.
— Бедно, Марко, ужинаешь, бедно, — покачал головой Безбородько.
— Что имею, то и ем.
— Ну, это дело, практически, завтра поправится, — прозрачно намекнул Безбородько и сразу же перевел речь в шутку. — Но, может, сегодня уже следует поужинать яко председателю?
— Неужели ты догадался что-то принести мне как председателю? — насмешливо спросил Марко.
Безбородько насторожился, будто цапля над водой, не зная, что и ответить на насмешку, но махнул рукой и пустился вброд:
— Таки принес! Не погнушаешься?
— Нет, не погнушаюсь, Антон, если оно свое, а не одолженное.
— Да что ты, Марко! Разве же мы посмели бы с таким к новому председателю прийти? Закон надо знать.
— А Шавула, наверное, посмел бы! Это он как-то говорил мне возле райкома.
— Не добивай меня, Марко, окончательно, — виновато искривил заросшее лицо Шавула. — И, если можешь, забудь и извини тогдашние дурные слова. Я, сам понимаешь, полупьяным был и молол что-то, как в горячке, о! — Он отбросил полы пиджака, почтительно сгибаясь, положил на стол круг колбасы и четвертину сала, а Безбородько извлек из кармана бутылку водки, ударил ладонью в донышко — и пробка полетела до самой печи.
— Прошел ты, Антон, практику, — не выдержала мать, удивляясь и возмущаясь, чего это ее сыну захотелось сидеть с такой компанией. Ну, ему виднее, как надо сделать; между людьми и шавулы живут — не перевелась разная нечисть на свете…
— За твое здоровье, Марко, — даже с какой-то торжественностью поднял рюмку Безбородько, тоже в душе удивляясь, что так легко начался этот непривычный ужин. — Желаю, чтобы тебе хорошо жилось и хозяйствовалось.
— А на самом деле, Антон, чего ты мне желаешь? — безжалостным взглядом обжег Безбородько. — Чтобы я скорее себе шею свернул или еще чего-то в таком плане?
Безбородько запыхтел от этого взгляда, но как-то выдержал его, у него только чуть-чуть вздрогнули и скособочились веки, пустыми занавесками опадающие над глубоко вдавленными глазами.
— Нет, Марко, не желаю тебе этого, — снова степенно начал разливать водку. — Не буду скрывать, что после нынешнего собрания, практически, очень невесело у меня на сердце. Да и ты на моем месте едва ли имел бы большую радость. Но критику надо терпеть и исправляться. Сам сегодня яснее увидел ошибки и тому подобное. Ну, и раскаиваюсь, что преждевременно погнался за собственным домом, он, мерзкий, больше всего оторвал меня от людей и колхоза. Клятая собственность, как леший, засосала меня в болото.
— Скажи на милость божью! — изумленно вырвалось у матери: раскаяние Безбородько поразило ее. — Значит, еще не совсем пропащий ты человек.
— Где есть такие грабли, чтобы от себя гребли? Да и рука как-то у человека все к себе гребет, — глубокомысленно ввернул Шавула свое словцо и прикрыл глаза веками, похожими на столбики. — Опять-таки, извини мне, Марко, ту глупую болтовню перед пленумом. Зачем нам всю жизнь враждовать? Еще, увидишь, и Шавула тебе понадобится! О!
На миг во взгляде Марка мелькнуло дьявольское лукавство, но он сразу же пригасил его преувеличенной серьезностью и даже рот прикрыл рукой, чтобы не тряслись возле него неверные складки.
— Трепотню твою, Мирон, куда ни шло, постараюсь забыть, хотя и достал ты меня до самой печенки. Но за грабли, которые к тебе колхозное гребли, никто не забудет — ни я, ни люди. Здесь только суд, если он будет милосердным, простит тебя. Ты еще не имел с ним дружбы?
Шавула заерзал, засовался на стуле, и лицо у него болезненно покривилось жалостностью: совсем открутиться не мог, потому что сам говорил Марку, что понемногу берет из колхоза, но и терпеть тюканье в глаза о своих кражах тоже был не в силах.
— Чего люди ни наговорят: из былинки сделают копну. Разве ты не знаешь наших людей?
— Да знаю наших людей, но знаю и тебя: раскрылся ты, Мирон, перед пленумом, как пышный чертополох. Да об этом разные заявления говорят.
— Какие заявления? — еще больше забеспокоился Шавула, у которого слово «заявление» всегда связывалось только с неприятностью.
— А ты не знаешь какие? — удивленно пожал плечами Марко и этим еще больше ошеломил вчерашнего кладовщика.
Почему-то забеспокоился и Безбородько.
— Не знаю, — Шавула кончиками пальцев прикрыл мясистые и глубокие, будто кошельки, уши.
— Ну, скоро узнаешь. Вон видишь ту серенькую папочку, с немецкими буквами? — показал рукой на уголок папки с актами, выглядывающую из-за образа Георгия Победоносца. — Вот там и лежит твой суд, там же записаны все или большинство грехов и твоих, и Мамуры, и еще кое-кого.
— Вот попал мужик в папочку, как в расщеп, — растерянно косится Шавула. На кончике его носа, никак не способного выбиться из зарослей волос, заблестели мелкие капли пота. — И что же ты, Марко, думаешь делать?
— Зачем спрашивать об этом? Ты же, Мирон, человек с головой, при начальстве ходил, насмотрелся на всякую всячину, сам знаешь, что я не буду квасить заявления, будто огурцы. Люди требуют одного: судить тебя по закону.
— А может, Марко, ты своей властью, своим геройством так сделаешь, чтобы оно без судов обошлось? — уже умоляло и глазами, и перекошенным ртом, и жалостной мохнатостью все лицо Шавулы.
— Как же я могу это сделать? Ты же Василию Трымайводе амбар в порядке передал?
— Да немного не сошлись концы с концами. Недостающее я завтра же внесу.
— А как ты покроешь те концы, что бросил в воду? От людей и вода грехи не утаит… Что же я могу сделать, если на тебя уже восемь заявлений подано?
— Боже мой, аж восемь, — ужаснулся Шавула. — А на Мамуру сколько?
— А на Мамуру меньше — только шесть.
— Так вот после этого есть правда на свете? — снова ищет сочувствие в глазах Марка. — Мамура же против меня, как удав против кролика, а параграф ему выпадет меньший.
— В этих параграфах я не разбираюсь, вы уж сами объяснитесь на суде, — Марко взглянул на часы. — Ну, поговорили, пора уже и отдыхать.
Шавула в мольбе протянул руки:
— Хорошо тебе, Марко, говорить об отдыхе, а как мне быть?
— Тоже спи, как можешь! Отсыпайся за недоспанное. Разве не догадывался, что когда-то за твои дела может бессонница напасть?
— Детьми и богом прошу тебя, Марко, помоги! Во веки веков этого не забуду! Что хочешь, сделаю для тебя. — Мольба и боязнь охватили всю кабанистую фигура Шавулы, а большие с желтизной белки покрылись влажностью. Было похоже, что он вот-вот не выдержит и заплачет.
Марко призадумался, у Шавулы проснулась надежда, а Безбородько, которого тоже беспокоила окаянная папка, хотел и опасался заступиться за Шавулу, и наконец подал голос:
— Может, и в самом деле, как-то замнешь это дело? Кто не знает, что у кладовщика, поймался он или нет, разные комбинации бывают? Зачем тебе начинать председательство с судов?
— Так и я об этом только что подумал, — признался Марко. — И не потому, что мне жалко Шавулу, а просто не будет времени разъезжать по судам и следствиям. Ты же, Мирон, после районного суда подашь апелляцию и закрутишь мне карусель по всем инстанциям вплоть до Верховного суда? Разве не так?
— Да конечно же, карусель будет, — немного оживился Шавула. — Так помоги, Марко.
— Что же, может, и взять грех на душу, если свидетель, — Марко в задумчивости кивнул головой на Безбородько, — не оговорится даже словом.
— Над этим голову не суши, потому что и моя вина есть в деле Мирона, — откровенно сказал Безбородько.
Марко заговорщически понизил голос:
— Тогда сделаем так: сейчас же, Мирон, иди домой, тихо забивай и обжигай своего кабана и к утру, если не хочешь, чтобы об этом все село знало, завози свеженину в амбар. То же самое шепни и Мамуре. А утром на пару с ним беритесь за колхозную работу.
— Аж всего кабана сдать? — полез рукой к затылку Шавула.
— Щетину и кишки можешь оставить себе, ну и печенки и селезенки тоже, — великодушно позволил Марко. — Или, может, это не подходит, не нравится тебе?
— Эт, что там говорить: нравится или не нравится, — безнадежно махнул рукой Шавула. — Оставляешь на Пасху без шкварок меня.
— Да колбаса же будет! — утешил его Марко. — А на работу выходи каждый день. У тебя осталось две коровы?
— Одна.
— А ту, что в лесничестве, продал?
Шавула вздохнул.
— То же яловка, не доится.
— Безразлично, мне молока от нее не пить. И у Мамуры тоже?
— И у него две.
— Вот завтра утром и готовьте их к ярму.
— К ярму? И без ложки молока оставишь нас?
Марко обиделся:
— Ну, как хочешь, Мирон, я тебя не заставляю. Вижу, все тебе не нравится…
— Да нет, уже нравится, — тяжело вздохнул Шавула. — А где же ярма взять на коров?
— Если не достанешь готовых, то найдется же где-то на берегу сухая верба.
— Черт ей только рад, — снова вздохнул Шавула. — И тогда заявлениям не дашь ходу?
— Если покажешь себя в работе, то после посевной — сам порву заявления. А теперь иди на заклание.
Шавула в сердцах одним духом опрокинул рюмку, скривился от какой-то мысли, потом решительно встал и с шапкой в руках пошел к дверям.
— Ну так бывайте здоровы. Был у Шавулы кабанчик пудов на восемь да загудел, — грохнул дверями и тяжело забухал сапогами по ступеням.
— Кажется, легче брать, чем отдавать? — Марко пытливо взгляну на Безбородько, а тот отвел от него взгляд.
— Это ты правильно сделал, что не начал судиться: теперь и Шавула, и Мамура так будут стараться, аж гай будет шуметь, — Безбородько снова долил Марку рюмку. — Чего-то не пьется тебе? Осколки, слышал, еще допекают?
— Да допекают.
— Много их осталось?
— Два.
— И ешь неважно, а надо, чтобы осколки обросли жиром. Так ненадолго хватит тебя на каторжном председательстве.
— Пожалел бог рака, — чмыхнул Марко. — А тебя какие терзания пригнали ко мне?
— Тоже раскаяние, Марко.
— Ты бы с этим делом к отцу Хрисантию пошел.
В тело Безбородько противно внедряется дрожь:
— Насмехаешься, когда твое сверху?
— Не насмехаюсь — не верю тебе. Это хуже.
— Таки хуже, — понуро согласился Безбородько. — И все равно пришел к тебе и с раскаянием, и с просьбой.
— О, это уже другое дело, такое у тебя, Антон, может быть. Говори — послушаю.
— Не насмехайся, Марко, это не твой характер. — Обида и боль вздрогнули и на губах, и на тонковатых, с мелкими прорезами ноздрях Безбородько, а в глубоких сонных глазах мелькнула темень, — забудем то проклятое купание в пруду, забудем и мое ожесточение. Из-за той купели я все валил и валил на твою голову, потому что очень злой был.
— Теперь добрее стал на полкопейки?
— Теперь остыл и, уже со стороны, мелким увидел себя.
— Неужели, Антон, это правда?
— Поверь, Марко. Сам караюсь в одиночестве, а особенно за то, что уязвил тебя тридцать седьмым годом, что в рану твою полез. — Безбородько сейчас и в самом деле раскаивался, что вспомнил Марку о том времени, и со страхом думал о своем давнем заявлении, огнем бы ясным или темным оно сгорело! А вероятно, и сгорело в войну. — Если можешь, скости все то, что было. Мы же с тобой, помнишь, за одной партой сидели, вместе в школу ходили… Многих наших годков уже и на свете нет.
— Многих… И первым Устин покинул нас. — Аж в детские и молодые годы вернулся Марко, вспомнил и побратима, и ту молоденькую учительницу, что должна была стать его судьбой. Где она теперь и как она? Дыхание далекой юности умилило его, через ее видения более приязненно посмотрел и на Безбородько: хоть хитрый и крученый он, но, в конце концов, не враг, и работать придется вместе. Только как ты, Антон, возьмешься за чапыги? Хватит ли здравого смысла без обиды и сетований пойти по земле обычным тружеником? Только это может исправить твои скособоченные мозги.
А Безбородько, тоже полетев в молодость, уже без ухищрений добывает вокруг рта улыбку:
— Помнишь, как ты на Пасху, когда как раз сады цвели, за бандой гнался?
— Конечно!.. А помнишь, как ты на кооперативной телеге от грабителей убегал?
— Почему не помню! — аж помолодел Безбородько. — Тогда у меня кони были с огнем. Как ударил по ним, словно змеи, понесли. Всю дорогу пеной услали.
— И пропал тогда корневик!
— Пропал, но вынес и меня, и товар. Тогда, Марко, мы немного дружнее с тобой были.
— Кажется, да, но и тогда уже лишняя копейка тебе деформировала дорогу и душу.
— И это было, — согласился и вздохнул Безбородько. — Но знаешь, что заставляло меня охотиться на ту копейку?
— Усушка, утруска?
— Нет, Марко, усушка, утруска это законное дело. Бедность наша довела до искушения. Помнишь, мы ни в будни, ни в праздники не вылезали из полотна?
— Помню и нашу большую бедность, но не забываю и нашего еще большего богатства — душевного, правдивого, сердечного. А ты, Антон, забывал его, и это, только это изуродовало тебя, и может убить.
— Может, и так, — снова согласился Безбородько. — Наскучило, надоело в бедности жить, ну, и не буду об этом, начну с другого конца. Хочу, Марко, если согласишься, поработать под твоим руководством… Когда-то и исправляться надо. Что скажешь на это?
— Кем же ты думаешь работать?
— Твоим заместителем.
— Зачем тебе это заместительство?
Безбородько насупил брови, но решительно глянул на Марка и совсем откровенно, с тоской в голосе, сказал:
— Потому что рядовым, простым я, Марко, уже не могу работать: и разучился, и стыдно. Я уже привык быть на сяком-таком виду: на трибунах, в президиумах, в прениях… Сегодня после собрания, когда ты сказал, чтобы к тебе подошли члены правления, встал и я и пошел к тебе. Только на полдороге опомнился, потому что уже иначе не могу. Считай, век между руководителями крутился и сам номенклатурой стал… Как же с этой, практически, орбиты сходить?
И душевная теплынь, и видения далекой молодости были внезапно разрушены этими словами. У Марка задрожали губы. Он уже видел перед собой не человека, а худшие привычки и ту пену, что наросла на мозгах и прокисла на них. Но он сдержал свое негодование и спокойно, сосредоточено спросил:
— Неужели, Антон, тебе так тяжело без президиумов, без постов?
— Очень тяжело, — Безбородько ощутил, что с Марком сегодня можно будет сварить кашу.
— Что же, может, я сделаю тебя своим заместителем, даже председателем со временем.
— Тебя на более высокую должность возьмут? — обрадовался Безбородько. — И это правильно: чего такому человеку, Герою, сидеть в селе? Спасибо, Марко, чем же отблагодарить тебя?
— Не меня, а людей.
— Так чего ты хочешь? — сразу насторожился Безбородько и прежде всего подумал, не захочет ли Марко забрать его дом под правление или ясли; взял же дань с Шавулы и Мамуры и даже бровью тебе не повел.
— Хочу я не так уж и много. Во-первых, чтобы ты научился хорошо и приветливо смотреть на людей, чтобы издали перед ними снимал шапку, как теперь снимаешь перед начальством, чтобы здоровался с ними лучшими словами, а не руганью, чтобы никогда не матерился.
— Так тогда же дисциплины никакой не будет! — ужаснулся Безбородько. — А когда все увидят, что я не председатель, а размазня, то и разворуют все.
— А кто же первым начал разворовывать колхоз? Не ты, не такие, как ты? Зло началось с вас.
— Откуда оно бы ни началось, а людей надо держать в ежовых рукавицах, не послаблять вожжи. Если председатель или его заместитель что-то возьмет себе — это еще полбеды, а если каждый потащит себе, то что тогда будет?
— Итак, ты не веришь народу?
— Народу верю, а людям — нет! Ты еще не знаешь, как война изменила их. И ты не очень, практически, высоко залетай со своим доверием! К общественному добру не так нужны мягкие слова, как крепкие сторожа.
— Хорош твой совет, только не для меня. А ты думал когда-нибудь что через несколько лет у нас не будет никаких сторожей?
— Дурак я думать о таком? А ты веришь в это? — широко посмотрел на Бессмертного, как на чудака.
— Верю и сделаю так в нашем колхозе.
— Тронутый ты человек! — возмутился Безбородько. — Это ты, может, для газеты или для журнала готовишь материалы о высоком сознании?
— Ох, и темный ты, Антон, как осенняя ночь… Разве ты не помнишь, как у нас после революции, когда улучшилась жизнь на селе, не запирались дома? Было такое?
— Было, — согласился Безбородько, а тоскливое опустошение не сходило с его глаз.
— А потом что начало запирать их: благосостояние или недостатки?.. Через несколько лет, когда все пойдет хорошо, у нас будет такое благосостояние, что и дома, и амбары будут без крючков и замков.
— Фантазия! Реализму, практически, нет у тебя ни на копейку. Я еще доживу, как за эту фантазию кого-то будут мять, как сыромять, или снимать с председательства. Значит, не хочешь работать со мной?
— Не могу. Нет у тебя, Антон, кэбы руководителя.
Безбородько сначала оторопел от обиды, а потом злоба скосила ему глаза:
— А ты мерил мои способности? Их у меня и на район хватило бы, да нет пока что такой руки, которая на район посадила бы. Что же прикажешь делать мне?
— Завтра пахарем выходи в поле.
— Вот уж этого не дождешься! Гнул ты, Марко, меня, как хотел, но не перегибай, потому что выпрямлюсь — и по тебе же первому ударю.
— Что же, собирай силу, если ума не имеешь.
— И буду собирать, не сидеть же мне, как на святом причастии! — Безбородько, лихой и красный, встал из-за стола и, не простившись, вышел из землянки.
— Знаменитых, сын, имел ты гостей, — отозвалась от печи мать, когда за Безбородько закрылись двери. — И чего ты сел с ними за один стол?
— Просто интересно было, — покосился на стол Марко и улыбнулся. — Да и польза некоторая есть — их закуска таки пригодится мне: занесем ее утром трактористу на завтрак.
— Ну, а это правда, что на Мамуру и Шавулу столько заявлений подали?
— Нет, мама, я преувеличил для страха, — искренне рассмеялся Марк, — но это не повредит. Пахал же дядька поле чертом, а я попробую ворьем. Пусть хоть немного отработают. Спите, мама.
— Ложись и ты. Или уже началась твоя бессонница?
— Началась.
— И не печалишься?
— А чего же печалиться, когда работы много? Вон уже и зерно на станцию пришло…
Когда Безбородько прошел мостик, его ослепил широкий искристый куст костра, на фоне которого шевелились две темные фигуры. Он огородом пошел к ним и скоро увидел, как Шавула со своей придирчивой женой обжигали кабана.
— Быстро ты, Мирон, начал стараться на Марка, — укусил смешком вчерашнего кладовщика.
Насмешка передернула и привела в негодование Шавулу.
— Я же не сумел так выкрутиться, как ты: у тебя кабан стоит и не сокрушается, а мой кому-то язык высунул, — ударил ногой по оскаленной пасти.
— Ну да, ну да, — поддержала мужа вдвое согнутая Настя. — Кто-то только пост потерял, а кто-то и пост, и кабана, и над ним еще насмехаются.
— Да чур вас, люди добрые, какие там насмешки! Я хотел бы не вашего кабана, а Марка обжигать за вашу кривду.
Это сразу понравилось и Мирону, и Насти; они, как по команде, выпрямились, отерли сажу с лиц, вздохнули.
— Кормила же, выхаживала своего Аристократа, как ребенка, каждый день надрывалась над казанами, молочком забеливала еду, а кто-то пожрет мою работу, — завопила Настя на весь огород.
— Цыц, потому что люди услышат, — крикнул на нее Мирон.
— Или так, или сяк — все равно услышат. Эх, Антон, Антон, не повезло нам с тобой.
— Еще повезет. Марко — птица перелетная: если не полетит вверх, то сами снимем вниз с гнезда. Откармливается! Только глаза не надо с него спускать. Где-то что-то — и пусть бумажка летит и в район, и в область, и еще выше.
— Летели же твои бумажки о том купании, а что помогло? — отрезала Настя.
— Не паникуй, — успокоил ее Мирон. — Ты еще не знаешь, какую силу имеет бумага. Она все терпит, но и все может.
— Это правильно, — согласился Безбородько и обеими руками потрогал кабана. — Хороший! Вы же хоть нутряное сало себе заберите…
XXVII
Он проснулся, когда ночь возле окошек еще не встречалась с предрассветными красками. Во сне к нему выразительно приходили какие-то хозяйственные планы, заботы, что-то такое нужно было, но что — теперь никак не мог вспомнить. Не досада ли? Тихонько напевая «Ой не знав козак, та й не знав Супрун, як славоньки зажити…», он умывается и сначала не может догадаться, почему при всех хлопотах у него радостно на душе. Ага, это, вероятно, потому, что в районе дают наряд на шестьсот кубометров леса. А может, оттого, что сегодня начнут сеять ячмень? Таки нет на свете лучшего дела, как сеять — или зерно, или добро.
На постели, снимая полосатую дерюгу, зашевелился Федько, вот он привстает на локте и изумленно и радостно спрашивает:
— Вы уже поете?
— Мурлычу, Федя. А ты почему не спишь?
— Потому что радуюсь.
— Чему же ты радуешься? Что вчера тройку схватил?
— Да нет, — надул мальчишка губы. — Это же тройка не по правилу…
— Как не по правилу? Выкручиваешься? — неодобрительно взглянул на мальчишку.
— Я, Марко Трофимович, чуть ли не первым решил задачку, ну, и дал ее списать. Но за это надо снижать один, а не два балла. Ведь так по правилу?
— Я, Федя, в таких правилах не разбираюсь, тут лучше посоветуйся с Григорием Стратоновичем.
— Зачем? — снова надул губы Федько. — И так переживу, где мое ни пропадало.
— А чего ты радуешься?
— Что вы стали председателем. Теперь заживем! — уверенно сказал паренек, а Марко рассмеялся.
— Как же мы заживем?
— А это вы лучше знаете, — благоразумно ответил и начал одеваться.
— Поспи еще, Федя.
— За спання не купишь коня. Я хочу немного пройтись с вами.
— Ну, спасибо за поддержку, — серьезно ответил Марко, а паренек недоверчиво посмотрел, не насмехаются ли над ним, потом успокоился.
— Если надо, я всегда помогу вам, у меня же ноги знаете какие…
— Вот и остри их к Ольге Бойчук, чтобы она собирала на разговор всех свекловодов и кукурузоводов. И к Галине Кушниренко сбегай — пусть смотается на маслозавод за перегоном для поросят.
— А будто дадут? — удивился Федько.
— Дадут.
— Навряд. У Безбородько с этим делом ничего не получалось.
— И откуда, Федя, ты все знаешь?
— А как иначе, в селе жить — и ничего обо всем не знать!
Рассвет уже вырвался из объятий ночи, когда Марко подходил к коровнику. На восходе сразу каким-то волшебным взмахом размашисто вырисовалась солнечная корона, и несколько тучек стали украшением в ее лучах. Марко слегка нажал плечом на ворота, вошел в коровник. Привыкая к темноте, он остановился и неожиданно услышал тихий мучительный стон; на него мычанием отозвалась невидимая корова, а стон повторился и перешел во всхлипывания.
Пораженный Марко быстро пошагал к перегородке для доярок. Когда он отворил легкие двери из тесины, из-за крохотного столика, вздрогнув, испуганно встала София Кушниренко, она согнутой в локте рукой провела по глазам и уже старалась улыбнуться.
— Что с вами, тетка София? — пристально посмотрел на преждевременно состарившееся лицо с по-детски ясными глазами.
— Ничего, ничего, Марко Трофимович… — застывает на устах жалостная улыбка.
— Как же ничего? Не кройтесь, говорите.
— Зачем оно тебе? — запечалилась вдова. — То — бабское, негоже тебе и слушать.
— Я теперь даже бабское должен знать — вы для чего-то вчера поднимали за меня руку. Несчастье какое-то у вас?
— Ну да, потому что счастье мне досталось такое, как тому нищему мужику, которому приснился хороший обед. И он улыбнулся во сне, а в это время шло счастье, увидело, что косарь смеется, — и обошло его.
— Так может, мы еще вернем то счастье, — в задумчивости сказал Марко. — Что же мучает вас? Вы так стонали…
— Должна была, Марко Трофимович, должна была, — не только ясные белки, даже стиснутые зубы вдовы отбили тяжелую боль. Она поправила платок и тихо заговорила: — Такая уж беда прибилась к нам, дояркам, — скот истощал, вот и напал на него стригущий лишай. Так жалко мне стало девочек наших, молоденьких, зачем им эта напасть. Вот я и забрала у них больных коров, и сама заразилась нечистью, а вылечиться не могу: никакие мази не помогают…
— И это вся беда? — улыбнулся Марко, а вдова обиделась.
— Такие же слова я и от Безбородько слышала, — сказала с укором.
— А я немного иначе скажу, — снова улыбнулся Марко. — Погадаю, пошепчу — и пройдут ваши лишаи, как рукой снимет.
— Неужели знаешь такое ворожение? — недоверчиво взглянула на него вдова.
— Знаю, тетка София: на веку, как на долгой ниве.
— А чего же ни ветврач, ни медицина ничем не помогли мне?
— Потому что медицина, несомненно, еще не выучила всего, что знают люди. Я сделаю для вас отвар дубовой коры и сладкой яблони, так и следа не останется от этой напасти.
— В самом деле?
— Конечно. Ну, показывайте свое хозяйство. Увеличилось молока?
— Конечно. Вернулись теперь из чужих рук лучшие коровы, — и понизила голос. — Вам надо молока?
— Очень, тетка София. Составьте списочек детей-сирот, и с сегодняшнего дня будем давать им хоть по стакану, по полтора молока. Бракованных, недойных коров много имеете?
— Восемь.
— Надо будет их продать.
— Как продать? — заволновалась вдова. — У нас же каждый хвост на учете. И в районе, и в области об этом знают.
— А что эти восемь коров не дают ни капли молока, тоже знают?
Женщина призадумалась.
— Навряд. У нас главное пока что, чтобы цифра исправная была, хотя и пользы от нее мало.
— Пусть мы за эти восемь коров купим четыре, пять, но дойных, не лучше ли так будет?
— Лучше-то лучше, но за уменьшения цифры и вы, и я попадем в переплет. Зачем вам с этого начинать председательство?
— Кто как умеет, так и начинает. Вечером приходите ко мне — вместе приготовим лекарство. Вот и стану по совместительству знахарем.
— Спасибо. Обнадежил меня, потому что уже на свои руки смотреть не могла, — подняла вверх руки и застыла, как боль…
Перед воротами конюшни Марко услышал не стон, а радостный смех. Конюхи сжались в кружок и, что-то рассматривая, аж за бока брались от хохота. Дед Евмен первым увидел председателя, спрятал довольную улыбку под усы, толкнул Полатайка под бок и бухнул для видимости.
— Хватит вам зубы продавать. Нашли ярмарку.
Конюхи выпрямились, оглянулись, и Марко увидел на земле смешного глиняного конька с печатью в зубах. Одно ухо коня задиралось вверх, другое свисало вниз, грива оттопырилась, и все его очертание говорило, что он без боя печать не отдаст. И вдруг Марко в чертах животинки увидел черты Безбородько. Это было так неожиданно, что он тоже рассмеялся, а к его смеху присоединились конюхи.
— Как, Марко Трофимович, вам конь с печатью? — вытирая слезы, спросил Петр Гайшук.
— Дед, вы же талант! — воскликнул в чистосердечном восторге.
— Лошадиный талант, — сразу нахмурился Дыбенко.
— Истинный талант. Подарите мне своего коня.
— Бери, коли хочешь, — безразлично ответил старик. — Не жалко глины для доброго человека. Может, еще одну игрушку возьмешь? — Медленно пошел в извозчицкую и вынес завзятого казацкого конька, который, разогнавшись, казалось, готов был перескочить неизвестно какую преграду. Только в сказке или в песни встречался Марко с таким конем и удивился, любуясь им. А старик теперь смотрел на Марка и таил в себе тревогу и радость.
— Деда, что вы думали, когда лепили его? — спросил Марко.
У старика задрожали веки, он с удивлением хмыкнул, а в его колющих глазах засветились искорки признательности.
— Только ты и спросил, что думалось мне. Это было, слышишь, перед Новым годом. Я тогда лепил и напевал песню о коне, который выносил от погони казака. Помнишь:
А за нами татари, Як із неба хмари, А я скочив — Дунай перескочив…— На таком коне, верится, и Дунай можно перескочить. Ну, спасибо вам, деда, сделали меня именинником! — взял подарки, а старик кротко улыбнулся.
— Я тебе еще их принесу, если понравились. Эх, если б же наши кони были такими, как эти, глиняные.
В это время возле конюшни заурчала машина и послышался веселый голос Федька:
— Дядя Марко здесь?
Марко вышел из конюшни. Сначала он увидел на машине Федька, который удобно устроился на мешках с хлебом. На ходу из кабины выпрыгнул Данило Броварник и, жмурясь, пошел к Марку.
— Поздравляю-поздравляю, Марко. Вот, как обещал, привез тебе горох, чистый, горошина в горошину. Вот и сей зерно и счастье пополам, потому что довольно уже насеяно горя на земле. Ну, давай почеломкаемся, пока не поругались, — я сразу что-то выковыряю из недостатков!
XXVIII
Вдоль дороги в ряд растянулось шестнадцать плугов, латанных-перелатанных, со стертыми пятами, на деревянных и железных предплужниках.
Не такими когда-то были у него плуги, но и это старье не опечалило Марка, больше печалили изможденные кони. Однако и они сегодня казались лучшими, может, потому что гривы их были заплетены девичьими лентами. И этот будто пустячок растрогал Марка, как и то, что погонщиками были только девушки, а пахарями — деды и подростки.
— Это и для кинохроники, наверное, пригодилось бы! Пусть бы потом, через годы, посмотрели люди, с чего мы начинали, — бросил Григорию Стратоновичу, который сегодня шел в поле пахарем.
— Пригодилось бы. А на девушках, хоть как убого одеты они, — лучшие косынки. Это тоже добрая примета, — сказал Григорий Стратонович.
Когда пахари и погонщики полукругом обступили Бессмертного, он пристально посмотрел на каждого и всюду видел искреннее доверие; в одних оно намечалось усмешкой, в других — сосредоточенностью, в третьих просматривалось сквозь печаль, сквозь боль, старую или совсем свежую, от которой еще не опомнились расширившиеся глаза.
— Люди добрые, — тихо заговорил к ним Марко. — Испокон века велось, что плугарь в селе — это все. И хлеб, и благосостояние пахарь держит в своих руках. И хоть как нам сейчас ни тяжело, но только мы сами можем помочь себе, чтобы на полях уродил и щедрый урожай, и наша судьба… Здесь, среди вас, нет хворых или тех, кто выходит в поле не по своей воле или без охоты?
— Нет таких, Марко Трофимович. Все вышли по охоте, — отозвалось несколько голосов.
— Вот и хорошо. Я не хочу, чтобы пахали надутые или криводушные люди, которых привлекает лишь ярмарочный хлеб.
— А будет же он, Марко Трофимович, в этом году свой, а не ярмарочный хлеб? — прикладывая руку к уху, прошамкал дед Козачкивский, во рту которого виднелся единственный зуб.
— На один зуб хватит, — пошутил кто-то со стороны, и смех всколыхнул пахарей и погонщиков.
— Будет и для беззубых, и даже для очень зубатых, когда все будем трудиться, как земледельцы, а не поденщики… Не загоните коней, пусть чаще отдыхают. И в добрый путь!
Марко махнул рукой, девушки махая косами, бегом бросились к скоту, забряцала упряжь, и вся шеренга потянулась на дорогу, над которой лукаво светило и жмурилось нахмуренное солнце.
И казалось бы, что волнительного в этой будничной картине, когда в поле отправляются полуголодные пахари с исхудавшими конями, с неважным инвентарем? Но Марко взволнованно смотрел вослед плугарям, и жалко было, что сам не может пойти за плугом, потому что более всего любил пахать и косить.
Григорий Стратонович со значением посмотрел на Бессмертного:
— Вижу, завидуете плугарям?
— Завидую. Не забыли за плугом ходить?
— Это не забывается. Да и пойду догонять своего чернобрового погонщика.
— Спасибо.
— За что? — удивился учитель.
— Что не пожалели выходной день.
— О чем говорить, — улыбнулся учитель и подался настигать пахарей.
На выездных конях дорогой проехал Евмен Дыбенко, но он не повернул к председателю, а взял налево в закоулок, над которым отливали еще не высохшим листьям молодые вербы. Марко махнул рукой, и старый неохотно повернул к нему.
— Куда же вы собрались? И плужок исправный у вас, — осмотрел без никакой заплаты шестерок.
— Вот хотел огород тебе вспахать.
— Мне? — покраснел Марко.
— А разве что? Кто-то же сегодня или завтра должен тебе вспахать. Так почему не я, чтобы не отрывать пахаря с поля?
— Спасибо, Евмен Данилович, что добровольно взялись за обслуживание председателя. Вы и о Безбородько так заботились?
— Бей свой своего, чтобы чужой боялся, — и себе рассердился старик. — Когда мое невпопад, то я со своим назад. Хотел немного помочь, да сам черт тебе не угодит.
— Сначала, деда, мы вдовам и сиротам поможем, а дальше будет видно.
— У каждого начальства свой норов, — забубнил под нос Дыбенко, поворачивая на конюшню.
— Нет, коней я возьму — в разъезд надо.
— Тогда я первый день побуду у тебя возницей, может, еще что-то заработаю.
— Хорошо, плуг только где-то оставьте и заскочите к Василию Трымайводе — возьмите свеженину трактористу.
— С Шавулиного кабана? — оживился старик.
— А вы уже знаете?
— Все село знает.
— И что?
— Кто смеется, кто хохочет, а кто и удивляется, как ты эту братию вокруг пальца обвел и на свеженину разжился. Шавула уже и сомневаться начал, в самом ли деле столько заявлений подано на него.
— Пусть посомневается. Ну, а не приучает он с Мамурой своих коров к ярму?
— Не видел, но из лесничества своих припрятанных привели. О, что-то Василий Трымайвода кричит. Чего ему?
Марко пошел навстречу новому кладовщику, который шагал, позванивая орденами и медалями.
— Марко Трофимович, скорее хвалите меня, потому что сам начну себя хвалить! — радостно остановился и поправил рукой веселый хмель кудрей. — Выцарапал две бочки горючего.
— Талант сразу видно! Через полчаса повезем их на поле. Где достал?
— У людей. Уже и расплатился натурой.
— Салом?
— Дал по куску за бочку.
— Скупо ты платил. Как же тебе удалось так выторговать?
— А люди ничего и не запрашивали. Поговорили мы о внутреннем, международном и сердечном положении и пришли к соглашению.
— Много у тебя сала?
— Полон ящик и кадка. Еще не успел все взвесить.
— Успевай, чтобы кто-то из потерпевших донос не написал. Ну, я пошел на хозяйство Марии Трымайводы.
Возле парников уже калякали женщины, вооруженное лопатами и граблями.
— Что я, Марко Трофимович, с таким собранием буду делать? — тихо спросила у него смуглястая Мария Трымайвода.
— А что?
— Никогда же их столько не приходило, никогда!
— И вы этим сокрушаетесь?
— Да нет, радуюсь, — засмеялась женщина, — но как всем дать толк?
— Может, пошлем их в сад?
— Деревья обкапывать?
— Почему только обкапывать? Всю землю копать. Сад молодой, посеем в нем арбузы, пусть плетутся, вяжутся и вывязывают какую-то копейку. Как вы на это смотрите?
— Земля там добрая и эти годы под целиной лежала, — согласилась Мария.
Когда женщины, побрякивая лопатами, пошли в сад, Марко начал осматривать парники. Теперь, небось, только этот участок хозяйства не был запущенным, потому что Мария Трымайвода любила и присматривала за своими рамами, грядками и делянками. Да и Безбородько поощрял ее, рассада давала такую-сякую прибыль, а ранние овощи веселили его и нужных ему людей.
Ворсистая, кудрявящаяся зелень помидоров и нежная серебристая синеватость капусты тешили Марка. Он останавливался перед каждой рамой, прикидывая, что она даст и на поле, и в кассу.
— Как вам рассада? — спросила Мария, хотя и видела, что парники порадовали Марка.
— Славная, только маловато.
— Да что вы, Марко Трофимович, шутите? — широко открытыми глазами глянула Мария, и этот взгляд воскресил то давнее, когда он с Устином вручал босоногой наймичке кулаческие сапоги.
— Нет, не смеюсь, Мариичка, — назвал ее так, как когда-то называл Устин. И у женщины испуганно дрогнули уголки полных и до сих пор не привядших губ.
Неумолимые лета, наверное, наиболее немилосердны к нашим сельским женщинам: их красоту быстро высушивают солнце и ветер, смывают дожди и снег, темнят поле и огород, лопата и сапа.
Годы, работа, горе забрали и Мариину красоту, но как-то так, будто не насовсем. И это особенно бросалось в глаза, когда женщина начинала волноваться. Тогда ее удивительно мягкая, с материнской задумчивостью краса изнутри пробивалась на лицо, как в предосенний день из-за туч проглядывало солнце. Так и сейчас пробилась она и удивила Марка.
— Вы вспомнили давние года? — почти шепотом спросила женщина.
— Вспомнил… Что вам сын пишет?
— Он, Марко Трофимович, уже третий орден получил, — посветлело лицо Марии, — действительно, что в сердце варится, на лике не таится.
— Поздравляю вас… Неужели это дитя старшим лейтенантом стало? — аж удивился Марко.
— Таки стал, — сквозь радость и грусть улыбнулась женщина. — Из самых «катюш» молнии выпускает. И так скучает по мне, как дочь. Только бы живым вернулся… А на Устиновой могиле до сих пор рожь растет.
— В самом деле?
— Не переводится. Доспеют колосья, осыплется зерно и снова всходит. Так из года в год, и в мирное время, и в нынешнее.
— Жизнь… Вам чем-то надо помочь?
— Нет, Марко Трофимович. Я еще не бедствую, аттестат сына имею. А чего вы сказали, что рассады маловато? Половину ее мы соседям продаем.
— Теперь всю посадим.
— Так много?
— Не много. Надеюсь, что вы овощами покроете все наши долги.
— Аж двести сорок тысяч — и овощами!? — пришла в ужас женщина.
— Только овощами. Еще и на какую-то прибыль надеюсь. Так и ведите хозяйство.
Женщина, что-то прикидывая, призадумалась, покачала головой:
— Едва ли вытянем эти долги.
— Вытянете, если только крепко захотите. Вот давайте грубо, на живую нить, прикинем, что нам даст гектар баклажан. Истинные овощеводы собирают по триста и больше центнеров. Так?
— Это если возле них ходит один хозяин, а не десять.
— Хозяин теперь будет один — вы. Так возьметесь за триста центнеров?
— Нет, на триста у нас грунт неподготовлен. Двести, надеюсь, вытянем.
Марко махнул рукой.
— Где мое ни пропадало — запишем двести! Знайте доброту нового председателя. Пусть в среднем заготовительные и рыночные цены дадут нам по рублю за килограмм. Овощи у нас должны быть самые лучшие, а цены — наиболее низкие. Итак, гектар даст двадцать тысяч. Значит, двенадцать гектаров смогут покрыть наш долг?
— Разве мы сможем столько вырастить овощей?
— А почему не сможем?
— Это дело рискованное. Тогда надо в мою бригаду чуть ли не полсела женщин.
— Женщин, надеюсь, будет ровно столько, сколько вам надо, а может, и немного больше.
Мария покачала головой.
— Не слишком ли весело вы смотрите на жизнь? А она у нас не такой стала, как была: на работу людей не допросишься.
— Сегодняшний день что-то вам говорит?
— А что завтрашний скажет? Поверю вам, но у меня всей рассады помидор едва ли наберется на двенадцать гектаров.
— А вы наскребите, подумайте, как это сделать. Вечером прикинем вместе, сколько посадим огурцов, капусты, редиски, лука. После редиски в этот же грунт можно будет высадить зимнюю капусту?
— Можно.
— Вот и садитесь сейчас же с карандашом за все расчеты, крутите мозгами. На вашу бригаду сейчас возлагаю самую большую надежду. За капусту, лук и огурцы мы должны купить с вами и коров, и свиней.
— А чем сейчас будем гной подвозить?
— Коровами. Так и постановили, Мариичка!
— Что оно только получится из тех больших цифр? — призадумалась женщина.
— Все выйдет, если бригадир будет на уровне, а бригада — у бригадира. Ну, а чтобы дело было верней — сегодня же поговорим о дополнительной оплате. Каждому звену, вырастившему свыше двухсот центнеров овощей, будем выплачивать за сверхплановое до пятидесяти процентов прибыли.
— Ого! — невольно вырвалось у женщины, а потом она улыбнулась. — Вы хотите, чтобы мои девушки имели настоящее приданое?
— Я хочу, чтобы они становились творцами, — задумчиво ответил Марко. — Девушка с сапкой в руках меня не удивит — это я видел чуть ли не с колыбели. Надо, чтобы эта девушка сегодня не только слушала поучения бригадира, а сама бралась за книгу, за науку и на поле становилась исследователем, а не только рабочей силой. Такой второй конец имеет теперь дополнительная оплата. Вот с этим и выходите в знания, в миллионеры и в Герои!
— Хоть раз такие слова услышу от председателя, — Мария прищурила карие с влажностью глаза, и сквозь них чисто проглядела ее прежняя краса.
XXIX
Вот и хата Елены Мироненко. Беленькая, с красной завалинкой и посизевшей стрехой, она, будто на старинном рисунке, подбежала к мглистой подкове леса и, прислушиваясь к его таинственному шепоту, плачет и плачет весенними слезами. Не по своему ли хозяину тоскует она?
Поцилуйко всем телом ловит перестук тяжелых капель, которые аж ямки повыбивали в земле, и замирает у скрипучих ворот, как перед порогом своей судьбы: отворять или скорее повернуть от них? Что его ждет за этими воротами, где белеют и беспокоятся гуси? Новый удар, новые мучения или, может, тот неустойчивый, даже дыхания боящийся, мостик, по которому, пригибаясь, можно будет перескочить пропасть своих военных лет?
Не одну бессонную ночь он фантазировал над этим мостиком из непрочного материала — из хитрости и обмана, — вытесывал стойки для этого мостика, плотно пригонял доски одну к другой и скреплял и кропил их подобием правды. По капле он собирал сведения об отряде Ивана Мироненко, взвешивал партизанскую правду на извилинах мозга, чтобы как-то и себе примазаться к ней. Так строился и вырастал в голове этот причудливый мостик. Теперь его надо было вынуть из выношенного места и поставить вот здесь на грунт вчерашней легенды. Пройдет по нему Елена Мироненко, значит, и другие пройдут, и тогда он тоже проглянет из тени вчерашней легенды, хоть на миг осветится ее вспышкой, а больше ему ничего и не надо.
Щедрое воображение расстилает перед ним сладкое видение грядущего и смывает грязь прошлого. На какую-то минуту Поцилуйко ожил, с надеждой взглянул на лес, где без него, но, возможно, для него творилась трагедийная легенда, но сразу же и нахмурился, потому что всполошила другая мысль: с молнией, с ее сиянием начинаешь играть, человече… Ну, и пусть. Не всех и молния убивает, не всех. Другого так неожиданно осветит, что и на жизнь хватит этого света… Но другого…
Притираясь боком к вспотевшему коню, он отворяет ворота и, разгоняя белых гусей, медленно идет к хате. Ох, и тяжело ему сейчас отдирать ноги от этого весеннего грунта, на который надо ставить свой мостик. Он слышит, как горячо, пятнами, шевелится кровь на его щеках и подбирается к глазам. Со стрехи на лицо падает пара капель. Поцилуйко вздрагивает и впопыхах вытирает их.
В доме у стола в кирзовых сапогах стоит высокая миловидная женщина средних лет. Ее лицо можно было бы назвать молодым, если бы на глаза не наслоились горе, грусть и тени страданий, они притемнили синий взгляд и в испуге держали веки и ресницы. Даже у Поцилуйко просыпается жалость к вдове, но ее приглушает страх — есть что-то неуловимое общее в очертании этой женщины с Василиной Вакуленко. Уж не родня ли она ей часом?
Он снимает картуз, почтительно наклоняется, чувствуя, как под самым сердцем шевельнулась подковка холода.
— Низкий партизанский поклон вам, Елена Григорьевна, — Поцилуйко бережно берет женскую руку и целует ее.
Это сразу же умилило вдову, хотя ей и не понравился водянисто-серый взгляд гостя.
— Ой, что вы, добрый человек, — встрепенулась женщина, выдернула руку, застыла посреди хаты. — Садитесь, пожалуйста… Вы, может, моего Ивана знали или партизанили с ним?
— Как вам сказать, Елена Григорьевна? Не буду преувеличивать свои заслуги. Партизанил — это многовато для меня, потому что я был скромным связистом Ивана Алексеевича. Об этом, конечно, и тогда мало кто знал, а теперь — тем более, потому что все течет, все забывается, — совсем естественно вздохнул.
— Еще и как забывается! — с печалью и сочувствием сказала вдова. — В других местах люди имеют долгую память, а у нас почему-то даже райгазета молчит об отряде Ивана, места там, говорят, мало.
«Вот и хорошо», — обрадовался в душе Поцилуйко, а сам как можно искреннее ответил:
— У нас, где ни копни, там героя или героическое найдешь, и люди привыкли к этому, как к обыденщине. Правда, есть и такие типы, которым невыгодно показывать чье-то геройство, потому что это кое-кого может оставить в тени. Жизнь есть жизнь… Вот мне и хотелось бы рассказать обо всем пути Ивана Алексеевича, осветить это в печати, вспомнить боевые дела его друзей, мертвых и живых.
— Мало кто из них остался живым, — загрустила женщина, на затененной синеве ее глаз появились слезы, они тоже казались синими.
— Таки мало, трое или четверо, — с сочувствием подтвердил Поцилуйко.
— С вами — четверо, — доверчиво присоединила его к партизанам, и Поцилуйко взглядом поблагодарил ее.
— И зачем только было брать их на фронт? — прядет и дальше нить правдоподобия.
— Сами захотели идти.
— Надо было беречь таких людей. Это же живая история!.. Одного убили уже.
— Убили. А Виталия Корниенко недавно тяжело поранили под Бреслау, неизвестно, выживет ли.
Поцилуйко чуть ли не выказал свою радость, но своевременно прикусил ее.
— Война и героев не ласкает, валит их, как дубов. Виталий Корниенко — это брат лесника?
— Брат, и сам до войны был лесником.
«Если умрет, останется только двое свидетелей», — хищной птицей вылупилась мысль. Он прогнал ее и решил, что ему следует заехать к леснику, узнать, как оно…
— Позвольте, Елена Григорьевна, если ваша ласка, завести во двор коня.
Поцилуйко проворно выскакивает из хаты, чувствуя, как радость распирает ему грудь.
Островок гусей, поднимая белые крылья, неторопливо плывет от него, а он, не заметив этого, широко отворяет ворота. Конь с растерзанными губами вбирает в глаза двор вдовы и движения белых крыльев. Поцилуйко снимает с телеги мешок с мукой, укладывает себе на плечо и, пригибаясь, несет свой подарок.
Остальное в этот день и вечер пролетело для Поцилуйко, как одна минута. Он жадно впитывал каждое слово Елены Григорьевны, перед ним раскрывалась строгая, почти легендарная жизнь простого человека, который голыми руками — с одним гаечным ключом — начал крушить фашистские поезда. Каким-то чудом захватив танк, Мироненко со своими друзьями выехал на шоссе и до тех пор месил и крушил на нем машины, пока не вышло горючее. Но больше всего Поцилуйко поразило, порадовало и обеспокоило то, что документы партизанского отряда были закопаны в овине Елены Григорьевны.
— И вы знаете, где лежит это сокровище? — аж пальцами вцепился в сердце, более всего беспокоясь, не написано ли там что-то о нем.
— В правой пристройке, а в котором именно углу — мне не сказали.
— И никто не раскапывал их?
— Нет. А у самой не поднимались руки. Как вспомню все — и льются слезы, как роса, — вдова молча заплакала, а Поцилуйко нетерпеливо ждал, когда она успокоится.
Не закончив ужинать, он пошел с Еленой Григорьевной в овин, чтобы, дескать, даже в темени ощутить дыхание героического прошлого. Когда Поцилуйко, сгибаясь, встал на ток, в овине что-то забелело, зашевелилось, это напугало его, он шатнулся к калитке, но в это время успокоительно отозвалась вдова:
— Это гуси здесь ночуют.
Утром на следующий день он приступил к работе. Никогда в жизни не копалось с таким упорством и надеждами. Наконец аж после полудня лопата ударилась обо что-то твердое. Поцилуйко воровато подошел к воротам, посмотрел, нет ли во дворе вдовы, и аж тогда начал осторожно обкапывать свое сокровище. Скоро он извлек небольшой деревянный сундучок, а из него достал обернутые пергаментом бумаги.
Радость и страх сошлись под сердцем Поцилуйко. Он, дрожа, как в лихорадке, рассовал бумаги по карманам, потом наспех выкопал глубокую яму и навечно похоронил в ней пустой сундучок. В этот же день, прикинувшись больным, он простился с Еленой Григорьевной, пообещав, что скоро еще заглянет к ней, и во весь дух погнал коня домой. В лесу он несколько раз намеревался развернуть бумаги, но даже деревья пугали его, и он, пугливо озираясь, снова изо всех сил гнал воронца.
Ночью, наглухо закрыв окна, Поцилуйко согнувшимся клещом припал к остаткам партизанской легенды. Сначала, листая страницы, он только вылавливал фамилии. В одной тетради было несколько страшных строк о нем. Там кто-то связывал арест Василины Вакуленко с его именем.
Враз вспотевшей рукой он вырвал этот листок, измял и поджог спичкой. Сырая бумага неохотно загорелась, и на нее страшными глазами смотрел Поцилуйко. В руке горел его приговор и, даже превращаясь в пепел и распадаясь, вселял в мозг страх и холод.
Волей бессмысленного случая Поцилуйко стал теперь больше всех знать о деятельности партизанского отряда Ивана Мироненко. Он выучил все материалы, как стихи, а потом на всякий случай снова закопал их в землю и начал работать над большой, на несколько газетных подвалов статьей. Теперь на это пошла мода, а на ней можно заработать не только частицу чьей-то славы, но и гонорар… Но зачем о нем думать… Он отгонял черт знает какие мысли и снова припадал к бумаге, рисуя и перечеркивая ее.
В своей писанине Поцилуйко не возвеличивал себя — здесь нужно держаться в тени так, чтобы все оценили твою объективность и скромность. И в мыслях, забегая наперед, не раз видел, как в печати появится фамилия малоизвестного связиста, который по велению легендарного Ивана Мироненко вынужден был не партизанить, а выполнять на хуторе неблагодарную и незаметную работу и даже частично пострадать за нее…
Все было бы хорошо в этой истории, если бы не существовало на свете Григория Заднепровского. Он, только он сейчас главный враг… А еще этот отвратительный случай в церкви… Если бы не он, то при этих документах и Заднепровского можно было бы обмануть… Как же тебя сколупнуть с дороги?.. Снова, как в сетке, бьется мозг Поцилуйко и сам выплетает сетку на кого-то.
XXX
Марко полдничал с Ярославом и его напарником Кузьмой Завороженным, пройдошным человеком, который за войну успел побывать и кабатчиком в районном городке, и торговцем в Румынии, и штрафником на Третьем Украинском фронте, и подбить два танка мушкетоном Петра Первого — так он величал противотанковое ружье, и снова оказаться в Румынии уже бывалым воином. На одной из фронтовых дорог он остановил королевский рыдван и, млея от счастья, начал выпрягать коней.
— Что вы делаете? — завопил машталир. — Это кони короля Михая! Сам король ездит на них!
— А теперь король не будет ездить, потому что мой старшина пешком ходит, — спокойно ответил Кузьма и на чистокровцах понесся в свою часть.
Ореховые, с жирной слезинкой глаза Завороженного и теперь без лишних угрызений и тоски примерялись к жизни. Что можно было урвать из нее, он урывал, не очень беспокоясь таким пережитком, как совесть. И на себя он мог смотреть как-то словно со стороны, удивляясь, куда только ни тянет его «айдиотский» характер.
Вот и сейчас он рассказал несколько своих почти невероятных приключений, сам посмеялся над ними и, не кроясь, пришел к выводу, что ему надо было родиться или в капитализме, или в коммунизме: там бы он жил, как галушка в масле, а в социализме редко фортунит ему. Даже чертовски ленивый райзавскладом на одном минеральном удобрении больше зарабатывает, чем он на тракторе. Так есть правда на свете?
— Что же он там может заработать? — удивился Ярослав.
— Капитал! Не Карла Маркса, а тот, что в сундуке лежит. Некоторые председатели колхозов пока что без минеральных удобрений спокойнее себя чувствуют. А чтобы начальство не гоняло их, как соленых зайцев, — шапочку снимают перед завскладом, еще и магарыч ему ставят. Вот он и слюнявит в свои книги, что минеральные удобрения вывезли такие-то деятели, а сам вывозит их налево. И все, значит, довольны: и начальство, и председатели, и завскладом.
— Чего же ты при такой идейности пошел в трактористы, а не в амбар? — спросил Марко.
— Жена повернула мою биографию ближе к человеческой, жена у меня работает на социализм, — ответил Кузьма с насмешкой, но в его ореховых глазах потеплела масляная сырость. — Разве же это работа на этом натике? — махнул рукой на трактор. — Одни слезы: день работаешь — неделю гуляешь. А стал бы я директором МТС — все трактора урчали бы день и ночь и выходных не знали бы.
— Где же ты достал бы горючее? — Марко с удивлением и надеждой посмотрел на решительное лицо Завороженного.
— Скомбинировал бы, — коротко ответил тот.
— А за такие комбинации не перешел бы на казенные харчи?
— И это могло бы случиться, но все клубком крутилось бы, — беззаботно ответил Кузьма. — И вам бы малость выгадал, было бы только за что. Я люблю такие дела… О, кажется, наш директор на своей чертопхайке жмет сюда? — посмотрел на дорогу.
В самом деле, на трофейному БМВ к ним подъезжал директор МТС, невысокий с полуаршинными усищами мужичонка. Он легко выскочил из машины, приветливо поздоровался со всеми и кивнул головой на Завороженного:
— Этот подчиненный не подбивал под меня клинья, не говорил, что у него все урчало бы дни и ночи, если бы он стал директором МТС?
Марко и Ярослав засмеялись, а Кузьма удивился:
— И как вы могли на таком расстоянии и еще на чертопхайке услышать?
— Эту чертопхайку ты, баламут, целовать должен!
— За какие заслуги? — Кузьма пренебрежительно копнул ее ногой.
— На ней я твою Елену завез в больницу.
Кузьма сразу побелел, во взгляде его задрожало сочувствие, а тонковатые губы неровно задергались.
— Как она?..
— Не переживай, все хорошо, — пустил по усищах улыбку. — Поздравляю тебя с дочерью, а сколько килограммов она весит — дорогой забыл.
— С дочерью? — жалобно вздохнул Кузьма Завороженный, крепко обнял директора МТС, головой прислонился к его широкой груди. — Спасибо вам. Так ожидаемо и так неожиданно… — Он выпрямился, охнул, незрячими, но глубоко признательными к кому-то глазами взглянул на мир, махнул рукой и засмеялся.
— И чего все родители в эти минуты вот такими умными становятся? — глубокомысленно спросил директор МТС. — Садись, бесовское семя, подвезу.
— И снова-таки спасибо, — Кузьма щукой вскочил в машину и послушно уселся сзади.
Директор кивнул на него головой, и спросил у Марка:
— Успели хоть немного раскусить этого пройду? А смотрите, как любовь из него веревки вьет. И все равно из этого разбойника мы сделаем человека. С головой леший, только в ней мозги слиплись с коммерческой грязью. Выжать ее — и посветлеет ум в голове. Вы горючим не разжились?
Марко безнадежно махнул рукой.
— Разве его теперь достанешь? Где только можем даже по бутылке собираем.
— Разживетесь горючим — все трактора пошлю на ваше поле. Жалко мне, Марко Трофимович, вас, и помочь не могу. Сам казнюсь, что за полцены зарплату получаю. А может, и пофортунит еще — чего-то не досказывая, снова улыбнулся в усы, простился и влез в машину.
На поля тихо спускался сизовато-синий шелк предвечерья. В ложбинке матово темнела вода, и вербы над нею казались табуном птиц, вышедших на берег. Мягкая синева оттенков и зеленоватая голубизна между не угасшими островами облаков усыпляли, убаюкивали землю и стирали с нее следы тяжелого времени. Она тоже куталась в мечтательную голубизну и, кажется, радостно дрожала, что над ней заискрились первые звезды, а на ней встрепенулись девичьи голоса. Вот из далеких полей возвращались старые плугари и девушки-погонщики. Целый день находились они возле коней, натерли поводами потрескавшиеся руки, понабивали ноги, а все равно затянули песню о любви, хоть и не имели ее… В такой вечер идти бы им украдкой к милым, прислушиваться бы, как в тишине синего предвечерья бьется испуганное сердце, и вбирать в него лучшие в мире слова, и вбирать в радостные глаза и звезды, и лунное сияние, и всю землю, перевитую вечерней мглой или, может, туманом любви.
Родительское сожаление охватывает Марка, он сейчас так хочет счастья этим натруженным девушкам, будто они были его детьми. И не все они будут иметь свое обычное девичье счастье, которого больше было во времена Марковой молодости. Вот-вот уже закончится война, смерть не будет гасить свет человеческих глаз, но сколько еще и после войны прольется безутешных девичьих слез.
И снова вспомнилось его несчастье — его единственная дочь. Казнись, мучайся, отец, в одиночестве, а людям неси и улыбку, и смех, и утешение, и совет, добывай и лес, и деньги, и семена, и фураж, и хоть по двести граммов хлеба для плугарей, и ложку молока для детей-сирот.
Так и несет человек в душе красоту этого весеннего вечера, и родительскую тоску, и копеечные расчеты, и проклятый вопрос — где взять горючего, как вспахать поля, потому что такова твоя судьба.
Вечером в его землянке долго заседает правление, подводит итоги дня, обдумывает, что надо делать в ближайшее время, кого послать в Каменец-Подольскую область добывать известь, чтобы на ней заработать сякую-такую копейку. Немного, лишь пятнадцать тонн, позволили им добыть в карьере извести, но по настоящим ценам это даст пятнадцать тысяч рублей на самые необходимые нужды. И снова все сушат головы над горючим.
После правления он еще некоторое время разговаривает с рыбаками: надо что-то поймать, хоть на похлебку, снова-таки пахарям, копателям и детям-сиротам, а потом сидит с Марией Трымайводою, которая советует посадить на супеске полгектара ранних томатов в самый ранний срок. Правда, они могут вымерзнуть. Но если все будет хорошо — дадут самую большую прибыль.
— Рискнем: садите гектар… Что, есть письмо от сына?
— Откуда вы знаете?
— По вашему лицу.
— Разве? — удивляется, краснеет женщина и снова лицо ее берется чудесной осенней красотой.
Марко смотрит на Марию, незаметно любуется ею и чуть ли не вздыхает. Когда она пошла домой, мать, удивляясь, спросила:
— Чего это она сегодня так нарядилась? Праздник какой-то у вас?
— А я не заметил, — улыбнулся сын.
Наконец он ложится возле Федька. Усталость сразу смежает веки, сразу из тела отлетает часть забот, оно становится легче, перед глазами шатнулось, колыбелью перекинулось небо, и он, сладко опускаясь в теплую глубину, видит, как мерцают большие звезды и золотым коромыслом поблескивает луна. Вот она опускается все ниже и ниже и фарой садится на трактор веселогубого Ярослава. Чего же так смеется мальчик, подъезжая к ставку? Ага, он достал горючее. Марку тоже становится радостно на душе… Но все это сразу разрушается, исчезает — и больше ничего нет, только какие-то пятна перед глазами.
— Вставай, сынок, вставай, кто-то пришел к тебе, — над ним, вздыхая, склоняется мать.
Он совсем выныривает из волн сна, ощущает вес уставшего тела и впопыхах одевается. В землянке уже светит лампа, на столе стоит бутылка вина иностранного происхождения, а у стола хитровато косится на него Кузьма Завороженный.
— Откуда ты взялся? — удивляется Марко.
— Прямо из больницы.
— И тебя, оглашенного, пустили ночью?
— Где там пустили, сам залез, — ничуть не смущается мужчина.
— Как?
— Через окно. Потихоньку, чтобы и не звякнуло, вынул оконное стекло — и залез, — нежная и довольная улыбка игра на тонковатых губах Кузьмы, в его ореховых глазах, которые при свете ночника кажутся совсем темными.
— Видел дочь?
— Конечно! Для чего было через окно лазить?
— Ну, и как?
— Елена говорит, что она очень хорошая, а я немного сомневаюсь, — чистосердечно говорит Кузьма и хмурит лоб. — Ведь что это за девушка, если у нее бровей нет.
— Бестолочь ты, будут у нее брови! — кричит мать ни Кузьму и начинает смеяться.
— В самом деле будут? — доверчиво и трогательно смотрит на мать озорник.
— Разве тебе жена не говорила этого?
— Я, Марко Трофимович, постеснялся спрашивать у нее. Так будут?
— Непременно будут и брови, и красота, и муж будет… У внучки моей только через две недели появились брови.
— Так моя еще имеет время, — успокоился Кузьма, крутнул головой и засмеялся: — И даже муж будет? Феноменально! Выпьем за ее здоровье.
— Чего же ты ко мне пришел пить? — изумленно спросил Марко. — Родных у тебя нет?
— Таки нет… Байстрюк я, Марко Трофимович, — туча набежала на лоб Завороженного. — Всего жизнь наворожила мне. Только теперь, после ранения, разжился на родню — на жену и дочь. А вы мне показались душевным человеком, хочу, чтобы крестным отцом были. Не погнушаетесь, у меня же такая биография?
— Не погнушаюсь.
— И в самом деле Герой будет крестным отец моей безбровой?
— Сказал же тебе.
— Это я к счастью вспомнил вас, потому что я человек с пережитками и разными предрассудками. — Кузьма выпивает рюмку, морщится и заговорщически наклоняет голову к Бессмертному. — Сегодня же, Марко Трофимович, как из пушки, можно достать горючего.
— Где? — встрепенулся мужчина.
— Есть недалеко такой знаменитый городок. Как раз там перекантовывается один военный состав. Теперь на нем осталось только двое дежурных, и то они сейчас гуляют у своих женщин. Мотнемся, Марко Трофимович? Возьмем по совести — несколько бочек, и никто не заметит.
Радостные мысли как завихрились, так и развеялись в голове Бессмертного.
— Это же прямое воровство.
— Какое там воровство! — повел плечами Завороженный. — Не для себя же — для колхоза, значит, тоже для государства стараемся. Ну, а война все спишет!
— Нет, Кузьма, на такое дело я не пойду.
— И зачем вам столько совести? Ну, как знаете, а я хотел помочь. — Кузьма ловко опрокидывает вторую рюмку и уже с печалью говорит: — Значит, не гожусь я для социализма. Но почему? Потому что в социализме надо иметь крылья, хоть маленькие, хоть воробьиные, если нет орлиных. А я научился не летать, а сквозь щели лазить.
— Уже пора отучаться от разных щелей.
— И жена именно это долбит мне каждый день и каждую ночь. Начал стараться, а что получится — аллах его знает.
Марко пристально смерил мужчину взглядом.
— Аллах пусть себе остается аллахом, а ты с сегодняшнего дня уже отец, а не какой-то воришка. Не позорь имени отца, как кто-то твое опозорил.
Кузьма вздрогнул, пытливо взглянул на Марка и сжал ему руку.
— Будьте здоровы. Пойду Ярослава сменю. Сегодня же буду пахать, — поднял вверх кулак. — В честь дочери!
Утром первым появился к Марку поглощенный заботами Василий Трымайвода.
— Хвалите меня, потому что я сам начал хвалить себя, — шутливо встретил его Бессмертный, но не развеселил мужчину.
— Оказия случается, Марко Трофимович, — стишил голос. — Только едва ли нас будут за нее хвалить.
— Какая же оказия?
— Ночью притарабанилось ко мне одно свинство и начало сущий торг. Оно, это свинство, откуда-то пронюхало о наших трудностях и хочет подлататься на них: за канистру самогона обещает давать бочку горючего.
— И где только берется такая нечисть? — спросил Марко с негодованием.
— Всплывает из мути войны. Так что нам делать? Самогонщиками становиться?
— Задачка!.. А это надежное дело? — еще не знает на что решиться.
— Если присмотреться к носу этого свинства, то надежное — за рюмку он и отца продаст. Для пробы привез мне две бочки горючего.
— Где оно у него лежит?
— Дурак он сказать! Засекретил свой состав.
— Целый состав?
— Похоже на то. Говорит, что мы его горючим вспашем все свои поля.
— Тогда договаривайся, Василий! — махнул рукой Марко. — Принудит беда и самогонщиком стать.
— С чего только варить будем?
— Сейчас же поеду на сахарозавод. Там есть мелисса… Вот и перепуталось грешное и святое.
* * *
…Лицо директора Укросахара нельзя было назвать оптимистичным. Его помятый рот рогаликом прогнулся вниз, в узковатых разрезах томились от скуки глаза, а перчинка носа принюхивалась к усам, как к закуске.
«У такой тошнотины едва ли поживишься чем-то», — подумал Марко, соображая, какими словами можно разжалобить директора завода. Он ударился в злоключения сожженного села, а пентюховатый хозяйственник, скучая, слушал его и все время принюхивался к усам, будто они источали самолучшее благоухание. Когда Марко закончил говорить, глаза директор сразу ожили, и он коротко изложил свои мысли:
— Лирика сегодняшнего села, особенно сожженного, сама по себе очень интересная, но мы книг не пишем, — мы практики, а потому сразу перейдем к делу. Мелисса у меня есть, хорошая, хоть на хлеб намазывай. Сколько хотите, столько отпустим, если взамен достанете меди. Подходит такая комбинация?
Марко растерялся:
— Меди? Какой?
— Какой хотите, с чего хотите и где хотите, лишь бы это была медь. Немцы ободрали нас, как липку.
— Где же я вам ее достану?
— А это уж ваша печаль. Я вам — мелиссу, вы мне — медь. Килограмм за килограмм.
— Вы бы, может, для практики, начали свою мелиссу менять на золото: килограмм за килограмм, — съехидничал Марко.
— Золото мне пока что не нужно, — спокойно ответил директор и снова начал принюхиваться к усам. Его, видно, ничто не могло растрогать.
Обозленный на директора, на себя и на всю эту историю, Марко в препаскудном настроении возвращался домой. Отважился человек стать самогонщиком — и то не повезло, захотел честно заработать выговор — и то не вышло… Странное это существо, что называется человеком. С самого утра его мучили сомнения и раздумья, что он согласился за самогон покупать горючее, а теперь он злился, что не может этого сделать. Прямо хоть поворачивай коней к Кузьме Завороженному и езжай с ним промышлять на состав.
В дубраве мглистые ладони вечера прохладой прошлись по его лицу, немного охладили гнев, но все мысли и теперь, как пчелы вокруг матки, крутились вокруг пахоты. И все равно он где-то должен достать медь тому перченному черту.
Дома Марко рассказал о своем приключении Трымайводе и Заднепровскому. Этот рассказ возмутил даже уравновешенного Василия, а Григорий Стратонович засмеялся.
— Вы чего? — непонимающе взглянул на него Марко. — Типаж понравился?
— Перчину носа и усы, как вы нарисовали их, вижу перед собой, — и дальше смеялся Григорий Стратонович. — Напали же на практика! Но кажется, мы уже имеем медь.
— Какую? — в один голос вскрикнули Бессмертный и Трымайвода.
— В горбовецких лесах, может знаете, взорван артсклад. Что должно было пойти в воздух — пошло, а гильзы до прошлого года валялись вокруг воронки…
— Тогда сразу же надо ехать! — решил Марко. — Может, и нам пофортунит.
В этот же вечер он, Григорий Стратонович и Василий Трымайвода поехали в горбовецкие леса. При луне они долго петляли лесными дорогами, пока нашли глубоченную воронку и, как над самородками золота, наклонились над первыми, позеленевшими от ненастья гильзами снарядов… Неделю спустя шесть тракторов, радуя сердца земледельцев, пришли поднимать тихую, напоенную дождями, росой и туманом землю. И через неделю десяток заявлений пошли блуждать по всем инстанциям. В них писалось, что новый председатель колхоза Марко Бессмертный морально разложившийся человек — он принуждает колхозников варить для него самогон и беспробудно пьянствует…
XXXI
Земля пахла свежестью травы, нежно-пьянящим цветом одуванчиков, соком деревьев и рассады. Девушки, сняв рамы парников, заботливо колдовали, сгибались и разгибались над ней, а их песня стлалась над хрупкими стеблями, и в ней была печаль далеких веков, сошедшихся с сегодняшней девичьей тоской. Неизвестным суженым выплескивали они свою песню и полураскрытую, как бутон, любовь, но не суженые, не мальчишки с веселыми глазами, а только теплая земля прислушивалась к девичьей грусти и любви.
И снова Марка встревожило это пение, снова подумалось о девичьей судьбе, подкошенной войной, и о той любви, которая может увянуть в груди без ответа, без материнства. И разве он не понимает, почему теперь даже смех девичий таит в себе печаль. И ничем, ничем ты, человече, не можешь помочь, разве что радушным словом и уважением к тем, у кого судьба обидела девичьи лета.
Эти раздумья и печаль незаметно перенесли его к тем вечерам, когда и он встречал свою первую любовь… Было ли оно или не было? И была ли на свете та нежная терноглазая девушка, которая доверчиво и недоверчиво тянулась к нему? Он ей когда-то весной принес ветром отломленную вишневую веточку, не зная, что этой же весной отломится от него его любовь…
Увы, когда это прошло! Уже и дочь у тебя такая, как та девушка была, а все равно просыпается грусть и больно сосет все тело. Отдирай ее, человече, от сердца, выливай, как горький сок прошлых годов, глуши работой и хозяйственными хлопотами, чтобы меньше болело все. И он отдирал ее, но из далеких закоулков памяти то и дело выныривали воспоминания о первой и второй любви.
Вдруг в песне о журавлихе ему послышался голос Елены, и он аж оглянулся, присматриваясь к девушкам. В самом деле, что-то было в их пении такое, что звучало в голосе его жены. Несомненно, они это перехватили у Елены и запели ему, чтобы и подстреленный журавль затужил по своей журавлихе. Какой удивительной и красивой была она в золотых косах и чарах своей песни. Вот и нет золотой вербочки в его семье, есть только молнией опаленная верба, с креста выросшая на могиле его отца.
— Марко Трофимович, что мне делать с Маврой? — подошла к нему Мария Трымайвода, и обыденщина разрушила все видения, но не могла разрушить грусти.
— Что такое?
— То самое — никак на работу не выходит.
— Говорили с ней?
— Несколько раз и говорила, и уговаривала, и порицала, но ничего не помогло. Обещает прийти, но обещанка-цяцянка[44]. Придется штрафовать Мавру, или как?
— Война так штрафовала наших женщин, что грех нам будет браться за такое дело, — невесело ответил Марко.
— Так что же делать? За Маврой и другие женщины не торопятся на работу.
— Еще надо поговорить, душевно, сердечно. Она же, кажется, не из ленивого рода.
— Это правда. А почему вы не спрашиваетесь, как у нас работа идет?
— Вижу ее всю перед глазами. А для чего вы в этих парниках оставляете отдельные стебли рассады?
— Из нее тут в тепле вырастут первые овощи для председателя и начальства, — засмеялась женщина.
— Спасибо, уязвили, не надеялся, что вы такие.
— Так всегда было при Безбородько. Не за вами ли едет подвода?
— За мной, зачем-то на бюро райкома вызывают.
— Наверное, хвалить будут, потому что пашется и сеется, аж гай шумит.
Марко промолчал: не о похвале думалось ему; все беспокоила история с горючим.
На подводе возле извозчика сидел незнакомый мужичонка с шевелюрой грязноватых пепельных волос. Вот он соскочил на землю, с почтительной улыбкой приложил два пальца к жилистому виску.
— Марко Трофимович, мое — вам. Не подвезете ли часом в город?
— Чего же, можно, — с неприязнью взглянул на неопрятного, пахнущего чесноком космача с выпяченными, похожими на узел губами и крупным щучьим носом.
— Вот и хорошо, магарыч с меня, — космач предупредительно улыбнулся, суетливо потоптался на месте, будто земля пекла ему ноги, и тише спросил: — Несомненно, вы не знаете, кто я такой?
— Не имел счастья познакомиться с вами, — безразлично измерил его взглядом Марко.
— И не догадываетесь? — в хитрых глазах непрошеного пассажира как дым вьется хмельная седина. Что-то неприятное, наглое, настороженное и загадочное есть в ней.
— Не имел времени думать над этим важным вопросом, — насмешливо бросает Марко.
Но хортоватый космач не замечает этого. Он с таинственным выражением оглядывается, а потом пронырливый смешок прорывает его узловатые губы.
— Это потому, что мне пришлось иметь дело не с вами, а с кладовщиком. Я Федот Красий, тот самый что вам горючее поставлял. Надеюсь, мы в любых делах поймем друг друга. Я, уже сейчас можно сказать, ваш пахарь!
— Вы наше горе, а не пахари, — гнев сразу румянцами прорвался на лицо Марка, а в золотистых ободках глаз шевельнулась тень. — Неужели не стыдно или хотя бы не страшно вам так жить на свете?
— Лекция по политграмоте? — тюкнул, не обижаясь, Красий. — Я в политкружках уже не просвещаюсь — не такие мои лета. А о совести и страхе могу, если интересуетесь, дать фактическую справочку, только сперва надо найти точку опоры. — Он взобрался на полудрабок, удобнее уселся, а с его глаз сошла хмельная ухмылочка, — они сразу стали тверже и затаили в уголках ироническую озлобленность. — Так с чего же начинать? Разве что так: даже в век социализма каждый имеет свои финансово-коммерческие цепи и бьется в них, как рыба в сетке. Вы, например, хотите сейчас выскочить из общественных долгов. Это вам выгодно и нужно для славы. И я, будь на вашем месте, делал бы то же самое. Но житейские неудачи слизали мою славу и даже мостики к ней. Так надо же мне, если есть голова на плечах, немного лучше жить, чем те, что умеют думать только руками? Вот я и желаю приплыть к своему тихому берегу, что-то выстроить там на черный день для себя, потому что коллективное — это теперь не лучшая мечта моей жизни. Вы имеете свою коммерцию, я — свою, а в коммерции главное — искать, находить, брать и выгодно сбывать… Ну, страх — это уже другая категория, от него рукой не отмахнешься. И не все попадаются, не все ловятся, а когда и ловятся, не все угождают на грозные глаза правосудия, потому что и здесь можно сяк-так найти прокладочки. Кто бы, например, и по какой статье мог судить меня за мою коммерцию? Только фашисты, потому что я воровал у них. А вот вашу покупку у меня можно под какой-либо параграф подвести, потому что вы человек государственный. Так кто кого, спрашивается в задаче, должен спрашивать о совести? — залоснился победной улыбкой привядший вид космача.
— Вон мне, трепач, с телеги! — возмутился Марко, ступил шаг вперед и вырвал у извозчика кнут. — Как разбрызгался!
— Да я себе пойду, обойдемся без нервов, — испуганно вскочил с полудрабка Красий. — Значит, кому-то правда глаза колет.
— Не тронь это слово, негодяй, потому что загрязнишь его! — Марко взял вожжи у извозчика, выскочил на полудрабок, вйокнул на коней, и воз мягко покатил еще не утрамбованной дорогой.
Со временем это приключение с Красием начало Марку казаться даже смешным. «Какая нечисть, а в своих правах разбирается, как юрист-крючкотвор. А когда ты не о правах, а о своих обязанностях вспомнишь?» И пока думалась всякая всячина, лошаденки миновали луга и дубравы, а перед глазами из голубизны неба, еще более голубой воды и зелени земли создавалась, расстилалась молодая весенняя сказка, и посреди нее стояли вербы в зеленых венчиках, как невесты.
Вот с неба голубым комочком взлетел трепетный грицик[45] и сел на расщепленное жерло немецкого танка. Пичужка пренебрежительно ударила хвостом покореженное страшилище, спустилась на землю и осторожно, присматриваясь то одним, то другим глазом к дороге, начала пить из лужицы голубую воду. И что было птичке до танка, до обрубка его тени, захватившей кусок лоснящейся луговины и пару кустиков куриной слепоты.
Услышав стук копыт, она забеспокоилась, притихла, а потом беззаботно выскочила на купену, чтобы лучше видеть мир и свое отражение в воде. Скоро к грицику прилетела его подруга, и они начали ухаживать друг за другом, то приближаясь, то отдаляясь от танка.
И Марко в эту минуту подумал, что смерть может убить человека, птицу, но она не в силах убить любовь.
С узкого заиленного проселка он съехал на дорогу, на ее обочинах весна куда ни глянь поставила золотые печати одуванчиков, на них темными сережками шевелились старые, еще прошлогодние пчелы. Сказка весеннего наполовину хмурого дня раскрывала новые и новые картины, а на душе у Марка было теперь так, как в той дали, где играли то солнечные озера, то темнели тени. В памяти всплывали и воспоминания, и разные заботы, и расчеты, но и не забывалось, что наконец-то в землю падает и падает зерно. Этим при настоящих трудностях даже можно было похвастаться, если бы не давила душу история с горючим.
В райкоме Марка встретили настороженными взглядами. Еще не успел он сесть недалеко от Броварника, как Борисенко раскрыл папку с какими-то примятыми бумажками и насмешливо посмотрел на него:
— Пашете, сеете, ведете хозяйство?
— Как говорит сводка, пашу, сею и веду хозяйство, — Марко присматривается к папке, к примятым бумажкам и уже все понимает. — Немало «донесений» собралось на меня?
— Хватит на чью-то голову.
— Значит, министерство связи имело работу? — невесело улыбнулся Марко.
— Еще кое-кто будет иметь ее, — насупился Борисенко. — Значит, самогоном поле пашете?
— В фельетоне так можно сказать, — согласился Марко.
— А как это в романе можно сказать?
— Там пришлось бы написать, что мы пахали поле горем своим. Не от хорошей жизни сели мы на этот конек.
Борисенко сочувственно посмотрел на Бессмертного. Только разные заявления и назойливые напоминания Киселя принудили Борисенко взяться за Бессмертного, потому что иначе ему еще больше могло перепасть березовой каши. Фантастично вышло у него с пахотой, только война может так перепутать добро и зло.
— Вину свою понимаешь?
— Понимаю, — тихо сказал Марко, а в душе все равно не разрушался покой; хоть и не хорошо вышло, но поля у него не лежат перелогами.
— Хорошо, что товарищ Бессмертный хоть теперь понял свою ошибку, — въедливо чмыхнул инструктор райкома Геннадий Головченко, который всегда мог — естественно, в зависимости от обстоятельств — показать свое превосходство над кем-то, свое внимание и уважение к кому-то, а то и полный демократизм, особенно за рюмкой. — Где же раньше была ваша голова?
— Она сокрушалась, что с вашей не встретилась. Вот тогда у нас был бы порядок, — наотмашь ударил Марко и вызвал не одну улыбку, потому что прилизанного Головченко недолюбливали за его своеобразную артистичность и говорили о нем, что он с трех возможных вариантов — МХАТа, музыкальной комедии и райкома — выбрал наименее удачный.
Головченко обозлился, моментальные румянцы раздули его совершенно круглые щеки:
— Посмотрите на этого праведника! Набедокурил сам, а сердит на кого-то! Какая железная логика! — грозно взглянул на Бессмертного и начал теоретически раскрывать суть данной ошибки. С колхозного поля он нырнул в древний Рим, затем в историю средних веков, сдул с них пыль, выхватил какой-то пример и им соединял седую древность с двадцатыми годами двадцатого столетия, когда по селам кулачье перегоняло хлеб на самогон.
— Какая ученость: уже Рим, и Крым, и самогонные аппараты есть, а толку никакого, — скривился Броварник. — Запишем Бессмертному выговор без этой болтовни. Заслужил!
Высокая фигура Головченко задрожала от негодования, но он сдержал себя и спокойнее заговорил к Бессмертному:
— Понимаете ли вы, сколько проиграли в битве за урожай, сколько вы проиграли в глазах людей и руководства?
— Я понимаю свой проигрыш, но понимаю и выигрыш, — гневно встал Марко.
— Это позор! Он абсолютно ничего не понял! — негодующе завопил Головченко. — Похвастайтесь, что вы выиграли?
— Я выиграл годы женской красоты, — гордо сказал Марко, и все взгляды изумленно скрестились на нем.
— О чем он говорит? — у Головченко от удивления даже аж подбородок отвис.
— То, что слышите, — отрезал Марко. — У меня сердце не пеной, а кровью покрывалось, когда я посылал на поле с лопатами девушек и женщин. Сколько эта непосильная работа выжала бы из них здоровья, сколько новых морщин преждевременно избороздило бы милые лица? А теперь, при своем проигрыше, я выиграл годы женской красоты. Это тоже чего-то стоит!
Борисенко улыбнулся, потом засмеялся, махнул рукой и весело обратился ко всем:
— Слышали, товарищи?
— Слышали, Иван Артемович, — радостно ответили ему все, кроме Головченко, который ощутил свое поражение.
— Тогда я мыслю так, — вел дальше Борисенко. — За сердечное уважение к женскому полу и красоте даже не такое прощалось людям! Наверное, придется простить и товарищу Бессмертному. Как вы думаете?
— А таки придется! — зазвучало отовсюду.
— Впервые такое решение принимаем, — удовлетворенно сказал Броварник и ударил Бессмертного по плечу.
После заседания бюро Борисенко один на один остался с Бессмертным и, смеясь, заговорил к нему:
— Выговор висел над тобой, но и здесь выкрутился. Сердился бы на меня, если бы схватил его?
— Нет, не сердил бы, я к нему уже готов был, — улыбнулся Марко.
— Бодришься? — недовольно покосился Борисенко.
— Правду говорю. Этот грех с горючим залез и в мои сны. Так что выговор даже утешил бы меня — сняла бы грех.
— Интересный ты человек, — не то с осуждением, не то одобрительно сказал Борисенко. — Знаешь, и у меня однажды такое после выговора было… Но тебе надо меньше пьянствовать.
— Пьянствовать? — остолбенел, а потом расхохотался Марко. — Это уже что-то новое. И хотелось бы иногда с досады потянуть добрую рюмку, так не могу: наперстками пью…
— А сколько об этом в анонимках написали, — Борисенко положил руку на папку. — Знаешь, кто это так старается?
— Кто честно работать не хочет: экс-председатель и его окружение. Мы с фашизмом скорее покончим, чем с клеветниками и дармоедами, которые научились хитро и мудро пожирать плоды социализма… Что думаете делать с этими бумагами?
— Буду коллекционировать для интереса: заведу счет, сколько их придет за год на одного заядлого председателя, прикину, сколько они забрали времени и денег у государства, а потом прилюдно будем судить отчаянных доносчиков.
— Такой же статьи в законе нет.
— А мы постараемся содрать с них хоть израсходованные командировочные на разъезды и комиссии. Рублем ударим по доносчикам… Ставок зарыбил?
— Зарыбил.
— Много ловил рыбы до войны?
— По шесть центнеров с гектара. Но мы тогда подкармливали ее, а теперь нечем.
— Пойдешь к председателю райпотребсоюза, он немного выпишет жмыха для вашей рыбы. За это хоть на рыбалку позовешь?
— Увидим, сколько дадите жмыха.
Борисенко засмеялся:
— Знаем, какой ты скупердяга. А с горючим уже выкручиваемся — прибыло на станцию…
И после этих слов Бессмертный и Борисенко одновременно посмотрели на окно, к которому приближалась вечерняя даль. Сейчас они оба подумали уже не о горючем, а о победе, которая поднимала крылья над всей землей.
XXXII
Марко возвращался с дальних полей, когда мягкие вечерние долины начали прорастать и зарастать сизыми кустами тумана. Между небом и землей пролетели темные комочки чирят, а в тумане отозвался коростель, казалось, он приглашал в свои владения гостей, то и дело отворяя им скрипучую калитку. Что и говорить, немудренная песня коростеля, но и она вечерами, а особенно рассветами веселит хлеборобское сердце. Идешь, бывало, на заре, прислушаешься к этому «дыр-дыр» и чувствуешь, как трудится в темноте птица — отдирает и отдирает ночь от земли.
На леваде уже темнели и срастались деревья, под ногами качалась роса и туман, а над всем миром стояла такая тишина, что слышен был плач надломленной ветки.
Марко остановился, прислушиваясь к этому плачу, потом подошел к кладке, к тому месту, где он когда-то в молодости впервые поднял на руки девушку и перенес на другой берег. Как не сошлись берега с берегами, так не сошлась и его судьба с судьбой учительницы. А под кладкой, как и когда-то, влюбленно воркует вода и так же плачут над ней надломленные ветви.
«Старею, — подумал Марко, — потому что чаще необходимого вспоминаю то, что называлось любовью, и чаще потребного с печалью или удивлением останавливаю взор на женской красе, но уже по-другому волнует она тебя — как произведение искусства, как чудо природы, и чаще в книге девичий образ раскрывает затуманенную синь далеких вечеров… Стареешь, мужик».
От этой мысли Марко резко встал у кладки и осмотрелся: не стоит ли за его плечами старость? Верба качнула над ним девичьим рукавом и струсила несколько росинок, а издали снова закричал коростель.
Марко перешел на тот берег и капризной тропой подался на другой край села — надо было зайти к Мавре Покритченко.
Когда он переступил порог землянки, Мавра как раз возилась возле небольшой печи, в которой на подоле пламени чернел единственный, с кулак величиной, чугунок. На скрип дверей вдова порывисто повернула голову, удивление и страх мелькнули на ее лице. Вот на самые глазницы налегли брови, под ними трепетно сузились диковатые глаза, а ресницы погасили в них огонь. Еще не веря сама себе, женщина выпрямилась, почему-то коснулась руками живота и сразу же испуганно отдернула их, опустила вниз.
— Чего так напугалась? — удивился Марко. Ему показалось, что Мавра в последнее время пополнела. С каких бы достатков? — Добрый вечер тебе!
— Доброго здоровья, — настороженно кивнула головой Мавра, и теперь на ее красиво округленном лице зашевелились упрямство и болезненная озлобленность. Она поправила платок цвета утиной лапы, потянулась к кочерге, сжала ее в руках и глухо спросила: — Вы пришли меня гнать на работу?
Возле усов Марка шевельнулась задиристая смешинка:
— А ты боишься ее, что сразу за кочергу ухватилась?
— Не боюсь, — глянула на мужчину и снова убрала в глаза отблески пламени.
— И я так думал.
— Что хотите, то и думайте себе, а я работать в колхоз не пойду. И не агитируйте меня, агитировали уже разные, — женщина решительно и строптиво отвернулась от Марка, снова сунула в печь кочергу и так начала ею орудовать, что жар полетел на шесток и пол.
— Хорошо же ты, как посмотрю, научилась встречать людей, — улыбнулся Марко.
— Так как они меня, — ответила от печи Мавра. Сейчас все ее лицо и увеличенный бюст были охвачены подвижным багрянцем. — Никому, никому я теперь не верю.
— И это может быть, — согласился Марко, а Мавра удивилась.
— Что может быть?
— То, о чем говоришь ты. Обидит человека кто-то раз, обидит второй раз, вот и закачается у него вера… Тебя кто-то обидел?
— Кто же нашу сестру не обижает! — со стоном вырвалось у Мавры, но и теперь она говорила к огню, а не к Марку. — Доброго чего-то не допросишься, от злого не отобьешься, да еще тогда, когда вдова имеет лицо, а не морду.
— Чистую правду говоришь: еще очень по-свински мы, мужчины, держимся, — согласился Марко.
Эти слова больно поразили женщину, она выхватила из печи кочергу, уже курящуюся дымом, обернулась к гостю, хотела что-то ответить на его речь, но сразу передумала и заговорила о другом:
— Наговорили, наплели вам три мешка напраслины обо мне?
— Сама понимаешь, не маленькая.
— Не маленькая, — пугливо повторила женщин, прислонила руку к груди и на миг с мукой на лице полетела в те года, когда бы маленькой, а потом снова озлобилась. — И пусть плещут, если языки не прищемило. Не тяжело оговорить человека, а кто ему посоветует, как это время прожить? Вот и вы стали председателем, начали порядок наводить, уже кому-то лесом помогли, людям огороды пашете, а кто мне его вспашет? Эти пальцы? — протянула хорошие, но потрескавшиеся руки к Марку, в отблеске огня они дрожали, будто осенняя кленовая листва.
Что-то в ее движениях, во взгляде и пугливости обеспокоило Марка.
«Эй, женщина добрая, видать, не пахота, что-то большее поедом ест твою душу, дрожит она в тебе, как рыбина в сетке».
— Завтра тебе вспашем огород.
— Завтра? — недоверчиво переспросила и остро, всей диковатостью глаз, измерила Марка. Какое-то нехорошее воспоминание мстительно наморщило ее лоб, но Мавра отогнала его, нервно приложила руку к красивым, с дыханием гнева губам. — За какую же такую ласку будете пахать мне?
— Не за ласку, не за твою работу, а за твою судьбу, — тихо ответил Марко.
— За мою судьбу? — вздрогнула Мавра. — А вы знаете, какая она?
— Почему же не знаю — вдовья…
И это подкосило женщину, она потеряла равновесие пошатнулась назад, с мукой посмотрела на Марка; во взгляде ее серым туманом шевельнулась боль, а уголки губ жалостно задергались двумя складками. Вдруг Мавра вскрикнула и неутешительно заголосила, слезы, догоняя друг друга, покатились по щекам и высокой груди с резко очерченными сосками. Она ладонями закрыла лицо, но скоро слезы пробились и сквозь пальцы.
— Ты чего, женщина добрая?.. — растерялся Марко. — Что с тобой? — Он подвел Мавру к столу, посадил на стул, и она, положив голову на руки, наплакалась с всхлипами, как обиженное дитя. А Марко сел с другого конца стола, подпер лицо рукой и скорбно посматривал на женщину, не умея утешить ее. Наконец она немного успокоилась, рукавами обтерла слезы и не глазами, а их туманом взглянула на гостя:
— Теперь вы все знаете о моей судьбе.
— Ничего я не знаю.
— Так будете знать. И все будут знать… Я с дитятей хожу. Ой господи, господи, что мне с ним делать в этом мире? — в ее голосе отозвалось такое мучение, такая скорбь, что Марко невольно вздрогнул и встал из-за стола. — Поэтому и на работу не выхожу, оттягиваю от себя людские разговоры, и не могу оттянуть свою бесталанность… Дитя незаконное у меня.
Марко съежил, женская скорбь впитывалась в каждую клетку его тела. Разве же не знает он, сколько вот такой матери придется выпить горечи? Он подошел к вдове, положил ей руку между плечами, и они напряженно сдвинулись, и съежилась женщина, ожидая не удара, а хоть каплю сочувствия, хотя и знала — не будет его к ней…
— И не говори, и не думай, Мавра, такого. Слышишь?
— С… — только один звук сорвался с чуб вдовы.
— Чего не бывает в жизни? Всякое случается, всякое… Только знай: любовь может быть незаконной, а дети все законные. И мы уже не судьи их, а родители, воспитатели. Понимаешь?
— В самом деле? Вы так думаете, что все дети законные? — встрепенулась женщина и тоже встала, наклонилась перед ним. — А я его убить хотела.
— И как ты могла такую нечисть в голову впихнуть? — возмутился Марко. — Ты же мать, слышишь — мать!
— На которую все будут тыкать пальцами, — застонала Мавра.
— Совсем не утешу тебя — всякие еще есть люди, и дурак может пальцем или словом резануть душу, как ножом, но от этого ума у него не прибавится…
— Если бы так отец говорил, — снова слезы задрожали на ресницах вдовы.
— Кто он?
— Разве еще не слышали, не догадываетесь? В селе же ничего не скроешь… Антон Безбородько.
— И что он?
— И просит, и грозится, и деньги дает, чтобы не делала ему стыда. К одной бабе посылает, от которой половина женщин переходит на кладбище.
Марко стиснул кулаки.
— Плюнь ему в глаза… А он же детей не имеет. Чего бы и не порадоваться этим?
— Порадоваться? — впервые в глазах Мавры шевельнулась капля далекой надежды. — Не знаю, не знаю, Марко Трофимович, что мне делать… Уже из монастыря приходили, звали к себе. Может, в самом деле податься туда?
— И не вздумай! — гневно взглянул поверх женщины, туда, откуда приходили посланцы схимы. «Ишь, услышали вороны, что горе у женщины, и сразу закружили вокруг ее души… Как еще мало мы умеем своевременно помочь человеку в тяжелое время…» — Когда родится ребенок, совсем другая жизнь начнется у тебя. Вот и присматривай свою кровинку, а она тебе сначала улыбнется, дальше забубнит, потом что-то залепечет и говорить начнет, — и сам улыбаться стал, вспоминая то время, когда его дочь лежала в колыбели.
— Скажете такое, — покачала головой Мавра.
В это время тихо, по-злодейски, отворилась дверь, и в землянку на цыпочках вошел Безбородько. Увидев Марка, он испуганно мигнул веками, опустился на каблуки, сорвал картуз с головы и сразу же рукой начал вытирать вспотевший лоб.
— Хоть здесь встретились, когда не можем на поле увидеться, — сквозь ресницы взглянул на него Марко.
— А-а-а… чего, практически, ты здесь? Будто сюда и не по пути… — растерянно пробубнил Безбородько, осторожно упиваясь глазами в лицо Марка и Мавры: говорили ли они что-то о нем? Этой дурехе, практически, теперь хватит совести рассказать о том, чего он больше всего опасался.
— Чего я здесь? Пришел сказать Мавре, чтобы выходила на работу.
Безбородько облегченно вздохнул, тихонько фукнул, деланно улыбнулся:
— Вот оно что! Работу, работу подгоняешь, за все хватаешься, чтобы не упустить? Стараешься снова заработать какую-то медаль или орденок? С нашими людьми не заработаешь. А я, грешным делом, подумал себе: не понравилась ли, практически, тебе Мавра? Чем не красавица она?
Это кощунство передернуло Марка, но он сдержался, а у Мавры болезненно затряслись веки.
— А чего ты убиваешься? — хотел похлопать ее по плечу Безбородько. — Ставь на стол какую-нибудь паленку и угощай нового председателя, если не хочешь старика. С новым председателем, да еще с вдовцом, хорошая вдова никогда не пропадет, — пас взглядом то Марка, то Мавру, пустил жирный смешок, рассчитывая им хоть немного развеселить женщину, но не развеселил, а еще больше опечалил.
У Марка же возле глаз выразительнее очертились пучки морщин.
— Умную же ты, Антон, имеешь голову на плечах, умную.
— Спасибо и за это. От тебя, мужик, не так легко дождаться похвалы, — оживился Безбородько. — Может, и в самом деле нам хлопнуть по рюмочке?
— А чего же, можно, — пронзительно посмотрел на Безбородько. — И знаешь, за что я хотел бы выпить?
— За какие-то новые идеи или за то, чтобы росло-зеленело? Угадал? — беззаботно спрашивает Безбородько.
— Нет, не угадал. Мы выпьем за твоего сына или дочь, что родит Мавра.
Безбородько от неожиданности, задыхаясь, впопыхах глотнул воздуха, побледнел, обмяк, будто из него вынули сердцевину. В глазах сначала мелькнул испуг, а потом его сменило страшное опустошение.
— Ты… ты все, практически, знаешь? — на искривленных губах, будто привязанные к ним, плачевно дрожали слова.
— Знаю.
Безбородько ладонью провел по лбу, с безнадежным укором взглянул на Мавру.
— Сказала? Зачем ты?..
Вдова забилась в уголок, всхлипнула, а он тяжело спросил у Марка:
— И как ты? Радуешься?…
— Радуюсь, Антон. Но не так, как подумалось тебе. Разве же это не радость, что у тебя наконец будет ребенок, что ты тоже становишься отцом, а не бесплодным деревом?
— А может, лучше без него?.. Эх, Мавра, Мавра, довела ты меня до беды и стыда, — сказал невесело, а из глаз не сходило опустошение. — Еще, гляди, не поздно что-то сделать, а ты к людям с наветами, наветами…
Мавра молча заплакала, Безбородько трагически махнул рукой, расстегнул пиджак и достал из одного кармана бутылку, а из другого кусок залежалого сала.
— Ну вот, выпьем или что? — обратился к Марку. — Потому что больше нечего делать… Ситуация…
— Непременно выпьем, Антон, — Марко на полке для посуды нашел глиняные стопочки, поставил их на шатком столе, сам налил водку. — За твое дитя, за продолжение твоего рода.
— Эт, — безнадежно сморщилось все лицо Безбородько. Думая свою думу, он поднимал рюмку, как каменный жернов. — Ты же пока никому ничего не говори, потому что, может, дитя и безжизненным будет, а молва заранее пойдет по всему району.
Марко остро измерил Безбородько:
— Что это у тебя за глупые разговоры?
— Мавра же хотела избавиться от ребенка — в погреб падала. А это дело такое… деликатное… Помолчи пока что, братец…
Марка аж затрясло, он подошел к Мавре, как-то уговорил ее сесть за стол…
Трудной была эта ночь для Марка. Перед ним сидело двое людей, которые имели сякую-такую любовь, а теперь оба проклинали ее и каждый считал себя обиженным. Марку негаданно пришлось быть и судьей, и защитником, и руководителем, и набиваться в крестные родители. Он даже поддабривался к Безбородько, чтобы добыть из него скупую искру родительского чувства. А тот хмурился, сокрушался, выкручивался, последними словами клял в душе и Марка, и Мавру и сидел возле неродившегося ребенка, как на похоронах. С горем пополам как-то примирив Антона и Мавру, Марко первым вышел из землянки.
Бархатная праздничная тишина пеленала весеннюю землю, в этой тишине роилось глубокое бездонное небо, между его роями к самому надземью гнулся Млечный Путь, рассеивая над лугами серебряную пергу. Небесная пасека напомнила Марку об их настоящей, убогой, всего на двадцать один улей, и он огородами, а потом полями пошел к дубраве, где в предполье потерялась небольшая пасека.
В лесу стало еще тише, здесь пахло прелой листвой и горьковатым соком черемши. Вся дубрава сейчас так была осыпана звездами, что казалось — небо поймало ее в свою золотую сеть и призадумалось: что ему делать с этим уловом.
Марко вышел на пасеку, окинул ее внимательным взглядом. Между рамочными ульями, как окаменелые рыцари, стояли высокие дуплянки. Они, будто шлемами, были накрыты большими полумисками. Марко прислонился к одному улью, и он отозвался мелодичным гудением. Сейчас в прохладный час тысячи пчел становились заботливыми матерями — обогревали собой соты с не родившейся детворой. И это снова перенесло его в землянку вдовы, словно он оттуда прихватил частицу ее кручины. Нелегко, ох и нелегко тебе будет, женщина добрая, не одни глаза, не один язык обидят твое несчастное материнство, но ты не имеешь права обидеть дитя. И может, у тебя никогда ничего лучшего на свете не будет, чем оно.
XXXIII
Сегодня деду Евмену строительная бригада закладывала хату, и сегодня же на ней выросли оконные лутки.
— Марко, а не слишком ли большие окна ты мне намудрил? — беспокоился старик. — Такие возводили только у нашего пана, который утек к капитализму.
— А теперь пусть красуются у бывшего наймита. Пусть солнце побольше гостит у вас, тогда и коньки будет веселее лепить, — улыбался Марко.
— Оно-то так, для коньков это хорошо, а как будет для старика зимой? Не придется самому конем от холода прыгать?
— Не бойтесь: если поставим оконную раму от рамы на шесть сантиметров — все тепло сохраним.
— Наука, — покачал головой старик. Он взглянул на сруб, который нежно пах увядающим соком, вздохнул и с признательностью сказал: — если будут так везде вести хозяйство, то я за социализм.
Марко с удивлением глянул на старика, вспомнил бывшие слова Киселя и засмеялся:
— А до этого вы были не за социализм, а за капитализм?
Дед Евмен сразу рассердился, воинственно поднял вверх свеколку бородки и кулак:
— Партийный, а мелешь, как элемент с пережитками. Даже ты своей ученой макитрой не раскусил старика. А кто-то же и меня должен понимать, кроме жены.
— Но вы такое, деда, сморозили о социализме, — весело развел руками Марк.
— Сморозил, сморозил, — перекривил старик. — Отец кричит на свое дитя не потому, что не любит, а потому, что лучшим хочет его видеть. А ты мне сразу же капитализм, как шиш, ткнул под нос, еще и хохочешь: дескать, поймал деда на слове. Так ты хоть смеешься, а другой за какое-то тебе слово, не разобравшись в деле, может на самую душу наступить, еще и выхваляться будет, какой он передовой и идейный. А я думаю, что я тоже по-своему идейный, а не элемент, и обо мне, для интереса, где-то написать можно. Потому что о каких дедах пишут у нас? Об очень умных и политических или о чудаковатых, а о средних, которым не все известно, ничего не найдешь. Вот возьми нашего Зиновия Гордиенко — он как ударил в революцию в свой колокол, так и до сих пор стоит гордым звонарем, на другое не нагнешь и не склонишь человека. Скажи ему, что где-то в каком-то нашем законе есть хоть один кривоватый параграф, он тебе горло перегрызет. И это, с одной стороны, очень хорошо, а с другой — и не очень, потому что при Гордиенко, при его доверии ко всему хорошему нетрудно присосаться к нашему святому и кровному какому-то хитрому поганцу. А я дед с критикой, с недоверием, но с любовью к своим людям и к власти. А как же я могу быть без любви к ней? Загляни в мои года, и ты увидишь такую анкету: только встал я на ноги, так и пошел свой хлеб зарабатывать. В семь лет сбивал я уже босиком и утреннюю, и вечернюю росу, топтал весенние зазимки и осенние заморозки. Пошершавеют, потрескаются, бывало, ноги чуть ли не до самых костей, а мать тихонько уговаривает меня: «Пойди, сынок, за овин, помочи их, вот и станет легче, потому что где же я возьму того лекарства?» А через какую-то пару лет в батрачество пошел. Тогда уже трескалась шкура не только на ногах, а и на плечах, потому что рука у хозяина знала милосердие лишь в ту минуту, когда несла свечку в церкви. Тогда, Марко, хочешь верь, а хочешь не верь, столько дела делал, что и заплакать не было времени. После такой кулаческой каторги даже экономия показалась роскошью: здесь и на общество верное разжился, и свою любовь встретил, чтобы не переводился старец на свете, — с доброй насмешкой вспомнил свою молодость. — Далее война, революция, голодовка и, в конце концов, свой лоскут земли. Уже и началось понемногу вылезать из нужды, хлеб за хлеб зашел, хоть и тяжело зарабатывался он. А здесь и коллективизация подоспела, сделали ее сплошной аж за два месяца, а по ней пошли и головокружения от успехов, и от неуспехов, и извращения, и недовращения. Разве же ты сам не видел, как некоторые представители подлетали на бричках к сельсовету и, не сняв картуз перед святым делом, даже без «здравствуй» кричали с порога:
— Чего отстаете?
— С чем отстаем?
— С процентом! Нет сплошной! Жмите на всю железку! — и снова в бричку — на другое село нагонять проценты. Ну, а дядька же не дурак и уже тогда тужил под таким чисто процентным руководством. Кто-то, Марко, и тогда не понял нашего дядьки до основания, кто-то не понял его и потом. И не раз я прикидываю так себе в голове: может, кто-то и там, на высоком верху-министерстве обижает нас. Например, сидит какой-то большой прохиндей, роскошествует, как червяк в яблоке, и все выгрызает такие хода, чтобы я в бессонницу сушил себе голову и ходил с разной критикой, когда мне легче ходить с одной любовью! Ну, так оно или не так, а должны мы накрученное раскручивать и вести хозяйство лучше, чем до сих пор. Я тоже хочу видеть социализм и в поле, и в доме, а не только читать о нем в газете. Что, нигде не напишут о таком деде?
— Кто его знает? — призадумался Марко.
— Не напишут, — уверенно сказал старик, — потому что не вхожу я в картинки, где все улыбаются, не поймут спроста меня и мою горькую любовь — не сверху лежит она. Ну, а за хату и за большие окна спасибо, Марко. Ты собираешься куда-то?
— На пасеку.
— А я знаю чего, — оживился старик.
— Чего?
— Слушать первых соловьев. Правду говорю?
— Чистую правду: там лучше всего поют соловьи.
— Таки лучше всего. А почему? Потому что имеют в ложбине свою волю и красоту: и ставок с чистой водой, и калину со сладкой росой, и хищные птицы не водится там.
Поздно вечером добрался Марко до рощи, где стояла пасека. Соловьи уже разбудили мягкую влажную тишину, и казалось, что синяя темень аж качалась и плескалась в их пении.
Марко встал под трепещущимся явором, с наслаждением вбирая в душу и пение, и чары вечера, и несмелое движение тумана, который не знал, куда ему податься из котловины.
«Шах-шах», — пролетели утки, зацепили крыльями звезду, и она, рассыпаясь, упала на землю.
С улыбкой, чему-то радуясь, Марко прошелся между ульями, прислушиваясь к невыразительному пчелиному гудению. Недалеко от шалаша он увидел простенький ручной станок для нарезания стружки. Возле станка валялись ошкуренные осиновые поленца и лежало несколько пачек связанной стружки, которая удивительно пахла свежей рыбой.
— Рассматриваешь мою самоделку? — отозвался позади Зиновий Петрович. — А я думаю, кто это забрался на пасеку? Доброго здоровья, Марко Трофимович.
Марко одной рукой поздоровался с пасечником, а второй протянул к нему стружку.
— Что будете делать с ней?
Зиновий Петрович затянулся папиросой, и на его седине зашевелилось горячее пятнышко.
— Что буду делать со стружкой? Пойдет, как миленькая, на кровлю дома. Соломы же теперь нет, а жести или черепицы не докупишься.
— И как она показывает?
— Выстоит лет пятнадцать-двадцать, если хорошо укрыть.
— Пятнадцать-двадцать лет? Это дело! И сколько ее надо на дом?
— Купишь за семьдесят рублей два кубометра осиновых ветвей — и хватит из них стружки на добрую кровлю.
— В самом деле? — обрадовался Марко+. — Так это же хорошо, Зиновий Петрович! Это уже какой-то выход для нашего села. Чего же вы до сих пор молчали о стружке?
— А ты думаешь — знаю чего? — изумленно сказал мужчина. — Как-то за разными делами и не подумалось об этом.
Марко с укором взглянул на старика:
— Когда имеешь добро, отдавай его, не думая, потому что это добро! В лесничестве есть сейчас осиновые ветки?
— Должны быть.
— Тогда пошел к леснику, чтобы придержал эту роскошь.
— Для себя?
— Для колхоза и людей.
— И ночью пойдешь колотить Корниенко?
— Лесник ночью должен не спать. Ульи еще делаете?
— Конечно. Роение уже не за горами. Люблю, Марко, время роения и медогона.
— А что из хорошего вы не любите? — засмеялся Марко. — Семена медоносов имеете?
— Имею. С ними и в оккупацию не расставался. Вот липы очень уменьшилось за войну. На лапти безбожно драли ее.
— Сюда залетают чужие рои?
— Залетают.
— Об этом тоже надо подумать. И поболтать с людьми, которые имеют ульи, чтобы часть роев досталась нам. Да и бывайте здоровы, — и Марко быстро подался тропинкой в глубь дубравы.
На просторном дворе лесника, выкрутившимся между садом и лесом, стояло две телеги, при одной звенел уздечкой конь и копытищем бил мягкую землю: его тоже беспокоила весна. Возле куреня, почуяв человека, люто залаял, загремел железом пес, и скоро из дома, вкусно зевая, вышел кряжистый лесник.
— Гей, осторожно там, потому что дед моей собаки волком был!
— И чего бы я, Остап, пугал добрых людей?
— Это ты, Марко? — удивился лесник, подходя к крестообразным воротам.
И хоть удивляется мужчина, а лицо его смеется. С каких пор Марко помнит лесника, тот всегда, даже в моменты большой злости, не расстается с улыбкой. Наверное, таким его лицо делали фантастично закрученные усы, поднимающие вверх углубления у рта. В гражданскую войну, поговаривали люди, от котовца Остапа, когда тот с саблей мчался на врагов, с ужасом сторонилось все живое. В двадцатом году его рисовал даже столичный художник, но Остап посмотрел на свой портрет и тюкнул:
— Так этим смехом кого-то против ночи можно и перепугать.
— Вы же и пугали им врагов.
— Но рисовали же вы не для врагов, сделайте меня, товарищ, душевным, каким я есть среди людей, а не среди нечисти…
— Не разбудил тебя, Остап? — пожимает Марко руку лесника.
— Да нет. Как раз сегодня целый вечер морочился с Поцелуйко. Слышал о таком оборотне?
— Слышал. Это из тех, что на людей смотрит не глазами, а петлей. Чего ему надо от тебя?
— А нечистый его поймет, такого плута. Он же прямо не говорит и в глаза не смотрит, а все вывертом выпытывает. То тень на нашего учителя, Заднепровского, бросит, то все допытывается о партизанах Мироненко, то о моем брате Виталии. И будто радуется, когда скажешь, что такой-то убит или замучен. Или у этого Поцилуйко ум вверх ногами перевернулся, или он зачем-то собирает мертвые души. Новый Чичиков, и все.
— А где он, черт со скользким языком? — рассердился Марко. — Я ему покажу и мертвых, и живых!
— Прогнал его. Повеялся куда-то яд собирать. Гадюка за год, слышал, дает полграмма сухого яда, а с Поцилуйко килограммы, наверное, можно выжать. Что тебя сюда принесло?
— Дела, Остап. У тебя деньги есть?
— И сам не знаю, — пожал плечами лесник.
— Как не знаешь? — оторопел Марко. — Что-то не слышал такого, чтобы человек не знал, есть у него деньги или нет.
— А я и жена не знаем, такой случился переплет. Послушай только. Как мы жили и живем — всем видно. На большие имения не собрались, сберегательных книжек не завели, в земле денег не гноили, а какая была копейка — посылали детям, чтобы лучше учились и по институтам, и по техникумам, и по курсам и учеными и совестливыми людьми становились. И скажу, всех детей мы хвалили, кроме Александра.
— Чего же вы на него? Такой хороший мальчик.
— Что хороший, то хороший, но не по той линии пошел. Сам подумай; чего и зачем ему захотелось стать артистом? Это же дело такое: человек один, а живет в десяти или даже больше шкурах, и сам себе никогда не хозяин. Ему, например, хочется веселиться, а он должен плакать и извлекать хоть печеночную, а слезу. Словом, это жизнь не серьезная, а наизнанку. И вот вдруг, с месяц назад, присылает он мне аж двенадцать тысяч рублей. В район ходил с женой за ними, покрутили мы тот перевод в руках, погрустили, отправили деньги назад, а Александру написали: «Сынок, в нашем роду никто не становился на ленивую дорожку. Просим, не становись и ты, не обижай людей — где взял деньги, туда и положи, или с раскаянием, или хоть втихую. И чтобы никогда этого не было, потому что мы не выдержим такого стыда…» И что ты думаешь? Пару дней тому назад снова приходят эти деньги и письмо. Клянется дитя, что заработало их на роли в кино, и просит их израсходовать, как мы захотим. Вот мы и не знаем, Марко, есть у нас деньги или нет, — грустит и смеется одновременно лесник.
— Это, Остап, честные деньги, и можешь гордиться своим сыном: видать, талант он.
— Ты так думаешь? — оживился лесник.
— Тут и думать нечего. Одолжишь мне немного денег?
— Сколько же тебе?
— Ровно столько, чтобы закупить все осиновые ветки. Много их у тебя?
— Да кубометров шестьдесят-семьдесят нацарапаем.
— Вот и хорошо. Заплати за них завтра в лесничестве.
— На стружку берешь осину?
— На стружку.
— Пусть будет по-твоему, — как барышник, ударил ладонью в Маркову ладонь.
— Ну, спасибо, Остап, что уважил. Сыну привет передай. Да и будем расходиться…
Над поредевшими лесами поднималась и темно-синими лоскутами расползалась чуть шевелящаяся ночь. В ее расщелины затекал нежный трепетный рассвет, он уже отделял дерево от дерева, рождал новые цвета и трогательно качал закрытые головки нежных лесных ромашек, которых даже росинка приклоняла к земле. В тихой и праздничной задумчивости стояли дубравы, в них свадебной одеждой гордились черешни и темно розовели набухшими устами дикие яблони.
Из лесу Марко вышел на яровой клин, где над землей крохотными корабликами поднимался светло-зеленый горох. На каждом своем парусе-листочке он тоже держал еще потемневшую за ночь росинку. Восход как-то сразу наполнился жемчужно-розовым сиянием, и по нему размашисто полетели лучи. Они своими теплыми пальцами шевелили и согревали белоснежную вязь облачков. Жаворонки первыми приветствовали солнце и начали натягивать между небом и землей свою серебряную основу, и под их пение одуванчик раскрывал свои влажные золотистые веки.
Что-то затемнело на дальней дороге, и скоро Марко увидел, что это между полями от самого солнца, перегоняя тени, мчался всадник. А вот и на второй, и на третьей дорогах появились всадники. Что-то непривычное было в их легендарном полете, в их осанках и движениях. У Марка безумно, в предчувствии чего-то большого, забилось сердце. С тропинки он подался к перекрестку дорог. Первый всадник с яркой красной полосой на груди, подлетая к нему, высоко поднял руку вверх:
— Победа! Победа! Победа! — трижды воскликнул он, вихрем промчался, улетел в синю даль и растаял между небом и землей.
А уже второй всадник мчался на перекресток и, увидев Марка, тоже победно поднял руку вверх:
— Победа! Германия капитулировала!..
Под копытами гудела весенняя земля, а на все путях вровень с солнцем летели всадники, по всем путям спешила слава к тем, кто все отдал для нее, меньше всего думая о себе.
Марко, как завороженный, еще долго присматривался к дорогам, к вестникам победы, не замечая, как слезы обрывались с его ресниц и падали на крохотные кораблики гороха. Потом, придерживая сердце, он быстро пошел к селу, к людям. И первой увидел Мавру. С сапкой за плечами вдова одиноко шла на работу. Марко подошел к женщине, прижал ее к себе, поцеловал:
— С победой, Мавра! С большим праздником! Дождались…
Мавра сначала испуганно съежилась, потом ойкнула, жалостно улыбнулась:
— Спасибо, Марко Трофимович, спасибо.
— Иди в село, порадуй людей.
Но молодица будто прикипела к месту и со страданием спросила Марка:
— А как же мне теперь быть?
— Ты о своем? — непонятно взглянул на вдову.
— О своем. Передумал Безбородько. Ночью сегодня пришел и сказал, что не запишет ребенка на свою фамилию.
— Так на Степана записывай.
У Мавры сморщилось лицо.
— Разве можно на убитого?
— Тогда пиши на мое имя! Главное же не имя, а жизнь! — он быстро пошел в село, а вдова в оцепенении еще долго смотрела ему вслед.
На площадь уже сходились и сбегались люди, обнимались и целовались друг с другом. И радость, и слезы светились в их глазах. А отец Хрисантий без рясы и подрясника — в человеческой одежде — вылез на колокольню и ударил во все колокола. С колокольни взлетели голуби и закружили над селом, поднимая выше и выше его радость и новые надежды.
XXXIV
Пел вечерний час, пели и грустили сырые землянки. За одним столом в них сходились великое счастье и большая печаль, одна и та же песня из одних глаз метала искры радости, а из других — выбивала слезы, и они росой скорби падали в праздничные рюмки.
Не одна мать, не одна вдова в этот великий день заламывала руки и подбитой птицей поднималась из землянки прямо в круговерть радостных восклицаний, гула, песен, надежных разговоров и смеха и застывала, как камень, и вглядывалась в потемневшие дороги: а может, вернется, а может, придет убитый муж или сожженный сын.
Улицами, как сама молодость, проходили девушки, их вымытые волосы пахли цветом, лугом и сладкой росой, а над тихим миром дрожали весенние нерасстрелянные звезды. И хотя много еще было грусти и горя на земле, но она уже плыла и создавала под звездами новую летопись, качала в пеленках новые колосья для мира и начиналась, возможно, не для войн новая жизнь.
Сегодня, как никогда за эти годы страданий, размягчались сердца победителей. Люди сходились с людьми, вместе делили последний кусок хлеба, вместе переживали большую радость и вместе утешали тех, у кого эта радость была омрачена смертью. И ныне в уединении остался только отец Хрисантий. Даже мешковатый церковный староста и шустрая просвирня не захотели трапезничать с ним, а пошли к родне, невзирая на то, что в этот день отец Хрисантий получил телеграмму от сына и на радости хвалился пропить ведро водки и даже ризы.
Когда за старостой и просвирней закрылись двери землянки, батюшка сразу ощутил себя никому не нужным, и глубокая грусть начал заползать в его немолодое тело.
Вот и размышляй, человече, на старости лет, что оно и к чему. Еще в час грусти и смерти ты нужен верующим, а в часы большой радости им не до тебя и не до твоих молитв… Увеличится у людей добра, счастья, и ты останешься, как одинокое чучело, на зеленом житейском поле.
Отец Хрисантий взглянул на мраморное распятие озябшего Христа и, шаркая кованными немецкими ботинками, тихонько запел предначинательный псалом: «Благослови душа моя господа», потом с укором покивал головой на толстобокую, иностранного происхождения бутылку, словно она была виновата, что возле нее не роскошествует беседа. В такой день он радостно поужинал бы даже с келейником епископа, от которого имеет только горькие треволнения: это младоумное чадо нашептывает и нашептывает владыке, что отец Хрисантий безбожно одурачивает епархиальное управление. А разве он давал обет ничего не зарабатывать на свечном ящике? И какой дурак не наживается на свечах?
— Ну, что же, «повечеряю сама, коли милого нем», — размышляя, говорит отец Хрисантий словами песни. Он здоровенной волосатой рукой охватывает горло бутылки и поднимает ее вверх. Вино сказало «ковть» и ароматным бархатом полилось в серебряную рюмку, с которой батюшка всегда ходил и на крестины, и на отпевания. Отец Хрисантий поставил бутылку на стол, понюхал вино и уже вознамерился выпить, но со двора донеслись чьи-то вкрадчивые шаги. Они сначала отозвались под окнами, а потом зашуршали на ступеньках.
— Вот и гостя послал мне бог, — с удовлетворением поставил рюмку возле бутылки, придал лицу выражение поглощенности заботами и взялся перечитывать телеграмму от сына.
Таки выжило в этой смертоносной пурге его чадо, еще и майором стало, даже в газетах несколько раз писали о нем. Думал ли отец дожить до такого праздника? И отец Хрисантий гордо поднимает глаза на большое фото, с которого чуть ли не выходит молодой майор с веселыми глазами, увешанный правительственными наградами. Правда, отцовское звание сначала не давало ему ходу, а это, смотри, как пошел вверх. Талант, ей-богу, талант, и за него надо сейчас поднять добрую рюмку. Грусть окончательно исчезает из груди батюшки, и туда затекает только родительская гордость.
Со скрипом отскочили двери землянки, и кто-то долговязый, согнувшись в три погибели, переступил порог. Когда неизвестный выпрямился, у отца Хрисантия от удивления на пожирневший лоб полезли мохнатые пауки бровей: перед ним стоял и воровато рыскал глазами по землянке Игнат Поцилуйко. Чего ему надо в его жилище, да еще в такой день? Вот послал спаситель гостя, пропал бы он в преисподней.
— Добрый вечер, батюшка, добрый вечер вам, — облегчено, с усмешкой поздоровался Поцилуйко, убедившись, что здесь больше никого нет.
— Добрый вечер и вам, — глухо, отчуждено говорит отец Хрисантий, он никак не может понять, каким это ветром занесло к нему богомерзкого Поцилуйко, и сразу опережает его: — Вы пришли поздравить меня с днем победы?
— Нет… но и да, — сначала теряется Поцилуйко и начинает сердиться: «Вишь, попище, опиум для народа, а на языке держит не молитвы, а насмешки». У Поцилуйко стают более злыми глаза и привядшие веки.
Отец Хрисантий замечает это, берет в руки рюмку и обращается не к гостю, а к окошку, возле которого голубями бьются лоскуты какой-то песни.
— Так за день победы! За воинство христолюбивое! — он, едва сдерживая улыбку, выпил, поставил рюмку на стол, а гостю и не думает наливать. И у того по серому лицу расползается мстительность, выдавливает на нем печати нехорошего румянца. Он рукой хочет их стереть и через силу начинает улыбаться.
— Может, и моего винца отведаете? — вынимает из кармана бутылку с такой этикеткой, что к ней сразу прикипают глаза богослужителя.
— Что оно такое?
— Французское диво.
— Французское? — причмокнул батюшка.
— Налить вам? — засуетился Поцилуйко возле бутылки.
— Нет, такого не пью, — ответил отец Хрисантий, преодолевая соблазн.
— Это почему? — ошеломленно спросил Поцилуйко.
— И сам не знаю почему, — насмешливо смотрит поверх гостя.
— Что-то слишком веселые вы, батюшка, сегодня, — заклекотала в голосе угроза. — Глядите, чтобы после такой радости не загрустили, как в судный день.
— И не подумаю, можете не стращать. И в сущности говоря, чего вам надо в моей келье? — вперяет презрительный взгляд в непрошеного гостя.
— Мне надо от вас только одну фактическую справочку, — Поцилуйко понижает голос до зловещего шепота, а потом, как ножом, бьет под сердце батюшку: — Скажите, в анкете вашего чада было ли черным по белому написано, что он сын попа?
От этого вопроса покачнулась дородная фигура отца Хрисантия. Он побелел, отшатнулся от Поцилуйко. Страх хищной птицей вцепился в его душу: над его ребенком в первый день победы уже собирались тучи.
— Зачем это вам… и в такой день? — не сказал, а прохрипел богослужитель.
— Зачем? Только для порядка! — сладостью оскалилось лицо Поцилуйко. — Я не думаю, чтобы Василий Хрисантиевич, майор Советской Армии, хвалился своим соцпроисхождением и писал в разных анкетах чистую правду. А как вы думаете?
— Об этом я не спрашивал у сына… Он рядовым пошел на фронт.
— Рядовым, думаю, и вернулся бы, если бы не подчистил свою анкету, — Поцилуйко подошел к фото и с притворным удивлением воскликну: — Да и орденов нахватал! Долго ли придется носить их?.. Не будете настолько любезны сказать адрес вашего чада? Или, может, придется у кого-то другого узнавать?
Корявая фигура отца Хрисантия вздрогнула и обмякла.
— Что вам от меня надо? — спросил, вздыхая, и сел на скамейку.
— Что мне надо? — обернулся к нему Поцилуйко. — Во-первых, чтобы вы пригласили меня сесть в вашей келье.
— Садитесь, — вздыхая, утомлено махнул отяжелевшей рукой отец Хрисантий.
— Вот и хорошо, у нас так всегда приглашают гостей, — Поцилуйко опустился на стул, локтями уперся в стол, заставленный разными закусками, и подпер ладонями свою богомерзкую морду. — Вы-таки ничегонько подготовились к празднику.
— Может, выпьете вина? — униженно спросил отец Хрисантий.
— Вашего или своего? — невинно спросил Поцилуйко.
— Какого хотите.
— Когда угощают добрые люди, то и выпить следует за их здоровье, — великодушно согласился Поцилуйко. — Можно и вашего попробовать.
Отец Хрисантий встал, достал с полки вторую рюмку, налил в нее вина и дрожащей рукой подал Поцилуйко.
— Прошу, не побрезговать.
— А вы же, отче?
— И я тоже, — он выпил напиток, как яд, и уже затуманенным взором посмотрел на страшного гостя, ожидая от него нового удара.
Поцилуйко долго и тщательно закусывал, приговаривал какие-то шутовские прибаутки о блюдах, а сам с приятностью ощущал, как перед ним выходит из себя хозяин обиталища. «Теперь из него можно и свечи катать, а то, вишь, как сначала драл нос. Поп, и тот свой гонор имеет. Ну, кажется, укоротил его тебе». После второй рюмки он уже даже с сочувствием спросил отца Хрисантия:
— Чего так погрустнели, батюшка? Я не думаю обижать вас…
— Что же вы хотите от меня?
— Совсем немного, мелочь, и тогда пусть ваше чадо даже в генералы выскакивает — не буду мешать. Мне надо, чтобы вы документально удостоверили, что учитель Григорий Заднепровский водит с вами дружбу… Ну, выпивает по рюмке, ведет разговоры о спасении души, сетует на трудности или власть или что-то такое подобное…
— Однако же это чистая неправда! — поразился и вскрикнул отец Хрисантий.
— А ваш сын правдой добился орденов и чина?
— Он кровью их зарабатывал.
— Но он в анкетах не писал, что имеет поповскую кровь!
— Я не знаю, что он писал в анкетах.
— Не изображайте, отче, из себя святую наивность. Все вы хорошо знаете, не я, а вы учили свое дитя, как ему жить в классовом обществе. Вот и живет оно теперь, как люди, и пусть здравствует кому-то и вам на радость. А чтобы не подмывался корень вашего ребенка, за это вы дадите мне свое авторитетное свидетельство о Григории Заднепровском, потому что он меня режет под корень. Разве же это дорогая цена?
Отец Хрисантий аж руки приложил к сердцу, чтобы отодрать от него хищную птицу страха, но она глубже и глубже впивалась во внутренности и аж переворачивала их.
— Как же я могу такую несправедливость валить на человека?
— Потом отмолите ее. Вам только надо черкнуть несколько слов на белой бумаге, — почти весело сказал Поцилуйко. — По рукам, батюшка?
— Бойтесь бога, в такой большой день требовать доноса.
— Как вы сказали? — нахмурился Поцилуйко. — Вы не хотите счастья своему ребенку?
Но лицо отца Хрисантия стало тверже:
— Идите от меня… Сегодня ничего не скажу вам…
— А завтра? — не отступал Поцилуйко.
— Я не знаю, доживу ли до завтра.
— Доживете! — пообещал Поцилуйко и многозначительно взглянул на попа. — Тогда, если вы такие деликатные, прощаюсь с вами до завтрашнего дня. Доброй ночи, — он снова согнулся в три погибели и вышел из жилья.
Когда за ним закрылись двери, отец Хрисантий с невыразимой печалью прошептал то, что пелось только в страстной четверг: «Нечестивый же Иуда не восхоти понимать», — и снова начал руками отдирать от сердца хищную птицу страха.
XXXV
На одной половине небосклона полнели и разрастались прекрасные по размаху, величию и форме фиалковые тучи. Вот они перегнулись через зенит, отслоились от неба, раскрыв часть его глубины и прихватив с него мраморно-белый венец. Теперь и тучи, и небо над ними, и земля под ними, и последний желто-мглистый просвет с одного края горизонта, и первая молния с другого — все это было похоже на незавершенные полотна гениев о создании мира.
Григорий Стратонович восторженно вбирает в глаза, в душу эти полотна и улыбается от блаженства. Улыбается и Марко Бессмертный, потому что просторно, величественно и хорошо вокруг. И к тому же майский дождь провисает прямо над его полями — на радость, на хлеб.
— Идут два полуголодных чудака и чему-то радуются, — покосился Григорий Стратонович на Марка и засмеялся.
— А почему бы и не радоваться? — бросает веселое лукавство в морщинки под глазами и в подковку усов. — Пахоту заканчиваем, все всходит и растет, как Дунай, дожди идут, будто по заказу, у людей увеличилось радости, и, снова же, лес достали. А вот чего тебе радоваться — не знаю.
— Чего? — Григорий Стратонович поднял голову вверх. — Небо какое! Божественное!
— Божественное.
— Гремит на зеленое дерево?
— На зеленое, на урожай.
— И школа растет, и записки понемногу пишутся, и ко всему этому я уже дал сегодня пояснение корреспонденту областной газеты.
— О чем? — сразу скривился Марк. — То самое крутится?
— Тот же ведьмовский клубок. Новая анонимка пришила на меня о картах в партизанском отряде.
— Ну, а основания были для доноса?
— Были. Поцилуйки всегда так делают, чтобы к зерну правды подбросить горсть грязи… В отряде, действительно, зимними вечерами ребята играли и в дурака, и в очко — денег хватало и советских, и немецких. Мы с комиссаром начали бороться против игры в очко. Кое-кто бросил играть, а наиболее активные картежники начали таиться от нас. Однажды вечером я наскочил на их теплую компанию. Они как раз банк метали и так увлеклись, что не заметили, как я сел у самого банка. Переполошились, повскакивали ребята с мест, а я к ним:
— Садитесь!
Сели они, отводят глаза и от меня, и от банка, где лежит целая груда денег.
— Кто метает банк? — спрашиваю.
— Да… Мы больше не будем… Вот увидите, товарищ командир.
— А чего зарекаться? — заговорщически посмотрел на них. — Давайте и мне карты.
— Товарищ командир, увидите, не будем… — крутятся ребята, будто на горячее сели.
Еле я уговорил их сыграть со мной и сразу же сорвал банк.
— Вот этого не ждал от вас, — удивился Марко.
— Да я и сам не надеялся, — беззаботно ответил Григорий Стратонович. — Словом, в тот вечер я обыграл всех своих картежников, набил мешок деньгами и отнес комиссару. А когда к нам прибыл самолет с Большой земли, мы деньги передали в Государственный банк. Хорошо, что у меня расписочка сохранилась, а то таскали бы теперь, что присвоил себе тот чертов банк.
— Когда же мы избавимся от этого отребья, что отравляет жизнь? — возмутился Марко.
— Этого, наверное, никто не скажет. Плывут разные доносы, анонимки во всякие места, и каждый дает им ход, думая, что становится на защиту правды. Так и сходятся правда и кривда. Человек терпит, мучится, а доносчику что? Не выгорело в одном месте — строчит в другое. За доносы у нас не наказывают, доносчик чувствует себя почти неприкосновенным лицом — персоной грата.
И тут ударил гром.
— И на их головы придет гром! — сказал Марко. — Это страшная, но временная зараза.
— И я так думаю.
С вьющейся дороги к ним охлябь[46] подъехал Демьян Самойленко, бригадир первой бригады, грозный с виду мужичонка с такими темными румянцами, какие осенью бывают на листьях груш. Списанный по чистой танкист, который жег, гладил и таранил врага и сам горел, как факел, он уже вовеки пронесет грозу в своих больших артистичных глазах. И даже теперь, когда в них отображался человек, над ним тоже полыхали отблески далеких битв и пожаров.
Демьян соскакивает с коня и строго отдает честь обрубком руки.
— Марко Трофимович, уже и просо в земле! Теперь, можно сказать, выскочили на сухое: пахоту под оврагом закончили!
— Спасибо, Демьян, — положил обе руки на плечо бригадиру.
— Аж не верится, — радостно вздохнул бригадир. — Что дальше делать?
— Тракторами поднимать пар, глубина пахоты: двадцать семь — двадцать восемь сантиметров.
— Для чего так глубоко?
— Сам подумай: прошлый и этот год были щедрыми на дожди, значит, надо ждать, что следующий принесет засуху. У нас оно почти всегда крутится так: на два влажных года третий приходится сухой. Итак, загодя надо готовиться к битве с ним, не прогадаем.
— Будут трактористы бунтовать.
— А мы с ними по-доброму должны поговорить и договориться. Коней сегодня же пустить на подножный корм, а завтра — пахать людям огороды.
— Это дело! — Самойленко одобрительно кивнул головой. — Сколько за пахоту брать? Соседи платят по четыре рубля за сотку.
— Упустим рубль. Старикам и сиротам пахать бесплатно.
— А когда кто не выполняет нормы?
— Тем пока что не пахать.
— А Безбородько?
— Безбородько? Пусть он попробует доносами пахать.
Еще раз загремело, все кругом притихло, и враз майский дождь широко пустил над землей сизовато-синюю сетку.
Самойленко вскочил на коня и поехал к своей бригаде, а Бессмертный и Заднепровский спустились к ставку, над которым упорно вытанцовывал дождь.
— Сколько за эти дни прибыло воды, — удивился Григорий Стратонович.
Они перешли плотину, прислонились к развесистой, с выбитым сердцем вербе. Оглядываясь кругом, Марко увидел, как над самой водой пролетели два кулика-травника, в клювах они держали сухие стебли травы. Вот птицы припали к воде и через минутку с жалобным попискиванием отлетели в сторону.
Не этих ли птиц он встретил на снегу, когда возвращался домой? Травники, уже одетые в весенние одежды, поблескивающие белыми зеркальцами на крыльях, снова со стеблями спустились к воде и снова в тревоге подались на луг. Почему они так беспокоились?
Марко, крадучись, осторожно пошел по-над берегом. И то, что он увидел, взволновало и поразило его. Прямо на траве лежало вымощенное из сена невысокое гнездышко, а в нем крестиком прислонялись четыре светло-охристых пасхальных яйца. Вода уже подбиралась к ним, и маленькие птицы напрасно старались стеблями сена поднять вверх, защитить от волны свое непрочное гнездышко, своих будущих детей. Еще плеснет вода раз-другой и заберет с собой и гнездо, и пасхальные яйца.
Вот травники увидели нового врага — человека, выпустили из клювов стебли и затужили беспомощной птичьей тоской. Марко для чего-то шикнул на них, достал нож, не касаясь гнезда, вырезал вокруг него землю, вынул ее и перенес на более высокое место, куда не дойдет вода. Здесь, между кочками осоки, он и примостил гнездо, не зная, вернутся к нему птицы или нет.
Мокрый, обрызганный, он обеспокоенно пошел к вербе, с которой гром выбивал последнюю муку истлевшей сердцевины.
Возле нее улыбался к нему учитель, который видел все приключение с птицами и их гнездышком.
— Хорошо, Марко Трофимович, что вы есть на свете, — крепко сжал в объятиях мужчину.
— Чудаки мы с вами оба, — неловко сказал Марко. — Нашли, о чем беспокоиться! А все-таки приятно было бы, если бы птицы не бросили гнездо.
Они сели под вербой на корточки, присматриваясь к тому месту, куда Марко перенес гнездышко. И вот над ним, попискивая, появились птицы, покружили, помахали белыми зеркальцами и упали вниз, снова взлетели и снова опустились.
А над всем широким миром, над заштрихованными лесами, над первой прозеленью полей, над повеселевшими луговинами, над пригнутыми вербами, над притихшими птицами, над венчиками цвета и над двумя простыми и добрыми людьми дымился надежный дождь.
XXXVI
На краю прогнутого вечернего неба, врезаясь в зрительную мглу, до сих пор трудится старый сгорбленный ветряк; в очертаниях его есть упрямство упорного работящего человека, и жизнь его тоже похожа на жизнь человека. И хоть ветряная мельница имеет каменную душу, но каким она берется теплом, когда мелет тебе, человече, муку на хлеб. А если стынет человеческая кровь от бесхлебья, то леденеет и душа ветряной мельницы. И стоит она тогда на юру, как крест, поставленный на упокой всего села.
Марко тихо идет притихшими полями, присматриваясь к работе единственного теперь, не скошенного войной ветряка: между его размашистыми раненными крыльями то и дело вырастают пушистые, отбеленные луной облака и, кажется, перемалываются на муку. Ну да, если бы столько муки вытряс мучник, то Марко не сушил бы голову, чем помочь людям. А то за мешок какого-то зерна, продымленного войной, то старцем обиваешь пороги всех учреждений, то хитришь и выкручиваешься, словно цыган на ярмарке. Но война и этому научит. Хотя, какая же война, будь ты трижды и навеки проклята! Скрутили же, отвернули голову ей, костистой, а она еще везде дает о себе знать: не отходит от жизни, как ворон от крови. Уже не в силах убить или пеплом развеять человека, когда он трудится, врывается с убийствами в его сны. Теперь и добрых снов стало маловато, как и хлеба.
Марко в задумчивости погладил ржаные колоски, и они осыпали на его руку свой тихий трепет и ту добрую отяжелевшую росу, из которой будет вязаться зерно. И как раз в эту минуту от далекого, невидимого за вербами мостика унылым вздохом прибилась девичья песня. Или она вся, или ее основа была соткана из невидимых слез, потому что осыпались они на душу, как роса на землю. Казалось, это была даже не песня, а сама женская скорбь, которая всюду искала и нигде не могла найти свою судьбу.
Шкода, мамцю, шкода Вишневого цвіту, Що розвіяв вітер По всім білім світу.О каком же вишневом цвете поют девушки: о том ли, что в свое время опадает с белых деревьев, или о тех ребятах, которых без поры, без времени по всем мирам развеяла война и неволя?
От прикосновения этой песни возле сердца Марка шевельнулся болезненный холодок, тот, на котором набухают нелегкие воспоминания. Сегодня после перепалки с Киселем эти воспоминания уже вторично направляли мужчину на далекие, затуманенные временем тропинки. Ощущая это, Марко почему-то глянул на ладонь: на ней поблескивали пятнышки влаги и трогательно лежали две первые крошки ржаного цвета, две крошки той надежды и тайны, что держит на ногах или валит с ног крестьянский род.
И сразу же по ржаному текущему мареву, где переливались тени колосков, реальная и лунная роса, к нему сквозь девичью песню и далекие годы донеслось полузабытое пение его жены, когда она еще не была его женой и он даже не думал ухаживать за ней. Не красотой, не роскошью бровей и не статью, а песней заворожила и приворожила его. На ее голос он, уже немолодой холостяк, спешил из прокуренного сельсовета и подходил к тому плетню, из-за которого подсолнечники с желтыми кудрями, как юноши, наклонялись прямо на улицу, не боясь, что чья-то воровская рука открутит им головы. И хоть как неслышно он подкрадывался к девичьей песне, Елена сразу же чувствовала его походку и настороженно замолкала, как камышевка в плавнях.
Тогда он уже обычным шагом подходил к ней, здоровался и начинал просить:
— Ну, спой, Еленка.
А она, теребя мелкими потрескавшимися пальцами края дешевенького, самыми серпами зарисованного платка, отвечала одно:
— Не хо…
— И чего же ты не хочешь?
— Чего? Потому что при людях нельзя.
— А при скоте можно?
— А при скоте можно.
— Глупости говоришь.
— Зато умное слушаю.
— Может, ты бы, девка, не стыдилась меня?
— А чего бы мне стыдиться, хоть вы и начальство.
И ее причудливые, чуть-чуть припухшие губы или вздыхали, или лишь одними середками сходились вместе, и тогда лицо девушки удивительно озаряла не одна, а две улыбки, которые так веселили его, что он начинал радостно смеяться:
— И откуда у тебя взялись аж две улыбки?
Елена, не сердясь, только поведя одним плечом, рассудительно говорила ему:
— Надо и мне что-то иметь для пары. Ну-ка, еще немного посмейтесь. Вот мой хозяин говорит, что вы очень сурьезный, и в сельсовете, и на людях. И кто бы мог подумать? — и снова вела плечом, на котором шевелился вышитый хмель.
Так он и встречался вечерами с Еленкой, идя на ее голос, как на заманчивый огонек, так и стоял под подсолнечниками, которые наклоняли над ними свои золотые ароматные решета. А в какой-то звездный вечер девушка, не глядя на него, а в землю, тихо сказала:
— Марко, что вы думаете обо мне?
— Что я думаю о тебе? — искоса глянул на хрупкую фигуру наймички, удивляясь, как в этом птичьем, легкокрылом теле мог поселиться такой необыкновенный голос: встрепенется он в селе, а его слышат и косарь на лугу, и пахарь в поле, и лесоруб в лесу. Даже ехидный и скупой, как черт, Мелантий Горобец не раз говорил господам-хозяевам, что он своей наймичке собственноручно дает масла, чтобы голос не засох, потому что голос, конечно, — это деликатная штука и дается даже не всякому попу. — Думаю, Еленка, что ты соловей, и более ничего.
— В самом деле? — смущенно подняла глаза, над которыми испуганно бились ресницы.
— В самом деле. Славное принесешь милому приданое: такого приданного на ярмарке не купишь.
— А больше у меня ничего и нет, — с признательностью взглянула на него. — И вам, Марко, хорошо, когда вы слушаете меня?
— Как в раю, хотя его теперь нет ни на земле, ни на небе. Осенью я тебя беспременно аж в самую Винницу на какие-нибудь курсы пошлю. И ты станешь певицей, в жакетке шерстяной будешь ходить, а потом со мной и здороваться перестанешь.
— Такое выдумаете, — притронулась рукой к подсолнечнику, и он осыпал на нее пару перезрелых лепестков. — Никуда я не поеду из села.
— Но почему, девка?
— Не поеду, и все.
— Думаешь, там будет хуже, чем у Горобца?
— Хуже навряд ли где найдется.
— Тогда почему ехать не хочешь?
— Почему? — запнулась она и приложила ладонь к сердцу, словно боясь, чтобы оно не выпорхнуло из груди. — А разве вы, Марко, никак не видите, что я… люблю вас? — неожиданно выпалила, густо зарделась и сразу же побледнела, как русалка.
Он изумленно и пораженно глянул на эту склоненную молоденькую девушку, над головой которой пошатывался растрепанный подсолнечник, улыбнулся, крутнул головой:
— Ой врешь, малая. Смеешься надо мной.
— Ей-бо. Разве же этим шутят? — искренне, с боязнью и мукой глянула на него, и ее голос зазвучал, как трепет болезненной песни.
Он тогда еще больше удивился, не зная, что и подумать об этой девушке, которая еще и девичества не знала и никогда не выходило вечерами на гули[47].
— И когда же это на тебя нашло?
— Сразу, Марко. Как гром среди неба, — и посмотрела на небо, будто оттуда и сейчас со звездной пылью сеялась в ее сердце любовь.
«Или это насмешка, или в самом деле эта малышня уже что-то в любви петрает? Так когда же она успела? И где эта любовь взялась: не в лугу ли за чужим скотом, не в поле ли за тяжелыми снопами? Сам черт этих девушек разберет». Он крякнул и многозначительно полез рукой к затылку.
— М-да… Бывает… И когда же этот гром отозвался?
Елена встрепенулась, выровнялась и так посмотрела своими глазищами на него, что он сразу увидел ее раскрытую, как свежая рана, подкошенную любовью душу.
— Помните, как впервые с вами в сельсовете встретилась? Тогда так веяло-заметало, что и света не видно было.
— Ну, помню, — сказал, никак не припоминая, когда же она видела его в сельсовете: разве же там мало разных людей толклось и в погожие дни, и в метели?
— Я тогда принесла на люди свои слезы: хозяин ни за что, ни про что побил. А посмотрела на вас, — сразу обо всем забыла: и о своих слезах, и о том нехристе: такие тогда у вас глаза были!.. Ну, в самое сердце смотрели.
— В самом деле? — подобрел и только теперь заметил, что ее косы так блестели против луны, словно были выплетены из настоящих солнечных лучей.
— В самом деле, Марко, — вздохнула девушка.
— А чего же ты о своем нехристе ничего тогда не сказала? Я бы задал ему такого духа… — сразу рассердился на Горобца и махнул кулаком.
Еленка больно прищурила веки.
— Тогда я забыла, что и на свете живу.
— Бывает… А ты же знаешь, дитя, насколько я старше тебя? — спросил, понимая, что девушке не до шуток.
— Ну так что? — просто ответила она. — Старше, значит умнее.
— И что мне теперь делать с тобой? — вслух, как иногда в сельсовете, подумал, на самом деле не зная, как ему быть: или продолжать стоять возле этой девчонки с милыми губами и двумя улыбками, или скорее драпануть домой, потому что у председателя сельсовета немало разно-всяких хлопот. Простишься сразу — того гляди раскачают ее слезы, как роса былинку. Ну, а стоять возле нее — тоже нечестно выходит.
Косясь на улицу, он отошел с девушкой в тень, сел на завалинке, она тоже примостилась на самый краешек завалинки, взволнованная и тихая, готовая вот-вот уронить с ресниц свои первые слезы любви.
Она ждала его слова, словно приговора, и ругала себя, что выдала свою тайну, потому что разве можно девушке первой такое сказать?! Разве не знает она, что в селе так заведено: сиди, гриб, пока кто-то найдет. А вот она не смогла сдержать своего сердца и за это может раскаиваться всю жизнь.
— Какие у тебя хорошие косы. И тяжелые, — не зная, что сказать, взвесил в руке ее косы, меняющиеся в лунном свете, как пшеничные колосья, и пахнущие невыветренным духом перезрелого поля и цветом лаванды. Он знал, что и глаза у нее были синие, как цвет лаванды. — Очень хорошие у тебя косы.
Она ничего не ответила, пряча от него лицо. Тогда, охваченный жалостью к девушке, положил руку ей на плечо, другую вытер об рукав своей праздничной рубашки и бережно провел пальцами по ее глазам. Девичьи слезы обожгли его пучки, но принесли и веяние мятущегося потрясения: вишь, как она любит его! Оно, конечно, и не хорошо, что девушка сама признается в таких делах, но, может, в ее душе и любовь такая же широкая, как и песня? Тоже на люди просится!..
Что же, Марко, то дорогое, чаянное, за чем ты гнался, — полетело неизвестно в какие края, а это, возможно, твоя тихая судьба сидит? Хм, и неужели она будет счастлива с ним? В его душе зашевелились и волны великодушия, и волны боязни за свою холостяцкую волю. Еленка таки и в самом деле славная, хоть и немного курносенькая. А еще одень ее по-человечески! Да за какого беса бедная девушка справит ту одежду? Вишь, только и имеет приданного, что один голос и такую доверчивую душу, которая сразу выплеснулась из тела. Хорошо, что выплеснулась к нему, а если бы к какому-нибудь волосатому верзиле, гляди, и свел бы дитя с ума.
И тогда ему стало страшно за судьбу Еленки, будто в самом деле чья-то сладострастная морда тянулась к ней, и тогда он вообще рассердился на весь девичий род. Ишь, бесовского характера сороки: сколько ни учит их жизнь, а они никак не поймут, что нашему брату можно доверяться во всем лишь после свадьбы и никак не раньше.
Из спящих дворов и из закоулков села на него внезапно налетели свадебные песни дружек и свах, и между ними он увидел эту милогубую девчонку в свадебном венке. Таки хорошая была бы из нее княгинька!
Под его рукой щурилось трепетное девичье плечо, то именно, какое она любила поднимать вверх, и даже в плече, во всех его изгибах он ощущал, как билось и замирало испуганное сердце. И чем бы утешить его, чтобы и девушке стало хоть немного легче, и себя не связать насовсем? Но ничего путного он не мог найти в своей умной голове и, взглянув на босые ноги наймички, спросил: — У тебя, Еленка, сапоги есть?
Она вздрогнула, наверное, удивленная таким глупым вопросом, и покачала головой:
— Нет.
— А тебе надо сапоги.
— Летом?
— Даже летом, чтобы, когда настынет земля или на росе, голос не простудила, потому что он у тебя такой, что людям нужен. Это ты должна понимать!
— На Покрову мама справят сапоги.
— Почему же мама?
— Потому что я им отдаю весь заработок.
— Значит, дома большая семья?
— Восемь детей и мама.
— Аж восемь! Отца нет?
— Нет. Врангелевцы расстреляли.
Девушка вздохнула.
— И меня деникинцы расстреливали.
— Знаю.
— Еде же твоя семья живет?
— Далеко, в степи.
— Бедствует?
— Теперь ничего. А что было в двадцать первом?.. Как мы только выжили — до сих пор не пойму, — пробежала дрожь по всему девичьему телу.
— Расскажи, Еленка.
— Что же здесь рассказывать? — спросила, побеждая слезы.
— Все-все, что на душе лежит.
— Мало там доброго положено, — незрячими глазами, в которые уже входили страхи прошлого, взглянула на него, помолчала и зашептала, словно серебряный ручей: — Остались мы без отца, как малек на сухом берегу: разве же мать своими пучками выкормит такую семью? Что можно было продать — продали, дожили до весны и начали от голода умирать. Я тогда все соседние села обходила — может, наймет кто-то. Да где там было, хоть бы за харчи, какую работу найти! Прибилась однажды под вечер на богатый хутор. На меня сначала набросились волкодавы, а потом вышел хозяин. Измерил меня с головы до ног и не прогнал, а повел в хату, и тут так запахло едой, что я чуть не сомлела. В хате и хозяйка была, красноватая, будто из печи вытащенная. Посмотрел как-то чудно хозяин на нее, поднял вверх косматые брови, а женщина кивнула головой и начала расспрашивать, откуда я, что и к чему. Они долго и будто благожелательно присматривались ко мне, потом хозяйка, горбясь, полезла в печь, дала пообедать и даже косы похвалила: наверное, не заметила, что я аж два ломтики хлеба бросила за пазуху для братцев и сестричек своих…
На следующий день, смотрю, к нашим воротам подъезжают кони, не кони, а змеи, запряженные в высокий новый шарабан, а на нем сидят в праздничной одежде вчерашние хуторяне. Я сначала аж остолбенела посреди двора — перепугалась за те два ломтика хлеба. Но вижу, хуторяне дружески закивали головами: он в соломенной шляпе, как подсолнечник, а она в темных платках, будто кочан почерневшей капусты. Постепенно сошли с шарабана, еще переглянулись между собой и заходят во двор. Здесь они начали пристально присматриваться к нам, детям, и к пухлым, и к высохшим. Потом позвали мать, тоже обмеряли ее, будто портные, и наедине заговорили, что они зажиточные, но бездетные люди. Вчера им понравилась Еленка, так пусть мать отдаст ее, раскаиваться не будет, а они помогут семье: привезли за меня целый мешок зерна. Только еще одно условие, чтобы никто ко мне не приходил, потому что я должна быть их дочерью.
— И даже в большой праздник нельзя будет ее проведать? — загрустила мать.
— Даже на святую Пасху, — строго ответил хозяин. — Мы хотим, чтобы душа ребенка не разрывалась между вами и нами. Всюду должен быть порядок.
— Разве же это по-человечески? Я же ей мать.
— А этим не мать? — хуторянин обвел глазами всю малышню. — Думайте о них, а мы об Еленке лучше вас подумаем. Так будем сватами? — и протягивает матери руку, большую и черную, как лопата.
Взглянула мать на нас, заплакала, вытерла глаза подолом и говорит хуторянину:
— Заносите зерно, будем темными сватами.
— Чего же темными? — удивляется и хмурится хозяин.
— Потому что я не буду видеть ни вас, ни своей дочери, а вы нас и сейчас не хотите видеть.
— Мы не заставляем и не неволим тебя, женщина добрая, — отозвалась молодица, еще больше задергивая темными платками горячие края полных румянцев.
— Так меня горе заставляет, — застонала мать и рукой рубашку и сердце сгребает. — Еде ваше зерно?
— За этим дело не станет…
Занес хозяин мешок, снял с плеча, поставил ровно посреди хаты, мы все облепили его, как родного отца. А мать бросилась к сундуку, нашла свои девичьи кораллы, вытерла их об грудь.
— Это тебе, доченька, и памятка, и приданное, — цепляет мне на шею, а по щекам ее слезы катятся, величиной как эти кораллы.
— И в них я уеду?
— Езжай, езжай, доченька, да не проклинай свою маму, что не она тебя, а ты ее от смерти спасла.
И впопыхах, несомненно, чтобы я не поняла всего при ней, выпроваживает к воротам. Хозяин усадил меня на шарабан, устроил между собой и женой и слегка тронул вожжи. Кони фыркнули, выгнули шеи и тронули из места. Глянула мать на меня, крикнула, выбежала за ворота, руками за колеса цепляется:
— Отдайте мою дочь, отдайте, люди. И зерна вашего не хочу… — даже не замечает, как руки в спицах закручиваются.
Хуторянин остановил коней, слепил вместе мохнатые брови и из-за плеча понуро бросил матери:
— Значит, не будем сватами?
— Ой не будем, во веки веков не будем. Какая уж из нас родня… Пусть вам ваше богатство, а мне мои дети.
Хуторянин понуро глянул на мать.
— Ну, что же, вольному воля, а спасенному рай. Если имеешь такую охоту носить их на кладбище, пусть будет по-твоему.
Слез он с шарабана, ссадил меня на землю и не спеша, что-то бормоча, пошел в хату, ухватил мешок за узел, бросил позади хозяйки и так ударил по коням, что аж вздыбились и они, и хуторяне. А мать прижала меня к себе, целует, будто век не видела, и кораллы не снимает.
Снова пошла я на следующий день по селам, и вот на дороге встретила девочку лет девяти. Аж из-за Волги прибилась она сюда со своей родней. Чужие люди похоронили и мать, и отца, а сама Василинка уже от голода не может ходить. Добрели мы как-то домой, показала девочку матери и умоляю:
— Мамочка, пусть Василинка будет с нами, она же круглая сирота. Г де же ей на свете прожить?
Отвернулась мать от нас, а я забежала наперед, к ее высохшим ногам цепляюсь:
— Она же круглая сиротка, да еще из далекого края. Слышите, мама, пусть у нас живет!
Мать безнадежно покачала головой:
— Пусть живет, если выживет.
Так у нашей матери и стало восемь детей. Еще не успела она настрадаться моей находкой, когда во двор с картузами в руках спешат наши мальчики: Сергей, Иванко и Петрусь. Радостные такие, что и не сказать:
— Мама, слышите, мы теперь не умрем! — кричат и глазами прядут на свои картузики.
— Что же у вас там, головорезы? — перепугалась мать, не украли ли чего, потому что за это у нас тогда и детей убивали.
— Вороньи пасхальные яйца. Вот сколько надрали! Сырых напились вволю, а теперь будем печь. Они вкусные. Мы еще принесем! Или и ворон наловим! — и начинают хвалиться своим добром.
А через несколько дней комбед помог нам пудом муки. Как-то и выжили, никто не умер. А мать до сих пор говорят, что у меня такой голос от вороньих пасхальных яиц взялся.
И этот тихий, очень доверчивый рассказ перевернул мужчине душу и достал из нее не только сочувствие, но и первую волну любви.
— Ох ты, горе мое поющее, — прижал к себе девушку и крепко поцеловал.
— Ой не надо так, Марко, — испуганно отодвинулась Еленка от него.
— А чего не надо? — он снова потянулся к девушке.
— Потому что так не годится.
— Годится, — уверенно ответил. — Так любишь меня, Еленка?
— Еще спрашиваете. Люблю, как душу.
— И я тебя… немного.
— Да?
— В самом деле.
— Дурите мне голову.
— Не научился этому, Еленка, до сих пор.
— И в самом деле немножко любите? — и в своей надежде даже взглянуть боится на него.
— В самом деле немножко люблю, а буду любить еще больше. Это тоже не сразу приходит, — свято поверил, что только так должно быть.
— Ой, — вздохнула и благодарно, с невыразимой радостью посмотрела на него. — Или это снится?
Они не заметили, как отворились двери хаты и на пороге появилась мешковатая, в полотняных штанах и длинной полотняной рубашке фигура растрепанного Мелентия Горобца.
— Хо-хо-хо, — не засмеялся, а хрипло закудахтал дукач. — Сплю я себе спокойненько и не того, что к моей наймичке сам товарищ председатель подваливает! Так она же после государственной любви не захочет в гное копаться или заснет в хозяйском загоне. Вводите вы меня, товарищ председатель, в разорение налогами, так не разоряйте любовью.
— Не пошли ли бы вы, Мелентий, к черту и чертовой матери? — вскипел тогда он, привставая с завалинки.
— Ай-я-я-й, товарищ председатель, — ехидничал Мелентий. — Так говорить-балакать возле моей наймички и хаты? Что же тогда село и доверие масс подумает о своем председателе? Не возьмет ли оно его за грудки? Ну-ка, марш, неумеха, в свой угол. Вишь, ей только с начальством захотелось под стаивать, и пересудов не боится! — вызверился на Еленку.
— Не квакайте, Мелентий, как жаба в болоте. Елена к вам больше не пойдет, — обеими руками прижал девушку, а она, золотоволосая, прислонилась к нему, как осенняя вербочка. — Она ко мне пойдет.
— Аж на целую ночь? — укусил дукач.
— На целый век…
…С того времени, кажется, в самом деле прошел целый век. Вот уже и нет его Еленки: чужой горбатый автомат несколькими комочками свинца оборвал ее жизнь, как и не было ее.
— Хоть бы не стреляли в глаза, ироды, — сказала она перед смертью.
И ей ироды не стреляли в глаза, а ударили в самую грудь, где материнство и ее прекрасная песня…
Марко стиснул зубы, покачнулся, болезненно повернул голову набок, будто мог ее отвести от ударов воспоминаний. Мороз шершавыми лишайниками вбивался ему в корни волос, очевидно, оставлял на них свои седые следы. Марко запусти руку в волосы, чтобы прогнать оттуда холод, и прищурено взглянул вдаль.
Под горизонтом так же упрямо трудился одинокий сгорбленный ветряк, а между его крыльями золотой корзиной дрожало небо, будто готовилось осыпать свое зерно вглубь ветряной мельницы. И несмотря что на этом же поле война до самых крестовин скосила его ветряковый род, покалечила ему руки, он и не думал бросать трудиться, он утешался и ветром и работой и утешал ею людей, хотя они и сделали ему каменную душу.
Подумав об этом, Марко нахмурился: снова вспомнил перепалку с Киселем, которого он в мыслях называл «лукавой душой». И хоть липкий Кисель, а пост имеет высокий. Вишь, залез на трибуну, как в дот, прикрылся очками и бумажками и начал стрелять по нему, по Марку:
— Это анархист, а не председатель! На этом посту его спасает только Золотая Звезда.
— А как же иначе, товарищ Кисель?! — не выдержал с места. — Звезда не только меня спасает.
— Вот видите, — обрадовался Кисель и обвел глазами всех присутствующих. — Бессмертный даже обобщает…
— Обобщаю о звезде! — встал с места злой и норовистый. — Сотни лет тому она спасала бедных невольников из татарщины, Турции и из африканских берегов. Бедные невольники не имели тогда ни карты, ни трибуны, ни очков, ни бумажек, а имели свою звезду и под ней видели за тысячи верст родную землю. И я видел ее за тысячу верст, потому что у меня была звезда не только на груди, а еще выше. А вам от области до земли нашего колхоза ровно пятьдесят два километра, но ведет вас к ней не звезда, а ведет анонимка. Хотел бы я, чтобы из нее, проклятой, хоть раз завизжали те поросята, с помощью которых Безбородько снова хочет стать председателем колхоза.
Тогда в зале поднялся такой хохот, что Киселю было уже не до анонимки, и даже его угрозы никак не могли усмирить смех.
— Теперь, мужик, съест тебя Кисель, — подходили во время перерыва председатели соседних колхозов. — Он злопамятный. Но побрил ты его хорошо: даже румянцы выбрил на щеках.
«И откуда берутся такие мелочные души? И высшее же образование имеет, и в еще более высокое кресло взбирается, и щелкает с трибуны, как соловей, но свое гнездо он вьет не на земле, а во всяких бумагах, где и анонимка становится строительным материалом».
У самой дороги закричал перепел, потом чего-то испугался и, убегая, зашелестел ржами. Марко улыбнулся невидимой птичке, отгоняя от себя докучливую повседневность. Над ржами, которые сейчас покачивал не столько ветерок, сколько роса, уныло стелились девичьи песни, и прозрачная темень тихим веянием переплескивала их с поля на поле, как погожая година переносит пыльцу хлебов. Сколько же, человече, тебе надо жить-работать с людьми, чтобы и хлебом, и жильем были обеспечены они и чтобы на вечерних мостах не тосковали песни, а встречалась любовь? А будет же это все! И мосты счастья встанут по всей земле.
Марко с кроткой приязнью, как в молодые годы, подумал о тихих, сельские мостках, потому что до сих пор любил их, и вербы над ними, и калину под ними, мяту и белозор над водой, и звезды в воде, которые раскачивает даже мелкая верховодка. Он лишь в детстве немного боялся мостков в поздний час, потому что под ними, говорили старые люди, водились черти и всячески издевались над селом. Ну, это было еще до революции. А после уже не стало ни чертей, ни водяных, ни упырей, ни ведьмовского рода, и вообще всякая нечисть сыпанула своей последней кривой дорожкой аж в бюрократию. Бедного черта и дядька мог обмануть, а чертов бюрократ всех одурачивает, бьет под сердце все святое и сухим из болота вылезает. Даже война не стащила его с проклятущего логова. Если кто пеняет, бюрократия даже прикрывается ею:
— Ничего не поделаешь, война прошла.
Марко снова остановился перед ржами в долинке. Здесь они были лучше, чем на бугорках, и цвет на них был гуще. Ничего в этом году озимь, а яровые стоят зеленой рекой. И дожди майские прошли, как золото. Будто все указывает на урожай. Ой, как он сейчас нужен людям: пусть за все годы злоключений у них на столе тепло ляжет добрый хлеб. Лишь бы снова не вернулись дополнительные налоги: разные встречные и разные добровольные, от которых сердце болеет. О них и в газете могут вон как написать, а земледелец снова будет сидеть на картофеле и в поле не будет выходить.
Эх и расплодилось же хозяев возле мужицкого хлеба, а одного, истинного, нет. Как работать на земле — ты хозяин до самой молотьбы, а как хлеб делить — ты уже становишься поденщиком. Но кому об этом скажешь? Наедине посочувствуют тебе, все трудности вспомнятся, а заикнешься где-то на совещании — вражескую вылазку пришьют. Вот и молчи, глухая, чтобы меньше греха. Только и надежды, что как-то все изменится, найдется-таки кто-то, кто не только будет планы спускать и говорить «канай», а разберется в этой путанице, поможет крестьянину и сердечным словом, и святым хлебом. Как у нас некоторые научились копейками прижимать мужика, а на этих копейках теряются добрые миллионы и человеческая вера.
За ржами фиалково светился и дышал легким туманцем ранний пар. Марко остановился перед его разливом, сорвал несколько стеблей сурепки и призадумался. А что, если здесь сейчас посеять скороспелый горох? Зачем должна зря гулять земля? А так что-то уродит людям, и сама обогатится.
«И почему раньше такое не пришло в голову? — аж рассердился на себя. — Завтра же пусть Василий Трымайвода ищет семена. Хорошо, что за редиску и лук завелась копейка в кассе».
С этими мыслями Марко подходил к прогнутому мосту, над которым корежились старые вербы с подмытыми корнями. И пусть ветры и вода, как в прощании, разъединяли или бросали их в скорбные объятия, и пусть время и война уже выбрали, выпалили их души, но они еще с любовью к миру поднимали вверх зеленые руки и давали приют птицам в дуплах или в зарубцевавшихся ранах. Под вербами, как сама юность, кружком стояли девушки и вели свои печальные песни:
Жалі мої, жалі, Великі, немалі, Як майова роса По зеленій траві. Як вітер повіє, То росоньку звіє, А моє серденько В тяжкій тузі мліє.Майская роса без ветра капала из склонившихся верб на девушек, которые пели не песню, а свою жизнь, потому что разве было здесь хоть одно сердце, которое не млело в тяжелой тоске? И никто, никто, разве только время развеяло эту тоску.
Марко унылым взглядом вбирал легкие девичьи фигуры, милые, доверчивые и такие обиженные войной лица; они трогательно играли той прозрачностью и таинственностью, которую умеет навевать лунное марево.
Мужчина ощутил, как возле него голубями звенели юные души, звенели ожидания и любовь… И мир изменился в глазах Марка. Может, он подходит не к обычному натруженному и луной завороженному мосту, а к порогу своей далекой юности, когда так же после войны девушки пели печальные песни, а луна так же, как любящая мать, красой окутывала даже тех несчастных, которые и на Пасху не выходили из полотна. И жалко стало Марку и своих далеких лет, исчезнувших за лунным туманом, и этих девочек, на утлых плечах которых до сих пор лежало непосильное бремя войны. За добрых мужчин и за себя трудятся они от зари до зари, и не одна из них заплачет на чужой свадьбе, не дождавшись своей. А ты, человече, ничем не сможешь помочь этой юности, к которой из-под моста белыми руками тянется калиновый цвет. Наибольшее, что ты можешь сделать, — это найти для них человеческое слово и так вести хозяйство, чтобы выгнать бесхлебье и бедность из человеческих жилищ и чтобы с сорока женских лет не выглядывали тени старости.
Но и для этого следует отдать все, что имеешь. Теперь это не так уж и мало, потому что когда где-то за морями чья-то спесивая судьба разжиревшими на тушенке пальцами считала деньгу, в это время наша голодная, измученная, но свободолюбивая судьба крушила железную шею войны. И сокрушила, господа, хоть и не очень вы этого желали. Теперь вы немного удивляетесь, а больше хватаетесь за наши некоторые неумения или несовершенство и грешными речами наводите тень на само солнце. Что бы вы запели, если бы сами хоть месяц посидели в войну на нашей воде и беде?
Страстная душа Марка уже обрушилась на служителей зла и кривды, которые не в чернила, а в наши раны начали макать свои отравляющие перья. Аж кулак сам по себе сжался, и к нему приклонилось нежное, с росой калиновое соцветие и сразу повернуло мысли к тому, что было более близким и более дорогим человеку.
Как раз замерла песня, хотя отголосок ее еще звучал над полусонным полем. Девушки, увидев председателя, теснее сбились в кружок, а печаль спетого и дум лежала на их лицах, словно из далекого сна выхваченных.
— Добрый вечер вам, девочки. Как славно пели вы, только очень печально. Чуть более веселой не могли?
Девушки молча переглянулись, кто-то тихо вздохнул, и нежданно упрямо и с болью заговорила Ольга Бойчук.
— Не могли, Марко Трофимович, никак не могли, и не вам об этом спрашивать.
— Почему же не могли? — Марка удивил не так сам ответ, как какая-то бесшабашная решительность в голосе вдовы. — Недавно же ты что пела в районе на сцене?
— Так то на сцене, Марко Трофимович, — с укором ответила девушка, дескать, как этого не понимает их председатель. Гибкая и настороженная, стояла она под темными вербами и лунной мглой, как на сцене. Таки не зря Ольгу называют артисткой. — А мы поем сейчас для себя, только то, что в душе щемит.
— Неужели там одна печаль?
— А где же той радости взяться? — аж задрожала Ольга. — И вам живется не на сладком меду — на голом пожарище выбиваетесь из несправедливости. Но вы терпите все. Терпим и мы свое горе. Вашему — помочь можно, а нашему никто не поможет.
— Да, в одном никто не сможет, — и девушки аж встрепенулись, что он понял все недосказанное, мучительное и, видно, не равнодушен к их горькой участи.
— А нам же, дядька, любить хочется, — с глубоким доверием зазвенел низковатый голос Галины Кушниренко. — Такой мир вокруг хороший, будто живописцы рисовали его.
И солнышко, и эта луна такие, что только бы смотреть и смотреть на них, идти с кем-то под ними, так ребят совсем нет… Как нам не хочется без свадьбы на всю жизнь остаться вдовами.
В глубине Галининых глаз он увидел горькое ожидание любви и материнства и боязнь, что их уже не дождаться. Большая трагедия женщины-страдалицы стояла перед ним в облике обыкновенной чистой девушки, к которой белыми руками тянулся калиновый цвет.
«Дети мои дорогие», — хотелось прижать к себе эти милые, доверчивые головки, прошептать какие-то добрые, успокаивающие слова. Но что даст такое утешение? Разве за тем крестьянским рассуждением, выраженным в словах «как-то оно будет», не крылась бы фальшь?
Перед ним еще, как в полусне, проплыли девичьи фигуры, и мост, и в скорбнопрощальных объятиях две вербы, и кусок речушки с чистой водой, просвеченной сверху и снизу луной. И все казалось бы таким полусном, если бы до сих пор не звенел в душе голос Галины: «А нам же, дядька, любить хочется…»
«Будьте же прокляты навеки убийцы детей и материнства, убийцы рода человеческого и земной красоты!» В болезненном порыве, уже видя перед собой и далекие миры, Марко наклонился к Галине, молча приласкал ее, повернулся и, как позволяла нога, быстро пошел дорогой к колхозной конюшне.
Никто из девушек не отозвался сзади него, лишь послышалось чье-то тихое «ой». А впереди ржи так же пересеивали тени, росу и лунное сияние, и только на дороге оно лежало чистым, как летнее золотистое марево.
— Не спится, человече добрый? — любознательным взглядом встретил возле конюшни Марка дед Евмен и искоса взглянул на луну.
— Не спится, деда.
Старик погладил кургузую свеколку бородки.
— То ли начальство тебе сна не дает, то ли года подходят?
— Года, деда.
— Года, Марко, — аж вздохнулось. — И какими ни являются они: добрыми или злыми, — а так летят, что никаким образом не остановишь и никакими лошадьми не догонишь. Вот уже, слышу, и смерть крутится недалеко от моего порога, а я, если подумать, и не нажился. Всю жизнь на лучшее надеюсь. И так хочется хоть сбоку, но недалеко от счастья сесть, ну так, как садятся на чьей-то свадьбе.
— И таки еще сядем не сбоку, а рядом с ним! — поднял Марко вверх кулак.
— Утешаешь старика?
— Верю в это!
— И я еще верю, — признался старик. — Ей-бо, верю… Тебе коня запрячь?
— Запрягайте.
— Ох, и непоседливый ты, Марко, — покачал дед Евмен головой. — Спал бы себе сейчас без задних ног, так где там.
— За спанья не купишь коня.
— И это верно, — аж улыбнулся, что вспомнилось о коне. — Далеко же собрался?
— В тюрьму, деда.
— В тюрьму?! — вздрогнул и встревожился старик. — Неужели, Марко, снова какая-то комиссия хочет обидеть тебя? Тогда мы всем селом… Сколько же можно так въедаться?
— Спасибо, деда, пока что сам отбиваюсь от всякой нечисти, как Марко Проклятый от чертей.
— Отбивайся, Марко, отбивайся, сынок, и сам переходи в наступление, потому что очень ты нам нужный человек! — пожал его обеими руками. — Чего же в тюрьму чешешь?
— Там у меня один знакомый сидит.
— А-а-а, передачу завезешь? — прояснилось лицо старика. — Ну, вези, но долго не задерживайся, буду выглядывать, хотя тебе и безразличен старик: что он? Винтиком назвали меня, а я до сих пор не хочу быть бесчувственным железом: ни винтиком, ни шурупом, ни гайкой, даже целой шестерней, потому что у меня есть хоть и старая, а своя душа. Пусть не все в ней в порядок некоторые ораторы привели, сконтргаили, но это все-таки душа. Да я с президиума ушел, когда как-то один представитель начал меня винтиком величать, где только винтило его? Наскучил я тебе контрреволюцией?
— Кто-то со стороны и в самом деле подумал бы, что вы элемент, — засмеялся Марко, заходя в конюшню.
Поговорив с дедом Евменом, Марко поехал к Василию Трымайводе, отдал ему печать и приказал завтра же разыскать скороспелый горох, а потом поехал домой.
Здесь он бережно начал упаковывать глиняные коньки деда Евмена.
— Ты, Марко, на какой-то торг собираешься с ними? — удивилась мать.
— На большой торг, — серьезно ответил Марко.
— Да что ты выдумываешь?
— Хочу их, мама, показать в городе смышленым людям. Сдается мне, что дед Евмен — талант.
— Как послушать тебя, сынок, так много есть талантов по нашим селам, — недоверчиво покачала головой мать.
— Больше, чем нам кажется, — уверенно ответил Марко, любуясь коньком, который, если «скочит — Дунай перескочит».
— Разве не красавец?
— Глина и полива — вот и вся красота, — с недоверием взглянула на изделие старика.
XXXVII
В предместье, недалеко от большака, за оградой и колючей проволокой стоит это серое двухэтажное здание, здание человеческого падения и подлости, нерешенных страстей и неописанных трагедий, страданий и раскаяния.
Марко стоит возле кованных одноглазых дверей, словно перед потусторонним миром. И только одинокий недоразвитый подсолнечник, неизвестно как выросший возле тюрьмы, напоминает, что не только тени искалеченных душ скучились возле каменной ограды.
«Нет, я не буду вспоминать о вас, а буду держать в памяти вчерашний вечер, девичьи песни и девичью скорбь, потому что только из-за нее я приехал сюда», — приказывает себе Марко. Одни видения отходят от него, а вместо них приближаются тени тридцать седьмого года, он морщится от самого воспоминания об одной из тяжелейших, как он в глубине души считал, человеческих трагедий: это когда неизвестно кем выпущенная на свет змея подозрения проползла между людьми и вчерашнего друга назвали врагом, бойца — шпионом, творца — продажным человеком, а хлебороба — хлебогноителем. Но и тогда, когда злодейство каждую ночь паковало в тюрьмы ни в чем не повинных сынов, а везде по жилищам стояла печаль, когда злобный доносчик измельчал до предела подлости, а верная душа принимала муки, свято веря своей Родине, когда теряли головы даже самые умные люди и когда на плаху поднимались орлы революции, в самых неожиданный местах и условиях можно было встретить по-своему незабываемых людей. Таким был и начальник тюрьмы, потомок донского казака Степан Петрович Дончак.
Чистой совестью, умом, правдивостью и даже хитростью он спас не одного человека в то по-библейски трагическое время. Помог он тогда и Бессмертному. Уже с воли Марко пришел с благодарностью на квартиру Степана Петровича, а тот отмахнул здоровенной косарской рукой и благодарность, и клубы табачного дыма, а потом невесело сказал:
— За правду, мужик, не благодарят, — это закон нашей жизни; за нее и я поднимал саблю от Дона и до Варшавы. И не приписывай мне лишнего. А когда, может, и я стану арестантом, выпей рюмку за мое здоровье или, может, за душу.
— Неужели и вас хотят съесть? — аж задрожал.
— Хотят, Марко, — ответил с доверием. — У меня, оказывается, в тюрьме меньше врагов, чем хочется одному человечку. Он со своего кабинета разнарядки спускает: кровь из носу, а выяви столько-то врагов…
— Неужели это правда? — ужаснулся Марко.
— Даже это правда, и потому кривда нависла над моей головой. Вот и не знаю, куда, в какую сторону завтра качнутся мои весы. Ну, будь здоров. Сей, Марко. Наше дело сеять: и зерно, и правду, а главное — людей любить и верить им. — Высокий, немного сутуловатый, с первой сединой во вьющихся волосах, он встал из-за стола в поношенной рубашке котовца, на которой тускло поблескивал орден Боевого Красного Знамени…
Вот уже восемь лет пролетело с того дня. Сколько воды и сколько крови сбежало в реки и землю! Сильно ли изменился за эти годы старый котовец Степан Дончак?
У ворот скрипнули одноглазые двери, и перед Марком появилась высокая фигура начальника тюрьмы. Он немного раздался в плечах и в туловище, сизоватым румянцем налились щеки, совсем поседели вьющиеся волосы, а в карих колющих глазах и в морщинах вокруг них залегла неспокойная усталость.
— Здоров, Марко, — протянул руку, пристально присматриваясь к мужчине.
— Доброго здоровья, Степан Петрович. Будто сомневаетесь: я или не я?
Дончак улыбнулся:
— В тебе, Марко, я никогда не сомневался. А просто присматриваюсь к твоему иконостасу. Много заработал ты благородного металла.
— Было на чем, было и за что, Степан Петрович.
— Молодец, Марко, молодец, хотя и до сих пор, как кое-кто поговаривает, ломаешь дрова.
— С дровами теплее.
— Гляди, не доломайся до дрючкования. Ну, пошли ко мне, — махнул рукой на тюрьму. — Какая нужда пригнала тебя сюда? Только не говори, что приехал меня увидеть, все равно не поверю. Меня стараются поменьше видеть.
— Дела пригнали, Степан Петрович.
— Да, теперь у каждого под завязку дел. А может, вспомнил тюремные харчи?
— Пусть их черт вспоминает.
В небольшом прокуренном кабинете они сели за стол, на котором еще поблескивал утренней росой жасминный цвет.
— Закоптишь, Марко? — придвигает папиросы и достает зажигалку тюремной работы.
— Спасибо, до сих пор не научился.
— А я до сих пор отвыкнуть не могу, — пристально присматривается к Марку. — Значит, снова председательствуешь, пашешь, сеешь, даже чужие рои переманиваешь к себе.
— И это знаете? — чистосердечно удивился Марко.
— И даже то, что успел с Киселем заесться. Не заботишься о безопасности своих тылов.
— А чем их делать безопасными, поросятами?
Степан Петрович засмеялся:
— Можно и медом. Но ты человек упрямый, и я рад за тебя. Какой волей или неволей прибыл ко мне?
— Любовь принесла, Степан Петровичу.
— Говори-балакай! — изумленно глянул и тряхнул седым вихром. — Или, может, твоя милка, если обзавелся такой, ненароком попала в мои покои?
— По женской линии я не мастак, — нахмурил Марко лоб. — Здесь дело сложнее, не знаю, приезжал ли кто сюда за тем, что может стать любовью.
— Что-то ты загадками заговорил.
— Начну проще. Скажите, Степан Петрович, как вы понимаете любовь?
— Оставь, Марко, свои шутки! — весело наморщился мужчина. — Ты еще через двадцать лет задай мне такой актуальный вопрос, когда я уже с печи не смогу слазить. Ну, что хитришь? О твоих некоторых фокусах я больше слышал, чем ты думаешь. Еще не всыпали тебе хорошо по одном месту?
— Кому из нас не перепадает по тому месту? Так не хотите, сказать, что такое любовь?
— Лучше тебя послушаю, ты же младше.
— Пусть будет по-вашему, где мое ни пропадало. Любовь, я себе мыслю, — большое дело!
— Да ты ба, какое открытие! — засмеялся начальник тюрьмы. — Ты это с какой-то трибуны скажи, осчастливь людей.
— И скажу! — загорячился Марко, румянцы на его щеках начали подползать к неровной подковке усов. — Что случилось бы с человеком, если бы у него какой-то нехороший чародей забрал любовь? Стала бы она двуногим животным, а может, даже и тварью. И недаром уже при капитализме были Ромео и Джульетта.
— Еще раньше — при феодализме, — поправил Дончак, — уже с любопытством слушая Марка.
— Вот видите, даже еще до капитализма так любились люди, — будто обрадовался Марко, хотя нарочно перепутал формации, чтобы лучше втянуть в разговор Дончака. — Но тогда все было проще: не было таких страшных войн, как теперь, и потому больше было и джульетт, и ромео. А кто теперь напишет о такой любви, когда есть Джульетта, но некому ее любить? Это не только девичье горе, а, если подумать, и государственная беда, потому что уменьшается в ней любви. Не так ли мыслю?
Степан Петрович пожал плечами и развел руками:
— Думаешь ты, Марко, так, но к чему все это ведешь — никак не пойму.
— К чему я веду? К самому простейшему: что к девушке и теперь непременно должен ходить парень, ворковать ей что-то, как голубь, шептать в одно ухо правду, а в другое, может, и привирать…
— Зачем же привирать? — насторожился Дончак.
— А разве же вы когда-то не привирали своей, что она лучшая на свете?
— Ох, и хитрый ты черт! — расхохотался Дончак. — Даже я за такое преувеличение. Хорошо прядешь свою нить, только что шьешь ею?
— Это уже зависит от вас. Надо, чтобы жизнь кружила, как жизнь: чтобы вечерами молодые любовался и звездами, и вербами, и дорогами, надо, чтобы парень девушку прижимал к себе и руку ей клал на грудь и чтобы потом к этой груди тянулось дитя и засыпало возле них, как и мы когда-то засыпали. Тогда наши дети будут расти спокойными, кроткими и добрыми, а не истерическими сиротами, которых горькая любовь или баловство подкидывали под чужие двери. Это я говорил в широком масштабе, а теперь хочу о девушках своего села. Чахнут они без любви. Так отпусти мне, Степан Петрович, тех ребят, которые имеют небольшую и не очень плохую статью.
— Вот так вывел концы! — оторопел Дончак. — Да в своем ли ты уме, мужик, или ты с похмелья приехал ко мне!?
— Я при своем уме, а во рту и росинки не было, — ничуть не смутился Марко. — Так не дошла до вас моя слезная просьба?
— Нет, это невозможно. Это неслыханно по своей смелости и, извини, наглости! — Дончак встал со стула, прошелся по кабинету и остановился перед Марком, укоризненно покачивая головой.
— В самом деле, это неслыханно, — согласился Марк, — но, если подумать, возможно.
— Как ты все быстро и с плеча решаешь, — поморщился Дончак. — Скис уже?
— От этих слов и молоко скиснет.
— Ну, предположим, я пошлю в твой колхоз нескольких арестантов…
— Не арестантов, Степан Петрович, а уже освобожденных и равноправных граждан, которые должны честной работой отработать свои сякие-такие грешки, — деликатно поправил Марко.
— Пусть будет так: свободных и равноправных, — почувствовалась насмешка. — И ты скажешь им, что они из тюрьмы сразу же попадут в женихи? Не принизишь ли ты этим свое чудное намерение и не многовато ли даешь чести новоиспеченным женишкам?
— Что вы, Степан Петрович! О нашем намерении никто, кроме нас, вовеки не будет знать. Это же такая деликатная вещь. Просто я беру ребят работать в колхоз ровно на такое время, какое они не досидели здесь.
— А потом половина их разбредется по своим домам.
— В добрый час. Но кто-то останется и в нашем селе. И радость познает от честной работы, и под звездами свою любовь найдет, и свадьбу справит.
— Нет, нет, Марко, это совсем не типично, как пишут некоторые критики.
— Не типично, но дети типичными будут. Вот увидите на чьих-то крестинах.
— Агитатор, где ты взялся на мою голову? Разве таким способом ты решишь этот вопрос?
— Конечно, нет. Но если даже одному человеку мы сделаем добро, то это будет добро!
— Нет, нет, Марко, я не могу этого сделать.
— Почему же не можете? — спросил с просьбой и болью. — Добро же, а не зло в ваших руках.
— Это добро называется превышением власти. Думаешь ты об этом своей горячей головой?
— Пока что думаю. И хоть каким я был небольшим начальником, где мог — превышал свою власть. И главное, почти никто не порицал меня за это.
— Ты можешь! Ты и не такое можешь, сегодня уже доказал, — оживился Степан Петрович. — И как это выходило у тебя?
— Когда я был председателем колхоза, то превышал свою власть и по пшенице, и по ржи, и по сахарной свекле, а проса собрал больше всех на весь район — об этом превышении и в газете писалось. Вот и ты, Степан Петрович, превысь свою власть.
— Ох, и хитрец ты, Марко, каких мало на свете есть! Куда загнул!?
— Однако же на добро или на зло я загнул?
— Кто его ведает, — призадумался Дончак. — Не знаю, если послушаться этого совета, как оно выйдет у тебя, а у меня — плохо. Подведешь ты меня под монастырь.
— И вам будет хорошо, — убедительно сказал Марко. — Это столько же людей потом с признательностью будут вспоминать старого котовца Дончака.
— Ох и лисица же ты! — покачал головой начальник тюрьмы. — У тебя что ни слово, то новая хитрость. Послушать тебя, так мне после смерти еще и памятник поставят за это дело.
— Едва ли какой-то начальник по вашей профессии заслужит такой чести, потому что профессия ваша, извините, не имеет перспективы роста.
— Убил, убил ты меня, Марко! — улыбнулся Дончак, а в морщинах под глазами, в глазах и кустистых бровях шевельнулась боль. — Ты, может, думаешь, я вприпрыжку бежал на эту должность, чтобы не иметь перспективы роста?.. Я, поверишь, плакал у секретаря окружкома, как ребенок. А мне сказали одно: так нужно… Еще какие имеешь, сват, претензии ко мне? — И словом «сват» он сам себе облегчил боль и уже с некоторой насмешкой посмотрел на этого странного, с неровной подковкой усов мужчину.
— Претензий нет, — душевно ответил Марко. — Разве я не знаю, что ваша работа радости не кладет на сердце? И очень порядочным надо быть человеком, чтобы не отупеть от ежедневной людской подлости и страданий. Я до сих пор не могу забыть следователя, который вел мое дело в тридцать седьмом году.
— Черноволенко? — в хмурой задумчивости прикрыл тонкими веками глаза.
— Черноволенко. Ох, и упорно же допрашивал он меня, с огоньком. Непременно хотел прицепить мне ярлык врага народа. После первых допросов он уже не говорил со мной, а визжал, ворчал, грозился, матерился, ревел. Все на испуг брал. И таки перепугал однажды.
— Кулаками?
— Нет, мелочностью, тупостью души и ума. А кулаками или танками сам черт, где-то, не испугает меня, — стреляный я уже воробей.
— Ну-ка расскажи, Марко, и об этом.
— Для чего?
— Как-то слышал краем уха, что Черноволенко из эвакуации снова приезжает сюда. От фронта открутился. Рассказывай.
— Да невеселая это история.
— А мне мало приходится веселое слушать.
— Ночью вызывают как-то к нему. Иду — качаюсь. На столе у Черноволенко вижу котомку из своего дома, две буханки, что-то завернутое в белую материю, масло, наверное, несколько раздавленных головок мака — как раз Маккавей был, и крошечный, с грецкий орех, узелок. Догадываюсь — передачу принесли. Мать даже о маковниках не забыла, знает, как я их люблю. Вспомнил я дом и ощутил, что слезы покатили не по щекам, а вглубь. Жаль мне стало и себя, и матери, и жены, и дочери, и даже этих маковок из нашего огорода, которым Черноволенко провалил головки, выискивая в них записку или какого-то беса. Вот он подошел ко мне, холодный, словно кладбищенский камень, с круглыми проржавленными румянцами на щеках, показывает маленький узелок:
— Подсудимый, что это такое?
— Не знаю, сквозь материю еще не научился видеть.
— Научим, — многозначительно пообещал мне. — А пока что так посмотри. — Развязал узелок, и в нем я вижу, спасибо домашним, комочек родной земли.
— Ну, что это? — спрашивает меня, надеясь на чем-то поймать.
— Земля, — отвечаю и наклоняюсь к ней, чтобы поцеловать. Но Черноволенко молниеносно отдергивает руку и еще с большим подозрением прощупывает меня взглядом: не подумал ли глупой головой, что я хочу проглотить какой-то условный знак или документ.
— Земля? — недоверчиво переспрашивает.
— Ну да, из села, где я родился.
— И где ты не умрешь, — отрезал Черноволенко. — Для чего тебе передали ее?
— Понюхайте, почувствуете, — говорю, надеясь, что вспомнил он обычай наших дедов и родителей и что земля и ему хоть немного смягчит душу.
Снял Черноволенко очки, осторожно поднял узелок к носу, будто он мог выстрелить.
— Чем пахнет земля? — спрашиваю его.
— Чем? — вперяет в меня глаза. — Червяками пахнет. — Мне сделалось жутко: неужели так может измельчать человек, что ему и земля, на которой он родился, с которой ест хлеб, пахнет червями. И тогда я впервые сам стал следователем над Черноволенко.
— Сам ты несчастный тюремный червь. И по какому закону и беззаконию ты, недочеловек, имеешь право судить людей, которые любят землю?.. — Ну, а что дальше было — вы знаете. До последнего своего дня не забуду, как оттаскивали вы меня от еще не вырытой моей могилы. Тогда вы большим рисковали… Так отпустите мне, Степан Петрович, ребят с небольшими и приличными статьями.
— Боюсь, сват, что после этого, как говорят у нас, кому-то будет свадьба, а курильщикам — смерть.
— Не бойтесь, Степан Петрович. И мы с вами на чьей-то свадьбе погуляем.
— То на крестины приглашал, а это на свадьбу, а куда дальше пригласишь?
— Над этим еще подумаем… Будем сватами?
— Хорошо, Марко, — решительно сказал Дончак. — Дай подумать в одиночестве, потому что ты совсем забил мне баки. А утром приходи сюда.
— Вот и спасибо, Степан Петрович, — кланялся Марко, будто все уже было договорено. — И от себя, и от наших красавиц спасибо. Только же выбирайте мне ребят, как перемытых, без разных штучек…
— Выкуривайся скорее, агитатор, — полушутливо прикрикнул на него Дончак…
* * *
Почти во всех наших городах собрание краеведческих музеев начинается с мамонтовых бивней и скифских баб. Эта традиция не обошла и музей, в который сейчас входил Марко Бессмертный: сразу же из всех уголков первого зала в него вперились темные несовершенные фигуры, которые не имели ничего общего с женской красотой, а над ними в нескольких местах красовались многопудовые мамонтовые клыки.
— Добрый день, вы осматривать наш музей или экспонаты принесли? — из-за каменных памятников, как блестящее завершение давних эпох, вышла молодая приветливая женщина, в которой все подчеркивало материнство и искренность. И даже тряпка, какой она снимала пыль с камней истории, не казалась лишней в ее красиво округлой руке.
Марко невольно улыбнулся и поклонился женщине:
— Принес экспонат.
— Древний или современный?
— Современный.
— Сами нашли?
— Сам нашел.
— Покажите, пожалуйста.
— Можно и показать. А вы кто будете?
— Я?.. Уборщица, — смутилась женщина, — но страх как люблю все рассматривать, что приносят к нам. Или вам позарез надо к директору? Так его сейчас нет, и феодалиста, и современника тоже нет: поехали по районам.
— Коли нет начальства, то взгляните вы, — Марко с улыбкой покосился на женщину и начал выставлять своих коньков прямо на каменные плиты.
— Ой, как хорошо и смешно! — сразу вскрикнула и засмеялась молодица, когда увидела конек с печатью. — И это вы самые делали?
— Нет, один дед из села.
— Дед? А фантазия молодая! — уже восторженно осматривала второго конька. — Как звать-величать вас?
— Марком Трофимовичем.
— А я Валентина Александровна. Очень славные ваши экспонаты, но, к сожалению, не по нашему профилю. Я сейчас же сбегаю в Дом народного творчества — приведу товарища Мельника или Киселя. — Женщина стремглав выбежала из музея, а Марко насторожился: какого это Киселя приведет она. Через несколько минут Валентина Александровна вернулась с блондинистым молодцем, на груди которого красовались орден Отечественной войны и серебряная партизанская медаль.
— Кисель Юрий Андронович, — просто и приветливо отрекомендовал себя молодец и сразу же на корточки присел возле экспонатов. Он молча долго осматривает коньки, и сяк и так примеряется к ним, потом морщит лоб, и, в конце концов, улыбка округляет его губы.
— Здорово! Истинный художник делал их. Эти коники далеко попрыгают.
— В самом деле? — тоже радуется Марко.
— Я их сразу же беру на республиканскую выставку. Не возражаете?
— Аж на республиканскую?
— Надеюсь, они и дальше попрыгают, — сильно жмурится Юрий Андронович.
— Что вы? — еще больше удивляется Марко.
— Поверьте, на такие вещи у меня есть нюх. Спасибо, что принесли. Зайдите к нам завтра утром — оформим все документально. И деньги вашему мастеру переведем…
Марко бездумно начал слоняться полуразрушенным городом, черные обгорелые дома которого уже брались свежими лесами и звенели женскими голосами. И вдруг, как ножом в спину, кто-то сразу ударил его удивленным полузабытым голосом:
— Марко Проклятый!
В неистовом гневе задрожал Марко и резко обернулся. Напротив него, растопырив ноги, стоял невысокий мужик, в котором все было округлым: и глава, и щеки, и румянцы, и галифе, и живот.
— Я не знаю, кто из нас проклят, гражданин Черноволенко, — с ненавистью бросил ему между глаз.
Черноволенко увидел на груди Марка Золотую Звезду и от неожиданности оторопел, сорвал с переносицы очки, а потом смущенно и растерянно улыбнулся. Его приценивающиеся глаза, которые только что хотели что-то выковырять из мужчины, сделать его меньшим, сразу, как сеткой, огородили первое выражение и осели в глубину.
— Извините, извините, Марко, как ваше… отчество. Я неуместно вспомнил…
— Свои проступки перед людьми? — безжалостно секанул мужчина.
— Проступки? Что вы имеете в виду? — будто удивился Черноволенко, на его лице увеличились ржавые круги румянца. — Ну, с вами, значит, случилась когда-то неувязка. Но это только ошибка.
— Это вы самая страшная наша ошибка! Надеюсь, уже больше вам не придется допрашивать людей?
— Но почему? — удивился и обиделся Черноволенко.
— Хотя бы потому, что вы никогда не страдали с людьми — ни до войны, ни в войну. Перешли на другую работу?
— Я другой специальности не имею, — глупо вырвалось у Черноволенко.
— Вон как!.. Тогда езжайте ко мне в колхоз. Я, пока не поздно, научу вас ходить возле земли.
Черноволенко сначала негодующе загордился, а потом засмеялся:
— А вы до сих пор не растеряли крестьянский юмор. Ач, куда занесло вас! И это потому, что все ваши мысли крутятся лишь вокруг земли, а кому-то надо решать и другие проблемы. Вы прямо рассмешили меня: представляю картину — следователь работает у бывших подсудимых…
— Это не страшно, страшнее будет, если бывшие подсудимые начнут судить следователя за его… неувязки, — с отвращением отвернулся от Черноволенко и пошел к отелю.
Вечером позвонил Дончак.
— Какие еще, Марко, умные планы вынашиваешь в своей голове? — спросил с доброжелательной насмешкой. — Никаких? Диво дивное бывает на свете. И не готовишь налеты на другие учреждения?.. А твой прожект, хотя и очень, чтобы не сказать хуже, причудливый, таки выгорел. Начальство поддержало его, хотя и долго хохотало, когда я детально рассказал, что такое любовь в твоем понимании. И вышло по-твоему: любовь побеждает все!.. Ты слезу пускаешь? Настоящую или телефонную? Ну, будь здоров, причинный!
XXXVIII
Что-то альковное, любострастное есть в густосладком и властном благоухании жасмина. Буйно расцветший куст его, словно возлюбленная, заглядывает в окно молодого Киселя и встряхивает на подоконник ароматную росу.
Недалеко от куста в уютном уголке заворковали, разбрызгивая смех, молодые влюбленные, и Юрий Андронович, грустно покачав головой, приоткрывает окно. На мужчину из светлой темени белыми глазами смотрит куст жасмина, а на подоконные лежит опавшая роса и крошечки желтой пыльцы…
Еще так недавно и так давно и он возле этого куста говорил самые лучшие слова своей грустноглазой Марьяне, а она стыдливо прятала голову на его груди, ближе к сердцу. Это были счастливейшие минуты его жизни, когда казалось, что он все сможет сделать, когда мерещилось, что даже шелковистая, прозрачная темень ночи, и звездная пыль небесных путей, и лунное сияние, и сказочные силуэты древнего города совершались для них.
— Взгляни, Марьяна, какая волшебная ночь…
Но слово «ночь» всегда бросало девушку в трепетную дрожь.
— Чего ты боишься? — поднимал ее голову к небу, чтобы и она видела всю первозданную красоту ночи, чтобы и в ее глазах пересевалась звездная пыль.
Но девушка вяла от того, что радовало его, и снова прятала голову на его груди, ближе к сердцу. А как-то ночью Марьяна выпрямилась перед ним и встала в слезах, как куст жасмина в росе. Такой красивой и такой грустной он никогда не видел ее.
— Что с тобой, сердце? — прижал девушку и гневно взглянул кругом: не пряталась ли где-то поблизости кривда. Нет, кажется, нигде никого, только ветер отозвался за садом, только звезды встрепенулись, как цветы от ветра.
— Юрий, милый, забери меня, — застонал ее голос, и недевичья скорбь прорвалась из глаз.
— Куда тебя забрать?.. — растерялся, целуя ее. Привкус слезы и жасмина он тоже запомнил на всю жизнь. — Куда, любовь моя?
— Куда хочешь, на край света, лишь бы подальше от своего отца, от… Черноволенко, — снова волной у берега стонет девичий голос.
— Почему, Марьяна? — непонятно смотрит на нее и на небо, которое уже не может вместить всех растревоженных звезд и росой отряхивает их на остывшую землю. — Чего?
— И не спрашивай… Я не могу смотреть на него. Забери, если любишь… Потому что и от тебя уйду.
— Что ты говоришь? — обхватил ее обеими руками, будто девушка уже уходила от него.
Он и не догадывался, какая драма стояла между отцом и дочерью, но из книг хорошо знал, что противоречие между поколениями является определенной закономерностью, и сразу же невзлюбил Черноволенко.
Тесно обнявшись, они всю эту ночь пробродили и простояли, как лунатики, на берегу реки, на волнах которой дремали и крошились лунные лучи. А утром молодожены расписались в небольшом прибугском селе, где родилась Марьяна. В этом селе они сыграли скромную свадьбу, на которой оскорбленный следователь Черноволенко до сумерек сидел, как черная туча. А вечером неотложные дела оторвали его от свадьбы, и на ней сразу стало просторнее и веселее…
Из этого же села они оба пошли в партизанские леса, а вернулся из них только он. И вот уже возле куста жасмина другая пара восхищается счастьем, а кому-то от него остались только крохи воспоминаний.
Юрий Андронович снова приседал к столу, где лежит развернутая рукопись Григория Заднепровского. Здесь сердечно и почтительно вспоминается о партизанке Марьяне, хоть она была в другом отряде. Мужчину снова поражают и события партизанского жизни, и их описание.
Как в этой книге воедино соединились и драматизм, и величие человеческой души, и терпкий юмор, и золотая нить народного творчества. Разве не реквиемом звучат вот эти слова о Марьяне: «Мертвая трава скоро становится сеном, мертвый человек не скоро становится травой… В нашей памяти Марьяна осталась лебедкой, и в зеленых прибугских плавнях она нашла свою смерть, как раненная лебедка…»
«Щедрый, Григорий, ты человек», — призадумался Юрий Андронович над рукописью, припоминая, что партизаны Лебедем назвали самого Заднепровского. Возможно, что кто-то и пожалел бы отдать другому свое чудесное прозвище…
А в это время за тоненькой стенкой во второй, большей комнате, звенят рюмки и громче выплескиваются слова подвыпивших сватов. Безразлично, что уже темнеет, они именно сейчас начнут вспоминать свою тревожную молодость, брюзжать чуть ли не на все сегодняшнее и глухо негодовать, что они при своих заслугах и талантах остановились на промежуточных станциях. И хоть больно так думать о своей родне, но он понимает, что и его отец, и тесть — мелкие, омертвевшие светила, светила без жаркого огня в груди, без высоких порывов в голове. Очевидно, когда-то в них тоже было что-то свежее, талантливое, пока они, достигнув некоторого служебного уровня, не уцепились зубами и руками в кресла, пока не начали бояться, когда гремело, за свою шкуру, не отдернули свои плечи от ноши, которую поровну должны были нести наши люди, пока не заврались в чем-то, когда страшновато было говорить правду, и не стали понемногу жать не сеянное ими. А теперь с удивлением и негодованием замечают неуважение к себе и не понимают, почему становится неустойчивым грунт под их ногами. И напрасно надеются, что они еще свое возьмут. Нет, из холодной души не родится горячее дело.
— За твое здоровье, сват, за твою службу после эвакуации, — глухо, как осенний дождь, бубнит отец.
— Спасибо, Андрон. Уже, можно сказать, как-то и устроился, хотя и подбивали некоторые под меня клинья. Эх и трудную имею фортуну… Живу, как ночная птица.
— А у кого теперь легкая фортуна?
— Э, не скажи, не скажи. Ты все-таки разъезжаешь между хлебами, дышишь нектарами, любуешься, как пашется, сеется, растет, цветет и наливается. А я обязан из нутра вырывать другие наливы.
— Если надо, то надо.
— Об этом же и говорю. Я, если надо, и родного отца не пожалею, специальность у меня с гуманизмами не целуется. За твое здоровье. А знаешь, что обо мне в характеристике написано? — у Черноволенко прорвалось пьяное самодовольство.
«Значит, уже до чертиков допиваются», — поморщился Юрий Андронович. Он хочет сосредоточить внимание на рукописи, но самодовольство Черноволенко густо натекает и сюда.
— Там, дорогой сват, написано, что я мастер групповых обличений. О!.. Были когда-то у меня разные дела. И еще будут!
— Да неужели и теперь?.. — даже с боязнью переспрашивает отец.
— Конечно. Война много напутала, а разбираться во всем надо вот таким Черноволенко, как я. Вот недавно один мужчина принес мне разные материалы, которые не снились и тем писателям, что выдумывают всячину о шпионах. Понимаешь, не материалы, а золотой берег.
— Интересно. И кто же сидит на этом берегу?
— Никогда бы ты при своей рже-пшенице и разном хлебе не придумал! Вчерашний командир партизанского отряда! Наградами тебя ослепить может, а сам — замаскированный шпион.
— Да что ты, сват!?
— Еще в Турции его завербовали. Вот какие могут быть истории.
— А партизанил этот… у нас?
— В наших лесах. Твой Юрий должен знать его как облупленного.
— Кто же он?
— Григорий Заднепровский, — стишил голос Черноволенко.
— Заднепровский? И я его знаю! — пораженно вырвалось у Андрона Потаповича.
— Если знаешь, держи язык за зубами, пригодится… — и не досказал, потому что в комнату вошел бледный от волнения и гнева Юрий Андронович.
— О, зятек пришли! — с притворной радостью потянулся к нему с рюмкой Черноволенко. — Посиди, в конце концов, с нами, пусть наука немного подождет без твоего движения вперед.
— Какой негодяй подал вам материалы на Заднепровского? — дрожа, Юрий Андронович ест глазами Черноволенко.
— А ты подслушивал? — на миг растерялся тот.
— Слышал всю мерзопакость, которую в нашем доме выливали на хрустально чистого человека.
— Гляди, чтобы за этот хрусталь и сам не попал туда, где козам рога правят, — зашипел Черноволенко. — Ты, может, с ним и панибратство вел?
— За честь считал бы дружить с Заднепровским. Головой клянусь: Заднепровский чистый, как лебедь. А лебедей только преступники поедают. Вы копнитесь в душе того, кто писал донос.
— Не учи ученого! — свысока ответил Черноволенко. — Сами под чубом сало имеем. Тебе известно, что отряд Заднепровского был самочинным?
— И что из того?
— А ты знаешь, что такими отрядами, как правило, руководили иностранные разведки?
Страшное и дикое подозрение сразу черным пятном легло на сотни верных сынов Родины. Задыхаясь от злости, Юрий Андронович обрушился на Черноволенко:
— Откуда вам это знать, разве вы из своего укрытия видели, как боролся народ? Какая сволочь, какой кретин сотворил эту кривду?
Черноволенко вскочил со стула, будто его шилом укололи, и сжал кулаки. Лицо и пятна ржавых румянцев на нем перекосились от злости, и глаза, казалось, даже на очки налили злобы.
— Мальчишка! Ветреник! Недоумок! Дурында! Что ты смыслишь в жизни и ее перипетиях? Послонялся немного в лесах и уже собираешься кого-то учить, а на кого-то тень бросать. Губы раньше оботри! Это сказал не кто-нибудь, а та голова, которая не первый день по нашей линии руководит!
И после этих слов настороженная тишина залегла в комнате. Ее первым разорвал Юрий Андронович:
— Так сказала ваша высокая голова?
— Так сказала наша голова. Вот и начнем просевать вашего брата на сито, отделять чистых от нечистых.
— Тогда и она подлостью и гноем набита! — гневно отрезал Юрий Андронович. — Теперь и на меня напишете донос?
Мертвая тишина была ему ответом. Даже Черноволенко побледнел, и под круглыми очками у него округлились глаза… Зачем он только пришел в этот дом? И что теперь делать? Он взглядом ищет свой портфель и картуз, а страшные слова зятя холодными лапищами сжали ему сердце и мозг. К этим словам еще глупо цепляются и другие: «Лебедей только преступники поедают». Что наделал этот мальчишка? Молчать или не молчать? Скажи, то и тебя… А не скажи?.. «Лебедей только преступники поедают…» После этого и тебе могут открутить голову, как гусаку… Аж небо качнулось за окном. Давно не было такой ночки…
XXXIX
Наступала жатва.
Наступала пора горячего марева и горячей работы. Об этом на страницах поля свидетельствовал поседевший ржаной колос и хрупкий иззубренный ус ячменя, кованные золотые мешочки на пшенице и молодое пение перепелиных выводков, а более всего — страницы разных решений, распоряжений, циркуляров, отстуканных на папиросной бумаге, невменяемые телефонные звонки, накачка районных уполномоченных, наскоки заезжих и проезжих инспекторов и неусыпное радио. Оно без чувства юмора поучает и поучает, земледельцев: «Уборочная кампания, — как учит товарищ Сталин, — дело сезонное».
Вот уже прописными буквами на первой странице газеты набраны телеграммы специального корреспондента, что на юге началась косовица хлеба. И глаза хозяев поля поворачивались на юг, будто оттуда из-за хлебов вот-вот должен был выйти сам сказочный Урожай в соломенной шляпе, с пышными колосками вместо усов.
В разных учреждениях тоже начинается лихорадочная пора: не один руководящий товарищ и сяк и так размышляет, как бы приблизить юг к его местности, как бы впереди соседей выскочить в газету и сводку. Но соседи также не сегодня родились на свет божий, да и холмы у них выше. И уже утреннее радио до глубины души возмущает Киселя: вишь, какой лукавый Клименко! Еще позавчера говорил, что начнет косовицу лишь через неделю, а сегодня уже говорит о выборочной жатве на пожарищах и холмах. И Кисель сразу же с главным агрономом вылетает в южные районы, делает сокрушительный разнос всем, кто имеет «зеленые настроения», и, в конце концов, косовица начинается и в их области.
Эти дни Кисель тоже носился по районам не за страх, а за совесть, к полдню срывает голос — и уже не говорит, а хрипит или шипит. Одного он страшит судом, второму вправляет мозги, третьему намекает, что к скошенному сегодня можно прибавить завтрашнее, на четвертого стучит — «давай, давай, Пушкин за тебя работать не будет», на кого-то составляет акт, но никого не хвалит, потому что это размагничивает народ. После его наскоков уменьшается радости у людей, исчезает праздничное настроение у косарей и жнецов.
Наконец Кисель добирается до полей колхоза, в котором председательствует Марко Бессмертный. И уже это вызывает недовольство и в душе, и на лице, и даже в животе начинает так урчать, будто туда вбросили старого рябка. Давние слова Марка еще до сих пор пекут и передергивают его. Жди, голубчик, и я тебя припеку. Еще не родился тот председатель колхоза, которого на чем-то нельзя было бы схватить за жабры.
— Может, заедем к Бессмертному на бесплатный борщ, — оборачивает к Киселю запылившееся лицо кудрявый, как барашек, шофер с по-девичьи хорошим рисунком рта и подвижными запятыми возле него.
Киселя сразу настораживают и речь, и запятые шофера — и зачем они сдались ему?
— Ты что мелешь? На который это такой бесплатный борщ?
— А вы разве не слышали? — удивляются девичьи, с яркой влажностью уста шофера. И он уже с уважением прибавляет: — Марко Трофимович организовал такую столовую, что дай бог каждому. Всем, кто работает в поле, бесплатно отпускается борщ, правда, пока что без хлеба. Другой председатель не догадается подвезти в поле воды, а этот…
— Говорила-балакала, и все черте-что, — отрезал Кисель. — Ну-ка, поворачивай — вези на дармовщину к тому котлу.
Машина еще проехала километра с два и с проселка выскочила на полевую, в голубом цветении Петрова батога дорогу, которая сразу же закурилась, будто кто поджег ее. Вдоль нее в золотых полумисках подсолнечников пировали пчелы, на синеватых стеблях сизели колокольчики овса, увядали сердчишки листьев густого стручковатого гороха. Его кудри чем-то напоминали роскошные волосы на голове шофера.
— Ого, какой здесь горох уродил! — вырвалось у внешне флегматичного главного агронома. — Прямо — царь-горох!
— Президент-горох, — пренебрежительно бросил Кисель.
Но главный агроном пропустил его слова мимо уха и восхищался дальше:
— Такой горох, смотри, центнеров по тридцать пять выдаст.
— По пятьдесят! — у Киселя между двумя «п» брызнуло полное пренебрежение.
На этих полях даже самый большой урожай не порадовал бы его, потому что здесь вел хозяйство неучтивый и придирчивый Марко Бессмертный.
— По пятьдесят не выйдет, а на сорок, может, и потянет, — в увлечении мужчина не уловил желчи в голосе Киселя. — Повезло Марку.
— И это, Иван Игнатович, наверное, потому, что у хозяина поля тоже есть что-то от гороха: что ни говори, что ни делай, как ни долби ему, — отскакивает от него, как горох от стенки. Хохлацкий норов.
— Хм, — скосил глаза Иван Игнатович. В душе он не согласился с Киселем, но возражать ему не стал: не поможет это, да и лень было в такую жару разговаривать. Скоро он снова обрадовался. — Смотрите, Бессмертный и на парах посеял горох. Не молодец?
— Смотря с какой стороны. Не пахнет ли это комбинаторством? — буркнул Кисель.
— Если бы все так комбинировали.
— Хвалите, хвалите его, да озирайтесь на все стороны, — Кисель неодобрительно посмотрел на пары и призадумался над своим.
На полевом стане возле подсолнечного общества они застали саму кухарку, разогретую солнцем, огнем и луком. Пыльца подсолнухов лежала на ее белой косынке и обветренном лице. Молодица сразу узнала Киселя, вытерла фартуком лоб и дружески улыбнулась веселой зеленоватостью глаз, на которых рассыпалось несколько темных пятнышек — в одном больше, чем во втором. Эта непропорциональность удивила Киселя — и здесь у Бессмертного не так, как у людей. Но женщина славная — от нее и постный борщ будешь охотно потреблять. Не жена ли это Заднепровского? Кажется, она. А знает ли Заднепровский, какие тучи нависли над ним?
— Варите? Добрый день вам, — ласковее обычного пробормотал к молодице.
— Конечно, варю, потому что такое мое дело, — весело ответила Екатерина Павловна.
— Вот хорошо, что попали на борщ. Как раз настаивается.
— Настаивается? — для чего-то переспросил Кисель, с опаской заглядывая в черный котел, будто там по крайней мере варились взрывчатые вещества. — И вы его совсем бесплатно даете-разливаете?
— Конечно, — с гордостью сказала женщина. — Сегодня и первые малосольные огурчики будем давать. Уродило их столько, что девушки не успевают выносить.
— Куда выносить? — снова насторожился Кисель.
— И на заготовку, и на продажу.
— Значит, бесплатно? — что-то раздумывая, сказал сам себе Кисель. — Иван Игнатович, об этом надо написать. Вынимайте свое причиндалы.
— Ну да, таки не помешает написать, — доверчиво посмотрела на Киселя Екатерина Павловна и скрестила руки на груди. — А знаете, почем у нас огурцы и помидоры будут отпускаться своим людям?
— Не знаю.
— Такой дешевой цены еще не слышали в области — по себестоимости, значит. Напишите и об этом. Пусть в других селах тоже так делают.
— Так не будут делать! — вскрикнул Кисель, украдкой пасясь глазами на полной груди молодицы. — Разбазариваете колхозное добро еще и радуетесь?
— Мы разбазариваем? — ужаснулась Екатерина Павловна, и в ее глазах расширилась весенняя зеленоватость. — Чем? Вот этим борщом?
— И борщом, и такими глупыми ценами. Мы еще прищучим за них вашего Бессмертного. Он вместо рубля копейку кладет в колхозную кассу. Думать надо над этим!
— А над тем, как людям жить, думать не надо? — вспыхнула Екатерина Павловна. — Или вам нашей свеклы и капусты жалко? Не добрый вы, не душевный, хотя и чиновный человек. — Молодица обижено отошла от машины и встала под защиту золотистых подсолнечников. Гнев и невидимые слезы пощипывали ее веки.
— Составляйте акт! — приказал Кисель главному агроному.
— Да зачем нам бумагу переводить, хотя она все стерпит? — флегматично спросил Иван Игнатович. — Неужели вам жалко для людей их же борща?
— И вы заодно с расхитителями колхозной собственности? — возмутился Кисель.
— С такими расхитителями и я заодно, — так же флегматично ответил Иван Игнатович, бросил бровями на кухарку, но в последний момент передумал просить у нее борща.
У Киселя стальными замочками замкнулись глаза, дернулись губы.
— Хорошего имею у себя помощника под боком.
— И я не обижаюсь на себя.
— От сегодня начнете обижаться. Хватит в демократию играть…
— У вас увидишь эту демократию, — надулся Иван Игнатович.
Как раз на этот спор и случился Марко Бессмертный.
— Вот он, деятель. Впереди батьки в коммунизм скачешь? — сразу же уел его Кисель.
— Бесплатным борщецом авторитет раздуваешь? Лопнет этот пузырь!
— Вы будто что-то сказали? — Марко демонстративно взглянул на солнце, снял перед ним картуз. Это у него вышло так естественно и смешно, что Екатерина Павловна прыснула со смеху, засмеялся шофер, повеселел Иван Игнатович, а Кисель покраснел, и вся его фигура стала угрожающе-напыщенной.
— Не слышал, о чем спрашиваю?
— Таки не слышал, — невинно ответил Марко, потому что и поля, и работа, и погода радовали его. А что ему, в конце концов, сделает Кисель? Покричит, попугает, ну, сварганит акт и повеется дальше, потому что даже вникнуть в ошибки у него не найдется времени: недаром же люди так прозвали его: приехал-уехал.
Кисель ткнул пальцем на котлы:
— Чтобы сегодня, сейчас же закрыл эту самодеятельную комедию с борщом.
— Нам не грустно от нее, хоть она и самодеятельная, — нисколько не рассердился Марко.
— Ой гляди, как загрустишь, когда сюда заглянет следователь, — уничтожил взглядом Бессмертного.
— Пусть заглядывает, — и дальше улыбается Марко. — Может, он имеет более веселый нрав?
— Нрав следователей известный! Это же додуматься: долги на шее, а он добро с дымом пускает.
— И долгов уже нет на шее, — поправил Марко.
— Как нет? — настороженно, с недоверием спросил Кисель. — Куда же ты их успел девать? В воду бросил?
— Ну да, в быструю воду, чтобы не возвращались.
— А чем ты их ликвидировал? — подозрительно ощупывает взглядом Марка, нет ли здесь какого подвоха. — Чем?
— Луком, редиской и ранними огурцами. Может, поедем в село — посмотрите на квитанции? — почтительно сказал Марко, еще не зная, что ему дальше делать: рассердиться или расхохотаться.
— Вон как! — уже спокойнее говорит Кисель. — На луковом хвосте далеко не уедешь.
— Тоже так маракуем. Я рад, что мы думаем в разных местах, но сходимся на одном, — еще больше подчеркнул свой почет к Киселю.
— И на чем собираетесь выезжать?
— На коровьем хвосте. Но сперва надо чем-то ухватиться за него.
— Зубами, — буркнул Кисель.
Но Марко до конца решил не сцепляться с ним и коротко ответил:
— Попробуем.
— Что попробуем?
— Выполнить ваш совет.
— Какой ты сегодня добрый, хоть к ране прикладывай. С чего бы это оно?.. — вслух прикидывает Кисель, не глядя на Марка. — Ну, веди — показывай свое царство-государство. Что-то очень некоторые расхваливают его.
— Что же вам показывать? То, что сейчас под косу должно лечь?
— Как ты угадал?
— Характер ваш знаю.
— Слишком много знаешь ты. Жать, конечно, и не думал? — ел слова, и во взгляд Кисель поместил весь яд, какой имел.
— Думать — думал, но не начинал.
— А Иванишин уже косит, аж гай шумит, потому что он не так мудрствует, как некоторые умники.
— Ему легче, вот и косит, — помрачнели лицо и голос Марка.
— Чего же ему легче?
— Потому что он для сводок переводит зеленую озимь, а мы в сводки не спешим.
— Знаем эти «зеленые настроения», — поморщился Кисель, — а потом зерно начинает осыпаться на пне.
В долине рожь в самом деле была зеленой, и Кисель, насквозь прощупывая ее подозрительным взглядом, ничего не сказал. Но на холме он оживился. Хлебами продвинулся на вершину бугорка, вырвал колосок, двумя пальцами вылущил из него зерно и, не пробуя его, сказал:
— Вот здесь сейчас же мне, человече, и начинай выборочную косовицу.
Марко упрямо покачал головой:
— И не подумаю.
— Потому что не будет чем — голову за это сорвем! — Кисель обеими руками показал, как кто-то будет срывать голову Бессмертному.
— Тогда много останется безголовых, — уже злые искры затрепетали в глазах Марка, но Кисель не заметил их.
— Ты что, с государством шутишь? Сейчас же начинай косовицу. В зеленой голове всегда зеленые мозги, и они быстро могут пожелтеть.
И Марко не выдержал. Он пригнулся, словно перед прыжком, и, откусывая каждое слово, слепым гневом посмотрел на нехорошее, напыщенное лицо Киселя:
— Убирайся сейчас же с поля! Чего пришел сюда топтать хлеб и людей? Еще не натоптался? — он рукой полез в карман, и Кисель с ужасом вспомнил, как Бессмертный пистолетом учил Безбородько. Рой мыслей ворвался в его мозги и жалил их по всей площади. Ведь что стоит этому анархисту и теперь поднять оружие? Спесь сразу же слетела с его лица. Кисель, несмотря на свою тучность, выскочил из хлебов, крутнулся на дороге и здесь ощутил себя безопаснее.
— Ты с ума сошел? Ты знаешь, чем это пахнет? — заговорил почти шепотом, прислушиваясь к гудению в голове. — Ты знаешь, кого выгоняешь с поля?
Но Марко уже закусил удила.
— Знаю! Не работника, а перекати-поле, погонщика. Пахота наступает — погоняешь на пахоту, сев придет — погоняешь сеять, жатва наступала — погоняешь жать, потому что это надо для бумажки. Ей, бумажке, а не людям служишь. Вон с нашего поля!
Кисель оглянулся. К нему подъезжала машина, и на ней ничуть не печалился ни шофер, ни Иван Игнатович — наверное, и не увидели его поражения. Он впопыхах влез на сидение и уже оттуда кулаком погрозил Бессмертному.
— Анархист! Сегодня же сядешь в тюрьму. Пусть там тебя кормят бесплатным борщом.
— Троцкист! — бросил ему вдогонку Марко, еще и свистнул с доброго дива.
Кисель запыхался от гнева, даже темные дужки синяков под глазами изнутри затряслись злостью.
— Вы слышали? Он троцкистом меня обозвал! Дадите свои свидетельства! Он ответит…
— Неужели троцкистом? — флегматичное удивление прошло по округлому лицу Ивана Игнатовича. — Неужели он такое выпалил?
— Разве вы не слышали?
— Нет, такого не слышал.
— А ты, Владимир?
— Что-то он крикнул, а что — не разобрал. Кажется, на конце было «ист», а что впереди — не раскумекал, — невинными глазами взглянул шофер, а на его девичьих губах показалась скрытая лукавая усмешка.
— Или вы оглохли вместе?! — аж скрипнул зубами Кисель. — Да Марко такой искренний дурак, что и сам подтвердит своего троцкиста. Гони к следователю.
Вилис вылетел на дорогу, перекатился через мостик, и недалеко от трех прудов Кисель впереди себя увидел машину секретаря обкома, шедшую навстречу.
— Остановись! — бросил шоферу, пригибаясь, выскочил на обочину и поднял вверх обе руки.
Черный лоснящийся ЗИС, темно перегоняя на себе куски неба и ослепительного солнца, с шипением остановился возле голубых гнезд чабреца. И не успел из машины выйти первый секретарь обкома, как Кисель, волнуясь и не спуская с него глаз, заговорил, замахал руками:
— Я больше не могу работать! Я, Михаил Васильевич… всему есть предел…
— Почему вы больше не можете работать? — неожиданно спросил кто-то со стороны.
Кисель оглянулся, обалдел и от неожиданности подался назад. Опамятовавшись, он увидел перед собой секретаря ЦК. Тот был в сером костюме, в обычной легонькой соломенной шляпе, открытые веселые глаза его одновременно содержали в себе ум, и смех, и насмешку.
— Я… — окончательно растерялся Кисель, изображая угодливую улыбку, но она сразу не могла смести все предыдущие выражения гнева и негодования и потому вышла жалким уродцем.
— Говорите, не стыдитесь, товарищ…
— Кисель, начальник областного управления сельского хозяйства, — подсказал Михаил Васильевич.
— Я, видите, ничего не могу сделать с одним очень норовистым председателем колхоза, — немея до самых ног неуверенно заговорил Кисель. — Он никого не слушается…
— Чем провинился этот председатель? — взгляд у секретаря ЦК становится строже.
— Анархист во всем: и в планировании, и в работе, и в быту, — немного начал отходить Кисель. — Вот он только что отказался жать, обругал меня троцкистом и прогнал со своего поля, потому что нет на него управы.
— Прогнал? С поля? Ничегонький нрав имеет. Это, Михаил Васильевич, уже непорядочки.
— У него везде такое, — оживился Кисель. — Колхозное добро разбазаривает, открыл на поле богадельню — выдает бесплатно борщ.
— Бесплатно? — удивился секретарь ЦК. — И вкусный или плохой?
— Я не пробовал.
— Напрасно, а я на дармовщину не постеснялся бы, — засмеялся секретарь ЦК, и в насильно-подобострастной улыбке искривился Кисель. — Поедем взглянем на этого анархиста…
Бессмертный услышал урчание машин, когда свернул с озими соседнего колхоза, но даже не оглянулся, потому что злился и с болью посматривал на зеленый пучок скошенной ржи: до каких пор будут так калечить хлеборобскую работу? И до каких пор перед киселями будут гнуться даже умные, но боязливые или слишком осторожные председатели? Но вот машины повернули прямо к нему, остановились, и Марко первым увидел секретаря ЦК. Радость, удивление и опаска шевельнулись в душе мужчины.
— Так это вы Марко Бессмертный? — пристально всматриваясь, здоровается с ним секретарь ЦК. На миг на его челе выгибаются складки, а взгляд летит куда-то вдаль. — Кажется, будто я встречался с вами?
— Встречались, — оживляется лицо Марка, а на вид Киселя падает тень.
— А где мы встречались?
— На фронте. Вы вручали мне орден Ленина.
— Приятно снова увидеться, — сердечно улыбнулся секретарь ЦК, но сразу и нахмурился. — Что вы держите в руке?
— Пропащий хлеб.
— Пропащий?
— Да. Это хлеб для… сводки. Из него еще дух молочка не выветрился.
— А какое горе заставило жать хлеб… для сводки? — Марко замялся, а Кисель побледнел.
— Говорите, говорите, не скрытничайте.
— Это я сказал жать, — насилу выговорил Кисель — ему перехватило дыхание и язык.
— Зачем? — обернулся к нему секретарь ЦК, и глаза его потемнели.
Кисель сник:
— Оно, я думаю, должно дойти в покосах.
— Если не дошло в голове, то где уж ему дойти в покосах?! — гнев сверкнул во взгляде секретаря ЦК. — Вы что-то понимаете в аграрном деле?
— Я сельскохозяйственный институт окончил.
— Даже? — удивился секретарь ЦК. Он взял у Марка пучок колосьев, протянул Киселю. — И у вас не болела совесть, когда бросали под косу хлеборобскую надежду?
— Извините… не досмотрел… потерял ее…
Секретарь ЦК мрачно, с глубоким укором взглянул на Киселя:
— Не только эту рожь — святость к работе, к человеку потеряли вы. Порожняком едете в социализм! — и обернулся к секретарю обкома: — Я думаю, товарищ Кисель правильно сказал, что он больше не может работать на своем посту… Садитесь, товарищ Бессмертный, показывайте хозяйство.
Все это, словно удар грома, ошеломило Киселя. Он хотел что-то сказать, но удержался, уперся спиной в вилис и тоскливо смотрел, как закрылась дверца ЗИСа. К нему, будто сквозь кипяток, донесся смех из машины — неужели у кого-то теперь и радость могла быть? Кисель дрожащей рукой вынул из кармана платок и начал отирать пот, который выжимался не солнцем, а мучительной грустью. Когда ЗИС тронул с места, он потянулся к нему туловищем и обеими руками, но сразу же и опустил их, потому что разве мольбами можно вернуть утраченное? Для этого, очевидно, надо что-то другое. И от этой мысли тоскливо зашевелились другие, вползая в его края жизненных дорог. Но сразу же прогнал их, потому что разве же он для себя старался, разве ему лично нужна эта рожь, пусть бы на пне закоченела она! И снова к краешкам его дорог поползли сомнения, и он молча выкорчевывал из себя поединок мыслей, признавал — и признать не хотел свою вину, потому что не сам он так старается… то есть старался на руководящей работе… Где там было думать о святости к работе, когда больше думалось о том, как бы не схватить «строгача» за эту же недосеянную или несобранную рожь.
Теперь он впервые за долгие годы посмотрел на поле не как тот руководящий работник, которому надо кого-то разносить за пахоту, сев или хлебозаготовки, а как обычный смертный… И из этого ничего не вышло… Почему-то нивы показались ему пожелтелой сценой в театре, где внезапно оборвалась часть его биографии, и колосья — не пели, не сочувствовали ему, а шипели на него…
— Так к следователю ехать или домой и к дому? — спросил из кабины шофер.
В руке его одиноко зеленел напрасно погубленный колосок ржи, и Кисель почему-то вздрогнул и безнадежно махнул рукой.
— Езжай, куда хочешь, теперь все равно…
— Может, к кухарке с весенними глазами? — оживился Иван Игнатович, которому снова захотелось увидеть ту женщину, от взгляда которой хотелось стать моложе и лучше.
Кисель встрепенулся, будто его ужалил шершень… И что было бы послушаться кухарку — отведать ее борща? А в это время машина с секретарем ЦК поехала бы кто знает куда и не зацепилась бы за его судьбу. Так разве угадает человек, на чем он должен споткнуться?
Кисель поднимает завядшую голову. На дороге уже оседает пыль, а за ней прозрачными прожилками расщепляется прогретый стеклянный воздух, и марево дрожит за рожью, на которую он некоторое время не приедет начальником. Ну, а потом как-то перемелется. Кисель начал забегать мыслями наперед, но одна со стороны ужалила его. «Приехал-уехал», — с невыразимой горечью вспомнил свое прозвище и чуть ли не застонал. Вот и все, что осталось от его деятельности…
Возле каждого поля, возле каждого клина останавливался ЗИС, и секретарь ЦК обеими руками то ласкает, то разворачивает, то прижимает хлеборобский труд. Он тешит и радует его сердце, а вот на клине присохшей гречки загрустило он.
Растерянность уже отошла от Марка, он внешне становится спокойным, хотя в голове сейчас бурлит коловорот мыслей.
— Для первого года хозяйствования совсем неплохо, даже хорошо, а с овощами — прямо-таки чудесно! И молодцы, что не обдираете покупателя. Марию Трымайводу и ее бригаду непременно надо отметить! — секретарь ЦК одновременно говорит и Михаилу Васильевичу, и Марку.
— Не забудем, — что-то записал в блокнот Михаил Васильевич. — А что с председателем делать?
— С этим анархистом? — засмеялся секретарь ЦК. — Посмотрите осенью, когда урожай будет в амбаре. А чего же вы, Марко Трофимович, обозвали Киселя троцкистом? Он в оппозиции был?
— Нет, не был, — замялся Марко.
— Досказывайте, досказывайте.
— Мы его так прозвали за то, что не понимает или не любит он земледельца, все ждет от него политических ошибок, выискивает у него другую душу и аж трясется, чтобы тот, случайно, не имел лишнего куска хлеба или яблока для ребенка. Для него крестьянин — это только выполнение норм по хлебозаготовке, займам, молоку, мясу, шерсти, яиц и слушатель его выступлений. На всем, без потребности, экономит Кисель: и на детском румянце, и на женской красоте, и на хлеборобской силе.
— Еще не перевелись такие знатоки села, — задумчиво сказал секретарь ЦК, взгляд его омрачился и полетел куда-то далеко.
Молча проехали некоторое время, присматриваясь к полям и мареву над ними.
— Борщом своим, председатель, угостите? — неожиданно услышал Марко.
— Борщом?.. С охотой, только, извините, без мяса, постный он.
— Нам уже даже полезнее потреблять постный, — с какой-то насмешкой взглянул на себя и упитанного секретаря обкома.
К полевому стану они подъехали как раз в обеденную пору, когда уставшие люди садились на землю, а удивленные подсолнечники присматривались к ним и к мискам с нарисованными подсолнечниками.
— Здесь бесплатный борщ выдается? — подошел секретарь ЦК к Екатерине Павловне.
— Ой… боженько мой… — клекотом вырвалось у той, и она, округляя глаза, для чего-то тихо спросила: — Это вы?..
— Кажется, я. Угостите своим борщом?
— Да я сейчас…
Екатерина Павловна побежала по миску, ругая себя в мыслях, что даже хлеба нет угостить гостя. Она идет, раза два оглянулась, нет ли здесь какого-то обмана, но обмана не было.
Возле подсолнечников, рядом со всеми земледельцами, сел секретарь ЦК, к нему потянулось несколько рук с сухим черным хлебом. Он взял кусок хлеба у деда Евмена, переделил его и, возвращая половину, поблагодарил старика.
— Извините, что такой темный, с примесями, как наша судьба, потому что трудности… — конечно, с перцем сказал дед Евмен.
Секретарь ЦК пристально взглянул на старика.
— Это верно, что судьба наша еще с разными примесями: было кому натрясать их. Но теперь мы и за эти примеси возьмемся, — сказал убежденно. — Примеси должны исчезнуть, а судьба расти!
XL
Пять дней и пять ночей гудели в полях молотилки. Над ними, как бесконечные жертвы, взлетали золотогривые снопы; сапожные ножи барабанщиков били им под самое сердце, и обессиленные колосья торчмя головой летели в клыкастые пасти, в ненасытное гудение и в бешеную круговерть, где стонало, звенело, плакало и сладко падало на землю натруженное зерно. Шершавые, со степной пылью женские руки колдовали над ним, будто передавали ему плодородие, весовщики не успевали взвешивать, а водители и ездовые вывозить его, и в степи из ржи, пшеницы и ячменя вырастали золотые вулканы.
На старых дорогах и новых путях увеличилось птиц. А большой хлеб ехал и ехал и на элеваторы, и в землянки, и в свежее жилье. В селе запахло ржаным духом, и потому обнадеженные земледельцы не отходили ни днем ни ночью от молотилок.
А когда не хватало снопов и когда обижено начали стихать машины, люди сами снопами падали возле них, падали на золотые вулканы зерна, на подсиненные луной стерни и сразу же с улыбкой или вздохом уходили в сон. И там над ними снова взлетали гривастые снопы, бесновались молотилки, а около них детской речью шуршало зерно.
Идет Марко степью, как завороженным царством, и засыпает на ходу, потом встрепенется, изумленно посмотрит, как вокруг шевелится серебристо-синее лунное сияние, как под ним роскошно, — головы в зерно, а ноги на дорожку — счастливо спят чубатые парни, прислушается к росяному шепоту и сам произнесет себе:
— Я люблю вас.
В ярине отозвалась перепелка, и мужчина спросонок говорит к ней:
— Я люблю тебя, пичужка, люблю твое пение.
Перед ним в кружении проходит звездная карта неба, и он тоже говорит, что любит небо, и чувствует, что вся любовь не вмещается в его теле.
В долине над ставком зафыркали кони. Марко остановился, совсем проснулся и, удивляясь, засмеялся и к лошадям, с темных грив которых осыпались лунные лучи, и к ставку с затонувшим в нем небом, и к клочьям тумана, что на цыпочках скрадывались над камышами.
Давно не было так отрадно на душе у мужчины, потому что там хорошо вместились и люди, и земля, и ночь, и эти кони с темно-серебряными гривами, и зерно, и надежные расчеты, которые держал в голове. Если все будет хорошо, люди будут иметь и хлеб и к хлебу. Это уже видно по озими и ячменю. А лен и конопля, ей-ей, должны вывести его в какие-то миллионеры. Правда, об этом в этом году больше, чем он, заботилась, спасибо ей, сама природа: прямо все свои щедроты принесла и на поля, и на луки, и на овощи, и на сад. Повезло ему, и только. Ну, а теперь, человече, не разевай рта, думая о завтрашнем дне…
Вот и идет полями новый миллионер в порыжевших кирзовых сапогах, в отбеленной солдатской рубахе, похудевший и голодный, и улыбается ко всему широкому миру, и к людям, что спят на земле. И славно ему с ними, как зерну в одном колоске, что вместе встречает и грозы, и солнце.
Из одного кармана Марко вынимает засеянный цифрами блокнот, а из другого — томик поэзий Шевченко. И ни цифр, ни стихов при мерцающем лунном сиянии он не может читать и вполголоса обращается к темным с лунными гнездами вербам:
Один у другого питаєм: Нащо нас мати привела? Чи для добра? Чи то для зла? Нащо живем? Чого бажаєм? І, не дізнавшись, умираем, А залишаємо діла.Деревья изумленно слушают мужчину, кивают ему своими венками и осыпают на воду синюю росу. Около самого берега скинулась рыба, снова заржали кони, и далеко за одиноким ветряком отозвалась девичья песня. По ком она сокрушается, кого ищет в этом очарованном мире?
Когда-то ночами его в поле так же с песней искала Елена. И он шел на ее голос, а потом на какой-то тропинке видел тонкую фигуру с белым узелком в руке. Увидев мужа, Елена обрывала пение и начинала укорять, что он, Марко, и не обедал, и не ужинал, и забыл про жену, и сам извелся и похудел. А он посматривал на милое, с оскорбленным узелком губ лицо, улыбался, разворачивал белый платок и до тех пор нахваливал все, что находил в нем, пока у жены не расправлялись губы. Тогда она обзывала мужа прехитрой лисой, прислонялась головой к его плечу, сокрушалась, что он так однажды свалится с ног, и снова потихоньку начинала что-то петь. А он под ее пение, бывало, и засыпал. Неужели это было?
Удивляется он, и удивляются вербы. За ними вздрогнуло небо и будто осело за венца земли… А то он снова засыпает… Как сладко, ручейками, затекает сон в его тело и так прикрывает веки, что уже нет силы их раскрыть. Вот здесь, может, и лечь возле вербы с выбитой сердцевиной и узловатыми корнями? Марко, пошатываясь, хочет опуститься на землю. Но что это?.. Песня возвращается к нему, приближается, и он ясно слышит, что это песня Елены, это ее голос! Ее!.. Что же это делается с ним?
Широко в удивлении раскрыв глаза, веря и не веря, он прислушается к голосу, который наплывает на него, топит его в воспоминаниях и бьет под сердце, как нож снопы. Нет, не может такого быть. Это грезится ему… Он поднимается на подсиненный холм, где сквозь сон вздыхает кудрявый овес, и застывает на месте: от ветряной мельницы к нему, напевая, идет его Елена, а в ее руке белеет узелок. Ужас охватывает Марка. Небо и земля покачнулись в его глазах и стали меньшими. Он подается назад, растерянно оглядывается по сторонам и в это время слышит надрывный вскрик:
— Отец!
На тропинку падает белый узелок, а по тропинке, надламываясь, расплываясь, бежит, летит тонкая фигура и, смеясь и плача, падает отцу на грудь.
— Татьянка, это ты? — еще не веря себе, пораженно и тихо спрашивает Марко, как спрашивали тысячи родителей в этом году. Он охватывает дочь обеими руками и возле своего сердца слышит стук ее сердца. — Татьянка, это ты? — больше никакие слова не приходят к нему.
— Я, отец, я, — целуя его и плача, тоже больше ничего не может сказать дочь. Она, как перепелка, вздрагивает в его объятиях, и вздрагивает ее золотая коса, такая же, как была у Елены.
Марко поднимает к луне голову дочери, всматривается в ее лицо, пальцами вытирает ее слезы и не радостно, а жалостно улыбается ей.
— Какая же ты хорошая, дочка, кровинка моя. — И на его глазах Татьянка впервые видит слезы, и она тоже вытирает их пальцами.
Так и стоят они некоторое время, как вырезанные из камня самой истории.
— Как ты на маму похожа, пичужка моя!.. И косы такие же.
— Не такие, отец, — с печалью посмотрела на него, и в ее глазах и слезинках сразу прошли все прошедшие страдания. Она опустила на плечи платок, и отец в золотых косах увидел седую прядь.
— Кто же тебя так обидел, дитя мое? — аж застонал, прислоняя к себе худенькие плечики.
— Изверги, отец… в концлагере… Они так били меня, что глазами не слезы, а кровь шла… Они смогли выбить кровь из глаз, но не смогли вырвать признание из души, — ясно, сквозь горе и печаль взглянула на отца, а в уголках ее губ шевельнулась упрямая и гордая улыбка. И он впервые узнает свою силу и свою непоколебимость в этом колоске.
Словно защищая дочь от теней прошлого, отец прижал к себе свое счастье, а сам посмотрел в самый край ночи, где еще таились изверги, где еще на золоте и железе горбилась недобитая кривда… Будьте вы прокляты!..
— А как вы, отец? — уже совсем улыбается Татьянка к нему.
— Ничего, дочка, ничего… Как хорошо, что ты вернулась… Пошли же, маленькая, к бабушке.
Они поворачиваются и, прислоняясь плечом к плечу, узкой тропинкой идут в село. Вот Татьянка поднимал белый узелок с земли, что-то вспоминает, разворачивает и подает его так же, как раньше это делала Елена.
— Ешьте, отец, вы же и не обедали, и не ужинали, — и в ее голосе слышится давний укор матери, и даже губы на миг собираются знакомым узелком.
— Неужели это ты? — уже радостно переспрашивает Марко и, пригнувшись, поднимает на руки свое дитя, и смеется, и роняет слезы над ним.
XLI
Утро веселыми руками лучей выкатывает из-под земли пшеничный колобок солнца и ставит его на зеленую, с туманцем, скатерть озими.
Улицей к новой школе топает стайка малышей. Кто-то из них в счастливом увлечении познания не говорит, а поет сказку о колобке: «Я от бабы убежал, я от деда убежал, я от волка убежал и от тебя убегу». И под этот немудрый рассказ пшеничный колобок солнца отрывается от влажной скатерти озими и поднимается вверх, то лукаво, то радостно подмигивая добрым людям. А они уже, как дятлы, повылазили на свежие срубы и тук-тук топорами, тук-тук! Топоры разбудили эхо, и оно забегает то в одно, то в другое недостроенное жилье и ахает от радости.
По улицам заскрипели телеги, и первые следы колес влажно протянулись по прибитой росой земле. Это ездовые развозят людям второй урожай гороха, и Марко вот уже несколько дней имеет на душе праздник. Прямо-таки везло ему в этом году. Люди сначала и не поверили, что будут иметь не килограммы, а мешки гороха. Первый бой с нуждами будто выигран, а теперь по-настоящему надо готовиться ко второму и к разным капризам природы. И люди это понимают: и делают на совесть, и подсказывают, как лучше всего колдовать возле будущего урожая.
— Добрый день, Марко, — отозвалась со двора Мотря Дыбенко. — На председательство идешь?
— На председательство, — шутливо загордился мужчина.
— А где же ты моего деда подевал?
— До сих пор его нет? — удивляется Марко.
— Нет, не приехал. Может, заблудился в той столице и невесть-куда заехал?
— Чтобы дед Евмен где-то заблудился!? Да дайте ему добрых коней, он во все столицы найдет дорогу, а мимоходом еще и на небе у святых побывает.
— А наверное, и распутал бы он все дороги: раз проедет — и все помнил, — не без гордости говорит жена и погружается в свои раздумья: — Неужели, Марко, аж столичным людям могли понравиться дедовы коньки?.. Так живет, живет человек и не знает, что он талант. Гляди, еще возгордится и пьянствовать начнет. Если имеешь время, прочитай, как его в газете описывают.
Марко, пряча в усах улыбку, степенно заходит в новую хату, где уже разместились крупно боги, вожди и полководцы, а мелко — вся родня. Баба Мотря из сундука достает газету, в которой впервые, но так хорошо и много написано о ее старике. Она, стесняясь, протягивает газету Марку:
— Прочитай мне еще раз то же самое.
И он начинает читать, что дедовы коньки уже перепрыгнули Дунай и Ла-Манш и из Франции оказались на выставке аж в Англии.
— Вот пишут душевно, прямо, как в евангелии. И кто бы мог подумать? — удивляется Евмениха. — После такого моему деду уже во веки веков не захочется умирать. Теперь ему глину придется телегами возить. И кто это, Марко, печатает о деде?
— Ученый!
— Да неученый так не напишет, — соглашается баба Мотря. — Уж теперь никто моего старика не будет называть элементом. Ну, а на тебя кое-кто начинает сетовать.
Марко настораживается:
— Не угодил кому-то или ошибся в чем?
— Нет, обижаются, что ты все строишь и строишь, а о себе совсем забыл. Люди говорят: выбирали тебя председателем, а не приемышем. Они тебе за неделю, как куколку, с дорогой душой смастерили бы новое жилье.
— Я ж говорил, что начну строиться последним. Заложим, тетка Мотря, срубы всем вдовам, всем сиротам, а тогда и о себе начнем думать.
— А я думаю: негоже так делать, как Безбородько и его кодло, но не надо и к себе врагом быть. Может, и вечером заглянешь ко мне?
— Чего?
Старая смущается:
— Если не наскучило, то еще почитаешь о старике. Как-то очень хорошо у тебя выходит оно, — доверчиво взглянула на Марка. — Читал же мне эту газету и Лихойваненко, но у него и дед, и коньки его становятся хуже.
Марко засмеялся, махнул рукой и вышел из хаты. С порога он услышал крик на соседнем углу. Не до потасовки ли там дошло? Мужчина чем скорее огородами пошел во двор Самойленко. Тут уже возле хорошо выплетенного плетня и ворот собрался целый уголок, весело прислушиваясь, как завзятая и до сих пор огненная Лисавета Самойленко чихвостила своего невозмутимого Порфирия и его брата — старого сукновала. У Самойленчихи сейчас от гнева прыгали глаза, прямоугольником выбивались губы, а кулаки цепами молотили воздух.
— Ани клепки, люди добрые, нет в голове моего мужа, ни комочка сала, ни капельки масла, а есть в голове мужа одна полова, да и то не перевеянная, — изгибаясь, апеллировала она к своим соседям.
— Вам, баба, виднее, что есть у деда, — отозвался кто-то из компании, и все кругом зашлись хохотом.
Ободренная Лисавета набросилась на Порфирия и его брата, которые с топорами молча, но воинственно стояли возле землянки, прислушиваясь к бабьей ругани.
— Или она, эта бедняжка, у вас есть просит, или стоит поперек дороги, или она, несчастная, вам бока натирает, что взялись за разрушение? Ну скажи, старый идол, хоть слово, хоть полслова, чтобы и люди слышали.
— И скажу, — спокойненько отозвался Порфирий, которому и за ухом не зудело от всех криков жены. — Знаешь, как в «Интернационале» пишется?.. «Весь мир насилья мы разрушим!»
— Так то же весь мир, а не мою землянку!
— Она тоже мир насилия: насильно меня упекли туда. И я разрушаю ее, — махнул старик топором.
Лисавета была ошеломлена и блеском топора, и речами мужа. Она приложила сцепленные руки к груди и хотела трагедийно закрыть глаза, но именно в это время увидела Марка и бросилась к нему:
— Марко, лебедь мой, голубок сизый, скажи же им, басурманам, чтобы мое сверху было, потому что где я буду ставить кувшины с молоком?
— Тьху, еще и серьезного мужчину замакитрит бабскими черепками! — сплюнул в сердцах Порфирий, кивнул брату, и они дружно бухнули топорами.
Старуха заслонила лицо ладонями, а когда услышала треск, опустила руки и на месте, где была землянка, увидела тучу трухлявой пыли.
— Ну, и слава тебе господи, — вздохнула она и ровно пошла в хату.
— Лейборист! — пренебрежительно кивнул на нее головой Порфирий и начал отряхивать с одежды пыль бывшего жилища.
Целый день Марко снует зелеными и черными полями и наслаждается урчанием тракторов, пашущих на зябь, и строительством ферм, и разговорами на свеклах, и даже цветом скромных братков, прихвативших на свои хрупкие лепестки цвета осеннего солнца и весеннего неба.
Возле ставка дрожит поредевшее золото верб, а между ними девичьими лентами шевелится просинь, и по ней снуется легонькая осенняя паутина. Рыбаки, перекликаясь, вытягивают первую тоню, и на берегу сразу вырастает холм живых слитков. И голубое поле тоже уродило в этом году. Теперь надо прикупить добрых коров и браться за строительство кирпичного завода.
Возле зеленого, как барвинок, рапса его с белым узелком в руках разыскивает Татьянка и начинает вычитывать так же и то же самое, что вычитывала когда-то Елена. А он и это слушает с приятностью и сильно улыбается дочери, которая уже и вывод подбивает, что у нее совсем невозможный отец.
— Так уж и невозможный? — искоса посматривает и любуется оскорбленным узелком ее губ.
— Вы бы посмотрели, на что стали похожи…
— Извелся на смык… — подсказывает Марко дочери.
— Эт, разве с вами серьезно поговоришь? — сердятся губы, глаза и брови дочери. — Отдохнуть вам надо, отдохнуть хоть несколько дней.
— Скоро и за эту кампанию возьмемся. Поеду, Татьянка, аж в те места, где танки подбивал.
— Это вы несколько раз говорили мне.
— А ты еще раз послушай: старики любят повторять.
— Какой же вы старик? — сердится дочь.
— Ну, не старик, так видавший виды. Вот увидишь — скоро поеду, потому что чего-то в груди последнее железо дает о себе знать.
— На операцию надо ложиться.
— Ну, это еще подождет…
С полевой дороги к ним радостно спешит Антон Безбородько. Его вид сразу же обеспокоил Марка: если Безбородько веселый, то произошло что-то нехорошее.
— Здоров, здоров, Марко! — подходя к Бессмертным, уже умаляет радость Безбородько. — Иду себе дорогой — вижу семейство, ну, и повернул к вам.
— С чем повернул? — Марко улавливает ту низость, что сейчас играла на узковатом лице Безбородько, хоть он и старался прикрыть ее заплатами жалости и сочувствия.
— Да как тебе сказать? — посматривал по сторонам Безбородько. — Перестарался ты, братец, перестарался. Разве я не говорил тебе: не очень старайся, потому что у нас тебе памятник или монумент, практически, не поставят, хоть ты из кожи вылези. Вишь, как ты мудрствовал с горохом, а в конце концов, куда попал? Аж в фельетон. Вот какое имеешь достояние! — Безбородько исподволь, будто неохотно, вынул из кармана измятую газету.
Марко выхватил ее, в глазах ему темно запрыгала мошкара букв, в мозг болезненно бухнула раз и второй раз та же мысль: за что?..
На четвертой странице его ошеломил сам заголовок фельетона: «Царь-горох и комбинатор». Можно ли было выдумать что-то уязвимее? В этой писанине его сделали обманщиком, который, спекулируя на потребительских настроениях, раздувает свой авторитет и эксплуатирует богатство земли. Здесь даже словом не упоминалось, что со второго урожая было сдано полторы тысячи пудов гороха государству. Не это было нужно автору, который прятался за псевдонимом «Горошина».
Дочитав фельетон, посеревший Марко с отвращением возвращает газету Безбородько и прикладывает руку к груди, где лежат последние осколки; кажется, и они зашевелились от незаслуженной обиды.
— Вишь, как, практически, бывает в жизни, — бережно прячет газету Безбородько. — И как посмотрю я, то не с твоим здоровьем тянуть эту телегу.
— Идите, Антон Иванович, — непримиримо взглянула на него Татьяна и прислонилась к отцу. — Идите от нас.
— Ты уже командуешь вместо отца? Много командиров развелось у нас, — обиделся Безбородько. — Ты лучше скажи, пусть он здоровье бережет, потому что, опять же, монумент не поставят.
— Слышали уже ваше умное разглагольствование! — гневные румянцы вспыхивают на лице дочери. — Уходите!
Безбородько поворачивается и степенно, с уважением к себе, уходит к полевой дороге.
У Татьяны болью наливаются глаза:
— Разве можно вот так бить в самое сердце?
— Это, дочка, не в сердце, — рукой успокаивает ее Марко. — Это не смертельно. Но не легко ему, когда, не разобравшись, бьет свой своего. Вот тогда человек имеет тяжелейшее наказание, и все равно — это преходящее…
— Что вы думаете делать?
— Послушаюсь тебя: поеду сейчас на несколько дней из села. Ну, хотя бы в те места, где подбивал танки.
— А опровержение будете писать?
— Для чего, дочка? Не бумажки, а работа, только она опровергнет все, — опечалено взглянул вдаль, где на притененную землю золотым колобком опускалось солнце.
«Я от деда убежал, я от бабы убежал, я от смерти убежал, а от оговорщика не смог. Но сжимай, человече, сердце, сжимай его и дальше тяни свой плуг…»
XLII
Чего бы, казалось, сокрушаться, когда правда на твоей стороне, и все равно грязь, брошенная на тебя, беспокоит и беспокоит душу, и уже не таким ясным кажется звездный посев на небе, и уже не так волнует тихая девичья песня.
В стороне по-осеннему вздыхает ветер, и ты вздохом отвечаешь ему. Вот уже и ощутил ты трудную усталость, собранную за нелегкую весну и лето. Неужели был конь, да изъездился? И в груди огнем шевелятся клубки. Наверное, придется еще ложиться под нож.
Мала мати одну дочку Та и купала у медочку.Все ближе тоскуют девичьи голоса. Это же любимая песня Екатерины Заднепровской. Во тьме ему засветились прекрасные материнские глаза, заклекотал ее голос, легли руки на его плечо. Еще недавно она со своим Григорием утешали его, а он смотрел на них, и все равно было неловко на душе, будто и в самом деле имел вину перед людьми. Вот и сейчас даже не так идешь селом, как раньше, само тело как-то сжимается, будто желает стать меньшим.
У медочку та й купала, Счастя-долі не вгадала.И тебе не так много наворожили того счастья, но почему же и его кто-то хочет обворовать, загрязнить?.. Спокойнее, Марко, спокойнее, не такое переживал. День-два пройдет — и пройдут твои боли, а есть такие, что и время отступает перед ними. Многим теперь родная мать не угадала счастья, и ты должен думать об этом… Спокойнее, человече.
Он разгибается, на миг поднимает вверх натруженные руки и смотрит на далекие Стожары, которые играют в небе, как рыбки в реке. Возле плетня качнулась темная тень. Марко хочет ее обойти, но она двигается к нему, и через минутку он догадывается, что это Мавра Покритченко с дитем на руках. «Мала мати одну дочку та й купала у медочку», — отзывается в памяти девичья песня.
Мавра, вся в темном, как монахиня, становится напротив него, и он слышит сонное чмоканье младенца, и уже от этого становится легче на душе.
— Спит? — шепотом спрашивается у женщины и наклоняется к ребенку.
— Оно спокойное у меня, — тихо отвечает мать. Жалость и капли отрады пробились в ее словах. Значит, женщина добрая, самое тяжелое для тебя прошло. Но вот в ее голосе отозвалась истинная тоска:
— Марко Трофимович, это правда, что вы бросаете нас?
— Как бросаю?
— Ну, с председательства уходите… Рассердились на газету. Не делайте, Марко Трофимович, этого. С вами даже мне легче было, — с чистосердечной печалью взглянула на него, и переживания женщины, и ее хорошее, с печатью кривды лицо поразили Марка.
Почему же мы часто таких женщин окидываем пренебрежительным взглядом и боимся произнести доброе слово, какое им нужно больше, чем тем, что имеют законных мужей и детей? А что, если взять и сказать ей: «Ты, Мавра, записала дитя на мое имя, так пусть оно и насовсем будет моим, а ты будь моей женой!» Он вздрагивает и сразу же отгоняет эту мысль. И не потому, что для него страшным было бы такое бракосочетание или чья-то молва, а только потому, что за всю жизнь он дважды любил и еще до сих пор иногда без надежды ждал того, что называется любовью. Но даже глубочайшим сочувствием ты можешь изуродовать жизнь и себе, и вот этой женщине, которая стоит перед тобой и только хочет одного, чтобы ты не утратил веру в людей и сам никогда не терял человечности.
— Спасибо тебе, спасибо, — растроганно смотрит на женщину и дитя.
— За что? — удивляется она.
— За поддержку, за душевность, — он растроганно прижимает Мавру, целует ее в щеку, ловит вспугнутое «ой» и быстро выходит на дорогу…
На следующий день Марко добрался до той местности, где почти с пустыми руками сцепился с самой смертью. Нелегкие думы навеяла на него обветшалая, с накренившимся крестом церковь казенного стиля. Он пошел на кладбище, где много его друзей нашли свой последний приют. Здесь, над крестами и дубовыми обелисками, ветвились отягощенные плодами яблони и груши и взлетали ввысь стройные черешни, на привядших плодах которых горячими сережками висели осы. Марко, бережно сорвал одно краснобокое, с осенней росинкой яблоко, возле корешка которого в поисках тепла прислонилось мелкое солнышко.
В глубине кладбища с деревьев отзывались мелодичные голоса: это женщины обрывали плоды. На белой дороге спокойно паслась пара лошадей, запряженных в наполненный яблоками воз, и кудрявый беленький жеребенок сладко припал к вымени большеглазой матери.
На паперти, из щелей которой буйно проросла трава, сидел старый засушенный батюшка, тени смерти шевелились в его глазах, от него пахло старым воском и тленом. Он долго присматривался к Марку, а потом на отживших щеках шевельнулись морщины:
— Я где-то видел тебя, чадо, живого или мертвого… Но где?
— Не знаю, батюшка.
— И я не знаю, — скорбно покачал головой, на которой пухом одуванчика дрожали последние волосы. — Что в детстве было — помню, а что позже — все выветрилось из головы. Видишь, яблоки доспели, но я их уже не буду есть, — и желтые, восковые слезы исподволь покатились по его высушенных щеках.
А с унизанных плодами деревьев тихонько и складно встряхивалась песня — не о небесной жизни, а о ясном месяце, еще более ясной звезде и верной любви.
За тихой речушкой, где он когда-то лежал в окопе, стояло несколько тяжелых танков. Короста ржавчины разъедала их покореженные останки, и тупо смотрели в землю мертвые жерла пушек. На одном искалеченном колесе он вдруг увидел живую каплю крови. Марко от неожиданности аж вздрогнул и ближе подошел к танку. Нет, это не кровь, это запоздалый красный цветок гороха расцвел на том, что когда-то несло смерть. Только это теперь и напоминало ужас войны.
День клонился к вечеру, зеленые поля брались туманом, а дубравы сизой синью. Над миром стояла такая благословенная тишина, что было слышно, как кустики ржи роняли капли росы. Прошлое и настоящее сошлись вместе и усмирили сердце Марка; он помаленьку пошел к тем холмам, на которых, как на рисунке, раскинулось небольшое, речушкой подпоясанное село. Крайняя хата-белянка с красной подводкой была такой свежей, что сквозь побелку пробились янтарные не засохшие комочки живицы. Вокруг дома молодая женщина в цветастом платке и со смелыми глазами красиво, как в театре, обрушивала пшеницу и посматривала на прицепленную к шелковице колыбель, где аукал и играл своими ногами младенец.
Марко поздоровался с молодицей, спросил, можно ли будет переночевать, и она, не прекращая работы, отозвалась артистичным бархатным голосом:
— Если добрый человек, то можно. Какой же вы будете человек?
Марко отвел голову к плечу и улыбнулся:
— Как будто добрый.
— Увидим.
Женщина высыпала пшеницу в мешок, игриво набросила решето на голову, подхватила с колыбели дитя и повела Марка в дом. Здесь, в темноте, густо пахло бархатцами, базиликами и улежавшейся антоновкой. Молодица включила свет. Марко осмотрел просторный и опрятный дом и с доброго дива аж шатнулся назад: налево, возле божницы, на него смотрело его же фото — усатый солдат в пилотке, при трех орденах и гвардейском значке. Эта неожиданность ошеломила Марка. Он еще раз посмотрел на фото, пожал плечами, ничего не понимая, перевел взгляд на женщину, которая уже что-то напевала ребенку и одновременно убирала на скамейке, поднял руку вверх и будто безразлично спросил:
— Это кто у вас?
Женщина оборвала свои «люли, налетели гули», глянула на стену и сказала только одно слово:
— Спаситель.
— Нет, не в божнице, а налево.
— Я же говорю: наш спаситель. Во время войны этот мужчина спас наше село.
Марко ощутил, что жажда начала сушить его губы. Волнуясь и посматривая на стену, тихо начал допытываться:
— Как же он спас село?
Женщина вздохнула, положила дитя на постель, поправила платок и повернулась к окну:
— Тут, человече добрый, страшное творилось тогда. Фашисты, как безумные, танками и всей машинерией поперли на наше село. Вся земля тут была начинена свинцом. И до сих пор вырываем его с поля, как дикое мясо. И вот в этом бою больше всего показал себя один солдат, Марком Бессмертным звали его. Поверите, он в те адские времена повернул танки назад, а сам, горемычный, умер где-то в госпитале. Наши люди в том окопе, где он сражался, нашли только его документы и фотографию. Вот теперь он и живет в каждом нашем доме.
— Разве? — пораженный, будто спросонок, спросил Марко.
— Конечно, — горделиво сказала женщина. — А кто не уважал бы такого человека? Только подумать: сам-один восемь танков подбил!
— Не восемь, а только четыре, — поправил Марко.
У женщины сразу от злого удивления и гнева скосились глаза, она с негодованием спросила:
— Когда это вы успели их посчитать?
— Было такое время, — невыразительно ответил Марко.
— А где вы тогда учетчиком сидели? — наливалось огнем лицо молодицы. — Все село, вся армия знает, что он подбил аж восемь танков.
— Это преувеличение…
Но женщина не дала ему договорить. Она люто ударила кулаком в кулак, и уже не бархат, а гром послышался в ее голосе:
— Вот послал мне нечистый гостя против ночи! Ты приехал наводить тень на героя!?
Да кто ты такой!? И где ты был, когда этот человек спасал наше село!? Ну-ка, выметайся из моего дома!
— Женщина добрая, — хотел утихомирить ее Марко, но она не дала договорить, с кулаками двинулась на него.
— Нет, для тебя я не имею доброты! Вон, пока соседей не позвала, а они тебе быстро все бока обобьют.
— Да послушайте…
— Выметайся, выметайся, пока не поздно.
Марко выскочил из дома, а вдогонку ему с порога еще гремел разгневанный голос молодицы:
— И не подумай где-то тут ночевать… Я сейчас же распущу славу о тебе на все село. Ишь, приехало, какого давно не видели в наших краях.
— Кого ты, Зина, так чихвостишь? — откликнулся со стороны мужской голос.
— Да одного зайду. Прибился вот ко мне и, только подумайте, начал наводить тень на Марка Бессмертного. Позавидовал, что тот столько подбил танков.
— Где он, лоботряс!? — стал злее голос мужчины.
— Подался куда-то в туманы. И где только берутся такие завистливые и черноротые?
А Марко в это время, прислонившись спиной к трепетной дикой груше, беззвучно смеялся и вытирал ладонью радостные слезы.
«Дорогие мои, добрые люди», — обращался к тем, которые и дальше поносили его. Снова в груди мужчины встрепенулась большая сила любви, а в руках — жажда к работе, действию; мелочное же исчезало, как полова за ветром.
XLIII
Поздним звездным вечером Марко возвращался домой. Дозрелые звезды выпадали из небесной жизни, не достигнув земной, и, возможно, обычный осенний листок был счастливее их: он золотой лодочкой падал на пьянящую землю, чтобы стать землей и дать кому-то жизнь. Тихо-тихо шелестит листва вверху и под ногами, а еще тише, только для своей души, Марко напевает песню:
Ой не знав козак, та й не знав Супрун, А як славоньки зажити.— Это ты, сынок? — из темноты навстречу ему выходит мать, и слова ее шелестят печалью, как осенняя листва.
— А чего, мама, вы такие? — нехорошее предчувствие когтями упивается в душу человека.
— И… иди же домой. Соскучились все за тобой, — что-то скрывает мать.
Марко в тревоге обхватывает мать обеими руками, заглядывает в глаза:
— Говорите, не таитесь…
— Скажу, скажу, сынок, — тяжело вздыхает, и вздыхает дерево над ней. — Правда поется в этой песне, что не знал казак, как славоньки зажить. Как мог, завоевывал славу твой товарищ Григорий, и люди его любили, и женщину его уважали, и деток, а получается, что он враг.
— Что вы, мама!? — аж вскрикнул Марко.
— Что слышишь. Арестовали нашего учителя. Ордена сорвали с него, будто он их не кровью зарабатывал, а так… дармовщиной где-то выковырял. Значит, если бы не воевал человек с фашистами, а зашился в закуток, как червь под кору, так и жил бы себе лихо-тихо и не было бы чего сдирать с него… Как, сынок, тяжело обидели человека. Его Екатерина вот умирала в нашей землянке, несколько раз на пол падала, вставала и снова падала, а под окнами плакали ее детки. Никогда, Марко, не поверю, что такой человек мог врагом стать. И не правду ли говорит дед Евмен: есть кто-то такой, кто червяком залез в яблоко и выгрызает разные хода… Куда же ты, Марко? Подожди!
— Я иду, мама!
— Куда, сынок?
— Еще и сам не знаю. Но надо куда-то идти, что-то делать…
И он идет сонным селом, и слышит стук своего изболевшегося сердца, и видит, как впереди выпадают звезды из небесной жизни, не достигая земной… Кто же грязными руками уцепился в твою душу и в твою биографию, Григорий, кто под корень бьет ножом нашу святость и наилучшие порывы? Поцилуйки, только поцилуйки, будьте вы прокляты навеки! Неужели чистая человеческая кровь проливалась для того, чтобы вы ржавчиной начали разъедать и любовь, и верность, и правду? Нет, вы врете, змеи подколодные, доберемся и к вам.
Марко подходит к двору Заднепровского, от волнения долго не может отворить калитку и чуть ли не снимает ее с петель. На него наплывает первая встреча в церкви. Потом он видит Екатерину, детей и, ощущая вокруг их тени, останавливается перед омертвелой землянкой, где лежала забытая, с расплющенными глазами детская кукла. Марко поднимает ее, и кукла, пугая его, беспомощно говорит: «Мама». Он, как ребенка, прижимает к себе озябшую, росой увлажненную куклу, спускается по ступеням и тихо стучит в двери.
В землянке что-то зашуршало, и со временем отозвался оробелый женский голос:
— Кто там?
И даже теперь Марко удивился: как изменился Катеринин голос, ну, ничегошеньки не осталось от его певучего клекота. Кажется, он даже стал моложе. Но как он мог стать моложе в такое время?.. Бессмыслица, и все.
— Это я, Екатерина Павловна.
— Кто вы? — снова отзывается не Катеринин голос, и что-то такое знакомое и далекое-далекое зазвучало в нем.
— Не узнали? Марко Бессмертный.
— Ой! — вскрикнуло в землянке. — Подождите, я сейчас.
Через минуту настежь растворились двери, и не Екатерину, а другую женщину увидел Марко. Тонкая и невысокая, стояла она посреди землянки, прижав сплетенные руки к груди. Теперь уже Марко, волнуясь, спросил у нее:
— Кто вы?
Женщина, не спуская с него взгляда, ничего не говорит, только сильнее прижимает узел рук к груди. Он подходит к ней и не верит себе. Лихорадка бьет его тело. Или это обман, или кусок сна, или кусок его молодости?
— Степанида, неужели ты? — полушепотом спрашивает ее и боится, что от его голоса исчезнет это видение. Но оно не исчезает.
— Я, Марко Трофимович, — тоже полушепотом отвечает женщина.
Кукла выпадает из его рук и жалобно протягивает: «Мама».
— Значит, живая? — вырвались совсем не те слова.
— Живая, — вздыхая, отвечает она, будто не рада, что осталась живой.
Он берет в руки узел ее рук, размыкает его, прислоняет к себе и чувствует дрожь и тепло ее тела.
— Неужели это ты? — снова с мукой переспрашивает. — Каким же чудом, каким дивом?
И Степанида, будто выходя из тумана, легонько освободила свои руки и заговорила сквозь слезы:
— Я сводная сестра Григория… Телеграмму Екатерина прислала. Я сюда, а она поехала с детьми выплакивать судьбу Григорию… Разминулись мы…
— И мы разминулись, — только о своем сказал. — На два десятка лет, на целую жизнь разминулись… — Он знает, что сейчас надо говорить, думать только о Григории, но все прошлое так наплывает на него, что он тянется руками к плечам Степаниды. Он ощущает на ее полотняной рубашке вышитые цветы, может, такие же, какие лежали на ее плечах двадцать лет тому. — Как же ты живешь?
— Живу, — вздохнула она. — Детей учу.
— А своих имеешь?
— Имела дочь… В эвакуацию, после смерти мужа, похоронила. Я только приехала на север, никого не знала… С одним дедом на санках отвезли ее на кладбище. Присыпали землей со снегом пополам, дед здесь же, возле могилки, выпил четвертушку — и все…
— Горе ты мое, — Марко прижимает Степаниду и целует ее руку. Он не знает, что делается с ним: их молодость, и любовь, и разлука, и встреча, и судьба Григория — все сплелось воедино, в неистовой круговерти закружило перед ним. И не может человек передать даже сотой доли своих мыслей, чувств.
Далеко в бездне ночи выпадает звезда, но Григорий не может выпасть из жизни.
— Ты будешь здесь, Степанида? — уже выпрямляется он, как выпрямляются все перед далекой дорогой.
— Буду ждать Екатерину… Вы далеко?
— Далеко. В ЦК.
— Вызывают?
— Совесть зовет.
— Спасибо вам, — понимает все и проводит его к воротам, чуть-чуть касаясь тревожащимися руками его плеч. Звездное вызревшее небо крутится в ее глазах. В душе вдовы совсем неуместно отозвалась давняя веснянка, а на глаза набежали слезы.
XLIV
«Когда садишься в директорское кресло, попробуй, нет ли у тебя хвоста».
Эти слова совсем неуместно пришли на ум в минуту алчной радости, когда Поцилуйко один оказался в кабинете директора маслозавода, где устоялись запахи сливок, масла и спиртного. Поцилуйко аж рукой прогнал глупое выражение, встал с кресла и самоуверенно, как положено директору, подошел к окну, на котором черным комом выгревалась откормленная муха-червивка. Он махнул на нее, и она, тяжело поднимая свой вес, оскорблено зажужжала, полетела в глубину кабинета и, сев на что-то, еще проявляла недовольство.
За окном в синеве тихого осеннего дня, будто водомерки на воде, дрожали, расщеплялись и гасли крохи солнца, между ними проплывали нити бабьего лита. Но и они не порадовали Поцилуйко: память достала из какого-то закоулка, что именно в такой день бабьего лета он когда-то прибился на хутор к вдове, у которой вокруг рта почти всегда дрожала прекрасная женская жалостинка.
Морщась, Поцилуйко отмахнулся от неприятных воспоминаний, но они сегодня, будто нанялись, шарпали и расклевывали его радость; нечистая совесть, как могла, боролась с ними и слизняком щурилась от них.
Что это? Предчувствие?.. Нет, нервы. Не жалея, выматывал их из себя, пока приплелся к своему директорскому берегу. Освоюсь немного с работой и мотнусь на берег Черного моря. Там нервы снова станут веревками и не будут скрипеть, как плохая снасть на ветряной мельнице. «Так, дорогие!» — это уже сказал в мыслях своим врагам и, как мальчишка, чуть ли не показал им язык.
В дверь постучали. Поцилуйко вздрогнул.
— Заходите!
В кабинет вошел измазанный мазутом мешковатый шофер, руки его были с огрубевшей кожей, одежда лоснящейся, взгляд пасмурным, уста надувшиеся.
— Как оно, Сергей?
— А пусть оно горит! — недовольно бубнит шофер. — Видите, вылез, как черт из пепла.
— Не отремонтировал?
— Подлатал, подлепил как-то.
— Так чего ты?
— Боюсь, чтобы дорогой наша антилопа не откинула копыта. Пешкодрала[48] меньше будешь иметь хлопот, чем на этой машине.
— Подожди, Сергей, разживемся на что-то лучшее, — успокоил шофера Поцилуйко и в воображении увидел персональную новенькую машину, на которой можно будет щеголять перед разными неудачниками.
— Вчерашний директор этим же утешал меня, пока не погорел, — безнадежно махнул рукой Сергей. — Так поедем?
— Поедем.
Поцилуйко подошел к вешалке, с его новенького, только что принесенного от портного плаща с гудением сорвалась та самая откормленная муха-червивка и упала на опустевшее директорское кресло.
Хоть старая, мятая и латанная машина и скрипела всеми своими косточками, все-таки она приносила какое-то удовлетворение. Когда Поцилуйко подъезжал к спокойной заросшей речушке и слева на ее рукаве увидел мельницу, невольно вспомнил свое детство и коняг с запавшими боками, на которых он со своим отцом ездил молоть зерно. Как тогда его радовала теплая мука, что сыпалась и сыпалась из мучника на растопыренные пальцы. А потом ему привез муку ночной гость за ту справочку, с которой оскорбленным глазом смотрела печать…
— Тьху!..
— Чего вы, Игнат Родионович? — непонятно покосился на него шофер.
— Ничего, это свое, — раздраженно и болезненно прищурился, не в состоянии оторвать от себя мысли о той страшной муке, что набилась ему в самые печенки. И почему наплывает всякое безобразие в такой радостный для него день?..
В городе Поцилуйко прежде всего заехал к Черноволенко, который горой стоял за него и, в сущности, вынес его на директорский берег. Когда машина остановилась перед домом, где жил следователь, Поцилуйко сам вытащил ящик свежего масла и понес впереди себя. Аж закашлялся директор, пока вылез на пятый этаж. Улыбаясь и придерживая масло коленом, нажал на звонок.
Дверь открыла немолодая, в припаленной блузке домработница, которую все за характер называли Морозихой. Женщина с такой насмешкой измерила взглядом ящик с маслом и запыхавшегося Поцилуйко, будто она была по меньшей мере директором маслокомбината, а он ленивым поденщиком. Этот взгляд сразу же разозлил Поцилуйко: тоже мне нашелся контроль!
— Хозяин дома? — сухо спрашивает Морозиху.
— Нет их дома. А вы с приношением? — уже печет его словами.
— Не с приношением, а с делами! — грозно насупился Поцилуйко.
— Оно и видно, с какими делами, — чмыхнула и пренебрежительно взялась в бока женщина.
— Прищемите хоть немного свой язык, потому что кто-то прищемит его. Где же хозяин?
Морозиха притворно вздохнула:
— Он, бедненький, аж своей персональный язык высунул, все рыщет, все выискивает чью-то беду, пока свою не встретит. Тогда и вам как-то икнется, и еще как икнется! Будет раскаяние, да не будет возврата[49].
Поцилуйко нахмурился и ощутил, что испуг зашевелился аж где-то возле живота, придавленного ящиком с маслом.
— Не нравится вышесказанное? Еще и не такое услышите, — из глаз Морозихи щедро посыпались злые искры, и Поцилуйко невольно подумал: не они ли прожгли ее блузку. — Ящик с маслом здесь оставите или назад попрете?
— Чтобы и оно на ваш язык попало? Вот вернется хозяин, тогда с вас масло потечет.
Поцилуйко молча повернулся и начал спускаться вниз. Вечером он подъехал к темному директорскому кабинету. Открыл дверь, включил свет, и он обеспокоил одинокую муху-червивку…
— Куда масло занести? — спросил шофер.
— Куда? — незрячими глазами взглянул на него Поцилуйко. Предрассудок подсказал ему, что в такое время надо не поскупиться на хорошее дело, чтобы подмазать или усыпить беду. — Забери его, Сергей, себе. У тебя же дети…
— Нет, я такими делами пока что не занимался, хоть и имею выводок немалый, — покачал головой шофер.
«Что это — честность или туполобство?» — вспыхнул Поцилуйко и уже решил, что Сергей больше не будет шоферить у него. Но сразу и передумал: не надо с первого дня будить беду, и по возможности спокойнее сказал:
— Тогда завези мне на квартиру.
— Это другое дело.
Когда за окнами заурчала машина, Поцилуйко по диагонали начал мерить кабинет.
В двери кто-то постучал. И снова вздрогнул Поцилуйко. Чего ему так страшно, когда к нему стучат люди? Побеждая страх, он вымученно бодрым голосом говорит:
— Прошу, прошу!
В кабинет вошли лейтенант в форме артиллериста и невысокий блондин в плохоньком пиджачке. Две пары глаз остро скрестились на Поцилуйко, и в них он прочитал свой приговор.
— Кто вы?! Чего вы!? — подловатая душа труса затрясла его тело.
Лейтенант, как тень, в один миг оказался позади Поцилуйко, схвати его за руки и вежливо сказал:
— Спокойно, гражданин Поцилуйко! Вы арестованы…
А блондин обеими руками начал выворачивать карманы новоиспеченного директора. Вот он что-то вынул, и Поцилуйко, наклоняя голову, увидел, как на него ненавистным глазом посмотрела обычная печать…
На следствии Поцилуйко отрицал все обвинения. Почерневший и жалкий, он дрожал и плакал перед следственным Комитета государственной безопасности, снова паскудил доносами честных людей и убивался над судьбой Василины Вакуленко, к которой он имел, как к хрустально чистому человеку, большое уважение и даже любил ее. Кто только так тяжело мог обидеть его? Он просит очной ставки с оговорщиком…
И сегодня снова началось с того же.
— Значит, не вы выдали Василину Вакуленко полиции? — спокойно допытывался следователь, но даже Поцилуйко видел, что за этим спокойствием клекотало негодование.
— Я чистосердечно все говорил, поверьте мне, только искренне. Образ Василины Вакуленко — это моя святыня: она же спасла меня… — начал долго разглагольствовать Поцилуйко, еще надеясь выскочить на сухое. — Если бы только она была жива, все недоразумения развеялись бы туманом.
— Вы так думаете? — остро спросил следователь, поднял телефонную трубку, что-то тихо сказал.
— Здесь и думать не над чем и спасла она меня раз, спасла бы и второй раз.
В двери постучали.
— Заходите! — крикнул следователь.
Дверь медленно приотворились, Поцилуйко оглянулся и задрожал от ужаса: как в тумане, он увидел Василину Вакуленко. Ему показалось, что от нее даже повеяло благоуханием осенней калины. Но сейчас не прекрасная женская жал остинка, а презрение и отвращение шевелились вокруг рта вдовы.
— Ты!? — так же вырвалось у него, как и тогда в осенний вечер, когда он увидел ее распятое платье, которое срывал с металлических прищепок холодный ветер.
Василина отвела суженный взгляд от Поцилуйко, горделивой походкой подошла к столу следователя и коротко рассказала, как она попала в лапища гестапо, а потом в концлагерь.
— Она оговаривает меня, товарищ следователь! Кто-то ввел ее в тяжелое заблуждение! — завопил не своим голосом Поцилуйко. — Василина, вы же добрый и справедливый человек. Зачем вам топить меня, невинного? Кто вам такого наговорил, наврал на меня?
— Сам Крижак! — как молотом, бьет по голове Поцилуйко. Он вздрагивает, но и теперь стоит на своем.
— Крижак? Он же провокатор. Он провоцировал вас. Это все кривда!..
— Нет, это правда, которой кое-кто никогда не жил. Вот пусть он пожинает свое, кривдой порожденную жатву, — безжалостно посмотрела на него вдова и гордо вышла из кабинета следователя.
Болезненным угасшим взглядом провожает ее Поцилуйко, он снова чувствует благоухание осенней калины и лихорадочно прикидывает, что ему дальше говорить, потому что знает, что один свидетель — это еще не свидетель, а второго негде взять. Еще на этом ого-го как можно выскочить. Что же сейчас ему говорить о Василине? Бросить предположение, что за эти годы ее душа набралась чужой грязи?.. И враз, обливаясь потом, он начинает ломаться, словно из него кто-то начал вынимать позвоночник: впереди дежурного в кабинет поникло входил сам Крижак. Помол проклятой справочки домалывался до конца…
XLV
Сразу же за оградой тюрьмы Григорий Стратонович попадает в объятия Марка. Они крепко, по-медвежьи, сжимают друг друга, трижды накрест целуются и разом вздыхают. На ресницы Григория набегают две слезинки, он давит их пальцами, а Марко, жмурясь, говорит, что не надо переводить влагу — пусть падает на землю. Григорий бьет его ладонью по плечам и счастливо улыбается.
Возле них с любопытным видом остановилась чернявая женщина, для которой, наверное, любые зрелища становились праздником души. Она поправила платок, с сочувствием взглянула на мужнин. На ее лице мотыльками задрожали двойные ямки.
— Братья? — тихонько спросила, прикладывая руки к груди.
Марко и Григорий переглянулись:
— Братья!
— Но как не похожи! Ни на капельку, ни на малую малость, — присматриваясь, удивляется женщин и удивляются крылышки ее ямок. — Может, вы не одного отца?
— Зато одной матери! — весело ответил Марко.
— И этого никогда и никак не сказала бы…
— Мы гибридные, поэтому не совсем похожи, — успокоил ее Григорий, и все трое начинают смеяться.
— Граждане, нельзя ли для театра отойти немного подальше? — однотонно говорит возле тюремных ворот дежурный, хотя и ему хочется улыбнуться.
И граждане, смеясь, идут дальше — женщина в город, а Марко и Григорий к машине.
На прохладную лоснящуюся вискозность голубого неба налегают вечерние тени, наступает та пора, когда вот-вот должны проклюнуться звезды, доброй таинственностью взяться дороги, наполниться большей глубиной человеческие голоса и сказочно ожить ветряки.
На молоденьких тополях еще держится листва, и Григорий Стратонович здоровается с деревцами, как с детворой, а перед глазами проходит Екатерина и дети. Как хочется скорее прислониться к ним, прижать их к себе, ощутить благоухание кос и губ Катерины.
Недалеко от машины его поклоном поздравляет Галина Кушниренко. Широко растворяются трепетные берега девичьих ресниц, счастьем и красотой светятся ее дымчатосизые глаза.
— Какой ты хорошей стала! — невольно вырвалось у Григория Стратоновича.
— Невеста! На то воскресенье справляем свадьбу, — отозвался Марко и подумал о Степаниде.
— В самом деле на то воскресенье свадьба? — удивляется Григорий Стратонович.
— В самом деле, — девушка наклонилась еще ниже, приложила руку к сердцу и напевно сказала: — Мама просили и я вас прошу на свадьбу.
— Спасибо, спасибо, голубка, — растроганно посмотрел на девушку учитель. — И хорош твой милый?
Молодая опустила ресницы и сквозь них уверенно взглянула вдаль.
— Лучший в мире.
— У него тоже ресницы как ветрянки! — засмеялся Марко.
— Такое вы скажете, — улыбнулась молодая и царевной пошла к машине.
Побратимы выскакивают на кузов, и грузовик мчит их в чистые глубины вечера, в которых только что родилась вечерняя звезда.
— Ты любишь вечернюю зарю? — спрашивает Григорий Стратонович.
— И вечернюю, и предрассветную…
— Я часто ее вспоминал в тюрьме… Там нашел на стене и твою свечку.
— Неужели годы не стерли ее?
— Нет. Очевидно, кто-то еще глубже вычеканил этот рисунок… Как это правильно: и сгорая, человек должен светить людям! Спасибо тебе.
— Не меня, Григорий, надо благодарить, — задумчиво сказал Марко, — а только свою родную землю, своих добрых людей. Для них и с ними живем…
Крылья осенней дубравы охватили друзей, отряхивая тьму и унылый шелест. Марко постучал в окошко, и машина остановилась.
— Ты чего? — изумленно спросил Григорий.
— Пройдемся немного лесом. Ты любишь, когда под ногами шелестит листва?
— Очень.
— Я тоже. И люблю, когда в такую пору пахнет опятами. Уродило их в этом году! Хочешь, сейчас найдем?
— В темноте?
— В темноте.
Марко отходит от дороги, нагибается, шуршит руками в листве, вместе с тем пахнущей и хмелем, и дымом.
— Еще гадюку схватишь…
— Время гадюк уже проходит… Теперь наступает пора чистой красоты и больших звезд.
— Как ты хорошо сказал! — пораженно остановился Григорий, думая о своем. — Этот образ я использую в своей книге: наступает пора чистой красоты и больших звезд. Разрешаешь?
— Нет, не надо так, потому что некоторые рецензенты скажут, что это красивость. А ты любишь время больших звезд?
— Люблю. И тебя тоже.
— Чудо! — чмыхнул Марко и радостно воскликнул: — Вот и нашел! На трухлявом пне выросли! — он протягивает Григорию трогательное, плотно сжатое семейство опенок, их ножки были закутаны мхами, на шероховатых головках отдыхала роса.
— Жизнь! — Григорий любуется живым комочком природы и снова вспоминает детей и Екатерину.
С дуба, выстукивая по ветвям, опадает запоздалый желудь, бьется о корневище и падает у ног Марка. Он поднимает это лоснящееся прохладное тельце, веточкой выдавливает дырочку и сажает в землю, пахнущую молодым, бродящим вином. На небе все увеличивается количество звезд, гуще становится дубрава, а Галина уже кажется не просто девушкой, а волшебницей.
«Как чудесно жить на свете! — читает Григорий в глазах Марка. — И это в самом деле так, дорогой человек…»
Поздно вечером они подъезжают к землянке Григория Стратоновича. Машина идет на колхозный двор, а Марко провожает Григория до самых дверей землянки. Здесь побратимы снова обнимаются.
— Может, зайдешь? — тихо спрашивает Григорий Стратонович.
— Не буду колотить детей ночью, — тоже шепотом отвечает Марко, на душе его становится тоскливо: а что, если Степанида до сих пор ждет брата, и… может, его?
— Так завтра утром приходи.
— Прибреду… Будь здоров, брат. Пусть во всем, во всем тебе сопутствует удача.
Григорий накрест обнимает Марка и, задыхаясь от волнения, от радости и сладкого щемления, как лунатик, на цыпочках входит в землянку. Возле стола, склонив голову на руки, спит Степанида, на плечах ее полотняной рубашки темнеют вышитые цветы. Сквозь сон вздохнула Екатерина. Григорий взялся рукой за сердце, и по его лицу расплывается добрая и смущенная улыбка. Он осторожно идет к постели и вдруг замирает возле краешка стола: Екатерина зашевелилась, застонала и сквозь сон грудным слабым голосом произнесла только два слова:
— Григорий, дорогой…
И это была его самая счастливая минута за последние годы. На голос Екатерины схватилась Степанида, она сначала перепугалась, отступила назад, а дальше надрывно вскрикнула:
— Григорий, брат!
— Что, сестра?..
— Вернулся? — вместе с тем плачет и смеется ее душа.
— Вернулся.
— С Марком Трофимовичем?
— С Марком.
— А где же он?
— Наверное, домой пошел.
— Чего же ты не пригласил?..
Их голоса разбудили Екатерину.
— Григорий! — клекотом, болью и радостью отозвался ее голос, темной волной встрепенулись, зашуршали косы, и она падает в объятия мужа и руками, лицом проверяет, он ли это.
— Григорий… — больше ничего не может сказать, а он ощущает на ее ресницах слезы.
«Две косы, две слезы», — повторяет в мыслях, как стихи, прижимает жену и даже не слышит, как из землянки выбегает полураздетая Степанида.
Сначала только даль звездного неба видит она, потом под ним очерчивается абрис одинокого ветряка, который до сих пор трудится для людей. Она подбегает к калитке, отворяет ее, останавливается под врезанным в темноту кленом и на другом конце улицы видит Марка и только теперь со страхом замечает, что она не одета, ей становится стыдно, и она всей рукой прикрывает разрез сорочки.
— Добрый вечер, Марко Трофимович…
Марко улыбнулся, молча подошел к Степаниде, он чувствует, как на его висках молоточками выстукивает кровь.
— Чего же вы не зашли? — с укором привстают ее округлившиеся брови.
— Его ждали. А меня?.. — он бережно кладет руки на ее плечи.
Степанида вздрагивает, отводит голову от его взгляда, вздыхает и боится произнести, что и его ждали.
Бездонное осеннее небо с поздней луной, со всеми кустами, со всеми россыпями и голубой пылью звезд шевельнулось, словно приблизилось, и горячо закружило вокруг нее… Так вот какое оно, то кроковое колесо, колесо птиц, надежд, страданий и любви.
Капля прохладной осенней росы увлажнила ее лицо, как давно когда-то увлажнял теплый плач надломленной ветки. Далекие девичьи голоса прибились к Степаниде, далекие росы колыхнулись перед ней, хоть она стояла не перед тем юношей, который когда-то принес ей веточку вишневого цвета. Давно осыпался тот вишневый цвет, и, может, след его белеет на висках Марка, которого все-все теперь зовут Бессмертным…
Эпилог
«Время пролетает над нами то как черная птица, то как белоснежный лебедь; непрочное и быстротечное оно заметает снегами, пылью забвения, а непреходящее поднимает в новой красе, не имеющей ни конца, ни края.
Великие годы, годы неспокойного солнца и жизни пролетели над землей. На пьедесталы мира встали те, кто со свинцом в груди покинул нас в войну, рядом с мадоннами встали в музеях наши милые девушки, и в новых жилищах на вечерних и ранних зорях матери родили сынов, возможно, тех, которые не будут знать страхов и вьюг войны, не будут знать кривды. Пусть только добрые вьюги цветения осыпаются в их колыбели и на их дороги».
Вот такое думалось учителю и писателю Григорию Заднепровскому, когда за воротами поликлиники Марко положил ему на ладонь два кусочка свинца, еще недавно шевелившихся возле сердца человека.
Григорий Стратонович долго взвешивал их на руке, долго присматривался к вишням в цвету, сквозь которые просеивались лучи предвечернего солнца, а потом неловко спросил у Марка:
— Последние?
— Последние.
— Напились же они, Марко, крови, аж дырчатыми стали и потемнели от нее.
— Рожденное злобой никогда не бывает светлым! Ну, как в селе?
— А ты, бедненький, будто и не знаешь? — прищурился Григорий Стратонович.
— Да знаю пятое через десятое, но хочу, чтобы ты обрисовал картину, — улыбнулся Марко. — У тебя это здорово иногда выходит.
— Подсмеиваешься над моими писаниями? — насторожился Григорий Стратонович.
— Горжусь твоей последней книгой! — обнял побратима Марко. — Буду ее брать с собой в поле.
— В самом деле? — растроганно посмотрел в карие глаза с теми золотистыми ободками, в глубинах которых то таился, то дрожал легкий туманец. — Что же в ней понравилось тебе?
— Прежде всего, Григорий, правда! Пусть она временами и горькой, и нелегкой, и полуголодной была, но это правда. Ее кое-кто хотел бы в литературе и везде видеть лишь в подрисованных румянцах и бумажных цветах, кое-кто хотел бы чирикать о медовых реках с кисельными берегами и не видеть, что не в каждом жилище есть хлеб на столе. Но теперь всюду наводится порядок, всюду! Богаче становятся наши сердца, и щедрее начинает родить земля. Сейчас даже чиновник, чиновник по должности и натуре, задумывается, как ему «на данном этапе» ухитриться, чтобы и гром пересидеть, и сухим к коммунизму хоть боком притереться: понимает, что последние осколки вынимаем из нашей жизни.
Побратимы подошли к открытому, припавшему пылью и пыльцой кленового цвета газику, Григорий Стратонович сел за баранку и с преувеличенным почетом кланялся Марку:
— Прошу садиться того, кто уже в бронзе стоит на площади!
— А ты и рад позлословить! — пренебрежительно скривился Бессмертный. — Читал твою заметку об этой персональной бронзе и так ругал тебя последними словами, что даже температура подскочила вверх.
— За что?! — чистосердечно удивился Григорий Стратонович.
— За то, что прилизал меня со всех сторон, и вышел я у тебя прямо знаменитым, сильным и лубочным Русланом Лазаревичем, который едет на чудо-юдо большое — на змея о трех головах, а прекрасная царевна Анастасия Вахромеевна встречает его. Тьху!.. Словом, перевели некоторые деятели государственную бронзу еще и радуются от этого.
— Цыц, не умничай, ворчун, это уж не твоего ума дело. Не надо было снова выскакивать в Герои, — засмеялся Григорий Стратонович.
— Он еще и хохочет.
— Потому что есть от чего… Позавчера вечером возле твоего монумента застал Безбородько…
— А он вернулся в село, после всех служб? — оживился Марко.
— Не знаю, вернулся или возвратили, но ищет новую работу — не бей лежачего.
— Руководящую?
— А какую же иначе?..
Друзья выехали на окраину города. Вокруг под белыми тучами буйно цвели сады, придорожные клены осыпали последнюю пыльцу, на обочинах дороги по-детски трогательно засыпали одуванчики, и только без живого цвета мрачно серела старая тюрьма. Вдруг из ее настежь раскрытых ворот выскочило несколько человек и побежало к дороге, где стояла небольшая гурьба с лопатами в руках.
Григорий Стратонович в удивлении остановил машину. В это время, как в немом кино, неуклюже зашевелилась, перекосилась тюрьма; распухая, она изнутри загремела громом и вмиг забилась пыльной тучей, выворачивая из своего нутра кирпич и камни.
— Вот и все! — взволнованно отозвался чей-то голос.
Марко выскочил из машины и быстро подошел к людям, весело присматривающимся к тем темным клубкам, что до этого мгновения назывались тюрьмой. Корреспондент областной газеты узнал Марка, озабоченно поздоровался и опустился на колено дописывать заметку об уничтожении того, что отжило.
— Что будет вместо нее? — спросил у него Марко.
— Городской сад, — оторвался корреспондент от своего писания, и вдруг его лицо стало мечтательным. — И знаете, каких больше всего посадим здесь деревьев?
— Нет, не знаю.
— Черешен! Чтобы люди и цветом любовались, и, отдыхая, могли себе ягоду сорвать. Бегу! — и он в самом деле побежал к тому месту, над которым оседала последняя пыль давних времен…
Из-за садов, как из туч, выплыла полнолицая луна, в листве зашуршала роса, неподалеку отозвался соловей, зовя к себе соловьиху: даже взрыв сотен килограммов тола не ошеломил птичье щебетание и любовь.
Побратимы поздно ночью приехали в село. Григорий Стратонович остановил газик на площади, неподалеку от бюста Бессмертному, и кивнул головой на него:
— Посмотрим, мужик, на этого усатого дядьку?
— Можно и посмотреть, — совсем спокойно сказал Марко.
— Ну и выдержка у тебя! — покачал головой Григорий Стратонович.
Они подошли к монументу и остановились у низенькой изгороди, за которой кустилась яровая пшеница. И только здесь, когда Марко взглянул в глаза своему образу, ощутил и волнение, и глубину прожитого, и невероятность сделанного вокруг и всюду за последние годы. На какой-то миг показалось, что и эта ночь, и просеянный лунный свет, легко дрожащий над землей, и молчаливый бронзовый мужичонка напротив него были только сном.
— Ну как, Марко? — не терпелось Григорию Стратоновичу.
Но Марко заговорил не к побратиму, а к своему образу:
— Красивым тебя здесь сделали, более солидным, и спокойным, и молодым. Видать, на морщины материала не хватило…
— А чтоб тебя!.. — возмутился Григорий Стратонович, но, присматриваясь к словно окаменевшему Марку, затих, сделал несколько шагов назад и тихонько пошел на другой край площади.
Марко, кажется, и не заметил этого и после долгого молчания снова тихо заговорил к своему бронзовому образу:
— Так оно и бывает… Ну, если уж тебе выпало стоять и днями и ночами, то стой, смотри, чтобы из тьмы не выползла кривда или какая-то нечисть, а нам надо дело делать — пахать, сеять…
Он поправил свой выгоревший на солнце картуз, взглянул на далекие, выкупанные в нежной лунной пыли нивы, на потемневший от ненастий ветряк, на темнеющие в полупрозрачном туманце луга и неторопливо пошел в предрассветные поля, породившие его.
Киев — Ирпень — Дяковцы
1959–1961 гг.
Примечания
1
Машталир — возник.
(обратно)2
Выкапустить — вырастить в виде капусты.
(обратно)3
Паняй — гони, вези, погоняй.
(обратно)4
Стихи Т. Г. Шевченко:
Село! І серце одпочине: Село на нашій Україні — Неначе писанка, село Зеленим гаем поросло. (обратно)5
Шикуха — (шикша, вороника), водяника черноплодная; в качестве лекарственного сырья используют ягоды и молодые веточки.
(обратно)6
Урда — 1. (вурда), козий сыр; 2. (гурда) — блюдо из конопляного (редко льняного) семени. Слегка поджаренные семена толкли и растирали макогоном в башке, заливали кипятком, вымешивали, чтобы получить «постное» молоко, процеживали, солили и ставили на огонь. При кипении на поверхности образовывалась желтоватая пена, которую снимали половником-шумовкой и использовали как начинку к пирогам и вареникам. Вместо семян бедные крестьяне употребляли лийкуху (отходы производства конопляного масла). Как и семенное молоко, урда вышла из употребления в начале нашего века с переходом на производство подсолнечного масла.
(обратно)7
Шкандыбать — ковылять.
(обратно)8
Мелун — смысл улавливается из контекста; но если брать melun (турец.), то — проклятый, окаянный, гнусный.
(обратно)9
Кладун — возможно, от слова «класть» — в значении «убивать», «разрушать».
(обратно)10
Шеляговый — от «шеляг» — старинная мелкая монета в Польше, копеечный.
(обратно)11
Шпакуватый — темно-серый.
(обратно)12
Выбатьковать — отчитать, поругать по-отечески.
(обратно)13
Покрытченко — сын покрытки — девушки, родившей внебрачного ребенка; бастард, подзаборник.
(обратно)14
Мисник — шкаф или полка для посуды.
(обратно)15
Бездонки — подставки для дуплянок.
(обратно)16
Искаженное «студента».
(обратно)17
Дукач — богатей.
(обратно)18
Нивяник-зелье — ромашка полевая.
(обратно)19
Мельниковна — дочь мельника.
(обратно)20
Кожухарша — жена кожухаря, изготовителя кожухов, тулупов.
(обратно)21
Полумисок — глубокая тарелка, чуть меньше миски; возможно, салатница.
(обратно)22
Грис — высевки.
(обратно)23
Штурпак — зубчатый пенек.
(обратно)24
Глитай — кулак, мироед; глитаєнко — сын кулака, мироеда.
(обратно)25
Мамула — болван, дурак, телепень, оболтус, олух.
(обратно)26
Налавник — матрац.
(обратно)27
Покуттье — угол, расположенный по диагонали от печи, и место у него; обычно это дальний правый угол в хате, где висят образа.
(обратно)28
Скапцанить — обеднеть.
(обратно)29
Жменя — горсть; количество чего-то сыпучего, что можно зажать в кулаке.
(обратно)30
Спасовка — дни празднования Спаса; замечено, что в этот период насекомые, мухи и оводы, особенно злобно кусают все живое.
(обратно)31
Байстрюк — бастард, сураз, нагулянный.
(обратно)32
Рептух — мешок или сумка для кормления лошадей в дороге.
(обратно)33
Нагибать — с трудом найти.
(обратно)34
Летовать — ночевать летом.
(обратно)35
Рубель — Длинная жердь, которую кладут сверху на воз с сеном, снопами и притягивают за концы веревкой так, чтобы, придавив, удержать груз.
(обратно)36
Фурманка — извоз.
(обратно)37
Городец — небольшой ставок на усадьбе.
(обратно)38
Манделя — высушенный пучок конопли, перевязанный свяслами и предназначенный для отмачивания и дальнейшей обработки.
(обратно)39
Веремия — сложные обстоятельства с быстрым развитием событий.
(обратно)40
Круговина — участок какой-нибудь поверхности, похожий по форме на круг.
(обратно)41
Гречище — гречневое поле.
(обратно)42
Налюшник — кольцо, которым привязывается люшня к полудрабку; люшня — деревянная деталь, связывающая ось телеги с полудрабком; полудрабок — бок тележных телеги, изготовленный с помощью продольных и поперечных жердей наподобие стремянки (драбины).
(обратно)43
Душа не из лопуцька — неравнодушная душа; лопуцьок — молодой, сочный стебель некоторых растений, обычно съедобных.
(обратно)44
Обещанка-цяцянка — пустые обещания.
(обратно)45
Грицик — степная тиркушка.
(обратно)46
Охлябь — без седла.
(обратно)47
Гули — то же, что гулять.
(обратно)48
Пешкодрала — пешком.
(обратно)49
От поговорки (укр.) — Буде каяття, та не буде вороття.
(обратно)
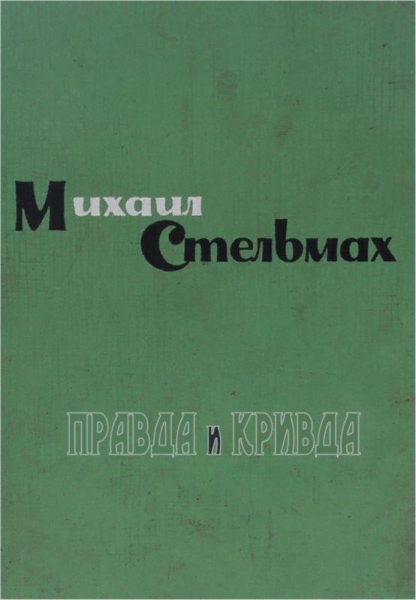




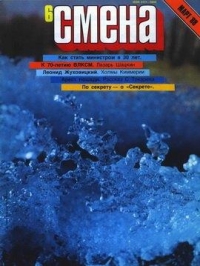
Комментарии к книге «Правда и кривда», Михаил Афанасьевич Стельмах
Всего 1 комментариев
михаил
07 мар
очень хорошая книга о людях по настоящему любящих свою Родину