1
Во двор Московского экономического института вышел молодой нерусский человек Назар Чагатаев. Он с удивлением осмотрелся кругом и опомнился от минувшего долгого времени. Здесь, по этому двору, он ходил несколько лет, и здесь прошла его юность, но он не жалеет о ней – он взошел теперь высоко, на гору своего ума, откуда виднее весь этот летний мир, нагретый вечерним отшумевшим солнцем.
По двору росла случайная трава, в углу стоял рундук для мусора, затем находился ветхий деревянный сарай, и около него жила одинокая старая яблоня без всякого участья человека. Вскоре после этого дерева лежал самородный камень весом пудов, наверно, в сто, – неизвестно откуда, и еще далее впилось в землю железное колесо от локомобиля девятнадцатого века.
Двор был пуст. Молодой человек сел на порог сарая и сосредоточился. Он получил в канцелярии института справку о защите дипломной работы, а самый диплом ему вышлют после по почте. Больше он сюда не вернется. Он втайне прощался со всеми здешними, мертвыми предметами. Когда-нибудь они тоже станут живыми – сами по себе или посредством человека. Он обошел все ненужные дворовые вещи и потрогал их рукою; он хотел почему-то, чтобы предметы запомнили его и полюбили. Но сам в это не верил. По детскому воспоминанию он знал, что после долгой разлуки странно и грустно видеть знакомое место: ты с ним еще связан сердцем, а неподвижные предметы тебя уже забыли и не узнают, точно они прожили без тебя деятельную, счастливую жизнь, а ты был им чужой, одинок в своем чувстве и теперь стоишь перед ними жалким неизвестным существом.
За сараем рос старый сад. Там сейчас ставили столы, проводили временный свет и делали разное убранство. Директор института назначал сегодня вечернее торжество для второго выпуска советских экономистов и инженеров. Со двора своего училища Назар Чагатаев пошел в общежитие, чтобы отдохнуть и переодеться для вечера. Он лег на свою кровать и нечаянно уснул – с тем ощущением внезапного телесного счастья, которое бывает лишь в молодости.
Позже, во время темного вечера, Чагатаев снова пришел в сад экономического института. Он надел свой хороший серый костюм, сбереженный в долгие студенческие годы, и побрился перед ручным девичьим зеркалом. Все его имущество лежало под подушкой и в тумбочке около кровати. Чагатаев, уходя на вечер, с сожалением поглядел во внутреннюю тьму своего шкафа; скоро он забудет его, и запах одежды и тела Чагатаева навсегда исчезнет из этого деревянного ящика.
В общежитии жили студенты других вузов, поэтому Чагатаев отправился один. В саду играл оркестр, приглашенный из кинотеатра, столы были составлены в одну длинную очередь, и над ними горели прожекторные лампы, подвешенные электриками на времянках между деревьями. Пустая летняя ночь стояла над головами собравшихся на свое торжество, на свое последнее свидание, и вся прелесть той ночи была в открытом и теплом пространстве, в тишине неба и растений.
Музыка играла. Молодые люди сидели за столами, готовые разойтись отсюда по окружающей земле, чтобы устроить себе там счастье. Скрипка музыканта иногда замирала, как удаленный, слабеющий голос.
Чагатаеву казалось, что это плачет человек за горизонтом, – может быть, в той, никому не знакомой стране, где он когда-то родился, где теперь живет или умерла его мать.
– Гюльчатай! – сказал он вслух.
– Что такое? – спросила его соседка, технолог.
– Ничего не значит, – объяснил Чагатаев. – Гюльчатай – моя мать, горный цветок. Людей называют, когда они маленькие и похожи на все хорошее…
Скрипка играла снова, ее голос не только жаловался, но и звал – уйти и не вернуться, потому что музыка всегда играет ради победы, даже когда она печальная.
Вскоре начались танцы, игры, обычное торжество молодости. Чагатаев глядел на людей и в ночную природу; ему еще долго предстояло здесь находиться, может быть вечно, бороться с мученьем, работать и быть счастливым.
Против Чагатаева сидела неизвестная ему юная женщина, с глазами, блестевшими черным светом, в синем платье, надетом высоко, до подбородка, как на старухе, что ей придавало неудобный и милый вид. Она не танцевала, стесняясь или не умея, и с увлечением глядела на Чагатаева. Ей нравилось его смуглое лицо с узкими чистыми глазами, направленными на нее в упор с добром и угрюмостью, его широкая грудь, скрывающая сердце с тайными чувствами, и мягкий, немощный рот, способный плакать и смеяться. Она не скрывала своей симпатии и улыбнулась Чагатаеву; он ей ничем не ответил. Общее веселье все более увеличивалось. Студенты – экономисты, плановики и инженеры – брали со столов цветы, рвали траву в саду и делали из них своим подругам подарки или прямо посыпали им растения на их густые волосы. Затем появилось конфетти, и оно тоже пошло в дело удовольствия. Женщина, сидевшая против Чагатаева, исчезла – она танцевала теперь на садовой тропинке, обсыпанная разноцветными бумажками, и была довольна.
Другие женщины, оставшиеся за столом, тоже были счастливы от внимания своих друзей, от окружавшей их природы и от предчувствия своего будущего, равного по долготе и надеждам бессмертию. Лишь одна между ними была без цветов и конфетти на голове; к ней никто не склонялся с шутливыми словами; и она жалко улыбалась, чтобы показать, что принимает участие в общем празднике и ей здесь приятно и весело. Глаза же ее были грустны и терпеливы, как у большого [рабочего животного][2]. Иногда она чутко глядела по сторонам и, убедившись, что никому не нужна, быстро собирала со стульев соседей упавшие цветы и красочные бумажки и прятала их незаметно. Чагатаев изредка видел ее действия, но понять не мог; ему уже стало скучно от долгого одинакового торжества, и он собирался уйти отсюда. Женщина, собиравшая цветы, павшие с других людей, тоже ушла куда-то – время вечера вышло, звезды стали большими, начиналась ночь. Чагатаев встал с места и поклонился ближним товарищам – он не скоро с ними увидится.
Чагатаев пошел мимо деревьев и заметил ту женщину с [лошадиным] лицом, спрятавшуюся в тени; она его не видела, она сейчас накладывала себе на волосы цветы и ленты, потом она вышла из-за деревьев опять к освещенному столу. Чагатаев сейчас же возвратился туда: он хотел немедленно опрокинуть столы, повалить деревья и прекратить это наслаждение, над которым капают жалкие слезы, но женщина была теперь счастливая, смеющаяся, с розой в темных волосах, хотя глаза ее были заплаканы. Чагатаев остался в саду; он подошел к ней и познакомился; она оказалась студенткой-дипломницей химического института. Он ее пригласил танцевать, хотя сам не умел, но она танцевала отлично и вела его в такт музыке, как нужно. Глаза ее быстро высохли, лицо похорошело, и тело, привыкшее к дикой робости, теперь с доверием прижималось к нему, полное поздней девственности, пахнущее добрым теплом, как хлеб. Чагатаев забылся около нее, сон и счастье исходили от этой чужой женщины, с которой он, вероятно, не встретится более; так часто живет рядом с нами незаметное блаженство.
Свидание и веселье продолжалось до света на небе; затем сад опустел, осталась мертвая утварь, все разошлись. Чагатаев и его новая подруга Вера пошли по Москве, освещенной зарею. Чужеземец Чагатаев любил этот город, как родину, и был благодарен, что он здесь долго жил, узнал науку и съел много хлеба без попрека. Он посмотрел на свою спутницу – ее лицо стало красивым от встающего вдалеке солнца.
Прошло время, небо стало высоким и чистым, напряженное солнце беспрерывно посылало свое добро земле – свет. Вера шла молча. Чагатаев изредка всматривался в нее и удивлялся, почему она кажется всем нехорошей, когда даже скромное молчание ее напоминает безмолвие травы, верность привычного друга. Ведь это только издали можно ненавидеть ее, отрицать или быть вообще равнодушным к человеку. Но когда Чагатаев видел теперь вблизи морщины утомления на ее щеках, выражение лица, прячущего ее желания, глаза, хранимые веками, опухшие губы – все таинственное воодушевление этой женщины, скрытое в ее живом веществе, все доброе и сильное создание ее тела, то он робел от нежности к ней и не мог бы ничего сделать против нее, и ему даже стыдно было думать о том, красива она или нет.
– Я уморилась, мы ведь не спали, – сказала Вера, – давайте прощаться.
– Ничего, – ответил Чагатаев. – Я скоро уезжаю, давайте немного побудем.
Они еще пошли вперед, миновали долгие улицы и где-то остановились.
– Здесь я живу, – указала Вера на новое большое жилище.
– Пойдемте к вам. Вы ляжете отдыхать, а я посижу около вас и потом уйду.
Вера стояла в смущении.
– Ну, хорошо, – сказала она и повела гостя.
У нее была большая комната с обычной мебелью девушки, но эта комната была какой-то грустной, занавешенной шторами, скучной и почти пустой.
Вера сняла летний плащ, и Чагатаев заметил, что она полнее, чем кажется. Затем Вера стала рыться в своих хозяйственных закоулках, чтобы покормить гостя, а Чагатаев засмотрелся на старинную двойную картину, висевшую над кроватью этой девушки. Картина изображала мечту, когда земля считалась плоской, а небо – близким. Там некий большой человек встал на землю, пробил головой отверстие в небесном куполе и высунулся до плеч по ту сторону неба, в странную бесконечность того времени, и загляделся туда. И он настолько долго глядел в неизвестное, чуждое пространство, что забыл про свое остальное тело, оставшееся ниже обычного неба. На другой половине картины изображался тот же вид, но в другом положении. Туловище человека истомилось, похудело и, наверно, умерло, а отсохшая голова скатилась на тот свет – по наружной поверхности неба, похожего на жестяной таз, – голова искателя новой бесконечности, где действительно нет конца и откуда нет возвращения на скудное, плоское место земли.
Но Чагатаеву, как больному, ничто теперь стало немило и неинтересно. С оробевшим сердцем он обнял Веру, склонившуюся близ него по своему хозяйскому делу, и прижал ее к себе с силой и осторожностью, будто желая как можно ближе приникнуть к ней, чтобы согреться и успокоиться. Вера сразу поняла его и не оттолкнула. Она выпрямилась, склонила его голову ниже своей и стала ласкать его черные жесткие волосы, а сама глядела в сторону, отстраняя лицо, но все же слезы ее изредка падали на голову Чагатаеву и там высыхали. Вера плакала бесшумно, одними слезами, бегущими из глаз, стараясь не менять выражения лица, чтобы не всхлипывать. Чагатаев услышал ее, однако ему было все равно, что сейчас случается, и он бы не мог теперь никому помочь.
– Я ведь беременная, – сказала Вера.
– Пусть! – ответил Чагатаев, прощая ей все, храбрый в сердце, как обреченный на смерть.
– Нет! – печально говорила Вера, закрываясь концом рукава, чтобы высушить слезы и скрыть свое некрасивое лицо, о котором она помнила даже во сне. – Нет. Я ничего не могу.
Чагатаев оставил ее. Ему не нужно было обязательно утешать себя яростным наслаждением с Верой, чтобы иметь счастье. Достаточно быть с нею вблизи, держать ее руку и спросить, почему она плачет – от горя или оскорбления.
– У меня недавно умер мой муж, – сказала Вера. – А мертвого, вы знаете, как трудно забыть. И ребенок, когда родится, он не увидит отца, а одной матери ему мало будет… Ведь правда, мало?
– Мало, – согласился Чагатаев. – Теперь я буду его отцом.
Он обнял ее, и они уснули в светлое время дня, и шум строящейся Москвы, бурение недр, ссоры населения на уличном транспорте – все умолкло в их ушах; они лишь друг друга держали руками, и каждый из них слушал сквозь сон глухое, кроткое дыхание другого.
Под вечер, незадолго до окончания занятий в учреждениях, они зарегистрировались в ближнем загсе. Они стояли между двумя букетами цветов; заведующий загсом поздравил их краткой речью, предложил поцеловаться в знак пожизненной верности и посоветовал иметь много детей, чтобы революционное поколение распространилось на вечные времена. Чагатаев дважды поцеловал Веру и дружески попрощался с заведующим, думая о том, что хорошо было бы, если бы и он поцеловал Веру, а не ограничился служебной необходимостью.
С тех пор Чагатаев каждый день приходил по вечерам в гости к Вере, когда она уже ждала его и радовалась его приходу. Они сразу же обнимались, причем Чагатаев обращался с Верой крайне осторожно, храня в ней ребенка от погибшего отца. Затем они шли гулять, как все люди обычно, под руку по улице, осматривали внимательно витрины, точно готовясь многое приобрести, следили за небом, где были свои происшествия, и не забывали ничего из окружающих их, беспрерывно текучих событий, как будто сердце во время любви настолько тяжело, что его надо все время развлекать пустяками, чтоб оно не чувствовало своей работы.
Но Чагатаев еще не был настоящим мужем Веры, она все время отклоняла его сожительство – с нежностью и страхом, чтобы не обидеть его и не отдаться ему. Она словно боялась погубить в страсти свое бедное утешение, которое явилось внезапно и странно; или она просто хитрила, расчетливо и разумно, желая иметь в своем муже неостывающую теплоту, чтобы самой согреваться в ней долго и надежно. Однако Чагатаев не мог вынести своего чувства к Вере на одной духовной и бесчеловечной привязанности, и он вскоре заплакал над нею, когда она лежала на кровати, по виду беспомощная, но улыбающаяся и непобедимая.
Чагатаев не умел терпеть силу своей жизни, он знал ее невинность и доброту, поэтому его оскорбляла чужая недоступность, и он терял память и соображение. Еще в детстве он также топал босыми ногами в землю, обливался слезами от безутешного неистовства и грозился прохожим, когда видел еду за толстым стеклом и не мог ее немедленно съесть.
2
Лето продолжалось. От жары тлели торфяные болота вокруг Москвы, и по вечерам в воздухе стояла гарь, смешанная с теплым парующим духом удаленных колхозов и полей, точно всюду в природе готовили пищу на ужин. Чагатаев проводил с Верой последние дни: он получил назначение на работу; ему нужно было уезжать на родину, в середину азиатской пустыни, где жила или уже давно умерла его мать. Чагатаев пропал оттуда мальчиком, пятнадцать лет тому назад. Старая мать его, туркменка Гюльчатай, надела ему шапку-папаху, положила в сумку кусок старого чурека и еще добавила лепешку, испеченную из растертых корней камыша, катрана и ярмалыка, затем дала тростинку в руку, чтобы вместо старшего друга шло растение рядом, и велела идти.
– Ступай, Назар, – сказала она, не желая видеть его мертвым рядом с собой. – Если узнаешь отца своего, ты к нему не подходи. Увидишь базары и богатство, в Куня-Ургенче, в Ташаузе, Хиве – ты туда не иди, ступай мимо всех, иди далеко к чужим. Пусть отец твой будет незнакомым человеком.
Маленький Назар не хотел уходить от матери. Он ей говорил, что привык умирать и больше не боится, что он мало будет есть. Но мать прогоняла его.
– Нет, – говорила она. – Я уже так слаба, что любить тебя не могу, живи теперь один. Я забуду тебя.
Назар заплакал около матери. Он обнял одну ее худую холодную ногу и долго стоял, впившись в ослабевшее привычное тело; небольшое сердце его стало тогда больным, оно сразу вдруг утомилось и билось тяжело, как намокшее. Мальчик сел в пыль земли и сказал матери:
– Я тоже тебя забуду, я тоже тебя не люблю. Вы маленького человека кормить не можете, а когда умрете, то никого у вас не будет.
Он лег лицом вниз и заснул в сырости слез и своего дыхания. Проснулся Назар в пустом месте. Мать ушла, с пустыни шел ничтожный чужой ветер – без всякого запаха и без живого звука. Некоторое время мальчик сидел смирно, он ел материнский чурек, оглядывался и думал ту мысль, которую теперь с возрастом забыл. Перед ним была земля, где он родился и захотел жить. Та детская страна находилась в черной тени, где кончается пустыня; там пустыня опускает свою землю в глубокую впадину, будто готовя себе погребение, и плоские горы, изглоданные сухим ветром, загораживают то низкое место от небесного света, покрывая родину Чагатаева тьмою и тишиной. Лишь поздний свет доходит туда и освещает грустным сумраком редкие травы на бледной засоленной земле, будто на ней высохли слезы, но горе ее не прошло.
Назар стоял на краю темной земли, павшей вниз; далее начиналась песчаная пустыня, более счастливая и светлая, и среди песчаных покойных бугров даже в тихое время, в тот исчезнувший детский день, ютился мелкий ветер, бредущий и плачущий, изгнанный издалека. Мальчик прислушался к этому ветру и повел глазами за ним, чтобы увидеть его и быть с ним вдвоем, но не увидел ничего, и тогда он закричал. Ветер пропал от него, никто не отозвался. Вдалеке наступала ночь; на темную низкую землю, откуда вывела его мать, уже легла тень, и лишь курился белый дым из кибиток и землянок, где прежде жил ребенок. Назар в недоумении попробовал свои ноги и тело: есть ли он на свете, раз его никто теперь не помнит и не любит; ему нечего стало думать, будто он жил от силы и желания других близких людей, а сейчас их нет, и они прогнали его… Шершавый куст – бродяга, по-русски – перекати-поле, без ветра склонялся и перекатывался по песку, уходя отсюда мимо. Куст был пыльный, усталый, еле живой от труда своей жизни и движения; он не имел никого – ни родных, ни близких, и всегда удалялся прочь. Назар потрогал его ладонью и сказал ему: «Я пойду с тобою, одному мне скучно, – ты думай про меня что-нибудь, а я буду про тебя. А с ними я жить не хочу, они мне не велели, пускай сами умрут!» И он погрозил тростниковой палкой на родину и забывшей его матери.
Назар пошел за кустом перекати-поля и шел до самой тьмы. Во тьме он лег и уснул от слабости, трогая куст рукой, чтоб он остался с ним. Наутро он проснулся и сразу испугался, что нет с ним куста: он укатился один ночью. Назар хотел заплакать, но увидел, что куст шевелился сейчас на верху ближнего песчаного холма, и мальчик догнал его.
Родина и мать давно скрылись – пусть их забудет его сердце, пока оно растет. В тот день бредущий куст довел Назара до овечьего пастуха, и пастух напоил мальчика и накормил, а куст его привязал к палке, чтобы он тоже отдохнул. Долгое время Назар ходил с пастухом и жил у него, пока не выпал снег, тогда хозяин отпустил пастуха по делам в Чарджуй, потому что пастух стал слепнуть, и пастух отправился с мальчиком, а в городе отдал его советской власти, как не нужного никому. Советская власть всегда собирает всех ненужных и забытых, подобно многодетной вдовице, которой ничего не сделает один лишний рот.
Теперь прошли многие годы, но ничто не было забыто, и потерянная мать была такой же любимой, и для воспоминания о ней всегда будет одинокая сила в сердце, точно детство не прекратилось. Отца своего Чагатаев никогда не знал. Русский солдат Хивинских экспедиционных войск Иван Чагатаев пропал прежде, чем родила Гюльчатай, бывшая тогда молодой женой Кочмата, от которого она уже имела двоих маленьких детей; но дети от Кочмата умерли, когда Назар был в младенчестве, о них только говорила ему мать впоследствии, что они жили когда-то. Кочмат же был беден и гораздо старше своей жены; он жил тем, что ходил на байские земли в Куня-Ургенч и в Ташауз – работать на хошарах, чтобы хоть в летнее время питать семейство хлебом. А в зимнее время он почти беспрерывно спал в землянке, вырытой у подножья Усть-Урта. Он берег свою неимущую силу, и Гюльчатай лежала с ним под одною кошмой; она тоже грелась и дремала в долгие зимы, чтобы меньше есть, а между ними лежали их дети, когда они были живы. Изредка Гюльчатай выходила, добывала траву на пищу или шла наниматься батрачкой в Хиву… Однажды в Хиве она не нашла работы; была в то время зима, богатые пили чай и ели баранину, а бедные ждали тепла и роста растений. Гюльчатай ютилась на базаре, ела кое-что, что оставалось на земле от торговцев, но побираться стыдилась людей. На том хивинском базаре ее заметил солдат Иван Чагатаев и стал приносить ей каждый день казенную пищу в котелке. Гюльчатай ела солдатский суп с говядиной на вечернем пустом базаре, а солдат понемногу касался ее и затем обнимал. Но женщине совестно было в ответ на угощение отвергать человека: она молчала и не сопротивлялась. Она думала, чем отблагодарить русского, и не было у нее ничего, кроме того, что выросло от природы.
– Отчего у тебя слезы на глазах? – спросила Вера у Чагатаева в день его отъезда на родину.
– Я вспомнил свою мать, как она улыбалась мне, когда я был маленьким.
– Но как же?
Чагатаев затруднился.
– Не помню… Она мне радовалась и оплакивала меня, – теперь люди так не улыбаются. У ней слезы лились по счастливому лицу.
Мать говорила Назару, что муж ее, Кочмат, когда узнал, что Назар – сын русского солдата, а не его, то он не ударил ее и не сделался яростным, а только стал скучным и чуждым для всех. Он ушел отдельно вдаль и там один отдышался от своей печали; потом он вернулся и любил Гюльчатай по-прежнему.
Назар Чагатаев пошел гулять с Верой в последний раз. Вечером его поезд уйдет в Азию. Вера уже собрала его в дальнюю дорогу: заштопала чулки, пришила нужные пуговицы, сама выгладила белье и несколько раз перепробовала и проверила все вещи, лаская их и завидуя им, что они поедут вместе с ее мужем.
На улице Вера попросила Чагатаева зайти с нею к знакомым. Может быть, через полчаса он навсегда перестанет любить ее.
Они вошли в большую квартиру. Вера познакомила мужа с пожилой женщиной и спросила:
– Что Ксеня – дома или еще где-нибудь?
– Дома, дома, она только что пришла, – сказала хозяйка.
В просторной неубранной комнате сидела черноволосая девочка лет тринадцати или пятнадцати. Она читала книжку и вертела конец своей косы в руке.
– Мама! – И девочка обрадовалась пришедшей матери.
– Здравствуй, Ксеня! – сказала Вера. – Это моя дочь, – познакомила она девочку с Чагатаевым.
Чагатаев пожал странную руку, детскую и женскую; рука была липкая и нечистая, потому что дети не сразу приучаются к чистоте.
Ксеня улыбалась. Она не походила на мать – у нее было правильное лицо юноши, немного грустное от стыда и непривычки жить и бледное от усталости роста. Глаза ее имели разный цвет – один черный, другой голубой, что придавало всему выражению лица кроткое, беспомощное значение, точно Чагатаев видел жалкое и нежное уродство. Лишь рот портил Ксеню – он уже разрастался, губы полнели, словно постоянно жаждали пить, и было похоже, что сквозь невинное безмолвие кожи пробивалось наружу сильное разрушительное растение.
Все молчали от неопределенного положения, хотя Ксеня уже догадывалась про все.
– Вы здесь живете? – спросил пустяковое дело Чагатаев.
– Да, у матери моего папы, – сказала Ксеня.
– А где папа, он умер?
Вера была в стороне, она глядела в окно, на Москву.
Ксеня засмеялась.
– Нет, что вы! Мой папа молодой, он живет на Дальнем Востоке и строит мосты. Два уже построил!
– Большие мосты? – спросил Чагатаев.
– Большие: один висячий, другой с двумя опорными быками и потерянными кессонами. Они скрылись навсегда, они потерялись! – радостно сказала Ксеня. – У меня фотографии из газеты есть!
– Папа вас любит?
– Нет, он любит незнакомых, он нас с мамой любить не хочет.
Они говорили еще, в сердце Чагатаева было неясное сожаление – он сидел с легким, грустным чувством, как во сне и путешествии. Забывая обыкновенную жизнь, он взял руку Ксени к себе и стал держать ее, не разлучаясь.
Ксеня сидела со страхом и удивлением, разноцветные глаза ее смотрели мучительно, как двое близких и незнакомых между собой людей. Ее мать, Вера, стояла в отдалении, молча улыбаясь дочери и мужу.
– Тебе не пора собираться на вокзал? – спросила она.
– Нет, я не поеду сегодня, – сказал Чагатаев. Он скреб башмаками по полу, борясь с нетерпением своей души перед этой девочкой. Ему было, кроме того, стыдно, что его состояние Вера и Ксеня могут понять за жестокую мужскую любовь; он же чувствовал перед Ксеней лишь привязанность, полную смутного наслаждения, человеческого родства и заботы о ее лучшей судьбе. Он хотел бы быть для нее берегущей силой, отцом и вечной памятью в ее душе.
Извинившись, Чагатаев вышел на полчаса, купил в Мосторге различных вещей на триста рублей и принес их в подарок Ксении, если бы он не сделал этого, то сожалел бы многие дни.
Ксеня обрадовалась подаркам, а мать ее нет.
– У Ксени всего два платья, и последняя обувь развалилась, – сказала Вера. – Отец ведь ничего не присылает, а я работаю недавно… Зачем ты накупил этих пустяков, на что девочке дорогие духи, замшевая сумка, какое-то пестрое покрывало?..
– Ну, мама, пускай, ничего! – говорила Ксеня. – Платье мне бесплатно в детском театре дадут, я там активистка, а в отряде скоро горные башмаки начнут распределять, мне обуви не надо. Пусть будет сумка и покрывало.
– Все-таки напрасно, – сетовала Вера. – И ему самому нужны деньги, он едет далеко.
– Мне хватит, – сказал Чагатаев. Он вынул еще четыреста рублей и оставил их на пропитание Ксени.
Девочка подошла к нему. Она поблагодарила Чагатаева, протянув ему руку, и сказала:
– Я вам тоже скоро буду давать подарки. Скоро наступит богатство!
Чагатаев поцеловал ее и попрощался.
– Назар, ты больше не любишь меня? – спросила Вера на улице. – Пойдем разведемся, пока ты не уехал… Ты видел – Ксеня моя дочь, ты ведь у меня третий, и мне тридцать четыре года.
Вера умолкла. Назар Чагатаев удивился:
– Почему я тебя не люблю? А ты любила других мужей?
– Я любила, второй умер, и я по нем и теперь плачу одна. А первый оставил меня с девочкой сам, я его тоже любила и была верна… И мне пришлось долго жить без человека, ходить по веселым вечерам и бумажные цветы самой класть себе на голову…
– Но почему я тебя не люблю?
– Ты любишь Ксеню, я знаю… Ей будет восемнадцать лет, а тебе тридцать, может, немного больше. Вы поженитесь, а я вас посватаю. Ты только не лги мне и не волнуйся, я привыкла терять людей.
Чагатаев остановился перед этой женщиной, как непонимающий. Ему было странно не ее горе, а то, что она верила в свое обреченное одиночество, хотя он женился на ней и разделил ее участь. Она берегла свое горе и не спешила его растратить. Значит, в глубине рассудка и среди самого сердца человека находится его враждебная сила, от которой могут померкнуть живые сияющие глаза среди лета жизни, в объятиях преданных рук, даже под поцелуями своих детей.
– Поэтому ты со мной и не жила? – спросил Чагатаев.
– Да, поэтому, ты ведь не знал, что у меня есть такая дочь, ты думал – я моложе и чище…
– Ну и что ж! Мне это безразлично…
– Нет, скажи: ты сейчас влюбился в Ксеню? Я заметила.
– Влюбился, – ответил Чагатаев, – я не вытерпел.
Они молча дошли до комнаты Веры. Она стала среди своего жилища, не снимая плаща, равнодушная и чужая для собственных окружающих предметов. Если бы был сейчас внезапный случай, она подарила бы всю свою утварь соседке; это доброе дело немного утешило бы ее и вместе с уменьшением имущества уменьшило бы размер ее страдающей души.
Но затем ей пришлось бы раздать свое тело до последнего остатка; однако и этот последний остаток мучился бы с тою же силой, как все тело вместе с одеждой, инвентарем и удобствами, и его также нужно было бы отдать, чтоб уничтожить и забыть.
Отчаяние, тоска и нужда могут сжиматься в человеке вплоть до его последней щели: лишь предсмертное дыхание выносит их вон.
– Ну, как же мне быть теперь? – спросила Вера, произнося эти слова для себя.
Чагатаев понимал Веру. Он обнял ее и долго держал близ груди, чтобы успокоить ее хотя бы своим теплом, потому что мнимое страданье наиболее безутешно и слову не поддается.
Вера начала отходить от горя.
– Ксеня тебя тоже полюбит… Я воспитаю ее, внушу ей память о тебе, сделаю из тебя героя. Ты надейся, Назар, – годы пройдут быстро, а я привыкну к разлуке.
– Зачем привыкать к худому? – сказал Чагатаев; он не мог понять, почему счастье кажется всем невероятным и люди стремятся прельщать друг друга лишь грустью.
Чагатаеву горе надоело с детства, а теперь, когда он стал образованным, ему оно представлялось пошлостью, и он решил устроить на родине счастливый мир блаженства, а больше неизвестно, что делать в жизни.
– Ничего, – сказал Чагатаев и погладил Вере ее большой живот, где лежал ребенок, житель будущего счастья. – Рожай его скорее, он будет рад.
– А может, нет, – сомневалась Вера. – Может, он будет вечный страдалец.
– Мы больше не допустим несчастья, – ответил Чагатаев.
– Кто такие вы?
– Мы, – тихо и неопределенно подтвердил Чагатаев. Он почему-то стыдился говорить ясно и слегка покраснел, словно тайная мысль его была нехороша.
Вера обняла его на прощанье – она следила за часами, разлука подходила близко.
– Я знаю, ты будешь счастлив, у тебя чистое сердце. Возьми тогда к себе мою Ксеню.
Она заплакала от своей любви и неуверенности в будущем; ее лицо вначале стало еще более безобразным, потом слезы омыли его, и оно приобрело незнакомый вид, точно Вера глядела издалека чужими глазами.
3
Поезд давно покинул Москву; прошло уже несколько суток езды. Чагатаев стоял у окна, он узнавал те места, где он ходил в детстве, или они были другие, но похожие в точности. Такая же земля, пустынная и старческая, дует тот же детский ветер, шевеля скулящие былинки, и пространство просторно и скучно, как унылая чуждая душа; Чагатаеву хотелось иногда выйти из поезда и пойти пешком, подобно оставленному всеми ребенку. Но детство и старое время давно прошло. Он видел на степных маленьких станциях портреты вождей; часто эти портреты были самодельными и приклеены где-нибудь к забору. Портреты, вероятно, мало походили на тех, кого они изображали, но их рисовала, может быть, детская пионерская рука и верное чувство: один походил на старика, на доброго отца всех безродных людей на земле; однако художник, не думая, старался сделать лицо похожим и на себя, чтобы видно было, что он теперь живет не один на свете и у него есть отцовство и родство, – поэтому искусство становилось сильнее неумелости. И сейчас же за такой станцией можно видеть, как разные люди рыли землю, сажали что-то или строили, чтобы приготовить место жизни и приют для бесприютных. Порожних, нелюдимых станций, где можно жить лишь в изгнании, Чагатаев не видел; везде человек работал, отходя сердцем от векового отчаяния, от безотцовщины и всеобщего злобного беспамятства.
Чагатаев вспомнил материнские слова: «Иди далеко, к чужим, пусть отец твой будет незнакомым человеком». Он ходил далеко и теперь возвращается, он нашел отца в чужом человеке, который вырастил его, расширил в нем сердце и теперь посылает снова домой, чтобы найти и спасти мать, если она жива, похоронить ее, если она лежит брошенной и мертвой на лице земли.
В одну ночь поезд остановился по неожиданному случаю в темной степи. Чагатаев вышел к двери в тамбур вагона. Было тихо, вдали сопел паровоз, пассажиры спали в покое. Вдруг в степной темноте вскрикнула одна птичка, ее что-то напугало. Чагатаев вспомнил этот голос через многие годы, как будто его детство жалобно прокричало из безмолвной тьмы. Он прислушался; еще какая-то птица что-то быстро проговорила и умолкла, он тоже помнил ее голос, но сейчас забыл ее имя: может быть, пустынная славка, может быть, пустельга. Чагатаев вышел из вагона. Невдалеке он заметил кустарник и, дойдя до него, взял его за ветвь и сказал ему: «Здравствуй, куян-суюк!» Куян-суюк слегка пошевелился от прикосновения человека и опять остался как был – равнодушный и спящий.
Чагатаев отошел еще дальше. В степи что-то шевелилось и покрикивало, она казалась бесшумной лишь для отвыкших ушей. Земля стала опускаться в низину, началась синяя высокая трава. Чагатаев, с интересом воспоминания, вошел в траву; растения дрожали вокруг него, колеблемые снизу, разные невидимые существа бежали от него прочь – кто на животе, кто на ножках, кто низким полетом – что у кого имелось. Они, наверно, сидели до того неслышно, но спали из них лишь некоторые, далеко не все. У всякого было столько заботы, что дня, видимо, им не хватало, или им жалко было тратить краткую жизнь на сон, и они только чуть дремали, опустив пленку на полглаза, чтобы видеть хоть полжизни, слышать тьму и не помнить дневной нужды.
Забыв свое дело, Чагатаев почувствовал запах влаги; где-то вблизи было озеро или колодезь. Он направился туда и вскоре вошел в какую-то небольшую, влажно растущую траву, похожую на маленькую русскую рощу. Глаза Чагатаева притерпелись ко мраку, он видел теперь ясно. Затем начался камыш; когда Чагатаев вошел в него, то сразу закричали, полетели и заерзали на месте все здешние жители. В камышах было тепло. Животные и птицы не все исчезли от страха перед человеком, некоторые, судя по звукам и голосам, остались, где были. Они испугались настолько, что, ожидая гибели, спешили поскорее размножиться и насладиться. Чагатаев знал эти звуки издавна и теперь, слушая томительные, слабые голоса из теплой травы, сочувствовал всей бедной жизни, не сдающей своей последней радости. Поезд неслышно поехал. Чагатаев мог бы его догнать, но не поторопился; уехал лишь чемодан с бельем, и то его можно получить обратно в Ташкенте. Но Чагатаев решил его не получать, чтобы спешить по своему делу и не отвлекаться. Он уснул в траве, среди спокойствия, прижавшись к земле, как прежде.
Через семь дней Чагатаев дошел до Ташкента ближней пешей дорогой. Он явился в Центральный комитет партии, где его уже давно ожидали. Секретарь комитета сказал Чагатаеву, что где-то в районе Сары-Камыша, Усть-Урта и дельты Амударьи блуждает и бедствует небольшой кочевой народ из разных национальностей. В нем есть туркмены, каракалпаки, немного узбеков, казахи, персы, курды, белуджи и позабывшие, кто они. Раньше этот народ почти постоянно жил во впадине Сары-Камыша, откуда он ходил работать на хошары и на чигири в Хивинский оазис, в Ташауз, в Ходжейли, Куня-Ургенч и другие дальние места. Бедность и отчаяние того народа были настолько велики, что он о земляной хошарной работе, которая продолжалась лишь несколько недель в году, думал как о благе, потому что ему давали в эти дни есть хлебные лепешки и даже рис. На чигирях тот народ работал вместо ослов, двигая своим телом деревянное водило, чтобы подымалась в арык вода. Осла надо кормить круглый год, а рабочий народ из Сары-Камыша ел лишь немного времени, а потом уходил вон. И целиком не умирал и на другой год снова возвращался, протомившись где-то на дне пустыни.
– Я знаю этот народ, я там родился, – сказал Чагатаев.
– Поэтому тебя и посылают туда, – объяснил секретарь. – Как назывался этот народ, ты не помнишь?
– Он не назывался, – ответил Чагатаев. – Но сам себе он дал маленькое имя.
– Какое его имя?
– Джан. Это означает душу или милую жизнь. У народа ничего не было, кроме души и милой жизни, которую ему дали женщины-матери, потому что они его родили.
Секретарь нахмурился и сделался опечаленным.
– Значит, все его имущество – одно сердце в груди, и то когда оно бьется…
– Одно сердце, – согласился Чагатаев, – одна только жизнь; за краем тела ничего ему не принадлежит. Но и жизнь была не его, ему она только казалась.
– Тебе мать говорила, что такое джан?
– Говорила. Беглецы и сироты отовсюду и старые изнемогшие рабы, которых прогнали. Потом были женщины, изменившие мужьям и попавшие туда от страха, приходили навсегда девушки, полюбившие тех, кто вдруг умер, а они не захотели никого другого в мужья. И еще там жили люди, не знающие бога, насмешники над миром, преступники… Но я не помню всех – я был маленький.
– Езжай туда теперь. Найди этот потерянный народ – Сары-Камышская впадина пуста.
– Я поеду, – согласился Чагатаев. – Что мне там делать? Социализм?
– Чего же больше? – произнес секретарь. – В аду твой народ уже был, пусть поживет в раю, а мы ему поможем всей нашей силой… Ты будешь нашим уполномоченным. Туда послали кого-то из района, но едва ли он что сделает там: кажется, не наш человек…
Затем секретарь дал Чагатаеву подробные, тщательные инструкции, командировочную бумагу, и Чагатаев попрощался.
Он задумал плыть на родину вниз по Амударье, сев около Чарджуя в каюк.
На ташкентской почте он получил письмо от Веры. Она писала, что ребенок ее приближается на свет, он уже думает что-то внутри ее тела, потому что часто шевелится и бывает недоволен.
«Но я ласкаю его, я глажу свой живот и, согнувшись лицом ближе к нему, – писала Вера, – говорю: «Чего ты хочешь? Тебе там тепло и тихо, я стараюсь мало двигаться, чтобы ты не раздражался, – зачем ты хочешь уйти из меня?..» Я привыкла к нему, все время живу с ним как с другом, как хотела жить с тобой, и рождения его я боюсь – не потому, что мне будет больно, а потому, что это будет начало разлуки с ним навек, и его ножки, которыми он сейчас стучит, спешат уйти от матери, и они будут уходить все дальше и дальше – по мере его жизни, пока мой сын не скроется совсем от меня, от моих заплаканных глаз… Ксеня тебя помнит, но скучает, что ты далеко, не скоро приедешь, даже ничего не известно. Не умер ли ты уже где-то?» Чагатаев послал Вере открытку, что он целует ее и Ксеню – в ее разноцветные глаза, и пройдет недолго, как он приедет, когда он сделает счастье среди одной земли.
4
Из Чарджуя в Нукус собирались идти с кооперативными товарами четыре каюка. Чагатаев не стал пользоваться своим правом командированного человека, потому что это право слабо признавалось, а нанялся быть помощником речного матроса. Он условился идти до Хивинского оазиса, а там сойдет на берег.
Наступили долгие дни плавания. Утром и вечером река превращалась в золотой поток благодаря косому свету солнца, проницающему воду сквозь ее живой, несущийся ил. Эта желтая земля, путешествующая в реке, заранее была похожа на хлеб, цветы и хлопок и даже на тело человека. Иногда на камышовой вершине сидела разноцветная незнакомая птичка, она вертелась от внутреннего волнения, блестела перьями под живым солнцем и пела что-то сияющим тонким голосом, будто уже наступило блаженство для всех существ. Птица напоминала Чагатаеву про Ксеню, маленькую женщину с цветными глазами, думающую что-нибудь сейчас про него.
Через четырнадцать суток Чагатаев сошел на берег Хивинского оазиса, получив расчет и благодарность от старшего матроса.
Побыв несколько дней в Хиве, Чагатаев пошел на родину, в Сары-Камыш, дорогой детства. Он помнил эту дорогу по слабевшим признакам: песчаные холмы теперь казались ниже, канал более мелким, путь до ближайшего колодца короче. Солнце светило такое же, но менее высоко, чем в то время, когда Чагатаев был маленьким. Курганчи, кибитки, встречные ослы и верблюды, деревья по арыкам, летающие насекомые – все было прежнее и неизменное, но равнодушное к Чагатаеву, точно ослепшее без него. Он шел обиженный, как по чужому миру, вглядываясь во все окружающее и узнавая забытое, но сам оставался неузнанным. Каждое мелкое существо, предмет и растение, оказывается, было более гордым и независимым от прежней привязанности, чем человек.
Дойдя до сухой реки Кунядарьи, Назар Чагатаев увидел верблюда, который сидел, подобно человеку, опершись передними ногами, в песчаном наносе. Верблюд был худ, горбы его опали, и он робко глядел черными глазами, как умный грустный человек. Когда Чагатаев подошел к нему, верблюд не обратил на подошедшего внимания: он следил за движением мертвых трав, гонимых течением ветра, – приблизятся они к нему или минуют мимо. Одна былинка подвинулась близко по песку к самому его рту, и тогда верблюд сжевал ее губами и проглотил. Вдали влачилось круглое перекати-поле, верблюд следил за этой большой живой травой глазами, добрыми от надежды, но перекати-поле уходило стороною; тогда верблюд закрыл глаза, потому что не знал, как нужно плакать.
Чагатаев осмотрел верблюда кругом; животное давно стало худым от голодной нужды и болезни, шерсть его выпала почти вся, остались лишь некоторые клочья, поэтому верблюд дрожал от непривычки и озноба. Он, наверно, был разгружен и оставлен здесь каким-либо прохожим караваном вследствие слабости своих сил – либо его хозяин сам погиб, а животное начало ожидать его, пока не истратило в себе жизненного запаса. Потеряв способность движения, верблюд уперся остатком силы в передних ногах и привстал, чтобы видеть былинки трав, нагоняемые на него ветром, и поедать их. Когда ветра не было, он закрывал глаза, не желая тратить напрасно зрения, и был в дремоте; опуститься и лечь он не хотел, тогда бы он снова приподняться уже не смог, и так оставался сидячим постоянно – то бдительным, то дремлющим, пока смерть не склонила бы его вниз или пока любой ничтожный зверь пустыни не кончил бы его одним ударом маленькой лапы.
Чагатаев долго сидел около этого верблюда, наблюдая и понимая его. Затем он принес издали несколько охапок перекати-поля и дал верблюду их съесть. Напоить он его не мог, у него самого было только две фляги воды, но он знал, что дальше по руслу Кунядарьи есть пресные озера и мелкие колодцы. Однако трудно нести на себе верблюда по песку.
Наступил вечер. Чагатаев кормил верблюда, доставая ему траву из ближних окрестностей, пока тот не положил своей головы на землю; он уснул кротким сном новой жизни. Благодаря ночи, стало холодать. Чагатаев поел лепешек из своего мешка, потом прижался к туловищу верблюда, чтобы согреться, и задремал. Он улыбался; все было странно для него в этом существующем мире, сделанном как будто для краткой насмешливой игры. Но эта нарочная игра затянулась надолго, на вечность, и смеяться никто уже не хочет, не может. Пустая земля пустыни, верблюд, даже бродячая жалкая трава – ведь это все должно быть серьезным, великим и торжествующим; внутри бедных существ есть чувство их другого, счастливого назначения, необходимого и непременного, – зачем же они так тяготятся и ждут чего-то? Чагатаев свернулся калачом около живота верблюда и уснул, удивляясь необыкновенной действительности.
5
Через шесть дней пути по Кунядарье Чагатаев увидел Сары-Камыш. Все это время он вел за собою ожившего верблюда, который мог уже идти своей силой. Но еще не мог везти на себе человека.
Чагатаев сел на краю песков, там, где они кончаются, где земля идет на снижение в котловину, к дальнему Усть-Урту. Там было темно, низко, Чагатаев нигде не разглядел ни дыма, ни кибитки, – лишь в отдалении блестело небольшое озеро. Чагатаев перебрал руками песок, он не изменился: ветер все прошедшие годы сдувал его то вперед, то назад, и песок стал старым от пребывания в вечном месте.
Сюда его мать когда-то вывела за руку и отправила жить одного, а теперь он вернулся. Он пошел дальше с верблюдом, в середину родины. Как маленькие старики, стояли дикие кустарники; они не выросли с тех пор, когда Чагатаев был ребенком, и они, кажется, одни из всех местных существ не забыли Чагатаева, потому что были настолько непривлекательны, что это походило на кротость, и в равнодушие или в беспамятство их поверить было нельзя. Такие безобразные бедняки должны жить лишь воспоминанием или чужой жизнью, больше им нечем.
Несколько дней Чагатаев потратил на блуждание по этой своей детской стране, чтобы найти людей. Верблюд самостоятельно ходил за ним следом, боясь остаться один и заскучать; иногда он долго глядел на человека, напряженный и внимательный, готовый заплакать или улыбнуться и мучаясь от неуменья.
Ночуя в пустых местах, доедая свою последнюю пищу, Чагатаев, однако, не думал о своем благополучии. Он направлялся в глубь безлюдной впадины, по дну древнего моря, спеша и беспокоясь. Лишь однажды он лег среди дневного пути и прижался к земле. Сердце его сразу заболело, и он потерял терпение и силу бороться с ним; он заплакал по Ксене, стыдясь своего чувства и отрекаясь от него. Он видел ее сейчас близкой в уме и в воспоминании; она улыбалась ему жалкой улыбкой маленькой женщины, которая может любить только в душе, но обниматься не хочет и боится поцелуев, как увечья. Вера сидела вдали и шила детское белье, сокращая разлуку с мужем и уже почти равнодушная к нему, потому что внутри ее шевелился и мучился другой, еще более любимый и беспомощный человек. Она ждала его, желала увидеть его лицо и боялась расстаться с ним. Но ее утешало, что еще долгие годы она будет целовать и обнимать его, когда захочет, пока он не вырастет и не скажет ей: «Будет тебе, мама, приставать ко мне, ты мне надоела!» Чагатаев поднял голову. Верблюд жевал какую-то худую, костлявую траву, маленькая черепаха томительно глядела черными нежными глазами на лежавшего человека. Что было сейчас в ее сознании? Может быть, волшебная мысль любопытства к таинственному громадному человеку, может быть, печаль дремлющего разума.
– Мы тебя одну не оставим! – сказал Чагатаев черепахе.
Он заботился о существующем, как о священном, и был слишком скуп сердцем, чтобы не замечать того, что может служить утешением.
Они пошли с верблюдом далее, к Усть-Урту, где в самом подножье возвышенности жил один забытый старик. Он ночевал в землянке, вырытой в сухом спуске холма, и питался мелкими животными и корнями растений, находившимися в расщелинах плоскогорья. Древняя старость и убожество сделали его мало похожим на человека. Он прожил давно человеческий век, все чувства его удовлетворились, а ум изучил и запомнил местную природу с точностью исчерпанной истины. Даже звезды, многие тысячи их, он знал наизусть по привычке, и они ему надоели.
Его звали Суфьян; одет он был в старинную шинель русского солдата времен хивинской войны и в картуз, а обувался в обмотки из тряпок.
Когда он заметил Чагатаева, он вышел к нему из своего земляного жилища и уставился в пространство безлюдными глазами.
К нему шел человек с верблюдом. Суфьян сразу узнал прохожего и огорчился втайне, что нет для него ничего неизвестного.
– Я тебя знаю, – сказал он Чагатаеву. – Ты был мальчик Назар.
– А я тебя не знаю, – ответил Чагатаев.
– Ты не знаешь, ты живешь, как ешь: что в тебя входит, то потом выходит. А во мне все задерживается.
Старик сморщился, вспоминая улыбку привета, но его лицо, даже спокойное, было похоже на пустую кожу высохшей умершей змеи. Удивившись, Чагатаев потрогал руку и лоб Суфьяна. О жизни и живых никто не заботился, но теперь наступила пора…
Чагатаев сказал старику, что он пришел издалека, ради своей матери и своего народа, но есть ли он на свете или уже давно кончился?
Старик молчал.
– Ты встретил где-нибудь своего отца? – спросил он.
– Нет. А ты знаешь Ленина?
– Не знаю, – ответил Суфьян. – Я слышал один раз это слово от прохожего, он говорил, что оно хорошо. Но я думаю – нет. Если хорошо – пусть оно явится в Сары-Камыш, здесь был ад всего мира, и я здесь живу хуже всякого человека.
– Я вот пришел к тебе, – сказал Чагатаев.
Старик опять сморщился в недоверчивой улыбке.
– Ты скоро уйдешь от меня, я умру здесь один. Ты молод, твое сердце бьется тяжело, ты соскучишься.
Чагатаев приблизился к старику и поцеловал его, как раньше целовал Веру, крепко и неутомимо. Странно, что уста старика имели тот же человеческий вкус, как губы далекой молодой женщины.
– Здесь ты умрешь от сожаления, от воспоминаний. Здесь, персы говорили, был ад для всей земли…
Они вошли в землянку, где жил на камышовой подстилке Суфьян. Он дал лепешку гостю, испеченную из корней трав плоскогорья. В отверстии входа видна была вечерняя тень, бегущая в яму Сары-Камыша, где в древности находился всемирный ад. Чагатаев слышал в детстве это устное предание и теперь понимал его полное значение. В далеком отсюда Хорасане, за горами Копет-Дага, среди садов и пашен, жил чистый бог счастья, плодов и женщин – Ормузд, защитник земледелия и размножения людей, любитель тишины в Иране. А на север от Ирана, за спуском гор, лежали пустые пески; они уходили в направлении, где была середина ночи, где томилась лишь редкая трава, и та срывалась ветром и угонялась прочь, в те черные места Турана, среди которых беспрерывно болит душа человека. Оттуда, не перенося отчаяния и голодной смерти, бежали темные люди в Иран. Они врывались в гущи садов, в женские помещения, в древние города и спешили поесть, наглядеться, забыть самих себя, пока их не уничтожали, а уцелевших преследовали до глубины песков. Тогда они скрывались в конце пустыни, в провале Сары-Камыша, и там долго томились, пока нужда и воспоминание о прозрачных садах Ирана не поднимали их на ноги… И снова всадники черного Турана появлялись в Хорасане, за Атреком, в Астрабаде, среди достояния ненавистного, оседлого, тучного человека, истребляя и наслаждаясь… Может быть, одного из старых жителей Сары-Камыша звали Ариманом, что равнозначно черту, и этот бедняк пришел от печали в ярость. Он был не самый злой, но самый несчастный, и всю свою жизнь стучался через горы в Иран, в рай Ормузда, желая есть и наслаждаться, пока не склонился плачущим лицом на бесплодную землю Сары-Камыша и не скончался.
Суфьян оставил Чагатаева ночевать. Экономист томился во сне: уходят дни и ночи напрасно, нужно торопиться и делать счастье на адовом дне Сары-Камыша; от нетерпения сердца он долго не мог уснуть, считая течение времени. Как свет совести, горели звезды на небе, верблюд сопел снаружи, и по песку осторожно скреблась сорванная дневным ветром обессиленная трава, точно стремясь идти самостоятельно на своих ножках-былинках.
На следующий день Чагатаев и Суфьян вышли с места, чтобы найти пропавших людей. Верблюд тоже пошел за ними, боясь одиночества, как боится его любящий человек, живущий в разлуке со своими.
На краю Сары-Камыша Чагатаев вспомнил знакомое место. Здесь росла седая трава, не выросшая больше с тех пор, как было в детстве Назара. Здесь мать сказала ему когда-то: «Ты, мальчик, не бойся, мы идем умирать» – и взяла его за руку ближе к себе. Вокруг собрались все бывшие тогда люди, так что получилась толпа, может быть, в тысячу человек, вместе с матерями и детьми. Народ шумел и радовался: он решил идти в Хиву, чтобы его убили там сразу весь, полностью, и больше не жить. Хивинский хан давно уже томил этот рабский, ничтожный народ своей властью. Он сначала редко, потом все более часто присылал в Сары-Камыш всадников из своего дворца, и те забирали из народа каждый раз по нескольку человек, а затем их либо казнили в Хиве, либо сажали в темницу без возврата. Хан искал воров, преступников и безбожников, но их трудно было отыскать. Тогда он велел брать всех тайных и безвестных людей, чтобы жители Хивы, видя их казнь и муку, имели страх и содрогание. Сперва народ джан боялся Хивы, и многие люди заранее чувствовали изнеможение от страха; они переставали заботиться о себе и семействе и только лежали навзничь в беспрерывной слабости. Затем стали бояться все люди, – они глядели в чистую пустыню, ожидая оттуда конных врагов, они замирали от всякого ветра, метущего песок по вершине бархана, думая, что это мчатся верховые. Когда же третья часть народа или более была забрана без вести в Хиву, народ уже привык ожидать своей гибели; он понял, что жизнь не так дорога, как она кажется, в сердце и в надежде, и каждому, кто остался цел, было даже скучно, что его не взяли в Хиву. Но молодой Якубджанов и его друг Ораз Бабаджан не хотели зря ходить в Хиву, если можно умереть на свободе. Они бросились с ножами на четверых ханских стражников и оставили их на месте лежачими, сразу лишив их славы и жизни. А маленький Назар, увидев чужих вооруженных людей, побежал к матери за одной острой железкой, которую он спрятал себе для игры, но обратно он прибежал уже поздно: стражники умерли без его железки. Ораз и Якубджанов исчезли после того, сев на лошадей убитых солдат, а остальной народ пошел толпой в Хиву, счастливый и мирный; люди были одинаково готовы тогда разгромить ханство или без сожаления расстаться там с жизнью, поскольку быть живым никому не казалось радостью и преимуществом и быть мертвым не больно. Впереди пошел бахши, бормоча свою песню, а рядом с ним был Суфьян, и тогда уже старый человек. Назар смотрел на мать; он удивлялся, что она теперь веселая, хотя шла помирать, и все прочие люди шли также охотно. Дней через десять или пятнадцать сары-камышский народ увидел хивинскую башню. Дорога до Хивы была тяжелая и медленная, но трудность и нужда неподвижной жизни тоже требовали привычного сердца, поэтому люди не чувствовали раздражения от излишней усталости. Около самой Хивы пришедший народ окружило небольшое ханское конное войско, но тогда народ, видя это, запел и развеселился. Пели все, даже самые молчаливые и неумелые; узбеки и казахи танцевали впереди всех, один русский несчастный старик играл на губной гармонии, мать Назара подняла руки, точно готовясь к тайному танцу, а сам Назар с интересом ждал, как их всех и его самого сейчас убьют солдаты. Около ханского дворца стояли толстые смелые стражники, берегущие хана от всех. Они с удивлением глядели на прохожий народ, который шел мимо них с гордостью и не боялся силы пуль и железа, будто он был достойный и счастливый. Эти дворцовые стражники вместе с прежними всадниками должны постепенно окружить сары-камышский народ и загнать его в тюремное подземелье; но веселых трудно наказывать, потому что они не понимают зла.
Один помощник хана подошел близко к старым людям из Сары-Камыша и спросил их:
– Чего им надо и отчего они чувствуют радость?
Ему ответил кто-то, может быть, Суфьян или прочий старик:
– Ты долго приучал нас помирать, теперь мы привыкли и пришли сразу все, – давай нам смерть скорее, пока мы не отучились от нее, пока народ веселится!
Помощник хана ушел назад и больше не вернулся. Конные и пешие солдаты остались около дворца, не касаясь народа: они могли убивать лишь тех, для кого смерть страшна, а раз целый народ идет на смерть весело мимо них, то хан и его главные солдаты не знали, что им надо понимать и делать. Они не сделали ничего, а все люди, явившиеся из впадины, прошли дальше и вскоре увидели базар. Там торговали купцы, еда лежала наружи около них, и вечернее солнце, блестевшее на небе, освещало зеленый лук, дыни, арбузы, виноград в корзинах, желтое хлебное зерно, седых ишаков, дремлющих от усталости и равнодушия.
Назар спрашивал тогда мать:
– А когда же будет смерть? Я хочу!
Но мать сама не знала, что будет сейчас, она видела, что все еще живы, и боялась опять возвращаться в Сары-Камыш и снова там вечно жить. На хивинском базаре народ стал брать разные плоды и наедаться без денег, а купцы стояли молча и не били этих хищных людей. Назар ел медленно, он глядел кругом, ожидая убийства, и успел съесть только одну дыню. Наевшись, народ стал скучным, потому что веселье его прошло и смерти не было. Гюльчатай повела Назара в пустыню, все люди также ушли прочь, в старое место своей жизни.
Назар с матерью вернулись назад в Сары-Камыш. На этой жесткой седой траве, где Чагатаев сейчас стоял с Суфьяном, они тогда отдыхали, и мать сказала сыну:
– Давай опять жить, мы не умерли!
– Мы с тобою целы, – согласился Назар. – Знаешь что, мама, мы будем жить – ничего не думать, нарочно нас нет.
– Хорошо тем, кто умер внутри своей матери, – сказала Гюльчатай.
– У тебя в животе? – спросил Назар. – А почему ты меня там не оставила? Я бы умер, и меня сейчас не было, а ты ела и жила и думала про меня: нарочно я живой.
Гюльчатай посмотрела тогда на сына: счастье и жалость прошли по ее лицу.
Теперь Чагатаев лишь погладил ту давнюю траву, живущую поныне без изменения, потому что она умерла еще до рождения Назара, но все еще держалась, как живая, глубокими мертвыми корнями. Суфьян понимал, что в Чагатаеве происходит сейчас какое-то волнение жизни, но не интересовался этим: он знал, что чем-нибудь надо человеку наполнять свою душу, и если нет ничего, то сердце алчно жует собственную кровь.
Через четыре дня Суфьян и Чагатаев настолько захотели есть, что стали видеть сновидения, в то время как ноги их шли и глаза видели обыкновенный день. Верблюд не покидал людей, но двигался в отдалении от них, где была ему попутная пища из травы. Суфьян глядел в свои плывущие сны без надежды, а Чагатаев то улыбался от них, то мучился. Дойдя до протока Дарьялык у Мангырчардара, два пешехода стали на обычный ночлег, и Суфьян размешал воду у берега, чтоб она была мутнее, гуще и питательней, а потом, напившись, оба человека легли в пещерку, дабы тело забыло, что оно живет, и скорее миновала ночь. Проснувшись наутро, Чагатаев увидел мертвого верблюда; он лежал, вблизи с окаменевшими глазами, на его шее замерла кровь разреза, и Суфьян рылся в его внутренностях, как в мешке с добром, выбирая оттуда сырые части с чистой кровью и насыщаясь ими. Чагатаев тоже подполз к верблюду; из открытого тела его пахло теплом и сытостью, кровь еще капала и текла по скважинам в дальних ущельях его туловища, жизнь умирала долго. Наевшись, Чагатаев и Суфьян в блаженстве уснули опять и проснулись не скоро.
Затем они пошли далее – в разливы, в устье Амударьи. Они взяли с собой в запас верблюжьего мяса, но Чагатаев ел его без аппетита: ему было трудно питаться печальным животным; оно тоже казалось ему членом человечества.
6
Жители Сары-Камышской впадины разбрелись в камышах и кустарниках по устью Амударьи. Прошло уже около десяти лет, как народ джан пришел сюда и рассеялся среди влажных растений. Комары вначале разъедали людей так, что они раздирали себе кожу до костей, но спустя время кровь их привыкла к комариному яду и стала вырабатывать из себя противоядие, от которого комары делались беспомощными и падали на землю. Поэтому комары теперь боялись людей и не приближались к ним вовсе.
Некоторые люди народа расселились отдельно, по одному человеку, чтобы не мучиться за другого, когда нечего есть, и чтобы не надо было плакать, когда умирают близкие. Но изредка люди жили семьями; в таком случае они не имели ничего, кроме любви друг к другу, потому что у них не было ни хорошей пищи, ни надежды на будущее, ни прочего счастья, развлекающего людей, и их сердце ослабело настолько, что могло содержать в себе лишь любовь и привязанность к мужу или жене, – самое беспомощное, бедное и вечное чувство.
Суфьян и Чагатаев сперва блуждали двое суток в сумрачных камышах по сырой земле, прежде чем увидели один травяной шалаш. В нем жил слепец Молла Черкезов, его берегла и кормила дочь Айдым, девочка лет десяти. Молла узнал Суфьяна по голосу, но говорить им было не о чем. Они посидели один против другого на камышовой подстилке, попили чая, приготовленного из растертых и высушенных корней того же камыша, и попрощались.
– Есть у вас новости? – спросил Суфьян, прощаясь.
– Нет, жизнь идет одинаково, – ответил Черкезов. – Жена моя, милая Гюн, утонула в воде и умерла.
– Отчего утонула твоя достойная Гюн?
– Не стала жить. Возьми у меня девочку Айдым и приведи мне молодую ослицу, буду с ней жить по ночам, чтоб не было мыслей и бессонницы.
– Я беден, – сказал Суфьян, – ослицы у меня нету. Ты обменяй дочь на старуху. Живи со старухой: тебе все равно.
– Все равно, – согласился Молла Черкезов. – Но старухи скоро помирают, их не хватает человеку.
– Ты слыхал, к нам приехал Назар из Москвы; ему велели помочь нам прожить нашу жизнь хорошо.
– Четыре человека приезжали раньше Назара, – сообщил Черкезов. – Их искусали комары, и они уехали. Я слепой человек, мое дело – тьма, мне хорошо не будет.
– Тебе хорошо даже от ослицы и от старухи, – сказал здесь Чагатаев. – Твое счастье похоже на горе.
– С женой время идет незаметно, – ответил Молла Черкезов.
Девочка Айдым сидела на земле и, раздвинув ноги, растирала маленьким камнем на большом корневище камыша; она была здесь хозяйкой и приготовляла пищу. Кроме камыша, около девочки лежало несколько пучков болотной и пустынной травы и одна чистая кость осла или верблюда, выкопанная где-нибудь в дальних песках, – для приварка. Вымытый котел стоял между ног Айдым, она бросала в него время от времени то, что готовили ее руки, она собирала суп на обед. Девочка не интересовалась гостями; глаза ее были заняты своею мыслью, – вероятно, она жила тайной, самостоятельной мечтой и делала домашнюю работу почти без сознания, отвлеченная от всего окружающего своим сосредоточенным сердцем.
– Отпусти со мною твою дочь! – попросил Чагатаев у хозяина.
– Она еще не выросла, что ты будешь делать с ней? – сказал Молла Черкезов.
– Я приведу тебе старую, другую.
– Приводи скорее, – согласился Черкезов.
Чагатаев взял за руку Айдым, она глядела на него черными, ослепительно блестящими, как бы невидящими глазами, пугаясь и не понимая.
– Пойдем со мною, – сказал ей Чагатаев.
Айдым потерла руки о землю, чтобы они очистились, встала и пошла, оставив все свои дела на месте недоделанными, не оглянувшись ни на что, словно она прожила здесь одну минуту и не покидала сейчас живого отца.
– Суфьян, тебе ведь одинаково – идти со мной или нет? – обратился Чагатаев к старику.
– Одинаково, – ответил Суфьян.
Чагатаев велел ему остаться у слепого, чтобы помогать Черкезову кормиться и жить, пока он не вернется.
Назар пошел с девочкой по узкому следу людей в камышовом лесу. Он хотел увидеть всех жителей этой заросшей страны, весь спрятавшийся сюда от бедствия народ. Про свою мать Гюльчатай он ни разу не спросил у Суфьяна, он надеялся неожиданно встретить ее живой и помнящей его, а про то, где остались лежать ее кости, он всегда успеет узнать.
Айдым шла покорно за Чагатаевым всю долгую дорогу. Камыши иногда кончались. Тогда Назар и девочка выходили на пустые песчаные и илистые наносы, на мелкие озера, обходили жесткие старческие кустарники и опять входили в камышовую гущу, где была тропинка. Айдым молчала; когда она уморилась, Чагатаев взял ее себе на плечи и понес, держа ее за колени, а она обхватила ему голову. Потом они отдыхали и пили воду из чистого песчаного водоема. Девочка смотрела на Чагатаева странным и обыкновенным человеческим взглядом, который он старался понять. Может быть, это означало: возьми меня к себе; может быть: не обмани и не замучай меня, я тебя люблю и боюсь. Или эта детская мысль в темных, сияющих глазах была недоумением: отчего здесь плохо, когда мне надо хорошо!..
Чагатаев посадил Айдым к себе на руки и перебрал ее волосы на голове. Она вскоре уснула у него на руках, доверчивая и жалкая, рожденная лишь для счастья и заботы.
Наступил вечер. Идти дальше было темно. Чагатаев нарвал травы, сделал из нее теплую постель для защиты от ночного холода, переложил девочку в эту травяную мякоть и сам лег рядом, укрывая и согревая небольшого человека. Жизнь всегда возможна, и счастье доступно немедленно.
Чагатаев лежал без сна; если бы он уснул, Айдым раскрылась бы голым телом и окоченела. Большая черная ночь заполнила небо и землю – от подножья травы до конца мира. Ушло одно лишь солнце, но зато открылись все звезды и стал виден вскопанный, беспокойный Млечный Путь, как будто по нему недавно совершился чей-то безвозвратный поход.
7
Свет зари осветил спящих на траве. Одна рука Чагатаева находилась под головой Айдым, чтобы ей не жестко и не влажно было спать, другой он закрыл свои глаза, укрываясь от утра. Неизвестная старуха сидела около спящих и смотрела на них без памяти. Она трогала, еле касаясь, волосы, рот и руки Чагатаева, нюхала его одежду, оглядываясь вокруг, и боялась, что ей помешают. Потом она осторожно вынула руку Назара из-под головы девочки, чтобы он никого сейчас не чувствовал и не любил, а был с нею одной. Спина ее давно уже и навсегда согнулась, и когда старуха разглядывала что-либо, лицо ее почти ползало по земле, точно она была невидящая и искала потерянное. Она осмотрела все, во что был одет Назар, перепробовала руками ремешки и тесемки его штанов и обуви, помяла в руках материю его куртки и провела пальцем, смоченным во рту, по черным запыленным бровям Чагатаева. Затем она успокоилась и легла головой к ногам Назара, счастливая и усталая, как будто она дожила до конца жизни и больше ей ничего не осталось делать, как будто у этих башмаков, гниющих изнутри от пота, покрытых пылью пустыни и грязью болот, она нашла свое последнее утешение. Старуха задремала или уснула, но вскоре поднялась опять. Чагатаев и Айдым спали по-прежнему: дети спят долго, и даже солнце, бабочки и птицы их не будят.
– Проснись скорее! – сказала старуха, обняв руками спящего Чагатаева.
Он открыл глаза. Старуха стала целовать его шею, грудь через одежду, руку, ползя лицом по человеку, и проверяла, и рассматривала вблизи все его тело: целы или нет его части, не отболело и не потеряно ли что-нибудь в разлуке.
– Не надо: ведь ты моя мать, – сказал Чагатаев.
Он встал на ноги перед ней, но мать была сгорблена настолько, что не могла теперь видеть его лица, она тянула его за руки вниз, к себе, и Чагатаев согнулся и сел перед ней. Гюльчатай тряслась от старости или от любви к сыну, но не могла ничего сказать ему. Она только водила по его телу руками, испуганно ощущая свое счастье, и не верила в него, боясь, что оно пройдет.
Чагатаев смотрел в глаза матери, они теперь стали бледные, отвыкшие от него, прежняя блестящая темная сила не светила в них; худое, маленькое лицо ее стало хищным и злобным от постоянной печали или от напряжения удержать себя живой, когда жить не нужно и нечем, когда про самое сердце свое надо помнить, чтоб оно билось, и заставлять его работать. Иначе можно ежеминутно умереть, позабыв или не заметив, что живешь, что необходимо стараться чего-то хотеть и не упускать из виду самое себя.
Назар обнял мать. Она была сейчас легкой, воздушной, как маленькая девочка, – ей нужно начинать жить с начала, подобно ребенку, потому что все силы у нее взяло терпение борьбы с постоянным мученьем, и она не имела никогда свободного от горя остатка сердца, чтобы чувствовать добро своего существования; она не успела еще понять себя и освоиться, как наступила пора быть старухой и кончаться.
– Где ты живешь? – спросил ее Назар.
– Там, – показала Гюльчатай рукой.
Она повела его через мелкие травы, через редкий камыш, и вскоре они дошли до небольшой деревни, расположенной на поляне среди камышового леса. Чагатаев увидел камышовые шалаши и несколько кибиток, связанных тоже из камыша. Всего было жилищ двадцать или немного больше. Ни собаки, ни осла, ни верблюда Чагатаев не заметил в этом поселении, даже домашняя птица не ходила на воле по траве.
Около крайнего шалаша сидел голый человек, кожа на нем висела складками, как изношенная, усталая одежда; он перебирал на своих коленях тростинки камыша, собирая из них себе вещь для домашней утвари или украшение. Этот человек не удивился появлению Чагатаева и не ответил даже на его поклон; он бормотал что-то про себя, воображая никому не видимое, занимая свою душу собственным, тайным утешением.
– Здесь живет весь наш народ или еще есть? – спросил Чагатаев у матери.
– Я уже забыла, Назар, я не знаю, – сказала Гюльчатай, с усилием пробираясь вслед за ним и низко неся голову, как трудный груз. – Были еще люди, десять людей, они живут по камышам до самого моря – раньше жили, теперь им пора умереть, должно быть, умерли, и к нам никто не приходит…
Шалаши и кибитки кончились. Дальше опять начинался камыш. Чагатаев остановился. Здесь было все, – мать и родина, детство и будущее. Ранний день освещал эту местность: зеленый и бледный камыш, серо-коричневые ветхие шалаши на поляне с редкой подножной травой и небо наверху, наполненное солнечным светом, влажным паром болот, лессовой пылью высохших оазисов, взволнованное высоким неслышным ветром, – мутное, измученное небо, точно природа тоже была лишь горестной, безнадежной силой.
Оглядевшись здесь, Чагатаев улыбнулся всем призрачным, скучным стихиям, не зная, что ему делать. Над поверхностью камышовых дебрей, на серебряном горизонте, виднелся какой-то замерший мираж – море или озеро с плывущими кораблями и белая сияющая колоннада дальнего города на берегу. Мать молча стояла около сына, склонившись туловищем книзу.
Она жила в шалаше, на глине, без мужа и без родных. Две камышовые циновки лежали на земле внутри ее жилища – одной она покрывалась, на другой спала. Еще у нее был чугунный горшок для пищи и глиняный кувшин, а на перекладине висел ее девичий яшмак и одна тряпка, в которую она заворачивала Назара, когда он был грудным ребенком. Кочмат умер лет шесть тому назад, от него осталась одна штанина (другую Гюльчатай истратила на латки для юбки) и мочалка, служившая Кочмату, чтобы вытирать пот и грязь со своего тела, когда приходилось ходить работать на хошарах по оазисам.
Мать Назара жила здесь бобылкой-колтаманкой. Она удивилась, что Назар еще жив, но не удивилась, что он вернулся: она не знала про другую жизнь на свете, чем та, которой жила сама, она считала все на земле однообразным.
Чагатаев сходил за девочкой Айдым, он разбудил и привел ее в камышовый шалаш матери. Гюльчатай ушла рыть коренья травы, ловить мелкую рыбу камышовой кошелкой в водяных впадинах, искать птичьи гнезда в зарослях, чтобы собрать на пищу яиц или птенцов, – вообще поджиться что-либо у природы для дальнейшего существования. Она вернулась лишь к вечеру и стала готовить еду из трав, камышовых корней и маленьких рыбок; она теперь уже не интересовалась, что около нее находится сын, и совсем не глядела на него и не говорила никаких слов, точно весь ее ум и чувство были погружены в глубокое, непрерывное размышление, занимавшее все ее силы. Краткое человеческое чувство радости о живом, выросшем сыне прошло, или его вовсе не было, а было одно изумление редкой встречей.
Гюльчатай не спросила даже, хочет ли есть Назар и что он думает делать на родине, в камышовом поселении.
Назар глядел на нее; он видел, как она шевелится в привычном труде, и ему казалось, что она на самом деле спит и движется не в действительности, а в сновидении. Глаза ее были настолько бледного, беспомощного цвета, что в них не осталось силы для зрения, – они не имели никакого выражения, как слепые и умолкшие. Судя по большим зачерствелым ногам, Гюльчатай жила всегда босой; одежда ее состояла из одной темной юбки, продолженной до шеи в виде капота, залатанной разнообразными кусками материи, вплоть до кусков из валяной обуви, которыми обшит подол. Чагатаев потрогал платье матери, оно было надето на голое тело, там не имелось сорочки, – мать давно отвыкла зябнуть по ночам и по зимам или страдать от жары – она притерпелась.
Назар позвал мать. Она отозвалась ему, она его понимала. Назар стал помогать ей разводить огонь в очаге, устроенном в виде пещерки под камышовой наклонной стеной. Айдым смотрела на чужих черными чистыми глазами, храня в них сияющую силу своего детства, свою робость, которая была печалью, потому что ребенку хотелось быть счастливым, а не сидеть в сумраке шалаша, думая о том, дадут есть или нет. Чагатаев вспоминал, где он видел такие же глаза, как у Айдым, но более живые, веселые, любящие, – нет, не здесь, и та женщина была не туркменка, не киргизка, она давно забыла его, он тоже не помнит ее имени, и она не может представить себе, где сейчас находится Чагатаев и чем занимается: далеко Москва, он здесь почти один, кругом камыш, водяные разливы, слабые жилища из мертвых трав. Ему скучно стало по Москве, по многим товарищам, по Вере и Ксене, и он захотел поехать вечером в трамвае куда-нибудь в гости к друзьям. Но Чагатаев быстро понял себя. «Нет, здесь тоже Москва!» – вслух сказал он и улыбнулся, глядя в глаза Айдым. Она оробела и перестала смотреть на него.
Мать сварила себе жидкую пищу в чугуне, съела ее без всякого остатка и еще вытерла пальцами посуду изнутри и обсосала их, чтобы лучше наесться. Айдым внимательно следила за Гюльчатай, как она ела, как еда проходила внутри ее худого горла мимо жил, но она смотрела без жадности и зависти, с одним удивлением и с жалостью к старухе, которая глотала траву с горячей водой. После еды Гюльчатай уснула на облежанной камышовой подстилке, и в то время уже наступил общий вечер и ночь.
8
Первый день жизни Чагатаева на родине прошел; сначала светило солнце, на что-то можно было надеяться, теперь небо померкло и уже появилась вдалеке одна неясная, ничтожная звезда.
Стало сыро и глухо. Народ в этой камышовой стране умолк; его так и не услышал Чагатаев. Он набрал травы поблизости, сделал из нее постель в материнском шалаше и уложил Айдым в теплое место, чтоб она тоже спала.
Он вышел затем один, дошел до какого-то пустого, еле влекущегося протока Амударьи и вновь возвратился. Мощная ночь уже стояла над этой страной, мелкий молодой камыш шевелился у подножия старых растений, как дети во сне. Человечество думает, что в пустыне ничего нет, одно неинтересное дикое место, где дремлет во тьме грустный пастух и у ног его лежит грязная впадина Сары-Камыша, в котором совершалось некогда человеческое бедствие, – но и оно прошло, и мученики исчезли. А на самом деле и здесь, на Амударье, и в Сары-Камыше тоже был целый трудный мир, занятый своей судьбой.
Чагатаев прислушался: кто-то говорил вблизи, насмешливо и быстро, но оставался без ответа. Назар подошел к камышовому жилищу. Слышно было, как внутри него дышали спящие люди и поворачивались на своих местах от беспокойства.
– Подбирай шерсть на земле, клади мне за пазуху, – говорил голос спящего старика. – Собирай скорее, пока верблюды линяют…
Чагатаев прислонился к камышовой стене. Старик сейчас лишь шептал в бреду, не слышно что. Ему снилась какая-то жизнь, вечное действие, он бормотал все более тихо, как будто удалялся.
– Дурды, Дурды! – стал звать голос женщины; она шевелилась, и циновка под ней шелестела. – Дурды! Не убегай от меня, я уморилась, я не догоню тебя… Остановись, не мучай меня, мой ножик острый, я зарежу тебя сразу, ты поддайся.
Они умолкли и спали теперь мирно.
– Дурды! – тихо позвал Чагатаев снаружи.
– А? – отозвался изнутри голос бормотавшего старика.
– Ты спишь? – спросил Чагатаев.
– Сплю, – ответил Дурды.
Чагатаев вспомнил этого Дурды в синеве своего детства; был в то время один худой человек из племени иомудов, который кочевал вдвоем с женой и ел черепах. В Сары-Камыш он приходил потому, что начинал скучать, и тогда сидел молча в кругу людей, слушал их слова, улыбался и был доволен тайным счастьем своего свидания; потом он опять уходил в пески ловить черепах и думать что-то в своей душе. Одинокая женщина (Назару тогда она казалась тоже старой) шла вослед мужу и несла за плечами все их семейное имущество. Маленький Назар провожал их до песков и долго глядел на них, пока они не скрывались в сияющем свете, превращаясь в плывущие головы без тела, в лодку, в птицу, в мираж.
Рядом была другая камышовая хижина, построенная в форме кибитки. Около нее сидела небольшая собака. Чагатаев удивился ей, потому что никаких домашних животных он здесь ни разу не видел. Черная собака смотрела на Чагатаева, она открывала и закрывала рот, делая им движение злобы и лая, но звука у нее не получалось. Одновременно она поднимала то правую, то левую переднюю ногу, пытаясь развить в себе ярость и броситься на чужого человека, но не могла. Чагатаев наклонился к собаке, она схватила своей пастью его руку и потерла ее между пустыми деснами – у нее не было ни одного зуба. Он попробовал ее за тело – там часто билось жестокое жалкое сердце, и в глазах собаки стояли слезы отчаяния.
В кибитке кто-то изредка смеялся кротким, блаженным голосом. Чагатаев поднял решетку, навешенную на жерди, и вошел внутрь жилища. В кибитке было тихо, душно, не видно ничего. Чагатаев согнулся и пополз, ища того, кто здесь есть. Жаркий шерстяной воздух томил его. Чагатаев ослабевшими руками искал неизвестного человека, пока не нащупал чье-то лицо. Это лицо вдруг сморщилось под пальцами Чагатаева, и изо рта человека пошел теплый воздух слов, каждое из которых было понятно, а вся речь не имела никакого смысла. Чагатаев с удивлением слушал этого человека, держа его лицо в своих руках, и старался понять, что он говорит, но не мог. Переставая говорить, этот сидячий житель кибитки кратко и разумно посмеивался, потом говорил опять. Чагатаеву казалось, что он смеется над своей речью и над своим умом, который сейчас что-то думает, но выдуманное им ничего не значит. Затем Чагатаев догадался и тоже улыбнулся: слова стали непонятны оттого, что в них были одни звуки – они не содержали в себе ни интереса, ни чувства, ни воодушевления, точно в человеке не было сердца внутри и оно не издавало своей интонации.
– Возьми поди взойди на Усть-Урт, подними что-нибудь и мне принеси, а я в грудь положу, – сказал этот человек, а потом снова засмеялся.
Ум его еще жил, и он, может быть, смеялся в нем, пугаясь и не понимая, что сердце бьется, душа дышит, но нет ни к чему интереса и желания; даже полное одиночество, тьма ночной кибитки, чужой человек – все это не составляло впечатления и не возбуждало страха или любопытства. Чагатаев трогал этого человека за лицо и руки, касался его туловища, мог даже убить его, – он же по-прежнему говорил кое-что и не волновался, будто был уже посторонним для собственной жизни.
Снаружи была прежняя ночь. Чагатаев, уходя дальше, хотел вернуться, взять и унести с собой бормочущего человека; но куда его надо нести, если он замучился до того, что нуждался уже не в помощи, а в забвении? Он оглянулся; безмолвная собака шла за ним, в камышовых шалашах лежали люди во сне и в своих сновидениях, по вершинам камышовых зарослей иногда проходила дрожь слабого ветра, уходя отсюда до самого Арала. В шалаше, рядом с тем, где спали мать и Айдым, кто-то тихо разговаривал. Собака вошла туда и вышла назад, а потом бросилась назад домой, боясь потерять или забыть, где находится ее хозяин и убежище.
Чагатаев пришел обратно к матери и лег, не раздеваясь, рядом с Айдым. Девочка дышала во сне редко и почти незаметно, было страшно, что она может забыть вздохнуть и тогда умрет. Лежа на глине, Чагатаев слышал в дремоте, как по глухому низу земли раздавалось сонное бормотание его народа и в желудках мучительно варились кислые и щелочные травы. В соседнем травяном жилище муж говорил с женой; он хотел, чтобы у них родился ребенок – может, он сейчас зачнется.
Но жена отвечала:
– Нет, в нас с тобой слабость одна, мы десять лет его зачинаем, а он не начинается во мне, и я всегда пустая, как мертвая…
Муж молчал, потом говорил:
– Ну, давай чего-нибудь делать вдвоем, нам нечему радоваться с тобой.
– Что же, – отвечала женщина, – мне одеться не во что, тебе тоже: как зимою будем жить!
– Когда будем спать, то согреемся, – отвечал муж, – от бедности чего же больше делать: одна ты осталась, поневоле глядишь и любишь!..
– Больше нечего, – соглашалась женщина, – нету никакого добра у нас с тобой, я все думала-передумала и вижу, что люблю тебя.
– Я тоже тебя, – говорил муж, – иначе не проживешь…
– Дешевле жены ничего нету, – ответила женщина. – При нашей бедности, кроме моего тела, какое у тебя добро?
– Добра не хватает, – согласился муж, – спасибо хоть жена рожается и вырастает сама, нарочно ее не сделаешь: у тебя есть груди, живот, губы, глаза твои глядят, много всего, я думаю о тебе, а ты обо мне, и время идет…
Они замолчали. Чагатаев почистил уши от скопившейся серы и стал слушать далее – не будет ли еще оттуда слов, где лежат муж и жена.
– Мы с тобой плохое добро, – проговорила женщина, – ты худой, слабосильный, а у меня груди засыхают, кости внутри болят…
– Я буду любить твои остатки, – сказал муж.
И они умолкли вовсе, – наверно, обнялись, чтобы держать руками свое единственное счастье.
Чагатаев прошептал что-то, улыбнулся и уснул, довольный, что на его родине среди двоих людей уже существует счастье, хотя и в бедном виде.
9
Утром Гюльчатай не обратила внимания ни на сына, ни на приведенную им девочку. Силы ее души хватило только на воспоминание о нем, когда он спал на траве у тропинки, рядом с Айдым; теперь она жила одной своей жизнью. В шалаше делать было нечего, все же мать долго ровняла камышовые стебли в наклонных стенах, собрала все былинки с земли, вычистила котел изнутри, оправила и свернула циновку и делала все это с глубокой тщательностью и усердием, заботясь о том, чтобы цело было ее хозяйское добро, потому что, кроме него, у нее не было связи с жизнью и прочими людьми. Затем человеку нужно что-нибудь непрерывно думать, она тоже, видимо, воображала что-то, когда трудилась в своей мелкой, почти бесполезной суете; без труда же думать она не умела; хозяйство и шалаш, когда она прибирала его, давали ей воспоминания, наполняли чувством жизни ее пустое, слабое сердце.
Она попросила у сына, чтоб он дал ей что-нибудь. Попросила она робко, без надежды и без жадности, лишь для того, чтобы у нее стало больше вещей и увеличилась, посредством них, житейская занятость, – тогда время жизни проходит лучше. Назар правильно понял мать и отдал ей плащ, кобуру от револьвера (револьвер он переложил в карман брюк), блокнот и сорок рублей денег и заодно велел накормить Айдым. Но девочка сама вперед пошла собирать себе траву на пищу, а Гюльчатай осталась.
– Ты знаешь Моллу Черкезова? – спросил ее Назар.
– Я всех знаю, – сказала мать.
– Ступай, живи у него, тебе там лучше будет. Он слепой и будет беречь тебя, пока не умрет.
Согнутая старая мать глядела в землю; она не понимала, зачем она нужна Черкезову, если и сердце ее давно бьется уже не от чувства, а от привычки, если жизнь для нее почти незаметна. Однако она пошла, не взяв ничего с собою из жилища, кроме того, что ей дал сын, – и то потому, что эти вещи находились у нее в руках. Оказывается, и домашнее добро свое она уже не любила, потому что для жадности у нее не хватало душевных человеческих сил.
Чагатаев остался жить вдвоем с Айдым, желая, чтобы сердце матери согрелось в семейной жизни с Моллой Черкезовым. Айдым сразу начала хозяйствовать, собирать и варить траву, ловить рыбу и стряпать пищу на обед. Однажды она ходила далеко через протоки и разливы, дошла до саксаульника и принесла дров в запас на зимнее время. Чагатаев сам затем сходил два раза в этот далекий саксаульник и принес дров, а девочке вовсе запретил ходить, – пусть она только разводит маленький костер в домашней печке и готовит одну похлебку в сутки. Но вскоре ему пришлось хозяйствовать полностью одному, потому что Айдым заболела и стала горячая, жаркая, мокрая от пота. Назар укрывал ее травой от озноба, протирал ей запекшиеся глаза и поил жидким супом из трав, но девочка не справлялась с болезнью, она худела, молчала и направлялась в смерть. Глаза ее без сознания глядели на Чагатаева, она не умела ничего помыслить для облегчения. Чагатаев сидел над ней долгие пустынные дни и оберегал больную от тоски и страха.
По другим шалашам и кибиткам тоже лежали больные и немощные люди. Чагатаев сосчитал, что всего в народе джан было сорок семь человек, из них человек двадцать болело. Женщин среди народа находилось одиннадцать человек, а детей до двенадцати лет – три души, считая сюда и Айдым. Женщины, как самые большие труженицы, умирали прежде всех, а оставшиеся в живых рожали детей очень редко. Здесь, напрягаясь изо всех нищих сил, желали детей более, чем в далеких странах богатства, и если дети иногда рождались, то они получали в наследство то же, что имели их родители, – корни камыша, долгую участь жизни в пустом пространстве.
Во время болезни Айдым к Чагатаеву пришел уполномоченный райисполкома Нур-Мухаммед. Чагатаев ему сказал, что он командирован сюда для помощи своему народу, который должен стать счастливым, движущимся вперед и многочисленным. Нур-Мухаммед ответил Назару, что сердце народа давно выболело в нужде, ум его стал глуп и поэтому свое счастье ему чувствовать нечем; лучше будет дать покой этому народу, забыть его навсегда или увести куда-нибудь в пустыню, в степи и горы, чтобы он заблудился, и затем посчитать его несуществующим.
Чагатаев понемногу рассмотрел Нур-Мухаммеда; он был велик ростом, уже стар, глаза его глядели из узко прорезанных век, как сквозь постоянную боль. Он одевался в узбекский халат, имел тюбетейку на голове, был обут в войлочные туфли – единственный человек во всем народе, сохранивший такую одежду. Это объяснялось тем, что сам Нур-Мухаммед не принадлежал к народу джан, а был командирован сюда полгода назад и глядел на людей чужими глазами.
– Что ты сделал здесь за полгода? – спросил его Чагатаев.
– Ничего, – сообщил Нур-Мухаммед. – Я не могу воскрешать мертвых.
– Чего же ты ждешь тогда, зачем ты тут?
– Когда я пришел сюда, в народе было сто десять человек, теперь меньше. Я рою могилы умершим, – их хоронить в болотах нельзя, будет заражение, и я ношу мертвых в дальний песок. Буду хоронить, пока выйдут все, тогда уйду отсюда, скажу – командировка выполнена…
– Народ сам похоронит своих близких – ты для этого не нужен.
– Нет, он не будет хоронить, я знаю.
– Почему не будет?
– Мертвых должны хоронить живые, а здесь живых нет, есть не умершие, доживающие свое время во сне, ты им не сделаешь счастья, и даже своего горя они уже не знают, они больше не мучаются, они отмучились.
– Что же нам делать с тобой? – спросил Чагатаев.
– Ничего не надо, – сказал Нур-Мухаммед. – Человека нельзя долго мучить, а хивинские ханы думали – можно. Долго – он погибает, его надо – понемногу и давать ему играть, а потом опять мучить…
– Я им могилы рыть не буду, – сказал Чагатаев. – Я не знаю, кто ты: ты чужой, лучше ты уйди отсюда, оставь нас одних.
Нур-Мухаммед потрогал лоб спящей Айдым и затем поднялся с места.
– Мое дело в моей голове, а твое дело – в твоей. Скоро я понесу эту девочку в землю. До свидания.
Он ушел в свою землянку. Чагатаев завернул Айдым в траву и в циновку и быстро понес ее к матери и к Молле Черкезову: пусть ей дают пить время от времени и укрывают от ночного холода. А сам Чагатаев сразу же отправился в Чимгай, куда было сто или полтораста километров. Он шел через сухие русла, протоки, камыши и через дебри смешанных растений весь остаток дня, всю ночь и еще целый день, ободравшись и обнищав в дороге, блуждая и тяготясь нетерпением, темнея умом, пока не лег где-то лицом в мякоть мха. Потом он проснулся и увидел невдалеке большие развалины; он подошел к глиняным оплывшим стенам. Высокое солнце скопляло зной под старыми стенами; сон и забвение, беспамятство душного воздуха исходили из-под стен, где старела сухая глина. Чагатаев прошел внутрь укрепления, через то обрушенное место, где паводковые воды сделали в стене промоину. Там было еще более душно от затишья; жара неба собиралась в одно гнездо, заросшее огромными травами с толстыми сальными стволами, потому что их здесь некому было есть и они росли ради одного своего наслаждения. Чагатаев с ненавистью глядел на эти жирные растения, выискивая под ними какую-нибудь мелкую съедобную траву. Он нашел чьи-то небольшие разбитые кости: их рубили, чтобы получился гуще навар, или рассекли саблей несколько раз, если это был человек. Далее он увидел еще несколько костей и целую половину человеческого скелета вместе с черепом; этот человек скончался лицом вниз, и ребра его разошлись в стороны, как для посмертного дыхания, а одно ребро уперлось своим острием в смятый красноармейский шлем, уже сопревший теперь и проросший бледной травой. Чагатаев выпростал его из-под ребра; на шлеме еще сохранилась тень пятиконечной звезды, и внутри шлема, по надлобной полоске материи, имелась надпись химическим карандашом: «Ораз Голоманов» – имя павшего красноармейца. Чагатаев почистил шлем и надел его себе на голову, а свою фуражку положил на череп Голоманова. В глиняной стене, изнутри крепости, вероятно, штыком Голоманова или другого красноармейца, кости которого лежали где-нибудь врозь по земле, были вырезаны слова: «Да здравствует юлдаш революции!» – и штык резал глину слишком глубоко, для того чтобы время, ветер и дождь не заровняли и не смыли след этой надежды мертвых и живых. Должно быть, в тридцатом или тридцать первом году здесь находился красноармейский отряд, бившийся с басмачами, с войсками хивинских и туркменских рабовладельцев, и Голоманов с товарищами остался здесь и сотлел в спокойствии, как будто он был уверен, что непрожитая жизнь его будет дожита другими так же хорошо, как им самим. Чагатаев насыпал травы с землей на скелет Голоманова, чтоб орлы или одинокие звери не растаскали его кости, и ушел своим направлением на Чимгай.
В Чимгае он купил ящик с колхозной аптекой и достал через райком несколько десятков хинных порошков, но знал, что эти пособия слабо помогут его народу, который нуждается более всего в другой, еще не существующей жизни, которую можно терпеть, не умирая. На всякий случай он зашел еще на почту – спросить, нет ли ему писем из Москвы, может быть, есть. Внутри почтового помещения висели плакаты с изображением дальних авиационных сообщений, на наклонных столах под стеклом лежали образцы правильных почтовых адресов – в Москву, в Ленинград, в Тифлис, как будто все местные люди пишут письма только в эти пункты и тоскуют только по этим прекрасным городам.
Чагатаев обратился в окно «До востребования», и ему дали простое письмо из Москвы, которое было сюда переслано из Ташкента заботливыми работниками ЦК партии Узбекистана. Писала Ксения: «Назар Иванович Чагатаев! Ваша жена, моя мама Вера, умерла во Второй клинической больнице, в г. Москве, от родов девочки, которая когда родилась, то была мертвой, и я видела ее тело. Девочку сложили в больнице в один гроб с мамой Верой, вашей женой, похоронили в земле на Ваганьковском кладбище, не очень далеко от писателя Батюшкова. Я два раза ходила к могиле, постояла и ушла. Когда вы приедете, то я вам покажу, где находится могила. Мама велела мне вас помнить и любить, я вас помню. С пионерским приветом Ксеня».
Туркменская девушка выглянула из окна «До востребования» и сказала:
– Обождите, вам еще телеграмма есть, ей шесть дней.
И она дала Чагатаеву ташкентскую телеграмму: «Письмо смерти жены прочтено ввиду трудности сообщения с вами. Извиняемся. Разрешается выехать на месяц в Москву потом вернуться привет Орготдел Исфендиаров. При недоставлении течение двадцати дней возвратить Ташкент отправителю».
Чагатаев спрятал письмо и телеграмму, взял ящик с колхозной аптекой и ушел из почтовой конторы. Чимгай был ничтожен – слепые дувалы и глиняные жилища находились почти незаметно среди окружающего свободного пространства пустого мира. Чагатаев купил в чайхане ячменных лепешек и через пять минут был уже вне города, на ветру своей дороги; солнце горело высоко и обильно, и все же его свет не мог согреть человеческое сердце до состояния счастья. Чагатаев перестал думать; он всматривался в разные подорожные предметы – в стебли мертвой травы, упавшей с чьей-то арбы, в куски переваренной пищи осла, в русский ветхий лапоть, неизвестно с какого дальнего странника; остатки и следы чужой жизни или деятельности отвлекали Чагатаева от собственной мысли. Наконец он увидел небольшую черепаху: она лежала с высунутой опухшей шеей, с беспомощно выпущенными лапками, не храня себя более под панцирем, – она умерла здесь, при дороге. Чагатаев поднял ее и рассмотрел. Затем отнес в сторону и закопал в песок. Эта черепаха была теперь ближе к его покойной жене Вере, чем он сам, и Чагатаев остановился в недоумении. Он сел на землю с ослабевшим сознанием, не понимая, что он живет и действует с известной целью; чужды и скучны были перед ним обычные явления природы; больше не нужно ему было никакое зрелище и наслаждение, и он с отвращением бросил ячменные лепешки, нагревшиеся в руке, а потом закричал, как в детстве, когда был выведен матерью из Сары-Камыша, и стал искать глазами кого-то в этом незнакомом месте, кто его услышит и явится к нему, – как будто за каждым человеком ходит его неустанный помощник и только ждет, когда наступит последнее отчаяние, чтобы показаться… Вдали, в тишине, словно за мертвым занавесом, в близком, но другом мире, что-то постоянно гукало. Звук не имел значения и определенности. Чагатаев вслушался; он вспомнил, что эти звуки были ему знакомы и раньше, но он никогда не понимал их и пропускал мимо внимания. Звуки повторялись опять, они шли редко, с мертвыми паузами, одолевая пустые места пустоты, – будто капала влага огромными леденеющими каплями, будто изредка кратко звал рожок, который уносили все дальше по синим лесам, или шло большое звездное время, что безвозвратно проходит, считая свои отмирающие части, а может быть, эти звуки раздавались гораздо ближе – внутри самого тела Чагатаева, и они происходили от медленного биения его собственной души, напоминая собой ту главную жизнь, которая сейчас забыта им, задушена горем в сжавшемся сердце…
Чагатаев встал и быстро пошел в поселение своего народа. К вечеру он настолько утомился, что уснул, не спрятавшись в какую-нибудь теплую расщелину земли, и всю ночь слышал неясный гул, разное волнение вокруг, тревожное движение природы, верящей в свое действие и назначение.
На вторую ночь он уже был в пределах камышовых дебрей, вблизи всех своих родных. Он думал, что народ джан сейчас уже спит, и пусть хотя бы во сне он не голодает и не мучается, пусть ночь идет долго, если утром он опять должен, чтобы не умереть, иметь хоть слабое представление о действительности, которое не больше сновидения. Поэтому по ночам Чагатаев обыкновенно меньше беспокоился: он понимал, что спящим жить легче, и мать его сейчас не помнит ни его, ни себя, а маленькая Айдым лежит, согреваясь сама собой, как счастливая, не нуждаясь ни в ком.
Он шел медленно, точно отдыхая, миновал низкий саксаульник, перешел через мелкую протоку; поздняя худая луна освещала текущую воду, постоянно трудящуюся без всякого одобрения. Над древней караванной дорогой, уходящей мимо Хивы в Афганию или дальше, стояла мерцающая пыль от света луны. Это было непонятно Чагатаеву. Та дорога лежит брошенной уже целые века, она идет по твердым, набитым пескам и лишь в одном месте проходит по лессовому насту, где сейчас, наверно, сухо и подымается густая пешеходная пыль. Верблюды и ослы так не пылят, их пыль подымается выше, и она сгущается в хвосте каравана. Чагатаев оставил свой путь и пошел наперерез через дикие места в южном направлении, чтобы увидеть, кто идет там, где никого не должно быть. Он долго пробирался сквозь чащу камыша, увязая в трясине, отводил руками колючие благоухающие кустарники, пока не вышел на сухой, чистый, обдутый ветрами курган, под которым лежал в своей могиле какой-нибудь забытый археологический городок.
Старая дорога окружала этот курган по его подножию и скрывалась затем на юго-восток – в Китай и Афганистан, во тьму. Неизвестные пешеходы сюда еще не подошли, они двигались тихо, их было совсем не слышно, – может быть, они свернули с дороги или возвратились назад либо легли спать на землю. Чагатаев пошел им навстречу; он не ожидал увидеть ничего счастливого или удивительного, он знал, что пылить при лунном свете могли звери, вышедшие от бедствия из глубокой дельты Амударьи, чтобы дойти до дальних оазисов, до колхозов, чтобы там наесться мясом овец.
Но навстречу ему шли люди. Чагатаев прилег в стороне от дороги и увидел их всех. Районный уполномоченный Нур-Мухаммед вел за руку слепого Моллу Черкезова; позади их шла мать Чагатаева и перебирала маленькими ногами Айдым. Далее были другие люди, и среди них старый Суфьян, бормочущий Назар Шакир, его жена, которую он любил, как единственный дар своей жизни, затем Дурды рядом с женой – всего человек четырнадцать, может быть – восемнадцать. Остальной народ, наверно, не мог проснуться или потерял силу и желание передвигаться.
Гюльчатай несла завернутые в плащ своего сына корни камыша на будущую пищу; Айдым волокла по земле за конец стебля связку съедобных трав; Назар Шакир держал на голове большой сверток из одеял; Молла Черкезов левой рукой держался за Мухаммеда, а правой искал что-то в воздухе, – у всех их глаза были закрыты, они шли дремлющими, некоторые шептали или бормотали свои слова, привыкнув жить воображением. Один только Нур-Мухаммед глядел вперед открытыми глазами, сознавая ясно весь мир. Он курил травяную крошку, свернутую в высушенный лист болотного тростника, и молчал.
Чагатаев вышел к Мухаммеду и спросил его: куда он ведет людей?
Нур-Мухаммед поздоровался с Чагатаевым и ответил:
– Какие люди?.. Их душа давно рассеялась, им все равно – живут они или нет.
Он продолжал идти. Чагатаев пошел рядом с ним. Мухаммед улыбнулся про себя и посмотрел в сторону: даже во тьме окружающая природа была жалка и ненавистна ему, а позади его шли почти несуществующие люди.
Дорога окружала небольшой курган, на котором только что был Чагатаев. Он с новой мыслью поглядел на этот земляной холм, под которым тоже лежал какой-нибудь небольшой народ, перемешав свои кости, потеряв свое имя и тело, чтобы не привлекать больше к себе никаких мучителей. Рабский труд, измождение, эксплуатация никогда не занимают одну лишь физическую силу, одни руки, нет – и весь разум и сердце также, и душа выедается первой, затем опадает и тело, и тогда человек прячется в смерть, уходит в землю, как в крепость и убежище, не поняв, что жил с пустыми жилами, отвлеченный и отученный от своего житейского интереса, с головою, которая привыкла лишь верить, видеть сны и воображать недействительное. Неужели и его народ джан ляжет вскоре где-нибудь вблизи и ветер покроет его землей, а память забудет, потому что народ не успел ничего воздвигнуть из камня или железа, не выдумал вечной красоты, – он лишь копал землю в каналах, но течение воды вновь их заносило, и народ опять рыл наносы и выкидывал лишний грунт из воды, а затем мутный поток осаживал новый ил и опять бесследно покрывал их труд.
– А где остальные – они спят? – спросил Чагатаев у Нур-Мухаммеда.
– Нет, они отстали, но идут за нами по следу; потом дойдут.
Айдым, бывшая близко около передних людей, упала во сне и осталась лежать. Чагатаев услышал это и оглянулся; позади лежали еще два тела заснувших людей.
– Пусть! – сказал ему Мухаммед. – Потом очнутся и догонят.
Но Чагатаев взял Айдым на руки и понес ее. Она спала и не дрожала от лихорадки, наверно, болезнь ее оставила. Несмотря на травяную еду, на болезнь, тело ее не было худым, оно забирало в себя все полезное даже из сухих тростей камыша и было приспособлено жить долго и счастливо.
– Куда ты их ведешь? – спросил Чагатаев у Нур-Мухаммеда.
– В Сары-Камыш, на родину, – ответил Нур, – где они раньше жили.
– Зачем?
– Пусть движутся куда-нибудь… Я их веду дальней дорогой – кругом разливов. Кто ходит – тому всегда легче.
– А больные? – спросил Чагатаев.
– Они тоже идут понемногу. От дороги они выздоровеют – мы оставили болота, и лихорадки не будет.
Чагатаев не верил доброму намерению Мухаммеда. Он не знал даже, почувствуют ли больные здоровье, если их разум так давно отвлекся от своего интереса и сердце привыкло томиться. По той же причине они и болезнь и страданье переносили безмолвно и бесчувственно, как будто это было не их делом. Чагатаев отстал от Мухаммеда, чтобы поглядеть на свою мать. Айдым покойно спала на его руках; Гюльчатай открыла глаза, когда к ней подошел Назар, и ничего ему не сказала; за ее руку держался слепой Молла Черкезов, слабый и блаженный. Мать рассеянно глядела на сына, которого она знала, но не помнила, если его не видела вблизи. Назар продолжал смотреть на мать, и она отвела свои глаза от него, потому что ей стыдно было жить перед сыном, будучи слабой и несчастной; она хотела бы любить его своей прежней, забытой силой, но сейчас не могла, сейчас в ней хватало сердца только для своего дыхания, и ей нравился красноармейский шлем на сыне, она думала, что надо взять его себе в подарок, чтобы согревать в нем свою голову во сне.
Позже бредущий народ встретил на своей дороге сухой, теплый песок и лег в него дремать до утра. Чагатаеву спать не хотелось; он уложил Айдым между матерью и Моллой Черкезовым и остался один, не зная, как ему пробыть до утра. И он, то скучая, то улыбаясь, бормотал про себя слова, проживая жизнь как ненужную.
10
К утру подошли те, кто вчера упал на дороге или отстал от слабости, и все опять пошли вслед на Нур-Мухаммедом. Айдым теперь шла сама и даже смеялась с Чагатаевым. Он пробовал ее лоб, – жара в ней не было, хотя ей достаточно, чтобы температура упала на полградуса, и тогда она снова становилась живой и резвой. В полдень старый Суфьян увел Чагатаева в сторону от сухой дороги. Он сказал ему, что близ амударьинских протоков еще можно встретить иногда две-три старых овцы, которые живут одни и уже забыли человека, но, увидя его, вспоминают давних пастухов и бегут к нему. Эти овцы случайно выжили или остались от огромных одичалых стад, которые баи хотели угнать в Афганистан, но не успели. И овцы прожили вместе с пастушьими собаками несколько лет; собаки их стали есть, потом подохли или разбежались от тоски, а овцы остались одни и постепенно умирали от старости, от зверей, заблудившись в песках без воды. Но редкие из них выжили и теперь бродили, дрожа, друг около друга, боясь остаться в одиночку. Они ходили большими кругами по бедной степи, не сбиваясь в сторону со своей круговой дороги; в этом был их жизненный разум, потому что съеденные и затоптанные былинки травы вновь зарождались, пока овцы миновали остальной свой путь и возвращались на прежнее место. Суфьян знал четыре такие кочевые травостойные круга, по которым ходили до своей смерти остаточные овцы от одичавших, вымерших стад. Одно из этих кочевых колец пролегало невдалеке, почти на пересечении той дороги, по которой народ джан шел теперь в Сары-Камыш.
Суфьян и Чагатаев дошли до малой влажной впадины в песке и остановились. Суфьян разрыл руками песок в глубине, он там был мокрый; старик сказал, что овцы разгребают передними ногами землю и затем жуют сырой песок, утоляя жажду, – здесь и надо ожидать овец: он знал время, в которое они обходят весь свой круговой путь, и высчитал, что срок их пришел явиться сюда; прошлый год он ходил вслед за овечьим стадом и доходил до здешнего места. Овец в стаде тогда было около сорока голов, из них Суфьян съел шесть, семеро овец пали по пути, а остальные ушли дальше.
Нур-Мухаммед подвел народ тоже сюда, где ожидали овец Чагатаев с Суфьяном, и все легли и задремали около овечьей тропинки, где овцы в прошлом году жевали сырой песок. Все люди снова спали, хотя до вечера еще было далеко и с утра немного прожито времени. Чагатаев один ходил между спящими и боялся, что больше никто не проснется; ему скучно было томиться в одном себе своими мыслями и воспоминаниями. Он подошел к Айдым, – она спала со сладко слипшимися веками глаз, с улыбкой беспамятства или сновидения. Не имея радости в действительности, она получала ее в своем чувстве и представлении, закрыв глаза. Молла Черкезов спрятал голову в грудь матери Чагатаева, прижался к ней и спал в любви и тепле, не помня, что он слепой. Нур-Мухаммед лежал в стороне; он шевелился на земле и шептал что-то.
– Ты что здесь думаешь? – спросил его Чагатаев.
– Больше сорока человек осталось, – произнес Мухаммед. – Много еще!
Он считал народ – сколько его умерло, сколько еще живо.
Чагатаев потолкал Суфьяна: старик не спал, он только держал закрытыми глаза, точно берег зрение и не желал рассеиваться душой среди впечатлений видимого дневного мира. Чагатаев сказал ему, что у него умерла в Москве жена, но Суфьян не разделил его горя, он промолчал, а затем сказал, чтобы Чагатаев пошел встретить овец – они могут найти влажный песок в другом месте и пройти стороною от лежащего народа.
Гюльчатай проснулась. Она теперь сидела, держа на коленях голову спящего Моллы Черкезова. Чагатаев пошел к матери, чтобы поговорить с ней, но ничего ей не сказал. Он сам догадался, что обращается к старику и к матери лишь для того, чтобы услышать от них утешение и прожить дальше. Но разве в том его существование, чтобы беречь себя здесь в душевном покое, в сожалении близких людей!.. Он зря не написал открытку Ксене – оттуда, где была почта, – чтобы она пошла в ЦК, если ей плохо будет жить без матери, когда он, ее отец, находится далеко и, может, не вернется для помощи.
Чагатаев погладил простоволосую голову Гюльчатай и надел ей красноармейский шлем, потому что от сильного солнца у матери должна болеть голова. Мать сняла шлем и спрятала его под себя; она верила в имущество и берегла его – от этого у нее и сейчас была кофта раздута, внутри ее на голом теле лежали различные вещи, ее собственность, согревающая ей грудь. Вблизи матери лежала киргизка лицом в песок. Она спала и вскрикивала во сне детским голосом, закатываясь иногда в младенческом плаче и затем опять отходя к спокойствию и к ровному дыханию. Чагатаев приподнял ее лицо за виски и увидел, что это была пожилая женщина, и рот ее не открывался, когда она закатывалась в детском обмирающем крике. Казалось, внутри ее плакал ребенок, невинный другой человек, и он настолько был одинок и чужд для нее, что даже не будил ее ото сна, – или это плакала ее действительная, детская душа, неизменная и еще не жившая.
Чагатаев опустил голову женщины обратно на землю и пошел навстречу блуждающим овцам. Сначала он шел обыкновенно, но потом, когда день стал покрываться ночью, он побежал скорее вперед, чтобы не пропустить овец во тьме. Изредка он останавливался и дышал для отдыха, но потом опять спешил. Когда стало совсем темно, Чагатаев бежал, низко согнувшись, чтобы видеть немного редкие былинки травы и касаться их руками, – это было направление, где могли ходить овцы; иначе он мог бы сбиться в сторону, попасть в голодные пески и не заметить бредущих овец.
Он бежал долго по пустой овечьей дороге. Наступила, может быть, полночь или позже. От усталости и горя, которого он не сознавал, но оно все равно самостоятельно томило его сердце, от прохладного, слабого ветра Чагатаев потерял память на ходу, – он заснул, упал и не мог подняться. Он спал глубоко, один в пустыне, в бедной тишине, где нечему шевелиться. Черные стебли небольшой травы редко, как сироты, стояли вокруг спящего, точно жалея, что он встанет и уйдет, а им придется быть здесь опять одним.
На рассвете Чагатаев открыл глаза, его сознание чуть засветилось и опять погасло, он снова заснул, чувствуя тепло и забвение. Две овцы лежали по бокам Чагатаева и согревали его своим теплом. Другие овцы стояли вокруг в ожидании, когда человек поднимет лицо. Их было голов сорок, они давно соскучились по пастуху и теперь нашли его. Старый баран время от времени подходил к лежащему Чагатаеву и осторожно лизал его шею и волосы на затылке, баран любил запах и соленый пот человека, но давно его не пробовал. Баран поворачивался туловищем во все стороны, желая увидеть собаку пастуха, но ее не было. Он устал водить овец, мирить их на водопое, сторожить по ночам от одинокого зверя – он помнил прежнее доброе время, когда пастух и его собаки управлялись со всеми заботами, а ему приходилось только покрывать овец и спать среди них без ума, в утомлении. Теперь же он стал умным, худым и несчастным, а овцы ненавидели его за слабость сил и за равнодушие к ним и тоже вспоминали пастухов и собак, хотя собаки, устанавливая порядок среди них на водопое, рвали иногда клочья из их шерсти, которую они с трудом нажили в пустынной траве. Баран жил обиженно, он хотел стать собакой и даже пытался рвать ртом шерсть на овцах, захватывая ее беззубыми деснами.
Проснувшись, Чагатаев погнал овечью отару к своему народу и дошел до него к вечеру. Народ дремал по-прежнему, одна Айдым играла в песок, проводя в нем реки и дороги. Чагатаев разбудил людей и велел им идти собирать саксаульник и мертвую сухую траву, чтобы зажечь огонь и сварить овечье мясо на пищу. Суфьян с охотой стал резать под горло овец и первым отпивал кровь из горловых жил, а потом нацеживал ее в миску и давал пить другим, кто хотел. Очередные живые овцы стояли возле и внимательно глядели на убийство, не беспокоясь о себе, точно жизнь для них не имела преимущества. Баран же находился в отдалении, среди отары уцелевших овец, и подымал голову, чтобы лучше видеть действия Суфьяна. Когда осталось в живых лишь тридцать овец и четыре костра уже горело на становище, а многие овцы лежали голыми тушами, с худыми ляжками, с отверстиями в своих телах, полными крови и смертной жидкости, – баран закричал и повернул голову в пустое направление степи. Он давно жил среди овец и бывал как муж внутри тех мертвых, которые теперь лежали, – он знал худобу их костей и теплоту цельного, смирного тела.
Чагатаев не велел резать больше десяти голов, остальные пусть живут на племя и на питание в будущее время. Баран остался цел, он отошел и лег вдалеке, и к нему подобрались все живые овцы. Худые и опытные от дикой жизни, они сейчас издали походили на собак.
Туши начали запекать на кострах целиком, без разделки на части, и, обжаривши их, клали в сторону на песок. Затем началась еда. Люди ели мясо без жадности и наслаждения, выщипывая по небольшому куску и разжевывая его слабым, отвыкшим ртом. Лишь один Нур-Мухаммед ел много и быстро, он отрывал себе мясо пластами и поглощал его, потом, наевшись, глодал кости до полной их чистоты и высасывал мозг изнутри, а в конце еды облизал себе пальцы и лег на левый бок спать для пищеварения. Женатые отошли спать в сторону со своими женами, Молла Черкезов тоже увел далеко мать Назара, одинокие же и сироты остались вокруг потухших костров – они настолько ослабели и так глубоко уснули, словно съеденная ими пища сама в отомщение изнутри поела их силы и они были побеждены ею.
Ночью Чагатаев ходил по становищу, он сосчитал живых овец с одним бараном, собрал овечьи шкуры и головы в общее место и стал смотреть в ночную мглу: что там делает сейчас Ксеня – далеко за этой тьмой, в электрическом свете Москвы; и где лежит мертвая Вера, что там осталось в земле от ее робкого большого тела… Чагатаев пошел мимо спящих; народ лежал на песке непокрытый, как будто он был целиком перебит и не оставил себе могильщиков. Но некоторые мужья и жены шевелились, любя друг друга. Молла Черкезов тоже лежал с Гюльчатай. Чагатаев увидел это и заплакал. Он не знал, что ему делать здесь сейчас, чтобы научить этот небольшой народ социализму. Он уже не мог его оставить одного умирать, потому что его самого, брошенного матерью в пустыне, взял к себе пастух и советская власть и неизвестный человек прокормил и сберег его для жизни и развития.
Больные и слабые дремали в жару. Двое из них уснули с овечьими костями в руках, которые они обсасывали перед сном, чтобы набраться сил. Чагатаев сходил в песчаную влажную яму, разгреб песок и образовал маленький колодезь; когда в него собралась вода, он пошел к больным, разбудил их и дал каждому по хинному порошку, а затем сбегал несколько раз к песчаному колодцу и принес воды в пригоршне, чтобы дать запить лекарство.
Стало уже поздно. Чагатаев озяб, прилег к одному наиболее горячему больному, желая согреться об его тело, и уснул. Наутро баран и все овцы исчезли. Судя по следам, они ушли в открытые пески, оставив свою обычную кормовую дорогу.
11
Суфьян сделал расчет в уме и сказал, что эти овцы неминуемо возвратятся на свою кормовую дорогу либо набредут на другую, что проходит далее, через Каракумы, большой окружностью. Но обе эти кочевые дороги выходят на грязные озера Сары-Камыша, невдалеке от которых находится родина всего народа джан, и овцы рано или поздно выйдут на Сары-Камыш во впадину вечной тени и увидят темные горы Усть-Урта, где многими, кто здесь находится, была прожита вся жизнь. Нур-Мухаммед согласился с Суфьяном.
– Мы пойдем за ними, – сказал он. – Мы будем пить их кровь и есть их мясо. Через семь или восемь дней мы дойдем до Сары-Камыша… Кто-нибудь умер сегодня ночью? – спросил Нур-Мухаммед.
Ему ответили, что умерла одна старуха каракалпачка, и Нур-Мухаммед с тщательностью сделал отметку в своей записной книжке. Чагатаев не помнил этой старухи и не видел ее – она ночевала одна, уйдя далеко от общего стана, и там умерла спокойно.
Народ пошел длинной чередою по следу бежавших овец. Больные и слабые шли позади и часто садились на отдых, отпивая воду из домашних бурдюков. Чагатаев шел позади всех, чтобы никто не пропал и не умер незаметно. Животные, вероятно, бежали быстро; это разгадал Суфьян по виду овечьих следов, и так же думал Чагатаев. Он выходил на высокие барханы и до последнего горизонта не замечал даже самого слабого облака пыли от движения стада – овцы ушли слишком далеко.
Старая хивинская рабыня-туркменка дала Чагатаеву тряпку, отодрав ее от своего подола, и Чагатаев повязал себе голову, страдая от солнца. Народ шел терпеливо; Айдым выздоровела вовсе и повеселела – для нее, ничего не знавшей, здесь было достаточно предметов для всех чувств и впечатлений. Когда она уставала, Чагатаев брал ее на руки, и она могла спать у него на плече, вскрикивая иногда и бормоча свои страшные сны. Но какое сновидение питало сознание всего этого бредущего народа, если он мог терпеть свою судьбу? Истиной он жить не мог, он бы умер сразу от печали, если бы знал истину про себя. Однако люди живут от рождения, а не от ума и истины, и пока бьется их сердце, оно срабатывает и раздробляет их отчаяние и само разрушается, теряя в терпении и работе свое вещество.
До поздней и дальней ночи народ не догнал овец. Наутро Нур-Мухаммед опять спросил – кто умер за ночь или все остались живы? Умер только мальчик у одной матери, и Мухаммед с удовлетворением сделал вычитание погибшей души в своей записной книжке. Теперь в народе осталось всего двое детей – Айдым и еще небольшая девочка, рожденная случайно года три назад, когда в народ пришел какой-то человек из песков и, пожив с полгода, ушел дальше, оставив свою плоть в Гюзель, вдове разбойника из района Старого Ургенча.
На второй день народ увидел две овцы, лежавшие на дороге; они ослабели в бегстве и болезни и теперь умирали. Их поредевшая шерсть слиплась от лихорадочного пота, худощавые морды глядели злобно и дико – они теперь походили на шакалов, – а в хвостах у них не осталось никакого жира. Овец сразу убили, чтобы застать их еще живыми, и съели, не разводя огня, а кости разделили и унесли с собою на ужин. В следующие два дня не было другой пищи, кроме редких травяных былинок, вода же встретилась два раза в такырных ямах.
Народ двигался теперь только вечером и утром, а днем от слабости и жары закапывался в песок и спал. Нур-Мухаммед ежедневно отмечал умерших, а Чагатаев проверял их смерть, прислушиваясь к сердцу и наблюдая глаза, потому что однажды Суфьян и еще другой старик, ферганский раб Ораз Бабаев, притворились мертвыми. Но Чагатаев расслышал сквозь кости их глухое, далекое сердце, поднял на ноги и велел жить дальше.
– Зачем вы хотели умереть? – спросил их Чагатаев.
– У нас душа занемела от жизни, – сказал Суфьян, – кости ссохлись и согнулись, жилы сморщились: они потянуться захотели, пускай их дождь помочит, ветер посушит, черви пожуют, а то я им мешаю…
Ораз Бабаев стоял без ума, пусто глядя на Чагатаева, и не мог вначале ничего сказать; он, наверно, все равно считал себя умершим.
– Нам не живется, – сообщил он вслух, – мы каждый день пробовали.
– Ничего, мы вместе научимся, – сказал им Чагатаев.
– Немного потерпим, – согласился Суфьян, – а потом нечаянно все помрем.
Русский старик, по имени Старый Ванька, подошел к Суфьяну, попробовал его горло, разверз веки и заглянул внутрь каждого его глаза, потом ощупал ему ребра и сказал тогда:
– Чего ты! Только заматерел, а уж помираешь! Терпи: поживем, побьемся, да и меду в кадушках дождемся – с толстым ломтем подойдем да макнем…
Русский отошел, улыбаясь. Почти ежедневно, в течение шестидесяти лет, жизнь его должна окончиться, но он ни разу еще не умер и теперь разуверился в силе смерти и всякой беды, живя спокойно и равнодушно, как счастливый и бессмертный. Чагатаев знал, что Старый Ванька некогда – лет тридцать тому назад – прибежал сюда из сибирской каторги, прижился к неродному народу и жил себе одинаково со всеми, не помня больше дороги в Россию.
Ночью пошел пустынный темный ветер, песок тоже побрел за тем ветром и постепенно закрыл навсегда овечьи следы. Чагатаев понял здесь жизнь. Рано утром он отошел от спящих и дремлющих, когда понял, что овечье стадо ушло теперь вовсе, идти за ним стало бессмысленно и ослабевший народ очутился среди пустыни, без еды и без помощи – у него не хватит сил достигнуть Сары-Камыша и он уже не сможет вернуться назад, в разливы Амударьи.
Утренний странный ветер дул Чагатаеву в лицо, песчаная поземка кружилась в подножье человека и стонала, как русская вьюга за ставнями избушки. Иногда же слышался жалобный звук жалейки, иногда играла гармония, дальняя труба или, чаще всего, бедная глухая дутара. Это пели пески, мучимые ветром, когда одна песчинка истиралась о другую. Чагатаев лег на землю, чтобы задуматься о дальнейшей своей работе; не для того его послали сюда, чтобы он умер здесь сам и оставил своему народу его смертную участь… Он попробовал рукою свое лицо; оно обросло волосами, в голове завелись вши, немытое худое тело скорбело от запустения. Чагатаев подумал о себе как о жалком, скучном человеке. Кто его помнил сейчас, кроме Ксени? Но и та, наверно, уже стала забывать: юность сейчас слишком воодушевлена своими счастливыми задачами. Чагатаев уснул в беспокойном песке, отдельно и довольно далеко от всех непроснувшихся людей. Все в нем замерло, глубоко и надолго, затаилось внутри тела, отжило на время, чтобы не умереть совсем. Он проснулся во тьме, полузасыпанный песком; ветер все еще дул, и была уже новая ночь. Он проспал весь день. Чагатаев пошел на общее становище; народа там не было. Все люди давно проснулись и ушли дальше, скорее от смерти. Лежал только один Назар-Шакир; потому что он умер и теперь открыл рот, в котором говорил теперь что-то ветер и песок. Чагатаев, набредя на мертвого, долго ощупывал его и проверял действительность смерти, потом закрыл всего человека песком, чтобы он стал никому не заметен.
Чагатаев шел всю ночь; иногда он, наклонившись, видел следы прошедшего народа, иногда, когда следы уже стравил ветер, шел по чувству.
Утром Чагатаев заметил по местности, что здесь должна быть вода, и он нашел заглушенный колодец, забитый песком. Назар дорылся руками до влажной глубины и начал жевать песок, но сплевывать приходилось больше, чем получать внутрь; тогда он стал глотать мокрый песок целиком, и мученье жажды оставило его. В следующие четыре дня Чагатаев старался идти вперед по пустыне, но от слабости уходил недалеко и вновь возвращался на мокрый песок, чтобы, изнемогая от голода, не умереть от жажды. На пятый день он остался на месте, решив набраться сил в дремоте и беспамятстве, а затем догнать свой народ. Он съел два оставшиеся у него хинных порошка и разные карманные крошки, отчего ему стало лучше. Он понимал, что народ его близко, он тоже не имел сил уйти от него далеко, только неизвестно было направление его пути. Чагатаев представлял себе, с каким тайным удовольствием Нур-Мухаммед поставил отметку в своей записной книжке о его смерти. Он улыбнулся своей старой мысли: почему люди держат расчет на горе, на гибель, когда счастье столь же неизбежно и часто доступней отчаяния… Чагатаев зарылся от солнца во влажный песок и пытался впасть в беспамятство для отдыха и для экономии жизни, но не умел и все время думал, жил понемногу и смотрел в небо, где слабым туманом шел жаркий ветер с юго-востока и было так пусто, что не верилось в существование твердого, настоящего мира.
Отлежавшись, Чагатаев пополз к ближнему бархану, где он заметил задутый наполовину песком куст перекати-поля. Он добрался до него, отломил несколько высохших ветвей и сжевал их, а оставшийся куст вырыл из песка и отпустил бродить по ветру. Куст покатился и вскоре исчез за барханами, направляясь куда-то в дальнюю землю. Затем Чагатаев поползал еще по окрестности в несколько шагов и нашел в мелких песчаных могилах весенние засохшие былинки травы, которые он также проглотил, без различия. Скатившись с бархана, он заснул у его подножия, и во сне на его слабое сознание напали разные воспоминания, бесцельные забытые впечатления, воображение скучных лиц, виденных когда-то, однажды, – вся прожитая жизнь вдруг повернулась назад и напала на Чагатаева. [Чагатаев следил за ним беспомощно и не умел теперь забыть его.] Раньше он думал, что большинство ничтожных и даже важных событий его жизни забыты навсегда, закрыты навечно последующими крупными фактами, – сейчас он понял, что в нем все цело, неуничтожимо и сохранно, как драгоценность, как добро хищного нищего, который бережет ненужное и брошенное другими. Бедный и пожилой человек не исчез из сознания, он все еще бормотал что-то, прося или жалуясь (наверное, он давно умер в действительности), но вот подруга Веры, еле виденная им когда-то, склонилась над Чагатаевым и не уходила, она надоедала, и она мучила собою дремлющего в пустыне человека, и за нею, на глиняном дувале, дрожали тени от серебристой ветви, росшей некогда на солнце – может быть, в Чарджуе, может быть, еще где-нибудь. И еще многие, едкие вечные пустяки в виде сгнившего дерева, почтового отделения в поселке, безлюдной стонущей горы на полуденном солнце, звука пропавшего ветра и нежных объятий с Верой, все это энергично вошло в Чагатаева одновременно и жило в нем неподвижно и настойчиво, хотя в истине, в прошлом, это были текущие, быстро исчезающие факты. В нем же они теперь существовали гораздо более резко и яростно, гораздо навязчивей, чем на правде. В действительности эти предметы жили кротко и не проявляли своего значения, не делали больно совести и чувству человека. Но сейчас они набились толпою в голову Чагатаева, и если от них можно было спасаться в настоящей жизни, хотя бы потому, что время проходит, то здесь события никуда не проходили, а продолжали быть постоянно и своей повторяющейся деятельностью точили и протирали кости черепа Чагатаева. Он хотел закричать, но у него не было достаточной силы. Он подумал заплакать, но испугался терять влагу, чтобы не есть потом мокрый жесткий песок. Он прислушался – не звучат ли вдали редкие, капающие, гулкие звуки – за черным мертвым горизонтом, из той темной свободной ночи, где без остатка поглощается последний солнечный свет, как река, впавшая в песчаную пустыню. Он слышал иногда те звуки дальней природы, не зная их причины и полного значения.
Чагатаев поднялся на ноги, чтобы избавиться от сна и от всего мира, застрявшего в его голове, как колючий кустарник; сон сошел с него, но вся страшная теснота воспоминаний и мыслей осталась живому наяву. Он увидел что-то на соседнем бархане – животное или кибитку, но не успел понять, что именно, и упал обратно от слабости. И то, что было на соседнем бархане – животное, или кибитка, или машина, – сейчас же вошло в сознание Чагатаева и начало томить его своей неотвязностью, хотя оно и не было понято и не имело даже имени. Это новое явление, сложившись со всеми прежними, осилило здоровье Чагатаева, и он впал в беспамятство, спасая свою душу.
Проснулся он на другой день в раннее время. Ветер ушел без остатка, всюду стояла робкая тишина, настолько пустая и слабая, что в нее внезапно могла ворваться буря. Тень ночи ушла в высоту и лежала там над миром, выше дневного света. Чагатаев теперь был здоров, ум его прояснился и думал по-прежнему о своих задачах; слабость сил не оставила его, но уже не мучила. Он предвидел, что ему, вероятно, здесь придется умереть и народ его также потеряется трупами в пустыне. Чагатаев не жалел о самом себе: большой народ жив, и он все равно исполнит всеобщее счастье несчастных; но плохо, что народ джан, изо всех народов Советского Союза наиболее нуждающийся в жизни и в счастье, будет мертв.
– Не будет! – прошептал Чагатаев.
Он стал подыматься, нажимая всем сердцем на свои дрожащие руки, упертые в песок, но сейчас же лег обратно, навзничь: позади его, со стороны затылка, кто-то находился; Чагатаев услышал быстрые, отступающие шаги какого-то существа.
Чагатаев закрыл глаза и взял в кармане рукоятку револьвера в руку; он только боялся, что теперь плохо справится со своим тяжелым оружием, потому что в руке осталась лишь младенческая сила. Он лежал долго, не шевелясь ничем, притворяясь умершим. Он знал многих зверей и птиц, которые поедают мертвых людей в степи. Наверно, позади народа – в невидимом отдалении – все время молча шли дикие звери и съедали павших людей. Овцы, народ и звери – тройное шествие двигалось в очередь по пустыне. Но овцы, теряя травяную полосу, иногда начинают идти за блуждающей травой перекати-поле, которую гонит ветер, и поэтому ветер является всеобщей ведущей силой – от травы до человека. Наверно, надо было идти по ветру, чтобы догнать овец, но Нур-Мухаммед ничего не знает, а Суфьян соскучился жить и больше не думает.
Чагатаеву хотелось сразу вскочить, выстрелить в зверя, убить его и съесть, однако он боялся, что промахнется от слабости и навсегда распугает от себя зверей. Он решил допустить зверя до самого своего тела и убить его в упор.
Легкие, осторожные шаги все время раздавались позади головы Чагатаева, то приближаясь, то удаляясь. Сократив дыхание, Назар ждал, когда бросится на него крадущееся существо, еще не уверенное в его смерти. Он беспокоился лишь, чтоб зверь не впился сразу ему в горло или, получив рану, не убежал далеко. Шаги послышались теперь рядом с головой. Чагатаев потащил немного револьвер из кармана наружу, уже чувствуя в себе хорошую силу, собранную изо всех остатков жизни. Но шаги прошли мимо его тела и удалились. Назар приоткрыл глаза; дальше его ног медленно шли две большие птицы, отдаляясь от него на противоположный бархан. Чагатаев никогда не видел таких птиц, они походили одновременно и на степных орлов-стервятников, и на диких темных лебедей; клювы их были как у стервятников, но толстая, могучая шея длиннее, чем у орлов, а прочные ноги высоко носили нежное, воздушное лебединое туловище. Сложенные черные крылья у одной птицы были сплошного серого цвета, а у другой – с красными, синими и серыми перьями; это, вероятно, самка; брюхо обеих птиц было выпущено белым, снежным пухом – Чагатаев заметил даже сбоку у самки мелкие черные точки; это блохи впились в живот птицы сквозь пух. Обе птицы чем-то походили на огромных птенцов, которые еще не привыкли жить в своем теле и двигались с осторожностью.
День стал жарким и заунывным, по песку закручивались мелкие смерчи, вечер еще высоко стоял на небе, над светом и теплом. Две птицы взошли на бархан против Чагатаева и сразу оглянулись на него дальновидными, разумными глазами. Чагатаев следил за птицами из-под неплотно закрытых век, он разглядел даже серый редкий цвет их глаз, глядевших на него с мыслью и вниманием. Самка почистила клюв о когти ног и выплюнула изо рта какой-то давний объедок, может быть, остаток расклеванного Назар-Шакира. Самец поднялся в воздух, а самка осталась на месте. Громадная птица низко полетела в сторону, затем несколькими прыжками на крыльях взлетела в высоту и сразу стала падать оттуда. Чагатаев почувствовал ветер в лицо прежде, чем птица достигла его. Он увидел над своим лицом ее белую, чистую грудь и серые расчетливо-ясные глаза, не злые, а думающие, потому что птица уже заметила, что человек жив и видит ее. Чагатаев вынул револьвер, обеими руками поднял его в воздух и ударил из него в падающую ему на голову птицу. Среди груди мчащейся птицы, в белом ее пуху, задуваемом скоростью полета, появилось темное пятно, и вслед за тем мгновенный ветер вырвал весь пух в клочья вокруг черного места попадания, а тело орла на краткое время задержалось в воздухе неподвижно.
Птица закрыла серые глаза, потом они открылись у нее сами, но уже ничего не видели, – она умерла. Она лежала на теле Чагатаева в том же положении, в каком падала: своею грудью на груди человека, головой на его голове, уткнувшись клювом в густые волосы Назара, широко распустив черные беспомощные крылья по сторонам, и ее вырванные перья и пух осыпали Чагатаева. Сам Чагатаев потерял память от удара тяжестью орла, но ранен он не был; птица лишь оглушила его, опасная скорость ее падения была заторможена встречной, пронзающей пулей… Чагатаев вскочил и сел от резкой боли: вторая птица, самка, рванула клювом его правую ногу, взяв оттуда немного мяса, и сейчас же взлетела в воздух. Чагатаев, держа револьвер обеими руками, дважды выстрелил по ней, но не попал; огромная птица исчезла за барханами, потом он разглядел ее летящей на большой высоте.
Мертвого орла уже не было на Чагатаеве, он лежал в ногах Назара на песке; его, должно быть, стащила самка, желая убедиться, что он погиб, и прощаясь с ним.
Чагатаев подполз к убитой птице и начал есть ее горло, выщипывая оттуда перья. Орлица все еще была видна, но она уже достигла той высоты неба, где даже в полдень стоит тень ночи, сумрак заката и рассвета, и Чагатаеву казалось, что она оттуда уже не возвратится, что там есть своя воздушная счастливая страна улетевших птиц.
Наевшись немного, Чагатаев перевязал ногу мертвой птицы своим поясным ремнем, а другой конец ремня продел себе в глубину штанов – тогда он услышит, если какой-нибудь хищник захочет украсть орла. Потом Чагатаев полечил слюнями рваную ранку на своей ноге, закрыл ее материей и скорее улегся, чтобы приобрести крепость сил.
12
Гюльчатай не жалела о сыне, она забыла его. Согнувшись, она шла следом за другими и трогала руками песок, когда ей казалось, что в нем лежат какие-то вещи. Молла Черкезов держался за одежду Гюльчатай, все время стараясь помнить, что он живой. Нур-Мухаммед, отчаявшись сердцем, взял на руки Айдым; он предполагал воспитать, откормить эту девочку и воспользоваться ею как женой, а потом продать другому. Его мучило, что слишком мало женщин в народе джан и те, кто были еще живыми, уже стали ветхими, – надежна только одна Айдым, потому что она еще мала. Женщины ценятся дороже мужчин, они служат одновременно и для работы и для утешения, но мужчин тоже можно продать хорошо, если они не перемрут за долгий путь.
В то утро, когда Чагатаева не оказалось на общем становище, Нур-Мухаммед улыбнулся и сделал тщательную отметку в своей книжке об его исчезновении, собирая на всякий случай сведения для составления отчета о командировке. Он решил, что Чагатаев убежал спасаться один, как всякий живой и малодушный, и Нур-Мухаммеду стало лучше без него; люди теперь уже не спрашивали у Мухаммеда, скоро ли они дойдут до Сары-Камыша, и никогда не вспоминали о пище. Сам Нур-Мухаммед тоже мог пасть от слабости, но он еще держался старыми запасами своего тела, потому что много ел риса, мяса и фруктов, когда жил по оазисам и ходил тайно в Афганистан, к давно бежавшему хану Джунаиду.
Суфьян в тот день пошел по ветру, куда несутся вырванные, изжившие жизнь былинки травы и катится перекати-поле; он знал, что в этом направлении и пошли теперь овцы, раз ветер бесследно задул их кормовую тропинку, по которой изредка, оазисами, росла устойчивая трава. За Суфьяном пошли было остальные люди, но Нур-Мухаммед велел им идти в другую сторону – против ветра, на юго-восток. Он прижал к себе Айдым, чтобы ощутить зачатки ее женской груди, но почувствовал лишь ее тонкие ребра.
Нур-Мухаммед оглянулся на всех; ветер раскачивал народ, песчаная поземка била в ноги людей, погибшая трава влеклась навстречу пешеходам – эту траву под самый корень сжал ветер по всему песчаному безлюдью, где прошла его гребущая сила. Некоторые люди упали от ветра, другие шли во сне, разбредаясь в разные стороны, теряя друг друга в сумраке метущегося песка.
Нур-Мухаммед остановился.
Ветер дул со стороны юго-востока ровной гнетущей силой, как из машины. Народ рассеивался под ним и больше не слышал или не признавал голоса Нур-Мухаммеда, звавшего каждого по имени идти за ним вперед. Он сам еле дышал от терпения, от жажды и голода; здравый смысл его разума уже покрывался тенью равнодушия к своей судьбе. Раньше он предполагал увести весь этот ничтожный, ослабевший народ в Афганистан и продать его в рабство старым ханам, а самому прожить счастливо остальную жизнь в собственной, обильной домашним добром курганче, где-нибудь в афганской долине на берегу потока, тогда не надо будет быть членом профсоюза и кооперации, не надо сдерживать в молчании скопляющееся яростью сердце. Теперь Мухаммед, сбиваемый с ног песком и ветром, видел, что народ джан падает или разбредается в беспамятстве: тело каждого человека стало пустым, и сердце постепенно вымерло. Они не дойдут до Афганистана, а дойдя туда, не сумеют быть даже последними батраками, потому что в них не осталось хотя бы слабого житейского интереса, который необходим и для раба.
Нур-Мухаммед стоял долго, пока весь народ не разошелся в сумраке ветра и не свалился там лежать – в смерти или во сне. Айдым укрылась около его горла и тихо дышала в своем забвении. Мухаммед бережно держал ее, а сам с наслаждением, не помня, что ему хочется пить и есть, следил за погибающим народом. Суфьян сел в песок и согнулся. Сгорбленная Гюльчатай давно лежала на земле, и слепой муж ее, Черкезов, укладывался за нею с подветренной стороны, точно ища удобства в супружеской постели. Худой нестарый каракалпак, по прозвищу Таган, снял с себя одежду – штаны и халат, – бросил их по ветру, а сам зарылся голым в песок и там остался, почти невидимый больше. Мухаммеду было хорошо, что в Советском Союзе теперь меньше жителей на целый народ, – пусть этот народ и не знал никто, а все-таки польза для государства уменьшилась, и работники, рывшие некогда целые реки для баев, теперь ничего не будут рыть, даже могилы для самих себя.
Нур-Мухаммед чувствовал сейчас не только удовольствие, но он даже слегка пошевеливался в некотором танце, видя в людях их последний песчаный сон. Он ценил теперь себя дороже, выше, – ему больше достанется добра в пустыне и на всей земле, потому что живых становится меньше. Неизвестно, получил бы он больше наслаждения, когда продал бы весь этот народ в рабство, или теперь, когда потерял его, когда в природе стало просторней, когда сразу закрылись рты наиболее алчных бедняков. Мухаммед решил уйти навсегда в Афганистан и унести с собой Айдым, чтобы продать ее там и оправдать хоть немного свои убытки от работы в Советском Союзе.
Ветер вдруг сразу ослабел, и стало светлее повсюду. Нур-Мухаммед прижал к себе девочку с такой силой, что Айдым открыла глаза. Он пошел ласкать ее в уютное песчаное ущелье, соскучившись без счастья от чужого тела. Ни голод, ни долгое горе не могли уничтожить в нем необходимость мужской любви, она жила в нем неутомимо, жадно и самостоятельно, пробиваясь сквозь все жесткие беды и не делясь своей силой с его слабостью. Он мог бы обнимать женщину и зачинать детей, находясь в болезни, в безумии, за минуту до окончательной смерти.
Мухаммед нашел укромное место, положил девочку и лег рядом с нею. Айдым опять спала в забытьи. Он снял с нее верхние нечистые тряпки одежды и увидел голое детское существо, столь незнакомое, что страсть его вначале не стала действовать. Айдым была мала, как пятилетняя, и кости ее были обтянуты бледно-синей пленкой, не имевшей никогда достаточной упитанности, чтобы превратиться в настоящую кожу. Однако сквозь эту пленку, почти непосредственно из костей скелета, уже прорастали женские груди и начинали опухать будущие материнские места, не считаясь с бедностью вещества в других частях тела. Наверное, Айдым было уже лет двенадцать или тринадцать, если ее покормить, на ней можно жениться.
Две большие птицы с темными крыльями низко пролетели над Мухаммедом и Айдым. Мухаммед проследил их полет и затем обнял девочку, потому что у него не было времени и лишней силы терпеть свою любовь. Айдым проснулась от боли. Она видела много раз, как взрослые спят и любят, знала это дело с точностью и теперь, догадавшись обо всем, стала повторять действия старых людей, как опытная женщина, что немного удивило Нур-Мухаммеда. Айдым молча смотрела на Мухаммеда любопытными глазами, полными слез от боли и терпения. Она словно ждала чего-то, что будет сейчас с нею, неизвестного или хорошего, но ничего не было, и ей стало неинтересно.
– Уходи! Лучше я буду одна, – сказала Айдым Мухаммеду, потому что она не узнала в любви никакой новой жизни.
Но Мухаммед не оставил ее, пока его чувство не получило наслаждения: без наслаждения он не мог существовать.
В пустыне смерклось, наступила ночь, и она прошла во тьме. Некоторые люди, павшие вчера по пескам от ветра, наутро поднялись и стали оглядываться в чистом свете, среди тишины другого дня.
Вблизи, за глухим барханом, раздался выстрел. Дремавший Суфьян сел и стал слушать. Айдым прибежала к нему от Мухаммеда, который спал вдали и не проснулся.
Народ был весь живой, но жизнь в нем держалась уже не по его воле и была почти непосильна ему. Люди глядели перед собой, хотя и не сознавая ясно, как надо им пользоваться своим существованием; даже темные глаза теперь посветлели от равнодушия и не выражали ни внимания, ни силы собственного зрения, точно ослепшие или прожитые насквозь; только одна Айдым хотела быть живой, она не истратила еще детства и материнского запаса энергии, она смотрела в песок все еще блестящими глазами.
За барханом еще [стрельнули] два раза. Айдым пошла туда смотреть, но не нашла сразу места, где стреляли. Из других людей никто не пошел; они не боялись врага и не ожидали друга или помощника.
Айдым перешла четвертый бархан и увидела, что внизу его лежит спящий или мертвый человек, рядом с темной птицей. Девочка спустилась с песчаного откоса и узнала Чагатаева. Она попробовала руками его лицо, оно было теплое, изо рта шло дыхание.
– Спи! – сказала шепотом Айдым и прикрыла своими пальцами веки Чагатаева, чуть приоткрытые во сне.
Затем Айдым освободила убитую птицу от ремня, взяла ее за ногу и поволокла через пески к своему народу.
Все люди собрались вокруг птицы и глядели на нее без жадности, они отвыкли надеяться на еду. Тогда Айдым взяла нож из брошенных штанов Тагана и стала ощипывать птицу и резать ее на мелкие куски. Каждому, кто мог есть, она дала понемногу птичьего мяса, а сама высасывала кровь и сок из каждого куска, прежде чем отдать его. Народ поглотал эти куски, сглодал все кости без остатка и обсосал щипаные перья, но не наелся, а только разохотился; лучше б было ничего не есть и не тратить последнюю силу на жеванье и пищеваренье.
Айдым пошла опять к Чагатаеву. Народ, думая, что там есть еще битые мясные птицы, пошел следом за девочкой. Однако люди шли теперь слишком медленно, иные же ползли, помогая себе руками, в том числе ползла и еще помогала ползти Молле Черкезову мать Чагатаева. Некоторые же остались на месте, потому что у них уже не хватало силы нести свой скелет. Айдым, отойдя немного, подолгу ждала влекущихся за ней людей. И лишь к вечеру народ добрел до песчаного холма, за которым лежал Чагатаев. Все время, пока двигался народ, Айдым слышала трение и скрип костей внутри шевелящихся людей, – наверно, у них высох весь жир в суставах, и кости теперь мучились.
Нур-Мухаммед видел издали это движение народа, но оно его не интересовало. Он хотел сначала поискать в ближней округе какой-нибудь воды, хотя бы соленой, иначе он не дойдет до Хивинского оазиса. За Айдым он решил вернуться после, когда отыщет воду, чтобы и ее напоить, а потом уже вместе с нею он уйдет отсюда навеки в Афганистан.
13
Чагатаев заплакал от боли во сне и проснулся; он подумал, что боль ему приснилась и сейчас пройдет. Две темные птицы – одна прежняя самка, другая новый самец – отошли от него. Три раза они клевнули его тело сосущими клювами и до костей прорвали мясо на груди, колене и на плече. Отойдя немного, птицы остановились, повернули шеи и поглядели на Чагатаева – каждая птица одним глазом. Назар вынул револьвер и стал скорее стрелять в птиц, пока еще не вышло много крови из его ран и не пропала сила, собранная во сне. Птицы поднялись в воздух. Он успел стрельнуть в них два раза, и одна птица опустила крылья и села вниз, сразу подломив под себя ноги; потом она положила голову в песок и потянулась всем горлом как бы в надоевшей усталости; из горла птицы шла кровь и впитывалась в перья и ближний песок. В глазах птицы появилось равнодушие, и они задернулись серыми пленками. Другая птица ушла в высоту, закричала оттуда кратко и гулко, словно из пустого подземелья, и пропала в тумане солнечного света.
Из-за бархана показалась Айдым. Она пошла к убитой птице и поволокла ее за ногу мимо Чагатаева.
– Айдым! – позвал ее Назар.
Девочка подошла к Чагатаеву.
– Дай напиться! – попросил он.
Айдым подволокла мертвую птицу и, став на колени, приложила ее горло к губам Чагатаева и стала нажимать мокнущее горло, выдаивая оттуда кровь в рот Чагатаева.
– Ты лежи нарочно как мертвый, – сказала Айдым. – К тебе прилетят птицы, прибегут шакалы, ты их убивай, а мы будем кормиться…
– А где другие люди? – спросил Чагатаев.
– Там идут, – указала Айдым.
Чагатаев попросил ее, чтобы она принесла воды, если она есть, и промыла ему раны. Айдым осмотрела его раны, вынула из них шерсть от одежды, затем зализала их своим языком, зная, что слюна заживляет тело.
– Ничего: ты не умрешь, раны ведь маленькие, – сказала она. – Лежи опять смирно, а то птицы больше не прилетят…
Айдым поволокла птицу за песчаный холм, где ее народ образовал свое новое становище, в тишине глубокой впадины. Птицу съели сразу же, и если те далекие люди, которые едят каждый день, не почувствовали бы никакого утоления голода, съев тот маленький щипаный кусок птичьего мяса, какой дала Айдым каждому, то здесь человек большого голода почти наелся этой ничтожной пищей, – во всяком случае, его тело получило надежду и утешение.
Стало опять темно. Суфьян разрыл руками песок до влажного горизонта и начал жевать его от жажды. Некоторые люди увидели действия Суфьяна, подошли к нему и разделили с ним ужин из песка и воды. Нур-Мухаммед боялся холода и на ночь пришел к народу, чтобы лежать где-нибудь в его тесноте и согреваться.
Рано утром Мухаммед разбудил Айдым, взял ее на руки и пошел с ней навсегда в Афганистан.
Чагатаев по-прежнему лежал и сторожил птиц. Он сосчитал патроны, их у него осталось семь штук. Он знал наверное, что птицы явятся опять: он ведь убил самца, а самка с цветными крыльями улетела, и она снова вернется не одна, чтобы добить наконец человека, убившего ее первого, может быть, самого любимого мужа.
Айдым соскочила с рук Нур-Мухаммеда и прибежала к Чагатаеву попрощаться. Он поцеловал ее, погладил по лицу худою рукой и улыбнулся. Было еще сумрачно. Нур-Мухаммед ждал девочку в отдалении.
– Не ходи никуда, Айдым, – сказал Назар ребенку. – У нас скоро свое будет счастье.
– Я знаю, – ответила Айдым. – А он мне велит…
– Позови его, – сказал Чагатаев.
Айдым привела за руку большого Нур-Мухаммеда.
– Помираешь? – спросил Нур у Чагатаева. – Я думал, тебя давно птицы склевали.
– Зачем девочку уводишь с собой? – спросил его Чагатаев.
– Стало быть, нужно, – сообщил Мухаммед.
– Пусть остается с нами! – сказал Назар.
Айдым села около Чагатаева на песке.
– Я останусь, – сказала Айдым, – я маленькая, я уморюсь идти, мне не надо!
Чагатаев облокотился на локоть и привлек к себе девочку. Пала роса, и Назар незаметно полизал языком волосы Айдым, на которых были капли влаги.
– Уходи один! – сказал Чагатаев Мухаммеду.
– Мертвым пора молчать! – произнес Нур-Мухаммед. – Повернись в землю и спи! – Он ударил Чагатаева в лицо ногой, обутой в брезентовый сапог.
Чагатаев повалился навзничь; он заметил, что у Мухаммеда до сих пор лежал за пазухой учрежденческий портфель среднего служащего, может быть, Нур-Мухаммед всю свою жизнь считал лишь временной командировкой в дальние места, и единственная прелесть его существования заключалась в том, что можно оставить изжитое место и уйти на новое: пусть погибают остающиеся!
Чагатаев, не подумав, встал сразу на ноги. Он был теперь пуст и легок, тело его стало свободно, и он качался, как невесомый. Айдым уперлась руками ему в живот, чтобы он не падал. Но Нур-Мухаммед схватил Айдым поперек ее тела и пошел с нею прочь. Чагатаев бросился за ним вслед, но упал, потом опять поднялся, пытаясь сосредоточить силы. От слабости мир перемежался перед его глазами: то был, то не был. Мухаммед шел не спеша впереди, он не боялся полумертвого.
– Вы куда? – изо всех [сил] сказал Чагатаев.
Айдым заплакала на руках Мухаммеда.
– Возьми меня, Назар Чагатаев… Я не хочу в Афганистан: там буржуи живут…
Откуда она знает о буржуях?.. Чагатаев больше уже не упал, торжественная мысль жизни вернулась к нему, он поднял револьвер отвердевшей рукой и велел Мухаммеду остановиться. Тот увидел оружие и побежал. Айдым заметила на шее Мухаммеда болячку и впилась в нее своими отросшими ногтями. Нур-Мухаммед закричал по-страшному и ударил девочку по лицу, но размахнуться ему было негде, и ей не стало слишком больно от его удара. Айдым не отняла своих рук от болячки и повисла теперь на шее Мухаммеда, тогда он бросил ее держать, чтобы ударить по-настоящему.
– Видишь, как больно тебе! – [рассказывала] Айдым. – Тебе ведь говорили: не воруй меня, не надо! А ты украл, ты басмач! Терпи, теперь терпи!
Из-под болячки Нур-Мухаммеда шла густая кровь: засохшую корку больного места Айдым уже сорвала.
Мухаммед застонал и с трудом сбросил с себя девчонку. Оглянувшись на Чагатаева, он опять схватил Айдым и побежал с нею; он не [уважал] работать впустую. Чагатаев не мог бить по нему насмерть, чтоб не убить Айдым, которую Мухаммед прижал сейчас спереди к своей груди, и выстрелил в него по ногам. Пуля попала. Нур-Мухаммед был сорван с земли, как ненужный и посторонний, он упал с разбегу плечом в песок и мог изуродовать Айдым. Но она отлетела в сторону прежде, чем упал Мухаммед, и, сейчас же поднявшись, побежала к Назару. Чагатаев хотел выстрелить еще, чтобы уничтожить Мухаммеда, однако патронов у него было немного, их надо беречь для охоты и прокормления своего народа.
Нур-Мухаммед пролежал в песке лишь несколько секунд, а затем бросился бежать прочь, сразу вскочив на крутой откос бархана, как сильный и здоровый человек. На ходу он кричал от боли, потому что от движения еще больше рвал свою рану, но не слышал своего крика. Он скрылся за песчаным холмом, и голос его умолк навсегда для Чагатаева. Айдым стояла в изумлении, все еще глядя вослед пропавшему Нур-Мухаммеду. Она думала – скоро он умрет или нет.
Она пошла с Чагатаевым обратно.
– Скорей иди! – говорила она. – Ложись опять в песок, пока птицы не прилетели, а то нам есть нечего!
Слабея все больше, Чагатаев дошел до своего прежнего облежанного места и опустился на него. Айдым направилась к народу, на общее становище. День еще был долог, но все люди уже лежали для экономии жизни во сне или в пустом безрассудстве, покрывшись остатками одежды.
Чагатаев находился отдельно, за песчаным перевалом. Он старался думать лишь самое необходимое для общей жизни спасения. Орлица опять улетела живой и несчастной. Если в первый раз он убил ее мужа, то кого он застрелил во второй раз? Наверно, второго ее мужа… Нет, у птиц так не бывает, значит – друга или родственника ее мужа, может быть, его брата, которого она позвала себе на помощь для общего мщения. Но и брат ее мужа погиб, за кем же она полетела теперь?.. Если там – за горизонтом или в далеких небесах – у нее никого не найдется для боевой помощи, то все равно она прилетит одна. Чагатаев был убежден в этом, он знал прямые нестерпимые чувства диких животных и птиц. Они не могут плакать, чтобы в слезах и в истощении сердца находить себе утешение и прощение врагу. Они действуют, желая утомить свое страдание в борьбе, внутри мертвого тела врага или в собственной гибели.
По мере своей второй жизни в пустыне Чагатаеву казалось, что он все время куда-то едет и удаляется. Он начал забывать подробности города Москвы; лицо Ксени его память сберегала лишь в общих, неживых чертах – он жалел об этом и напрягал свое воображение, чтобы видеть ее иногда в уме; представляя ее образ, он всегда замечал, что ее губы что-то шепчут ему, но он не понимает и не слышит ее голоса за дальностью расстояния. Разноцветные глаза ее глядели на него с удивлением, может быть, с грустью, что он долго не возвращается. Но это лишь обольщающее чувство! В действительности Ксеня, наверно, вовсе забыла Чагатаева; она ведь еще ребенок, в ее сердце теснится прекрасная, завоевывающая ее жизнь, и там не хватит места для сохранения всех исчезнувших впечатлений.
День проходил пустым, не принося избавления. Чагатаев знал, что нельзя накормить народ еще одной или двумя убитыми птицами, но он не был великим человеком и не мог выдумать, что ему нужно сейчас сделать более действительное. Пусть его охота за птицами – ничтожное дело, зато оно единственно возможное, пока не прошло его изнеможение. Если бы он был в прежней силе, он обыскал бы всю пустыню вокруг на десятки километров, нашел бы диких овец и пригнал бы их сюда. Если бы хотя в одном человеке была способность пройти пятьдесят или сто километров до какого-нибудь телеграфного аппарата, он бы потребовал помощи из Ташкента. Может быть, покажется аэроплан на небе! Нет, здесь едва ли они бывают, здесь нет пока сокровищ на земле, чтобы тратить дорогую машину. И убогий малополезный труд, заключавшийся в терпении, в притворстве быть трупом, все же утешал Чагатаева, однако назавтра он решил идти с народом на родину, в Сары-Камыш, при всех обстоятельствах.
Он задремал. Мир опять чередовался перед ним, то оживая, светлый и шумящий, то отдаляясь в темное забвение, откуда он опять затем возвращался, пробиваясь в сознание Чагатаева сквозь больные кости его головы.
Вечером Чагатаев расслышал неясные звуки. Он приготовился, засунув правую руку себе под спину, где лежал револьвер. Он ошибся – это не был шум летящих орлов. Его мать, низко неся свою голову, подошла к нему, попробовала руками его тело и осмотрела глазами, глядящими в песок, всю ближнюю местность. Она не проверяла – жив или скончался ее сын, – она искала убитых птиц своими слепнущими от горя глазами. Странные скрипящие звуки шли из тела матери; сухие кости ее скелета с трудом и болью преодолевали трение друг о друга. Гюльчатай медленно удалилась, помогая себе двигаться тем, что касалась руками земли и гребла ими назад песок.
Вскоре эти же звуки многих трущихся костей Чагатаев услышал опять. Он поборол свое закатывающееся сонное сознание и сосредоточился. За песчаным перевалом бархана что-то шевелилось. Старый Ванька глядел на него оттуда; рядом с ним поднялся подошедший, очевидно, снизу, с другой стороны бархана, Суфьян, потом показалось еще чье-то неразличимое лицо, там же была Айдым и даже Молла Черкезов, хотя он не видел света. Человеческие лица постепенно прибавлялись, все они смотрели в сторону Чагатаева. Чагатаев тоже глядел на них. Больше не было слышно звуков от трения трущихся мертвеющих костей. Множество глаз наблюдали за лежащим человеком – не жадных и не умоляющих глаз, а безразличных. Кроме Айдым, глаза всех людей глядели подобно глазам Моллы Черкезова, – ослепшими. У людей не осталось силы в сердце, чтобы держать энергию или выражение мысли в глазах. Лишь предчувствие еды привело их сюда, но и это чувство не было яростным или жестоким, как у обычного человека, а было невинным, способным остаться без удовлетворения, потому что чувство уже не поддерживалось разумом.
Чего ожидали от Чагатаева эти люди? Разве они наедятся одной или двумя птицами? Нет. Но тоска их может превратиться в радость, если каждый получит щипаный кусочек птичьего мяса. Это послужит не для сытости, а для соединения с общей жизнью и друг с другом, оно смажет своим салом скрипящие, сохнущие кости их скелета, оно даст им чувство действительности, и они вспомнят свое существование. Здесь еда служит сразу для питания души и для того, чтоб опустевшие смирные глаза снова заблестели и увидели рассеянный свет солнца на земле. Чагатаеву казалось, что и все человечество, если бы оно было сейчас перед ним, так же глядело бы на него, ожидающее и готовое обмануться в надеждах, перенести обман и вновь заняться разнообразной, неизбежной жизнью.
Чагатаев улыбнулся; он знал, что горе и страдание есть лишь призрак и сновидение, их может разрушить сразу даже Айдым своими детскими силами; в сердце и в мире бьется, как в клетке, невыпущенное, еще не испробованное счастье, и каждый человек чувствует его силу, но чувствует лишь как боль, потому что действие счастья сжато и изуродовано в тесноте, как сердце в скелете. Вскоре он переменит судьбу своего народа. Чагатаев махнул рукой глядящему на него народу. Айдым поняла и велела уйти всем, чтобы не мешать Чагатаеву охотиться.
В начале ночи, когда все люди забылись, Айдым пошла одна в пустыню искать диких овец. Суфьяну и Старому Ваньке она велела разрыть руками песок в одной небольшой долине между длинными барханами. Там, под песком, она обнаружила глину, которая должна собирать воду, и она уже пила ее немножко из ямки. Она понимала, что, когда нет пищи, вода тоже кормит.
14
Шла ночь над песками. Чагатаев спал на правом боку, и сновидения заполнили его, вытеснив жажду, голод, слабость и всякое страдание. Он танцевал в саду, освещенном электричеством, с большой, выросшей Ксеней, в летнюю ночь, пахнущую землей, детством, накануне рассвета, который уже горел на вершинах тополей, как дальний, еще неслышный голос. Ксеня томилась в его осторожных объятиях, ее глаза были закрыты, точно она спала. С рассвета, с востока шел ветер между деревьев и шевелил платья танцующих женщин. Играла музыка, ранний свет и ветер проходили по лицам людей, безмолвных и счастливых. Затем музыка утихла, стало совсем светло вокруг, и Чагатаев нес спящую Ксеню на руках. Вдруг он увидел тьму на месте света, голова его заболела, и, падая, он повернулся во время падения на спину, чтобы не ушибить Ксеню, которую он держал спереди, как маленькую: пусть она упадет на него и не убьется. Он крепко, еще сильнее схватил ее руками, но ее уже не было с ним. Он закричал, вскочил во тьме с земли, и два острых удара – опять в голову и в грудь – сбили его обратно.
Большие птицы, падая на него и вновь поднимаясь в воздух, били его клювами и рвали одежду и тело когтями. Чагатаев старался вскочить на ноги, но не успевал и терял силу от боли и новых ударов нападающих тяжелых птиц; он ворочался и греб в ожесточенном отчаянии руками песок, окруженный пустынной ночью, взмокший последней кровью. Он хотел вскрикнуть, чтобы поднять в себе, из самой глубины, из остатков исчезающей жизни яростную силу, но жалящие удары орлиных клювов и когти их, рвущие жилы, прерывали его крик, прежде чем он успевал взять воздух себе внутрь. От крыльев птиц его сбивал ветер, он не мог дышать в этой буре и давился пухом и перьями, отлетающими от птиц. Чагатаев понял, что два первых удара клювами он получил в голову, около затылка, оттуда сейчас текла кровь за шею, и еще у него, кажется, сорван один грудной сосок, там болела рана щекочущей вопиющей болью.
Наконец Чагатаеву удалось вскочить на мгновение на ноги. Он распростер руки, готовый схватить птицу, которая первая падет на него, чтобы задушить ее вручную. Орлы были в воздухе и сейчас разгонялись на него. Он наступил ногою на свой револьвер и быстро нагнулся за ним, однако не успел поднять его. Птицы бросились ему в спину, но он уже теперь опомнился и сумел сосчитать по числу своих новых ран от клювов – орлов было три. Чагатаев, схватив револьвер, опрокинулся навзничь, чтобы сбросить с себя или задавить птиц, впившихся ему в спину, но силы его действовали плохо, он свалился как попало, на бок, а орлы низко отлетели в сторону. Чагатаев попытался подняться для лучшего прицела, все истощенные кости его скелета заскрипели, так же как у людей его народа. Он прислушался, и ему жалко стало своего тела и своих костей – их собрала ему некогда мать из бедности своей плоти, – не из любви и страсти, не из наслаждения, а из самой житейской необходимости. Он почувствовал себя как чужое добро, как последнее имущество неимущих, которое хотят расточить напрасно, и пришел в ярость. Чагатаев сразу крепко сел в песке. Орлы, даже не очень поднявшись в высоту, опять со скоростью мчались на него, тесно прижав к себе крылья. Он их подпустил ближе, потом нажал курок. Чагатаев видел орлов верно, их было три, и стрелял теперь точно, хладнокровно, оберегая себя, как второго человека, как ближнего, беспомощного друга. Он выпустил пять пуль в мчавшихся орлов почти в упор. Птицы низко, со свистом воздуха, пролетели над ним, уже не сумев остановить своего разгона, потому что они были либо уже мертвые, либо раненные насмерть. Они упали в нескольких метрах далее Чагатаева, в темный ночной песок.
Чагатаев дрожал от тревоги и усталости. Он разгреб в песке пещеру и лег в нее, сжавшись телом, чтобы согреться и уснуть, не заботясь о том, сколько вытечет крови из его рваных ран, пока он будет спать, не думая о здоровье и о своей будущей жизни.
Айдым далеко ушла в ту ночь; потом она уморилась, прилегла и заснула, не услышав выстрелов Чагатаева. Но, помня, что ей спать долго нельзя, она вскоре пробудилась в беспокойстве и опять пошла. Полуночная обедневшая луна вышла из-за далекой земли и осветила пески низким светом. Айдым осмотрелась кругом проницательными глазами. Она знала, что не может быть, чтобы на земле ничего теперь не было. Если идти по пескам целый день, то обязательно что-нибудь встретишь или найдешь: либо воду, либо овец, либо увидишь многих птиц, попадется чей-нибудь заблудший осел или пробегут вблизи разные животные. Старшие люди говорили ей, что в пустыне столько же добра, сколько на любой далекой земле, но в ней мало людей, и поэтому кажется, что и остального нет ничего. Айдым, однако, даже не знала, где есть земля более богатая и лучшая, чем пески или камышовые леса в разливах Амударьи.
Айдым стояла на самом высоком бархане; ее привлек мерцающий, брезжущий свет луны в одном направлении – по остальной земле свет шел спокойно, а там что-то мешало ему светить. Она пошла туда, где свет затемнялся, и вскоре разглядела маленькую овцу-детеныша. Овечка царапалась ногами на самой вершине невысокого холма и взметывала песок так, что издали, сквозь ослабшую тьму, поверх привидений холмистой пустыни, это казалось важным, загадочным происшествием.
Овца-ярка, наверно, выбирала из песка весенние погребенные травинки и кормилась ими. Айдым тихо взобралась на холм и обхватила овечьего детеныша. Ярка не сопротивлялась, она ничего не знала про человека. Айдым повалила ее и хотела прокусить ей слабое горло, чтобы испить крови и наесться. Но она увидела сейчас, что под барханом, часто дыша, как люди, множество овец рыли ногами песок, догребаясь до нижней, скрытой влаги. Айдым оставила ярку и сбежала с бархана, к овечьему стаду. Прежде чем она достигла крайней овцы, к ней навстречу прыгнул баран и остановился перед ней, нагнув голову для боя. Айдым посидела немного перед ним, подумала своим небольшим умом – как ей быть. Она сосчитала овечью отару – в ней было двадцать четыре головы, сложив сюда ярку и двух козлов, тоже прижившихся тут. Она отползла потихоньку к ближней роющей овце; баран тоже пошел за нею в ожидании. Айдым попробовала рукою песок в ямке, которую разгребала овца, – там было сухо, вода не чувствуется. На губах ближних овец собралась пена томления, изредка они хватали ртом песок и выбрасывали его обратно вместе с последней слюной. Песок не поил, а сам испивал их сок. Айдым подошла к барану, он был не очень худ и лишь тяжко дышал от жажды, от напряжения перед задачами своей жизни, как главного среди овец. Айдым взяла барана за рог и повела его за собой. Баран сразу пошел, потом остановился, чтобы образумиться, но Айдым потянула его, и баран пошел за ней. Некоторые овцы подняли головы, перестали работать и пошли следом за девочкой и бараном. Оставшиеся козлы и прочие овцы также вскоре нагнали своего барана.
Айдым спешно тянула барана, память на место у нее была точная, но лишь к заре и погасшему месяцу на небе она дошла до той глубокой долины, где она отрывала себе воду в песке. Там она оставила стадо, и овцы опять принялись раскапывать ногами песок, а сама Айдым пошла на общий ночлег к народу. Она обиделась: в долине не было отрыто ни одного колодца. Старый Ванька и Суфьян либо умерли, либо поленились, или, может быть, напились одни, не заботясь о другой жизни.
Айдым ощупала на становище всех спящих и беспамятных: они привыкли жить, дышали, и никто из них не умер. Айдым разбудила Суфьяна и Старого Ваньку и велела им идти пасти и сторожить овечье стадо, а сама отправилась к Чагатаеву, чтобы привести его есть.
Чагатаев долго не просыпался, когда его будила Айдым; он медленно умирал, потому что кровь не переставая медленно сочилась из него во сне, и видно было, как она редкими толчками выходила из ран, утихая в песке. Айдым поняла все; она сбегала обратно к народу на ночлег, но все люди уже тронулись оттуда к стаду, кто как мог: кто полз, кто шевелился на ногах, кто пользовался помощью другого. Айдым поискала глазами, у кого была более целая или мягкая одежда, но не нашла, чего ей хотелось. У всех из одежды осталось худое и нехорошее или очень малое. Молла Черкезов имел мягкие шаровары, но от его слепоты они были нечистые. Айдым сняла с себя рубашку и осмотрела ее: ничего, она еще маленькая, в ней не накопилось заразы и болезней, как у стариков, рубашка пахла одним только потом и ее телом, а грязи в ней не было – пустыня вся чистая. Айдым вернулась к Чагатаеву, разодрала свою рубашку на полоски и перевязала все его раны на теле и на голове, откуда показывалась кровь. Чагатаев проснулся уже и поворачивался, чтоб девочке удобней было работать. Он открыл глаза и увидел Айдым, убитых птиц и пески как бы сквозь густой сумрак, хотя наступило обычное солнечное утро. Он разглядел орлов и узнал в самой крупной птице самку, а другие два орла были гораздо меньше: это ее дети. Она прилетела сюда вместе с самыми верными друзьями своего мужа – его детьми.
15
Четыре дня народ джан ел и оправлялся от своего горя и бедствий. Айдым следила за тем, чтобы никто лишнего не переедал, а особо усердных на пищу останавливала или била по глазу: иначе будет не больно. Раны на теле Чагатаева подернулись пленками и заживали; он отдал Айдым свое нижнее белье, и она сшила себе юбку и кофту, а то была голая. Суфьян, который всю жизнь носил при себе необходимый житейский инвентарь – спички, иголку, нитки, шило, какой-то старинный документ о своей личности, ножик и прочее добро, – он попросил Айдым обштопать его одежду. Айдым зашила все крупные дыры на халате старика, потом заодно починила всю ветхую одежду на народе в тех местах, где видно было тело; на многих людях ей пришлось укоротить одежду, чтобы выиграть материал и пришить его тем, у кого не хватало. Из этих обрезков Тагану она сшила целые штаны и рубашку, потому что он забросил свое платье где-то в песок, когда думал, что пора кончать жизнь, и с тех пор жил голым.
На эту работу у Айдым ушло еще четыре дня – ей помогали штопать и шить только Старый Ванька и Чагатаев. Кроме того, Айдым следила за общим порядком жизни народа, за распределением пищи, за сном и за оставшимися овцами, – чтобы их пасли и поили и чтобы они не худели, не проживали своего тела зря. На ночь каждую овцу Айдым привязывала к человеку, а барана укладывала рядом с собой и прочной бечевкой туго обвязывала ему шею, а другим концом бечевки обматывалась сама вокруг живота и делала мертвый узел. Благодаря этой осторожности ни одна овца не убежала, хотя по всей ночи овцы лежали не евши и не прибавили в весе. Утром, через девять дней после того, как Айдым привела овечью отару, народ тронулся далее в дорогу, на свою родину. Теперь осталось у него десять овец и одиннадцатый баран, а тринадцать голов и трех орлов народ поел. Люди шли сейчас хорошо и чувствовали, что они существуют, не напрягаясь памятью для воспоминания о самих себе.
До Сары-Камыша оказалось всего три полных дня среднего хода. Но уже на второй день народ увидел серое плоскогорье Усть-Урта и темноту у его подножия – впадину пустых земель с редкими горькими водами. Все обрадовались и поспешили туда, точно там обеспечено было счастье и стояли убранные дома с открытыми входами, ожидающими хозяев. Чагатаев вел за руку мать и улыбался, будто он снова, как в детстве, находился перед будущей великой жизнью, готовый на мучительный, терпеливый труд, имея в сердце неясное, робкое предчувствие неизбежной победы.
Вечером третьего дня народ перешел последние светлые пески – границу пустыни – и начал спускаться в тень впадины. Чагатаев вглядывался в эту землю – в бледные солонцы, в суглинки, в темную ветхость измученного праха, в котором, может быть, сотлели кости бедного Аримана, не сумевшего достигнуть светлой участи Ормузда и не победившего его. Отчего он не сумел быть счастливым? Может, оттого, что для него судьба Ормузда и других жителей дальних, заросших садами стран была чужда и отвратительна, она не успокаивала и не влекла его сердце, – иначе он, терпеливый и деятельный, сумел бы сделать в Сары-Камыше то же самое, что было в Хорасане, или завоевал бы Хорасан…
Чагатаев любил размышлять о том, что раньше не удалось сделать людям, потому что как раз это самое ему необходимо было исполнить.
Еще через два дня народ миновал впадину и приблизился к подножию Усть-Урта. Чагатаев нашел здесь небольшой пресный водоем, питавшийся весенним стоком со склонов плоскогорья, и люди остановились около него для отдыха и для выбора постоянного жительства. Овец теперь осталось лишь три головы и четвертый баран. Но это само по себе еще не было страшным для такого народа, как джан, который мог пользоваться добром природы в самых [худых] ее местах. Айдым в первый же день нашла несколько слепых ущелий, заполненных травой перекати-поле. Траву нагнал сюда с пустыни юго-восточный ветер, и лишь тот куст перекати-поля, который не попадал в такое мертвое ущелье, поднимался по склону на высоту возвышенности и уходил через плоскогорье дальше, в степь.
Суфьян сходил в свою пещеру, где он жил до прихода Чагатаева, и дал совет обосноваться всему народу по соседству с его пещерой: там есть широкая, просторная долина, поросшая степною травой, и мелкий ручей бежит посреди нее с Усть-Урта, не иссякая до середины лета. Народ пошел к той долине и по дороге нашел следы своих прежних становищ – еще в ханские времена. Там не осталось никаких заметных предметов, была лишь обычная пустошь, несколько горстей угля, комья глины, стоял кол от кибитки, забытый всеми, изъеденный жарой и ветрами и умерший; валялась погребенная в почву старая детская тюбетейка – Айдым почистила ее и надела себе на голову.
Долина, указанная Суфьяном, была хороша для жизни. Она имела травяной покров на долгом протяжении, и еще теперь – в конце лета – не вся трава умерла: среди пожелтевших стеблей попадались живые, зеленые былинки. Русло ручья было пусто, но в глубине Сары-Камыша, в одном-двух километрах, виднелось зеркало воды – озеро, куда стекал горный ручей весною и в начале лета; этого достаточно для существования. Когда люди вошли в устье долины, множество черепах побежало от их ног, и, удалившись, они медленно повернули свои шеи и поглядели на прибывших – каждая черепаха одним черным, зорким и милым глазом. Чагатаев обрадовался им; он теперь отдохнул и опомнился: по-прежнему все в жизни стало возможным, самая лучшая участь осуществима немедленно.
Он пошел вместе с Айдым далеко в глубь Усть-Урта, на его вымершие высокие равнины. Он искал там деревьев или хотя бы саксаула, растущего иногда по оврагам, – дерево нужно было для поделки хозяйственных инструментов и принадлежностей. По дороге Чагатаев поднял Айдым на руки, чтобы она не уморилась, и целовал ее в щеки, в глаза, в волосы – от этого ему становилось лучше на сердце. Он любил ощущать другую жизнь и другое тело, ему казалось, что там есть что-то более таинственное и прекрасное, более [существенное], чем в нем самом, и его здоровье и сознание часто улучшалось лишь оттого, что он имел возможность держать кого-нибудь за руку, как в свое время Веру и еще ранее ее другую женщину, студентку экономического института, любившую его, но умершую от болезни в юности. Айдым тоже обнимала Чагатаева за голову и заглаживала пальцами две плешины в волосах – следы от орлиных ран; она помнила, что съела тогда сразу целого маленького орленка.
У Чагатаева был только перочинный нож, поэтому ему пришлось долго работать, чтобы подрезать и надломить одно небольшое дерево мягкой породы, росшее в одиночку среди каменистого ущелья, где не росло ничего другого, словно птица когда-то уронила семя этого дерева из воздуха.
В течение нескольких дней в долине Усть-Урта, избранной для жительства, работали только двое людей – Чагатаев и Айдым; остальные люди дремали в пещерках, которые они нарыли себе для ночлега в склонах долины, ловили черепах и готовили из них себе пищу, но ели мало, почти неохотно, и раз в сутки ходили на озеро пить воду. Три овцы и барана Чагатаев не велел трогать; он их оставил в запас, на крайнюю нужду. Назар пересчитал людей – кто жив, кто умер – и увидел, что не хватает одного ребенка – трехлетней девочки. Никто не мог ему сказать – ни отец ее, ни мать, ни прочие, где исчезла, умерла одна незаметно эта маленькая девочка, небольшой человек. Никто не запомнил, когда она была задута ветром и песком в пустыне и отошла от рук…
Чагатаев и Айдым стали носить глину для постройки первой курганчи, но им никто не помогал в работе. Когда Чагатаев привел работать Суфьяна и Старого Ваньку, как наиболее здоровых, то они отнесли два раза глину, а потом перестали. Они сели на землю и задумались, хотя по старости лет имели время уже все передумать и прийти к истине.
Тогда Чагатаев собрал всех людей и спросил их: имеют ли они намеренье жить? Никто ему ничего не ответил…
Многие бледные глаза глядели на Чагатаева с напряжением, чтобы не закрыться от немощи и равнодушия. Чагатаев почувствовал боль своей печали, что его народу не нужен коммунизм, – ему нужно забвение, пока ветер не остудит и не расточит постепенно его тело в пространстве. Чагатаев отвернулся ото всех; его действия, его надежды оказались бессмысленными. Нужно взять Айдым на руки и уйти отсюда навсегда. Он ушел в сторону и лег там в землю лицом. Он понимал, что, куда бы он ни ушел отсюда, он снова вернется обратно. Ведь его народ – наибольший бедняк на свете: он растратил все свое тело на хошарах и в нужде пустыни, он отучен от цели жизни и лишился сознания и своего интереса, потому что его желание никогда, ни в какой мере не осуществлялось, народ жил благодаря механическому действию своей скудной, ежедневной пищи – из черепах, черепашьих яиц и мелкой рыбы, которую он начал ловить в том водоеме, из которого пил воду. Осталась ли в народе хоть небольшая душа, чтобы, действуя вместе с ней, можно совершить общее счастье? Или там давно все отмучилось и даже воображение – ум бедняков – все умерло?.. Чагатаев знал по своей детской памяти и по московскому образованию, что всякая эксплуатация человека начинается с искажения, с приспособления его души к смерти, в целях господства, иначе раб не будет рабом. И насильное уродство души продолжается, усиливается все более, пока разум в рабе не превращается в безумие. Классовая борьба начинается с одоления «духа святого», заключенного в рабе; причем хула на то, во что верит сам господин – на его душу и бога, – никогда не прощается, душа же раба подвергается истиранию во лжи и разрушающем труде. Чагатаев помнил рассказ Старого Ваньки, как он однажды в Хиве, на дворе мечети, хотел убить павлина, чтобы продать его потом на чучело русскому купцу. В поспешности Старый Ванька бросил камень в павлина – в священную птицу, но не попал. Вдалеке, среди растительности, показался сторож или посторонний человек. Старый Ванька схватил в руку что попалось ему среди кустов и запустил в голову павлина этим предметом. Павлин сразу проглотил, скормился тем куском, какой бросил в него Ванька, и потом закричал своим подлым прерывистым криком, а Старый Ванька кинулся к нему, чтобы задушить его вручную, но не управился, потому что явившиеся мусульмане схватили Старого Ваньку, вытащили на улицу и начали бить, пока не решили, что он уже мертв, и тогда его бросили в бездействующий арык. Пока его увечили, Старый Ванька, держа руки на лице, понял по запаху своих рук, что он второй раз ударил священного павлина куском засохшего кала. Старый Ванька выполз из канавы живым, но любил затем швырять во всех летящих и сидящих птиц чем-нибудь нечистым, особенно если это были голуби, – пока по истечении многих лет не потерял интереса к такому занятию.
Над головой Чагатаева засопело какое-то животное, он подумал – это овца. Но животное схватило пастью ухо Чагатаева и стало тереть его во рту между беззубыми деснами. Это была та же яростная и малосильная собака, которую Чагатаев видел в поселении своего народа на Амударье. Она не была с людьми в пустыне, она отбилась где-то или, может быть, осталась караулить одна покинутое становище, а потом, соскучившись, прибежала прямой дорогой в Сары-Камыш, где она тоже, очевидно, жила в прежние годы. Чагатаев взял собаку за голову и пригнул ее к земле, чтоб она легла. Собака покорно легла; она дрожала от утомления – старая, дикая, не в силах закончить и изжить свою мучительную жизнь и все еще уверенная в блаженстве своего существования, потому что в самом терпении ее, в худом дрожащем теле было добро.
Собака уснула рядом с Чагатаевым. Айдым одна месила голыми ногами глину, таская воду в бурдюке за два километра. Когда Чагатаев очнулся, кругом него сидело несколько человек людей, которые ожидали его пробуждения. Суфьян, самый старший человек, сказал Чагатаеву, что народ теперь нарочно не имеет души, не знает своего намерения, не льстится на лучшую пищу, он греется самым слабым теплом своего сердца, а сердце получает это тепло из травы, из черепах, из рыбы, из костей самого человека, когда ему нечего есть.
Суфьян склонился к уху Чагатаева, отодвинув собаку. Собака жадно и грустно глядела на людей. Темная, трудная надежда ее была в желании съесть всех людей, когда они умрут. Она пришла сюда не прямою отдельной дорогой, а следом за народом, идя на большом отдалении, и ела павших в песках людей, зарываясь днем глубоко в песок, чтобы ее не заметили степные орлы и прочие хищники. Суфьян сказал Чагатаеву:
– Ты думаешь плохо. Народ жить может, но ему нельзя. Когда он захочет есть плов, пить вино, иметь халат и кибитку, к нему придут чужие люди и скажут: возьми, что ты хочешь, – вино, рис, верблюда, счастье твоей жизни…
– Никто не даст, – ответил Чагатаев.
– Немного давали, – говорил Суфьян. – Горсть риса, чурек, старый халат, вечернюю песню бахши мы имели давно, когда работали на байских хошарах…
– Мать велела мне самому кормиться, когда я был маленький, – сказал Чагатаев. – Мы мало имели, мы умирали.
– Мало, – произнес Суфьян. – Но мы всегда хотели много: и овец, и жену, и воду из арыка – в душе всегда есть пустое место, куда человек хочет спрятать свое счастье. И за малое, за бедную, редкую пищу, мы работали, пока в нас не засыхали кости.
– Это вам давали чужую душу, – сказал Чагатаев.
– Другой мы не знали, – ответил Суфьян. – Я тебе говорю, если за маленькую еду мы делались от работы и голода как мертвые, то разве хватит даже нашей смерти, чтобы заработать себе счастье?
Чагатаев поднялся на ноги.
– Хватит одной жизни! Теперь наша душа в мире, другой нет.
– Я слыхал, – равнодушно сказал Суфьян, – мы знаем – богатые умерли все. Но ты слушай меня, – Суфьян погладил старый московский башмак Чагатаева, – твой народ боится жить, он отвык и не верит. Он притворяется мертвым, иначе счастливые и сильные придут его мучить опять. Он оставил себе самое малое, не нужное никому, чтобы никто не стал алчным, когда увидит его.
Суфьян ушел с теми людьми, какие были с ним. Чагатаев отправился к Айдым и работал с ней до вечера. Вечером он уложил ее спать в сухой пещерке, а сам работал опять, готовя из глины и растертой старой травы саманные кирпичи на постройку первого жилища. Вокруг него и во всей долине никого не было; все люди куда-то разошлись – может быть, ушли ловить черепах или ловить рыбу на озере. Чагатаев работал все более быстро и рационально. Поздно ночью он поднялся по склону на плоскогорье посмотреть, куда ушли все люди. Было всюду видно от чистой высокой луны; свет стоял над безлюдным Усть-Уртом, покрывая тенью гор впадину Сары-Камыша, и опять занимался далее над влекущей пустыней, уходящей к горам Ирана. Три овцы и баран паслись в соседнем мелком ущелье, с шумом ворочаясь в кучах перекати-поля, ища зеленые живые стебли. В черной тени Усть-Урта, где начинался Сары-Камыш, горел маленький огонь костра, немного далее костра лежало слабое облако тумана над озером. Чагатаев сошел с возвышенности и направился к огню. Через полчаса он подошел достаточно близко и увидел, что вокруг костра, где тихо сгорал саксаул, сидел весь народ. Он пел песню и не видел Чагатаева. Чагатаев заслушался той песни; в детстве он слышал много песен от бахши, от матери, от разных стариков – песни были прекрасные, но жалкие. Эта же песня имела незнакомый смысл, в ней было чувство, не родное его народу, но зато подходящее для него более, чем печаль. Чагатаев расслышал даже тихий, стыдящийся голос своей матери. В песне говорилось: мы не заплачем, когда придут к нам слезы, мы не улыбнемся от радости, и никто не достигнет нашего глубокого сердца, которое выйдет само к людям и ко всей жизни и протянет к ним руки, когда настанет его светлое время, и время это близко: мы слышим, как спешит в нашем сердце душа, желая выйти к нам на помощь… Песня окончилась. Старый Ванька шевелил палкой костер и вытаскивал оттуда испекшиеся рыбки, пробуя их – готовы они или нет, а неиспекшихся кидал обратно.
Чагатаев, не обнаруживая себя перед людьми, ушел обратно. Он снова взялся делать кирпичи на становище и работал, пока не растаяла луна на небе и не взошло солнце. Утром он увидел, что народ все еще сидел около потухшего костра, а Старый Ванька двигался и метался всем телом, должно быть, плясал. Чагатаев решил не оставлять своей работы, поскольку ночь уже прошла и спать не время. Он формовал кирпичи в глиняных формах, затрачивая в труд всю силу своего сердца. Айдым все еще спала, Чагатаев изредка подходил к углублению, в котором она лежала, и покрывал ее травой от мух и насекомых: пусть она набирает себе тело во сне – в рост и на долгую жизнь. Около полудня к Чагатаеву пришел Старый Ванька, он снял штаны, сшитые ему Айдым из разных кусков, вместо изношенных ранее, влез в яму, куда была завалена глина с водой, и начал месить ее худыми, жесткими ногами.
16
К осени в долине Усть-Урта было построено четыре небольших дома из саманного кирпича, окруженных общим дувалом. В этих жилищах, не имевших окон, за отсутствием стекла, разместился весь народ, впервые прочно укрывшись от ветра, от холода и мелкой, летающей, жалящей твари. Некоторые из людей долго не могли привыкнуть спать и жить за глухими стенами – через короткие промежутки времени они выходили наружу и, надышавшись там, насмотревшись на природу, возвращались со вздохом назад, в жилище.
По предложению Чагатаева народ избрал свой Совет трудящихся, куда членами вошли все люди, в том числе и Айдым, как активистка, а Суфьян стал председателем.
Весь народ джан теперь жил, не чувствуя ежедневно своей смерти, и трудился над добычей пищи в пустыне, в озере и на горах Усть-Урта, как обычно живет в мире большинство человечества. Чагатаев добился даже, чтоб каждый день был у всех обед; он знал, что это очень важно, так как обедает лишь меньшинство людей, живущих на земле, большинство – нет. Айдым хорошо вела хозяйство и заставляла всех искать и приносить пищу: траву, рыбу, черепах и мелких существ из горных ущелий; она сама вместе с Гюльчатай растирала съедобные травы, чтобы получалась мука, и своевременно указывала Суфьяну, что надо делать травяные сети для птиц, которые садятся около озера пить воду. Кто забывал свою обязанность жить и кормиться, тем Айдым говорила при всех, что когда она подрастет немного, то нарожает совсем других людей, не таких, как эти, ничтожные, которых приходится кормить ей, малолетней; ведь их матери кровью заливались, а они родились и живут, как из одолжения; вот она выроет завтра с Назаром большую яму – пусть туда ложатся все, кому не нравится на свете!
– Нам несчастных не нужно, – говорила Айдым, – глаз вырву и на стенку повещу его, будешь тогда смотреть на свой глаз, косой человек!..
Но Чагатаев был недоволен той обыкновенной, скудной жизнью, которой начал теперь жить его народ. Он хотел помочь, чтобы счастье, таящееся от рождения внутри несчастного человека, выросло наружу, стало действием и силой судьбы. И всеобщее предчувствие, и наука заботятся о том же, о единственном и необходимом: они помогают выйти на свет душе, которая спешит и бьется в сердце человека и может задохнуться там навеки, если не помочь ей освободиться.
Вскоре выпал снег. Чагатаеву и всем людям все более трудно приходилось с добычей пищи. Черепахи спрятались и уснули; великие стаи птиц пролетели над Усть-Уртом с севера на юг, они не спустились пить воду на маленькое озеро и не заметили живущего внизу небольшого человечества. Корни съедобных трав обмерли и сделались невкусными, рыба в водоеме ушла ближе ко дну, в сумрак покоя. Чагатаев понимал все эти обстоятельства. Он решил сходить один в Хиву на пищевые базы и привезти оттуда продовольственную ссуду для народа на всю зиму. Айдым зашила ему обветшалую порванную одежду, он починил себе обувь деревянными самодельными гвоздями и узкими ремешками из овечьей кожи. Затем он попрощался с каждым человеком и, велев ждать его скоро, начал спускаться во впадину Сары-Камыша. Он не взял из экономии никакой пищи с собой, рассчитав, что покроет все расстояние натощак в течение трех дней.
Чагатаев исчез в туманном далеком воздухе пустых мест, Айдым сидела на горном склоне и плакала слезами из черных блестящих глаз, она думала, что больше Назар никогда не вернется. Но в следующие дни Айдым ни разу не управилась заплакать о Чагатаеве: ее заняли заботы по хозяйству, нужда и ответственность, чтоб люди жили и не умерли. Она только вздыхала иногда, как бедная старушка. Народ все еще работал слабо, он не был убежден, что жизнь есть преимущество, его отучили от этого баи на хошарах, и он не ценил своего существования, а наслаждения, даже от пищи, вовсе не понимал.
Больше всего работы теперь, после ухода Чагатаева, приходилось на Айдым. Но ее работа не мучила, она знала от Чагатаева, что богатых нет, а она самая бедная и ей будет скоро хорошо, а потом еще лучше.
Через три дня отсутствия Чагатаева Айдым вспомнила о нем и сморщила лицо, чтобы заскучать и заплакать, но был уже вечер, ей надо поскорее отыскать овец и барана, которые забрались куда-то в дальние лощины, и она решила потосковать о Чагатаеве отдельно, когда ляжет спать. Когда она гнала овец обратно к общей курганче, то неизвестный свет ослепил ее. Около глиняных домов горели такие ясные огни, каких Айдым никогда не видала. Она остановилась и хотела уйти назад, чтобы спрятаться с овцами в пещере или в глухой, далекой пропасти, а завтра днем вернуться и посмотреть, что здесь будет. Она взяла барана за рог, а сама все глядела на огни около глиняных домов; интерес и удивление одолели в ней страх, она повела маленькое стадо домой. Она думала: огни – это либо звери, либо умное такое – оттуда, где живут большевики.
Айдым увидела фигуру Чагатаева, прошедшего мимо огня. Она побежала к нему и, дрожа, зажмурившись, ухватилась за его ногу. Чагатаев поднял ее к себе на руки и отнес спать в дом на травяную постель, а сам вернулся наружу разгружать автомобили. Он встретил их на второй день своего пути, на выходе из Сары-Камыша в пустыне. По распоряжению из Ташкента два грузовых автомобиля вышли из Хивы еще четыре дня назад. На одной машине были мясные консервы, рис, галеты, мука, лекарства, керосин, лампы, топоры и лопаты, одежда, книги и прочее добро, а на другой – двое людей, бочки с бензином, масло и запасные части.
Из Ташкента велели разыскать в районе Сары-Камыша или между Усть-Уртом и Аральским морем кочующее племя джан и помочь ему всеми средствами, а впредь до нахождения того племени или следов его, свидетельствующих об общей гибели людей, машинам назад не возвращаться.
К полночи машина была полностью разгружена, и Чагатаев сел писать доклад в Ташкент о положении народа джан, пока шоферы и начальник экспедиции заправляли машины в обратный путь. Чагатаев писал до рассвета; он предлагал в конце своего письма дать возможность оправиться народу от многолетних бедствий (теперь эта возможность дана, и народ сыто перезимует, пользуясь присланной помощью республики), а самое главное – каждому здешнему человеку нужно вновь нажить себе прожитое почти до внутренних костей, истощившееся тело, в котором слишком слабо сейчас действует чувство и сознательная мысль.
Чагатаев отдал письмо начальнику, и автомобили поехали в Хивинский оазис. Еще все люди спали, было рано, в Сары-Камыше лежал снег. Чагатаев взял топор и лопату, разбудил Старого Ваньку и Тагана и пошел с ними корчевать саксаул. В полдень они возвратились с дровами. Айдым растопила печки сухою травой и стала готовить обед из новой пищи, которую почти никто не пробовал в жизни.
Консервное мясо и рис сразу насытили людей, но они утомились от этой еды настолько, что все заснули после обеда. Вечером Чагатаев велел опять приготовить второй обед и сам начал делать лепешки из белой муки, потом приготовил еще чай и кофе, кому что будет нравиться. Наевшись вторым обедом, народ проспал до следующего полудня. Чагатаев знал, что такое питание немного вредно, но он спешил накормить людей, чтобы в них окрепли их кости и чтобы они приобрели бы хоть немного того чувства, которым богаты все народы, кроме них, – чувство эгоизма и самозащиты.
Третий обед готовил Суфьян. Он когда-то видел, что ели баи в Хорезме, и сделал приблизительно разные кушанья на память.
Чагатаев с наслаждением наблюдал, как ест его народ – без жадности, осторожно сберегая пищу у рта, с сознанием необходимости и с кроткой задумчивостью, точно представляя в своем воображении лица и душу тех людей, которые тяжко добыли эту пищу и подарили им ее.
Чагатаев терпеливо жил дальше, подготовляя тот день, когда он начнет осуществлять настоящее счастье общей жизни, без которого нечем заниматься и сердцу стыдно. Изредка он говорил с матерью, она ничего теперь не просила у него, только гладила его ноги и тело поверх одежды; он держал ее согнутую голову близ своего живота и думал о том, что ему надо сделать, чтобы искупить и утешить это почти уничтоженное существо, внутри которого он начал жить. Он не знал, что его мать вспоминала о нем лишь благодаря укорам со стороны Айдым и втайне утирала слезы, понимая, что надо любить сына, и не имея, не помня его больше в своем чувстве; поэтому она трогала его, как всякого чужого и доброго.
Через несколько дней сильно захолодало, в одном доме пришлось жарко истопить печь и заодно приготовить обильный обед, потому что печь служила и для тепла и для кухни. В других домах печей не было устроено. Сильный ветер дул с высот Усть-Урта и нес в воздухе мелкий обледенелый снег. Айдым привела овец в горницу дома, где ночевала сама, и оставила их там на ночь. Чагатаев с трудом привез воду с озера на самодельной тачке в пяти бурдюках; он поднимался на плоскогорье против обрушивающегося на него ветра и толкал тачку в упор с большим напряжением. И этот ветер, и ранняя зимняя тьма во всем мире, и пустая смертная впадина Сары-Камыша, куда хотел свалить и унести Чагатаева ветер, – все убеждало Назара в необходимости особой, другой жизни.
В одном жилище шевелились люди, внутри его горел свет из открытого входа. Там кончили обедать и дремали; Айдым гремела новой посудой, убирая всякую нечистоту и остатки, и говорила людям, чтобы они ложились сегодня на ночь здесь, где было натоплено; пусть будет тесно, но зато тепло.
Времени было часов шесть, но весь народ уже улегся в одной горнице, близко друг к другу, и спал в тесноте, как в блаженстве. Чагатаев пообедал стоя, сесть было негде. Айдым пошла ночевать в другой дом, куда она загнала овец, и туда же пошел спать Чагатаев.
Наутро пошла метель, но потеплело. В общей курганче не было никакого звука, хотя вовсе рассвело. Айдым спала в тепле среди двух овец. И овцы спали, один баран глядел как безумный на Чагатаева. Чагатаев не хотел будить Айдым, но сам пошел в теплый дом, где спали все люди. Там он зажег лампу и осмотрелся.
Народ спал в том же положении, как вчера, точно никто не повернулся за долгую ночь. Многие лица лежали теперь в постоянной улыбке. Слепой Молла Черкезов спал с открытыми глазами, подложив левую руку под спину Гюльчатай, чтобы постоянно чувствовать и хранить ее. Старый перс по прозвищу Аллах глядел вполовину одного ясного глаза, и Чагатаев не мог понять, что видит и думает сейчас этот человек, какое желание души скрывается в нем: то ли самое, что у Чагатаева, или совсем иное.
Весь остальной день Чагатаев просидел около Айдым, любуясь ее лицом, ее дыханием, рассматривая румянец юности, который все более покрывал ее щеки по мере течения долгого сна. Овец он выпустил на снег – пусть они пороются и поваляются в чистоте зимы. Затем Чагатаев взял руку Айдым в свои руки, молчаливо радуясь, что вокруг этого бедного нежного существа железной стеной защиты стоят большевики, и он сам лишь для того здесь и находится.
К вечеру Айдым проснулась. Она поругала Чагатаева – зачем он ее не разбудил раньше и у нее весь день пропал. Чагатаев сказал ей, чтоб она пошла [потрогала] остальной народ – он тоже лежит, не поднимается. Айдым, услышав такое, даже вскрикнула от ожесточения и побежала в соседний дом. Айдым подняла травяной мат над входом, чтобы холод обдал людей и они проснулись бы. Однако спящие только теснее прижимались друг к другу, съеживались, ухмылялись и спали по-мертвому.
Прошла вторая ночь. Наутро Чагатаев опять осмотрел спящих. Лица их еще более изменились, чем вчера. Старый Ванька покраснел от оживления, и теперь ему на вид было лет сорок; даже ветхий Суфьян подобрел наружностью и имел сейчас в выражении лица какую-то заинтересованность. Кара-Чорма, человек лет шестидесяти, лежал розовый и опухший и дышал воздухом с глубоким чувством, как будто питаясь влагой во время жажды. Склонившись к матери, Чагатаев не увидел изменения в ее лице; Гюльчатай, горный цветок, могла совсем не проснуться, ее глаза завалились, щеки потемнели, печать земли легла на нее. Зрачки Моллы Черкезова по-прежнему были открыты, в них появился далекий блеск, как будто проникавший из глубины мозга, и Чагатаеву показалось, что у этого человека появилось теперь зрение.
Назар истопил печь для тепла и пошел с Айдым гулять; впервые за много месяцев он имел свободный час. Метель прекратилась еще ночью; сейчас падал редкий последний снег, и на самой высокой террасе Усть-Урта уже блестел солнечный свет, веселый, ослепительный, обещающий вечное торжество. Айдым смеялась и бегала по снегу; она исчезала далеко, проваливалась в ущелья, забитые снегом, и неожиданно кидалась сзади Чагатаеву на шею. Наконец он схватил ее к себе на руки и побежал с нею к пропасти. Она заметила его намерение.
– Бросай, я не умру! – сказала Айдым.
Во время возвращения домой Айдым шла самостоятельно, рядом, и спросила Чагатаева:
– Назар, они когда проснутся?
– Скоро, скоро… Может, просыпаются уже.
Айдым задумалась.
Печь в доме еще не угасла совсем. Чагатаев растопил ее снова, и вместе с Айдым они сварили обед на весь народ, на всякий случай.
К вечеру некоторые из людей начали просыпаться. Первым проснулся Суфьян, затем Старый Ванька и Молла Черкезов, в полночь встали все, кроме Гюльчатай. Она умерла.
Чагатаев перенес ее в свободный, холодный дом и положил на постель из высохшей травы. Опомнясь от долгого сна, народ сел обедать в теплом глиняном жилище, а Чагатаев лег рядом с матерью и уснул.
Айдым кормила народ обедом и попрекала его, что он спит по две ночи подряд, а жить одну жизнь не может. Старый Ванька захохотал над нею.
– Теперь мы помрем! – говорил он. – Не горюй о нас, девчонка…
На ночь Айдым ушла в дом, где лежал Чагатаев с покойной матерью. Она смирно улеглась в углу и сразу уснула. На рассвете она поднялась и вышла по хозяйству. Натопленный дом, где остался ночевать народ, был пуст от людей, в других двух домах тоже никого не оказалось. Айдым осмотрела и приблизительно сосчитала все вещи и принадлежности, все общее добро, пошла в то помещение, где лежал запас продовольствия, привезенный из Хивы; обеспокоившись, потрогала даже стены домов и ничего не узнала нового. Продовольствие было все цело. Как она вчера брала консервные банки на обед, так они и теперь лежали. Мешки с рисом и мукой тоже стояли нетронутые. Может, что-нибудь и пропало, но немножко, может быть – табак и спички, которые брали всегда без счету.
Она поднялась по склону из долины на плоскогорье. Маленькое солнце освещало всю большую землю, и света хватало вполне. Снег блестел по Сары-Камышу и на высотах Усть-Урта. Дул слабый ветер, но из чистого неба шло тепло, и было хорошо кругом в пространстве. Прижмуриваясь, Айдым долго наблюдала окрестности и заметила четверых людей. Все они шли по одному человеку, на большом удалении друг от друга. Один уходил по Сары-Камышу туда, где садится солнце, другой брел по нижним склонам Усть-Урта к Амударье, еще двое исчезали порознь по дальнему плоскогорью, пробираясь через горы в ночном направлении.
Айдым разбудила Назара. Чагатаев ушел один за несколько километров; он поднялся на самую высокую террасу, откуда далеко виден мир почти во все его концы. Оттуда он рассмотрел десять или двенадцать человек, уходящих поодиночке во все страны света. Некоторые шли к Каспийскому морю, другие к Туркмении и Ирану, двое, но далеко один от другого, к Чарджую и Амударье. Не видно было тех, которые ушли через Усть-Урт на север и восток, и тех, кто слишком удалился ночью.
Чагатаев вздохнул и улыбнулся: он ведь хотел из своего одного небольшого сердца, из тесного ума и воодушевления создать здесь впервые истинную жизнь, на краю Сары-Камыша, адова дна древнего мира. Но самим людям виднее, как им лучше быть. Достаточно, что он помог им остаться живыми, и пусть они счастья достигнут за горизонтом…
Он медленно пошел обратно и по дороге заплакал.
Ему все же казалось, что, несмотря на все бедствия, здесь была или начиналась счастливая жизнь, и она возможна в маленьком народе, в четырех избушках, настолько же, насколько за любым горизонтом земли. Он вынул из снега куст перекати-поля и принес его в тот дом, где лежала его мать. Чагатаев тоже провожал ее сейчас в дорогу, как она его в детстве когда-то.
Айдым сидела одна в углу против мертвой старухи. Она ее боялась, и ей было интересно глядеть на нее, на то, что делается уже невидимым.
– Назар, хочешь, я поплачу по ней? – спросила Айдым.
– Не надо, – сказал Чагатаев. – Ступай напои овец. С тобой прощался кто-нибудь?
– Нет, я спала, – ответила Айдым. – Старый Ванька мне сказал, когда я уходила…
– Что он сказал?
– Прощай, девка, сказал, теперь ноги ходят помаленьку и живот дышит, пора жить наступила. Больше ничего не сказал.
– А ты что?
– А я ничего… Я ему: у ишаков тоже ноги ходят.
– Почему – у ишаков?
– На всякий случай сказала!
Айдым пошла управляться с овцами, а Чагатаев взял лопату и ушел рыть могилу на плоскогорье. К вечеру он вернулся и отнес мать в землю; Айдым прибирала в то время теплую горницу, где был на постое целый народ, откочевавший неизвестно куда. Айдым засмеялась: даже слепой Молла Черкезов ушел, неужели его глаза что-нибудь увидели, как только он наелся много еды?..
17
Чагатаев и Айдым решили зимовать в четырех глиняных домах… Назар, лишенный сразу всех людей, о которых он заботился, ходил теперь один по пустым склонам Усть-Урта. Айдым стряпала обед, чинила одежду, убирала овец или делала что-нибудь другое по-хозяйству – на двоих оказалось лишь немного меньше работы, чем на весь народ джан, – и время от времени она выходила глядеть наружу, чтобы Назар далеко не уходил, потому что ему, наверно, скучно жить с одной Айдым. Но Чагатаев скучал по бежавшему народу недолго; он бродил несколько дней в удивлении, что он оказался ненужным для своей родины и люди одной земли с ним предали его забвению в своей памяти, оставив его и самую младшую, единственную свою дочь сиротами в пустыне. Чагатаев не понимал равнодушного, окончательного забвения; он помнил людей неизвестных и давно умерших, – даже тех, которые ему были бесполезны и самого его не знали, – ведь иначе если погибших и исчезнувших быстро забывать, то жизнь вовсе сделается бессмысленной и жалкой: тогда останется помнить только одного себя. Однако долго терпеть печаль одиночества и разлуки Чагатаев не мог; он стал приживаться к обстоятельствам: к Айдым, к овцам, к опустевшим домам, к мелким животным, проживающим повсюду в природе, и к обмершему кустарнику.
Назар находил в укромных, теплых пещерках оврагов спящих черепах и приносил их домой. Некоторые из них отогревались от зимы и оживали, другие оставались жить спящими, собирая силы для долгого, будущего лета… Чагатаев чувствовал с удивлением, что можно существовать и совместно с одними животными, с беззвучными растениями, с пустыней на горизонте, если иметь в ближнем жилище хотя бы одного человека, – пусть даже это будет ребенок, как Айдым. И здесь, в бедной природе Усть-Урта, на ветхом дне Сары-Камыша – есть важное дело для целой человеческой жизни. Не может быть, чтобы все животные и растения были убогими и грустными – это их притворство, сон или временное мучительное уродство. Иначе надо допустить, что лишь в одном человеческом сердце находится истинное воодушевление, а эта мысль ничтожна и пуста, потому что и в глазах черепахи есть задумчивость, и в терновнике есть благоухание, означающие великое внутреннее достоинство их существования, не нуждающееся в дополнении душой человека. Может быть, им требуется небольшая помощь со стороны Чагатаева, но превосходство, снисхождение или жалость им не нужны…
По вечерам Айдым зажигала лампу. Она садилась за столом против Назара и делала что-нибудь, чего не успела сделать днем: расчесывала себе блестящие, черные волосы, набирала ковер из старых тряпок и мешочных ушивок, рассматривала с улыбкой картинки в книгах, не понимая, что они изображают, или просто глядела на Чагатаева, не сводя с него глаз, и разгадывала, что он думает – про нее или про другое.
– Назар, – спросила Айдым в один долгий вечер. – Назар, а отчего мы живем? Нам будет хорошо за это?
– А тебе плохо сейчас со мной? – сказал Чагатаев в ответ.
– Нет, мне хорошо теперь, – произнесла Айдым и послюнявила штопку во рту. – Я просто так себе сказала, потому что у меня во рту говорится что-нибудь…
Ее большие, открытые темные глаза были наполнены блестящей силой детства и зачинающейся юности, – они смотрели на Чагатаева с доверчивым интересом и сами по себе были предметами счастья, если глядеть на них со стороны. И если даже обмануть доверие Айдым, то она все равно простит свою обиду: ей надо жить дальше, и долго томиться каким-либо мученьем она не может.
– Назар, чего я всегда ожидаю? – опять спросила Айдым. – Отчего мне кажется такое важное, а потом ничего не бывает… Отчего у меня сердце начинает болеть?
– Ты растешь, Айдым, – сказал Чагатаев. – Пусть тебе кажется что-нибудь в голове, пусть твое сердце начинает болеть – ты не бойся, без этого горя жизнь не бывает.
– Не бывает, – согласилась Айдым. – А я не хочу, чтоб это было. У твоей матери сердце от голода болело, она мне сама говорила… Пускай у нас теперь другое горе будет, интересное, а не такое. Такое надоело. Ты выдумай что-нибудь […] Чагатаев привлек к себе Айдым и приласкал ее, поглаживая девочку по большой, все еще детской голове.
– Научи меня, чтоб я лучше не думала, а то я боюсь: мне кажется страшное! – сказала Айдым.
– Но ведь у тебя не от голода душа начинает болеть? – спросил Чагатаев.
– Не от голода, – ответила Айдым. – У меня от чувства… Назар, отчего я чужая?
– Кому ты чужая, Айдым? – спросил Чагатаев.
– Народ жил с нами, а теперь весь раскочевался, – сказала Айдым. – Ты тоже скоро уйдешь, кто тогда меня помнить будет?
– Я от тебя не уйду, – пообещал Чагатаев.
– Назар, скажи мне что-нибудь главное…
Айдым привернула фитиль в лампе, чтобы меньше тратилось керосина. Она понимала – раз есть что-нибудь главное в жизни, надо беречь всякое добро.
– Главного я не знаю, Айдым, – сказал Чагатаев. – Я не думал о нем, некогда было… Раз мы с тобою родились, то в нас тоже есть что-нибудь главное…
Айдым согласилась:
– Немножко только… а неглавного – много.
Айдым собрала ужинать – вынула чурек из мешка, натерла его бараньим салом и разломила пополам: Назару дала кусок побольше, себе взяла поменьше. Они молча прожевали пищу при слабом свете лампы. Тихо, неизвестно и темно было на Усть-Урте и в пустыне.
После ужина Чагатаев вышел наружу, чтобы посмотреть, что сейчас делается в мире, и послушать – не раздастся ли чей-нибудь человеческий голос во тьме… Где теперь бродит Старый Ванька или Кара-Чорма и неужели Молла Черкезов видит свет своими глазами?
Айдым тоже вышла из жилища и позвала Назара:
– Иди спать ложись, а то я огонь в лампе потушу…
– Туши, – ответил Назар, – я потом опять его зажгу.
– Нет, лучше не надо: ты спички будешь тратить! – сказала Айдым. – Ты в темноте ложись…
Айдым ушла в дом… Чагатаев сел на землю и осмотрелся. Слабая ночь шла над ним; ветра не было, звезды изредка показывались на небе – их застил высокий, легкий туман. Снег остался лишь в далеких, возвышенных овражных распадках Усть-Урта, его уже отовсюду согнал ветер и стравило полуденное солнце. А в другую сторону, на юг, лежала бедная, родная пустыня, покрытая пустым небом; иногда, на мгновение, пустыня вдруг озарялась мерцающим неизвестным светом, и там чудились горы, города, население людей, большая влекущая жизнь. Но на самом деле там сейчас спали черепахи, зябло семя прошлогодних трав и мелкий, местный ветер зачинался в песке и ложился обратно в него. Чагатаев сошел вниз, поближе к Сары-Камышу, и окликнул темное пространство. Ему ничто оттуда не ответило, и даже голос его не отозвался обратно, – звук сразу заблудился и исчез.
Чагатаев вернулся домой. Айдым спала под одеялом и больше не слышала ничего, ей снились ее детские сны, и она занята была тем, что видела в самой себе. Назар зажег лампу, наложил в сумку чуреков и оделся в ватный пиджак и шапку-папаху. Затем он приоткрыл одеяло и посмотрел в лицо Айдым, – оно было оживленным, внимательным, и глаза ее, не вполне спрятанные веками, были в движении, следя за тайными событиями в своей душе.
– Айдым, – прошептал ей Чагатаев.
Айдым открыла сначала один глаз, потом другой.
– Спи, Назар, – сказала она.
– Нет, я сейчас не буду, – ответил Чагатаев. – Я пойду народ соберу, я скоро вернусь.
– Приходи скорее, – попросила Айдым.
– Ты не скучай без меня, – сказал Назар.
– Не буду, – пообещала Айдым. – Ступай скорее, а то они ослабеют – они теперь набегались, наигрались, им пора домой.
Чагатаев тронул рукою голову Айдым и пошел от нее, но Айдым велела ему сначала потушить лампу, потому что ночь еще долга, а свет ей не нужен.
Погасив лампу, Чагатаев оставил дом и отправился по нагорью в сторону Хивы. Оглянувшись вскоре на местопребывание своего народа, Чагатаев уже не увидел там ничего, – и лишь незаметно среди всего мира и природы осталась одна уснувшая девочка Айдым. Но это ничего, ей горя мало – в домах лежит рис, мука, соль, керосин, спички тоже есть, а счастье и терпение пусть она добывает в одном своем сердце, пока не вернется к ней остальной народ.
Чагатаев шел быстро; рассвет его застал уже в глуши Сары-Камыша; а темный Усть-Урт, еще находившийся в ночи, был теперь на последнем отдалении и погружался своим основанием за край земли… На третий день пути Чагатаев пришел в Хиву. Там бывали большие базары, куда приходили люди из пустыни, чтобы посмотреть на торговое добро, купить что-либо для удовлетворения своей крайней нужды и повидаться друг с другом. Назар надеялся, что на хивинском базаре он встретит людей своего племени и уведет их обратно домой. Они неминуемо должны явиться в толпу чужого народа; им ведь нужно было послушать слухи и разговоры, посидеть в чайхане, снова почувствовать свое достоинство и задуматься о старой песне, которую споет и сыграет бахши на дутаре. В глиняных жилищах на Усть-Урте еще мало было обыкновенного, житейского, а без него нигде не живется человеку.
Чагатаев появился на хивинском базаре около полудня. Солнце, уже пошедшее на лето, хорошо освещало сорную землю базара, и земля согревалась теплом. Вокруг базара стояли дувалы жителей, около их глиняных стен сидели торгующие у своих товаров, разложенных по земле. Посреди площади на низких деревянных столах тоже шла торговля добром пустыни. Здесь лежал урюк в небольших мешках, засушенные дыни, овечьи сырые шкурки, темные ковры, вытканные руками женщин в долгом одиночестве, с изображением всей участи человека в виде грустного повторяющегося рисунка; затем целый ряд был занят небольшими вязанками дров – саксаульника и далее сидели старики на земле – они положили против себя старинные пятаки и неизвестные монеты, железные пуговицы, жестяные бляхи, крючки, старые гвозди и железки, солдатские кокарды, пустые черепахи, сушеные ящерицы, изразцовые кирпичи из древних, погребенных дворцов, – и эти старики ожидали, когда появятся покупатели и приобретут у них товары для своей нужды. Женщины торговали чуреками, вязаными шерстяными чулками, водой для питья и прошлогодним чесноком. Продав что-нибудь, женщина покупала для себя у стариков жестяную бляху на украшение платья или осколок изразцовой плитки, чтобы подарить его своему ребенку на игрушку, а старики, выручив деньги, покупали себе чуреки, воду для питья или табак. Торговля шла тож на тож, без прибыли и без убытка; жизнь, во всяком случае, проходила, забывалась во многолюдстве и развлечении базара, и старики были довольны. В некоторых дувалах, расположенных вокруг базара, в их внутренних дворах, находились чайхане; там сейчас шумели большие самовары и люди вели свою старую речь между собой, вечное собеседование, точно в них не хватало ума, чтобы прийти к окончательному выводу и умолкнуть. Пожилой, коричневый узбек пошел в одну чайхане; он понес за спиной сундук, обитый железом по углам, – и Чагатаев вспомнил этого человека: он видел его еще в детстве, и узбек тогда тоже был коричневый и старый. Он ходил по аулам и городам со своим инструментом и матерьялом в сундуке и чинил, лудил и чистил самовары во всех чайхане; сажа и копоть работы, ветер пустыни при дальних переходах въелись в лицо рабочего человека и сделали его коричневым, жестким, с нелюдимым выражением, и маленький Назар испугался пустынного, самоварного мастерового, когда увидел его в первый раз. Но рабочий-узбек тогда же первый поклонился мальчику, подарил ему согнутый гвоздь из своего кармана и ушел неизвестно куда по Сары-Камышу; наверно, где-нибудь в дальних песках потух самовар. Около мусорного ящика, прислонившись к нему, стояла туркменская девушка; она прижимала рукою яшмак ко рту и смотрела далеко поверх базарного народа. Чагатаев тоже поглядел в ту сторону – и увидел на краю пустыни, низко от земли, череду белых облаков, или то были снежные вершины Копет-Дага и Парапамиза, или это было ничто, игра света в воздухе, кажущееся воображение далекого мира. О чем же думала сейчас душа этой девушки, – неужели до нее не жили старшие люди, которые за нее должны бы передумать все мучительное и таинственное, чтобы она родилась уже на готовое счастье? Зачем раньше ее люди жили, если она, эта туркменская незнакомая девушка, стоит теперь озадаченная своей мыслью и печалью? Насколько же были несчастными ее родители, все ее племя, если они ничем не могли помочь своей дочери, прожили зря и умерли, и вот она стоит опять одна, так же как стояла когда-то ее нищая, молодая мать… Лицо этой девушки было милое и смущенное, точно ей было стыдно, что мало добра на свете: одна пустыня с облаками на краю, да этот базар с сушеными ящерицами, да ее бедное сердце, еще не привыкшее к нужде и терпению.
Чагатаев подошел к ней и спросил, откуда она и как ее зовут.
– Ханом, – ответила туркменка, что по-русски означало: девушка или барышня.
– Пойдем со мной, – сказал ей Чагатаев.
– Нет, – постыдилась Ханом.
Тогда Чагатаев взял ее за руку, и она пошла за ним.
Он привел ее в чайхане и поел вместе с нею горячей пищи из одной чашки, а затем они стали пить чай и выпили его три больших чайника. Ханом задремала на полу в чайхане; она утомилась от обилия пищи, ей стало хорошо, интересно, и она улыбнулась несколько раз, когда глядела вокруг на людей и на Чагатаева, она узнала здесь свое утешение. Назар нанял у хозяина чайхане заднюю жилую комнату и отвел туда Ханом, чтоб она спала там, пока не отдохнет.
Устроив Ханом в комнате, Чагатаев ушел наружу и до вечера ходил по городу Хиве, по всем местам, где люди скоплялись или бродили по разной необходимости. Однако нигде Назар не заметил знакомого лица из своего народа джан; под конец он стал спрашивать у базарных стариков, у ночных сторожей, вышедших засветло караулить имущество города, и у прочих публичных, общественных людей, – не видел ли кто-нибудь из них Суфьяна, Старого Ваньку, Аллаха или другого человека, и говорил, какие они из себя по наружности.
– Бывают всякие люди, – ответил Чагатаеву один сторож-старик, по народности русский. – Я их не упоминаю: тут ведь азия, земля не наша.
– А сколько лет вы здесь живете? – спросил Чагатаев.
Сторож приблизительно подумал.
– Да уж близу сорока годов, – сказал он. – По правилу, по нашей службе надо б каждого прохожего запоминать: а может, он мошенник! Но мочи нету в голове, я уж чужой силой, сынок, живу, – свою давно прожил…
И другие старые жители Хивы или служащие тоже ничего не сообщили Чагатаеву, как будто никто из блуждающего народа джан здесь не появлялся. По справке в управлении милиции оказалось, что все души, числившиеся в племени джан, вымерли еще до революции и никакой заботы о них больше не надо.
К вечеру Чагатаев вернулся в жилую комнату в чайхане. Ханом уже проснулась; она сидела на кровати и занималась домашней работой – чинила себе платье в подоле запасной ниткой, наващивая ее во рту. Должно быть, ей каждое место приходилось считать своим домом и сразу обвыкаться с ним; иначе, если бы она откладывала свою нужду и заботу до того времени, как у нее будет свое жилище, она бы оборвалась, обнищала от небрежности и погибла от нечистоты своего тела. Чагатаев сел рядом с Ханом и обнял ее одной рукой; она перестала чинить платье и замерла в страхе и ожидании. Блаженство будущей жизни, еще не рожденной, безымянной, но уже зачинающейся в нем, прошло в сердце Чагатаева живым, счастливым ощущением. Нечто, более лучшее, чем он сам, более одушевленное и славное, томилось сейчас внутри Чагатаева, согревало его силу и радовало его. Он посмотрел на Ханом; она кротко, задумчиво улыбнулась ему, точно она вполне понимала Назара и жалела его. И тогда Чагатаев обнял Ханом обеими руками, будто он увидел в ней олицетворение того, что в нем самом еще не сбылось и не сбудется, что останется жить после него – в виде другого, высшего человека на более доброй земле, чем она была для Чагатаева. Счастливые, Ханом и Назар прижались друг к другу; старая ночь покрыла тьмою глиняную Хиву, в чайхане умолкли голоса гостей – одни из них ушли на ночлег, другие остались спать на месте – и хозяин закрыл трубу самовара глухою крышкой, чтобы несгоревший уголь затомился в трубе до завтрашнего утра. Чагатаев с жадностью крайней необходимости любил сейчас Ханом, но сердце его не могло утомиться и в нем не прекращалась нужда в этой женщине; он лишь чувствовал себя все более свободным, счастливым и точно обнадеженным чем-то самым существенным… Если Ханом нечаянно засыпала, то Назар скучал по ней и будил ее, чтоб она опять была с ним.
Не спавший всю ночь, Чагатаев наутро встал веселым и отдохнувшим человеком, а Ханом еще долго спала, свалившись с подушки на сторону милым, доверчивым лицом. Назар погладил ее волосы, запомнил ее рот, нос, лоб – всю прелесть дорогого ему человека – и ушел в город, чтобы поискать еще раз свой народ.
Солнце уже поднялось с китайской стороны, и Чагатаев посмотрел туда немного – поверх пустынь и степей, в туманную мглу неба на востоке, где находился Китай. Там уже давно проснулись и работали полмиллиарда терпеливых бедняков, – сколько мысли и чувства было в их душах, если б можно было их сразу ощутить в одном своем сердце!..
Старый рабочий-узбек показался на базарной площади. Он вышел из помещения, в котором раньше помещался караван-сарай и ночевали верблюды; он там, наверно, провел минувшую ночь и теперь шел на работу.
Чагатаев поклонился мастеровому-узбеку и спросил его: не видел ли он прохожего человека из племени джан? Узбек поглядел на Чагатаева старыми, помнящими глазами: должно быть, он тоже узнал в Назаре бывшего ребенка, которому он некогда подарил гвоздь; что хоть однажды трогало его чувство, того самоварный мастер уже не мог забыть, да и жизнь недолга – всего не забудешь.
– В Уч-Аджи видел, – тихо сказал узбек. – Он в чайхане под русскую музыку, под гармонию плясал.
– Он Старый Ванька? – спросил Чагатаев.
– Старый Ванька, – сказал рабочий-узбек.
– А ты сейчас далеко уходишь? – спрашивал Назар.
Мастеровой помедлил – он не любил говорить про свои еще не сбывшиеся намерения.
– Далеко, – сказал узбек. – В Чарджуй ухожу, там на механика учиться буду, туда экскаваторы привезли – каналы копать; я кончаю самовары работать…
– А тебе сколько лет? – интересовался Чагатаев. – Ты успеешь механиком научиться?
– Успею, – обещал самоварный рабочий. – Мне семьдесят четыре года – это я при плохой жизни прожил, а сколько я при хорошей проживу?
– Лет полтораста? – спросил Назар.
– Может быть! – ответил старик.
Они попрощались. Чагатаев вернулся в чайхане и сговорился с хозяином, чтоб он кормил Ханом и содержал ее в помещении, пока Назар не вернется – дней через десять или пятнадцать. Но хозяин попросил дать ему на харчи для Ханом деньги в задаток; ему для коммерческого оборота нужны сейчас наличные средства. Чагатаев обещал хозяину заплатить задаток и снова пошел на хивинский базар.
К полудню ему удалось продать свой ватный пиджак: время уже все равно шло к теплу. Он взял немного денег себе, а остальные заплатил хозяину чайхане в задаток за прокормление Ханом.
Чагатаев разбудил спящую Ханом и сказал ей, чтоб она жила здесь, пока он вернется. Ханом улыбнулась ему теплым, согретым во сне лицом и велела Назару побыть еще с ней немного. Чагатаев побыл с ней, а затем оставил Ханом одну в глиняной комнате и ушел из Хивы. Он отправился сначала в южную сторону Хивинского оазиса, а потом – там видно будет…
18
Через три дня Чагатаев миновал последний аул Хивинского оазиса. Опять перед ним открылась обычная пустыня; кусты перекати-поля брели под ветром через песчаные холмы, старинная дорога вела на далекие колодцы […] Чагатаев побежал вперед по пустой дороге. Он хотел еще к вечеру нынешнего дня дойти до следующего оазиса – может быть, там окажется кто-нибудь, кого он ищет. Куда же они все разбрелись? Ведь их разум еще слаб и печален, они все погибнут в нищете, в отчуждении, по пескам и чужим аулам… Никакой народ, даже джан, не может жить врозь: люди питаются друг от друга не только хлебом, но и душой, чувствуя и воображая один другого; иначе, что им думать, где истратить нежную, доверчивую силу жизни, где узнать рассеяние своей грусти и утешиться, где незаметно умереть… Питаясь лишь воображением самого себя, всякий человек скоро поедает свою душу, истощается в худшей бедности и погибает в безумном унынии.
Если бы Чагатаев не воображал, не чувствовал […], как отца, как добрую силу, берегущую и просветляющую его жизнь, он бы не мог узнать смысла своего существования, – и он бы вообще не сумел жить сейчас без ощущения той доброты революции, которая сохранила его в детстве от заброшенности и голодной смерти и поддерживает теперь в достоинстве и человечности. Если бы Чагатаев забыл или утратил это чувство, он бы смутился, ослабел, лег бы в землю вниз лицом и замер…
Две одичавшие овцы лежали невдалеке от дороги, на склоне бархана. Они были худы и подобны собакам. Чагатаев уже миновал их, но овцы пошли за ним следом, может быть, от голода или жажды, надеясь спастись при человеке, а может – от долгого одиночества и отчаяния. Однако овцы скоро изнемогли и отстали, потерявшись опять в сиротстве пустынной природы.
К вечеру Чагатаев дошел до маленького аула, расположенного у трех колодцев; здесь жили люди из племени эрсари, они кормились тем, что ловили рыбу в староречье Амударьи, когда туда набиралась паводковая вода и приносила с собой рыбу; в остальное время жители делали для певцов-бахши дутары и продавали их в ближнюю пустыню и в Чарджуй.
Чагатаев слышал об этом ауле и видел его в детстве; здесь жили добрые люди, потому что они делали музыкальные инструменты и для испытания своих изделий часто должны были напевать кроткие или смешные поэтические песни.
Назар вошел внутрь первого двора и постучал в дверь, но дверь сама отворилась внутрь от его стука. На глиняном полу комнаты сидели в сумраке четверо людей; один из них тихо бил по двум струнам дутары и хрипло шептал старую песню, а другие слушали его. Чагатаев остановился при входе, чтобы не помешать музыке и песне до их окончания. Песня видимо тронула всех здешних людей, – они молчали, не замечая вошедшего, чуждого гостя. В песне говорилось о том, что у всякого человека есть своя жалкая мечта, свое любимое ничтожное чувство, отделяющее его ото всех, и поэтому своя жизнь закрывает человеку глаза на мир, на других людей, на прелесть цветов, живущих весною в песках…
По окончании песни старый хозяин жилища пригласил Чагатаева сесть рядом с ним и отдохнуть. Около него сидели два молодых человека, наверно его сыновья, а третьим был ветхий Суфьян. Хозяин, игравший на дутаре, передал ее теперь Суфьяну, – тот взял ее к себе и тщательно ощупал.
– Играть хочу, песню сам выдумал, сердце у меня хорошее, – сказал Суфьян, – а платить за дутару нечем: я не очень богатый человек, в одном теле своем живу…
На Суфьяне была надета прежняя, старосолдатская шинель, прожитая уже в клочья, почти насквозь, в рядно.
Хозяин дутары, сделавший ее, сказал одному сыну, что надо сварить рис и рыбу на угощение старого и нового гостя, а потом обратился к Суфьяну:
– Это очень хорошая дутара, но я ее не продаю… Ты человек старый и не мог себе нажить одной дутары, значит, ты жил добрым – я прошу тебя взять эту дутару без денег, чтобы мне стало хорошо.
Суфьян положил дутару себе на колени и загляделся на нее в удивлении, как на свое первое великое достояние.
После ужина Суфьян сыграл немного на дутаре и спел про умную, сильную рыбу, плавающую в черной, глубокой земле. Чагатаев спросил его затем: где же теперь ихнее племя джан?
– Народ жить разошелся, Назар, – сказал ему Суфьян. – Раньше силы не было уйти, а ты накормил его, и он пошел ходить.
– А зачем ему ходить? – удивился Чагатаев. – Он опять силу потратит!
– Нужно, – ответил Суфьян. – А не нужно станет, народ опять на Усть-Урт вернется.
– А куда они все пошли?
– Я не спрашивал – пусть каждый сам думает, – сказал Суфьян. – Ложись спать: время идет, ночью жить не надо, я свет люблю – мне его мало видеть осталось…
Наутро, на рассвете, Суфьян взял дутару и попрощался с хозяином.
– Пойдем со мной, – сказал Суфьян Чагатаеву. – Я буду теперь бахши, буду ходить и петь по аулам, по кибиткам, пока не помру. Со мной всех людей встретишь, ты станешь мне подпевать и кушать со мной угощенье…
– Я могу выдумать тебе новые песни, которых другие бахши еще не знают, – сказал Назар.
– Ты мне спой их по дороге, – произнес Суфьян.
Хозяин дувала дал им чурек, и Суфьян с Назаром ушли по дороге на Чарджуй.
19
До самого лета Чагатаев и Суфьян ходили вдвоем по аулам, по окраинам городов и кочевым кибиткам. Суфьян играл народу на дутаре и пел, а Назар ему иногда подпевал, и оба они кормились и жили в своем долгом пути. Они прошли все оазисы от Чарджуя до Ашхабада, – были в Байрам-Али, в Мерве, в Уч-Аджи, удалялись по колодцам и такырам в кочевья и, наконец, от Ашхабада побрели на Дарвазу.
Чагатаев нигде не встретил знакомого человека из своего народа, и сердце его уже утомилось от блуждания, тщетной надежды, от тоски и памяти по Ксене, Айдым и Ханом. Он часто спрашивал у Суфьяна, как у старого умного человека: что могло случиться со всеми людьми из джана, отчего их нигде нет? Суфьян отвечал ему, что один или двое могли умереть, но остальные будут целы: жизнь для такого народа, как джан, нетрудна и любопытна, раз он уже перетерпел долгое смертное томленье.
– Он сам себе выдумает жизнь, какая ему нужна, – сказал Суфьян, – счастье у него не отымешь…
В Дарвазе Суфьян и Назар жили три дня. После того они попрощались. Суфьян задумал идти по кочевьям на Гассан-Кули, на реку Атрек, а Чагатаев решил возвращаться по хивинской дороге на Хиву, а затем через Сары-Камыш домой на Усть-Урт. Он боялся за судьбу Айдым и не знал, что сталось с Ханом, девушкой, видимо, несчастной и всем чужой. Суфьян и Назар собрали в поселке и ближних кибитках чуреков – в качестве угощения за свою музыку, – и в одно утро они разошлись в разные стороны, теперь уже, наверно, навсегда.
Было жарко, но Чагатаев привык к пустыне, к терпению и шел от колодца к колодцу, встречая около них обыкновенно по нескольку кибиток: пустыня ведь не пустая, в ней вечно люди живут. В кибитке Чагатаев становился на ночлег и всегда ужинал в семействе добрых кочевников, как среди родственников. Чуреки, взятые из Дарвазы, он нес у себя за пазухой и на ходу ел их изредка щепотками, когда сильно уставал, чтобы отвлечь себя от утомления.
На пятый день пути Назар увидел хивинскую башню и побежал, чтобы успеть до темной ночи достигнуть базара, пока хозяин чайхане еще не спит и не закрыл дверь в заведение…
Вот он уже видит открытую дверь в чайхане, там горит свет, и оттуда вышел человек на площадь. Чагатаев пошел спокойным шагом и в чайхане поклонился гостям и хозяину. Затем он спросил у хозяина равнодушно, как чувствует себя Ханом.
Хозяин узнал Чагатаева и ответил ему:
– Она по тебе сильно соскучилась.
– Я пришел теперь, – сказал Назар.
– Она давно ушла от нас, – сообщил этот человек. – Она пошла тебя искать…
– Куда? – спросил Чагатаев.
– Не сказала, – произнес хозяин. – Она плакала один раз, потом молчала.
Чагатаев вынул остаток последнего чурека из-за пазухи и пожевал его, пока горе еще не дошло до его сердца – тогда он есть ничего не будет.
– Сколько я тебе должен денег за Ханом, что ты кормил ее? – спросил Назар.
– Денег не надо, – сказал хозяин. – Она мне посуду мыла, чайхане убирала, она работала…
Чагатаев вышел из заведения на пустой, темный хивинский базар. Тоска по утраченной, бедной Ханом уничтожила в Назаре всю его усталость, тело его сразу стало сильным и горячим, чтобы бороться со своей печалью. Он быстро пошел по площади, потом побежал и вскоре миновал пределы Хивы. Если бы Назар остановился, он бы уже не мог справиться со своим отчаянием: он бы заплакал или умер.
Без пищи и отдыха Чагатаев прошел всю ночь. Он спешил к Сары-Камышу, на Усть-Урт. Он хотел как можно скорее увидеть Айдым, чтобы успокоиться около нее и заняться заботами о ней, работой по домашнему хозяйству, обычной жизнью… В полдень, в жару Чагатаев истомился; он нашел расщелину в глинистом холме, в которой была глубокая, устойчивая тень, прогнал оттуда дремлющих ящериц и лег спать до вечера… Ночью он вошел в пределы сары-камышской впадины и впервые за дорогу от Хивы напился из небольшого мелкого озерка плохой, засоленной водой. Переспав снова дневную жару в тишине какой-то влажной ямы, с вечера Чагатаев снова тронулся в ход, и на утро следующего дня он подошел к Усть-Урту. Он быстро поднялся на взгорье, чтобы скорее увидеть глиняные дома своего племени…
Встревоженный и худой, Назар взбежал на последний подъем и остановился в радости и недоумении. Светлое, чистое солнце, еще нежаркое на этой возвышенности, озаряло кроткую пустую землю Усть-Урта; четыре небольших дома были выбелены, из кухонной, знакомой трубы в безветренный воздух шел сытный, пахнущий пищей дым; отара овец, не менее чем в сотню голов, паслась на удаленном склоне горы, по ту сторону большого оврага, и в стороне от поселения лежали два старых верблюда, жуя разный сор вокруг себя, чтобы не скучать и ничего не думать напрасно… Со стесненной, озабоченной душой Чагатаев пошел в дом, где была печь, но из крайнего жилища вышла Айдым с пустым ведром. Она сначала бросила ведро на землю, однако тут же опомнилась, подняла ведро обратно к себе и побежала к Назару босыми ногами. Лицо ее стало вдруг испуганным и печальным, она припадала головой к животу Чагатаева и уронила ведро, – Айдым боялась, что Назар вскоре опять оставит ее и никогда не вернется; она почувствовала вперед, раньше времени. Чагатаев взял Айдым на руки и пошел с нею на озеро – он забыл попить воды и умыться. Айдым положила ему свою голову на плечо и стала говорить в ухо, как она здесь долго жила одна, а потом пришел Таган с Кара-Чормой, они пригнали из пустыни сорок голов овец и четыре барана; эти овцы были ничьи, они ходили вослед одному верблюду, а у верблюда, должно быть, пропал хозяин, и верблюд сам не знал, куда ему теперь надо идти. А когда верблюд увидел в пустыне Кара-Чорму, то сам подошел к человеку и лег около него, и овцы тоже легли вокруг Кара-Чормы.
– Они не знали, где им пить, – сказала Айдым. – Траву они находят, а доставать из колодцев воду не умеют… А наружной воды мало бывает…
– А другой верблюд откуда? – спросил Чагатаев.
– Другого я сама нашла, – ответила Айдым. – Я в пески ходила тебя смотреть, думала – ты близко… А там есть колодезь, у него сруб сделан из саксаула – верблюд лежал горлом на срубе, смотрел на воду в колодце и капал туда изо рта слюной. Он уже ослаб и хотел умирать, я пошла домой, взяла ведро с веревкой и дала ему пить…
Назар поцеловал Айдым в щеку, она улыбнулась ему и отвернула свое лицо от него в первой совести девичества. Чагатаев опустил Айдым на землю, потому что озеро, куда они шли, было уже близко.
– Я тебе обед пойду стряпать, ты ведь уморился и есть хочешь, – сказала Айдым и убежала обратно.
Чагатаев не мог еще понять, что произошло здесь без него. Он умылся в озере, оправил и почистил одежду и пошел домой, в новый аул. Но солнце, идущее на полдень, и душный зной, начавшийся в затишье предгорья, утомили его; тело его ведь устало уже давно. Чагатаев лег в тень небольшой лощины и уснул, забылся всеми своими изнемогшими костями.
Он проснулся вечером; четверть луны светила над пустыней, народ сидел вокруг него и молчал. Чагатаев не мог сразу вспомнить, что он такое, и вновь закрыл глаза, чтобы одуматься. Большая теплая рука легла ему на лицо, и Чагатаев услышал знакомый, доверчивый голос, зовущий его.
– Ханом! – сказал Назар; ему стало хорошо, покойно, рука женщины была нежна и проста, Чагатаев не размышлял сейчас – сновидение это или правда, он думал об одной Ханом.
– Назар! – сказала Ханом и сняла свою руку с лица Чагатаева.
Назар увидел улыбающуюся Ханом; она сидела на земле около его головы и осторожно трогала теперь его волосы. Рядом с Ханом, ближе к ногам Чагатаева, сидели Таган, Старый Ванька, Молла Черкезов, Аллах и Кара-Чорма. Они внимательно глядели в лицо Назара, они все были живыми и целыми. Не веря им, Чагатаев приподнялся, протянул руку и коснулся каждого в отдельности. Позади их сидели неизвестные Чагатаеву люди – человек пять мужчин, четыре женщины и одна девочка, ровесница Айдым.
– Здравствуй, Назар, – сказал Молла Черкезов.
– Разве ты видишь меня? – спросил его Чагатаев.
– Немного вижу, – ответил Черкезов, – я уже давно привыкаю глядеть, но ведь раньше еды не было и душа болела, с чего было взяться глазам? Теперь она мне протирает глаза, целует их, и они видят свет в тумане…
– Кто их тебе целует? – спросил Назар.
– Ханом, – сказал Молла. – Она моя жена, я взял ее с собой из Нукуса, Ханом пришла туда из Хивы и жила одна на базаре… Спи, – Айдым не велела тебя будить.
– Я проснулся, – сказал Чагатаев; он сел на землю среди всех и понял, что все стало хорошо.
Вскоре из глиняных домов прибежала Айдым и, узнав, что Назар уже проснулся, велела всем идти есть плов, который она приготовила ради Назара.
Ханом взяла за руку Моллу Черкезова и вошла вослед Чагатаеву, а Назара вела за руку Айдым. Около своих жилищ Чагатаев увидел ночующую отару овец, голов в сто с небольшим; внутри одного дувала стояли три ишака, не считая еще двух верблюдов. Откуда же такое добро у небольшого народа? Ведь когда Чагатаев уходил отсюда, здесь было, кажется, всего три овцы и один баран.
Назар обошел все четыре дома; внутри их было чисто, стены выбелены, в одной комнате он заметил запасы шерсти и два небольших ковра, сотканных уже здесь же, руками женщин, пришедших жить в народ джан.
В том жилище, где Айдым собрала общий, праздничный ужин, на полу лежали вымытые циновки, в глиняных кувшинах стояла свежая трава из дальних высоких долин Усть-Урта и в больших глиняных блюдах лежал обильный плов для угощения целого народа. Вокруг этого плова сели еще пятеро неизвестных Чагатаеву пожилых туркменов, почти стариков, и семь человек женщин, кроме тех людей, что сторожили спящего Назара. Он поклонился всему своему племени и всем новым родственным людям, пришедшим жить сюда общей жизнью. Айдым велела ему взять плов первым, и после того все стали не спеша кушать пищу, понимая ее ценность и достоинство…
Всю ночь просидел народ в беседе друг с другом, в удовольствии своей дружбы и свидания. Лампа горела посреди пола в кругу людей; изредка кто-нибудь выходил посмотреть овец, ишаков и верблюдов, потом снова возвращался; ровесница Айдым уснула около своей матери, Айдым тоже спала уже, положив голову на колени Назару, счастливая Ханом дремала и стыдилась, что ей хочется спать при Чагатаеве. Беззвучно было на Усть-Урте, четверть луны давно закатилась за край пустыни, все одинокие животные спали в песках и в горах, лишь время от времени кричали ишаки в дувале.
– Зачем вы ушли от нас тогда зимой? – спросил Назар у Кара-Чормы и Моллы Черкезова.
Они нахмурились в недоумении какой-то странной мысли, а Старый Ванька ответил за них:
– Мы думали, что уж давно нету ничего на свете… Мы думали, одни мы остались – к чему ж тогда и нам жить?
– Мы проверить пошли, – сказал Аллах. – Нам интересно стало, где есть другие люди.
Чагатаев понял их и спросил, что, значит, они теперь убедились в жизни и больше умирать не будут?
– Умирать не надо, – произнес Черкезов. – Один раз умрешь – может быть, нужно бывает и полезно. Но ведь за один раз человек своего счастья не понимает, а второй раз умереть не успеешь. Поэтому тут нету удовольствия…
– А откуда у вас овцы, верблюды, где вы взяли это небедное добро? – спросил еще Чагатаев.
– Овец мы заработали, – сообщил Таган; и каждый сказал после того, что с ним случилось.
Убедившись в действительности мира и в прелести его, пожив с женщинами, поев разнообразной пищи, Таган, Аллах, равно и прочий человек из джана, пошел работать, где ему пришлась выгода. Старый Ванька брал деньги за то, что хорошо плясал в пивных, в чайхане, на базарах и на русских свадьбах, Аллах дробил камень для шоссейной дороги за Чарджуем, Молла Черкезов мыл шерсть в Нукусе. Ели они мало, – они отвыкли за прежнюю жизнь, – бедняки городов казались им купцами, одежда на них еще держалась, – поэтому деньги у каждого человека стали собираться. Они купили по-разному: кто овец, кто ишаков, кто тех и других, кто женился – и пошли постепенно домой на Усть-Урт, потому что жить оказалось можно, а новый аул их стоял вдалеке нежилым, но ведь это было их добро и родное жилище… В пустыне – у такыров, в забытых староречьях, во влажных впадинах – жили еще робкие остатки вымерших семейств и племен. Когда люди джана гнали овец и ослов домой и вели за руку своих жен, они встретили этих неизвестных людей. Аллах привел их с собой сразу шесть душ. Таган и Старый Ванька не звали их с собой, но забытые люди сами побрели за ними, чтобы спастись для дальнейшей жизни.
– Вот они с нами теперь живут наравне, – указал Старый Ванька на чужих людей. – Пусть живут: от народа не победнеешь…
– Нет, вы будете богатыми, – произнес Чагатаев.
– Устроимся, и будем, – согласился Старый Ванька. – Мы по-мертвому жили, а по-хорошему жить нам не трудно.
– Не интересно даже, – сказал Аллах.
– Пока пусть нам будет хорошо, это самое интересное, – ответил Чагатаев. – Горе и печаль к нам тоже еще придут, но пусть наше горе будет не такое жалкое, какое было у нас, а другое. Наше горе было похоже на горе ящерицы или черепахи.
– Это ведь правда! – сказала вдруг молчавшая, дремлющая Ханом.
– Из какого вы племени? – спросил Чагатаев у старого туркмена, который был по виду старше всех.
– Мы – джан, – ответил старик, и по его словам оказалось, что все мелкие племена, семейства и просто группы постепенно умирающих людей, живущие в нелюдимых местах пустыни, Амударьи и Усть-Урта, называют себя одинаково – джан. Это их общее прозвище, данное им когда-то богатыми баями, потому что джан есть душа, а у погибающих бедняков ничего нет, кроме души, то есть способности чувствовать и мучиться. Следовательно, слово «джан» означает насмешку богатых над бедными. Баи думали, что душа лишь отчаяние, но сами они от джана и погибли, – своего джана, своей способности чувствовать, мучиться, мыслить и бороться у них было мало, это – богатство бедных…
Народ уже дремал. Ханом приоткрыла рот в сладости сна, прислонившись к мужу, Молле Черкезову. Чагатаев, чтобы не беспокоить Айдым, спавшую головой у него на коленях, лег осторожно на том же месте, где он сидел, и закрыл глаза в покое счастья и сна.
До конца лета Назар Чагатаев жил в своем народе на Усть-Урте. В ауле к тому времени прибавилось три новых глиняных дома и четыре женщины зачали от своих мужей и понесли в себе детей. В ноябре месяце из Хивы вернулись Старый Ванька и Кара-Чорма; их посылал туда Чагатаев со стадом овец в тридцать голов, чтобы они сдали шерсть и мясо государству, а на вырученные деньги купили бы муку, рис, соль, керосин и прочие продукты, а также новую одежду – для запаса на всю зиму до будущего лета, когда в отаре возмужает новое потомство овец.
В конце ноября Чагатаев попрощался со своим народом. Он дал ему совет – выбрать вместо него старшим человеком народа Ханом, хотя она и носит ребенка от Моллы Черкезова уже пятый месяц; но к тому времени, как она родит, может быть, Чагатаев уже вернется из Москвы обратно на Усть-Урт. Народ подумал немного и согласился: женщина часто бывает лучше мужчины, мать дороже или милее отца.
Девочку Айдым Чагатаев тоже уводил вместе с собой. Он обещал ее отдать в Москве на обучение, а когда Айдым станет ученой девушкой, она сама придет домой на Усть-Урт и научит всех, кто ее дождется, как правильно жить дальше…
Одним утром Назар и Айдым взяли немного пищи с собой на дорогу и спустились с возвышенности Усть-Урта. Весь народ джан вышел их провожать. Сойдя во впадину Сары-Камыша, Чагатаев оглянулся; народ все еще стоял на взгорье и следил за ним.
– Айдым, посмотри на всех, кто остался, – сказал Назар. – Попрощайся!
– А я все равно вернусь ведь домой когда-нибудь, тогда их и увижу, – ответила Айдым и не стала глядеть на маленьких людей, оставшихся вдалеке.
Три овцы и баран следовали за ними полдня по своей воле, потом они отстали и потерялись в пустынных местах.
Из Хивы до Чарджуя Чагатаев и Айдым доехали на грузовом автомобиле, а из Чарджуя отправились на поезде в Ташкент. В Ташкенте Чагатаев пробыл два дня, чтобы доложить о своей деятельности. В ЦК партии Чагатаева поблагодарили за работу по спасению кочевого племени джан от гибели в дельте Амударьи и сказали, что люди дальше сами найдут свою большую дорогу, а не останутся лишь в маленьком овраге Усть-Урта. Счастье всегда имеет большой размер, оно равняется всему социализму.
Айдым жила в чайхане около вокзала и без Чагатаева не выходила на улицу от страха. На второй день вечером Чагатаев взял Айдым за руку, и они пошли садиться на московский поезд. На вокзале он послал телеграмму Ксене, не зная, помнит ли она его теперь. Айдым с удивлением глядела на Назара: он побрился, был без бороды и усов и стал непохожим на того, кто ходил с ней по пустыне, по воде и горам. Она пробовала руками новый костюм на нем, в который он оделся в Ташкенте, и думала, какой Назар богатый. Но Чагатаев ей тоже купил новую узбекскую одежду и переодел ее в вагоне во все новое, а ветхий капот ее спрятал зачем-то к себе в карман.
Почти всю первую ночь в поезде Чагатаев простоял у окна в коридоре вагона, глядя в пустыни и степи, замечая редкие, далекие костры чабанов. Айдым спала на лавке. Чагатаев изредка поправлял ее одеяло, складывал обратно руки и ноги, когда она по-детски раскидывалась, и гладил ей голову, когда она бормотала что-то во сне, мучительно переживая дневные впечатления.
В Москве на вокзале Чагатаева встретила Ксеня, выросшая и другая, чем во время их разлуки, как настоящая женщина. Она была в пальто с большим серым воротником и в черной шапочке, – в Москве шла зима. Разноцветные глаза ее заплакали, когда она увидела Чагатаева в толпе пассажиров. Она подбежала к нему и обняла, остановив движение задних людей. Ксеня не заметила сразу, что около Чагатаева стоит девочка в длинном цветном платье далекого народа и держится рукою за борт пиджака Чагатаева. Оба они были без пальто, поэтому Ксеня, после знакомства с Айдым, открыла свое пальто и взяла Айдым к себе на руки, прислонив ее тело к своей груди. Ксеня была вдвое больше Айдым, но все же она раскраснелась от напряжения. На вокзальной площади Ксеня наняла такси, потому что Назару и девочке было холодно.
– А куда мы поедем? – спросил Чагатаев у Ксени; ему некуда было ехать в Москве.
– К моей маме, – ответила Ксеня. – Я забронировала ее комнату для вас.
В автомобиле Ксеня сидела с красным лицом, словно она стыдилась чего-то, или это было от юности, когда жизнь от наслаждения кажется позором.
Автомобиль остановился. Ксеня передала Чагатаеву ключ и попросила прийти к ней завтра в гости.
– Только у меня адрес теперь другой, – сказала она. – Я живу отдельно, я одна, а вашу телеграмму мне бабушка переслала…
Она дала ему адрес на бумаге из блокнота, и они попрощались. Чагатаев вошел в знакомый новый дом, Айдым держалась за его руку. У них не было никакого багажа.
В большой комнате, убранной мелкой мебелью Веры, Чагатаев сел на постель, не раздеваясь, потом положил голову поверх одеяла; прежний, вечный запах Веры еще хранился в ее постели. Чагатаев дышал этим запахом, думал и дремал. Айдым влезла с ногами на подоконник и глядела оттуда на большую Москву.
Утром на другой день Чагатаев пошел с Айдым в магазины, купил ей европейские кофты и юбки и два пальто – для себя и для нее. Айдым сразу изменилась в новой одежде: Чагатаев увидел, что она красавица.
Вечером они поехали в гости к Ксене. Ехать было далеко, в глубину Замоскворечья. После трамвая Чагадаев и Айдым долго шли пешком и наконец нашли по писаному адресу общежитие студентов торфяного техникума. В этом техникуме, очевидно, теперь училась Ксеня.
В общежитии, как у многих девушек, у нее была отдельная комната. Чагатаев постучался в дверь, и так как перегородки между комнатами и сама стена коридора были тонкие, то сразу три девичьих голоса сказали: «Войдите», в том числе и голос Ксени.
Она открыла дверь, и сразу трудное чувство волнения заполнило ее лицо излишним румянцем. На столе находилось заранее приготовленное робкое угощение, покрытое скатертью. Ксеня усадила гостей, сняла скатерть с закусок и сейчас же стала уговаривать их съесть ее пищу, но вилки, ложки, ножики валились у нее из рук на пол, вдобавок она зацепила красное разливное вино, налитое в какую-то масленую, должно быть керосиновую, бутылку, и вино разлилось по столу бесполезно. Ксеня убежала в коридор, спряталась в уборную и там заплакала от мучительного жалкого стыда. Айдым без нее устроила порядок и даже слила со стола вино обратно в бутылку, так что сохранилась четверть прежнего количества. Ксеня вернулась с темными кругами под глазами и просила все же скушать, что она купила и настряпала; больше она ничего не знала, что говорить. Она не могла объяснить, почему ей совестно иногда быть живой и грустно чувствовать себя женщиной, человеком, желать счастья и удовольствия, – даже будучи одна, она от этого сознания закрывала себе лицо руками и краснела под ладонями.
Поев из вежливости угощенье, Чагатаев и Айдым стали прощаться с хозяйкой. Чагатаев обещал прийти к ней еще раз – через несколько дней.
Но они увиделись раньше, – на следующий вечер Ксеня пришла к Чагатаеву сама. Она хотела помочь Айдым, как старшая женщина девочке. Ксеня повела ее в баню, из бани они отправились кататься на метрополитене и вернулись домой уже поздно.
В выходной день Ксеня приехала с утра и привезла с собою несколько штук своего белья, из которого она сама выросла, а для Айдым оно было впору. В тот день они все трое ходили в столовую обедать, потом гуляли, были в кино и возвратились к вечеру. Айдым свернулась на постели матери Ксени и сразу заснула. Чагатаев и Ксеня сидели против спящей девочки на маленьком диване; они молча глядели на Айдым, на ее лицо, где еще были черты детства, страдания и заботы, и на ясное выражение ее зреющей высшей силы, которая делала эти черты уже незначительными и слабыми. Чагатаев взял руку Ксени в свою руку и почувствовал дальнее поспешное биение ее сердца, будто душа ее желала пробиться оттуда к нему на помощь. Чагатаев убедился теперь, что помощь к нему придет лишь от другого человека.
Notes
note 1
Джан - душа, которая ищет счастье (туркменское народное поверье).
(обратно)note 2
Здесь и далее в скобках отмечены места, где правка автором не завершена.
(обратно)

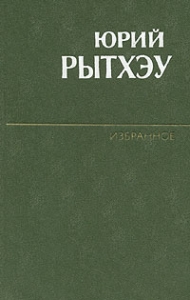
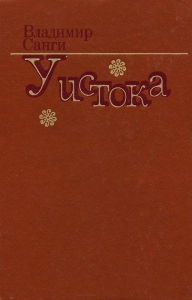

Комментарии к книге «Джан», Андрей Платонович Платонов
Всего 0 комментариев