С. Георгиевская Серебряное слово
Повесть
Часть первая
1
Уже две недели, как Лера была в командировке в Тора-хеме и все это время страдала бессонницей. Это была не настоящая бессонница — не такая, как у старых людей. Старый ворочается, ворочается, а не может заснуть и считает часы ночи. Нет. У Леры бессонница была другая.
С вечера ей казалось, что стоит опустить голову на подушку — и сейчас же уснешь.
Еще играли во дворе с ребятами в волейбол Роза — местная библиотекарша и Валя — местный финансовый работник; еще слышались сквозь широко раскрытую дверь их смех, голоса и был отчетливо виден кусок мутно-светлого, большого неба, — а Лера уже подходила тихонько к стоящей в углу комнаты Розиной кровати.
Она раздевалась стоя, сбрасывала кое-как в темноте платье и чулки; зажмурившись, чтобы не прогнать дремоту, забиралась под шершавое, шерстяное одеяло…
И сон со всех сторон обступал ее.
Не сразу, конечно. Не то чтобы совсем сразу. Нет. Она слышала, как под ней вздрагивает и поскрипывает сетка. Чувствовала, как покусывает жесткое одеяло.
Но вот в последний раз плывут Лере в глаза край русской отбеленной печи, потолок… И все. Кончился день.
Темно. Тепло. Тихо.
Она понимала, что ей и в самом деле удалось заснуть, только когда до слуха ее вдруг долетало шлепанье босых ног, шорох, шепот. Значит, Роза и Валя возвратились домой. Значит, она спала, раз проснулась. Ясно.
Девочки закрывали входную дверь. Звенело ручкой ведро, постукивал пестик рукомойника. (Это Роза плескалась в сенях.)
Роза и Валя вместе укладывались на кровати за печкой: вторую кровать они уступили Лере.
Долго слышался в темноте их шепот. И чего они шепчутся? Секреты у них, что ли, или просто так — не хотят ее будить?..
В этот час в окно смотрела уже темная, совсем темная улица. Ни души. Спит корова — там, далеко, по ту сторону дороги. На стенке противоположного дома видна ее тень — большая, четкая, и кажется, что это гора.
А небо почти черное: нет, густо-лиловое. И звезды какие большие! В окнах — ни огонька, темно. Только луна серебрит крыши, и долгий широкий белый свет выхватывает кусок улицы, колодец, корову… Звезды в небесах висят неподвижно, но вдруг словно чья-то рука сорвет целую пригоршню и швырнет вниз, прямо в глаза Лере.
Звездопад. Вот одна звезда с неслыханной быстротой прочертила небо, и вторая летит за ней, и третья! Еще, еще! Звездопад, звездопад над неподвижной, над спящей землей.
А свет луны взбирается все выше по отбеленной кирпичной печке, и печка начинает сиять; он ложится на крашеный пол и озаряет Лерины запачканные глиной и сброшенные с вечера посреди комнаты туфли.
И почему-то нет сил спать в этой лунной тьме, в торжественном безлюдье, и на глаза навертываются слезы и тихо катятся по щеке. Лера всхлипывала, широко открывая рот, чтобы не было слышно и чтобы свободнее дышалось. Ну, как тут спать? Как уснуть?..
В конце концов она все-таки опять засыпала. Засыпала, прижавшись теплой, разомлевшей щекой к Розиной подушке.
И наступала ночь. Глубокая ночь. Переставали шептаться девочки, переставала вздыхать Лера. И луна, уже никем не видимая, продолжала творить свое лунное дело просто так, для собственного удовольствия, а не для восхищения зрителей. Она опрокидывала целый ушат голубого сияния на спящую корову, на канаву, поросшую травой, на штабель дров у забора, на стремянку, забытую маляром.
И, наверно, всю ночь напролет летели вниз звезды, да кто ж его знает, раз никто уже больше не подглядывал, а все спали, прозевав вот это — может, самое прекрасное на свете.
Потом квадрат окна светлел, становился мутно-серым, каким был с вечера.
И тут Лера просыпалась. Первая. Даже петух и тот просыпался позже.
…А небо все светлело, светлело, светлело, и свет гасил звезды.
2
«Бабушка! — писала Лера, устроившись в сенях. — Я совсем на тебя рассердилась за твое письмо к Шумбасову.
Получив его, Шумбасов сейчас же, и, видно, не без скрытого удовольствия, поспешил ко мне, в библиотеку. Торжественно и молча он протянул мне твое письмо Лицо у него при этом было очень серьезное и даже сочувственное, а глаза хохотали. И надо мной и над тобой. И если я не запустила в него орфографическим словарем, то я железный человек, а воля у меня стальная.
Ты не должна была ему писать. Понимаешь? Ради своей и моей гордости. Ведь мы с тобой как-никак Соколовы!
Это первое.
А второе то, что я нигде и никогда не пропаду. И хоть бы ты, бабушка, намекнула уж заодно Шумбасову, что я внучка и дочка капитанов. И что я пловец второго разряда.
Так нет же! Об этом ты почему-то и не подумала написать. Наверно, для того, чтобы вышло еще жалостней.
А меня ты поставила в очень неприятное положение. Мне неудобно хвастаться. Тем более что в Кызыле не бывает заплывов на дальние расстояния и у меня нет возможности доказать.
А вообще, дорогая, ты волнуешься совершенно без всякого повода. Я тебе уже много раз объясняла, что нахожусь не где-нибудь, а в одной из автономных областей Советского Союза. Правда, в Тувинской. Это довольно далеко от нашего Приморского бульвара. Но все равно я дома. Понимаешь? Дома. Тува давным-давно перестала быть «Урянхаем», как ее называли когда-то. Ведь это значило — страна отверженных, нищих, оборванных!
И кто только посмел прозвать нищим такой богатый край — страну такого талантливого и умного народа!..
Урянхайские времена давно прошли, бабушка. Волноваться за меня до такой степени, ты уж извини за прямоту, — признак отсталости и недостойно вдовы советского капитана.
И еще это доказывает, что люди даже самые образованные совсем не знают Тувы.
Кстати, имей в виду, что я постоянно живу в Кызыле и только разъезжаю по области. А Кызыл отнюдь не пустыня и не чаща лесная, а культурный, оживленный большой город. Между прочим, кроме меня и Шумбасова там всегда так много народу, что в гостинице места не достать.
Все эти приезжие — советские специалисты: геологи, агрономы, географы, этнографы.
Да и в области жизнь просто кипит. Куда ни поедешь, повсюду видны палатки экспедиций — в тайге, в степи, в горах и на берегу Енисея.
И никто, представь себе, еще ни разу не пропал — ни те, кто прибыл на время, ни те, кто приехал в Туву на постоянную работу.
Был случай, когда одна девушка-геолог отстала от своей партии и заблудилась в тайге. Разыскивать ее послали самолет. И нашли, разумеется.
Так что, даже учитывая, что я по роду работы постоянно буду в разъездах, все равно никак невозможно понять, при чем тут доктор Шумбасов и твое жалостное письмо к нему.
Именно теперь я как раз нахожусь в командировке, в Тодже (и отсюда пишу тебе письмо). Да, забыла тебе сказать: Тоджей называется северо-восточная часть Тувинской автономной области.
Центральный населенный пункт Тоджи — поселок Тора-хем. Тут я и остановилась. Живу у местной библиотекарши, Тарасовой Розы, и ее подруги Вали. (У них общая комната).
Это моя первая дальняя командировка, бабушка. В Кызыле директор Пушкинской библиотеки, моя начальница, — кстати, прекрасный работник и очень милый человек, — вообще не хотела, чтобы я сразу начала разъезжать по краю. Она сказала, что прежде надо оглядеться. И чтобы я сперва как следует устроилась в новой комнате и обжилась.
Но до моего приезда из Москвы в кызылской библиотеке, хоть это и центральная библиотека такой крупной и многообещающей области, не было ни методкабинета, ни библиотечного методиста. Я не получила на руки никакого наследства. А ведь работа библиотечного методиста в том главным образом и заключается, чтобы руководить работой районных библиотек, потому что тамошние библиотекари больше всего нуждаются в помощи. Сидеть на месте и спускать им письменные директивы — значило бы, как я понимаю, сразу заделаться бюрократкой. Я спорила, просила, доказывала и, как видишь, настояла на своем. Меня отпустили в Тоджу.
Я прилетела сюда самолетом из Кызыла две недели тому назад.
Сюда нет другой короткой дороги, кроме самолетного сообщения. По своему географическому положению Тоджа как бы отрезана от мира горами и тайгой.
Когда летишь в самолете над Саянами, кажется, что вся земля — это горы. Трудно представить себе, трудно вообразить, что на свете может быть так много гор. Горы, поросшие тайгой, подступают к самому Тора-хему. Вот тут, понимаешь, — Тора-хем, а тут — горы. Ясно?
Тора-хем очень своеобразный, красивый городок. Его как бы разрезает надвое широкая центральная улица. Много деревьев, зелени, рядом — река. Тора-хем растет прямо на глазах: строятся и строятся новые дома. В этих домах живет теперь больше тувинцев, чем русских. А раньше тувинцы жили только в лесу. В берестяных чумах. И теперь еще в Тора-хеме стоят чумы. Но только на самой окраине. Их уже совсем немного.
Если бы ты знала, какой прыжок через время пришлось сделать Туве, и особенно Тодже, чтобы люди тут стали грамотными, чтобы открылись школы, больницы. Ведь еще совсем недавно больных здесь лечили только шаманы, и ты понимаешь как! Лет двадцать пять тому назад здесь еще не существовало азбуки — тувинской письменности. А сейчас я, методист Соколова, окончившая Московский библиотечный институт, приезжаю в Тоджу, чтобы проверить работу районных библиотекарей. Здорово? А?
Между прочим, здесь передо мной встала одна очень важная задача — мне надо непременно добраться до летнего стойбища оленеводов.
Олени, как известно, не выносят жаркого лета. В жару они гибнут. Поэтому, когда настает весна, пастухи отгоняют их далеко к горам, покрытым вечным снегом.
Ну, разумеется, книги к оленеводам попадают только случайно. Еще бы! Туда четыреста километров через тайгу. По скверной дороге. Без троп. Только ты, пожалуйста, не пугайся, бабушка. Добираются же туда врачи, ветеринары, геологи. Дорога — пустое! Самое трудное — организовать эту командировку. С утра до вечера я бьюсь и доказываю, как важно доставить оленеводам библиотеку-передвижку. Доказываю, спорю, убеждаю. А время бежит. Мне скоро нужно будет возвращаться в Кызыл.
Конечно, я понимаю, что Тоджа — очень молодой край, что у людей здесь много серьезнейших первоочередных дел: строительство, корма, огороды… Но как же мне объяснить им, бабушка, что важно не только то, что можно сразу ощупать руками? Разве без книги у края может быть большое будущее?
Я каждый день хожу в исполком и в райком. И Силин — второй секретарь райкома — меня уже давно возненавидел.
Я даже не знаю, как бы я это перенесла, если бы не девушка одна — Сапрыкина Лида, секретарь райкома комсомола. Она меня очень поддерживает и говорит, что я добьюсь.
Через полтора часа я опять пойду в райком. Когда будет девять часов.
Сейчас рано. Я только что искупалась. Река, в которой я купалась, тоже называется Тора-хем. «Хем» по-тувински значит «река».
Девочки — Роза и Валя — еще спят, и я тебе пишу в сенях. Сижу босая на табуретке, а рядом, на полу, туфли — те самые, что ты мне прислала в Кызыл. Я их очень люблю. Кажется, больше всего именно за то, что это ты их покупала, бабушка.
Вот сижу здесь и вижу, как ты получаешь мое письмо. Подходит к изгороди почтальонша и говорит: «Заказное. Распишитесь, товарищ Соколова».
И ты расписываешься без очков. А потом надеваешь очки и читаешь: «Крым. Евпатория. Улица Ленина, дом № 4. Аглае Федоровне Соколовой».
И сердишься на меня за отповедь, бабушка. Верно?
Но, право же, с тех пор как мы приехали из Москвы в Туву, я с доктором Шумбасовым почти не вижусь. Во-первых, я часто бываю в разъездах, а во-вторых, даже если и сижу на месте, в Кызыле, мы с ним встречаемся только в тех случаях, когда он приходит в библиотеку за книгами.
Тут, хоть я и работаю в методкабинете, а не на выдаче, он почему-то обращается именно ко мне — наверно, оттого, что я все-таки его знакомая.
Появляется Шумбасов в библиотеке всегда как-то неожиданно и странно: не входит в дверь, как другие читатели, а молча останавливается во дворе, у распахнутого окошка. Стоит и ждет, пока я подниму голову и замечу его.
Бывает, что он спросит меня мимоходом: «Ну, как дела, Лера?» И, не дождавшись ответа, тихонько зевает.
Зевать ему, бедняге, вовсе не хочется, и делает он это только для того, чтобы выказать свое пренебрежение ко мне и моим делам. Понимаешь?!
Несколько раз после моего вечернего дежурства он провожал меня домой, но все время молчал, глядел по сторонам и был занят только тем, что придерживал сползавший с плеч пиджак. (Пиджак он отчего-то носит внакидку, а не надевает в рукава, как все добрые люди.)
А если говорить о внутреннем содержании твоего Шумбасова, то он, по-моему, сухой и черствый человек.
К людям, которые не похожи на него самого и кажутся ему душевно или физически более слабыми, он относится со снисходительным пренебрежением.
Шумбасов родился в Сибири. Он хорошо ездит на коне. Тайга для него, наверно, то же самое, что для меня море.
И он, насколько я могла заметить, недостаточно уважает своих товарищей, молодых врачей, которые хоть и родились в больших городах и никогда в жизни верхом не ездили, но, если этого требует дело, храбро садятся в первый раз на коня и скачут ночью по козьим тропам, чтобы оказать помощь пациенту в каком-нибудь далеком, затерянном в горах селении.
Он не ценит их мужества. Он попросту считает их неумелость этакой изнеженностью, барством. (Как будто люди выбирают, где им рождаться — в колхозе или в городе, на юге или на севере, и как будто в городе они не работают!)
И вообще, бабушка, Вадим Петрович — человек довольно-таки ограниченный. Мир для него делится на полезное — то, чем занимаются инженеры, врачи, трактористы, геологи, — и бесполезное, ну, например…»
— Лера, а чего ты тут делаешь? — спросила Валя, выходя в сени.
— Отчет пишу. Не мешай.
Валя сейчас же вернулась в комнату, но Лера так и не закончила своего письма. Оно не дошло до Евпатории, улица Ленина, дом 4. Его не прочла Аглая Федоровна Соколова…
Надев те самые туфли, что ей прислала бабушка, поджав губы и опустив сердитые глаза, Лера задумчиво зашагала к зданию почты.
Неоконченное письмо к бабушке осталось дома, Лера не взяла его с собой…
3
Еще безлюдны улицы. Еще закрыта почта.
Припекает солнышко. Тишина.
Истомленная бессонницей, Лера пристраивается на крыльце почты. Она прижимает висок к перильцам и вдруг сразу засыпает.
Открывают столовую. Проезжает телега. Проходят дети.
Лера спит.
Гонят по улице коней. Молодые кони словно пляшут посредине дороги. Вставая на дыбы, они подсовывают друг другу головы под головы, приседают на тонких ногах и вдруг начинают кружиться. За табуном верхом на лошади едет мальчик. Он без седла, босой. «Чук-чук», — тихо и грозно говорит мальчик, и лошади в ответ бьют о землю копытами. Они подскакивают, топочут ногами, вытягивают вперед шеи, кричат: «И-и», — пронзительно, длинно и тонко.
Лера спит.
По ступенькам почты проходит девушка-телеграфистка, Ее широкое платьице обдает Леру едва приметным ветром.
И тут-то Лера просыпается. Не от топота коней, не от грохота телеги. От этого легкого дуновения. Удивительное дело!
На почте тихо и душно. Телеграфистка смотрит исподлобья на Леру. Открыв окошко, она пропадает где-то за перегородкой.
Лера ждет.
За перегородкой что-то рушится. Это с треском упали на пол счеты. Молчание. Тишина.
Потом в оконце появляется официальное, розовое, хорошо умытое лицо семнадцатилетней телеграфистки. Телеграфистка занята делом: она перелистывает что-то на своем, не видном Лере столике.
Молчание. Лера ждет.
Наконец, не выдержав, она говорит тонким голосом:
— Гражданка, а нет ли мне телеграмм до востребования?
— Кому-кому? — щебетом отвечает телеграфистка и поднимает на Леру голубые круглые глаза.
— Телеграмм до востребования, — отчетливо и строго говорит Лера. — Мне. Соколовой. Валерии Александровне.
— Телеграмм нет.
Молчание.
— А как вас зовут? — вдруг ни с того ни с сего спрашивает Лера.
— Меня? Клава. А вам зачем?
Лера не отвечает. Вздохнув, она с достоинством, медленно спускается с крыльца.
Нет.
А разве они должны были быть?
И, зажмурившись, забыв о Тора-хеме, Лера представляет себе Кызыл.
Улицы, дома, люди… Вечер в Кызыле. Вот столовая. (Она как раз рядом с почтой.) Вот тут столовая, а там крыльцо почты. Из столовой выходит, ну, в общем, один человек, идет и придерживает руками накинутый на плечи пиджак. Вечер, вечер… Духота. Темнеет. В глубине улиц уже совсем темно, но, если опустить голову, под ногами еще отчетливо видна на дороге беловатая пыль. В духоте, в полутьме сияют мелкими, разбрызганными лучиками зажегшиеся в окнах первые огни.
На лавках у почты сидят люди — два геолога в соломенных шляпах, какой-то толстый дяденька, пожилая гражданка.
Тот человек, который только что вышел из столовой, проходит мимо в своем накинутом на плечи пиджаке и вдруг останавливается.
Вот, вот она перед Лерой — кызылская почта. И вот он остановился… В самом деле, ну что ему стоит остановиться?..
На кызылской почте много народу. Взяв через головы телеграфный бланк («Девушка, будьте ласковы, дайте листочек!»), он ленивой, чуть развалистой походкой отходит в угол и там, стоя, придерживая одной рукой сползающий пиджак, быстро, решительно и задумчиво заполняет бланк.
Так. Теперь ей нужно опять увидеть город, разглядеть его дома улицы, словно сквозь волшебное стекло.
…Кызыл. Вечер. Кажется, что переполненный пылью воздух навис над крышами тяжелой пеленой. И долго не темнеет по-настоящему в Кызыле небо. Людно на улицах. Среди прочих, оглядываясь, не свистя, но как будто насвистывая, придерживая руками сползающий пиджак, идет с почты домой тот самый — единственный, тот самый — главный для Леры человек.
А назавтра утром, стоя вот тут, у Клавиного окна, она, Лера, получает телеграмму. И ей хочется заплакать. Хочется обнять и расцеловать умытую, розовую, суровую Клаву.
Она получает телеграмму и, вобрав в себя воздух, чтобы не слишком громко дышать, бежит — нет, быстро, большими шагами идет по дороге — туда, где тайга и где кладбище.
И там, меж деревьев, она ложится ничком на теплую землю и прижимает пальцами веки. Что же это такое случилось с ней, какое же это свалилось на нее тяжелое, прижавшее ее к земле счастье?!
«Ой, ой, не могу. Не могу и не могу. Да что же это такое? Да что же это такое?.. Ой, не могу!..»
Не моги.
Телеграмм нет. Нет никаких причин целоваться с Клавой и лежать, закрыв глаза, меж деревьев у кладбища. Спускайся спокойно с крыльца и сейчас же ступай в райком. Дела не ждут.
Вокруг все то же. Узкий переулок, ведущий к реке, здание школы, подальше — клуб…
Все как вчера и позавчера… Тора-хем.
4
Торахемский райком — одноэтажное здание. Через распахнутое окошко Лере был ясно виден кабинет второго секретаря Силина.
Он сидел у стола, а рядом с ним — два приезжих инженера-железнодорожника.
Лера знала, что их экспедиция остановилась в колхозе «Седьмое ноября». Это знала вся Тоджа, весь Тора-хем. И каждому было ясно, что здесь задумали проложить железную дорогу.
Вот уже с месяц, как в небе стал появляться непривычной формы самолет. Вскидывая головы и заслоняя от солнца глаза, тоджинцы напряженно следили за колеблющейся в небе точкой, похожей на комарика.
Они говорили: «Заснимывают». Самолет летел за хребты гор, кружился над тайгой, жужжал все тоньше, уходил все дальше, пока вовсе не исчезал, чтобы скоро возвратиться с тем же пронзительным и отчего-то всегда неожиданным жужжанием.
Инженеры из экспедиции были пожилые, один из них одет в форму полковника железнодорожной службы.
Все трое — Силин и приезжие — сосредоточенно склонялись над картой, лежащей на письменном столе.
Через распахнутое окно слышался их ровный говорок. Слов нельзя было разобрать. Говорок то и дело прерывался.
В комнате царил тот знакомый Лере особенный дух мужской суховатой деловитости, когда всякому очевидно, что люди ничего вокруг не замечают, да и не хотят замечать.
У всех троих лица были озабоченные и вместе спокойные, потому что чего ж особенного: дело. Они знают, что значит настоящее дело, и знают, как взяться за него. Дело будет и завтра и послезавтра. Много дел. И все их надобно переделать. И они переделают их — добьются, где надо, транспорта, рабочей силы, помещения, и дело пойдет, а где не пойдет, там они нажмут и докажут.
Эти двое уверены в себе. И нужны Силину (потому что это важно и ясно каждому: железная дорога!).
Так думала Лера.
И вдруг Силин приподнял голову и заметил ее в окне.
Он сказал:
— Ты что там, мух, что ли, пришла ловить, товарищ Соколова? Давай заходи.
И крякнул.
Лера вошла.
Оба инженера сейчас же приветливо заулыбались и стали внимательно ее рассматривать.
Один из них — тот, что в железнодорожной форме, — был сед, белые волосы зачесаны на косой ряд, лицо буро-загорелое и глаза прикрыты стеклами, но не очков, а пенсне. У него были крупные мягкие, немного выдающиеся вперед губы человека, умеющего хорошо, со вкусом, поесть. Лере отчего-то подумалось, что в Москве, у себя дома, он совсем не такой, как в кабинете у Силина, — нет, там он, наверно, раздражительный, может быть даже сварливый…
Второй приезжий был одет в синий, насквозь пропылившийся китель, видавший виды и выгоревший от солнышка, обут в белые парусиновые туфли на босу ногу. Он был тучен и велик ростом, а ноги — тонкие, будто приклеенные к грузному телу. Толстое и от этого казавшееся добродушным лицо было очень серьезно. Но почему-то, глядя на него, Лера вдруг представила себе, как он сидит где-нибудь в холодке, расстегнув этот самый китель, и поет, прикрыв глаза и раздувая ноздри: «Летят белокрылые чайки…»
Оба инженера, оторвавшись от карты, сейчас же замолчали, как бы давая Лере дорогу.
— Здравствуйте, товарищи, — сказала она.
— Давай садись, — рассеянно и нехотя («но что ж поделаешь!») ответил Силин.
Лера села и, сощурившись, сразу забыв, что она в кабинете не одна, стараясь умерить силу голоса и сдерживая раздражение, начала, или, вернее, стала продолжать, без обиняков с того самого места, на котором они остановились вчера:
— Я опять и опять по поводу поездки в оленеводческую бригаду, как вы легко можете догадаться, Владимир Николаевич. Всё о том же…
Она чувствовала себя виноватой, что вынуждена настаивать, знала — уже успела узнать, — что там, за пределом силинского как будто бы внимательного взгляда, — стена, которую ей, именно ей, Лере, не прошибить лбом, знала, что ни одно ее слово не тронет его, что ей его не убедить, не сдвинуть с места, не зажечь, не растрогать. А как ей нужна была сейчас его уверенность в важности предстоящего ей дела, как подбодрила и укрепила бы ее поддержка этого усталого, взрослого, умного человека, секретаря райкома, бывшего военного, отца, а может, уже и деда! Но он и не думал ее поддерживать. Он только спросил суховато и как будто рассеянно:
— Ну, так как же твои дела. Рассказывай.
— А разве вы не знаете? — ответила она, удивившись немного сильнее, чем это было надобно. — Книги мы с Розой, то есть с товарищем Тарасовой, уже отобрали… Из Кызыла затребовали все, что нашлось по оленеводству… И выборки сделали… Сапрыкина их уже давным-давно перевела.
— Как так — давным-давно?! — приподняв брови, спросил Силин. — Да ведь ты сама-то здесь, мать моя, только третьею неделю.
— Ну и что же, — упрямо ответила Лера. — Перевод готов четыре дня тому назад. Стало быть, три дня тому назад я уже могла выехать. И вообще я много раз говорила вам, Владимир Николаевич, что организовать передвижку — это не значит только забросить книги в указанный населенный пункт… Это значит…
— Ага, ага, — вздыхая, поглядывая искоса на инженеров и поддакивая ей, как малому ребенку, сказал Силин.
— Нет, Владимир Николаевич, так библиотеку не организовать. Я… я, видите ли, должна найти на месте хорошего избача, должна провести встречу с читателями, может быть, конференцию по какой-нибудь отдельной книге… И… в общем, мне нужны лошадь, седло, переводчик, проводник…
— Ясно, ясно… А ты не расстраивайся, — устало сказал Силин, — Так и быть… — Он вздохнул и закурил. — Вот что, товарищ Соколова! Туда как раз возвращаются ветфельдшер из колхоза «Седьмое ноября» и еще два-три человека. Они приехали за почтой и продуктами. Ты, значит, с ними и поезжай. Люди они хорошие, солидные…
— Владимир Николаевич, — перебила она, — вы от меня не отмахивайтесь. Право же, лучше покончить дело миром… Я не… Они не знают ни слова по-русски!
Там, за плечами Леры, послышался скрип раскачиваемого стула. Она обернулась. Толстый инженер широко и насмешливо улыбался. Все вместе было отвратительно и даже как-то постыдно. Словно она добивается чего-то для себя лично, для своего удобства и пользы, — этакая девица! — приходит, и требует, и шумит… Курьез!
— Удивительное дело, товарищ Соколова, — ответил ей, пожав плечами, Силин. — Удивительное дело… Люди сдавали историю партии на русском языке, а по-русски, по-твоему, ни слова не говорят!..
— Они говорят плохо. А я вам уже вчера объясняла, что переводчик должен говорить хорошо. Мне нужен в помощь человек образованный. Ведь язык-то я знаю едва-едва. А это сложно — говорить о Гоголе, Пушкине, Чехове… Тут целая эпоха… Тут… И еще мне нужно, чтобы переводчик был прикреплен к нашей группе. Пусть получает зарплату или выполняет общественное поручение — это мне все равно. Только чтоб не ради одолжения. Дел много… Я не могу каждый раз вступать в пререкания с переводчиком — захочет он переводить или не захочет.
— Ага. Ну что ж… Ясно… Так, значит, вот что, голубка моя, вот что, уважаемая группа! — Силин насмешливо прищурился. — Проводника я тебе дам. Сафьянова. Русского. Старожила. Техника. Что же делать!.. С работы придется снимать… Так? И лошадь дам. В колхозе «Седьмое ноября» получишь. Седло дам… Знаешь Саганбая?.. Ну, председателя исполкома?
— Знаю. Я к нему каждый день хожу.
— Вот и ладно. Передашь ему: Силин, мол, велел дать седло, обувку, шубу… А переводчика не дам! Не взыщи, не дам. Нет у меня для тебя переводчиков. Не припас. Откуда я тебе возьму переводчиков?
— А я без переводчика не поеду! — сжимая на коленях кулаки и напирая на Силина глазами, подбородком, движением плеч, отчетливо и тихо ответила Лера. — Не поеду!.. Это будет значить — отнестись к делу формально… Провести какое-то мероприятие… А я не груз везу. Я везу книги! Ленина, Горького! И вы, коммунист, кажется, должны бы это понимать!
— Что ж. Не езжай. И знаешь, вот я тебе еще скажу! — Лере показалось, что он скажет сейчас: «Знаешь, уважаемая? Ты дура! У меня сенокос!..» Но он сказал: — Знаешь, вот что… Зайди-ка ты ко мне после обеда. Часу этак в третьем. Сама видишь — я занят. Люди ждут.
— Да. Я вижу.
И, не попрощавшись, она ушла.
5
Что же ей делать?!
Хорошо. Они пойдет к Сонаму — первому секретарю… Лера остановилась посреди улицы, подумала и резко повернула к зданию райкома.
— Можно, товарищ Сонам?
Молчание.
Она толкнула в дверь в кабинет первого секретаря. Комната была не ни солнечную сторону. Кроме того, здесь, должно быть, недавно вымыли полы — тянуло свежестью.
С улицы не доносилось ни единого звука. За столом сидел первый секретарь Тоджинского райкома, Сонам, и что-то читал. В руке он медленно и задумчиво вертел карандаш.
У него были руки настоящего тувинца — такие, каких тот, кто умеет хоть что-нибудь замечать, никак не мог бы не заметить. В подвижных и тонких руках Сонама чувствовались сдержанность, гибкость и сила.
Сквозной ветер, влетев в открытую Лерой дверь, зашелестел в бумагах на столе у Сонама. Какой-то легкий, густо исписанный листок зашуршал и вспорхнул. Сонам поднял голову.
— Садитесь, пожалуйста, Валериа Александрова, — сказал он негромко и вежливо, старательно отчеканивая каждую букву.
— Товарищ Сонам!
Он придержал пальцем летящий листок.
— Слушаю, Валериа Александрова! Сядьте, пожалуйста…
Лицо без возраста, то есть казавшееся очень молодым (хотя на самом деле это было не так), повернулось в сторону Леры. Ровно блестели черные пристальные глаза. Губы были сложены спокойно и чуть улыбчиво, одинаково готовые засмеяться или сохранить полную серьезность.
— Ну-ну, садитесь, садитесь…
Лера молчала.
Он ждал.
Она откашлялась, открыла рот и снова закрыла.
И вдруг о стекло раскрытого окна отчетливо и мягко ударилась бабочка.
Сонам перевел на нее взгляд и стал смотреть в сторону бабочки с таким вниманием, как будто это она, а вовсе не Лера, явилась к нему на прием.
Лера набрала в легкие воздуху, еще раз кашлянула и вдруг сказала тонким голосом:
— Туве нужна книга!
Он не засмеялся. Только опять повернулся к Лере и посмотрел на нее так же серьезно и пристально, как и на бабочку.
— Туве нужна книга!
— Да, да, — учтиво подтвердил Сонам.
— Она нужна Туве, понимаете, как хлеб, как первый хлеб…
— Да, да… Как хлеб.
— Я приехала из Москвы… И я, понимаете… Я начала с Тоджи. Я к вам к первым, товарищ Сонам… Неужели же вы забыли, как по ночам, когда люди еще жили в тайге… Ну, в общем, как старики рассказывали сказки. И как их слушали до самого утра!.. Народу нужна книга… Он ждет ее! И мы должны…. И я должна… Ведь я библиотекарь! Прошу вас, дайте мне лошадь, седло, переводчика! В оленеводческой бригаде нет книг. У них еще ни разу не был ни один библиотечный работник.
— Так, так, — чуть сдвигая брови, ответил Сонам. — Только зачем горячиться, Валериа Александрова? Надо ехать — поедете. Все будет, как надо. И лошадь будет и седло будет.
— А переводчик?
— И переводчик будет.
— А товарищ Силин… Знаете, когда я прихожу к нему, я теряю слова, теряю достоинство… Вот вам я все сразу сумела рассказать. И вы поняли!
— Товарищ Силин — человек большая энергия, — мягко ответил Сонам. — Его, учтите, перебросили к нам из средняя полоса Россия полгода тому назад… Здесь ему трудно. В Тодже, мой молодой товарищ, только год, как сажают картошку, и третий год, как сеют хлеб. И тут самый большой район по сдаче пушнина. А Силин — руководитель, секретарь райкома. Ваше дело — большое дело. Кто спорит? А только у него еще другие дела есть. Много дел. Тоже большие. И потом… — Что-то похожее на сдержанную усмешку мелькнуло в глазах Сонама. — Вы у нас нови работник, Валериа Александрова, а путь через тайга не легки путь. Товарищ Силин — деликатни человек. Он, может быть, просто не желал бы вас обижать. Вы так не думаете? Я так думаю. Скажите мне правду, Валериа Александрова, вы хоть раз в жизни садились на коня?
— Нет. Но я хорошо плаваю.
Он не позволил себе улыбнуться, а серьезно и сдержанно кивнул головой.
— О да!.. Вы смелый человек, я вижу. Но тайга не море. Подумайте сперва. Хорошо подумайте. Четверо суток в один конец, четверо суток — в другой. Крепки мужчина, хороши наездник, и тот устанет.
— Товарищ Сонам, а как же девушки — фельдшера, врачи, геологи?! Разве я первая?
— Нет. Не первая, Валериа Александрова.
— Я доеду. Будьте спокойны.
Он слегка откинул голову и посмотрел на нее вопросительно, как будто проверяя, можно ли ему быть спокойным за нее. Проверил, решил: «Да, можно» — и коротким движением протянул ей руку.
— Хорошо. Я спокойни! Доброй дороги, Валериа Александрова.
— Спасибо, товарищ Сонам.
— За что же?.. Вам спасибо… И радиотехника заодно пошлем… Сафьянов. Руски. Пусть радио установит. Большая польза будет. И вам с ним хорошо ехать. Он тайга лучше меня знает. Не пропадете, Валериа Александрова. Ему нашего коня дадим, исполкомовского, а вам пускай Монгульби даст: это его пастухи оленей гоняют, им книги везете… Ну, а в колхоз «Седьмое ноября», к Монгульби, мы вас на телеге забросим. Согласны?
— А кого вы дадите мне в переводчики?
— Постараюсь хороши переводчик найти. Есть такой один. Учитель. Дирэктор интэрнат. Развитой человек. Приходите сюда часов в семь. Он бывает по вечерам в гостях у матери. Она здесь живет, на окраине Тора-хем. Попробуем его застать и уговорить. Все?
— Все. Почему я сразу к вам не пришла?! — сказала она с таким выражением благодарности, что он понял: тут уже можно улыбнуться.
И улыбнулся.
6
Под звездами, в полутьме, на окраине Тора-хема стоит чум.
К чуму, гарцуя, но не по-кавалерийски, а по-тувински, — то есть не подскакивая, а плавно раскачиваясь в седле, будто слит с лошадью, будто родился на ней и у них общий ритм, к которому не надобно прилаживаться, — небрежно откинувшись назад, держа в левой руке поводья, едва касаясь стремян кончиками коричневых, ярко начищенных ботинок, подъезжает всадник.
Даже в полутьме видно, что на нем выутюженный хороший коричневый костюм и что он щеголь… И видно, что он молод. И красив. Откинув назад голову и выставив вперед плечо, он быстро прочесывает пятерней волосы (этакая гроза торахемских девушек!) и смеется чему-то — ничему, просто так. Он смеется, и сияют в темноте его яркие зубы.
Легкость, с которой он соскакивает с лошади и привязывает к дереву поводья, поразит хоть кого.
— Кто это?
— Тот самый учитель. Я вам говорил…
Сонам и Лера стоят за чумом, под деревом. Сонам курит.
— Учитель?! А сколько же ему лет? Семнадцать — восемнадцать?!
— Зачем восемнадцать? Все двадцать будет, — лукаво отвечает Сонам.
Лера уже успела узнать у девушек во время обеда, что учителя, директора интерната и школы, зовут Чонак. Его фамилия Бегзи. В семье пять братьев Бегзи. Он младший. Русские товарищи в школе прозвали его «Бегзичонок», сокращенно — Чонак… Чонак и Чонак. Может, так теперь и записано у него в паспорте?..
Чонак — единственный из пятерых братьев, который живет в Тодже. Он живет в Тора-хеме на главной улице, в большом доме при школе, и вот приехал на окраину, в чум, навестить мать.
Мать не уважает домов. Говорит, что в доме душно. Дышать нечем. Но какой такой особенно свежий воздух может быть в чуме, где постоянно горит костер и дым тянется к отверстию в потолке? Да ей вовсе и не воздух нужен, а другое, вот это — чтобы небо было над головой. И чтобы был огонь. Одним словом, чтобы был чум.
Сонам не окликает Чонака. Он спокойно докуривает трубку, прячет ее в карман и только тогда откидывает шкуру, которой завешен вход в чум. Пригнувшись, он переступает через порог.
— Эке-и, — говорит Сонам.
— Здравствуйте, — говорит Лера.
— Привет, — несколько удивившись, но спокойно и вежливо улыбаясь, говорит учитель.
Сели.
Из земли, там, где она не была прикрыта шкурами, выбивалась травка, уже истоптанная в течение многих дней ногами человека, желтая, но кое-где — должно быть, из упрямства — зеленая. По истоптанной траве перебегали красные отблески огня.
Храня невозмутимое выражение, старуха глядела на огонь. В ее глазах светились две красные точки.
Потом она набила трубку. Лера зажгла спичку и дала старухе прикурить. Старуха молча кивнула головой.
Присев на шкуру и поджав под себя ноги, Сонам о чем-то быстро заговорил по-тувински с учителем. Его рука, как будто рассекая воздух, то поднималась, то опускалась в такт словам.
…Лера была в Туве всего лишь два месяца. Каждый день она педантично занималась тувинской грамматикой и при помощи словаря пыталась читать тувинские книжки. В столовой она всегда подсаживалась к столу, где сидели тувинцы.
Постепенно из пустыни незнакомой ей речи изредка стали выступать маленькие бедные оазисы — отдельные понятные ей слова.
Но далеко еще было до того, почти всегда мгновенного озарения, которое приходит к человеку в награду за долгий труд: отдельные слова еще не сливались для нее в живую речь.
«Ах, если б они говорили немного помедленней, — с досадой думала Лера, напряженно вслушиваясь в разговор секретаря и учителя, — я бы, может, кое-что и поняла».
Но Чонак и Сонам говорили с той быстротой и легкостью, с какой говорят все люди на родном языке, и теми словами, которые им были нужны, а не примерами с пятнадцатой или тридцатой страницы учебника тувинского языка.
— Видите ли, — совсем неожиданно, как показалось Лере, не к Сонаму, а к ней обратился учитель на чистейшем русском языке, — видите ли, как-никак лето… Погода! Рыбалка… У меня отпуск, а был ремонт школы… (И он опять улыбнулся и опять одарил Леру белым блеском своих сплошных зубов.) Я, понимаете ли, хотел съездить в Кызыл. То, се… Парк… Танцы. (Он лукаво сощурился, словно бы, уделив внимание и ей, не обошел, намекнул на то, что не исключена возможность, пожалуй, и вместе потанцевать когда-нибудь. А?.. Что?!..) Парк. Танцы… Я не старик… (Ах, как он был доволен, что не старик!) Я, по правде сказать, уже сижу на чемоданах. (Лера невольно взглянула на шкуру, на которой он сидел.) Завтра как раз и собирался лететь. Честное слово, если погода будет летная…
— Летите! — коротко ответила Лера. — Скатертью дорожка. Летите.
Этого Чонак не ожидал. Он удивился. Удивился и даже обиделся.
— Она, кажется, что-то сказала? — высокомерно спросил он Сонама, как будто Лера была глухая.
— Да, да, сказала, сказала! — потеряв сразу всякую сдержанность, крикнула Лера. — Сказала: «Езжайте!» И вы, товарищ Сонам, пожалуйста, не уговаривайте его, не унижайтесь и не ломайте перед ним шапку. Пусть себе едет в Кызыл. Пусть танцует. А еще комсомолец называется. Учитель! Сам должен был вызваться! Сам должен понимать. А он… Да ну его! Пусть едет! Идемте отсюда, товарищ Сонам.
— Как она смеет! — подняв брови и густо порозовев, сказал учитель. — Какое она имеет полномочие! Да мы своими руками интернат ремонтировали… Мы…
Было похоже, что они сейчас подерутся. И, может быть, подрались бы, если бы между ними не сидел Сонам. Они уже легонько толкали Сонама с обеих сторон.
Наконец он не выдержал и сказал чуть насмешливо:
— Довольно. Кончили спорить. Пора чай пить. Угощай, хозяин! Или не хочешь чаю давать?
И стало тихо. Только и слышно было, как булькает чай, когда его наливают в пиалы. Учитель сидел справа от Сонама, Лера — слева. Оба тяжело дышали и глядели в землю.
— А ехать когда? — отдышавшись, спросил учитель.
— Послезавтра! — коротко ответила Лера.
И тут Сонам рассмеялся.
— Славные у нас ребята, а? Не надо, правда, так сразу сердиться, Валериа Александрова.
7
Ну вот — ночь пройдет быстро. Хорошо бы не проспать, хорошо бы не забыть сунуть в рюкзак зубной порошок и мыльницу, хорошо бы не забыть пойти на почту и хорошо бы дописать письмо бабушке. Нет!.. Не надо дописывать того письма. Надо написать новое. (Лера сделала узелок в углу носового платка: «Написать и отправить письмо бабушке».)
И хорошо бы еще успеть до отъезда пойти на речку искупаться. Как следует потереть мочалкой и мылом шею и уши. Хорошо бы встать бодрой, соскочить с кровати и делать, не задумываясь, все мелкие дела. Одно за другим, одно за другим, пока всего не переделаешь. А задумываться нечего. Да и не о чем, по правде говоря. Надо дело делать, а не задумываться.
Вон там, за печкой, уже лежит большая связка книг: Булчак, «Северное оленеводство» (выписано по межбиблиотечному из Ленинки), «Памятка засольщика рыбы в вопросах и ответах», «Картофель» — под общей редакцией Янова (затребованы из Кызылской центральной библиотеки имени Пушкина)…
Как скупо ни отбирала Лера книги для передвижки, их все-таки оказалось семьдесят штук.
Пакет был тщательно обвязан веревкой и ремнями.
А что, если в пути пойдет дождь?.. И она аккуратно обернула книги своим привезенным из Москвы голубым плащом.
Тут же, за печкой, лежал заботливо собранный накануне Валей и Розой походный мешок Леры.
В мешке был запас крупы, теплая фуфайка, четыре буханки хлеба и отдельно доха, которую дала ей старуха Сапрыкина, мать Лиды Сапрыкиной — третьего секретаря райкома комсомола. «Холодно в тайге. Спать на земле придется. Бери, девка, спасибо скажешь!..»
…Леру начали провожать с вечера. Провожали торжественно и почему-то в полном молчании.
Пришла Лидочка Сапрыкина. Оправив синее полотняное, вышитое ромашками платье, присела на крыльцо.
Пришла жена доктора Розенкранца, большая, белая, полная, видимо смущенная своей полнотой и ростом. Пришла и тоже села на ступеньках, безразлично жуя травинку.
Пришел электротехник Ванечка, которого вызвали в Тора-хем из колхоза «Седьмое ноября», чтобы вести электрическую сеть. Он присел сбоку, на чурбаке для колки дров, и все чего-то похохатывал низким, мягким смешком. То ли от застенчивости, то ли думал, что в гостях надо непременно веселиться.
Уже едва видны были с крыльца зады Тора-хема — волейбольная площадка, крыша больницы…
Вышел из соседней двери узбек-бухгалтер, заулыбался добрыми скулами и тоже сел на крыльцо поглядеть, как гаснет день и опрокидывается на землю небо, темнея и превращаясь в нескончаемую дорогу для бегущих по кругу звезд.
…Сидели, молчали, думали, посмеивались неромко.
Потом, когда совсем стемнело, Лера сказала:
— Ребята, одну минуточку, я сейчас, — спустились с крыльца и вышла на пыльную, белеющую в темноте дорогу.
Оглянувшись, она побежала в сторону почты.
Из раскрытой двери почты рвался навстречу ей ломкий молодой голос дежурного телеграфиста. Он пел: «То был нэ-э-э звук, но глас страстэй, то го-о-овор был с душой моей…»
— Извините, пожалуйста, нет ли мне телеграммы до востребования?
— Нэту… «И ропот дэ-э-эвственной души… И ропот дэ-э-эвственной души…»
— Телеграммы до востребования. Соколовой Валерии Александровне.
— Нэту, гражданка… «Тэрзаемой любви тоской…»
— Если в мое отсутствие прибудет телеграмма, вы ее не отравляйте обратно, пожалуйста. Я отбываю в оленеводческую. Возвращусь недели через две.
— Ага… Напишитэ заявление. «Тэрзаемой любви тоской… Тэрзаемой любви тоской…»
— Ребятки, — вернувшись к своему крыльцу и сдерживая шумное от бега дыхание, бодро сказала Лера, — вы ведь, наверно, подзакусить не прочь? А у меня как раз крутые яйца есть. Мне Лидина мама в дорогу дала.
— Я так, например, не особенно люблю закусывать, — ответил техник Ваня. Но когда она вынесла тарелку с яйцами и хлеб, первый взял с тарелки яйцо и стал чистить, задумчиво соря скорлупой в траву около крыльца. Тут вышла финансист Валя и крикнула:
— Эй, баре, вы сорить, а нам прибирать! Как будто нельзя поаккуратней — в бумажку!
А небо темнело, темнело. И вот в его голубую, еще не набравшую силу тьму выплыла белая, со срезанным боком луна.
Не проспать бы!
Но Лера проспала.
Их всех троих — ее, Валю и Розу — разбудил Сафьянов, тот самый техник-старик, который должен был установить в оленеводческой бригаде радио и которому поручили Леру Силин и Сонам.
Он постучал в стекло и, пожевав от злости беззубым ртом, сообщил, что Саганбай — председатель исполкома — не дал для Леры седла. Нет седла и не будет. Как хотите, так и езжайте. Без седла.
Три головы приподнялись с подушек при этом известии. Сквозь занавеску, усыпанное мушками тюля, виднелось лицо Сафьянова — злое, бурое, со сжатым ртом.
Первая опомнилась Валя.
— Ничего, детка, — успокоительно сказала она Лере. — Главное, не расстраивайся. Береги здоровье. Монгульби даст. Найдут седло. Ведь дорога-то все равно через колхоз «Седьмое ноября»… До колхоза на телеге доедешь. А там уж если лошадь дадут, так дадут и седло. Не может же человек без седла, на самом-то деле… А все бюрократизм, черствость. Хотят, чтоб из дому люди со своими седлами ездили. Срам, и больше ничего.
Вскочив с кроватей, босые, они втроем выбежали на теплое от солнца крыльцо. Постояли, подумали, поморгали, выволокли из кухни мешок с вещами, потом книги, потом доху…
Сафьянов молча курил во дворе. Рядом с ним сидела его собака Джульбарс.
— Давайте завяжем хлеб в косынку, девочки! — сказала Валя скороговоркой. И они стали торопливо завязывать хлеб в Розину косынку.
Тем временем подъехала телега.
На телеге, спустив ноги, сидел возница Монгуш.
По-русски Монгуш ни слова не говорил. Увидев Леру, мешок, буханки, книги, босых, заспанных Розу и Валю, старик широко и добро улыбнулся, но здороваться, однако, не стал.
— Лера, валяй… Счастливо, Лера! В общем, счастливо!..
— Ладно. Спасибо, девочки. Пока!
Телега тронулась.
Подпрыгнули мешок и книги, которые Лера держала за веревочку.
Поднялась пыль. Встала облаком сухая земля.
«Бабушка! Дорогая моя!
Пишу тебе из командировки, можно сказать — с дороги. Я в колхозе «Седьмое ноября» и сегодня же двинусь дальше. Это не значит, родная, что я буду писать торопливо и коротко. Нет, я все постараюсь рассказать самым подробным образом. Ведь ты обо мне давно ничего не знаешь, даже не представляешь себе, где я. А через три часа мы уже, наверно, будем далеко, в тайге, по дороге к оленеводческой бригаде.
Я еду к пастухам-оленеводам не одна. Мне выделили специального сопровождающего. Его фамилия Сафьянов. Он русский, но здешний. Родился в Тодже и знает здесь буквально каждую травинку. Не думай, что это я так — для красного словца. Он действительно знает все породы деревьев, знает, как называется какая трава, какая от ревматизма, какая от желудка, какая от глаз; помнит каждую тропку и знаком со всеми людьми в Тодже.
Между прочим, он думает и говорит, что знает тувинский язык, но тувинцы говорят и думают, что он не знает. Боюсь, что правда на их стороне.
Сафьянов довольно-таки сердитый тип. Любит поворчать. Но это ничего. У него пятеро взрослых детей, и меня ему поручили райком партии и райком комсомола. Так что ты за меня не беспокойся. Все будет в порядке.
Накануне утром, перед отъездом, я пришла к Сафьянову домой. Дом у него красивый, просторный, с резными русскими наличниками и стоит на берегу реки Тора-хем. А старуха — запуганная. Еще бы! Лет сорок прожила с таким угрюмым стариком! Я стала расспрашивать Сафьянова, что мне взять с собой в дорогу. Он сказал: «Умный человек, ежели не вовсе бестолковый, сам должен соображать. А то что это за дурь такая — все спрашивать да спрашивать!..»
Я решила доказать ему, что хоть и бестолкова, но не совсем, и дала себе торжественную клятву: сгину, сквозь землю провалюсь, а ни о чем его больше не спрошу.
Второй мой попутчик — человек замечательный. Его зовут Чонак Бегзи. Он кончил в Кызыле педагогическое училище и в будущем году хочет ехать учиться в Москву, в институт. Бегзи будет моим переводчиком у оленеводов. Мы с ним вместе отбирали книги, и он сказал: «А ты делаешь большое дело, Лери. Везешь в тайгу самое горячее сердце на земле: книгу. Сама подумай, куда она с нами дойдет. Ух, далеко!» Чонак Бегзи еще вчера выехал вперед вместе с другими нашими попутчиками-тувинцами. Они нас ждут на полевом стане. Тувинцы очень любят ночевать в поле или в тайге: старые кочевые привычки, я думаю.
Остальные двое товарищей, которые едут вместе с нами, — оленеводы. Каждые две недели из тайги, с оленеводческого стана, командируется кто-нибудь в колхоз за продуктами и почтой. И вот теперь они возвращаются назад.
Один из них — Самбу — ветфельдшер, коммунист, парторг оленеводов. Он приезжал сюда со стариком Таджи-Сереном. Таджи-Серен — пастух, он считается одним из лучших специалистов по оленеводству. (Мне рассказали это девушки, у которых я остановилась. Они все знают.)
Последний наш попутчик — мальчик, школьник Тэрэк. Он едет к отцу и матери на каникулы.
В колхозе «Седьмое ноября» я уже второй раз. (Первый раз приезжала сюда инструктировать библиотекаршу.) Это охотничье-промысловый колхоз. Правда, теперь уже не только охотничий — он и скотоводческий и даже полеводческий.
Но все-таки главное дело тоджинского тувинца — это охота.
В Тодже нет человека, который не был бы охотником. Тут и женщины (все без исключения) охотницы. Даже старухи. И здешняя библиотекарша, Капитолина Монгульби, тоже лучше бьет белок, чем ведет регистрацию читателей.
В здешнем колхозе — четыре женские охотничьи бригады.
Одна бригадирша, Оюн, — коммунистка, другая, Аскалай, — комсомолка. Ей всего девятнадцать лет, но она считается лучшей тоджинской охотницей. Кстати, в прошлое воскресенье в городе Тора-хеме были гонки на лошадях. Она пришла первая и получила приз. Одевается она очень нарядно — в пестрые шелковые платья, а на руках носит запястья. На другой это, может быть, было бы немножко смешно. А на ней это только красиво. Есть такие люди, которым все можно. Аскалай — активистка, инициатор соревнования. Она работала по ликвидации неграмотности и помогла организовать в колхозе ясли. Лицо у нее такое, что глаз не оторвать. А говорит она мало. Улыбается и отвечает: «Нэ панымай». Но на самом деле она все понимает. Странная она, обаятельная — нет, правда! — но какая-то лукавая.
Когда Роза, торахемская библиотекарша, однажды при ней села на коня и взяла поводья в правую руку (а полагается в левую), Аскалай ей не сказала ни слова. Но потом, когда Роза отъехала, видела бы ты, как Аскалай хохотала и пожимала плечами. И как это все сочетается в одном человеке?.. Я всегда думала, что если кто-нибудь хорошо работает и хороший общественник, стало быть, он (или она) вообще вполне хороший человек… Значит, в жизни это не всегда бывает так?..
Кстати, в Аскалай влюблены все местные ребята — и фельдшер Коля из колхоза «Седьмое ноября» и радист из экспедиции. А она только посмеивается над ними.
Между прочим, мне пришла в голову глупая мысль, только ты не смейся, пожалуйста! Как жаль, что любовь нельзя разделить между людьми поровну, так, чтобы в каждого человека был влюблен непременно какой-нибудь другой человек.
Иногда мне кажется, бабушка, что если бы соединить все ненужные на свете любви, то от этой силищи заработало бы множество электростанций. А сколько выстроилось бы домов, а какие бы, наверно, маяки сами собой поднялись со дна моря!
У человека, который любит, словно какой-то особый ключ появляется от всего на свете, даже от камней, трав, гор и деревьев. Он может весь мир открыть этим ключом. Все, кроме сердца другого человека.
Но вообще-то есть, должно быть, такие люди, которые ничего этого не знают: деловые, энергичные, толковые.
Они догадываются, что на самом деле любовью не соберешь из деталей трактора, не проложишь железнодорожного полотна, не приготовишь из нее лекарства.
Вот и я, наверно, как раз такой человек, потому что даже в книгах стала пропускать все про любовь. Скоро я, как мальчики, буду читать одни путешествия и приключения. Честное слово!
И вообще имей в виду, что любовь, по Павлову, — это работа первой, а не второй сигнальной системы. Понимаешь? Ну, это там, где сны, образы и все такое. А у меня, я уже давно замечаю, работает преимущественно вторая сигнальная система: за последнее время я даже ни одного сна порядочного не видела.
Сейчас, должно быть, около половины шестого. До свидания, родная. Я тороплюсь. Заклею письмо, опущу его в почтовый ящик и пойду к председателю. Может быть, он уже встал.
Будь здорова. Береги себя. А за меня не беспокойся. Мы едем — значит, все хорошо. Мне отлично, потому что я добилась!.
Теперь писать не смогу долго. Но ты не беспокойся. Привет всем знакомым. Крепко целую тебя.
Твоя Лера»
8
Вот и почтовый ящик. Он висит на двери колхозной конторы, под большим новым замком.
Рань, и улицы пустынны.
Заложив руки за спину, Лера задумчиво шагает по спящим улицам.
Пахнет смолистым свежим деревом, стружкой. Это строятся новые улицы.
Белокурые завитки стружки валяются на дороге. Прямо на бревнах лежат неприбранные топоры и пилы.
А дома необитаемы — добрая половина домов. Окна еще не застеклены, крылечки недоделаны. И отовсюду тянет лесом и смолой.
Между домами — лес. И за домами — лес. А улицы, точно стрелы, — схватились бежать прямиком и бегут по плану, на радость председателю колхоза Монгульби Василию Адамовичу.
На краю колхоза еще стоят несколько чумов. Они кажутся темными в прозрачной, чистейшей, пронизанной светом синеве.
Чумы спят. Спят дома. Не орут петухи. Тут как будто и нет петухов. Да нет же — есть петух! Один-единственный, у Монгульби Капитолины — председателевой жены.
Повелитель кур важно шагает возле дома. Выпятил грудь колесом — гордеет. Бьет ногой землю. Желтой, крепкой, голенастой ногой. А на ноге — шпора, а на голове — корона, алый гребень. Гребешок драный, небось порвали собаки… Но куры — ничего. Довольны. Ходят и клохчут. Все в порядке. Петух — при них, они — при петухе. Вот он сейчас им найдет червяка, и ногой дрыгнет, и шпорой звякнет, и короной тряхнет. Я — петух!
Перед Лерой большой спящий колхоз: клуб, школа, легкое деревянное здание электростанции, мост, речка Ий.
Речка Ий тихо бежит по одну сторону моста, желтая, как слабо заваренный чай, и вдруг — бух! — рушится вниз пеной, бурным потоком, белым сплошным водопадом. А там, внизу, — камни.
Вода мечется меж камней, клубится, шумит: «А я вода, вода, вода…»
Вокруг каждого камня, большого и малого, стоят водовороты — сто кружений, миллион брызг.
По эту сторону речки Ий лежат огороды: гряды первого картофеля, посаженного тоджинскими тувинцами. Огороды старательно окружены частоколом, чтобы не изрыла пятаком свинья, чтобы не поклевала курица, чтобы не вытоптала лошадь первые драгоценные картофельные ростки.
На этом берегу — огороды, а на том берегу — Саяны. Ох и большие! И нет им конца, и нет им края. Они поднимаются друг над другом — невозмутимые, старые-старые, поросшие почти до самого верха лесами, а дальше — голые, синие, будто врастающие каменными вершинами в небо, одна гора за другой, одна над другой.
Колхоз стоит во вмятине меж лесом и горами. К западу, за его последней улицей, тянутся луга и поля.
Тут пасутся лошади — целые табуны лошадей со спутанными передними ногами. Всякие лошади: и большие, дородные — русские, и маленькие — тувинские, с короткими, толстыми, волосатыми ножками.
Тут растет хлеб, уже третий год растет хлеб! Поле маленькое — словно не поле, а огород — и так же, как грядки с картофелем, огорожено частоколом.
А за частоколом, за табунами пасущихся коней — необозримость лесов, и еще лесов, и еще лесов, без конца и краю. Идут леса по ступеням гор и словно говорят: хочу — шагну одним-единственным деревом; хочу — шагну двумя; хочу — целой тройкой деревьев, а захочу — как зашагаю бесчисленными деревьями, множеством деревьев, непролазной гущиной, дремучей чащобой, дерево за деревом, чтобы толпились, сплетались, налегали друг на друга, чтобы тянулись ввысь, протискивая верхушки к солнцу, безмятежные, но полные страстной заботы о жизни, — старые, большие деревья и частый молодой подлесок. Я — лес, я — тайга!
Шестой час.
Открывается дверь председателева дома. Оттуда, заспанная, выходит старшая председателева дочка — Райка, ученица пятого класса. Посмотрела на солнышко, чихнула и давай дергать пестик рукомойника, плескать водой в лицо. А ушей не моет, чертовка, и шею тоже не моет.
Из-за двери слышится топот босых ног: это встали ребята — есть небось захотели. А то ночью человек все спит да спит, только время понапрасну теряет. А есть когда? А гулять когда? А удить когда? А орать когда? А шлепать по полу босыми ногами? А стучать пестиком рукомойника?
Как живет новый жеребец? Тот, что с Кубани привезли. Гладкий, блестящий, как солнце. Стоит на председателевом дворе в специально построенной конюшне и дрожит всеми жилками под тонкой кожей, под сверкающей шерсткой. Для него построили наскоро навес посредине двора. Все потому, что он дорогой, кубанский.
Проснулись первые мухи. Пошли жужжать. Здоровенные, и крылья большие.
Жеребец мух не любит. Машет хвостом — мух отгоняет.
А на лбу у жеребца челка. Вот бы потрогать! Челка спускается на большие, только что проснувшиеся глаза.
Все спать да спать!.. А когда постоишь у конюшни, а?.. А когда на хвост на лошадиный посмотришь, а?..
Спит только ленивый! Пусть отец спит.
Лера тихонько толкает дверь председателева дома.
На спинке большой никелированной кровати висит Райкино платьице (она выбежала на улицу в сарафане); висят парадные штаны Светозара. Одна лямочка от штанов легла на пол, и видна сломанная пуговица.
Окна в комнате завешены простынями, чтобы ранний свет не мешал спать, но он все-таки проходит в щель между простыней и фрамугой. Длинный его палец щекочет пуговку на Светозаровых штанах.
Монгульби Василий Адамович спит на кровати под розовым шелковым одеялом, купленным позавчера в кооперации, на крыше которой развевается красный флаг (не поскупился, отпустил-таки для флага специальное ассигнование, потому что кооперация — дело передовое).
На подушке две головы: светлая — Капина, с русой косой, и темная — Монгульби, с жесткими, негнущимися волосами, как будто выструганными из сплошного куска дерева.
Лера знает: свою русскую жену Монгульби называет «жинко». Не «Капа», а «жинко».
Впрочем, это, наверно, только на людях. А для себя и для нее он, должно быть, знает другие слова…
Какие?..
Под новым стеганым одеялом жарко. Большая белая нога Капитолины свесилась вниз чуть ли не до пола.
Кружится залетевшая в дверь муха и бьется о стены. Из всех щелей тянет дремой и духотой прошедшей ночи. Тут только что сладко посапывали во сне дети, кричала: «Мама, ой мамка» — младшенькая Монгульби, Надя.
Тепло сна бежит в распахнутую дверь, в день, в его простор. А день, врываясь в спящую комнату, говорит о полях, о конторе, о стройке — о тысяче и тысяче вещей, которые и есть день с его деловыми заботами…
Лера стоит на пороге чужой спящей комнаты не больше одной секунды и сразу виновато отступает назад. Она тихонько садится на крыльцо.
Шесть часов. Время не ждет. Где взять лошадь и седло? Что ей делать?
А ничего. Время покажет, что делать.
Склонив набок голову, подперев щеку ладонью, Лера, вздыхая, думает о Монгульби.
…Монгульби… Монгульби… Василий Адамович.
Она впервые увидела Монгульби в конторе колхоза двенадцать дней назад.
Сидел за своим столом нестарый красивый человек в кепке. Она вошла и стала объяснять, зачем приехала. Он слушал и молчал. Непонятно было, как он относится к обследованию колхозной библиотеки — хорошо или плохо? — и что он об этом думает. Может, рад: «Вот и о нас вспомнили!» А может, бранится про себя: «Провались ты пропадом вместе со своей библиотекой!»
И вдруг скрипнула дверь, и в контору, как завсегдатай, вбежал младший сын Монгульби — Светозар (в штанах с лямками). Он вскарабкался на отцовское кресло и, сцепив руки, обнял сзади шею Монгульби, крепко надавливая руками на горло, на движущийся кадык (Так делают только дети — они еще не научились помнить, что дышат на свете не они одни.) Светозар от любви и от нечего делать все сильнее надавливал на отцовский кадык, потом лениво прижался щекой к отцовскому затылку, затянул: «Па-а-ап, а па-ап!..» — и, наморщив лоб, стал тереться носом об этот стриженый гладкий затылок.
Монгульби вел себя так, словно Светозара тут и не было. Молча, не дрогнув бровью, сносил удушье. Он был занят делом. Его странно неподвижное лицо по-прежнему ничего не выражало, ответы были короткие — каждое слово на вес золота…
Библиотекаршей в колхозе «Седьмое ноября» была Капитолина Монгульби.
После Лериного отъезда из колхоза в Тора-хем Монгульби Василий Адамович, председатель колхоза, заказал для Монгульби Капитолины, библиотекаря, четыре книжных шкафа, оторвал для этого плотника, снял его со строительства. Библиотека — дело передовое! Недооценивать нельзя!
Тогда Лера прожила в колхозе всего два дня. Ночевала в клубе, обедала у Монгульби. Он был гостеприимен, щедр на угощение и скуп на слово. Даже дома. Сидел за столом молчаливый, в неизменной своей кепке. Такой уж человек — без разговоров.
Жену он, как видно, любил страстно. Ничего для нее не жалел. Но и с ней разговаривал мало и редко. «Слова не вырвешь. Нет. Не вырвешь лишнего слова, — жаловалась она. — Не выдерешь когтями, не вымолишь слезами. Молчит — да и все…»
Он взял ее с тремя детьми. Первый муж, русский, лоцман, ее бросил. Она была работницей — сплавляла лес по Енисею.
Взял с тремя ребятами, дал детям свое имя и старших, русских, любил не меньше, чем младших, своих.
Дети были его: Монгульби. Все. И этот Светозар, который тогда сжимал ему кадык.
Он прошел вместе с ней, рядом с ней, от того времени, когда, демобилизованный, возвратился с войны — в отслужившей свой срок шинеленке, — до того времени, когда стал председателем самого большого в Тодже колхоза. Вместе с ней, рядом с ней, днем и вот — ночью… Всюду. На собраниях, если это не были закрытые партийные собрания, на вечерах, в клубе и в кино… Сидел подле, и его красивое лицо ничего не выражало. На красивой, темной, без проседи голове была кепка.
Его знала Тува. Он был одним из самых талантливых молодых руководителей, властный, сильный и очень сдержанный, — истинный сын своего народа.
Когда десять дней тому назад (Лера как раз была в Тора-хеме) Монгульби вручили красное, шитое золотом знамя, как председателю колхоза-передовика, он подошел к столу президиума, стал на колено и, приподняв плотную ткань знамени, поднес ее к губам.
«А растерялся-таки, — говорила потом о муже Капитолина. — Здорово потерялся!»
Он нес знамя, возвращаясь к ней, и оно колыхалось над головой в кепке. Нес, а лицо у него было розовое, и глаза опускались. И вот оно стоит, это знамя, в конторе колхоза, еще пахнущей свежим тесом.
«А эту он любит больше всех!» — говорила Капитолина о Райке, старшей дочери. Но постороннему было непонятно, кого он любит, а кого нет. Одна Капитолина это знала.
Если Монгульби улыбался, — а это случалось редко, — то лицо его становилось неслыханно насмешливым, презрительным, почти высокомерным. Работал он четко и чисто. В пререкания и споры с людьми никогда не вступал, а если вступал, то молча — не словом, а делом. И всегда оставался победителем.
Он узнавал мгновенно, угадывал сразу, не поднимая лишний раз взгляда, истинную цену человека, его деловых качеств. Знал, как и сколько следует уделить человеку внимания.
Знал и молча, терпеливо, невозмутимо делал свое дело.
И колхоз цвел. Здесь были не только лучшие охотничьи бригады. Тут появилась первая в Тодже электростанция. Тут первый раз в Тодже засиял электрическим свет, осветил лиственницы и зашагал, зашагал к тайге странный, невиданный, неслыханный, рожденный рекой.
Он зажегся в первый раз во время партийного собрания, в девять часов вечера.
Прибежал с электростанции техник Ваня, чуть не плача, задыхаясь от счастливого волнения, с криком: «Горит!..»
Люди целовались. А свет горел. И Монгульби в своей кепке подошел к окну, посмотрел на освещенную электричеством улицу. Свет сиял — желто-белый, маслянистый, яркий. Сиял, глуша луну.
…И эта сила, это мужество, это скрытое честолюбие, эта властность — все это было тут, рядом с Капой, и принадлежало ей, неотъемлемо и прочно, как ее собственное дыхание!
Рука, когда-то державшая винтовку, рука, приподнявшая край знамени, эта рука — это воплощение силы — лежала сонно и доверчиво на розовом одеяле.
Кажется, это и есть счастье?..
Значит, оно бывает?
Бывает, бывает…
— Василий Адамович!
Он стоял на пороге с полотенцем через плечо, босой, в рубашке и галифе.
— Товарищ Монгульби!
Он едва обернулся в ее сторону. Ну что ж… Нельзя же, на самом деле, не дать человеку позавтракать и умыть лицо…
Лера не торопила его. Нет, нет, нисколько! Сидела тихонько, поджав ноги, и ждала. Пусть умоется, позавтракает. Пусть!..
— Да что вы там в уголке притулились, Валера? — сказала Капитолина Монгульби. — Присели бы к столу, подзаправились на дорожку.
«Еще есть! А ехать когда же?»
— Что вы, Капа! Я же плотно позавтракала…
В конце улицы появился Сафьянов на белом коне. За ним бежала его собака Джульбарс. Остановился Сафьянов, остановился Джульбарс. Стоял, помахивая хвостом, заглядывая снизу в лицо хозяина. Собачьи желтые глаза выражали любовь: «Ей-ей, распластаюсь. Ей-ей, помру!»
— Провались ты пропадом, окаянный! — коротко предложил Сафьянов.
И Джульбарс попробовал провалиться: прильнул брюхом к земле, страстно и нежно вытянув вперед морду.
Монгульби вышел из дому.
За ним, не теряя достоинства, крупным шагом зашагал к конторе Сафьянов. За Сафьяновым побежал Джульбарс.
Привели лошадь для Леры. Ее вел мальчишка-тувинец. Шмыгнул носом, вздохнул и привязал лошадь к изгороди.
Лошадь стояла у изгороди, печально глядя вдаль из-под спускающихся на глаза седых косм. На боку у нее был выжжен четырехзначный номер.
«Милая ты моя, не коси так сердито глазом. Не спотыкайся. Не опрокидывайся. Не урони! Донеси! Дай сделать дело. Мне трудно. Мне страшно. Может быть, ты одна понимаешь?.. Не подведи», — вздыхая, думала Лера.
«Там видно будет», — отвечал лошадиный взгляд.
Прошел, задумавшись, от речки к медпункту фельдшер Аникеев Коля, взглянул мельком на Леру и пошел дальше, так и не увидев никого и ничего. Глаза у него большие, прозрачные, удивленные. А лоб белый, с едва заметным рисунком голубых вен — как у маленького ребенка. В руках — медицинские игрушечные весы.
Этими вот весами не прочь поиграть ребята — тувинцы, хакасы и русские. «Да разве он даст?.. Ка-ак цыкнет!.. Ого-го! Он страшный, он очень страшный, фельдшер Коля» — так думают ребята. И только они одни. А больше никто.
Прошагал и скрылся за изгородью страшный фельдшер Коля.
Где же, однако, Монгульби и Сафьянов?
А вот они. Идут.
— …в исполкомах сидят!.. — продолжал Сафьянов начатый по дороге разговор. — Нет того, чтобы тоже съездить, чтобы протрясти зады!
Монгульби, не отмечая, вынес из дому седло.
— Жинко, давай серебряная уздечка.
— Какая такая уздечка?
— Сама знаешь какая. Одна. Серебряная.
Сафьянов, жуя беззубым ртом, бурый и мрачный, стал хлопотливо седлать Лериного коня. Капитолина и дети следили за его возней, столпившись на пороге дома.
— Эх и домчалась бы я! — сказала Капитолина. — Эх и мигом!..
— Ой, ну перестаньте же, Капа, на самом-то деле, — ответила Лера. — Как же мигом, когда целых четыреста километров!..
— Ну и что?.. А правда ваша… Была такая в прошлом году Екатерина Семеновна. Из Ленинграда. Ученая. Упала с коня, все зубы повыбивала. «Веришь, говорит, Капа, — вот хочу лечь и хочу умереть, и делай, что хочешь. И если бы пешком, так я бы лучше, ей-ей, пешком». Ясно — городской человек. Не слыхали такую, Коровникову, Екатерину Семеновну?
— Нет, — ответила Лера. — А что с ней было дальше?
— Ясно, что дальше. Села на коня и поехала. Еле ее откачала… Тучная была женщина… Все книжки читала — дознавалась, почему «Ак», почему «Кол» — такие фамилии.
— Валерия Александровна, — строго сказал Сафьянов, — если ехать, так ехать, а если тары растабаривать, так тары растабаривать…
Лера, закусив губу, подошла к лошади.
— Доедете! — сказала Капа, и круглое лицо ее вдруг осветилось цыганским, лукавым и неожиданным сиянием золотого резца. — Доедете, час добрый.
— Час добрый, тетенька Лера! — звонко подхватила Райка.
А Светозар молчал, насупившись, глядел на Сафьянова из-под опущенного к земле лба.
— Справа к лошади подходить… Давай заходи справа, Валерия Александровна! — скомандовал Сафьянов.
Лера легонько оперлась ногой о стремя и села в седло. Рысью, тихим шагом побежали вперед лошади и собака Джульбарс.
— До свидания, Капитолина!
— Час добрый!
…Вот дома, деревья, электростанция. Вот на пороге конторы показался Монгульби. Вот на стремянках у нового дома стоят девушки-строители. Они машут Лере рукой. Уже слышны в прозрачной тишине утра первые дробные удары молотков.
— Нажмем, нажмем, Валерия Александровна, — сказал Сафьянов. — На стане люди ждут. С вечера ждут. Я обещался часу в четвертом приехать. Будь неладно это седло!
— А они нас дождутся, как вы думаете? — тихо спросила Лера.
— Надо быть, дождутся, — ответил Сафьянов. — А как же иначе? Бегзи задержит. Я его вчера вечером видел. Говорил: буду ждать.
…Вот дом, и еще один. А впереди — поля. И вот — последний дом.
Из дома выходит старуха хакаска. Идет к реке и поет.
Сын этой женщины был шофером и погиб два года назад на дороге из Кызыла в Абакан. Сорвался и полетел в пропасть.
С тех пор старуха всегда что-то напевает…
Она говорит о себе: «Люди думают — вот, наверно, хорошо живет старуха. Все поет. Веселая старуха».
Ее вечная песня начиналась словами:
Ты возвращался домой с песней, Я открывала тебе с благословением…И кончалась:
Как может такое горячее сердце, Горячее сердце, Горячее сердце Лежать в такой холодной земле?..Лере еще в прошлый приезд перевели эту песню.
…Ты возвращался домой с песней, Я открывала тебе с благословением.Старуха шла к реке, тихонько позвякивало ведро. Она, щурясь, смотрела в сторону солнца, в ту сторону, куда ехали Сафьянов и Лера.
Нескончаемы дороги Тувы, широки и необъятны Для глаза.
Впереди бежал Джульбарс. Легкий цокот копыт заглушал и заглушил наконец тонкий голос старухи:
…Как может такое горячее сердце, Такое горячее сердце Лежать в такой холодной земле?..Часть вторая
1
Попутчики-тувинцы едут быстро, куда быстрее Леры и Сафьянова. И мало того, что быстро, — они едут счастливые. Танцуют лошади, обходя поваленный ствол, легко проскальзывают в узкое пространство между деревьями; играючи, поднимется кверху рука человека — отклонит ветку, чтобы не хлестнула по лицу… А каково Лере и ее лошади?!
Им не особенно хорошо: у плохого наездника всякая лошадь плоха; самому лучшему коню приходится туго, если им управляет плохой седок.
Лере кажется, было бы легче пробираться в этой чаще пешком. Но как сойти с коня посреди леса? Она сейчас же заблудится; да и неужели пустить лошадь так, налегке?.. Кто же это разрешит, чтобы человек шел в такую даль рядом с лошадью на своих на двоих?
… Далековато, кажется, отъехали попутчики. Нет. Не особенно далеко. Лес густой, чаща непролазная — людей не видно, но отчетливо доносятся их голоса, Слышен то смех, то возглас — короткий и гулкий. А цоканья копыт не слышно: ведь земля в тайге мягкая, вся из мха, опавших хвойных иголок, вся влажная, в буграх и кочках. Только тут и там лезут из земли корни или поперек дороги лежит дерево, когда-то давно поваленное грозой. Лежит и гниет.
Не отставая от Леры, мрачно едет сзади исполнительный Сафьянов.
«И за что я умаяла тебя, дедушка? Пустяки делов — отмахать в сутки двенадцать часов верхами! Думаешь, я не вижу, какое у тебя отечное лицо и бурый, обгорелый лоб? Честное слово, мне жалко тебя! Да и себя немножко…
Милый дедушка, бурый дедушка, я бегала, хлопотала. Я просила и доказывала… И вот что получилось из моей беготни и хлопот: тягучая боль в коленках да жалость к тебе, старому, которого я выволокла из теплого твоего дома с резными наличниками на окнах!..»
Лера, вздыхая, поглядывает в сторону Сафьянова. Лошадь, почувствовав, что она ослабила поводья, сейчас же шмякает ее изо всех сил плечом о ствол лиственницы. Застонав, Лера вытаскивает ноги из стремян и чуть не падает с седла.
— Ой!.. Только не пугайтесь, Авксентий Христофорович! Порядок. Честное слово, порядок!
— Да какой же такой порядок, а? Вы кости ломать, а мне за вас в ответе быть?! Товарищ Сонам что сказал? Сказал: «Головой ответишь, Сафьянов!» Править, править надо, Валерия Александровна, неоднократное количество раз вам повторял, и сколько же говорить-то?! Эх ты, жизнь моя растреклятая!
— А я правлю.
— Правлю, правлю!.. Вдевайте-ка лучше ноги-то в стремена.
Пока усталый и раздраженный старик пререкается с бестолковой Лерой, попутчики-тувинцы успевают уйти далеко вперед. Уже не слышно больше их голосов, смеха, храпа их лошадей.
Тишина.
И тут Лерина лошадь вдруг останавливается посредине леса и начинает лениво жевать траву.
— Ну и конягу подсунул вам Монгульби, — с досадой говорит Сафьянов. — Под стать седоку, однако… Да что вы с ней церемонитесь-то, Валерия Александровна, отстанем, право!..
Лера дергает поводья, кричит «чук-чук», упирается изо всех сил стременами в лошадиное брюхо.
Но лошадь будто не слышит. Она долго паслась на лугу в колхозе «Седьмое ноября». Ей неохота подчиняться упрямой воле человека. Лошадь продолжает хрупать влажные стебли, лениво взмахивая хвостом.
Тогда, потеряв всякое терпение, Сафьянов принимается стегать ее.
— Ах, чтоб ты пропала… Чтоб ты подохла, чтоб…
И кажется, что в каждый взмах кнута он вкладывает не только ненависть к Лериному коню, но всю свою душу, распаленную гневом и усталостью.
— Пропади ты пропадом!.. Сгинь!..
Лошадь прислушивается. Она стоит, слегка отклонив набок голову, и вдруг, как будто наслушавшись вдоволь и не желая больше слушать, бежит. Нет, не бежит — несется вскачь. Вокруг — деревья, лес, кочки, бугры, ямы. Но лошадь ослепла — она не видит, не хочет разбирать дороги. Замирая от ужаса, вцепившись обеими руками в седло, бросив поводья, не смея понять, что же такое случилось, мчится Лера на пьяной от боли и страха лошади. Вперед, вперед, вперед!.. Свистят ветки. Хлещут по лицу листья. Бьет по ногам колючий кустарник и густая, высокая трава.
Вслед за Лерой скачет испуганный Сафьянов. Не слышны, но угадываются удары о землю тяжелых копыт его лошади.
Далеко позади остались всадники-тувинцы. Лере кричат что-то вслед, но что — не разобрать. Голоса людей сливаются со свистом ветра.
Наконец лошадь выносит ее на гладкий холмик, без леса и травы.
Внизу — обрыв. Лера хватает поводья, натягивает их. Но тут ее плащ, привязанный к седлу веревочкой, срывается и, скользнув по ногам лошади, сухо шурша, летит вниз, в пропасть. Лошадь, испугавшись, сейчас же поднимается на дыбы и — раз! — сбрасывает Леру на землю. Сбрасывает и останавливается, опустив голову, коротко и тупо взмахивая челкой. Чуть вздрагивают ее острые уши.
Лера крепко ушиблась спиной о камни. В голове гул. Ее правая нога застряла в стремени. Сколько Лера ни тянет ее, ей почему-то никак не вытащить ноги, только натруженное колено болит еще сильнее. Сейчас лошадь дернет и поволочит Леру по камням…
Сердце у Леры колотится до того сильно, что ее тошнит. Она не плачет. Она не в силах ни заплакать, ни шевельнуться, ни вздохнуть. Лежит на земле и смотрит в небо. Оно большое. Ясное. Без облачка и тучки. В общем, небо как небо, спокойное, ему нет дела до Леры и Лериной ноги.
Топот. Это за ней. Всадники. Впереди — Самбу, ветфельдшер из оленеводческой бригады.
Он соскальзывает с седла и быстро перехватывает поводья Лериной лошади. Стоит и разглядывает не мигая странную девушку, лежащую на земле с высоко задранной ногой.
Лицо у него не то чтобы растерянное, нет — настоящий тувинец не позволит себе растеряться или казаться растерянным. Но в глазах светится молчаливое недоумение. От этого раскосые глаза кажутся круглыми.
Человек, родившийся в тайге, проехавший в жизни на лошадях и оленях десятки и тысячи километров, решительно не может понять, почему сброшенная лошадью женщина не желает потрудиться и вытащить из стремени ногу… Но как бы ни была приезжая глупа, все-таки и она товарищ и попутчик. Здесь, среди этих необозримых просторов, где живет медведь и дикий кабан, не жаль и жизнью рискнуть для товарища и краюшкой хлеба с ним поделиться, и табачком, и спиртом, а не то чтобы подержать его лошадь за поводья или помочь подняться с земли.
Самбу наклоняется над Лерой и вытаскивает из стремени ее ногу.
— Жива?! — странным и страшным голосом кричит издали Сафьянов.
— Жива, жива… И даже ни чуточки не ушиблась… — еле слышно говорит Лера.
Сафьянов соскакивает с коня, наклоняется и молча ощупывает Лерины плечи, голову, спину.
Около его глаз, под бурой кожей, мелко и часто дрожат мускулы.
И вдруг Лера замечает, что по его дубленым щекам катятся слезы.
— Авксентий Христофорович, Авксентий Христофорович… миленький… Не надо! Вы думали, я убилась? Да что вы!.. Все же благополучно. Я в полном порядке!..
Но Сафьянов уже утер слезы и, сердито хмурясь, молча садится на коня.
— Нычэго, отэс, — насмешливо говорит ему Самбу, — жива будэт, наезднык будэт…
О чем думал Самбу, когда вел дальше свою лошадь и терпеливо тащил за поводья Лерину лошаденку, изредка оборачивая к приезжей девушке продолговатое, безбородое, кротко-задумчивое лицо? Должно быть, он думал не о ней, а только о дальней дороге и о том, как бы это получше провести сквозь тайгу лошадей и попутчиков.
Так он тащил их до самого привала — Леру и ее упрямую коротконогую лошаденку.
Вечером долго сидели у костра. Пили чай.
Разомлев, с блестящими от яркого света глазами, Самбу вдруг спросил, оборотившись к Лере:
— Маат ес?
Она не поняла.
— Ес маат?..
— Спрашивает: мама у тебя есть? — перевел Чонак. Ах да!.. Ведь это же по-русски.
У Леры давно нет никого, кроме бабушки, и она мотает головой: «нет».
— Отэ-э-эс ес?
Она опять мотает головой.
— Брат ес? Сэстра ес?
Блестящие глаза Самбу смотрят на нее сочувственно и ласково. Ему, видно, хотелось бы для нее бесчисленных нитей родства и любви, которые связывают человека с жизнью, одним словом, детского, простого счастья, какое, по его понятиям, нужно этой девочке, еще не научившейся даже ездить верхом.
И вдруг он спросил:
— Жених ес?
Она густо побагровела, не решаясь отчего-то ни помотать головой, ни кивнуть утвердительно.
Чуть приметно, но лукаво блеснули глаза Самбу, от которых не укрылось это растерянное выражение.
— Нэт жених!.. Ничэго, парны ес, будэт жених.
Лера стала укладываться спать. Он, не вставая с травы, заботливо оправил на ней сапрыкинскую шубу.
Костер горел. Люди смеялись и разговаривали.
Сафьянов тоже малость «рубал» по-тувински. По этому поводу он говорил так:
«Все, вот все как есть понимаю, а выразить — эх! — выразить не могу».
Лера слышала звуки непонятной речи, видела сквозь сомкнутые веки блеск огня.
Потом огонь стал дрожать и погас. Она уснула.
2
Серая, серая, совсем серая, нежно-пепельная, высохшая, сгинувшая, жалкая и такая безмерно печальная — без листика, без зеленой почки — вставала перед Лерой тайга: это были кусты и молодые деревца, осмелившиеся прорасти под тенью больших деревьев, во тьме, без солнца. Бессильные, они не смогли пробиться ввысь. Им не хватило света и тепла.
Даже не тление, а медленное усыхание постигло их. Долгая, скучная смерть. И кажется, будто говорят они сухим шелестом и шорохом: «Нет места нам, нет места, нет места в тайге. Но мы родились и росли, тянулись вверх, к солнышку и ветру. Да не дотянулись — высохли. Нас много, и все мы мертвые, мертвые. Корни у нас слабые, стволы сухие, головы наши деревянные — седые, серые… А все-таки мы деревья, деревья, деревья…»
То вот этаким древесным кладбищем вставала перед Лерой тайга — бессильная, глухая, душная.
То вдруг оборачивалась она огромным дуплистым деревом без вершины, причудливым, как терем, выстроенный руками лешего.
Вершину снесло. А когда?
Может, и десять и двадцать лет назад — никто не знает. Да и кому до этого дело? Кто приметит одну-единственную снесенную вершину среди великого множества живых вершин? Нет вершины — и все.
А ствол, расколовшись, образовал дупло. Укромный дом без окна, с одной-единственной дверью, широко распахнутой навстречу тайге. Там стали жить муравьи. Сгрудились кучей и будут жить.
То сплошной чащей лиственниц вставала тайга. Бесчисленными лиственницами с мягкими яркими иглами. Елка — не елка, сосна — не сосна, иголки — не иголки. Лиственница, одним словом.
А то березой, бело-серой, шелковистой березой, шелестящей обыкновенными, спокон веков знакомыми и привычными листиками, выходила она навстречу Лере.
Так вот она какая — тайга?! Беспросветная зелень — курчавая, спутанная, скрюченная, в космах мхов, в лишайниках и наростах гриба, в паутине ветвей, корней, сучьев. Она шуршит палым листом, трещит сучком под шагом лошади или вдруг чавкает мшистым болотом у нее под копытами. Зелень, зеленые потемки, загораживающие дорогу всаднику. Огромность, бескрайность, которой не только не видно конца, но где, кажется, и не может быть виден конец, потому что все здесь стеснилось, стало так близко друг к другу, борясь за свою жизнь, заслоняя небо, заставляя человека забывать о земле, об озерах и реках, о полях и луговинах, где есть ширь глазу, сердцу, дыханию.
То высоченным кедром вставала тайга и дарила медведя или прохожего — вернее, проезжего человека — шишками, похожими на елочные украшения.
Много неожиданного было в этой кедровой игрушке. Целый лес. Весь дух его — запах смолы, влажность болотистой почвы, игольчатость чешуйчатой одежки, причудливой, как крылья насекомого. А под каждой чешуйкой орешек — маслянистый, кругленький, сладковатый!..
Тряхнешь дерево — так и покатятся, повалятся на землю кедровые шишки. Повалятся без стука, тихонько шелестя в ветвях.
А наверху, меж мягких игл, погляди — какое их там обилие! И представить себе нельзя и сосчитать невозможно! Будя жадность, радуя глаз, они жмутся друг к другу, оттягивают вниз ветку. И клонится ветка. Но не сломается, нет. Кедр! Радость белки и радость охотника — щедрый, большой, многородящий кедр!
Там кедр, а тут еще один. Еще, еще… Сколько их? Кто знает? Здесь все живет без меры, без счета, без конца. А вон там, в низине, под тенью ветвей, жмутся друг к дружке ягоды. Целая россыпь ягод: малины и кислицы — этакой вредной, жесткой, недозрелой красной смородины — и лесной розоватой клубники. Малá! Но погляди, тронь, сорви!.. Вся сладость солнца и дождей, вся свежесть леса и ветров — в одной-единственной ягоде.
Хорошо бы остановиться, набрать полное лукошко! Но нельзя останавливать коня ради ягод. Это тебе не лес, а тайга. Здесь ягоды небось и не слыхали про лукошко.
И чего только не выдумает и кем только не раскинется она перед тобой — тайга!
Глянет акацией. Как так? А очень просто: лесная акация. Это не акация юга, что, разбросав свои ветки над чьей-нибудь крышей, над горячей крашеной жестяной кровлей, рассказывает о жарком городском солнце, золотящем последние, дальние дома. Нет, нет, здесь другая акация, куст без запаха — «караганник». Но все ж таки и это акация — сестра той, южной.
Все тут другое, не такое, как там, на юге: не те травы, не те деревья.
На юге каждый листок говорит о море, пыли и зное, о водяных просторах и о просторах степей. Там каждое дерево само по себе. На горячей южной земле оно точно гость, желанный и милый. А здесь дерево — хозяин, и такое, и этакое, и всякое… Объединился деревянный народ, двинул на землю. Взял ее, занял и стоит на своем. Заблудись! Сгинь! Пропади без пищи и воды!
Тысячами голосов говорит тайга — шелестом, шорохом, скрипом, ропотом, влажным духом болот и терпким запахом смолы… Слышишь?
— А я земляника-ягода! А я березка, березка, береза! А я кедр, кедр, кедр. Ветвистый, смолистый!.. И все мы поем свою песню снегов, скупого солнца, болот. Мы поем свою деревянную песню о корне, стволе и листке.
И о мужестве человека, отважившегося зайти в деревянную нашу страну. О его беспечном мужестве. И о его коне, которого мы отхлещем по глазам, и о его одеже, которую мы разорвем в клочья!..
Подумаешь! Тоже хозяин нашелся, пришелец, человек!..
— Я тайга. Захочу — сомкнусь темной чащобой, захочу — расступлюсь светлой поляной.
Среди деревьев притаится она, вся в нетронутых травах. Ничья нога их не топтала, и не топтало копыто, разве что лапа медведя прижмет к земле, подломав вот этот жирный стебель, брызжущий соком. Но и подломанный будет он зеленеть, примятый и прижатый к почве.
Острые, длинные, лиловые растут на поляне цветки. А другие желтеют. И все вместе сливается в пестрядь, в цветную мозаику, в одуряющее, кружащее голову человека и лошади богатство трав, трав, трав… Ух, и плотные же, ух, и удались же на славу! Скосить бы, запасти бы на зиму корма. А как доставишь до человечьего жилья?.. Далеко…
И растет трава сама по себе и сама для себя. Растет и как будто бормочет:
— И никто, никто не знал про меня, и никто мне не радовался, и я безмолвно делала свое дело — зеленела, желтела, рождалась и вяла и хоронилась под снегом, чтобы снова глянуть из проталин весной. Здравствуй, весна! Мы дети твои, мелкие, хрупкие стебельки, первая весенняя травка.
— Ну что ж, расти, расти!..
— И буду! А как же иначе! Вот выбьюсь из земли, зазеленею, нальюсь соком, пойду в лист, в стебель, в цвет… Ветер положит — подымусь. Копыто затопчет — встану. Опьяню всадника и коня пряным духом земли, дождя, солнца.
Мягко ступает лошадь. Ровна ее рысь. А трава ей то по колено, то по грудь, то по самую шею. Хлещут коня по бокам длинные стебли, сгоняя мух, сгоняя гнуса.
И откуда только он взялся? Чтоб ему пропасть и околеть!
Сгинь!
— Не сгину. Я мелкая серая мошка. Целое облако мошкары. Я облеплю глаза твоей лошади и твои глаза облеплю, и затылок, и щеки — хоть плачь, не поможет. Голос у меня тонкий, сама я маленькая. Но я неугомонно буду виться над тобой. Я мошкара, мошкара — лесной гнус.
— А я муха, буду пить кровь из твоей бедной лошади. Ка-ак вопьюсь! Проколю шкуру и нальюсь докрасна горячей кровью. Брось, не отгоняй меня! Не размахивай руками и ветками. Я свое дело знаю — кружилась и буду кружиться! Мое — безлюдье! Мое — безмолвие! Моя — тайга!
А вот горой оборачивается тайга — горой, поросшей соснами и кедрачом. Тут тих шаг лошади. Как бережно, как трудолюбиво, с каким тупым отчаянием, напрягая под шкурой жилы, тащит она свою живую кладь — человека!
Тих ее шаг. А все напряжено — и шея и спина. В гору. В гору!..
Каменная узкая тропка огибает скалистый отвес.
Внизу — обрыв и река. Плещутся, бьются кипучие воды, но лучше туда и не глядеть.
По самому краю обрыва шагают осторожно лошади. Шагают лошади, и, высунув язык, бежит собака.
И вот кончилась каменная тропа. Снова деревья, деревья, куда ни глянешь…
В багряном свете уже обогнувшего небо солнца вдруг выступает, будто озаренный костром, город не город — брошенный и заглохший стан. Здесь останавливались когда-то тувинцы, в то время когда еще были кочевниками.
Словно бегут навстречу всаднику десятки покинутых чумов, скелеты их, обтянутые берестой, вытоптанная и опять ожившая трава. Черные следы костров…
А ведь тут жили люди, ходили, говорили, смеялись.
И тайга помнит — здесь был человек. Она словно бережет проложенную им дорожку, обугленный ствол большого дерева, черепки разбитого глиняного кувшина.
И дальше кони. Опять упрямое постукивание копыт, и уже осталось далеко позади покинутое кочевое царство.
Лес, люди, лошади. Последней бежит собака. Остановится, внюхается в землю, удивится, и ну — догонять коней. А лапы-то, лапы! Все избиты, исколоты. Хромает, а бежит. И вдруг застынет собачий взгляд: собака смотрит на вершину дерева.
Что там?
А так. Бурундук.
Жил-был бурундук. В тайге жил — острые когти, полосатая шубка. По стволам лазил. А морда ничего себе, шустрая.
«Хьюисть… хьюисть…»
Это Самбу положил в рот какую-то травинку и свищет по-козлячьи.
Не верь, козлиха! Не дитячий этот жалобный крик: свистит охотник, обманывает тебя.
Вот мелькнули за деревом твои пегие ноги.
Выстрел.
Нет. Мимо.
На робких, разъезжающихся ногах бежит козленок за мамой-козлихой. Робок взгляд его детских глаз, а как быстры ноги!
Но разве возможно разглядеть походя жизнь лесного зверя?
Ревут медведи там, далеко. Дерутся. Не поделили чего-то. Может, муравьиной кучи, меда диких пчел или этого смолистого сока, что слезой сочится из стволов?
Сладок и душист древесный сок. Но человеку некогда ждать, пока он медленно — капля за каплей — натечет в подставленный корец. Горло у человека пересохло. Ему бы водицы да побольше — полный котелок.
Ну вот она — вода: ручьи, реки и речки, водопады, лужи и влага подземных вод, которая угадывается сквозь почву. Бегут, бегут воды и поют свою песнь — немолчно и свободно.
Вода, вода…
Осторожнее. Как бы не оступиться! Лесные речки лукавы. Вода в них темная от ила, от перегнившего в воде бурелома. Со дна торчат коряги.
«Вези, вези, треклятая!»
Но, забывая о тяжести, забыв о кнуте и власти всадника, лошадь нагибает тяжелую голову к прохладе воды и пьет, пьет, раскорячив ноги. В воде кружатся травинки, иголки хвои.
«Но-но, растреклятая!»
И глубоко, нежно вздохнув, сказав свое непонятное лошадиное слово: «иги», шагает лошадь на скользкий камень. Вот на другой шагнула, на третий — и провалилась по грудь. Мокнет в воде лошадиное брюхо, льются холодные струйки всаднику в сапоги.
Под лошадиными копытами — густой, жирный ил. Тяжко шагать лошади. Скользко, топко. Но вот рывок, еще рывок — и, поводя боками, она вытягивает всадника на берег.
И снова чаща.
Над лесом, над тихой жизнью леса, понемногу сгущается вечерняя мгла.
Где бы найти пристанище, водопой и корм — хороший корм для лошадей?
А Самбу знает! Он знает все. В Москве, может быть, и заблудился бы, а в тайге — нет.
Вот поляна, а рядом ручей.
Привал! Привал!
Прежде — развести огонь. А потом расседлать коней.
Опрокидывается над землей сумрак — отдых для коня и человека.
Горит костер. На косо воткнутых в землю деревянных штангах сушатся портянки. На крепких сучках жарится шашлык. Шашлык изжарится, а сучок, на который нанизано сырое мясо, ни за что не сгорит. Брызжет в огонь жир, пылает голубым пламенем, а сучок не горит. Так захотел тувинец.
— Ешь, товарищ. Давай ешь! Все ешь!
— Как так?
— Все. Все…
И движение руки, прижатой к сердцу, поклон и сияющая, добрейшая улыбка.
— Ешь хоть целого козла. Здесь все твое. Ты гость.
Булькает чай — закипает в закоптелом котелке. Дым костра летит ввысь, в безветрие.
И — чудо! Пропав тут, он возникает неподалеку — в конце поляны. Там долго будет стоять эта дымовая завеса, упираясь в землю и заслоняя деревья. Не рядом с костром, а дальше… Совсем далеко. Стоит и даже не колеблется. Это похоже на отзвук, на эхо, на память о проделанной дороге. Ты помнишь тайгу, и тайга помнит тебя.
Проехал ты — и обломал ветку. Проехал ты — и шаг твоей лошади примял траву. Проехал ты — и долго, долго будет жить, дрожа и замирая, звук твоего человечьего голоса.
Я слышу — и откликаюсь на этот звук.
Я вижу — и отражаю свет твоего костра.
Я — тайга. И я заранее готова отдаться тебе, хозяин, человек.
— Ну, что же, печь будем или варить, что ли? — спрашивает Сафьянов.
— Печь, печь, — отвечает Чонак.
Сафьянов и Самбу бережно укладывают картошку на тлеющие угли.
Долго она печется, черт бы ее задрал! Притихнув, все смотрят в огонь.
Неподалеку от людей стоят на поляне лошади. Они окутаны завесой дыма. Дым спасает их от таежного гнуса — назойливой мелкой мошкары.
Но вот и гнус устал. Устал гнус — спать полег, А куда? Кто ж его знает. Может быть, на листву, а может, в траву, только утих, угомонился, замолк. Не то чтобы пожалел — разве у гнуса есть жалость? — а так, дал передышку до следующего утра.
Теперь лошади могут тихо и задумчиво шагать меж деревьев, склонив шеи, щипать неторопливо траву. А вздумается — так и клевер и ромашку.
Шагает лошадь. Медленно шагает во тьме, шевелит мягкими губами… И люди слышат, что вблизи — жизнь. Добрая жизнь. Дышит домашнее животное, полезное животное — лошадь.
Самих лошадей уже не видно. Но угадываются их очертания — большие головы, склоненные к земле, темные, темнее ночного неба.
Все спит. Спит лесной зверь. Спит в гнезде птица. Спит дерево — лиственница, береза и кедр. Не шелохнутся, не дрогнут веткой. Тихий ночной час — сон зверя и птицы, сон ветра и света.
Над величавой спящей землей загорается в небе первая звезда. Зажглась и тихонько плывет по кругу, как было вчера и позавчера, как будет завтра и послезавтра.
Сафьянов достал из мешка белую тряпицу с солью, развязал узелок…
Люди совсем неподвижны. Устали. Умаялись. Каждый, должно быть, вспоминает о чем-то своем.
Рядом с Лерой сидит мальчик Тэрэк — ученик Чонака. Ему четырнадцать лет. Он пятиклассник. У Тэрэки лицо, как яблоко, круглое, крепкое, обтянутое нежной смугло-розовой кожей, — так и хочется его погладить по щеке! Дугами подняты над блестящими глазами круглые брови. Он одет, как Чонак и Лера, в теплую стеганку.
Задумался Тэрэк, брови подняты, а лицо безмятежно-счастливое. Как свет и тень играют на этом лице, борясь друг с другом, детство и отрочество. И ясны черные глаза. А там, в глубине глаз, застыла улыбка, притаилась, спряталась… Хорошо в тайге. Хорошо рядом с учителем (когда не надо готовить уроки).
…Может быть, он вспоминает Артек?.. В прошлом году, летом, он вместе с другими ребятами — отличниками учебы — ездил в Артек.
В Артек везет железная дорога… А море?.. А Москва? Каждая улица такая длинная, как весь колхоз «Седьмое ноября»! А людей-то сколько! А в театре танцуют маленькие человечки — куклы.
Раньше когда-то он думал, что Москва — область, что она, как Тува, разделена на районы — северный, южный, восточный и западный.
Но Москва — город. Она город городов. Тора-хем тоже город. Правда, учитель сказал, что Тора-хем не город, а только населенный пункт. Если бы это сказал не учитель — эге-ге! — кто бы поверил?! Как будто бы в других местах, там, где плотят плоты, рубят деревья, где, раскинув палатки, подолгу живут в тайге геологи, где удят рыбу русские рыбаки с длинными бородами, — как будто бы в этих местах тоже не населяют землю люди. Стало быть, и там — населенные пункты?
Но, может, настоящий «пункт» — это только такое место, где бывает десятилетка, кооперация, клуб, ясли, склады «Союзпушнины», амбары, столовка, а?.. И где крутят кино? И где в праздник устраивают скачки или борьбу?
И вдруг Тэрэк видит себя верхом на коне. Быстро летит лошадь. Позади себя он слышит свистящее дыхание другой лошади. В глаза бегут деревья, трава, речка.
Пусть его лошадь придет первой, и пусть он потом победит и в борьбе. Пусть он победит самого Саганбая — лучшего борца в Тодже.
И вот он победил!
Он танцует танец орла, взмахивая руками, точно крыльями, перед столом судей.
И еще пусть так: пусть он проведет через всю Тоджу железную дорогу — от Саян до самого Минусинска.
И пусть он вертит в клубе кино. «Тэрэк, а Тэрэк, какое сегодня будет кино?»
Но он крутит и ничего не говорит.
И еще — он лоцман, столько плотов насплавлял осенью и весной через енисейские пороги, что вся Тоджа удивляется: «Ай да Тэрэк! Слыхали? Ого!»
И еще пусть русский летчик Иванов из Абакана будет его самый первый друг. Летит Иванов обратно в Абакан, пролетает мимо дома Тэрэки и машет ему платком.
«Зачем это он машет? Что такое? Тэрэк, а Тэрэк?..» — «А ничего такого. Обыкновенно! Иванов мне таныш!»
Чуть приоткрыв губы, мальчик смотрит в огонь.
Красным светом отсвечивает на стеганой куртке комсомольский значок — эмалевое знамя, приколотое к серому отвороту, такое же, как у Леры и Чонака.
…Старик Таджи-Серен тоже задумался. Сидя в траве у дымящегося костра, поджав босые тонкие ноги, он молча набивает табачком трубку. Старость! Кривые от езды ноги. Скрюченные руки. Лицо без выражения. А зубы целы. Все целы. Один в один.
Из-под низко нахлобученной на лоб меховой шапки выбиваются волосы. Густые, темные, без седины. Они спускаются на лоб двумя треугольниками. И старые, мятые веки Таджи-Серена тоже как треугольники. Глаза смотрят в сторону Леры… Ему милы ее косой пробор, клетчатый воротник ее блузки, выглядывающий из-под стеганой курточки. Но больше всего ему нравится детское и вместе серьезное выражение ее розового, с косыми бровками, как будто постоянно о чем-то спрашивающего лица.
Таджи-Серен с одобрением поглядывает на ее измазанные смолой руки, на книжки, лежащие рядом с Лерой в траве.
В книгах мудрость сердца и сердце ума… С тех пор как в Туву пришли книги, совсем другая стала жизнь. В книгах рассказывается про то, как надобно сделать, чтобы не умирали новорожденные; как строить дом; как сеять хлеб; как запирать реки, чтобы появлялся вечером в колхозе свет — электричество. Книга — это летящий конь. Русские прозвали его «вдохновением».
Лера не замечает тонкой улыбки старика. Она смотрит в огонь.
Ей вспомнилось отчего-то, как однажды они с Розой Тарасовой забрались вечером на горушку в Тора-хеме. Было тихо. Со всех сторон вспыхивали огни керосиновых ламп в окнах.
И вдруг издали мигнул яркий, большой огонь. Он зажегся на поляне, где стояла партия геологов. То ли костер развели, чтобы дать ориентир самолету, то ли просто варили ужин, но Лера вдруг подумала тогда, что все эти костры — географов, железнодорожников, геологов, первых исследователей края — можно бы назвать кострами пионеров.
В самом деле, те детские, пионерские костры, которые она с товарищами разводила когда-то в лагере, обещали ей свет дальних маяков, неисхоженные дороги, костры ночных привалов и этот, сегодняшний, зажегшийся для нее в богатой и бедной, скупой и щедрой тувинской тайге.
Задумавшись, переворачивает на углях картошку Самбу.
Молча посасывает трубку оленевод Таджи-Серен.
Устали. Примолкли.
Ничто не нарушает тишины, только тихонько булькает в котелке чай.
И вдруг Сафьянов, крякнув, достает из огня, прямо руками, крупную, обуглившуюся с одного бока картофелину.
— Кажись, готова. А?
Все сейчас же подсели поближе к костру и принялись за картошку.
Лера, Чонак и Тэрэк ели задумавшись, не отрывая глаз от огня. И огонь старательно делал свое дело: грел, светил и отражался в зрачках. В зрачках и в значках. В трех красных значках, приколотых к их стеганым походным курткам.
3
«Теперь-то я поняла, как тебя зовут: тебя зовут Гнус.
Ты уже не просто лошадь с четырехзначным номером, выжженным на ляжке, не безыменная собственность колхоза «Седьмое ноября», не конь среди других коней, не челка, не хвост, не лошадиные волосатые ноги. Нет! Теперь у тебя есть имечко: Гнус.
А я ли тебя не жалела, я ли не пыталась погладить твои мягкие губы, когда мы останавливались на привал, а Сафьянов кричал на меня: «Обалдели, что ли, Валерия Александровна! Как лягнет — помнить будете!»
Я ли не понимала тебя, когда ты отставала от других лошадей, чтобы сорвать травинку посреди дороги, как будто бы ты голоднее других.
Не у меня ли сжималось от сочувствия сердце, когда я заглядывала в твои тупые, усталые глаза, видела твою истертую, избитую седлом спину. Честное слово, я любила тебя!
Это правда, конечно, что за любовь не требуют, не ждут любви. Все это так. Но теперь-то я знаю, как тебя зовут, тебя зовут Гнус.
Со зверским лицом — наверно, точно таким же, как у Сафьянова, когда он очень устал, — я бью тебя хворостиной за то, что к концу дня, перед вечерним привалом, тебе отказываются повиноваться твои короткие шерстистые ноги.
«Да что вы с ней церемонитесь-то, Валерия Александровна! Натягивайте, натягивайте поводья…»
И я натягиваю поводья, чуть ли не разрывая твои мягкие, нежные губы, твой большой желтозубый рот, который только и хочет делать, что хрупать и хрупать влажные стебли.
Я натягиваю поводья, тяну их изо всех сил, а ты не желаешь слушаться меня.
Вот ты обошла дерево, так, чтобы не стукнуться головой о его ствол. Но ведь я же выше тебя! Ведь я сижу в седле. И меня ты непременно шмякнешь изо всех сил об этот ствол лбом. Когда мы спускаемся по круче, ты то и дело спотыкаешься, чтобы выбить меня из седла. Ты то несешься вскачь, то идешь шагом, то неожиданно останавливаешься посреди дороги.
«Править, править надо, Валерия Александровна! Много раз вам говорено».
Я исколочена, оборвана, грязна. Кровоточат руки, болят ноги, изодрано лицо, платье. Давно потеряна синенькая косынка, защищавшая от солнца и ветра мою глупую башку.
Пятый день пути. Пятый день по двенадцати часов подряд верхами. Пятый день все хочется пить, а привалы такие редкие. И фляги нет. Не взяла. И у Сафьянова просить неохота. Скажет: «Ежели человек не вовсе бестолковый, так взял бы с собой, что ему в пути надобно будет…» Нет, лучше уж потерпеть! А как ноги болят!..
Я воображала, что дорога по тайге — семечки. А теперь я думаю только об одном: доехать, доехать, соскочить с седла, размять ноги!.. И как далеко отступила цель вот этой моей дороги! Я словно забыла про книжки, которые везу с собой. Я забыла свет маяка — костер пионеров.
Нет, я помню. Когда мне тяжко, я пою. Я пою чуть слышно самые любимые мои песни и даже называю себя героиней.
Никто больше так не назовет меня. А я хочу, чтобы назвали.
Никто никогда не узнает, как мне было плохо и тяжело, какая я трусливая и тщеславная».
…Хлоп лбом о дерево.
— Правьте, да правьте же на самом-то деле, Валерия Александровна!
«Тебе небось легко так говорить: ты тут родился — на коне. Как еще править — не понимаю. Ведь я же правлю, правлю, как могу, и я не виновата, что я тупая, что другой сразу всему научается, а у меня ничего не выходит».
— Глядите, Валерия Александровна, вон бородатый лишайник… Да нет же — вот!.. Этим, стало быть, после летόвки [1] питаются олени…
— Ага!..
— В траву глядите. Примято, видите! Тут медведь прошел. След-то вроде как бы человечий: слитный, короткопалый. А вот ежели бы марал, то опять-таки дело другое… Был бы, значит, отступ в следу, маралий след совсем иначе выглядывает. Слитно, а рядом как будто вострое, словно бы большой палец в ноге. Ну, а ежели бы кабан, то опять-таки дело другое…
— Ага, ага.
«Когда мы приближаемся к поляне, лошади бегут быстро. Мне становится легче. Мне почти совсем легко. Быстро бегут лошади — вскачь, и я раскачиваюсь в седле, как на качалке. На этом седле, которое я выцарапала чуть ли не когтями, на этой лошади, которую выпросила и вымолила чуть не плача.
Но вот наверху, высоко над деревьями, — самолет! Может быть, это обо мне вспомнил Сонам, понял, что я ни за что не доеду до оленеводческой бригады, — ведь я же первый раз в жизни села верхом на коня! Вспомнил и послал за мной самолет… Вот он в небе — кружится точкой, жужжит.
Прожужжал — и дальше… И стал комариком.
Это был, конечно, самолет железнодорожной экспедиции.
Забыл Сонам! Не помнит.
Но ведь тут же негде приземлиться самолету! Где твоя совесть? Было бы где приземлиться, люди не ездили бы так далеко верхом на лошадях. Ты же сама знаешь, сама видела, что за всю дорогу ни разу вам не попалось площадки, на которой бы мог сесть самолет…»
— А далеко еще ехать, Авксентий Христофорович?
— Далеконько.
«Этот не скажет, что близко. Разве он скажет хоть что-нибудь, чтобы утешить человека?!»
— Вот мы тут едем, Валерия Александровна, себя клянем, а под ногами нашими, может, золото!.. Вон горы… Да нет, не туда смотрите, за опушкой, далече, видите?.. Так там, говорят, и никель есть, и серебро, и медь самородная. И ртуть… И железо, и слюда, и камень самоцветный… Там, может, счастье, в этих горах…
— Ага…
Последний привал. Сегодняшняя ночь будет последней в пути. И это хорошо. Это очень хорошо. А о дороге назад лучше не думать, как не думает боец о том, что завтра снова бой.
…Ночь. В городе она как будто короче. А как велика в тайге ночь! Не длиной велика — велика величием.
Вот опрокинулся над тобой ее тяжелый купол.
Тихо идет она, неслышным шагом. Нет, не идет, стоит. Стоит и пьяно дышит тысячей ночных дыханий. Она и в длинных тенях у каждого дерева, и в этом костре, и в равномерном хрупанье лошадей. Разве ночь это только тьма? Нет. Ночь — это отдых и покой. И хочет отозваться ему человечье сердце, да не умеет. Не отзывается оно на покой покоем. Хоть и величиной с ладонь, а бьется, и трепещет, и стучит.
А ночь недвижна. Молча стоит она и шарит огромными своими волосатыми руками на поляне и в тайге. Тьма, безветрие. И не нарушить этой тишины, не пробить этой тьмы ни ветру, ни звезде.
Ночь… ночь!..
Хруп-хруп-хруп… Это лошади бродят в темноте — щиплют траву.
А сколько ты, лошадь, прожила лет? А тяжело тебе было, лошадь? Не помнишь? А вот человек помнит. И страдание, и радость, и горе, и любовь.
Тяжело носить человечью память, тяжелее, чем мешки, которые сбили тебе спину.
У лошади памяти нет… А у человека есть память. Только лучше бы ее не было!
Это случилось почти три месяца тому назад. Она ехала из Москвы в Туву.
Часу во втором автобус остановился у парома: впереди был Кызыл. Виднелись его бисерные огни по ту сторону Енисея. Частые, мелкие, не слишком яркие.
Автобус ждал: паромщик, должно быть, пошел спать.
В раскрытые окошки, в темноту, духоту и тесноту автобуса входила ночь. Пахло рекой. Слышался ее негромкий плеск. Река билась о балки. Из окошек видны были деревья — кажется, кедры.
Наконец Вадим и ненавистный Лере молоденький лейтенант милиции (с которым Вадим Шумбасов до того подружился в дороге, что даже пересел с ним на одну скамейку и пил воду с ним из общей фляжки) вышли из автобуса и отправились искать паромщика.
Она слышала звук их удалявшихся шагов, смех, голоса…
Потом ей ничего не стало слышно. Только река по-прежнему билась о балки.
И тут она вдруг поняла, что скоро, скоро эти шаги затихнут совсем, навсегда: впереди Кызыл.
Она не увидит больше с верхней полки вагона его волос, затылка, не услышит его сочного, как будто всегда чем-то обрадованного голоса. У них не будет больше общего чайника. Он больше не станет дразнить ее «растяпой, раззявой», не будет подхватывать на лету ее слетевших с верхней полки косынки, носка, майки… Не спросит: «Лера, а не хотите ли плавленого сырка?»
Тогда ей казалось: скорее бы Абакан!
Ан нет! То было счастье: все — и остановки, и пролетавшие за окном ночные огни, и его сонное дыхание, и его коричневые ботинки, снятые на ночь.
У его ботинок был косолапый шаг. Они стояли носками внутрь — беспомощные, немного неуклюжие — и казались большими детскими башмаками. Широко раскрыты были их темные рты. А рядом, притулившись, валялись ее сброшенные с верхней полки белые туфли.
Они шли рядом — по общей дороге. Едва поспевали за шагом коричневых башмаков болтавшиеся ремешки парусиновых Лериных туфель.
И все! Конец дороге.
Она больше не станет ловить его напряженного и пристального взгляда на своих губах, когда прочтет ему торопливым шепотом стихи Омара Хайяма. Он не обругает ее будущую работу библиотечного методиста «фанаберией и глупостью». Она не рассердится. Они не будут глядеть вместе из окна поезда на мелькающую желтую траву, березки, сосенки. Его рука не ляжет больше невзначай на ее плечо. Она не спросит строго: «В чем дело, Вадим?» — и не скинет его руки со своего плеча. Он не захохочет в ответ, глядя пристально в ее глаза, пока она со злобой и яростью не опустит своих. Не будут больше лететь ей навстречу из открытых окошек пыль, гарь и острые угли. Уголек не попадет ей в глаз. Старый геолог-попутчик не скажет, зевая: «А ну-ка, доктор Шумбасов, приступите к своим обязанностям», — и он не вытащит из ее глаза уголек, приговаривая: «Беда мне с вами, Лера. Беда! Просто беда!..»
Все!
Не будет рядом его серьезности, наглости, шутки, беспечной заботы о ней…
Не будет этого открывшегося ей таинственного и страшного мира — его взгляда, его рук, его голоса.
Конец дороге. Довез. Впереди Кызыл. Вот он ушел за паромщиком, и не слышно больше его шагов.
В окна автобуса входил острый запах неподвижной, безветренной ночи. Дремал на руках у молодой матери, ехавшей на работу в Кызыл, грудной ребенок. Рядом сидел молодой отец. Его голова то и дело наклонялась и падала на плечо жены. Он просыпался, вздыхал… Но глаза слипались опять, и снова падала, опускалась голова с торчащим на макушке хохолком. Несколько секунд было слышно в автобусе его громкое и сонное дыхание.
На передней скамейке, рядом с шофером, сидел лысый бухгалтер. Он ехал в Кызыл ревизовать кожевенный завод.
Бухгалтер всю дорогу угощал соседей конфетами. «Театральные»!.. — говорил он, лукаво подмигивая. — Наши, московские. Попробовали бы, а?!»
Рядом с Лерой сидела белокурая татарка, а рядом с татаркой — демобилизованный солдат. Они познакомились в дороге. Татарка и солдат тихонько обнимались в темноте.
На последней скамейке, подобрав под себя ноги, курила женщина-врач, по фамилии Шарапенко. Ее звали Анастасия Федоровна. Она была старожилкой Тувы и хорошо знала Шумбасова. (В Туве все врачи знают друг друга).
Шарапенко возвращалась на место работы — в западные районы — после двухмесячного отпуска.
Это была немного грузная женщина с темным пушком над верхней губой. Она была интеллигентна и, словно все время вступая в спор со своей интеллигентностью, разговаривала резко и грубовато.
Всю дорогу, особенно когда автобус шел быстро, Шарапенко рассеянно и в то же время внимательно смотрела в окно. При этом она пыталась петь. Голос у нее был низкий, немузыкальный.
…О память сердца, Ты сильней Рассудка памяти печальной…мурлыкала Шарапенко.
Леру она называла «девочка». Вот и сейчас сказала:
— Девочка, давай садись рядом. Пока придет паромщик, отлично выспишься…
— А мне вовсе не хочется спать!
— Ага… Ну раз уж так обстоят твои дела, выражаю тебе глубокое соболезнование. Не спи.
В автобусе сделалось тихо.
Впереди, там, во тьме, билась река. Пахло влажным — кажется, тиной. Ни шороха, ни голоса человека. Безветрие. Безлюдье. Пустая, огромная дорога. Река не отсвечивала во тьме. Не было звезд и не было луны. Ночная вода была похожа на воду под крышкой люка: глухая, черная, без блеска.
Лера вышла из автобуса и тихонько позвала: «Вадим!»
Никто ей не ответил.
Она крикнула погромче: «Ва-дим!»
Она сказала: «Вадим» — вправо и влево, в сторону Енисея, и в сторону Москвы, на юг, север, запад и восток…
Вызвездило.
Она металась под звездами вокруг автобуса, от которого не смела отойти. Она кричала:
— Ва-а-адим, Ва-а-дим!..
— Как вам не стыдно, гражданка? Чего вы орете?! Ребенка разбудите! — сказали ей из окошка автобуса.
— Да ведь он мне оставил чемодан!.. Куда же я с чужим чемоданом? — скороговоркой ответила Лера.
— Иди, иди, я посмотрю за чемоданом, — ответил из окна голос Шарапенко. — Дыши. Валяй.
…Вот деревья у края дороги. Тьма. Тишь. Не колышутся на ветру ветки. Ветра нет.
Среди других — мелких — деревьев высится один-единственный кедр. По растрескавшейся коре, похожей на длинную морщинистую шею, течет смола.
Лера подошла к кедру, уперлась лбом в его ствол, зажмурилась. Слово — серебро, молчание — золото. И все-таки Лера сказала не то себе, не то кедру одно короткое слово.
Она бросила свое серебряное слово в тишину, в пахучую путаницу прозрачных кедровых веток. И слово покатилось куда-то в ночь, слившись с шумом Енисея, с памятью Леры о первых горах Саянского хребта, с дальними кызылскими огнями и чувством огромной протяженности мира.
— Па-а-аромщик!.. Па-а-аромщик! Оглох, что ли?! — закричали из окошка автобуса.
— Лера!.. Ты где?! Давай возвращайся, — позвала Шарапенко.
Оправив волосы, Лера побежала к брошенным чемоданам.
И вдруг она услышала его смех, его пронзительный в ночной тишине голос.
— Сейчас придет чертов паромщик, — весело объявил пассажирам лейтенант милиции. — Дозвонились-таки до Кызыла.
— Что вы тут делаете, Лера? — спросил Шумбасов.
— Ничего особенного. Дышу воздухом.
— Ага… Ну что ж…
— Вадим!
— Да. Я вас слушаю.
Чуть дрогнув, ее руки быстро и смело ложатся ему на плечи.
Он наклоняется к ней, и она тянется к нему. Тянется, сама не зная зачем.
И тут, как будто опомнившись или желая доставить себе эту жестокую радость, он говорит:
— Ни к чему это, Лера. Право же, ни к чему.
— Что — ни к чему? — ужаснувшись, спрашивает она.
— Бросьте дурить! — отвечает он шепотом.
Они стоят в темноте, один против другого, прислушиваясь к дыханию друг друга. Кругом так тихо, что кажется — из ночи выкачали все звуки.
И вдруг в глухой тишине, в которой слышны удары ее сердца, раздается легкий и мягкий стук. Это, сорвавшись с дерева, упала в траву кедровая шишка. Она упала при полном безветрии, и стук ее — единственный в этой тяжелой тишине — поразил Леру и запомнился ей.
— Ну что ж, пожалуй, будем садиться, — ликуя, сказал Шумбасов и очень вежливо помог ей сесть в автобус.
Автобус мягко вкатился на доски парома. В тишине раздался пронзительный крик паромщика:
— Левонус! (Это означало: «Лево нос».)
С двух сторон плота, в темноте, забился Енисей. Заплакал грудной ребенок.
О память сердца, Ты сильней… —замурлыкала Шарапенко.
В открытые окошки ударило свежестью. Показалась луна. От парома стала откатываться лунная дорога. Паром бежал за нею, а она откатывалась.
Опустив голову, Лера тихо сидела на задней скамейке.
— Лера! — раздалось чуть слышно в темноте автобуса.
Она не ответила.
— Лера, вы спите?
— Нет. Я проснулась, — тихо и гордо ответила она….. Перед ней был Кызыл. Падали звезды его огней в протянутую ладонь Леры. Первый раз отсвечивали ей в глаза скупо и щедро воды темного Енисея.
— Здравствуй, Тува!.. Здравствуй, здравствуй, Тува, земля моя молодая!
4
…Бредут лошади. Тихо бредут. Гуськом. Молчат всадники. Темные очертания коней и людей, кажущихся отчего-то сутулыми, четко рисуются в белом свете неба и покрытых снегом гор.
А позади бежит собака.
Оттуда, из-за гор, тянет холодом — предчувствием великого холода, как будто здесь еще только осень, а там, подальше, уже зима. Там наберет она всю силу белого накала и, студеная и вместе влажная, будет стоять, грозясь…
Там, за белой цепью, притаилась она и ждет своей поры. Голь. Даль. Все беспросветно, угрюмо… И такое звонкое эхо вторит всякому звуку, будто первый холод взялся его закалить, как сосульку, как этот камень, на который ступит сейчас нога лошади.
И вдруг — дождь. Окладной, осенний. Но в каждой его холодной капле — предвестие зимы. И так тяжела капля, словно собиралась она застыть по дороге, превратившись в ледяное зернышко града.
Дождь хлещет по плечам и голове, скатывается вниз по щекам, по носу, и нет сил, переложив из руки в руку поводья, смахнуть мокрядь с глаз и лица.
И еще не дошумел дождь, а уже с почвы поднимается туман. Стелется тучами — не прозрачным паром, нет, густой пеленой.
Холодно… холодно…
Лерин плащ давно сгинул (провалился в пропасть в самом начале пути), щелкают зубы, а руки такие синие, что своих ногтей не узнать.
Цок… цок… цок…
— Ничего! Доберемся, Валерия Александровна. Отдохнете. Тары у оленеводов попробуете. Не слыхали, нет? Мука не мука, а вроде мелкой крупы получается. В ступе толкут. Ступа по-ихнему «балой» зовется. А «тара» — она поджаренное просо. Не пробовали? Напекут из нее всяких лепешек, коржиков… И с молочком оно ничего, пойдет. Кушать можно.
— Ага.
— Видать, уже близко летовка-то, Валерия Александровна. Совсем недалече.
— Ага.
Утих дождь. Выглянуло солнце — холодное, как бывает на Крайнем Севере.
Цок… цок…
Молчание. Бредут лошади. Притихли всадники, и, высунув язык, бежит собака.
А вот гора… Это гора необыкновенная: камень здесь словно расколот и разбит. Кажется, что его долго дробили тяжелым молотом и нарочно укладывали вверх остриями, чтобы не шагнуть по нему ни ноге лошади, ни ноге человека. Мелкие острые зубцы камней устлали гору от подножия до самой вершины. Между ними тут и там виднеется ягель.
— Валерия Александровна! — говорит Сафьянов. — Слезайте наземь, голубушка. Пойдем пешками. Лошади с кладью здесь никак не пройти. Все ноги обобьет… Слезайте, Валерия Александровна.
— Ладно… Идите вперед. Я последняя. А то я буду задерживать…
И она зашагала последняя.
Да какое там «зашагала»!
Натруженные ноги подломились будто сами собой. Упав на колени, она поползла по камням, в кровь царапая ладони. Ползла и держала в руке поводья спотыкавшейся лошади.
И все успели уйти далеко вперед. А она ползла.
Их не стало видно, она осталась одна среди этого безмолвия, неба и гор.
Одна со своим конем.
И тут, сдаваясь, она легла на землю, прижавшись животом к острому камню. Остановился Гнус, и застыли поводья в Лериной руке.
И вдруг откуда-то из-за камней раздалось:
— Иго-го!
— Ау! Ау!.. — слабо ответила Лера.
— Иго-го! Кой-кой!
…Они медленно приближались друг к другу: он, повернутый спиной к солнцу, она — лицом к солнцу.
Шли осторожно, как бы опознавая друг друга, как бы прислушиваясь друг к другу среди этого тумана, белой мглы, тишины и равномерного цоканья копыт.
— Валериа!
— Чонак!
— Пошли! Пошли! За плечи держись! За плечи!.. Крэпче, крэпче дэржись…
Они идут. Впереди — Чонак, позади — Лера. Лерины руки лежат на плечах Чонака.
Все глаже путь. Все чище дорога.
— Чонак!
— Сэстренка!..
А гора между тем стала круто спускаться вниз — вся застланная мягким сухим ковром ягеля. И вдруг, расколовшись, она открыла равнину.
Первыми у подножия горы их встретили олени. В этот полуденный, жаркий для них час они стояли, сгрудившись, опустив головы, переплетясь рогами причудливо и неподвижно. Плели свой морозный узор рога в сияющем небе.
Впереди был стан.
Добрели.
С комсомольским приветом, оленеводческая бригада!
Часть третья
Авиапочтой.
Москва
Государственный библиотечный институт.
Заведующему кафедрой фондов и каталогов преподавателю Алябьеву Николаю Николаевичу
Обратный адрес: Тувинская автономная область, Тоджа. Тора-хем. До востребования. Соколовой В. А.
Дорогой и глубокоуважаемый Николай Николаевич!
Как хорошо, что Вы есть.
Я думаю, главное желание человека — быть понятым. Главное счастье — в уверенности, что он и в самом деле будет понят, а значит, получит одобрение, прощение… А иногда и оправдание, Николай Николаевич.
Если человека понял друг, учитель, мать или товарищ, он не может чувствовать себя одиноким, куда бы ни занесла его судьба. А у меня на всем свете только один-единственный родственник — это моя бабушка. С детства я привыкла писать ей длинные письма: из лагеря, из экскурсий — отовсюду… Но вы для меня иногда даже ближе, чем она. Ей я не все могу рассказать.
Сейчас я нахожусь в оленеводческой бригаде — самой дальней точке северо-восточной части Тувы.
Мы повезли сюда семьдесят книг. Задача моей поездки — организовать в оленеводческой бригаде библиотеку-передвижку.
Для этого я должна была:
1. Найти на месте избача — хорошо грамотного человека, знающего русский язык.
2. Убедить местных товарищей, что книга — это счастье. (Только хлеб и счастье люди согласятся добровольно везти через тайгу, в жару и холод. Только если книги действительно станут счастьем, люди будут оберегать их от полевых мышей, дождей, огня; бережно снимать с лошади на привалах, тащить на собственных плечах там, где не может проехать конь с кладью…)
Сейчас утро. Часов, может быть, семь. Я сижу на земле, подостлав под себя чужой плащ (свой потеряла в дороге). Листочки, на которых я пишу, лежат на пне — столов здесь нет.
Оленеводческая бригада расположена в котловине. Справа — горы. Некоторые из них покрыты вечным снегом. Снег лежит на вершинах, а на снегу какие-то темные пятна. Я не знаю, что это такое — озера, ручьи или просто так, тает на солнышке.
Чумы стоят в низинах. В небо поднимается дым от очагов.
Когда смотришь вокруг, начинает казаться, будто все, что было древней Тувой, — берестяной чум, олень, очаг, — отступило сюда, чтобы дожить здесь свой век, не тронутое временем.
Здесь не увидишь ни поля, ни огородной грядки — тут так холодно, что хлеб не родится. Не знаю, может быть, через несколько лет он дойдет и сюда. Но сейчас здесь еще нет ни одного колоса, — я уж и не говорю об овощах.
Здесь нет ни кино, ни клуба, ни домов — зачем строить дома, если оленеводы не живут на одном месте?.. Оленеводческая бригада — последнее кочевье Тувы. Клад оленевода не дом и не колос, а олень. Тоджинцы не могут охотиться без оленей, а охота — золотой промысел Тоджи. Зимой, когда по тайге из-за глубокого снега не проехать лошади, за каждым охотником закрепляется по нескольку оленей. Так олень здесь и называется охотничьей лошадкой. Летом олени пасутся у тоджинских холодных гор — отдыхают и отъедаются. Объедят ягель на одной стоянке, и бригада двинется дальше, вслед за своими стадами.
Но я отлично понимаю, что нынешние оленеводы — это уже не прежние, не древние кочевники: они колхозники. Оленеводческая бригада — часть большого колхоза «Седьмое ноября». Там, в колхозе, для оленеводов, как и для всех колхозников, которые еще живут в чумах, строятся новые дома; они стоят с раскрытыми дверьми и ждут к зиме своих хозяев.
Дорогой Николай Николаевич! Здесь очень много оленей: три тысячи голов.
Пока я пишу это Вам, олени выглядывают из-за кустов; ходят неслышно, и вдруг из веток прямо на вас — оленья морда, неподвижная рогатая голова. Смотрят в упор большие глаза, в которых будто совсем нет белков — один огромный зрачок. Ресницы у них очень длинные, а губы вздрагивают. Это они принюхиваются или просят соли.
Олени ходят и всюду тычутся мордами, они ручные и никого не боятся. Сидишь, например, в чуме, и вдруг неслышно просунется в чум оленья голова, задрожат большие губы, и олень с такой добротой и так кротко посмотрит на огонь.
С непривычки очень страшно, когда кругом шагают олени. Они не все время шагают, ведь и оленям надо когда-нибудь спать, но вдруг — то ли они проснутся, то ли сверху, с гор, спустятся в стан — и темное, живое неслышно выглянет из-за кустов. Страшно!
Тут — в оленеводческой — много стариков и детей, а молодежи нет. Оленеводство — промысел древний, исконный для этих мест. Немудрено, что именно старики считаются здесь лучшими оленеводами. Кроме того, почти все молодые колхозники учатся — овладевают более сложными профессиями. Они живут в колхозе, а ребята приезжают сюда к родителям и дедам только на летние каникулы.
Но вообще-то здесь народу мало — всего тринадцать чумов.
Рано утром, на следующий день после приезда, я и Чонак Бегзи, учитель, мой переводчик, пошли в красный чум и принялись устраивать выставку. Я предполагала сделать тематическую выставку: тема — северное оленеводство. Мне казалось, что это должно больше всего заинтересовать читателей. Но Чонак захотел, чтобы на этом первом библиотечном стенде стояли только те книги, у которых яркие, завлекательные, красочные обложки. Замысла, объединяющего подбор книг, у него не было. Мы поспорили. Чонак настаивал на своем. Он сказал, что так будет лучше для первого раза. Я поверила.
Стенд мы соорудили из боковушки консервного ящика.
Часам к пяти стали собираться читатели. Они шли медленно, гуськом… Почти все были одеты в национальные костюмы — тоны. (Тона — это такой шелковый или меховой халат со стоячим воротником.) На ногах у них идыки — мягкие сапоги с загнутыми кверху носками, а один старик пришел в старинной остроконечной шапке, обшитой куньим мехом.
Огонь в очаге, цветы (ребята собрали их утром где-то далеко от стойбища), стенд с книгами в ярких обложках, шелковые и меховые тоны наших слушателей — все вместе было очень нарядно, но как-то не похоже на правду. Словно во сне снится. Цветы уже начали вянуть. Пахло травой. Люди ждали. Я и Чонак сидели на ящиках из-под консервов.
Когда все собрались, Чонак сказал (разумеется, я передаю приблизительно):
— Сейчас товарищ библиотекарь прочтет «Сон Макара» — рассказ знаменитого русского писателя Короленко. О прошлой жизни. О Якутии — крае на Дальнем Севере. Там люди жили, вроде как мы в старину. Да зачем — в старину? Еще недавно так жили. Терпели двойную кабалу: и от своих богатеев и от колонизаторов. Кабатчики, купцы, чиновники грабили народ, кто как умел… Вы многое вспомните, товарищи. Лери! Читай!
И я начала читать.
Этот рассказ я знала по-тувински почти на память (учила его больше полутора месяцев).
В Кызыле я боялась читать вслух у себя дома (моя комната — на первом этаже, во дворе — люди, и через открытое окошко все слышно). Подумали бы небось, что приехала сумасшедшая: сама с собой болтает. Я уходила на чердак и читала шепотом, сверяя тувинский текст с русским. Я убивалась, — верите?.. Я каждый день проверяла фонетику с одним парнишкой, тувинским учителем. Он здорово меня гонял. И он, понимаете, все-таки мне сказал напоследок: «Рискуй, Лери. Честное слово, хорошо получается. Бросайся в море — и поплывешь. А то никогда не научишься… Одним словом, рискуй! Поймут».
И вот, Николай Николаевич, я наконец сижу перед читателями, стараюсь не торопиться, соблюдать ударения, выдерживать паузы.
Это похоже на экзамен.
Помните начало рассказа?
«Этот сон видел бедный Макар, который загнал своих телят в далекие, угрюмые страны, тот самый Макар, на которого, как известно, валятся все шишки.
Его родина — глухая слободка Чалган — затерялась в далекой якутской тайге…»
С первых же слов у меня появилось чувство неловкости.
Может быть, Вам приходилось когда-нибудь испытывать это тяжелое чувство? Читаешь — и все кажется длинным, лишним, каждую страницу хочется пропустить. В сердце пусто, а уши горят.
Я себя успокаивала: «Ничего, ничего… Ведь это же экспозиция… Докатиться бы только поскорее до того места, где Макар запрягает своего Лысанку, и мне станет полегче…»
Я читала дальше, не поднимая головы, а неловкое чувство все росло.
Мне уже хотелось пропустить не одни только первые строчки, не только первую страницу… Весь рассказ вдруг потерял для меня обаяние — его как будто не слышали. Я произносила слова, а они их не слышали.
Я читала, читала… И я еще старалась улыбаться, дура! И все себя успокаивала: «Да не может этого быть! Все это мне кажется. Главное, не заглатывать окончаний, читать выразительно. Во всем, наверно, виновато мое произношение. Яснее! Четче! Не торопиться!»
И вот я дошла до того места, где Макар приходит в юрту к чужим. Помните?
«— Нет ли жареного? Я люблю, — сказал он.
— Нет.
— Ну, ничего, — сказал Макар успокоительным тоном, — съем в другой раз. Верно? — переспросил он. — В другой раз?»
И тут я подняла от книги глаза.
Против меня сидела седая женщина. У нее было лицо тускло-медного цвета, все в глубоких складках, похожее на растрескавшуюся кору дерева. Она была очень старая.
Наши глаза встретились, и я прочла в ее старых глазах недоуменное выражение. Не холодное, не равнодушное, а вот именно что недоуменное. Николай Николаевич! Я поскорее опустила глаза в книгу. Мне показалось, я начинаю о чем-то смутно догадываться…
И вот я с трудом дочитала до того места, где Макар заблудился в тайге.
Первый раз в жизни короленковская тайга не сияла для меня ночным снегом, я не слышала морозного похрустывания под ногами Макара.
Люди сидели у очага полукругом. Их лица сливались в одну сплошную полосу. Это было как будто бы одно общее, одно-единственное лицо — у мужчин, женщин, у старых и молодых. Оно было каменное.
Когда я перевела дух, никто не шелохнулся. Мне показалось, что мои слушатели спят с открытыми глазами… Ох, если бы вы знали, как мне стало стыдно! Зачем я оторвала людей от дела, от сна, от хозяйства? Пусть это было из самых добрых намерений, но ведь неудачу намерениями не оправдаешь — на то она и неудача.
До этой моей знаменитой встречи с читателями я думала, что мужество — проехать верхом через тайгу, добиться транспорта, писать в любых обстоятельствах бодрые письма бабушке.
Нет. Сидеть тут. Продолжать читать, когда никому это не интересно и не нужно, — вот это, наверно, и было мое глупое мужество.
И я читала, читала… А прекрасный, сердечный, поэтический рассказ Короленко смотрел на меня удивленно с каждой страницы книжки. А я удивленно смотрела на него.
В этом рассказе есть все, за что мы ценим книгу, искусство. Из каждой его строки возникает мир снега, юрт, дыма. Короленко глядит на этот голодный, нищий, старый якутский мир глазами Макара. И вместе с тем он глядит на Макара со стороны глазами Короленко — человека, писателя, неутомимого солдата справедливости. Так я всегда думала. Но сейчас это мне ничуть не помогало.
И вот я наконец докатилась-таки до последней строчки.
Кончила. Полная тишина. А чувство такое, словно люди все еще чего-то ждут. Когда ты, мол, приступишь к делу, товарищ библиотекарь?.. Ведь мы собрались. Это ты нас собрала.
Что делать, а?.. Ударять мне, что ли, в медные тарелки?! Петь?.. Плясать?.. Плакать?..
— Нет ли вопросов? — спросил Чонак.
Тишина. Вопросов не было.
И тут я увидела лицо бригадира. Здешний бригадир — человек лет сорока, очень высокий, широкоплечий. Лицо у него мужественное, с очень черными, почти что синими бровями. Наши глаза встретились, и он учтиво опустил свои. Было видно, что ему хочется улыбнуться.
Мы предполагали сперва — я и Чонак — рассказать в заключение биографию Короленко.
Но было не до биографии. Встреча начисто сорвалась.
— Передай, что завтра в пять мы опять соберемся в красном чуме.
Чонак перевел.
Люди стали медленно расходиться. Они молча шли мимо нас, и каждый подавал нам руку: сперва мне, потом Чонаку. Прямую, негнущуюся ладонь. Молча.
И уходили один за другим.
Среди читателей было двое моих старых знакомых — ветфельдшер Самбу (который выручил меня, когда я упала с лошади, и очень вообще меня уважал — кажется, за то, что я, по его понятию, человек образованный) и старик Таджи-Серен (он совсем меня не уважал и все косился на мои книжки, когда мы ехали через тайгу).
Старик вышел из чума последним.
Перед тем как уйти, он наклонился и похлопал меня по плечу. Я чуть не заревела от благодарности. Встала и, опередив его, выбежала из чума.
Я шла и не видела, куда иду. Я думала… Думала о том, что ничему не научилась в институте, потому что есть вещи, которым, видно, научить нельзя, — они заложены в человеке; о том, что был прав один мой знакомый доктор, когда смеялся над работой библиотечного методиста; о том, что если хочешь нести культуру людям, особенно другому народу, надо понимать этот народ, угадывать, что ему близко и дорого.
Тувинцы умеют и любят слушать сказки, это я знала. Когда-то, когда еще не было письменности, они брали с собой на охоту сказочников. Но ведь книга должна быть сильнее бесхитростного рассказа старика!.. Стало быть, дело все-таки было во мне. Это я навсегда погубила для них Короленко, потому что плохо читала вслух. Выговор, наверно, как я ни старалась, все же не тот.
Я легла на землю животом вниз, а лицо спрятала в рукав. И, сама не знаю как, потихоньку запела. Не смейтесь, Николай Николаевич. Это у меня привычка такая — с самого детства. Когда мне очень худо, я всегда что-нибудь пою.
И вдруг кто-то сказал рядом:
— Неплохо поешь!
Я подняла голову. Около меня сидел Чонак Бегзи, мой переводчик, и тихонько посмеивался. Он молчал. У него хватило ума и доброты не разговаривать со мной.
— Попробуем завтра почитать «Дубровского», — сказал он вдруг.
— Неужели ты воображаешь, что завтра кто-нибудь придет?
Он не стал отвечать, вздохнул и похлопал меня по плечу, солидно и молча. Как Таджи-Серен.
Ночью я встала, потому что завыл привязанный к кусту Джульбарс (это собака моего проводника). Я взяла ломоть хлеба и пошла покормить собаку.
Было очень тихо. Здесь странная ночная тишина — прозрачная, ничем не нарушаемая, и все-таки слышится какой-то дальний звон. Может быть, это и есть звон тишины?..
Еще было слышно, как бьется в берегах ручей. Ручей здесь очень маленький и чистый. Он течет на порядочном расстоянии от стана, но было так тихо, что я его все-таки услышала.
Мимо прошел олень и не взглянул в мою сторону, прошагал к стойбищу и там застыл. Все было до того неподвижное, что мне стало страшно и сладко. Мне даже показалось, что горы гудят своим каким-то особенным звуком.
Стойбище оленей все было залито луной, и были видны оленята, которые лежали на земле, низкий кустарник, столбы с крючьями (когда старухи доят оленей, они вешают на эти крючья берестяную посуду с надоенным молоком).
Посредине стойбища стоял олень, который только что спустился с гор. Он спал стоя, наклонив голову. Свет луны как будто стекал с его рогов. Они были такие большие, что казалось, оленю их не удержать.
В дальнем чуме, сквозь бересту или щель, сквозил огонь — единственный живой свет в стане. Около чума лежали большие камни. И вдруг один камень задвигался.
Оказалось, что это старуха, которая сидела на камне.
Мы с Джульбарсом подошли, я села рядом. Это была та самая старуха, которую я заметила во время читки. Мне очень хотелось с ней заговорить. Но я не осмелилась, потому что говорю по-тувински еще хуже, чем читаю вслух.
На поясе у старухи был крючок из серебра. Старые люди подвешивают к поясу крючки для трубок, иногда старинные, тонкой работы.
Я протянула руку и стала рассматривать крючок. Старуха сидела и курила. Я ее обняла и сказала: «Бабушка». Она повернула ко мне лицо, косынка упала с ее головы, и на плечи, на грудь побежали ее длинные серебряные волосы. Их было очень много, они были густые, мягкие, шелковые, тонкие. Я ей сказала: «Бабушка, вы косыночку уронили». И подала. Но она не стала завязывать косынку, и тогда я сама аккуратно подобрала ей волосы и повязала их. Она продолжала молча курить, а глаза смотрели в мою сторону. Потом старуха встала и пошла в чум. Было скользко, но она шла прямо и твердо.
Мы с Джульбарсом тоже собрались было уходить, как вдруг она вернулась и подала мне туесок. Я подумала, что в нем молоко, открыла крышку, а он пустой. Она улыбалась. Все ее лицо было бронзовое, темное, а волосы белые. Я сказала: «Спасибо, бабушка» — и унесла туесок.
Я шла к своему чуму, а рядом шел Джульбарс. Мы тихо шли, чтоб никого не разбудить. Я привязала Джульбарса к кусту, и он тявкнул.
Стало светать. С гор начали спускаться олени. Они шли по двое, по трое. А с другой горы — целое стадо, и впереди — вожак.
Стадо было большое, олени шли так густо, что не было видно склона холма. Издали было похоже, что это земля ползет, потому что склоны гор серые и олени серые, вот все и сливается.
Потом задвигалась равнина. Не стало видно болота, а олени все шли и шли… Словно лавина скатилась с гор и все покрыла собой.
В эти утренние часы здесь всегда бывает очень шумно и людно. Оленей сгоняют вниз, на стойбище, для того чтобы они не дичали, не отвыкали от людей. Ветфельдшер осматривает стада, оленихи кормят оленят. Шум, крики. Ребята сидят верхом на оленях, подгоняют их и орут: «Кой-кой!»
Если бы не туесок, мне бы казалось, что этой ночи не было, не было старухи, не было огонька в чуме и огонька в трубке.
Туески делаются из бересты. Это очень удобная посуда, у нее форма конуса со срезанной верхушкой. Ручка — из конского волоса, заплетенного в косу. Это настоящий подарок Тувы, такой туесок.
Я смотрела на него и думала: «Нет, не может быть, чтобы никто не пришел на читку. Хоть из вежливости, да придут». А при чем тут туесок, я, знаете, до сих пор понять не могу. Но всякий раз, когда я смотрела на него, мне становилось спокойнее и легче. Я его непременно привезу с собой в Москву и попрошу, чтобы Вы его от меня приняли и повесили у себя дома около книжных полок.
Я поднялась по земляным ступенькам с оленьего стана на стойбище и давай обходить чумы один за другим. Надо же было найти подходящего избача. И действительно, я его скоро нашла. Это тувинка, жена местного бригадира. Ее зовут Анчима Арыг-кол.
По-русски Анчима говорит довольно хорошо. Я было попробовала прочесть ей что-то вроде маленькой лекции о значении книги и библиотеки-передвижки. Она молча слушала, кормила ребенка и тихонько гладила его по голове. Когда я кончила, она подняла глаза, и я увидела, что она смеется надо мной.
Оказывается, Анчима училась три года в Ленинградском институте народов Севера и, если бы не вышла замуж, получила бы высшее образование. Я стала расспрашивать: неужели она не могла немного подождать? Она мне ответила: «Любовь не ждет».
Это правда — любовь, наверно, не ждет. Но, поскольку любовь не занятие, а состояние, можно было, по-моему, все-таки раньше окончить институт, а потом уже приехать сюда и выходить замуж.
Я лежала в чуме у Анчимы, рядом с ней, и старалась заснуть. Но не могла. И что только не лезло мне в голову!.. Могу сказать одно: не знаю, как я дождалась четырех часов.
В четыре часа мы пошли в красный чум — я и мой новый избач. Анчима взяла с собой свою грудную девочку.
Половина пятого — ни души.
Пять часов — в чуме никого, кроме нас с Чонаком.
Четверть шестого. Чонак начинает весело посвистывать и уходит из чума.
Половина шестого. Ни Чонака, ни читателей.
И вдруг откидывается шкура, и входит Чонак с Таджи-Сереном. Опять откидывается шкура, входит та старуха, что подарила мне туесок. Подъезжает верхом на олене бригадир — муж Анчимы. Он крупный человек, а на олене кажется просто огромным. Его большие ноги в кирзовых сапогах упираются в крошечные стремена.
Потом опять олень. На седлышке у него — четверо ребят. Они крепко держатся друг за дружку: «дедка за репку, бабка за дедку…» Самому маленькому лет шесть.
И снова олень; верхом на олене старуха доярка.
Их было много. Еще больше, чем в первый раз. Они приходили и приезжали с гор и со стойбища. Один за другим. Не нарядные, как были вчера, а в стеганках, в рабочей одежде.
Последним пришел Самбу.
Чонак встал.
— Ваш новый избач, местный товарищ, женорг Анчима Арыг-кол прочтет рассказ самого знаменитого русского поэта — Пушкина. Рассказ называется «Дубровский». Дело происходит в России. В царское время… — И вдруг по-русски: — Давай нажмем, Анчима!
Анчима принимается читать. На коленях у нее тихонько дрыгает ножкой ее грудная девочка. Люди курят. Двигаются только руки с трубками.
Анчима читала, надо сказать, отлично и почему-то немного нараспев.
После первой страницы лица стали оживляться. Не то чтобы черты пришли в движение, нет, этого нельзя сказать, а свет какой-то зажегся и осветил их. И сразу как будто бы расступилась стена. Стал виден не один-единственный каменный лик. Нет, я увидела лица, множество лиц. Разных. Разные характеры, усмешки, руки, трубки. Даже дым из каждой трубки шел по-своему.
И вот руки опустились. Трубки застыли в руках у курильщиков.
Я разыскала среди слушателей вчерашнюю старуху. Она сидела у очага, чуть сгорбившись, выставив вперед острый подбородок. Ее беззубый рот улыбался. Точно так же улыбается, слушая то, что ей нравится, моя бабушка: улыбкой удовольствия, неторопливой и задумчивой.
И странное дело! Стоило мне вспомнить об этом бабушкином выражении, увидеть эту знакомую, полубеззубую улыбку, как русское лицо моей бабушки стало глядеть на меня сквозь темное лицо тувинки. У меня даже защекотало в носу. Я быстро перевела глаза на ребят.
Тэрэк (есть тут один такой мальчик, мой старый знакомый) слушал, чуть-чуть приоткрыв рот, его лицо выражало почти страдальческое сочувствие Дубровскому. Казалось, он вот-вот начнет лупить себя по коленке кулаком — совсем как наши мальчишки, когда в кино их разбирает отчаяние от невозможности вмешаться в чужую жизнь.
А когда Анчима дошла до сцены в суде, до того места, где беспомощный старик Дубровский стоит против торжествующего Троекурова, послышался шумок. Как шум прибоя. Легкое общее движение. Может быть, это был шорох одежды.
И опять стало тихо.
Потом, когда младший Дубровский жег свою усадьбу, я услышала, как кто-то крякнул. Посмотрела — это Таджи-Серен. Шепот пробежал по чуму.
И опять настала тишина. Когда Анчима читала про подвиги Дубровского на большой дороге, было так тихо, что слышно было потрескивание огня в очаге.
Но я не боялась этой тишины. Она была хорошая, живая, полная внимания. Я радовалась ей.
Люди смотрели пристально на шевелившийся рот Анчимы, и каждое лицо выдавало сокровенный характер слушающего. Целая галерея суровых и нежных, замкнутых и доверчивых, простосердечных, учтивых и, если можно так выразиться, музыкальных, да, вот именно — музыкальных человеческих лиц.
Когда Дубровский убил медведя, раздался смех. Мальчишки о чем-то заговорили быстро и весело.
Дальше шла повесть о любви…
«Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливый мыслию, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно».
Лицо старухи, похожей на мою бабушку, было удивленно и растроганно… Она вздохнула.
Может быть, бунтующая сила Дубровского напомнила людям о прошлом их народа, о восстании шестидесяти тувинских богатырей? (Это вроде нашего пугачевского восстания.) Слушатели явно были на стороне человека, сумевшего постоять за свое достоинство и не склонившего головы ни перед властью Троекурова, ни перед его богатством. А вместе с Дубровским, которого они полюбили с первых страниц у книги, им стала дорога судьба его любви.
Как нам нужна была полная победа, Николай Николаевич! Мне, Анчиме, Чонаку! Как я хотела, чтобы ожила книжная выставка, чтобы ясно стало, что за каждой яркой обложкой много прекрасных рассказов… Тогда я спокойно убралась бы восвояси и знала бы: «порядок». Читают и будут читать. Не только при нас. Но и после. И книги требовать будут. И ждать будут вечеров в красном чуме. И перетаскивать книги на новое стойбище.
Я хотела, чтобы на спине оленя вслед за бригадой ехал целый мир — моя библиотека-передвижка. И если надо еще десять раз проехать для этого через тайгу, я согласна. И каждый день согласна расшибать себе башку.
Анчима дочитала. Заплакала грудная девочка. И вдруг — взрыв!.. Заговорили все разом, и все слилось в гул. Поднял ко мне сияющие глаза мальчик Тэрэк.
Чонак сказал:
— Товарищи, внимание! Сейчас товарищ библиотекарь расскажет биографию великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
— Алэксандр?!
— Алэксандр.
— Пушкин?!
— Пушкин…
Шум сразу стих, и настала глубокая, ой, до чего хорошая тишина.
И чего тут дальше писать, Николай Николаевич?! Мы с Чонаком, конечно, маху не дали. Уж и задали мы перцу и Николаю Первому, и Дантесу, и Бенкендорфу…
А когда оленеводы услышали о том, как простые люди, несмотря на запреты полиции, пришли к дому на Мойке, чтобы проводить Пушкина в последний путь, все стали учтиво и молча поглядывать на меня. Пушкин был русский. Мне выражали сочувствие как представителю русского народа.
В заключение Чонак прочел «Памятник». Читая последние слова, он встал:
…И назовет меня всяк сущий в ней язык, — И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий Тунгус, и друг степей калмык.Нас окружили. Нам пожимали руки (но совсем не так, как в тот раз). Победа была полная, Николай Николаевич.
На следующий день мы провели три встречи с читателями. Взрослым читали отрывки из «Повести о настоящем человеке», ребятам — «Кавказского пленника» и отрывки из «Улицы младшего сына».
После того счастливого вечера (не смейтесь, пожалуйста, но я и в самом деле была счастлива) я долго говорила с Чонаком, пыталась дознаться, в чем суть, как это могло случиться, что я чуть было всего дела не сорвала? Наверно, это потому, что я плохо читала по-тувински, так, что ли?
Он ответил: «Вовсе нет. Если хочешь правду знать, так люди всегда любят, когда кто-нибудь старается на их языке говорить. Уважает, значит. Дело не в этом. Дело в Макаре… Твой Макар — пассивный человек, понимаешь?.. Он не борется. За него Короленко борется».
И я вдруг поняла.
Еще совсем недавно тувинцы с помощью русских свергли власть феодалов, прогнали нойонов, чиновников, лам — вот эти самые старики, мои слушатели. А Короленко напоминает им о страшной поре, поре унижения, бесправия, лютой бедности. Макар — недавнее прошлое, но он теперешним тувинцам более далек, чем пушкинский Дубровский, живший столетие назад. Макар жалок, беспомощен, и они не хотят видеть себя в таком темном зеркале. Дубровский, гордый, блестящий, смелый, им гораздо ближе и милее.
Я не очень точно передаю свои мысли — их довольно трудно выразить, — но дело было именно в этом, а вовсе не в моем произношении.
Вот уже четвертый день, как я тут живу, дорогой Николай Николаевич. Я еще не всех колхозников знаю в лицо, но меня, кажется, знают все: чаще и чаще останавливают на дороге, особенно ребята. Они просят, чтобы я рассказала им про Москву.
Один раз ко мне подошла та самая старуха и спросила: «Вы, верно, расскажете там о нас?.. Что вы расскажете о нас?»
Я немного растерялась и ответила: «Расскажу, как благодарна вам за ваше гостеприимство и доверие. Расскажу, как вы живете и трудитесь, какие здесь хорошие, умные и добрые люди…»
Старуха кивнула. Потом она подумала и величаво ответила: «Хорошо. Вы можете рассказывать о нас».
А вчера здесь первый раз в жизни заиграла музыка… Вот как это было. Мой сопровождающий — техник. Председатель колхоза «Седьмое ноября», Монгульби, дал ему с собой радио.
Техник — его фамилия Сафьянов — возился со своим радио несколько дней и вдруг наконец установил, наладил. Поймали Москву. Какой-то хороший пианист, я не расслышала его фамилии, играл шопеновскую баркаролу.
Когда раздался первый звук, я просто не поверила себе. Невозможно было поверить.
Сафьянов сидел в траве, подняв колени, курил, а кепка у него была сдвинута на затылок. Он искоса поглядывал на меня с таким равнодушным видом, как будто так и надо, чтобы тут было радио, и ничего особенно не случилось. Но он знал, что я радуюсь.
Со всех сторон шли люди. Медленно. Даже ребята шли медленно. Все в рабочей одежде. Женщины несли на руках маленьких детей.
Поднялся какой-то вихрь музыки. Здесь очень сильное эхо. Все повторяло эти звуки, прилетевшие издалека. Музыка поднялась до самых гор.
Был вечер, и уже почти совсем стемнело. До того, как заиграло, я думала о разных пустяках: о том, что потеряла полотенце (ручей унес) и что плохо без полотенца; о том, что мой сопровождающий посадил на цепь свою собаку Джульбарса и не позволяет его кормить, говорит: «Хозяева обижаются, оленьим сыром собаку кормишь»; я думала о том, что хорошо бы все побыстрее наладить, поручить библиотеку Анчиме и вернуться в колхоз «Седьмое ноября», потому что у меня все время ноги мокрые — сапоги кирзовые, а земля влажная, — да и немудрено: на носу осень, все время дожди.
И вдруг — Шопен. Он мне напомнил про самое главное. Что главное, я не знаю, но, пока я слушала Шопена, мне казалось, что я думаю только про главное. Мне казалось, что от музыки дрожат кусты и даже камни и что горы стоят тут как часть этого самого главного.
И чего-чего я только не вспомнила и чего себе не вообразила, когда слушала эту неожиданную музыку, это первое радио оленеводческой бригады. Ну, совсем как в детстве, — дурость, и все!
Ну, например, вроде того, что меня вдруг вызывает к себе в Кызыле Тока — первый секретарь обкома. (Тока — национальный герой Тувы. Он с оружием в руках сражался против местных феодалов. Он первый писатель Тувы. Первый ликвидатор неграмотности у себя на родине, то есть первый тувинский учитель; он первый председатель ученого комитета; первый тувинский физкультурник; первый шофер; первый актер Тувы.)
И вот я, понимаете, вообразила себе, что Тока вдруг вызывает меня в обком и ни с того ни с сего говорит: «Соколова, вы молодец!»
Я отвечаю ему скромно, но с достоинством: «Не знаю, о чем вы говорите, дорогой товарищ Тока. Я такая же, как все наши ребята».
И еще я думала о Шопене…
И почему это так бывает, Николай Николаевич, что люди, которые умеют любить, может быть, лучше других, так сильно, что на весь мир хватило бы, ничего или мало что получают в ответ, — не получили же ни Маяковский, ни Шопен, например, большой любви — такой, как наш бригадир-оленевод, грубоватый, насмешливый, жесткий человек. Но ведь полюбила же его Анчима до того сильно, что все на свете ради него бросила!
Почему, почему это так бывает, Николай Николаевич? Я все думаю об этом и не могу себе ответить.
В одной старой тувинской сказке говорится, что любовь — это человечек — желтая шишка. У человечка — желтая шишка деревянные ручки, ножки и голова. На нем маленькая шапка, отороченная мехом, и меховой тон. Когда ветер, человечек слетает с кедрового дерева и шагает по тайге. Шагает слепо. Если он попадает на камень, то ничего не родится, не вырастет другое дерево, а если на землю, то родится дерево. Вот, мол, такова и любовь.
Выходит, что любовь — несправедливость!
В социалистическом и коммунистическом обществе не может быть несправедливости. Сказка про человечка — желтая шишка — это старая сказка.
Но, пока музыка звучала между горами, я ничего у себя не спрашивала. Мне казалось, что я и так все знаю.
Я видела дальний огонь в чуме, и это было хорошо. Я видела техника Сафьянова, он установил радио, а теперь сидел на траве, щурился и ждал, что его похвалят. И это тоже отчего-то было хорошо. Лицо у него было спокойное, величавое, и видно было, что он ничего не боится — даже смерти.
И я тоже ничего не боялась, а только была счастлива, сама не знаю почему.
Я даже на Чонака перестала сердиться, а мы с ним крепко поссорились накануне. Но тут я поняла, что человек должен во всем видеть главное, а на мелочи и внимания обращать не надо.
Ссора вышла из-за пустяка. Я его спросила: «Говорят, что раньше тувинцы не умели целоваться?»
Он ответил: «Хочешь, я тебе покажу, как целуются тувинцы?»
Конечно, вопрос мой был не слишком умный, но ответ еще во сто раз глупее.
Я обозвала его стилягой и сказала, что подробно расскажу в райкоме комсомола о том, как он меня сопровождал.
Тогда он засмеялся мне в лицо и ответил: «Валяй! Рассказывай. Прошу! А ты знаешь, что здесь в лесах живет Албыс? Для женщин это самый красивый мужчина на свете, для мужчин — самая красивая женщина. Берегись! Албыс из-за любого дерева может выглянуть, когда ему вздумается. Увидишь — пропадешь!»
Я ему ответила, что он набит предрассудками.
Но это неправда. Он по-настоящему добрый и по-настоящему делает свое дело. Если говорить по чести, я бы просто пропала без него. Это он бегал из чума в чум (перед второй читкой) и разослал во все стороны ребят, чтобы собрать читателей. Поэтому-то они и съезжались со всех сторон на оленях и были все в рабочей одежде. Никто из них и не думал прийти в красный чум. Если бы не Чонак, все бы начисто сорвалось. (Он хотел скрыть это от меня, но я дозналась. Мне рассказала Анчима).
…Я человек без совести, Николай Николаевич! До чего длинное написала письмо… Но я не могла молчать, так много всего было на душе. Особенно после вчерашнего вечера. После сафьяновского радио.
А больше я уже так длинно, честное слово, писать не буду.
Один мой знакомый доктор говорит, что это признак отсталости — писать длинные письма. Может быть… Но если я никогда никому ничего не доверю, так как же те, кого я уважаю, узнают, что мне их недостает?
А бабушка моя всегда говорит, что молчание — золото. И однако же я больше люблю серебро. Я бы хотела найти серебро, а не золото в этих богатых горах.
Дорогой Николай Николаевич! Не сердитесь, но я самовольно взяла себе право, несмотря на разницу лет, считать Вас своим другом. Ведь это Вы открыли мне Омара Хайяма, Герцена, Маяковского… От Вас я получила этот подарок, как оленеводы — радио от Монгульби.
Скоро мы опять поедем через тайгу. Я уже вижу, как мы садимся на лошадей. Самое трудное место — это первый перевал, но Чонак и Сафьянов говорят, что обратно мне будет полегче, что я уже не буду ползти по земле и падать с коня.
Каждый раз, когда я откуда-нибудь уезжаю, мне грустно, потому что я оставляю позади привязанность к новым людям. Нет, еще хуже. Я ее увожу с собой.
На этот раз я увезу с собой память об оленеводческой бригаде и это письмо к Вам. Чтобы опустить его в почтовый ящик, я должна везти его в кармане или за пазухой четыреста километров через тайгу, а потом от колхоза «Седьмое ноября» — восемь километров до телеграфа и почты. (Почта находится в Тора-хеме. А в колхозе «Седьмое ноября» — только ее отделение, почтовый ящик.)
Вокруг меня стоят ребята и смотрят, как я быстро вожу самопишущим пером. Они, наверно, думают, что я затеваю что-то новое, библиотечное.
Три часа дня. Даже рука болит, до чего расписалась!
Ответьте мне, пожалуйста, и помните меня. Мне это очень нужно.
Ваша глубоко Вас уважающая ученица и друг (если можно?)
Валерия СоколоваЧасть четвертая
1
Нет, этого не может быть! Не может быть, чтобы дорога наконец окончилась. Не может быть, чтобы перед ними в самом деле был колхоз. Он шутит.
Но Сафьянов не шутил, ему было не до шуток. Он знал, что они опоздали на целых четыре дня, и все эти дни идут телеграфные переговоры насчет самолета: «Что случилось? Выручать?..»
Из-под его набухших, багровых от усталости и солнца век смотрели на Леру прищуренные глаза-буравчики. Старику хотелось пить, обтереть лоб, выпрямить спину. Ему хотелось поскорее отрапортовать, что они уже вернулись и все в порядке. Он сердился. Сердился на свою немощность, старость, на Лерину бестолковость, на тяжесть дороги, пыль, солнце… Ну и белое же оно!.. Жжет. Глянешь вправо — поля, как будто чуть-чуть дрожащие от раскаленного воздуха, — глазам больно; посмотришь влево — ослепит огромная голая, желто-белая равнина…
Под ногами у лошади глинистая, прокаленная насквозь почва. Верхний слой почвы превратился в пыль. Пыль белая. Короткие травинки пожелтели, пожухли. Ни охнуть, ни вздохнуть. Настоящее пекло! Солнце белое, земля белая, и небо белое. Ну и жара!
— Авксентий Христофорович, неужели же мы и вправду приехали?
— Э-эх! — покосившись в сторону Леры, с досадой сказал Сафьянов. — Опоздали-то как! Четверо суток людей зря тревожили… А вы: «приехали, приехали!» Всё глупости на уме.
— Но ведь вы только что сами сказали, что это уже колхоз, Авксентий Христофорович! Вот речка Ий!
— Ага! Речка Ий… Она самая… Только ехать еще, голубка моя, далече.
Может, это и так… Ведь здесь все далеко, кроме своей руки. Здесь все неохватимо глазом, а значит — далеко.
Но вот поля. Знакомые, огороженные забором. Те самые, где, кажется, можно пересчитать все колосья, такие маленькие эти поля. Словно сад в большом городе.
На земле, на краю поля, сидит человек. Он задумчиво смотрит вперед. В руке у него ромашка.
Выполняя местный обычай, Сафьянов осаживает коня, останавливается.
— Здравствуй, отэс… Куда путь дэржышь? — рассеянно глядя вперед и как бы нехотя, говорит по-русски человек.
Сафьянов пространно отвечает ему по-тувински.
— И тут поля появились, однако! — учтиво дослушав его, вздохнув и сделав широкое движение рукой, мечтательно говорит человек. — Десять лет, однако, отэс, я не бывал в Тодже. — И он отщипывает губами листок ромашки.
Сафьянов усмехается в усы. Он кивает в сторону колхоза и бормочет что-то себе под нос.
Человек быстро-быстро отвечает ему по-тувински. Он говорит с Сафьяновым, развалясь в траве, опершись локтем о землю, украдкой, с плохо сдерживаемым любопытством поглядывая на Леру.
Она не вмешивается в их разговор. Не перебивает их, не вслушивается… Ее конь Гнус, остановившись на краю луга, устало щиплет траву.
Пощипав траву, он поворачивается и становится задом к собеседникам. Наклонив шею, он продолжает жевать, печально и медленно. Щиплет, жует и машет хвостом, отгоняя мух.
— Валерия Александровна, а Валерия Александровна, — строго говорит Сафьянов, — мы вас все же попросим лицом к деревне.
Лера устало дергает поводья — и конь повертывается. Человек, сидящий в траве, смеется. У него смеющиеся глаза, смуглое немолодое лицо и волосы, стриженные скобкой. На губе у него листок ромашки. Умные темные глаза с веселым любопытством глядят на Леру снизу вверх.
— Новости тут, Валерия Александровна, — деловито и даже строго говорит Сафьянов. — Театр приехал.
— Какой театр? — удивляется Лера.
— Как это — какой? Кызылский. А вот этот самый товарищ, к которому вы задом оборотились, ихний руководитель будет. Сам, говорит, пьесы сочиняет, сам и на сцену становит.
— Очень приятно, — говорит Лере драматург и встает с травы.
— Методист Соколова, — скороговоркой говорит Лера.
А лошадь щиплет и щиплет траву. При этом она так и норовит опять повернуться задом к деревне.
— Э-эх! — вздыхает Сафьянов. — Сколько вас ни учи, Валерия Александровна, все толку нету.
— Ничего, красавица моя, — щурясь и смеясь глазами, говорит тувинский драматург. — Вы герой, герой, и больше ничего. Мне сейчас рассказал старик… Героическая женщина. Да!
Лера смотрит на свои руки. Они грязные, исцарапанные. Лицо у нее, наверно, багрово-медное от таежного загара (такое же, как у Сафьянова). И нос небось облупился. Платье изодрано, губы потрескались. В сапогах хлюпает вода. Одним словом, «дикая женщина», как недавно назвал ее Сафьянов. Но нет… Смеются чужие, поднявшиеся к ней глаза, и смеется рот, и листок ромашки, налипший на губе тувинского драматурга; смеются даже его волосы скобкой, похожие на волосы женщины, — но глубоко серьезны его слова, обращенные к ней.
— Прошу! — И он с поклоном подает ей ромашку.
— Спасибо.
— Нет уж, Валерия Александровна!.. Если ехать, так ехать, а если тары растабаривать, так тары растабаривать.
Лера нехотя дергает поводья. Рысью, ленивым шагом бежит вперед Гнус.
«Еще немножко, Гнус, дорогой! Ну, еще немножко, и я дам тебе овса. Я выпрошу овса у Монгульби. Я непременно выпрошу у него овса!»
— Нажмемте, нажмемте, Валерия Александровна.
Гнус прихрамывает. Угрюмо плетется за ним Джульбарс, припадая на левую лапу.
Откуда-то потянуло свежим ветерком. Белое солнце покраснело и стало клониться к западу.
Человек с волосами, стриженными в скобку, остался далеко позади. Он словно нырнул в полосу багрового заката.
Оборачиваясь, Лера видит уголком глаза светлое пятно его рубахи. Но вот уже и рубахи не стало видно. Впереди — колхоз… Первые чумы вырезываются в синеве неба, в густой, тяжелой синеве, которая становится все гуще оттого, что солнце спускается все ниже. Плывут в глаза ряды домов. Их много. Их больше, чем было шестнадцать дней тому назад. Три дома еще стоят без крыш. Издали улицы кажутся очень длинными и прямыми. Лера слышит частые и дробные удары молотков. Орет вдалеке петух. Пахнет дымом, печеным хлебом…
Вот электрический столб, второй, третий. Вот мост. Вот здание электростанции.
Речка Ий тихо бежит по одну сторону моста, бледно-желтая, как слабо заваренный чай, и вдруг — бух! — рушится вниз бурным потоком, пенистым, сплошным, ярко-белым.
…Ты возвращался домой с песней, Я открывала тебе с благословением.Что это?.. Послышалось?
Да нет, не послышалось.
К реке с ведрами шла вовсе не та старая хакаска, которая провожала их две недели тому назад, а девочка-тувинка. Поступь была совсем другая, по-иному позвякивали ведра, но песня была та же.
— Валерия Александровна! Виду побольше, побольше форсу! Да киньте вы цветик, на самом-то деле. Что вы, дитя малое, цветика не видали?! А поводья в левую руку… Вот так. Уж поднатужились бы напоследок, право, Валерия Александровна.
2
Кызыл
Обком комсомола. Отдел агитации и пропаганды.
Инструктору Логиновой М. П.
Обратный адрес: Тоджа, Тора-хем. Проездом. Соколовой В. А.
Привет, Маша!
Я тебе пишу, сидя на почте. Писать здесь не особенно удобно. Во-первых, стол какой-то хромоногий, положишь на него локоть — сразу качнется. Во-вторых, почтовые ребята относятся ко мне как-то уж очень странно. Например, старший телеграфист Ондар поет мне прямо в лицо, как только я вхожу на почту: «Томлэние дэвы молодой…»
Но, в общем, это житейские мелочи. Приходится терпеть. Не драться же мне с ними.
Дело в том, что меня здесь устроили в комнате у двух девчат, Ивановой Вали и Тарасовой Розы, а у них нет керосина. Вот мне и приходится уходить по вечерам куда глаза глядят.
Сказать по правде, я не понимаю, как это культурные люди могут обходиться без вечернего освещения.
(Одна из них — банковский работник, другая — библиотекарша). Неужели у них никогда не возникает потребности почитать? Я даже спросила об этом Валю.
Она ответила:
— У кого на уме хиханьки-хаханьки, а нам некогда.
Как тебе это нравится?! Боюсь, что за время моего отсутствия телеграфисты Клавдия и Ондар наболтали обо мне черт знает чего.
Я пишу тебе отсюда уже третье письмо. Ведь мы же, кажется, условились, что будем писать друг другу аккуратно. Впрочем, допускаю, что телеграммы и письма попросту теряются на здешнем почтамте. Местные работники связи — не слишком надежный народ. Ну ладно. Замнем.
Начинаю свой, если это можно так назвать, отчет. Ты же знаешь, я решительно не способна столько видеть и думать в одиночку. Меня разбирает, как того цирюльника, который узнал, что у царя Мидаса ослиные уши. Небось помнишь, как ты сердилась на меня, когда в кино, на «Похитителях велосипедов», я все время подталкивала тебя локтем в бок. А я, честное слово, не могу иначе.
Так вот слушай.
Из оленеводческой мы возвратились позавчера.
В колхозе «Седьмое ноября» (он лежал на нашем пути от оленеводческой бригады к Тора-хему) было в этот день представление Национального театра. Народу собралось очень много, клуб не мог вместить всех, и занавес протянули на улице между деревьями. Мы повытаскивали все стулья из клуба и конторы и все парты из школы. Но большинство людей сидело все-таки просто так, на траве.
Ну как мне тебе рассказать об этом, если ты ни разу не была в Тодже?! Это тебе не передовой — западный, не южный район. Это Тоджа. Все в ней смешивается — старое и новое, потому что она самая дальняя и потому что здесь больше гор, чем там, а народу все-таки гораздо меньше, не так, как на юге и на западе. Это, конечно, сказывается. Но Тоджа — это тоже Тува. И я, кажется, уже успела ее полюбить, и деревья, и горы, и людей.
В общем, в семь часов в колхозе зажгли свет. Электротехник Ваня Нагибин (помнишь, он еще в Кызыле получал премию, ты его, по-моему, должна помнить!) спрятал несколько электрических лампочек в елках, они зажглись, свет зажегся даже на берегу речки Ий, около каждого дома горели фонари, и в домах тоже горел свет. Одним словом, было очень светло. А свет от рампы освещал не только занавес, но даже кусок поля. На свет из темноты выбегали суслики и вдруг пугались, шарахались. Около сцены Ваня понавесил красных и синих фонариков, когда они раскачивались, становилось похоже, что это прожекторы.
Я сидела в траве, около сцены, и все время прятала от людей ноги в старых тапочках. (Жена председателя Капитолина Монгульби дала мне надеть свое розовое чистое платье вместо моего рваного и грязного. Но ее туфли оказались мне велики.)
Мы ждали, и вдруг кто-то крикнул из заднего ряда:
— Ну что ж, товарищи, начинать так начинать, а если нет, так и делу конец!
Это сказал инженер-железнодорожник. (Есть у них в экспедиции один такой, толстый, Александр Степанович. Я его еще в Тора-хеме встречала).
Как только Александр Степанович это сказал, около занавеса появился насмерть перепуганный Ваня Нагибин. Выражение лица у него было такое, как будто это он отвечает за спектакль и все сорвал. Он начал что-то делать с фонариками, и вдруг они погасли.
— Кончено представление! — сказал Александр Степанович. — По домам, братцы.
Но тут фонарики зажглись и засияли еще ярче прежнего, а из-за кулис протянулась чья-то рука и уволокла Ваню. Это в дело вмешался драматург Сэвэн.
Все захлопали.
Сэвэн улыбнулся, небрежно откинул назад свои длинные густые волосы и начал.
Он сказал короткую речь, приветствовал от имени актерского коллектива тоджинских охотниц и охотников, хлеборобов, строителей, огородниц, пастухов, оленеводов. Потом он вытащил из первого ряда на авансцену перепуганного Ваню Нагибина и пожал ему руку на глазах у всех, как одному из строителей первой тоджинской электростанции.
Старуха Нагибина, мать Вани, стала громко сморкаться.
— Мама, я вас убедительно прошу, не выказывайте виду, — сказала Ванина сестра Надя.
А сам Ваня на следующий день об этом говорил так:
— Я, ребята, скраснел. Ну, понимаете, скраснел и скраснел…
Поднялся занавес.
Декорации по ходу действия должны были изображать тайгу, но так как здесь повсюду тайга, мы увидели не декорации, а живые, дрожащие от ветра деревья, залитые ярким светом электричества.
Речь в этой пьесе идет о тувинской девушке, выданной замуж по воле родителей за богатого и злого человека. А девушка любила пастуха. Он уводит ее. Они спасаются в тайге. Их настигает погоня, и девушка бросается вниз с высокого обрыва.
Знаешь ли, в какую бы сторону я ни отъезжала от Кызыла, мне всегда почему-то показывали скалу и говорили, что именно с этой скалы бросилась вниз девушка с конем.
Я думаю, их было много, таких девушек, которые не могли больше терпеть и бросались со скалы с конем или без коня. Вот почему об этом и сложена старинная народная сказка.
Маша! Даже если ты и видела эту пьесу в Кызыле, ты все равно не сможешь представить себе, как она выглядела здесь. Пьеса была как будто нарочно написана, чтобы ее сыграли не в настоящем театре, а в тайге. Тут, понимаешь, не только актеры были одеты в национальные костюмы. На головах у стариков зрителей были такие же остроконечные, обшитые мехом шапки. Рядом с моим бывшим сопровождающим Сафьяновым сидела самая знатная местная охотница — Аскалай. Я первый раз увидела ее в тоне. Шелковый тон на ней был ярко-красный. Аскалай — красивая девушка, только лицо у нее злое. Никто этого почему-то не замечает, а я сразу заметила.
Но теперь, когда она смотрела на сцену, лицо у нее было не злое, а спокойное, внимательное, грустное и от этого казалось еще красивее. Она была похожа на героиню сэвэновской пьесы, только артистка — постарше (Аскалай всего девятнадцать лет), и косы у артистки приколотые, а у Аскалай — настоящие, длинные, очень черные, с красными лентами.
И вдруг я заметила в последнем ряду драматурга Сэвэна. Он смотрел то на зрителей, то на сцену с таким выражением, как будто видит свою пьесу в первый раз. Как только начинали смеяться зрители, он хохотал громче всех, а когда разлучали влюбленных, у него сделалось такое напряженное лицо, словно он вовсе не знает, чем все это кончится. Сэвэн, наверно, не был в это время ни драматургом, ни актером, а только зрителем. Такую способность я объясняю, по Павлову, сильно развитой первой сигнальной системой (как всегда бывает у художников), за счет развития второй — логической, мыслительной сигнальной системы.
Представление было длинное, и ребята заснули на траве. Потихоньку вышла из своего ряда Аскалай, за нею — Чонак, мой бывший переводчик. Они пошли к реке.
Старики курили. Сэвэн искоса оглядывал ряды. Скоро небо сделалось совсем темное. Если задрать голову, были видны звезды. Стало холодно. Монгульби сказал:
— Я вам пальто жинкино принесу, Валерия Александровна.
Я ответила:
— Спасибо, не надо.
И вдруг к нам подошел как будто бы ничего, кроме пьесы, не видевший и не замечавший Сэвэн (он за все время спектакля ни разу не взглянул в нашу сторону), небрежно скинул свою кожаную куртку и отдал ее мне.
Я сказала:
— Да что вы?.. Зачем?..
Он не ответил, молча, быстро и рассеянно взглянул на меня и отошел в последний ряд. Стоял там и мерз. Без куртки.
Я запрятала подбородок поглубже в воротник, руки сунула в карманы. В одном из них лежал томик стихов Дениса Давыдова (я посмотрела, меня заело любопытство), а во втором — очень красивый, сильно надушенный носовой платок с ажурной строчкой.
Представление уже шло к концу, когда вдруг раздался какой-то странный шумок в задних рядах.
Из последнего ряда вышел на цыпочках железнодорожник Александр Степанович и стал шепотом звать Монгульби.
Монгульби встал. За ним хотела подняться и его жена Капитолина, но он ей шепнул:
— Не сей паника.
— Пожалели бы вы меня, взглянули бы, право, что там такое, Валера. Может, беда какая, — сказала Капитолина.
И я побежала за Александром Степановичем и Монгульби.
Они уже спускались к берегу, когда я нагнала их. Я ковыляла за ними в своих рваных тапочках и перебирала в уме все, что могло случиться: чего доброго, к берегу прибило утопленника или разбитый плот, или, может, баркас унесло. Но на берегу все было спокойно. Лодка тихо покачивалась на причале, и нигде не было заметно ничего особенного. Только странно светились под электрическим фонарем макушки больших лысых камней. Они торчали из реки.
Была луна, было тихо, и мне вдруг сделалось страшно, сама не знаю почему. Александр Степанович продолжал быстро шагать вдоль берега, за ним — Монгульби, за ними, вприпрыжку, — я. Мы уже добежали было до самого моста у электростанции, как вдруг увидели у водопада Колю Аникеева, фельдшера из колхоза «Седьмое ноября», и Бегзи Чонака, моего переводчика, директора тоджинского интерната. Они дрались. На Коле была изорвана вся рубаха, а у Чонака по лицу текла кровь.
Поодаль как ни в чем не бывало стояла Аскалай и спокойно смотрела, как они дерутся.
Я закричала:
— Ребята, ребята!.. Вы что?! С ума сошли, ребята?
А Монгульби и Александр Степанович сейчас же принялись растаскивать Колю и Чонака.
Все молчали — может быть, от удивления и стыда, а может быть, от страха, что наши голоса могут услышать наверху. Чонак обтирал с лица кровь, Коля вырывался из рук Александра Степановича.
— Мо-о-лчать! — вдруг заорал страшным голосом Монгульби, хотя все мы и так молчали. Лицо у него сделалось бледное и страшное, он изо всех сил размахивал в воздухе кулаком.
Потом они все четверо стали подниматься вверх по откосу.
Мы остались на берегу одни с Аскалай. Она посмотрела на меня исподлобья, пожала плечами и медленно пошла прочь. Она шла, а я ковыляла следом за нею, потому что здесь, у моста, крутой спуск и острая галька: мне было очень больно карабкаться наверх в моих рваных тапочках.
Мы шли вдоль берега, на порядочном расстоянии друг от друга. Она остановилась и с высокомерным выражением поворотила ко мне через плечо голову. Верхняя губа у нее короткая, я увидела ее мелкие, острые зубы. Мы посмотрели друг другу в глаза, и я сказала:
— Ты что, хочешь идти одна? Так скажи прямо. Я подожду, пока ты поднимешься.
И вдруг я увидела, что она плачет. Я стояла против нее с опущенной головой и не знала, что говорить: мне было ее не жалко. Мне было стыдно, что человек плачет, а мне не жалко.
Так мы стояли, стояли, и я не понимала, как бы побыстрей уйти от нее, не смела почему-то зашуршать галькой, не смела вздохнуть. Мне хотелось пройти мимо и никогда больше не вспоминать ни о ней, ни о том, что я здесь видела на берегу. Может быть, от стыда за нее?..
Но надо было обойти Аскалай (здесь берег узкий). Я шагнула, подняла голову… И тут погасли фонари: наверное, окончилось представление. Мы стояли друг против друга в полной темноте. В небе была луна, и когда глаза отвыкли от яркого света, мы опять увидели друг друга. Лицо у Аскалай было спокойное, задумчивое.
И я вдруг ни с того ни с сего позавидовала (стыдно сказать!) ее внутренней силе, ее спокойствию, ее отважной жестокости… Она могла и, наверное, даже когда-нибудь в жизни убила медведя; много раз ночевала одна в тайге; она небось смеялась над ребятами, когда они дрались из-за нее. Только все-таки почему она плакала?
И чем я больше спрашивала себя об этом, тем яснее, тем лучше видела ее лицо.
Но я не тому завидовала, что оно спокойное, красивое, — не завистью завидовала. Я удивлением завидовала. В общем, даже не знаю, как объяснить, как сказать…
Аскалай приоткрыла рот и начала всхлипывать. Она села на камень, я села рядом с ней. Посидели, посидели, и я тоже ни с того ни с сего начала реветь.
Я ей сказала:
— А если хочешь знать, так Чонак — очень хороший товарищ, но в личной жизни трепло. Он ни одной девушке проходу не дает. Это все в Тора-хеме говорят.
Она на это только вздохнула, подняла брови и повторила: «Трепля…» — так, как будто хотела это слово полюбить и запомнить.
— А Коля — человек замечательный. Простой, сердечный. И любит тебя. Это тоже все в Тора-хеме говорят.
— Да?! — Она посмотрела на меня сбоку и пожала плечами. — А ты такой парень любишь?.. Молчит. За дерево прячется. Боится! Думает, дэвушка — мэдвэдь. Бичии-оол твой Коли. Маленьки — по-русску. Я такой нэ люблю! А ты?
Мы повздыхали, посидели на камне еще немного и пошли по домам.
Я ночевала у библиотекарши Капитолины Монгульби.
Часа в три ночи Монгульби Василий Адамович встал и начал проверять, не раскрылись ли со сна дети. Проверил, подошел ко мне и накрыл меня поверх одеяла Капиным пальто.
Он думал, что я сплю. Но я не спала и видела его уголком глаза. В комнате было довольно светло — в окошко заглядывала луна. Лицо у него было доброе. Я даже не знала, что у него может быть такое доброе лицо. Мне показалось, что он меня жалел, понимал, как тяжело мне далась дорога через тайгу.
Утром, когда я встала, оказалось, что Сафьянов — мой сопровождающий — уже уехал в Тора-хем. А Джульбарс, его собака, осталась. Решила, наверное, меня подождать.
Я встала и хотела надеть свое рваное платье, но Капа его куда-то припрятала. Я спросила:
— Капа, где мое платье?
— Валера, а вы бы со мной платьями-то поменялись!
— Куда вам мое? Оно вам будет узко!
— Ничего. Райка сносит.
— Но ведь оно же рваное!
— Пустяки. Заштопаю.
— Вы просто хотите подарить мне свое платье!
— Скажет тоже! А вы разве не хотите, Валера, со мной посестроваться?
— Капа! Эти штуки с платьем придумал Василий Адамович! (Монгульби сидел за столом, босой, в кепке, и пил чай.) Как хотите, но платья я не могу взять. Оно ваше, и вдобавок шелковое.
— Тайга тоже наша, — сказал Монгульби. — А вы как раз в тайге свое платье изодрали. Это для колхоза очень стыдно выходит — отпускать молодой специалист в такой рваной одеже.
Пришлось надеть.
Я стояла босая на крыльце в большом розовом Капином платье, а Джульбарс так и норовил испачкать меня грязными лапами.
— Ой, тетенька Лера, — шепотом сказала Райка, — а я стану теперь ваше платьишко носить! Оно с пуговками, — и запрыгала.
В это время прибежали из конторы за Василием Адамовичем. Оказалось, что звонит Тора-хем и срочно вызывает Чонака: заболела его мать — старуха Бегзи. Она отказалась лечь в больницу, и за Чонаком даже хотели было посылать в тайгу.
Как только Монгульби отправил Чонака домой, опять стали звонить в колхоз из Тора-хема. Главврач больницы, Розенкранц, требовал, чтобы прислали Колю Аникеева дежурить в чуме около старухи (он считается лучшим тоджинским фельдшером).
Я подумала: «Что же станет делать теперь Монгульби?! Какое у него положение? Ведь он-то знает, что они враги. Неужели придется все рассказать про вчерашний вечер? Про Колю и Чонака?»
Но он ничего к никому рассказывать не стал, а просто вызвал Колю, дал ему коня и велел сейчас же ехать.
Мне тоже нужно было поскорее возвращаться на базу — в Тора-хем. До отъезда из Тоджи я должна была помочь библиотекарше, Тарасовой Розе, провести читательскую конференцию.
В три часа в Тора-хем ехали на катере артисты, и Монгульби меня пристроил вместе с ними на катер.
Катер был маленький. Для того чтобы попасть в Тора-хем, надо было идти против течения. Мы шли медленно. Жара была такая, что все время хотелось прыгнуть в воду, а от реки шел нестерпимый блеск — болели глаза. Солнце все набирало и набирало высоту, артистки покрыли головы мокрыми платками. Героиня держала на руках свою годовалую девочку, а ее муж, который вчера играл шамана, обмахивал их тетрадкой.
В руках у молодого героя — он вчера играл пастуха — была рябиновая ветка. Он тоже обмахивал ею девочку.
Драматург Сэвэн стоял всю дорогу, подпирая спиной штурманскую рубку, и ни на кого не глядел. Думал что-то свое…
Мне еще со вчерашнего вечера хотелось его расспросить: на самом ли деле в основу его пьесы положена народная легенда, или, наоборот, после того как он написал пьесу, люди стали искать воображаемую скалу, с которой бросилась вниз девушка?
Но я не решалась заговорить с ним. Это был совсем не тот Сэвэн, который отдал мне вчера свою теплую куртку, не тот, которого мы встретили на краю поля, когда возвращались из оленеводческой.
Сегодня это был очень пожилой, насмешливый человек с холодным, презрительным лицом. Казалось, он так сильно устал, что больше не желает притворяться. Из его тусклых старых глаз глядело холодное сердце — сердце, которому, по правде говоря, ни до кого на свете нет дела. А если есть, так уж во всяком случае не до нас, а до вселенной, неба, солнца, мира, международного положения и т. д. и т. п. Мы, люди, которые были на катере, значили для него, видимо, не больше, чем листок, ветка, травка. Он не давал себе труда позаботиться ни о выражении своего лица, ни о том, что его нечищеный башмак задевает светлое платье пожилой артистки, которая сидит у его ног, на палубе.
Я сердилась, удивлялась, хотела не глядеть в ту сторону и все-таки из любопытства глядела.
Ненавижу людей, которые вот этак преображаются. Я люблю, чтобы добрый — так добрый, злой — так злой, насмешливый — так насмешливый. А если внимательный к людям, так чтобы всегда.
Сэвэн был сегодня занят только собой — тем хуже для него! Я знала одну интересную тувинскую сказку, которую могла бы ему рассказать. Может быть, она пригодилась бы ему, ведь он поэт!
Я услышала эту сказку от самого знаменитого тоджинского сказителя — Палбыра. Это было так.
Мы с Лидой Сапрыкиной шли по улице Тора-хема, и вдруг нам навстречу попался незнакомый старик.
Лида спросила по-тувински:
— Отец, куда путь держишь?.
Оказалось, что это был сказочник Палбыр, который приехал с той стороны реки в кооперацию за табаком.
Мы послали за табаком ребят, а старика повели в клуб.
Был день. Клуб был пустой. Мы принесли из столовой чайник горячего чаю и купили для гостя шоколаду.
— Какой длины должна быть сказка? — с деловым видом спросил Палбыр, когда напился чаю. — Есть сказки длиной с котелок кипятку над очагом. Выпьешь котелок — ночь минет, и сказке конец. А есть и такие, что пяти чашек не выпьешь.
Я ответила:
— Мы хотим сказку с одно блюдечко чаю, потому что вы, кажется, устали. Сейчас принесут из кооперации табак, и вы сможете еще засветло вернуться домой.
И старик рассказал легенду о человечке — желтая шишка, тувинскую сказку о любви. С тех пор как я ее узнала, я почему-то все время о ней думаю.
Человечек — желтая шишка слепо шагает по тайге на своих тоненьких деревянных ножках. И неизвестно, кому он принесет любовь: то ли случайному всаднику, пробирающемуся сквозь тайгу, то ли мальчонке, который пришел собирать ягоды; закатится всаднику за шиворот, вцепится мальчонке в волосы, а сам хохочет: знает, что теперь этих людей ждет на дороге любовь. Сильная. До самой смерти.
Очень странная сказка! У нее нет ни конца, ни начала, но если бы ее знал Сэвэн, может быть, он придумал бы к ней и начало и конец?
И вот, когда мы уже были недалеко от Тора-хема, Сэвэн, балансируя, прошагал по палубе, подошел ко мне и сел рядом.
Я молчала. Он тоже молчал.
— Вы ничего нэ сказали мне о вчэрашнем спектаклэ, — рассеянно начал Сэвэн.
Я ответила, что мне трудно судить, потому что обстановка была уж очень необыкновенная.
— Да, да…
И он, улыбнувшись, покачал головой, со странным, нежно-растроганным выражением.
— А знаете, ведь это моя родина — Тоджа… Здесь давно — нэ будэм уточнять когда — я кочевал с отцом и матерью по тайге. И мне дорог здесь каждый куст, каждое дерево. Родина!.. Десять лет я не бывал в Тодже!.. Прэступно, что театр так долго не мог собраться сюда.
Я спросила, а сколько же всего лет тувинскому театру.
Сэвэн ответил, что театр молодой, но по существу зародышем театрального представления можно считать древние пляски шаманов.
И вдруг, увлекшись, он стал рассказывать о первом тувинском театре импровизации, попеременно изображая в лицах феодалов, аратов, лам… Он жестикулировал, лицо у него делалось то растерянным, то серьезным, то сморщенным, как печеное яблоко.
И за что вот именно меня, случайного человека, он пожелал всем этим одарить?! Может быть, за то, что я была его зрителем, его добрым зеркалом?
Актеры не смотрели в нашу сторону: каждый был занят чем-то своим — кто дремал, сидя на палубе, кто негромко переговаривался.
И вот наконец волшебство кончилось. Я перевела дух. Сэвэн искоса взглянул на меня и улыбнулся… Он заговорил о том, как складывался под влиянием русского театра тот тувинский, каким я увидела его вчера.
Когда Сэвэн говорит, лицо у него всегда оживляется, но ненадолго. Должно быть, он и на самом деле сильно устал.
Он кончил, и я тихонько спросила, знает ли он легенду о человечке — желтая шишка и есть ли у этой сказки конец и начало.
Он рассмеялся. (Сказку он знал, потому что был родом из Тоджи.)
— У этой сказки нет, разумеется, ни начала, ни конца, моя красавица. Она бесконечна. Потому что это легенда о любви… А что, вам уже попался на пути человечек — желтая шишка?
Этого еще не хватало! Если хочешь знать правду, Маша, я ненавижу любовь, потому что она сплошная несправедливость. Я сказала ему это, но он только усмехнулся и стал глядеть на воду.
Так мы сидели добрых десять минут.
— Ну, вот она бежит дальше, жизнь! — вдруг опять начал Сэвэн и вздохнул. — Красавица моя, а вы думали о том, что такое в сущности любовь? В чем счастье любви? Только в том, чтобы быть влюбленным. И еще в том, что ты готов отдать себя всего — без остатка! — со своим трудом, привычками, детством и старостью. И больше, много больше того — со всем тем, что ты в себе не знал и не знаешь и что в тебе как припек в хлебе, который сажают в горячи печь. Имейте в виду, что счастлив человек можэт быть только отдавая… Вот так, красавица моя.
Я спросила:
— Значит, вы цените человечка — желтая шишка за его слепоту, за его несправедливость? За это? Да?.. Значит, вы цените любовь без ответа больше, чем любовь счастливую?
— Нет, почему! Я ценю всякую любовь, девочка… Она дает силы человеку для подвига, для сострадания и ненависти. Любящий человек безумен и умен. Вот так, красавица моя…
Он отошел к рубке, задумался и продолжал попирать нечищеными башмаками чистое платье артистки.
На лицах людей появляется иногда такое таинственное выражение, которое как будто говорит, что тебе не добраться до сути человеческой души, не тронуть ее рукой, не завладеть ею. Вот такое выражение и было у него на лице, понимаешь? А это всегда отчего-то и досадно и горько, как будто ты всю жизнь только и думал о том, чтобы проникнуть до самой глубины в душу вот этого чужого человека. Чужого и даже совсем не нужного тебе… Зачем?
…Издалека показался берег. Приехали! Я не зашла домой, а сразу побежала на почту купить авиамарку.
Но как только я переступила порог, старший телеграфист Ондар заорал мне прямо в лицо: «Тэлэграмм нэт!..»
И я поняла, что на почте (а может быть, даже и в городе) создалась за время моего отсутствия нездоровая обстановка… Прямо-таки какое-то ироническое отношение ко мне.
Одиннадцать часов. Спокойной ночи. До завтра, Маша.
От тебя все нет и нет писем.
В шесть утра я пришла справляться о них на почту. Но телеграфисты Клавдия и Ондар так посмотрели на меня, что стало ясно: они смеются надо мной. Корреспонденция на мое имя, может быть, и поступает, но они мне ее попросту не передают. Напишу заявление в Кызыл. На главный почтамт.
На улице я встретила Колю Аникеева. На нем был измятый пиджак, измятые брюки… Похоже было, что он ночевал на улице.
Я спросила:
— Коля, ты куда?
Он вздрогнул и ничего не сказал, как будто был немой…
Я подошла поближе и поздоровалась с ним за руку. И вдруг заметила, что у него сильно блестят глаза. Он не плакал, но казалось, что где-то близко, у самых глаз, стоят слезы.
Коля — большой, широкоплечий, плотный, а глаза, губы, волосы у него вроде как у маленького. Он крепко держал меня за руку, словно боялся ее выпустить. И я поняла, что с ним что-то случилось, что ему тяжело.
Был седьмой час. На улице почти что не было народу, только телеги проезжали. На склоне горы паслись кони.
Я потащила Колю на гору, чтобы никто не видел, какой он расстроенный.
Мы взобрались наверх и сели. Перед нами была река Тора-хем, окраинные улицы… На лугу бродили коровы, по реке медленно двигалась лодка. Все кругом было такое спокойное, и небо — не жаркое.
Мы сидели рядышком. Сквозь траву была видна земля. Обыкновенная земля — кажется, чернозем. С юга тянуло мягким теплым ветром.
Мы сидели и молчали.
Я была знакома с Колей довольно хорошо (приходила к нему в гости на медпункт, когда была в колхозе). Он мне показывал свои дневники и разные записи и говорил, что написал бы, пожалуй, побольше, но у него беда: он отчего-то не знает, с чего начинать.
Мне нравился Колин медпункт. Приятно было, что там прохладно, пахнет тесом, а через окошко видны Саяны. А когда в медпункт приходили больные, Коля сдвигал брови и делал страшное лицо. Я пряталась за печку и фыркала.
Один раз он мне рассказал, как ехал зимой на олене к лесорубам. (У них заболел старик.)
По дороге Коле сильно подбило веткой правый глаз. Глаз запух. Коля думал, что на всю жизнь останется кривой. Он пробыл у лесорубов дней пять (пока поправился старик), а когда возвратился обратно в Тора-хем, доктор Розенкранц дал ему жизни — измордовал его и сказал, что он не имеет права быть фельдшером при такой медицинской безграмотности. Еще бы день-другой — и он остался бы навсегда без глаза.
Коля мне это рассказывал с растерянным выражением лица. Он нисколько не хвастался.
Я думаю, самые большие герои — такие герои, которые ничего не знают о своем героизме.
Я думаю, самые добрые люди — это те люди, которые не знают, что они добрые.
Коля о себе воображает, что он тонкий человек, парень не промах и проныра.
И вот я, понимаешь, сидела с этим пронырой, видела его расстроенное лицо и не знала, что сказать. Мы оба легли на землю, животом вниз, и долго молчали.
И вдруг он заговорил первый, стал сбивчиво рассказывать, что с ним случилось за последние сутки.
Он приехал в Тора-хем вчера в одиннадцать и пошел к чуму старухи Бегзи. В чуме были Чонак, доктор Розенкранц и медсестра Соня из поликлиники.
Вот уже вторые сутки, как старухе делали уколы пенициллина, а температура не снижалась. Розенкранц отчаялся уговорить ее лечь в больницу. Старуха и слышать об этом не хотела, говорила: «Здесь родилась, здесь и умру».
Коля надел халат и принял дежурство. В чуме их осталось только трое: старуха, Коля и Чонак.
Коля поил больную сульфидином и продолжал вводить ей каждые три часа пенициллин. Бегзи бредила, хватала его за руку и говорила: «Улуг-ямчи, улуг-ямчи» (большой доктор).
Чонак сидел по ту сторону очага, поджав ноги, и всхлипывал.
Наплакавшись, он заснул. Чонак спал, и Коля его не будил. Сидел и слушал, как бормочет со сна старуха Бегзи.
Спустилась ночь. Часов в двенадцать в чум вошел Розенкранц, пощупал пульс у старухи, сказал: «Ну что ж, дела не так плохи. В случае надобности разбудишь Чонака и пошлешь его за мной».
И опять их в чуме осталось трое: Бегзи, Коля и Чонак. Чонак старался не смотреть в сторону Коли, Коля старался не смотреть в сторону Чонака.
В чуме было душно и тесно. Ночью у Коли сильно затекли ноги. Он вышел на улицу и стал тихонько похаживать около чума.
Вызвездило.
«Я еще решил: вёдро будет. Эх и много было звезд. Понятное дело — осень…»
Он походил, походил, вернулся в чум и опять уселся около очага.
Старуха спала, и Чонак спал. Коля тоже вроде бы задремал сидя. И вдруг ему почудилось, что о бересту чума колотятся звезды. Он вздрогнул. Старуха глядела на огонь. Из-под одеяла высунулась ее худая рука. Коля натянул одеяло повыше и дал больной пить.
И опять он задумался. И опять ему показалось, что о бересту тихонько заколотились звезды.
Коля тряхнул головой… Старуха глядела в огонь, у нее в глазах отражались две красные точки.
Он осторожно взял ее за руку и стал искать пульс.
Потом снял кепку и позвал:
— Чонак!
Он сказал: «Чонак!» — но Чонак спал.
Тогда Коля снова вышел на улицу, сел на камень и стал поджидать утра. Он не знал, как ему быть, разбудить ли Чонака, чтобы он закрыл глаза матери, или закрыть их самому?
Маша! Пришлось сделать перерыв. Я пишу тебе из клуба (достала керосину).
Десять часов. Тишина. Так хочется с кем-нибудь поговорить по душам.
Вчера хоронили старуху Бегзи.
Играл духовой оркестр. Закрыли столовую и контору «Союзпушнины». Саганбай — председатель исполкома — сидел на ступеньке своего дома и громко плакал. Оказывается, старуха вырастила не только своих шестерых детей. Она усыновила еще четверых чужих ребят (один из них был русский — сирота). Саганбай тоже был ее приемным сыном.
Я не знала, что такой толстый и большой человек может так громко плакать.
В Тора-хеме не оказалось никого из родных детей Бегзи, кроме младшего — Чонака. Но многие оплакивали ее, как родную. Здесь чтут старость. Тувинцы умеют чтить и старость и младенчество.
Из чума вынесли гроб, обтянутый красной материей.
На улицу вышел чуть ли не весь Тора-хем: русские учительницы, медсестры, работники столовой и банка и все тувинцы из чумов и домов.
Мы тронулись к кладбищу. Гроб несли на руках Сонам, Силин, доктор Розенкранц и узбек-бухгалтер.
Рядом с Чонаком шли Лидочка Сапрыкина и два тувинских учителя. Один из них выстроил парами ребят — учеников Чонака. Учитель взмахнул руками, и дети запели траурный марш.
Здесь кладбище на краю города, в тайге. Могила была уже вырыта, и за гробом несли готовый деревянный памятник. Сонам сказал по-тувински короткую речь, и потом ее перевели на русский. Почему-то она запомнилась мне почти целиком.
— Жизнь этой женщины была тяжелая, — сказал Сонам. — Она испытала бесправие, холод и голод… Она боялась всего — огня и грома, духов земли и духов болота. Но у ее детей большая, светлая жизнь. Ее дети — хозяева жизни. Они хозяева природы. Ее детям принадлежат земля и вода, горы и небо. Им принадлежит будущее. Она много, много трудилась, чтобы вырастить своих сыновей. Мы хороним великого труженика — мать.
На дне могилы лежали камни. Бухгалтер-узбек объяснил мне, что это якобы след древних тувинских похоронных обрядов — того далекого времени, когда умершего относили в горы и клали на склоне, чтобы в глаза ему светило солнце.
Гроб опустили на камни. Чонак услышал его стук и разорвал на себе рубаху. Он протянул вперед руку и сказал:
— Мать, я тебя чтил сердечно.
Коля положил ему в руку горсть земли. Чонак бросил ее на крышку гроба.
Потом всех стали угощать водкой. Сначала поднесли русским в знак благодарности за то, что почтили покойницу, затем уже своим.
Все молча выпили и пошли с кладбища.
Когда мы дошли до опушки леса, я обернулась. От могилы старухи Бегзи шло много следов босых детских ног, а над могилой были деревья. Над головой у старухи Бегзи, наверное, всегда были деревья: ведь она жила в тайге.
Вечером Лидочка Сапрыкина, Коля и я пошли к Чонаку. Мы поднялись по ступенькам и заглянули к нему в окно, перед тем как постучать, но не постучали. В комнате школьного общежития, за столом, рядом с Чонаком сидела Аскалай и держала Чонака за руку. Коля низко опустил голову. Мы потоптались и ушли.
Маша! Вчера ночью мне опять пришлось сделать перерыв, потому что в двенадцать часов пришли закрывать клуб.
Сегодня рано утром я снова пошла на почту и получила наконец твое (такое короткое!) письмо.
Ты пишешь, что сильно занята и не можешь писать мне длинно и подробно.
Из этого я должна сделать вывод, что я бездельница. Хорошо. Я сделаю такой вывод. Я бы и сегодня не стала продолжать и даже, может быть, не отправила бы тебе того, что уже написала, если б не исключительные обстоятельства… Тут речь пойдет не обо мне.
Чтобы не возвращаться больше к этому вопросу, хочу сказать только одно: ладно, пусть я бездельница! Трачу много времени попусту и т. д. и т. п. Ну, а как же остальные ребята?..
Отсюда чуть ли не все пишут длинные письма домой, а многие вдобавок ведут дневники и делают разные записи… Что же, по-твоему, выходит, все они бездельники, так, что ли?..
Нет, дорогая моя, вовсе не так! Участники больших походов или трудных путешествий тоже часто оставляют воспоминания, записки, дневники. Думаешь, почему? А вот я тебе скажу.
Во-первых, человек не может помириться с тем, что от чего-то большого, важного, пережитого им не останется ни следа. Это — раз. А во-вторых, когда пишешь, обращаешься не только к тому, кто будет читать, но и к себе самому. И все вокруг становится как будто яснее, понятнее после того, как назовешь это словами.
Вижу отсюда, как ты иронически улыбаешься и пожимаешь плечом: дескать, нашлась путешественница — неделя туда, неделя обратно! Можешь не улыбаться. Я вовсе не считаю себя Миклухо-Маклаем. Но то, что окружает нас всех, так ново, так необычайно, что не только я, книжница по профессии, а даже бессловесный Коля Аникеев и тот, живя в Тодже, принялся писать какие-то записки.
Кстати о Коле, о нем-то я и хочу поговорить с тобой.
Вчера в Торахемский райком комсомола позвонили из Кызыла: на курсы повышения квалификации вызывают молодых фельдшеров и агрономов. В списке оказался и Коля Аникеев.
Сегодня утром он улетел. Мы его провожали — Лида Сапрыкина, Валя из банка и я.
Когда до отлета оставалось каких-нибудь несколько минут, подъехали на конях Аскалай и Чонак.
Чонак слез с лошади и растерянно, молча остановился против Коли. Я даже испугалась.
И вдруг Чонак обнял Колю, и Коля обнял Чонака.
Тут нам велели отойти от самолета. Но мы все толпились около лесенки — все, кроме Аскалай. Мы махали руками и кричали: «Счастливо, Коля!» А он глядел только на Аскалай и не замечал нас. Глаза у него были круглые, испуганные.
Маша! Если бы я любила кого-нибудь так, как Коля любит Аскалай, я бы ни за что не сдалась. Я воевала бы за свою любовь, пока не сделалась бы старая и седая.
Я просто не могла бы стерпеть, чтобы от моей любви ничто не изменилось, чтобы я осталась одна со своим никому не нужным «люблю».
А Коля молчал, и лицо у него было такое покорное…
Самолет поднялся вверх и полетел, полетел… Как будто ничего не случилось с Колей. Все было, как всегда. До чего это странно! Понимаешь?!
Солнце было желтое, и с самолета была, наверное, видна желтая от жары земля.
Потом самолет пропал. Его заслонили Саяны.
Но мне все-таки кажется, что Аскалай навсегда останется в перепуганных глазах Коли вот такой, какой была тогда, — в красном тоне, на коне. Он будет старый, а вспомнит Аскалай. У него вырастет седая борода, а он все-таки будет помнить Аскалай; вернется домой, станет шагать по снегу в валенках, а будет помнить Аскалай.
Я обернулась и посмотрела на нее. Она даже не взглянула на меня в ответ. Я была ей чужая. Она и думать забыла про то, как мы плакали с ней рядом на камне несколько дней тому назад.
И еще было видно, что ей нисколько не жалко Колю и что ей хочется поскорее уехать домой. А сюда она, должно быть, приехала только ради Чонака. Потому что он так велел.
Маша! Имей в виду, что Коля очень хороший парень и настоящий комсомолец.
Например, как-то зимой ему не дали коней, а ему непременно надо было доставить кровь для переливания в колхоз «Советская Тува». Было сорок градусов мороза. Он испугался, что кровь замерзнет, скинул с себя телогрейку и завернул в нее ампулы с кровью. А если бы ты знала, скольких женщин в Тодже Коля обучил стирать белье, купать детей… И все это он делает молча, сердито, со зверским выражением лица. Брови он хмурит постоянно — это у него привычка такая. Предупреждаю: когда ты его увидишь в обкоме комсомола, знай, что эта хмурь к тебе не относится.
Разыщи его и немножко позаботься о нем. Ему, наверно, сейчас очень плохо. Разыщи его, Маша! Только не выдавай, что получила от меня информацию. Вы с ним найдете общий язык. Ты его поймешь, потому что во многом сама точно такая же.
Думаешь, я не знаю, из-за чего тебя прозвали «Богиней фасона»?
Мне рассказала одна девушка (наша кызылская читательница), что когда ваша комсомольская бригада поехала зимой в западный район, вам всем выдали тулупы. Ты одна осталась в осеннем пальто и сказала, что не станешь надевать тулупа, потому что он тяжелый, некрасивый и под тулупом непременно сомнется пальто.
Ночью в дороге все сильно замерзли. Ты сказала: «Давайте споем, ребята». Ребята запели и пели чуть ли не всю ночь, даже когда машина увязла в сугробах и всем пришлось ее оттуда вытаскивать.
А утром ребята узнали, что ты вовсе не «Богиня фасона», а попросту тебе не хватило тулупа.
Маша, ты не забудешь разыскать Колю? Разыщи.
Да, между прочим, я тебя еще хотела попросить об одном частном одолжении.
Пятнадцатого июня я выдала четыре библиотечные книги доктору Шумбасову. Он должен был их возвратить через три дня, как раз накануне моего отъезда. И не вернул. Я в Тора-хеме пробуду еще дней пять. Если сможешь, сообщи: на месте ли доктор Шумбасов, не уехал ли куда.
Раньше я отлучалась не больше как на день, на два и не так беспокоилась о книгах. А теперь я отрезана от Кызыла.
Сообщи, пожалуйста. Книги как-никак государственная собственность. Я за них отвечаю.
С комсомольским приветом.
Твоя Лера Соколова.3
Кызыл.
Улица Ленина. Областная библиотека.
Директору библиотеки Анне Федоровне Бельской
(лично)
Обратный адрес: Тоджа. Тора-хем. Проездом. Соколовой В. А.
Уважаемая Анна Федоровна!
По возвращении из оленеводческой мне пришлось, к сожалению или к счастью, задержаться в Тора-хеме еще на шесть дней, о чем считаю долгом информировать Вас.
Задержка произошла в связи с неудовлетворительной работой местной библиотеки.
До моего отъезда в оленеводческую я условилась с библиотекарем Тарасовой Розой Никифоровной, что она к моему возвращению подготовит конференцию по Гайдару.
И вот я возвращаюсь даже позднее назначенного срока, потому что дорога была очень трудная, и тут выясняется, что конференция совершенно не подготовлена: не налажена связь с вожатыми школ, не привлечены нам в помощь ни тувинские, ни русские педагоги, не прочитан вслух младшим ребятам ни один гайдаровский рассказ.
Товарищ Тарасова ссылается на ремонт клуба, якобы препятствовавший ее контакту с читателями.
Но мне эта отговорка кажется не вполне убедительной. В конце концов, если нельзя собрать детей и вожатых в библиотеке, можно собрать их в школе.
Что же делать? Отменить конференцию? Но о ней оповестили чуть ли не две недели назад, и к тому же это вконец подорвет авторитет библиотеки.
Одним словом, положение создалось такое острое, что мне пришлось обратиться в райком комсомола.
Вечером этого же дня меня вызвал к себе секретарь Тоджинского райкома партии товарищ Сонам и стал расспрашивать — сначала о поездке, потом о конференции. Боюсь, что я слишком горячо и резко говорила о провале конференции, потому что он слушал меня как-то неодобрительно и, не дав договорить, сказал, что, по его понятию, обязанность областного методиста не столько взгревать своих товарищей, сколько стимулировать их работу личным примером.
«Человеческая душа не пар, нет? Ну, а если не пар, то до состояния полета она доводится не взгреванием, а другим видом тепловой энергии».
И вот мне пришлось остаться тут, все подготовить самой и тащить на буксире Розу Тарасову.
Мы начали с того, что обошли дома, в которых жили школьники, то есть фактически весь Тора-хем.
Книги Гайдара были розданы детям дней десять тому назад. Без всякого задания со стороны библиотечного работника или вожатой ребята сделали иллюстрации к произведениям Гайдара. Многие из них оказались превосходными и очень своеобразными. Синие горы, где работал геолог — отец Чука и Гека, — вышли на этих рисунках Саянами. Прекрасно получилась у них тайга, снег, зайцы. Один малыш очень хорошо нарисовал медведя, вступившего в единоборство со сторожем геологической партии. (Рисунки я привезу с собой.)
У меня немного отлегло от сердца, появилась надежда, что все обойдется. Но в день конференции, как и следовало ожидать, начались всякие неприятности. Вы были правы, когда перед отъездом предупреждали меня, что в нашем деле необходимо терпение и терпение и что мелочи обыкновенно даются труднее всего. Вот Вам пример: в Тора-хеме еще нет электричества (электросеть ведется от колхоза «Седьмое ноября»). Обсуждение должно было проходить при свечах. И вдруг оказалось, что накануне конференции завклубом уехал на полевой стан с бригадой самодеятельности. За свечами пришлось обратиться в исполком, к председателю исполкома Саганбаю.
Он выдал нам две свечки и сказал, что больше не даст, поскольку вечер не предусмотрен по плану, а мы не потрудились оповестить его вовремя.
Я обозвала его бюрократом. Он стукнул кулаком по столу и крикнул:
— Я член партии с тысяча девятьсот тридцать девятого года!
Тут, на мое счастье, из своего кабинета вышел Сонам и сказал Саганбаю несколько слов по-тувински, а мне по-русски:
— Товарищ Соколова, знаете ли вы, что является самый крупный на земле грех? Отсутствие масштаб и чувство юмор. — Ушел к себе и хлопнул дверью.
Саганбай выдал двадцать четыре свечи.
Ребята явились в клуб в полном составе — весь Тора-хем. Почему-то пришли даже пятилетки и шестилетки. Роза усадила их в первом ряду и дала им книжки с картинками.
Взрослые не удостоили нас своим посещением.
Я и Роза стали снова обходить дома, установили дежурство на улице, а Лидия Сапрыкина — третий секретарь райкома комсомола — побежала в больницу и, пользуясь своим авторитетом, привела несколько человек из медперсонала. (Отдельной встречи со взрослыми мы провести не имели возможности, так как в данное время большинство взрослых занято на заготовке кормов.)
В конференц-зале горело десять свечей. Стены были украшены гирляндами из трав, елочных веток и полевых цветов. По углам стояло четыре стенда с детскими рисунками. У входа в конференц-зал, в коридорах и на стенах зала были развешаны выписки из рассказов и повестей Гайдара (их сделали ребята шестых и седьмых классов).
Внизу, у дверей, тоже был установлен стенд с книгами Гайдара на тувинском и русском языках.
Мы уже хотели было начинать, как вдруг в конференц-зал вошел товарищ Сонам и попросил у аудитории разрешения сделать маленькое вступительное слово.
Его речь — на русском языке — была, по-видимому, обращена не столько к читателям, сколько к нам, библиотечным работникам.
Он начал прекрасными горьковскими словами:
«Наша литература — наша гордость… В ней вся наша философия, в ней запечатлены великие порывы духа…» — и т. д. Вы, конечно, помните эти замечательные слова. Потом он сказал о том, как относился к библиотечному делу Ленин. И закончил, прямо глядя на нас: — А Надежда Константиновна Крупская о вас сказала: «Советский библиотекарь должен быть человеком образованным и политически подкованным, советский библиотекарь — ответственный участник социалистической стройки. В деревне его роль не меньше, а еще больше, чем в городе».
Когда он сошел с трибуны, Роза попросила у него цитаты и выписки. Он отдал их ей и похлопал ее по плечу.
Розе семнадцать лет. Таков контингент наших библиотечных работников, Анна Федоровна. Не надо после этого особенно удивляться, что мне иногда приходится солоно.
Речь Сонама длилась минут пять-семь. Школьники (постарше) слушали внимательно, но, может быть, потому, что это был Сонам.
— Ну?.. Кто хочет сказать, ребята? — спросила Роза.
Ребята молчали. У Розы было отчаянное выражение лица. Люди в зале покашливали. Сонам посмотрел на ребят, посмотрел на нас с Розой, улыбнулся, тихонько встал и на цыпочках вышел из клуба.
Первой выступила четырнадцатилетняя девочка-тувинка. Если бы Вы видели, как в руках у нее дрожала бумажка!
От ветра — окна были открыты — колебался огонь свечей и освещал подбородок девочки; он освещал стены и ветки кедра, украшавшие стены.
Робко заглядывая в свою дрожащую бумажку, девочка стала читать биографию Гайдара.
Я понимала, какое это для нее большое событие — набитый битком зал, взрослые, которые пришли ее послушать (после того как к нам наведался товарищ Сонам, в зале откуда ни возьмись набралось довольно много взрослых), и то, что это она, ученица пятого класса, открывает первую читательскую конференцию в Тодже. А может быть, девочка думала совсем и не об этом?.. Может быть, об этом думали только я и Роза?..
Девочка то и дело отрывала глаза от бумажки (она мне клятвенно обещала не читать, а рассказывать)… Звонко и отчетливо звучало каждое ее слово. А вокруг было тихо-тихо.
Здешняя детская аудитория просто удивительна. (Я в этом убеждаюсь уже в четвертый раз.) Ребята соблюдают тишину без всякого напоминания со стороны взрослых.
Слушали и смотрели в рот говорившей даже пятилетки, которые ни слова не понимали. Только один мальчик болтал в воздухе босыми ножками.
Окончив рассказ, девочка перевела дух и вдруг шагнула вперед, отставила ногу в желтом ботинке, высоко вскинула руку и с той почти воинственной серьезностью, которая, как мне кажется, бывает только у детей, прочла:
Году в сорок первом и раньше, Короче сказать — до войны. Веселый шагал барабанщик Дорогами нашей страны…Когда она дошла до слов:
О горных вершинах он песню любил,ребята подхватили, скандируя:
И нас эту песню он петь научил.(С ними разучивала Роза).
… И чудом тогда уцелела в огне Походная сумка на желтом ремне. И мы эту сумку с тех пор бережем, Как светлую, чистую память о нем.В зале громко захлопали. Особенно старательно хлопали маленькие: им, должно быть, очень понравилось хлопать.
Вся красная, девочка сошла с трибуны и, спотыкаясь, не то чтобы пошла, а прямо-таки бросилась к своему месту.
— Ну, ребята, кто следующий? — спросила Роза.
Все молчали.
— Ну, кто?! — опять спросила Роза.
— Я следующая, — сказала Лидия Сапрыкина. — Пусть самый храбрый поднимет руку первым!..
И села.
К трибуне подошел мальчик-тувинец (на вид лет одиннадцати).
Я записала его выступление, как и все последующие, не подготовленные нами выступления ребят:
«Чадамба Василий. А я хочу сказать про Тимура. Очень хорошая книга про Тимура. Про него интэрэсно читать. Он хотя очень даже хороший, а не похож на дэвочка.
(Смех в зале).
Сапрыкина. Что, что?
Чадамба. Говорю — не похож на дэвочка! И я люблю такие книги, в которых про разные хорошие подвиги. И про войну.
(Смех. Хлопают.)
Сапрыкина. Ребята! Чадамба Василий — самый храбрый. Он поднял руку первый. Браво самому храброму!
Зал скандирует: «Бра-во!..»
Детские выступления мне удалось на следующий день перепечатать на машинке. Я привезу их с собой, и Вы сами сможете их проглядеть.
Конференция закончилась викториной. Вопросов было около тридцати.
Примеры:
1. Кто старше, Чук или Гек?
2. Есть ли среди здешних ребят тимуровцы, а если есть, то пусть кто-нибудь расскажет о своем товарище, а не о себе самом, потому что иначе он перестанет быть тимуровцем.
3. Какие черты характерны для Тимура?
Дети поправляли друг друга с мест. Девочку, которая сказала, что Чук и Гек близнецы, подняли на смех.
На вопрос о характере Тимура они отвечали: он честный, храбрый. Но никто не сказал: он отзывчивый, скромный. (И как мы на это ни наводили их, все-таки никто об этом не сказал.) Поэтому в заключительном слове я прежде всего остановилась на драгоценных чертах Тимура, не отмеченных ребятами, — ну, хотя бы на его доброй изобретательности, на благородстве, — чертах, которые, как мне кажется, всегда выдают человека, сильного духом, способного на подвиг; я говорила также о Тимуре-организаторе, о Тимуре-вожаке.
От Тимура я прямо перешла к Гайдару. Сказала кое-что о его веселой отваге и задорной серьезности; о том, что поэт Гайдар, как мне кажется, навсегда сохранил в себе талантливые черты детства: свежесть чувств и доверчивость.
Я задала залу следующий вопрос: «Вы помните, ребята, когда в тайге горит большой костер, завеса дыма повисает в воздухе далеко от огня? Серьезное, сердечное слово Гайдара живет среди нас и будет долго одолевать время, потому что костер, который развел Гайдар, был высокий и жаркий.
Так всегда бывает с большими кострами: дым повисает далеко от огня. Его далеко относит таежный ветер, похожий на человеческую память и горное эхо».
Сапрыкина сказала, что я заключала довольно хорошо, только излишне эмоционально, торжественно и длинно.
Но как же о таких вещах говорить коротко?
Все уже было хотели расходиться, как вдруг вошел завклубом, за которым, оказывается, послали на стан телегу. Он принес с собой баян, и мы организовали танцы.
Танцевали «конькобежцев». Пары все время менялись. Ребята старались как можно громче стучать каблуками, хотя в этом танце, как известно, полагается не стучать, а скользить.
Откуда ни возьмись, появились Сонам, Саганбай, директор банка и стали танцевать с ребятами.
Я, Лида и Роза обошли весь круг и тоже перетанцевали со всеми.
Во время танцев я спросила Сонама:
— А какого писателя вы любите больше всех?
Он ответил:
— Козьму Пруткова… А сколько вам лет, Валериа Александрова?
— Почти двадцать один. А что?
— Ничего. Я думал, меньше, грешный я человек… Думал, что у вас возраст Роза Тарасова… Но вы не огорчайтесь, Валериа Александрова. Этот недостаток исправить возможно. Его исправит время.
А я, по правде сказать, и в самом деле немножко огорчилась. Если о моем возрасте говорят в таком тоне, — значит, я не умею себя поставить и внушить должное уважение если не к себе, то к нашей работе.
После танцев мы с Розой и Лидией Сапрыкиной сами развели ребят по домам.
В общем, мне кажется, вечер, посвященный памяти Гайдара, прошел удовлетворительно.
Присутствовало восемьдесят человек.
Кроме того, за время моего пребывания в Тодже нам удалось организовать два выезда на полевые станы и один на озеро Азас, устроить несколько громких читок и провести викторину на тему «Новая тувинская литература».
В библиотеку за истекший месяц записались сорок четыре новых читателя.
Библиотекарем Розой Тарасовой проведена в колхозе «Советская Тува» лекция на тему «Разведение картофеля в условиях резко континентального климата».
Ею же и товарищем Таш-олом (избачом колхоза «Советская Тува») была организована выставка книг и наглядных пособий, иллюстрировавших обсуждавшуюся тему.
Вот и все в коротких чертах.
Уважаемая Анна Федоровна! Между прочим, по нашему плану мне еще предстоит охватить Систиг-хем и Сейбу.
До Систиг-хема я надеялась добраться плотом. Но оказалось, что лоцманы прибудут в Тора-хем не раньше как через семь суток. А ведь срок командировки у меня кончается.
Председатель колхоза «Седьмое ноября» Монгульби взялся мне помочь с транспортом: в колхозе сейчас стоит экспедиция железнодорожников, и один инженер-железнодорожник должен выехать в Систиг-хем на резиновой лодке, чтобы встретить новую партию и подготовить ей в Систиг-хеме место для стоянки.
Я пошла уславливаться с этим инженером: просила его разрешить мне воспользоваться его лодкой — в ней мéста на четверых…
Но все получилось не по-людски. Как я его ни торопила, как ни объясняла, что мне нужно ехать поскорее, он отвечал на это примерно так: «Не метушитесь, Валерия Александровна! Поедем через денек-другой. Погода стоит расчудесная… Отдыхайте, купайтесь, варите уху, а я, пока суд да дело, свяжусь по радио с Абаканом…»
Я задала ему такого отдыха, такого купания и ухи, что мне потом самой стыдно было.
Вечером он сказал Монгульби:
— Ладно. Доставлю вашу чертову куклу!
Но со мной перестал разговаривать.
Вообще, Анна Федоровна, так мне трудно достается транспорт, что прямо другой раз не знаешь, как поступать.
В Систиг-хеме я предполагаю задержаться не больше суток и сутки в Сейбе. Значит, прибуду в Кызыл в срок и поспею к областному совещанию библиотекарей.
Если с Вашей стороны будут какие-либо дополнительные пожелания, прошу Вас телеграфировать в Систиг-хем или связаться со мной по радио.
С приветом
уважающая Вас
методист Соколова.P. S. Читатель Шумбасов взял в библиотеке следующие книги:
1. Бальзак Оноре, «Шагреневая кожа»,
2. Савушкин Д., «Дизентерия раннего возраста»,
3. Бабаевский, «Кавалер Золотой Звезды»,
4. Последний номер журнала «Клиническая медицина».
Он обещал их возвратить до моего отъезда. Книги до моего отъезда возвращены не были.
Если Вас не затруднит, сообщите, пожалуйста, в Систиг-хем о положении с книгами, выданными читателю Шумбасову. Не уехал ли Шумбасов и все ли в порядке?
«Шагреневая кожа» — очень ходкая. На нее постоянный спрос.
В. С.»Оленеводческая бригада колхоза «Седьмое ноября»
Избачу Арыг-кол Анчиме Хунаковне.
Обратный адрес: Кызыл. Улица Ленина. Областная библиотека. Методисту Соколовой В. А.
Уважаемая Анчима Хунаковна!
Сегодня я еще в Тора-хеме — последний день. Завтра уезжаю из Тоджи.
Как идет у Вас работа? Как Ваши дела? Проводите ли, как обещали, громкие читки? Вы видели, как это делается, и отлично сумеете организовать все сами.
Очень прошу Вас не бросать этого дела.
Прошу Вас также по получении газет из Тора-хема сейчас же вывешивать их на стенде около красного чума.
Рекомендую Вам привлечь себе в помощь нескольких ребят-старшеклассников.
Не забывайте, Анчима Хунаковна, что Ваша передвижка должна завоевать у колхозников такой авторитет, чтобы они не только приходили в красный чум на громкие читки, но чтобы каждый свободно и уверенно обращался к Вам с любым вопросом, касающимся оленеводства.
Держите со мной связь, и я буду бесперебойно снабжать Вас книгами на любые темы. (Кызылская областная библиотека укомплектована довольно хорошо, но, если понадобится, я затребую нужную книгу из Москвы, из Ленинской библиотеки, по межбиблиотечному абонементу.)
Мы обязаны как можно лучше удовлетворять растущие запросы читателя, помогать работе ваших ветфельдшеров, доярок, телятниц, бригадиров. В этом — наша профессиональная честь. Обращайтесь почаще за помощью в наш методкабинет. Все, что от нас зависит, будет сделано.
Когда у Вас накопится уже сравнительно большой опыт проведения бесед и громких читок, напишите, пожалуйста, об этом в «Тувинскую правду».
Сделаны ли новые плакаты? Как у Вас дела с выдачей литературы? Какие у Вас вопросы ко мне? Что Вам трудно, в чем нужна помощь?
Жду Вашего письма обо всех делах.
Сердечный привет Вашему мужу и Вашей свекрови. Передайте ей, пожалуйста, спасибо за олений сыр. Привет товарищу Таджи-Серену.
Высылаю Вам вместе с этим письмом красненькие сапожки для Вашей девочки.
Будьте здоровы. Желаю успеха в работе.
С товарищеским приветом
Методист Соколова.Начальнику почты и телеграфа города Тора-хема тов. Сарыг-олу И. К.
От методиста областной библиотеки Соколовой В. А.
Заявление
Прошу, не задерживая, препровождать полученные на мое имя письма и телеграммы по пути моего дальнейшего следования (Систиг-хем, Сейба).
Соколова В. А.— А вам уже час как лежит телеграмма, гражданка Соколова В. А., — скосив глаз в Лерину сторону, но сохраняя полную серьезность, сказал ей телеграфист Ондар.
Лера раскрыла телеграмму дрожащими пальцами. Телеграмма гласила:
«Ваше письмо из оленеводческой бригады получил тчк Соколова вы молодец тчк Ваш друг Николай Николаевич».
Часть пятая
1
На краю обрыва стояли Чонак, Лида Сапрыкина и торахемская библиотекарша Роза.
Все трое сговорились и приехали в колхоз «Седьмое ноября», чтобы проводить Леру.
Оборачиваясь, Лера видела белое, до блеска наутюженное платье Лиды Сапрыкиной, ее светлые, коротко остриженные волосы, рвавшиеся в сторону реки.
— Лида, Лида, ты слышишь?! Так ты смотри же… В общем, приезжай в Кызыл! А ты, Роза, давай почаще пиши мне!
Издали Роза кажется маленькой, худенькой, похожей на девочку.
— Роза!.. Ты, главное, надейся на себя. Верь в себя, Роза. Ты справишься. Слышишь, Роза?
— Ага.
— Чо-о-онак!
Чонак смотрит на Леру исподлобья. Он задумался.
— Лери!
— Будь счастлив, Чонак! («Мой дорогой товарищ. Мой милый спутник!»)
— Бывай здорова!
Они смеются, машут руками, платками, ветками.
Сапрыкина достала откуда-то рупор. Она кричит в рупор:
— Счастливо-о-о, Лера!
— Счастли-иви, Лери-и-и, — вторит ей без рупора Чонак.
— Прощайте, ребятки! Пишите!
Лера спускается к реке Ий…
Сзади по тому же каменистому спуску идет Александр Степанович — инженер. Он перекинул через плечо весла. Не оборачиваясь, Лера слышит за своими плечами его тяжелое дыхание — посапывание тучного человека.
Дальше плетется Джульбарс. Он увязался за Чонаком и вслед за ним прибежал из Тора-хема. Джульбарс устал, он лениво ступает по камням, высунув язык (день обещает быть очень жарким).
Иногда Джульбарс забегает вперед и заглядывает Лере в лицо — в глазах у него безмятежное спокойствие, как будто это так и надо, чтобы она уехала и чтобы они не встретились больше никогда.
И понимая, что она уже, наверное, и на самом деле не увидит больше этого своего друга, черно-рыжего, с длинной свалявшейся шерстью (сотни и тысячи собак еще увидит, а его нет!), что никогда больше не обнимет она его толстую собачью шею, не назовет «Джульбарсюткой», не бросит мясца или краюшки хлеба, она с горькой жалостью треплет его косматую голову: «Никто небось не будет любить тебя так, как я…»
Джульбарс почуял в этих ласковых движениях что-то печальное и хрипловато, вполголоса, заскулил.
В лад ему тихонько затянула Лера:
Джульбарсю-ютка моя, Разлюбезная моя, Ой, Джульбарс, Ой, соба-а-ка Несуразная… Джульбарсютки-и мой-аа, Разлюбезни мой-аа, —сейчас же громко подхватил мальчишка-тувинец на берегу.
Этот бодрый голос, видимо, успокоил Джульбарса. Он вильнул хвостом и быстрее побежал к берегу по истоптанной скользкой траве.
За Джульбарсом шел радист экспедиции (тащил под мышкой помпу для накачивания резиновой лодки); за ним гуськом — не без некоторой торжественности — следовали дети, Капа и приезжая тувинская артистка, Капина подруга.
Спустившись к берегу, инженер и радист принялись накачивать бесформенную, мягкую лодку. И вдруг, распрямившись, она стала посреди тихой воды, плоская и широкая, с круглыми бортами, легкая и в то же время надежная.
Инженер работал, сбросив парусиновые ботинки и почти до колен закатав брюки. Шагали по воде, вокруг лодки, его тонкие белые ноги.
Теперь, когда Лера собиралась уезжать, когда она понимала, что сейчас, через минуту-другую, отчалит от берега, ей было стыдно за ту настойчивость, которую она проявила, и за все те слова, которые недавно сказала ему в запальчивости.
Тихо было на берегу.
Перестали смеяться и кричать Чонак и Лида. Был слышен только легкий плеск воды на камнях.
— Ну, давайте, давайте, Валерия Александровна, — сказал инженер, не глядя на Леру.
— Спасибо, — тихо ответила Лера, с тоской думая о том, как это она осмелилась кричать на этого немолодого и толстого человека, который годится ей в отцы. Подойти бы к нему и объяснить при всех, как сильно она его уважает и как благодарна ему за то, что он согласился взять ее с собой!..
Так ей хотелось сделать. Но люди этого почему-то не делают. Она знала, что не делают, давно знала… И оттого, что неудобно было поступить так, как хочется, на душе у нее было смутно и тревожно. С нежностью и какой-то щемящей жалостью она смотрела на все вокруг — на Капу и Чонака, на ребят, на эту траву и этот берег, даже на эту совсем чужую женщину, артистку, с вязанием в руках.
Она была благодарна земле, реке и этой немолодой тувинке со спокойным темным лицом, пришедшей ее проводить. И Капе была благодарна и радисту, который знал что-то большее, чем она, который все умел — и хорошо обращаться с радио, и накачивать лодку, и удить, и жарить рыбу, и много еще чего другого, например, быть веселым и не сердиться на людей.
Наверху, на горе, над спуском стояли, задумавшись, Чонак, Лида и Роза. Ветер с реки трепал им волосы, раздувал рукава.
— Да садитесь же вы наконец, Валерия Александровна, — ворчливо сказал инженер. — То все торопились, а теперь недозовешься.
— Я сейчас, сейчас…
Лера ступила в лодку. Лодка качнулась. Поднатужившись, радист толкнул ее мягкий борт, и лодка отчалила.
— До-о-о свида-ания!
— Про-ощайте! Спасибо-о-о! («Спасибо, Чонак! Спасибо, Капа! Спасибо, Лида! Спасибо, Василий Адамович!»)
«Спасибо» — как это мало!
Последнее «о» подхватит горное эхо и отбросит опять на середину реки. И добрых десять секунд дрожащий звук будет висеть в воздухе. Целых десять секунд… Только десять… Но дольше будет жить в памяти все, что было. Ах, если бы научиться запоминать навсегда! Так жаль уступать прошлому даже самые маленькие черты настоящего.
— До сви-да-ни-я!..
Машут изо всех сил на горе Чонак и Роза. Машут платками внизу у берега Монгульби Надя и Монгульби Райка.
— Ау-ау, тетенька Лера!
— Прощайте-е, девочки!
«И вот я приеду в Москву, приеду и куплю тебе сумочку, Монгульби Райка. Зелененькую, с золотыми застежками, похожую на бочонок. В ней будет зеркальце и кошелек. Ты будешь вынимать зеркальце и смотреться в него. Смотреть на свои рыжие веснушки. И с сумочкой в руках — зелененькой, московской — пойдешь гулять по улицам колхоза.
«Смотрите-ка! У Райки Монгульби сумочка! Откуда? В Кызыле таких будто нету…»
«А мне тетенька Лера из Москвы привезла. Ну, тетенька Лера, знаете? Самая главная библиотекарша».
Сумка будет висеть на гвоздике над кроватью, когда ты будешь спать… И пусть я сквозь землю провалюсь, если забуду привезти тебе сумочку с кошельком и зеркальцем».
— До свидания, Капа! Спасибо-о, Капа! Джульбарсютка-а-а!..
Он бросился в воду и, не рассуждая, поплыл за лодкой. Намокшая шерсть прилипла к его острой собачьей голове.
— Джульбарс, обратно! Ишь, окаянный! — кричат с берега.
И, поколебавшись мгновение, он медленно поворачивает и плывет назад.
— Гребите, Валерия Александровна.
Лодка быстро идет вперед.
— А вы, однако, отличный гребец! — с удивлением говорит Александр Степанович.
— Я на море выросла.
Она оглядывается, вздыхает.
С той и с другой стороны — берег. С одной он пологий, с другой — крутой, каменистый, обрывистый — Саяны. Всюду Саяны, куда ни глянешь, гора за горой — то лысая, лилово-голубая, то вся в деревцах и деревьях.
Лес растет на этом крутом берегу ступенями, и непонятно, откуда он прет — из камней, что ли; и куда уходят его корни, в какую глубину; и сколько ему лет; и что он видел. Простая, тихая и невнятная жизнь!..
Стоит неподвижно лес, насторожившийся, чуткий, и как будто занят только тем, чтобы отражать каждый звук: падение камня, человечий или птичий голос.
Крикни: «Ого-го!» — долго будет звучать за горами, за лесами дальнее эхо.
А вода мерно и мягко ударяет о дно лодки: плюх-плюх. И припекает солнышко.
Справа, где берег пологий, — словно для того, чтобы дать Лере получше запомнить себя, — из-за поворота опять показывается колхоз, его последние чумы и дома. Вот сушится на улице белье — едва приметно полощется на ветру… А вот столбы… Последние столбы электропроводки.
«Как странно! Придет вечер, зажжется свет, осветит все закоулки: желтую стружку, которая валяется на дороге, ветки лиственницы, траву. А меня здесь уже не будет. Я буду далеко…»
Исчез колхоз. Не видно больше ни дома, ни чума, ни человека. Пасутся козы, а человека не видать. Козы и козы. Одна, последняя, стоит на краю обрыва, и рядом — козленок. Повернул свою бесовскую морду в сторону реки и трясет бороденкой. Такой маленький, а уже бородатый.
По травянистой кромке вдоль берега растут какие-то цветы. Лиловые, увядающие. Не за горами осень — нет, она тут, близко, у самых гор.
— Эхма!.. Не захватил ружьишка… Утки!
— Где утки?..
Как можно их разглядеть среди этого блеска в мелкой, как рыбья чешуя, серебряной ряби? А должно быть, хорошо живется уткам в такой тишине и безлюдье, в таких просторах. Ка-ак гаркнет мама-утка: «Га-га-га!» Как заработают утята под водой красными лапами, как вспорхнут: «Га-га-га…» А крылья, крылья-то какие тяжелые!.. Полет — словно шаг у толстого человека.
Ох, одышка, ох, напугали! Кря-кря!..
Тянутся песчаные отмели и гряды камней. На песке — остроконечные наплывы: следы волн. Песок влажный, плотный, еще хранит память о недавнем прикосновении воды.
Га-га-га. Кряк-кряк.
Всё — и река, и лес, и берег — переполнены сотнями, тысячами еле слышных дыханий, шумов, шорохов.
Торжественно и безмятежно совершается между водой, землей и небом великое дело жизни.
Лодка идет вперед. Припекает солнышко. На реке нет тени — где ж ее взять! И только плещется вода, только бьется она, кружась у подводных камней или вокруг какого-нибудь опрокинутого грозой дерева. Все шире река. Где, когда слилась быстрая речка Ий с полноводным Енисеем?.. Бегут в неутомимом движении, в вечном движении вперед речные воды. Брызжут то светом, то тенью, то полутенью, будто спрятанные на дне реки зеркала отражают солнце или ветку случайного, бегущего мимо, наклоненного над водой дерева. Лес стоит по ту сторону реки в великом безмолвии — задумчивый и грозный.
А вот торчит из воды тонкий ствол березы. Здесь, видно, был мысок, но вода залила его, подмяла кусты, поломала деревья. Торчит из воды обломанный ствол, дрожа мелкой неуемной дрожью, как голова древней старухи. Вокруг — водоворотец. Лодка ушла вперед, а там, оставшись далеко позади, долго будет вздрагивать обломанный ствол, вздрагивать, вздрагивать и качаться. Такова его жизнь — вот это вечное тик-так, вот эта не оставляющая его дрожь. Он будет кланяться, пока не станет скованный льдом Енисей, не сжалится и не даст отдохнуть березовому стволу. Да уж, верно, и устал же он, бедняга, качаться и кланяться.
Нет… Море куда добрее! Оно вырывает деревья прямо с корнями, а не мучит их день за днем, час за часом…
— К бережку, к бережку подгребайте, Валерия Александровна.
Лера гребет. Гребет изо всех сил. Но ведь это не море! Здесь словно сто водяных рук держат движущуюся к берегу лодку; словно тысячи водяных спин загораживают ей путь к берегу. Ну и упрям же Енисей — не шуточная река.
Раз, еще раз! К бережку, к бережку…
Разувшись, они вытаскивают лодку на берег — двое среди великого безлюдья, плеска и тишины.
— Давайте купаться, Валерия Александровна, жара!
Тут хорошо купаться. Берег пологий, только дно каменистое. Вода режет холодом. Ледяная! Нет, это вам не море, не Черное море! Ну и что бы ему немножко согреться, этому Енисею!
Натянув на голову платок с четырьмя узелками на кончиках, затыкая пальцами нос и уши, на некотором расстоянии от Леры энергически, как дело делает, ныряет под воду инженер.
Вынырнет и фыркнет: «Уф! Хорошо!..»
Сразу видно, что он привык купаться и плавать во всяких реках — хоть теплых, хоть ледяных… И сколько же он их, наверное, перевидал на своем веку, небось много: ведь он железнодорожник, такое уж у него кочевое ремесло — лесное, степное, горное, водное.
— Поспите, что ли, Валерия Александровна. А я часок поужу. Здесь рыба прямо-таки косяком идет. Я видел.
Он достает из лодки удочку и ведерко. Лицо у него добродушно-счастливое, а тонкие белые ноги осторожно ступают по острым камням берега, деликатно неся грузное тело.
Лера дремлет, спрятав голову в тень от лодки.
Сквозь сон она слышит, как близко, у самого уха, плещется вода, вдавливаются в бок камни, солнце обжигает голые ноги, не прикрытые тенью.
Все вокруг покачивается, покачивается. Не торопясь вертится земля. Жарит солнце.
А Лера спит.
2
По приблизительным подсчетам, по тем легкомысленным людским подсчетам, на которые, как показал опыт, не особенно следует полагаться, из Тоджи — от колхоза «Седьмое ноября» — до Систиг-хема восемь часов водного пути. Так утверждали лоцманы, и так говорила Капа, которая когда-то работала на плотах.
Что же касается Монгульби, то он ничего не утверждал, выслушивал Капины и Лерины подсчеты молча, досадливо морща лоб и приподняв брови. Это не значило «нет». Это не значило и «да». Это, должно быть, означало, что при хорошей гребле и подходящем ветре пути окажется примерно часов семь-восемь; при плохой гребле и встречном ветре наберется часов десять, двенадцать, а то и все пятнадцать. Если же принять во внимание, что резиновая лодка много меньше плота, и, стало быть, течение меньше будет помогать гребцам, и лодку, наверно, станет швырять из стороны в сторону, как легкий поплавок — то уж совсем невозможно сказать, сколько времени понадобится, чтобы добраться до Систиг-хема.
И вот они гребли, гребли, гребли, сперва радуясь вечерней свежести, отдыхая, по-братски делясь сухой колбасой, которую нашли в планшетке инженера; делясь черствым сыром, который если срезать верхнюю корочку, то на поверку вовсе уж не так плох; делясь булками, которые испекла для Леры Капа, и ягодой-кислицей, которую ей на дорогу собрала Райка.
Плыли, плыли — одни по темнеющей реке, а вокруг все не было видно ни малейшего признака человечьего жилья.
Положив в рот по ягодке кислицы, они морщились и хохотали, глядя друг на дружку; потом Лера старательно терла потемневшие пальцы, опуская их за борт лодки; потом они опять гребли, совсем подружившись, оба счастливые и этим днем, и этим солнцем, и тем, что удалось так хорошо поспать Лере и так хорошо поудить инженеру.
— Э-эх, взяли!
Инженер разошелся, подмигивал, хохотал, и от этого лицо у него становилось как будто еще толще и добрее. Лера даже спросила, умеет ли он показывать фокусы.
Фокусы он показывать не умел, но почему-то вспомнил о доме, о детях и вынул из внутреннего кармана пиджака карточку своих девочек.
С фотографии смотрели на Леру две большеглазые школьницы в форме. Одна — худенькая, с острым подбородком — должно быть, в мать, другая — потолще, здорово похожая на инженера. Он сказал про эту девочку, что она отличница, и раздул ноздри, как будто собираясь запеть.
Лера довольно долго рассматривала фотографию. Она старалась представить себе обеих школьниц, и то, как они живут, и то, как возвращается из поездок инженер, и каково это — вернуться из дальнего края и вдруг в один прекрасный день и час войти в свою квартиру в Москве.
— Ну вот, ну как вы, например, приходите?.. Ну как?
— Да как вхожу? Ну, ясно… Обыкновенно.
Он не понимал, о чем она спрашивает. Не понимал, о чем ей хочется узнать, не догадывался, что она пытается вызнать, встречают ли его девочки на вокзале, или он, не предупредив их, тихонько поднимается один, с чемоданом в руке, по лестнице своего дома.
…Вот он открыл входную дверь своим ключом. Вот бежит по коридору навстречу отцу толстая отличница, останавливается и, удивившись, тихо говорит: «Папа!..»
Она вскидывает руки в форменных рукавах и обнимает шею инженера — вот эту самую шею, красную от солнца и ветра.
Нет, он не понимал, чего хочет от него Лера. А она пыталась увидеть картину его простого счастья; понять, о чем и как он рассказывает детям за чайным столом, и в силах ли он рассказать им, ну вот, скажем, про этот день, про рыбу, про гальку, или только задумчиво молчит и пьет чай, раздувая ноздри, а они сидят по обеим сторонам и смотрят ему в лицо, в это толстое лицо, единственное для них — лицо отца.
Инженер говорил, доверчиво заглядывая в глаза Лере, не переставая грести, став вдруг очень серьезным, гордясь, вспоминая, тоскуя…
Мы с женой детям ни в чем не отказываем. Отказа нет. И в театр, и книги, и комнату красиво обставили — шкаф купили, хороший, трехстворчатый, когда я последний раз приезжал, диван этакий, мягкий — в новом вкусе. А жена — ничего. Жена — порядочная, не осрамит. Такая, что можно довериться и быть спокойным за детей. Воспитает. И хорошо воспитает.
— А вы ее любите?
Он задумался. Потом мечтательно приподнял брови.
— Уважаю… Как мать… Ну, как жену, одним словом.
— А вы с ней часто целуетесь?
Он фыркнул.
— Да некогда, знаете, особенно целоваться-то, Валерия Александровна. А дети — дети хорошие, ласковые. И общественницы. И обе такие хозяйственные, и обе…
Видно было, что он об этом говорил как о чем-то самом важном для себя и что это в самом деле было ему важно — и дом, и девочки, и диван в новом вкусе.
В нескончаемости водной дороги, в первых тенях, в тишине, в быстро спускающемся на землю холоде, в легкости очертаний трав и деревьев, словно размытых тьмой, было такое чувство огромной протяженности, что невольно вставала перед глазами вся прожитая жизнь.
Он рассказывал ей о своем детстве, о матери-крестьянке, о братьях, сестрах, о своем кочевом ремесле…
— Ну как это бывает?.. Ну как, к примеру, прокладывается железная дорога? — перебивала она. — Ну вот, к примеру, хотя бы тут, в Тодже?
Он вскидывал брови.
— А кто вам вообще говорил, что мы решили ее проложить?
— Скажете тоже! А зачем же вы здесь? Ведь вы не геолог, а железнодорожник.
Он смеялся, подмигивал.
— Много будете знать, рано состаритесь, Валерия Александровна.
О своей работе он говорил неохотно и коротко. И так охотно о себе!
Чисто по-мужски Александр Степанович искал сочувствия у нее — такой неопытной и юной, еще так мало видевшей, готовой всему удивиться и восхититься всем: и мужеством, и перенесенными лишениями, и всякой опасностью, ему грозившей.
— Да, да, Валерия Александровна, голубушка, хлебнул я однажды, знаете, горя. Думал, что не увижу больше своих ребят. Проводили мы, значит, в тундре разведку и…
— Какую разведку?
— Да полноте дурачиться-то! Ведь вы не маленькая!.. И вот мой проводник, понимаете, отстал. Черт бы их побрал, этих проводников! Отстал, негодяй, и вот я один: — без хлеба, без дохи. Куда пойдешь? А компас у него, стервеца. Ну, как тут будешь? Ну как? Брожу… холод, тундра…
— А что было потом?
— Под утро встретились. А у него и собаки, и нарты, и хлеб. Все, одним словом… И спирт был.
Лицо инженера сделалось жалкое. И он добился-таки своего: она его пожалела.
Тогда, забыв про тундру, он мигом успокоился, стал снова весел, смешлив и бодр.
А лодка между тем шла. Все шла и шла.
Пологий берег уже давно превратился в крутой и обрывистый. Они плыли по коридору из скал. И уже не видно было ни утки-кряквы и камышей, ни белки на прибрежной сосне.
Тьма сгущалась. Скалы словно росли во тьме, громоздились одна на другую. Сперва они отбрасывали в бегущую воду чуть приметные тени, потом, как будто сговорившись, слились в сплошную полосу серой мглы, потом — в густую тень, заволокли воду, проникли в самую ее глубь, замутили непроглядной темнотой… Не видно больше пестрых камней на дне Енисея. Оттуда, из глубины вод, так же, как сверху, с неба, глядит тьма. У берегов она еще гуще. Чем выше берег, тем чернее вода. Отовсюду — спереди, сзади, сверху, снизу, с боков — тьма обступает двух маленьких людей, едущих на резиновой лодке по большому, безрадостному, холодному вечернему Енисею.
Но и во тьме не знает устали Енисей. Наваливаясь на любой островок, он образует бурные потоки, кружится и пенится. Лере и Александру Степановичу приходилось изо всех сил грести, чтобы противостоять волне, чтобы она не выбросила лодку на мель.
— Который час? — робко спрашивала Лера.
— Седьмой! Восьмой! Девятый! — бодро отвечал инженер, даже не взглянув на часы.
Время от времени он шутил:
— А вот он, ваш дорогой Систиг-хем! Смотрите, смотрите, девушка! Направо!
И она оглядывалась. Оглядывалась, но не было видно ни Систиг-хема, ни хатки, ни чума, ни дома на берегах. Они были пустынны — берега. Горы отвесно и круто спускались к Енисею, и только наверху был лес. Лес. Лес. Деревья, объединенные тьмой, слитые ею, превратились в сплошную лесистую полосу — нескончаемую полосу тайги, идущую все вперед и вглубь — туда, куда-то, вдаль, в Саяны. За первым рядом гор угадывались другие горы. Горы и горы — без предела и края, без края и конца.
А в небе, почти таком же темном, как вода, зажглась, словно его прокололи булавкой, первая ночная звезда. Зажглась и повисла над Енисеем, над движущейся в темноте лодкой, над Лерой. По временам звезду застилали облака, но она пробивалась сквозь них и летела вперед, вдогонку за людьми, словно стараясь без слов рассказать им о ночи, о безлюдье, об одиночестве, о еще не прорезанных железной дорогой пространствах большой косматой земли.
— Эх! — сказал инженер. — Забыл расспросить, на каком бережку Систиг-хем. На правом или на левом. Надо думать, на правом. На пологом берегу.
Она молчала в отчаянии, глядя на него расширенными глазами, которых не было видно во тьме.
Такой толстый, такой большой — и не захватил с собой карты, не расспросил людей толком. А еще железнодорожник. Путеец!..
Ей хотелось сказать ему это, но она боялась вступить в пререкания с ним здесь, посредине реки, где он был, кроме нее, единственным человеком.
Она слышала его тяжелое дыхание, видела в полутьме очертания его квадратной легкомысленной головы, его тучную, короткую шею, удивлялась и почти ненавидела.
А он бодрился. Он кричал: «Ого-го!» — как будто это очень весело, как будто так и быть должно, чтобы ехать вдвоем по реке, без карты, с пустым планшетом на боку и рыбой, которая притихла в ведерке.
Все притихло. Спит рыба, птица и зверь. Спит лес.
— Ого-го!
Нет. Лес не спит. Эхо, тяжелое эхо, перекатывает человечий голос, как голос грома. И далеко в горах отдается: «Ого-го!»
— Раз-два! Глядите, Валерия Александровна, за этой горой — Систиг-хем.
И они гребут. Гребут из последних сил, но Систиг-хема нет.
Опять какая-то скала. Вот чуть виднеется тропка… А на скале — огромные белые, светящиеся во тьме буквы:
МАШПАГОЛ
ПОСОХИН
САЛГА
Спасибо вам, люди, неизвестные, незнакомые люди, Машпагол, Посохин, Салга! Спасибо за то, что в этом глухом безлюдье вы оставили свой след, тепло своего дыхания, за то, что в наступающей тяжелой, сплошной мгле светятся на темном камне белые буквы ваших имен.
И мимо лодка.
— Ну, Валерия Александровна, душенька, вот пологий бережок. Вытащим лодку и заночуем.
— Что? — не веря своим ушам, говорит Лера.
А лодка уже у берега. Впрочем, какой здесь берег! Это тебе не море! Нет ни круглой, обкатанной гальки, ни чистого, плотного и мелкого песка. Зато стеной стоит густой камыш, стоит и сухо шуршит.
Утопая в болоте, глубоко проваливается нога.
— Тащите же, тащите! Ну! Энергичней! Раз-два!
И оба, вцепившись в борт, подтягивают лодку поближе к земле.
Он оглядывается. Она молчит. Молчит, затаившись, не смея выдать своего недоверия и страха.
— Так. Ну, вы подождите здесь, а я, пожалуй, пройду вон по этой тропке. Пройдусь, пошукаю. Здесь, где-то рядом, должно быть жилье.
И, оставив Леру, он быстрым шагом уходит вперед.
Опустив голову, она стоит возле лодки и вдруг, не выдержав одиночества, начинает звать:
— Александр Степаныч! Александр Степаныч!
Он не отвечает ей, но она видит в темноте его удаляющуюся спину. И вот ушел. Растаял. Пропал…
— Ау! Ау! — отчаянным голосом кричит Лера.
И, сжалившись, он наконец отзывается на звук ее дрожащего голоса:
— Ого-го!
— Александр Степаныч!.. Александр Степаныч!.. Миленький!..
Он ворчит:
— Скаженная…
«…энная», — подхватывает эхо.
Он говорит «скаженная», но все-таки возвращается.
Наклонившись, он мрачно шарит на дне лодки: достает планшет и ведерко.
Следуя за каждым его движением, подражая ему, притихнув, она тянется за туеском, хочет взять пакет с книгами…
— Оставьте! — говорит он коротко и сурово — Разве они вам сейчас нужны?
Она не смеет настаивать, только робко и бережно прикрывает книги старым Капиным плащом.
Они идут вперед, в глубь незнакомого берега. Идут молча, то и дело проваливаясь в болото. Лере страшно. Она шагает за ним, прижимая теплые кулаки к бьющемуся горлу, к жилке у горла, стукотню которой слышит дрожащими пальцами.
Пройдя немного, он останавливается и коротко говорит:
— Вот!
Перед ними крошечная поляна. Маленькое свободное пространство меж трех-четырех деревьев.
Он бросает на землю планшет, ставит в траву ведерко и озабоченно, молча принимается ломать хворост. Она тоже ломает хворост.
Тут будет костер. Здесь, среди этих деревьев, на поляне, запахнет дымком, вспыхнет пламя, и сделается тепло.
Не говоря ни слова, повернувшись друг к другу спинами, они ломают сучья. И вот наконец, присев на корточки, он подносит к маленькому сучку дрожащую спичку. В ее беглом свете выступают на миг его ладони — большие загрубелые руки рабочего человека.
И вспыхивает огонь.
Голубой, он ползет по влажному дереву, едва дыша, готовый погаснуть. Но нет! Не гаснет. Сучок, и еще один… Костер разгорается. Не такой, как разводил Таджи-Серен, но все же костер.
Пламя дышит. Дым ест глаза. Над болотистой почвой, неутомимая, вьется мошка, кружится комарье, жужжит и жужжит — поет свою нудную песенку.
И вдруг — луна.
Скажи, пожалуйста, что будет с нами без хлеба, без спальных мешков и когда мы выберемся из этой тайги?.. Сколько ночей мы переночуем здесь, сколько пройдем километров и увидим ли когда-нибудь чум, или дом, или хотя бы покинутую избушку?
Ах, что за пустяки! Ты забыла про Монгульби и Сонама. Разве они дадут пропасть человеку? Прилетит самолет и будет кружиться над лесом, пока не увидит твою сорочку, привязанную к макушке дерева, как белый флаг. Помнишь, так было с той девушкой из геологической партии? Ведь ее нашли! И очень скоро нашли!
— Ну ладно. Ну полно, Валерия Александровна. Давайте подзаправимся, а? Нажарьте рыбки. Вот нож.
Нож большой. Перочинный. В нем три хорошеньких лезвия, штопор и шильце. Ничего себе нож. Довольно приличный ножик…
Взяв ведерко с рыбой, Лера идет к реке.
Ничего не видно. Луна опять зашла за облако. Темно. Очень темно. Ноги что ни шаг проваливаются в топь. В сапогах хлюпает вода. И далась ему эта рыба! И как он может думать о рыбе?!
Но она идет, идет покорно, как маленькая, идет прямо на шум реки, на ее тусклый блеск. Выглянувшая из-за тучи луна опять спокойно отражается в воде, чертит длинную движущуюся дорожку.
К берегу спускаться трудно. Глинистый, он весь обмяк.
Вытащив из-за пазухи нож, она распарывает рыбьи брюшки, соскабливает чешую, полощет рыбу в воде.
Наконец дело сделано. Теперь шагать как будто полегче: ведь она идет на яркий огонь — на свет костра. Идет, спотыкаясь, и кротко держит в руке ведерко с начищенной рыбой.
— В чем дело, Валерия Александровна? Вы, кажется, хныкали?
— И не думала!
— Нет, вы, оказывается, нытик. Нытик, и больше ничего. Стыдно так. А еще комсомолка. Да!..
В его голосе дрожит смех.
— Герой! — говорит он, почти смеясь. — Герой и великий библиотекарь.
Он обнимает ее за плечи. Она по-детски доверчиво прижимается к нему и бормочет бессмысленно:
— Ну ничего же!.. Честное слово, ничего. Вы только не беспокойтесь, пожалуйста, Александр Степанович. Мне… нет, ну, вы же меня не знаете! Вот когда я в оленеводческую ездила, тогда и вправду было немножко трудно. А это что! Пустяки.
Успокоившись, она нанизывает рыбу на гладкий крепкий сучок и сосредоточенно держит, его над огнем. Рыба жарится. А сучок горит. У тувинцев он не горит, а у Леры горит. Она поворачивает рыбу слева направо, справа налево.
Кусок рыбы падает в огонь. Из огня идет чад.
— Растяпа! — вздохнув, говорит инженер. И сам принимается за дело, сбрасывает зачем-то пиджак, закатывает рукава.
Дело спорится. Рыба весело жарится на вертеле.
— Ну вот, — говорит он удовлетворенно.
Они едят из общей посуды, из одного ведерка, — сталкиваясь руками и посматривая друг на друга.
— Эх!.. С вами каши не сваришь, Валерия Александровна. Не сваришь каши и не зажаришь рыбы. Ваш муж небось с вами наплачется.
— А я замуж не собираюсь, — говорит Лера и смотрит на него виноватым, влажным, успокоенным взглядом, в котором отражается огонь.
— Ну вот, подзаправились. Пора и на покой. Утро вечера мудреней.
Уйдя во тьму, он ломает ветки, еловые лапы и складывает их неподалеку от огонька. У них нет с собой ничего теплого — ни дохи, ни спальных мешков, ни одеяла. Посапывая, он стелет общую постель.
— Ложитесь. Готово.
Но стоило им чуть-чуть отойти от костра, как комар сразу принялся за свое комариное дело: он снова стал звенеть изо всех сил. Звенит и жалит. Жалит и звенит.
Не спится. Холодно.
Люди жмутся друг к другу на общей постели из веток, пытаясь согреться хоть немного теплом своего соседа. Не спится. Кусает комар.
Спать. Спать. Спать.
«Вот я буду считать до ста, потом до тысячи, и придет утро. Оно наступит наконец, и мы пойдем дальше. Станет светло. Будет видно, где кочка, где ягодный куст, где яма. Ноги не станут на каждом шагу проваливаться в болото. И будет долгий день. Длинный день. И можно будет шагать, шагать… А лодка? Как с лодкой?! Ничего, как-нибудь».
— Не спится, что ли, Валерия Александровна?..
— Не спится, — отвечает она.
И вдруг его голова, приподнявшись, падает. Щека прижимается к Лериной щеке. Что это — нечаянно или нарочно? Она отстраняется.
— Лера! Валерия… — говорит он голосом, какого Лера в жизни не слыхивала, — не голосом человека, а дыханием ветра или плеском реки.
— Оставьте! — отвечает она, ужаснувшись, присев на своей постели из веток, прижав кулаки к бьющемуся изо всех сил сердцу.
— Лера, — говорит он неузнаваемым в темноте голосом. — Лера! Замерзла, милая девочка, — говорит голос ветра. — Замерзла?
И большие его руки, стиснув Лерину ступню, пытаются согреть ее. И слышится бормотание.
Он согревает Лерины ноги своими большими руками. Но чем нежнее и старательнее пытается он их согреть, чем щедрее и ласковее его слова, тем холоднее и страшнее становится Лере.
— Александр Степаныч, — говорит она, — спасибо, не надо. Пожалуйста! Я согрелась.
Руки падают. И он ложится снова подле нее, на общую постель.
Она боится дышать, шелохнуться, не в силах осмыслить, что же это такое случилось с ней.
И опять они лежат рядом. Ни движения, ни шороха. Но Лера слышит — он не спит.
И вдруг она чувствует на своей щеке прикосновение его губ. Она вскакивает и, не говоря ни слова, идет к огню.
Он не смеет следовать за ней. Он продолжает лежать там, в темноте, не освещенной пламенем костра.
…Сейчас она возьмет свой туесок и пойдет одна в ночь, в тайгу, чтобы никогда не выбраться отсюда, чтобы пропасть, заблудиться — без еды, без единой спички. Пойдет и будет идти, пока не упадет на землю от холода и усталости. Сейчас, сейчас она уйдет. Встанет и уйдет в ночь… если он посмеет пошевельнуться.
И он не смеет шевелиться. Он, как мертвый, лежит там, далеко, за пределами света. Не слышно даже его дыхания.
Холодно, холодно. Огонь согревает только живот и руки. А спине холодно. Зуб на зуб не попадает.
А ночь между тем вершит свое дело. Вершит его в глубоком молчании и не дарит звезд, — нет, не дарит. Не дарит звездного своего света, хочет быть еще темней и суровей. Ночь, в которой спит медведь; ночь, в которой спит марал и дикий козел, а не спят только люди да комар — сошедший с ума комар, кружащийся над Лериной головой.
Но вот и комар примолк. По верхам потянуло ветром.
И пошел дождь.
Он начал свое дело с осторожного накрапывания, с тихого шума и подергивания листвы. Потом разом звучно ударил по всем листкам, захлопал по земле и стал заливать огонь.
Инженер поднялся, вышел из темноты и принялся подкладывать в огонь сучья. Огонь тлел, не желая гореть, а все-таки между сучьями потрескивало, мерцало, вспыхивало, и сияние прибитого пламени жило, борясь с дождем и побеждая.
Они молча сидели у огня, опустив головы. Он не чувствовал себя виноватым. Нет, скорее обиженным.
«А если бы с твоими девочками так?! Что?! Заплакал бы небось, а? Заплакал бы, задергал бы толстой щекой, сказал бы: «Гнус!» — вот как бы ты сказал. Именно так. Уж я знаю!
«Мы им ни в чем, ни в чем не отказываем. В прошлом году купили шкаф. Хороший. Трехстворчатый…»
Эх ты, трехстворчатый! А ведь такой, наверно, и взятки берет. Берет!. Конечно, берет. Ему надо разные там шкафы покупать!..»
Так сидели они, мерзли, мокли, копили злобу.
Он молчал, раздувал ноздри. На голову надел кепку и, спасаясь от дождя, надвинул ее до самых бровей. Лера не видела его глаз.
О чем он думал? Да и думал ли о чем-нибудь?..
А дождь между тем постукал, постукал и примолк.
Огонь костра стал бледнеть. Неужели наконец утро?
Оно пришло не сразу. Не солнцем, а предчувствием его — первым светом, широким и тусклым. Постепенно из белесого тумана выступили трава, болото, борт лодки, обрывистый берег.
Инженер поднялся, но не сказал: «Пошли». Сердился. Может быть, на себя? А может, и на нее?
Он молча вскинул на плечо планшет, взял в руки ведерко и двинулся вперед.
— Александр Степаныч, а как же книги? Я без книг никак не могу. Мне надо доставить их в Систиг-хем — систигхемской библиотекарше… Я… я не могу.
— Не можете — и не надо. Никто перед вами на коленях, по-моему, не валяется. Оставайтесь. Дело, матушка, ваше. Только лодка, между прочим, тоже казенная и поценнее будет ваших книг. Я, надо думать, тоже не брошу казенного добра. Как-нибудь! Вам бы только книжонки. Э-эх, люди! Доберусь до первого поселения, а там, уж не беспокойтесь, обеспечу: ребят пришлю за лодкой и книжонками вашими. А вы как хотите. Я не привык возить с собой детский сад. Сидите, ходите, лежите, сморкайтесь. Одним словом, хоть стойте на голове.
Захватив туесок, она пошла за ним. Он оглядывался, щурился, казалось, не помнил о ней и, может быть, в самом деле не помнил, занятый заботами дня.
Они шли по тропке, и вдруг он сказал, остановившись:
— Вы слышите — петух?
Нет. Она не слыхала. И больше не верила ему: он слишком много лгал.
— Не слышу, — ответила Лера.
Слух у вас, Валерия Александровна, тонкий… Прямо как у змеи…
Он зашагал вперед, но минуты через две снова остановился и повторил торжествующе:
— Он самый — петух! А там словно дымок… Видите? Или тоже нет?!
Повернувшись в ту сторону, в которую он показывал, она на самом деле увидела дым. Дым — первый след человеческого жилья.
Взошло солнце. Стали видны копны трав, скошенные для скота. Значит, человеческое жилье было совсем близко: они заблудились около самого Систиг-хем а.
— Ну, выбрались! — сказал инженер и улыбнулся широкой улыбкой. — Выбрались, Валерия Александровна. Да я и не сомневался, я знал, понимаете… Видно, когда мы скалу проехали — вот где фамилии-то, — там бы нам с вами и остановиться. Но вы меня совершенно сбили с толку.
— Я?!
— Вот именно. Нытьем.
— Я молчала.
— У вас все лицо ныло, глаза, понимаете. Вот вы меня и сбили.
Она рассмеялась.
Он оглянулся и ответил улыбкой. «Простила ли?!» — спрашивала улыбка. «Нет!» — отвечали ее прямо глядящие на него глаза.
Вот река и берег. На той стороне — строения.
— Ого-го! — кричит инженер.
— Ого-го! — кричит Лера.
От берега отделяется лодка, а в лодке — человек. Человек гребет медленно.
«Скорей бы, скорей!..»
— Мы заблудились! — кричит Лера.
— Да молчите вы, на самом-то деле, — говорит инженер. — Ничего мы не заблудились. Полноте страмотиться!
Человек в лодке — тувинец. Он широко улыбается.
— Мы, мы… — говорит Лера.
— С каждым бывает, — отвечает тот на хорошем русском языке. — Садитесь, товарищи.
Они садятся в лодку. Лодка идет по тихой воде. На той стороне — дома, изгороди, орет петух, пасется корова. Систиг-хем!. Населенный пункт! Люди.
3
Прибыв с Лерой в Систиг-хем, Александр Степанович прежде всего зашел на почту за телеграммами.
Был ранний час, и почта оказалась запертой. Он стал энергически поколачивать кулаком в дверь, повернувшись к Лере спиной и, очевидно, совсем не понимая, почему и здесь она не отстает от него ни на шаг.
У его спины было сердитое выражение. К плечам, кепке и брюкам прилипли какие-то соринки — щепочки, соломинки — воспоминание об их общей жесткой постели.
Александр Степанович, его усталое, измятое лицо, покрывшееся за ночь частой щетиной рыжей бороды, его сердитые глаза с воспаленными от бессонницы веками; тусклое, бессолнечное утро; их общая усталость; ее босые, грязные, иззябшие ноги — все это, слившись, превратилось для Леры в нудную, долгую-долгую песню, похожую на завывание ветра в трубе.
Удар кулаком в закрытую дверь. Четкая дробь барабана. Постучит, постучит — и опустит руку. Устал он, что ли? Нет, опять стучит. Видно, у него такая привычка — все делать с передышками, не торопясь.
Стук-стук-стук! Тра-та-та!
Двери не отворялись.
Инженер уже начал было от досады посапывать, а Лера задремала, как конь на ходу, стоя.
— А вы-то зачем сюда пришвартовались, Валерия Александровна? Вам-то что?! — сказал он, видно, не в силах больше сдержать раздражения, и поднял рыжие брови. — Я телеграмму жду из Абакана. Мне лодки нужны. Палатки. Продукты, то, се… А вам что надобно? Пошли бы спать, право. Вот школа. Идите к учительнице. Приютит. Эх!.. Будь я на вашем месте — хорошо! Никаких забот.
Она не ответила.
За дверью раздалось звонкое шлепанье босых ног.
— Кто там?
— Черт. Бес. Дьявол. Ай да систигхемский телеграф! Ай да работнички!
— Сейчас.
Звякнул запор.
Молоденькая телеграфистка, мигая, глядела ка свет.
— Здесь должны быть для меня телеграммы. Из Абакана. Федорову. Александру Степановичу.
— Нету! — вздохнув, ответила телеграфистка.
— А мне? — очень тихо сказала Лера.
— Вам?
В глазах телеграфистки что-то запрыгало.
— А как ваша фамилия?
— Валерия… То есть Соколова. Соколова Валерия Александровна.
— Паспорт.
Удар был такой неожиданный, что Лера уронила на пол сандалии.
Инженер стоял, вздыхая, в уголке, задумчиво и досадливо покусывая губы.
— Ваш паспорт, — повторила телеграфистка.
И Лере опять показалось, что там, в глубине ее глаз, мелькнул веселый дрожащий огонек, как будто что-то пустилось в пляс в этих светлых, только что проснувшихся глазах.
— Вот, — сказала Лера, протягивая паспорт. — Вот, — сказала она с достоинством (и с ужасом поглядела на свои грязные ноги).
— Получайте, товарищ Соколова.
«Валерии Александровне Соколовой. Востребования. Тоджа. Тора-хем. Принято из Кызыла в 20.00. Передано в Систиг-хем 20.15».
А дальше на голубом бланке было одно-единственное слово, выписанное рукой все той же телеграфистки:
«Люблю».
4
Маленькая систигхемская библиотека расположен на во втором этаже большого деревянного дома.
Сквозь окошко библиотеки виден Енисей. Подхваченные течением, плывут по реке одинокие лесины, оторвавшиеся когда-то от своего плота. Несколько лесин лежит на желтых берегах, и непонятно, то ли их опять вот-вот подхватит вода, то ли они долго пролежат тут, будут греться на солнышке, сохнуть и превратятся в конце концов из мокрых лесин в высокосортный строительный лес.
Кроме лесин, из окна виднелись островки, предательски поросшие травой, песчаные отмели, косы.
Берега Енисея, если глядеть сверху, казались извилистыми. Тут Енисей делился на несколько рукавов — река мельчала, и сквозь ее воду просвечивало дно.
…А плотов на реке, как Лера ни вглядывалась, было почему-то не видать: то ли они успели уйти далеко вперед, по направлению к Кызылу, то ли еще не вышли из Кампы — поселка рубщиков, то ли сели на мель посередине реки.
— Ты видишь плоты, Хургулек?
— Нэт. Нычего нэ видать, товарищ Лэри, — отвечает систигхемская библиотекарша.
Хургулек пятнадцать лет. Она одета в голубое ситцевое платье. На голове у нее тюбетейка, на полные и широкие плечи спускаются две черные косы, переплетенные красными лентами.
Хургулек не то стоит на коленях, не то сидит на подоконнике, держась обеими руками за рамы. Ее голубое платье развевается от енисейского ветра.
— Ну что, Хургулек?
— Нэ видать… Нэ бэда. Сегодня нэ придут — завтра придут.
— Да что ты такое городишь, Хургулек! Мне нужно ехать не завтра, а сегодня!..
Хургулек молчит. Потом она неожиданно оборачивается к Лере и спрашивает, разводя руками:
— Зачем так говорить, товарищ Лэри?! Знаете, дорога какая? Мэли. Пороги. Водопад большой. Ночью кто пойдет по река?!. Зачем? Людей топить? Лес губить?
— А зачем же топить?.. — смущенно отвечает Лера. — У нас на море и ночью ходят.
— У вас одно море, у нас другое море — Енисей, Улуг-хем, — рассудительно говорит Хургулек.
И они спускаются с подоконника. Хургулек продолжает складывать в деревянный ящик читательские формуляры. Потом она бережно прячет в шкаф регистрационную книгу.
Эту книгу Лера прислала ей два месяца тому назад вместе с длинным сопроводительным письмом.
Приехав в Систиг-хем, Лера сразу потребовала у Хургулек регистрационную книгу. Пятнадцатилетняя розовощекая толстая Хургулек, сияя гордостью, отперла дверцу шкафа. Регистрационная книга была тщательно обернута газетной бумагой. Ее листки сверкали нетронутой белизной.
Лера от удивления даже слегка приоткрыла рот.
— Хургулек, почему ты не сделала ни одной записи?
И тут пришел черед удивляться Хургулек.
— А зачем? — сказала она. — Разве можно книги пачкать?! Я библиотекарь! Я и читателям так всегда говорю: «Нэ пачкайте книги, а то больше нэ дам».
Тогда, закусив губу, положив перед собой регистрационную книгу, усевшись на один стул с Хургулек, Лера заполнила красивым и четким почерком несколько первых граф.
— Ну, скажи по правде, теперь ты все поняла, Хургулек?
— Ага. Поняла.
— И если книги не возвращают в срок, ты обязана сама обходить читателей. Ты не должна допускать утечки книг. Понимаешь?
— Ага.
— Имей в виду, что я спрошу с тебя, Хургулек. Твоя библиотека в неудовлетворительном состоянии. Я обязана держать тебя на примете. Помни, я опять приеду сюда месяца через три.
— Вот хорошо! Приезжайте, товарищ Лэри, — широко улыбаясь и сияя, отвечает Хургулек.
И снова они сидят на подоконнике и держатся руками за рамы. И опять голубое платье Хургулек развевается от енисейского ветра.
— Ну что, Хургулек? Не видать? — робко допытывается Лера.
— Нэт. Нэ видать, — покачивая головой и вздыхая, отвечает Хургулек.
5
На земле у входа в только что разбитую брезентовую палатку сидят инженер Александр Степанович, директор леспромхоза Мэдэчи, горбатый продавец из кооператива и какой-то демобилизованный солдат в военной форме с недавно отпоротыми погонами.
Вечереет. В палатке, защищенная ее чуть колеблющимися стенами, горит свеча, недавно купленная инженером в кооперации. Ее пламя так робко спорит со светом еще не погасшего дня, что неизвестно, зачем, собственно, она горит. Чуть колеблется беловатый, едва заметный огонек, свеча прочно воткнута в пустую коробку от папирос «Казбек». Узкая бледная дорожка света скользит по небрежно брошенной в угол резиновой лодке, по Лериным книгам, завернутым в плащ.
Систиг-хем дремлет. Над ним медленно отгорает закат.
Мэдэчи, директор леспромхоза, задумчиво покуривает трубку. На нем московская темно-зеленая щегольская фетровая шляпа. На руках у него двухгодовалый сынишка — мальчик с черными мягонькими кудрями. Мэдэчи перебирает большой, красивой, свободной от трубки рукой курчавые волосики парнишки. Рука безостановочно делает свое дело — нежно и монотонно. Мальчик пускает пузыри.
— А под экспедиция я вам, пожалуй, освобожу тот дом. Что скажете, тарга?.. («Тарга» по-тувински значит «начальник».)
Инженера Мэдэчи называет «тарга» и почтительно заглядывает ему в глаза, а в Лерину сторону даже не глядит. Он не смотрит в ее сторону с самого утра, с тех пор как они прибыли в Систиг-хем.
— Товарищ Мэдэчи! — с отчаянной решимостью вдруг говорит Лера, выступая вперед из тени, отброшенной полотняным боком палатки. — Товарищ Мэдэчи! Скажите, пожалуйста, когда вы сможете отправить меня до Сейбы? Когда идет ближайший плот? У нас в Кызыле совещание библиотекарей. Мне дорог каждый час.
Он слушает, не глядя на нее, улыбаясь земле, насмешливо и таинственно.
И вдруг, вскинув раскосые глаза, говорит:
— К концу вэка, должно быть, отправлю, товарищ Соколова.
Люди, сидящие рядом с ним, хохочут. Злорадно смеется инженер. Посмеивается горбатый продавец из магазина, весело заливается демобилизованный солдат.
Она стоит перед ними в измятом розовом Капином платье. Лицо у нее усталое. Руки исцарапаны, искусаны комарами, ноги в кровоподтеках и ссадинах…
Медэчи насмешливо оглядывает ее с головы до ног.
Их глаза на минуту встречаются, и он невольно опускает свои, не выдержав ее прямого, удивленного, пристального взгляда. Но это всего на мгновение.
— Что-то прохладно стало, — вздыхая, говорит инженер.
— Да нет же! — улыбаясь, отвечает Мэдэчи. — Это вы просто уж очень долго искали наш Систиг-хем, тарга. Вы, верно, иззябли за ночь… Или, может быть, вам обоим тепло было?..
— Мне надо ехать!.. У меня дело, — тонким, дрожащим от оскорбления голосом перебивает его Лера, — понимаете: дело! Командировка! Мне нужно в Сейбу, потом побыстрее в Кызыл…
— Езжайте! — И его рот чуть вздрагивает, тронутый улыбкой. — Я вас не дэржу. Езжайте. Пожалуйста.
— Хорошо, — отвечает она. — Я уеду. Уйду. Для вас, видно, дешево стоит жизнь человеческая. Дешево? Да? Хорошо. Я уйду. Сегодня же. Пойду обходом. И будь что будет.
Он снова вскидывает на нее глаза. Они умные. Там, в их глубине, дрожит холодная воля, насмешка. Да, именно так.
Она угадывает это, она читает это в светлых, сощуренных, на четверть секунды поднявшихся на нее глазах.
Первым сдается демобилизованный солдат. Он говорит:
— Чего же так, на самом-то деле? Дивчина по делу прибыла, надо отправить, стало быть. Завтра, часов этак в шесть утра, как раз плоты отходят. На одном Биче-ол лоцманом. Свояк он мне, хороший паренек, старательный. Правда, что в первый раз за лоцмана: силы свои спытать хочет, да авось ничего. Комсомолец, однако….. Может, с ним и отправить товарища?
— Нэт, — отвечает сурово Мэдэчи, — пусть сыдыт. Случится что, мне потом отвэчать! Ведь так? Мне недорого дался жизнь человеческая, ведь так? Пускай с лоцман Салга едет. С самый лучший лоцман. Он здесь дней через десять — двадцать будет. С ним и поедет. Я ей все условия предоставлю. Ныкто нэ скажет: «Худой человек Мэдэчи».
— Но у меня нет этих двадцати дней, товарищ Мэдэчи. Через четыре дня — совещание библиотекарей. Я методист. Я должна быть в Кызыле. На месте. В Кызыле, понимаете?
Он молчит. Он улыбается земле. Глаза опущены. Рука любовно ласкает детскую ножку — большая, сильная, красивая. Это рука охотника. Люди рассказывают, что директор систигхемского леспромхоза убил этими вот руками сорок четыре медведя.
— На совэщании ваших библиотекарь, кажется, спрягают глагол «люблю»? — вежливо спрашивает он. — Тогда для этого, ясно дело, стоит ходыть пэшками, ехать вэрхами, лэтать самолетами! Ясное дело… Зачем утруждать систигхемский телеграф!
Лера молчит. Она смотрит на него, приоткрыв рот. Потом мгновенно и густо краснеет и раздумчиво, будто не все поняв, отходит от палатки.
— Товарищ Лэри! Товарищ Лэри! — кричит ей навстречу поджидающая ее на скамейке у здания кооперации Хургулек. — Товарищ Лэри!
И вдруг она видит Лерино залитое слезами лицо.
Хургулек робко встает со скамейки, переминается с ноги на ногу…
Сжав губы, Лера проходит мимо, сосредоточенно отбрасывая пыль носком влажной сандалии.
Перед нею лес. Там, сев на землю, одна, она обдумывает, что ей делать. Через четыре дня она должна быть в Кызыле. И будет.
Все.
Сев на траву, опершись спиной о ствол дерева, она задумчиво жует травинку.
Закат. Опрокинувшееся над Систиг-хемом небо — багровое. Оно багровое не все целиком, а клочками, прорывающимися сквозь узкие облака: облако и багровая полоска, облако и багровая полоска.
Багровые пятна местами лежат и на земле.
Лошадь, стоящая на опушке и низко наклонившая голову, тоже кажется багровой.
Все вокруг будто дремлет в этот предвечерний и тихий час — даже флаг над крышей кооперации. Только изредка он вздрагивает во сне.
Дремлет Систиг-хем — поселок лоцманов. Лоцманы отдыхают в своих домах и чумах, стоящих на краю города.
Тишь. Безлюдье.
И вдруг шаги.
По лесу, направляясь к Лере, быстрым шагом идет Александр Степанович.
Подошел и молча сел на землю рядом с нею, подняв колени и обхватив их руками.
Лицо у него рассеянно-растерянное. Раздувая ноздри, он задумчиво смотрит вверх, на макушки деревьев.
О чем он думает? О чем он может думать, сидя вот так?..
Она не знала этого, но первый раз в жизни ей почему-то пришло в голову, что у человека не бывает возраста. Сколько живет, столько вот и глядит на макушки деревьев.
…Может быть, нет на свете пайка, способного утолить и насытить душу человека? Может, и в сорок, и в пятьдесят, и в шестьдесят лет мечтается?
Мечтается и в семьдесят. И в семьдесят молод бывает человек! Он стар для своих внуков и для кондуктора трамвая, но молод для себя.
Александр Степанович смотрел на макушки деревьев, чуть-чуть колышущиеся от ветра. Ветер приподнял тяжелую кедровую шишку, та встала дыбом — вот-вот оторвется. Но ветер стих — и, словно вздохнув, шишка стала на место.
— А я у вас, кажется, свой ножичек забыл? — деловито и озабоченно спросил Александр Степанович.
Черта с два, отдаст она ему ножик! Она бросит его на дно Енисея, пусть там порастет тиной. Хорошенький, с шильцем, с двумя лезвиями…
— Ничего не знаю, — угрюмо сказала Лера.
Он глубоко вздохнул, по-видимому сердечно сожалея об утраченном ножике.
— Соколова! Соколова! Соколова! Валерия Александровна!
По тропинке от почты к полянке, где сидела Лера, бежал мальчик.
Его волосы, растрепавшиеся от бега, так и горели в ярком свете заката. Он бежал навстречу Лере, весь залитый малиновым сиянием.
«Соколовой Валерии Александровне. Востребования. Тора-хем. Принято из Кызыла 13.00. Передано в Систиг-хем 13.15.
Люблю».
(И рядом — добросовестная, аккуратная запись телеграфистки: «Не путать с первой: «люблю» — точно»).
6
В дверь тихонечко постучали: раз, два и три.
Стук был робкий.
На пороге стояли Хургулек и вчерашний демобилизованный солдат. Солдат улыбался, у Хургулек лицо было деловое, серьезное.
Оба были босы; смеющиеся молодые глаза солдата добродушно заглядывали сверху вниз в глаза удивленной Лере.
— Собирайтесь, однако… Мы переговорили с лоцманом. Скорее! Ждать не будут.
— Ой, ну, я просто не знаю… Ой, ну, какой же вы хороший человек, — захлебываясь, говорит Лера. — Ой, ну, правда… А они, как вы думаете, дождутся?
— Надо быть, дождутся. Только все-таки поспешайте.
— А ты зачем пришла, Хургулек? — торопливо собирая вещи, спрашивает Лера. — Нужно что-нибудь? Или так просто, проводить?
— Да ведь он ей братом доводится, — не вполне понятно поясняет солдат.
— Брат, — кивает Хургулек. — И я знал — плоты еще вчера стояли у берег. Но я вам нэ хотел сказать: вы бы крикнули, чтобы ночью идти в Кызыл. И вы бы поссорились с мой брат. А потом вас обидели… Вас шибко обидели, товарищ Лэри. И тогда я пошел. И я все рассказал, и я сильно просил свой брат.
— Не «пошел», а пошла. Не «просил», а просила, — машинально говорит Лера.
— Да, да… Я пошла, я просила, — улыбаясь, отвечает Хургулек.
Лера запихивает в рюкзак зубной порошок и мыльницу, стеганку, туфли.
— А полотенце не ваше, однако?
— Мое. Спасибо.
И все трое бегут, босые, по влажной траве, по пыльной дороге.
Вот берег, и вот плоты. Огромные стволы связаны между собой гибкими прутьями. Вытянувшись вдоль течения, плоты стоят на тихой воде, большие и неподвижные. Волны бьются об их края. Плоты чуть приметно вздрагивают, будто дышат. Река затаенно и тихо поблескивает в узких щелях между лесинами.
Стоя на берегу, Лера смотрит на вздрагивающий плот, на желтые блестящие стволы.
И вдруг она вспоминает слова Хургулек: «мэль, порог, водопад большой», вспоминает, и ей на минуту становится страшно.
Она видит долгий путь вот этих больших плотов по обмелевшей широкой реке. Видит, как лоцманы и рабочие, изо всех сил наваливаясь на свои огромные весла, отталкивают плоты от выступившего со дна острова…
И не только прошедший, но и будущий их путь представился ей на одну минуту.
Вот плоты мчатся сквозь кривое и узкое ущелье… Со дна торчат острые, мокрые, черные камни, и вокруг каждого, точно закипая, вертится вода. Плоты подбрасывает вверх, швыряет вниз. Камни с какой-то тупой злостью ударяют снизу вздрагивающие лесины. Вода бурлит, бьется, мечется.
Лера встряхивает головой…
Берег тих. Перед нею гладкий большой Енисей. Но она угадывает, нет, она знает и слышит теперь скрытую силу его могучего течения. Недаром здешние люди говорят: «Енисей — это море среди рек».
А покуда что Енисей осторожно и тихо, как будто притаившись, поблескивает в узких щелях между бревнами.
— Давай-ка, девка, на этот, на третий… И сразу на балаган, — коротко говорит солдат.
Лера идет к плоту. Прыгнув на заколыхавшийся став, балансируя расставленными руками и шлепая босыми пятками по вздрагивающим стволам, она взбирается на возвышение из досок. Это, оказывается, и есть балаган.
Солдат сейчас же сбрасывает с плеча ее рюкзак.
— А как ты думаешь, Хургулек, — немного смущенная его поспешностью, спрашивает Лера, — твой брат не может раздумать?
— Не знай!
— А чего тут долго раздумывать-то? — с досадой перебивает солдат. — Сели? Сидите! Вот и вся недолга.
— Он… Это правда… Он немножко сердиты, мой брат, — вздыхает Хургулек. — Только это нычего. Вы не обращайте внимания, товарищ Лэри. Он немножко сердиты, но шибко добры.
— Ладно! — со злобным отчаянием говорит Лера. — Не сдвинусь с места, и делу конец. Не станут же они меня пинками сгонять с плота. А? Как ты думаешь, Хургулек? Еду — и все. Но ты… Одним словом, имей в виду, что я опять приеду через три месяца. И чтобы были стеллажи — это первое, а второе: если я застану чистой регистрационную книгу, я тебе голову оторву. Намотай на ус!
— Мотай-мотай, — кивая, отвечает Хургулек.
Лера садится на балаган и с решительным выражением вцепляется обеими руками в рюкзак.
Солдат, вздыхая, смотрит на солнышко и почесывает затылок.
Молчание.
Наконец на краю откоса показываются лоцманы и рабочие. Они несут топоры, ведра, огромные весла.
— Эй, Биче-ол, слышь… — не слишком уверенно говорит солдат, — вот, однако, та самая библиотекарша.
Чуть согнувшись под тяжестью весла, молодой лоцман искоса поглядывает на Леру. У него темно-медное лицо, ежиком стоят его иссиня-черные волосы. Он мал ростом, хрупок.
— Из Тора-хема прибыли?
— Из Тора-хема.
Молчание.
— А не видели на почта такую: Кляво? Кляво — радистка?
— Как же так — не видела? Каждый день видела.
— Кляво… — задумчиво говорит лоцман.
И его брови, дрогнув, взметаются на медном лбу и застывают там недоуменными дугами. Кажется, что он прислушивается к далекому, звенящему звуку: Кляво… Кляво…
— Да, да, — сияя, подхватывает Лера, — еще бы не знать — радистка Клава! Очень хорошая, вдумчивая, серьезная девушка.
Он улыбается. Трогательна и робка его улыбка на обветренном буром лине. Глаза опущены. Как нежно, мечтательно, как полно доброты лицо молодого лоцмана, как чист его лоб под торчащими иссиня-черными волосами.
— Эй, барышня! Откуда ты такая-сякая, розовая, взялась? — кричит Лере с берега бородатый рыжий старик. — Давай-ка перебазируйся. У тебя лоцман, того… не особенно опытный.
— Нет, — застенчиво говорит Лера, — я лучше с ребятами.
— Оставьте барышня покое, папаша, — вспыхивает молодой лоцман. — Двенадцать раз через пороги ходили. В том месяце корову сплавлял, а все неопытни… Нэкрасиво, нэхорошо, нэчестно вы говорите, папаша.
Голос юного лоцмана груб. Зло и мстительно щурятся его раскосые глаза, странно и даже страшно вспыхивая красными искрами лопнувших от ветров и натуги багровых жилок.
Рабочие снимают тросы.
Лера соскакивает с балагана, подбегает к краю плота и крепко обнимает Хургулек. Ее обдает запахом ветра, песка, реки. С головы Хургулек от неожиданности слетает тюбетейка.
— Вы… Вы не бойтесь пороги, товарищ Лэри, — бормочет она. — Мой брат… Я ему рассказал. Он пройдет, он хорошо пройдет.
Плоты отчаливают. Полоска воды, отделяющая Хургулек от Леры, становится все шире, шире…
— Хургулек!
— Товарищ Лэри!..
— Приятного плавания, — говорит солдат.
Лера машет руками.
— Осторожни, товарищ Лэри, рюкзак сейчас в воду упадет, — вежливо говорит лоцман. — Эй, левонус!
Плоты выкатывают на середину реки.
Енисей спокоен. Вдоль глинистой кромки его берегов стоят чуть желтеющие кусты и деревья. Отражаясь в воде, их ветки отбрасывают в реку узкие теневые полосы, но тень не захватывает плотов. Сквозь прозрачную воду видно пестрое дно. Весло-великан раскалывает гладкую поверхность надвое. Поднявшись дыбом, вода разлетается на сотни брызг, больших и мелких. По следу плотов бегут плоские, будто промасленные дороги. Лес стоит по обеим сторонам Енисея, задумчивый и грозный.
И вдруг какой-то человек скатывается вниз, к берегу, по крутому спуску горы.
Наклонив голову, он стоит на берегу, застенчиво, как мальчик, не смеет махать руками, не смеет крикнуть: «Счастливо, Лера!» Стоит и молча смотрит на удаляющийся плот.
— Александр Степанович! А я ваш ножичек на-шла-а-а! — прикладывая воронкой ко рту руки и оборачиваясь, кричит Лера.
«…ла-ла-а-а», — подхватывает эхо.
— Держите его на памя-ать!
«…амя-мя-а…» — вторит эхо.
— Правонус!
Плоты уходят вперед. Становится виден рыжий пологий скат горы у правого поворота. На краю обрыва, спустив вниз босые ноги, сидит телеграфистка в развевающемся платке.
Вот нагнулась, вот приложила ко рту руки… Привстала, топчет босыми пятками траву. Летит, как будто желая сорваться с плеч, ее голубая косынка.
Что она крикнет сейчас вслед Лере?.. Да нет же, вслед уходящим плотам?
— Лю-ю-юльку, лю-юльку для Машпагола, эй, дядя Па-а-аня!
— Ладна-а-а! — отвечает с переднего плота бородатый лоцман.
— Забудете-е-е!
— Не-е-е… Не забуду-у-у!
— Лю-юльку, лю-юльку возьмите у бабушки Бичекыс!..
— Ладна-а-а!
И вот уже позади Систиг-хем.
Прошагали горы «Семь братьев». Восходящее солнце чуть тронуло их лысые верхушки и ушло в лес.
Невозмутимые, потянулись с правой стороны плотов бесконечные лесистые полосы. Мелькнули дымки палаток. За лесом стелется дым или туман — не разберешь. Кажется, что лес охвачен пожаром.
Огромный, посредине реки идет плот, чуть вздрагивая всеми своими четырьмя ставами.
И снова дымок — тут, в лесу, должно быть, расположились геологи.
Да нет! Не дымок…, Это целая дымовая завеса. Она упирается в воду у левого поворота реки — неподвижная, густая, сплошная, тяжелое облако дыма, долетевшего сюда из таежной глубины или с далекой степной равнины от костра, зажженного неизвестно кем.
Где он, этот костер? Кто знает?.. Далеко.
Часть шестая
1
Шумбасов вышел на улицу, глубоко вздохнул и обтер со лба пот. За ним неторопливо тяжелой походкой прошла Шарапенко.
Шофер стал заводить мотор.
Открылась дверь дома, и на пороге появилась мать. Улыбнулась ртом, в котором не было трех передних зубов, и робко протянула доктору Шумбасову каракулевую шкурку.
— Да вы что? Рехнулись? — опешив, сказал Шумбасов.
— Бэры. Дают — значит бэры, — зевнув, посоветовал шофер.
Тувинка быстро-быстро заговорила на своем непонятном языке.
— От родной сестры родному брату, — перевел шофер.
Шумбасов задумался.
У него под рукой еще билась, стучась о его пальцы, маленькая, мягкая гортань; он все еще слышал бурный, свистящий звук возвращенного им мальчику дыхания; он помнил, как в первую секунду не осмелился поверить себе и как на него глянули снизу вверх удивленно и счастливо расширившиеся заплаканные глаза. Свет керосиновой лампы отразился в зрачках.
В ту первую минуту Шумбасов отчетливо знал, что ни одни глаза на свете никогда не любил так сильно, как эти — раскосые черные глазищи только что спасенного им шельмеца, до крови искусавшего ему пальцы.
Эта любовь была гораздо сильнее, чем те, которые он испытывал до сих пор. Она была зрелой любовью. В ней было все доброе, ворчливо-нежное, что только жило в Шумбасове (а по его понятию, достойное всякого презрения, лишенное мужества, жалкое и глупое).
— От родной сестры родному брату, — сказала мать и протянула доктору Шумбасову каракулевую шкурку.
Он вздохнул, растерянно оглянулся, как будто ища помощи, и со смущенным, детским и сердитым выражением взял шкурку.
— Вадим Петрович, а у вас есть чем отдарить? — наклонившись к нему, шепотом спросила Шарапенко.
— Да, да… Верно. Конечно, — ответил Шумбасов и стал озабоченно рыться в карманах пиджака. — Черт!.. Ключ. Гвоздь. Носовой платок. Как назло, ничего!
Шарапенко улыбнулась, открыла сумочку и достала оттуда старый, видавший виды кошелек с иголками и нитками. Этот кошелек странствовал с нею давно — его положила в ее дорожный чемодан мать еще тогда, когда в сорок первом году доктор Шарапенко уезжала на фронт.
— От родной сестры родной сестре, — сказала Шарапенко просто. И подала тувинке кошелек.
Тувинка опять заговорила горячо и взволнованно.
— Как тебя зовут, спрашивает, — сказал шофер.
— Анастасия. Настя.
— На-са. Так я буду называть своих внуков, говорит.
— А как ее зовут? — спросила Шарапенко.
— Кара-кыс.
— Кара-кыс?.. Это что ж, вроде нашей Ксении будет?.. Хорошее имя.
— На-са!
— Ксения…
Машина тронулась. Тувинка, крепко сжимая в руке кошелек, неподвижно стояла на дороге и смотрела ей вслед.
— Эх, здорово это у вас получается! — хмуро и не без зависти сказал Шумбасов, когда машина миновала первый поворот дороги.
— Что именно? — лукаво спросила Шарапенко.
— Да вот. С людьми…
Она искоса, сдерживая улыбку, взглянула на своего нахохлившегося спутника.
— А вы бы попроше, Шумбасов. Не пробовали? Попробуйте. Суровость, которую вы на себя напускаете, приносит, насколько я могу судить, блистательные результаты разве что в обращении с очень юными, взбалмошными девушками.
Вздрагивая, машина катила по шоссейной дороге. С обеих сторон лежали поля.
Шофер пел. Он пел, не открывая рта, звуком свирели, рожка и еще невесть чего. Песня была древняя. Горловая. Так она и называется: горловая.
Это песня пастухов-кочевников. Неповторимая, непереводимая и нескончаемая, одним словом — тувинская.
Шумбасов дремал. Машина вздрагивала.
— Вадим Петрович, кстати, а что с этой девочкой? — вдруг спросила Шарапенко.
— С девочкой?.. Вы, по-видимому, имеете в виду перелом берцовой кости в поселке Сэли?
— Да, да. Вот именно! Берцовую кость я имею в виду. Я говорю о Лере Соколовой, с которой мы вместе ехали из Москвы. Вы же отлично знаете, о ком я говорю, Шумбасов!.. Ну, что вы, в самом-то деле, прикидываетесь?
— Ах, Лера!.. Простите, я не сразу вспомнил. Я ее не видел около месяца, Анастасия Федоровна. Я был в командировке в южном районе.
— Вот как?.. Понимаете ли, Вадим Петрович… В общем… Ну ладно! Когда я приезжала из Турана в Кызыл, недели две тому назад, и заходила перед отъездом в обком, там как раз при мне была получена телеграмма из Тоджи. Девочка, оказывается, выехала с книгами в какую-то оленеводческую бригаду, застряла, или пропала, или не помню, что там с ней приключилось в дороге, и Сонам — секретарь Тоджинского райкома — сообщал обкому, что, если она не объявится на следующий день, он будет вынужден выслать на ее розыски экспедицию в тайгу…
Шумбасов не стал расспрашивать. Он молчал. В темноте Шарапенко не видела его лица, но это молчание ее почему-то встревожило.
— Да нет же… Ну, право!.. Теперь уже все в порядке, — быстро сказала она. — Лера уже давно в Кызыле. Я просто так спросила, думала, вы больше меня знаете. Ведь я, можно сказать, провинциалка, туранская жительница, а вы — столичный лев, кызылец.
Шумбасов не ответил. Отвернувшись, он внимательно смотрел в окошко машины.
А в окошке уже мелькали огни города. Сперва один огонек, потом другой… Со звездами их невозможно было перепутать — они были ярче и слишком близко к земле.
Туран.
— Ну вот я и дома, — сказала Шарапенко. — До свидания, Вадим Петрович!
И она неторопливо вышла из машины.
2
Неизвестно почему, но Шумбасову так и не удалось заснуть всю эту ночь. Обыкновенно он отлично спал в машине. А тут сидел и смотрел, как суслики с посеребренными луной головками, точно в белых докторских шапочках, деловито перебегали машине дорогу.
И вот наступило утро. А он все так же сидел, привалившись к стеклу кабины, и смотрел вперед покрасневшими от бессонницы глазами.
Тут и там из спелой ржи выглядывали неподвижные верхушки комбайнов, почему-то издалека напоминавшие пожарные лестницы. Вокруг была равнина, бескрайняя степная гладь, не охватимое глазом желтое пространство, огромное, спокойное, не тронутое ветром.
Казалось, что земля — это большое поле, разделенное надвое дорогой, по которой они едут.
Только изредка эта гладкая, укатанная множеством колес дорога пересекала села и города.
Как и повсюду, на всем земном шаре, города и села начинались с одного какого-нибудь одинокого дома. Потом их становилось три. Потом десять. Потом навстречу машине летело целое множество заслонявших друг друга домов и домиков. И вот они опять редеют, вот последний дом, последнее человечье жилье, и снова колос и трава: населенный пункт словно растворяется в пустом просторе нескончаемого поля.
Из окна машины были видны отары овец, табуны лошадей, коровы, верблюды, сарлыки — огромные косматые звери с бычьей головой и конским хвостом.
И снова степь, степь, степь… И опять поле. И снова стада. Их было много. Овцы теснились друг к дружке и спали стоя.
Потом пошли горы. Их склоны были то черными, то белыми, в зависимости от породы овец, которые там паслись. Если каракулевые, гора казалась черной, если мериносовые — белой. Вытаращив глаза, без всякого выражения, овцы глядели на проезжавшие машины.
Если ближние горы расступались, виднелись горы далекие.
Голые, каменные, они казались лиловыми. Лиловое было самых разных оттенков — начиная от глубокого черно-лилового, там, где были вмятины в камне, и кончая светло-сиреневым, тем вялым, впадающим в желтизну цветом, какой бывает у отцветающей сирени.
Цвет далеких гор был так нежен и так мягки очертания их на светлом небе, что казалось, будто они обтянуты бархатом.
Дорогу машине перебегали то суслики — уже без всяких докторских шапочек, то зайцы, шарахавшиеся в хлеба.
Горы сменялись горами. Коровы — коровами. Верблюды — сарлыками. Жарища была такая, что хоть сдирай с себя рубашку.
И несмотря на это и несмотря на то, что Шумбасов торопился, — одним словом, несмотря ни на что, шофер решил пообедать.
— Да черта тебе в обеде? — спросил Шумбасов.
— А что? — сказал шофер. — Нэ евши ехать? Нэт, так дэло, товарищ, нэ пойдет.
Войдя с шофером в столовую, Шумбасов от нечего делать выпил с ним по стопке водки, однако закусывать почему-то не стал.
Впереди показалась переправа.
Кызыл.
В небо уходил желтый дым из огромных труб кожевенного завода.
— Подбрось-ка до библиотеки, — откашлявшись, попросил шофера Шумбасов.
— Отчего ж, можно, — сговорчиво сказал шофер.
Вот и библиотека.
Шумбасов переступил ее порог. Сквозь прямоугольник двери была видна кызылская улица, полная жары и пыли. Пыль вихрями носилась по мостовым. Белые, как украинские хатки, двух- и трехэтажные новые каменные дома стояли вдоль тротуаров, чинно построившись в ряд.
Тротуары плавились от жары. Бегущая за машинами пыль оседала на лицах прохожих.
А у здания библиотеки безмятежно цвели тополя. Несколько лет тому назад их высадили во время субботника комсомольцы. От тополей шел пух, и каждая пушинка была здорово похожа на звезду.
Белые звезды, едва видные в темноте коридора, вились над шумбасовской головой, следуя за движением сквозняка: они бежали в Лерину рабочую комнату.
Сквозь открытое окно методкабинета был виден двор, а во дворе — собака. Старая-старая (Шумбасов ее знал). Шерсть на этой собаке была облезлая. Сейчас она прыгнет в окошко нижнего этажа, в ту комнату, где работает Лера. Вползет и заберется в самый прохладный угол, за спинку стула, на котором, поджав ноги, сидит у окна Лера.
…Вот и окно и Лерин стол. Вот стул с плетеным сиденьем. Вот пишущая машинка…
А где же Лера?
Лениво, чуть не зевая, с выражением презрения и небрежности (чтобы не слишком порадовать ее) Шумбасов оглядел комнату.
Но Леры не было.
— А где товарищ Соколова? — спросил он у пожилой библиотекарши.
Ему не ответили.
Он ждал, стоя в дверях, придерживая рукой пиджак, сползавший с плеч.
— Доктор, вы, кажется, забыли поздороваться? — спросила вдруг, подняв на него глаза, пожилая библиотекарша.
— Ах, да. Простите, пожалуйста, — ответил Шумбасов и побагровел.
Она была безжалостна, смотрела на него в упор, не отрывая от его лица глаз.
— Соколовой нет. Она еще не вернулась.
— То есть как это — не вернулась! Из тайги?!
— Из командировки. Сейчас она в Тора-хеме.
Библиотекарша опять углубилась в работу.
Шумбасов, покусывая губы, стоял на пороге.
— Простите за беспокойство, — сказал он виновато, — а когда она должна возвратиться?..
— Не могу сказать точно.
— А приблизительно?
— И приблизительно не могу. Командировка очень трудная и ответственная… Сами понимаете — Тоджа. А вам что? Срочно нужны какие-нибудь медицинские справочники) Мы вас обслужим и без Соколовой. Пройдите, пожалуйста, на абонемент.
— Спасибо. Зачем же. Я… я лучше потом забегу, во вторую половину дня, если разрешите…
— Пожалуйста. А благодарить не за что. Это наша обязанность.
И, увидев его дрогнувшее от тревоги и растерянности лицо, библиотекарша с удовлетворением погрузилась в тайны предметного каталога.
3
Он шагал по улице и внимательно разглядывал свои покрытые пылью ботинки.
«Нет, нет… Она уже не в тайге. Она в Тора-хеме. Она возвратилась. Ее нашли. Она возвратилась!
Тоджа… Тора-хем. Тайга. Идиотство!.. Э-эх!.. Сами небось сидят в тени, а девчонку загнали в такую поездку. Библиотекари! Деятели! Бумажные крысы!..
Лера!..»
И вдруг перед ним возник почему-то весь угол знакомой комнаты методкабинета. Он увидел ее лицо. Оно вставало перед ним с тем нежно-задумчивым, светящимся и вместе вздорным выражением, которое он вспоминал теперь не зрением, а другой, лучшей памятью, которой раньше у него как будто не было.
Он видел ее ладонь. Ее указательный палец, измазанный чернилами. На середине ладони, на пыльной, узкой, детской руке, седая звездочка пуха. Эту звездочку она внимательно и удивленно разглядывала. Он слышал тишину комнаты, он видел старую собаку, стоящую на задних лапах у Лериного окна…
Оглянулся, тряхнул головой и с досадой зашагал к Лериному дому.
Недалеко от этого белого дома с еще не оштукатуренными колоннами лежала продольная балка. Енисей бился о балку.
«Если она вылетит из Тоджи самолетом, то это час, два… не больше. А вдруг поедет вниз по реке, на плотах? С нее станется!
Плотом — это пять, нет, пожалуй, даже дней шесть пути.
Глупо. Невероятно глупо. И даже как-то подло! Где она в самом деле, черт ее побери?.. Будто она не знает, что я буду справляться о ней, что она может понадобиться мне?
Она мне нужна!..»
«Нужна», — шуршала галька, «нужна», — кричала (птица, «нужна», — отстукивали шаги.
И за это «нужна», в котором он вынужден был признаться себе, за это «нужна», о котором он не догадывался и которое пришло только потому, что ее не было и это рождало сопротивление, которое, быть может, она сама не в силах была бы ему оказать, — он злился на нее, как только мог и умел. Злился и в то же время с какой-то пронзительной отчетливостью видел ее перед собой — с ее робостью, дерзостью, растрепанными от ветра волосами, летящим платьем, облепившим детские тонкие ноги. Задыхаясь от злости и мстя, он говорил надменно:
«Лера, я, кстати, в библиотеку заходил. Вас не было. Мне книга понадобилась… Не откажите в любезности (или так: «Будьте ласковы…»)».
А можно и этак:
«Лера, я из дому письмишко, голубчик, получил. Ваша бабка о вас запрашивает. Что ж это вы на письма не отвечаете? То, бывало, с дороги по десять страниц катали!.. И вдруг — здрасте! Мне, что ли, прикажете за вас отвечать? Горе мне с вами, беда, и больше ничего. Живы? Здоровы? А то я, признаться, и сам забеспокоился. А вы, однако, подросли, подросли. Пройдет годочков этак пять, и будет полный порядок. Ну, ну…»
Или так: он берет ее руки в свои и изо всех сил стискивает их, как делал это мальчишкой во дворе с какой-нибудь занудой-девчонкой, вмешавшейся в игру.
«Не лезь! Не лезь! Не лезь! Слышишь?.. Не лезь!»
Или так: он видит рядом с собой ее растерянные блестящие глаза, ждущие, спрашивающие, и, лениво позевывая, тянет: «Извините, Лера. Не выспался».
Нет, он не знал, что можно так ненавидеть. Просто не знал. И, ненавидя (ненавидя!), стоял как прикованный на углу и глядел на занавески Лериного окна, на плотно запертые рамы. Он глядел на этот двор, по которому столько раз ходили ее ноги в сандалиях.
Воспоминание о каждом косолапом шажке чуть повернутой внутрь правой Лериной ноги перехватывало Шумбасову дыхание… Шагали ноги. Потом она заходила в комнату, откидывала занавеску, открывала окно. Под окнами был Енисей.
Енисей!.. Но если она поедет вниз по течению, это значит… Это значит — пороги!
4
— Доктор, сегодня, кажется, очень жарко на улице? — кокетливо сказала Шумбасову молодая подавальщица в столовой. — Вы нынче такой сердитый!
Он отставил щи и сказал сквозь зубы:
— Будешь тут сердитым! Невозможно есть эту бурду. В этакую жарищу не могут подать человеку холодной окрошки!..
5
Вечер, вечер… Духота. Темнеет. В глубине улиц уже совсем темно, но, если опустить голову, под ногами еще отчетливо видна пыль на дороге. В духоте, в полутьме сияют мелкими разбрызганными лучиками первые зажегшиеся огни.
На лавках у почты сидят люди — два геолога в соломенных шляпах, какой-то толстый дяденька, пожилая гражданка.
На кызылской почте много народу. Взяв через головы телеграфный бланк, Шумбасов ленивой, задумчивой походкой отходит в угол и там, стоя (придерживая одной рукой сползающий пиджак), быстро, решительно и задумчиво заполняет бланк:
«Тоджа. Тора-хем. Востребования. Соколовой Валерии Александровне».
— А подписи не будет? — подняв на Шумбасова смеющиеся глаза, спросила телеграфистка.
— Не будет.
Шумбасов ушел, а телеграфистка, вглядываясь в его почерк и приоткрыв рот, все еще держала в руке бланк.
«Люблю» — было единственное слово, торопливо набросанное под адресом на бланке.
— Принимай, Маня, принимай, Маня. Тора-хем. Востребования. Соколовой Валерии Александровне. 20.00. Люблю.
— Чего?
— Люблю. Давай — люблю. Передавай в Тора-хем.
Телеграммы из Кызыла в Тора-хем передаются по радио. Сперва позывные:
— Шесть, семь, восемь. Восемь, семь, шесть… Как меня слышишь, как меня слышишь, как меня слышишь? Ондар, Ондар, Ондар, говорит Кызыл. Говорит Кызыл. Говорит Кызыл. Говорит Маня. Как слышишь меня, как слышишь меня, как слышишь меня? Вот так.
Тора-хем. Тоджа. Востребования. Соколовой Валерии Александровне.
Люблю.
Повтори, как слышал, повтори, как слышал, повтори, как слышал.
— Слышимость нэважная. Слышимость нэважная. Слышимость нэважная.
Тора-хэм. Востребования. Тора-хэм. Востребования. Тора-хэм. Востребования.
Соколовой Валэрии Алэксандровой. Соколовой Валэрии Алэксандровой. Соколовой Валэрии Алэксандровой.
Люблю. Люблю.
Вот так. Как мэня поняла? Как мэня поняла?..
— Систиг-хэм, Систиг-хэм, Систиг-хэм. Говорит Тора-хэм. Говорит Тора-хэм. Говорит Тора-хэм. Говорит Ондар.
Катья, как мэня слышишь, как мэня слышишь, как мэня слышишь?
Востребования. Соколовой.
Люблю.
Как слышала, как мэня слышала, как мэня слышала? Повтори: люблю.
Прием. Прием.
— Слышимость плохая. Слышимость плохая. Слышимость плохая. Люблю. Люблю. Люблю.
Соколовой Валерии Александровне. Соколовой Валерии Александровне. Соколовой Валерии Александровне.
— «Люблю». Так, что ли? Давай подтверди. Давай подтверди: «Люблю».
«Люблю» — сквозь тайгу, сквозь горы и Енисей, сквозь озера и степи.
«Люблю» — одно-единственное короткое слово.
— Подтверди, как слышал. Подтверди, как слышал. Подтверди, как слышал.
Как меня понял? Давай повтори:
Люблю!
Примечания
1
Летόвка — пребывание стад на летних пастбищах.
(обратно)


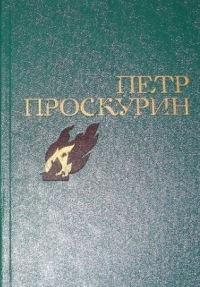
Комментарии к книге «Серебряное слово», Сусанна Михайловна Георгиевская
Всего 0 комментариев