Ожидание
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Конец пятидесятых, начало шестидесятых годов было временем дебютов нового литературного поколения.
В 1958 году был напечатан мой первый рассказ «Станция первой любви». Он был замечен, потом неоднократно переиздан и на многие языки переведен. Но дело не в его достоинствах или недостатках, — не мне о них судить. Важно другое: он был связан с опытом моего поколения, герой пытался понять себя, понять, чего он хочет, а главное — что он м о ж е т в этой жизни. Что он может сделать и для себя, и для людей. А точнее, для людей и для себя…
С тех пор прошло уже четверть века. Мне повезло — я начал действительно молодым, как и многие другие мои литературные сверстники, товарищи по поколению. В ту пору особенно много ездил, работал коллектором в геологических экспедициях, спецкором в Сибири и Средней Азии. Я писал о геологах, о строителях, о современниках, работал, как принято говорить, на разном материале, но главным, как оказывается, самым трудным был материал собственной судьбы, попытка осмыслить собственный жизненный опыт, явившийся частью опыта моего поколения.
Это не значит, что написанное п р я м о отражает пережитое и увиденное мной… Вымысел переплетается с подлинным, есть и то, что было, казалось, с тобой и только с тобой, но на поверку это было и с другими; есть общность времени, социальных жизненных обстоятельств, поры душевного становления. Но иногда отвлекаешься от своего опыта, и что-то перенесенное, пережитое, прочувствованное поколением твоих отцов и дедов, воспринимается как пережитое именно тобой.
Как это происходит, объяснить трудно, да и не надо, — понять и осмыслить литературный процесс — дело критиков, дело же писателя — понять и ощутить процесс жизни, драматизм, печаль, радость ее каждого дня.
Ведь каждый день по-своему единствен.
Есть мастера вымысла, мастера сюжетной интриги. Порой им завидую, мне труднее сочинять, чем писать то, что было. Но то, что было — этого еще мало. Гораздо важнее и труднее написать к а к б ы л о. Через это «как было» просвечивают время и его особенности, проблемы, поиски.
Ловлю себя на том, что иной раз трудно заменить имя героя, его фамилию, берешь ту, что помнится в действительности, хотя, наверное, это неправильно, — в книге он живет другой жизнью, он уже не тот человек, которого знал, а персонаж, герой, характер.
И все-таки иногда имя многое говорит тебе, поэтому Борька Никитин, герой романа «Ремесло», так и остался Борькой Никитиным, судьбы реального человека и литературного героя похожи, я его не выдумывал, а вспоминал, воспроизводил, может быть, дополнял чем-то понятым мною много позже, чем в ту пору, когда мы были молодыми. И реальный человек, и литературный герой родились в волжском городе, учились в Москве в художественном вузе, стремились к максимальной правде и в жизни, и в искусстве. Оба они умерли молодыми, их детство совпало с войной, многим жизнь их обделила, но многое и дала, как сказано в дневниках Достоевского, «если не страдали, то не были и счастливы».
А они были счастливы, ибо занимались любимым делом и были любимы людьми, признание еще не пришло, но уже угадывалось, во всяком случае, одаренность их была явственна, самоотдача велика, жизнь наполненна, а известно, кто щедро отдает — тот много получает.
Мне хотелось показать, как счастлив и труден путь художника, когда он работает на полном пределе возможностей. В поиске самого точного, своего способа передать красоту и многообразие жизни.
Свой способ рожден традицией, трудом, талантом, личностным началом в человеке. Борька Никитин — художник, а Иван Лаврухин, герой «Возвращения брата» — гражданин без определенных занятий, ранее судимый… Но в детстве своем он побывал в немецком плену, прошел через огни, воды и медные трубы на долгом пути нравственного распрямления, возвращения к людям.
Он тоже был, тоже не придуман, сейчас работает на одной из сибирских строек. В свое время мы познакомились с ним, мне удалось помочь ему, до сих пор он пишет мне письма.
Интересная деталь: его подругу, девушку, которую он полюбил в романе, я придумал и дал ей имя Тамара. И совпало, — та, которую он в действительности встретил, его будущая жена, разделившая с ним тяготы его бурной, противоречивой жизни, тоже была Тамара, Тома.
Это не значит, что я слепо следовал всем событиям жизни моих героев, их биографиям. Нет, отнюдь, я не писал документальных повествований и давал волю своему воображению и памяти, вбирая в круг романа многое другое, казавшееся мне важным.
Я не понимаю деления прозы на городскую, деревенскую, военную. Проза затрагивает все: ты пишешь и город, и городок, и дальний поселок, и стройку… Но «у каждого поэта есть провинция», — как сказал когда-то Семен Гудзенко.
«Провинция» здесь звучит метафорически, это место, где рос, где созревала твоя душа. Моя провинция, пусть это не звучит парадоксом, — Москва. Смутно, скорее памятью родителей, помню ее довоенной. Помню ее в первый год войны до моей эвакуации, отчетливо помню послевоенную Москву, а потом пятидесятые годы, начало Черемушек, ее движение, расширение, рост.
Но моей «провинцией» в этом великом городе, в этом особом мире, именуемом Москвой, остаются Чистопрудные улицы, Дом политкаторжан в бывшем Машковом переулке, где жил еще мой дед, узник царских тюрем, делегат Лондонского съезда РСДРП, да что дед, эти улицы помнят шаги Горького и Чаплыгина, здесь, в этом же Машковом переулке, Ленин слушал пианиста Добровейна, рядом, только в другом веке, по мостовым Харитоньевского переулка гулял Пушкин. Мне дорога эта Москва, так много вобравшая от прошлого, так много обещающая будущему.
Я люблю ее писать. Запах весенней еще не запылившейся листвы в Замоскворечье и на Чистых прудах, дубравный шум Нескучного сада — уже на другом ее краю, голоса жителей, те, что прозвучали, и те, что звенят сегодня, — все это пребудет во мне навсегда…
Владимир Амлинский
Возвращение брата РОМАН
ГЛАВА ПЕРВАЯ
За стол сели поздно — без немногого в полночь.
— Будто Новый год встречаем, — сказал Иван и усмехнулся.
— Очень правильное замечание, — сказал Вячеслав Павлович, разливая беленькую в рюмки. Разливал он не целясь, из неудобного положения, по диагонали с одного конца стола на другой, но ни капельки не пролил, рука, видать, была точная, тренированная, — Не Новый год наступает, а твоя, Иван, новая жизнь. — Он помолчал со значением, обвел глазами присутствующих и прибавил: — За что и предлагаю соответственно…
Подняли рюмки, чокнулись. Вячеслав Павлович, задержав на Иване взгляд, опрокинул, хрустнул огурцом, сказал как бы благословляя:
— Ну, давай, Иван.
Иван подержал на зубах леденящую, из погреба, чистую водку, давно он такой не пил, кивнул согласно, сам подумал: «Я уж давал, разве еще хотите?» И еще он подумал: «Как же называть мне этого человека, хозяина дома, пожилого, маленького ростом, с красным морщинистым лицом и с густыми, волнистыми, без единой сединки волосами, как же его называть, Вячеслава Павловича: отцом, батей или по-детски дядей Славой? — Иван мысленно даже чуть-чуть присюсюкнул. — Может, паханом его звать или уж просто по имени-отчеству?»
Человек этот давно, без малого двенадцать лет, был мужем его матери. Но только сегодня Ваня впервые увидел его воочию, по причине своего длительного отсутствия. От него были приветы в письмах; мать всегда приписывала: «Слава тебе привет шлет», «Слава тебе желает того и того-то», «Слава тебя поздравляет с праздником Великого Октября». Слава да Слава. Но это он матери Слава, а Ивану он кто?
Гостей было немного, два-три сослуживца по заводу, где Вячеслав Павлович служил главбухом, и подруги матери, верно, самые близкие. Да и к чему звать лишних, чужих людей, падких на новость да на интерес? Не обязательно всем в городе знать, откуда вернулся Иван, почему, зачем, на сколько. И не на сколько, а на этот раз навсегда. Навсегда? Кто его знает, может, и навсегда.
Второй тост предложил хозяин за свою подругу жизни, за мать Вани Наталью Михайловну. А ее за столом не было, она все хлопотала, все ходила из столовой в кухню, из кухни в столовую, все носила что-то, будто людей было не девять человек, а рота, на которую не напасешь ни выпивки, ни закуски, ни ложек, ни вилок, ни рюмок, ни тарелок.
Иван еще и не видел толком мать. На вокзале он только уткнулся в холодное ее лицо, потом повели в машину «газик», рассадили как-то порознь, неудобно, наспех; мать сидела на боковом сиденье с Вячеславом Павловичем и еще с кем-то, а Иван впереди, и он все оборачивался назад, а в машине было темно, и, когда они попадали в свет придорожного фонаря, он ловил ее лицо, а через секунду оно снова погружалось во мрак. Иногда он чувствовал ее прикосновение, она дотрагивалась до него, до его спины, плеча, словно стараясь убедиться, что это действительно он, сидит на переднем сиденье, курит и не исчез, не выскочил из машины в тот момент, когда они ехали по темным, уснувшим проселкам.
Да и ему все это казалось чудным, временным, будто сейчас все прервется на полпути, не станет ни машины, ни дороги, ни матери, дотрагивающейся время от времени до него, и он раздерет веки, проснется, вскочит по медному гонгу в сонном предрассветном бараке.
А сейчас она тихо, молча сидела, опустив плечи, и так же тихо, тускло чокнулась, не глядя никому в глаза, и лицо, недавно такое еще яркое, не старое, казалось теперь тяжелым, увядшим.
— Ты чего это, Михайловна? — тронула ее соседка за руку. — Сынка ведь дождалась.
Мать отпила немного водки мелкими глотками, будто верхушку с молока сняла, и сказала:
— Устала я что-то… А вы на меня не глядите, пейте, ешьте. Мое дело хозяйское.
Она усмехнулась. Иван глядел на нее молча, неотрывно, ведь за все эти годы впервые он видел ее так сравнительно спокойно, не отвлекаясь ни на что другое. Вот он не знал, например, этой усмешки, нервной, тут же гаснущей; да и вся она, в пушистой розовой кофте, с волосами, уложенными, видно, в парикмахерской, с выщипанными, нарисованными бровями, была ему как бы незнакома. Была она нарядная, похудевшая, странно растерянная, а на свиданиях он привык видеть ее простоволосой, бедно одетой, очень сосредоточенной и почему-то всегда злой. Она прошибалась к нему сквозь начальство, требуя, умоляя, грозя, и ей давали свидание с ним, даже когда он был в колонии усиленного режима. Всегда он ждал этих свиданий, но с тревогой, а иной раз даже думал: может, лучше бы и не приезжала.
А когда он стал «побегушником» и был взят в Москве и возвращен с новым сроком, она не приезжала к нему четыре года, да и писала редко и скупо. А однажды, получив письмецо от администрации (теперь принято было в отдельных случаях обращаться к родным, если таковые есть, с призывом оказать администрации моральное содействие), написала ему так (он это место запомнил наизусть): «…устала я, Ваня, от тебя очень сильно, и после всего, что было, нет в тебя веры больше. Иной раз так становится тошно, что хочется, ей-богу, проклясть тот день, когда ты у меня появился на свет…»
На что он ей ответил: «…с этим, мама, я целиком и полностью согласен. Я и сам тот день от всей души проклинаю».
Ни разу он не видел ее плачущей на свидании. И, говоря по совести, это нравилось ему. Слез он не уважал, он их много навиделся на своем веку и не придавал им никакого значения. Но передачи посылала мать регулярно, все годы, даже когда не писала. Тут ей надо отдать должное. А что важнее в конце концов — слезы или передачи? Сколько их, родственников, и матерей даже, наплачут полный конверт слез да поучений прибавят, а годами от них не дождешься ни кусочка сахару-рафинаду… Знал Иван и о таких матерях, да и похуже знал. А при своих делах он многого не требовал.
Вот уже третья рюмка прошла, кто-то из сослуживцев предложил за Вячеслава Павловича, все дружно чокнулись, но весельем так и не пахло. Иван чувствовал, что люди здесь скованы и не в своей тарелке. И скованность эта из-за него. Потому что он был главным сегодня человеком, как бы именинником. Но всего того, что связано было с именинником, не велено было касаться, вроде бы и не знали, будто сговорились по кругу. И это удивляло и отчасти даже смешило Ивана. «Тоже мне, детский понт наводят, — думал он. — А впрочем, им виднее…»
Однако сам хозяин первый не выдержал этой игры. Он заметно захмелел и все чаще поглядывал на Ивана, а потом повелительно махнул рукой, чтобы все замолчали.
— Знаю я, Ваня, — сказал он, — что в тех краях, где ты временно пребывал, множество есть любопытных песен. Так вот, Ваня, может, ты нам чего исполнишь.
Говорил он это со значением, и Иван почувствовал нечто вроде ноток гордости: вот, мол, где наши бывали, в каких они водах мыты. Ваня терпеть не мог блатных песен, ему аж скулы сводило, когда в колонии заводили какую-нибудь «Пацаночку» или «Не надо, не надо, не надо», все это он любил давно, на заре туманной юности, и мог отдать полпайки хлеба и махру, чтобы услышать:
Проснешься рано, город еще спит, Не спит тюрьма, она уже проснулась, А сердце бедное в груди моей болит. Болит, как будто пламя прикоснулось…Тогда он это слушал с восторгом и грустью, и вся его молодость казалась оплаканной и понятой, и все-таки еще не оборвавшейся, и что-то еще будет, и все вдруг изменится, и он выскочит отсюда, как и был, целехоньким… И поэтому давай, керя, а мы подпоем:
Мне снится сон, как будто я на воле, В саду гуляю с Раей, рву цветы. Ах, это нет, ах, это не свобода, А только лишь одни мои мечты.А еще больше любил он песни про войну, но не те, что передавали по радио, а те, что слышал, когда еще был на свободе и толкался у пивных ларьков, где собирались инвалиды. Они любили Ваню, был он хотя и пацаненок, а солдат, инвалид, награжденный медалью «За отвагу». Мальчонкой партизанил он в Белоруссии. Может, и громко сказано «партизанил», тем не менее давали ему в отряде задания, отправляли в город, где была немецкая комендатура, и там он притворялся дурачком-сироткой (на свою беду он, видно, притворялся, такую судьбу сам себе накликал: мать его пропала без вести при массированном налете на Оршу, и нашла она его лишь в конце сорок пятого, а про отца он узнал в Германии, уже после войны).
Ну, а дурачка валять чего проще. Он топтался у немецкой комендатуры, попрошайничал, ходил на руках, строил рожи, потешая немецких солдат, а сам следил за прибытием и отправлением грузовиков с солдатами, узнавал направления, по которым они будут двигаться, а иногда видел, как вешают партизан на свежих, нечисто оструганных виселицах. Он сидел на траве, что-то жевал и все смотрел, смотрел как бы навсегда обалдевшими глазами на людей, которых подводили к виселицам.
Одни упирались, другие еле волочили ноги, обвисая на руках конвойных. А чаще всего шли молча, спокойно, будто и не на виселицу. И люди, которых сгоняли на казнь, молчали, и редко кто плакал, и только когда в тишине что-то живое глухо, жутко рвалось, в толпе возникал крик, и вот тогда Иван, зажмурив глаза, бешено работая локтями, выдирался из толпы.
Так и ходил он, бледный, вечно голодный, с шутовскими, усталыми глазами, мальчик при отряде, полусвязной, полупартизан, полустарик, полумальчик.
Как говорится, это было давно и неправда.
Однако — было.
Даже и вещественное доказательство осталось — медаль. Когда документы нашлись на отряд — Ваню наградили медалью.
Осталась у матери как память о нем та медалька с залоснившейся красно-черной ленточкой.
Вот почему он любил военные песни.
А потом, когда кривая жизнь, как говорится, понесла не туда, когда Ваня очутился в другом обществе, то узнал он и другие песни. Поначалу они ему понравились. А чем дольше он сидел, тем больше они ему надоедали. Редко среди них попадались хорошие, искренние, в основном это была смесь блата с душещипательным романсом. У Вани был неплохой слух, и, когда кто-нибудь начинал в колонии голосить истерично и визгливо, Ваня просил заткнуться или натягивал шапку на уши. А в последние годы Ваня стал человеком ученым, поскольку на старости лет окончил в колонии десять классов, и всякие глупости он больше не уважал.
Но сейчас его просили спеть культурные люди, от которых зависело его дальнейшее существование. Ему вроде даже оказывали честь такой необычной просьбой, и что ж тут отмалчиваться! Раз просят — надо уважить. Возможно, им хотелось, чтобы Ваня немного распахнул дверцу в ту окаянную, несколько таинственную, вызывающую у них законный интерес жизни, из которой он прибыл прямым железнодорожным сообщением. Вначале им казалось, что нельзя задевать Ивана и напоминать о «местах не столь отдаленных», и они всячески показывали, что им, дескать, все равно, кто он был и откуда приехал, и всячески подчеркивали, что считают его обыкновенным гражданином со всеми правами и вытекающими отсюда обязанностями, который после кратковременного отдыха должен приступить к созидательной работе на благо общества. Но обыкновенное человеческое любопытство их разобрало все-таки: мол, зря, что ли, Ваня, ты там ошивался, покажи, на что ты способен.
— Впрочем, Ваня, если нет у тебя настроения, то и не надо, — сказал Вячеслав Павлович. — Хотелось бы, конечно, послушать, что там люди поют.
— Ну что же, давайте гитару, что-нибудь вспомню, — сказал Иван.
Все притихли, а он настраивал гитару и сам соображал, что же все-таки спеть. Откровенную блатнягу он не любил, да и стеснялся при матери, а романсы вроде «Черной розы» устарели и были непосвященной публике непонятны. И он остановился на песне вполне спокойной и с приличным мотивом:
Есть но Чуйскому тракту дорога, Ездит много по ней шоферов, Был там шофер отважный и смелый, Звали Колька его Снегирев. Он трехтонку любимую, «эмку», Как родную сестру, полюбил. Чуйский тракт на монгольской границе Он на «эмке» своей изучил.Ваня пел негромко, спокойно, без нажима… Все смотрели на него внимательно и, как ему казалось, чутко и, возможно, думали: «Вон он поет, а сам в данный момент вспоминает, как все у него там было». А он ничего не вспоминал. Только старался спеть правильно, не забыть слова, не спутать мотив. Нечего ему было вспоминать, пусть вспоминают те, кто забыл.
Просто теперь ему все это уже неинтересно… Все это было рядом, и все он знал, и помнил, и чувствовал, но, как ни странно, все это уже не трогало его. То, что б ы л о, нисколечко не трогало. Его трогало лишь то, что будет.
Когда у зуба вынимают нерв — зуб перестает болеть.
Иван отложил гитару, налил себе почему-то не в рюмку, а в граненый стакан, в то, что попалось под руку, выпил, ни с кем не чокаясь. Не понял он, понравилась песня или нет… Да и какая разница, его дело было пойти навстречу пожеланиям трудящихся, а больше петь он не собирался. Да они и не просили… Возможно, ждали чего-то остренького, жареного, с приправой, а эта простая, скромная песня им, как говорится, не в дугу.
Правда, один из приятелей Вячеслава Павловича попросил-таки Ивана спеть что-нибудь наподобие «Мурки», но Иван ответил на это, что «Мурку» уже давно не поют, что, возможно, ее пели в начале двадцатого века, но он лично в те времена еще не сидел.
Иван чувствовал, что малость заводится, и старался себя не распускать, но все-таки водка нет-нет да о себе напоминала по причине долгой отвычки от спиртных напитков. К тому же вмешался Вячеслав Павлович и заметил не без гордости, что Иван познакомил присутствующих с современным, так сказать, репертуаром и что он не профессиональный исполнитель этих, с позволения сказать, музыкальных произведений, и что все знать он вовсе не обязан, и что э т о даже пора забыть, именно, как сказал в свое время Чапаев, «наплевать и забыть». И что теперь у него, Ивана, новая жизнь, а значит, и песни новые.
— Какие же? — поинтересовался Иван.
— Ну, например, чудесная народная песня «Издалека долго течет река Волга», или же «Я плакать не стану, мне он не велел», или же строевая «Солдатская».
Тут же кто-то затянул не указанную Вячеславом Павловичем песню «Куда ведешь, тропинка милая?». Тогда мать Ивана недовольно махнула рукой и сказала:
— Будет вам петь. После третьей сразу в голос… Человек с дороги… Отдохнуть хочет в тишине.
Иван обратил внимание, что мать сказала «человек», а не «сын», но это его не обидело и не удивило, потому что он вообще никогда на свою мать не обижался. Все затихли, словно не зная, о чем говорить. Петь не позволяли, а тем, общих с Иваном и для него интересных, вроде бы и не было, а говорить о своих делах в присутствии такого человека тоже как-то несуразно.
И тут в ненадолго наступившей тишине, нарушаемой скрипом стульев, отдельными репликами и прочим шумом, который издает застольная компания, даже когда она молчит, — в этой некрепкой тишине отчетливо раздался детский вскрик. Голос ребенка доносился из соседней комнаты. Что-то он произнес со сна громко, моляще, неразборчиво и затих. Иван поднялся на этот голос, опередив мать. Мать встала, но тут же села на место, увидев, что он пошел.
Он вошел в темную комнату и подошел к раскладушке. Мальчик спал на раскладушке, так как на кушетке постелили Ивану. В комнате пахло незнакомым Ивану и как бы молочным детским духом. Запах был успокаивающий, теплый и приятный. Стараясь не шуметь, Иван подошел к раскладушке поближе. Мальчик лежал с закрытыми глазами и вроде бы спал, но у Ивана был глаз наметанный, острый, и он заметил, что у мальчика веко напряженно подрагивает. Иван, однако, не подал вида, нагнулся над раскладушкой и стал смотреть. Он видел этого мальчика первый раз в жизни.
Мальчик лежал затылком к Ивану, голова у него была маленькая, с густыми, спутанными, теплыми волосами и тоже пахла хорошо, и хотелось до нее дотронуться. Но Иван выжидал…
И вдруг раздался шепот. Не открывая глаз и не поворачиваясь к Ивану, мальчик сказал:
— А я знаю, кто ты.
— Кто же я? — спросил Иван.
— Ты мой старший брат, Иван.
— Точно, — сказал Иван.
— Я тебя давно жду, уже почти целый год, — быстро зашептал мальчик. — Я знаю, откуда ты приехал.
— Откуда же? — спокойно спросил Иван.
— С армии, с китайской границы, ты там на границе служил, я все это знаю.
— Правильно, — сказал Иван, — именно оттуда.
— А ты знаешь, как меня зовут? — спросил мальчик.
— Знаю, — сказал Иван.
Но, не доверяясь знанию Ивана, мальчик прошептал:
— Сергей. А хочешь — Серега. — И зачем-то добавил: — А по батюшке Вячеславович.
— Я знаю, — сказал Иван, — ты Сергей Вячеславович.
— А ты, значит, по батюшке Иван Вячеславович, — сказал мальчик.
— Извини, Серега, — сказал Иван. — Но я Иван Владимирович.
— А как это может быть, раз мы братья?..
— Да вот так… Бывает.
— Значит, мы по батюшке разные.
— Разные, — сказал Иван.
— А мать у нас общая или тоже разные? — спросил мальчик.
— Мать у нас с тобой общая, единая, неделимая, — сказал Иван. — И давай, пацаненок, спать. Завтра мы с тобой нагуляемся и наговоримся.
Мальчик улыбнулся ему и сделал смутно уловимое движение, точно прося чего-то. Иван не понял. Тогда мальчик взял его руку и подложил себе под щеку. Иван стоял над раскладушкой, согнувшись, с рукой, неудобно вытянутой, и ждал, когда мальчик заснет.
Через несколько минут мальчик заснул. Он привык засыпать именно так. Иван вытащил нагретую его щекой руку, когда мальчик спал уже крепко, легко посапывал и когда рука Ивана уже начала затекать.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Иван проснулся с первыми петухами. А вернее сказать, от первых петухов… Был странен этот далекий ухающий звук, который в отличие от металлического гонга и крика дежурного «Подъем!» не разрубил его сон, намертво выстудив ночное непрочное тепло, и недолгий покой, выталкивая в долгий безрадостный день. Крик петуха как бы шелестяще задел его сон, не оборвал, а именно потревожил. И дальше Иван уже не мог заснуть. Крик петуха он бы слушал и слушал, так по-хорошему, неопасно тревожен он был, но крик затих, петухи повозились, пошебуршили и примолкли, а чувство тревоги осталось. Оно, как пробка, торчало в мозгу. Иван знал за собой эту черту: когда ему было худо и он оказывался, что называется, прижатым к стенке, он ощущал необыкновенную силу, четкость, слаженность мысли, слов, поступков; когда же жизнь его отпускала, когда вроде бы обстоятельства благоприятствовали ему, он терялся, не знал, что с ними делать, как их расположить на пользу себе, и чувство неуверенности и страха западало в него.
Не оттого это было, что боялся он за себя, боялся опять начать по новой, как говорится, по большому кругу… Нет, смешны ему были опасения администрации, родных, разные педагогические призывы, с э т и м внутри него самого было не то что завязано (он не любил этого слова, уж больно ходким оно стало, все, не только блатные или приблатненные, а так, разная шушера неученая произносила его со смаком и без всякого повода; даже если кто и не пил водку всего-то с неделю, так и тот скажет не иначе, как «завязал»). С э т и м внутри него самого было разорвано намертво, навек. К тому было много причин, о которых он мог бы говорить долго… Но «внутри него самого» еще не означало, что все, порядок… Сколько раз так бывало: сам человек уже решил, уже оторвался с кровью, с кожицей от прежнего, а обстоятельства выстраиваются так, что ведут его прямой дороженькой обратно. В такой жизни, как Иванова, обстоятельства эти имеют особую силу…
Иван встал тихо, стараясь не разбудить ребенка, разметавшегося на раскладушке. Окна в комнате были зашторены, мать хотела, чтобы они оба спали подольше, но сквозь занавеси было видно, что уже вовсю светает.
Иван вышел из комнаты, глянув на брата и мимолетно пожалев его. Спящих детей ему отчего-то всегда было жалко. Но не то чтобы всерьез было жалко, а так как-то… Беспомощный, жалкий был мальчонка во сне, любой гад его сможет придушить, как куренка. «Хотя кто тут-то будет… — подумал Иван. — Это не отсюда все, да и вообще глупость…» Просто лежит рядом его брат, спит, дышит, головка маленькая, теплые тонкие ручки, вот от этого и жалко.
Иван прошел кухню, по дороге в ванную задел таз, таз громко, протяжно громыхал, но никто не проснулся.
Тут спали крепко, безмятежно, не вскакивая чуть что.
Посуда на кухне была вся уже перемыта, рюмки строем стояли в стеклянном шкафчике, блестели, и так было их много, разнокалиберных, будто взвод гулял… Мать, видно, допоздна возилась, приводя все в порядок. Голова у Ивана болела, хотелось опохмелиться. Ведь сколько он уже не пил!
А такую водку, столичную, чистую, и вовсе лет пять не держал на зубах. Впрочем, как иные, постоянной жажды и желания он не испытывал, так, для обогрева, после работы или иной раз с тоски хотелось захмелеть. Всерьез он никогда не пил и алкашей презирал глубоко. Иван начал вспоминать чудаков, делавших в колонии настой из зубного порошка, и тут же резко оборвал эти свои воспоминания… Нет, все-таки отключиться не удавалось. Будто и вправду временно, а не навсегда.
Он походил по кухне, попил воды прямо из ведра, так, что она налилась на шею и за майку, но он не отряхнулся — все это было приятно, закурил и, не набросив рубашку, в одной майке вышел в сад.
Снег полусошел и лежал серый, пористый, взбухший, кое-где до земли прогрызенный солнцем. В садике стояла скамейка, свежеокрашенная наполовину, видно, красили к Ваниному приезду, но не успели, и теперь она напоминала шлагбаум. Выло солнечно, сыро, зябко — не зима и не весна. Начал падать снег — тонкими, длинными влажными волокнами, таял, не долетев до земли.
Ивану захотелось подвигаться, пробежаться, даже не пробежаться, а побежать как следует, не от кого-нибудь, а так, чтобы почувствовать, что есть еще сила, что мускулы не ссушились окончательно, чтобы услышать свое дыхание, сначала редкое, потом прерывистое, а потом и вовсе почти исчезающее от долгого бега и в самый последний момент снова появляющееся неизвестно откуда… Бежать и бежать по мокрой земле, чувствуя, как падает теплый мокрый снег на лицо, бежать так, чтобы уйти от всех и, конечно, от себя, и остановиться в летнем безлюдном лесу, в сухой, пригретой солнцем траве…
Иван сделал кружок по садику, шлепая ботинками по мокрой земле, потом остановился, чтобы не слишком пугать соседей дуростью своего поведения. Однако он не удержался и решил испытать себя. Сделал стойку на недокрашенной скамейке. Руки дрожали, ходили ходуном на сыром скользком дереве; лишь несколько секунд он и выстоял.
И снизу вверх он увидел мокро блестящие голые ветки с выскочившими невесть откуда почками, белое без облаков небо, и в это мгновение, стоя головой вниз, он вдруг впервые за это время — с того самого момента, как заполнил бегунок, сдал ватник и сапоги и получил свою дезинфицированную полузабытую одежонку, с того самого момента, как вышел за зону и стал голосовать, ловя попутную до города, в п е р в ы е он физически ощутил, что с в о б о д е н, с в о б о д е н, о с в о б о д и л с я. Не на сегодня, не на завтра, не на декаду, не на месяц, на веки вечные, до конца своих дней о с-в о-б о-д и л-с я!
Он лег на скамейку, ощутил голой спиной мокроту, холод. Увидел снова спокойно, радостно деревья, голые ветки с клейкими, сморщенными узелками. Он закурил блаженно и сказал себе так, чтобы никто не слышал, но достаточно громко:
— Все нормально, капитан! Все нормально! Порядок в танковых частях! Дела наши идут хорошо! Самочувствие на сегодняшний день о т-л и ч-н о е!
— А я все видел, — раздался высокий незнакомый голос.
Иван мгновенно вскочил.
— И как вы сами с собой разговаривали и как вниз головой стояли.
Иван увидел физиономию своего брата, подглядывавшего за ним из окошка своей комнаты. От волнения брат даже перешел на «вы».
— Это я зарядку делаю, — сказал Иван. — Так положено.
— А голый зачем, и вниз головой, и на мокрой скамейке?
— Вот именно так и нужно, — сказал Иван без особой уверенности. — Для закалки.
— А-а, понял, — сказал мальчик. — Это специально такая зарядка пограничная. Чтобы долго в мокрой траве лежать, в засаде.
— Вот точно, — сказал Иван, удивляясь, как все это у мальчика логично складывается. — А ты чего не спишь?
— А я боялся, что встану, а вы уйдете.
— Куда ж я от тебя уйду? — сказал Иван.
Иван вернулся в дом, теплый после свежести сада. Он долго мылся до пояса, хотя вчера мать успела ему истопить баньку. То, что он мог так мыться, не торопясь, не в очередь, свежим мылом с твердыми от новизны углами, а не обмылком, то, что он мог растереться махровым чистым полотенцем и от души побрызгаться одеколоном после бритья (одеколоном, недоступным там для этой цели по причине «употребления внутрь»), — все это доставляло ему необыкновенное, много лет не испытанное наслаждение, почти счастье.
Он понимал, что это единственный такой день — первый, другого такого не будет. Когда еще все внове и когда можно не думать об устройстве, о работе, о прописке. Все это завтра надвинется… А сейчас утром после мытья все отпустило: и нервотрепка последних дней там, ожидание встречи со своими, и какой-то новый, легкий музыкальный такт застучал в мозгу, одновременно блаженно усыпляя и чуть хмеля… Ему захотелось выпить чуть-чуть, чтобы это закрепить, продлить свое состояние и эту славную музычку, но он не знал, куда мать убрала водку, и решил сам не рыскать по шкафам. «Все в ажуре, — говорил он себе, надевая рубашку, причесываясь у зеркальца. — А братан — смешной пацаненок, и не поймешь, похож он на меня или не похож. Лучше б не похож», — неожиданно заключил Иван.
В доме начали скрипеть половицы, раздавались голоса, уже не приглушенные, утренние; семья просыпалась, и мать покрикивала на своего младшего, чтобы он собирал портфель и готовился в школу.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Когда брат вернулся из школы, они вдвоем отправились в город. По дороге зашли на рынок. Иван потолкался среди коров, делая вид, что приценивается, а сам трогал их за теплые бока и смеялся, будто младшим братом был он, а не Серега.
Серега то и дело встречал знакомых и все сообщал:
— А я с братаном в город иду. Он с армии, с границы вернулся.
Увидит кого, товарища ли по школе, взрослого ли, и кричит:
— А я с братаном…
Не привыкшего конфузиться Ивана чуть-чуть передергивало.
Потом они пошли в центр, на «бродвей», где были магазины, почта, кинотеатр. Иван не узнавал свой город — так он перестроился, разросся. Но главная улица осталась прежней: приземистой, двухэтажной. Только показалось Ивану, что стала она более людная, шебутная. Иван с интересом заходил во все магазины и, если где видел очередь, спрашивал с серьезным видом: «А что здесь дают?» Впрочем, кроме промтоварного и «Детского мира», у Ивана, как говорится, нигде не было интереса. В детском у него «был интерес» купить что-нибудь братану, в промтоварном — себе и что-нибудь матери. Кое-какие денежки в местах своей побывки он все же заработал.
Иван с Серегой потолкались на первом этаже «Детского мира», где Иван купил Вячеславу Павловичу ручку «Спутник» на черной массивной подставке.
— Это отцу? — обрадовался Серега.
— Именно, — сказал Иван. — Отцу…
Слово это звучало отчужденно и странно, он столько лет его не произносил, а когда сказал на следствии: «Отец, Лаврухин Владимир Федорович, секретарь райкома партии, погиб на фронте в 1942 году», — ему вначале не поверили; подследственные почти всегда придумывали себе родителей, но у Ивана это подтвердилось документально, и тогда стали говорить, качая головой: «Вот видишь, какой у тебя отец был, а ты… Недостоин ты такого родителя».
— Такого, может, и недостоин… Тогда найдите мне другого пахана, живого. Вот, может, вы, гражданин следователь, меня усыновите?
Очень они не любили таких шуток и серчали, переходя с Иваном на другой, сухой и официальный тон…
— Будет твой отец писать резолюции ручкой-спутником «Восток-1», — сказал Иван.
— А как его запускали, ты, случайно, не видел? — спросил Сергей.
— Нет, врать не буду, — сказал Иван. — Много чего повидал, а этого не довелось. Далеко я был от тех мест.
— В смысле от Байконура, — подсказал мальчик.
— Именно от него, — сказал Иван. И, меняя тему, добавил: — Значит, бате твоему мы оторвали подарок, теперь тебе надо. А потом пойдем в промтоварный, кое-чего матери приглядим, да и мне нужно материалу набрать на костюм.
— Мне подарка не надо, — заскромничал Серега. — У меня все есть, сабли разные, и солдаты, и танки. — Говорил он очень искренне, но Иван, однако, заметил, что мальчик бессознательно, но твердо держит курс на отдел игрушек, не сбиваясь и не теряясь во встречном потоке людей.
Вот они подошли к секции «жестких игрушек».
— Ну что, Серег, тебе подберем?
— Не надо, братан… У меня все есть, и сабли разные, и танки, — слабо сопротивлялся Серега, видимо наученный матерью, но глазенки его быстро и деловито шарили по полкам с игрушками; некий как бы электронный счетчик, сидевший в его мозгу, безошибочно рассчитывал: пушка-самоходка у меня есть, самолет инерционный есть, машина гоночная, самозаводящаяся, тоже имеется… — И вдруг глаза его изумленно блеснули и посветлели. Правда, тут же он отвел их и еле заметно, горестно покривил губы…
Однако жизнь научила Ивана разбираться во взглядах. В нем как бы незримый перехватчик-улавливатель был на эти самые взгляды. И он перехватил взгляд мальчика и тут же понял, почему так страдальчески покривил тот губы.
— Это, что ли? — спросил Иван, показывая на большой, почти в нормальную величину автомат.
Мальчик покачал головой и что-то пробормотал невразумительное: «…Да нет… зачем… у меня все есть». На ценнике под автоматом стояло: «12 руб.».
— А ну-ка покажите эту штучку, — сказал Иван продавщице.
Она протянула Ивану автоматическое оружие. Иван подержал на весу тяжелую, гладкую, с магазином, прикладом и кожушком «штуку». Он ощутил холодок и тяжесть оружия (то, что волнует любого мужчину на земле, даже если он вегетарианец, гуманист, Лев Толстой или доктор Бенджамен Спок). Гладкость, холодок и тяжесть оружия. Нет, не затем, чтобы убивать, а лишь затем, чтобы подержать и отложить, хоть мгновение, хоть секунду подержать оружие, ведь это давно, еще многие столетия назад природа научила нас ценить его, природа, которая предполагала сделать из нас охотников и воинов.
Что это было за оружие! Оно сверкало лаком, мушка была вороненая, холодком отдавала рифленая рукоять.
Ивану ли, очень давно державшему в руке маленький «вальтер» времен Великой Отечественной, было не оценить это? Он с горечью подумал, что в его детские времена не было таких замечательных игрушек и было не до них, вот и пришлось тянуться к настоящим.
Но Серега понимал в этом почище его.
— Ты не на то смотришь, братан, — со сдержанной грустью сказал он. — Тут не в том дело.
— А в чем же? — удивился Иван.
— А вот в чем, — с готовностью сказал Серега и нажал спусковой крючок.
И тогда Иван понял, как он ошибался, как он недооценил эту штуковину. Перед прицелом было узкое выходное отверстие, и когда Серега нажал спусковой крючок, оно стало рубиново-красное, дуло прямо-таки запылало пламенем. Загорелась внутренняя лампочка. Автомат бил очередями, и огонь как бы хлестал из него, сжигал все на своем пути, гас и вновь загорался…
— Вот в чем тут дело, — сказал Серега, тихо откладывая автомат в сторону и ханжески вздыхая, ни на что не надеясь и ничего не прося, хороший, скромный, воспитанный мальчик, знающий цену трудовому рублю, скромный мальчик из трудовой семьи, понимающий, что игрушка не но карману брату и вообще баловство, ни на что не претендующий мальчик у прилавка, с взметенной в ожидании и надежде душой.
— Откуда такая красота? — спросил Иван.
И продавщица сказала небрежно и незаинтересованно, раздирая кровоточащее сердце Скромного Мальчика:
— Импортная. Венгерская. Раз в году бывает, дали для плана, — Она положила игрушку на полку и добавила: — Последний остался.
Двенадцать ре. Деньги ли это? Может, для кого-нибудь, но не для Ивана… Если брату х о ч е т с я, так тут надо решать положительно. Только лишь положительно. И он немедля достал бумажник, а из него узенькую красненькую и две желтеньких.
— Беги, братан, в кассу, пока не увели твой автоматик.
— Да что вы! — вдруг изменив форму обращения, все еще стесняясь, но уже став в позу бегуна на старте, ждущего выстрела, произнес брат.
— Брось, Серега, — улыбаясь, сказал Иван. — Как это в песне поется: «В жизни раз бывает сорок восемь лет».
Почему он сказал «сорок восемь», он не знал. Просто так интереснее. А Скромный Мальчик уже шпарил к кассе и мог сшибить на своем пути все, что угодно, — и человека, и собаку, и, если бы попался бульдозер, сшиб бы и его.
А Иван вспоминал, как он читал какой-то растрепанный роман про одного мужика, который вернулся из тюрьмы, где-то добыл деньги, делал всем подарки, в особенности одной бедной девочке с козьим именем. Ах, как приятно быть этим самым, как его зовут, Жан Вальжаном, что ли… Почему им не быть, если есть такая возможность?
Серега нес свой автомат в сверкающей глянцем длинной, узкой, как блок сигарет, коробке, обернутой поверх всего еще и папиросной бумагой. Иван сказал ему:
— Давай сдерем обертку, сразу всех распугаешь своей пушкой, всюду без очереди пустят.
Но Сергей покачал головой.
— Дома разверну, — сказал он. — Зачем сейчас? Да и коробочка хорошая, на ней автомат нарисован и написано не по-русски. Я в нее другие игрушки положу.
— Молоток парень, — одобрил Иван. — Ты, я вижу, в мать, мужик хозяйственный.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
После этого Иван и Серега пошли в городской универмаг.
Иван в те недолгие времена, что он пребывал на свободе, всегда был одет нормально, как говорится, не хуже других, да и в колонии старался выглядеть как человек. В жизни у него никогда не было собственности: ни дома, ни мебели, ни даже какого-нибудь паршивенького велосипеда. У него просто бывало порой много денег, и они быстро уходили — куда, он и сам не знал. Он их не ценил, добывал легко, играючи, потому что люди, хоть и были прижимисты на свою трудовую копейку, все-таки всегда оказывались растяпами, часто прямо-таки дурачками и отдавали эту самую копеечку запросто, только надо было сообразить, как ее получше вынуть… А денежки ворованные летели невесть на что, исчезали и снова появлялись — это было словно река в дождь и в засуху. То она подымалась — воды становилось так много, что лезла из берегов, то мелела начисто, будто и не было здесь никогда реки.
Одежонку Иван любил… Чтоб пиджачок не горбатился, не висел мешком, а чтоб сидел как влитой, и чтобы брючки как бы текли по ногам, не пузырясь на коленях. Иногда Иван шиковал, шил себе у хороших портных, давал «верхушку», только торопил с заказом: времени у него всегда было в обрез, он никогда не знал, сколько с в о б о д н о г о времени у него осталось. К тому же одежка помогала ему в деле: все эти простофили по одежке принимали, они аж другим голосом начинали разговаривать, когда перед ними стоял солидный, одетый как надо человек. Да и свои как-то притихали, когда Иван в красивом костюме, с университетским значком и букетиком цветов появлялся на площади трех вокзалов, чтобы сделать самое скромное, можно даже сказать, повседневное, мелкое дело, скажем, «встретить приход». Ты встречаешь поезд дальнего следования, с цветочками входишь в вагон, ищешь глазами родных, близких, в вагоне кутерьма, проходы забиты чемоданами, сумками, тюками. Вокруг объятия, поцелуи. Объятия, поцелуи — это очень нужно. Пусть они там обнимаются, да покрепче — а нам нужны вещички, рублишки, которые в сумочках их покоятся, в легких сумочках, рассунутых туда-сюда, лежащих на столике купе, на полке или поверх чемоданов… Да и сам чемоданчик сгодится, стоящий, как сиротка, в стороне. А наш верный помощник Федя с круглой бляхой носильщика берет целую тележку и раз-раз — быстро, энергично, споро тянет тележку к главному выходу, а сзади бегут приезжие люди со встречающими: «Как съездил? Ох, какой загар! Почему не писал столько?» Им не до чемоданов, они все больше о загаре, о письмах, у них свои заботы, у нас — свои… Кому что нужно, тот на то внимание и обращает. И вот мы быстренько сворачиваем в огромном вестибюле вокзала, опередив на двадцать метров приехавших и встречающих, а в маленьком «Москвиче»-пикапе, стареньком, замурзанном, обслуживающем днем трудящихся, уже ждет дядя Коля, ждет, и косит глазом, и выскакивает, отворяет дверцу — и взгляд назад; те где-то плетутся, болтают, а мы сразу, быстро, дружненько уложили на места, повернули так, чтобы номер не был виден, — и в переулочек, и пошли по Садовому кольцу в дружном потоке личных, служебных машин, «скорой помощи», ОРУДа, такси, в дружном городском потоке.
Работа бывает крупная, так себе, а иногда и себе в убыток. Бывает работа с отдельным клиентом, а иногда с рядом лиц, с общественными и государственными организациями. И если ты не хочешь, чтобы она была никчемной, дурной и чтоб она не кончилась провалом, нужен план. Таранить что попало любой ханыга умеет, а вот план придумать — тут требуется человек башковитый. У Вани была кличка «Штабной» или «Партизан». Почему «Штабной»? Может, потому, что они слышали: когда-то давно, на заре туманной юности, он воевал, как они не воевали, не за барахло, не за чемоданы… Какая Ивану разница — «Штабной» так «Штабной». Лучше это, чем какой-нибудь «Купец», или «Косой», или тем более «Навозник».
Ему, Ване, дружки цену знали. Он был в больших сроках и в побегах, разрабатывал План и умело «толкал» барахло, был делец, а когда заваливался, не спихивал все на подельщика, а на следствии врал толково и четко, умело запутывая следователя и давая дружку небольшую лазейку… он не хорохорился с дружками, был вроде бы тих и скромен, не подделывался «под капитана», то есть не строил из себя больше того, что он есть, да и незачем было строить — где надо, его и так хорошо знали… В любые времена у него был а в т о р и т е т. К тому же все знали, что Ваня никогда не проливает кровь… Ваня давно уже понял, что можно отнять вещь, деньги без скандала и без крови, что кровь надо пускать только для того, чтобы спасти свою жизнь, когда другого выхода нет. А если уж придется все-таки взять кого-нибудь, нехорошего, так лучше чужими руками. Хитер, коварен был тихий Ваня. Он нередко говорил с важностью своим дружкам: «Я аферист, но не мокрушник». И они качали головой, и усмехались, и задумывались, и что-то тускло, медленно озаряло их маленькие, озабоченные головки, и где-нибудь в подходящем месте один из них вспоминал Ванины слова и говорил кому-нибудь другому с важностью: «Я, понял, аферист, а не убийца», — а потом и тот, другой, толкаясь у деревяшки, у пивнухи, заводясь с кем-нибудь нахальным, хватая бутылку за горлышко или доставая сапожный ножик, вдруг вспоминал эту фразу, и чуть остывал, и не пускал в дело острые или колющие предметы, наносящие вред организму и отягощающие дело по определенной статье УК РСФСР и союзных республик.
Это не значило, что Иван никогда не дрался. Приходилось, что поделаешь. Самые большие драки были давно, в первых его сроках, в первых колониях, в беспокойной юности. Тогда в этом мире царила «беспредельщина», и люди дрались часто насмерть из-за табака, из-за мыла, из-за зубного порошка, которым тоже, оказывается, можно было одурманить голову. Тогда не смотрели, малолетка ты или нет. «Хочешь жить — умей вертеться». Он попал сюда, узнав войну, лагерь под Эрфуртом, брюшной тиф, когда его чуть не пристрелили, но выходила толстая немка Бауэр, которая потом, когда все кончилось и наши были в городе, просила у него хлеба и защиты, как у авторитетного человека. Он достал ей хлеба и тушенку, у него все тогда было, потому что Ваню-пацана знали в округе все и никто не отказывал ему — ни свои, ни союзники. Это были лучшие дни его жизни — дни после освобождения, когда он был одновременно мальчик, солдат и победитель.
Счастливый он возвращался на родину. Мать отыскала его, привезла в полуразрушенную Оршу. Когда она увидела его и кинулась к нему, плакала, целовала, обнюхивала его, он молчал… Ему было как-то стыдно, что мать на людях вот так убивается, ведь он же живой.
А с другой стороны — ему было страшно идти с нею по многолюдному вокзалу, казалось, он потеряет ее в толпе, и все — больше никогда не увидит!
Не думал он тогда, что потеряет ее, но по-другому…
Одиннадцати лет от роду он отправился в школу во второй класс. К тому времени он неплохо понимал по-немецки, но деньги считал по пальцам и не умел писать.
«Один мальчик собрал пять шишек, другой девять шишек, третий на пять шишек больше их обоих», — диктовала учительница…
Какая ель, какая ель — какие шишечки на ней!
Он не мог сидеть с этими потными, сопливыми пацанами, которые жадно ели бублики на переменках, стучали медяшкой в расшиша и старательно писали: «Б, Е — бе». Они это проходили, а он через э т о уже прошел. Он прошел мимо, стороной, у них была своя компания, у него своя. Он был переросток. И учителя не знали, что с ним делать, некоторые из них малость его побаивались.
«Ваня, может, мы к тебе прикрепим Толю? Он поможет».
Приходит Толя и начинает: «На одной ели висели три шишки, на другой…» Мальчик старательно объясняет, а Ваня улавливает только окончания слов, сами слова будто протекают сквозь него, как вода сквозь растопыренные пальцы.
«Вань, покажи медаль», — тянет уставший от Вани Толик.
«Щас», — легко соглашается Иван.
И они оба рассматривают Ванину медаль «За отвагу».
«А пистоль мой, «вальтер» видел?» — заводясь, говорит Ваня.
«Не-е», — бледнея, говорит Толик.
«Щас, — говорит Иван. — Сделаем. — И лезет на чердак. — Щас, Толик, постреляем немного».
Но это обман. У Вани нет «вальтера». И не было никогда. И в отряде Ваня только несколько раз держал пистолет в руке и четыре раза выстрелил в воздух. Но он запомнил навсегда приятную тяжесть черной аккуратной игрушки с рифленой, как шоколадка, плоской рукоятью. Впрочем, если очень захотеть, то можно и достать кое-где. У него есть дружки фронтовые, у которых кое-что оставлено при себе, про запас. Учиться он не мог, учился плохо, невнимательно, без интереса, был он старше всех по возрасту в классе, сидел тихо, только иногда, если его разозлить, ругался страшно и непотребно и плохо действовал на ребят…
К старшим тянет Ваню, к взрослым, с ними есть о чем поговорить, есть что вспомнить. Среди одноклассников он как волчонок среди домашних щенков. Он их и по возрасту старше — старше на годы войны и плена. И неохота ему гонять весь вечер с ребятами консервную банку на пустыре или тряпку, туго свернутую в мяч. Он идет к своим товарищам, к инвалидам Великой Отечественной, сидит у них в гостях, идет с ними «на уголок» и знает тот час, ту минуту, когда, отбросив костыль и впившись в его плечо руками, кто-нибудь из них замотает головой в муке, в тоске и заплачет или запоет: «Стоял солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд…» А иной раз поднесут Ивану кружку пива или полстаканчика беленькой, и голова закружится одновременно горестно и блаженно, и тоже захочется плакать или петь. А когда придет, припозднившись, домой, мать начнет ругаться, и кричать, и грозить: «Вот я к директору завтра пойду», — а он скажет ей тихо, внятно: «Положил я на твоего директора», — и ляжет на кровать, скинув ботинки, но не сняв тужурку и штаны, так как привык спать одетым.
Так прошло два года. Его уговаривали, стыдили, просили, оставили на второй год в третьем классе. Он был безучастен ко всему, что делалось в школе. Жизнь его была не здесь… Вечера он стал проводить с темными типами, с наглыми огольцами, которые хвалились тем, что могут достать денежки в любой момент, и не просто одну бумагу, а много, столько, сколько им надо. Они и послали его в магазин с подделанными продовольственными карточками: «Ты фронтовик, оголец, если тебя и наколют — ничего не сделают. Ничего тебе не будет…»
Тогда ему действительно ничего не было… Обошлось на первый раз…
И Ваня подумал, что и в другой раз обойдется. Глупый был Ваня, молодой.
А в другой раз взял Ваня в школе большую вазу, хранившуюся под стеклом, переходящий кубок области за спортивные достижения.
Начали искать кубок, вся школа всполошилась, а кубок тот серебряный давно уж Ванины дружки пропили.
Теперь уж по второму разу мало кто за него заступался. Теперь уж и медаль его не спасла. Знали его в городе теперь как шпану.
Были у него и всякие драчки, и пьянки, и приводы, и школа больше не верила в него. Да и он сам не верил, что будет учиться.
И как мать ни старалась, как ни убеждала, что больше он не будет, — на этот раз убедить не удалось.
Получил срок. Отправили в детскую колонию.
«Он нуждается в воспитании наказанием, — говорили матери. — Только наказание сделает из него полноценного члена общества».
Перед отправкой в колонию он прошел через детприемник. В камере было тридцать — сорок пацанов.
— Давай знакомиться, керя, — шепелявя и дружески улыбаясь, обратился к нему бледный парень с круглой аккуратной плешкой на стриженой голове, видно от лишая. Он все время щурил глаза, будто на него лампу наставили.
— Имя мое — Иван, фамилия — Лаврухин, а кличка у меня Партизан, — важно и серьезно сказал Ваня.
— Где же тебя так накликали? — улыбаясь и все время щурясь, с интересом и симпатией рассматривая Ивана, спросил плешивый.
— В Эрфурте, — ответил Иван, — в пересыльном лагере 22/30.
— Ишь куда занесло, — сказал плешивый и присвистнул. — Только, Ваня, будь добр, забудь свою прежнюю кличку, к здешним условиям она не подходит. У вас, в Париже, — одно, у нас — другое. — Он покачал пальцем перед Ваниным носом.
— Почему в Париже? — раздраженно сказал Ваня. — Я же говорю, в Эрфурте.
— Ну, какая разница, керя, где ты был. Мы тут тоже много ездим… Вот, например, ты можешь ответить, где ты сейчас находишься?
— То есть как?! — удивился Ваня. — Что ж я, дурачок, что ли? В пересыльном детприемнике.
— А где твоя постоянная прописка, Ваня, в данный момент?
— Моя под Оршей, — сказал Ваня, — в райцентре. А что такое?
— А то самое, что постоянная теперь недействительна. Так что надо получать временную.
— Да иди ты, — сказал Ваня, — что ты мне тут рога крутишь!
— Ваня, хоть ты и артист и на гастролях был в Париже или еще где, а без прописки, Ваня, нельзя жить в обществе. Никому нельзя. Беги сюда скорее, Ваня.
Ваня не двинулся. Тогда бледный огорченно посмотрел на Ваню и сказал своидо ребятам:
— Дурачок, сам не хочет. Придется его прокатить на велосипеде.
Ваня повернуться не успел, как человек десять, до того сидевших без движения, без улыбки, без звука, кинулись на него, заломили руки, раскорячили ноги и потащили его судорожно, по-рыбьи бившееся тело к плешивому. Иван изо всех сил вырывал ноги, и они как бы повторяли движения ног велосипедиста. Плешивый, громко и деловито считая, начал бить его по лицу. Видно, натренировался хорошо. Четко, звонко он бил и весело, деловито, без всякой злобы, будто всю жизнь занимался этой важной, необходимой работой. Сосчитав пятнадцать раз, он сказал:
— Прописан временно в двенадцатой камере. Что и удостоверяется печатью.
И он врезал Ване уже покрепче, напоследок, задержав и впечатав грязную ладонь в Ванин лоб и переносицу.
Парни чуть ослабили свои объятия, и Ваня кинулся на плешивого, чтобы ударить гада между глаз. Но пацаны тут же свалили Ваню на пол, и один шепнул ему на ухо:
— Зря обижаешься. Все прописку проходят, а ты что, особенный?
Они оттащили его на нары и положили как использованную, уже ненужную вещь.
Плешивый сказал, шепелявя и усмехаясь:
— Не обижайся, Ванюш, что мы тебя побуцкали. Закон есть закон. Без прописки, Иван, жить в дружном коллективе нельзя.
И у Ивана обида скоро прошла. Потому что появились в камере новички, и теперь он сам «прописывал» их и не удивлялся. К порядку человек быстро привыкает.
В детприемнике ему, надо сказать, даже понравилось. Он быстро здесь сориентировался и был не последним человеком. Все эти «покупки» и хитрости он быстро раскусил, да и сам мог кое-что подкинуть. Это ж не школа, где надо считать, как идут два парохода, и запоминать, в каком году родился великий русский писатель. Здесь каждый день был непохож на другой.
К малолеткам относились все же не так строго, как к взрослым, и они, в свою очередь, бузили вовсю. В камере попадались пацаны, у которых была уже вторая, а то и третья судимость. Эти кое-чему могли научить.
Но вот кончилось пребывание в детприемнике, и этапом их повезли в колонию. Ночью проснулся Ваня, увидел за перекрещенным оконцем тусклые огни, мелькающие столбы, ощутил кислый, спертый запах, который стоял густо, прочно; ни дуновения ветерка, ни капли кислорода — оттуда, с летящей этапной дороги, ничего, только стон, храп и тишина, да конвойный подремывает, да жесткий стук колес, который можно сложить в любое короткое слово. Например, в слово «зачем». «Зачем я здесь? Зачем все это? Зачем везут меня с этими пацанами? Ведь меня уже везли однажды, и я вернулся, и вот снова везут… Тогда я ждал победу, я даже бомбежку нашу ждал, я н а ш и х бомб не боялся: свои своих не убивают. А теперь я кто? Я не свой, не фронтовик, не пленный, не партизан, не человек, а этапный, воришка по статье такой-то. Зачем?»
В вагоне душно, и ребята храпят, а иногда стонут, зовут во сне мать, маму… Иван приподнял голову и, почти теряя сознание от этой духоты, от ночных полувскриков, от железного грохота дороги, сполз на пол и на четвереньках пополз к тамбуру… Конвойный вроде бы спит, да и стрелять не будет. По малолеткам не положено… Лишь бы выползти в тамбур, а там…
— Ты куда это, парень? — негромко окликает охранник. — Тебе чего надо?
Ваня цепенеет… «Зачем, — думает он, — зачем окликаешь? Ведь спал же гад… Сейчас прыгну — и черт с вами всеми».
Ваня облизывает губы, сидит на четвереньках, смотрит вполоборота на освещенное лампой крупное бледное лицо охранника с красными от постоянного недосыпания глазами.
— Живот… у меня, дядя, — бормочет Иван.
— Так бы и обратился, а то ползет, как таракан… Идем сопровожу.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Когда-то Иван делал покупки быстро и четко, без долгих прикидок и мучительных сомнений. Он был, что называется, в курсе дел, и наметанный глаз сам выхватывал то единственное, что Ивану было необходимо. А если этого единственного не было, то Иван шел к заведующему секцией и говорил, что приехал из Заполярья в отпуск, и давай, браток, сделай, к примеру, свитер или ботинки, а за мной, ясное дело, не станет… Ах, нет, так, может, на складе найдется… А если на складе не найдется, то еще где-нибудь, Ивану это без разницы, где, ему важно одно, чтобы он в своем далеком, но любимом трудовом краю мог надеть на себя вот этот самый теплый свитер синего цвета (из всех цветов Иван почему-то предпочитал синий милицейский цвет). Как правило, находилось на складе. Но это бывало в столице, или Ленинграде, или каком-нибудь другом большом городе, где гастролировал в данное время Иван. А сейчас времена переменились, и Иван за семь лет своей последней отлучки поотстал от моды и не знал, что ему надо, — ему теперь все было надо… Да и все теперь было другое — и разговор, и подход, и бумажник (тощенький, трудовой), и вид, и сама его жизнь теперь была другая. Не так-то просто и легко теперь было Ивану что-нибудь купить. Правда, товар не больно переменился за эти годы. Впрочем, кое-что все же проблескивало, то, чего не было раньше в магазинах, что всегда доставалось из-под полы. Так, например, белые нейлоновые рубахи, за которые Иван всегда переплачивал трешник, лежали навалом в целлофановых пакетах да еще и с легкими пластмассовыми полупрозрачными вешалочками в довесок, как говорится, «ешь — не хочу». Или шляпы с узкими жесткими, как у цилиндра, полями, которые в прежние времена были верхом пижонства, стояли теперь горой, и никто их не брал. Прекрасные свитеры уж на совсем малорослых мужчин, а может, на лилипутов из заезжего цирка, украшали собой секцию шерстяного трикотажа. Ивану сразу же захотелось купить огромный свитер и маленький вот так просто купить, без борьбы, без очереди, без «верхушки», за свою стоимость, на свои деньги…
Но начинать все-таки следовало с костюма, поскольку одет он был в настоящее время в летний, не по сезону и порядком устаревший костюм, тот самый, в котором его забрали. Когда он еще был на воле, только входили в моду пиджаки с разрезом, а сейчас уже висели с двумя разрезами, а обыкновенных пиджаков без прорезей уже как будто никто и не носил. Девушка принесла Ивану клетчатый пиджачок, но он с трудом налез на его плотную, массивную фигуру, а когда Иван обернулся и поглядел в зеркало, то увидел, что разрезики вздымаются и торчат сзади, как крылышки. Серега засмеялся:
— Братан, а ты на империалиста похож.
— Это почему же? — удивился Иван.
— У них такие же сюртучки с фалдами.
— А где же ты видел империалистов?
— В газете. Их там часто рисуют… Например, дядя Сэм и всякие другие. И все почему-то с фалдочками.
Девушка-продавщица, стоявшая около них и ожидавшая с лицом каменно-отчужденным и даже несколько осуждающим: мол, разговариваете, щупаете, а все равно ведь брать не будете, — усмехнулась и сказала:
— Вам, товарищ, нужен костюм четвертого роста, но у нас сейчас этого номера нет.
— А без этих крылышек можно подобрать? — спросил Иван.
— Каких еще крылышек? — сухо сказала девушка, не желая понимать шуток. — Вы что, шлицы имеете в виду? (Она училась в торговом техникуме и любила, чтобы вещи назывались своими именами.)
— Вот именно, без них, — сказал Иван и внимательно посмотрел на девушку.
Хотя он разговаривал с ней и раньше, хотя вот уже минут десять он стоял около нее, поглощенный костюмом, он как-то пропустил мимо своего внимания и сознания эту девушку. И вот сейчас, отвлекшись от забот насущных, от пиджаков и брюк, он вдруг понял, что так просто отсюда не уйдет.
Девушке было на вид лет двадцать, ну от силы двадцать два. Лицо у нее было смуглое, а глаза зеленоватые, цвета бутылочного стекла, миндалевидной формы, к тому же еще удлиненные карандашиком. Она показалась Ивану похожей на южанку, но не на грузинку или армянку, а скорее на болгарку. Иван болгарок видел только в детстве в Германии и не знал толком, какие они из себя, но почему-то именно болгаркой представил он себе эту девушку и пожалел, что не умеет говорить по-болгарски. Да и не только по-болгарски не умеет, по-русски он с девушками тоже давно не разговаривал, а с такими, может быть, не разговаривал никогда… Он поглядел на нее снова, внимательно, но быстро, почти мгновенно. Он умел и привык смотреть вот так, не в упор, а как бы вскользь, мимо, но какой-то блиц, сидящий в голове, вспыхивал, четко и надолго фиксируя нужный ему облик. Некоторые фотографии он выбрасывал из головы как ненужные, другие оставлял на годы, может быть, навсегда, и помнил цвет глаз и волос человека, когда-то мгновенно отснятого им на свою невидимую пленку.
Что же было на этой фотографии, на моментальном снимке девушки из секции мужской одежды? Было лицо, очень смуглое, как бы отчужденное и неприветливое, но очень подвижное и потому обладавшее множеством еле уловимых выражений, и неприветливость могла, казалось, тут же смениться радушием, а радушие, может быть, даже нежностью… Может быть… Только лишь может быть — всего-навсего предположение, смелый прогноз, своего рода мечта.
И отдельно от этого строгого, совершенно на первый взгляд далекого от Ивана лица (тысячи и тысячи километров их отделяли, моря, материки, населенные пункты, пятилетки, покрои одежды, поколения советской молодежи, музыкальные мелодии) существовали ноги, выдержанные в каких-то богом данных пропорциях, в чулках цвета парного молока, похожие на стволы молодых деревьев со светлой корой. Ствол не тонкий и не толстый, сильный, облитый нежно корой, нейлоном или эластиком — этого Иван точно не знал. Они были открыты на всеобщее обозрение, настолько открыты, что стали чем-то нереальным, вроде рекламы, и совершенно отдельным от Ивана, никак и никогда ему не предназначенным. Иван поймал себя на том, что все это вызвало у него совершенно неожиданное чувство, может быть, даже робость перед этой откровенной и смелой красотой, которая не знает, что было время, когда ее полагалось стесняться и прятать. Иван аж задохнулся от восхищения. Девушка все же не очень осознавала власть над людьми. Открытость, уверенность и женственность этих линий, короткого, блестящего халатика, серебристых высоких сапог почти до колен, как у дрессировщицы в цирке, — все это как-то мало вязалось с лицом очень юным, смуглым, будничным, исполненным забот по отделу готового платья.
Иван хоть и вернулся издалека, но отнюдь не был снежным человеком. Когда его забрали, в шестидесятом году, в последний раз, уже начинались новые веяния моды, с которыми тогда никак не могли справиться сатирические журналы: мужчины носили узкие брючки, а девушки — юбки колоколом, довольно короткие и широкие, как парашют. Нечто шарообразное, а-ля Бабетта, возвышалось над их головами, а они поцокивали по земле тоненькими, хрупкими, как сосульки, остренькими, как сапожное шило, каблучками. В колонии Иван видел вольнонаемных учительниц и врачих, некоторые колебания моды можно было ощутить и там, так незаметно он привык к тому, что женщины ходят в удививших его поначалу сапогах и даже нашел (хотя и не сразу), что это красиво… Многие ребята в колонии вырезали силуэты красивых женщин из «Экрана», из «Советской женщины», из журнала «Работница» и приклеивали картинки над своими нарами.
А когда Иван возвращался домой, когда пошли первые часы после освобождения, в поезде он глядел и не мог наглядеться на множество невесть откуда взявшихся девушек в коротеньких юбочках, в чулках всех цветов, от белых до зеленых, с расписными цветами, энергичных, самостоятельных и как бы очень независимых девушек. Все это было уже не случайностью, а реальностью, повседневностью, и нелепо было с этим не соглашаться. Следовало наблюдать, принимать и не удивляться ничему. Иван еще не знал, как побыстрее ко всем этим жизненным явлениям приспособиться, но был уверен, что все-таки приспособится; он и не к таким явлениям приспосабливался. А сейчас он смотрел на эту девушку, неожиданно растерявшись и не зная, что предпринять… Он почувствовал даже боль от сознания ее недоступности. Однако Иван не мог себе позволить ограничиться только лишь такими чувствами, жалкими воздыханиями и безрезультатным уходом. Он твердо усвоил в своей жизни истину, что под лежачий камень и вода не течет, и потому, несмотря на сложные и даже противоречивые чувства, владевшие им, он принял твердое решение: любой ценой познакомиться с этой девушкой и немедленно договориться о встрече. А раз решение принято — надо его выполнять, как бы это ни было тяжело. Вот тут и подумал Иван, как бы пригодился ему не купленный еще костюм, насколько увереннее он чувствовал бы себя в новой, хорошей шкуре, чем в этом летнем, старом костюмчике из слегка помятой, немнущейся, синтетической ткани «элана». Не выказав ни волнения, ни тайной заинтересованности, Иван заговорил кратко и деловито:
— Значит, сейчас моего размера нет. Когда же можно заглянуть?
— Не знаю, — сказала девушка. — Мы план уже выполнили, ничего нового в этом месяце не ждем. Дня три назад получили несколько финских и распродали тут же.
— А его не было три дня назад, — подключился к разговору Сережа. — Он только вчера приехал с армии.
Девушка с удивлением взглянула на Ивана. Староват он был для только что отслужившего. Впрочем, он мог быть и офицером… Для офицера в самый раз подходил… Тридцать с хвостиком.
— А эти самые финские… Они из чего? Из шерсти? Или из этого самого?
— Чистая шерсть с териленом, лучшего товара у нас не бывает, — сказала девушка, с оттенком жалости поглядев на этого офицера, отставшего от моды, облаченного в куцый костюмчик «времен Очакова и покоренья Крыма».
Иван поймал этот взгляд, понял его и сказал:
— Долго я отсутствовал в здешних краях, другую форму носил, сейчас малость надо прибарахлиться.
Разговор приобретал уже более личный характер, самую малость выходя за рамки общения клиента с продавцом. Это было отрадно, и это следовало продлить и углубить. Девушка собиралась что-то ответить, но в этот момент заведующий секцией, лысый, важный мужчина, подошел к ней и сказал вполголоса, но так, чтобы Иван услышал:
— Ты что, Афанасьева, ля-ля разводишь в то время, как люди ждут тебя в примерочной?
Действительно, из примерочной, то и дело теребя плюшевую занавеску и просовываясь сквозь нее, сверлил глазами продавщицу какой-то полураздетый тип. Девушка подошла к нему, а тип, бесстыдно натягивая новые штаны, все приставал к ней с вопросом, не узки ли они ему в поясе.
Иван оказался в трудном положении. Уйти он не мог и не хотел. Ждать было глупо: это уж больно откровенно выдало бы его интерес к ней в служебное время и могло обернуться против нее, а значит, и против него. К тому же Серега все время тащил его в сторону. Мальчику порядком надоело торчать в магазине. Но Иван все же остался. Он перешел в секцию плащей и пальто и стал с усилием передвигать тяжеленные, будто набитые камнями, тесно прижатые друг к другу демисезонные пальто, разглядывая ценники и ярлыки. Наконец девушка покончила с типом из примерочной и пошла в сторону, туда, где висела табличка «Посторонним вход воспрещен». Иван решительно вышел из своего укрытия и догнал ее.
— Так как же договоримся? — сказал Иван хмуро и даже как бы зло; такой тон он принимал всегда, когда сильно волновался и чувствовал неуверенность.
— Это насчет костюма? — сказала девушка, еле заметно усмехаясь, видимо удивленная его упорством. — Ну, загляните на неделе, может, что-нибудь и будет, — добавила она профессионально равнодушным и тусклым тоном.
— А мне нельзя на неделе. Мне сегодня надо, — сказал Иван.
— Значит, сегодня в старом походите, — сказала девушка.
— А что вы сегодня делаете?.. Вечером? — уже в открытую, не заботясь о тылах и не думая о поражении, спросил Иван.
— Как что?! — сказала девушка.
В вопросе было недоумение: мол, при чем тут это, какое отношение имеет мой вечер к костюмам финским, польским и прочим и к вам, странный человек непризывного возраста, в совершенно не офицерской ветхой одежонке? Какое отношение имеете вы к моему вечеру?
Так говорили ее глаза, почти холодные, отчужденные, неодобрительные, наполненные зеленым светом, который не мог расходоваться на Ивана или кого-то другого, ему подобного, а предназначался молодому, двадцатилетнему, красивому, возможно даже длинноволосому, молодцу.
Это злило Ивана, и он в мыслях своих не допускал к ней такого, казавшегося ему худосочным, прыщавым, жалким и ничего в жизни не понимающим, с юношески слабыми скулами, с нездоровой пигментацией переходного возраста, с ломким голосом и детским гонором, с сердитым отцом и пятью рублями в потном кулачке. Ее зрелая женственность в его сознании не совмещалась с непрочной, непроверенной мужественностью таких юнцов…
И на мгновение он ощутил себя старым.
Однако он решил не отступать до того момента, пока есть хоть один шанс договориться с ней о встрече. Иван знал, что ничего плохого ей не сделает, и что он хочет только хорошего, и что ему, в сущности, от нее ничего не надо, а просто вот встретиться с ней, посидеть в хорошем месте, сходить в кино… Ни о чем другом Иван сейчас и не думал.
— Так что же все-таки вы сегодня делаете? — с тихим упорством повторил Иван.
Она как бы приготовилась уже полоснуть его глазами, всем холодом зеленой жести, губы ее уже почти сложились, приготовившись произнести фразу такого типа: «Какое вам, собственно, гражданин, дело?», или: «Куда мне надо, туда и собираюсь», или совсем простую: «Шел бы ты куда подальше», — но что-то остановило ее. И она сказала кратко, но с исчерпывающей ясностью:
— Я собираюсь вечером на танцы.
Иван чуть покачнулся, но спросил с надеждой:
— С кем-нибудь конкретно или просто так?
Девушка помолчала, поглядела на Ивана, как на дурачка, и, усмехнувшись, решив продолжить игру до конца, сказала:
— Просто так.
Тогда Иван в состоянии легкого опьянения и почти счастья спросил с кротостью, которой он в себе дотоле не знал:
— А мне можно?..
— Туда никому не заказано, — сказала девушка.
— Да, но я здесь ничего не знаю. Где тут танцуют?
Положение иногородца, приезжего человека было теперь его преимуществом. Иногородец требовал к себе по крайней мере некоторого внимания и вежливости.
— Это в городском саду, на закрытой площадке… Около кинотеатра «Космос», — сказала она.
— А когда там? — спросил Иван.
— В семь часов, — сказала девушка.
— Афанасьева, ну нельзя же так! — крикнул девушке заведующий секцией.
Опять все повисло на волоске. Иван спросил, зачем-то понизив голос:
— А вы лично когда придете? Наступила краткая пауза.
— Часов в восемь, — сказала девушка.
— Я вас тогда встречу, — сказал Иван. — Можно?..
Девушка не ответила, только пожала плечами, мол, ну что ж с вами сделаешь, встречайте, если вы такой настырный. Кивнув Ивану, она отошла. Тут Иван вспомнил, что не спросил, как ее зовут. Он было хотел ее догнать, но потом подумал, что может этим все испортить… «Подумаешь, имя, — решил Иван. — Не в имени дело, а был бы человек хороший». Иван даже вспотел от напряжения. Чувство удовлетворения и вместе с тем беспокойства владело им. «Вечер утра мудреней; не суетись…» — твердил он про себя.
А рядом уже был заскучавший братишка.
— Ну как, братан, договорился, наконец, насчет финского? — спросил он.
— Вроде бы, — ответил Иван уклончиво.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
В его жизни женщины не занимали особого места. Да и в колонии он не так уж тяготился, как другие… На воле он почти всегда имел дело с женщинами своего ремесла. Иван понял их давно и знал им цену… Одни были нежнее, доверчивее, другие попроще, погрубее, но все играли в деле роль второстепенную, подсобную, а оттого особенно жалкую. Ведь женщине больше, чем мужчине, противопоказано бродяжничество, бессемейность, воровство. Они были особенно приметными, как бы отмеченными общей печатью этой среды. Иван за версту мог в них узнать «своих»: по низким, прокуренным голосам, по особому жеманству и притворству, по грубому, деланному кокетству, по неряшливости, соседствующей с густым площадным гримом, по безвкусной броскости одежды. Все они хитрили и притворялись, но расколоть их было легко, и если они и были артистками, то самого что ни на есть погорелого театра, а те, кто поудачливей и поумней, рано или поздно уходили из блатной компании, обзаводились семьями.
Если среди мужиков он встречал людей интересных, сильных, способных спокойно и расчетливо рисковать жизнью и потому с каким-то особым цинизмом к ней относящихся, то среди женщин таких он не встречал… Ходили в колониях истории о каких-то атаманшах, различных нинухах, райках, курносых с прекрасной наружностью и хитрой головой, но это все были россказни, чем-чем, а байками, всякого рода словесной «туфтой» так и полнился мир, к которому до вчерашнего дня принадлежал Иван. Только Иван таких женщин никогда не встречал. Он и сам в юности придумывал и переделывал множество историй, а потом вновь слышал их от кого-нибудь как самую что ни на есть чистую правду. Вот в таких байках и действовали бесстрашные и соблазнительные нинухи.
Один раз в юности, впрочем, Иван был влюблен в одну «курносую» и все, что воровал, таскал ей и строил различные планы совместной бурной жизни, пока не был поколочен довольно жестоко ее более взрослыми «авторитетными» дружками.
Бытовало в его среде понятие: «поджениться», то есть быть как бы прикрепленным к одной и той же женщине сравнительно длительное время, иметь с ней общий котел, постель и приварок, пока не надоест или пока не заметут обоих. Это был как бы вид блатного брака, в котором существовали почти те же семейные законы, что и у нормальных людей, то есть у «фраеров», у вольняшек. Как бы те, но не совсем. Женщина работала свою работу, она была приманкой, ловила дурачков, что попадались на удочку, ну, а дело Ивана или других было снять жертву с крючка и хорошо почистить. Были у женщин и другие обязанности, часто им доверяли продажу краденого.
Многие из них были очень изломаны, истеричны, жалостливые и добрые по пустякам и часто более жестокие, чем мужчины, когда речь шла о человеческой жизни. Они всегда якобы любили кого-то одного и в душе были только ему верны. В душе. Истории, которые они рассказывали, были похожи одна на другую: как только начнет говорить с влажными глазами, веря самой себе, Иван уже знает продолжение… Только он еще не знает в точности, кто именно натолкнул ее на такой путь: то ли злой отчим, который выгонял из дому и приставал, или негодяй, обманщик, который обещал жениться, в пятнадцать лет лишил всего, а затем смылся… Иногда Иван даже сам досказывал за них. Они удивлялись и спрашивали, широко раскрыв глаза: «Откуда ты, Ваня, все знаешь?»
Ко многому привык Иван в своей жизни, но их руготня, особо затейливая, изощренная, страшная, когда они затевали ссору между собой, до сих пор вызывала у него некоторую оторопь.
Знал ли о них Иван что другое? Скорей догадывался, чем знал. Любил ли он когда-нибудь? Он не задумывался над этим. Его тянуло к ним, а потом он остывал. Конечно, бывали у Ивана женщины и из другой среды. Но с ними было труднее, часто встречаться он не мог, должен был все время темнить и быстро уставал от этого.
Впрочем, был один случай — как говорится, оставил след в его душе. Тогда Иван получил второй срок, который отбывал уже во взрослой колонии. Стал он поумнее и пошел в школу. Учился в восьмом классе. В его классе учились и сорокалетние мужики.
Старшеклассников в колонии было немного, кое-кто с трудом дотягивал до седьмого класса, а дальше не шли. Ивану тоже поначалу школьные премудрости давались с трудом. Надо сказать, что некоторые готовы были скорее вкалывать на лесоповале лишние часы, чем писать в классе контрольную. И экзаменов они боялись ничуть не меньше, чем штрафного изолятора или облавы на картежников. Видимо, экзаменов люди боятся всю жизнь, до седых волос, до смерти.
Однако вскоре Иван почувствовал определенный интерес и даже вкус к учению. Память от природы у него была хорошая, и вот странно: то, что в детстве в нормальной школе казалось никому не нужной ерундой, теперь все всерьез интересовало. После двух лет раскачки он начал учиться старательно и даже с удовольствием. И оценки шли соответствующие, особенно Иван налегал на математику и на русский письменный. Опыт жизни его научил, что надо уметь считать как следует, иначе обманут, и толково, по возможности без грубых ошибок писать прошения и заявления о сокращении срока. Без этих двух предметов ни в одном деле, выходит, не обойдешься. К остальным же предметам — таким, как биология, история, литература, — он относился как к чему-то несерьезному, хотя иногда и небезынтересному. Так, например, он любил слушать про полководцев, про воинов, но слушать, а не запоминать цифры и имена.
К ним в то время назначили новую учительницу литературы, вольнонаемную, впрочем, как и большинство учителей. Александрова Галина Дмитриевна, если полностью, но учащиеся звали ее между собой — Гала. Это была не кличка, а просто нормальное ее имя, ведь, в сущности, и по возрасту и по виду она была не важная Галина Дмитриевна, а молодая девушка — Гала.
Держала она себя довольно уверенно и свободно, отчего многим в классе показалась исключительно нахальной. Дело в том, что в колонии привыкли к другим формам обращения: к настороженно-опасливому и оттого, несмотря на металлические ноты, робкому тону или к назидательному, резко-приказному, когда даже в короткие часы школы тебе не дадут забыть, кто ты такой есть. Часто шло это не от характера преподавателя, а от класса, от этих людей, которые даже при самом спокойном к ним отношении никак не хотели превращаться хотя бы на сорок пять минут в более или менее нормальных учеников. Нелегко было там учиться, а еще труднее было там учить.
Гала преподавала одновременно русский язык, литературу и историю. Она, видно, недавно закончила институт, память ее не замусорилась житейскими делами и была исключительно свежа, и она сыпала наизусть множеством цитат из великих людей, датами исторических событий, стихами русских поэтов по курсу восьмого класса.
Казалось, она никого не боится. Это не всем нравилось.
В ней были азарт и молодость, и если уж она хотела кого посадить на место, «пришпилить», то делала это от души, без криков, не выгоняя из класса, а ехидным словцом, с шуточкой или ледяным равнодушием. Она всегда со сдерживаемым, но страстным азартом вкладывала всю себя в любой, даже маленький поединок с учениками. Иван придумал ей кличку, но втихую, для одного себя, не обнародывая перед дружками. Он звал ее про себя «гражданка Бугримова». Потому что так или иначе, а была она в первую очередь не учительницей старших классов, а укротительницей диких зверей, и в ее деле главное было, чтобы они послушно сидели на тумбах.
Ивану она попеременно то нравилась, то неимоверно его раздражала. Нравилось, как она, надменно усмехаясь и не перебивая, слушает глупости учеников, чтобы потом с блеском в глазах, ледяным тоном отбрить кого-нибудь из них, нравилось, как с нескрываемым счастьем слушает хороший ответ («алле гоп, молодец Акбар, получишь кусочек свежего мяса»), нравилась ее челочка и то, что всегда она была свеженькая, гладенькая, чистенькая, и то, что туфли ее, несмотря на осеннюю грязь в зоне, блестели и были такими же, какие носили в то время в Москве, а может, и в Париже (если носили на тонком каблуке, то и у нее тонкий, если на толстом, то и у нее такой же). Иван, правда, не знал, что носят в Москве, но чутье ему подсказывало: укротительница не отстанет от всего нового, передового. Нравилось и то, как она читает стихи, чуть нараспев, с особой такой тихой задумчивостью, с влажными глазами, будто она сама по меньшей мере их написала. Нравилась и маленькая рука, самозабвенно сжимавшая мелок и нервно, напряженно-страстно стучащая этим мелком по доске; это напоминало морзянку или шифр через стену камеры: удар, тире, пауза, удар, тире, цок, цок, по черной, мутной от меловой пыли доске, цок, цок — вперед, вперед, к свету, к знаниям, к чему еще?
Вот это и нравилось и раздражало.
Уж слишком она старалась, будто и вправду от этого что-то в их жизни изменится, уж слишком, сама того не замечая, подчеркивала пропасть между ее двадцатью тремя годами и их таким же или более почтенным возрастом. Ее жизнью, в которой были экзамены, семинары, отметки, знания, диплом, и их, в которой были следствия, суды, пересылки, КПЗ, новые сроки, побеги, УК РСФСР, УК союзных республик, знания, знания…
Уж больно ярко сверкают эти нарядные ножки в изогнутых туфлишках — каким-то нейлоновым струящимся светом другой планеты, Марса, а может быть, Венеры.
И низкий ее голос, самозабвенно читающий:
Горные вершины Спят во тьме ночной; Тихие долины Полны свежей мглой; Не пылит дорога, Не дрожат листы… Подожди немного, Отдохнешь и ты.«Куда, куда ты тащишь меня, — женский голос, чуть с хрипотцой и низкий, но женский, такой женский, что сердце останавливается, какая еще есть дорога на земле, которая не пылит, и зачем эти обманные, вкрадчивые, полушепотком, слова?.. «Подожди немного»… А чего мне ждать? »
Все это будоражило Ивана, так жестоко ударяло по мозгам, что его симпатия к ней и даже некоторое уважение, которое она ему внушала, вдруг выливались в острую неприязнь, почти ненависть. «К чему мне эта отрава, эти баюкающие стишки? — думал он. — Чтоб в петлю полезть? Нет уж, тут не цирк, нечего показывать фокусы. Не утешай меня без нужды, женщина, не усыпляйте, гражданка, нашу бдительность. В этом кипучем мире и в этом отдаленном, богом забытом уголке нужна бдительность, бдительность и еще раз бдительность».
Однажды после ее уроков Иван взял в библиотеке томик Лермонтова из собрания сочинений и нашел там такое стихотворение:
Не дождаться мне, видно, свободы, А тюремные дни, будто годы; И окно высоко над землей. И у двери стоит часовой! Умереть бы уж мне в этой клетке, Кабы не было милой соседки!.. Мы проснулись сегодня с зарей, Я кивнул ей слегка головой. Не грусти, дорогая соседка… Захоти лишь — отворится клетка, И, как божии птички, вдвоем Мы в широкое поле порхнем. . . . . . . . . . . . . . . . . . Избери только ночь потемнее, Да отцу дай вина похмельное, Да повесь, чтобы ведать я мог, На окно полосатый платок.Стихотворение это взволновало Ивана, и в тот же вечер он выучил его наизусть. А на следующий день на уроке он поднял руку и сказал:
— Прочтите нам стихотворение «Соседка»… а то все «Бородино» и разные «Тучки» проходим, а это, например, нам более близко. Так вот прочтите, пожалуйста, и объясните, в чем его смысл.
Учительница малость помялась. «Сейчас посадит: не по программе», — подумал Иван. Но она сказала с видом простодушного огорчения:
— Я его наизусть не знаю.
— Тогда я прочту, — сказал Иван. — Не возражаете?
— Нет, — сказала она. — Отчего ж, читайте.
Все притихли, ожидая от Ивана какого-нибудь подвоха, «покупки». Иван прочитал стихи, подражая ей, ее интонациям.
— Теперь разрешите один вопросик, — сказал Иван. — В чем же смысл данного стихотворения?
— Ну, а вы сами как думаете?
— А я думаю, в том, что из тюрьмы есть только один путь — побег.
— Вы, Лаврухин, больно практически стихи понимаете или делаете вид, что так понимаете. Это не о том ведь.
— А о чем же? — спросил Иван.
— О любви, Лаврухин… Слышали такое слово?
— Слышать-то слышал, но лично не видел.
— Значит, сам виноват, что не видел.
— Ах, и здесь виноват… выходит, кругом виноват. Виноват, виноват, виноват…
После урока, когда их уводили в бараки, Иван задержался на секунду и сказал как бы про себя, шепотом, но достаточно громко, чтобы она услышала:
— А оказывается, вы не все стихи правильно понимаете.
Иногда казалось Ивану после того эпизода, что она более внимательно и с большим интересом поглядывает на него, чем на других. И поэтому Иван стал ходить на ее уроки с особым настроением, словно чего-то ожидая, только сам не знал чего: то ли радости, то ли подвоха.
Однажды попал он в штрафной изолятор и пропустил неделю занятий. Он очень маялся и мечтал поскорее отсюда вылезти. А когда вернулся, один друг сказал ему, что Гала как-то однажды справлялась: «А где же, дескать, Лаврухин проветривается?» — на что было отвечено, что Лаврухин в данный момент пребывает на заслуженном отдыхе.
Когда Лаврухин появился в классе, он написал ей записку, в которой просил задержать его после уроков. У Ивана на то было не много надежд. Она попросту могла отмахнуться от его просьбы, мало ли какая блажь может взбрести ее ученичкам.
Однако после уроков она сказала дежурному но подразделению, чтобы Лаврухина оставили. Дружки, уходя из класса, стали скалить рожи и знаками давали советы, как себя вести наедине с ней. Но вот класс опустел, теперь они действительно были вдвоем.
— Ну, что вы хотели мне сказать, Лаврухин? — спросила Гала, прищурившись и в упор глядя на Ивана.
А что он хотел сказать? Иван-то знал — ч т о. К а к — он не знал. Он боялся, что его потянет не туда, «не в ту степь», что он будет разыгрывать из себя бог знает что — по привычке, ставшей необходимостью, а может, по необходимости, перешедшей в привычку. А ему этого сейчас не хотелось…
Ну, а правда… она тоже слишком проста, чтобы выложить ее вот так, сразу… Она заключалась в том, что Гала нравилась Ивану и ему хотелось поговорить с ней не как ученику с учительницей и не как отбывающему срок с вольняшкой, а как человеку с человеком, как мужчине с женщиной. Вот это последнее и было самым трудным, поскольку первое и второе на много сотен километров отдаляли его от нее.
Однако Иван не отступался никогда от того, что было ему важно и нужно. Никогда не отступался от того, что для себя наметил, даже если это и казалось ему полной безнадегой.
Иван молчал. И она молчала.
«Понимаете… — молча про себя говорил Иван. — Я хотел…»
«Ах, Лаврухин, Лаврухин, о чем же мне с тобой разговаривать?» — молча говорила она.
— Конечно, я неправильно тогда рассуждал, — наконец проговорил Иван, продолжая тот неоконченный спор. — Я, может быть, и болван, но не настолько. И те стихи я правильно понял… Тут ясное дело — про что они… Только объясните, почему все это мимо нас? В стихах или в кино, пожалуйста. А в жизни я лично ничего подобного не наблюдал. Вы скажете: «В твоей жизни…» Но меня именно моя интересует, а не Федина… Сколько я копчу белый свет — никаких таких особенных красивых чувств не наблюдается… А если бы они и были — кто им сейчас поверит?
— Это почему, интересно? — спросила Гала.
— А потому, что люди привыкли не чувства искать, а подвох или какую подлость. Москва, как говорится, слезам не верит.
Учительница еще не понимала, к чему ж все-таки Лаврухин клонит, а так как, по совести говоря, она тоже ничего другого от него не ждала, кроме как «покупки», то молчала, обдумывая ситуацию, и лицо ее было напряженно-приветливым.
— Вот я вам поясню на примере, — как бы отрешенно, задумчиво продолжал Иван. — Ну, предположим, человек в моем положении… полюбил женщину. Ну, возьмем, к примеру, вольнонаемную. Полюбил, как говорится, от души, и, может, даже хочет жениться после отбытия срока. Кто поверит ему? Разве эта женщина поверит? Тьфу, подумает, понтяра это все, то есть, по-русски говоря, обман и враки. Не так ли, Галина Дмитриевна?
— Смотря какая женщина и какой человек. Если он всерьез, то, может, и поверит… Но разрешите и мне вам задать вопрос. Я здесь недавно, Лаврухин, многого не знаю, но кое-какие выводы могу сделать. Скажите по совести — многим ли тут можно верить?
Иван ответил, помолчав:
— Смотря в чем и при каких обстоятельствах.
— Если уж верить, то, наверное, при любых.
— Не в том дело, — сказал Иван.
— А в чем?
— А в том, как люди к человеку повернутся… Вот он, скажем, врет. Но он за это и несет наказание. А другие почище его врут, но только кто их накажет? Да они же еще и сами осудят его.
— Ну, а если, Лаврухин, попроще? Если без этих сложных построений? Ведь не в том же в конце концов дело, что раз кто-то подл, значит, и я назло ему подл… Ведь не о конкурсе же на подлость речь у нас с вами идет. А о том у нас речь, если уж честно сказать, то, например, в вашем классе я почти никому не верю.
— Никому?
— Почти никому… Такая уж, извините, среда.
Иван молчал минуту, курил. Потом, чуть кривясь, он сказал:
— Это я получше вас знаю… Своих-то я изучил. И я не защищаю. Чего тут защищать-то? Они не нуждаются. Они сами на кого хочешь нападут. Вы, может быть, эту среду презираете, а я лично ее ненавижу. Только не в том дело. Среда — это и есть среда, а каждый человек в отдельности — это совсем другое дело. И если уж у него отнимают последний шансик, если на него смотрят вот так, с прищуром, как на бешеную собаку, то ему только и остается гавкать да кусаться побольнее. Вот об этом и речь…
Ивану еще многое хотелось сказать ей, но совсем о другом. Как и многие из его дружков, он мог пофилософствовать, но не умел и не привык говорить о себе. О том, что именно он чувствует. О том, что он именно ждет и хочет. О том, наконец, что вся его жизнь — такая странная и дикая для других и такая долгая для него, такая обыкновенно-неудачная, привычно-надоевшая, как зубная боль, ослабленная пирамидоном, — что вся эта жизнь с некоторых пор потеряла для него смысл, и если он тащит и тянет еще себя по земле, то лишь в надежде… На что? Если бы он знал. На то, что вдруг, однажды, когда-нибудь…
И еще потому он до сегодняшнего дня волочится по земле, что сейчас, в марте, в одна тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году, ему еще нет двадцати пяти лет, а значит, если дожать срок «до звонка», то все-таки, может, еще что-нибудь да останется на жизнь.
Учительница задумалась, молчит.
Пушистая рыжая гривка ее волос кажется теплой, и Лаврухину хочется потрогать ее. Только Иван не враг сам себе. Теперь на своем богатом опыте он хорошо знает, где кончается «можно» и начинается «нельзя». Скрытая дрожь буквально бьет его… так и тянется сделать что-нибудь непоправимо глупое, роковое.
Учительница сидит за столиком, он на первой парте.
Иван встает из-за парты, подходит к учительнице, облокачивается на столик.
— Папиросы все кончились, — говорит Иван. — У вас подымить не найдется?
— Найдется, — говорит она, суетливо, с готовностью роется в сумочке, достает пачку «Столичных».
Оба они курят, Иван — с жадностью, она — спокойно и женственно, мелкими глоточками, как и полагается молодой учительнице русского языка и литературы.
В этот момент и появляется в дверях физиономия дневального.
— Лаврухин, рви когти в барак. Петушок пропел давно!
Иван шел по зоне к своему бараку, по зоне общего режима, на первый взгляд похожей на больничный двор. Низкие кустики в низких же карликовых оградах, крашенных в медицинский белый цвет, чистота со слабым запахом хлорки, как бы скрывающая болезнь, заразу. И только одна земля была не больничная и не тюремная, а весенняя, мягко прогибающаяся под ногами. Да и запах сквозь хлорку и известь был особый, животно волнующий, весенне-острый и входил в легкие и в душу, будто светлое, приятно хмелящее нездешнее вино.
И еще стояла перед глазами эта учительница, такая строгая и высокообразованная, совершенно недоступная, но такая еще секунду назад близкая, с задушевным низким голосом, с быстрыми, маленькими, должно быть мягкими, руками, которые вдруг, на мгновение могли бы покорно, ласково замереть в его руках, и тогда вся эта обманная разница в положениях полетела бы черт-те куда, и остались бы на земле не вольнонаемная учительница Галина Дмитриевна и не Иван Лаврухин, осужденный по статье такой-то, а лишь Иван да Гала, Гала да Иван.
И все, что разъединяло их, вдруг показалось Ивану нелепостью, идиотизмом, дрянной мышеловкой, в которую кто-то его запихнул. И оттого в особенности она была мучительна и безвыходна, эта мышеловка, что тот человек, который его туда старательно и долго засовывал, который ее захлопнул со смаком, который помешал ему выскочить, хотя и представлялась такая возможность, тот человек был он сам, Ваня Лаврухин, по кличкам «Штабной», «Окопник», «Партизан», — да еще с десяток кличек наберется: мало ли кто и когда ему их присваивал.
Он и был тот человек, хотя никому и никогда в этом не признавался, виня многих людей вокруг, скидывая все на обстоятельства и события, вмешавшиеся в его жизнь, обстоятельства и события и вправду весьма немаловажные.
И то, что он сам заткнул себя в этот известковый, как бы больничный двор, пусть и весенний, но все равно несовместимый с учительницей, с ее домом, с живыми улицами, по которым она ходит, сам втиснул себя в этот облитый хлоркой, обсаженный низкими мертвыми кустами квадрат, в котором — топать, и топтаться на месте, и стоять, и с и д е т ь еще не год и не два, — вот именно это так мучительно раздражало, злило его сейчас, так ноюще буравило все его существо, что хотелось лечь на землю и завыть.
Раньше Иван умел давить в себе подобную муть, хотя она поднималась со дна его души нередко, а сейчас не было с ней сладу, и весь он, тренированный, жесткий и сухой, вдруг стал мокрым от слез, неожиданных и пугающих, как внезапное кровотечение. Но надо было идти или доползти до барака, как уж сумеешь. Потому что уже пробил отбой и прожектор на вышке начал шарить и шарить по земле, чтобы накрыть Ивана слепящим беспощадным кругом.
Иван собрал силенки и пополз. Да, ему казалось, что он ползет по влажной земле в кольце жаркого света. На самом же деле он шел в барак с провожатым, тихохонько, надломленно, но шел, и довольно твердо — так, что со стороны и комар носа не подточит…
Иван хорошо закончил восьмой класс и перешел в девятый. В октябре на участке завершились работы и должны были открыться занятия в школе. Иван все об этом думал и ждал нового года. С десяток примерно писем за лето написал он своей учительнице, ни одного, однако, не отправив.
Занятия начались с других уроков, и они тянулись долго и пусто громыхали в мозгах Ивана, как этапный эшелон.
Ждал же он своей станции.
Но вот коротенький перекур — и урок литературы. Иван нарочно сел на последнюю парту, чтобы лучше наблюдать за Галой, не обращая на себя внимания… Вот уж и звонки прозвенели, а никого нет.
Наконец открывается дверь, и робким, неслышным шагом входит женщина. Входит, садится, проводит перекличку.
— Теперь с вами буду работать я. Меня зовут Антонина Никитична. Прежняя учительница уволилась, уехала в другой район, будет работать в нормальной средней школе. А теперь давайте вспомним кое-что по курсу прошлого года.
Месяца через три получил Иван такое письмецо.
«Иван, теперь у меня обычные ребятишки, работать с ними много легче и спокойнее, и я собираюсь поступать в заочную аспирантуру. Но я часто вспоминаю тех моих учеников и среди них — вас.
Я не такой уж сухарь, как вы могли подумать, и отчасти понимала, что у вас на душе делалось. Скажу вам больше — я иногда думаю о вас с тревогой. У вас хорошее, мужественное лицо, и мне кажется, вы много могли бы в жизни доброго совершить… Не мне вас судить — я вам желаю только счастья и поскорее освободиться.
До свидания, милый Иван.
Г. Д.»Недели две он ходил, как себе не родной. А потом проигрался в карты, что называется, в «полусмерть укатался» и угодил в штрафной на двенадцать суток. Потом работал в зоне в «предбаннике», потом перевели его в тайгу, в рабочую зону, в лес, где он ушел в побег, перечеркнув начисто все отсиженное.
«До свидания, милый Иван».
Через два месяца он уже был в Москве, на знаменитой площади трех вокзалов.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Иван с братом возвращался домой. Улицы были солнечные, Серега шагал рядышком, счастливый, осторожно, как вазу, держал новенький автомат. На переходах он брал отвыкшего от автомобильного движения Ивана за руку, и Иван всякий раз с удовольствием сжимал маленькую, твердую и счастливую руку. И словно от этого прикосновения и ему что-то передавалось, и он тоже шел почти счастливый, почти, может, самой малости ему недоставало до полного счастья. А чего, собственно? Он и не мог сказать толком. Может быть, определенности? Ведь все впереди: устройство на работу, прописка — то, чего Иван всегда не любил и боялся, ибо, как только он соприкасался с государственным порядком, выходило, что он этому порядку как бы поперек. На сей раз, впрочем, Иван решил испить чашу до донышка, помытариться, но устроиться твердо, чего бы это ни стоило. Но кроме этих понятных забот, прежняя неясная тревога и волнение будто перед экзаменом или прыжком с высоты в воду, когда что-то в животе ноющее замирает, — не оставляли его.
Они с братом зашли в пивной ларек. Иван взял Сереге квасу, себе пива. Он выпил две кружки, а мог, казалось, и десять, так не хотелось отрываться от этой толстой кружки с холодной и вязкой пеной, с горьковато-сладким, чуть тягучим пойлом. Когда пил, аж сердце чаще билось от удовольствия.
Сереге же хотелось, чтобы брат понял, в какой хороший город он вернулся, какое здесь все: и пиво, и квас, и улицы, и магазины, и продавщицы, и мороженое, и кофе, и какао, и многое другое, что старший брат и сам поймет, когда обживется. Мальчик смотрел теперь на свой город глазами брата и как бы пил вместе с братом это холодное горькое пиво, и хотя он его терпеть не мог, все равно в м е с т е с б р а т о м пил и чувствовал другой, необычайный замечательный вкус. Мать часто ругалась в последние дни и Сережке проходу не давала, очень она нервничала, и мальчик не понимал почему — то ли боялась, что опоздает к поезду, на котором братан должен приехать, или оттого, что не знает, где его поудобнее положить спать да чем накормить после службы. Но теперь все было нормально, и Серега, как многие другие ребята, тоже имеет старшего, да еще какого, и он не где-то за тридевять земель, а рядом, его можно потрогать, подержать за руку, и хоть он сильный и взрослый и может вколоть любому, если кто нарвется, но при этом он немного как маленький и не знает совершенно этого города и его порядков, и вроде даже машин побаивается, а Серега здесь все знает, не только каждого человека, но и каждую собаку да, пожалуй, и каждую кошку.
— Слушай, братан, а где тут телеграф? — спросил вдруг Иван, и мальчик с готовностью повел его в здание городской почты и телеграфа.
Иван писал телеграмму, а Сергей ходил по залу, разглядывая образцы открыток и телеграмм и воображая, что брат посылает секретную шифрованную телеграмму своему армейскому начальству. Ну, может, и не шифрованную, Сергей знал, что с обычного телеграфа т а к и х не посылают, но уж армейскому начальству — точно. Да, может, и секретную — почему нет, только если написать все как положено, а смысл чтоб был совсем обратный. «Да, секретную», — твердо решил Сергей и аж присвистнул от своей догадки.
Иван между тем корябал казенной ручкой, ржавым пером «рондо» на телеграфном бланке такой текст:
«Николай Александрович сообщаю что все идет нормально и я первый день нахожусь дома если сможете приехать как обещали то жду с приветом до свидания Иван».
Иван перечитал телеграмму. Текст показался ему слишком длинным, но он был не мастер по составлению телеграмм, это, кажется, была первая в его жизни. Перечитав текст, Иван для краткости убрал слово «идет» и «первый день».
Ни к чему в телеграммах подробности.
Домой они пришли к накрытому столу. Чужих сегодня не было, только мать да Вячеслав Павлович. Обедали долго, сытно, вначале без разговоров. Мать, видно, готовилась загодя, и на столе стояло много всякой всячины: и грибы домашнего посола, и студень, и пироги всяких видов — с мясом, с капустой, с яблоками, с картошкой. Ели молча, только Вячеслав Павлович иногда вступал и говорил пространно, но все больше иносказательно. Например, он заметил, что «каждый человек познается не как-нибудь, а именно в своем труде» или же «кто доверяет людям, тому и люди будут доверять».
Иван приучил себя не поддаваться первому впечатлению, а проверять его дальнейшими поступками человека. Но первое впечатление было такое, что отчим, или как там его называть, не ума палата. А первое желание было обхамить его, сказать ему такое, чтобы он быстро уткнулся в тряпочку и не учил Ивана жить.
Но это было хорошо для вчерашнего Ивана. А сегодняшний Иван должен был затаиться и молчать, а если и выступать, то редко и только по делу. А кроме того, была разница между тем, что говорил Вячеслав Павлович, и тем, как он глядел на Ивана. А Иван придавал взглядам не меньшее значение, чем словам.
Так вот глядел этот человек хитро и трезво и когда говорил всякие слова, то как бы сам себя не слушал. Глаза у него были карие, круглые и исключительно проницательные, и, казалось, они стараются попасть Ивану прямо в «десяточку» — в сердце, а может, куда еще поглубже.
Иван улыбался обходительно и показывал всем своим видом: смотри, дорогой товарищ, смотри на здоровье, все открыто, нечего мне от тебя таить, поскольку нечего мне с тобой делить… И поскольку ты мне не слишком нравишься — так же, как и я тебе, — то давай сделаем наше, так сказать, сосуществование мирным. А как только я встану на ноги, то уйду в сторонку на собственную жилплощадь, чтобы не быть помехой в семейной жизни своей матери.
Так думал Иван, и еще он с радостью вспоминал свою прогулку с братом. Насколько легче ему было с мальчиком, чем даже с матерью, хотя брата он знал лишь один день, а мать — всю жизнь.
Мать все эти дни ни секунды не сидела на месте, хлопотала малость преувеличенно, точно хотела загонять себя так, чтобы ни о чем не думать. Ни разу после приезда она не приласкала Ивана, и хотя Иван легко мог обойтись без этого, поскольку привык, но даже и это его чуть-чуть, на самую крохотную толику задело.
Она, впрочем, никогда не была склонна к нежностям. Только однажды, на последнем суде, когда не оставалось уже ни одного шанса на терпимый срок, она зарыдала в зале так, что все примолкли, а прокурор поперхнулся.
Рыдание ее было голое и сухое, как страшный, рвущий грудь кашель, такое, что все слова обвинения и доводы защиты вдруг как бы повисли, потеряв всякий смысл. Ее увели из зала, но она снова появилась минут через пятнадцать, и Ивану, которому на этот раз было в высшей степени все равно, что с ним сделают, потерявшему даже любопытство к будущему сроку, вдруг пришло в голову решение, возможно совершенно безнадежное, но тем не менее единственное, а значит (как много раз у него бывало), правильное, победное. Бежать из суда. Все подготовить, улучить подходящий момент. Времени до окончания суда осталось дня два — не больше. И Иван, забыв обо всем, начал изобретать план.
Такого, кажется, никто до него не делал. Но мало ли что делали или не делали до него!
На следующий день его неожиданно перевели в одиночку. Это был очень плохой признак. Возможно, кто-то из подельщиков донес про побег. Ликанин и Жирный были против этого плана, они хотели получить сравнительно сносный срок и боялись чего другого, а Иван решил рискнуть в последний раз.
Вот тут-то после очередного заседания суда с Иваном перекинулся несколькими словами председатель районного нарсуда Николай Александрович Малин.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
В то лето, когда Иван попался в последний раз, он был в «бегах». Он добрался до Москвы сравнительно легко, добыл себе чужой паспорт. Паспорт украл у студента железнодорожного техникума, с которым вместе ночевал на вокзале, дожидался поезда. Паренек ему понравился, и взяв паспорт, Иван оставил ему записку (чего не делал обычно никогда, поскольку это было чистое пижонство):
«В милицию не беги. Будь человеком. Мне это сейчас очень нужно. Через неделю получишь почтой. Я не какой-нибудь шпион, а нормальный вор. Будь здоров, не чихай, не кашляй».
Легкость была в мозгах и в сердце. И странный план придумал себе Ваня. План тоже насквозь пижонский, рискованный, но в духе того настроения, которое им тогда владело.
Он приезжает в Москву и каким-то образом попадает на прием к Председателю Президиума Верховного Совета. И все выкладывает: от войны до последнего дня, до учительницы Галы. И просит у него не освобождения, а лишь скостить кончик срока — два года, а оставшееся время отбыть не в колонии, а на поселении. Почему он поехал в Москву? В Москве он давно всерьез не «работал», и здешние «менты» его ни разу не брали.
Думал еще Иван найти какого-нибудь писателя, чтобы тот помог ему. Иван слышал, что писатели иногда помогают. Но план планом, а жизнь жизнью. И, прежде чем совершить хотя бы один необдуманный шажок, Иван разыскал в Москве старых друзей: Бовыкина — по кличке «Жирный», Ликанина — по кличке «Грек» и Бабанина — «Боба». Они встретили Ивана с большим уважением, так как делали мелкую работу без плана — «ныряли», а появление Ивана означало: будет План и будет Работа, рисковая, но не кусочная, большая. Когда он рассказал им, что хочет идти в Президиум Верховного Совета, они только заулыбались.
Всезнающий Ликанин заявил ему, что так уже давно никто не делает.
Они сказали ему, что эту бузу надо забыть, что они познакомят его с хлопцами, которые будут на подхвате, что объяснят хлопцам, кто он такой, и те будут его бояться и уважать, так чтобы он это учел тоже, вел себя в рамочках и не обижал ребят.
В Москве была весна, все бурно цвело, асфальт очистился от грязи, хорошо было, и черт с ним — воровать так воровать! Что он умеет на свете? А, гори все огнем синим, лишь бы пожить в Москве, еще хоть полгодика, годик, порадоваться немножко свободной жизни, а там будь что будет…
Первая операция, проведенная им, была такая: в Кузьминках пару вечеров обхаживали сторожа, потом напоили и увели его, вошли в базовый гаражик, напугали там двух человек, выкатили машину «Газ», прикрепили ранее добытые рязанские номера и рванули далеко отсюда — в область, на гастроли. Там почистили два сельмага, немножко покатались по области и, оставив машину, поехали назад, по дороге завернув в профсоюзный дом отдыха, где в кладовой взяли десяток чемоданов.
Все шло хорошо, уверенно, легко, трофеи сами плыли в руки, капелла была довольна новым вожаком.
Но Ивану взбрело в голову увидеть свою учительницу Галину Дмитриевну, жила она в Туле.
Иван сел в поезд, поехал в Тулу. В поезде он не «маршрутничал», хотя рядом сидел какой-то лопух, которого ничего не стоило почистить. Ивану не хотелось. Он был настроен исключительно торжественно.
В портфеле он вез шоколадный набор, бутылку коньяка и женский календарь. Он мог бы чего и посолиднее подарить, но только не знал, что́ таким женщинам дарят.
Прежде чем найти ее дом, он зашел в кафе «Молодежное» на главной улице. Зал был полупуст: время не обеденное и не вечернее. Иван бросил пятак в автомат-«меломан», выкурил сигарету, попил кофейку, послушал музыку — стало ему грустно и хорошо, все показалось нереальным и оттого как бы не с ним происходящим, и это «не он» сидел, курил и даже думал не как настоящий Ванька Лаврухин. «Не он» имел другие манеры, другую профессию. Какую? Над этим Иван не задумывался. Важно, что не т у. Его уважали официанты, и сосед по поезду, и прохожие вообще за то, что смотрел он на людей внимательно, серьезно, понимающе, чуть снисходительно, из-за того, что на лацкане его пиджака висел ромбовидный новенький университетский значок. «Не он» относился к ним очень дружелюбно, как товарищ и даже немножко как брат.
Ваня купил у общительного южного человека букет цветов и отправился по адресу.
Гала жила на окраине в маленьком, видно, ждущем сноса доме.
Открыла Ивану пожилая женщина, с удивлением посмотревшая на галантного пришельца с цветами и портфелем. Она крикнула куда-то в коридор:
— Галя, к тебе!
Оттуда раздался голос, от которого Иван весь внутренне напрягся:
— Пусть заходят!
Иван пошел по коридору, ткнулся в какую-то дверь и там увидел Галу.
Он даже не понял: удивилась ли она или нет. Только помнит, что она побледнела, но тут же, справившись с собой, заговорила как ни в чем не бывало:
— Ваня, как здорово! Поздравляю тебя!
— С чем? — удивленно спросил Иван, но тут же понял и закивал головой: — Да, да, спасибо.
— Как ты быстро освободился! — говорила Гала. — Досрочно… Какой ты молодец!
Теперь все спуталось, она называла его на «ты», те отношения, что были там, не существовали, и даже странно, что эта почти девочка в халате и босоножках казалась ему раньше строгой, недоступной повелительницей, человеком с другой планеты.
Но все-таки что-то и сейчас удерживало его на дистанции от нее, какие-то меры, ограды, зоны были между ними. Собаки не бегали, не звенели цепочками на металлическом, во всю ширину забора пруте, часовые не дежурили на вышках, но все-таки что-то было, что-то разделяло, чего не перешагнешь так, с ходу, и ответное «ты» как-то не выговаривалось.
— Ах, Ваня, Ваня, — улыбаясь, говорила она. — Как все-таки все в жизни интересно складывается…
— Да, очень интересно, — подтвердил Иван, еще не приспособившийся к обстановке, к этой небольшой комнатке (то ли спальня, то ли кабинетик: тахта, и письменный стол, и маленький трельяжик у стены, и книжные полки), к этой новой, в халатике, обрадовавшейся ему Гале.
— Да, интересно, — кивал он и не знал, то ли ему сидеть, то ли стоять, то ли врать, то ли молчать, то ли открывать портфель и доставать коньяк и женский календарь.
В конце концов, он торопливо поставил на письменный стол все, что привез.
И вот уже она вышла из комнаты и хлопочет, собираясь его угощать, а он в комнате один рассматривает фотографии на стене. Он всегда любил рассматривать чужие фотографии на стенах и неизменно завидовал тем, кто на них был изображен, и тому, кому они принадлежали. Вот курортная фотография: группа отдыхающих, среди них Гала и надпись белой вязью: «Сочи, 1959». А вот фотография молодого человека в армейской форме (Иван насторожился, но, рассмотрев, успокоился: скорее всего брат, очень похож). А вот пожилой мужчина с маленькой Галой на руках — отец. А вот футболист Пеле, вырезанный из журнала.
А завидовал Иван оттого, что не отдыхал никогда в Сочи-Мацесте на курорте, что о брате своем только лишь слышал, но не видел никогда, так как родился брат в его отсутствие; оттого, что фотографии отца у него не сохранились, да Иван даже толком не знает, где отца убили, а уж где похоронен, и вовсе не известно… Ну, а футболиста Пеле он мог бы, конечно, вырезать из журнала, да только повесить некуда. Нет у него своей стенки, к которой можно прибить фотографию.
Ни одной стенки, к которой можно прислониться.
Только одна есть стенка… Впрочем, он не такой и даже по всем своим статьям т у д а не подходит. Но кто знает, кто знает, какая ситуация может возникнуть завтра и к чему эта ситуация может человека привести.
— Что, я долго? А вы с дороги не отдохнули. Хотите, наверно, спать? Да? — сказала Гала, входя в комнату, и Иван поднял лицо…
Странно, она опять, как и там, в школе, называла его на «вы».
— Да нет… Это я просто так. Размечтался… — сказал Иван.
— О чем же, позвольте узнать?
— О разном… Если так можно выразиться, о хорошем и разном.
Гала переоделась и снова выглядела почти как там, и к ней как бы вернулось старшинство и превосходство.
Иван меж тем откупорил свой коньяк, и они выпили из непривычно маленьких и неудобных рюмочек… Больше всего Иван боялся, что она начнет говорить о новой жизни, давать различные советы на этот счет и спрашивать у Ивана, как он устроился или как собирается устроиться. Но, к счастью, она не спрашивала. Они выпили две рюмки. Он, как положено, — за нее, за ее здоровье; она, в ответ, — за Ивана, за его счастье. Потом еще одну, просто так, — за «что-нибудь», и вот уже Ивану стало хорошо и почти легко, но о чем с ней говорить, он все-таки не знал. И от этого он вдруг ляпнул:
— Давайте, Гала, куда-нибудь уедем.
— Как то есть?!
— А вот так — сядем на поезд и уедем.
— Куда?
— А какая разница… Туда, где нас нет. В Среднюю Азию, например.
Она задумалась, как бы всерьез обдумывая его предложение, а потом сказала:
— Не надоело, Ваня, вам быть летучим голландцем? Я думала, что сейчас вы наконец перестанете метаться и осядете на месте.
— Про голландца я, Гала, не знаю… Это мы не проходили. А оседал я уж столько раз, что осадок на всю жизнь остался. — Он улыбнулся, ему понравилась эта неожиданная игра слов. — А теперь хочу в теплые края, что и вам предлагаю.
— Несерьезный вы человек, Лаврухин, — вздохнула Гала и поглядела на Ивана долгим и, ему показалось, добрым, правда, чуть-чуть с горчинкой взглядом.
— Это почему же? Кто со мной по-серьезному, с тем и я так же.
Хорошо было Ивану сидеть в этой комнате с книжными полками, фотографиями на стенках, около своей учительницы, рядышком, коленка в коленку, с той самой, что еще недавно была так далеко от него, как тропическое растение в ботаническом саду, на которое можно глядеть, но даже и потрогать нельзя… А до Галы он мог дотронуться, он мог ее взять за руку, он мог ее даже поцеловать… Хотелось ли ему этого? Конечно! Но он боялся ее обидеть или оскорбить. К тому же ему было и так хорошо, а зачем что-то менять, когда хорошо, зачем? Когда вокруг столько плохого, разрушать хорошее во имя чего-то еще неизвестного? Зачем? Вот так просто сидеть и молчать. Да и к тому же слушать музыку по проигрывателю — «Арабское танго». «За все тебе спасибо, за то, что мир прекрасен, за то, что ты красивый и взгляд твой чист и ясен».
Голос такой расслабленный, сладкий, немного блеющий и, очевидно, врущий; да и мир не так уж прекрасен и благодарить некого, но все-таки: за все тебе спасибо.
— Что вы там шепчете? — говорит она и дотрагивается до его волос, гладит его по затылку, как ребенка.
— Да так, ничего, — бормочет Иван, берет ее руку и прижимает к губам, теплую, женскую, чужую, принадлежащую только ему, пусть хоть на эту секунду руку.
«За все тебе спасибо…»
И в этот момент возникающего счастья раздается звонок и крик Галиной матери, точно такой же возглас, как и час назад: «Галя, к тебе пришли!»
Гала отпрянула от Ивана, Иван напрягся, как летчик, готовый катапультироваться, мгновенно вылететь, пробив стекла и стены головой, — на свободу, в простор, в космос…
Вошел рослый молодой человек в шляпе, строгого научного и одновременно спортивного вида, несколько удивленный, но не подающий виду. Вот он снимает шляпу и кладет ее на полку привычным, как отмечает Иван, движением, и голова его вдруг оказывается лысой в середине, как гладкое озеро, обсаженное кустами, и вся спортивность тут же исчезает, уступив место все более возрастающей научности.
— Вот так шел и завернул на огонек, — говорит он. — Думал пригласить вас в кино, но вы, кажется, заняты.
— Садитесь, садитесь, — говорит Гала, — и знакомьтесь: Юрий Григорьевич, а это Иван… — Она замялась, не зная отчества. — Иван Лаврухин.
— Зовите меня просто Степа, — говорит Иван. — Для краткости и удобства.
— То есть? — поднял брови Юрий Григорьевич.
— Это он шутит, не обращайте внимания, садитесь, берите рюмку, — говорит Гала.
— Значит, кино отпадает?
— Значит, так…
— А может, пойдем все вместе, и ваш приятель… Степа тоже примет участие? Вы видели… — он обратился к Ивану, — венгерскую комедию «Ангел в отпуске»?
— Нет, я в кино хожу редко, — сказал Иван. — Только в банные дни.
— Понятно, — сказал лысый и сел, как показалось Ивану, прочно и надолго. Хуже всего было то, что он не обижался.
— Юра, Иван, кофе хотите? — сказала Гала радушным и удивительно неприятным Ивану голосом.
Иван не ответил, а Юра (Ивану особенно не понравилось, что она назвала его «Юра») ответил таким же радушным светским тоном:
— Отчего же… можно.
Она ушла, и они остались вдвоем. Иван молчал. Юра — тоже. Ивану легко было молчать: он привык молчать наедине с чужими; Юра же чувствовал себя неловко и взял толстую книгу с полки, чтобы быть при деле. Вошла Гала с подносом и маленькими чашечками с кофе.
— Угощайтесь, угощайтесь… Ваня, чего ж вы не берете?
— Я кофе не пью, — сказал Иван.
— Товарищ, как видно, страдает бессонницей: на ночь не пьет, — сказал Юра.
Иван не удостоил его жалкий юмор ответом. «Этот лысый фраер будет здесь торчать весь вечер, — думал Иван. — Любовник он ей, что ли?»
Гала была уже далеко от него, чужая, с искусственным голосом гостеприимной хозяйки… Этот парень испортил все…
Конечно, Иван мог пересидеть его. Он таких троих мог пересидеть, но только зачем? Все равно Иван уйдет, а парень останется. К тому же, судя по всему, он здесь с в о й парень. А Иван здесь — тень нуля. Значит, надо сматываться, пока не поздно, пока чего не выкинул на нервной почве… Надо освободить помещение.
Иван, не разбирающийся в этикете, выпил один, сам по себе, рюмку на посошок и встал.
— Вы куда, Ваня? — спросила Гала. Лицо ее чуть побледнело, когда он поднялся.
— Пора. Дела ждут, — сказал Иван и пошел к выходу, слегка кивнув Юре.
— Погодите. Я вас немного провожу. Вы же тут ничего не знаете…
Она оделась и вышла вместе с ним на улицу. Они молча хлюпали по весенним лужам, подернутым вечерней студенистой коркой.
— Что же вы так, Ваня?.. Вдруг сорвались… Вам что-то не понравилось у меня?
— Все понравилось.
— Конечно, хотелось с вами поговорить… Но я же не знала…
— Откуда ж знать? — сказал Иван.
— А это зашел Юра, он преподает у нас в школе химию… Можно сказать, коллега, — неожиданно принялась объяснять она, и Ивана удивил и даже тронул ее как бы оправдывающийся тон. Но он не показал виду.
— Химичит, значит, — хмуро сказал Иван.
— Что-то мне не нравится ваше настроение, Ваня, — тихо и участливо сказала она.
Участливость ее раздражала Ивана, так же как и радушный, гостеприимный тон там, дома. И он сказал:
— Мало ли что кому не нравится, на всех не угодишь.
— А где сейчас ваш дом? — осторожно спросила Гала.
— У меня их много, сам запутался.
— Ваня, — сказала она, — за что вы так… меня? Разве я в чем-нибудь виновата?
Опять она была такая же, как до прихода этого Юры, у нее был такой же, чуть растерянный голос, и вновь Ивану захотелось прижать ее к себе и ничего не говорить. А потом увести ее с собой. Только куда?
— Гала, какой там дом? Это все детский смех… Я здесь, можно сказать, проездом. А теперь пора назад.
— Куда? — спросила Гала с тревогой.
Но он не ответил.
Он молча обнял ее, стал целовать лицо, рот, обмирая от ее тепла, от вкуса ее губ и кожи, от ее странной покорности, от какого-то глубокого, горького чувства, никогда еще не испытанного и ранящего, такого, что сердце, казалось, текло из него… Хотелось вот так умереть или лечь на мостовой и застонать, завыть от короткого счастья, от дикости жизни.
— Люблю тебя, Гала… Потому и приехал.
— Да что ты, Ваня… Что с тобой сегодня! Ведь нельзя так. Ведь пора уже мне домой, — говорила она, но не отворачивалась, не уходила.
Он не ответил. Уже почти не владея собой, пьянея, ловил ее ускользающие губы.
— Что ты, что ты, Ваня. Нельзя… Здесь же улица. Здесь все меня знают… Лучше ты снова ко мне приедешь. Уходи, Иван, милый!
— «Милый Иван», — сказал он, трезвея вдруг. — Ты так в записке написала. Ты бежала, переменила школу, и все, привет, Шишкин! А милый Иван пусть там загибается один. Эх, Гала, Гала, добрая душа, иди уж домой. Там крепко ожидают.
— Ты зачем все это говоришь, Иван? — прошептала она и посмотрела на него с холодком. — Прости, Иван… Я не привыкла к упрекам. Да и почему ты крученый такой, верченый! Ты же ведь сейчас не там, а на свободе… И никто тебя не гонит… ты сам ушел. А если захочешь поговорить всерьез, найдешь время — приедешь снова.
Тепло, блаженство и боль оставили его. Он протрезвел окончательно и решил, что пора уходить, уходить отсюда навсегда и нечего играть в прятки, все равно у них ничего быть не может и не будет — так, как ему бы хотелось, а значит, и не надо втравливать ее в эту игру.
— Спасибо, как говорится, за приглашение. Но только я не приеду. У меня не будет такой возможности.
— Это почему ж? Что, ты так занят?
— Да, занят, — жестко сказал он. И, помолчав секунду, спокойно добавил: — Я не освободился, Гала. Я ушел. Я в бегах, понимаешь?
— Что? — Она скорее выдохнула это, чем спросила.
— А вот то самое, которое…
Он опять почувствовал волнение и хотел что-то еще добавить, что-то серьезное и важное для них обоих, но не нашел слов и тихо пробормотал:
— Вот и вся, Гала, моя побывочка.
Она стояла, опустив руки, не глядя на него, и он не понимал, плачет она или просто молчит.
Он повернулся и пошел. Пошел, а потом побежал. Ему показалось, что и она бежит за ним, что она окликает его: «Подожди, Иван!» Но он не остановился, не подождал, а мчал, как заведенный, галопом до самого вокзала.
В вокзальном ресторане он взял бутылку водки и распил ее на двоих с каким-то ханыгой.
Когда он ехал в ночном поезде, то все старался припомнить, действительно ли она догоняла и окликнула: «Подожди, Иван!» — или это только ему показалось. Он все вспоминал и вспоминал, будто это и впрямь было для него важно, и никак не мог окончательно решить: догоняла или нет.
А может, даже и нет. Скорей всего, нет, — и верно, когда он повернулся и побежал, она даже вздохнула с облегчением… «Милый Иван»… Очень может быть, что именно вздохнула с облегчением.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Вначале все шло как по маслу и было полно краденого. Потом в их капелле, как это часто бывает, начались трения — каждый хотел урвать себе побольше. Иван мог бы все это пресечь, мог бы и осадить дармовщиков, но ему не хотелось с ними собачиться. Эти люди ему не нравились. Вначале он думал, что с ними можно будет работать, но вскоре убедился, что любят они только ширмачить по мелочам, а интересное, рисковое, со смыслом, дело их не интересует. Ему надоели их бесконечные ссоры, постоянное кусочничество, постоянная привычка пить за чужой счет. Никогда с такой шушерой он еще не ходил, а может, прежде не очень приглядывался.
Нигде так не развит подхалимаж, как у блатных, ни перед одним начальством не лебезят так, как перед вожаком, и нигде так не хотят его свалить (с безопасностью для себя). Иван решил бросить всю эту капеллу и рвануть на юг, в Молдавию… Там у него были хорошие дружки. Но прежде надо было кое-чем набить карманы.
Прежняя легкость, удачливость, уверенность сменились теперь тяжестью и тревогой. Хуже всего было то, что само дело почти не увлекало теперь Ивана. То ли он потерял азарт, то ли почувствовал себя старым. Старым и слишком много повидавшим, чтобы вот так вертеться из-за кучки денег и барахла. Вся эта суетня и операции, разработанные им, стали казаться какой-то привычной и надоевшей детской игрой, из которой он порядочно вырос. Что он умеет? Кто он?
Вопросы, загнанные внутрь колонией, режимом, работой, учебой, вдруг вылезли наружу. Для чего же он надсаживал душу, занимаясь там в школе, — для Галы, что ли?! Нет, не только для нее. Он смутно чувствовал, что наступит час, когда старое ремесло обрыднет до ненависти. И сейчас порой он ругал себя последними словами за то, что ушел в побег, лучше б досидел «до звонка» и вышел бы, как человек. «А впрочем, — говорил он себе, — все равно, как человек я уже никогда не буду. Уже, наверное, и не вылезешь никогда, слишком глубоко залез в болото, теперь только самосвалом вытащишь. А самосвалы сваливают сами на землю без пощады и ломают человека, как сохлое дерево. Уж лучше ни о чем не думать. Самое сложное — научиться ни о чем не думать».
Однажды девица из их компании по кличке «Машка-татарка», которая все время вертелась на площади трех вокзалов, прибежала к нему и сказала:
— Какой-то чудной командировочный, видно, с башлями, прет на меня буром.
— Так что ты зенки таращишь, веди его в Сокольники, в шашлычную, а мы придем.
Через полчаса все были в Сокольниках и наблюдали, как Машка в стеклянной шашлычной умело спаивала приземистого мужичка. Потом она повела его в зону отдыха, и примерно через час, когда милиционеры прочесали массив, Иван с тремя хлопцами вышли на полянку.
Машка с мужиком сидели на траве в укромном месте, хорошо известном Ивану и его друзьям. Машка кудахтала и хохотала, а мужичок что-то оживленно лепетал ей на ухо.
— Все в елочку! — воскликнул Ликанин, вышел из засады и заорал не своим голосом: — Вставайте, гражданин! Здесь не положено после двенадцати!
— А вы кто такие? — щуря и без того узкие, недоумевающие глаза, ничего не соображая, весь еще в плену ухаживаний, смеха, недосказанных анекдотов, растерянно, стараясь не казаться напуганным и пьяным, сказал человек.
— Мы из обехеэса! — захохотал Ликанин, который никогда не переходил к делу сразу, который обожал тянуть и издеваться.
— Не бери на характер. Давай быстренько, — крикнул на него Иван.
Человек приподнялся, и трое кинулись на него. Двое заломили руки, третий снял пиджак, сразу вытащил и кинул Ивану, стоящему в стороне, бумаги, мелочь — все, что было в нижних и боковых карманах. Потом этот третий полез в брючный карман.
— Что вы делаете, товарищи? Я из области, в командировке, зачем вы это делаете?!
Ивана аж передернуло от этого жалкого, молящего «товарищи», и он сказал:
— Не голоси, молчи в тряпку. Тогда живым уйдешь.
Иван знал, что надо обещать жизнь, надо, чтобы у человека была уверенность хотя бы в этом, и тогда он отдаст все легко, сам и без крика.
Хлопцы сняли с мужика пиджак и рубашку, почти предупредительно, как швейцары, помогающие раздеться. Но Иван видел, заводясь, они стали снимать с него ботинки и брюки.
— Все оставить, — крикнул Иван. — Окно[1] посмотрите получше, лопухи!
Ребята, осмотрев «окно», деловито снимали часы.
— Вроде рыжие, — сказал Ликанин, рассматривая часы.
— Потом разберешься, — сказал Иван.
Мужичок зашевелился и заплакал.
— Сиди не двигайся. — Ликанин ударил его ногой. Ему хотелось, как видно, избить этого сидящего на земле, раздетого, в одной нижней рубашке мужчину. Но Иван зашипел на него:
— Грабки свои убери. Пригодятся еще.
— А ведь он оклемается и поканает, как миленький, в отделение, — сказал Ликанин.
— Не поканает… Пока он тут найдет… — Иван подошел поближе. — Ты сиди, мужик, тихо, — наставительно и строго, как ребенку, сказал Иван. — Ты живой, здоровый, брюки я тебе оставил, сиди, не трепыхайся!
Человек кивнул. Он, видно, сейчас плохо соображал, что к чему. Иван заметил, что он сидит в одних носках, поджав под себя ноги.
— Верните ему, крохоборы, корки эти грошовые. Их ни один барыга не возьмет.
«Жирный» с неохотой кинул ботинки сидящему. Сначала один, затем второй, норовя попасть в него…
Теперь надо было быстро уходить. Они кратчайшим ходом вышли к ограде, перескочили, прошли переулок, зашли в темный подъезд, осмотрели бумажник. Там было двести семьдесят рублей. Иван достал из кармана пиджака удостоверение в синей коленкоровой обложке: «Силкин — начальник цеха молочного завода».
Работа была грязная, противная. Иван не любил иметь дело с людьми. Он предпочитал чистить кассы, грабить магазины. Там было больше денег и меньше слез.
…Дня через три Иван стоял в одном из арбатских переулков, от нечего делать грел на солнышке затылок и читал объявления. «Требуется домработница к ребенку семи лет». «Требуется репетитор для подготовки в вуз технического профиля». «Требуются слесаря-сантехники».
«Хорошая работа, да только не для меня, — думал Иван, — разве что репетитором». Впрочем, внизу на доске Иван заметил: «Требуется слесарь-электромонтажник для работы в СУ-3».
На электромонтаже Иван одно время работал, когда проводили линию в тайге, лазал Иван в этих самых когтях на столбы, один раз чуть даже не свалился.
«А что, это я мог бы, наверное», — подумал Иван, с одной стороны, не без гордости, с другой — с сознанием полной нереальности всего этого для него… Куда он мог сейчас податься?
И все-таки он стоял, не отходил от витрины.
— Работу ищете? — спросили его сзади.
И он вполоборота скосил глаз на говорившего.
Говоривший был рослый парень в плаще-болонье не по погоде.
«На кого-то он похож… На кого же? На кого же?..» — лихорадочно перебирал Иван, сравнивая это широкое, как бы равнодушное лицо с другими лицами, которые время от времени в том или ином месте выплывали в его жизни.
И прежде чем к этому, как бы равнодушно ждущему ответа человеку подошли еще двое почти таких же рослых, в плащах-болоньях, в серых кепках, Иван узнал и понял, кто это.
Он круто повернулся и побежал, затем нырнул в первый проходной подъезд, но в проходном его встретили еще двое — таких же.
«Да они тут все оцепили. Их тут взвод, не меньше», — с острой тоской подумал Иван. Он тут же полез в карман, хотя там не было ничего, кроме бумажника этого командированного из области, но полез с таким видом, будто там было к о е-ч т о.
— А ну, Лаврухин, не баловать! Руки, Лаврухин, руки!
Не убежать и не уползти, не взлететь на небо, не провалиться сквозь землю, не выстрелить и не застрелиться, не устроиться на работу по объявлению, не кончить ее и не начать.
— Давайте, Лаврухин, спокойненько, по-хорошему. Это все бесполезно, нас тут много.
И уже в машине, по рации — куда-то, еще одному такому же, своему, в болонье:
— Третий, Третий, говорит Седьмой, Третий свободен. «Лавр» — взят, «Лавр» — взят.
Взят!
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Секретарша расписалась за телеграмму и, открыв одну за другой две двери, обитые дерматином под кожу, вошла в кабинет.
— Телеграмма вам, Николай Александрович.
Судья Малин сказал:
— Давайте.
И она почувствовала машинальность в его интонации. Он механически распечатал, механически пробежал глазами.
Текст телеграммы был такой:
«Николай Александрович сообщаю что все нормально и я нахожусь дома если сможете приехать как обещали то жду с приветом до свидания Иван».
В первое мгновение Малин даже не понял, в чем дело, какой Иван. Все, что было с этой телеграммой связано, было отодвинуто куда-то вдаль, а точнее сказать, не вдаль, а глубоко внутрь, в тот внутренний полузаглохший слой переживаний, воспоминаний, что живет в нас как бы в полузабытьи, затаясь… Но и секунды хватило, чтобы Николай Александрович все вспомнил… «Вот и пришел Ванькин час», — подумал он, и нутро его согрелось теплом, будто он тихо и счастливо пригрелся где-нибудь у речки на весеннем солнце. Этот самый Ванькин час был отчасти и его часом, но грянул он как-то больно, неожиданно, как все, чего ждешь долго… И потому Малин еще не был подготовлен к этому и не знал, что дальше делать.
А делать можно было только лишь одно — без промедления ехать к Ивану. Раньше он и сделал бы это сразу же, без колебаний, едва получив телеграмму. Теперь такая поездка представлялась мероприятием не простым, довольно громоздким, которое надо было обдумать, подготовить и решить… Даром, что ли, Николай Александрович неделю назад отметил свою пятьдесят третью годовщину?
И он дал себе небольшую отсрочку на решение, скажем, до конца рабочего дня… А сейчас рабочий день только начинается.
Но уже был разговор — и разговор важный. И не только важный, но и неприятный, трудный для судьи Малина — секретарша за пять лет достаточно изучила своего начальника, председателя нарсуда, и знала, что, когда он сидит вот так пряменько, подобранно, с чуть побледневшими скулами, когда говорит вот так тихо и раздельно, как бы безличным, без всякого нажима, голосом, — значит, разговор нехороший.
Она узнала и того, кто сидел напротив Малина, хотя видела его в первый раз. Он пришел не в приемное время, рано утром, и сидел, видимо, уже долго.
А разговор между тем не начинался. Впрочем, Николай Александрович и его собеседник помаленьку говорили, да только не на ту тему. Говорили они поначалу о летнем отдыхе, об отпусках, кто куда поедет, потом о детях, поговорили немного и о футболе, о любимой своей команде «Динамо», о том, что в этом году она, может быть… наконец… тьфу, тьфу, чтоб не сглазить…
Темы были нейтральные и даже вполне светские, однако чутье секретаршу не обмануло: Николай Александрович весь внутренне подобрался и, говоря ни к чему не обязывающие вещи, думал о другом, о том разговоре, к которому рано или поздно надо было переходить, иначе зачем в его кабинете этот человек?
Человек этот еще с юности был знаком Николаю Александровичу, как и многим другим людям в стране: когда-то Николай Александрович встречал его на Садовом кольце и смотрел в толпе сквозь сотни голов, когда мелькнет в открытой, блестящей лаком машине загорелое, с резким профилем лицо летчика, неоднократно совершавшего сложнейшие испытательные полеты на новых машинах, в том числе и на тех, что сейчас стали музейными, а в тридцатые годы будоражили умы и воображение необычностью и дерзкой новизной.
И лицо это, которое потом встречал он и в газетах и кинохронике, а после войны и на телеэкране, воспринималось как очень знакомое, может быть, даже как лицо родственника или давнего приятеля, как что-то принадлежащее и его собственной биографии и судьбе… Оно вроде бы и не старело и не менялось, а может, изменения бросились бы в глаза тому, кто не так привычно и даже родственно его воспринимал.
Ведь известно, что близкие знакомые или родные меньше замечают перемены у рядом живущих. К тому же этот порядком немолодой уже человек выглядел отлично, и, как это ни странно, с возрастом лицо его стало интереснее, так как раньше оно бросалось в глаза резким очерком профиля, голубыми глазами, постоянным загаром, но, если приглядеться, было простовато, а теперь же, с годами, с различными жизненными перипетиями и переживаниями приобрело новые черты — большей интеллигентности, что ли…
И в последние годы этот человек не раз удивлял многих своей зрелой, спокойной отвагой, заключавшей в себе теперь уже не только порыв и непризнание смерти, но и опыт и профессиональное мастерство… Когда-то он легко и юношески бездумно презирал смерть и опасность. Теперь он относился ко всему этому иначе, с годами больше дорожа жизнью, чем прежде. Это не значит, что он стал трусливее, просто понял немудреную истину: тщательность порой спасает от гибели. Вот эта тщательность и помогла ему обманывать, переигрывать, на одно мгновение опережать смерть.
В последние годы Николай Александрович лично познакомился с летчиком: они регулярно встречались на районных партактивах, на торжественных собраниях в ноябрьские и майские дни, нередко сидели вместе в президиуме, чувствуя обоюдную симпатию и приязнь. Обменивались вполголоса краткими репликами почти всегда с полным пониманием друг друга, с близостью в оценках того или иного выступавшего, а это очень важно, чтобы в официальной и несколько напряженной обстановке президиума сидел человек, с которым можно доверчиво и легко перемолвиться, а то и просто переглянуться.
Николай Александрович тонко чувствовал, как к нему относятся люди, испытанный, профессиональный локатор его редко ошибался, и при встречах с летчиком он неизменно фиксировал, что голубые, холодные глаза летчика теплеют и улыбаются с той особой, искренней доброжелательностью, что бывает у людей, не часто видящихся, друг от друга не зависящих и в чем-то друг на друга (по крайней мере в их представлении) похожих.
Но сегодня странная ситуация столкнула их в этом кабинете, ситуация повседневная для Малина и единственная в своем роде для летчика — бывшая для одного вопросом службы и профессии, а для другого — вопросом жизни и смерти. Ну, может, «смерть» и сильно сказано, но вопросом глубоко личным и необыкновенно важным, от которого многое в будущем зависело, — это уж наверняка.
Надо сказать, что Малин дела такого рода терпеть не мог и не по своей воле он вынужден был объясняться с летчиком. Малин давно пришел к выводу, что эти дела в подавляющем большинстве своем не должны рассматриваться и решаться в суде, что закон здесь в ряде случаев бессилен. Ему казалось, что вторжение посторонних людей в эту сферу, никому до конца не понятную, чаще всего бесполезно, а порой и безнравственно. Конечно, не в тех случаях, когда попирались нормы права или морали.
Бракоразводные дела граждан.
Профессия приучила его «мирить» чужих и даже ненавидящих друг друга людей, задавать им порой самые интимные вопросы. Приучила, но не убедила в необходимости этого. И он делал это, не глядя в глаза людям, настолько бесстрастно, почти механически, что они воспринимали его как особого рода рентген, который просвечивает «для порядка». Не для здоровья, а для справки.
У Николая Александровича была странная и мешающая ему в ряде дел привычка: ставить себя в положение тех, кто пришел к нему. Вот и его просвечивают таким же образом, его интимную жизнь тщательно изучают, ему советуют, как дальше быть и жить, и его передергивало от одной мысли об этом. Он надеялся, что когда-нибудь это изменится, но, видно, не сейчас, потому что все-таки были еще люди, которые сами напрашивались на то, чтоб кто-то третий решал, изменял или устраивал их жизнь. А значит, ему надо было делать то, что положено… И сейчас ему положено было улаживать или даже в известном смысле решать семейные дела летчика…
История эта была не нова для Малина, да и вообще не нова. Если она и была нова для кого-нибудь, то только лишь для тех, кто принимал в ней непосредственное участие. Летчик ушел из дому, оставив жену и уже взрослых детей, ушел к молодой женщине, впрочем, тоже матери. Жена летчика, однако, не согласилась с таким неожиданным жизненным поворотом и обратилась в ту организацию, где служил муж, с призывом и требованием «призвать его к порядку». С ним действительно поговорили, вежливо и тактично, посоветовали не поддаваться эмоциям и, если возможно, вернуться и сохранить семью. Он отказался, ссылаясь на любовь…
Люди, работавшие с ним, знали его не первый день и не первый год и понимали отчетливо, что если он решил — увещевать и уговаривать его дальше бесполезно. «Ну, что ж, — сказали ему в соответствующем месте и пожали плечами, — раз так, то оформляйте все законным путем». Он подал на развод. И вот тут жена его не только решительно воспротивилась этому, не только не дала развода, но развила невероятную активность во всех районных организациях… Немало телефонных разговоров с разными людьми имел по этому поводу Малин.
Была она и у Николая Александровича.
Он еще и перед разговором знал, кажется, все возможные ее доводы: как же так… тридцать лет вместе, дом, дети — и вдруг… какая-то…
— Сколько лет вашим детям? — спросил Николай Александрович.
— Мальчику двадцать пять, девочке семнадцать… Самый трудный, переходный возраст.
— Ну, не такой уж и переходный, — сказал Николай Александрович. — Уже взрослые. Да и потом, ведь он, насколько я знаю, не отказывается от родительских обязательств.
Это подлило только масла в огонь.
— Ах, так… Вы что же, все сговорились?! Только я так просто не отступлюсь, черта с два он получит развод! Если надо, я пойду и повыше!
— Куда же? — спросил Малин.
— Найдем, — сказала женщина.
— Если только к самому господу, — усмехнулся Малин.
— Вам смешно, — с тихой яростью сказала женщина. — Но ему не будет смешно. Я надеюсь, он забудет надолго, что такое смех.
Ненависть клокотала в ней, как пар в котле, готовый вырваться и обжечь, ошпарить все, что находится рядом…
Было странно, что речь идет о человеке, с которым она растила детей и прожила около тридцати лет.
— Вот вы хотите вернуть мужа, — тихо сказал Малин. — Ну, а вы не думаете, что после такого, ну… скажем… давления извне вернуться к прежней жизни будет трудно, если не невозможно?
— Ну и пусть, — тихо сказала женщина… — Что же вы хотите, чтобы я щеки подставляла: ударил справа — на левую… лупи… Нет уж!
— Ну ладно. Вызову, договорю, — сказал Малин, давая понять, что прием окончен.
Но она не уходила. Она молча сидела, как бы собираясь с мыслями, чтобы высказать главный свой довод.
Но так и не собралась. И, кивнув Малину, поднялась с места.
Выражение ярости, молодившее ее лицо, незаметно ушло, и лицо вдруг потускнело, выражая лишь безмерную усталость.
Видно было, как быстро за последние два-три месяца она проделала тот путь, который женщины всячески стараются удлинить, которому так искусно противятся, — путь от немолодости к старости, от женщины к старухе.
Она взяла граненый стакан, стоящий на столе у Малина, налила из казенного высокого графина воды, попила и вдруг сказала, чуть улыбнувшись:
— А помните, как вы заезжали к нам на Первое мая?.. Да, лет пять назад это было. — Она вдруг подалась вперед и сказала с мольбой: — Поговорите с ним… Ведь столько всего… Как же можно?..
Она сделала глотательное движение, Малин взял стакан, поднялся с места, но она справилась с собой и ушла достойным, твердым шагом, чуть поклонившись Малину напоследок.
А теперь перед ним сидел летчик.
Уже обо всем, казалось, поговорили: и о детях, и об отпуске, и о футболе, бесконечно оттягивая разговор, необходимость которого в разной степени угнетала обоих. Наконец Малин начал. Ему по должности было положено начинать.
— Так что же будем делать, Виктор Иванович?
— Это в каком смысле? — сказал летчик.
— Ну, в том самом… в смысле возвращения домой, — сказал Малин, сам чувствуя неуклюжую фальшь этих слов.
— Это отчего же я должен возвращаться? — сказал летчик.
— Виктор Иванович, я не хочу ни уговаривать, ни советовать. Но после разговора с вашей женой я понял: развода она не даст ни за что.
— Буду жить так… На черта мне эта бумажка…
— Вам т а к жить нельзя. У вас должна быть официальная определенность.
— Что вы предлагаете в таком случае?..
— Если бы я мог что-нибудь предложить… Но тут есть только два варианта. Или возвращение, или, если это невозможно, вы сами берете огонь на себя… Уж не знаю как, но находите средства, чтобы убедить ее дать развод.
— Дорогой Николай Александрович, первое неприемлемо. Я не в том возрасте, когда решение принимают после поступков. Я лично это делаю д о. Я сначала решил, а потом ушел… Никакого возвращения не будет н и к о г д а. Что же касается второго вашего предложения, то и оно вряд ли возможно. Прожив с человеком тридцать лет, все же не знаешь его до конца. Когда я ушел после долгих и не больно веселых размышлений, ушел, все оставив и сказав ей правду, я ожидал всего: горя, обиды, боли. Я не ожидал только одного: писем в парторганизацию. И поверьте, как это ни странно, стало легче, намного легче, ей-богу. Трагедия обернулась фарсом. Вы понимаете, что это такое?
Малин кивнул. Он понимал. Он видел это ежедневно.
Но рядом с этим, таким убийственным в своей очевидности, существовало как бы отдельно постаревшее женское лицо с застывшим выражением растерянности, именно растерянности, внезапной и непроходящей, почти шоковой… Растерянности, которая требует действия… А какого и зачем, этого растерянность не знает…
— Ваша жена не показалась мне таким зловредным и мелким человеком, — сказал Малин. — Просто она потеряла ориентировку.
Летчик не ответил, но глаза его похолодели, а лицо ожесточилось, напряглось. Видно, немало он натерпелся от этой женщины в последние месяцы…
«Что ж, за все радости приходится платить… — подумал Малин. — Впрочем, какой ценой?»
Малину было знакомо это выражение отчужденности и неприязни. Он видел такие лица каждый день.
И оттого, что у летчика стало вдруг т а к о е лицо, Малину сделалось вдруг тускло и тоскливо. «Да, какой ценой», — подумал он еще раз, и мысль эта связалась вдруг с возвращением Ивана Лаврухина, с теми годами, что заплатил Иван за недолгую радость своей свободы.
— Развод, конечно, мне нужен, — говорил летчик. — Он нужен моему начальству, дабы я не выглядел в их глазах старым беспутным козлом, и он нужен моей новой жене. Она ни в чем не виновата, кроме того, что любит меня. И ничего не требует. В этой ситуации ей нужна ясность. Но она у меня терпеливая… Так что мы оба с ней подождем.
Он встал и протянул Малину руку. Малину стало вдруг больно, что вот так они вынуждены проститься.
И Малин сказал, неожиданно для самого себя обратившись к летчику на «ты»:
— Виктор Иванович, ты знаешь, чего я хочу?
Летчик не ответил, выжидательно глядя на Малина.
— Я хочу одного: чтобы все уладилось… Но только так ведь не бывает, когда рушится… Тут, как на качелях один вверх взлетает, парит, другой камнем пошел вниз. Что ж тут посоветуешь, Виктор Иванович?
— А я посоветую не вам лично, Николай Александрович, а вообще суду… не лезть в такие вещи, не трогать этого, незачем. Судите воров, мошенников, хулиганов… Мало ли у вас работы? А сюда зачем же?
— Я согласен с вами, — сказал Малин. — Можно сказать, полностью согласен и не раз заявлял, как говорится, во всеуслышание. Но только вот какая хитрость: жена ваша, да и не только она, идет с этим к нам и у нас просит помощи… Выходит, так просто не отмахнешься.
— Очень может быть, — сказал летчик, видно не желая свою частную проблему видеть на общем фоне. — Это уж вам виднее.
Он кивнул и вышел. Человеческой концовки не получилось.
Малин пожевал «беломорину», не закуривая, поморщился. Взял телефонную трубку, набрал номер, чтобы перебить смутное, безрадостное ощущение звонком, делом.
Вошла секретарша, спросила:
— Будем начинать прием?
Малин мотнул головой: мол подожди минутку.
Это все не впервой было. Люди не терпят вмешательства… Даже самого осторожного. Как бы, интересно, заговорил летчик, если бы его вызвал не Малин, а какой-нибудь дуболом… Верно, не стал бы разговаривать. Ну, а не стал бы — вызвали бы еще раз… А если подумать, зачем он от нее ушел? Ведь все, как говорится, в конце концов одно и то же. Пойдет быт, семейная текучка, и все, что было у них вначале, пойдет прахом… А может, и нет? Человек не знает того, что сам не испытал. Многое испытал Малин, но не это. Один раз было уже совсем собрался, что называется, навострил лыжи, уже приготовился сказать жене, уже примерялся к новой жизни, да не смог.
Ближайший его друг, свидетель всех житейских бурь с малолетства по сей день, говорил ему: «Странный ты мужик, Коля, в сложнейших ситуациях держался безукоризненно, бесстрашно… Фронт прошел и окружение. Что же ты, милый, маешься в личной жизни, не можешь один раз решиться?.. Ведь жизнь-то твоя коротенькая — одна, что же ты, все прикидки делаешь?»
Оба они в тот вечер захмелели, приятель — возбужденно, он — мрачно и тяжело. И он кивал головой и соглашался с другом, соглашался с его приговором.
Он был влюблен тогда, но это не делало его счастливым, ему было только хуже. Он отлично знал, что ничего не выйдет, что он не уйдет, хотя дома давно и бесповоротно все сложилось не так. И этого уже не преодолеть, не разрушить, не начать сначала. А чего не преодолеть? Жалости, а может быть, проще… инерции. Друг был вежлив с ним, оберегал: «Нерешительный ты, Коля…» Какое уж нерешительный! Сам себе он мог бы сказать и покрепче…
Только недавно, обдумывая все это уже ушедшее, уже ничем не грозящее прошлое, он понял, что не в том дело, что был он нерешителен. Он был бы и решителен, если бы только р е ш и л. Тут был другой диагноз. У него, пожалуй, было слишком развито чувство ответственности. К самому решению относился слишком ответственно, стараясь максимально не задеть всех, кто от него зависел: и жену, и приемного сына, и ту женщину… Слишком тяжеловесно он относился к этому самому единственному, последнему решению. Слишком всерьез, никогда не умея позволить себе шага в никуда, в счастье, в неожиданность, в безответственность, бездумного и, может быть, рокового, а может быть, единственно нужного шага.
Не от хорошей жизни возникали перед ним такие проблемы. Не от самой счастливой, цельной, слаженной, одухотворенной, общей семейной жизни…
Когда летчик сказал: «Возвращения не будет никогда!» — Малин ему позавидовал. Раз уйдя, он сам бы уже, наверно, не вернулся к прежнему, но он не мог бы сказать заранее с такой выверенной, железной легкостью, с такой беспросветной, не знающей сомнения уверенностью: «Н и к о г д а».
Впрочем, может, поэтому тот — летчик, а он — судья.
И он завидовал этой решимости, которая не выясняет, не спрашивает, не мучит себя сознанием тяжких душевных травм, наносимых другим, непоправимых последствий. Кто знает, может быть, только она и бывает права, ибо, как любят теперь говорить — «по большому счету», так вот по этому самому счету: лучше, чтобы один был счастлив, а другая несчастлива, чем тихо, не признаваясь себе в этом, будут несчастливы оба.
Впрочем, была ли несчастна в прежней своей жизни жена летчика? Наверное, нет… Возможно, она и не задумывалась над тем: любит — не любит; возможно, как хозяйка, как мать, она оставляла подобные проблемы тем, у кого забот мало, и занималась домом, детьми, им. А несчастлива она сейчас.
От разговора все-таки остался нехороший осадок… Летчик был, конечно, отличный мужик, но то ли его в последнее время дрязги доконали, то ли все-таки ему чуть-чуть не хватало уже вполне возможной в его весьма зрелом возрасте высоты… Малин стал перебирать личную почту — ту, что принесла секретарша. Письмо из клуба автомобилистов, членом которого он вот уже пятнадцать лет состоял, запоздавшее письмецо с поздравлениями ко дню рождения (ему недавно исполнилось пятьдесят три), приглашение на встречу с журналистами в ЦДЖ. Он снова перечитал телеграмму от Ивана…
Пора было начинать прием.
— Давай следующего, — сказал он секретарше.
Следующим был коренастый мужчина с розовой блестящей головой, с которой он в преувеличенной почтительности сдергивал голубую, из синтетической соломки шляпу.
— Почтеньице, почтеньице, Николай Александрович. Как влажность такую переносите? — быстро и приветливо говорил этот человек. — Весной в нашем с вами возрасте в городе тяжеловато… Весной с нами всякие такие штучки и происходят.
— Вот и решили опять садовничать на воздухе? — прервал его Малин. — И опять сутяжничать с хозяевами?
Лицо вошедшего не изменило приветливого, родственного выражения. Но глаза блеснули стальным непреклонным блеском, который, как давно уже заметил Николай Александрович, был особенно грозен у мелких, трудно выводимых на чистую воду жуликов.
— Это почему ж сутяжничать? Кто вам сказал, что сутяжничать?.. Я свой законный интерес соблюдаю, свою справедливую долю от четырехсот высаженных мною тюльпанов.
— Слушайте, Моксеев, вы в который раз судитесь с хозяевами участка из-за этих самых ваших цветов?
— Что ж, Николай Александрович, — смиренно сказал Моксеев. — Приходится… Сам за себя не постоишь, кто постоит?
— А скажите, Моксеев, зачем вы ходили на работу к Аникиной?
— А затем, чтобы коллектив знал об ее антиобщественных поступках.
— Какие же это поступки?
— А такие! — оживившись, сказал Моксеев. — Мужа своего бывшего бросила, нового из семьи увела — это во-первых, во-вторых, на даче и на садовом участке какие-то египетские ночи устраивают, в-третьих…
— Почему ж египетские? — перебил его Малин. — Вы в суде, выражайтесь поточнее.
— Именно египетские… Но это, конечно, только так говорится, образный оборот, и в том смысле особенно, что весь данный садовый участок не под полезные насаждения занят, а, извините, бутылками загажен.
— Вы что же, но всему участку лазили? — спросил Малин.
— Не лазил, а ходил, — с достоинством сказал Моксеев.
— И после этого написали письмо в организацию, где работает Аникина?
— Написал. Ничего другого не оставалось, чтобы пресечь…
— Так вы ведь не только к ней, но и к мужу в организацию тоже ходили и тоже письмо написали.
— Написал, не отрекаюсь. И точно указал номера машин, которые к ним на дачу фанеру привозили.
— Когда же вы успели записать номера машин?
— А когда только нанялся к ним. Мы сидели, обедали на терраске, ну, немножечко выпивали, как раз те машины и подъехали. Ну, я на салфеточку и записал.
— А для чего вы записывали-то? Что, уже тогда собирались с ними судиться?
— Тогда не собирался… Но на всякий случай материалы иметь надо. Теперь народ такой, ко всему готовым быть приходится.
— А с чего вы решили, что машины «левые»?
— А «правые» по воскресеньям фанеру не возят.
— Логично рассуждаете, Моксеев. Так вот, хотим вас привлекать за клевету.
— Это в каком же смысле клевета?
— В самом обыкновенном. Лезете не в свои дела, копаетесь в чужой личной жизни, слоняетесь по учреждениям и распространяете различные ложные слухи о людях.
— Эти слухи легко проверить. Тогда убедитесь, ложные или не ложные.
— А кто вам дал право проверять? Вы судитесь из-за тюльпанов, бог с вами, судитесь, мы уже вас знаем. Вы не первый раз отнимаете время у суда, но что вы людей-то изводите своими кляузами?
— Я, Николай Александрович, не торопился бы с выводами. У Аникина в парткоме уже работает комиссия по поводу машин.
Малин знал, что комиссия действительно работает по «сигналу» Моксеева. Аникин, фронтовик, подполковник инженерных войск, действительно попросил подвезти ему фанеру на дачу. Шоферы и машины были из его ведомства. Злоупотребление было пустяковое, но было… Ну, нужно было человеку — подвезли ему материал, причем материал, им законно купленный. Но этот Моксеев сумел-таки маленькую искорку раздуть в огонек. Комиссия работала.
Сумел использовать он и личную ситуацию Аникиных, людей немолодых, недавно поженившихся (она ушла от мужа, с которым фактически не жила уже много лет; Моксеев сумел вовлечь в это дело и ее бывшего мужа).
Однако Малин хорошо знал, что прижать по-настоящему Моксеева трудно. Дело о клевете, которое Аникины хотели возбудить, было в достаточной степени щекотливым, так как здесь уже в законном порядке должны были бы перемываться все косточки, чтобы установить ложность моксеевских наветов и наказать проходимца. А такое перемывание вряд ли было нужно двум уже немолодым и достаточно битым жизнью людям. Дела о клевете порой имели свойство бумеранга, обратный удар которого трудно было предусмотреть.
Малин посмотрел личное дело Моксеева. Во время войны по справке об эпилепсии возвращен с фронта в тыл… Эпилепсия фигурирует еще несколько лет в виде справок и медицинских свидетельств, затем эпилепсия исчезает, и по дальнейшим справкам Моксеев здоров и работает «культурником» в доме отдыха. По неизвестным причинам он расстается с домом отдыха и устраивается в общество охраны природы. Он становится профессиональным садовником. Нанимается к дачевладельцам. Как правило, нигде не удерживается больше одного сезона. Аграрная деятельность Моксеева сопровождается судами с хозяевами дач… Дела возбуждает Моксеев, неизменно обвиняя хозяев в нарушении трудового договора. Дела копеечные, пустяковые. Сутяжничество Моксеева мелкое, рублевое, но не всегда можно отказать ему в иске, кое-где он находит уязвимые места в договоре, умело их использует, высуживает деньги. Закон знает, скользит рядом с законом, отклоняясь минимально, так что простым глазом не разглядишь. Такие, как Моксеев, тягостно распространены в нарсудах. Дает сигналы, ходит по учреждениям с видом обиженного, оскорбленного, обманутого в лучших чувствах человека, трудяги. Очень любит сочетания слов: «моральный облик», «поведение в быту», «нарушение норм», «разложение семьи» и прочее. И всегда он чуть-чуть прав, так как что-то вынюхал из действительной жизни, но раздул и придал другой оттенок всему, и вот уже люди становятся в позицию защищающихся и объясняют, оправдываются. И те, кто слушает их объяснения, думают, верно: все так, конечно, Моксеев — мерзавец, но ведь нет дыма без огня… В суде и в учреждениях, где он бывает, знают, что он тип судебного графомана, то, что журналисты называют «чайник». Но… все-таки… однако… чуть-чуть… нет дыма без этого самого…
Верно, доставалось и Моксееву. Был он однажды и бит, физически бит, набили ему таки морду, но он и это обратил немедленно в свою пользу, тут же подал в суд и пришел на прием к Малину.
Малин, не выдержав, сказал ему тогда: «Да за те помои, что вы на людей льете, я и сам бы вам надавал по физиономии с удовольствием». Моксеев понимающе посмотрел на Малина, деловито достал блокнотик и записал эту фразу.
Через неделю на одном совещании заместитель председателя городского суда, усмехнувшись, мимоходом сказал Малину: «Николай Александрович, ты что же на своем участке граждан терроризируешь?.. К тебе с жалобой, а ты по морде». — «Как это?» — спросил Малин. «А вот так. Пришла на тебя «телега» от одного деятеля».
К счастью, Моксеева успели уже узнать и в горсуде и поэтому ограничились легким замечанием и указанием: знать наперед, с кем дело имеешь, сдерживать душевные порывы.
Малин принял к сведению и стал сдерживать. А сейчас, глядя на Моксеева, Малин ловил себя на ощущении того, что перед ним человек с гигантской нерастраченной энергией зла, на которой могла бы работать чертова мельница или чертова электростанция.
— Так что, Моксеев, готовьтесь, — сказал Малин. — Непременно привлечем вас по обвинению в клевете.
— Будет уж вам, Николай Александрович, ярлычки клеить. Я с неба ничего не беру, у меня фактики, чистые фактики, без вымысла. Так что вряд ли кто решится неприглядные свои дела на божий свет выставлять. Фактиками задавим, Николай Александрович.
— У вас, Моксеев, семья есть? — спросил неожиданно Малин, хотя отлично знал все о семейном положении Моксеева.
— Имеется, — сказал Моксеев, — только при чем тут это?
— А при том, что пришла жалоба от первой жены. Экономите на алиментах, скрываете заработки.
— Никаких документиков у вас по этому вопросу быть не может. То, что прирабатываю, получаю из рук в руки. Так что здесь вам копать нечего.
— Ладно, Моксеев, разговор окончен. И запомните: безнаказанность ваша временная.
— А это мы посмотрим, — сказал Моксеев со значением. — Еще надо поглядеть, чья безнаказанность временная. Некоторые думают, что если они на своем посту, то, значит, можно…
— Ладно, Моксеев, мы уже поговорили.
Моксеев удалился, кивнул, обеими руками надевая на круглую, гладкую голову жесткую, как каска, синтетическую шляпу.
— Следующий, Наташа.
Секретарша сунулась в дверь.
— Нету следующего, Николай Александрович. Смирнягин не явился.
Николай Александрович посидел несколько минут в пустом кабинете, затем запер сейф, проверил бумаги на столе, вышел. Он решил, что пойдет домой пешком. После того, как он пролежал два месяца в больнице с микроинфарктом, он старался как можно больше ходить пешком, а одну неделю даже бегал перед завтраком, прочитав в газете переводную статью о пользе бега…
Он шел сейчас по скверикам Ленинградского проспекта, врезанным островками в теплую и пыльную асфальтовую реку шоссе, где жаркий бензиновый ветер обдавал яркие, туго закатанные на краях клейкие листочки, еще вчера бывшие почками. От них пахло прохладным, свежим, будоражащим запахом, от которого Малин чувствовал себя молодым, обманчиво молодым, опасно, непрочно, ненадолго молодым, какими становятся по весне пожилые и наделенные воображением люди. Гадкий привкус от разговора с Моксеевым быстро прошел, и сейчас два впечатления владели Малиным: разговор с летчиком и телеграмма от Ивана.
Из разговора с летчиком внезапно ушли все сложные и омрачавшие этот разговор тона: непонимание одного, отчаяние другой, сломанность привычного хода жизни, нежелание и обязанность Малина влезать в эту жизнь.
Сейчас из всего этого осталось только одно — непреклонная воля к обновлению, к изменению того, что казалось незыблемым, возможность любви… Вот это, пожалуй, и было главным — возможность любви.
Пахнет только что распустившейся листвой, весенним дождем — остро, терпко, обманчиво, слышен женский смех, и голоса, и легкий стук каблуков, и чей-то светлый плащ прошелестел, исчез, и что-то в его жизни должно все-таки произойти, не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра… Но проходят дни, недели, месяцы, а того, что он ждет, не происходит. Впрочем, знал бы он сам, чего он ждет!
Когда-то это было неосознанное, давнее, детдомовское — бросить учебники, выбежать из детдома, из душной спальни, слоняться по чужим весенним дворам, смотреть по сторонам, курить и ждать, что будет, что вечер принесет: то ли драку, то ли дружбу, то ли что-то еще, чего он и вовсе не знает…
И в молодости и сейчас, а сейчас даже, может быть, больше, чем в молодости, существовала у него, никогда не затихала тоска по любви…
А женился он за месяц до войны. Еще на рабфаке познакомился с тихой татарской девочкой по имени Флора и все годы учебы, как говорится, «ходил с ней». Это была спокойная, ровная, нежная и не по возрасту степенная дружба. Даже и не ругались, кажется, ни разу. И так же поженились, спокойно и тихо, степенно, без сомнений и без праздничности, как бы само собой. «Бесконфликтно», как шутил иногда Малин. После учебы собирались вместе ехать на Урал, уже назначения были в кармане, билеты на поезд, уже вещи были собраны, да только уехать не успели. Война.
Добровольцем он ушел на фронт и войну прошел счастливо, если не считать легкой контузии. А жена ждала его на Урале, работала на заводе и чаще, чем многие другие, он получал письма, спокойные и подробные. И он знал, что тыл у него крепкий, верный, что за тыл нечего беспокоиться. А ведь как это важно для фронтовика! И когда вышли знаменитые симоновские стихи «Жди меня», он видел, как ребята вырезают их из газеты, а у кого нет газеты, списывают у товарищей. И он тоже хотел списать стихи и послать жене. А потом подумал: зачем? Еще обидится, не так поймет… Ее не надо было просить ждать. Она и так ждала. И ничего не знал он из этих обстоятельно веселых писем о том, что три месяца пролежала она в больнице, избитая до полусмерти за свою неуступчивость малолетней заводской шпаной. Встретились они в Москве осенью сорок пятого, в старой своей довоенной комнате, на улице, носившей когда-то чудное название «Мясная Бульварная», а ныне переименованной в улицу Талалихина. Жена была несколько иной, чем он представлял, больше четырех лет он ее не видел, и в разлуке она была лишь такой, как ему хотелось. Встретились они хорошо, нежно, как говорится, без лишних слов, без вздохов, без слез… Встретились так, будто и не расставались, и пошла послевоенная, голодноватая, трудовая, вполне нормальная жизнь.
Никогда он не тяготился этим браком, этим совместным существованием, настолько привык к жене, что казалось, без нее никогда и не жил… Но почему-то редко в этой нормальной и вполне хорошей жизни он чувствовал себя счастливым и молодым. Вот именно молодым, молодости не было в их отношениях с самого начала. Это были отношения не по возрасту взрослых, погруженных в труд и заботу людей… С годами, приходя домой после работы, он почти полностью отключался, разговаривал с ней как бы механически и чаще всего по бытовым домашним делам; все, что передумано и пережито за день, оставалось только в нем, и не было даже никакого желания поделиться, рассказать. Так и жили годами почти молча, лишь переговаривались: «Деньги оставил?», «Сеньке портфель купил?», «Буду в одиннадцать», «Котлеты в холодильнике».
Сенька был приемыш. Когда стало ясно, что жена никогда не родит ему ребенка, они взяли мальчика. Сейчас Сеньке было четырнадцать.
Мгновения, когда хотелось все изменить, перевернуть, попробовать начать все сначала, приходили к нему все реже, но были остры, мучительны… Когда он задумывался над всем этим ясно, трезво и спрашивал себя: могу ли я это или нет? — стараясь не притворяться перед самим собой, он честно отвечал: не могу. Нет, не старость, не робость, не компромиссность и даже не привычка были тому виной. Просто, как бы ты ни был недоволен своей рукой или ногой, ты их не отрубишь… И жена и Сенька — плохо ли, хорошо, но были частью его. В последние годы он почти перестал думать о каких-либо переменах в жизни, и только сегодняшний разговор с летчиком всколыхнул и взбудоражил его.
А потом эта телеграмма от Ивана. По его расчетам, Иван должен был освободиться позднее. Они переписывались постоянно, все годы последнего Иванова срока, но перерывы в письмах становились все более долгими. Одно время, когда Малин хлопотал о переводе Ивана на поселение по новому указу, он писал в те края еженедельно, причем в администрацию колонии чаще, чем самому Ивану. Да и Иван писал по настроению. Накатит на него тоска, одиночество — напишет. Или, наоборот, почувствует, что есть надежда, что дела не так уж тягостны, — напишет длинное веселое письмо с описанием своей жизни, местных нравов. Иван писал два вида писем: «под настроение» (чаще всего грустные) и с «описанием нравов». У Малина тоже было два вида писем: «воспитательные» и «просто так».
«Воспитательные» писать было нелегко, и Малин не мог иной раз закончить такое письмо в вечер, растягивая писанину на несколько дней… Впрочем, это он только про себя так называл — «воспитательные». Никаких нотаций и поучений там не было. Там были просьбы.
Малин просил Ивана не срываться, не выказывать характер перед администрацией, к чему, как было известно Малину, Иван имел склонность, в школе не прогуливать, без нарушений дойти до «звонка». Малин писал только об этом, только о существовании Ивана т а м, только о том, как Ивану освободиться. Об остальном он молчал, он всячески старался показать Ивану, что остальное — вопрос решенный… «Остальное» — это было будущее Ивана. Это был вопрос о том, как поведет себя Иван, освободившись на этот раз. Это был вопрос о том, начнет Иван по новой или нет.
Это было между ними как бы решено. К а к б ы. Ох, Малин не был наивен! Он хорошо знал, что самые толковые люди, способные жить вне уголовщины, вернувшись и вроде бы добившись того, о чем мечтали — свободы, натыкаясь на первые сложности свободной жизни, на неустройство и на связанные с этим мелкие унижения, при отсутствии друзей, близких, нормальной среды тянулись вновь к старому, проклятому, но хорошо изученному делу, к старым, проклятым, но хорошо изученным друзьям.
Человеку легче повторить свой путь, чем начинать новый. И все-таки подсознательно Малин верил в Ивана… Ваня умный и слишком набедовался, чтобы снова ни за что ни про что споткнуться, думал Малин… Слишком тяжело дался ему последний срок, чтобы возвращаться туда, где был… Но кто знает, как все может обернуться. И еще он подумал: надо бы все-таки съездить к Ивану… Самый момент… Он мысленно прикинул, как ему взять несколько дней за свой счет, как выпрыгнуть из того монотонного поезда, который вез его ежедневно без остановки, в каждом вагоне которого лежали несделанные дела, ненаписанные бумаги, заботы, обещания, обязанности. Придется рвануть стоп-кран.
«Все-таки поеду, — решил Малин. — Пойдем с Иваном на рыбалку. Под Оршей — хорошая рыбалка…»
Странная это была дружба или связь, хотя ни то, ни другое слово здесь не подходило. Но Малина самого считали странным, а потому и тянулся он к странным людям, а значит, и связи у него были странные.
Малин судил Ивана.
Еще готовясь к делу, он заинтересовался Лаврухиным… Биография и впрямь была непростая. Он затребовал давнее, первое, «дурное», как он определил, дело с продовольственными карточками. Прочитал письма партизан, просивших тогда за Ивана, посмотрел наградные… Все это заинтересовало, но не удивляло. Такие истории в суде тогда случались.
Удивляло полнейшее безразличие Ивана на суде. Малин знал, впрочем, что́ может означать вот такая вялость, мертвые, как бы сонные глаза, витание в облаках, когда подсудимого приходится все время переспрашивать. Это означало потерю инстинкта самозащиты. Это означало степень полного отчаяния.
И уж потом Малину сообщили, что Лаврухин якобы замышляет побег из суда. За все время, что работал Малин, только два-три очевидных «смертника» пытались бежать из здания суда. И конечно, заваливались. Это было стопроцентно проигрышное мероприятие.
Поначалу, в день открытия суда, Малин ожидал от Ивана гибкости, хватки, смелой, даже наглой защиты, ведь Иван был коренник в упряжке, главный по делу, а значит, он должен крутить и вертеть, замазывать, отказываться от всего, даже от самого себя, брать на себя только последнее дело. Последнее дело было ограбление командированного в Сокольниках.
Только один раз на суде Иван улыбнулся — когда потерпевший, рассказывая о том, как его раздевали, заявил:
— Сняли с меня все, лежу я босой, а вон этот… — Он показал рукой на Ивана и помялся, подбирая слово: — А вон этот товарищ указал им на недопустимость таких действий. Ну, они и вернули мне ботинки.
Иван улыбнулся, а через несколько минут вновь погас, сидел вялый, заторможенный, будто все происходящее для его судьбы не имело уже никакого значения. Малину даже показалось, что он в шоковом состоянии, И когда вечернее заседание кончилось, Малин дал знак охране на секунду задержаться, не выводить Лаврухина.
Это не полагалось… Но ощущение какой-то непоправимо надвигающейся беды владело Малиным.
Зал был пуст. Только Малин, охранники и между ними на скамье Иван.
— Лаврухин, что с тобой? — спросил Малин. — Ты что на неприятность нарываешься?..
— А что? — холодно глянув на него, ничуть не удивившись тому, что судья заговорил с ним, сказал Иван. — Вы моей жизнью дорожите?
— Может, и дорожу, — сказал Малин, — И очень удивляюсь.
— Чему? — улыбнулся Иван.
— Тому, что ведешь себя, как идиот.
— А как прикажете? — спросил Иван.
— Не прикажу, а посоветую. И посоветую вот что: принять срок и сделать его последним. На этот раз последним. Ты уже не мальчик, скоро стариком будешь — и все в сроках… Или пожить неохота?
— А какой срок дадите, гражданин судья?
— Тот, что заслужил. Законный.
— Не смешите, судья… Не видел я еще от вас никогда никакой законности и не увижу до конца дней своих.
Малин будто эту фразу и не расслышал. Он сказал:
— А ты, Лаврухин, как я понимаю, УК знаешь не хуже судьи. Сколько ты сам себе определишь?
Иван даже улыбнулся от неожиданности этого вопроса, от этой странной и мнимой возможности.
— Я бы отпустил себя на свободу.
— Но это ты уж больно расщедрился, Лаврухин. Подумай всерьез: сколько бы ты сам себе положил? Только будь реалистом.
Иван задумался. УК он знал действительно неплохо.
— Шесть лет, — сказал Иван. — От силы.
— Ясно, — сказал Малин. — Теперь хоть я твой приговор знаю.
— Только ведь и так не дадите. Вы же судите не по делу, а по биографии. Три пишем, пять — в уме. Если у человека что и было, так он за это отмаялся. А вам лишь бы накидку сделать.
— Эх ты, Лаврухин, Лаврухин… — сказал Малин.
— Что Лаврухин? Я всю жизнь Лаврухин. Только никто меня за Лаврухина не считает.
— То есть? — удивился Малин.
— А вот так… Лаврухин — это человеческая фамилия. А меня разве за человека считают?
— Когда ты был человеком, — сказал Малин, — с тобой и разговаривали по-человечески. Тебя наградили, тебя уважали. А когда ты перестал им быть, озверел, тебя посадили за решетку.
— Я зверем никогда не был, — сказал Иван. — На мне крови нет. И никогда не было… Да и к чему весь этот разговор?
Разговор действительно не получился. Может быть, Малин был слишком жестковат… Да и какой мог быть разговор в той обстановке? Малин не привык и не умел заигрывать с кем бы то ни было. Разговор он вел твердый, справедливый, по профессии, по привычке. А сейчас ему хотелось сказать этому Лаврухину что-то иное, может быть даже обнадеживающее, но он не имел на то права… Хотелось также спросить Ивана, как попал тот мальчиком в плен, как жил в Германии, какова была судьба отряда, где воевал Иван… Но Малин не спросил… Подсудимого нельзя было задерживать долго, да и не по делу это все…
— В общем, давай так, Иван, — сказал Малин. — Глупостей не делай. Получишь срок такой, как положено. Так что отсидишь, и еще пожить останется… Понял? Голова у тебя вроде бы не тупая, а вот дураку дана.
— Дай, судья, шесть лет, — сказал Иван. — Тогда еще шанс будет. А так — что… Плыть да плыть, пока не потонешь. Очень уж туманен берег.
— У тебя близкие есть, Лаврухин? — спросил Малин.
— Нет, гражданин судья, у меня близких. Одни далекие.
Малин дал знак уводить. Иван поднялся, пошел, сутулясь и отчего-то прихрамывая, привычно держа руки за спиной.
Двое конвойных в ритм его шагам двинулись за ним.
Иван получил семь лет — по всей строгости закона, но минимально в рамках тех статей, по которым он проходил.
Были у Малина другие дела, другие суды, но почему-то не шел Иван Лаврухин из головы. Перед последним заседанием он велел принести в камеру Ивану старое, но теплое пальто. Было дождливо и сыро, наступала осень, а Иван ходил в тоненьком пиджачке и на суде хлюпал носом. Малин, впрочем, просил не говорить, от кого пальто, так как Иван, по его мнению, и это мог истолковать как хитрую «покупку».
Через месяц Малин сделал запрос в администрацию колонии, как ведет себя Лаврухин, где он работает. Малин ждал ответа от администрации, а получил письмо от Ивана. Видимо, в колонии Ивана уведомили о малинском запросе.
Письмо было короткое. Лаврухин сообщал, что он на общем режиме, что же касается остального, то «смогу вам сказать одно, гражданин судья: понял и разочаровался я в своей жизни давно. Понять-то понял, а вот как выкарабкаться… ведь сколько нужно сил, чтобы дойти до последнего звонка. А что еще впереди ждет?» Малин ответил ему большим письмом. Когда он его написал, хотел перечитать. Но потом запечатал и отослал.
Он знал, что если перечитает, то ему может не понравиться. А раз не понравится — значит, он станет себя редактировать. А раз он будет редактировать себя, то какой же смысл в таком письме? Это уже будет не письмо, а статья.
А статья не нужна Ивану. У Ивана и своих статей достаточно.
Это случалось не первый раз, он увлекался людьми нередко во вред себе. Он возился с ними, тратил силы, верил — его обманывали. Тогда он говорил себе: ну, что же, и на старуху бывает проруха. Больше уши не стану развешивать.
Развешивал снова.
Он был человек, навидавшийся подлости, грязи на много лет вперед, настолько, чтоб не удивляться ничему, однако иной раз он позволял себе пойти против логики, на поводу чувств. Чувства чувствами, а результат-то какой?
Малин нередко принимал участие в трудоустройстве только что вернувшихся из колонии, звонил на предприятия, просил директора, а через неделю его протеже брали под стражу и спустя несколько месяцев привозили к нему же в суд.
Бился как-то за одного малолетку, хотел перевести его на условно-досрочное. Парнишка ему понравился, какую-то искорку он в парне почуял и вот ходил в управление мест заключения, писал письма, так что его даже заподозрили в скрываемом родстве. Добился он условно-досрочного для этого парня, а тот, освободившись, затеял драку с таксистом, который отказался сажать его в машину, ударил камнем по голове…
Начальство сделало Малину замечание за то, что поддерживает сомнительные элементы, что недальновиден и близорук…
Кое-кто из коллег считал его слишком доверчивым для юриста, слишком полагающимся на эмоции, на чутье. Иные были уверены, что все это показуха, что Малин разыгрывает из себя «человека», что ему это надо для чего-то… возможно, для большой карьеры… Однако таковая, вопреки их ожиданиям, не предвиделась. Третьи считали, что это все оттого, что Малин не имеет детей, что не израсходованные на приемыша запасы своего «педагогического таланта» он тратит на эксперименты с разными, не стоящими того типами… Четвертые Малина любили.
Впрочем, множество дел было-таки скучнейших, где и разобраться-то было невозможно, кто прав, кто виноват: коммунальные склоки, разделы имущества, бракоразводные. Сам Малин такие дела, как правило, не вел, но посетителей, как председатель суда, принимал он, и приходилось разбираться во всем.
Были люди, прямо-таки созданные для данной статьи, другие не укладывались в статью. Более того, всем своим обликом, казалось, противоречили ей, да и самому факту своего привлечения к суду.
У него были свои, не юридические категории, по которым он разделял подсудимых. Он делил их, например, на убийц и неубийц. Убийцы не обязательно проходили по делу об убийстве. Просто это были люди, способные убить. Те, для которых не существовало человеческого барьера, лишь временный тактический барьер страха, осторожности, неудачного момента.
Неубийцы зачастую были матерыми преступниками, аферистами, изворотливыми типами, но в определенном отношении у них был барьер. Они не могли ударить человека ножом. Он, Малин, защищал собственность граждан, но внутренне он всегда предпочитал тех, кто отнимает собственность, даже самую крупную, — тем, кто отнимает жизнь. Да, он люто ненавидел убийц, но все-таки каждый смертный приговор, «исключительная мера наказания», потрясал и его, вызывал чувство страшной, немыслимой, несовместимой с его правами — нравственными ли, судейскими ли — ответственности. К тому же за долгие годы своего судейства он пришел к выводу, что ужесточение наказания, даже необходимое, все-таки никогда не ведет к снижению преступности.
Разные люди проходили перед ним, он мог наблюдать ежедневно парад человеческих слабостей — слабостей, ставших на мгновение силой, способной уничтожить, искалечить, унизить человека… И сколько общего было у всех этих странных и одновременно несчастных людей, которые сидели сбоку от него между конвойными! У этих стриженых, как бы безликих, напуганных, как правило, настолько неуверенных и робких, что странным казалось, что еще вчера они грабили, нападали…
Одних он сам, лично, не раздумывая, прибил бы, такие это были мерзавцы, но обязан был выносить приговор, в котором значились весьма умеренные сроки отсидки. Других он жалел, почти сочувствовал им, но обязан был вынести приговор, от которого бледнели и менялись в лице на что-то надеющиеся, избегающие глядеть ему в глаза люди… Был Закон. Срок диктовался реальностью содеянного.
А иной раз все счастливо пересекалось: и субъективное его отношение, и его юридическое отношение к сути вопроса. Так было и с Лаврухиным, тут был срок резиновый, его можно было растянуть, а можно было и сжать… Прокурор требует десять, адвокат просит шесть. А чего подсудимый заслуживает? А заслуживает он и того и другого. Это как посмотреть! Как истолковать данное преступление в совокупности с прошлыми делами. Смотря как истолковать личность подсудимого и его жизнь…
Конечно, то, что повоевал мальчишкой и прошел немецкие лагеря и что судьба от этого во многом пошла наперекос, — все это следует учесть, и верно, что на это напирает адвокат… Но ведь это давно было, а что было потом… Подсудимый безразличен, то ли устал, то ли прикидывается… Кажется, устал.
Потерпевший его чуть ли не благодарит — не оставил босым, не позволил снять брюки. Ну что ж, учтем и это как смягчающее (чуть-чуть, самую малость) обстоятельство, но, с другой стороны, опытное жулье никогда не мелочится… Когда другие начали бить потерпевшего, не велел. Ну, что ж, зачтется и это, хотя зачем ему бить, зачем ему брать себе еще и другую статью…
Да и вообще этот парень, набедовавшийся сам, а сейчас несущий беду другим людям, чем-то задевал и привлекал к себе Малина.
Может, независимостью своей и, как это ни странно в таком положении, чувством собственного достоинства, а может быть, тем, что в глазах его была не тупость, не жалкость, не жестокость — живое, острое, человеческое в них просверкивало.
Был он похож не на матерого хищника, а на усталого, разочарованного, побитого, на все плюнувшего человека со странной и несчастной судьбой.
Человека ли?..
Переписка их шла уже несколько лет. Малин привык к письмам Ивана, где тот описывал свою работу, учебу, местные нравы, учителей в школе, дружков по колонии.
Малин не писал теперь «воспитательных писем», а отвечал односложно и кратко — такая почти семейная, регулярная переписка.
Однажды Малин проводил судейский семинар в тех краях, где сидел Иван. Он попросил начальника областного УМЗ разрешить ему свидание с Иваном.
Когда он стоял в узкой комнате, курил и ждал Ивана, он пытался вспомнить его лицо, то оно появлялось, то дробилось и исчезало. Малин знал Ивана вот уже несколько лет, а видел его, по сути дела, только на суде.
— Видно, лоск наводит после работы сынок ваш, сказал охранник. — Все ж таки не хочется перед своими черт-те кем показываться.
Через минуту Ивана привели.
Он тоже в первое мгновение не узнал Малина. Лицо его выразило отчужденное непонимание, словно ошибка произошла, но тут же он понял, узнал, подался вперед к Малину, улыбнулся во все лицо, изумленно.
— Не ожидал, Иван? — дрогнувшим от волнения голосом сказал Малин. — А я вот нагрянул, поглядеть хочу, как ты тут живешь.
Сидели долго, никто их не ограничивал во времени.
О чем они говорили?
Ну, сначала о работе, как там у Малина, как здесь у Ивана. Потом о родных. Пишет ли Ивану мать, и как себя чувствует жена Малина, и как учится его сын.
Потом о местных порядках и о том, есть ли возможность выйти на поселение. Затем разговор пошел, как говорится, нестройно…
Тут Иван сказал Малину:
— Я ведь думал сначала, что вы меня ловите… Со мной многие поначалу хорошо разговаривали: мол, на каком ты фронте воевал, а я, дескать, рядом был, значит, мы однополчане… А потом как начнет раскалывать, прижимать, чтобы я на себя взял то, чего не было… Всю жизнь меня, как волка, флажковали, потому и кидался на людей. Сейчас только бы досидеть! Эх, надо было б лет семь назад выдираться, тогда бы я еще кое-что успел!..
— Брось, Иван… Не гневи бога, ты молодой мужик, чего тебе назад глядеть? Выйдешь скоро, осмотришься. Десятилетку постарайся дожать, будешь человек со средним образованием… Устроишься, а там, гляди, и женишься, семью заведешь.
Малину хотелось еще что-то сказать Ивану, необыденное, простое, то, ради чего он, может быть, и приехал к нему; сказать, что Иван испытает то, чего никогда раньше не знал: любовь, покой, — и жизнь еще подарит ему свои большие и малые радости, что он, Малин, все-таки не ошибался, думая о людях: не такие уж они сволочи, какими часто кажутся, — что-то в этом роде хотелось сказать, но одно дело — подумать, другое — высказать. Когда выскажешь, все звучит как-то фальшиво… Не просто ведь выразить то, что думаешь.
И он сказал Ивану, прежде чем уйти:
— Все, Иван, будет у тебя нормально. — Помолчал немного и добавил: — А как освободишься — сразу мне телеграмму. Приеду, если что, помогу на месте… Да и вообще посмотрю, как ты обживаться будешь. Самое трудное — это первые недельки, когда на тебя все косятся.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Иван собирался на свидание… Он старался не слишком об этом думать, чтоб не сглазить, но все-таки думал все время.
Он брился долго и старательно, и ему казалось — электробритва жужжит вхолостую, оставляя кусты на шее и щеках. Не привык он к электробритвам. Когда он побрился наконец, в комнату вошла мать и положила на стол какой-то пакет.
Иван развернул тугой целлофановый пакет с черно-серебряными ярлыками. В пакете, распяленная на картонке, лежала белая нейлоновая рубашка.
— Спасибо, мать, — сказал Иван. — Но зачем же такая роскошь?
— Это тебе от Вячеслава Павловича, он выбирал, — сказала мать со значением.
Как мало, в сущности, человеку надо! И хотя Иван подсознательно понимал, что так нужнее матери, чтоб от Вячеслава Павловича, он вдруг со стыдом подумал о неприязни к этому человеку, о том, что он, Иван, сам все время выискивает то ту, то эту неприятинку в муже своей матери, а зачем выискивать-то? Ну, не доверяет он Ивану, а на каких основаниях доверять? И кто ему вообще, Ивану, обязан? Встретили как человека, не гонят из дому, на работу устраивают, рубашку вот подарили… Пустячная вещь рубашка, у него миллион было рубашек, но краденых или купленных, а не дареных. Да и к тому же такой — с плечиками, в таких нашивках да медальонах на пакете — у него никогда не было.
Он стал ее разворачивать, посыпались тоненькие булавочки, которыми была она закреплена, стал надевать, влезая в твердые, цвета сахарного рафинада манжеты. Матовая эта материя холодила тело. От шуршания новой рубашки, от шелка галстука, который он медленно завязывал, от тишины в квартире, нарушаемой лишь мягкими шагами матери, тихим скрипом чистых половиц, он ощутил удивительный покой, который знал когда-то очень недолго, в детстве, до войны, но позабыл… Одеваясь, застегивая новую рубашку, собираясь идти, он вдруг представил себя нормальным сыном, который уходит вечером на свидание, а потом вернется. Потому мать и положила перед ним выстиранное или новенькое полотенце и ушла по своим хозяйственным делам.
Он посидел несколько секунд перед зеркалом, посмотрел на себя: галстук был завязан правильно, ровно, по моде прошедшей семилетки — маленьким узелком-удавочкой.
Половицы скрипели, слышался голос Сережи, шипение, треск — это включили телевизор… Как-никак субботний вечер.
Младший вошел и по-хозяйски оглядел брата… В галстуках, видно, он тоже не разбирался, так как не носил, а остальным остался доволен.
Брат, по невысказанному мнению Сереги, был в большом порядке. Крепкий, плечистый, мужественный, в белой рубашке с галстуком, пахнущий одеколоном «Полет». Такого брата приятно проводить до места его назначения.
— Ну что ж, двинем, — сказал Серега.
— Пошли, — сказал Иван. — Проводишь меня немного.
— Я могу и до конца, — сказал мальчик. — Куда хочешь, могу, мне еще до спанья десять часов.
— Ну, уж десять, — придрался Иван. — Что ж ты, под утро ложишься?
— Ну, не десять, а все равно много.
— Ну, тогда пошли.
Они немного не дошли до горсада, и Иван сказал:
— Ну, давай, братан, назад, дальше я сам дотопаю.
— А ты найдешь? — с сомнением спросил мальчик.
— Найду. Я в любой местности ориентируюсь.
Серега удовлетворенно кивнул. Что он, забыл, кто его брат? Пограничники, они хоть где ориентироваться обязаны. Серега улыбнулся брату и пошел домой.
Иван в одиночестве похаживал у входа в городской сад. У него еще было минут пятнадцать до прихода девушки, и он вошел на территорию сада. Народу было множество, в основном около танцплощадки, огороженной металлической сеткой, но кое-кто стоял у эстрады-раковины, где у микрофона вовсю старался культурник.
Публика была совсем молодая, а ребята постарше дружно сгруппировались вокруг павильончика «Пиво — воды».
Музыка уже гремела, ломкий и как бы чуть хмельной, приятный мужской голос рвался из динамика, постанывая: «Ай, ай, Дилайла…» Во всей этой суете Иван ощутил вдруг свое одиночество, и свой возраст, и то, что был здесь как бы неким гостем с другой планеты, летевшим много световых лет и вот опустившимся рядом с танцплощадкой, неким пришельцем с той планеты, название которой неизвестно местной молодежи, так же как и неизвестен факт его появления здесь, в инопланетной форме (светлый костюм, белая, в первый раз надеванная рубашка, галстук с искорками). Что он, робел перед этой танцплощадкой? Перед девушкой, которая, возможно, не придет? Перед этими юнцами в широченных, как юбки, брюках с металлическими украшениями по обшлагу? Видал он таких фраеров!
Не много погулял он в своей жизни на воле, но танцплощадки видывал, и прошел, и вымерял их вкрадчивыми шагами танго, прыгающими — фокстрота, и даже во времена рок-н-ролла успел повертеть партнерш юлой вокруг себя. Он в этом деле был человек передовых взглядов и уважал новые танцы, и парки культуры, и заводские клубы, и особенно летние рестораны с танцплощадками, куда приходил в различные периоды своей жизни по делам, а часто и просто так, для собственного удовольствия… «Дилайла» так «Дилайла», — думал он. — Сегодня «Дилайла», а вчера было «Арабское танго», а позавчера «Мишка, Мишка, где твоя улыбка». Расклешенные брюки с блестящими инкрустациями тоже можно пережить, вчера были узенькие дудочки, что на ногу не налезали, носили и такие, а сейчас будем носить нормальные, но если кому охота, пусть подметает пыль клешами с бубенцами, пусть звенят однозвучно, ему не жалко, но он лично такой сарафан с музыкой на себя не напялит… Вот мини-юбка — это другое дело, это нам нравится, это пусть носят.
Правда, когда он видел жалконькие, острые коленки, которые совсем не вредно было бы прикрыть бальным платьем со шлейфом, он отводил глаза далеко-далеко с некоторым смущением, но когда появлялись круглые, нагловатые, откровенно себя подававшие колени, как у его продавщицы, то тут приходилось заставлять себя притушить фары, чтобы не ослепнуть от такого блестящего зрелища. Все это было нормально, это и была та жизнь, о которой он думал в последние годы с таким ожиданием и такой надеждой, что казалось, один лишний день срока — и нервы порвутся, лопнут, как пересохшие веревочки.
Ни перед кем он не робел. За свою долгую, так называемую жизнь он приучил себя ни перед кем и никогда не робеть…
И чувство грусти было от другого — от того, как теперь в э т о войти, не будучи тем, кем он был вчера.
Как войти в эту музыку, в этот шум, в эти танцы, в этот круг беззаботных и веселых людей без друзей, без прошлого, без денег, без ничего?.. Как в это войти, чтобы почувствовать себя на равных с другими, не хуже, не лучше, чтобы незаметно скинуть свой шлем или скафандр человека с другой планеты, скинуть, положить под кустик и посыпать землицей… И пусть никто не узнает, где он лежит.
И, как в юности, как очень давно, он подумал о себе в третьем лице, как о постороннем. Так, много лет назад, попав в первую свою пересылку, он подумал о себе с искренним ужасом и вместе с тем, чуть играя с самим собой, как бы наблюдая себя со стороны и любуясь жуткостью своего положения: «Теперь всю жизнь он будет здесь».
А сейчас он думал с удивлением, иронией, отгоняя боль и неуверенность и стараясь найти силы для радости:
«Пришел на танцы».
Это было действительно странно и смешно: о н п р и ш е л н а т а н ц ы… Ну что ж, попробуем потанцевать.
Иван посмотрел на часы. Пора ей было уже прийти…
Запаздывает. Ладно, подождем. Куда ему торопиться?
Он подошел к ларьку «Пиво — воды», стал в хвосте очереди, все время поглядывая на вход.
Его очередь уже подошла, но вдруг появился малый, узкоплечий, с румяным, будто температурным лицом, в широченных обношенных брюках, и встал впереди Ивана.
— Что-то я тебя здесь не видел, — сказал Иван.
— Пенсне надень! — сказал парень высоким, охрипшим голосом.
Иван промолчал.
Парень сдувал пену с пива, а к нему еще подошли человек шесть, и он стал брать на всю компанию. Очередь зароптала:
— Шпана бесстыжая!
— Чего оскалились? — сказал румяный. — Мы тут стояли.
Он помахал рукой под носом у Ивана.
Парень был приблатненный. Именно не блатной, а приблатненный.
Таких Иван мог узнать по двум фразам. Подделочник, малолетка, строящий из себя урку. Иногда такие оказывались просто щенками. Но иногда бывают безжалостней взрослых.
Пили они демонстративно долго, шумно и выплескивали остатки на землю так, что брызги летели на ботинки стоящих в очереди.
— Засосали, клопы, — тихо, но отчетливо сказал Иван.
Румяный посмотрел на него и сказал:
— Тебе что, фраер, банки поставить?
Иван встретил его взгляд и улыбнулся. Он оглядел их всех по очереди, всю стайку. Выпил свою кружку, поставил. И неторопливо пошел к выходу. Связываться с ними не входило в его намерения. Спиной он чувствовал их взгляды.
Он стоял на людной площадке возле входа, искал ее глазами.
«Не придет, — решил он и подумал с обидой: — А зачем тогда согласилась… Сказала б, не могу — и все… Тоже, артистка».
Он решил прождать еще пять минут и идти домой.
В этот момент появилась продавщица. Она показалась ему другой, чем днем в магазине…
На ней был белый свитер и белая короткая юбка, она не сразу увидела Ивана или не узнала, обвела скользящим взглядом полукруг входа и было собралась уже брать билет и идти к танцплощадке одна.
Тут Иван решительно двинулся наперерез.
— Добрый вечер. А я уж двадцать минут прохлаждаюсь.
— Здравствуйте! — Она посмотрела на него, как ему показалось, оценивающе: как, мол, он вечером смотрится.
Так Иван и не понял, одобрила или нет.
— Ну что ж, давайте, так сказать, расколемся на имена, — сказал Иван.
Девушка глядела, не понимая. Иван пояснил:
— Ну, в смысле представимся друг другу. — И первый протянул руку: — Иван Лаврухин.
— Тамара, — сказала девушка, едва дотронувшись до его руки.
— Куда двинемся? — спросил Иван.
Девушка поглядела на него и сказала:
— Вы знаете, я должна извиниться.
— То есть?
— Я пришла сказать, что я не могу.
— Сегодня или вообще? — в упор спросил Иван.
Она помешкала, помолчала.
— Сегодня…
Иван вздохнул с облегчением.
— Ну что ж, бывает. Хорошо, что вы пришли… А то, знаете, когда не приходят, стоишь, как дурак, глазами хлопаешь.
— Я это тоже не признаю, — сказала девушка. — Какой смысл договариваться, чтобы не приходить?
— Вот именно.
— А у меня сегодня непредвиденные обстоятельства, так что уж извините…
— Ну, конечно. Всякое бывает. Можно вас немного проводить?..
Они прошли еще метров сто молча. И говорить вроде было не о чем. Вот если б они зашли в ресторан, посидели бы как следует и он бы, что называется, понял ее, тогда было бы о чем разговаривать.
Для того чтобы с человеком разговаривать, надо его понять.
Конечно, эта девушка не похожа на Галу. Гала была постарше и, возможно, поумней. И она сама подсказывала тему разговора. А эта девочка в магазине казалась очень бойкой и шустрой, а здесь что-то застеснялась.
Да и сам он в магазине, как это ни странно, чувствовал себя свободней.
Во-первых, для того чтобы разговаривать, надо решить: кто он? Вернулся с погранки — нет, это только с Серегой проходит. А может, приехал с Дальнего Севера, отработал ряд годков на ударной стройке, привез много косых… А не лучше ли рассказать все, как есть?.. Отбыл срок, а теперь на свободе, о которой мечтал… Ну и что особенного, посидел немножко и вернулся. Она удивится… Бывает и такое?.. Да, бывает иногда… Ну и что? Ну и ничего. Что было, то было — и нет ничего. Можно рассказать много интересного… Какая разница, где он был, откуда вернулся! Важно найти общий язык.
— Ну вот, спасибо, — сказала она. — Здесь мой автобус.
— Так, значит, мероприятие переносится?
— Какое еще мероприятие?
— Ну… встреча… свидание.
Она не ответила.
— Знаете, Тамара, я ведь не случайно подошел к вам в магазине. Я ничего не делаю случайно. Я бы хотел увидеть вас еще раз… Это очень важно.
Автобус подошел. Девушка вскочила на подножку, стояла у незакрывавшейся двери, ища в сумке мелочь.
Иван как бы издали, как бы со стороны вновь увидел ее и понял снова, что она очень хороша. Автобус тихо тронулся, Иван сказал, догоняя автобус:
— Я зайду в магазин… Во вторник.
Она деловито бросила монетку в кассу, взяла билетик, посмотрела номер и, не найдя то, что нужно, досадливо поморщилась. Автобус уже набирал скорость.
Тамара подошла к задней двери, закрывшейся не до конца, и крикнула оставшемуся позади Ивану:
— Не надо в магазине. Здесь, в понедельник, в восемь!
Иван пошел домой пешком. Он миновал горсад, откуда доносились приглушенные, ухающие звуки духового оркестра…
Иван остановился на мгновение у входа, раздумывая, идти туда или нет, но потом, вспомнив чертовых малолеток, решил не идти. У ларька стояло всего два человека, все отвалились туда, где громыхал оркестр.
Иван снова выпил маленькую кружку пива, на этот раз с наслаждением, спокойно, и, крякнув от удовольствия, отправился домой.
Он шел по главной улице, навстречу субботней толпе…
Сейчас он чувствовал себя как бы иностранцем, который когда-то здесь жил, потом уехал, все позабыл и вновь вернулся.
Девушек и молодых женщин было в этом городе много, пожалуй, даже больше, чем он мог предположить… Некоторые походили на Тамару одеждой, прической, выражением лица, были почти как Тамара, почти, но не совсем, большинству из них было далеко до Тамары, все-таки не случайно он первой увидел именно ее. Иван гулял по улице. Не по зоне, не но двору — по улице. Просто гулял… Не уходил, не догонял, просто так шел по улице своего города.
«А все-таки я поздновато выбрался, — подумал Иван, — Ведь если бы я был поумнее и не убежал тогда, уже давно был бы на свободе».
Он выругал себя за тот побег, как больной человек ругает себя за то, что по-глупому подхватил болезнь…
«Но все это с какой стороны посмотреть, — сказал себе Иван. — Это чудо, что я здесь, с руками, и ногами, и с головой, и даже часть зубов осталась после цинги, и возрастом еще не старик… А значит, не так уж все плохо».
И он решил больше не мучить себя нелепыми сожалениями и вопросами.
Друзья считали его слово и решение непререкаемыми, знали, что, если он что-то сказал, от этого не откажется, и не догадывались, что он мысленно отменял свое решение десятки раз, ставил его под сомнение, ругая себя за якобы неправильный ход, но никогда и никому не признавался в том.
Он шел по улицам, даже не пытаясь их вспомнить, так они изменились. Ведь он не был здесь в общей сложности почти двадцать лет. Один переулок, темный и немощеный, с булочной на углу, показался ему знакомым. С этой булочной было связано и единственное в его жизни воспоминание об отце.
Он шел с отцом из этой булочной зимой и незаметно отковыривал мягкую корочку свежего, только что из печи, батона и не мог оторваться, почти всю корку изгрыз, такой она была вкусной, так хорошо пахла на морозе… Грыз и грыз, а отец шел рядом, задумавшись, и не замечал. Потом к отцу подбежали какие-то люди и что-то сказали, Ваня не расслышал, а только подумал, что это отцу нажаловались на него за хлеб. Люди отошли, а отец кинулся к нему и стал жестко драть ему уши… «За что? Что я такого сделал? За эту несчастную корку?!» — думал Иван, кривил лицо, но не плакал. Уши, однако, почему-то не болели. Иван, испуганный отцом, вдруг услышал, что тот шепчет ему: «Терпи, Ванюш, терпи, сынок».
И это очень удивило Ваню. Сам наказывает и сам жалеет.
Только чуть позже, когда мочки ушей вдруг начали неожиданно болеть и как бы вспухать, он понял, в чем дело: просто он забыл опустить уши треуха и не заметил, как обморозился, а прохожие увидели, что уши белые, и сказали отцу.
Вот именно у этой булочной оно и было. Здесь, по этой улочке, и шли они с отцом, здесь и грыз Ваня ту вкусную теплую корку, запах которой и сейчас не позабыл, здесь и обморозился.
Вот и все, что он про отца помнит.
И еще помнит, только совсем смутно, как отец ушел из дома на фронт. Было это ночью, Иван спал, а когда отец подошел к его кровати, скрипя ремнями портупеи, он проснулся и полуоткрыл глаза.
Но он не показал виду, дурачок, что проснулся, потому что в полусне затаил обиду на отца: уезжает, а не берет его с собой. А ведь говорил ему, что возьмет с собой, что куда угодно возьмет с собой, даже на фронт, и научит стрелять… Говорить-то говорил, а теперь прощается в спешке, в темноте с ним, полусонным, прикладывает губы к его щеке и что-то шепчет. А Ваня и не слышит, лежит, задержав дыхание, ему хочется зареветь, но он крепится из последних сил.
— Спит, — говорит отцу мать. — Не буди. Зачем лишние слезы?
— Я и не собираюсь, — вроде бы говорит отец. — Жалко, что вот так… Что с Ванькой-то и не простился… Все скажешь ему, как надо. Он уже большой, поймет…
Но ничего не хотел понимать Ваня в тот миг, обида, невыплаканные слезы и предчувствие чего-то плохого сдавили ему грудь, и он не ответил на поцелуй отца. Только когда отец и мать вышли из комнаты и он остался один во всем доме, в полумгле, в зябкости рассвета, испугался и зарыдал громко, ни от кого не таясь.
Больше никогда он не видел своего отца и, чем дальше жил, тем больше отвыкал от той простой мысли, что у него был когда-то отец. Теперь отец все чаще становился строчкой в деле, и, когда он говорил следователям об отце, о том, что отец, секретарь райкома партии, погиб на фронте, они всегда укоризненно качали головой, видно мысленно сравнивая жизненный путь Ивана с биографией его отца, того самого человека, который действительно когда-то существовал и тер онемевшие уши Ивана в переулке возле булочной…
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Иван легко нашел свой дом, прошел садик, показавшийся вечером более просторным, чем утром, увидел свет в окнах с открытыми ставнями, покойный и теплый, и, казалось, услышал голоса там, в доме. Он неторопливо прошел сенцы, разулся, снял пиджак и вошел в комнату. Первое, что он увидел, было серое, вытянутое, озабоченное и недоброе лицо матери, а уж потом взгляд его буквально вонзился в молодое мужское лицо, в голубые, как бы равнодушные глаза, чей свет был неожиданным и чужим в этой комнате, казенно знакомым. Обычный костюмчик, тупорылые ботинки, рубашка, узенький, как селедка, галстук — все было обыкновенным в этом человеке и все же обожгло неприятной знакомостью, и в соединении с угрюмо-болезненным лицом матери, понурым — Вячеслава Павловича, в соединении с пустотой и тишиной, означавшей отсутствие в комнате младшего брата, — все это не оставляло места для лишних вопросов, кто пришел и зачем.
Животом, чутьем Иван понял — кто, да только еще не знал ответа на второй вопрос — зачем. В нем мгновенно заработала отлаженная годами пружина, сжавшая его тело, приготовившая к броску, к уходу, к побегу, но усилием воли он застопорил, свел на нет это инстинктивное, мощное движение, подумал с холодком: далеко не уйдешь да и незачем ему бегать, нет такой необходимости на сегодняшний день, ибо сейчас, как никогда в жизни, за ним действительно ничего нет.
Он заставил себя пройти по ставшему тесным квадрату комнаты, сказать: «Привет всем присутствующим», — сесть на стул, вытащить, не торопясь, любопытствуя на незнакомого гостя, пачку папирос, ударить пальцем по донышку пачки, выбивая папироску для гостя, протянуть ему ее…
— Спасибо, некурящий, — сухо ответил гость.
Он оглядел Ивана, как бы мысленно сверив его облик с кем-то ему одному знакомым, и сказал:
— Значит, Лаврухин-Серебров Иван Владимирович, если не ошибаюсь.
— Не ошибаетесь нисколько… Только еще не все фамилии назвали.
— Ну, основные, по которым вы проходили.
— Еще проходил примерно по пяти, у вас, видно, не полные сведения имеются, только могу сообщить одну небольшую поправочку.
— Какую же? — спокойно, как бы без интереса, спросил гость.
— А вот какую, уважаемый… — Он поискал обращение: «гражданин» — нет уж, хватит, отговорено, этого ты не услышишь; «товарищ» — не нужно Ивану таких товарищей; наконец Иван нашел то, что искал… — Молодой человек! Простая у меня, единственная фамилия — Лаврухин. Так прошу и называть. А все остальные, к вашему сведению, недействительны, так как по ним я проходил по делам, а дела эти на сегодняшний день полностью закрыты. Известно ли это вам?
— Известно, — сказал гость.
— Вам-то, как я погляжу, все известно, но мне лично неизвестно, молодой человек, по какой причине вас это может интересовать.
— Давайте обойдемся без «молодых людей», — наставительно, с легким звоном металла, но без злости сказал гость. — Моя фамилия Шадрин Борис Петрович, участковый инспектор. — Он двумя пальцами взял что-то лежавшее в верхнем кармашке и, приподняв, показал краешек красной книжечки.
— Что вы ко мне имеете, Борис Петрович? — спросил Иван.
— А то, Лаврухин, что надо бы соблюдать некоторые моменты.
«О чем это он? — подумал Иван. И ему показалось, что он действительно что-то уже натворил, нечто такое, что одному этому менту и известно, о чем он сам, Иван, позабыл. — Да что за бред? — подумал Иван. — Кто мне может что предъявить, если ничего я не делал?»
Однако все сигналы тревоги, бедствия вдруг вспыхнули, включились, садняще обжигая все внутри, он почувствовал прямо-таки физическую боль, такую острую, какую он не испытывал и в более тяжкие моменты своей жизни. Мысль о том, что можно потерять все, что за эти два дня было: дом, мать, вчерашнее утро в саду, булыжную улочку, по которой ходил с отцом, музыку в парке, Тамару и больше всего братана, несущего подаренный им автомат, — мысль об этом показалась нестерпимой, безвыходной, как самый плохой приговор.
— Вам должно быть известно, Лаврухин, что по прибытии вы должны были немедленно явиться в отделение милиции по месту жительства по существующему порядку о лицах с двумя и более судимостями.
Иван почувствовал облегчение.
— К тому же, по нашим данным, вы никогда здесь прописаны официально не были, да и вообще нигде не имели прописки, кроме временной.
— Когда же ему было являться к вам? — вступила в разговор мать. — Когда только с поезда слез… Что ж, прямо с вокзала — прямо к вам бежать?.. Вас-то он частенько видел, а вот с нами долгие годы не виделся… Странно вы рассуждаете, товарищ дорогой.
— Зачем же с поезда?.. Сегодня с утра мог бы зайти. Ведь это поважнее, чем в парке толкаться.
— Сегодня суббота, — сказала мать.
— Мы без выходных работаем, — сказал участковый Шадрин. — Дежурный всегда на месте.
— Нет уж, извините, — сказал Иван. — После долгой отлучки и в парке не вредно потолкаться… В обычном таком парке культуры и отдыха.
— Проводите время где хотите, Лаврухин. Но сперва получите официальное разрешение на проживание в данной местности, а во-вторых, не нарушайте порядка для лиц с двумя и более судимостями, освободившихся после заключения.
— Слушайте, вы, — тихо, сдавленно сказала мать, — вы все-таки потише давайте… Выбирайте выражения… Тут ребенок в соседней комнате, младший брат… Ему это совсем не обязательно.
— Извините, не учел, — сказал участковый.
— И вообще, уважаемый товарищ, я завтра, между прочим, зайду к Алексею Гавриловичу и спрошу: что это за порядки? — сказал Вячеслав Павлович, до этого момента молчавший. — Приехал сын, можно сказать, из мест не столь отдаленных… Честно отработал то, что положено. Приехал не к чужим, а к родне, которая тоже, можно сказать, натерпелась из-за данной ситуации. И что же происходит? У нас, можно сказать, праздник, а вы тут являетесь и начинаете… — Вячеслав Павлович со стариковской какой-то укоризной пожал плечами… — И нечего вам беспокоиться за работу и за прописку. Я лично его устрою… И с начальником вашим тоже знакомы. Не первый день в этом городе живем.
Иван удивился и обрадовался таким высказываниям отчима. Главное, чтоб тылы были надежные, чтоб свои не предавали, а что касается этого неожиданного прихода, то Иван начал понимать, что это все, как говорится, для понта, узнать, что к чему, какова обстановка в доме, показать недвусмысленно: ты, мил друг, не хорохорься где не надо, мы тут рядышком, мы не дремлем… Почему не заглянуть на огонек, раз служба такая, почему не посмотреть лично: что это за птица с клювом — Иван Лаврухин? А клюва-то и нет… Был, да отпилили.
— Товарищ начальник, — мирно сказал Иван, — не тратьте на это нервы. У нас все в порядке было, есть и будет… А подсечка у вас поставлена четко.
— Ну, уж было-то не совсем в порядке, — сказал участковый, как бы не услышав последней фразы Ивана.
— Что было, то было, — сказала мать. — Знаете, как в песне поется? Зачем же былье не к месту вспоминать?
— Песня здесь ни при чем. Одно дело — песня, другое — жизнь, — сказал участковый. — А порядок для всех установлен.
— Но согласитесь: существуют же некоторые деликатные моменты, — сказал Вячеслав Павлович. — На такой службе все понимать надо.
Участковый посмотрел на Ивана, усмехнулся, как показалось Ивану, со значением. Иван подумал, что родня малость перебрала и все эти словопрения могут кончиться для него нехорошо, что парень, видно, оскорбился, они ведь не любят, когда качают права, и вот сейчас он заведется и заберет с собой Ивана, и в соответствующем месте отстучат Ивану бумажку на машинке, чтобы в двадцать четыре часа уматывал на все четыре стороны.
Участковый, однако, ничего не сказал, встал, повернулся резко, как по команде, и пошел к выходу. Весь вид его, похоже, не понравился не только Ивану, но и матери, потому что она сорвалась с места и, перегородив путь милиционеру, сказала одновременно и просительно и властно:
— Нет, так у нас не положено. Раз в гости пришли, садитесь к столу.
Участковый бросил коротко:
— Спасибо. Ни к чему это.
— Знаете что, — сказала мать, — простите, забыла, как вас зовут…
— Лейтенант Шадрин Борис Петрович.
— Так вот, Борис Петрович, вы уж нас не обижайте… Праздник у нас большой. Вы уж поймите.
— Не об этом речь ведете, — сказал лейтенант, задержавшись у дверей. — Мы тоже люди и тоже понятие имеем… Но раз ты вернулся кое-откуда, то зайди по-хорошему: так, мол, и так… А то ведь как получается на практике? Сначала дело новое придет, потом уж самого увидишь. А в районе, между прочим, какое положение создалось? На днях очистили магазин райпотребсоюза, обувную мастерскую, кафе «Буратино».
Мать сделала протестующее движение.
Лейтенант кивнул:
— Не о вас речь. Мы уже цепочку взяли. Но представьте себе, человек из определенных краев вернулся. Вокруг него начинают группироваться старые знакомые… И вот на этом фоне в районе что-то случилось. Вот и начинаешь думать, есть тут связь или нет. Вам это нужно? Нет. И нам, кстати, это не нужно.
— Ладно, начальник, — сказал Иван. — Мы вас поняли… Вы нас тоже поймите…
Участковый пошел к двери. Но мать, видно, не собиралась его отпускать.
— Нехорошо так. Все-таки уважать надо людей… Окажите нам честь, а Ивану доверие… Прошу вас к столу.
Вячеслав Павлович уже пододвигал стул.
— Ну ладно, посижу минутку, — согласился лейтенант.
Через минуту появился штофик с водкой, остатки вчерашнего пиршества. Вячеслав Павлович точной рукой, не целясь, разлил беленькую в мелкие рюмочки.
— Ну, вздрогнем! — сказал он.
Все, даже мать, быстренько вскинули рюмки. Только лейтенант не шелохнулся, все осеклись, замерли, чувствуя разницу между собой и им, таким молодым по возрасту и с виду похожим на всех обычных парней, но являющимся в полном смысле слова представителем власти.
Мать начала очень бодро, настолько бодро, что Ивану показалось, будто это наигранно, она улыбалась и говорила громко, а глаза были потухшие, но вдруг голос ее сломался, и все лицо быстро и сильно побледнело, и рот дернулся, будто она поперхнулась костью.
Она замолчала и села на стул.
— Да что ты, Ната? — сказал Вячеслав Павлович.
Иван удивился этому имени: «Ната». Разве у матери есть и такое имя? Никогда он не слышал, чтобы кто-нибудь ее так звал.
А она между тем тяжело сползала со стула. Иван с опозданием, Вячеслав Павлович на мгновение раньше кинулись к ней. Иван поддерживал ее за руки, старался, чтобы она не упала, с ужасом чувствовал безвольную, неуправляемую тяжесть ее тела. Вячеслав Павлович начал метаться по комнате, беспомощно размахивая руками, что-то искал, что-то неразборчиво бормотал.
Иван с усилием подтащил ее к дивану, подложил под голову подушку, увидел, как набухшие веки начали прикрывать глаза, дотронулся до ее лба, и ему показалось, что лоб холодеет. Вячеслав Павлович увидел лицо Ивана и закричал.
Лейтенант быстро и деловито, как врач, подскочил к матери, склонился над ней, взял руку, нащупал пульс, глазами приказал Вячеславу Павловичу, чтобы тот перестал бегать, чтобы замолчал.
В комнате стало тихо, лейтенант сидел, выражение лица у него было колдовское, а Иван и Вячеслав Павлович со страхом и надеждой смотрели на него, как на врача.
— Прощупывается, — сказал лейтенант. — Но слабенький…
Он покопался в пиджаке, нашел цилиндрическую металлическую коробочку, откупорив ее, сунул матери что-то в рот. Зубы ее были сомкнуты, он стал с усилием разжимать челюсти, но она сама неожиданно открыла рот, по-собачьи, языком взяла таблетку, что-то надтреснуто, неразборчиво прошептала.
— Сейчас, сейчас получше будет, — говорил лейтенант. — Это — хорошее средство, проверенное. Валидол.
То ли средство помогло, то ли мать сама справилась, но лицо ее начало окрашиваться слабым румянцем, она провела рукой по лицу, сказала виновато и тихо:
— Ну вот… напугала всех.
— Вот видите, помогло, — возбужденно говорил лейтенант. — Нелишне иметь при себе. Я иногда в сильную духоту, в жару или как понервничаю сам употребляю, оно кислое, приятное, вроде мятной конфеты…
Он еще раз пощупал пульс у матери и сказал:
— Ну вот, теперь все в порядке… Я уж пойду, пожалуй.
— Нет, погодите, — слабым голосом сказала мать. — Сейчас Слава чаю поставит.
Вячеслав Павлович, весь еще напуганный, сжавшийся, покорно выскользнул на кухню.
Мать лежала на диване, а Иван с лейтенантом молча сидели у большого обеденного стола. Иван сказал лейтенанту:
— Давай, лейтенант, по маленькой — за мать.
Лейтенант посмотрел на Ивана, подумал, согласился:
— За мать выпью… Чтобы не было у нее больше с тобой неприятностей. Согласен?
— Согласен, лейтенант. И чтоб ты ее больше не пугал.
Они чокнулись, выпили. Вячеслав Павлович возился на кухне, чашки звенели, круто, громко закипал чайник.
— Ты, лейтенант, за меня не бойся, — сказал Иван. — Я уже старый. Я вот лет на десять тебя старше. А может, и на сто… Я уже устал, да и здоровье не то, так что можешь за меня не волноваться.
— Только потому, что здоровье не позволяет, — сказал лейтенант.
— Не только. Есть еще много, много других причин, да ведь мы еще не сошлись так близко, чтобы рассказывать.
— А близко нам и не надо, — сказал лейтенант.
Вячеслав Павлович уже принес чай, пироги, варенье.
Пропустили еще по одной перед чаем. Попили чаю, не торопясь, поговорили о чем-то незначащем, неважном.
— Где живете-то? — спросил неожиданно Вячеслав Павлович.
— Между небом и землей, — усмехнулся лейтенант.
— То есть?
— А вот так. Обещали дать с назначением, но уже год тянучка идет. Холостой, семьи нет, вот и таскаюсь с квартиры на квартиру по углам. А ведь мог в Средней Азии остаться работать. Я в Ташкенте училище кончал. Бывал кто? — спросил участковый инспектор.
— Я бывал, — сказал Иван. — Приходилось.
— Так вот, как приехал из Ташкента, так и не устроюсь.
— Что же это?.. И вас, выходит, обделяют? — сказал Иван. — Не дело. Власть своих не должна обижать.
— У нее все свои, — сказал лейтенант.
— Выходит, что и я свой?
— А то какой же? Ты, можно сказать, нарыв на теле общества, но свой.
— Спасибо за комплимент, начальник.
— Да нет, я не в настоящем времени имею… Я имею в прошедшем. А то кто ж ты был, как не нарыв… Роза, что ль, чайная?
— Ну, опять пошли не в ту степь, — сказал Вячеслав Павлович. — Конечно, нарыв, а то кто же, только был нарыв, да лопнул. А теперь новая кожа наросла. Не так ли, товарищ лейтенант? А с квартирой безобразие.
— Оставайтесь у нас, — сказала мать. — И места много, и Иван у вас под рукой. Чуть набедокурит — сразу за шкирку.
— А что, — сказал Иван, — идея. По крайней мере, не соскучитесь.
Все улыбнулись, и лейтенант тоже, но как-то невесело. Он поднялся с места, но Ивану показалось, что скорее по необходимости, чем по желанию… Видно, не так уж и хотелось ему уходить из теплого, обжитого дома на квартиру, которую он снимал.
— До свидания, товарищи, — сказал он официальным, таким же, как вначале, тоном. Он постоял, поглядел в раздумье на Ивана и добавил тем же тоном, только понизив голос: — А ты, Иван, на днях зайди куда надо. Ко мне лично.
— Будет сделано.
— И вообще, — сказал лейтенант, — надеюсь…
— Все будет нормально, товарищ лейтенант, чин чинарем.
— Ну, спасибо и будьте, — бросил лейтенант и ушел.
— Про свое не забывает, — сказал Вячеслав Павлович. — Из молодых, да ранний.
— А что, вроде симпатичный, — сказала мать.
Иван промолчал. Может, и симпатичный. А может, и нет; лично для него, Ивана, все они симпатичные.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Правда, был один. Лет двенадцать назад Иван возвращался из колонии с Урала, отбыв свой срок. Возвращался он к старым друзьям и знал уже заранее, что начнется все снова, потому что тогда ни к чему другому интереса не имел. Но в дороге об этом думать не хотелось.
Была весна, он стоял все время у окна вагона и смотрел с нежностью на то, что давно уже не видел, от чего отвык: на мелькавшие домики, на темные голые поля, на проносящиеся станции, где скорый не останавливается, на мальчишек, что-то громко, возбужденно кричащих вслед поезду.
Зябко ему было, и странно, и одиноко, и интересно… Чувствовал он себя и молодым и старым, глупым, как лопоухий щепок, и хитрым, как травленный на охоте волк.
Шел он сквозь вагоны спокойно и медленно, не прыгая на ходу, не свисая с подножек, никуда не торопясь, а просто так, пассажир, идущий в направлении вагона-ресторана. Ему нравилось идти по вагонам, на секунду заглядывая в чужую жизнь: вот эти спят, а те играют в карты, а третьи пьют вино, а вот девушка на нижнем боковом, в некупированном вагоне. Вот что его интересовало сейчас: не деньги, не работа, не будущее, а девушки, стоявшие у окна, сидевшие у столиков, читавшие, лежавшие на сиденьях, спящие и притворяющиеся, что они спят. И не то чтобы он конкретно чего-то хотел от них, хотя, конечно, и это было, но просто ему было хорошо и радостно, что они есть, вот тут рядом, отделенные от него не стеной, не проволокой, а тоненькой вагонной перегородкой, а некоторые ничем не отделенные.
Он разглядывал их и разговаривал с ними, записывал их адреса, все они сходили на разных станциях, махали ему ручкой, делали грустные глазки, но кто-то там их встречал, ждал, а он ехал дальше. За одной он ухлестывал довольно сильно, она была спортсменка и ехала на сборы. Ее окружали рослые парни с румяными ряшками. Иван таких не уважал: они все казались ему глупыми и занимались не делом. Хоть были они с виду и здоровы, и рослы, и мускулисты, но Иван представлял себе, что если понадобится, если жизнь заставит, то он будет ломать их как захочет и давить, как приземистый, худой волк может задавить любую рослую и мордастую овчарку, даже если у нее на шее болтается несколько золотых медалей. Но заводиться с ними без причины он не собирался, настроен был по-весеннему мирно, да и к чему ему валиться на чепухе?
Но девушка эта, Верка, чемпионка по плаванию, уж больно была хороша. Беловолосая, тоненькая, в синем спортивном костюме, который как бы приравнивал ее к мужчинам, да только не мог приравнять.
Все они, парни и девушки, были в своей спецодежде, в синих штанах и курточках. Эта облегающая одежда к женщинам была беспощадна: если ноги коротки, или толст живот, или что-то еще не так, как надо, то форма только выпячивала все эти недостатки. Она же, Вера, чемпионка области или района, это Ивана не интересовало, была тоненькая, с узкой, детской талией, с сильными, длинными ногами, и казалось, вот так и родилась в этой синей эластичной кожуре. Очень подчеркивал спортивный костюм ее хрупкость и силу, девичество и женственность.
Иван так и эдак подходил к Вере, но она улыбалась ему, как всем, приветливо, но ничего не обещая.
В ресторан она идти отказывалась, а различные байки, которые Иван вспоминал к месту и не к месту, слушала вежливо, но рассеянно.
Спортивные парни смотрели на Ивана искоса, пиво, которое он покупал в станционных буфетах, не пили и, казалось, при первом удобном случае готовы были его отколошматить. Тогда Иван, не любивший ходить на любую охоту в одиночку, нашел себе напарника. В купе к нему подсел молодой азербайджанец. С кавказцами было легче знакомиться, и через несколько часов Иван и азербайджанец были если не друзья, то хорошие приятели. Правда, азербайджанец пил только сухое вино, да и то понемногу, и сильно темнил насчет работы, и на прямой вопрос Ивана: «Где имеешь приварок?» — он отвечал: «Ай, в одном месте».
Разумеется, Иван не раскалывался насчет себя: работал он будто товароведом в одном хорошем месте по распределению после окончания техникума. Было это и культурно и привлекательно для собеседника.
«— А у вас такого-сякого не бывает? У нас этого почем зря не достанешь.
— А чего ж, бывает… иногда в конце квартала…
— Так… может быть, я прямо к вам в случае чего, если…
— Зачем так сложно?.. Я и сам для вас возьму, если будет, и пришлю, потом отдадите…»
Но собеседники не любили неопределенности, они хотели уж все наверняка, зная, что если оставить деньги, то это обяжет товароведа повертеться и достать… Ну, а на всякий случай (хотя как они могли не поверить такому хорошему, отзывчивому человеку?) записывался точный адресок Ивана. Конечно, Иван не преминул показать свое служебное удостоверение, а кто там будет разбираться подробно, что, где и зачем, если синими чернилами на белой картонке написано: «То-варо-вед».
Все чин чином. А иногда и не брал Иван задатка, просто так — на симпатию, на интерес, в счет будущих поставок. Порой и без умысла, не для корысти и махинации, а просто так представлялся людям на их вопрос: «Кем работаешь?» — «Товароведом».
В конце концов кем он был, если не товароведом?..
Азербайджанец же вообще нравился ему. С ним приятно было заходить в купе к девушкам, очень он был мягкий и обходительный. Что азербайджанец может понравиться девушке больше, чем он сам, этого Иван не мог допустить. Так и появлялись они вдвоем в вагоне, где ехали спортсмены.
Азербайджанцу тоже сразу понравилась беленькая Вера, и он с ходу начал «гулять по буфету», — приносил девушке конфеты, выскакивал на полустанках, притаскивал ведра яблок, теплую, как бы подтаявшую картошку.
Допоздна они сидели в ее купе, бесконечно раздражая спортсменов, остря и стараясь выделиться на общем фоне, а она только тихо посмеивалась, оставляя обоим расплывчатые и весьма неопределенные надежды…
Потом она сошла вместе со своими спортсменами, оставив адрес все-таки азербайджанцу, а не Ивану.
Правда, она сказала Ивану: «Будете в Запорожье, заходите». Но адрес не дала. Просто — Запорожье. Спортивное общество «Буревестник».
Да Иван нашел бы при желании, умел он и без адресов находить, да только зачем?.. Зачем все это, когда нет ответного чувства? Так и сказал ей Иван на прощание: мол, всего вам доброго, новых рекордов на благо советского спорта, прыгайте выше всех, ныряйте глубже всех, но ведь выше себя все равно не прыгнешь…
Девушка не поняла, что именно этим хотел сказать Иван, и он не стал пояснять. И ребенку был ясен смысл: какую сильную промашку сделала девушка, не оценив Ивана… Молодой был тогда Иван, глупый и думал, что все должны его ценить. По заслугам. А получалось, что по заслугам ценили его не женщины, а городские, областные и даже республиканские суды… «Ах, все это блажь: и спортсменки, и любовь, и разные варианты, — думал Иван. — Главное, доехать, не наколоться на пустяке, найти своих, немного отдохнуть, погулять — и снова за дело». Потому как что еще он в жизни любит и умеет?
А Верочка стоит на станции, чемоданчик у ног, стоит среди таких же синих, форменных, спортивных и молодых, машет рукой то ли азербайджанцу, то ли Ивану. А может, и всему вагону. Вот подошел автобус, синяя стайка вкатилась в него, вот мелькнула в последний раз в окошке белая кудрявая голова, и автобус скрылся.
— Ну, что ж, друг, — сказал Иван. — Ни тебе, ни мне, а какому-нибудь атлету с секундомером. Пойдем посидим.
И азербайджанец, почему-то до этого избегавший вагона-ресторана, неожиданно согласился.
Они хорошо, спокойно, долго сидели, обсудив Веру и вообще женщин. Азербайджанец сказал Ивану, что есть у него невеста, что как только устроится на работу, получит квартиру, так и вызовет свою девушку, хотя и не хотелось ему ехать в Россию.
— А что за работа у тебя такая? — спросил Иван уже не в первый раз.
Парень помешкал, поглядел на Ивана, будто впервые его видел, будто соображал, стоит он признания или нет, и, убедившись, что Иван все-таки этого, несомненно, заслуживает, сказал:
— А работа простая. Училище МВД окончил, получил звание, назначение, еду к месту.
«Ах, вон что, так вот ты из каких слоев общества!» — подумал Иван и сказал:
— Ну что ж. Такие люди нам нужны.
— Кому нам? — удивился азербайджанец.
— Всем нам, — пояснил Иван. — Обществу.
Они посидели еще часок-другой под мирный перестук колес, попивая красное сладкое вино, запивая его горьким пивом, заедая жестким дорожным бифштексом с застывшим оранжевым фонарем яйца на верхушке.
Азербайджанец рассказал Ивану, что работал на заводе слесарем-сборщиком, что был дружинником в заводском отряде, что у них в городе резня сильно распространена и есть повод, нет повода — чуть что, мужчины за железку хватаются. Вот он и боролся с нарушителями, однажды самого порезали, две благодарности получил, а потом вызвали, предложили по комсомольскому набору, и он пошел. Училище окончил, получил назначение, вот и все дела…
— А почему не в форме едешь? — спросил Иван, сделав наивные глаза.
— Приеду на работу, надену. Зачем людей стеснять, себя обременять?
— Ну, а если в дороге что?
— Если да кабы, во рту вырастут грибы…
— А вдруг вырастут?
— Ну, а вырастут — поджарим. И без формы можно свой долг выполнять.
У Ивана вдруг сердце заныло, и он спросил все так же спокойно и дурковато:
— А без пухи можно долг выполнять? Пуха у тебя с собой?
— Какая еще «пуха»? — сказал азербайджанец не то чтобы с подозрением, а с недоумением.
Впрочем, Иван догадывался, что недоумение — это как бы начальная стадия подозрения. И еще он почувствовал, что вопрос его был лишним, что так, «в лоб», не вызнаешь, а все завалишь, если что и задумал. А он еще ничего и не задумал.
— Ну, какая пуха, — спокойно сказал Иван. — Обыкновенная пушка, пистоль, называй как хочешь. Ты что, в армии не служил, что ль?
— Почему ж, служил. Только у нас там никаких «пух» не было.
— Не знаю, где ты служил, — равнодушно и как бы теряя интерес к теме, сказал Иван.
Однако вскоре прежнее доверие было восстановлено… Иван даже рассказал азербайджанцу о том, как партизанил и как был взят в плен.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Он рассказывал об этом редко и без прикрас. О чем угодно он мог врать. Об этом — никогда. Это было, и он часто удивлялся сам: ведь надо же было такому случиться именно с ним.
Теперь все реже и реже вспоминал он тот лагерь под Эрфуртом и дом, где он впоследствии батрачил у пожилой вдовой немки.
Она любила выпить и, чтобы не пить в одиночку, наливала ему немножко густого, желтого, пахнущего мятой пойла. Она разбавляла это водой и давала ему на закуску пару таких же мятных конфет. А ему хотелось есть: мяса, или кусочек сыру, или хотя бы хлеба. Она пьянела быстро; узкое длинное лицо ее наливалось румянцем, она включала патефон и заставляла его танцевать.
Он танцевал не в склад, не в лад — русского, вприсядку, под картавое цветочное танго. Она не сердилась на него. Муж ее погиб во Франции, а сама она жила когда-то в России, ее мать была остзейская немка, и к русским она относилась довольно терпимо. Главным ее врагом была Франция, Выпив, она начинала разговаривать: «Вот как бывает, мой бог… Никто там не остался, в этой стране шлюх, никто не остался навсегда, никто там и не погиб, может быть, пятьдесят человек, не больше, и среди них, мой Карл Вальтер. Надо же быть таким растяпой, чтобы дать подстрелить себя там. Мой муж не был рожден для войны, у него была лучшая в городе коллекция марок, и он переписывался со множеством филателистов… Что поделаешь, на войну всех забирают, даже чудаков…»
Она не мучила Ивана, не издевалась над ним, как другие хозяйки. Побила раза два-три «для порядку», но не сильно, без злобы… Кормила не досыта, но так, что жить можно было.
Он хотел ее ненавидеть, но не мог.
В своей жизни затем он встречал людей гораздо более несправедливых и страшных, чем она.
Однажды он подрался с двумя немецкими мальчишками с соседнего двора. Они обдали его водой из шланга, а была зима, и довольно крутая для тех мест, и волосы его, облитые водой, стали стынуть, слиплись, казалось, вот-вот покроются ледяной коркой. Братья показывали на него пальцем, хохотали, мотали взад и вперед длинным шлангом, кричали:
— Russischer Schwein! Russischer Schwein!
Они дразнили его и раньше, но Иван сдерживался, молчал, он не считал этих ребят такими уж злыми, однажды они даже дали хлеб с повидлом, но иногда на них находило черт-те что, и тогда они бешено цеплялись к нему.
Раз летом он работал во дворе без рубашки, голый по пояс. Когда он кончил работать и подошел к сараю, взял свою рубашку, увидел, что она мокрая и пахнет мочой. Братья как ни в чем не бывало гоняли мяч на соседнем участке. Иван в то время работал у хозяйки недавно и старался изо всех сил, боялся, что его отправят обратно в лагерь. И он промолчал, хотя всю ночь не спал и все обдумывал, как на рассвете возьмет кухонный нож, перемахнет через забор, дождется их во дворе у сарая и, когда они пойдут в школу, нападет и зарежет, как свиней, которых резал под руководством своей хозяйки. Он думал только об этом.
А в этот раз он стоял перед ними, уклонялся от холодной, твердой струи, и не было у него под рукой ничего, даже камня. Но в нем поднялась и стала разрывать его грудь кашлем и болью такая ярость, что, когда он кинулся на них с белым, перекошенным лицом, с прищуренными, покрасневшими от гнева глазами, с полузамерзшими волосами, они рванули от него в дом, хотя были и старше и рослее его.
Одного он догнал, ударил под дых, свалил на землю и стал пинать чеботами. Тогда он почувствовал нечеловечески твердый и тяжелый удар по плечам. Он покачнулся, удержался на ногах и продолжал бить ногами лежавшего фрица. Он увернулся от второго удара, такого же чугунного и свистящего, чуть задевшего его руку и прокатившегося мимо. Повернувшись, он увидел второго мальчишку, державшего в руках железный прут из забора… На этом пруте был зеленый полусгнивший кусок геральдического бронзового орла.
Иван бросился под удар, ухватил плечо врага, толкнул его, железка выпала из его рук, и они упали оба. Они валялись в снегу, немец хрипло ругался и стонал, потому что Иван вцепился зубами в его руку и сжимал зубы что было сил, чтобы прокусить не только эту вонючую и толстую кожу, но и кость. Попалось бы горло — Иван прокусил бы и его. Немец орал все громче и бил Ивана по голове свободной рукой, но удары ослабевали, а крик усиливался, потому что боль становилась невыносимой.
Ивана уже тошнило от этой мокрой, окровавленной, как бы резиновой человеческой кожи, и его действительно вырвало, только тогда он отпустил руку немца. Но немец лежал навзничь, Иван видел белую, измазанную ржавчиной от железки руку с нешироким волчьим надкусом ниже локтя и чуть левее вены. Сначала был алый след, зазубрина, потом густо пошла кровь.
«Фашисты, ублюдки!» — сказал Иван, выругался, ударил проклятого немца ногой по ступне и пошел.
Второй, бледный, сидел на карачках, плакал, звал отца и ругался.
Иван ушел со двора, не зная, куда бежать. Он слонялся по городу, по окраинам, зашел в какую-то пивную, там попрошайничал (он знал немало слов по-немецки). Тощий лысый мужчина, одноногий инвалид, узнал в нем русского, подозвал к себе, начал что-то тихо, вкрадчиво говорить, все время показывал, доставал монетку, подразнивая Ивана, а потом неожиданно ударил его несколько раз костылем по голове, да так, что Иван потерял сознание. Его доставили в полицию, привели в чувство, стали допрашивать, откуда он, где работает. Он запирался. Тогда его посадили в карцер и сказали, что наутро отправят в пересыльный лагерь. Тут он назвал свою хозяйку. Ей позвонили, и она приехала через полчаса.
Иван не знал, что будет дальше, чего еще можно ждать. Голова болела, ему хотелось спать. Он знал, что хорошим это все не кончится. Хозяйка сказала, что послала его в магазин, но он, видимо, заблудился. Его отпустили. Она крепко, грубо держала его за руку и молча вела домой. В дом они почему-то вошли с черного хода, как бы тайком. Когда они были уже в комнате, она спросила:
— Что ты сделал с двумя немецкими детьми?
— Я их бил, — сказал Иван, — изо всех сил, только мало. Они сволочи.
Он рассказал ей, как они облили его водой, как в прошлом году мочились в его рубашку. На хозяйку это не произвело впечатления, и она сказала спокойно:
— Сволочь ты! — И прибавила по-немецки: — Dreck! — Она помолчала, хмуро посмотрела на Ивана и добавила: — Меня уже посещал их отец. Он брал с собой ружье.
Иван был страшно голоден и попросил поесть. Она дала ему жидкого кофе, жареного хлеба с кусочком масла, он быстро съел все это и попросил еще хлеба и кофе. Она не отказала и на этот раз, но он видел, что она еще больше рассердилась. Она не любила, когда он что-нибудь просил. Просить в этом доме не полагалось. Надо было брать то, что дают. Хозяйка знает, сколько надо дать и когда, а просить — это хамство, свинство, русская невыдержанность.
Когда он поел, она повела его на второй этаж в маленькую комнатку, напоминавшую чулан, и ушла, заперев комнату на ключ. Уходя, она сказала:
— Убежишь — погибнешь.
А он и не собирался убегать. Куда ему убегать? Он сидел в чулане в полной тишине и ждал того момента, когда станут слышны ее шаги на узкой деревянной лестнице. Два раза в день она приносила ему еду. Остальное время он лежал на сундуке, застланном одеялом, и смотрел в чердачное окно… Делать ему было нечего, он спал так много, что опух от сна, а когда просыпался, то начинал вспоминать отряд, и как ему там жилось, и как их неожиданно взяли. Он вспоминал до этого момента, дальше был лагерь, и вспоминать не хотелось. Еще он вспоминал мать и отца, как тот ушел, не попрощавшись, ночью и как он, Ваня, делал вид, что спит. «Зачем так делал? — корил он себя. — Почему я с ним не простился?.. А где он теперь, батя? Может, в плену, а может, в бою погиб».
Почему-то Ване не верилось, что отец его живой. Он слишком много видел, как умирают, и понял теперь, что это очень легко — сделать из живого человека мертвеца. Ему становилось страшно оттого, что и его может прибить отец этих двух маленьких немцев. Придет с ружьем и запросто пристрелит, как ничью собаку.
Но он не жалел, что связался с ними, он жалел, что мало им дал. Если бы он мог, он бы их убил. Они были фашисты. Он кусал руки от тоски, страха, одиночества, от бессильной злобы и обиды. На кого? Он не знал. На этих двух фашистиков? Не только на них… Вообще на всех немцев и вообще на всех людей.
И вообще на свою жизнь.
Он утыкался носом, лбом в маленькую жесткую цветастую подушку-думку и скулил в голос, без слез… Избитая его душа томилась, стонала, посылала свои сигналы родным людям… Но только где они были, родные?
Однажды хозяйка зашла к нему в такую минуту. Ему было так плохо, что он не услышал даже ее шагов, а когда открылась дверь, он мгновенно вскочил и выругался. Но она, видно, сама испугалась, поглядев на него, что-то прошептала, замешкалась, потом вдруг протянула руку, дотронулась до его головы. Он подумал, что она хочет его ударить. Но он ошибся. Бить его она не собиралась. Это он понял через секунду, когда увидел ее лицо. Лицо было постаревшее, бледное, с удивленными глазами, такое, как после церкви. Когда она приходила из церкви, у нее всегда были такие просветленные, тихие, измученные глаза.
Словно забыв, что она умеет говорить по-русски, она что-то долго, неразборчиво шептала по-немецки, обращаясь к нему и прикладывая руки к груди. Он этого не понял. Он понимал про еду и про работу… Потом она перестала шептать, постояла еще минуту, оглядывая его, это помещение, сундук, узкое чердачное окно, точно она прощалась с этим, точно она прощалась с этим перед долгой, может быть вечной, разлукой. Оглядев все, она ушла.
И все продолжалось, как было. Еще месяц она не выпускала его из дома, но теперь он жил не на чердаке, а внизу. С едой становилось все хуже, они ели теперь вместе за одним столом и почти поровну. Ваня забыл тот день, когда он видел мясо. И они не выпивали теперь вместе, как раньше. Хозяйка пила одна. Но она не оживлялась, как прежде, была рассеянна, неразговорчива, выключала радио, никогда не заводила патефон. Несколько раз город бомбили, и под прерывистый вой сирен они с хозяйкой шли в подвал. Когда ухали зенитки, хозяйка морщилась, а он считал залпы. Ни он, ни она не боялись…
Наконец она выпустила его погулять. Прошло три месяца его затворничества. На улице было черно, ни один огонек не прорывался сквозь затемненные окна. Изголодавшиеся, одичавшие собаки отрывисто, коротко лаяли, и натужно гудел движок. Ивану почудилось, что он дома, под Оршей, что это те самые улицы, что собаки соседские брешут, а электричество выключили, потому что поздно. И пахло уже не зимой, а весной, и необычный этот запах, легкий и свежий, тянул его бежать за околицу, еще дальше, по мокрой, нетвердой земле, бежать и бежать, пока дыхания хватает, а потом взлететь, как ястребок, и вонзиться в черное близкое небо.
— Не высовывать нос за ворота, — сказала хозяйка. — Далеко не ходить. Только двор.
И он не ходил далеко. Он не знал счет дням и не знал, какой месяц, то ли март, то ли апрель. Днем он почти не выходил на улицу, а когда вышел тайком, то увидел, что улица очень солнечная, снег стаял, правда, темные, мусорные куски неистаявшего снега еще темнели и гнили во дворе около изгороди, на обочинах улиц, что было необычно и странно. Иван встречал здесь уже не первую весну и видел, как немцы тщательно очищают улицы и дворы от снега, так, будто корова все языком слизала. На этот раз все было непривычно, заброшено, грязно, гнило. То ли хозяева забыли про свой обязанности, то ли ушли куда-то. Пригород совершенно опустел, и было много свежих развалин.
Несмотря на запрет хозяйки, Иван стал ходить иногда в город. Никто не обращал на него внимания, да и людей было мало, только школьники на территории стадиона занимались строевой подготовкой, бегали, ползали по грязной земле, протыкали воздух штыками. Некоторые были одеты в шинели, другие в гимназическую форму. Ване было интересно, настоящее у них оружие или так, игрушки. По виду было настоящее, и Иван стал уже было примериваться, как бы украсть ружье или хотя бы тесак. Но его заприметил офицер, махнул рукой, чтобы Иван подошел, но Иван рванул изо всех сил по улице и влетел в первую подворотню, где спрятался за мусорный ящик. Видно, им было не до него, особенно не искали. Прождав полчаса, он дворами вернулся домой и несколько дней не вылезал.
Он смутно понимал, в чем дело, что происходит, но еще боялся в это поверить. Тайком от хозяйки он включал радио, пытался что-то понять, но не мог. Работал только репродуктор, приемники были сданы.
Соседский дом, где жили мальчишки, был тоже пуст, стоял с заколоченными окнами. Но однажды он заметил, что на дворе появился хозяин. Он медленно ходил по двору, толкал впереди себя тележку, собирал и бросал на тележку какое-то барахло. Ваня хотел спрятаться, но хозяин его засек. Хозяин остановился, отставил тележку, сплюнул и стал долго и неподвижно смотреть на Ивана. Затем он достал садовый нож и провел им по своему горлу, пальцем указывая на Ивана. Потом длинно выругался, Иван не расслышал, но ему показалось, что по-русски. Ваня не знал, что делать, то ли бежать в дом, то ли лететь к сараю, хватать хозяйкины вилы.
Но немец не сдвинулся с места, он стоял все так же неподвижно, и злобно глядел на Ивана, ругаясь, затем повернулся к Ивану задом, ударил себя ладонью по заду, показывая Ивану воочию, кто он, Иван, есть на самом деле. И снова поволок свою тачку, снова нагибался, что-то искал, находил и на эту тачку бросал.
Губы его шевелились, видно, он все еще ругался, ругательство было длинное, как стихи.
Через несколько дней в город вошли наши.
Первым делом Иван узнал, где находится комендатура, пришел туда чуть ли не на рассвете и стал уговаривать часовых пропустить его к коменданту. Часовые пропустили, но дневальный к коменданту-полковнику не пускал Ваню, выспрашивая его, по какому он делу и зачем. Иван сказал, что ему нужен именно полковник, что ему он все и расскажет. И его в конце концов пустили. Едва войдя в комнату, даже не разглядев как следует коменданта, Иван начал рассказывать про отряд, про плен и лагерь, почему-то вставляя в русскую речь и немецкие слова.
Ваня говорил и говорил, не мог остановиться, иногда повторял одно и то же по нескольку раз, а полковник, коренастый, широкий южанин, сидел неподвижно и слушал его очень внимательно. Руки полковника были сложены, лежали на столе, и Иван все время смотрел на эти загорелые, темные, широкие руки, и ему почему-то дико хотелось лизнуть их, будто он был собачкой, щенком.
Он и чувствовал себя от счастья не человеком, а зверьком, собакой и только по привычке говорил языком человеческим, а на самом деле ему хотелось лаять, ходить на четвереньках, лизаться по-щенячьи. Когда он чувствовал чужую власть и силу, то всегда наперекор старался перечить этой власти, а сейчас он сделал бы все, что прикажет ему этот человек… Но полковник вовсе не собирался ничего приказывать.
Он позвонил по телефону и одновременно слушал Ивана. Голос у него был хрипловатый, гортанный. Он позвал другого офицера, маленького и лысого. Маленький и лысый обнял Ивана за плечи и увел его в другую комнату.
Он запер ее на ключ, чтобы не мешали, и стал спрашивать Ваню быстро, вразброс: в какой местности находился отряд и в какое время, как звали командира, когда и как Ваня попал в плен.
Иван отвечал быстро и четко, он все понимал и врать не собирался, а лысый делал кое-какие пометки на бумажке, а через некоторое время он сказал Ване, что тот свободен.
Иван еще раз пошел к полковнику. Дневальный снова его не пускал, но Иван стал голосить, и комендант услышал и велел пустить.
— Ну, в чем дело?
Иван сидел и не знал, что говорить. Просто ему не хотелось уходить из кабинета коменданта. Но полковник сказал:
— Не бойся, скоро тебя отправят домой, на родину.
— А где мой фатер? — спросил Ваня. — Вы можете проверить, живой он или… — Ваня подумал и сказал зачем-то по-немецки, сделав при этом жест рукой: — tot.
— Конечно, живой. Должен быть живой. И больше не употребляй немецких слов. Помни, теперь ты снова гражданин Советского Союза.
Он открыл ящик стола, достал две банки американской свиной тушенки и пакет с кофе.
Целый день Ваня гулял, ел и пил с солдатами, они дарили ему гостинцы, и пришел он домой очень поздно.
Хозяйка ходила по комнатам, беспорядочно бросая в чемоданы и в кожаные баулы какие-то платья, простыни, туфли.
— В чем дело? — строго спросил Иван.
Хозяйка не ответила, только махнула рукой. Лицо у нее было очень красное, с белыми пятнами, будто она отморозила щеки. Иван уже знал: такие щеки у нее были, когда она выпивала больше обычного.
— Куда вы драпать собрались? — спросил Иван.
— К сестре, — сказала хозяйка. — В другое место. Видит бог, я хотела остаться здесь, в своем доме. Я не политик, не нацист… Но приходили днем, обыскивали, сказали убираться ко всем чертям.
— Кто приходил? — спросил Иван.
— Ваши солдаты. Будут дом забирать.
— Не будут, — сказал Иван. — Я скажу полковнику… Он здесь главный хозяин.
Она посмотрела на Ваню с недоверчивой усмешкой. А Ваня продолжал:
— Дом не заберут. Я сейчас к нему пойду и доложу. А соседа и двух его гадов мы заберем и отправим.
— Куда? — спросила она.
— Куда следует…
Хозяйка постучала пальцем по лбу.
— Совсем потерял голову, бедный, глупенький русский мальчик… Кому ты нужен? Где твоя мать и где ты будешь жить? Куда ты денешься после вашей победы?
— Не волнуйтесь, — сказал Ваня. — Страна у нас большая.
— Хочешь ликеру на прощание? — сказала хозяйка.
— Давайте, — согласился Ваня.
Его упрашивать долго не надо было… Первый глоток спирта он выпил тайком от всех в партизанском отряде. Горло обожгло, голова пошла кругом, и захотелось плакать, и он стал звать мать… Но ее не было рядом. А может быть, вообще ее не было нигде. Однажды он сильно промерз, простудился, и тогда его стали лечить, принесли в кружке спирт, сказали, чтобы выпил и заел яблоком. Ваня выпил это лекарство, свернулся калачиком, лег на шинель, и снова ему захотелось увидеть отца или мать, но не успел он и подумать о них, как заснул… Наутро все смеялись и кричали: «Ванька, опохмелись!» И протягивали ему кружку крепкого чая. А насморка как не бывало.
В плену, в пересыльном лагере, он заболел крупозным воспалением легких, и взрослые украли где-то спирт и влили ему несколько капель в глотку… То ли от спирта, а скорее всего оттого, что живуч был, как волчонок, уцелел и тогда Ваня. А здесь, в доме хозяйки, когда ее не было дома, он частенько прикладывался к высокой фаянсовой бутылке с рыцарским замком вместо крышки и похлебывал из тонкого горла тягучую, как патока или как мед, желтую жидкость, сладкую, с горечью… Когда же на хозяйку находило и ей хотелось выпить, а выпить было не с кем, она наливала ему наперсточек. Она велела ему лить в чай.
Но он употреблял это в чистом виде. Иногда он незаметно подливал себе сам и тут же хмелел, хотя наперсток был очень мал. Она велела ему плясать, и он врубал русского или гопака два-три коленца — то, что помнил, то, что мать плясала с ним, когда были праздники.
…Хозяйка достала длинную бутылку, налила на этот раз не в наперсток, а в большой бокал, в верхней части которого была нарисована свинья, в нижней — осел. Это означало, что если ты пьешь очень мало, то ты осел, а если наливаешь себе доверху, то ты свинья.
Хозяйка налила ему «до осла». Иван достал банку с тушенкой.
— За победу над фашистской Германией! — сказал Иван громко, повторяя фразу, которую он слышал сегодня днем на митинге.
Он протянул свой бокал, где было налито «до осла», к хозяйскому бокалу, заполненному «до свиньи», и хотел чокнуться с ней, но она отстранилась. Она сказала что-то быстро по-немецки.
— Давайте чокнемся, — упрямо сказал Иван.
Она прикрыла рукой свой бокал.
— Давай чокнемся! — приказал Иван.
Она молча смотрела на него с недоумением и жалостью, будто он заболел и бредит. Будто он лежит на чердаке, уткнувшись в подушку, и скулит.
Она тихо сказала ему:
— Это русский обычай. У нас в Германии не чокаются.
Она подняла бокал, посмотрела сквозь толстое стекло на свет — на желтую жидкость, на маленького осла с опущенными ушами, на поросенка с розовым пятачком — и сказала:
— За мою любимую поверженную родину. — И, чуть отхлебнув, поставила бокал на стол.
Ваня вскочил, в сердцах хлопнул свой бокал об пол. Хозяйка тихо, неслышно ушла на кухню… В этот момент энергично, повелительно позвонили в дверь. На звонок выскочил Иван. Справился со щеколдами, задвижками, отворил. Вошли двое солдат и старшина. Ваня радостно заулыбался: «Свои».
— Кто такой? — отрывисто, сердито спросил старшина.
— Я военнопленный, — сказал Ваня. — У немки здесь работаю.
Старшина усмехнулся.
— Да, да, — сказал Иван. — Я сегодня у коменданта был. Я был связным в партизанском отряде.
— Ну, дает! — восхитился один из солдат. — Артист.
— Да не артист, а правда, — обиженно сказал Иван. — Не веришь — смотри сюда.
Ваня закатал рукав рубашки, показал выколотый на руке лагерный номер.
Старшина поглядел, сказал примирительно:
— Ладно… Не в этом дело, — и спросил прежним, недоверчивым тоном: — Помещение знаешь?
— Знаю.
— Покажи, что тут есть.
Ваня понял, что они кого-то ищут. Иван провел их по дому. Они открывали шкафы, поднялись на чердак, в ту комнату, где прятался Иван от соседа, потом пошли во двор, обыскали сарай.
— Никого не видел в доме? — спросил старшина.
— Никого, — сказал Ваня. — К хозяйке редко кто приходит.
— По нашим сведениям, она жена погибшего офицера.
— Жена, — сказал Ваня. — Только он давно погиб и не у нас.
— Доставалось тебе? — спросил один из солдат.
— Не очень, — сказал Ваня. И добавил, обращаясь к недоверчивому старшине: — Она, как выпьет, все время Гитлера ругает, — этого Иван ни разу не слышал, но почему-то, когда он говорил, ему казалось, что так и было, — она вроде как коммунистка… Ну, не совсем, конечно… В общем, не очень вредная.
Солдаты поискали что-то еще здесь и на соседнем дворе и ушли. Ваня так и не понял, что им было надо. Хозяйка снова сидела за столом. Глаза ее были полузакрыты, казалось, она дремала… Иван увидел, что длинный, узкогорлый штоф с ликером на две трети опустел. Он хотел налить себе еще полрюмочки сладкого ликера, но посмотрел на красное, неподвижное лицо хозяйки, махнул рукой и выскочил на улицу.
На улице можно было ходить с шести часов утра до восьми вечера, до комендантского часа. Можно было ходить, бегать или просто сидеть на солнышке в любом дворе и что-нибудь кричать тихим, напуганным немцам. А можно было подойти к нашим солдатам, попросить папироску, посидеть с ними, поболтать, сжевать плитку трофейного шоколада, а можно было побалакать с американцами, проезжавшими через город. А можно было вообще ни с кем не разговаривать, а просто тихо идти по улицам, и что-то бормотать, и тихо ругаться от счастья… Почему ругаться?
А какими еще словами выразишь то, что на душе? Может, они и есть, какие-то другие слова, да только Ваня их не знал.
Через месяц он стоял перед полковником, перед комендантом, стоял, глядя то на него, то на большой яркий портрет Верховного Главнокомандующего над головой полковника.
— Так вот, Лаврухин, — сказал полковник, — мы запросили соответствующие органы, и почти все факты, приведенные тобой, подтвердились. Ты действительно состоял в партизанском отряде, был взят в плен и содержался в лагере. Возможно, мы будем ходатайствовать о награждении тебя правительственной наградой. А сейчас ты зачисляешься на временное довольствие в одну из частей, получишь обмундирование, паек и все, что положено.
У Вани кружилась голова от счастья.
И чтобы уже все взять от этого замечательного дня, полного новизны, от этого всемогущего человека, Ваня спросил напоследок:
— А еще насчет бати узнать хотели…
Лицо начальника вдруг отвердело, будто он осерчал на Ваню за неуместный вопрос.
— Запрашивали, запрашивали, — тусклой скороговоркой сказал полковник. — Ну, что я могу тебе сказать, — Он взял двумя пальцами круглую крышку медной блестящей пепельницы, точно собираясь ее запустить, как юлу, по зеленому сукну письменного стола. — Твой отец, Лаврухин Владимир Федорович… — продолжал он, неожиданно повысив голос, точно он не разговаривал с Ваней, а читал какой-то приказ. Иван сжался и передернулся, как бы дотронувшись до заградительной сетки с током в лагере, а полковник замолчал, будто ему нечего было сказать Ване, будто никаких других сведений и не поступало. Все так же не подымая глаз, убирая на другой конец стола пепельницу, мешавшую своим нестерпимым блеском, он сказал тихо и как бы удивленно: — Нету твоего отца, Ваня. — И, помешкав, снова повысил голос: — Пал смертью храбрых.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Вагон-ресторан, где Иван сидел с азербайджанцем, уже закрывали, и официантка, убирая столы, покрикивала:
— Молодые люди, пора по вагончикам!
А уходить ни Ивану, ни азербайджанцу не хотелось. Признание азербайджанца и рассказ Ивана сблизили их, и теперь им хотелось долго и молча сидеть за подрагивающим столиком, глядя в окна, слепые, отражающие лишь отблеск настольных ламп.
— Ладно, посчитайте, — сказал Иван официантке.
Она подала счет, и не успел Иван рукой шевельнуть, как азербайджанец, обнаруживая мгновенную реакцию, уже кинул ей на поднос красную бумажку.
«Быстрый парень, — отметил про себя Иван, — прямо-таки спортсмен».
Иван взял бутылку шампанского, ничего другого не было, и они пошли в купе.
Разговаривать уже не хотелось, все было рассказано, и каждый думал про свое…
Иван про то, как странно бывает в жизни: вот он с милиционером откровенничает и вино пьет, а в другой ситуации азербайджанец, быть может, пускал бы в него пулю. А ведь нет у Ивана сейчас против него зла, а даже наоборот — симпатия, да и азербайджанец к нему ничего не имеет, а стоит только им разойтись по углам и приступить каждому к своему делу, тут же появится друг против друга (опять же, может, не по душе, а лишь по суровой необходимости) лютая, смертная злоба.
О чем азербайджанец думал, Иван не знал… И еще Ивану представилось вдруг, что он очутился в каком-то маленьком азербайджанском селе, в ауле, что ли, как это называется, Иван не знал, очутился в домике вроде сакли, на полу ковры постланы, и люди сидят на них, отдыхают, аккуратно сложив под собой ноги… И вроде получается, что он, Ваня, гость этого азербайджанца. Его поят и кормят, и различные песни поют, и на инструменте народном играют, и если он, скажем, на что посмотрит — ну, например, на кинжал, что висит на стене, или же на транзисторный приемник «Спидола» на тумбочке, — то тут же данные предметы заворачивают (несмотря на все его отговорки) аккуратненько, как в ЦУМе, а если он невзначай посмотрит на жену, которая сидит в соседней комнате, вся закутанная, ни ног, ни лица не видно, все на догадку, — то еще неизвестно, как все обернется и что из этого получится.
То ли великодушный лейтенант пригласит его в ковровое помещение и по широте душевной, а может, и по обычаю — Иван этого в точности не знает — оставит его с женой (у него их много, жен-то, по закону, чего жаться), или же дело примет совершенно другой оборот, и хозяин сделает Ивану знак, чтобы тот вышел во двор… И вот Иван послушно выходит во двор, а небо такое черное, и звезды такие огромные, и тихо козочки блеют около сакли, и добродушно лают собачки. (Ох, не любит Иван эту породу животных, этих прихвостней власти, с давних детских времен не любит их Ваня, сильно они его кусали, до сих пор отметины сохранились, но и он, в свою очередь, немало их передушил.) Так вот, выходит Ваня во двор в эту прекрасную погоду, в тишину, в нежный лунный свет, освещающий небогатую растительность. А вслед за ним выходит азербайджанец, крепко прижимая к груди узкий продолговатый предмет. И говорит азербайджанец Ване без всякого акцента: «Всем ты хорош, кунак ты мой ненаглядный, фраер вологодский. Кормил я тебя мясом и кислым молоком поил, ни в чем в другом не отказывал, но ты, свет очей моих, не ценишь человеческих отношений и начинаешь превышать полномочия, к бабе моей приглядываешься. Скажу я тебе, Ваня, от чистого сердца: топай отсюдова, да поскорее, а то незамедлительно пристрелю тебя из своего ружья по такой-то статье УК нашей республики в виде высшей меры социальной защиты… Беги, пока цел, нехороший ты мой…»
И Иван, как во сне, рвет когти от тихой сакли, от гостеприимного хозяина, от богатых угощений и добрых подарков, от исключительно молчаливой и замаскированной, как во время бомбежки, супруги… «Тиха украинская ночь».
Вот какие картины виделись Ивану, когда он засыпал на своей полке полужесткого купированного вагона.
Азербайджанец уже спал и по-детски чмокал губами. Ивану вдруг стало жаль его, и себя, и вообще весь мир, все прогрессивное человечество, ему захотелось спокойно и глубоко заснуть и проснуться в тихом доме, может быть, у матери, а может, и у жены, не исключено, что и у посторонней женщины, но важно, что уже заварен чай и что от него ничего не хотят и никуда «на дело» не посылают… Он помечтал немножко и уснул, будто прыгнул в мягкую яму, засыпанную леском.
Он неожиданно проснулся посреди ночи: ему захотелось пить. Он перегнулся с верхней полки, протянул руку, взял пустую, нудно дребезжащую на столике бутылку шампанского, опрокинул, поймал губами несколько теплых и сладких капель со дна… Он поглядел на соседнюю полку, лейтенант спал, легко посапывая.
Ивану, привычному к тяжелому, мучительному храпу в колонии, со вскриками, с путаными полустонами-полуфразами, это сопение показалось ночным дыханием младенца. Иван встал и пошел в туалет. Он попил противную кипяченую воду из титана и посмотрел расписание. Ближайшая стоянка была короткая — три минуты.
«Три минуты, — подумал Иван. — Как раз». План уже владел им, и если он и сопротивлялся своему Плану, то не очень решительно. Теперь внезапно возникший План вел его, а не Иван распоряжался Планом. Так с ним уже бывало. Возникал План и подчинял себе все. В первую очередь его самого, а затем других людей, его товарищей и помощников. Но сегодня других людей не было. Сегодня он был один. И азербайджанец на соседней полке. И План.
План быстро повел его по сонному коридору, с храпом, насморками, с ночным вагонным шелестением и звяканием посуды на стыках — туда, куда надо, к своему купе. План заставил его встать очень близко к верхней полке, но так, чтобы, не дай бог, не задеть плечом азербайджанца, заставил его глядеть в лицо спящего человека, определяя и проверяя глубину и крепость сна.
Азербайджанец чуть поерзал на полке, что-то гортанно полузадавленно пробормотал и снова стал мирно, чуть слышно сопеть.
Видно, чуткий сон у него не был отработан. «А ведь полагалось бы их тренировать в училище, — подумал Иван, — явное упущение. А может, чуткий сон у него и отработан, но не скорректирован на местные условия: в поезде, в вагоне, в самолете. Ведь трудно же в условиях училища отрабатывать чуткий сон в купе, да еще рядом с таким сверхчутким соседом».
Ивану стало на мгновение жаль азербайджанца. Ему захотелось оставить его в покое, а самому забраться на свою полку и спокойненько дрыхнуть до утра… А утром придет симпатичная проводница, принесет им чай с очень быстро растворимым рафинадом, и, растворив его, они мирно поведают друг другу о ночных видениях и будут разглядывать девушек, идущих мимо купе.
Желание покоя заныло внутри, заурчало, как несытый желудок на ночь. Но План сидел в голове, все четко рассчитав, владея Иваном, вовлекая в азарт привычно постылой, захватывающей игры. За дело, Ваня.
Иван быстро обшарил пиджачок, брюки, пальто… Чуткие, как у часовщика, пальцы буквально угадывали предмет, еле прикасаясь к нему. Вот часы в кармане пиджака — не нужны. Вот какая-то «сопля» (брелок на цепочке) — к чертям! Вот деньги — тут Иван на минуту засомневался, но брать не стал. Т о г о, ч т о н а д о, не было.
«Может, это он на теле носит, может, к трусам у него привязано», — ругаясь про себя, думал Иван. Он знал многие человеческие хитрости, связанные с хранением личных вещей и денег, но как выпускники соответствующего училища хранят оружие, он не знал. А шарить по майке, по трусам было уж слишком… Азербайджанец еще не так поймет, «зарэжэт».
Иван был разочарован, но остановиться уже не мог. Было еще два чемодана, большой и маленький. Один — вверху за полкой, другой — в ногах. Иван взял вилку, подтянулся и, осторожненько присев на краешек верхней полки и чуть громыхнув чемоданом, мгновенно вилкой сломал и открыл замок большого чемодана. Это он делал довольно четко, не было бы вилки, мог бы открыть зубочисткой.
В чемодане были яблоки, орехи, айва, термос и несколько рубашек. Выругавшись, Иван взял маленький чемоданчик, лежавший у стенки, в ногах азербайджанца. Иван стал открывать, занервничал, и на этот раз проклятый маленький чемоданчик долго не открывался. Наконец, успокоившись, Иван вонзил свою вилку в упрямую сердцевину маленького неподатливого замочка и крутанул его, ломая пружину. Чемодан открылся… Того, что он искал, там не было. Там лежала аккуратно свернутая плотная синяя милицейская форма.
«А что, тоже может сгодиться», — решил Иван. Он посмотрел на спящего, который неожиданно перестал сопеть, начал ворочаться и вздыхать. Сначала Иван испугался, потом успокоился, понял, что парень спит. Поскольку азербайджанец не вез с собой того, что Ивану хотелось, он и спал спокойно. Вряд ли ему могло прийти в голову, что кто-то по пьянке уворует его новенькую форму. «Что же он будет делать утром? — подумал Иван. — Как он будет вертеться, ведь если он расскажет все, то ему наверняка припишут пьянку. И прости-прощай тогда и звание и новое назначение. — Иван помешкал. — А, не по делу все это… Да как бы и мне не нарваться на крупную неприятность, если он уж очень постарается, то ведь и найти меня сможет». Но Иван был уверен: стараться не будет, себе дороже… Просто купит новую форму. И еще одно немножко мучило Ивана: так хорошо вчера сидели вместе, так душевно. И парень ничего, на других не похож, неиспорченный, тихий. И невеста какая-то у него есть, и вот нате вам, заварится каша, которую не расхлебаешь. Так думал Иван… Но, ожесточая себя, подчиняя себя уже созревшему Плану, он стал вспоминать другое.
«Я его жалею, дурачок, — думал Иван. — А они меня жалели? А он меня пожалеет, если меня возьмут?.. Нет уж, дудки, нашли малахольного». И, быстренько скатав форму и положив ее в свой чемоданчик, Иван вышел в тамбур, быстро прошел в другой вагон, чтобы не встречаться с проводницей, и на подходе к станции спрыгнул с высокой подножки.
Поезд замедлял ход, а Иван быстро побежал по лабиринту тускло поблескивающих путей, мимо ночных огоньков светофоров туда, где стояли низкие, приземистые бараки, все эти однообразные темные и как бы нежилые предстанционные здания. Иван обернулся к поезду, махнул рукой этому сонному временному дому на колесах, своему новому кавказскому другу.
«Прощай, дорогой товарищ, не грусти обо мне… У тебя своя компания, у меня своя».
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
В понедельник с утра Иван вместе с отчимом отправился в районный трест «Электромонтаж» устраиваться на работу. Вячеслав Павлович, видно, давно уже обрабатывал начальника, и Иван по достоинству оценил его труды. Начальник был в курсе дела, ни о чем Ивана не расспрашивал, хотя было видно, что ему очень хочется… Он спросил только:
— Сколько лет работали с мегомметром и где?
Иван ответил.
Начальник спросил неуверенно:
— Ну, а трудовая книжка или что-то в этом роде имеется?
Иван ответил спокойно:
— Нет. Не положена мне трудовая книжка, только справочка. Могу предъявить.
Начальник кивнул. Иван протянул ему справочку, пеструю от печатей. Начальник взял как бы с некоторым почтением и одновременно с легкой брезгливостью, будто бумажка только-только из дезинфекции, повертел справку, почитал. Вернул Ивану. Он еще спросил, в каких «когтях» работал Иван. Иван назвал номер.
— Теперь у нас новые, — сказал начальник, — облегченного типа. Значит, говорите, благодарности были?
— Я не говорю, — сказал Иван. — Это в характеристике написано.
— За что же?
— Как «за что же»? — притворно удивился Иван. — За то же, что и у всех, — за выполнение плана.
Иван учтиво замолчал. Вячеслав Павлович шуршал газеткой, свертывая ее в трубочку и распрямляя, а начальник задумался. Пришла пора кончать беседу, принимать решение и давать ЦУ.
— Ну, так как? — неожиданно улыбнувшись и сверкнув глазами, сказал начальник. — Не подведешь, работать будешь? — И быстро, как бы зорким, всепроникающим взглядом посмотрел на Ивана.
«Все-то ты хорошо, мужик, разговаривал, но делу, и вдруг на тебе — такой детский сад», — подумал Иван и, не умея себя перебороть, сделал дурашливую детскую и несколько дебильную рожу и сказал:
— Не-а…
И победно посмотрел на начальника и Вячеслава Павловича.
У Вячеслава Павловича физиономия аж вытянулась, а начальник руку к уху приложил, будто он не расслышал.
— Что такое?!
Наступила пауза. Состояние равнодушия и спокойной вялости, какое бывает после сильного лекарства, владевшее Иваном с начала этой беседы, уходило, вытекало из него с журчанием, как вода из раковины, и какое-то новое, опасное волнение и возбуждение начало охватывать его.
— Понимаете, — сказал он глухо, перебарывая себя изо всех сил, стараясь как бы выкачать из себя это волнение в некий боковой насос, чтобы оно не клокотало в нем, не качало его, не кренило в ту сторону, в какую не надо, — Понимаете, — еще раз повторил Иван. — Я не мальчик… Мне уже порядком за тридцать. Из них я много просидел, некоторые думали, что я там навсегда останусь. Не верили, что я выйду. А я вышел. А для того, чтобы выйти, я что делал? Я работал. Я как зверь работал. И это не для красного словца. Для чего я работал? Чтобы вот здесь сидеть, на воле, и оформляться к вам или к кому еще… Буду ли я работать? Да я буду вниз головой стоять на проводах, только оформите, только дайте постоянное место. Не подведу ли я? Вас бы, может быть, и подвел, да вот себя уже подводить нельзя!
Иван хотел еще что-то добавить, теперь его буквально тащило по скользкой дороге, но он огромным усилием заставил себя остановиться, рванул жесткий, неподатливый тормоз.
Пауза была долгая.
Вячеслав Павлович смотрел на него с явной укоризной, а начальник сказал, не глядя на Ивана:
— На голове стоять не надо. — И добавил: — Идите к кадровику. Будем пока оформлять на временную.
Другого Иван и не ждал. На постоянную его могли зачислить только с пропиской. Через минуту он уже сидел в маленькой комнатке отдела кадров, отделенный от пожилого кадровика предохранительным фанерным барьерчиком. Иван еще подумал: «На черта такая глупость, подумаешь, стена».
Кадровик был, верно, когда-то строг, а сейчас, судя по всему, пребывал в предпенсионном состоянии. Он с живейшим интересом поглядел Иванову справку и сказал:
— Заполняй, дорогой, автобиографию. И давай… это… все, как есть.
— Все-все? — спросил Иван.
— А то как же? Как есть, так и пиши.
— И плен? И награды?
— Чего-чего? Какие еще награды?
— Да вот, в плену мне пришлось побывать. И награды правительственные имею.
Кадровик усмехнулся: «Чудной парень, ну еще бы, из каких широт приехал… Они после этого все такие — с чудинкой, тронутые малость. Нервы, конечно, имеют место».
— Пиши и награды, раз есть, — сказал кадровик. — Кто б другой стал спорить, а я не буду. Все пиши, милый друг.
— А судимости?
— А много их у тебя?
— Маленько есть.
Кадровик еще раз пробежал Иванову справку, характеристику из колонии и сказал тихо, подводя черту разговору:
— Ладно, все не надо. Не обязательно. — И добавил, повысив голос: — И давай без лишних подробностей, чтоб все коротко и ясно: год рождения, место рождения, национальность, адрес, последнее место работы. Напиши, и будь здоров. — И, глянув на Ивана, закончил: — Не в космонавты же тебя зачисляем.
— Это уж точно, — подтвердил Иван.
Все пока шло тьфу, тьфу, чтоб не сглазить. По крайней мере, если еще не было полного порядка ни с пропиской, ни с работой, то дело, во всяком случае, сдвинулось. А это — самое главное, чтоб в деле было движение. Чтоб не тянулась резина. А то тратишь силы, жмешь, суетишься, а резина тянется и тянется до бесконечности. Так и у Ивана бывало, когда, освободившись в прежние времена, он начинал устраиваться на работу. И нельзя сказать, что ему отказывали, не то чтобы мордой об стол встречали, но тянулось все долго: на работу не устраивали из-за прописки, не прописывали из-за того, что не работает. Это была вечная проблема отбывших срок. Многие, покрепче, добивались своего после долгого натиска, просьб, заявлений, объяснений. Другие же быстро теряли терпение, уставали долбить стенку лбом и, едва только пачечка, заработанная в колонии, таяла, снюхивались с кем попало из прежних своих дружков или из новых таких же, и все начиналось сначала… А на этот раз у Ивана дело пошло.
Иван, со своей стороны, прекрасно понимал, что аплодисментами его никто здесь не встретит. Чего ради? Ведь не впервой приходили на различные предприятия такие, как он, и всякий раз с возмущением отвергали чьи-то сомнения: «Да чтоб я по новой?! Да никогда!» А через две недели их ловили на преступлении. Поэтому Иван нисколько не обиделся на начальника, а просто нервы у него съехали, да и знал он, что даже если школьника спросить: «Хорошо себя будешь вести или нет?» — школьник всегда ответит: «Конечно, хорошо». Разве что словами определишь?
Домой Иван вернулся в хорошем настроении. Он повозился на кухне, помогая матери, с удовольствием поколол дрова во дворе, потом появился Серега, прибежал из школы. Серега сел за уроки и с ходу попросил Ивана решить задачу. Иван, хоть и недавно закончил десятилетку в колонии, о чем и имел соответствующее свидетельство, вспотел и измучился, прежде чем по всем правилам смог записать условия, рассовать, куда следует, все иксы. Очень научно эти задачки решались. После того как Иван с Серегой с грехом пополам осилили уроки, они долго гонялись друг за другом по саду, и младший палил из новенького автомата длинными трескучими очередями, а Иван старательно отстреливался из пластмассового пистоля с обломанным дулом.
— А какая дальность боя у автомата Калашникова? — между очередями спрашивал брат.
«А фиг его знает», — думал Иван. И отвечал со знанием дела:
— Большая.
— Ну, а если враг движется по ту сторону реки, — вот я, например, сейчас по ту сторону реки, — то пограничник его достанет?
— Достанет. Обязательно.
— А гранатометы пограничники применяют?
— Применяют.
— А какой радиус боя у гранат?
— Огромный, — не растерялся Иван.
— А служебная собака в дозоре сколько может не есть?
— Три дня.
— А на четвертый что?
— А на четвертый она начинает жрать пограничников.
Братан, однако, не улыбался. Напротив, рожица у него обиженно вытянулась. Он таких шуточек не принимал. С человеком по-серьезному, а он черт-те что городит. Правда, через минуту брат забывал обиду, и снова начиналось:
— А с какого возраста собак принимают на службу?
— С молодого, — отвечал Иван. И добавлял для конкретности, для уточнения: — Полгодика ей стукнуло, ее сразу на службу.
В собачьих вопросах он чувствовал себя более уверенно.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
А свидание было назначено на восемь часов. Иван успел уже с утра простирнуть парадную нейлоновую рубашку, материн и отчима подарок, а сейчас наскоро погладил ее, нацепил галстук и в сопровождении брата отправился в парк. Шел дождь, густой и по-весеннему шумный, и через минуту Иван вымок и из пижона превратился в мокрую курицу. Брат же был в полном порядке — в резиновых сапогах и в маленьком плаще-болонье он чувствовал себя амфибией, водоплавающим, прыгал по лужам и кричал от восторга. Иван хотел было вернуться, переодеться, надеть резиновые сапоги, но, поскольку был человек суеверный, не вернулся и, махнув рукой на внешность, потопал к парку.
Когда они подошли к парку, у Сереги настроение упало. Он уже чувствовал, что сейчас старший даст ему знак топать назад, а ему еще хотелось побыть с Иваном, сходить куда-нибудь, может, в кино, а лучше всего в тир, а если и туда нельзя, то просто походить с братом, разговаривать на различные интересные темы, и вернуться домой вместе, и вместе лечь, и вместе уснуть, и вместе проснуться, и завтра тоже кое-как проглотить школу, и, чуть только раздастся звонок, бежать домой, задыхаясь и предвкушая новую встречу с братом. Насколько интереснее стала жизнь с приездом старшего! Да, уходить Сереге не хотелось. Но Серега не любил быть приставучим, как липкая бумага, он знал тот момент, когда взрослые перестают разговаривать с тобой от души и начинают отвечать механически, а сами думают о своем и косятся по сторонам. Вот тогда и надо от них тикать по своим делам, чтобы их не раздражать и не портить себе настроение.
Однако, несмотря на эти рассуждения, уходил он от брата с некоторой грустью и непониманием. Ну что он, мешает, что ли, брату? Если надо, может и помолчать и не задавать вопросы про пограничников, а просто ходить рядом, не говоря ни единого слова. Он может даже приносить пользу Ивану — сбегать за сигаретами, или показать, как пройти на ту или иную улицу, или постоять для Ивана в очереди за пивом, или что еще…
Разве он, Серега, станет лезть в чужие разговоры, если Иван, например, будет разговаривать с каким-нибудь дядей или даже тетей?.. Какое дело Сереге, с кем разговаривает и гуляет брат? Ему лишь бы быть рядом, а не идти домой одному, чтобы опять, как в те вечера, что были до брата, сидеть в темноте у телека и смотреть, что покажут, и слушать с отвращением надоевшую песенку из дошкольных, бесправных времен: «Спят усталые игрушки», одеяла и подушки, и лягушки, и квакушки, и черт-те еще кто.
Серега чувствовал, что сейчас наступит этот момент, когда брат снисходительно и жалеючи посмотрит на него и скажет деловито: «Не пора ли домой, брат?» И чтобы предотвратить этот момент, Серега сказал тихо и как бы равнодушно:
— Ну, значит… Мне пора домой.
Он еще надеялся, что брат улыбнется и скажет: «Куда ты, Серега?.. А как же я без тебя?»
— Да, брат, пора тебе, — сказал Иван. — Отдохни малость.
— А я не устал, — сказал Серега и быстро повернулся, чтобы скрыть обиду, и пошел, выпрямив плечи, нарочито бодро: мол, мне что, мне ничего, у меня свои дела есть. Он высоко вскидывал ноги в резиновых сапогах, как прусский солдат на марше, и со страшной силой бил ногами по широким, неглубоким лужицам, подвижным, как ртуть. Он решил не оборачиваться и не думать о брате, может быть, даже забыть о нем. Забыть на время, не навсегда, может быть до следующего утра. И он обернулся только один раз, уже дойдя до самого угла.
Он увидел тогда, что сквозь мерцающие на излете прерывистые струйки дождя, из темноты на свет фонаря у входа выпорхнуло что-то похожее на серебристую рыбу, а может, и на ракету, длинненькое, тоненькое, сверкающее — то ли плавниками, то ли хвостовым оперением. Но если вглядеться как следует, то окажется, конечно, что это не ракета и не рыба. Да, да, не ракета и не рыба. А человек. Женщина. И если уж совсем присмотреться, то обыкновенная продавщица из универмага… та самая. Только в серебристом плаще. И в таких же серебристых сапогах. И Сереге сразу же стало неинтересно, и он захлюпал дальше.
— Ерунда все это! — шепотом сказал он и громко, чтобы перекричать дождь, запел, давясь от непонятной горечи: — «И снег, и ветер, и звезд ночной полет…»
Иван и девушка шли по парку, шли исключительно целеустремленно, будто у них были билеты в кино и они запаздывали. Рыжая галька, которой были посыпаны дорожки, казалось, вскипала от дождя.
— Вы промокнете совсем, — сказала девушка, достала из сумочки коротенький складной зонтик. Щелчок — и зонтик, такой же серебристый, как и ее плащ и сапоги, раскрылся над головой Ивана. Иван перехватил из ее рук зонтик, поднял его повыше, она невольно придвинулась к нему, и они пошли, почти прижавшись друг к другу. «Однако дождь объединяет», — подумал Иван.
— А что, если пошлепать босиком? — предложил он.
— Нет уж, — строго сказала девушка. — Я лично в воспалении легких не нуждаюсь.
— Какие вы нежные! — сказал Иван.
— А вы грубый? — спросила девушка.
— Иногда… На всякий случай, — сказал Иван.
Девушка не ответила ему, как видно приняв его шутки, и разговор снова повис, как дождевая капля на спице зонта.
Они сделали круг по парку, дошли до танцплощадки, пустой, темной, зарешеченной сеткой от любителей бесплатных удовольствий, миновали старого дискобола с отломанным диском, купальщицу и физкультурника, смирно стоящего с зажатым под мышкой мячом, с круглыми мускулистыми ягодицами, сплошь испещренными короткими выразительными надписями.
«Надо срочно сматываться из этого половодья. Вопрос — куда? В кино билетов не достанешь. В ресторан она не пойдет… И вообще все как-то не так, как ожидал. Когда слишком ждешь, всегда так бывает».
— Куда пойти, куда податься? — сказал Иван, — Я здесь человек новый, давайте, Тамара, командуйте парадом.
— Я не знаю, — вяло сказала девушка. — Скорее всего по домам.
— Нет, так не пойдет, — решительно сказал Иван. — Выходит, за что боролись, на то и напоролись. Пошли в ресторан?
— Ресторан у нас паршивый, — сказала девушка. — Да и публика… А оркестр там только раз в неделю.
— А что нам оркестр? Мы сами спляшем и споем.
— Какой вы бойкий, однако, — сказала девушка, оглядела вымокшего Ивана и усмехнулась.
Иван отчетливо понял, что вот сейчас он ей явно не нравится. Он увидел себя ее глазами: не такой уж молодой гражданин и все шебуршится: танцы, шманцы, а у самого брюки круглые, и короткие, и без складки. Но Иван давно уже выработал в себе силу сопротивления чужому неодобрительному глазу, он знал, что только поддайся — и сам почувствуешь себя таким, каким тебя видят со стороны. И надо перебить этот взгляд, надо стать таким, каким ты сам ощущаешь себя, а если ты никак себя не ощущаешь, а тоже, к примеру, чувствуешь себя жалкой, мокрой курицей, то придумай что-нибудь про себя и заставь другого человека поверить этой выдумке.
— Ну что ж, Тамара, — сказал Иван, — Если тут негде культурно отдохнуть двум хорошим людям, то сейчас возьмем такси и поедем в республиканский город Минск.
— Ну да, разбежались, — все с той же иронией сказала девушка.
— Я не шучу, — сказал Иван, вышел на мостовую и поднял руку.
— А я не поеду, — поняв вдруг, что он действительно не шутит, сказала девушка.
— Тогда пошли в ресторан. Я семь лет не был в ресторане.
— Это почему же?.. Времени не хватало?
— Времени навалом было. Только вот ресторана там, где я находился, не было.
— На Луне, что ли, находились? — спросила девушка.
— Почти что… В предлунной области.
— Это что же, служба? — со слабым проблеском интереса спросила девушка.
«Все-таки падки они на погоны», — подумал Иван.
— Служба в некотором роде.
— Таинственно звучит. Может, вы наш агент на Луне или что-нибудь в этом роде?.. Сейчас таких каждый день по телевизору показывают.
— Может, и агент, — сказал Иван. — А может, и контрагент. А может, просто агент по снабжению. В тепле поговорим.
— В ресторан я не пойду, — решительно сказала девушка. — А вот в кафе «Молодежное» зайти можно.
Какими-то дворами она вывела Ивана к новому дому, где соседствовали две стеклянные витрины: Дворец бракосочетания и кафе «Молодежное».
Стены кафе почему-то выложены кафелем. Иван удивился и спросил девушку:
— А что, здесь баня была раньше?
— Нет, кафе «Мороженое», — сказала девушка. — Знаете, такой ледяной терем. А теперь ассортимент расширили, стало кафе общего типа, некоторые сюда со своим запасом приходят. Магазин тут рядом.
— Это ценно, — сказал Иван. — Жаль, мы своего не прихватили. Свое-то, оно греет.
Надо сказать, что соседство магазина больше сказывалось на облике кафе, чем соседство Дворца бракосочетания. Примерно половину посетителей составляли шоферы, которые перед заходом в «Молодежное» отоваривались в магазине водкой, которой в нежном ассортименте молодежного кафе, естественно, не числилось. Они отдыхали, громко разговаривали и разливали свою беленькую втихую (больше для порядка, чем из опасения). Старушка уборщица проходила между столиков, нагибалась, артистически ловко прихватывала бутылки и кидала их в какую-то торбу. Иван обратил внимание, что в другой части зала сидела в основном молодежь, те пили мало, медленно, важно, но зато дымили вовсю. И оценивающе цепко оглядывали каждую и каждого вновь входящего, девушке давали мгновенную молчаливую оценку по всем статьям, а на мужчину глядели с таким видом, будто ждали, что он сейчас же покажет фокус, по крайней мере достанет из ушей трешник и тут же положит им на стол. Иван бывал в краткие паузы светской своей жизни в таких вот кафе и, признаться, их не любил. По опыту своему он знал, что надо идти в хороший ресторан, где за те же примерно деньги тебя напоят и накормят да еще салфеточку на стол положат.
В ресторане можно было отдохнуть, да и музыка там живая, человеческая, не то что эти чудеса техники, когда бросаешь пятак в щель, и он беззвучно летит куда-то, в тартарары, и только автоматические зубы щелкнут, а в ответ — ни музыки, ни пятака.
Когда-то в Москве Ваня приходил в ресторан «Узбекистан». На весь квартал пахло шашлыками. Степенные люди с дамами мерзли в ожидании чарки и куска жаренного на угольках мяса. Иван же проходил к стеклянной двери, расталкивал почтенную публику плечами, стучал по стеклышку, и через пару минут к стеклу прилипало круглое, безносое лицо симпатичного швейцара Пети. Хоть Иван и был в то время мальчишкой но возрасту, но Петя уже хорошо знал его, и лабухи знали… Знали, что этот мальчик даст на чай как следует и не зажмурится, а, выпив, будет заказывать, чтобы сыграли вот это модное:
Мы с тобой пойдем сквозь ресторана зал, нальем вина — в искрящийся бокал…— Слышали такую мелодию? — сказал Иван и напел… Слух у него был хороший.
— Слышала, — сказала девушка без уверенности.
— А «Сан-Луи блюз»? — спросил Иван.
— Нет, такого мы не проходили.
Подошла официантка, принесла меню, сказала:
— Из горячего — только гуляш со сложным гарниром.
— А попроще? — спросил Иван.
— А попроще — рядом в магазине, — сказала официантка. — На троих без бутерброда. А у нас здесь молодежное кафе.
— Ладно выступать, — сказал Иван. — Принесите гуляш со сложным, вина и апельсинов.
— Сегодня яблоки пойдут.
— Давайте.
— А вино какое, портвейн или шампанское?
Иван посмотрел на девушку. Она сделала безразличные глаза, мол, все равно.
— По обычаю по-цыганскому, — сказал Иван.
— Ваш намек поняла, — подобрела официантка. — Бутылочку или в фужеры?
— Бутылочку, и чтоб с салютом, — сказал Иван.
Теперь Иван действовал уверенно, здесь он был в своей стихии, и, как ему показалось, его уверенность понравилась девушке. Они ведь не любят кавалеров, которые мнутся, ежесекундно спрашивают: «Вы это будете, а это будете…», — которые вынуждают их отвечать: «Нет, не хочу ни того, ни этого». Девушки любят, когда им выкладывают готовое решение.
Появилось шампанское, официантка выстрелила, приятно запахло свежим газовым, винным запахом. Сработал наконец чей-то пятак, и зазвучала мяукающая, но приятная польская песенка, где отдельные слова угадывались по-русски.
— Ну что ж, вздрогнем? — сказал Иван. — За что?
— Давайте без тостов, — сказала девушка. — Я не люблю эти чоканья и прочее.
— А я люблю, — сказал Иван. — И давно ни с кем не чокался. А сегодня мне очень хочется чокнуться с вами… У старых людей, знаете, свои привычки.
— Да, да, — передразнила его девушка, протянула руку с бокалом.
Они звонко чокнулись.
А пластинка все крутилась, и все вспыхивали эти слова, которые легко можно было перевести на русский, а можно было и вовсе не переводить: «То ля доля, то ль нядоля…»
Девушка разрумянилась в тепле и стала красивее, чем там, на улице, и чем в магазине. Снова щелкнул пятак, и снова техника сработала, и завертелось что-то быстренькое и заводное.
— Ну что ж, попляшем? — сказал Иван.
— А никто еще не танцует, — сказала девушка, видно не очень-то уверенная в Иване.
— Кто-то ж должен начать, — сказал Иван. — Я лично вас приглашаю.
Девушка поднялась. Иван чуть-чуть оробел, замер внутренне. «Сейчас опозорюсь, сойду с круга, и все пропало. В таком возрасте они глупые, пустяков не прощают».
Однако Иван знал, что в танце, как и во многом другом, главное не умение, а смелость.
Сплясали разок — и ничего, все в порядке. Иван держался так, будто только и делал в дальней своей отлучке, что изучал мелодии новых танцев. Конечно, твист Иван не танцевал никогда. Когда его забрали, еще царствовал рок, а твист почти не танцевали в общественных местах, а только критиковали. Впрочем, Иван осмелел и, глядя на других, тоже стал шаркать ножкой, извиваться туловищем, точно был мокрый и вытирал спину насухо полотенцем. Уже вся молодежь, бывшая в кафе, вышла на пятачок, стало душно и тесно, но танцевать на многолюдье было уютней. Меньше думаешь, кто как посмотрит и что скажет, и больше близости со своей партнершей. А партнерша его могла плясать что угодно и как угодно, ее чуткие шелковые ноги в серебристых сапогах мгновенно откликались на первый же такт любой мелодии и повторяли эти мелодии на свой лад, красиво, легко и четко. И всякий раз перед началом танца, когда ее тонкая маленькая ладошка ложилась на его плечи, он вздрагивал и, сам того не осознавая, отчетливо испытывал что-то похожее на благодарность.
За все тебе спасибо, За то, что мир прекрасен, За то, что ты красивый И взор твой чист и ясен.Это он уже слышал когда-то… Кажется, у Галы это «спасибо» уже было. Только что из этого вышло? Да, да, то самое «Арабское танго»… Смотри, никак не выйдет из моды. Батыр Захиров, или Захир Батыров, он не помнит. Музыка сладкая, как растаявшее мороженое. И все-таки растравляет душу. Особенно если она уже удобрена для этого и если ее чуть-чуть подгазовать шампанским.
Ах, как хорошо и тепло ты держишь свои руки на моих плечах! За все тебе спасибо. Как ладно и хорошо покачиваться в такт, не сходя с места, а только с пятки на носок, с носка на пятку, с земли на воду, с воды на небо. Не сходишь с места и вместе с тем движешься, плывешь по теплой реке, по общему течению. Все танцуют, и ты. Ты, как все, такой же… Во всем. В общем танго, в общем фокстроте, в общем твисте, в общем счастливом сумасшествии, как в том анекдоте: «Идея. Иде я нахожуся?» В кафе я нахожусь… Неужели и вправду? Не в колонии. Не на перекличке. В кафе «Молодежное» на танцах. За все тебе спасибо, за то, что мир прекрасен…
— Тома, мир прекрасен?
Она молча кивает, занятая танцем.
— Тома, ответь мне, почему так прекрасен этот лучший из миров?
Она морщится. «Но откуда я знаю», — говорят ее лоб и нос. Ей не нравится философствовать во время танца, обсуждать многообразные проблемы жизни, выпадать из ритмичного, всепоглощающего движения. Ей нравится это сахарное арабское танго, и не надо ей задавать непонятных вопросов… И вообще, что тебе надо от нее? Того же, что и от всех других? Ну, ответь, гражданин Ваня Лаврухин, на совесть. Да, и этого, если уж на то пошло. Все мы люди, все мы человеки, уж так устроен свет, хвала тебе, аллах. Но… не так-то все просто. Ему это надо, но не на час, не на день, не для того, чтобы забыться и снова куда-то бежать… Так, значит, навсегда… Ах, навсегда ли, Ваня? Да, именно так. Навсегда. Ушел на рассвете, в холод, на работу. Встал — холодно, зябко. И ты не один в доме, она тут, ты слышишь ее голос. Вернулся домой, она ждет… Навсегда. Ты уехал ненадолго к кому-то, к чужим, а вернулся к своей, в свой дом, навсегда.
«Я буду тебя любить, — твердил про себя Иван. — Да, да, любить, не удивляйся этому слову. Я его где-то вычитал, запомнил… И надо же это испытать на себе… Я буду обращаться с тобой осторожно, как это называется, лелеять. Очень осторожно. Не кантовать, не бросать на пол… Я буду ходить босиком на цыпочках, летать по саду, махать самодельными крыльями. Я буду носить тебя на руках… Шутки шутками, но я всерьез. Навсегда».
— Что вы там такое бормочете? — спросила Тамара.
— Репетирую.
— Роль?
— Нет, объяснение.
— Так вы артист?
— Есть маленько в крови.
— С вами надо осторожно.
— Вот именно. Главное, не бросать.
— А вас много бросали?
— Всю дорогу. Только не в том смысле, в каком вы думаете. Об пол, о подоконник, о стенку.
— Значит, бока у вас крепкие.
— Были крепкие. Да штукатурка пообилась.
— Ну вот, мы проболтали, а танец кончился.
— Навсегда?
— Да нет… До новой монеты.
Они сидели за столиком, аппарат гудел и не заводился. Лампочка вспыхивала и бессильно гасла.
— Курить хочется, — сказала девушка.
Иван не выказал удивления, достал пачку «Беломора», протянул ей.
— Нет, такие я не курю. Иван, стрельните у соседей сигареточку, пожалуйста.
Первый раз она обратилась к нему по имени. Иван поднялся и подошел к соседнему столу, который был буквально облеплен парнями. Они сидели, пригнувшись к столу, шушукались над единственной бутылкой, как заговорщики. Один из них, не глядя, не обернувшись, протянул Ивану пачку, Иван взял, передал Тамаре.
Ему казалось, что курит она больше для форса, чем для удовольствия, или по привычке. Но Иван не осудил ее, хотя в принципе и не одобрял тех, кто пьет и курит для видимости, чтобы быть как все. К тому же все женщины из прежней его жизни курили. Курили, что попадалось: махру, папиросы, трубку, — и было странно, что и эта тоже делает, как они. Впрочем, оглянувшись, он увидел, что все девушки в кафе курят, и, поняв, что так теперь полагается, Иван успокоился. Тоненькая сигаретка торчала в таких же тоненьких, детских каких-то пальцах, и Ивану очень захотелось погладить эти пальцы, эту узкую, белую, с лакированными коготками руку. Он зубами, как фокусник, вытащил из ее пальцев сигарету, сделал вид, что обжегся, бросил сигарету и накрыл своей ладонью ее руку. Он почти физически ощутил под своей ладонью теплого и дрогнувшего птенца, пойманного случайно и на мгновение. Вот сейчас выпорхнет сквозь пальцы, и бегай лови. Она ничего не сказала, но посмотрела с удивлением. Мол, к чему все это? Но он не отпускал.
— Что, руки озябли? — спросила Тамара.
— Да. Очень, — сказал Иван.
— Что же вы такой мерзляк? А еще военный.
Иван не ответил. Птенец еще жил и теплился в ладонях, еще не улетел, и это было сейчас важнее всего. Он взял ее вторую руку, прижал к своей щеке, потом поцеловал.
— Это что, галантность или нахальство? — спросила девушка.
— Ни то, ни другое, — ответил Иван, — Первый раз в жизни целую руку. Ей-богу.
Она отвернулась и закурила, взяв папиросу из его пачки, лежащей на столе. Затем, искоса глянув на него, спросила:
— Что ж, и жене никогда не целовали руку?
— Жены не было.
— Это отчего ж так сурово?
— Такие вот суровые обстоятельства.
Молчащий ящик вдруг прорвало, и они снова пошли на пятачок для танцев. Теперь ящик взвывал нараспев, стеная и моля: «Ай, ай, Дилайла», — и двигаться теперь надо было быстро, крепенькая рука на плече приказывала ему: «Ныряй быстрее в общее движение, догоняй эту Дилайлу, и я с тобой». И он нырял в общий поток и вертелся в этом потоке, на кого-то наталкиваясь, а сам думал при этом: «Не удержалась все-таки, спросила… про жену. Как ни верти, а это — главное для них, даже для такой, как она».
— Сколько тебе лет? — спросил Иван, перекрикивая «Дилайлу».
— Достаточно.
— А точнее?
— Двадцать два. А вам?
— Столько, сколько Иисусу… Примерно…
— Какому?
— Боженьке.
— А я не знаю, сколько ему. Его юбилей мы пока еще не отмечали.
— Иисусу было тридцать три. Что, многовато? А мне еще больше…
— Не в этом дело.
— А в чем?
Она не ответила, а музыка кончилась.
Когда они шли к столику, Иван мысленно проговорил: «Ты будешь моей женой». Он хотел повторить это вслух, но раздумал. По опыту своей жизни он знал, что в важных делах никогда не следует торопиться.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
До вечера судья Малин так и не знал, поедет он к Ване или нет. На следующие два дня были отложены давно тянущиеся хвосты ненаписанных писем, непрочитанных бумаг, следовало давно произвести «мусорный аврал» — повыбрасывать все ненужное, разобрать всю корреспонденцию, надо было позвонить в Клуб пищевиков, который терпеливо вот уже два месяца приглашал его выступить на тему о правосознании граждан, а он регулярно переносил это до более свободных времен… Следовало в эти свободные дни почитать кое-какую специальную литературу, да были и немаловажные хозяйственные дела, как, например, громоздкое мероприятие (одна мысль о котором приводила в ужас) с установкой новой газовой плиты… Все это и должно было привычно составить его выходные дни… И вдруг выпрыгнуть из упряжки!
Конечно, если он не приедет, Иван расстроится, но не обидится. Иван знает, что судья Малин — человек, обремененный заботами, занятой. Да и к тому же можно послать Ивану теплую телеграмму, поздравить его от души и сказать в тексте, что сейчас он приехать не может, что приедет летом… Все это можно, конечно, только этого ли ждет Иван? И еще он подумал: в одном Иване ли тут дело? Если он сейчас не поедет, то все, значит, он никогда уже не поедет н и к у д а, кроме командировки, санатория, ближней рыбалки, никогда н и к у д а не поедет просто так — потому что захотелось, — никогда не будет свободным, ни на секунду, от существующих и придуманных работ, обязательств.
Все это прокрутилось в его голове, как лента в магнитофоне, и сознание полной своей связанности, зависимости от чего-то тошнотворно наполнило его, и, как в детстве, он ужаснулся вдруг от сонного и беспомощного ощущения: на тебя едет поезд, а ты лежишь, не в силах ни двинуться, ни крикнуть… «С подушки съехал, одеяло сбросил, вот и орет», — ворчала дежурная детдомовская нянечка, поправляя ему одеяло.
«А в чем, собственно, дело? — спросил сам себя Николай Александрович. — Возьму и поеду. Гори оно все огнем синим».
Позвонил в клуб и еще раз окончательно и бесповоротно назначил день выступления, отложил бумажки и письма, написал жене записку, поехал на вокзал.
Взял билет в мягкий вагон, к тому же повезло: в купе он был один. Постоял у окна в момент отхода поезда, посмотрел на полупустой перрон, испытав почти рефлекторную отходную вокзальную грусть, скорее связанную с какими-то давними отъездами и проводами. Сегодня его никто не провожал, да и встречать Иван не будет, так как, по обыкновению своему, он не стал давать предупреждающую телеграмму.
На мгновение стало хорошо. Бросил на верхнюю полку портфель, переоделся в спортивный костюм, достал еженедельник «Футбол-хоккей». Однако не читалось…
Вышел в тамбур, покурил там, поглядывая на уже спешащую в вагон-ресторан публику. Хотелось ощутить себя неприкаянным, праздным, ничейным и молодым.
В тамбуре было холодно и пыльно, он вернулся в чистенький вагон, стал у окошка на весеннем ветерке, высматривая ночные огни.
Когда-то в давние поездки они гипнотизировали его отдельной своей жизнью, ощущением далекого, неведомого жилья, в которое и его, может быть, занесет когда-нибудь случай или судьба. Огни эти волновали не столько затерянностью своей в ночи и одинокостью, сколько вызывали образ собственной его физической крошечности в мире, собственного, почти муравьиного, неприметного людям движения — в черно-белом пространстве, одновременно отталкивающем своей бесконечностью и влекущем.
Сейчас все воспринималось, пожалуй, проще и грустнее: стук колес, размеренное движение и огни за окном отсылали не к туманному будущему, а ко всему, что уже было с ним, не к предвкушению, а к воспоминанию. То неясно зреющее в душе ожидание крутого, странно счастливого поворота в жизни, которое всегда обжигало его в минуты небудничные, нерабочие: в лесу, на рыбалке, на пароходе, в тамбуре ночного вагона, — теперь переродилось в нечто другое, в не остро бередящий душу тягостный комок.
В одном справочнике он прочитал недавно, что все подобные эмоции в пожилом возрасте, смены настроения и прочее являются лишь признаками постепенно развивающегося склероза — не более того. И совершенно незачем им поддаваться, а для того, чтобы свести их к минимуму, нужно регулярно употреблять витамины.
Ему захотелось остаться одному, без назойливых дорожных компаньонов, и он зашел в вагон-ресторан, где ему налили в толстый граненый стакан с подстаканником немного желтого, как некрепкий чай, арабского коньяку. Он вернулся в купе, знал, что не заснет скоро, стал настраивать себя на встречу с Иваном, вспоминать Ивана, его голос, лицо… Ведь знал он его уже несколько лет, а видел всего дважды.
Многие люди в его жизни, столь богатой встречами, как бы повторялись многократно, точно были различными вариантами одного и того же образа. Они и говорили похоже, и схожими были их поступки, и проступки, и объяснения, и оправдания. Но были другие, не похожие, уникальные, не в деяниях своих (подчас так же стандартно укладывающихся в кодекс), а в чем-то ином, скорее всего в той внутренней жизни, которая существовала в них, неподвластная наказанию и посулу, подчиненная не обстоятельствам, а нутру, характеру, как бы некоему предначертанию судьбы. Такие люди были интересны ему, у него было к ним свое отношение: одних жалел, другими восхищался, третьих побаивался, некоторых ненавидел, но уважал… Так и Иван был когда-то интересен ему.
А потом интересность ушла, и осталась тревога и родственная жалость, как-то незаметно Иван стал своим человеком, которого забываешь надолго, но все-таки он есть, существует и, неизвестно почему, нужен тебе и заботит тебя. Чудной он был, этот Иван!
Николай Александрович почитал газетку, полежал полчаса с закрытыми глазами, изо всех сил стараясь заснуть без снотворного, потом понял, что ничего не выйдет, достал предусмотрительно взятый им с собой димедрол, заглотнул горькую таблетку, и через минут двадцать голова его стала тяжелеть и тускнуть, как перекаленная лампочка… Все меньше, слабее накал, и наконец темнота.
Едва он заснул, раздался шум открываемой двери, грохот, щелканье чемоданов, зажгли свет, он проснулся, увидел каких-то людей: мужчину и женщину, которых поселили именно к нему, несмотря на множество других незанятых купе, — видимо, по извечному и многократно проверенному «закону перевернутого бутерброда», всегда падающего маслом вниз.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Под конец, под закрытие, Иван расплясался… Теперь ему и сидеть не хотелось, только танцевать. Особенно ему твист нравился. Здесь музыка как бы входила в тебя, вливалась в твое существо и оживала в тебе движением, подчиняла твои мускулы, заполняла каждый миллиметр твоего тела. Здесь и руки и ноги танцевали, а все тело — и спина, и плечи, и сердце — буквально плавилось от ритма, от музыки, от счастья.
— Давненько не плясал я подобных танцев, — сказал Иван.
— А что у вас, другие танцуют?
— У нас немножко другая мода, — ответил Иван. — Обожаю бальные танцы. Знаете, падеспань, падгармонь, падконвой.
— Это еще что? Такого не слышала.
— Это старинный бальный танец. Молодежь его мало знает.
Она улыбнулась, не поняв. Да и к чему было понимать? Ну, шутит человек, как умеет, настроение у него хорошее.
А Иван с радостью подумал о том, что все пока хорошо закрутилось. Вот он чем теперь занимается — танцует в молодежном кафе с такой девушкой и не позорится, не хуже других, и не заводится ни с кем, не глотничает, ни от кого ничего не хочет, и никто ничего не хочет от него. То, что вчера казалось совершенно недоступным, постепенно становилось явью. Он только мечтал с ней познакомиться, только мечтал заговорить, встретиться, а вот уже они вместе, будто так и надо, будто так и положено. Нет, есть бог или там кто еще. Все-таки он есть, аллах, прими поясной поклон.
Когда она оставила его и ушла на минутку, он проводил ее взглядом и еще раз удивился тому, как хорошо она сложена, как здорово она смотрится издали, как свободно и хорошо она ходит. «Такой в моей жизни еще не было, — подумал Иван. — А Гала?» Он подумал о Гале с грустью, но без прежней обиды и боли. Ранка долго ныла, теперь зажила, не найдешь и след ее. Гала была хороша, но уж больно умна и все, верно, знала наперед, что ей нужно, а что нет, привыкла учить людей, а ведь это трудно — думать все время об отметке, и чувствовать себя благодарным, и смотреть на женщину снизу, с парты, все время как бы с четверенек.
А эта мало что знает в жизни, не побита, не издергана, не оскорблена, поэтому не станет оскорблять других. Все у нее есть, что надо, бог дал ей юность, походку, уверенность, а значит, и доверчивость… А что еще? Некоторое бесчувствие, что ли… Но это, наверное, от возраста… Скрытая ласковость (когда они танцевали, он это почувствовал), желание выйти замуж. И прекрасно. И он будет охранять ее, будет ласковый, как собачка, и будет гавкать на других, если кто приблизится на расстояние трех шагов.
А вдруг она ушла и не придет? Отвалит — вот с таким бородатым, тонкогорлым, который еще на свете ничего не видел, но кое в чем, может, опытнее и ловчее его. Что тогда? Ну, он отлупит пару таких… Ну и что дальше? Что он докажет этим? Он и впрямь вдруг поверил, что она не придет. «Это будет мне наказание за то, что слишком расслабился», — подумал он. Никогда не следует раньше времени радоваться, а он рассусолился, как теленок… А может, и впрямь он годится лишь для какой-нибудь вдовой Маруськи, любящей выпить перед сном. Через минуту она пришла. Села, выпила глоток вина.
— Что вы такой хмурый?
— Я думал, ты сбежала.
— Зачем?
— А вот так просто. Сбежала с молодым продавцом, со студентом техникума, с кондуктором, кто еще у вас в городе есть?
— С вагоном без кондуктора, — поправила она. И добавила: — У нас тут много кто есть, но я такой привычки не имею.
— Все равно бы догнал.
— Ну и что?
— А вот посмотришь что.
— Значит, вы опасный человек?
Он проговорил быстро, как говорят некоторые кавказцы, когда кого-нибудь хвалят, в знак наивысшего восхищения:
— Звэр-а! («Машина — звэр-а! Костюм — звэр-а! Игрок футбольной команды — звэр-а!»)
Тамара рассмеялась. Уже ходила уборщица, подбиравшая бутылки, просила покинуть помещение. Ребята пытались спорить с ней, дескать, еще рано, уходили медленно, нехотя, некоторые еще пританцовывали, надевая пальто, хотя в нарядном ящике уже давно погас свет и пятаки не звенели, не зажигали рубиновый глазок аппарата, они богатым медным кладом лежали на дне кассы.
На улице подсохло, но земля блестела, и одновременно пахло пылью и чем-то острым, терпким, будто эфир расплескали. Цветение угадывалось сквозь тьму — клейкостью, влажностью весеннего ветерка.
Выйдя на улицу, Иван замолчал, разглядывая ребят и девушек, расходящихся по домам, танцующих без музыки, весело переговаривающихся.
Там, в кафе, Иван чувствовал себя нисколько не хуже их, а сейчас ему представился завтрашний день, поход к участковому и все остальное, что еще предстояло, и на смену возбуждению пришли тревога и усталость. Никогда еще в жизни не доводилось ему радоваться до конца, без оглядки, а всегда с тайной опаской и заботой. Так и сейчас. И разговаривать с Тамарой вроде бы стало не о чем, и идти некуда.
— Ну так как домой, на автобусе или пешком?
— Можно и пешком.
Если, уйдя из кафе, он как бы оторвался от нее, мысленно отдалился, то она еще была вместе с ним, и ее рука тепло и покойно лежала на сгибе его локтя. Иван устыдился своей дурости, тому состоянию, что последние годы стало привычным для него и которое он называл «психом». («Псих на меня напал».)
Он покрепче прижал ее руку и сказал:
— Лучше, конечно, пешком. Такой вечер один раз в жизни бывает.
— Почему?
Он не ответил. Они пошли быстро, сначала улицей, потом пустырем, переулками. Минут через пятнадцать пришли к ее дому.
Дом в отличие от Иванова жилья был новенький, блочный, а вокруг него, отгороженные палисадничком, росли кусты.
И собаки так же брехали по-деревенски, как и в том районе, где жил Иван, а из деревянного сарайчика натужно, пароходным гудком голосила растревоженная свинья.
— Вот моя деревня, вот мой дом родной, — сказала Тамара. — Спасибо и до свидания.
— Вот так сразу? — сказал Иван.
— А что? Пора уже, поздно.
— Покурим? — предложил Иван.
— Ну, по одной на посошок, — согласилась она.
Они сели на не просохшие еще дрова, сваленные посреди двора, и закурили… Было хорошо, тихо, прохладно.
— А кто тебя ждет дома? — спросил Иван.
— Сестренка и мать. Да они не ждут, а уже улеглись.
— А пахан?
— Кто? — переспросила она.
— Отец.
— Тот по другому адресу с другой сестренкой.
— Бывает, — сказал Иван.
Ему захотелось узнать о ней побольше, увидеть комнату, в которой она живет. Она сидела задумавшись, пожевывая папироску, так и не раскурившуюся, склонив голову чуть набок, как скворец, и в лунном свете был явственно виден чистенький школьный пробор в расчесанных набок, распущенных волосах; тон на щеках, подсиненные глаза взрослили ее, делали независимее, загадочнее, а сейчас всего этого не было видно в темноте, только пробор светлел на склоненной голове, и она казалась уставшей девчонкой, присевшей передохнуть то ли после учебы, то ли после игры… Он дотронулся до ее волос, провел ладонью по теплому и твердому затылку, все его нутро вдруг содрогнулось от нежности, тепла и жалости, той, какую испытал он однажды к спящему Сереге. Он вытащил из ее губ папиросу, бросил на землю, прижал ее голову к себе и сидел так, чуть покачиваясь, будто собираясь ее убаюкать, усыпить. Верно, ей было неудобно, но она не шелохнулась. Потом он поцеловал ее в шею, в щеку, в глаза, чувствуя сладкое, нежное тепло кожи, горечь краски на глазах. Она не сопротивлялась и не отвечала ему, была рядом и вроде бы не существовала совсем.
— Слушай, — хрипло сказал он, не зная, как объяснить все получше, боясь напугать ее и стесняясь своих мыслей. — Я тебя люблю, хочешь верь, хочешь нет. Вот знаю тебя вроде мало, а разве в этом дело… И если кто тебя обидит…
«При чем тут обидит, — подумал он, — кто ее обижать-то собирается? Нет, не то ты тянешь, Ваня».
— Вот такое дело, Тамара, — сказал он и замолчал. Хотелось все не так сказать… Не так сейчас он чувствовал. Будто забежал куда-то слишком далеко и стоишь, как пенек, не знаешь, что делать, вроде и возвращаться нельзя и вперед идти сил нет. — Думаешь, выпил, болтает задаром. Ты уж меня, как говорится, извини… Только я словами не бросаюсь… Вот так, значит… Хочешь верь, хочешь нет.
Она не ответила, посмотрела на него искоса, чуть снисходительно и с интересом, как бы вновь увидев, и провела рукой по его волосам.
— А ты седой, — сказала она.
— Это ты сейчас, в темноте, разглядела?
— Нет… Еще там, в кафе.
— Есть маленько. Для солидности.
— Мне нравится… Лицо молодое, а сам седой.
— Какое ж у меня молодое?
— А вообще сначала ты мне показался старым и очень противным.
— А сейчас?
Она не ответила, уткнулась лицом в его плечо, а он гладил ее волосы, что-то быстро, громко говорил, но про себя, не вслух, потому что боялся голосом и словами все испортить. Вроде он качался на качелях и, когда молча гладил ее, то взлетал вверх, и в животе что-то приятно замирало, обрывалось от высоты и тишины, а потом он летел вниз, и надо было что-то говорить, объяснять, а язык был неповоротливый, тяжелый, тянул его не туда, слова были жесткие и не те, что надо. И все-таки хорошо ему было, и он поверил, что и дальше будет хорошо… А волосы у нее были электрические, ладонь его чувствовала острые частые зарядики… Качели быстро и круто подымали его душу вверх — в нежность и в покой.
Но другая мысль наперекор всему этому, беспокоя и ожесточая его, лезла со дна и тянула качели вниз, в голую деревянную землю.
— Том, ты извини, не думай, что я халява такой, нахальный, только один вопрос у меня есть к тебе. Скажи, у тебя, наверное, сейчас кто есть?
Она не ответила, он отстранился от нее, закурил, руки у него дрожали. Ее молчание все и подтверждало…
Не надо было заводиться, конечно, на эту тему, но остановиться уже не мог.
— Ты не темни, Томк. Говори, как есть…
Она встала с сырого штабеля, одернула свой серебристый плащ. Он металлически, как жестяной, зашуршал.
— Ты же седой, значит, должен быть умнее.
— Не обязательно, — сказал Иван. — А что?
— А то, — сказала она. — Стала я б с тобой сидеть, если б кто был. Я так не умею.
Качели вновь рванулись вверх, будто их из страшной рогатки выпульнули… «Все нормально, капитан, все нормально», — сказал Иван мысленно свою любимую фразу.
Она встала, Иван продолжал сидеть. Край ее плаща холодно и жестко касался его щеки. Шелковые точеные ноги были в сантиметре от его лица, казалось, они источали нежное тепло, от которого сердце останавливалось.
Не вставая с места, сильным движением Иван притянул ее к себе. Прикосновение буквально обожгло его, и он ткнулся головой, лицом в ее колени. Ноги ее напряглись, сопротивляясь, пытаясь вырваться из этого обруча, уйти, убежать, она что-то говорила, он не слышал. Куда делась прежняя острая и жалостная нежность?.. Он терял голову, желание душило его, и только краешком сознания, еще трезвым, еще не одурманенным близостью женщины, он соображал, что сейчас все кончится скверно, что она уйдет от него, и все, больше он ее не увидит, что он испортил все, что было вначале, и уже не будет никаких качелей, ничего не будет. Он разжал руки, она рванулась от него в сторону, к дому, он крикнул ей почти с мольбой:
— Погоди минутку, останься, ну не бойся, прошу тебя!
Она остановилась на полпути между бревнами и подъездом. Он подошел к ней, сказал, успокаиваясь:
— Не сердись, ты потом поймешь… Я уже забыл, какие женщины бывают. Озверел малость. Будет так, как ты захочешь, и все, я тебя больше ничем не обижу… Не в этом дело.
— А в чем? — спросила она.
— А в том, что я тебя люблю, вот и все, и не смейся… У меня, может, ничего, кроме тебя, нет.
— Как же ты, интересно, жил до сегодняшнего дня?
— А я и не жил, я только и ждал тебя.
— Чудной ты, — сказала она. — Чуть-чуть с приветом. — Она стукнула пальцем по виску. — То такой хороший, покорный, то будто с цепи сорвался.
— Ну, сорвался раз, — согласился он.
— Ладно, — сказала она. — На первый раз прощаю.
Он взял ее руки, холодные, будто был мороз, и провел ее узкой ладонью по своему лбу, щеке, по губам.
— Ну, когда теперь? — спросил он с надеждой.
— Когда-нибудь, — ответила она, улыбнувшись.
— Завтра, — твердо сказал Иван.
— Какой ты настырный. Ну ладно.
Она повернулась и пошла, вот она уже дошла до подъезда, открыла дверь.
— Слушай, ты в бога веришь? — крикнул он.
— Никогда, — ответила она.
— А в судьбу?
— Верю.
— И я тоже.
— Только в счастливую, а ты?
Он не ответил, молча махнул ей рукой. Хлопнула дверь подъезда.
Он подумал, что не сказал ей что-то важное, существенное, да, в общем-то, ничего не сказал, и он решил догнать ее, вбежал в подъезд, в эту гулкость, пустоту, полутьму, терпко пахнущую кошками.
Где-то наверху он услышал уже слабый, нечеткий стук каблуков, затем дверь захлопнулась, в подъезде стало безжизненно и тихо. Он сел на подоконник, достал свой «Беломор» и, когда, закуривая, поднес руки к лицу, отчетливо услышал запах ее духов, волос.
Он прижал ноги к теплой батарее и, словно собака, обнюхал свои руки, пахнущие ею. Так он сидел еще долго, чувствуя тепло, которое от ног шло вверх, наполняя все его внутренности блаженным, усыпляющим покоем.
Такое было чувство, будто падал с самолета, камнем в землю, с большой высоты, и вдруг парашютик неожиданно раскрылся над ним, и он повис недвижно меж облаков и мягкого неба.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Он легко ориентировался в чужой, незнакомой местности и сейчас пошел не тем путем, как шли они вместе сюда, а кратчайшим, как ему казалось, — дворами. Крупная капля — то ли ветром ее сорвало, то ли так, шальная — шлепнулась на лоб, приятно похолодив лицо. Он подошел к дереву, разглядел в темноте набрякшие почки. Казалось, еще минута, и они разорвутся.
«А ведь я как раз к лету попал», — подумал он с тайной радостью и удивлением. Из дворов он вышел на пустырь, бывший когда-то стадионом, судя по еле очерченному квадрату поля, перепаханного кое-где бульдозером, по сваленным в кучу остаткам трибун. На колышках висели большие фанерные щиты, видимо стенды. В одном месте стенды были сняты, и сердцевина щитов не белела, а гасла в общей тьме. Около одного из щитов он заметил какое-то движение. Подойдя чуть ближе, увидел группу людей. Они стояли плотно, Ивану даже почудилось, в кружок. Голосов не было слышно, в темноте казалось, что они колдуют над чем-то или же роют землю, встав в круг. Неожиданно круг разжался, и из него пулей выскочил человек и побежал.
Он пробежал метрах в десяти от Ивана. Только белое пятно лица мелькнуло, очень белое, белее стендов на колышках. Иван скорее угадал, чем увидел, что это был молодой парень, хотя бежал он тяжело, то ли пьян был, то ли подбит… И тут же цепочка рванулась, за ним, и по той сосредоточенности, с какой они молча бежали, Иван понял, что эти четверо травят пятого не на шутку… И что при таком ходе он от них не уйдет.
Действительно, они быстро догнали его и остановились, и бежавший и догонявшие его стояли на сей раз вроде бы мирно, что-то выясняя. Ивану были слышны их голоса, но что они говорили, он не различал. Незаметно как-то бежавший переместился в центр группы и стал размахивать руками, будто объяснять что-то. А через секунду он упал, будто поскользнулся, будто не на земле стоял, а на льду. Тут же он исчез из поля зрения, потому что те четверо окружили его. Они покачивались, размахивая руками, будто играли в футбол, пасовали в кружок, тут же Иван понял, что и на самом деле они работали ногами. Он подошел на несколько метров ближе к ним и явственно услышал ругань, сдавленный крик; кольцо на мгновение разорвалось, и тот, что был внутри, по-лягушечьи, на четвереньках, выпрыгнул из кольца и снова тяжело, подбито бежал, время от времени нагибаясь к земле и хватаясь одной рукой за бок… И снова те четверо погнались за ним, и Ивану было хорошо видно, как он растерянно нагнулся, схватил что-то с земли, видно камень, и бросил в них, но не попал, потому что они не замедлили свой бег и уже почти настигли его.
Иван не мог разглядеть их как следует, но сейчас по их бегу, по суетливой ярости, с которой они все на него снова кинулись, Иван почуял: это не мужики, это малолетки.
Иван вложил оба пальца в рот и свистнул. Он хотел их взять на испуг, остановить. Действительно, они остановились, но не все: один, самый маленький, махал руками около подбитого. Остальные стояли не двигаясь, издали разглядывали Ивана. Убедившись, что он один, они сделали шаг ему навстречу.
— Эй, подойди! — крикнул один из них высоким, ломким голосом.
Иван не ответил. Он снова сунул пальцы в рот и засвистел, будто подзывая кого-то к себе. Свист его прозвучал на этот раз резко, пугающе. Они остановились, замерли… Иван повернулся и ровным шагом пошел назад к щитам. Однако, пройдя десяток метров, он вновь услышал резкий, тонкий, будто бы знакомый окрик:
— Стой! Вертай назад!
Иван продолжал идти, не замедляя, не убыстряя шаг, вскоре он услышал нарастающий топот. Теперь бежали за ним.
«Может, рвануть? — соображал Иван. — Да ни к чему от мелюзги бегать… Пугну, отобьюсь. А вообще зачем я влез?»
Он прошел еще несколько шагов, чувствуя затылком, спиной близость бежавших людей, и круто повернулся им навстречу. Он сунул руки в карманы, будто там было что-то такое, чего не достают попусту. Он молчал, выжидал. Двое почти вплотную подошли к нему.
— Ты чего свистел? — спросил тот, кто окликал его.
Теперь Иван понял, что он не ошибся, им было лет по шестнадцать, не больше, и тот, кто спрашивал, был будто бы знаком, где-то Иван уже видел его.
— Ты чего, дешевка, свистел? — повышал голос парень. — Фары тебе пописа́ть?
— Не тарахти, сопляк локшовый, — спокойно сказал Иван. — Дыхало закрой, когда со старшим говоришь.
Тот аж опешил на мгновение.
— Так вот я вам говорю, — продолжал Иван. — Валите отсюда, пока вас тут не тормознули. И человека оставьте, не смейте трогать.
— А тебе что, больше всех надо? — сказал парень, и Иван окончательно признал его. Это их шайка-лейка прицеплялась к Ивану в парке у пивного ларька. Сейчас, сбитые с толку изощренным блатом Ивана, его уверенностью, угрожающим видом, они пялили глаза, одновременно робея и взвинчивая себя, остервеняясь и с опаской косясь на неподвижные руки Ивана, тяжело лежавшие в оттопыренных карманах, в которых, кто знает, какая штучка лежит.
— Да, мне надо, — сказал Иван. — Я вам повторяю: валите хором отсюда без несчастья.
Иван повернулся и пошел. Они стояли сзади, еще не решив, что делать, но нападать пока боялись. Теперь нужно было уходить… Все, что мог, он сделал, а теперь уходить, быстро и толково, но без суеты. Не дай бог показать этой шушере, что ты боишься. Им только подставься, только покажи слабинку, такие мальки беспощаднее взрослых, когда чувствуют слабость или безнаказанность. И все-таки Иван таких не боялся. Сколько таких бегало у него на побегушках ложкомойниками!
Он пошел достаточно быстро, твердо, одну руку по-прежнему держа в кармане, будто там что-то было, другой помахивая для быстроты хода, шел так, будто сзади никого нет… «Разговор окончен… Пора по домам. Я вас предупредил, а вы меня не троньте, только зачем эти чувырла встретились в такой вечер?» Он не жалел, что ввязался… таких не пугнуть — себя не уважать. На них не крикни — загрызут человека насмерть. Но было досадно, что такой вечер попортила эта шпана.
Тихо — ни голоса, ни ветерка. Тихо, прохладно, свежо. «Надо б дойти до остановки, — подумал Иван. — Метров через сто вроде б остановка. Может, еще автобусы ходят. Кто его знает, какие тут порядки?»
Задумавшись, он не расслышал, как двое стоявших впереди рванулись с места, а двое других побежали за ними. Он прозевал их рывок на секунду, нет, на полсекунды, чуть запоздал ринуться вперед, а теперь они уже догоняли его. Он мгновенно решил, как будет действовать. Сначала он побежал не сильно, потом резко остановился, и, когда первый на скорости поравнялся с ним, Иван прыгнул на него и всей тяжестью своего тела свалил на землю. Второй кинулся на него сзади, но промахнулся, проскочив вперед, и Иван успел ударить его, аж пальцы хрустнули обо что-то твердое, должно быть затылок. Валясь, тот заплел ноги Ивану, и Иван потерял равновесие, но все-таки устоял. И тут же он увидел, что около него прыгает и петляет, как заяц, то удаляясь, то приближаясь, бежавший сзади всех, маленький, верткий, без шапки.
— Прочь, гнида! — крикнул Иван и побежал вперед.
Но те двое уже встали и пошли вдогонку за Иваном. Через несколько секунд он уже слышал рядом их бешеное дыхание, прерывистую ругань. Одного Иван ударил сбоку, в печенку, удар получился скользящий, не очень сильный, а второй подсек Ивану ногу, и Иван, таща его за собой, вместе с ним упал на землю. Первый прыгал над ним, целясь ногой в голову. Иван уклонялся, вертелся на земле, как рыба, одной рукой прижимая того, кто упал с ним вместе, ногами отбиваясь от нападавших сверху. Наконец, ему удалось опрокинуть на себя первого, и теперь они все трое бились на земле пыльным, шипящим, кровавым клубком, и главное сейчас было первым выскочить, первым встать на землю. Иван метелил их влежку, руками и ногами, не чувствуя, не замечая ответных ударов. Как бы в полусне, он видел маленького, который нагибался над ним, но у Ивана руки были заняты, и он не мог его отпихнуть, и он не знал, чего этот маленький, эта крыска хочет. Ему удалось на мгновение высвободиться, встать, и он рванулся вперед, но тут маленький, как мышь, метнулся наперерез, обежал Ивана кругом и подскочил, отставив назад одну руку. Иван почувствовал не тяжесть удара, а тычок, горячий, в спину, раз, и снова такой же, колющий и более глубокий в поясницу… Боль почему-то отдавалась в живот, а спина стала мокрой и горячей.
Он еще не понял: как это? Чем? Только почувствовал, что ноги держат плохо, что бежать не может. Что-то липкое, скользкое склеило ноги, тянуло вниз, к земле. Да и бежать уже было ни к чему: пространство вокруг него было пустым, и три спины удалялись от него, постепенно сливаясь с землей, с темнотой, последним бежал маленький человек без шапки.
Иван попробовал все-таки встать, идти, прошел несколько шагов, потом его затошнило, свело живот. Теперь впервые он почувствовал глубокую, нестерпимую боль, он встал на колени, потом лег на землю, сжавшись, бочком. Он вдруг стал плохо видеть и не знал, куда ползти и кого позвать. Он пополз к щитам, белевшим невдалеке, но доползти до них не сумел, потому что ему показалось, будто голыми внутренностями, кишками он царапается о землю, о грязный, острый, нерастаявший снег.
Надо было все-таки кого-то позвать, чтобы помогли, может быть, девушку, которая жила здесь рядом. Но он вдруг забыл ее имя. Силился вспомнить несколько секунд, но не мог. Тогда он окликнул Серегу, своего младшего брата, чтобы тот пришел поскорее, взял его и довел домой. На земле становилось все холодней, и тепло из спины уходило…
Николай Александрович так и не заснул, всю короткую ночь он провел в тревожной полудреме. Поезд приходил рано утром, стоянка была трехминутная, и он боялся проспать. Как назло забыл завести часы и все вглядывался в окошко, где развиднелось тускло, не по-весеннему. Наконец он встал, побрился в коридорчике электробритвой, зудящей уныло, вполнакала.
— Зря беспокоитесь, — сказала ему проводница. — Спали бы себе. Еще час до вашей станции. У меня же отмечено в книжечке, седьмое купе — разбудить в шесть.
«Все-таки хорошо, что вырвался. Иван обрадуется… Надо будет зайти в райотдел милиции — не помешает. И насчет работы обмозгуем…»
Николай Александрович решил не возвращаться в сонное, тяжело надышанное купе и простоял в коридоре у окошка, глядя, как лес, еще не стаявший снег и редкие домики из бесформенных и грязно-серых становятся розовыми и теплыми. Перед остановкой он испытал то легкое и приятное возбуждение, что известно каждому, кто подъезжает к месту, к своему конечному пункту, особенно когда едешь не по нудной обязанности, а просто так, в силу своих личных интересов…
Мать Ивана несколько раз в ночь вставала, подходила к дверям, прислушивалась… Ивана все не было. Она дважды пила сердечные капли, будила мужа, один раз даже всплакнула и внезапно заснула на рассвете, измаявшись и устав за ночь. Ее и мужа разбудил звонок в дверь, долгий, сплошной, без перерыва, резко прервавший ее слабый, болезненный сон. Она, побледнев, вскочила, пошлепала босыми ногами в сени, непослушными руками дергала задвижку, никак не могла открыть.
— Кто? Кто?.. Это ты, Ваня?!
— Открой, Михайловна, — сказал громко женский голос.
На пороге стояла соседка, из домика напротив.
— Подымайся, Михайловна! С Ваней неприятность.
— Что, что такое?! Слава, иди сюда скорее. Ой, нехорошо мне!..
Она, держась за сердце, стояла, прислонясь к косяку с неживым, побелевшим лицом.
— Что ты знаешь, говори! Ну, говори же скорей… Куда мне бежать-то? Где он, Ваня? Ну, говори же.
— В больницу беги. В больницу его отвезли… Говорят, дрался с кем-то… Он в больнице лежит порезанный.
Туфли не застегивались, платье не надевалось, и Вячеслав Павлович молча помогал ей. Задыхаясь, с таблеткой валидола во рту она выскочила из дома и бежала к больнице, а муж сзади, не поспевая за ней.
— Я же говорил, — тихо, чтобы она не слышала, бормотал он. — Я же говорил, я же заранее знал, что так будет…
Она не слышала ничего и молчала. Лицо ее казалось застывшим, в мертвенности своей — неприступным. И только внутри себя она кричала криком, и внутренности ее рвались и набухали кровью: «Ведь так все хорошо было… Ведь хорошо же было… Что же ты делаешь со мной, Ванечка-а-а?.. Что же ты с нами делаешь?»
В больнице кто-то накинул на нее халат, объяснял, какой этаж, какая палата, она не слышала и не понимала, и бежала вперед, сдернув с себя мешавший халат, держа его в руках, как полотенце, и безошибочно поднялась на третий этаж, и, не спрашивая, нашла палату, где он лежал. У палаты она остановилась. Не могла переступить порог и открыть дверь. Муж догнал ее, и она сказала:
— Ты иди…
Он вошел, а она стояла у дверей, ждала. Через минуту муж вышел.
— Живой он? — спросила она мужа.
Муж замешкался, секунду не отвечал, ее стало знобить, и она накрыла голову халатом. Наконец до нее дошел его далекий, приглушенный голос.
— Живой он… Без сознания сейчас… Ты бы пока не входила.
Сережку никто не разбудил, как обычно, и он хотел было проснуться сам и вылезти из теплой постели в утренний холод, но раздумал и снова накрылся с головой. Поспав еще немного, он разлепил глаза, посмотрел на часы, было уже больше девяти… Первый урок подходил к концу. Он вскочил, в доме никого не было. Раскладушка брата, сложенная, стояла у стены. «Как же это я не услышал, что он встал?» — подумал мальчик. Он походил немного по квартире, вышел во двор, посмотрел там… «Может, брат здесь, делает зарядку?» Но брата не было… Отец и мать, видно, ушли на работу, а в доме почему-то все было раскидано.
Он собрал учебники и, не поев, пошел в школу. Он не знал, как он объяснит учительнице свое опоздание. Не мог ничего придумать. Около школы тоже было пусто и тихо. Только один парень из седьмого «Б» курил не стесняясь и что-то чертил на земле прутиком.
— Ты чего? — спросил он Серегу.
— Опоздал на урок… Проспал. А ты?
— Выгнали.
— За что?
— Да так… Было дело.
Сережа сел на корточки и стал бить палочкой по комку снега.
— Говорят, к тебе брат приехал? — спросил парень.
— Ага, — с гордостью сказал Сережка. — Давно уже. Четвертый день. Он у меня на погранке служил.
— На погранке? — ухмыляясь, сказал парень. — А мне говорили, он в тюрьме сидел.
У Сережи аж лицо вспухло. Он приставил палец к своему виску и сказал:
— Ты что… Совсем, что ли, того?
— Я-то ничего… Ты-то чего дурочку ломаешь? В тюрьме он сидел, все говорят.
Сережка встал, бросил на землю портфель и пошел на парня… Ему хотелось плакать, но он сдерживался изо всех сил. Парень был на голову выше его, но это не остановило Серегу.
— А ну-ка еще скажи… Я тебе сейчас дам в лоб. Мой брат пограничник. Он со службы вернулся. Все знают… Попробуй, скажи еще про моего брата.
Семиклассник сплюнул, повернулся к Сереге спиной и, пощелкивая пальцами, пошел в школу.
А Сереге хотелось драться и плакать. Плакать и драться. И еще есть, потому что так никогда не бывало в его жизни, чтобы его не будили, не оставляли ему еды, не провожали его в школу, чтобы он опоздал на целый урок и не знал, что говорить учительнице.
Апрель 1970 — февраль 1972 г.
Нескучный сад РОМАН
Светлой памяти отца посвящаю
I
Он вошел в школу мимо нянечки, дремавшей на стуле, прошел мимо раздевалки, и, неожиданно оглянувшись в тенистом узком пространстве, где стояли вешалки, кренящиеся под тяжестью одежд, как деревья под напором плодов, в этом узеньком тенистом пространстве увидел он мальчика лет десяти, который перебирался от одной вешалки к другой, наклоняясь всем туловищем. Казалось, еще мгновение — и мальчик будет ползти по-пластунски. Его лицо отрешенно белело в сумраке… Мальчик пригибался, прятался в лесу вешалок, выпархивал на свет и снова тонул во тьме.
Он смотрел на все передвижения мальчика с возрастающим интересом.
Тот понял, что его увидели, вздрогнул, плечи его поднялись, он вытянулся как бы даже с вызовом.
Нянечка поймала удивленный взгляд взрослого и, мгновенно проснувшись, тут же пошла вперед, как бы по невидимой прямой, прочерченной его взглядом, еще не зная, зачем и куда, но уже догадавшись: «б е з о б р а з и е».
И нашла мальчика, стоявшего между вешалок и прижавшегося к пальто, к своему или чужому.
— Ну-ка, ну-ка, ну-ка, что у нас за дела такие?.. Вылезайте-ка, пожалуйста, на свет. Вот так.
Мальчик вышел.
— И руки покажи. Что в руках-то?
Мальчик послушно протянул руки, повертел пальцами, будто на приеме у врача. Ладони были маленькие, сморщенные, с подтеками чернил, пальцы с обломанными ногтями, и так же, будто на приеме у врача, руки дрожали.
— А карманы чем набил?
Он послушно вывернул карманы, в которых была обертка от жвачки, надкусанное яблоко с запыленной, посеревшей уже мякотью и длинная железная трубочка для стрельбы.
— Ты чегой-то там делаешь? И чего тебе в раздевалке надо? Что это за цели такие?
Мальчик молчал и покорно смотрел на нянечку.
— У людей урок, сидят, занимаются, а этот лучше всех! Где очутился? Чего молчишь-то? Сейчас к завучу отведу, расскажешь, чем тут занимался.
— Я сам с ним подымусь.
— А вы откуда будете?
— Инспектор, — сказал он, взял мальчика за руку и стал подниматься по лестнице.
— Ты в каком классе? — спросил он.
— В четвертом «Б», — охотно ответил мальчик.
— А Игоря Ковалевского знаешь из восьмого «Б»?
— Нет, я оттуда только Дроздова, вожатого, знаю.
— А зачем ты… в раздевалку?
— А просто так. Я ничего такого и не делал.
— А кто говорит, что ты делал?
Мальчик искоса, как бы с легким сомнением, посмотрел на него:
— Просто я отпросился в туалет… У нас сейчас контрольная, а я задачку не могу решить… Все пишут чего-то, а я и не знаю, чего писать. Ну, отпросился, а сам в туалет не пошел, погулял по коридору и пошел сюда. А чего думать, когда все равно задачку не решу?
— А зачем в раздевалке прятался?
— А я не прятался… Просто я отстреливался. А они будто были со всех сторон. Ну, вот я и сидел… А потом чего-то еще, сейчас не помню. Вроде меня ранило и я раненый сижу, но ранен-то я ранен и отстреливаюсь, но время от времени вдруг как вспомню — контрольная и сколько до конца урока осталось. И еще не знал, пойду или не пойду. А тут как раз она.
Сзади раздался голос нянечки, она неожиданно догнала их:
— Конечно, дети… Я ничего не говорю. Дитям все можно… но и какие тут случаи бывают. Целый день сидишь, глаз да глаз… Конечно, я не спорю, дети — они есть дети, это понимать надо, но случаи бывают. А с кого спрашивают?.. С меня. Уже тридцать лет в школе и все здесь знаю, как есть, как было. У всех все есть, а случаи бывают, и только лишь от баловства. Вот попробуйте здесь денек посидеть. И смех и горе. Воспитание… Ладно, пусть в класс идет… Считаем, так: ничего не было.
— А ничего и не было, — сказал мальчик.
Ему хотелось порасспросить мальчика, узнать, кто его родители, но ведь не для этого пришел… тут дай бог со своим разобраться.
— Возвращайся лучше в класс, — сказал он.
— А если не пустят? — с надеждой спросил мальчик.
— Пустят, не волнуйся. И еще одно. Как кончится урок, зайди в восьмой «Б», окликни Ковалевского, скажи, отец пришел. Я здесь буду.
Он стоял теперь в коридоре, рассматривая висящие на голубовато-серой стене портреты, плакаты, диаграммы. Все было так же, как и в его времена, и тот же был неистребимый запах свежевымытых полов, хлорки, масляной краски (где-то что-то облупилось и недавно на-свежо подкрашивали), какой-то трудно уловимый и вместе с тем совершенно определенный запах, сразу отбрасывающий на двадцать пять лет назад, в 310-ю мужскую, в которой незадолго до его самого первого урока размещался госпиталь. Его перевели тогда в другое место, а помещение снова переоборудовали в школу.
Он и не ловил этот запах, и не настраивал себя на мгновенный бросок отсюда туда, от себя сегодняшнего к тому, нет, другие были у него заботы, но тишина и приглушенные голоса за дверьми и детский кашель, нарочито громкий, и размеренный, четкий и вдруг неожиданно взрывающийся учительский голос, и такой торопливый и беспомощный стук мелка, и другой стук, спокойный и назидательный, и вдруг открывшаяся дверь — кому-то невмоготу стало, и выпорхнувшая фигура в сером кительке, и даже этот сразу реально ощутимый на губах хлористо-родниковый вкус воды, которую этот мальчик пьет в туалете, хлористый родник в пустыне, глоток свободы — все это возвращало туда механически, без всякой подготовительной настройки.
Он постоял еще в этой тишине, видя себя юношей (это слово всегда казалось ему казенным) с деловым, просветленным и одновременно чуть скорбным лицом — такое у него всегда было, когда делал уроки или еще что-нибудь н е о б х о д и м о е, — походил по коридору, выглядывая во двор, где двое верзил носились по серому квадрату спортплощадки.
Звонок прозвучал, как всегда, неожиданно и был длинным и разнообразным по тембру — то высоким, фальцетным, то трубным, то вдруг заржавелым, прерывистым, то все тянул фистулой, и уже накладывался на него шум, топот, общее движение, великая энергия масс, мгновенное отключение от кладезя знаний, от «учения — свет, неучение — тьма» к бешеной десятиминутной анархии.
Вылетали и выходили, выплывали и выскальзывали, фигурно катились по паркету и вышагивали, как часовые, вприпрыжку или с нарочитой степенностью, с достоинством и не торопясь, а некоторые так просто катапультировали — надо было увернуться, чтобы летящее по закону физики живое тело не погрузилось в бездыханное, твое.
Это были очень насыщенные минуты — минуты переменки.
И, как бы в мгновенном разрежении и пустоте, увидел он с в о е г о…
Он не летел, не прыгал, не плыл, не висел в воздухе, как другие, не свистел и не пел. Он медленно и несколько понуро шел по коридору.
В серой обвисшей курточке, бывшей ему не по росту, медленно шел навстречу, и лицо с размазанной пастой на лбу казалось серым, озабоченным и усталым, будто он не спал ночь. И враз потянуло броситься, обнять, взять на руки, унести из этого гвалта, но он мгновенно переборол свое желание.
Это было то, что он сам называл «наседкино чувство» и чего немного стыдился, так как ему казалось, что необходимо совершенно другое: мужское спокойное покровительство, а не это тревожное, нервное, постоянно-защитительное.
Молча он стоял у окна и смотрел на сына. К мальчику подошел другой, на голову выше, с девичьим румяным личиком, в тоненьких очках, бедрастый (таких нарекают сразу автоматически «жиртрестами», «мясокомбинатами», «главсосисками» и т. д.). Маленький почему-то по-отечески приобнял «жиртрестину», и вся его как бы озабоченная фигурка распрямилась. Лица обоих светились взаимной симпатией, пониманием, общностью некой тайны или, по крайней мере, секрета. И тут в разгар разговора мальчик его увидел. Секунду мальчик как бы колебался, сохранить ли степенность, но не смог сохранить, а, как когда-то раньше, побежал ему навстречу с удивленным и радостным лицом и уткнулся головой в грудь… Все-таки давно они не виделись… Так еще не было, если, конечно, не считать командировок. От головы сына было тепло и спокойно, как дома, и он положил руку на эту небольшую теплую голову и тихо спросил:
— Ну, как ты? Как ты… тут?
— Я хорошо, нормально. А ты как?
Так они начали разговаривать в общем движении и шуме, пока еще ни о чем, и все равно было хорошо, но разговор так и не успел начаться, потому что появилась Евгения Борисовна.
— Это очень хорошо, что вы пришли, я вас, собственно говоря, давно жду, именно вас… Да, нам есть о чем поговорить. Положение… ну, как бы вам сказать… не хочу вас пугать, да и нет повода, но, в общем, довольно серьезно… Именно с вами, с отцом, хотелось поговорить. Наблюдаю неблагополучие, особенно в последнее время… Ты иди, Игорь, иди. Пока не поздно, нам надо выправлять положение. — Голос ее то тонул, то возникал в гвалте. — Полное отсутствие на уроках… Расхлябанность, неинтерес ко всему… леность в соединении с упрямством.
Уже ничего не было слышно: звонок треснул и начал свою фиоритуру, столь знакомый его голос переходил то в треск, то в трель, прерывался, казалось, совсем затихал и снова звучал; движению этого звука не было конца, и коридор пустел, затихал, закрывались двери классов, звонок оборвался, и вновь возник ее убеждающий голос:
— Давайте будем думать вместе. Нам надо активизировать его, внушить интерес к работе… Это же наше общее дело.
Оба они как-то незаметно очутились в полупустой учительской с большим столом, устланным зеленой шерстяной скатертью; длинные узкие графики висели на стенах, расписание уроков, а также стенгазета с шаржами и портретами. И он испытал вдруг нечто подобное страху. Сжалось вдруг внизу живота, как на экзамене, когда берешь билет, некий старый, полузабытый страх, а точнее сказать — воспоминание о страхе, о множестве страхов… Одиночество письменного экзамена, тема, вдруг потерявшая свой смысл и содержание, или другое — учительский глаз, ползущий по журналу, и ты уже знаешь: тебя, и действительно, твоя фамилия звучит, и это даже не фамилия человека, а какой-то абстрактный знак, знак поражения.
И еще один страх, соединенный со словом «вызов»: вызов к директору, к завучу, вызов родителей и самый значительный и леденящий вызов — родителей в роно. Не со всеми такое случалось, но случалось все-таки…
Да, рядом с другими прекрасными воспоминаниями, чего уж тут таить, жило и воспоминание о страхе.
И запах был тот же суконный, чуть пыльный, канцелярский и вместе с тем очень живой: тут сидели, курили, пудрились, кто-то даже чистил апельсин, тут были две соединенные друг с другом комнаты, люди сидели все по отдельности, и каждый был занят своим делом.
— Садитесь, садитесь, пожалуйста, у меня сейчас урока нет, да и вы, надеюсь, не спешите. Раз уж выбрались, так надо поговорить, не так ли?
— Да, конечно, я для того и пришел… безусловно, — говорил он и вспоминал ее отчество и почему-то не мог вспомнить, то ли Евгения Борисовна, то ли Евгения Михайловна; вот имя своей классной помнил наверняка и навсегда, да и было оно не чета этому: Ия Николаевна.
— Не могу назвать мальчика неспособным. Нет, не хуже других. Но усердием, прилежанием, а главное, волей похвалиться не можем. Рассеян, неорганизован, в общем, не умеет нацелить себя на урок… Сидит, думает, а о чем думает — неизвестно. Скажешь: «Ковалевский, повтори условие задачи», а он будто проснулся.
Голос был рассудителен, спокоен и энергичен, но, когда она произнесла фамилию, он вздрогнул — это было как т о г д а — и напрягся весь, вспоминая условие задачи, и мысленно встал, видя белый подбородок Ии, далекий стол и черную, в бледных, пыльных волнах доску.
— И не в том беда, что думает о своем. Другие тоже отвлекаются, а некоторые даже хулиганят, стреляют из трубочек, это у них сейчас очень распространено. А он никому не мешает. Но отсутствует… Отсутствует. — Она посмотрела на него, и он кивнул. — Вот что беспокоит сейчас больше всего: отсутствие.
На диванчике в углу учительской сидела в неудобной позе молоденькая учительница. В то время, когда он приходил сюда в школу часто, он встречал ее и запомнил и даже как-то поговорил. Помнится, она в этом классе вела английский язык. Она казалась почти девочкой, только окончила институт, но тоже была рассудительная и уверенная и всегда чем-то обеспокоенная, как и эта, но только по-другому. Он видел сейчас каштановую челку, закрывавшую глаз, голова была склонена, она была вся поглощена книгой, но почему-то ему показалось, что глаз в золотистом просвете волос блеснул живо, любопытно, и тотчас повернулся к ней, но она скромненько сидела, будто даже не догадываясь об их присутствии, склонившись над толстой книгой, уютно лежавшей на детских худеньких, аккуратно вылепленных коленках.
— А вчера и позавчера его вообще не было школе. Я думала, что нездоров, хотела позвонить домой, но оказалось, он вполне здоров и его видели в месте, ничего общего не имеющем со школой… Я не стала звонить матери, зная ее… как бы сказать… нервную реакцию на все. Я решила, что вы мне лучше поможете. Два дня не присутствовал на занятиях. Кроме дисциплинарной стороны дела, это пропуск трудного материала, который мы сейчас проходим, объяснение в классе очень трудно потом восполнить, но это лишь одна сторона. Но есть и другая, моральная. Самому освободить себя от уроков, от школьного распорядка — знаете, как это называется?
Он задумался, вспоминая…
— Прогул, — четко сказала она.
В этом слове немало было смысла, и он ощутил вдруг пустоту и свободу утренних Чистых прудов, тех, конечно, еще без башни рыбного ресторана над прудом…
— Да, прогул, — подтвердила она спокойно и как бы со скрытой скорбью.
А худенькие коленки под толстой книгой вдруг вздрогнули, точно их жестко и металлически задело это слово «прогул».
— Причем первый в нашем классе в этом году. Первый, так сказать, откровенный прогул. И знаете, что он мне сказал?
— Да, что сказал? — спросил он. — Как он сам это поведение объяснил?
Она задумалась, голубые чуть водянистые глаза потемнели, и, посмотрев на нее внимательно, он понял, что она тоже молода, сравнительно молода, лет двадцати восьми, не более, просто озабоченность, а может, некое постоянное напряжение ее старили.
— Сначала он молчал, потом твердил, что голова болела, а потом заявил прямо-таки дерзко: «П р о с т о т а к».
Он отвел глаза от ее лица и, не зная, как вообще закончить разговор, сказал:
— Ну что ж, придется разобраться.
— Да, уж я вас очень прошу, — другим, более мягким тоном сказала учительница. — Знаете, именно надо разобраться как следует.
Тут и прозвенел звонок, и все вновь зашевелилось и ожило. Полутемная, как бы безлюдная учительская мгновенно наполнилась людьми. Стопки тетрадей, журналов быстро сделали просторный зеленый стол тесным, почти маленьким. И, простившись с учительницей, он вышел из комнаты. А рядом уже неслись, как шарики ртути, старшие и младшие, отличники и двоечники, явные и скрытые прогульщики. Он шел вниз и вдруг увидел, что впереди быстро, цокая по каменной лестнице со светлой широкой полоской от ковра, снятого для уборки, шла худенькая и высокая учительница английского языка. Ему страшно почему-то захотелось ее догнать, и, очевидно, поняв это или нечаянно, она замедлила ход, и теперь они шли в потоке беспорядочно прыгающих по ступенькам школьников.
— А вы не расстраивайтесь. Все будет в порядке…
— Ну, а прогул?
— Ну… прогул. — По лицу ее проскользнула некая тень, розовая и светлая тень воспоминания. — Прогул, подумаешь… Нет, конечно, классная права, — поправилась она, — но не думаю, чтоб все было плохо. Только вот что меня беспокоит…
— Что же вас беспокоит?
Она внимательно и, как показалось, испытующе посмотрела на него:
— Что-то он очень притих в последнее время. Скучный какой-то, точно чем-то подавлен. Ведь по натуре он очень живой, контактный. — И, смутившись, она вдруг добавила скороговоркой: — А вообще я люблю вашего мальчика… Нет, поймите правильно, я их всех люблю, но с ним мне всегда легко. В нем всегда ощущается…
— Что же? Что же? — спросил он, и чувство затаенной, прибитой обстоятельствами, но вполне правомерной родительской гордости начало подниматься и распрямляться в нем.
— Постоянная внутренняя работа… Он, чувствуется, думает все время. Уж не знаю, о чем он думает. Да и невозможно знать… В общем, нормальный, вполне хороший мальчик.
Этого было маловато по той шкале, которую он мысленно вычертил, вдохновленный се первыми словами, концовка показалась ему скромной, но в целом не вызывала возражения, и он сказал как бы растроганно:
— Ну, спасибо, поддержали, так сказать, в трудную минуту.
Внизу у раздевалки шла привычная кутерьма. Выскакивали полузастегнутые, будто, если на секунду задержаться, их оставят здесь надолго, может, даже навсегда замуруют. Впрочем, справедливости ради отметим и тех, кто одевался степенно и спокойно. Главным образом самые младшие или, наоборот, самые большие. Десятиклассники были так взрослы, раскованны, великолепны, что он робел, и казалось, что они знают о жизни больше, чем он сам.
Игорь появился с опозданием, шел не торопясь, чуть враскачку. На озабоченном лице блуждала деланная полуулыбка… Так бывало всегда, когда он ожидал чего-то.
— Пойдем? — спросил отец. — У тебя никаких классных собраний?
— Нет, — ответил мальчик.
Они шли по проспекту, шли не домой, не в сторону дома, а от него, вот что было странно и ново.
— Ну, как же дела? — спросил он мальчика.
— Нормально, — сказал тот.
— Ничего себе нормально, когда меня в школу вызывают.
— А они всегда вызывают.
— Ну, почему же всегда? Не надо преувеличивать.
— А у них работа такая.
— Нет, не согласен. У них работа — учить. А вызывают только в самых из ряда вон выходящих случаях. Понимаешь?
Мальчик не ответил. Они шли теперь по парку, мимо огромного носорога, и он вспомнил, как однажды они пришли сюда с сыном, несколько лет назад, и мальчик стал ползти и карабкаться к вершине, широкой бронзовой спине, карабкался, радуясь собственной смелости, и тем не менее все время оглядывался на отца — боялся. Сначала добрался до рога и там застыл на некоторое время, боясь спуститься вниз и не решаясь продолжить путь наверх, и самому было страшновато, что мальчик лез, и вместе с тем ему хотелось, чтобы он преодолел страх, и молча, глазами, он показывал мальчику: давай, давай вперед.
Но тут выскочила какая-то девчонка-дружинница и стала на него кричать:
«Снимите немедленно своего мальчика!»
Он, может быть, и послушался бы, если б это говорилось другим тоном, но голос девчонки, визгливый и истерично-повелительный, был так неприятен, что он не шелохнулся, а мальчик видел все это сверху, и лицо его болезненно кривилось — дети не любят, когда на их отцов кричат. И быстро и легко, как муравей, полез вверх и вскоре оказался на взгребке огромной бронзовой спины.
«Молодец, Игорь! — сказал он сыну. — Теперь осторожненько вниз».
Другие дети лазали здесь ежедневно, носорог был ими обжит, как стоящая рядом беседка, сооруженная в честь восьмисотлетия Москвы, а Игорь впервые рискнул. И вот так они смотрели друг на друга. Ему хотелось, чтобы сын лез сам, без его помощи, и он глазами показывал надежный и кратчайший путь, и мальчик стал спускаться неуверенно, боязливо, но все же по-звериному цепко, а голос дружинницы все звенел рядом, но уже не был слышен.
Почему-то вдруг вспомнилось это.
Они часто бывали в этом парке именно вдвоем и знали здесь все — от полузабытых, заброшенных каруселей до шашлычной на взгорке, к которой вечером было не пробиться, а сейчас там сидело несколько посетителей в одном углу, а в другом белела стайка оживленно о чем-то беседующих официанток.
Парк существовал в его сознании еще с довоенных времен. «Пойти в парк Горького»… Выходной отца и парк где-то далеко от дома, почти как другой город.
«Парк Горького».
Потом парк исчез из жизни на четыре года, и осталось только сочетание этих слов в медном грохоте оркестров под деревянными раковинами.
Как только он вернулся из эвакуации, весной сорок четвертого года, отец повел его в парк Горького. Они жили тогда в квартире, стекла окон и рамы которой были выбиты воздушной волной после немецкой бомбежки. С пятого этажа виднелся двор с огромным ржавым холмом. Бесформенное месиво, железные балки, на которых, как на адских шампурах, чудом держались обгоревшие куски плит, а рядом — мелкий битый кирпич, повисшие над землей оборванные лестницы и страшные какие-то куски ткани, одежды, что ли, или одеял.
«Прямое попадание», — сказал отец.
До войны это был нарядный, почти кукольный дом латвийского постпредства. Окна выходили в их двор, и Сергей видел, как гуляли по ярко-зеленому, аккуратно стриженному газону две беленькие близняшки в клетчатых юбках, как они чинно вышагивали в сопровождении высокой очкастой старухи, две удивительные девочки, как бы с первой страницы нерусского букваря; было интересно, когда вдруг они убегали от старухи, начинали носиться, прыгать и, казалось, верещать, точно две пчелки.
Отец хромал после ранения. Они шли медленно по внезапно остановившемуся эскалатору, а когда вышли из метро, мальчику вдруг открылся Крымский мост и поразил его, и надолго запомнилось это ощущение гигантского, сверкающего на солнце моста, похожего на арфу с железными натянутыми струнами, лебедино и мощно выгнутого над студеной, в темных скорлупах льда водой. Мост этот возник из полузабытой младенческой довоенной жизни, где они втроем — он, отец и мать — гуляли по парку и внезапно наткнулись на серый полотняный шатер. Кто-то громко, зазывно кричал: «Граждане, граждане, поторопитесь, сегодня последний день, рекордный номер — мотогонки по вертикальной стене!» И странная пугающая закопченность вертикальной стены, натужное гудение бешено кашляющего и как бы на последнем усилии взбирающегося мотоцикла, белое лицо под красным шлемом, и другой мотоцикл, вслед за ним, — с девушкой в серебряном скафандре, удивительная краткость этих мгновений, рев, рык, рывок вверх, затем вниз и снова вверх, а потом вниз, и тишина — и все. И надо уходить от краткого волшебства в потемневший, похолодевший парк с зажигающимися ромбиками довоенного неона. И пока ты ешь мороженое в павильончике, и когда, уже сонный, идешь домой, все вспоминаешь этот нарастающий грохот и неожиданную тишину. И вспоминаешь парк в целом и ту его часть, по которой гуляли, с дневным кино, чебуреками, мороженым, с шахматными досками на улице, с гигантской цифрой «1941», выложенной желтыми цветами на зеленой клумбе, и гигантский портрет Сталина и Ворошилова на фанерном щите, в длинных, до пят, шинелях, идущих под руку по двору Кремля. Но еще помнишь, что начинается за Зеленым театром эта парковая чащоба с ее гротами и холмами, со множеством павильончиков, сильно источающих бараний шашлычный запах.
Туда детей почему-то не любят водить. Там парни и девушки сидят не на скамейках, а просто на земле в обнимку, сидят так часами неподвижно на траве, забросанной картонными стаканчиками и смятыми листами газет.
И почему-то он вспомнил свою мать, как она тогда выглядела и в чем была одета.
Но когда весной 44-го года они шли туда с отцом, парк буквально потряс его тем, что почти не изменился. Только людей в нем маловато, нет театра шапито и шатра с мотогонками, но зато уже продают мороженое, брикет стоит двадцать четыре рубля, мороженщица разрубает его на три части, и отец покупает ему треть за восемь рублей. Это первое мороженое после эвакуации. А у каменной решетки парка стоят гигантские танки, зеленоватые, с желтыми крестами, с тупыми подковами кабин, с пупырчатой, ящерного вида, чуть потертой броней, иногда с вмятинами — это немецкие трофейные танки. Они стоят, как звери в зоопарке, и так и видятся сквозь решетки ограды — обезвреженные незнакомые звери как бы доисторических времен, с огромными хоботами и маленькими головками, вызывающие опасливую брезгливость и острое любопытство. Запомнился человек в ватнике, который обстоятельно рассказывал, как осколок танкового снаряда его контузил под Наро-Фоминском. Ему было приказано атаковать танки, и он бежал с бутылкой с зажигательной смесью; его бросило наземь взрывной волной, а бутылка разбилась рядом с ним и не разорвалась. Рассказывал он, все время посмеиваясь, но слушать его было как-то страшно и боязно, и, хотя он рассказывал все по порядку, казалось, что в мыслях его какой-то разрыв, преодолеть этот разрыв он не в силах. Рядом сидели инвалиды в гимнастерках, пили пиво и детально обсуждали технические данные этих танков.
Война уже отступила, она была далеко отсюда, уже кончалась, и потому казалось, что никто уже погибнуть не должен, что все вражеские танки такие же бездействующие, музейные, как эти. И было ясно, что победа не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. И поэтому все должны вернуться назад живыми…
— Скажи, а где ты был вчера утром? — спросил он у мальчика.
— Как — где? В школе.
— Зачем ты строишь из себя дурачка? Ведь ты же понимаешь, раз меня вызвали в школу, значит, сказали.
Мальчик не ответил ничего.
— У нас же с тобой так заведено; все как есть… даже если…
— Было.
— Ну и что?
— А ничего. Мало ли что было. — Мальчик замолчал, шел распрямясь, глядя вперед, выправка была нарочито строевая.
— Ну, хочешь, пойдем в кино? — сказал он и взял мальчика за руку.
Мальчик не отнимал руку, но чуть прижал ее к бедру, и отец физически чувствовал деревянное отчуждение худенькой: опущенной вдоль тела руки.
— Давай сходим в кино, а потом поговорим. Ты мне все расскажешь, что, как и почему.
— А чего рассказывать?
— Ну, знаешь, — уже начиная раздражаться, сказал отец, — ты эти штучки брось!
— А чего бросать?
— Ты два дня не был в школе. Ты знаешь, кто ты?
— Откуда же?
— Так вот, ты — прогульщик. Так только дезертиры поступают… Тебя выгонят отсюда и не примут ни в одну школу. Придется устраивать тебя в интернат.
— Пожалуйста. Мне как раз эта школа надоела.
— Игорь!
— А что Игорь… Делов-то! — И, подняв глаза на отца, вдруг добавил: — Все нормально, капитан.
Это была их фраза, они любили это говорить друг другу, и неизвестно было, откуда она взялась, то ли из книги, то ли из фильма, а может, из радиопередачи: «Все нормально, капитан, все нормально». Даже не фраза, а код: мол, так уж принято у нас, у мужчин, не сюсюкать, не говорить о чувствах и разном прочем. Нас воспитывали не сдаваться, стоять до конца и улыбаться в лицо неприятелю… «Все нормально, капитан, все нормально».
Мальчик действительно улыбался или старался улыбнуться, но глаза под напряженным лбом смотрели на него беспомощно, с ожиданием. Его вдруг поразила взрослость и печаль этого выражения. Три этих дня украденной опасной свободы и появление после этих дней в школе, беспокойство, страх вызова родителей, угрозы об исключении — все это показалось малой малостью в сравнении с тем, как они теперь шли, как они гуляли, не зная, куда пойдут, слово «домой» существовало лишь для одного из них, и отец вдруг подумал о комнате, в которой, может быть, так же как и раньше, лежат таблицы с профилями стенного раскопа, фрагментами стеклянных сосудов из Любече. Он даже не знал, что думает о нем мальчик… Вранье с командировками устарело, а правда была неопределенна. «Там», — говорилось матерью. «Там» — значит в этом городе, не в командировке с тревожными, будившими мальчика ночью, но приятными своей неожиданностью звонками из городов, в которых мальчик мысленно был тоже, а здесь, рядом, может быть даже совсем близко, «там», за чертой, которую мальчик боялся и не мог понять.
— Ну ладно, ладно, — сказал отец, и тон показался ему чужим и фальшивым. — Можем сейчас зайти в «Шоколадницу».
В этом кафе они бывали порой в воскресные дни, в мужские свои дни, что проводили вдвоем, сюда они приходили после Третьяковки или после кино, после долгих лыжных прогулок.
В Третьяковку, в Музей изобразительных искусств он затаскивал мальчика вначале с некоторым усилием, а потом тот еще за несколько дней сам напоминал ему:
«Так что, в воскресенье в Третьяковку? Железно?»
«Да, железно».
И, откладывая проект, работу, он шел с сыном в Третьяковку. Шел с радостью, потому что, хотя все это знал наизусть, смотрел теперь наново, е г о глазами. А потом возвращались пешком по набережной, по улице Димитрова и заглядывали в кафе «Шоколадница», заказывали вкусные блинчики в шоколадном креме. Обсуждалось множество вопросов: от вооружения японской армии до индийских изумрудов, от знаменитого боксера Джо Луиса до невыдержанного, но очень обоим симпатичного хоккеиста Александра Мальцева.
Не сразу это пришло. И даже чувство необходимости быть рядом с мальчиком — тоже не сразу. Если не врать самому себе, то первые лет пять — семь мальчик как бы лишь присутствовал в его жизни. Да, он любил сына и потому, что так полагалось, и потому, что действительно иногда любил, испытывал чувства какой-то физической, может быть, даже животной нежности к маленькому незащищенному, неопределенно напоминающему тебя существу.
Но он мог жить и без мальчика — месяцами в командировках, в экспедициях, почти год в Средней Азии, в Таджикистане, под Курган-Тюбе, мог так жить подолгу, испытывая лишь потребность знать, что все существуют, здоровы, что они есть, что мальчик растет и все нормально, порядок, заведенный в мире, не нарушен. И первые болезни мальчика, и его первые разговоры — все это прошло в отдалении от него, он не обо всем даже знал. Да, он интересовался и испытывал даже волнение, беспокойство, но в глубине души всегда был уверен, что и без него все уладится. И, приезжая, он не знал, как разговаривать с мальчиком и о чем. И говорил то слишком взросло, то слишком сюсюкая, и все время как бы переводил свою мысль на какой-то другой, искусственный язык, на псевдоязык детей, на котором, думал он, говорит сын. А иногда он вдруг ощущал, что мальчик понимает гораздо больше, чем ему представлялось, он думает и говорит как большой человек, а не как ребенок, и удивлялся, и не был к этому готов.
Он приучал его не бояться драк, отучал жаловаться, плакать, скулить — всю эту немудреную мужскую школу он осваивал с мальчиком, но никогда не знал, отчего тот плачет и чего тот боится…
Только позднее он научился в этом разбираться. Теперь, когда его сын приходил домой или когда он сам встречал его, он всегда безошибочно определял его настроение, а значит, и отметку, которую тот получил. Однажды только он ничего не мог понять, что́ там произошло между мальчиком и его другом Антоном, и сын долго запирался и ничего не говорил. Вообще-то он не умел скрывать свои чувства, на его лице, особенно в случае двойки по какому-нибудь важному предмету, выражался глубокий траур, истинная скорбь и полный неинтерес ко всей дальнейшей жизни. Это было свойство его больших, очень выразительных карих глаз.
Впрочем, через пять минут скорбь исчезала бесследно: двойка, конечно же, несправедливая, «ни за что», казалась чем-то не бывшим на самом деле, но зато вся жизнь виделась теперь безгрешной и усердной, с вовремя заполненными графами дневника, с домашними заданиями, которые выполнялись тут же, по приходе домой, что называется «с пылу, с жару».
И наоборот, велико было мгновение, когда после любой пятерки — даже по пению — глаза светились победно и дерзко, путь был устлан лаврами, похвальными грамотами, все уроки были пустячны и легки настолько, что их и вовсе можно было не делать.
Вся эта гамма, хорошо изученная, была нарушена на этот раз, когда мальчик пришел вялый, неразговорчивый, но и без скорбных нот, обещавших двойку по важным дисциплинам.
И ничего из него нельзя было выудить, кроме:
«Да там… ребята, команда… Антон… Каток дома номер два».
Мальчик сел тогда за уроки, но отец чувствовал по неподвижной худенькой спине, что это все фикция, что он просто сидит, а думает о другом. Все выяснилось потом… Оказалось, что они с ребятами давно готовились к какому-то матчу с командой соседнего двора. Игорь специально купил рижские клюшки, какая-то Дашка Гурьина, то ли из их класса, то ли из их двора, должна была болеть за них, а он в нападении был самым главным и собирался надеть желтый пластмассовый шлем, на котором тушью было написано «АМ» (Александр Мальцев): у них теперь была такая мода — писать на клюшках и на шлемах имена знаменитых хоккеистов… Словом, ждал и готовился. А пошли без него. Не предупредили. Антон обманул и не позвонил.
«Ты же понимаешь — договорились. Я ведь два вечера специально тренировался на удар… А что получилось?..»
Каковы были мотивы поведения Антона, неясно. Дашка ли тому была виной, или Антон решил взять всю тяжесть борьбы на себя, или забить все голы, или еще что… Очевидно было лишь одно: жгучее и впервые испытанное предательство товарища.
Тогда он посадил мальчика на диван и стал рассказывать ему о тех маленьких и больших предательствах, которые ему пришлось узнать… Хотелось поговорить здесь и о женщинах, об этой части рода человеческого, об их маленьких и больших способностях в этой области, может быть, даже предупредить, но опасности эти были еще в отдалении, и он ограничился только темой: кодекс мужской дружбы и нарушение его.
И так хорошо сидели они в зимних полусумерках до прихода матери, не делая уроков и не выучив наизусть стихотворения «Мы пионеры счастливой страны…»
Многое, что он увидел в поездках своих, он как бы рассортировывал и кое-что оставлял специально для сына. Это было самое экзотическое: Хива, Бухара, мавзолей Султан-Санджара в Туркмении. Он запоминал и мысленно фотографировал. Но фотографии казались ему неживым слепком, фиксацией, они были лишены движения, пластики, человеческих голосов. И когда впервые он побывал в Риме, Париже, там тоже запоминал, смотрел — для него.
Мир, увиденный детскими глазами, был более просторным и неожиданным.
— Ну, так в «Шоколадницу» не пойдем? — спросил отец.
— Нет… Домой пора. Мама звонит, беспокоится.
Они сели в троллейбус, молча поехали. Потом перешли проспект, как всегда, когда он встречал мальчика из школы, и вновь мелькнули знакомые проулки, перегороженные стройкой, серая подковка метро вдали и арка двора со сделанным от руки красным знаком, запрещающим въезд машин.
Они вошли во двор, дошли до подъезда и остановились… Вот он его и проводил, теперь надо было попрощаться и уйти.
Мальчик стоял и ждал.
Это был странный обман слуха и обоняния.
Он слышал звуки этой квартиры и ее запахи. Он проходил прихожую, вешал пальто, бросал пиджак на стул, рассеянно читал газету, что-то там жарилось, кипело на кухне, происходила какая-то домашняя возня, приготовление к еде… Всего две лестничные площадки вверх, такие же бывшие, как лестница вымершего городища, обломок, повисший между этажами.
Мальчик стоял, ждал.
II
Когда учительница произнесла это слово «прогул», протяжное, окаянно звонкое слово, он вспомнил, что у них тогда, как говорится между своими, это называлось «нырять». Неизвестно, кто первый пустил это словцо по кругу, но оно прочно прижилось. Люди исчезали на время, терялись в большом городе, тонули в его глубинах, н ы р я л и, кто сколько выдержит, чтобы вновь потом появиться на водной глади.
«Нырять» было интересно, выныривать на поверхность — страшно.
Прогулы бывали разовые, несистематические, с перепугу перед контрольной или из-за невыученного урока, а бывали периодические, по нескольку дней, запойно опасные, были целевые походы в кино или в библиотеку (таким образом, в исключительных случаях они способствовали самоуглублению и культурному самоусовершенствованию учащихся, чего нельзя было сказать о бессмысленных нецелевых, лишенных цели болтаниях по городу). Прогульщики классифицировались как «случайные» и «злостные». Он был «случайным».
Иной раз встанешь зимой, за окном тусклый, зябкий, не сулящий радости день, а в начале этого дня, в самые мглистые его часы, — испытание нервов, суета и неуверенность, ибо урок не выучен, а тебя наверняка спросят. И, муторно представляя себе это состояние ожидания, эти странички, бессмысленно, торопливо шелестящие в потных руках, эти не переваренные мозгом и памятью непонятные формулы, ты решаешь вдруг: не пойду. Слабый голосок внутри тебя, голос порядка, тихо, неразборчиво шепчет что-то, пугает последствиями, лепечет и вскорости замолкает, обессиленный. И ты энергично встаешь, и мята зубного порошка на рассвете (в те годы еще не были распространены все эти вязкие «Поморины», леденцово-сладковатые «Мери») не кажется тебе такой отвратительной. Не допив чай, прихватив необработанный, бугристый, как порода, кусок сахару, ты кидаешь деловито: «Ну, я помчался» — и выскакиваешь из подъезда минут на пять позже, чем все, выбегаешь в пустую, очистившуюся улицу, где не снуют твои школьные братья, назойливо болтая портфелями, где уже стихает поток торопящихся на работу взрослых людей, и ты один тихо плывешь, чуть потупив глаза, в сторону от красного кирпичного здания, в окнах которого недремлюще горит жидковатое утреннее электричество, немеркнущий свет знаний.
Да — в другую сторону и скорее, к Чистым прудам, к кинотеатру «Колизей»… Там в пустом фойе, отраженные в узких золоченых зеркалах, бесстыдно разглядывают тебя еще десять таких же посетителей утренних сеансов, поклонников этого величайшего из искусств, бездельников и мудрецов. Сколько фильмов было пересмотрено таким образом, начиная от «Тарзана» и «Индийской гробницы» до «Падения Берлина» и «Смелых людей»! Было не совсем приятно, что они сидят рядом, такие же, как ты, хотелось одиночества, а также некоторой конспирации, скромного душевного покоя, чтобы, глядя на их физиономии, подавленный и уже забытый голос совести и порядка не возникал и не тревожил. Прогульщики, однако, не оставляли тебя одного: какой-нибудь второгодник вроде известного всем в районе Витьки Корягина (по кличке «Купец») тут же после сеанса подлетал к тебе и предлагал меняться. Он любил меняться неважно чем и неважно на что. Трофейные немецкие пробочники в виде рыцарских фигурок с копьями и мечами он менял, к примеру, на теннисные мячики; впрочем, по назначению их не использовали, ими гоняли в футбол на пустырях. Футбольный мяч был редкостью, стоил дорого, настоящий мяч гоняли какие-нибудь разрядники, которые, понятно, «мастерились» перед дворовыми и разрешали разве что подбросить улетевший за пределы поля мяч. Само прикосновение к настоящему футбольному мячу было счастьем. Теннисный мячик тоже был неплох для игры в футбол, в основном гоняли свернутое в тугой комок тряпье. Когда у тебя не было обменного фонда, Витька наглел и просил денег, и тогда приходилось проявлять твердость. Тут начиналось «нельзя»… Да и не было денег, отец давал два рубля на завтрак, и все. Сколько раз приходилось отворачиваться от буфетного ацидофилина, пирожков, не говоря уж о мороженом на улицах. Так что же, теперь расставаться с этим накопленным недоеданием и волей скромным богатством? Нет, лучше было употребить его на несколько походов в кино, или на буклет с полным составом московского «Динамо», или в крайнем случае на бутерброд в магазине «Рыба» на Покровке во взрослом обществе пьющих пиво мужчин, прекрасный бутерброд с розовыми крабами, туго обвитыми сливочными гирляндами майонеза.
«Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы!» — такой плакат висел на Покровке. Крабы были еще не популярны, но уже вкусны. Ценилось же что-то более простое и сытное: щи, пирожки с рисом и требухой, котлеты с рожками. Еще хорошо помнился эвакуационный вкус жмыха, черных сухарей с черемшой, чай с сахарином. А здесь продавались бутерброды с килькой, шпротами, крабами и частиком.
Напротив, на первом этаже углового дома, был кинотеатр «Аврора», где шли по преимуществу старые фильмы вторым экраном. Иногда он позволял себе и второй просмотр; чаще всего проходил мимо, останавливаясь на минутку лишь у стенда с цветными кадриками.
В тот раз на бульваре против глухого казарменного здания со стрельчатыми узенькими, как бойницы, окошечками сидела на лавке странная компания, двое ребят из его школы: один второгодник по кличке «Горб», сутулый, всегда с красным, воспаленным лицом, с плутоватыми белесыми глазами, мелкий оголец, который изо всех сил «приблатнялся», но все знали, что он на побегушках у старших, второй — Мясник, Юрка Филимонов, чернявый, широкий, с длинными, не по возрасту мощными руками, молчаливый, дравшийся со всеми, кто нарывался, в том числе и со взрослыми. Отец его погиб уже на их школьном веку в Японии. А третий, совершенно неожиданный в этой компании, был щупленький, с цыплячьими ручками и ножками, бледненький Юлик Катин, учившийся в соседнем классе. Он был отличник, причем не из зубрил, не из таких, что протирают штаны целыми днями над тетрадями. Учился он без усилия, пятерки получал необычайно легко, с шикарной небрежностью, пугая других, темных, умением решать в уме почти любые задачи… Естественно, без записи условий и прочей ерунды. Писал он тоже с врожденной абсолютной грамотностью, не вызубривая, как другие «исключения» и «отклонения» по учебнику русского устного.
Только с уроков физкультуры он всегда уходил. Он был освобожденный — одна нога у него была суше и тоньше другой; где-то в Казани в эвакуации заболел он полиомиелитом и долго вообще не мог ходить, первые три класса занимался дома.
Странно было видеть Юлика в этой компании. Впрочем, был уже случай, когда он встретил Юлика вечером в подъезде, и, кажется, именно с этими; они тесной группой стояли в углу подъезда у батареи, сумрачно поглядывая на проходивших мимо них, и, видимо, дожидаясь кого-то. А сейчас они сидели, развалясь на лавке, и на коленях у Мясника стояла шахматная доска, пустая, без фигур. Он шел быстро, мгновенно оставив позади себя скамейку с ними, и уже спиной услышал свист, а потом голос:
— Эй ты, Ковалевский, ты что, без ушей? Куда спешишь?
Он приостановился. И тут же пожалел об этом, надо было рвать дальше, будто их и нет.
— Эй ты, подойди, чего разбежался, не на катке! — высоким голосом возбужденно кричал Горб.
— У него небось имя есть, что ты его тыкаешь, — баском проговорил Юрка Филимонов.
— Ковалевский его зовут, — пояснил Горб.
— Я ведь не тебя, а его спрашиваю.
— Сергей меня зовут.
— А я — Юра. Вот и познакомились. Иди сюда поближе. Да не таращь фары, здесь никто не кусается.
Горб уже вертел перед его глазами шахматную доску.
— Фишки умеешь двигать? — подмигивая, говорил он.
— Умею немного.
— Тогда со мной, — сказал Горб. — Я тоже немного. Только на что будем?
— Как на что?
— Мы же не Смыслов с Ботвинником просто так играть… Дебюты, гамбиты. Мы не на интерес играем.
— А на что?
— На то, что есть.
— А если ничего нет?
— Тогда американку.
— Это… как же так?
— Запросто… Выполнение желаний. Продул партию, откупа нет, давай выполняй без балды.
— А что… например?
— А то, что в данный момент потребуется. Например, вот в это окошко влезть по пожарке. — Он показал рукой на серый, казарменного вида дом, в котором, кажется, находилось управление пожарной охраны.
— Ладно, ставьте фишки, хватит балаболить, — сказал Юрка Филимонов. И странный тик дернул маленький карий глаз под светлой рассеченной бровью.
Они начали играть, и неожиданно быстро Сергей «заделал» Горбу мат.
— Вот так, — сказал он и поднялся, чтобы идти.
— Нет, так не пойдет, — тянул Горб. — Американка, все по-честному. Говори — чего.
— А мне ничего не надо, и вообще я тороплюсь.
— Нет, так не пойдет. Ты выиграл — ты и заказывай. Ну, хочешь, ударь меня. — Он тянул шею, подставлял лицо, показывая руками. — Давай, давай.
— Нужен ты мне!
— Тогда с ним сыграй, — сказал Горб, указывая на Юлика.
Юлик молча, без интереса кивнул, как бы приглашая.
Сели… Юлик обмотал его довольно быстро… Начали третью. Он играл теперь внимательно, думал подолгу над каждым ходом и проиграл снова. Тогда вступил Горб:
— Теперь раскалывайся, плати.
— Как же… а первую-то я выиграл.
— По сумме тебе засчитывается поражение. Теперь — откуп.
— У меня ничего нет.
— Тогда под лед полезешь.
— Пошел ты!
— Юр, — с показным удивлением подняв брови, сказал Горб, — ты слышал, чего он пищит?
Филимонов посмотрел сумрачно, но без интереса. Горб его подогревал, а он не заводился. Глаза у него были отсутствующие, он смотрел куда-то мимо Сергея и мимо Горба блестящими, чуть близорукими глазами, один из них время от времени подмигивал, точно Филимонов кривлялся. Но он не кривлялся… Это был тик. Он скучал. Но еще было неизвестно, чем все это кончится.
— Действительно бабок нет? Ты что, бедный, что ли? — спросил он. — Сирота?
— Ничего у меня нет, — упрямо твердил Сергей.
— Ну что ж, придется пошмонать немного, — выпендривался Горб. — Доверяй, но проверяй.
Единственный, кто не проронил ни слова, был Юлик. Он молчал, подавленно, настороженно. И вдруг Сергей услышал его спокойный тоненький голос. Горб и Филимонов оба сразу уважительно повернулись к нему.
— Не надо его трогать, он и играет ничего. Соображает… Может, возьмем его в капеллу?
Горб выжидающе посмотрел на Мясника. Тот словно резолюцию поставил:
— Годится.
Так Сергей попал в капеллу.
Теперь он шатался с ними, когда прогуливал, а иногда вечерами, и они выискивали себе партнеров, некоторые охотно соглашались, других приходилось заставлять, играли на деньги — по договору или на американку. Филимонов любил на деньги. Американку он считал баловством, а руки пускал в ход в редких случаях, когда его злили откровенным неповиновением.
Было одновременно противно и приятно. Приятно было ощущение силы, чужой силы, стоявшей за твоими плечами. И еще иногда постыдно приятно подчинять себе людей.
Но однажды они нарвались на мальчика из Лялиного переулка — Тоника Гукасяна, испанца. Его привезли из Испании двухлетним, жил он сначала в специальном интернате для испанских детей, а потом его усыновила пожилая армянская женщина, врач-отоларинголог, с базедово-выпуклыми черными глазами и седой головой, сама чем-то похожая на старую испанку.
К нему обычно никто не приставал, но тут он им попался, они стали уговаривать его сыграть, он согласился, Юлик, как всегда, легко одержал победу. Горб, который был в этот вечер «под банкой» (с ним это случалось в последнее время все чаще), стал приставать к Тонику, требуя денег. Тоник возмутился и послал Горба куда подальше.
Горб протянул руку, провел ею по лицу Тоника, дразня его, показывая ему, что он, дескать, хорошего удара не достоин, а так только, мазнуть по губам растопыркой. Он протянул грязную, в чернильных подтеках свою руку, лениво шевелил пальцами перед лицом Тоника, а того, что произошло дальше, не ожидал никто. Маленький Тоник, пружинно сжавшись, всей тяжестью небольшого стройного, крепкого тела бросился вперед, метя головой в лицо Горбу, бледным пятном ненавистно качавшееся перед ним. Он промахнулся; сила рывка была так стремительна, что он не удержался на ногах, упал, больно обдирая локти и колени. И в этот момент Юрка Филимонов подошел к нему, схватил за шею, легко приподнял и слева быстро, по-бандитски, несколько раз ударил в живот. Тоник задохнулся от боли, но все-таки успел один раз метнуть быстрый маленький кулачок в Мясника, и тогда тот, ярясь, уже начал молотить его так, что Сергею, безучастно стоявшему в стороне, стало страшно. Мясник сбил Тоника на асфальт, тот закрывал лицо, увертываясь от крупной ноги в рваной, подшитой грубыми нитками сандалии, и вдруг Юлик, тоже стоявший поодаль, крикнул и, хромая, с белым, страшным лицом побежал на Мясника.
— Оставь его, — кричал Юлик, — оставь, а то убью тебя!
Мясник презрительно сплюнул и пробормотал:
— Ну что, шахматисты локшовые, распищались… Кыш по домам!
Юлик схватил камень и косолапо, медленно шел на Юрку Филимонова. Сбить его ничего не стоило простым толчком в грудь. Он так бы и полетел на асфальт со своим камнем. Но Филимонов выругался и, с отвращением глядя на Юлика и на Сергея, сказал:
— Всех вас задавить бы надо. Только мараться лень. — И ушел, сплюнув.
Горб побежал за ним, поворачиваясь, скалясь, похлопывая себя по заду, всем своим видом говоря: все вы такие, все вы только этого и стоите, сутуло бежал за уходящим вожаком, соблюдая, однако, определенную дистанцию.
С тех пор Сергей и Юлик подружились.
У Юлика был отец, но он никогда не видел его. Он родился на фронте. Это было странно: родиться на фронте. Казалось, там только воюют, дерутся, убивают, а не рождаются. Выходит, кое-кто и рождался.
Мать Юлика работала воспитательницей в яслях, приходила поздно, и Юлик целый день болтался один. Они жили в шестиметровой комнатке в огромной коммунальной квартире, где очередь в туалет и ванную занимали чуть ли не на рассвете, так что прорваться туда было практически невозможно. Квартира была, в общем, тихая, только иногда квартирные старухи скандалили на кухне. Скандалы были яростные, но быстро затихали, и в эти моменты Юлик невозмутимо сидел в своей комнате, как всегда решая шахматные задачки или кроссворды. Он обожал что-то решать, разгадывать, докапываться до ясности, до окончательного ответа. У него бывали книги, о которых никто в классе и не слышал, которых не было в библиотеках; например, он принес замусоленный томик Грина без начала, и они вместе с Сергеем, передавая друг другу книгу, жадно читали странный, загадочный рассказ «Крысолов» и гадали, откуда, из какой страны этот писатель. И только потом отец Сергея рассказал, что он не из какой такой чужой страны, а из России и не Грин он по-настоящему, а Гриневский… Приносил также Юлик Есенина, и они переписывали стихи в тетрадь, особенно из «Москвы кабацкой», было в них что-то потаенно-волнующее, еще и не понятное до конца, но угадываемое. То, что случится и с ними когда-нибудь: любовь, женщины, тоска, вино, щемящие душу обиды, неведомые волнения, нечто мужское, взрослое, сладостно-горьковатое.
В школе ходило множество подделок под Есенина, блатных романсов, но они с Юликом уже знали теперь, что эти одновременно приторные и грубоватые строки — липа, неумелая подделка.
Иногда они с Юликом лазали по отцовской библиотеке. Там было множество толстых, казенного вида книг: съезды партии, партконференции и ленинские сборники.
Юлик подолгу вычитывал статьи из этих сборников; в них на первый взгляд не чувствовалось ничего вредительского, все выражения были такие же, как и в газетах, как и в брошюрах. Некоторые трудно было понять, а спросить не у кого, да и скучноватые были эти статьи: про политику в деревне, про фракции Коминтерна. В конце концов они бросали пыльные фолианты и выходили во двор, где тоже было множество интересного.
За прогул его отца вызывали в школу. Он видел, как отец ходил от директора к завучу, от учителя к учителю, терпеливо выслушивал их, не глядя в его сторону, и учителя тоже не глядели, будто не о нем речь, а так, вообще о чем-то, возможно — о некоторых общих педагогических принципах от Ушинского до наших дней. Но чем спокойнее и как бы отдаленнее от него казался этот разговор, тем напряженнее становилось лицо отца, и он знал: лупят-то по больному, все вспоминают, что было и не было, и до него как бы доносились пугающие, привычные словосочетания: «ребенок запущен…», «надо принять меры, а то придется… вплоть до исключения…»
Ему становилось жаль отца, хотелось подбежать, сказать им:
«Ну это же я, а не он, так что же вы все на него!»
Потом в школе появился маленький добрейший литератор по кличке «Аэс». Александр Сергеевич вел у них литературу, русский устный и русский письменный. Он был вежлив, обращался к ученикам доверительно, как к коллегам, с подчеркнутой уважительностью, которую некоторые принимали вначале то ли за издевку, то ли за «покупку».
Писателей он называл не по фамилиям, а лишь по именам-отчествам, интимной скороговоркой, как близких знакомых, с которыми вчера только прогуливался по Чистым прудам.
Его любили, но он не внушал уважения. Уважали грозных, вроде Сэма, историка, громогласного, усатого, беспрекословного, разящего и милующего, страшного в гневе, великодушного в прощении. К тому же он ходил в кителе с орденом Отечественной войны второй степени. Говорят, он сражался в партизанской армии Ковпака. Военная же биография Аэс была неясна. По слухам, он воевал, но в каких-то интендантских частях. Во всяком случае, фронтовых историй он на уроках не рассказывал, как историк; может, и рассказывать-то было нечего… А может, он просто был скромен.
И вот теперь и литератор, и историк стояли перед отцом. Александр Сергеевич говорил тихо, доверительно, с надеждой, с лучшими чувствами, а историк — что-то решительное и существенное, а позади них стояла математичка и оперировала неопровержимыми фактами. В глухом окружении находился отец. Отец, отвечающий за сына своего… Хотелось исчезнуть, сгинуть, убежать вниз и черным ходом, подвалами бывших бомбоубежищ, мимо тускло белевших в сумраке масляных стрел выскочить из подземелья во двор, в весеннюю живую пустоту его, где голые ветки деревьев ощетиниваются внезапно крохотными, тугими боксерскими перчатками почек…
Проскользнуть по двору, промчаться по улицам, взлететь и опуститься и все забыть, увидеть друга и сказать ему: «Знаешь, Юль, давай уедем». — «Куда?» — спросит друг. И ты задумаешься, морща лоб… Действительно, куда?
Старшим было легче… Нет, не легче, конечно же тяжелее, страшнее, но, может быть, и интереснее… Им было к у д а. А тут никуда и не убежишь, и не умчишься сражаться, разве только на корейскую войну. Но наши там не участвуют, а на китайского добровольца ты не похож.
«Поедем», — вдруг с загоревшимися глазами скажет Юлик.
«Куда?»
«Увидишь».
«А билет?»
«На что? У нас же с тобой… Я повезу без билета. Только подожди до вечера».
И вечером они встречаются, идут куда-то дворами и даже в одном месте перелезают через забор. Юлик лезет, молча отклонив помощь товарища; он медленно, натужно, неравномерными рывками поднимает свою сухонькую левую ногу. Он никогда не принимает ничьей помощи, а утрами делает тяжелейшие физические упражнения, часами разрабатывая слабенькие, анемичные мускулы. Вот они уже в пустом дворе, заходят в какой-то полутемный ангар, Юлька обращается к пожилому человеку, сторожу, тот, судя по всему, знает Юльку, потом они отходят, сторож осторожным движением кладет что-то в карман, непонятно, монета это или вещь какая-то, а может, он и не у Юлика взял, а просто сунул что-то в карман, перчатку какую-нибудь; во всяком случае, видна его удаляющаяся спина, он уходит — во тьму ангара, а потом выкатывает мощный приземистый мотоцикл — немецкий — БМВ.
«На тридцать минут, — говорит сторож. — Засекаю. Просрочите хоть секунду — кранты. Больше никогда».
«Вас понял!» — весело говорит Юлик, уверенно садится, а он обхватывает руками худенькую спину Юлика.
Юлик склоняется над мотоциклом, дает газ, рев круто нарастает, оглушая этот пустой, безжизненный двор, мотоцикл без усилия набирает скорость.
«Ты молодец, Юлька! — кричит он, понимая, что тот его не слышит. — Молоток ты, классно! Здорово!»
Улицы, Садовое кольцо, прямое и широкое, не взрытое подземными тоннелями, а потом переулочки за Каляевской — тихие переулочки, где ни одной живой души… Всего полчаса, полчаса рева, счастья, полета…
Потом они бредут домой но гулким мостовым в дрожащих тенях лип.
«Домой идти неохота, — тихо говорит Сергей. — Сегодня уж я получу… за все».
Он знает и видит все, что будет, и от этого знания тоскливый и тошнотворный комок вспухает у горла… Отец, конечно, не удержится, и все то унижение, которое было пережито в школе, и то, что копилось днем, когда отец был на работе, и то, что добавлено сейчас, в его, Сереги, ночное отсутствие, — все это вместе ударит теперь по нему, как мощная холодная струя из шланга… Разговор будет долог, невыносимо вязок еще и потому, что в комнате будет сидеть чужая женщина и слушать, не вмешиваясь и как бы ни во что не входя.
«И мне неохота», — говорит Юлик.
«А тебе чего?»
«А тебе?»
«А мне так… Знаю я, что будет».
«И я знаю, что будет…»
Ему было странно, что у Юлика тоже ч т о-т о могло быть. У Юлика, у отличника, у человека, который делает все, как надо.
Он не знал, что комната Юлика пуста, что ключик оставлен под истертым половиком, что Юлик будет долго раздеваться и долго лежать один, прислушиваясь к резким поздним шагам за полуподвальным окном, звяканью чужих соседских ключей, что он будет долго ждать свою мать, но, так и не дождавшись ее, тяжело и тревожно заснет.
Он привык уже к тому, что она часто не приходит, говорит, что дежурство, и это не страшно, она вернется завтра утром, она всегда оставляет ему завтрак и записку, она любит его, помнит о нем. И действительно, у нее бывают ночные дежурства, а иногда она задерживается еще где-то, и он даже знает, где и с кем, но не хочет об этом думать. Ему сейчас пусто, темно, и хотя он привык ничего не бояться и спал в больничных палатах под синим негаснущим светом плоских ламп, почти никогда не плакал, как другие дети, но сейчас, дома, ему до странности неуютно, тревожно, будто что-то должно случиться. Он знает, что это будет, видит эту комнату в желтоватом свете лампы с цилиндрообразным картонным абажуром.
«Давай еще покатаемся полчаса, — говорит Юлик. — Правда… что-то спать неохота».
«Давай», — соглашается его друг.
И они возвращаются, и вахтер, уже поддавший и добрый, теперь уже бесплатно дает им мото, качая пальцем перед лицом Юлика.
— Только чтоб полчаса, как штык. Иначе неприятность будет. Я тебя, — обращается он к Юлику, — хоть ты и клопик еще, уважаю… Хотя у тебя и недостаток, — он показывает на ногу Юлика, — но парнишка ты характерный и машину будешь водить как следует. А у меня здесь недостаток, — он показывает на лоб и голову. — Контузия у меня, психика, расстройство… Вот и сижу тут, а жизнь катится колесиком… Чтоб через полчасика, как штык. Иначе запрет, и не просите даже. Только тут, в переулках, исключительно под твою ответственность, — он еще раз указал на Юлика.
И снова Юлик, улыбаясь, заерзал на большом кожаном сиденье, где уместились бы двое таких, а Сергей снова прижался к тоненькой, выгнутой, как дуга, спине. Они петляли, петляли по переулкам, и Сергей крикнул Юлику:
«Пора уже!»
И до него донеслись какие-то обрывки слов:
«Не бойсь… Скоро… Сделаем…»
А Юлик вел машину все дальше и дальше, пересекая кольцо, мимо Ботанического сада, мимо Рижского вокзала, по громыхающим железными листьями мостам. Сергей чувствовал: пора возвращаться, происходит что-то недозволенное, что-то слишком недозволенное, — но скорость была так хороша, ветер свежо и мощно обдувал тело, лицо, ночная Москва открывалась неожиданным летящим пространством, незнакомыми домами, возникавшими вдруг волшебно освещенными резким светом прожекторов. И тут же — оставленные позади, канувшие во тьму фигуры рабочего и колхозницы на Выставке, показавшиеся одним двуглавым человеком, дальше приземистые, барачные дома с незаполненным смутным пространством между ними, по-деревенски редкие огни, тьма и снова свет.
«Назад давай!» — кричит он Юлику.
«Вперед!» — кричит Юлик.
И он не слышит его голоса, скорей угадывает это неотвратимое «Вперед!». И снова летят они по незнакомому, уже не московскому пространству, за жидкой рощицей быстро движутся огни. Кажется, огромная темная гусеница с удивительной скоростью неразличимо ползет в темноте, освещенная лишь спереди, и догадываешься: это поезд, и они идут параллельно друг другу, но вот на мгновение мотоцикл обгоняет его.
Теперь уже все равно, куда и зачем, лишь бы мчаться, подпрыгивая и оскальзываясь на плоском седле, чувствуя, как внутри что-то сорвалось и обрывается, падает, холодя живот. Темно, тихо, и грохот, и запах пыли, листвы, газа.
Вот переезд, шлагбаум открылся, и внезапная тень чего-то мерно надвигающегося, бесформенного, жарко дышащего перегретым металлом… «Зачем туда-то, Юлька, Юль, зачем на нее, давай левее, Юль… Юль!»
И вдруг страшный этот полет, движение утыкается в другое движение, во сто крат более сильное, и взрывом вверх, вверх, вверх и головой, кожей, кишками в землю, будто в битый кирпич…
«Юль, Юль, папа!»
…Кто-то склонился, полутьма, свет синий, заглушенная чем-то сонная боль давит на череп, не поймешь, кто это над тобой, чего ему надо, хочешь уползти от него, а потом узнаешь его лицо и прижимаешься к холодному и твердому, как жесть, халату.
«Пап, папа, а Юлька где?»
«Не шевелись, мальчик, не поворачивайся, разговаривать здесь нельзя… Отец твой здесь, он в коридоре».
«Юлька где?»
«Я не знаю никакого Юльки. Ты слышал, что я тебе сказал… Не разговаривать».
III
То было время, когда впервые в своей жизни он жил один.
Отец женился. Произошло, в сущности, нечто давно ожидавшееся. Та, которая бывала в их комнате ежедневно вот уже десять лет, но только уходила около двенадцати, так, чтобы успеть на метро, разумеется в сопровождении отца, теперь осталась. Сначала казалось, что осталась она случайно — что-то случилось, и уже поздно, и она опоздает на пересадку или что-то еще в этом роде, — но она осталась и на следующий день, а потом и навсегда.
А в то время отец возвращался обычно к полуночи, и они сидели вдвоем, слушая спортивный выпуск последних известий. «Московское время ноль часов пять минут. Слушайте спортивный выпуск последних известий». Сейчас он много раньше. Да и как-то не очень важно сейчас, что там происходит. А тогда происходило. Футбол. «Динамо» — ЦДКА. Почти как война Алой и Белой розы. Наш Хомич и их Никаноров. Наш Карцев и их Бобров, наш Трофимов по кличке «Чепчик» и их столь же маленький круглый колобок Демин, почему-то без клички. Их победа с перевесом в одну тысячную очка. Кустарные портреты великих игроков эпохи продаются с рук у Кировской, у Главпочтамта. Пять рублей штука. Печатная футбольная индустрия еще не была налажена. Индустрии не было, но футбол был.
Происходили и другие противоборства титанов: шахматный матч Ботвинник — Смыслов, который шел, казалось, вечно, годами. Кончалась одна его серия и начиналась вторая. Проигравший требовал реванша и получал его. Это было как Семилетняя война. Люди вырастали, женились, разводились, а матч Ботвинник — Смыслов все длился. И самое интересное, что он не надоедал общественности. Любители записывали партии и отмечали очки. И все обсуждали, высчитывали, подсчитывали, кто сколько получит очков, конечно. Никто и не считал, с к о л ь к о в другом смысле. Казалось, никто ничего и не получал, а играли просто так — для победы, для совершенства, для торжества нашего спорта. И все это было бог знает как важно и интересно.
Нервно клокотал тенорок Вадима Синявского, всегда возбужденный и взволнованный, будто произошло нечто из ряда вон выходящее, отчего и твоя жизнь зависит, и всех других людей.
Будто землетрясение сейчас произойдет.
«Бле-стя-щий бро-сок Хомича! Мяч отбит на корнер!»
Потом слово «корнер» исчезнет ненадолго, так же как и слова «форвард» и «офсайд», и спортивные журналист напишет, что эти слова только засоряют спортивный язык, что есть другие, лучшие, что у нас вообще в эту игру играли раньше, чем у них. Но слово «футбол» все-таки останется и пребудет вечно.
Стадион «Динамо». Длинные, до колен, трусы самоотверженных игроков. Волшебные сосиски из дымящегося котла и первый в жизни глоток холодного пива в картонном стаканчике…
Эпоха радио. Почему-то от позывных перед последними известиями с младенческих времен сжималось сердце в ожидании беды. Всегда возвращался тот день, когда стальной мощно-тревожный голос Левитана объявил выступление Молотова 22 июня 1941 года.
И в те дни, когда «катар верхних дыхательных путей», эта вовсе не смертельная, а даже отчасти приятная болезнь, законно избавлял тебя от кипучих школьных будней, ты включал радио и слушал бодрое: «Внимание, на старт, нас дорожка зовет беговая». А потом знаменитые капитаны хором пели свой гимн.
Телевидение напоминало полет на Марс. Оно вроде было уже когда-то, и все-таки его не было. Кто-то рассказывал о сеансах телевидения до войны, кто-то говорил, что оно уже есть там, за океаном, но никто толком не знал, что это такое.
Первый телевизор он увидел в начале пятидесятых годов, и он разочаровал. В маленьком квадратике, увеличенном водянистой линзой, тускло мерцали и расплывались человеческие фигурки.
Нет, это не могло заменить радио. И неважно, кто его изобрел первый, Попов или Маркони, Маркони или Попов. Спасибо, что изобрели.
Приемник был отдан в первые дни войны. Во время войны существовал лишь черный, как бы фанерный раструб репродуктора. И голос Левитана. И названия сданных городов… Потом взятых городов. Все другое не слушалось и было непонятно. А после войны — новенький трехдиапазонный приемник «Рекорд». Его водружали осторожно и торжественно вместе с отцом.
Вот он задышал, затеплился, и в глубине его, в недрах, возбужденно зачастил голос Синявского. «Динамо» играло с англичанами. Карцев забил гол Челси. Битва только начиналась.
А война кончилась.
Да, это были прекрасные часы, вернее не часы, а минуты, когда отец ее провожал и возвращался один. Чувствовалось, что и отец испытывает облегчение. Теперь целиком они принадлежали друг другу. Они слушали это самое радио, а потом разговаривали допоздна. На самые различные темы, волновавшие в то время современников, а значит, и их. Впрочем, затрагивались не только сиюминутные темы, но и общеисторические. Так что они в равной степени жили как вечностью, так и быстролетящим сегодняшним днем.
Через несколько дней после того, как эта женщина осталась, он переехал на Большую Татарскую к бабушке. Он никак поначалу не мог привыкнуть к этой улице, темной, с приземистыми, еще с прошлого века домиками, к тому, что рядом нет Чистых прудов, в которые впадают все переулки, как притоки в большую реку. Здесь горбатые замоскворецкие переулки были сплетены друг с другом, пересекались, делились, в них не было праздника и простора.
Так и мотался на трамвае «А» назад, на Чистые, на Покровку, в старую свою школу, к старым своим товарищам. И однажды вечером, уже простившись с дружками, все кружил неподалеку от своего теперь уже как бы бывшего дома и все не мог пройти это короткое расстояние к трамвайной остановке, а там, еще пятнадцать минут — и ты очутишься в недалеком, но чужом краю.
И тут увидел отца, идущего домой.
Отец шел, как всегда, торопливой походкой, в одной руке портфель, в другой — авоська, все знакомо. Непривычно только, что не кинулся к нему, как всегда, а так и стоял, не зная, что делать. Что-то в этом родном облике вдруг обожгло. Вспомнилось, как иной раз, увидев его так же, шел вслед тихой невидимкой, а потом вдруг бросался со смехом и радостью, стараясь испугать его. Сейчас же возникло другое. Хотелось тихо и незаметно исчезнуть, без притворства и слов, прыгнуть на ходу в трамвай, сидеть у окна в жестком грохоте вечернего трамвая, мимо бульваров, моста, института с освещенным портретом Сталина, чтобы механически встать, соскочить на замирающем уже ходу на своей, а точнее уже бывшей своей остановке…
Попятился назад, в темную тень лип во дворе соседнего дома. Отец уже вплотную подошел к с в о е м у подъезду, и надо было подождать, когда тяжелая дверь с лепными амурами распахнется и мелькнет напоследок чуть сутуловатая спина отца. Ждал этого со странным чувством: почти с удовлетворением. Но дверь не открывалась, точно отец замешкался или встретил кого-то. А через минуту он услышал шум шагов и даже раньше тихий знакомый голос:
— Ты чего тут?
— Да нет, я только с ребятами распрощался.
— Так поздно?
— А чего? Нормально. Еще одиннадцати нет.
— А чего домой не идешь?
— Куда? — переспросил он, действительно не понимая, какой дом имеет в виду отец — тот или этот.
— «Куда, куда», — ворчливо сказал отец и пошел, каждым своим шагом приказывая идти за ним.
Так и шли, в затылок друг другу.
Перешли через улицу, вошли в подъезд, блестевший позолотой, лепниной, ангельскими ликами на потолке. Дом у них был важный, с рыцарями на одном подъезде, с амурами — на другом. Его строила в конце прошлого века немецкая компания. Несколько таких домов было в этом районе.
Лифт не работал. Гулко, долго поднимались на четвертый этаж.
Ее не было в комнате. Видно, стряпала на кухне. Комната была просторнее и опрятнее. Какие-то вещи поменялись местами с другими. Казалось, и запах был другой.
— Так не делается, — после долгого молчания сказал отец.
— А что, собственно? Чего это ты?.. И вообще пора… доберусь черт те когда. А завтра в семь надо как штык… Первая контрольная. Так что я…
— Никуда ты не пойдешь.
— Пойду, почему ж…
И что-то противное, обволакивающее мягко и одновременно жгущее разлилось внутри, парализуя волю, и, вместо того чтобы действительно в с т а т ь и п о й т и, он сидел неподвижный, с тяжелыми мутными глазами, будто спросонок.
Вот уже и она появилась и, не удивившись ничуть, стала накрывать на стол, а потом принесла раскладушку и долго, тщательно устанавливала ее, и в тишине было слышно, как раскладушка жестяно распрямляется, пружинисто хлопает, сопротивляется рукам, точно странное живое существо с железной спиной и короткими, кривыми железными ножками.
Так он и остался.
Теперь они жили втроем.
IV
Странно, что, когда жизнь их была налаженной и прочной, Сергей мало думал о школьных делах сына. Уже потом, когда вся его настоящая жизнь была вне дома, и в дни долгих своих отъездов, и в дни возвращений, когда уже все было решено, но не исполнено, именно в это время его стали беспокоить школьные дела Игоря, еще недавно казавшиеся ни для кого не важными.
Вот тогда в первый раз он попросил у мальчика дневник.
Мальчик протянул ему дневник с видом равнодушного недоумения. Само предвкушение этой проверки было неприятным: во-первых, лучше ничего не знать в подробностях, досконально, во-вторых, дневник, как и табель его времен, наводил на него тоску залинованными клетками бессмысленно-подневольной жизни.
В дневнике была ровно представлена вся пятибальная система в действии. Коричнево темнели двойки, серые, как воробьи, троечки незаметно перепархивали со страницы на страницу, коренастые и степенные четверки тоже попадались, сглаживая общий вид панорамы, а кое-где (отдельные в поле зрения, как пишут в анализах) алым цветом кумача вспыхивали и пятерочки (в основном по гуманитарным дисциплинам), давая понять, что наш ученик при желании способен на большее, чем то, что он сейчас имеет… Все это было, в общем, нормально, если бы…
Уже за чертой дневника, в самом низу, на полях были две записи, сделанные классным руководителем. Первая из них как бы соответствовала желтой карточке на футбольном поле — знак предупреждения, вторая же походила на красную карточку, поднятую судьей: игрок удаляется с поля.
Первая запись гласила:
«На уроке алгебры обменивался жвачкой с учеником Корнюхиным».
Вторая:
«9 декабря затеял драку на уроке физики с учащимся Тарасовым. В среду 20 декабря опоздал в школу. Вызвать родителей (желательно отца)».
— Что это еще за обмен жвачкой?
— Во-первых, неправильная формулировка, — говорит сын, — жвачкой никто не менялся. Мы махнулись обертками. «Юджи фрут» зеленый на «Бруклин».
— Что это за обмены?.. И почему вообще обертки? Ну, сжевал ее, выплюнул, обертку выбросил. Что за ерунда?!
— А мы их собираем. У меня уже сорок фантов, — сказал мальчик.
— Не понимаю. Ну, марки — прекрасно. Я же тебе приносил, мы начали альбом. А ты забросил… Ну, монеты — это тоже кое-что дает. История, страны. А эти дурацкие фанты?..
— А почему дурацкие? Они красивые, во-первых. Во-вторых, их попробуй достань — потруднее, чем марки и монеты, и тоже дают представление о странах. Ты же сам мне жвачку привозил.
— Да, но жевать, а не собирать.
Ему вдруг захотелось привести что-то из увлечений своего детства, что-то противопоставить этим оберткам. Он увидел затрепанные труднодоступные марки, которыми торговали и обменивались почему-то в Главпочтамте на Кировской. Павлиновое оперение колониальных марок: Конго, Берег Слоновой Кости, Того, Мозамбик… Теперь эти страны обрели независимость, некоторые из них и называются по-другому, их марки достать значительно легче, так как международные контакты стали шире, да и марки тех стран стали менее пестрыми — солидные, достойные, сдержанные.
Он все-таки удержался от того, чтобы высказать сыну, как легко все это им дается или что-нибудь в этом роде, ибо знал, что такая постановка вопроса а) неубедительна, б) ни к чему хорошему не ведет, в) свидетельствует о нравственной, отчасти даже физической старости воспитателя.
Не плакать, не смеяться, а понимать, как говорил Спиноза.
— Ну, вот объясни мне по-человечески, — сказал он по возможности теплым голосом, — почему все-таки жвачка? Ведь это же не ты один.
— Да, почти весь класс. Не знаю, почему. Достаем, меняемся. Спорт какой-то, что ли.
— А по-моему, полная муть. И даже что-то девчачье, если хочешь знать…
Довод этот, еще в недавнем прошлом почти неотразимый, не произвел сейчас никакого должного впечатления.
— Может, и девчачье, какая разница? И ребята собирают и девчонки.
— А что это дает?
— А почему должно обязательно давать?
— А потому, что именно сейчас у тебя возникает интерес к миру.
— Ну, вот они и дают представление о мире.
— Довольно странное представление. А монетки ты забросил?
— Да… как-то… без тебя…
Отец мысленно сказал: «Как же «без тебя», когда я все время прихожу к тебе, и звоню по три раза в день, и приношу монеты, книги, как раньше, и даже больше, чем раньше…» Но он промолчал.
— Ну ладно. А что означает вторая запись?
— А… так.
— Что это означает — так?
— Ты, что ли, не дрался никогда?
— Дрался, но предпочтительнее это делать не на уроках, а после них или в крайнем случае на переменах.
— Не мог я ждать, если он такая свинья.
— Нельзя ли поподробнее?
— Просто он оскорбил одного человека.
— Кого?
— А зачем это тебе?
— Как это — зачем?.. Ты разве не понимаешь, меня вызывают в школу из-за твоих художеств, я должен выслушивать бог знает что, краснеть, всячески умиротворять учителей, будто ничего и не было, и потому я должен, мне хотелось бы знать наконец причину или хотя бы повод, из-за которого мой сын, насколько мне известно, человек рассудительный, начинает драку прямо с ходу, в классе… Что это, наконец?
— Он оскорбил человека.
— Кого именно?
— Дашку Гурьину.
— Ту самую, что ли?
— Какую еще?
— Ну что, у тебя тысяча Дашек Гурьиных? Ну, помнишь, была еще история с хоккеем.
Он задумался, и темные глаза его стали неподвижными.
— Тогда… да. Ты еще пришел раньше времени с работы, и мы долго сидели одни без мамы.
— Да, — говорит отец.
Он тоже хорошо помнит тот день и даже час, уже по дневной, еще не вечерний, зимний, когда сидишь, не зажигая света, и комната просторней, больше, чем утром и чем вечером при электрическом свете, и все предметы мягче и лица тоже, и хочется почему-то разговаривать вполголоса. Когда удавалось прийти пораньше, они часто сидели с сыном вдвоем, разговаривая тихо, почти шепотом, будто бы у них была отдельная от всех тайна.
Ну как сделать, чтобы все было как раньше, именно как в тот предвечерний час, когда голос тише и явственней и ты не слушаешь, а слышишь, слышишь, что́ говорит он, он слышит, что́ говоришь ты, и все сложно, но понятно и соединимо, и есть ощущение покоя, сумрака, дома, чего-то не прерывающегося, идущего издалека, может быть оттуда, где ты сам был маленьким и отец тихо, не повышая голоса, читал тебе «Мцыри».
…Дашка Гурьина когда-то была Дашенька, испуганная беленькая девочка, которую привела мама на большой сбор перед отправкой в пионерлагерь. Уже потом, в лагере, она стала именно Дашкой, и вместе с ней Игорь ходил в кружок авиамоделизма и ИЗО, где занимались в основном производством художественных ценностей из керамики, в избытке лепили спутники, лунники, сверхзвуковые самолеты, а также обыкновенные чашки и блюдца.
На следующий год они снова поехали в лагерь. Теперь уже Дашкина мама не просила Игоря покровительствовать ей. Дашка и сама могла за себя постоять, освоилась и чувствовала себя в лагере вполне нормально.
В сущности говоря, Дашка была ему не очень-то интересна, только однажды на секунду открылось ему нечто неясно обозначавшее, что Дашка обладает в определенные минуты некоей силой, заставляющей его то сжиматься в комок, то, наоборот, мчаться впереди всех в каком-нибудь еженедельном забеге по пыльной, с полувыкорчеванными корягами беговой дорожке под стройными флагами спортивных обществ в дистанции шестьдесят метров по графику БГТО. Но, может, он и не потому мчался быстрее всех, а просто из нормального желания бегать дальше всех, прыгать выше всех, нырять глубже всех.
Но вначале она появилась с мамой, когда все школьники, отправлявшиеся в пионерлагерь, проходили перекличку, а родители сновали с чемоданами, преимущественно старыми, тертыми, на которых крупно, как для слепых, были написаны фамилии их владельцев. Уже позади была медкомиссия и все прочие формальности, а впереди — лишь торжественная линейка, флаг, дележка на отряды, посадка на автобусы, прощание с родителями, отъезд по графику.
Игорь, если уж говорить все как есть, если, как говорится глянуть на дно души, всегда побаивался этого последнего дня, и даже не столько дня, а именно самого этого момента, отрыва от матери и отца в другую, шумную, отчасти даже веселую жизнь, к которой быстро привыкаешь, но какую-то голую, незащищенную, в которой ты остаешься один и тут надо уж крутиться и вертеться самому, надеяться не на родителей, а на собственную смекалку и все время не терять инициативы, ибо иначе дойдешь до финала последним.
Впрочем, он смотрел бодро, соколиным глазом, не показывал вида.
А вот та девчонка, новенькая, что жалась к матери, беленькая, голубоглазая, в какой-то панамке, в каких только детсадовские ходят и одновременно в полосатой тельняшке, обтягивающей худенькое цирковое тельце, — та совсем было поникла, глядя на все происходящее с ужасом, будто отправляли не на Солотчу, а бог знает куда, в длительную ссылку.
И увидев ее такой, он повеселел. А ее мать жалась к его матери, и они что-то обсуждали насчет передач писем, ягод, конфет и прочего, а также насчет того, чтобы он, опытный, тертый в пионерлагерях Игорь, помогал ей, домашней и неприспособленной Даше.
— Ты будешь дружить с Дашенькой, чтобы ее не обижали, ты же всех тут знаешь. Ты понял, сынок? — говорила мать чересчур нежным каким-то голосом, и он не понимал, как это можно дружить с кем-то по заказу, но кивал покровительственно… Да, да, в обиду, мол, не дадим.
Их, как цыплят, всех пересчитали, разобрали в отряды, вожатый сказал короткую, но энергичную речь, и все двинулись случайными парами под музыку, обгоняя друг друга, к автобусам. Тут возник небольшой водоворот с чемоданами, которые родители просовывали в окна, звучали последние наставления, виделись единичные в поле зрения слезы, как детские, так и женские, наконец мощно взревели дизеля, и все замахали руками, и здесь на земле, провожающие, и там, у иллюминаторов, те, кто отправлялся в плавание…
Игорю тоже на секунду стало как-то не по себе, когда он увидел отца и мать, сосредоточенно-веселых и напутствующих его: будь молодцом… читай… делай… играй… не теряй времени… будь молодцом, чемпионом, образцом… будь, будь…
— Буду, — сказал он им и, глядя на отца, вдруг вспомнил, как тот рассказывал про отъезд из Москвы в эвакуацию в Казань, как тот уезжал со своей бабушкой и прощался с матерью и отцом, уходившим в ополчение, и какая толчея была на перроне, и было еще неизвестно, всех ли их возьмет поезд, и его отца, маленького отца, дед поднял на руки, и бабушка втащила его через окно в вагон, так как на площадке была страшная давка, а потом уже на дороге состав бомбили, но бомбили, к счастью, наспех, сбросили пару бомб на медленно ползущую по земле змейку, не попали, ушли. А теперь он ехал в пионерлагерь на две смены, а третью, может быть, на юг, папа и мама провожали его и будут встречать через два месяца и, возможно, будут приезжать раз в две недели на родительский день.
Рядом тихо прильнула к окну эта несчастная Дашка Гурьина, автобус уже набирал скорость, и остались позади родители с поднятыми руками и с глазами, полными слез; вот уже вожатый затянул бодрую песню, и ее быстро подхватили, вот уже кто-то кому-то кинул первый пробный легкий шалабан, и посыпались сзади чемоданы, и Даша все сидела в оцепенении, будто ей какой укол сделали.
— Ты чего это? — обратился к ней тогда Игорь.
— Так просто.
— Да ты выкинь из головы… Т а м знаешь как… Еще и домой не захочешь.
— А я и не думаю.
— А что же ты делаешь?
— Смотрю в окно и жду, когда ты перестанешь приставать.
Он не ожидал такого оборота. Нужно еще… Ты с самыми добрыми чувствами, а тебе…
— Пожалуйста, я могу пересесть. Запросто.
И пересел назад. С разочарованием он отвернулся к окну, где уже мелькали перелески, где жилые массивы белели сквозь яркую зелень, где попадались деревянные, с небольшими палисадничками домики.
О Дашке Гурьиной он теперь не думал. Он ее не замечал. Ее как будто и не было в окружающем его реальном зеленом и приветливом мире.
В лагере он ее тоже тогда не замечал.
Не замечал он ее и в этом году, когда они снова попали в тот же лагерь, но, не замечая, он все же уловил, что она вполне освоилась, а к середине смены неожиданно подросла.
Надо сказать, что к концу смены жизнь была другая, более вольготная, каждый из них теперь знал свое место и общий распорядок и понимал, как можно сачкануть от какого-нибудь пыльного дела, а где можно, наоборот, проявить себя, умело найти общий язык с вожатыми, знал, где можно покурить иногда, чтобы не попасться, курить тайно (это было интересно), каждый из них к концу второй смены знал «кто есть кто».
Вечерами в лагере устраивали танцы, куда ходили вожатые, ребята из старших отрядов, молоденькие официантки, солдаты, неизвестно как попавшие сюда, а также кой-какая мелюзга, не желавшая придерживаться детского режима и пользовавшаяся, говоря словами начальницы лагеря, «разгильдяйством и либерализмом вожатых».
Пришел однажды и Игорь. Сначала, как правило, играл аккордеонист, репертуар у него был древний, какие-то песенки — «Мы с тобой два берега», «Тишина» и что-то в этом роде, — все танцевали вяло, медленно, враскачку, а мелюзга вилась вокруг бортика танцплощадки, скучая и покуривая от безделья.
Но вот кто-то принес магнитофон. Высокий ритм Джеймса Ласта штопором ввинчивался в тишину, в шорох леса, и все кидались на этот маленький, желтеющий в свете сиротского малонакального фонаря квадратик танцплощадки, и она раскалялась через несколько мгновений и, дымясь, как бы взлетала вверх, и падала, и снова взлетала, и, ломаясь, раскачиваясь, топоча, подпрыгивая, поводя мускулами плеч, шеи, сгибая руки, повторяли ритм все, как умели: вожатые и пионеры, девочки-официантки, солдаты, ребята из старших классов и пронырливая мелюзга. О, как плясали на скромной этой танцплощадке вблизи красного уголка под сенью дерев!
Глуховатым шелестящим звуком гортанно вступала труба и звала бог знает куда, умирали и возрождались саксофоны, ударник частил так, что сердце выпрыгивало; хриплый лесной надорванно-прекрасный, жаждущий то ли любви, то ли крови голос властвовал над людьми, и они превращались в комки неслыханной энергии, на которой могла бы работать сейчас могучая ГЭС.
И как ни странно, а может быть, вполне закономерно, лучше всех, раскованнее, и свободнее, и легче, и даже выносливее танцевали не взрослые, а именно малолетки. Они словно бы родились с этой музыкой, им не надо было перестраиваться, как поколению отцов, с фокстрота и танго на бальные танцы, оттуда на рок, потом на твист, сначала запретный, потом повсеместно внедряющийся, а затем на все эти прихотливые шейки и далее, как верх новаций на полузабытый чарльстон.
Эти маленькие привыкли к звуку и к движению, ритм и легкость были даны им с младенчества, и на́те вам — эти малолетки, шмедрики, так называемое подрастающее поколение, называй их как хочешь, были вдохновенными мастерами этого дела.
А уж кто с кем танцует — парень с парнем, девчонка с девчонкой, а если никого нет рядом, то так, соло, сам с собой, или пристроившись к кому-нибудь сбоку, — неважно, был бы квадратик жилой площади, был бы лишний сантиметр для движения.
И вдруг в этой толчее мелькнула удивленная и как бы светящаяся Дашка Гурьина. Возникла и исчезла в бешеном потоке, рванувшемся на танцплощадку при первом же звуке музыки. А потом она появилась совсем рядом и, к полному изумлению Игоря, сказала тихо, дружественно и как бы доверительно:
— Ну что… давай… а?
Он кивнул молча, по-мужски, с достоинством. Давай так давай. Делов-то. Какая разница, с кем танцевать. Пошел сзади нее. Вразвалочку, покинув раздевалочку… как бы без особого энтузиазма. Ну, и станцевали нормально, потом еще раз. Она тоже умела здорово. И не так бойко и разухабисто, с различными вихляниями, а очень точно, легко, красиво, чувствуя любой, самый незначительный толчок ритма.
Хорошо было с ней танцевать.
Потом их поразгоняли, пора и честь знать, и все, усталые, но довольные, с нерастраченным запасом сил, отправились по коттеджам, и Игорь тоже.
— Ну, привет, — сказал он ей на прощание. — Не проспи утреннюю линейку.
— Не беспокойся, — сухо сказала она.
С тех пор и до конца лагерной смены они не перекинулись ни словом, будто и не были знакомы.
Смена кончилась, их увезли по домам. Через недельку снова в лагерь. Теперь и проводы были легкие и веселые, не то что в начале лета.
Дашку он поискал глазами. Должно быть, в другом автобусе. На общей линейке ее тоже не увидел. Может, заболела, позднее привезут. Но ее так и не было видно. Потом спросил у одной девчонки из ее отряда:
— А где же ваша Гурьина?
— У нас такой больше не значится. Где она, не знаю. Может, в Москве, а может, на юг с матерью махнула.
Ну, нет так нет, подумаешь, Дашка Гурьина… Жили и без нее. Конечно, на юге лучше… Если б мои меня взяли, я бы с удовольствием. Теперь в Москве, наверное, не увидимся. А зачем, собственно?
Так он думал вполне разумно и бежал уже по футбольному полю, где должны были сразиться шесть на шесть с пацанами из лагеря «Буревестник».
Все было хорошо, и правильно, и разумно, и жизнь шла вперед, в заданном направлении, и было много дел и занятий и не время скучать, и было весело, и надо было победить в матче, и, остановившись на мгновение, он ощутил вдруг холодок непонятной и глубинной пустоты, будто чего-то долго ждал, а его обманули.
…Он нормально прожил вторую смену. «Нормально». Это слово употреблялось часто и давало исчерпывающий ответ на все вопросы:
«Как дела?»
«Нормально».
«Какие оценки?»
«Нормальные».
«Как сыграли?»
«Нормально».
Ясно и коротко. На самом же деле лагерная жизнь была не такой уж нормальной. Она была вовсе не такой последовательной, простой, четко размеренной, как могло показаться приезжему взрослому, не такой романтически наполненной, как изображается в некоторых книжках из детской жизни: зорьки, подъемы, походы, пионервожатые, приезжие ветераны, спортивные игры, военные игры, старшие друзья, опекающие младших подруг, младшие подруги, врачующие младших друзей. Яркие вспышки костров и тугой перестук мячей.
И так, и не совсем так.
Прежде всего в лагере ты должен был быть или, по крайней мере, казаться сильным. Если ты не был сильным, ты терял самостоятельность и суверенитет. Ты становился частью определенной группы, может быть даже чуждой тебе, которая прикрывала тебя в нужный момент, но в которой ты тоже был не из первых, а значит, в известной степени ты чувствовал себя подчиненным чужим интересам.
Трудно определить, кто именно были первыми и почему они таковыми становились. Первыми, главными были те, кто обладал а в т о р и т е т о м. Они могли шутить над тобой, но не ты над ними, иначе, не зная этого, ты мог крепко нарваться.
Ты шел в стайке где-то, может быть, в середине компании, а может быть, и в конце. Ты мог острить, обращать на себя внимание, ты мог подавать голос в своей компании, напоминая, что ты есть и что ты тоже человек со многими достоинствами. И иногда компания откликалась на твои шуточки. Но если ты не обладал а в т о р и т е т о м, ты все равно всегда оставался человеком из хора.
Здесь, в лагере, у каждого было свое место и своя роль. И как бы ты ни притворялся, кого бы из себя ни строил, тебя раскусывали тут же с ходу, немедленно ставили на положенное тебе место. Здесь умник оставался умником, слабый — слабаком, отважный так и ходил в храбрецах, а тот, кто мало говорил, но знал, что говорит, кто знал ответ на всякий вопрос, а иногда и без вопроса, с ходу и немедленно да так, что спрашивающий валился на траву и терял охоту ко всяким новым вопросам, — вот такой спокойный и уверенный шел всегда впереди. Здесь не было дурной привычки издеваться над слабыми. Наоборот, слабых даже жалели, поощряли и в случае необходимости защищали, но только тех слабых, которые не притворялись сильными и не ходили по каждому поводу к вожатым и к администрации. Слабый должен был знать, что он слаб, и тогда все относились к нему с пониманием. Интересно, что никакая художественная самодеятельность ничего не меняла в этой расстановке сил. Никакая лепка, пение, декламация стихов. Ты мог лепить что угодно и из чего угодно, твоя лепка могла быть отмечена на смотре или где-нибудь еще, твой голос мог нежно журчать на праздничном концерте, это было хорошо, но ничего не меняло в твоем положении, в иерархии местного общества. Здесь люди определялись не по художественным талантам, не по смотрам и не по выставкам.
Они определялись по быту.
Впрочем, имел значение спорт. И если ты гонял в футбол лучше других, или точно попадал в баскетбольную корзиночку, или как олень рвал стометровку, ты считался серьезным человеком, приобретал часть авторитета. Здесь признавали реальные вещи, а не высокие материи.
Горели костры-самоделки, не те большие, праздничные, с выступлениями и концертными номерами, а маленькие костерки, то вспыхивающие, то затухающие, отбрасывающие резкий свет на лица сгрудившихся ребят. В красном их свете ты был виден весь как есть. Шли рассказы, истории, байки, случаи, анекдоты. Все освещалось здесь: международная жизнь, вопросы культуры, проблемы спорта, половые проблемы. Да, им, последним, этим трудным проблемам, принадлежало не последнее место у маленьких костерков старших групп. Не в тоненьких брошюрках общества «Знание», или в специальных программах, или в объяснениях научного лектора узнавались здесь необходимые юношеству сокровенные тайны. И дружный смех, иногда даже переходящий в ржание, сопровождал некоторые самодеятельные доклады и сообщения.
Но иногда уставали от всех этих сложных тем и замолкали вдруг и запевали песню, чаще всего почему-то «Клен ты мой опавший, клен заледенелый…», и лица менялись, приобретали новое выражение, и небо с подмосковными некрупными звездами отодвигалось, становилось больше и выше.
Почему именно Есенина? Почему, не зная даже точных слов, именно его и во всех поколениях? Почему переписывали от руки отец Игоря и его товарищи в те годы, когда его не издавали, и в школе не проходили, и вообще не рекомендовали? Почему именно е г о грусть так ложилась на жаждущие чувств первобытно-черноземные, слегка замусоренные всяким вздором, но все же открытые еще нежными венчиками своими души?
Не наше это с вами дело определять, почему. Мы можем отметить лишь, что это было и есть.
«…Или что услышал, или что увидел…» — а уж потом и другие песни. Игорь часто отходил от этих костерков. Ему хотелось, надо было побыть одному. Вся его будущая долгая жизнь счастливо проигрывалась перед ним, как магнитофонная пленка. Ее можно было пустить назад, вперед, перевернуть, поменять местами, все равно она звучала гулко и упруго. И он видел себя счастливцем и победителем — над кем, над чем, он не знал. Он побеждал все дурное, неопределенно липкое, мешающее счастливо и ясно идти по теплой траве.
— Чего ты там бормочешь? — говорил ему кто-то из друзей.
— Да нет, это тебе показалось.
А сам бормотал и пел, точно молился какому-то божеству, как язычник, может быть, богу солнца Ра или богу ночи… как его там зовут… Он был еще человек дохристианского периода.
А на следующий день, в так называемый тихий час, он шел к туалету, стоявшему на возвышении и источавшему острый запах карболки. Там трое ребят из младшей группы «водили» веснушчатого худенького мальчишку в синей спортивной куртке и в трусах; его брюки, подолгу зависая в воздухе, перелетали от одного пацана к другому. Он, ругаясь, беспомощно тыркался к каждому из них, а они с издевкой перепасовывали штаны по кругу. Игорю было неприятно смотреть на все это, на суетливо бегавшего от одного к другому жалкого пацана, на гогочущих мальчишек из младшего отряда. Игорь хорошо знал эти игры, доводившие до слез, до яростных мальчишеских слез, смешанных с соплями. Он оглядел троих оценивающе. Младшие были довольно-таки крупноваты. Лезть было рискованно. Он с отвращением слышал их радостные крики, истеричный полувизг, полуплач веснушчатого, которого уже довели и, сам не зная, как это случилось, он мгновенно перенесся, влетел в этот круг, рядом с тычущимся, беспомощным пацаном, окруженным тремя хохочущими красными мордами.
— А ну отдай, брысь отсюда! — угрожающе кричал он им.
Те посмотрели, быстренько соображая, попробовать навешать ему или отдать. Один стал посылать его куда следует. И тогда он цепко бросился на этого краснорожего здоровенного младшенького.
Он хорошо боднул его в грудь, тот отлетел на несколько шагов, эти двое, как кошки, бросились на него, а тот, бедолага, сидел без штанов на траве и рыдал.
Не успели они разлепиться, как услышали громкий, как сирена, голос. Слов он не различал, только потом понял, что человек ругается, и крепко, и, как выяснилось, не просто человек, а вожатый младшего отряда; выпучив глаза, он шел прямо на них:
— Что это еще за художества в тихий час? Что это за картинки?
Надо было объясняться.
— Да вот, они у этого маленького штаны отняли.
— А ты на что, большой? Ты ведь старшеклассник, а сразу в кулаки. Ты им по-человечески мог сказать? А то сразу — силой!
«Да, да, сразу, — говорили лица этих троих, — именно сразу», — говорили их обиженные лица, а один верзила младшеклассник даже слезу размазывал и чуть-чуть подвывал, будто ему всерьез от Игоря досталось, и все они смотрели на него, как на пса какого-нибудь, сорвавшегося с цепи и укусившего бедного козленка, а сомкнутые их губы неслышно шептали: «Уж и отметелим мы тебя всем отрядом, дай только срок!»
На отрядной линейке он получил устное предупреждение за то, что затеял драку, да еще с младшими.
Он чувствовал солоноватый привкус великомученичества и рассказывал своим ребятам, как все было н а с а м о м д е л е.
На следующий день, вечером, сидел у костерка и мечтал и, размечтавшись, как всегда один, пошел по ровному футбольному полю домой, где светились уютными огоньками жилые домики лагеря.
Вот тут и выскочили пятеро или шестеро, оцепили, стояли, кривляясь, гася сигаретки.
Никого из своих рядом не было.
Надо было или попробовать прорваться сквозь них, или удрать.
И он побежал к реке.
Они все-таки догнали его, завалили на траву, стали бить. Бить по-настоящему, видно, они не умели, а может быть, и боялись вожатых, которые могли появиться здесь, а может, он не давался. Во всяком случае, отделался он сравнительно легко. Выцарапался кое-как, убежал. Они долго сквернословили ему вслед, плевались.
Ходил около своего домика, у рукомойника лил воду на дрожащие руки, обтирал побитое лицо. Смеялись чему-то ребята в домике, никому не хотелось спать. А ему тяжело было войти в комнату, в этот резкий свет, отвечать, рассказывать.
И думал потом, когда уже погасили свет, лежа на узенькой кровати у стены, в теплой, надышанной отроческими запахами комнате своего отряда: «А зачем я ввязался?» И еще: «А ведь говорят, не стой в стороне, когда несправедливость. Вот тебе и не стой».
И никто ведь не видел его подвига, но все прознали про его позор. Про то, как его отметелили младшеклашки.
Нехорошо все это было. Неправильно.
И когда отец приехал в родительский день, он ему рассказал, спросил, прав ли он.
— Я не знаю, прав ты или нет, я могу только прикинуть на себя.
— Ну, прикинь.
— Я бы, пожалуй, полез. — И добавил, подумав: — Надо только как следует рассчитать свои силы. Защищать слабых надо с точно рассчитанными силами.
Так говорил многоопытный отец.
А вокруг, на поляне, разомлев от дальней дороги и от близости своих чад, отдыхали на траве родители, вокруг них вились цыплятами младшеклассники, поклевывая привезенный корм, солидно сидели старшие, железными челюстями перемалывая тщательно вымытые яблоки и ягоды и беседуя со стариками. Всюду вокруг происходило таинство родственного общения. Обиженные и обидчики, победители и побежденные, герои и плуты, друзья и недруги — все были заняты сейчас как духовной нищей радостного общения, так и не менее приятной земной пищей, привезенной из родительского крова. Мир и благость царствовали вокруг, и на вопрос, как дела, все отвечали с редким единодушием: «Нормально».
И, лежа на земле, слушая отца, глядя на смуглое, предвечернее небо, Игорь думал о справедливости и несправедливости и о чем-то ускользающем, приятном, но с легким облачком печали. Может быть, о Дашке?
А осенью, уже когда пошли в школу, он зашел к приятелю во двор. Там на лавке сидела большая компания ребят постарше Игоря. Двое ломкими голосами что-то пели, третий играл на гитаре. На краю скамейки сидела Дашка Гурьина и слушала. Он даже и не понял сразу, что это она. Ее и узнать-то было трудно.
Даже и не скажешь, что выросла, ему не видно было сейчас, какого она роста стала. Но она была совершенно другая, будто не два месяца прошло, а несколько лет и теперь она, Дашка, не худенькая девчонка, от которой не знаешь, чего ждать, а какая-то неприступная, снисходительно поглядывающая на всех окружающих молодая женщина, некая юная леди с Хавско-Шаболовского переулка.
Он даже сделал вид, будто ее не заметил, так как никогда не знал, поздоровается она с ним или нет. А теперь, после этих двух месяцев, что они не виделись, и вовсе думал, что она сделает вид, что незнакома с ним.
Она была в полосатом свитере-безрукавке, открывавшем загорелые руки, на коричневом тоненьком запястье болтался широкий пластмассовый браслет. Парни тянули Высоцкого, особенно один старался. Пел он плохо, страшно рычал и завывал, подражая автору, но все это было не похоже, и слушателей это тоже не брало. Парни и еще одна девчонка, незнакомая Игорю, курили, даже и не поворачиваясь к исполнителю, и безучастно смотрели себе под ноги.
Игорь сделал пару кругов вокруг них, присел на край скамейки.
Потом то ли певец устал, то ли всем надоело его слушать и он наконец понял, но он замолк, и кто-то начал рассказывать похабные анекдоты.
Все смеялись, но тоже скорее потому, что так полагалось. А Дашка встала, прошла всю длинную скамейку, неожиданно остановилась на секунду около Игоря и сказала:
— Мне лично это надоело. А тебе?
Игорь так растерялся, оттого что она не только узнала его, но и подошла к нему и подчеркнуто громко сказала это, что молчал, снизу вверх глядя на нее, как бы прикованный к этим красным пластмассовым кольцам, покачивающимся перед его глазами.
— Я пошла, — решительно сказала она.
Он тоже встал, хотя знал, что потом о н и его задразнят, проходу не дадут…
Шли молча. Она шагала быстро, будто куда-то торопилась. Была какая-то неловкость во всем этом, куда-то шли, не зная, о чем говорить, не глядя друг на друга. Наконец Игорь спросил:
— А куда летим-то? — И добавил с подобием усмешки: — На поезд, что ли? Или так, спортивная ходьба?
Вместо ответа она сказала, точно продолжая какую-то давно начатую речь, которую молча прокручивала в себе, пока они шли:
— Такая тупость… Идиотизм просто. Скука. Ослоумие. Выпендриваться тоже надо умеючи… Все чужое. Слышали, да не поняли. Песенки. Анекдотики… И ведь не потому я против, что там словечки всякие… меня это не волнует. Вот брат такое завернет, ну просто полный обвал, но здорово, посмеяться можно от души. А эти бубнят что-то, не разбери-поймешь… Уроды!
Он не знал, что́ так задело и разозлило ее, что заставило так внезапно уйти от этой компании, и потому, нарочито не разделяя ее возмущения, сказал спокойно:
— Нормально. Нормально поют… Бывает лучше. — И добавил, помолчав: — Куда ж ты подевалась из лагеря?
— Мать увезла под Николаев. У них там пансионат от завода. Я так в первую смену рвалась из лагеря, а потом жалела… А ты как? — И, не выслушав ответа, сказала: — А вот и мой дом.
Это был шестиэтажный, порядком закопченный, но основательный дом послевоенной застройки.
— Ну что же, значит, разбежались, — сказал Игорь как бы равнодушно. — Ну, чао…
— Чао-какао, — игриво сказала Даша. — Впрочем, если хочешь, можешь зайти.
«Если хочешь! — подумал Игорь. — Разве так приглашают?» Ему хотелось быть гордым, совершенно независимым, ни капельки не заинтересованным ею, как бы занятым своим важным делом и потому торопящимся домой или еще куда-то. Хотелось кивнуть небрежно и уйти, расправив плечи, навстречу тьме и неизвестности, но вместо этого с неожиданной готовностью и даже поспешностью он сказал:
— Можно. — И добавил: — Так… на минуточку.
Зашли. В передней уже он услышал чьи-то голоса, приятная музыка тихо наигрывала, дверь была полуприкрыта, и в дверном стекле вспыхивал красноватый какой-то свет. Вслед за Дашей он вошел в просторную комнату, слабо освещенную настольной лампой.
Двое мужчин, а точнее сказать, молодых людей, играли в шахматы. Девушка сидела на диване, поджав ноги, покуривала и что-то писала. Около шахматистов стояла бутылка вина, а у девушки был такой вид, будто она вся поглощена, вся вдохновение.
«Может, это она стихи пишет? — подумал Игорь. — А может, и к зачету готовится, кто ее знает…»
— Вот это Игорь, — сказала Даша.
— Видим, что Игорь, — сказал один из играющих, не поднимая глаз и глядя на доску хитро, оценивающе и вместе с тем непроницаемо. — Видим, что не Маша. — Он плавным, хищным движением поднял руку, навис пятерней над доской.
«Может, он какой-нибудь гроссмейстер», — подумал Игорь.
«Гроссмейстер» сделал ход и повернулся к Игорю:
— Вина хочешь? Игорь пожал плечами:
— Я вообще-то не пью.
«Гроссмейстер» посмотрел на него, скользнул взглядом сверху донизу и, отхлебнув вина, спросил:
— Ты что, не аксель, что ли?
— Кто? — простодушно переспросил Игорь.
— Аксель. Аксель Акселевич. Акселерат. Племя молодое, незнакомое, пьющее, курящее, мыслящее критически… Так вы не из них будете?
Он продолжал что-то еще говорить, все время чуть изгиляясь, но Игорю не было обидно, его это все не трогало. Он говорил все это Игорю, но Игорю почему-то казалось, что брату важнее было, чтобы эта тихая, молчаливая девушка, что-то там писавшая в углу, в сумраке, услышала его высказывания, что вообще все, что брат Дашки говорит, он говорит ей, но она почему-то не слышит или слышит, но не показывает виду. Однажды только она подняла лицо, чуть усмехнувшись, долго и внимательно, с усталой нежностью, как на сына, посмотрела на него, и он тут же послал ей взгляд-сигнал, смысл которого был Игорю не ясен, как и все, что между ними тут происходило, но взгляд возбужденный, радостный и как бы означающий, что ее сигнал принят, принят с одобрением и благодарностью. Они да и молчаливый партнер брата вроде бы уже забыли про Игоря, про вино, которое было ему предложено.
— Вообще-то я могу немного, — осмелев, сказал Игорь.
Дашин брат налил ему треть стакана.
— Правильно, не бойся. Сухое. От него не окосеешь. Дашка, дай человеку яблоко… Ты в шахматы как?
— Могу, — все больше осваиваясь и храбрея, сказал Игорь.
— Давай. Договоримся так. Я буду старик Петросян, а ты дерзкий юный Карпов… Посмотрим, кто кого обдерет.
Он «ободрал» Игоря раз и другой, ему стало неинтересно. Он обратился к приятелю, который густо дымил и тихо попивал вино из другой бутылки, они заговорили о каких-то своих делах, а Игорь налил себе еще полстакана вина.
Было странно и хорошо, будто он знал всех здесь давно: рыжего, с бородой молчаливого приятеля и этого брата, так не похожего на Дашку, говорливого, немного ломаку, но, может быть, и ничего мужика… Вообще хорошо иметь брата.
Он об этом давно думал, но остро почувствовал именно сейчас. Брата, с которым можно поговорить о б о в с е м. Дашка то исчезала из комнаты, то входила, разговаривала мало, но была внимательна и приветлива, совсем не такая, как в лагере, словно дом делал ее другой, более осторожной, мягкой и уступчивой.
Да, она выглядела сейчас еще более взрослой, чем на улице. Она была настоящая хозяйка, которая за всем следит и заботится, чтоб всем было хорошо.
Внезапно девушка, сидевшая в темноте, встала, бросила свою писанину и завела музыку.
Это была прекрасная тихая мелодия из «Крестного отца», уже немного заигранная, но он как бы услышал ее в первый раз и сказал Дашке, скрывая волнение:
— Давай, что ли?
И сразу же, с той секунды, как они сошлись в центре комнаты, с первого же шага, они нашли общее движение, как тогда, в лагере, на деревянной танцплощадке. Ее загорелые и легкие руки лежали на его плечах, и он видел, как она в такт музыке, дерзко, словно поддразнивая его, поводит шоколадными плечами, обтянутыми узким, как майка, без рукавов свитером.
— Смотри, какие молотки, — сказал брат. — И где только, на каких задворках они выучились так плясать?
Игорю было совершенно все равно, что скажет он или кто другой, понравится это кому-то или нет, он был поглощен чем-то иным, новым, и, чем глубже он это новое ощущал, тем равнодушнее был к тому, что происходит вокруг, тем легче и свободнее двигался и только на одну секунду сбился: испугался, что общая эта нить, родившаяся из ничего, из ящика на полу, упруго взлетевшая и толкнувшая их друг к другу, так удивительно объединившая на несколько минут, вдруг прервется, и навсегда.
В лагере они тогда тоже очень хорошо танцевали, но совершенно все было иначе, и он чувствовал себя другим, чем тогда, будто действительно прошло не два месяца, а никем не измеренное время.
Неожиданно пришли парень с девушкой, оба очень высокие, худые, как баскетболисты. Они принесли с собой бутылку. Дашка беспрерывно бегала на кухню, нарезала то помидоры, то сыр, то хлеб, приносила, что-то уносила.
Когда она выходила из комнаты, ему становилось одиноко и неинтересно. В один из таких моментов он вышел из комнаты, прошел темный коридор, заглянул на кухню. Она стояла спиной к нему, старательно, сосредоточенно что-то резала. Он подошел к ней близко, почти вплотную, но она не обернулась, то ли не услышала, то ли сделала вид, что не слышит… Он хотел закрыть ей глаза ладонями, как в детской игре «Угадай, кто это?», но тут же ему это показалось глупым, и он просто стоял так недвижно, тихо, дыша ей в затылок, видя перед собой тоненькую коричневую шею в завитках светлых выгоревших волос.
— Чего ты? — сказала Даша. — На кухне тебе делать нечего! — Она говорила чьим-то чужим, рассудительным тоном, может быть тоном ее матери, но в голосе ее он почувствовал оттенок тревоги.
Когда он шел сюда, на кухню, он не знал, ч т о здесь будет. Он так просто шел, без всякой цели. Он хотел увидеть ее одну.
Но сейчас, странно напрягаясь и страшась, он решил: вот именно с е й ч а с и будь что будет. Он мгновенно решил, как все сделает, как н а д о сделать. Надо резко повернуть ее к себе, чтобы ее лицо было вровень с его лицом, и тогда он поймает ее губы и поцелует. Так все он решил в эту секунду. Но, не умея, не зная, к а к э т о, теряя уверенность и решительность, он беспомощно уткнулся ртом, глазами в теплую ложбинку на шоколадно блестевшей шее, пахнущую почему-то солнцем и будто бы песком. Так ему показалось.
Какое-то мгновение они стояли так, и она не двигалась, и он не знал и не понимал, что дальше будет, и что делать, и что говорить или, может быть, не говорить ничего. И как вообще вести себя. Потом она отодвинулась от него, подняла лицо и посмотрела. Как бы навылет и глубоко в него и дальше насквозь прошел ее взгляд, одновременно изумленный и равнодушный, холодный, режущий, который вообще у нее иногда бывал и неприятно пугал его, а сейчас был сгущен до предела, так, что он физически чувствовал его острый ледяной свет и понял тут же всю нелепость свою и жалкость, ненужность этого порыва и какой-то непонятный ему еще обман и медленно пошел по коридору.
В открытом дверном проеме другой комнаты, меньшей, он увидел ее брата и ту девушку. Он даже скорее понял, что это они. Они были так прижаты друг к другу, что вначале показались ему единым удивительным двуспинным существом. Они были втиснуты в какое-то кресло, и брат целовал девушку, но не так, как он хотел поцеловать Дашку на кухне, и не так, как в кино герои, а как-то иначе, пугающе, будто он хотел задушить, загрызть ее. Она не сопротивлялась и не отстранялась, лицо ее было запрокинуто, и было видно оголившееся, блестевшее в свете настольной лампы колено, и вся она податливо и, как ему показалось, неприятно торопливо прижималась к брату.
Он пробежал узенькое пространство коридора; вернее, ему показалось, что пробежал и что «пространство» всего три-четыре шага — и дверь, и неумелыми руками он стал открывать неподатливый новенький замок, жирный и скользкий от еще не снятого масла.
Бежал по гулкой лестнице, по полутемным ее маршам, тонул во тьме и выныривал на тех этажах, где тускло светились голые больничные лампочки, помнил теплое это прикосновение, и ритм музыки, их музыки, только что им обоим принадлежавшей и вот загасшей, еще покачивал его, а остальное хотелось не помнить, не знать. Он выбежал на пустой двор, вскочил на качели, они ржаво скрипели; он раскачивал их изо всех сил, взлетал над землей, прямо к горящим наверху окнам, там было и ее окно, квадратик, светившийся так же, как другие, и он не видел сейчас ничего, кроме качающейся земли и этих светящихся квадратиков и кроме лица в одном из них, лица, прижатого к стеклу и смотрящего вниз на черную землю, где взлетают вверх и падают вниз качели, похожие на оглобли.
Он выкрикивал какие-то ругательства, хотел упасть с качелей и разбиться, но руки, намертво вцепившиеся в ржавые прутья, и хитрый инстинкт самосохранения крепко держали его, не давая упасть вниз. Потом он успокоился, и ему стало даже хорошо, и он стал разговаривать с ней, сначала спокойно, потом распаляясь, в чем-то яростно ее убеждая, а в чем, он и сам не знал.
У своего двора опять встретил тех, что сидели на лавке, пели песни. Теперь они расходились по домам. Ему не хотелось с ними встречаться, он нарочно помедлил у входа во двор, и, как назло, нос в нос встретился с певцом.
Тот остановился, ткнул пальцем в Игоря:
— А хорошо тебя Гурьина увела. Как наседка птенчика. А ты лопухи раскрыл — и на полусогнутых. Не ты первый, конечно.
И, раньше чем ответить гаду, сказать ему, кто он такой, рука сработала четко, вполразворота, не медля, в скулу, так что пальцы обо что-то ободрались, то ли челюсть у него была такая твердая, то ли в зуб заехал…
Так ему представилось, что сработала. Так х о т е л о с ь.
Но на самом деле сказал равнодушно и с брезгливостью:
— Иди ты…
Именно на следующее утро он и не пошел в школу. Когда матери «настучали», она расстроилась до слез и все расспрашивала, где он был, с кем шатался:
— Не хватает еще только, чтобы связался со шпаной!
Больше всего ее пугало именно это. Но объяснять матери ничего не хотелось. Вот с отцом всегда легко было найти общий язык в самых сложных случаях жизни. Но отца теперь не было рядом, как раньше, как всегда… Он только звонил каждый день. Но по телефону-то что скажешь. Раз в неделю он приходил. Но сейчас его уже давно не было; видно, уехал куда-то в командировку.
Игорь поехал на ВДНХ. И там в одиночестве шатался по павильонам, особенно надолго застрял в павильоне радиоэлектроники.
Ел мороженое, слонялся по берегу пруда, а также в той зоне, где в широких вольерах жили выставочные звери.
Было свободно, тревожно, странно, одиноко и хорошо.
Впервые было так.
То, что было с ним последнее время, и то, что он ощущал, именно ощущал, а не понимал, постоянно мучившее его, стоявшее временами комком в горле, так что приходилось напрягать живот, чтобы не расплакаться, — все это, тяжесть, воспаленность головы, ушло вдруг, точно он легко и неожиданно выздоровел после болезни. И сейчас он не думал ни об отце, ни о матери, ни о школе, в которой все не ладилось и рассыпалось, как пересохший пластилин, он думал только о Дашке, о ее брате; о той уже сейчас как бы на много километров отдалившейся улице, где был ее дом.
С радостью он думал о ней плохое. Даже делал какую-то странную и, как он сам догадывался, подлую подстановку: ему казалось, он представлял, что не та незнакомая девушка брата мелькнула в полуотворенной двери, а она, Дашка.
Теперь он ждал от нее только обмана, какого-то удивительного, незнакомого ему в этой жизни обмана, и он заранее отрезал, отрубал себя от нее, безвозвратно решая, ч т о н и к о г д а, н и з а ч т о. И ему легко становилось от такого решения.
Все это напоминало игру с самим собой, словно бы в шашки, в поддавки, так как в глубине, н а с а м о м д е л е, ни в какое такое решение он не верил, а хотел только одного (для осуществления чего придумывал самые хитроумные способы) — снова ее увидеть.
Все плохое, что он о ней надумывал, не только не отдаляло ее от него, но, наоборот, притягивало. И что, собственно, плохое? Плохо он не мог о ней думать. Старался, но не мог. Плохо никто не мог и не должен был о ней думать. Он был убежден, что убьет (ну, может, и не убьет, а просто ударит) всякого человека, сказавшего о ней плохо. И он не знал, как ему быть, как существовать без нее… Все равно, что шумела, горела игра и ты был главным ее участником, был окрылен ею, но вдруг она кончилась, и ты одиноко, тускло бредешь по кромке поля, не зная, чем заняться, и медленно выпуская теплое, стремительное движение из медленно раскачивающихся в такт шагам опущенных рук.
Ему казалось иногда, что теперь они никогда не увидятся. Он собирался написать ей письмо. Потом представил ее ледяные, ироничные глаза, увидел, как она читает, с какой усмешечкой она может это прочесть…
Смотрел ли он на других девчонок? Конечно, смотрел. На красивых. Или на тех, кого не назовешь красивыми, но почему-то все равно посмотришь им вслед. Но это ничего не меняло. На них он смотрел, а о ней думал.
Иногда он слышал разговоры взрослых о них, старшеклассниках, так сказать, вообще об их поколении. Любопытно было послушать, что эти мудрые люди думали о таких, как он. Одни считали, что о н и ничего в этой жизни не знают, лишь только смутно догадываются. Другие, что о н и знают все. Что они исчерпали все теперь и навсегда.
Второе странным образом даже льстило ему. В глубине души он был убежден: они не знают нас, как мы не знаем их, и поэтому то, что они думают о нас, неверно. Конечно, он не мог ответить за всех своих ровесников, но за тех, кто реально окружал его, он мог ответить. Их-то он знал досконально и отлично представлял, who is who. В этом мире все было изучено им, как говорится, в трех измерениях.
Он наблюдал таких пацанов, таких девчонок-оторв, с такими разговорами в подъездах, с таким питьем и с такими в а р и а н т а м и, что даже он, достаточно притершийся, старался обойти их стороной. Ругались многие, почти все, но часто просто так, для понту, без злобы, эти же шпарили с такой злобой и изощренностью, что, слушая их, он будто задыхался в вонючей канализационной луже. И все же таких было немного. А чаще всего — слоняющиеся, захмелевшие, или готовящиеся выпить, или представляющиеся пьяными, или все время твердящие о пьянке, ловящие кайф, но все никак не поймавшие его, с затуманенными глазами, идущие куда-то, по дворам, по опустевшим хатам без родителей… Они тоже искали чего-то, но не могли найти. А треп шел такой, что можно было бог знает что подумать, особенно парни изгилялись. Послушать их, так все они видели. Большинству мужиков ломали челюсти. Все девчонки были их, и так далее и тому подобное… И интересно было видеть, как перед незнакомыми девчонками, не их капеллы, не из их круга, они робели, придурялись и не знали даже, как подступиться.
Перед многими из них была еще какая-то черта, словно флажок на волне: к нему подплываешь, а дальше — глубина, плыть нельзя, опасно, и ты возвращаешься назад.
И эти девчонки, вольные на язык, с сигаретками во рту, с оголившимися коленками, потягивающие винцо и усмехающиеся, такие доступные, протяни только руку, были недоступными, недосягаемыми, если по правде… Так, только до флажка.
Впрочем, попадались и совершенно другие. Он называл их «кружковские», потому что они посещали разного рода кружки самодеятельности, студии и прочее. Вот они были без вина и сигарет, простые на вид, но на самом деле разобраться трудно, не давали списывать и обожали диспуты о смысле жизни, о дружбе, любви, товариществе. Их он уважал, но к ним его не тянуло.
Всякие бывали. И во множестве…
А Дашка была одна.
…Все ходил после уроков по ее трассе, конечно, не у самого дома, а там, где, по его представлениям, она должна была идти из своей школы.
Он и не знал толком, где ее школа. Неподалеку от ее дома было две школы, но он ходил взад и вперед в надежде встретить ее. Ему даже не хотелось разговаривать с ней. А просто увидеть. Может, разговаривать как раз и не хотелось.
Кого только здесь он не встречал. Тех, кого года два не видел, каких-то полузнакомых ребят из других районов. Только не ее.
А встретил совсем в другом месте. В магазине «Москва», где торчал на первом этаже у секции сувениров и значков. Существовало такое увлечение: страсть к большим круглым, как блямбы у довоенных дворников, значкам.
Вот тут-то и увидел он Дашку с мамой. Мама что-то выговаривала ей, и было непривычно и интересно видеть Дашку не самостоятельной, независимой, а дочкой, девчонкой, молчаливо-покорно выслушивающей то, что ей говорят старшие. Она была почти такая же, как тогда в лагере.
В самую свою первую смену.
Впрочем, несмотря на внешнюю ее покорность, глаза ее плутовски блестели, вовсе не безразличные к скромным соблазнам первого этажа; они так и шныряли по лоткам с мороженым, по стендам со значками и даже, может быть, по нарядным коробочкам парфюмерного киоска. Так и столкнулся ее потупленно-оживленный взор с его сдержанно-обрадованным. «Сделает вид, что не видит, не узнала», — подумал Игорь.
Однако не сделала, узнала. Улыбнулась. Даже подчеркнуто улыбнулась, как ни в чем не бывало.
Натыкаясь на покупателей, на всем пути от секции значков до секции электротоваров он думал о странностях людей и о превратностях жизни. О том, как все меняется в людях: вот тебе так плохо, что ты, как говорится, сам себе не родной, но вот один маленький поворот, и ты летишь, как пишут поэты, на крыльях. Летишь на стальных крыльях, небольших, невесомых, задеваешь людей, взлетаешь вверх и паришь, напевая. Ведь как давно известно: именно песня нам строить и жить помогает.
Затем, уже спустя несколько дней, он вновь прогуливался по улицам, соединяющим ее дом с одной из тех школ, где она могла учиться, и вновь он никак не мог ее встретить, Он достал номер ее телефона, несколько раз набирал его и, едва только возникал первый гудок, вешал трубку. Наконец снова набрал и выдержал все басовитые, равномерно сменяющие друг друга гудки, услышал чей-то голос — там, на другом конце, — и своим, а точнее полусвоим, севшим от волнения и не по возрасту тоненьким голосом попросил позвать ее. Ему ответили строго, вопросом на вопрос. Это была ее мать:
— А кто спрашивает?
Он растерялся. Действительно, кто?
— Знакомый.
Женский голос назидательно спросил:
— А имя у знакомого есть?
— Нету, — почему-то с дерзостью и даже злостью сказал он и брякнул трубку.
V
— Давай зайдем к деду? — как бы спрашивая, но уже решив, говорит ему отец.
— Можно, — соглашается Игорь.
— Ты ведь столько уже не был у деда.
— Давно.
— Что, очень занят, не можешь деда навестить?
— А я собирался.
— Собирался — не в счет… Так, знаешь ли, прособираешься…
И они идут к деду, в отчий дом. Отец звонит, как всегда, два раза по привычке старой коммунальной квартиры, привычке, ставшей традицией. Два звонка — значит, это кто-то из своих пожаловал в отчий дом. И, как всегда, на пороге их встречает бабушка. Но не совсем бабушка, и. о., что ли, бабушки, да и слово это так удивительно к ней не подходит, несмотря на преклонность ее возраста.
Чем реже встречи, тем острей видишь изменения, они незначительны: чуть более морщинисто и сухо обтянула гладкая еще кожа узкие скулы правильного, чуть постного, иконописного лица, выражающего сейчас улыбку, гостеприимство и радушие.
— Давненько, давненько тебя не было, Игорь. Да и ты, Сережа, редкий гость у нас. Да проходите, проходите же.
Но отец, который снова, с того момента, как рука два раза нажала кнопку звонка, с той секунды, что переступил порог этого дома, ставший тем, кем он был всегда «сыном» и еще кем-то другим, чем он никогда и не назывался, ибо это было не в обычаях их дома, «пасынком», что ли, он, новый, как всегда, видит и угадывает в коричневых, чуть запавших глазах некий сигнал предупреждения, который уже вспыхнул, уже разгорается, — светофор запрета, и он мысленно слышит фразу, которая будет произнесена через секунду, словно бы записанная на невидимую магнитофонную пленку, фразу, все оттенки которой, а иногда и варианты знакомы ему так же, как эта вешалка, как это запылившееся трюмо, отражающее его с е г о сыном, отражающее улыбку, которую ему никогда не удастся изменить, — кисловатую улыбку радостной встречи.
«Андрей Сергеевич как раз сейчас спит».
Именно так: не отец, ни тем более папа, не дедушка и дед, на худой конец, а Андрей Сергеевич. И даже если из другого города, после долгого ожидания, по междугородному телефону, — все равно «Андрей Сергеевич как раз сейчас…»
Общество охраны…
Сейчас эта фраза прозвучала в одном из широко употребляемых ее вариантов:
— Андрей Сергеевич сейчас работает… Вы немножко посидите в другой комнате. Есть хотите?.. Сейчас я что-нибудь…
Она ведет их в другую комнату, и он знает, он готов к этому. Конечно, они подождут, они ведь не командировочные. Они у себя в городе, в отчем доме, куда им торопиться… Пусть отец поработает, если ему работается, а он согласен на все, и тут, как известно, в этом пункте они сходятся, это их единственный общий пункт: лишь бы ему было хорошо.
Но так же точно он знает, что этот номер не пройдет, что никаких других комнат, никаких ожиданий, что старик не позволит себя водить за нос, даже если он действительно работает сейчас.
— Тоня, — слышит он хрипловатый и быстрый голос, — это ко мне?
Старик спрашивает, и в тишине, в той своей далекой, изолированной от всех приходящих, мешающих комнате, в своем кабинете с рассохшимися полками, покрытыми трещинами и морщинами, ждет ответа.
— Да, — смиренно отвечает она. — Сиди работай. Тебя подождут. Никто ведь никуда не спешит.
— Тоня, а кто это? — спрашивает он. Он ждет.
Но Сергей абсолютно и точно понимает, что он уже понял и знает, кто это.
— Это Сергей и Игорек.
Вот так. И так всегда. Всегда он спрашивает, ждет ответа и знает его наперед. И, верно, оттого никогда не ошибается, что именно и х ждет. Ждет всегда.
— Ну что ты их там маринуешь? — с еле скрываемым волнением говорит он. — А ну-ка, ребятки…
Он выходит им навстречу, обнимает сначала внука, потом сына. И сын чувствует шелестящее легкое прикосновение гладких, тщательно выбритых его щек, знакомый с давних, бессознательных еще, времен запах его кожи со слабым духом неизменного вечного одеколона «Эллада».
— Здравствуй, фундатор, — говорит он отцу.
Откуда уж пошло в их обиходе это дурацкое слово, надутое и похожее чем-то на павлина, вычитанное, возможно, из Геродота? Но тем не менее оно существовало и употреблялось в отдельные минуты, когда следовало обходиться без сантиментов.
— А с тобой, такой-сякой, внук бессовестный, я вообще не вожусь. Садись вон туда… И не подходи.
Игорь начинает что-то объяснять про уроки, про задания, дед все еще делает вид, что сердится, но его хватает ненадолго, и вот он уже сидит рядом с ним и обнюхивает его, как лев-отец своего львенка. Это тоже было когда-то в обиходе. В те времена, когда Игорю было года три и считалось, что он львенок, скорее даже не из зоопарка, в котором он ни разу не был, а из Брема, именно из картинок Брема, которые он любил подолгу рассматривать. И, конечно же, начиналась возня с кормлением, его уговаривали, он отказывался, и у него были свои доводы: зачем каша, зачем молоко, ведь он не коза какая-нибудь, а львенок, а львята не едят такого.
Ему объясняли, что всякое бывает, что когда у львенка еще нет зубов, он тоже лижет языком бог знает что, всякую муть, наподобие этой каши. Это были короткие годы общего житья, годы с е м ь и, того, чего у него самого никогда не было, а у его сына все-таки было, житья с дедом, с и. о. бабки, со зверьми, сказками, кличками, с тем, что старый, косматый, но еще добычливый лев обнюхивает львенка.
Старик действительно работал.
На столе стояла старая машинка «Ремингтон», на которой он любил работать больше, чем на новой «Эрике». Она тоже стояла здесь с незапамятных времен, к ней когда-то Сергея не подпускала Антонина, оберегавшая не только здоровье деда, а и следившая не менее тщательно за сохранностью его вещей.
Но были некие вещи, которые существовали еще задолго до ее появления в их доме, как бы с самого основания жизни: пепельница с королевским вензелем, зеленая, в серебре бутылка от шустовского коньяка, железная копилка в память о сборе на голод тысяча девятьсот какого-то года, старый трехстворчатый шкаф, таивший когда-то столько неведомого, прочитанного, полузапретного.
И вот эта твердая карточка с белой надписью «Чита, 1898 год, фотоателье Кулевича», с лицом скуластого, неподвижно глядящего в объектив человека, стриженного ежиком, в белой косоворотке.
Так и глядел этот человек-дед — в его детство и юность со стены. Подобранный, чуть напряженный, будто не вспышки магния ждал от фотоаппарата, а выстрела, безусый, но с бородой, немного похожий на священника, черные бусинки сверкали в его глазах вместо зрачков. В то время даже у самых опытных фотографов зрачки не получались.
Игорь всегда подходил к этой карточке и подолгу глядел на нее точно так же, как и он сам в детстве.
Она была из другого мира и потому загадочна, и вообще было странно, что уже тогда, в том мире, существовала фотография.
Для Игоря он был прадед, видение, миф, далекий, как Древняя Греция.
Но зато о нем говорилось много, подробно и даже не только говорилось, но и писалось, даже приходил художник и делал с этой фотографии портрет для Дальневосточного музея. И отыскивались воспоминания о нем в старых каких-то книгах. Нашли фотографию в журнале «Каторга и ссылка» Общества политкаторжан. Он сидел в Александровском централе, в Иркутске.
На Дальний Восток он вернулся снова после революции, входил в правительство ДВР — Дальневосточной республики, боролся с теми, кто хотел ее отторжения от России, от революции. В конце 20-х годов дед переехал в Москву, бабка, Мария Ивановна, была москвичка, и жили они вначале в ее комнатке в Замоскворечье.
Дед входил в Общество политкаторжан и ссыльных переселенцев.
Да и дом тот, в котором Сергей родился, тоже назывался «домом политкаторжан».
И все перемешалось: реальные воспоминания о нем и то, что было рассказано потом, какие-то случайно сохранившиеся его книги, рождавшие в свое время множество вопросов, и судьба бабушки, так сплетенная с его судьбой, твердая, как пластинка, фотография на стене и высокий человек почему-то в белом медицинском халате (почему так, ведь он не медик) — дед, деда кормит его, больного, с ложечки, и какой-то далекий разговор: «Где деда?» — «Деда в Англии. Он работает там по поручению правительства».
Это уже позже «по поручению правительства», а сначала какое-то празднество, демонстрация и флаги, дедушка, нарядный и сравнительно молодой, куда-то быстро идет, и отец, мать, все тут, рядом, и о н с ними.
Потом Покровка, красные шары, песни, «Марсельеза», конники в шлемах и бурках, точь-в-точь как силуэт Казбека на папиросной коробке, милиционеры в белом и тоже в шлемах, и трепет какой-то в толпе, ожидание кого-то, портреты, такое знакомое не то чтобы с детства, с младенчества, лицо человека на этих портретах, человека с открытым пристально-строгим лицом, с густыми чистыми усами, сотни таких портретов плывут, плывут по Покровке и дальше к центру, Красной площади. Давний громкий праздник, карнавал красных флагов, флажков, полотнищ, повязок, лент, красных шаров, кроваво-красный отблеск кумача, мощный дробный стук копыт, революционные всадники на крупных сытых конях, в шлемах, как солдаты Цезаря, и в бурках, чапаевские, буденновские, пархоменковские всадники плывут над толпой, и стелются темным дымом бурки, крылья, вперед и вперед, неумолимый и мерный дробот копыт по булыжной мостовой, и сердце сжимается в предчувствии боя и грозы.
— Смотри, деда. Ты видишь, деда? Ты тоже так скакал когда-то?
— Нет, — говорит он. — Я-то не скакал никогда.
Голос у него тихий и лицо бледное от грохота и жары. Он только кажется молодым. На самом деле он очень стар.
А дальше еще несколько раз в жизни мелькнуло лицо его, прежде чем стать только лишь этой фотографией с черными, застывшими бусинками глаз.
Что он говорил тогда? Вспомнить невозможно. Те слова, которые будешь потом отыскивать, припоминать, отделять, тают в море других — чужих, примелькавшихся, лишних, ненужных.
Что же он говорил тогда?
Да ничего и не говорил. Варил кашу, кормил внука, смотрел чуть раскосыми своими глазами сквозь толстые стекла без ободков.
VI
— Ну, что будем делать, бурсаки? — говорит отец. — Обедать будем! Тоня, накрывай на всю честную компанию.
В ответ ее голос, любезный, но с оттенком ворчливости:
— Само же не готовится. Сергею следовало позвонить утром, предупредить, я бы заранее все приготовила…
— Да что там утром, вечером… Подумаешь, Версаль! Навари побольше картошки… Нам разносолов не надо. Нам пивка бы холодного да селедочки…
Пивка ему нельзя. Селедочки тоже… Многого ему нельзя. Пожалуй, сосчитаешь по пальцам, что ему можно. Два месяца назад его привезли из больницы. Уже то, что он сидит за рукописью и на столе разбросаны тоненькие брошюрки, оттиски научных статей, — это прекрасная, лучшая картина, какую можно было увидеть.
Вот об этом и мечтал Сергей два месяца назад, именно об этом, сидя на голой, судейской какой-то скамье под матовым плафоном с черными пятнышками навсегда замерших в его конусе бабочек, светящемся в бесконечном темном коридоре приемного покоя. А перед тем врач приемного покоя подсунул бумажку, которую надо было подписать и от которой Антонина, побледнев, отстранилась, а он прочитал тускло отпечатанную фразу о том, что «жена (сын, мать) согласны на операцию» и в случае, если… не будут предъявлять никаких претензий.
Так и сидели с Антониной, почти не двигаясь, не разговаривая, два часа. Но не выдержал и долгим, как бы в никуда ведущим коридором подбежал к комнате с мерцающей надписью «Операционная», чуть приоткрыл первую дверь и в раскрытую вторую увидел белые спины, в ярком, как бы сгущенном свете же мелькнуло удивленно-рассерженное лицо сестры: «Куда вы?! Запрещается… Операция!»
Он отпрянул, но еще секунду стоял и смотрел в щелочку от неплотно закрытой двери, увидел, что сердитая сестра улыбается кому-то, чему-то — шутке невидимого ему хирурга или еще чему-то, самое главное, что улыбается; значит, еще не так… значит, еще… Потом в каталке его везли в коридор; мест в палате не было, и первую ночь он пролежал в коридоре. Когда везли, видел запрокинутое маленькое серое лицо с обострившимися чертами. Отводя от него глаза, молил неизвестно кого, может быть, господа: «Ну сделай что-нибудь! Ну сделай!» И, вглядываясь в неподвижное и как бы навсегда отчужденное от него и от всех лицо, обращался уже не к господу, а к нему самому, потому что, может быть, в него самого верил больше. «Ну посмотри хоть, ну посмотри!..»
И услышал. Посмотрел. Тяжело двинулось веко, и взгляд, потусторонний, замутненный, но все же живой, блеснул, веко дрогнуло и закрылось. Каталку снова повезли и где-то в углу коридора остановили.
В эти дни, когда перестали пускать в палату из-за карантина, звонил чуть ли не ежечасно и вялым голосом спрашивал: «Как состояние больного Ковалевского?», и, обмирая, ждал ответа. Отвечали монотонно: «Состояние тяжелое», и по голосу, по оттенку пытался понять, что это: не хуже ли, чем было?
Но голос был без оттенков, точно записанный на магнитофонную ленту.
Антонина оставалась в больнице круглосуточно. Ей разрешили, несмотря на карантин. Ему иногда удавалось правдами и неправдами проходить на первый этаж все в тот же приемный покой, и она иногда спускалась на секундочку и говорила тихим, без выражения голосом: «Все так же».
Он спрашивал с надеждой: «Но все-таки? Чуть лучше?»
Она отвечала почему-то всегда после паузы, точно взвешивая каждое слово: «Нет. Все так же».
Однажды, когда звонил утром, голос, всегда повторявший, как заведенный, «состояние тяжелое», несколько изменил форму ответа: «Состояние средней тяжести».
И он бежал по скользкой и мокрой земле больничного осеннего парка, задыхаясь от надежды. И снова и снова спрашивал у каких-то людей в белых халатах, деловито сновавших из корпуса в корпус, без удивления смотревших на него: «Скажите, средней тяжести — это ведь лучше, чем просто тяжелое!» — «Конечно, лучше. Тяжелое… это совсем другое».
И снова звонил, и телефонные ответы повторяли друг друга до того счастливого дня, когда голос произнес впервые: «Состояние удовлетворительное». И тут же, успокоившись, он уже гораздо реже стал бывать в больнице.
Однажды гуляли с отцом по больничному парку. Отец сказал:
«Разве только тогда человек человеку нужен, когда кому-то плохо?»
А Сергей подумал: «А разве сейчас хорошо?» Почти кощунственно звучало это слово, безликое слово «хорошо», столь несовместимое с умалившимся лицом, тронутым рябью старческой гречки, с легонькой, непрочной фигурой, в слишком свободном, будто на вырост сшитом пальто, длинном, как шинель. И все-таки отец шел. Шел сам, чуть опираясь на руку сына, осторожно щупая ногой пространство впереди себя, как бы еще не разминированное со времен войны, скользкое, тронутое жиденькой корочкой первых заморозков, просторный больничный двор, переходящий, в реденький лесок московского парка.
И вспомнилась другая больница, в Казани, инфекционное отделение, сорок второй год. В кабине грузовика его, Сергея, везли в больницу. Бабушка прижимала его к себе, успокаивала, заговаривала зубы, словно бы ворожила, и он затих и пригрелся, но остановка была тем более пугающе резкой.
А в тусклом, пахнущем хлоркой коридоре уже угадывались подвох и расставание.
Задавливая нарастающий плач, кривясь, мальчик смотрел на бабушку, на испуганное белое ее лицо и слышал, как она повторяла все время номер палаты: «Сорок шестая, сорок шестая, — и спрашивала у неразговорчивой сестры: — Уж не брюшной ли, господи?»
А он в это время думал о своем Чапаеве.
Чапаев был подарен отцом еще в Москве, до эвакуации, на день рождения, новенький оловянный Чапаев с развевающейся черной буркой, с желтой шашкой в руке, на вороном коне. Всех других солдатиков, разных времен и народов, пришлось бросить, оставить в Москве, а этого взял, всегда и всюду таскал с собою, и сейчас, когда повезли в больницу, положил его в карман куртки.
Не догадывался он, что все вещи возьмут на дезинфекцию, не знал, что есть такая дезинфекция, никогда не слышал этого длинного, резкого неприятного слова. Забрали все. И куртку и ботинки. И вытаскивали все из карманов, забрали, конечно, и Чапаева, подаренного отцом.
Уплыло лицо бабушки. Узкая, человек на сорок, палата; то вспыхивающая, то притупленная, но более глубокая боль в животе, рвота ничем, сухостью, горечью, и все не так, как дома: там если уж случается, то рука бабушки или отца на затылке. Здесь — один. И еще тридцать девять ребят и чей-то непрерывный воющий крик: «Мама, мама!» — и коренастый парнишка Сабур, приподнимавшийся на постели, достававший перочинный ножик, неизвестно как пронесенный, и гортанно приговаривавший: «Кто много кричит — тому ухо режут».
Химический вкус больших, застревающих в горле таблеток, вязкий сон, синий цвет палаты и снова боль в животе, рвущая внутренности, позывы, а сам уже пустой, ничего будто не осталось в теле, ни капельки влаги, пустой живот и грудь.
Ночью появилось что-то другое, новое, не просто страх, детский животный, а взрослое и определенное ощущение конца, смерти… Тогда он стал звать отца.
И отец появился.
Да, это был отец в белом халате. Откуда он взялся здесь? Как он мог попасть сюда? Ведь он ушел в ополчение. Но это был он и стоял над кроватью, поправляя подушки и тихо повторяя: «Все пройдет, сынок… Еще немного потерпеть, и все пройдет. Будет хорошо. Слышишь, сынок?»
Глаза закрывались… Когда открыл их, отца уже не было. Никого не было рядом. А в сильном, режущем свете мальчика везли куда-то длинным, как тоннель, коридором, везли или несли, он не знал, только чувствовал мерное, убаюкивающее движение.
Потом наступило утро, скудный утренний свет, просачивавшийся сквозь приоткрытые шторы светомаскировки.
Через месяц его везли из больницы, но он долго еще не мог ходить, и бабушка, продав последние отцовские вещи и книги, покупала ему молоко.
«А как это папа пришел? Как он смог приехать?» — спросил он у бабушки.
«Папа? — удивилась она. — Папа и не приезжал. Ты же знаешь, где он».
«Да как же это так?.. В ту самую первую ночь, когда меня только взяли, мне было совсем плохо. Он пришел. И еще он сказал, это я точно помню: «Сынок, все пройдет». Это был ведь его голос. Разве я мог спутать?»
«Пройдет, сынок», сколько раз потом он повторял эту фразу в минуту тяжести или в тот миг, когда надо было взять барьер и не было решимости и силы для прыжка, когда напряжение не собирало его, а, наоборот, расслабляло, наполняло вялостью и неуверенностью.
«Сделай усилие, рванись, и все останется позади, пройдет, сынок, пройдет».
Проходило.
И перед защитой диссертации было время вот такой пустоты, малодушия, когда сроки из успокаивающей, еле различимой дали вдруг с нарастающей скоростью приближались, придвигались жестко, беспощадно. И беда была не в том, что не сделано — сделано было уже много, — беда была в невозможности сделать все перед чертой, перед конкретностью срока, перед календарем, в который неприятно было заглядывать: черные цифры разбегались под его взглядом, как тараканы. И вот тогда, уже почти чувствуя во рту карболовый вкус поражения, он сжимался, готовясь к прыжку, сжимался и расслаблялся, гоня прочь вязкую неуверенность, обретая второе дыхание. И возникало ощущение радости от борьбы и предвкушения победы. Вот это и было счастье — сознание своих скрытых возможностей, радость преодоления, вера в победу. Это как в плавании, при далеком заплыве, вдруг возникает отрезок неуверенности, боязни распахнувшегося сзади тебя пространства, закрывшего берег.
«Человек должен верить в победу», — говорил ему когда-то отец.
Фраза эта, на первый взгляд громкая и слишком общая, все же понравилась ему в детстве. И он всегда старался верить в свою победу. Только потом стал задумываться. В какую победу? Над кем? Скорее всего, над собой. Может быть, и так.
А верил ли отец в свою победу? Очевидно, верил. А одержал ли?
Впрочем, победа была, и она была судьбой. Она была в тех пластах жизни, в тех ее глубинах, что посторонний взгляд не увидит, не поймет, в тех болотах лишь сам человек знает, как ему выкарабкаться, как выйти. Как выдержать, а значит, победить.
И в том подмосковном военном лесу, в ополченском полку, окруженном рассеянным огнем, — что было там? Какая там победа виделась? Отогреться, выбраться, выжить или над этим, собственным, над страхом и ожиданием еще что-то другое, большее, общее проглядывало?
Отец мог говорить готовыми формулировками абстрактно, вроде веры в победу… Но в конкретных своих рассказах, воспоминаниях (а вспоминал он крайне редко) он всегда говорил о частностях. Так и остались в памяти какие-то детали, осколки, обрывки его рассказов. Например, случай с молоденьким немцем.
Уже почти выйдя из окружения, минуя немецкие позиции, отец напоролся на молоденького немца. Молоденький немец был занят мирным занятием. Присел себе на корточки по нужде. Так и сидел этот немчик в снегу, сначала с румяным, потом с белым, без всякой окраски лицом. А отец вдруг подумал: «Стрелять или нет? Как же стрелять в такого?»
— И выстрелил? — зная наперед ответ, но всегда с интересом спрашивал Сергей.
— Выстрелил, конечно. Так и завалился лапками назад, как лягушонок. — И отец пояснял: — Но это с е й ч а с, как лягушонок, а тогда совсем не так виделось, тогда он мне каракатицей скрюченной показался или пауком в снегу, и никакого другого образа не было, и никакого другого разговора быть не могло. И никаких оттенков не могло быть, а был только один, общий образ, который возникал сразу же, бессознательно.
— Кого же?
— Врага.
— Тебе не жаль его… теперь?
— Абстрактно да. Но это определить невозможно. Психология меняется на протяжении лет. Уходят из сознания ярость и ненависть. Остается память о ярости и ненависти.
И всегда, в который раз, он ловил себя на одном и том же удивлении. Было странно, что его старик стрелял и убивал, что он вообще держал автомат, штатский его старик…
А ведь стрелял, и неплохо. И авантюризм какой-то в нем был, необходимый для того, чтобы выжить. И какая живучесть, непотопляемость, если вдуматься.
Те болота, смерть матери и то, что было в пятидесятых годах…
Вера в победу. Наверное, это.
«Воспитай это в себе». Разве это воспитаешь в с е б е? В т е б е это воспитывает время.
И в нем, Сергее, очевидно это было, хотя и ослабевал на дистанции, но все-таки бежал резво и с верой, иногда терял ее, но потом вновь ловил на лету, как клич далекого тренера с трибун, и марафон жизни продолжался, ибо как же без нее, без веры в победу?
Только бег был по другой, менее пересеченной, чем у отца, местности.
Отец тоже как-то признавался ему, что не очень представляет своего сына в экспедиции, во главе партии, командующим кем-то или чем-то, организующим кого-то или что-то.
Может быть, они не знали друг друга.
Знали, очевидно, но не до конца. А можно ли знать до конца даже самого близкого тебе, если и себя-то до конца не знаешь?
И сына своего, который на глазах начал ходить и говорить, и ходил твоей походкой, и повторял твои слова, и был вначале как бы твоей игрушкой, а потом твоим слепком и глухим воспоминанием о тебе самом, далеком, несуществующем, сына своего — знаешь ли ты?
Сергей любил наблюдать за сыном именно тогда, когда сын чем-то своим занят и не замечает его. Не подсматривать, конечно, а наблюдать. Вот он стоит с мальчишками во дворе, о чем-то рассуждает, что-то объясняет, на чем-то настаивает. И какой он разный! Вот перед ним долговязый парень. Сергей его часто здесь видит: бледный, длиннорукий, с вечным сивушным духом изо рта, стрижен ежиком, будто уже принят в местах не столь отдаленных. И с ним Игорь тоже блатноват, развязен, что-то неторопливо цедит, хмыкает, показывает каждым жестом: я тоже тебе не такой уж лопух, не такой уж фраерок, как ты думаешь. Или с Ленькой, своим одноклассником, маленьким, худеньким парнишкой, который, говорят, необыкновенно талантливо рисует. С ним он и стоит даже по-другому. Тут он как у себя дома, такой, как есть. И разговор доверительный, со взрослым, каким-то раздумчивым выражением лица, с размышляющими жестами. О чем это они?
— О чем это вы с Ленькой?
— Да так, об анархистах. И еще о Че Геваре.
А ты сам о чем?.. Тогда, давно. О чем ты говорил с Юлькой, лучшим своим другом, разбившимся на мотоцикле и чуть не погубившим тебя? О чем вы тогда говорили с ним перед этим, если бы вспомнить.
— И что же Че Гевара?
И мальчик что-то говорит в ответ, а он вспоминает свое о Че Геваре, как он безропотно пристрелил лошадь, когда надо было уходить от врагов, он герой, но он уже не твой герой, ты уже пережил в своем детстве таких героев… Да, ведь и сам ты как стоял и был разным, и с Юлькой был одним, а с Валькой Рюминым, розовощеким и вечно улыбающимся, другим. Валька Рюмин еще не знает своей судьбы, еще не знает, что он угодит в колонию, что погибнет его отец, и смеется, смеется взахлеб. Был еще один друг — Олег Кащеев, самостоятельный, независимый, докторально мыслящий.
О машинах говорили редко, машины их мало волновали. О женщинах вообще не говорили. Думали, но не говорили. Только немецкие открыточки переснятые рассматривали с жадностью, сердцебиением. Но не говорили никогда. Не тема и не предмет для разговоров.
А говорили о спорте и о политике. Олег раздобывал стенограммы съездов партии, и они читали, читали, как роман: речи, дебаты, полемику, заявления, списки делегатов с решающим или совещательным голосом. Среди них были и те, чьи фамилии сейчас не произносились, и лишь потом он услышит о них… Тогда он станет студентом археологического, а Олег будет учиться в Ленинграде, в Высшем мореходном.
И все это волновало, пугало и притягивало, и некий образ необъяснимо возникал и отражался в венецианских зеркальных окнах старого дома немецкой компании в Машковом переулке. В осколках этих окон, уцелевших от воздушных волн времени, в красном и черном дыме отделялся от кирпичной потрескавшейся стены маленький, постепенно вырастающий, пригнувшийся к коню всадник в черной папахе, в черной бурке; он появлялся на миг во весь рост и снова уменьшался и исчезал, Всадник Революции. Куда он скакал? За кем гнался? Какая пуля и где сразила его?
VII
— Значит, ты молодцом, дедушка, — бойко говорил Игорь. — Ты и работаешь и выглядишь неплохо, дедушка.
— Правда, правда, — говорил дед. — Работать только трудно, — отвечал, не замечая дежурно-приветливых интонаций в голосе внука, которые Сергей чувствовал: это было ее, матери, любезно-бодрое, одновременно приподнятое и незаинтересованное.
Сергей с холодком посмотрел на сына. Тот понял и молча подошел к деду, дотронулся до его руки, и, должно быть, ток единой крови, привычное сызмальства тепло маленькой сухой руки деда взяли мальчика, и он стоял теперь, по-щенячьи преданно глядя на старика, сам похожий на него формой головы, прямизной плеч.
Он огляделся. В комнате, когда-то очень большой и с каждым приходом становившейся все меньше и меньше, стояли позабытые и вместе с тем испокон века знакомые книги с непонятными названиями, чужие уму и интересу, с ничего не говорящими фамилиями авторов; например, Бунак, Нестурх, Рогинский. Читалось это как одна фамилия, некий восточный «Бунак Нестурх Рогинский», книга же была с таблицами, диаграммами, с мелкими надписями на иностранном незнакомом языке под таблицами. Иногда, впрочем, среди безрадостных и огромных этих книг попадались и другие, непристойно-чудны́е, со сросшимися близнецами, с неким Альма де Парадедой, мужчиной, бывшим одновременно и женщиной, странные, уродливые люди, глаза которых по-пиратски были закрыты маской, чтобы их никто не узнал, зловещие люди, которые и смешили и пугали его… Уж только потом он понял, что это уникумы, биологические исключения. А одну из книжек написал его отец. Она так и называлась: «Наука об уродствах».
Отец любил рассказывать об этих своих чудаках. Однажды даже на каком-то вечере выступил в школе и рассказал о происхождении видов, Чарльзе Дарвине, о его путешествии на корабле «Бигль», об обезьяньем процессе, о клетках, генах, хромосомах. Понятное сочеталось с непонятным, живое и реальное — с неживым, фантастическим. Гены существовали как звонкая частица из детской считалки, а хромосомы виделись извивающимися червяками.
Классная руководительница Ия Николаевна была довольна.
— Надо изучать жизнь, биологию, природу родного края, — повторяла она. И хотя лекция была о природе вообще, все равно она радовалась тому, что неразумные эти лбы старшеклассники, готовые часами гонять комок тряпок, заменявший футбольный мяч, и крикливые младшеклассники, проводившие свое свободное время еще более бездарно, вдруг глянули в бесконечные глубины познания. Впрочем, зажмурившись от блестящего света этих прозрачных глубин, они тут же помчались домой с гиканьем, посвистом, клокочущими горловыми звуками, заимствованными из широко популярного тогда кинофильма «Тарзан», многосерийного, трофейного, любимого всеми, взрослыми и детьми.
Вскоре в доме наступило необыкновенное напряжение, и все время звучало слово «сессия».
Так и осталось на всю жизнь чем-то грозным и непонятным до конца это слово. Это была не студенческая экзаменационная сессия, а научная и важная для всех: и для народа, и для науки, и, конечно же, для отца.
Он готовился к ней с каким-то необъяснимым азартом, исписывал мелким своим почерком, где слова лепились одно к другому, как икринки, блокнотные узкие листочки, а ночью жестко стучал «Ремингтон», положенный на подушки, и стук этот шел очередями, будто отец отстреливался от кого-то.
Бледный, собранный, в светлой рубашке и галстуке, отправился он на эту сессию под названием «Сессия ВАСХНИЛ».
Пришел он поздно, измятый, будто был в какой толчее, на щеках за долгий этот день выросла щетина, и казалось, что не с заседания он вернулся, а из дальней какой-то командировки. С ним был его приятель, коллега, и, когда Сергей уже лег, они сели за обеденный стол, прикрыли настольную лампу газетой и начали выпивать, что случалось с отцом редко.
Друг то ли напился быстро, то ли был чем-то огорчен, но стал говорить что-то неразборчивое, болезненное, однообразное, будто бы он молитву какую-нибудь читал. А отец все время успокаивал его, хотя Сергей чувствовал: отец тоже сильно взволнован.
Все время почему-то возникало слово «разгромить» и еще часто повторялась фамилия «Лысенко».
Фамилия эта давно витала в их доме, произносилась с неодобрением и не обещала ничего хорошего.
А через несколько дней, когда отца не было дома, он развернул вдруг газету и увидел свою фамилию, в окружении других фамилий, как-то мрачно, жирно выделенных. Он пробежал бегло все другие и остановился на фамилии отца, будто видел ее впервые.
Об отце был целый абзац, именно о нем в отдельности. И он читал этот абзац с ни с чем не сравнимым любопытством, неясным страхом и каким-то подобием гордости: в газете, на весь Союз, — их фамилия… Что там говорилось, было непонятно, только часто мелькали следующие словосочетания: «реакционное учение…», «вред науке», «лженаучные…», «генетики», «Лысенко…» Они тормозили науку и вредили ей. И среди них, морганистов, был отец. В самом этом сочетании непонятных и незнакомых названий чудилось что-то враждебное, не наше, как бы даже шпионское, и крылась какая-то неведомая, непоправимая ошибка в том, что там был отец. Для кого-то он был «лжеученым», «морганистом», еще кем-то, но ведь они его не знали, как знал сын, и потому могли ошибаться. И тут же хотелось доказать, что они ошиблись, что они неправы, что то, что его фамилия напечатана с другими, — какая-то глупая и нелепая случайность.
На следующий день в школе он был как бы героем дня. Все подходили и спрашивали: «Что же это?» Другие говорили с мрачным удивлением: «Ну дает твой отец», а учительница Ия Николаевна оставила его после урока на минуточку и спросила со страхом и каким-то детским изумлением:
— Как же это так? Ведь он вроде так все правильно и хорошо говорил… Может, ошибка какая?
— Конечно, — с напускной легкостью и небрежностью сказал он. — Ничего, скоро разберутся. Отец… он ведь… — И вдруг муторная слабость стала овладевать им, и дальше говорить он не смог.
Ия Николаевна сказала ему:
— Хочешь, я освобожу тебя от уроков? Иди домой.
В первый момент он обрадовался, но потом представилась вдруг пустота дома, ожидание отца, новизна и непонятность положения, газета, валяющаяся на диване, которую, конечно, можно скомкать и сжечь, но останутся еще сотни тысяч других, где написано то же самое.
И он ответил:
— Нет, останусь на уроке.
Остался, и все шло, как и было, а точнее, как будто ничего и не было.
Уже на следующий день и дальше и позже Ия Николаевна подходила к нему и, как ему казалось, смотрела со скрытым неодобрением, будто он в чем-то обманул ее.
Вскоре, правда, все это как бы улетучилось, он привык к этому и старался вообще об этом не думать.
Все было так же, как всегда.
По воскресеньям они вместе с отцом ходили на футбол на стадион «Динамо». Это издавна повелось: в воскресенье на футбол, даже если дождь, с зонтиками, газетами и плащами. Ходили и на хоккей; тогда играли не в закрытом помещении, а под восточной трибуной стадиона «Динамо», на залитой льдом площадке. Хоккей с шайбой, не был еще так популярен, и было еще неизвестно, чем лучше он раскатистого и похожего на футбол хоккея с мячом. Все это были игры, игрушки, развлечения, футбол же был п р а з д н и к о м.
После игры они пережидали, когда растечется по многочисленным шлюзам, мимо конных милиционеров толпа и стадион станет пустым, не ареной, вскипающей от страсти, крика, а просто пустым зеленым газоном, окруженным весело окрашенными голубыми трибунами, просторным Петровским парком со скамейками и пустевшими ларьками. Гуляли по Петровскому парку, давя ногами сотни бумажных стаканчиков, валяющихся на вытоптанной жалкой траве.
Домой им обоим идти не хотелось.
О чем они говорили тогда?
Сейчас, в комнате отца, он вдруг стал припоминать их тогдашние разговоры. И что-то клочками всплывало на поверхность. Легче вспоминалось футбольное, бывшее тогда для него самым главным: Трофимов, Бесков, Карцев, наша динамовская пятерка и их везучая ЦДКовская, их Бобров, игрок-оборотень, их научный Виктор Аркадьев и наш хитроумный и простоватый, похожий на удачливого Иванушку-дурачка Якушин и что-то еще в этом роде. Но было еще и другое, что вспоминалось труднее.
Разговоры об ополчении, о друге отца, профессоре со странной фамилией Капусто, который то ли погиб в плену, то ли бежал из плена, разговоры о предвоенных годах, редкие — о матери.
Он помнит только, что никогда не спрашивал отца о газете и о статье, о том, почему отец не работает теперь в своем институте. И еще были долгие вечера, такие странные и холодные, когда не хотелось разговаривать и когда звонок в дверь ударял отца током, лицо его почти сводило от напряжения, и он медленно вставал, как бы раздумывая, открывать или нет, а уж потом только шел по черному тоннельчику коммунального коридора навстречу режущим и настойчивым звонкам. Ничего не случалось. Просто кто-то приходил: лифтерша с газетой, или перепутывали звонки и по ошибке звонили два вместо трех…
С тех пор и осталась у него неприязнь на всю жизнь к резким вечерним или, еще хуже того, ночным звонкам, даже если они на современный лад звучат мелодически, проигрывают нехитрый известный мотив.
Но это были вечера, и почти физически он чувствовал ветер в пустых переулках с невысокими мачтами желтых фонарей, с редкими машинами, с торопливо бегущими под осенним дождем пешеходами.
А днем, когда он сидел над уроками и почитывал параллельно хорошую книгу, иногда к отцу заходили друзья, всегда одни и те же, и спорили и все говорили о каких-то невидимых еще переменах в научном деле: вот того-то собираются восстановить, еще не восстановили, но, кажется, к этому идет, еще один академик, руководитель института, сказал, что больше бить никого не дадим, а то наступит пустота, облысение науки.
Нет, оно не должно наступить.
Отец написал письмо в институт. Все ждал чего-то, каких-то сдвигов, изменений. Один из тех, кому досталось на сессии, будто бы ходил к академику Лысенко и непосредственно разговаривал с ним. И тот будто бы даже был с ним отчасти согласен и говорил, что нельзя так буквально его понимать. И был очень прост и скромен. И ел почему-то селедку с картошкой.
Вот это ему именно и запомнилось, через годы, что ел именно селедку с картошкой, хотя что в этом было особенного? Все любили селедку с картошкой.
Потом отец получил какой-то вызов и поехал в Сибирь, во вновь созданный институт…
VIII
Сели за стол. Это была обычная ее еда. Обычная ее манера готовить: крошечные, будто на цирковых лилипутов, бутербродики, котлетки, еще что-то, такое же маленькое и постное.
Отец все повторял:
— Бери это… Бери то, удалось достать на рынке… (слово «достать» он часто употреблял в смысле «купить» — это, видно, у него осталось с двадцатых годов, с военных и послевоенных лет) это же, кажется, телятина. Ты что так вяло ешь, Игорь?
— Да, да, надо есть, — говорила она.
Она вообще с ними была неразговорчива, и можно было подумать, что она неразговорчива всегда; однако Сергей замечал, что она охотно и даже подолгу могла иногда болтать с лифтершей или с соседкой из квартиры напротив.
— Ну, расскажи, друг, что в школе, как дела? — спросил дед.
Мальчик быстро посмотрел на отца; в глазах его был вопрос: рассказать про прогул или промолчать.
Сергей никак не ответил на этот взгляд, словно пропустив его мимо, давая мальчику простор для выбора.
— Да ничего. А что там может быть?.. Как всегда, — уперев взор долу, вяло бубнил мальчик.
— Ну уж все так монотонно?
— Нормально…
— А двоечек поднахватал?
— Да нет, не особенно.
— А вот у Силиных, — сказала вдруг Антонина, — мальчик занимается фигурным катанием, ходит в изобразительный кружок и табель без единой тройки. Как-то на все хватает времени.
— Да, есть и такие, — без всякой сконфуженности сказал Игорь.
— А я думаю, что это еще ни о чем по говорит, — сказал дед. — Иногда бывает возрастная аритмия: сначала чуть замедленное развитие, инфантильность, затем ускоренное. Иногда интересы проявляются позднее… Академик Шмальгаузен начал заниматься ботаникой только в шестнадцать лет.
«Ох уж этот Шмальгаузен!» — подумал Сергей. Его, Сергея, в его замедленном развитии прикрывал тоже еще не успевший развиться академик. И вообще это была старая песенка, и в его, сергеевские, времена существовал некий легендарный ученик Силин, отличник, кружковец, помощник по дому, отличный пример, живой укор.
— Чай будем пить? — спросила Антонина.
Но Игорю было уже невтерпеж.
— Папа, можно, я пойду во двор ненадолго?
— Ну, если только ненадолго.
Через минуту он был уже во дворе. Он любил дедовский двор. Собственно, это был первый двор в его жизни, двор его раннего детства, когда они жили все вместе с дедом.
Дед подошел к окну и глядел, как он бежит, размахивая руками, что-то крича, в кого-то стреляя и падая от чужих выстрелов. Кем он был в эти мгновения? Какую судьбу выбрал на несколько минут, чтобы потом легко переменить ее на другую, кем чувствовал себя сейчас, свободный от уроков, от житейских будней, от родителей в эти минуты яростного вдохновения: на ветру, на детской зеленой, легкой земле?
…Что Сергей испытывал к этой женщине, жене отца? Ненависть? Боже упаси. Неприязнь? Да нет, пожалуй. Слишком много лет утекло. Когда-то это была обида, не краткая, а каждодневная, ежесекундная, возникающая ни из чего и ничем не кончающаяся; укол от холодного взгляда, от слова, от вечного отчуждения от нее да еще подчеркнутого хлопотами по организации его быта.
Сейчас все это прошло, быльем поросло, и он молился богу, что она есть. Только никогда не мог понять, почему именно о н а. Он знал и других отцовских женщин. Сразу же после возвращения из эвакуации в Москву, когда уже не было матери, он безошибочно научился отличать их от просто знакомых, от сослуживиц и о б ы к н о в е н н ы х приятельниц отца. Несмотря на все их хитрости, он легко их разгадывал: по тому интересу, который они проявляли к нему, по той заботливости, теплоте, почти даже нежности, которую они с самого начала, даже еще не узнав его, начинали проявлять. Ведь он был не просто мальчик, а бабушкин внук, выросший без мамы, одинокое и трогательное существо, посредственно успевающее в школе и с отчасти даже дурным характером, если не «злой мальчик», то, во всяком случае, со злинкой, хотя никакой злинки у него к ним не было, наоборот — некоторые из них ему даже очень нравились. В одну он был даже влюблен. Для них он был, что ли, продолжателем, преемником отца, хотя и гораздо хуже учился, чем отец в его годы, и не расширял так, как отец, кругозор, и не был так, как отец, внуком, сыном, братом, племянником, всем остальным, но все-таки они верили, надеялись и потому проявляли заботу. В те времена отцовских поисков и бабушкиной болезни вовсе не был он заброшен: кормлен и поен был не хуже, а может быть, даже лучше, чем в более поздние времена единоличного правления Антонины.
Да, он относился к ним хорошо. Особенно ему нравилось, что почти все они были красивые. И он всех их любил искренне, легко. И так же легко и искренне их забывал, когда они исчезали.
Почему отец не остановился ни на одной из них, а выбрал именно ее? Понять невозможно. С самого начала было ясно, что она другая, чем они. И не потому, что она не только не делала вида, что любит мальчика, а с самого начала проявляла к нему не особенно даже тщательно скрываемую неприязнь; как ни странно, это не волновало его. Он и не претендовал на то, чтобы она его любила, скорее, ему хотелось, чтобы она ему нравилась, чтобы в ней чувствовалось то, что он не мог объяснить: мягкость, женственность. А ее присутствие автоматически включало в себя какую-то скуку. Она не смотрела на отца так, как те, не говорила ему что-то быстро, непонятно неслышным, но волнующим женским голосом, нет, здесь был другой разговор: отчетливый, понятный и всегда по делу. Надо сделать то-то, не надо делать того-то, надо пойти туда-то, не надо идти туда-то. Все было четко, понятно, задачи ясны, цель поставлена, полы вымыты, работа начата, над землей витал ясный ветер определенности. Наверное, это-то и привлекло отца: ясность, последовательность, немногословие.
Сам он был человек сумбурный, как говорила ему иногда Антонина с легкой, почти нежной укоризной. Единственно, с кем она иногда разговаривала почти с нежностью, был отец.
Некоторое время он жил с ними втроем в одной комнате и, внезапно просыпаясь, снова старался уснуть, как бы цепляясь за ртутью убегающие крупицы сна, старался не слышать и все-таки слышал жесткий, противоестественный скрип постели там, в темноте, и какие-то шелестящие, невнятные слова, что вырывались вдруг из ее горла, столь не похожие на ее размеренно-скупую дневную речь…
— Нужно приобщать мальчика к спорту, — говорила она сейчас, попивая чай.
И он узнавал полузабытую мимику т е х лет, ее те движения — аккуратно и четко, по правилам: немного заварки, затем полная заварка, шаг к буфету, звон чашек, тех, непарадных, белых с зеленым, из которых никогда не напьешься как следует чаю.
— Да, приобщать к спорту, — звучит голос из глубины, из немыслимой дали. — К спорту, пусть нетяжелому, незачем заниматься борьбой или боксом, а фигурное катание — это просто мода, да ему и поздно, какое уж сейчас фигурное катание. Он уже не мальчик, юноша. Но ведь никогда не поздно. Скажем, фехтование, какой мужской спорт, и дисциплинирует, появляется чувство времени. Ведь у него же, наверное, нет чувства времени… Да и у тебя, скажу откровенно, — обращается она к деду, — совершенно не развито чувство времени.
Дед согласно кивает.
— Да и у тебя, Сергей, с чувством времени тоже не очень. Ты, как я помню, постоянно все делаешь в последний день, как студент перед зачетами.
— Да, — соглашается он, — это у нас семейное. Мы все в какой-то мере студенты перед зачетами.
— Между прочим, Игорь ходит на плавание, — вступается дед.
— Но он уже бросил ходить, — замечает Антонина. — Немного походил и бросил… Мне мать говорила.
Сергей подумал: «Вот и сейчас она знает все раньше, чем он».
Почему-то всегда казалось, что она у отца временно. Что вот просто образовалась пустота… Ему казалось, что отец, как и он сам сейчас, жил с ощущением, что самое главное это не то, что сегодня, а то, что завтра. Он говорил, увлекаясь: «Мы обязательно поедем с тобой в этот город. Мы должны увидеть этот город. Без этого города беднее наша жизнь». Не поехали.
Постоянное ощущение черновика, подготовки, примерки.
А на электрическом табло стадиона минуты чистого времени, своего времени, загораются и гаснут. Быстро гаснут.
И если уж уехать куда-то, то ехать надо сейчас.
— Ты что это смотришь на часы?.. Вот так всегда: зайдешь к отцу — и сразу на часы. Вечно он куда-то спешит.
— Нет, я никуда не спешу. Я же должен его все равно дождаться.
— Сколько ж ты его не видел?
Сергей молчит, ему не хочется отвечать, да отец и не настаивает на ответе.
IX
Старость пугала его всегда больше, чем смерть. Что такое смерть, он, как подавляющее большинство сограждан, мог лишь догадываться, старость — видел.
Его пугала старость отца. Старость отца была концом эпохи. Впрочем, громкое слово — эпоха, но ведь у каждого есть своя эпоха, незначительно ничтожная для других, полная грозных потрясений для себя. Она, старость отца, обозначала конец собственной молодости, начало собственной старости. А он привык быть молодым, и переход к новому состоянию был для него труден. Даже и сейчас еще, в свои сорок один, среди коллег, маститых и пожилых, считался он молодым. «Молодой ученый» — в этой формулировке была некоторая снисходительность.
Старость отца он ощущал, когда приходил после долгого отсутствия, после экспедиций. Он видел ее именно в первый момент, когда смотрел как бы со стороны, чужими глазами. Острый, отчужденный этот взгляд фиксировал следы новых мелких разрушений. Потом он переставал замечать это. Привыкал.
Он видел, как особенно на людях отец как бы подбирался и на время молодел. На белых, чисто выбритых щеках с седыми, блестящими корешками волос выступал румянец. Молодел голос, и говорил он весело, и память была куда как хороша. А уходили люди, лицо серело, выступали склеротические розовые веточки, голос садился и в водянистой, голубоватой чистоте глаз возникала тусклая, непроходящая тоска. Что это было? Страх? Нет, скорее сожаление о несостоявшемся.
У каждого из нас есть свое несостоявшееся. А какое оно было у отца, он, сын, не знал, ибо меньше всего мы знаем это про своих близких. Он часто думал об этом. Казалось бы, отец достиг многого. Наверное, он сам хотел бы сделать хотя бы столько. У них в семье всегда считалось, что главное — это профессия, наука, остальное потом. А что было у отца «потом»… Возможно, что не в этом, не в семье, и не в Антонине заключалось его несостоявшееся. Как раз эта сторона жизни, казалось, вполне его удовлетворяла.
А несостоявшееся заключалось, возможно, в какой-то неизвестной ему, сыну, идее, мечте, надежде, которая в отце жила невысказанно, тайно.
Когда он подходил к входной двери и слышал приглушенный треск машинки, он радовался. Это был звуковой фон всей его жизни, музыка его детства, он засыпал под стук машинки и просыпался от него. Когда-то она стучала почти с вызовом, долгими очередями, звонко, жестко.
Теперь эти трели стали короче, паузы — дольше, стук стал более тихим, стрекочущим. (Правда, последнее объяснялось сменой машинки. «Ремингтон», приобретенный после войны, звонкий черный ящичек, уступил место шелестящей современной портативке.)
Когда он подходил к двери, всегда прислушивался с напряжением и чуть-чуть со страхом.
Ему хотелось услышать ее голос — значит, все в порядке, старик работает…
«У старика, — думал он, — все-таки неплохое душевное здоровье, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! Он человек, всегда по утрам делающий зарядку. Всегда». А он, мог ли всегда?
Есть ведь люди, которые не могут подпрыгивать на половике и сгибаться, более того: хотя они и не больны, но им трудно сделать первый шаг по бесформенной, с тускло пробивающимся светом, как будто лишенной пространства, сплюснутой квартире.
Старика, к счастью, интересовало да и сейчас интересует все, что происходит в кипучем, быстро изменяющемся мире. Что там сказал президент африканской республики другому какому-то президенту? Каковы успехи повстанцев? Поймали ли смельчаков-террористов, набравших большое количество заложников? Кто выиграл партию: чемпионка или претендентка?
Все это важно. Дрожит пузырек с валокордином, капельки набухают, как слезки, и равномерно скатываются в стакан, немолодая женская рука бережно держит похудевшую стариковскую руку, прощупывает пульс… Кто же все-таки выиграл?
Странное это дело, и ведь у него, Сергея, это тоже есть. Не в такой степени, по все же. Не пролистал утреннюю газету — будто не помылся.
А у Игоря уже нет. И не то что его меньше интересует, что́ происходит там, где-то. Интересует, конечно. Но по-другому. Он вполне может обойтись и без утренней газеты. Вполне может потерпеть до программы «Время». А иной раз и вообще может обойтись без знания последних событий на земном шаре.
Новые марки самолетов, изобретения, полеты в космос были ему, пожалуй, важнее, чем сражения в далекой пустыне Агаден.
География не насытила его память теми городами, меридианами, параллелями, которыми поколения Сергея бредило во сне. 38-я параллель ровно бежала по истокам земли, не искореженная, не изрубленная, тускло блестели рельсы в другой половине земли, на них не ложилась грудью безумная и отважная Раймонда Дьен. На школьных митингах не взметались вверх кулачки, непреклонно требующие свободу Назыму Хикмету.
Газеты, газеты, газеты… Лет через пять после войны Сергей с отцом жили в селе на Оке, и они вставали в пять утра и шли десять километров к станции и там среди путейцев, командировочных, колхозников стояли в очереди в киоск «Союзпечати». И все читалось, и все было одинаково важно. И правительственные телеграммы, и новые невиданные стройки пятилетки, и фотография передовика в полполосы, и, конечно же, результаты футбольного матча, и карикатура, метко изображающая их загнивающие нравы.
Читался текст и подтекст, газеты много значили в жизни. Читали их в подробностях, но с одной мыслью: будет ли война?
И все менялось на глазах: тот Черчилль, толстый симпатичный бульдог, знакомый по страницам «Британского союзника», на глазах переменился, лицо смотрелось не как добродушное, бульдожье, а как ощерившаяся звериная морда. Сколько раз в школе, да и не только в школе, обсуждались и осуждались речи разных поджигателей войны, которые скинули с себя маску! И не только на уроках или на политинформациях (раз в неделю обязательно была политинформация), но и после уроков, когда пацаны, малолетки возвращались домой, перепасовывая друг другу туго скатанную тряпку, с успехом заменявшую мяч, по ходу игры, так сказать, они обсуждали, осуждали и проклинали разного рода поджигателей, которые хотели смыть эту узенькую улицу с разбитым недавней войной зданием в невиданном ядовитом фонтане, в смрадном грибе водородного взрыва.
Итак, по утрам отец всегда делал зарядку, а потом спускался на первый этаж за газетой. Вместе они читали, немедленно находя самое важное, даже если оно было напечатано мелким шрифтом на последней странице. Отец в те его, Сергея, детские годы много разговаривал с ним. Пожалуй, больше, чем он сейчас с Игорем. Отец находил в себе силы разговаривать с ним и в те дни, когда его снимали с руководства кафедрой, когда все в его жизни изменилось, когда он собирался уехать в другой город, далеко от Москвы. Все равно разговаривал. И с прежним интересом — обо всем, что происходило. И теперь Сергей, когда ему было худо, тоже старался, отвлекаясь от своего, говорить с Игорем, обсуждать различные мировые проблемы, но сам как бы со стороны слышал свой вымученный и какой-то точно дежурный голос, словно бы возникший от магнитофонной кнопки. А истинный его голос, словно бы пересушенный, углох и невнятно, неслышно бормотал что-то далекое от того, что обсуждалось с сыном. А первый, громкий голос рокотал, задавая вопросы и сам же отвечая на них. Кажется, недавно это было, и кажется, недавно его мальчик был маленьким и, подходя к двери, нежно и воинственно требовал: «Папа, икивай!» Это означало: открывай. И он, с радостью отвлекаясь от занятий, открывал сыну.
Отец очень редко рассказывал Сергею об ополчении. От друзей отца он узнал о том, как отец был в окружении, как часть группы попала в плен, как другая часть чудом уцелела и вышла к своим. Отец не любил вспоминать самое трудное. Он с охотой рассказывал смешные военные эпизоды, всякого рода армейские курьезы, а о тех тяжелейших днях никогда не вспоминал. Так же неохотно вспоминал он о своих неприятностях пятидесятых годов. Сергей помнит, как он перебирал отцовские фотографии. Была одна, казавшаяся смешной. На фотографии его отец стоит рядом с длинным человеком в белом. Белое — это парусиновый костюм, который плещется вокруг человека, точно флаг. Сам он тонкий, худой, как флагшток, а костюм, надутый ветром, — флаг или парус. Худой, очень высокий человек в очках взял под руку приземисто-широкого отца, тоже в белом, а сзади — смуглое даже на вид лицо улыбающейся женщины, ее пальцы за их затылками, рожки, и борт парохода, и темная полоска реки, и надпись: «Кама, 1935, плавучая станция Белая». Было смешно, что все белое. И халаты, и станция, только люди были загорелые, смуглые, с темными молодыми лицами. Вот этим и волновала эта фотография: молодостью отца и тем неизведанным, что было до его, Сергея, рождения. Как хорошо они смеялись: коренастый, крепко стоящий на палубе, на земле, словно пригожий крепкий белый гриб, отец, и рядом, тоже похожий на подосиновик с длинной и чуть перепончатой ножкой, высокий, немного несуразный человек со смеющимися глазами, в круглых очках, по-братски придерживающий отца за плечи. Фамилия этого человека часто мелькала в их разговорах, всегда с теплотой и даже как бы с почтением… Он был старшим другом отца, его учителем. А потом исчез, словно бы растворился в высоком небе над рекой Камой.
Он часто отмечал про себя, что отец и его друзья, несмотря на все, что им пришлось хлебнуть, с известной легкостью смотрели в будущее. Отец часто повторял эту фразу, и она звучала у него совсем не механически: «Будущее покажет». Да, он говорил с уверенностью. Видно, он всегда веровал, что оно покажет именно то, что ему нужно. Он же, Сергей, был более осторожен в отношениях с будущим. В его отношении была некоторая доля недоверия, иногда и нечто вроде суеверного страха, и он заклинал это будущее, как некоего опасного божка («Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, через левое плечо!»). И отец презирал его за это шаманство, за душевную его темноту, недостойную образованного человека, и непреклонно верил в будущее, в светлое будущее.
И поскольку Сергей, заклиная это будущее, предпочитал не говорить о новой, еще не сданной научной работе, об интересной готовящейся поездке и вообще о том хорошем, что должно было произойти, то чаще всего он вообще ничего не говорил отцу о своих делах, и это злило отца. И тогда, чтобы его не злить, он начинал делиться с ним неудачами и обидами. А потом спрашивал себя: зачем? Старику и своего хватает.
Отец слушал, не прерывая, слушал и говорил что-то тихо, успокаивающе. Как сейчас слышал он умиротворяющий голос отца, шелестящий голос отца тех лет, внушающий, что все не так плохо, что будущее, как говорится, покажет.
В последние годы он старался не огорчать старика, не втягивать его в клубок им самим не разрешенных вопросов и обстоятельств. Он только раздумывал над тем, почему т о г д а отец был так терпелив. Очевидно, отца не раздражало, а, наоборот, трогало, что сын идет к нему с этим; своеобразное выражение детского инстинкта — плакаться на груди матери. Неосуществленный с матерью, этот инстинкт перешел на отца.
…В институте у Сергея заведовал кафедрой профессор Массе. Он был тем самым любимым профессором, легендарным, единственным, который и должен быть в каждом институте. В чем была причина легендарности, никто не знал, никто и не пытался в этом разобраться. Это существовало как данность, само собой, из поколения в поколение все знали, что самый интересный человек в институте это он.
Он действительно читал с блеском и темпераментом, но у них были и другие, не менее сильные лекторы. У него было известное в кругах специалистов имя, но это обеспечивает успех у студенческой аудитории лишь в малой степени. Он с пренебрежением относился к оценкам, на экзаменах не был строг и мелочен, но все они знали, что он имеет свой, невысказанный счет к ним, каждому из них знает цену. В нем было одновременно нечто от «мэтра», небожителя, и от простого свойского мужика, любящего крепкое словцо, с интересом поглядывающего на самых хорошеньких девушек их курса. Когда он говорил о предмете, то он говорил так, что все понимали, что нет, не было и не будет на свете ничего более важного, чем скифские поселения в Приднепровье, их курганы, гробницы и те люди, что прошли, оставив занесенный веками, но различимый след. В его рассказе они выглядели всегда такими или почти такими же, как сегодняшние, с почти такими же заботами, страстями, делами и делишками.
Может, оттого он и казался современником т е х, вечным стариком, хотя стариком его трудно было назвать. Скорее он был немолодым человеком с необычайно свежим, почти юношеским лицом, человеком, одетым небрежно и даже чуть неряшливо. Весь его облик, манера держаться сразу же убеждали тебя в том, что э т о т не будет тратить время на пустяки. Они прислушивались к нему, даже к самому незначительному, что он говорил. Они понимали, что старик всегда говорит по делу, что в каждом его слове — собственный, им добытый опыт, и сотни книг, и бог знает что еще. Он был для них стариком, остановившимся в возрасте. А настоящим стариком он увиделся позднее.
Сергей работал у профессора в Костенках, в Воронежской области. Все время возникали хозяйственные неурядицы. Профессор вынужден был бесконечно звонить или ездить к областному начальству, добывая бульдозеры, бензин, одеяла.
Здесь он выглядел другим — старым, задерганным, но очень четким, отнюдь не академическим; даже трудно было себе представить там, в институте, что он ко всему еще умелый администратор. Только иногда он покрикивал на своих учеников, заставляя их отвлекаться от повседневности, быта «копачей». Ведь в этой пахнущей сыростью, изрытой траншеями земле надо было найти не только конкретный след поселений, но и создать свою собственную, пусть не абсолютную, но все же единственную концепцию жизни, канувшей в бездну исчезнувшего времени.
Когда-то, в студенческие времена, масштаб времени был другим, все эти минувшие эпохи с их напластованиями были лишь строчкой петита в учебнике, казались мигом, мгновением, чужой жизнью, унесенной ветром. Собственная же жизнь виделась бесконечной и необозримой.
Сергей неплохо сработался с профессором, и через два года профессор поехал в Туркмению и взял его с собой. Старик по-прежнему бегал но пустыне, не жалея себя, в своем знаменитом тропическом шлеме, на который с завистью восхищения смотрела вся партия, носившая на голове кто что: от войлочных шляп до игривых детских панамок. Шлем съехал набок, казался огромным на уменьшившейся, словно усохшей голове профессора. Да и во всех движениях его проявилась стариковская суета.
Профессор по-прежнему проводил острые летучки и держал все звенья экспедиции в напряжении, никому не давал «сачковать», но сам уже не поспевал, уже был не в силах толкать вперед всю эту махину, решать все не относящиеся к главному, к науке, вопросы. Его заместитель по административной части, «хозяйственник», был никудышный, и все время происходили проколы: то выходила из строя техника, то не приходили вовремя рабочие из колхоза имени Буденного, то не получали вовремя реставрационный материал. В экспедиции начались непорядки, пошли «телеги», жалобы. Приезжали комиссии.
Во главе одной из них был человек, считавшийся одним из учеников профессора.
Сергей хорошо помнит открытое партсобрание, где обсуждалось положение в экспедиции, срыв квартального плана работ, какие-то мелочи… Помнит он и речь того ученика, и другие речи, где много говорилось о заслугах профессора, о его вкладе, о том, как он их всех, замечательных своих учеников, заметил, выпестовал «и, в гроб сходя, благословил».
«В гроб сходя…» Этот мотив присутствовал. Так или иначе звучал он в речах, сдержанный мотив, скорбная тема, мысль о том, что пора уйти вовремя, а не развалив все дело, тогда, когда ученики помнят тебя могущественным и сильным, а не забывающим через час собственные свои указания, не мешающим их росту, а благородно передающим эстафету следующему поколению… Конечно, говорилось не так. И не об этом даже говорилось: о конкретном, о графиках, о сроках, не о науке, о быте и буднях, но подтекст был один. Пора… Наступает момент.
Профессор слушал, слушал, как бы в полудреме, именно в той державинской позе, что и полагалось, иногда, впрочем, оживляясь и вставляя реплики, уточнявшие общую картину. Смысл их заключался в том, что леность, организационная и творческая беспомощность, незрелость его помощников создавали трудные для его экспедиции моменты, а не его, профессора, неспособность руководить коллективом.
Ему не хотелось уходить. Может быть, ему не хотелось уходить т а к. Его бывший ученик старался избегать каких-либо обидных выражений, доставал блокнотик и приводил факты, только факты. А ведь известно, что именно профессор учил их осмысливать и обобщать отдельные, даже самые незначительные фактики, воссоздающие реальную картину действительности.
Вечером Сергей зашел к профессору.
Профессор сидел в своей комнатке, фанерной перегородкой отделенной от общежития. Резко светила настольная лампа без абажура. Старику было жарко, перед ним стояло ведро с водой, и время от времени он опускал туда эмалированную кружку. Обычно он пил мало, у него была целая система, специальный питьевой режим, который он внедрял в головы неопытных, слабовольных своих учеников.
— Вам чего? — сухо спросил он, поглядев поверх очков.
Все приготовленные слова, слова поддержки, любви, еще секунду назад будоражившие душу, высохли, как капли воды, стекавшие с кружки на дощатый, с глубокими расщелинами крашеный пол.
— Я насчет машины в Байрам-Али. Надо мне ехать к Жеревчевскому?
— Обязательно надо.
Перед профессором лежала толстенная тетрадь с надписью «Амбарная книга». Перехватив любопытный взгляд, он сказал другим, уже не жестким, а тем педагогическим, лекторским тоном:
— Это дневник. Я веду его пятьдесят лет. Каждый день. Дневник экспедиции. У меня сохранены дневники всех моих экспедиций. А сколько их было?
Он подсчитал в уме, и лицо его выразило удовлетворенность и даже некоторое изумление, он как бы сам удивился тому, как много их было. Но сколько, он не сказал. Он только проговорил подчеркнуто безразлично:
— Это, видимо, последняя.
Через год примерно были торжественные проводы профессора в институте. Читали указ о присвоении звания заслуженного, говорили речи. Тот, который приезжал в Туркменскую экспедицию, тоже говорил, и очень подробно, заглядывая для точности в блокноты, чтобы не упустить случайно какую-нибудь из заслуг профессора.
Все было очень торжественно и достойно.
Потом профессор уехал, весь осыпанный цветами, разошлись ученики, разбрелись студенты.
Какая-то желторотая третьекурсница плакала и все время повторяла:
— Зачем же так, зачем же из института? Ведь все же знают, что он самый наш любимый, самый наш лучший профессор!
На что ее спутник, трезвый и рассудительный, отвечал, успокаивая:
— Учителя должны вовремя уходить. Именно тогда они и остаются в памяти учеников.
Отец ушел сам.
Он был в больнице уже второй месяц, и оттуда послал заявление об уходе с должности. Может быть, он ждал, что его отставку не примут, а может, просто решил, что действительно надо уйти вовремя.
Во всяком случае, отставку приняли.
Теперь, как он часто повторял, «он был свободен от любви и от плакатов».
То, о чем он мечтал всю жизнь, — «творческая свобода при отсутствии административных обязанностей» в семьдесят лет впервые открылась перед ним.
Из института позванивали время от времени, приглашали на все вечера, регулярно посылали поздравительные открытки. Он ходил в институт раз в месяц, в день уплаты партвзносов. Его останавливали, узнавали.
— Вы же наша легенда, — говорил молодой лектор, — вас здесь все помнят.
Все суетились. Заказывали ему машину, провожали на улицу, махали рукой, будто он охал не домой, а в далекую научную экспедицию. А студенты новых выпусков с мимолетным интересом смотрели на маленького старичка, который, говорят, здорово читал лекции и в какие-то давние, смутные времена отстаивал то, что сейчас и первокурснику ясно.
Внучка профессора Массе училась в той же школе, что и Игорь. Профессор регулярно приходил за ней в школу, посещал родительские собрания, а однажды даже провел беседу с учащимися на тему «Далекое прошлое нашей родины».
Иногда Сергей видел, как профессор гуляет по широкому проспекту, стоит перед стеклянным стендом «Вечерки», приподняв очки, что-то вычитывает. Ему хотелось подойти к профессору, поговорить на обоих их интересующие темы, но он не решался… Это ведь только так считается, что учителям приятно видеть своих учеников.
Однажды Сергей пригласил профессора на специальное заседание секции научного общества. Сам он был членом бюро общества и полон планов обновить и освежить работу секции, сделать так, чтобы крупные ученые приходили на эти заседания, чтобы раскиданные по стране, по экспедициям специалисты время от времени собирались для того, чтобы проинформировать друг друга не только о законченных результатах экспедиций, но и о наметках, предположениях, о ходе исследования.
И вот он пригласил профессора выступить по поводу довольно спорных выводов экспедиции, работавшей в Приазовье.
Профессор уже отошел на второй план, но все-таки его знали, помнили, на его труды ссылались, учебник его неоднократно переиздавался. И когда профессор пришел, Сергей с легкостью настроился на прежнее, студенческое, на восхищение, веру почти в каждое его слово.
И действительно, старик говорил дельно, с блеском. Сергей ведь давно не слышал его и теперь был рад, что все так хорошо получилось, что старик согласился, приехал и так славно, крепко держит разношерстную и искушенную аудиторию. Старик выглядел иначе, чем в студенческой аудитории когда-то, да и держался иначе: говорил сдержанно, медленно, все время шелестел бумажками, иногда далеко отстраняя их от глаз, как делают дальнозоркие старики, иногда замолкал, будто теряя нить, по вскоре находил ее.
Старик был хорош.
И только одно создавало чувство некоторой неловкости: он ругал почти все новейшие исследования, он оспаривал не только выводы, как предварительные, так и окончательные, но и самую концепцию исследования. Он практически ни с чем не соглашался и ничего не принимал. Весьма убедительно, как нечто само собой разумеющееся, отвергал он доводы последней Азовской экспедиции. И вдруг Сергею стало неинтересно, потому что он понял: старик т е п е р ь не примет ничего. В вестибюле он торопливо и вежливо простился со стариком и не поехал провожать.
…Когда старику исполнилось восемьдесят лет, Сергею позвонили из научного журнала и долго уговаривали написать юбилейную статью. Разговор был примерно такой:
— Ведь вы же его ученик, что же вы отказываетесь?
— Да у него учеников сотни. Кто-нибудь другой лучше меня сделает.
И тут у редактора сорвалось:
— Вот так все и отсылают друг к другу, никто не хочет. Не знаю уж, почему. Знаете, бывает такая категория, когда ценят, но не любят. Не очень любят, — понравился редактор.
Вот после этой фразы Сергей решил, что напишет. Да, напишет, потому что они его не очень любят, а он не будет измерять степень своей любви, а просто сохранит верность старику, тому старику, который еще недавно так много для них всех значил, и который теперь действительно стал абсолютно законченным стариком.
Он написал статью. И сразу, как напечатал на машинке, прочитал отцу. Отцу она понравилась.
— В ней немножко больше чувства, чем принято в научной статье, даже в юбилейной, есть налет сантимента, но в данном случае это, может быть, даже хорошо. Мне было бы приятно, если бы обо мне так написали. Судя по всему, он сейчас одинок, и вообще, учитывая предубеждение, которое к нему питают некоторые коллеги, это поступок.
Одно из старых любимых выражений отца: «п о с т у п о к».
Действительно, после этой статьи ему звонили многие и говорили: «Знаешь, ты, пожалуй, прав. Старик действительно заслужил». И начинали вспоминать прежние заслуги старика.
«Странно устроены люди! — думал Сергей. — Ведь все они знали все то, что можно сказать о старике, но думали все же иначе. Но печатное слово легко может их поколебать. Железная сила печатного слова».
Многие ему в те дни звонили. Единственный, кто не позвонил, был старик. Впрочем, кто ему судья.
Он часто думал о старике… Кто знает, какие у него утра, какой тусклый и болезненный свет пробивается в окно его комнаты.
А может, не об этом старике он думал, а о старости? Как встречает он начало дня, — ведь каждый может стать последним? Да и в страхе ли последнего дня сокрыта тайна старости? Этот страх ведом и более молодым. Нет, очевидно, она в чем-то другом. Возможно, в том, что перед тобою нет горизонта и нельзя придумать себе что-то наперед. А может быть, и в том, как старый человек медленно, боясь оступиться, фиксируя и проверяя каждый шаг, идет по крутым лестницам неосвещенного подъезда. Он идет старательно и спокойно. Он привык к темноте, и она не тревожит его. И вдруг из подъезда он выходит на белый свет, который будоражит, слепит, и острый запах бензина, асфальта рождает память о таком же далеком запахе. Тогда он выходил из этого же подъезда и спешил, его ждали, и он сам ждал кого-то. И, очевидно, он помнил тот миг, тот шаг по земле, ликующий свет, деревья и лица, лица после тьмы подъезда, и еще, как все старики, он помнил сотню мгновений, помнил то, что было уже несуществующим, не имело ни цвета, ни запаха и было лишь тем эфемерным, что принадлежало одной его нетускнеющей, цепкой и потому мучающей памяти. Куда оно делось? В какую материю перелилось?
Дети, играющие в песке. Один из них, такой же, как и все, в белой панамке, подымает лицо и радостно бежит тебе навстречу. Кто это?
Это твой маленький сын. И ты берешь его сухой, загорелый локоток своей крепкой и легкой рукой и медленно идешь с ним мимо лавок и мимо ям, вырытых в песке. Когда это?
«Ваше восьмидесятилетие вы встречаете в расцвете творческих сил, полный замыслов и планов», и т. д. и т. п.
Идущий прямо еще зоркий, хорошо выбритый старик, затем старичок, уползающий в бездонную тьму подъезда, в гулкую каменную нору, где глохнут и стираются постепенно медленные шаги.
X
Мальчик выскочил во двор, как всегда — с чувством облегчения. Он скучал по деду, и ему нравилось разговаривать с дедом, но слишком долго он разговаривать не мог… Во дворе было лучше. Там не надо было думать о том, чтобы не сделать лишний шаг, разбить что-нибудь, передвинуть книги, рукописи, бумаги, устроить кавардак. Он с детства слышал это слово «кавардак», толком не понимая его смысла. И когда он был маленьким, кавардак напоминал ему дикого кабана, мохнатого, несущегося вскачь, раскачивающегося из стороны в сторону, как пьяница. Ему нравился кавардак, и он охотно впускал своего кабана в небольшие комнаты их квартир. Пусть носится, ломая все на своем пути.
А двор этот он знал так, как и свой собственный, даже лучше. Знакомый с первых шагов жизни, он всегда таил неожиданности. То у бетонного забора находил он грибы, похожие на поганки, не лесные плешивые, а розово-светящиеся. Однажды он собрал их довольно много и принес домой, и все были необыкновенно довольны и всячески одобряли его. Красиво назывались эти грибы: «шампиньоны». В другой раз нашел зарытую в землю каску, обрадовался и опечалился; думал, она от войны — неужели в этом дворе кто-то погиб? — принес к ребятам, они почистили ее и увидели — пожарная.
Это был двор находок, неожиданностей. Двор с закоулками, где ребята помладше прятались от родителей, а постарше пили портвейн, обнимались с девчонками, бренчали на гитаре.
Но сейчас он не стал задерживаться в этом дворе. Он сделал кружочек но двору, а затем вышел на улицу и сел в трамвай.
Трамвай дребезжал стеклами, металлом, жесткими блестящими сиденьями, позванивал медяками кассы, а он один сидел в вагоне и смотрел в раскрытое окно, где мелькали и гасли то надвигающиеся на него, то внезапно тускневшие огни.
Он ехал назад, к своему дому, но слез не на своей остановке, а на следующей, откуда до Дашкиного дома было ровно пять минут, только он еще не знал, зайдет к ней или нет.
«Если в окнах темно, — думал он, — буду ждать. Если горит огонь, придумаю что-нибудь… Например, нужна книжка».
А какая книжка? Надо быстро придумать книжку, которая именно у нее есть, а у него нет. А почему вообще нужна причина? Врать, выдумывать? Просто так пришел. Захотел — и пришел. Люди же ходят друг к другу в гости даже и без особой причины. Просто хотят друг друга видеть. Им нужно друг друга видеть. Вот и ему нужно… Именно сейчас.
Взбадривая себя и храбрясь, решаясь и не решаясь, он тем не менее поднимался но ступенькам на ее пятый этаж.
«Ведь никто же не звал, — думал он, — а я иду… Ну и что, пусть не звали… — отвечал он себе. — Все правильно».
Когда стоял перед дверью, так все дрожало и прыгало внизу живота, будто стоит позвонить, а оттуда в тебя — очередью из автомата!
Позвонил.
Сначала было тихо, потом что-то зашуршало, точно кошка пробежала. Потом раздалось уже что-то более отчетливое, напоминающее шаги босых ног.
— Кто это? — Это был ее голос.
— «Кто, кто»! Взломщики. Мосгаз.
По ту сторону двери не хотели понимать его юмор. Молчали.
— Это я, Игорь.
— Так бы и говорил! Сейчас, кофту наброшу.
Открыла.
Он вошел в темную маленькую прихожую. Дашка чуть отступила к дверям, молчала, вид у нее был выжидательный. Она была в красных вельветовых шортах и в кофте, бесформенной и широкой, как бурнус. Они секунду постояли молча, ничего друг другу не говоря, будто встреча эта была заранее и давно запланирована и никого из них ни капельки не удивила. Потом он пошел за ней в пустую и просторную столовую, в ту, в которую пришел он первый раз в тот вечер. На обеденном столе лежали ее учебники, тетрадки. Будничный, совсем не такой, как т о г д а, вид этой полуобставленной комнаты успокоил его.
По тишине, простору было ясно, что она одна, и как бы уже давно одна, будто все ее родные неожиданно снялись с места и покинули этот дом.
— А где брат?
— А он на практике. В Усть-Сургуте.
— А чего он там делает?
— Мост делает. Дипломная практика. Это он тогда на несколько дней приехал из Усть-Сургута.
Ему почему-то сразу стало легче, потому что брат уехал надолго. Неизвестно, почему. Что он мог иметь против ее брата?
— Что делаешь в свободное от учебы время?
Она показала рукой на учебники, на тетради. На тетрадях вместо записей были рисунки, остренькие, перышком, рисунки — звери, похожие на людей, звероподобные люди.
Это обрадовало его… Хоть чем-то они, значит, были похожи. Он тоже исписывал целые страницы змеями, астронавтами, ковбоями, танками, профилями великих людей. Однажды приятель его отца, художник, рисовавший плакаты, долго разглядывал его рисунки и сказал отцу: «Смотри, как он у тебя интересно видит».
Ему показалось странным это выражение, и он подумал: «Любят они, взрослые, выдумывать — «интересно вижу», а я просто бумагу мараю, так как заниматься неохота».
— Смотри, как ты интересно видишь, — сказал он, поглядев на ее тетрадку.
— Чего вижу, кого вижу? — не поняла она.
— Животный мир… Мир людей. Фантазия, замечаю, у тебя богатая.
Она бросила на тетрадку учебники.
— А ты чего подглядываешь? Я же не для выставки, а для себя.
— Оправдываться будешь перед судом… Да ладно, я и сам такой же. Прежде чем уроки начну, так на черновике всегда какую-нибудь ерунду рисую часами… Мне разогреться надо, разминку сделать… Знаешь, как футболисты? Мне всегда очень трудно начинать заниматься. Для меня сами занятия легче, чем тот момент, когда я решусь. От этого я иногда и не начинаю. Наверное, у меня безволие. Я даже в книжке прочитал: паралич воли. Вот к этим урокам проклятым у меня паралич. Мать берет мои тетради, а у меня там сплошные Фантомасы. Она: кого обманываешь? А действительно, кого?
Ему хотелось еще что-то рассказать про себя, что-то важное и откровенное, и про свои недостатки и особенности, но рассказ не получался, молол какую-то чепуху, а может, и рассказывать было не о чем, тем более откровенное… А врать, выдумывать всякие байки вроде тех, что рассказывались чаще всего в туалете о том, например, как на него напали трое амбалов и начали толковищу, а он их… сначала одного под дых, второго, затем третьего, такое рассказывать ей не хотелось… Да и вообще он этого не любил.
Но неожиданно она отозвалась на его рассказ о мучениях перед уроками. Может, она пожалела его, но голос ее потеплел.
— А я, представь себе, — сказала она, — люблю решать всякие задачки… Я вообще люблю все точное, где докапываешься до единственного ответа, а все приблизительное, всякие там общие слова, я не люблю. Я, например, в истории всегда запоминаю фамилии и даты, а вот всякие там черты феодально-общинного строя или какого-нибудь еще, всякие там особенности и разные там социальные отношения — это мне все до фонаря, я сразу бросаю учебник, включаю музыку… Щелкнул по клавише — и другой мир, и сама думаешь: ведь ты не раб какой-нибудь там феодальный дробить камни для чертовой пирамиды Хеопса, не рабыня, а свободный человек, который может плюнуть на все уроки и слушать музыку всех эпох, или просто глядеть в потолок, или просто выскочить на улицу и шататься без дела.
— А мать?
— Она приходит поздно. Она работает в больнице. У нее через день дежурства. В основном мы с братом… Ну, еще его друзья. С ними мне никогда не скучно.
Он вспомнил тот вечер и почувствовал, как против его воли губы расплываются в неприятную скептическую улыбочку.
Но она так любила своего брата и так была увлечена этой темой, что не заметила.
— Вот тебе не повезло, — продолжала она. — У тебя ни сестер, ни братьев. А я будто еще одну жизнь проживаю, братову, я в курсе всех его дел. Любых — и институтских и самых тайных.
— А я их не понимаю, — сказал он.
— Кого — их?
— Ну… старших братьев… Вот этих двадцатилетних. Они ни то ни се — не мы и не взрослые, и потому выпендриваются как могут. Один бородищу отпустит, другой усы, третий крест нацепит под майку, четвертый еще что-нибудь… Хотят показать что-то, а показать нечего.
— Завидуешь?
— Да нет. Я никуда не гонюсь… Не убежит. Я вот отцу немного завидовал, он войну понюхал. Правда, не воевал, но в эвакуации был, их бомбили, он видел, как немцев вели по Москве. А потом, после войны, у них тоже было все интересно… Непонятно, но здорово. Многие вещи у нас вообще не укладываются. А эти что видели?
— Что видели? Да все видели. То, что им положено. Ты, знаешь, рассуждаешь, как эти пенсы на бульваре.
— Кто? — переспросил он.
— Пенсы. Пенсионеры. Знаешь, они чуть что — заводятся: «Вот у нас — да. А вы что?» Несерьезно это.
— Да я не о том. Я тебе объяснить не могу… Просто жизнь была суровей. И подделочников было меньше…
— А кто же, по-твоему, подделочники? Ничего ты не понял. Мой брат, его друзья, они ни под кого не подделываются, они такие, какие есть… Они просто любят надо всем посмеиваться, им не хочется переть напролом, тупо наморщив лоб… Но если надо, они все для тебя сделают. И без всяких там нравоучений и прочего. Он ничего рассказывать не любит, а мне Кирилл, его приятель, рассказал, какая там у них была история. Как они там спасали одного лесоповальщика. Как брат заболел воспалением легких из-за того, что шел к этому парню почти сутки и сам чуть не замерз насмерть. И для него это не подвиг никакой. Он не выносит всяких слов… Ничего ты в нем не понял.
Она уже заводилась и смотрела на Игоря почти с неприязнью.
«Да она всех удавит за своего брата, — подумал он. — И зачем это я полез!»
— Да разве я против брата! Я просто… Я бы сам, если бы имел брата и кто-нибудь — на него, я бы всех за него грыз, не останавливаясь. Так что ты не бери в голову. — Он помолчал и добавил: — Давай лучше немного погуляем.
Она посмотрела на него, подумала, потом сказала:
— Ладно, сейчас уберусь, сиди жди.
Она унесла учебники, тетрадки, долго шуршала в соседней комнате, переодевалась, что ли. Ему даже стало скучно, и весь разговор показался нелепым, ненужным и захотелось домой.
Она вышла, уже не в хитоне, а в черной кофточке и в замшевой короткой юбке, прошитой каким-то красным узором и открывавшей ее длинные, со сбитыми коленками, загорелые теннисные ноги.
И опять, как тогда на кухне, что-то задело его в этом облике, и снова захотелось сотворить что-нибудь подобное тому, а там, может быть, умереть от стыда или, наоборот, тихо, достойно удалиться как ни в чем не бывало.
Что за муть, думал он. Мало ли девчонок было рядом, он боролся с ними, возился, дрался, а на даче у отцовского друга он даже целовался с дочкой друга и курил с ней сладкие быстросгорающие американские сигареты. Она все шутила и подсмеивалась над ним, поддразнивала, как бы к чему-то призывая, будто была какая-то опытная. Да, он целовался с ней, и даже в губы. И было очень рискованно, ново, немного опасно, чуточку глупо (что вообще за занятие), и он с интересом делал все это. Только не чувствовал ничего. Разве что губы у нее мокрые, пахнут табаком и чуть-чуть котлетой. И целовался он с ней не потому, что было приятно, оттого, что тянуло к пей, а так, скорее для спорта. Ведь от многих пацанов он слышал: вчера целовал такую-то, такую-то или что-нибудь в этом роде. Ему казалось, что и она к нему тоже ничего не чувствует.
Сейчас же было совершенно другое.
И он делал равнодушное лицо, будто глядел мимо нее и не видел, какая она красивая в этой черной кофточке и рыжей узкой юбке с красным узором.
Да, он видел и понимал, к а к а я она. И он знал, что теперь уже все, никто и никогда — только она, что бы там ни было, и он любит ее, вот именно л ю б и т, слово, которое столько раз слышал или произносил, но которое для него не имело реального смысла, высыхало на пальцах, как вода. «Любит, любит» — это все было в песенках, фильмах, чужое, скользящее по льду, как фигуристы под звуки вальса.
Он любил отца, мать, свой город. Нескучный сад. И вдруг он произнес мысленно это абстрактное слово «любить», такое привычное и далекое, как слово «душа», например. Что такое душа: то, что там постукивает внутри, как будильник, или то, от чего портится настроение, от чего хочется плакать, быть одному, никого не видеть из людей. И еще он подумал, какая связь между этим абстрактным «любить» и ею, стоящею сейчас рядом с ним… Разве это и есть? И как не похоже на благостный смысл этого возвышенно-буднично примелькавшегося слова то, что он ощущал сейчас: зависимость от нее, от того, что она скажет, что подумает, как посмотрит на него. Да, зависимость. Может быть, власть. Какая разница, как называется. Это не было тяжелым или унизительным, как зависимость, которую ему в той или иной степени приходилось испытывать: от родителей, от товарищей, от собственной слабости.
Зависимость эта требовала от него поступков неизвестно каких, может быть самых простых, но очень важных для них обоих. Он смотрел на нее и проборматывал это ничего не выражающее, бессмысленное слово «люблю» и знал, что никогда не посмеет произнести его вслух.
Она ответила ему взглядом, который как бы говорил, что она что-то поняла, догадалась, ощутила вполне свою силу, красоту и, наоборот, его смятение и глупость. Взгляд ее был нежно-снисходителен, обещал как бы, что она не употребит свою силу во вред ему… Так ему казалось, во всяком случае. Возможно, она ни о чем таком и не думала, а думала, возможно, о брате, или об уроках, или о чем-нибудь еще, ему вовсе неизвестном. Кто их знает, о чем они думают, женщины, даже в тот момент, когда пытливо и внимательно смотрят на тебя.
Во всяком случае, она сказала:
— Ну, так что мы стоим? Поехали?
— Конечно, давай, понеслись.
И они действительно понеслись. Вначале, когда они шли по темной лестнице и он не видел ее, только слышал громкий стук ее башмаков на деревянной подошве, он взял ее руку в свою, неловко и жестко как-то схватил, все время этого пути в темноте он чувствовал себя незримо и навсегда связанным с ней. Но едва они вышли из подъезда и пошли по обычной, столь знакомой им улице, все это пропало, и он снова разъединился с нею и стал думать о несделанных уроках, о том, что дед и отец ждут его, ведь он вышел всего на час. И он не знал, куда идти и что говорить. Стало неожиданно тускло и скучно.
И слова, которые вылетали изо рта, были необязательные, ничего не выражали, точно он не с ней разговаривал, а писал какой-то нелепый и трудный диктант. Его вдруг обступило то, что к ней не имело отношения. Он стал думать об отце. В сущности, единственный человек, кому он мог рассказать о ней… ну, не рассказать, а намекнуть, как бы случайно обмолвиться, был отец. А теперь отец хотя и рядом, но далеко от него, и нет охоты ничего ему рассказывать.
Он впервые вдруг подумал об отце с раздражением, даже со злостью. И ведь будет ругаться, что ушел так надолго, и надо придумывать вескую причину и что-то врать.
И снова отец будет уходить и прощаться с ним, уходить, прощаться, будто они знакомые, которые раз в неделю ходят друг к другу в гости…
И в эти дни он будет засыпать с мыслью, какая ему никогда днем не приходила, неожиданной в своей очевидности: случилось что-то непоправимое, и это теперь навсегда. Засыпая, он обычно старался избавиться от этой голой, навязчивой мысли, про себя крутил цветной привычный калейдоскоп, где мелькали повседневные знакомые, приятные лица, где все смещалось и все-таки было расставлено четко: дом, школа, друзья, родители, занятия и отдых, все такое понятное и ничем не разрушенное, предчувствие спокойного сна, уютный сон, уютный, не пугающий рассвет. Но на рассвете тепло улетучивалось, возникало предчувствие тревоги, а потом сама тревога электричеством дергала мозг: что-то случилось, распалось, и это правда, а не дурной сон, сон, наоборот, был хорошим, а это реально и будет с ним весь день и всю ночь, всегда… Отец был и отца не было. Казенно-школьное и привычное слово «родители» повисло, как вывеска с выбитыми буквами. И каждое утро имело теперь марганцовочный, железный привкус несчастья.
Потом все восстанавливалось. Шли дела, заботы, уроки, и уже не думалось об этом с такой остротой. Прошли дни, месяцы, и он привык к этому, почти как должному, и только иногда вдруг снова возникало что-то неприятное, как бы веющее холодным, сырым ветром, заполняющее им пустую грудную клетку.
«Тысячи так живут», — услышал он однажды, как подруга говорила его матери.
Тысячи, может быть, а может быть, даже и миллион, но почему именно он должен был попасть в это число?
— Ты чего там бормочешь сам с собой, как лунатик?
— Я лунатик и есть.
— Слушай, а у меня есть предложение, — сказала она.
— Валяй.
— Что значит «валяй»?
— Ну, излагай в смысле.
— Так вот. Пошли на американские аттракционы. В ЦПКиО, на американские аттракционы… Знаешь, какое там огненное кольцо с ухающими вагончиками, с музыкой обалденное — это я тебе говорю. Я уже была раз с братом.
Ему следовало объяснить ей, что его уже заждались дед и отец, что отец должен проводить его домой, но ничего этого объяснять ей не стал, молча, легко согласился.
…Раздался приглушенный звякающий звук, какой всегда издавал разболтанный отцовский телефон, дед крикнул: «Послушай», он взял трубку, услышал торопливо-стертое: «Добрый вечер», узнал, и лицо его напряглось.
— Это ты? — звучало на том конце провода.
— Я… А кто же?
— А где мальчик?
— Гуляет.
— Что же? Гулять он и без вас может. Он и так целые дни один гуляет. А тут раз в кои веки.
— Так ему захотелось.
— Не лучшее проведение времени при наличии деда, отца.
— Он попросил отпустить его на час.
— Уже девять, и физику он не выучил.
— Через полчаса он будет дома.
— Не позже.
Секундная пауза. Громкое шуршание каких-то невидимых частичек или тел.
— У тебя все?
— Все.
— До свидания.
— Будь здоров.
И трубка повешена.
Отец смотрит на него, не спрашивает. Он-то знает, кто звонил, знает, не слыша разговора, по первой его реакции, по выражению лица.
— Я, пожалуй, спущусь за ним… Вот так, разрешишь на час!..
XI
В сумрачном дворе мимо редких деревьев с мокрой жестяной листвой шел, торопливо вглядываясь в каждую тонкую и высокую фигуру.
Мальчика не было.
Он давно уже не был в этом дворе, подходил к дому не двором, а улицей, хотя так было длиннее. Не любил этот двор. Впрочем, что значит — не любил? Это был хороший двор, если вдуматься — лучший в его жизни.
А если и не любил чего, то напоминания о том, что уже не существовало. Именно не воспоминания, а напоминания.
С этим двором был связан, пожалуй, лучший период его жизни. Тогда они жили все вместе. Отец с Антониной и он со своей женой. Они получили эту квартиру в первый год их общей жизни. Жизни, а не скитаний по хатам друзей, по чьим-то холодным дачам с доброжелательными подмигиваниями всё понимающих дружков: «Ничего кадр», «Вот тебе ключ до трех часов».
И не объяснишь никому, что вот уже почти пять лет, целую жизнь, этот «кадр» с ним и что уже не кадр, а целый фильм без начала и без конца, и он уже не в силах понять и оцепить, какая она со стороны. Порой во время этих хождений, когда, крадучись, уходили, словно отступающий какой-то патруль сквозь враждебное окружение, мимо коммунальных дверей, едких ночных сторожей, в отдельные какие-то моменты т о ж е смотрел на нее со стороны, и самому казалось: «Хорошо, теперь пора расставаться, сейчас провожу, поцелую напоследок — и свободен. Пойду по ночной Трубной к центру, бульварами, одинокий, простившийся, возможно даже навсегда, полный не того, что уже было — с ней, а другого, что еще будет неизвестно с кем».
Так бывало в какие-то призрачные мгновения, когда при свете голых коридорных ламп, горящих по-ночному вполнакала, но с беспощадной яркостью, шли каждый сам по себе, стараясь не разбудить соседей, гордо шли, как бы никого не пуская в свою всем известную и никому тем не менее не доступную тайну. И почти никогда не бывало так, чтобы ни на кого не смотреть. Нет, смотрел на кого-нибудь. И даже записывал чей-то телефончик на студенческом вечере и что-то жарко шептал соседке при свете костров, под звуки дружных песен «на картошке» в колхозе.
Нет, черту не переступал. Что-то удерживало. Казалось, после этого уже не будет ничего, что было прежде. Но вертел головой по сторонам — видел всех хорошеньких девчонок Москвы, Советского Союза и даже братских стран, слышал, как они шелестят широкими, по моде тех лет, парашютными юбками. Но боже, как тянуло к ней — именно после разлук, после ночных этих костров, случайных флиртов, чьих-то любопытных взглядов и на минутку нежных рук, после долгих застолий со множеством глупостей, с громкими песнями, с анекдотами.
Долго он не мог без нее тогда.
Начало отношений, как сам он любил говорить потом, «было солдатское, с письмами «шлю привет, жду ответа».
Познакомились на вокзале, откуда эшелон увозил на целину.
То было время эшелонов, идущих на целину. Люди уезжали по путевкам райкомов, по распоряжениям и без них, рвались туда сами и там оставались надолго, навсегда. Другие бежали назад уже после первых месяцев, не выдержав, рискуя комсомольским билетом и будущим.
«Это жизнь, новизна, это степь, это новые города, здесь чувствуешь себя человеком», — писал ему школьный товарищ, с детства романтический Толя Дмитриев.
«Рубим камыш, по профессии не оформляют, в палатке восемнадцать человек, напиваются, горланят песни… Больше всего хочу домой», — писал другой товарищ, слабогрудый, мрачный Юра Горлов.
Значит, надо разобраться самому.
Поначалу их отправляли на полгода в совхоз «Амангельдинский» Кустанайской области. Многие буквально рвались ехать, но кое-кто отмотался по состоянию здоровья. У него тоже был момент слабости. Он почти уже договорился о справке. Был такой малый, который все мог. И когда собрали их в деканате и ректор читал список, в карманчике уже лежала та спасительная справка.
Уже прочитали список и надо было только подойти к декану, и он уже сделал несколько шагов, но увидел вдруг лицо отца. Он уже знал это выражение, своего рода гримасу, какая бывает при виде дохлой жирной мухи в углу окна, да и представились рожи ребят, всё понимающие, проницательные: «Заболел, бедненький, болезненный мальчишечка. Москва ему нужна. Москва излечит».
Не хотелось быть Красносельским. Был у них такой Красносельский, всегда заболевавший в ответственные моменты, со скорбным взглядом влажных темных глаз.
Так и не вытащил ту справочку.
«Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами и ты и я».
Было, правда, смутное чувство каких-то упущенных возможностей, счастья пофилонить, пошляться от весны до поздней осени, даже до зимы по любимой им тогда остро Москве. Особенно любил он ее летнюю, опустевшую, с просторными зелеными ее дворами, с маленькими двориками Арбата, с подрагивающими от электричества и волшебства танцплощадками.
Сознание упущенных возможностей никогда не делает человека счастливым.
Однако решил.
Антонина собрала его умело и быстро. Отцу и хотелось, и не хотелось, чтобы он ехал. Не хотелось, чтобы дезертировал, но и чуть боязно было, и потому рассуждал особенно четко и логично: «школа жизни, реальность, самоотверженность» и проч. Отец не чужд был подобных рацей.
Все сверстники Сергея выпивали в последние дни. Прощались со своими девчонками, сидели в кафе, шатались группами по весенней Москве, пели с надрывом: «Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда…»
А потом их построили возле института, посадили в автобусы и грузовики — и на вокзал.
Вот уж и загремели марши, речи, усиленные микрофоном, закачались белые буквы на красном кумаче лозунгов. А минут за десять до отхода сгрудилась в их купе теплая компания — ребята с их курса и еще две какие-то девчонки, которые не уезжали, а пришли проводить.
Одна была приятелева, вела себя почти как жена, давала советы, а вторая была просто подруга, ничья. Была она высокая, тоненькая, молчаливая, с небольшой змеиной головкой в голубой косынке с «голубем мира» Пикассо, в сарафане с вырезом, открывающим загорелую худенькую шею, была она как бы тургеневская, по ошибке надевшая эту голубую косынку с голубем, и только речь у нее была современная, отчетливая, немного едкая и полная внутренней уверенности… В чем только? А руки у нее были неожиданно пухлые, с детскими, в ямках, локотками.
«Руку жала, прово-жала, руку жа-а-ла…» Все пели, кричали, прощались, обещали.
А они сидели, будто они оба никуда не едут, и ему было так легко, тихо, покойно от ее присутствия, что он на секунду решил, что они сейчас вместе встанут и пойдут в город.
Однако не встанешь.
Но уже старосты групп стали волноваться и проверять списки, и начали ходить проводники, освобождая столики от пустых прощальных бутылок, и она встала, поправив свой чуть примятый зеленый сарафанчик, и протянула ему узкую ладонь, желая счастья, удачи и особенно доброго пути.
И он сказал, придуряясь, но, в сущности, совершенно серьезно:
— А давайте я вам письмо напишу. Это же интересно — письмо с целины.
— Звуковое? — спросила она, поддерживая иронию, но как бы не принимая смысла.
— Нет, обычное, на бумаге, на почтовой, в линеечку.
— Пиши до востребования, — сказал приятель.
— Да брось ты, занимайся… — бросил он с раздражением приятелю.
А девушка уже вышла и стояла около подножки.
Он что-то еще бормотал с тем обычным сплавом смущения и развязности, которые возникали у него в такие минуты, бормотал что-то незначащее и все смотрел на эти опущенные глаза, на легкую головку в косынке с голубем, на маленькие открытые ступни в восточных, с позолотой, индийских босоножках. Мысль о том, что уйдет — и все, показалась вдруг невозможной.
Она уже действительно уходила, вернее ее оттирали назад, и чугунный настойчивый голос время от времени вещал: «До отхода поезда остается…»
Вот он снова ее увидел. Она вынырнула в небольшой кучке людей, рядом с райкомовскими мальчиками, держащими в руках транспаранты, и растерянными родителями, машущими руками и глотающими слезы.
— Ну, до свидания! — кричал он ей. — Счастливо оставаться… Извините, если что не так…
Она улыбалась, не зная, что ему отвечать, а в последний момент, когда состав уже тронулся, лицо ее вдруг сделалось таким, какое бывает у тех, кто провожает действительно своих и надолго.
Вся ее фигура в плещущемся сарафане, лицо и рука распластались, устремились за поездом. Она и вправду провожала его, прощалась.
— Пиши мне! — кричала она ему. — Николо-Песковский, 18—23. Ты слышишь?
— Слышу! — крикнул он. — А кому?
— Мне! Гале Батуриной!
Уходил, уходил поезд.
Его девушка махала рукой или платком. Разве разберешь теперь… А может, и не его девушка махала…
Косили камыш с рассвета дотемна, потом их перевели на другой участок, строили совхоз «Амангельдинский»; их стройотряд направлен был на свинарник. Сначала жили в палатках, потом перебрались в саманные домики.
Задували в середине лета жгучие степные ветра, дышать в палатках ночью было невозможно, и он выходил и спал на мешковине. Но жрала мелкая всякая гнусность, мошка.
Иногда и дни казались долгими, однообразными, неповоротливыми. Сколько их еще здесь… А на самом деле они проносились быстро и дело шло к осени.
Уезжал он иногда в Амангельды и в райцентр, где в белой известковой земле стояли азиатские домики с дувалами, а в центре — в горделивой большой папахе каменный Амангельды Иманов. А рядом была почта, и там девушка-казашка кокетливо, оценивающе смотрела на него, будто решая, стоит ли для такого возиться, искала в толстой пачке. Искала. Почти всегда находила от отца и лишь однажды от нее.
Письмо было безликое и, что называется, светское. «Ну, как вы там, на далеких стройках? А у нас здесь в Москве то-то-то и то-то. Не за горами фестиваль молодежи. А также приезжает Ив Монтан», и так далее и тому подобное.
И все-таки обрадовало.
Был звук оттуда, из далекой, несбыточной Москвы, предфестивальной, праздничной. Был сигнал от нее, придуманной и потому интересной девушки с вокзала.
Да и сама эта жизнь в степи вдруг показалась удивительно привольной, счастливой, быстролетящей и бесконечной.
Однажды послали его вместе с Шакеном, водителем, за продуктами в райцентр.
Езды-то было всего сто — сто двадцать километров, но Шакен, восемнадцатилетний парень, круглолицый, с девичьим румянцем, решил вдруг сэкономить время, и они поехали кратчайшим путем, торфяным болотом.
Вначале машина шла сравнительно легко, торфяник подсох и не грозил никакими неприятностями до тех пор, пока они не забуксовали в неподвижной черной, с глубокими морщинами, как лава, жиже. Буксовали, буксовали, потом вылезли и пошли вроде бы хорошо, и вдруг машина враз потеряла точку опоры, и они стали медленно погружаться, уходить в толстую, липкую жижу. Она только казалась упругой, как резина, а на самом деле, все больше разверзаясь, легко, без сопротивления пропускала вниз машину. Их засасывало быстро, бесповоротно.
Он пытался выбить стекло, друг что-то кричал ему, что-то непонятное, по-казахски, — он забыл сейчас русский язык. Сергей не понимал его и уже не слушал этот долгий, тягучий крик; он бил по стеклу, оно не поддавалось, потом треснуло, ломаясь прямо в ладони и горячо обжигая руки, сразу ставшие мокрыми. Он метнулся в острое отверстие, ножом обрезавшее, как бы проткнувшее грудь, плечо.
Открывалось что-то глухо, тускло блестевшее в слоновых серых складках, пахнущее гнилью, смутное, как бы густевшее на глазах. Вцепившись одной рукой в ускользающий борт машины, он схватил Шакена за плечо, тянул к себе, безжизненное тело было тяжелым, точно из чугуна.
Потом это тело показалось ему легким, так же как и свое. Из своего все время выходила тяжесть, влага; казалось, кровь вытекает тонкой неостановимой струйкой, будто водопровод до конца не привернули, и вот она течет, льется, еще минута — и кончится все.
Потом помнилось все смутно: больница какая-то, а точнее госпиталь военный, потому что ближайший был именно военный госпиталь крупной войсковой части, и там его резали, и помнит, что склонялось над ним рябое курносое лицо.
— Ну что? Чего ты? Знаешь, как это говорится: «Все пройдет, как с белых яблонь дым».
Не проходило долго.
Он спрашивал про Шакена, и отвечали, что жив, но ему показалось, — врут.
Но однажды он увидел живого Шакена. Живой Шакен с обвязанной головой, с круглым, без румянца, без цвета лицом, протягивал огромную, загипсованную лапу:
— Ты… спас… Ты, Сережа… Ты тогда спасал, — говорил Шакен, и рот, будто подшитый по краям, пытался растянуться в улыбке, а может, и не в улыбке, может, он плакал, понять было трудно. Сергей только видел, что гипсовая рука подталкивает ему шоколадку. — Отец… мать… благодарят… в Москву приеду… Я приеду… ты приезжай…
Так говорил Шакен, прикрывая второй рукой рот, и непонятно было, зачем он прикрывает, ведь его и так трудно понять. Только когда на секунду опустил руку Шакен и наконец все-таки улыбнулся, Сергей увидел — рот у него, как у младенца или глубокого старика — без единого зуба.
Шакен сумел оправиться раньше него, хотя и был ранен тяжело. Сергею казалось, что они, побратавшись в тот день, постоянно будут держать связь, писать, приезжать, видеться… Шакен пришел его проводить в аэропорт, и, когда самолет откатывался, он все видел белое пятно — забинтованную голову Шакена… Одно письмецо получил, ответил, и потом все прервалось, заглохло, развело навсегда, будто на разных планетах жили.
XII
В Москву привезли забинтованного, на костылях и сразу отправили в больницу со странным названием «медчасть», в хирургическое отделение.
Теперь он ковылял по больничной палате, стоял у окна и смотрел на посетителей. Иногда среди них был отец или деловитая Антонина, но чаще всего посторонние, незнакомые люди, другие шли к другим.
Но однажды, и он себе не поверил, маленькая и стройная, наподобие шахматной пешки, и как бы знакомая фигурка замаячила внизу. Он стал вглядываться, уже веря, еще не узнавая. И также не узнавая, а может быть, и не веря, и она посмотрела на него и помахала рукой в перчатке, как бы ему одному и никому — одинаковым окнам, одинаковым фигуркам в пижамах, кирпичному зданию, безрадостному уже по цвету блеклого, казенного кирпича.
Помахали, постояли, оглядываясь, и поняли оба: «да».
— Как узнала? — крикнул он.
Она не ответила, сделала только какой-то круг руками, мол, случайно.
А потом она появлялась еще и еще, и пустынный больничный двор обрел смысл, звук, цвет травы и жизни.
Однажды он выскочил, минуя карантинные посты, и черным ходом прошел в подвал больницы, открыл дверь и увидел ее, ходящую взад-вперед от главного вестибюля к черному ходу.
Он даже не окликнул ее. Казалось, какая-то волна световая или звуковая повернула ее к нему. И она тут же вошла, вернее, нырнула в это подвальное смутное помещение со сплетением труб, с шахтами лифтов, которые, спускаясь, рождали грохот обвала.
Она стояла теперь рядом, какие-то полуслова выражали радость и удивление и вместе с тем ничего не выражали. Говорить было не о чем, в сущности, да ему и не хотелось говорить. Слишком остро и сильно он чувствовал ее присутствие. Она стояла в бархатной юбке колоколом, румяная, а может, просто раскрасневшаяся и, как теперь, сегодня ему видится, очень молодая, почти девочка. А тогда совсем другое он ощущал и видел. Совершенно незнакомая и одновременно почти родная женщина стояла перед ним, нарядная, в тугом красном парашюте юбки, из которого струились стройные нейлоновые ноги на тоненьких шпилечках, по моде тех лет, его женщина, которую он не знал, по которая была предназначена судьбой (так он тогда видел, так представлял себе судьбу), женщина, которая ждала, скучала, писала ему письма (впрочем, правды ради скажем: писала редко, а скучала ли, он не знает, но условимся так — скучала). И вот теперь, как логическое продолжение всего этого, в минуту большого несчастья его женщина пришла его выручать. И, чувствуя вседозволенность, он молча притянул ее к себе. Какой-то слабый магнит удерживал ее, притягивал к железной, с трубами, стене, сопротивлялся его порыву. Он ощущал в эти секунды ее неподвижность, молчание, незнакомость и еще нежное тепло и тяжесть тела, странный азарт и интерес, какую-то почти спортивность цели. Но вот что-то бешеное, мгновенное бросило их друг к другу, и ничего уже не было ни существенным, ни важным — ни грохот лифта, ни запах хлорки и отвратительное повизгивание ржавых перил; он гнул ее вниз, будто собирался свалить на грязные ступеньки, она стелилась и выпрямлялась, будто деревце какое-то. И он делал с ней все и ничего не мог сделать. О, как это было вновь, как дико и одновременно счастливо, в подземельном грохоте, в бомбоубежищной опасной темноте! И не говорилось ничего, не вспыхивало дежурное слово «люблю», даже и мысли такой не было, даже и не подразумевалось, а было лишь то, что и определить невозможно. В первую очередь, наверное, томление юношеское, молодое, желание и что-то еще, особенно удивительное и, может быть, даже потом никогда не испытанное: первость счастья…
А ведь не ребенок уже был тогда. И знал квартирные закутки, и была Лиза Разина, старше его на несколько лет, переводчица. И помнилось, что в каком-то доме, деревянном, одноэтажном, около Сокольников, собирались двое на двое: она и ее подруга и он с Валькой Рюминым. Говорили тосты и читали стихи, потом разбредались но незнакомым сумрачным комнатам, и Лиза говорила ему что-то нежное, а ему казалось: вранье, говорит просто так, слышала где-то, что так надо и принято, а сама ведь не любит, и все это так, дурной студенческий роман в ожидании чего-то другого и настоящего, что потом придет, а сейчас какие-то ничего не стоящие слова, чужая комната, утоление жажды…
А потом сходились все вчетвером, чуть стесняясь друг друга и оттого развязно и громко разговаривая, включался спасительный проигрыватель, точнее радиола пузатого немецкого «Телефункена», звучал незабываемый блюз: «Мы с тобой пройдем чрез ресторана зал, нальем вина в искрящийся бокал, никто с тобою нас не разлучит, пускай мотив звучит».
И уходили часа в два: «До свиданья, девочки». А девочки стояли тихенькие, корректные, в аккуратных своих юбочках, недотроги, студенточки старших курсов середины пятидесятых годов. И шел домой на Кировскую, мимо Красных ворот, что-то жгло и горело внутри, ощущение временности происходящего, ожидание будущего, которое неизвестно, лучше ли, но обязательно другое.
Потом — тяжелая дубовая дверь, светлый подъезд с ампирной гипсовой лепниной, лифт не работает и мимо подозрительного Петра Федоровича, бессменного вахтера, все знающего или обязанного знать, «кто, откуда, куда», горбуна, еще с достопамятных времен жившего в этом доме, старом московском доме, построенном немецкой компанией в конце прошлого века.
Звучали гулко его шаги, и он утишал их, будто шел в разведку на задание. Мелькали наглухо запертые массивные двери с фамилиями квартиросъемщиков, он знал эти фамилии почти как азбуку, лучше таблицы Менделеева, — там, в этих квартирах, жили его одноклассники, однокашники, а если смотреть с сегодняшнего дня и воспринимать все с исторической дистанции, то сверстники по поколению. Где они теперь, Игорь Кунчеев, Сережа Ломикадзе, Таня Бородкова, Женя Краузе?
Затем он выходил на последнюю площадку, дальше идти уже было некуда, это был самый верхний этаж и его квартира. Открывал дверь, стараясь делать все с гангстерской точностью и осмотрительностью, но, как нарочно, лязгал засовом или ронял ключ, входил в комнату, снимал ботинки. Отец и Антонина спали, но он знал, она все слышит, все примечает — когда пришел, выпивши или трезв, а уж потом когда-нибудь, в другом, к этому не относящемся разговоре аукнется: пришел тогда-то и тогда-то, почти на рассвете, так несло, что хоть святых выноси, сильно подшофе.
«Подшофе» — вышедшее из употребления слово, из тех далеких времен, замененное ныне понятным и точным словом «поддатый».
Ложась, он вспоминал и думал: «С Лизой надо кончать, ни ей, ни мне это не нужно», видел ту комнату, голую, серую, без признаков живущих здесь людей, кровать и пыльные стулья, будто дача не в сезон, и представлялось другое — нарядное, праздничное, светлое, с тускло мерцающими корешками книг в шкафах и с тонкой незнакомой женщиной, стоящей у окна и курившей. Да, она была тонкая, высокая и курила у окна… Он еще не видел ее толком, но знал, что полюбит.
«Мы с тобой пройдем чрез ресторана зал…»
Совсем недавно, буквально года два назад, на стоянке такси на Смоленской увидел приземистую женщину, энергичную и как бы без возраста. Она охраняла порядок, справедливость, равенство всех и не пропускала какого-то нахала, нагло лезшего вперед без очереди. Потом заметила е г о. Отвлеклась от нахала, сказала, как бы сама себе: «Да, конечно», и решительно подошла к нему:
— Сергей?
— Да.
— Ковалевский?
— Так точно.
— Не узнаете?
Он изобразил внимание, недоумение.
— Я Лиза.
«Какая еще? — подумал он, — Не помню такую»… Бедная, бедная Лиза.
— Вы Лиза, это так, я Сергей, но я вас не узнаю. Вы перепутали что-то.
Она посмотрела на него туманно, с неприятной, как ему показалось, игривостью:
— Я Лиза Разина.
— Да?
Он замолчал и стал ее рассматривать, пытаясь узнать.
— Да, да, Лиза.
Но узнать ее он не мог.
— Ну, и как ты живешь, Сергей?
— Да разве расскажешь? Это же вся жизнь.
— Дети?
— Да. Конечно. Сын. А у тебя?
— Нет.
— Ну, а вообще?
Именно «вообще», потому что не следовало задавать ответные вопросы, чтобы не прикоснуться к каким-то обнаженным проводам, чтобы не попасть в какие-то заминированные болевые зоны, из которых потом не выбраться, да и к чему все эти вопросы и расспросы с человеком, которого ты даже не узнал.
— Ну ладно, ладно, я ведь знаю, как это неловко и глупо, — сказала она.
— Что? — удивился он.
— Да все эти встречи с тенями.
— Почему же?
— Знаю, знаю я это. Но вот что самое смешное, ты ведь меня тогда кем считал? Ну, по-честному.
— Как — кем?.. Ну, моей приятельницей, подружкой.
— Нет, не так.
— Девушкой, которая мне нравилась.
— Да что ты, сейчас-то!
— Ну, своей девушкой…
— Нет, врешь.
— Ну, раз вру и раз все «нет», зачем спрашиваешь? Может, ты сама и скажешь?
Она посмотрела на него и вновь, как и вначале, туманно усмехнувшись, легко и даже нежно произнесла короткое мужицкое словцо. И добавила:
— Вот кем.
— Да брось, чего ты там городишь!
— А знаешь, что самое смешное? — сказала она, не слушая его. — А самое смешное, что я тебя любила, и еще как. Ты был моей первой любовью.
— Первой? — сказал он, не в силах скрыть иронию.
— Да, любовью первой… — Она помолчала и сказала, усмехнувшись: — Извини, и до свидания. И спасибо тебе за то, что ты не говоришь, что я совершенно не изменилась.
— Да ну что ты, — сказал он. — Все мы немного все-таки меняемся.
Она уже не слышала, повернулась и энергично побежала, махая рукой подкатывающему такси.
Шел потом по Садовому кольцу и думал: «Как же это так? Я ведь за все эти двадцать лет, кажется, и не вспомнил о ней ни разу, я и тогда ее не знал, а сейчас и вовсе не узнал, и лицо то ее, прежнее, вспоминаю с трудом, а о чем мы тогда разговаривали?.. За все эти двадцать лет, только когда попадал в те края, как бы тихое эхо тех Сокольников слышалось. Точнее — тогда были не Сокольники, а нынешняя Преображенка, тогда хулиганская окраина, темные домики с палисадниками, собаки; сейчас ничего не осталось. Многоэтажные корпуса с универсамами, будто тот район существовал в давние века да и вообще не существовал, не осталось ничего, ни лица, ни слов, только само сочетание имени и фамилии, как позабытый код: «Лиза Разина». А еще, помнится, она учила испанский язык, и однажды в их компании появился какой-то испанец, но вроде не настоящий, он важничал, темнел, строил из себя какого-то подпольщика, борца, рискового человека. А может, он и был таким, кто знает. И помнит также, как она говорила: «Как трудно устроиться на работу с испанским языком! Никому сейчас не нужен испанский язык!» (И действительно, тогда еще не пришло время испанского языка.) И, чуть выпив портвейну, она читала Гарсиа Лорку, все один и тот же «Романс о черной жандармерии», и говорила, что никогда не быть ей в Гренаде. Интересно, была все-таки или нет?
Впрочем, у кого не получается с личной жизнью, не выходит и с поездками.
…Но тогда, в больнице, в подвале, все было счастливо, празднично, и, целуя свою новую и единственную теперь женщину, он решил уже про себя: «Да. То. Надолго. Навсегда».
Теперь она приходила каждый день. И каждый день до самоистязания обнимались они в этом грохочущем, затянутом паутиной, пахнущем плесенью закутке, но не было ни стыда, ни страха, и легко и радостно было смотреть друг на друга, когда она выходила и стояла около открытой двери. Оттуда тянуло запахом воли и весны.
Когда он приходил в палату после этого, то хотелось разговаривать со всеми одиннадцатью ее обитателями, в том числе на главные темы, которые обсуждались в эти дни в палате. А темы эти были такие: а) установка в женском отделении телевизора с линзой; б) главный хирург Дмитрий Павлович, который, по общему мнению, все мог и все умел, вот уже неделю не появляется в больнице (и поговаривают, правда это держится в строгой тайне, что у него инфаркт, поэтому все, кто хотел именно к нему на операцию, приуныли); в) сквозняки в палатах и незаклеенные стекла; г) результаты футбольного сезона и степень подготовленности нашей сборной к первенству мира в Стокгольме; д) унылое однообразие гарниров в больничной столовой; е) женщины; женщины вообще, женщины данной больницы, в том числе представительницы медперсонала, а также находящиеся в данный момент на излечении.
И, наконец, последнее, свежее: странная судьба девушки Зины, три дня назад доставленной в приемный покой.
Когда он приходил, рыжий Сашка, рябой мужик, грузчик, лежащий с ущемлением грыжи, хмуро помаргивая и понимающе скалясь, говорил:
— Ну, как там… Какая перспектива на любовном фронте? Смотри, как бы не накрыли… за этим самым.
В старые времена, может быть, он бы и оскорбился на такую пошлость, дал бы по морде обидчику, посягающему на святая святых, но сейчас никакого оскорбления, никакого душевного протеста и обиды он не чувствовал. Эти разговоры не имели ровно никакого отношения к тому, что происходило в его жизни. Это был другой язык, обозначавший именно то, чего не хватало сейчас этому здоровому парню, надорвавшемуся на пустяке, на чешской хельге, которую тащил один без ремней, так как решил сорвать на пару бутылок один и в результате глупо накололся. Этот парень с хмурыми голубыми глазами, обиженно блестевшими на большом белом лице, смотрел на сестричек, гарцевавших в коротеньких халатиках и быстро и покровительственно поглядывавших на мужскую молодую часть больничного населения, принимая снисходительно-повышенный интерес к себе и выказывая в отдельных случаях сдержанный интерес к некоторым индивидуумам в мужской хирургии.
Были они легки, вились халатики, открывая крепкие, здоровые ножки; эти развевающиеся халатики живо вспыхивали в белых мертвенных проходах, между высокими конструкциями кроватей с белыми лебедями суден под ними, в холодильной зиме, у которой отняли снег, солнце, лыжи, радость передвижения.
Простынный, белый, пахнущий хлоркой мир бесполого пространства.
А в квадратах окон, обклеенных газетами, чуть наливалось голубизной предвесеннее небо.
Девушку Зину он увидел на следующий день.
Все смотрели популярные в те годы студенческие передачи, где сообразительные и бойкие одесситы состязались в смекалке с дисциплинированными технарями из политехнического. То было время студенческих ревю, театра МЭИ и проч., и проч.
В холле сидело множество людей в серых байковых халатах и пижамах, громко смеялись, а палаты, где стонали тяжелые, были на этот раз плотно закрыты.
Где-то позади всех сидела девушка с удивительным лицом. Было даже трудно определить, чем поражало это лицо. Да и неправильно сказать «поражало». Точнее — заставляло обернуться и долго в него всматриваться. И когда он ее впервые увидел, вернее разглядел, то оно отложилось в его недлинной памяти в ряду нескольких лиц, поразивших его красотой. Он их помнил наперечет: девушка в Севастополе, она стояла в очереди на Морском причале, ждала катера на Омегу. Красавица? Опять не так. Просто лицо, лик, поразивший чистотой и нежностью, овалом. Хотел бежать за ней, знакомиться, кадрить, но посмотрел на это лицо и не смог подступиться. Помнил еще одну, в Костенках под Воронежем, на студенческой практике, на «мотаниях» около деревенского клуба. Девочка лет пятнадцати-шестнадцати. И тогда, также не смея подойти, он застыл в изумлении: драгоценно, небесно светились светлые, ничем еще и никогда не замутненные глаза. Таких, как эти две, он видел лишь в альбомах эпохи Возрождения. Они белели лбами винчианских мадонн… Вот из такого-то короткого ряда было и лицо Зины, находившейся в тот момент на излечении во второй хирургии.
Так же как и все остальные, она тянулась к свету голубоватого маленького квадратика, увеличенного выпуклой линзой, отчего изображение приобретало слабый водянистый венчик. Темный ее зрак, как бы отразившийся в этом веселом квадратике, был неподвижен.
Она сидела тихо, незаинтересованно, мертво, опустив руки на колени, а колени ее были закрыты чем-то темным. Иногда она откидывала голову и поводила плечами, и тогда вся ее фигура отплывала назад.
Она сидела в кресле-каталке.
Она не могла ходить. Как говорилось встарь, «обезножела». Это не было результатом долгой болезни, у нее не были нарушены в результате каких-то сложных процессов двигательные функции.
Просто она переломала все свои косточки, выбросившись из окна. Вот эта история в передаче сестер.
Познакомилась с двумя какими-то. Один то ли артист, то ли учится на артиста. Играет на музыкальных инструментах. Даже, по ее словам, показывал ей этот инструмент в черном футлярчике. Вроде флейты.
Второй был не артист, а просто так, приятель. Ребята были как ребята, одеты небогато. Зина им очень понравилась. Произвела впечатление. Познакомились. Пошли в кафе «Русский чай» на Кировской. А там выпить не дают. Один из них говорит: «Пойдем напротив, в «Сатурн». Там есть парень джазист, свой, устроит». Но парня того не оказалось. В ресторан не попали.
И что теперь делать?
Артист говорит: «Пошли ко мне». Неартист поддерживает: «Давайте посидим, музыку послушаем, поговорим».
И она, рассказывают сестры, была в смущении. Сомнения у нее возникли. Идти так сразу — нехорошо, неверно. А не идти — жалко, интересные ребята, она еще таких не знала. И все-таки решила — не идти. Пошли в общественное место. Потоптались у порога и не попали. Тогда артист снова приглашает и, не дождавшись ответа, бежит в гастроном. И все делалось так без ее согласия, но будто бы она уже согласилась. Приехали домой. Все нормально. Завели музыку. Разговоры. Где ты учишься? А она нигде не учится. Бросила. Потом она танцевала сначала с одним, потом с другим. Они снова стали предлагать выпить. Она отказалась. Они сами. Оказалось, у них еще бутылка была, кроме того, что в гастрономе купили. Потом вышли из комнаты и стали о чем-то спорить. Это ей уже не понравилось. Потом один, неартист, вернулся, они стали танцевать, но все уже было не так, как раньше. Он опьянел, стал лезть к ней. Она оттолкнула его.
На суде потом он утверждал, что она нанесла удар в лицо. Ей было странно слышать «нанесла удар». Просто хлопнула его ладонью по щеке.
Он начал ругаться, кричать:
«Ты что, девочка, что ли?»
«Да, девочка», — она ответила.
«Ну, тем более, пора начать».
Она его послала куда подальше.
Тогда появился второй. Он был настроен более мирно:
«Ну и черт с ней, пусть катится».
Но первый стал орать на него. И тот полез тоже. Они оба лезли и угрожали.
Ей стало казаться, что они ее убьют. Тогда она решила схитрить:
«Ладно, я согласна, только вы уйдите из комнаты».
Она хотела запереться. Но они, конечно, никуда не ушли.
Она стала быстро ходить по комнате, подошла к окну. Увидела: этаж третий, вроде невысокий. Она этого не боялась. Она не боялась высоты. Она боялась их. Девушка — спортсменка, разрядница, гимнастка. Она вспрыгнула на подоконник, обернулась к ним и крикнула:
«Чао, дураки!»
Она помнит, что земля подбросила ее, как будто она прыгала на батуте, но батут был железный. Тем не менее она встала на ноги и пошла. От этих двух идиотов подальше, подальше.
И тут она услышала пронзительный женский голос:
«Девушка выбросилась!..»
И тогда она села на землю, на асфальт. Хотела встать, чтобы никто ее здесь не видел.
Но не встала.
А сейчас она сидела молча и смотрела КВН… Одесситы были находчивее, москвичи веселее.
Потом еще он видел ее в тихий, послеобеденный час. Она ждала кого-то. Приходил человек, высокий, с военной выправкой, в спадающем с прямых плеч халате. Он внимательно наклонялся к ней и все спрашивал, спрашивал. Она отвечала вяло, неохотно. Потом он ушел, а ее увезли в палату.
— Следователь, — сказала дежурная сестра с уважением, с сознанием важности происходящего.
Мнения у медперсонала разделились. Правильно ли поступила Зина? Может, уступила бы — и была бы, значит, с руками и ногами, как все. Другие же сестры с этим категорически не соглашались, считали, что она поступила, как и должна была поступить. Честь дороже. Единства во мнениях не было. Но все сходились на одном: жалко девушку. Тем более такая красивая. Выходит, от красоты и страдает. Верная получается пословица: «Не родись красивой…»
Несколько раз Сергей разговаривал с пей. Она говорила медленно, трудно, будто с усилием возвращаясь из далекого отсюда мира.
Однажды он рассказал ей какой-то студенческий анекдот, привезенный с целины. Она рассмеялась. Смеялась долго и с наслаждением. Улыбка у нее была детская и простоватая. Может, оттого, что зубы у нее были щербатые. Когда она улыбалась, он подумал: «Ах, как бы я за ней бегал, как бы я ее, наверно, любил, если бы не это».
И тут же отогнал эту мысль.
В день своей выписки, счастливый сей день (ожидая выписки, собирая пожитки, сдавая казенное, названивая из автомата домой, сообщая, так сказать, сводку последних известий), он счастья не чувствовал — оно только смутно угадывалось. И сейчас еще его лицо сохраняло специфически больничное выражение, сугубо озабоченное и деловое, лицо человека, который должен поспеть на физиотерапию, подготовиться к какому-нибудь там промыванию, или прочищению, или сачкануть с данной процедуры, который должен также подготовить себе культурные развлечения, занять место перед телевизором, очередь на партию в шахматы, который должен не забыть заскочить на секунду и в женское отделение, увидеть, что там происходит…
Вот так выглядел он, именно озабоченно-деловым, а не счастливым и парящим уже над всем э т и м.
Он простился с многочисленными своими соседями, с персоналом, со всеми, с кем можно было проститься; почему-то ему захотелось проститься и с ней, с Зиной. Он заглянул в ее палату. Соседки ее сказали, что она на операции. По громким голосам сестер, уборщицы, но полуоткрытой двери в операционную он понял, что там уже все кончилось.
Он догнал Зину в коридоре. Ее везли на каталке. Лицо ее было открыто. Не было в нем следа боли, страдания, но, казалось, не было и следа жизни. Белое лицо покоилось на жесткой подушке.
— Зина! — с ужасом сказал, а может быть, даже крикнул он.
— Ты что голосишь, человек после операции, — сказала ему сестра.
— Да она… она… вы посмотрите! — сказал он, боясь еще раз посмотреть на ее лицо.
— Ну что — она, — сказала сестра и прикрыла Зинин подбородок простыней. — Нормальное дело, после наркоза.
Он все еще не понимал, не верил: казалось, сестра обманывает, и он наклонился над нею. Движение застопорилось, кто-то стал отпихивать его, а он все всматривался, ища дыхания.
— Да что это? — бормотал он.
Белая тележка уже скрылась в палате, и он остался один в коридоре. Потом он подошел к ее палате и видел, как ее устраивали так, чтобы голова лежала достаточно высоко, и как рядом с ней устанавливали капельницу. «Да, она жива», — впервые за эти беспорядочные и долго летевшие мгновения понял он и стал спускаться по лестнице вниз. Он шел, держась за перила и чувствуя, как ослабели все-таки ноги за месяцы лежания, слышал голоса людей, стоявших у телефонов-автоматов на холодных площадках. О чем они просили? Кого ждали? О чем договаривались? Слышалось звяканье монет, клацанье рычажков и как бы один все время продолжающийся, только на разные голоса, мерный разговор.
Спустился вниз, мимо белых, наглухо заклеенных окон второго этажа, в белый стеклянный коридорчик первого, мимо громко рычащей, всегда озлобленной вахтерши с пропусками, еще шаг — и последний автомат, у дверей, автомат полусвободы, холл, справочное окошко, а там уже двор, снующие больничные пижамы, парк, оглушающий вдруг голосами, ветром, стуком домино, и навстречу идет она, его женщина.
Он разглядывает ее так, будто видит впервые. И действительно, впервые в нормальную величину: не из окна вагона, не с высоты шестого этажа, не в больничном подвале. Действительно впервые.
— Да, вот так, — зачем-то говорит он, забывая другие, еще секунду назад горевшие слова.
Перед ним еще та палата, капельница, лицо Зины, не лицо, точнее, а маска, гипсово-неподвижная, и он говорит:
— Девушку ту оперировали. Кажется, она жива.
— Да все будет в порядке, и ты сейчас забудь об этом, просто забудь, — тихо, материнским таким голосом говорит его женщина.
Его успокаивает этот тон, и он действительно начинает забывать. С каждым шагом он помнит все меньше.
— Вот так, конечно, — говорит она и забирает у него сверток с вещами.
Он догадывается, что она ждет, когда он ее обнимет. Он ее обнимает, и они долго идут по парку. Больница остается позади, ее прямые кирпичные корпуса сереют над деревьями. Он поворачивается, останавливается, что-то прикидывает, вычисляет, ищет окно своей палаты, окно Зининой.
— Прощайся, прощайся с больницей, и хватит об этом, ты уже здоровый, посмотри на себя.
— А как я посмотрю на себя? — говорит он и вглядывается и будто бы находит квадратик того окна.
— Город такой праздничный! Мы с тобой пойдем в центр… Будем гулять, — говорит ему его будущая жена.
— Почему? — спрашивает он. — Почему он такой праздничный?
— Ты совершенно там оторвался от жизни, ты с луны, что ли, свалился? Скоро фестиваль! Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
XIII
В институте организовывались отряды по охране порядка, висели плакаты: «Очистим территорию от грязи!», «Микрорайону — образцовый порядок!» Чистили и драили двор, и он копался со всеми, хотя по болезни был освобожден от всяких физических и общественных нагрузок. Все ждали фестиваля. Каждый вечер он встречался с ней, они шатались по приукрашенным улицам центра, сидели в парках, сквериках.
Все было теперь не так, как в больнице. Дурман, страсть и какая-то больничная обреченность встреч в бомбоубежище сменились постоянством, стабильностью и некоторой замедленностью действий: ходили, гуляли, разговаривали, молчали, целовались на бесчисленных этих скамеечках, но уже без того сумасшествия и отчаянности.
Сквозь обманную тьму Нескучного сада, сквозь его шорохи, вскрики, замирания, повизгивания, шепоты, сквозь летний московский уют проползала, пробиралась тревожная мысль о дипломе, о будущем, — куда направят: в туркменскую экспедицию к профессору Массе или в воронежскую к Котомкину. О том, куда важнее, и о том, что с ней придется расстаться. Мысль о будущем, о том, что надо что-то решать, и бесповоротно, и что от этого решения будет зависеть все дальнейшее, обдавала холодком. Хотелось подождать с решением. Не сейчас. Не сразу. Хотелось сладостно вспоминать трудности целинного времени, это было слаще и легче, чем готовиться к новым. Хотелось отодвинуть тот простейший бюрократический момент, от которого во многом вся будущая судьба зависит. И видел он мысленно меловые горы в Костенках, там уже был на практике, и многие друзья там работали в экспедиции. И видел также Туркмению, раскопки древнего Мерва, Султан-Санджар. Все это волновало неизвестностью, новизной. А что с ней делать?
«А что, собственно? — отвечал он сам себе. — Расстанемся… Большое видится на расстоянии. Когда кипит морская гладь… Ведь был же я до нее — сам».
— Расстанемся, Галь, — говорит он ей.
— Тебе что, домой пора?
— Да нет, я в другом смысле.
— В каком это?
— Ну, в глобальном.
Она замолчала, как бы поперхнувшись.
— Давай. Ну что, встали…
Она встала, и он притянул ее к себе, прижался к ее юбке, чувствуя тепло ее ног, балдея.
— Да что ты, что ты… Это все так.
А она и вправду отрывалась, вырвалась, пошла куда-то, в чернильную темноту. Он бросился за ней, догнал ее, шутил и всячески заглаживал и замаливал, но она была отчуждена, суховата, а простилась величественно и надменно.
И он понял: о н и таких шуток не понимают.
Нагрянул фестиваль. Теперешняя Москва, привыкшая к чемпионатам, конференциям, конгрессам, делегациям, гостям, туристам, ничему не удивляется, все приемлет в порядке вещей.
Тогда это было вновь. Иностранцев в Москве было немного, и они обращали на себя пристальное внимание. Было еще неясно до конца, какие они, зачем приехали, чего хотят.
А тут толпами, только головой успевай вертеть: в сари, в бурнусах, полуголые и наоборот, волшебно элегантные, белые, черные, желтые и какие-то нездешне голубые, что-то кричащие на десятках непонятных языков, машущие из окошек автобуса.
Это были прекрасные деньки. С утра до вечера они с Галей шлялись по улицам, участвовали в манифестациях, митингах, смычках, братаниях, скандировали «Миру — мир!», угощали прогрессивную молодежь эскимо, обменивались значками, жали руки, обнимались, пели и смеялись, как дети.
Однажды познакомились с какими-то дивными латиноамериканцами. Было это на сквере, против «Ударника». Трудно было определить, бразильцы они или чилийцы, а может, уругвайцы или даже панамцы, не исключено, что из Коста-Рики. Один был высокий, гибкий, с осиной талией, с какой-то прекрасной уверенностью в походке, со счастливой младенческой улыбкой, никогда не сходившей с уст; казалось, следы многовекового колониального унижения не оставили в его маленьких, доверчиво распахнутых глазах никакого следа.
Второй был маленький, более сдержанный и все время руководил первым. Поехали с ними на ВСХВ, ходили по павильонам, по площадям, показывали, угощали. Очень хотелось, чтобы им все тут понравилось. И им нравилось — все. Шли уже в обнимку. Еще не пели, но уже хотелось петь — верный признак полной близости и взаимопонимания. Зашли в филиал шашлычной «Узбекистан», что сблизило еще больше. Расставаться было невозможно, а идти в казенные покои их гостиницы не хотелось.
И тогда он позвонил своему приятелю, у которого была комната.
Сейчас никого не удивишь не то что комнатой, — квартирой. А тогда у ребят его возраста даже и мечты о собственной квартире не могло быть. Комнатку бы. Приятель с комнатой — это был почти что владелец замка, человек редкостных возможностей.
Так вот, он был знаком с одним таким.
— Сейчас возьмем кое-что и приедем.
А с кем приедем, не сказал.
Звонили в большую, пухлую, как в тулуп одетую дверь с прикрепленными к коленкору табличками. Звонили весело, гоготали у этой сонной двери, потом открыл приятель, несколько удивившийся, но не показавший виду. Шли долгим коридором коммунальной квартиры, маленькая соседская девочка зачарованно смотрела на них, а они счастливо, лучисто улыбались ей черными до синевы глазами. И сразу в продолговатой комнате с аквариумом, портретом Маяковского на тоненькой этажерке и огромной менделеевской таблицей элементов на стене воцарилось немыслимое веселье. Поразительная была какая-то в этих двух парнях свобода и легкость общения, запас природной, ничем не ущербленной радости, полная раскованность и умение чувствовать себя всюду, как дома. Жесткие сиденья стульев заменили ударник: именно на них отбивался четкий, звонкий ритм; все, взявшись за руки, танцевали, кто-то еще пришел, круг постепенно расширялся.
И начали петь. Сначала «Песню дружбы запевает молодежь». И, раскаляясь, веря, любя друг друга, обнимаясь со всеми находящимися в комнате и мысленно со всем миром, твердили с вдохновением: «Не убьешь, не убьешь». Потом пошел другой репертуар. Огненные, бешеные самбо буквально опрокинули, перевернули длинную, пеналообразную комнату, и даже вялые, полузадохшиеся рыбки заюлили в своем аквариуме, разбуженно задвигались.
В этом общем гуле радости и движения возникали, впрочем, и свои внутренние маленькие вихри, незаметные глазу частицы сталкивались и образовывали потоки. Длинный латиноамериканец неожиданно проявил все нарастающий интерес к его девушке, Гале. Поначалу интерес этот был ему даже приятен, лестен, как бы носил характер международного признания ее женских достоинств и создавал особую интернациональную общность. Но затем показался ему несколько чрезмерным и вызвал первое робкое внутреннее сопротивление.
Началось все с того, что латиноамериканец пригласил ее танцевать. Она вышла на круг с большой робостью, с некоторой даже обреченностью и начала тяжеловесно парировать его изящные выпады, повороты, закручивания.
Она старалась. Он парил и летал. Но внезапно скованность покинула ее; может быть, ей передалась его легкость или что-то еще с ней произошло, но вот она завертелась тоже с быстротою необыкновенной, в движениях ее появились задор и свобода. Танцевать с ней после латиноамериканца было трудно, он воображал себя старой грузовой лошадью по сравнению с нарядным цирковым коньком, в результате чего сел в уголок, предоставив ей возможность повышать свой класс с редкостным партнером. Но, увлекшись, партнер стал чуть крепче прижимать ее к себе, чуть дольше держать ее руки в своих, чуть более загадочно, чем это требовала международная рабочая солидарность, заглядывать ей в глаза. Будь это парень из с в о и х, он бы знал, как поступить, а тут приходилось терпеть, проявлять выдержку и понимание. Он и проявлял. И ведь нельзя сказать, что латиноамериканец позволял себе какие-нибудь явные излишества, что-нибудь на грани штрафного, фола. Нет, этого не было. Просто он увлекся. И что было особенно странно и отчасти даже неприятно — увлеклась и она.
Веселье было в самом разгаре, когда начался стук, сначала предупредительный — куда-то в потолок (сигнал вначале не был понят и принят), потом короткий и решительный — в дверь, и наконец двое жильцов из другой квартиры вошли в их комнату. Лица их были исполнены законного гнева. Было далеко за полночь, и, согласно постановлению, не полагалось пользоваться музыкальными инструментами, танцевать, всякими другими способами нарушать порядок. Вошли они очень грозно, решительно, не желая вступать ни в какие диалоги, но увидели необычных гостей и оробели.
— Гости фестиваля, — объяснял хозяин. — Друзья наши. Издалека приехали. С огненного континента. Борцы за мир, между прочим.
Гости одарили вошедших улыбкой, полной приязни, доверия и такого непонимания ситуации, что те, отказавшись от предложенной выпивки, но также и от санкций, достойно и даже приветливо удалились.
В этот момент он дал ей знак. Главное, как известно, вовремя смыться. Она подчинилась с еле скрываемой неохотой.
В длинном уснувшем коридоре были слышны голоса, смех, музыка, звон посуды, не только не стихающий, но как бы еще более яростный, гул уже чужого им веселья. Он открывал одну за другой задвижки, замки, она стояла вполоборота, еще прислушиваясь к тому, потом дверь захлопнулась.
На улице было многолюдно и тоже празднично, и ему захотелось быть одному, как раньше, как до нее, толкаться на улице, глазеть, приставать к незнакомым девушкам, знакомиться, а эта так называемая его девушка пусть делает что хочет, может быть даже пусть вернется туда, где они только что были. Каждый должен делать то, что он хочет, все остальное ложь и ерунда… «Зачем я увел ее оттуда? Это только кажется, что мы одно целое; подует ветерок, и мы распадемся на разные части, на отдельные и едва ли соединимые вещества… Вот сейчас я могу уйти от нее и взять под руку вот эту, беленькую, с чистым скучающим личиком, пойти с ней, разговаривать, будто мы уже год знакомы, а этой будто и не было никогда в моей жизни. А она может вернуться и будет слушать непонятную речь этого парня, а меня будто и не было, и, может быть, даже — ну, допустим такую крайность — уедет в какую-нибудь там Колумбию или Перу навсегда. Все случается… И почему именно она? Проводы на целину, больница, случайность. Но, скорей всего, встретит какого-нибудь парня, когда он будет в экспедиции, в отъезде, и это уже будет другая судьба, о которой он, очевидно, мало что узнает».
Отдельность от нее и случайность — вот что казалось ему сейчас самым важным и очевидным.
Горели тепленькие, веселенькие огоньки ночных квартир, баяны раздували мехи, и смех слышался громкий, освобожденный, и пробивались кое-где гитары с неопределенным блатноватым уличным репертуаром, еще до «булат-окуджавского периода»… Летний вечер был душен и ал. Впрочем, какой вечер, — казалось, вот-вот рассветет.
— Куда ты так спешишь? — спросила она.
— Домой, домой пора.
— Идем к людям. Послушаем музыку. Смотри, какая ночь.
Он, не отвечая, вел ее к дому. У дома она поцеловала его и сказала тихо:
— Какой ты маленький, глупый, так не хочется расставаться. Я так тебя сегодня любила…
Он усмехнулся, махнул рукой, деловито и быстро пошел.
Это было лето решений. Решений, которые так и не были приняты. Все продолжалось, и ничего не начиналось.
Осенью он уехал с экспедицией профессора Массе в Среднюю Азию.
XIV
Двор был пуст; дети носились по огороженному проволокой загончику, копошились, падали, стучали клюшками, движение их было подобно ртути, беспорядочно-неостановимо. Один из мальчишек ростом и фигурой походил на его сына. Но, подойдя поближе, он увидел: этот не его, чужой.
Очередь перед аттракционами медленно двигалась, и вот уже дежурная повелительно ткнула в повисшую над площадкой как бы вибрирующую от недавнего полета машинку. Они влезли, уселись. Дашкина бойкость и смелость вдруг сразу улетучились. Она примолкла, а он, наоборот, начал тараторить без умолку. Был лих, бесстрашен и подтрунивал над ней, потому что сам немного боялся. Это был аттракцион особый, даже табличка висела: «Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также дети до шестнадцати лет не допускаются». Он не походил на степенные аттракционы старого парка, когда медленно болтаешься в вагончике, потом как бы срываешься со ступеньки на ступеньку и что-то тошнотворно перекатывается из груди в желудок, и ждешь движения и чуда, а кабинка уступами бессмысленно соскакивает вниз со ступеньки на ступеньку.
Нет, здесь был мощный агрегат со злым свистом, потом с грохотом, будто водопадная струя, круша все, громыхая, низвергалась и несла… Красные, облитые лаком ракетообразные кабины переворачивались и падали. Их взлет сопровождался музыкой, здесь был своеобразный музыкальный эффект; оркестровый взрыв тоже как бы подбрасывал кабину, посылая ее в пропасть, и она летела, выходя из своей орбиты, почти задевая деревья, ускользая от соприкосновения с их верхушками как раз в тот момент, когда ты, весь сжавшись, уже предчувствовал удар, взрыв, конец всего и тебя в том числе. Адская была машина. Гордая Дашка вцепилась в его руку, попискивала, говорила тоненьким голосом: «Домой хочу, к маме», и все это было ему приятно, и свое превосходство он выразил в том, что погладил ее по волосам.
Мелькали пятна — то ли лица, то ли песок внизу, — музыка замирала, слышался только скрежет сцеплений, и весь путь космонавтики и астронавтики от Гагарина до Стаффорда стал понятен, возможен и был почти пройден ими.
Но вот и замедление, и приближающаяся земля, и другие жаждущие риска и высоты. Вышли, пошатываясь. Как пишут в книгах, «земля плыла под ногами». А точнее, она быстро и осязаемо вращалась.
— Еще хочешь? — сказал он, гусаря, зная, что не ошибется в ответе.
Она только скривила рот и сделала круглые глаза, полные ужаса и отвращения.
— А я мог бы. Даже запросто. Острые ощущения, блеск.
— Пошли в Нескучный, — сказала она. — Там тихо.
Они пошли, и он замечал, как разнообразна жизнь в парке, как он словно бы разбит на своего рода пояса, различные как по обстановке, так и по занятиям.
Первая часть, с аттракционами, была шумна, напоминала площадь или стадион. Вторая словно бы предназначалась для красивой, сытой и праздной жизни. Здесь пахло бараньим жиром, острым шашлычным духом, во все ресторанчики и павильончики стояли очереди; людей было слишком много, казалось, они будут стоять так до рассвета, вдыхая и ловя чуткими ноздрями этот необычайно волнующий запах; скрипели уключины в пруду, в полутьме медленно разъезжались лодки, на тускло белевших мостиках стоял кто-то, обнимая кого-то невидимого. Это была зона праздника, знакомств, легкого флирта, первых смущенных, почти что дружеских объятий.
Тайные объятия начинались дальше. Там, где исчезал запах мяса и угольков, затихали голоса, где блестела тусклым металлом река, где в углублениях стриженой листвы стояли скамейки с притаившимися, замершими людьми. Здесь надо было идти не глядя, не оборачиваясь, не оглядываясь по сторонам. Только вперед и по прямой. И быстро. И он так и шел. Но испытывал смутное и немного липкое чувство стыда и любопытства. Впрочем, любопытство подавлялось, а стыд не выдавался. И он шел с ней рядом как ни в чем не бывало, только говорил чуть громче, чем следовало.
Неожиданно в этой теплой смутной тишине откуда-то сверху послышался перебиваемый ветром и шорохом мелодический звук. Они тут же узнали его — мелодию из «Крестного отца».
Трудно было передать и объяснить власть именно этой музыки, этой мелодии. Она вдруг переносила тебя из этого темного парка с липким шорохом в другой, огромный, солнечный, может быть даже на берегу моря. Не исключено даже, что с пальмами и с какими-нибудь огромными яркими цветами. Ты шел с ней, да, именно с ней, и ты и она были другими: ты был мужчина, она — женщина. Вот именно так: парк, море, музыка, вы равные и не последние в мире взрослых, никакого страха, подсчета копеек, гляденья на часы — «домой пора», стесненности, неудобства взять за руку, незнания, о чем говорить, пустых слов, добываемых с таким трудом, будто они те самые, из-за которых изводишь тысячи тонн словесной руды, будто не будет завтрашнего унижения перед чистой доской, резкого вызова по фамилии, когда ты словно лишаешься имени, родителей, дома, казенный человек — один, без знаний и без защиты, постоянно ждущий наказания неизвестно за что.
Нет, не машина времени из детских книжек, а всего лишь непрочный, пропадающий куда-то клавишный звук, перебиваемая шепотом и ветром записанная где-то далеко на пленку мелодия.
— Ты что бормочешь? Заклинание, что ли? — спрашивает Дашка.
— Вроде того. Слышишь?
— Да, я это тоже очень люблю.
— Отлично. И будто в первый раз слышишь. Помнишь, как в лагере ее же крутили?
— Помню.
— Ты тогда все время чего-то из себя строила.
— Наверное, я такая и есть.
— Какая?
— А я не могу определить. Я никогда не знаю, что я сделаю дальше.
— Молодец. Человек-загадка. Тебя надо в институт, в колбочку.
— Не смейся… Я действительно не знаю. Мне хочется сказать что-то хорошее, а я говорю плохое. Я не знаю, что я сделаю через пять минут.
— Но, может быть, ты сейчас кинешься в воду в одежде и поплывешь?
— Нет.
— Значит, ты знаешь все-таки, что ты сделаешь, а что нет. И что можно сделать, а что нельзя.
— Нет, это другое. Если я сделаю такое, я буду смешной, глупой, а самое мерзкое — быть смешным. Помнишь, у Толстого в «Войне и мире»?
Он, конечно, не помнил и хмыкнул:
— Припоминаю.
— Я тебе не могу объяснить всего… Просто я хочу быть свободной в своих словах и поступках и решаю: вот сейчас я скажу тому или иному человеку все, что думаю о нем, но открываю рот и не могу сказать. Хочу, но не умею.
— А я верю только в поступки.
— Ты?!
— Да нет, это тоже цитата… Нет, не Толстой, не Чехов… Это наш физкультурник. Он верит только поступкам. Вот ты перепрыгнула через козла — он верит, а принес справку «освобожден» — он не верит.
— Ладно, хватит о физкультурнике. Смотри, как дом на горе светится.
— Ну и что? Тебя туда не пустят. Это однодневный дом отдыха.
— А вон еще дом. Еще светлее и волшебнее.
— Опять романтизм. Это кафе «Восток».
— А там музыка, слышишь? Пошли?
Он пошарил рукой в кармане. Там был мокрый от газировки, тяжеленький комочек. В два туго скомканных рубля было положено еще железа копеек на восемьдесят. Но хватит ли этого на кафе?
Он если и ходил, то с отцом или с матерью и не знал, сколько там чего стоит. А с ребятами они ели мороженое на улицах.
То ли она услышала его внутренний голос, то ли по лицу его догадалась, но она сказала:
— Ты не беспокойся, у меня есть.
— А я и не беспокоюсь. У меня у самого есть.
— Ну так что ж…
— Давай, — бодро сказал он, хотя и не был готов внутренне к этому посещению, обстановка и манера поведения были ему неясны, и, кроме того, он знал, что живет уже в запрещенном, ему не принадлежащем времени.
…Ни во дворе, ни на улице рядом Сергей мальчика не нашел. Он сел в трамвай и поехал туда, где была его прежняя квартира.
Швейцар в раздевалке глянул оценивающе, естественно, свысока; мелюзгу, как и все другие швейцары, он не любил, но, скривив брезгливую мину, все же пропустил.
Кафе это не походило на те дневные кафе-мороженые, куда он приходил иногда с родителями. Там, в тишине, в бассейной белизне кафелей, мальчики и девочки торопливо поедали розовые шарики, запивая их газированной водой.
Нет, здесь была другая обстановка: в дыму, в тумане, гудя голосами, позванивая стаканами, переговариваясь, заглушая звук рубиново светящегося из угла меломана, сидело множество мужчин и женщин. Никто не обратил внимания на них, когда они неуверенно, как слепые, переходя от столика к столику, искали себе места.
Почти все столики были полусвободны и все одновременно заняты. Наконец человек, которого Игорь, разглядев, мысленно назвал «композитор», сидевший с очкастой стриженой девушкой, может быть тоже какой-нибудь пианисткой, а может, просто так, кивнул им любезно:
— Пожалуйста.
И они сели. Никому тут не было до них дела. Пара напротив о чем-то тихо разговаривала, причем он рассеянно наливал ей вино, она с усилием выпивала, кашляя и все время надкусывая одно и то же яблоко. Официантка скользила по проходу с графинчиками разного размера, похожими на колбы из химкабинета. Странен был дневной свет мерно гудящих то включающихся на полную мощность, то прерывисто мерцающих, словно настраивающихся, белых плоских ламп.
Этот неинтерес к ним был даже обиден. Ему казалось, что, придя сюда, он уже совершил что-то неправильное, не положенное и все должны это увидеть, должны отметить, что два малолетка пришли в такое заведение, а ведь неизвестно, чем и как они будут расплачиваться. Но, оглядевшись, он увидел, что здесь сидело много таких же четырнадцати-пятнадцатилетних. По их виду можно было судить, что они так привыкли к здешней обстановке, так по-свойски подзывали официанток, будто заседали здесь вот уже много лет, с первых классов начальной школы. Может, им было все время жарко, и они охлаждались мороженым; впрочем, если приглядеться, мороженое на их столах было совсем не главным, а чем-то вроде гарнира.
Единственно, кто и обратил на них внимание, так это типы, стайкой облепившие соседний столик, все, как один, длинноволосые, в расстегнутых куртках, с банно распаренными лицами; казалось, все они одинаковы. Их было человек восемь и одна девица. В паузах между анекдотами или какими-то байками, рассказываемыми но очереди каждым сидящим за столом, она пела что-то, закрыв глаза, видно с большим чувством, а они ее слушали, чокаясь время от времени под звуки ее пения гранеными стаканами. Бутылки стояли у них под столом.
Он отвернулся от них, стараясь не встречаться с их рассеянно-небрежными и вместе с тем сосредоточенно-оценивающими взглядами.
Но спиной почувствовал: поглядывают. Главным образом на Дашку. Заинтересовались. И от этих взглядов, словно от неприятного прикосновения, позвоночник обдало холодком. Но надо было общаться и разговаривать. Дашка тоже сидела скованная и чем-то угнетенная. И он было решился: встанем и уйдем. Но почему-то встать, дать ей руку, проявить инициативу он не мог. Вот и сидели, ждали.
Наконец официант подошел, спросил на ходу:
— Выбрали?
А чего было выбирать, он не знал, никакого меню здесь не предлагалось, и он пробормотал:
— Два мороженых и воды.
— Воды не бывает. Есть сухое «алиготе» и «хирса».
Игорь посмотрел на нее, она сидела, отсутствуя, будто занятая чем-то более важным.
— «Алиготе», — сказал он.
— Сколько?
— Один стакан.
— Что же, по сто грамм, что ли? — с удивлением и как бы с обидой сказал официант.
— Ну, давайте по стакану.
Официант ушел.
Тут она очнулась и, все так же отсутствуя, с каким-то отрешенным от всего выражением лица спросила:
— Что заказал?
— Цыплята-табака.
— Точнее.
— Мороженого и вина.
— А вино зачем?
— Для понта.
— Я этого не понимаю.
— Ну, чтоб поддержать марку, иначе выгонят.
— А лучше б мы сами ушли.
— Ты ж сама хотела.
— Я думала, здесь по-другому.
— А чем тебе не нравится?
— Как-то грязно, шумно… И вообще.
— «Шум и гам в этом логове жутком», — прочитал Игорь.
«Композитор» посмотрел на него и неожиданно спросил:
— Ну, а дальше?
— «И всю ночь напролет, до зари…» — выпалил он с вызовом и добавил: — А вы что, позабыли?
— Нет, просто я думал, сейчас это не читают.
— А кого же сейчас читают? — спросила Дашка с искренним удивлением.
— Вот это я и хотел у вас спросить. Ведь есть же у вас свои поэты.
— У нас своих нет, только ваши, — сказал Игорь.
— Язвительность — это что, — как в раздумье, произнес «композитор», — болезнь роста или форма самозащиты?
— А назойливость? — сказал Игорь.
— Перестань! — Дашка нахмурилась.
— Ничего… никто не обиделся, — смущенно улыбнувшись, сказала дама «композитора».
Коротко стриженная, в металлических очках и в длинной юбке, она напоминала народоволку.
— Извините, — сказал «композитор», — я вам помешал… Всегда интересно племя младое, незнакомое.
— Все нормально, — все тем же чужим голосом, с какой-то ему самому неприятной бравадой сказал Игорь.
«Композитор» наливал вино своей соседке; казалось, он утратил всякий интерес к ним, под столиком он крепко держал руку своей дамы.
Игорь тоже налил Дашке. Вино было кислое, невкусное, даже цвет у него был рыжий, как у некрепкого чая… Дашка к нему так и не притронулась. Игорь выпил свое вино и взял Дашкино. Уксусное, жгущее полоснуло по гортани и погасло внутри. Игорь такое кислое вино пил впервые. Как-то раз, в пионерлагере, вместе с вожатыми по поводу Дня защиты детей распили они бутылку портвейна «Крымский». Это было первое его самостоятельное питье (домашние застолья не в счет, да и происходили они редко в последнее время). И тогда оно разочаровало его слабостью своего действия. Хотел забалдеть, как все, а не получилось. Ничего не почувствовал, хотя и пел во всю глотку. Тоже, что называется, для понта. Сейчас же эта кислая, теплая волна словно приподняла его, и он откуда-то сверху, с ее гребня, посмотрел на окружающую действительность. И она показалась ему не такой уж скверной. Даже сосед «композитор» и его дама с этой высоты вызывали нечто вроде симпатии, смешанной с жалостью.
Почему жалость? Этого он не знал, но что-то было в их позе, в скрытой нервности разговора, в том, как она надкусывала яблоко и с ожиданием посматривала на него, что заставляло ее жалеть. Да и эти темные пацаны, все время поглядывавшие, тоже вызывали почти сочувствие: небось топчутся здесь от тоски, в школах, наверное, полный «обвал», если вообще их не выгнали, а дома ругаются, вот они и засели здесь, потягивают винище. Но особенную, нежную жалость, жаркую, душевную, требующую выражения и боящуюся его, испытывал он к Дашке. И он покровительственно и, как ему показалось, с гордым, независимым видом погладил ее но волосам и взял за руку. Она тут же стряхнула его руку, но это не обидело его. Он готов был все принять и со всем мириться: хотелось сказать что-нибудь решающе-важное для него самого, для них обоих, сказать или сделать, но что можно было сказать и сделать в этом чаде, гудении, звоне?
К тому же, хотя он не прислушивался, до него все время доносились реплики, которыми обменивались соседи. Он не видел ее глаз за металлическими затемненными очками, но слышал время от времени тихое, придавленное: «прятаться… во всех этих мерзких…». И рокотал убеждающе его баритон: «искренность…», «существо отношений…», «афишировать…», «невозможность…», «понимание».
Было понятно, что у них нехорошо, но в чем дело, было непонятно, не нужно, не касалось ни его, ни Дашки, а хотелось лишь, чтобы сейчас всем было хорошо, как ему, чтобы все они кончили выяснять и качать права.
Он слышал часто это выражение «ловить кайф», оно стало общеупотребительным, и он сам говорил, не вдумываясь: «полный кайф», он знал понаслышке, что кайф — это высший вид покоя и счастья. Вот сейчас он и поймал свой кайф: блаженство, легкость и абсолютная вера в то, что все будет в порядке.
— Глаза у тебя странные. Ты что, окосел немножко? — с неприятной материнской заботой сказала Дашка.
— Дикий хмель, — сказал Игорь. — Слышала про такой?
— Давай пойдем отсюда.
— Может, заплатим на всякий случай? Кстати…
— На тебе. — Она сунула ему трешку.
Он прикинул. По предварительным подсчетам, вроде хватало. Он подозвал официанта. Тот рассеянно считал; но его задумчивому виду можно было подумать, что обсчитает втрое. Легкость и счастье не уходили. Обсчитают, так оставим часы в залог — он слышал, так делают, кто-то из ребят постарше рассказывал. Но все сошлось. Как говорил его бывший вожатый на своем деловом комсомольском жаргоне: «нет вопроса».
Нормальной походкой (в которой был скрыт полет) он вслед за Дашкой вышел из стеклянных дверей в стрекочущую кузнечиками и шепотом тьму Парка культуры.
Уже в трамвае он чувствовал тревогу и когда вышел, то почти побежал к дому. Тревога сделала его движения суетливыми. Он думал, может быть, мальчик вернулся сюда и застрял в своем дворе, встретив друзей-приятелей. Но и здесь его не было. Вышел из двора в сумеречный проулок. Там, около дверей поликлиники, толкались вечно подростки, кто-то бренчал на гитаре, заунывно распевая. Они сидели с видом молящихся, тихо подпевали.
— Игоря не видели?
— Не попадался, — ответил один из них.
Он вошел в подъезд, поднялся на четвертый этаж, позвонил.
Открыли тут же, будто ждали за дверью.
Галя стояла перед ним с бледным лицом, уже как бы приготовившаяся к дурной вести.
— Что ты так стоишь, ничего не случилось, — сказал он с неожиданной ноткой раздражения.
Виделись они теперь редко и разговаривали скупо, почти всегда суховатым и псевдоделовым тоном.
— Где мальчик? Почему ты без него? — тихо начала спрашивать она, именно начала, потому что эта фраза показалась ему очень длинной, словно многословная телеграмма, долго выползающая из-под печатного валика.
— Ничего не случилось, что ты уже заранее… — сказал он нарочито буднично, безразлично. — Игорь вышел погулять у отца…
— И что, я спрашиваю?..
— И загулял где-то. Видимо, встретил кого-то, ты же его знаешь.
«Да ничего не могло случиться, — уговаривал он себя, — абсолютно ничего. Это вполне нормально для н и х — исчезнуть на час, другой, вспомни себя самого». Но что-то тошнотворное, вязкое уже поднималось, когда представил себе, что сейчас надо будет делать, куда звонить: сначала в милицию; если там ничего, то в больницы; если и там… нет, то куда?..
Они шли по лестнице, потом по двору, она что-то говорила, и на мгновение, как сквозь дождь, в расплывчатом и влажном каком-то свете он увидел деревню, избу, где квартировал, поднимающуюся в ериках воду, утро. Туда, в эту деревню, расположенную на сваях, он сбежал на три дня из экспедиции полуофициально с заданием договориться о земснаряде с директором колхоза. Сюда и должна была она приехать с «важным сообщением», как говорилось в письме.
Он побежал на пристань. Пароход «Белинский», однопалубный, старенький, уже пришвартовался, уже все разошлись, всех встретили. На пустой пристани он увидел ее. Она сидела на скамейке, с рюкзаком, в штанах, не в джинсах, как сейчас носят, а в синих спортивных, довольно бесформенных. Он испытал к ней жалость и нежность, подошел как-то сбоку, прижал ее голову. Она сказала тоненьким счастливым голосом:
— Ты?
Он ответил отчужденно, фальшиво (никогда не умел говорить так, как чувствовал в те минуты, когда по-настоящему волновался).
— А то кто же?
Они пошли по городку обнявшись, говоря о пустяках.
Потом в избе, где чисто, сыро пахло полами, они снова продолжали незначащий разговор. И вдруг, задохнувшись от желания, от воспоминаний о том, как это было в Москве, он сильно обнял ее и повалил на высокую, как взбитый кулич, кровать. Он чувствовал: что-то ей мешает, что-то она хочет ему объяснить вначале, а уж потом… Но он не понимал и не принимал этих условий. Сейчас и только сейчас, как же можно «потом». И уже вечером, на лодке, проплывая под деревянными сваями, чьи тени блестящими двоящимися полосами дрожали на воде, она сказала:
— А знаешь… вот какая вещь… Я беременна и вот не знаю… Как ты скажешь.
Что он испытал в этот момент?
В голове что-то четко щелкнуло, будто выключатель, приятная и легкая полутьма сменилась хирургическим, режущим светом. Необходимость решать, все ставить на свои места.
«Но ведь когда-то надо», — подумал он. И еще вдруг представил, что теряет ее навсегда. Он ощутил какой-то химический вкус во рту, все сделалось безнадежно голым. Ерики как бы высохли. Ушла вода, зелень, запах йода, воздух, остались только потрескавшиеся в продольных сухих морщинах канавы.
Хотел сказать что-то единственно важное, решающее для всей их судьбы, а получилась школьная невнятица, белиберда:
— Ну ничего… давай. Может, это и хорошо…
Неизвестно, чего она ждала, ответа или как ответит. А скорее ни того, ни другого, а сама что-то спрашивала у себя. Что, он не понимал. Была в ней какая-то неуверенность, странная для нее, словно она ждала его «нет»… И тогда все станет простым — обратно, пароход «Белинский», счастье обиды, гибели, невозможности выбора.
Больше ни о чем не говорили.
«Русская Венеция» называли этот край заезжие газетчики. При чем тут Венеция? Крепкие кряжистые избы, высокие плавни, вечерние частушки и «мотания» у клуба, церковка, построенная еще старообрядцами без единого гвоздя. Все это было прекрасно, не походило ни на что, не имело никакого отношения к венецианским гондолам. И был двор, где спали они на сеновале, на мешках, так как было очень жарко, теперь уже втроем, с тем, у кого не было ни имени, ни лица, ни плоти, с тем нечто, что будет потом его сыном или дочерью.
Боже праведный, у него — сын… Какой странный, а может быть, прекрасный бред!
Уже потом, когда он торжественно нес кулек с живым существом, он чувствовал некую тайную комедийность и видел себя со стороны в широком больничном дворе, полном вздохов, ожиданий, слез, пошлостей, нежностей, суеты, напутствий, видел себя, важно идущего со свертком, в котором шевелилась теплая гусеничка с желтым крохотным личиком лилипутика, с нездешними — из бездны глазами.
Нежность? Нет, тогда ее не было. Скорее всего страх, боязнь уронить — вдруг выскользнет из рук и упадет на землю. И за ним шла вся прекрасная семья: отец с Антониной, ее родители, расколотые, но объединенные на миг, шагающие, как футбольная команда с поля после победы.
Только через несколько месяцев однажды, придя поздно домой, впервые испытал он животную любовь и жалость к существу, с молочным запахом, к его лобику, к спутанным волосам и открытым светлым глазам с бессмысленно-мудрым взором. Теперь это было навсегда е г о существо.
XV
Они снова ходили по двору. Она молчала с лицом каменно-неподвижным, враждебным. Надо было сейчас остаться одному, она парализовала каждый его шаг.
— Ты иди домой, туда могут позвонить. — И добавил: — Я абсолютно убежден, мне чутье подсказывает. Детская ерунда, шатания по городу. Сколько раз так уже было.
Она послушалась, пошла.
«Как научились мы с детства ждать самого страшного… С войны и после нее — всегда ждать чего-то…»
По улице с сыном гулял Валька Рюмин. Широкоплечий, крупноголовый, с мощным корпусом на коротких, сильных ногах, он напоминал неотлаженное изображение в телевизоре: вытянутый верх, укороченный низ. Он стоял так близко, что слышен был сильный запах парикмахерской, запах «Шипра». Так близко, что уже непонятно было, Валька это или нет. Издали это был именно он, товарищ школьных лет, а вблизи кто-то другой, сосед по микрорайону, отдаленно напоминающий Вальку.
— Ты что такой? — спросил Валька. — Случилось что-нибудь?
— Сына ищу. Ушел на двадцать минут, и вот уже четыре часа его нет.
— Ну, это обычная история. Мой, — он кивнул головой на толстого мальчика с черными плутовскими глазами, — тоже частенько такое устраивает. Хочешь, я с тобой? Я тут все углы знаю.
— Да он не здесь, а во дворе, где отец живет.
— Все равно, это наш район. Идем к участковому, к Сашке. Я его знаю, он тут же разберется в обстановке.
Странно, но присутствие Вальки успокаивало его. Он вдруг поверил, что все будет в порядке, что ничего не могло случиться.
— Сейчас, я мигом, — сказал Валька, — только своего заброшу.
Валька быстро пошел, спортивно размахивая мощными, как лопасти, длинными руками, энергично перебирая укороченными быстрыми ножками.
Всю жизнь он водился с участковыми, еще с тех далеких времен, когда они учились в одной школе. Отец его был летчик, известный летчик, и в торжественные дни и в праздники он выступал перед ребятами в школе.
Он чуть заикался, смотрел на класс голубыми, как бы испуганными глазами и всегда начинал с одной и той же фразы: «В этот исторический день давайте оглянемся на недавнее прошлое…»
Дальше он сбивался, погружался в паузу, в мучительное раздумье, все начинали шуметь, и было такое чувство, что он у доски и забыл урок. Но потом он вспоминал и начинал рассказывать о летчиках, с которыми летал, о типах самолетов, о боевых операциях, причем рассказывал так, как если бы перед ним были не школьники с первого по седьмой, а летчики-профессионалы. Он говорил с сокращениями, употреблял специальные термины, на каком-то полупонятном и тем более волнующем жаргоне, который они сами после его выступлений неумело, но старательно воспроизводили.
Очень интересно было его слушать. Он не носил ни орденов, ни колодок, хотя дома Валька охотно показывал его ордена. Их было много, в том числе югославские и польские, чехословацкие и один даже английский. Валька говорил, что его отец — Герой Советского Союза. Всем, естественно, хотелось посмотреть на Золотую Звезду и орден Ленина. Но Валька не показывал. Говорил: заперто.
В большой квартире, окнами выходившей на Чистые пруды, на столе стоял хрустальный глобус с маленьким самолетом на тоненькой, как волосок, подставке. Валька утверждал, что самолетик золотой и что глобус подарен отцу Сталиным.
Правда, когда Вальки не было в комнате, Сергей разглядел глобус; на подставке с внутренней стороны была металлическая табличка:
«Боевому соколу, гвардии полковнику Рюмину от рабочих и инженеров Гусь-Хрустального».
Однажды Валька пришел в школу в очень странном виде: белый, похудевший, с омертвело-неподвижным лицом, с темными подглазьями; он ни с кем не разговаривал, не отвечал учителям, а в середине урока географии встал и пошел к выходу. Классная воскликнула:
— Куда ты без разрешения?
Не оборачиваясь, он сказал слабым, размытым голосом:
— Вчера отец разбился.
Месяц он не приходил в школу. Вскоре в газете прочитали указ о награждении полковника Рюмина (посмертно) Золотой Звездой и орденом Ленина.
Шла война в Корее. И рассказывают, что он вел транспортный самолет с грузом для корейцев, был атакован истребителями и погиб.
Сергей однажды видел с Чистых прудов, как ярко горели окна большой квартиры Вальки Рюмина, слушал музыку. То военные песни в исполнении Утесова, Бунчикова, Бернеса, то «Сан-Луи блюз» или «Лос-Анджелес». Метались какие-то тени, выходила на балкон мать Вальки, высокая, тонкая, с ней кто-то большой, сверкающий орденами, погонами, кашлявший. Был весенний вечер. Высокий балкон второго этажа выходил на цветущие яблони. Женщина плакала, потом успокоилась, засмеялась. На мгновение прильнула к большому человеку, затем резко вырвалась, убежала в комнаты.
У дома стояло несколько «Побед» и один новенький, похожий на танк, залитый лаком «ЗИС-110».
Вскоре громкие голоса стали заглушать беспорядочную музыку, потом все неожиданно стихло, высокий человек в форме генерала армии вышел из подъезда и в сопровождении еще нескольких офицеров пошел к машине. Сергей с жадным интересом смотрел на него. Впервые в жизни он видел генерала армии.
У него было моложавое рябоватое лицо. У машины он молча, не прощаясь, снял фуражку, человек в штатском распахнул дверцы. Он сел на заднее сиденье, человек скользнул рядом с ним.
Машина мощно взяла ход. Профиль в фуражке мелькнул как бы в глубине, неясный, закрытый толстыми стеклами. Одна из «Побед» двинулась за «ЗИСом», соблюдая, впрочем, дистанцию в пятьдесят метров.
По двору, пошатываясь, шел Валька. От него пахло куревом, винным перегаром.
— Пошли, хочешь? — предложил он. — Главный уехал, а остальные догуливают. Праздник у нас сегодня… Отцу знаешь что дали? — Он смотрел на Сергея неподвижными светлыми глазами, нахмурясь.
— Конечно, знаю.
— Он теперь… знаешь кто… мой отец? — Валька помолчал и хрипло горловым голосом воскликнул: — Дважды Герой Советского Союза. Да, дважды! — громко крикнул кому-то Валька в каменную глубину двора и пошел назад, забыв о приглашении, сутуля широкую спину, вяло перебирая худыми короткими ногами, неожиданно чуть приседая, высвобождаясь от каких-то невидимых пут, как стреноженная лошадь.
С тех пор Валька стал прогуливать школу месяцами. Говорили, что он крепко выпивает. Его оставили на второй год. Теперь они уже учились в разных классах. Валька сошелся с известным в их районе Жоркой-портным. Они вместе организовали дело: продавали ребятам тоненькие пленочные кругляши с американскими записями, каждую по десять рублей. Валька из неряшливого пацана неожиданно превратился в пижона, ходил в желтом ратиновом пальто, в узких брючках-дудочках, в ботинках на толстых, будто из окаменевшего сливочного масла подошвах и в замечательных галстуках, исписанных павлинами. Понятие «стиляги» только входило в силу.
Вечерами Валька пропадал на улице Горького, а иногда с ВВСовскими хоккейными асами сидел в ресторане «Динамо». Однажды он пригласил Сергея к себе. Огромная квартира поблекла, была в пыли, словно в ней никто и не жил. Высился платяной шкаф размером с маленькую комнатку, там когда-то они прятались с Валькой. В этот вечер Валька сделал Сергею любопытное предложение. Оно было принято с опаской, оговорками, но… принято. Вместе пошли к Жорке-портному. Тот дал форму, краску, материал, стандартку. Надо было раскрашивать галстуки. Это было похоже на срисовывание переводных картинок, только на плотную атласную материю. Галстуки были узкие, очень яркие и назывались «селедками».
Однажды Валька повел Сергея в «Метрополь». Это был первый в жизни Сергея поход в ресторан. Стояла небольшая очередь, но Валька решительно прошел сквозь нее и постучал в стеклянную дверь. К удивлению Сергея, швейцар действительно открыл ему. Не то чтобы во фрунт встал перед Валькой, но все-таки открыл. Валька не трепался, здесь его действительно знали. Зал ресторана был таким, каким он представлял его себе по фильмам. Конечно, публика была не во фраках, как там, но все-таки довольно нарядная, а некоторые дамы были в вечерних платьях. Фонтанчик вспыхивал и опадал в центре зала. Играл оркестр, и, когда резко и неожиданно вступил ударник, Валька сказал шепотом:
— Посмотри, это Лаци. Великий ударник.
Лаци походил на японца. И играл удивительно. Почти как Армстронг на тех пленках, может, чуть хуже Армстронга. Официант, который их обслуживал, тоже знал Вальку, но относился к нему с некоторым холодком. Он подсадил к ним какого-то человека, заказавшего только кофе и пирожное. На них с Валькой человек не обращал ни малейшего внимания. Он вообще ни на кого не обращал внимания, но через некоторое время Сергей почувствовал, что он каким-то странным образом причастен к той жизни, что шла за соседним столиком. Там крупно, обильно, но нешумно гуляли толстые немолодые люди, матерые, типа боссов. К их столику все время подкатывали другой столик на колесиках: с шампанским, водкой, коньяком.
— Он с н и м и работает, — шепнул Валька. — А мы ему — до одного места.
Потом Валька исчез, потом снова вернулся. Сергею было неприятно сидеть одному напротив этого молчаливого человека, мелко надкусывающего остов корзиночки с кремом.
Он встал и пошел в туалет.
В туалете он увидел Вальку. Валька стоял спиной и что-то показывал незнакомому человеку. Увидев его, Валька резко сказал:
— Ты чего? Иди на место! Нельзя обоим уходить.
Через несколько минут он пришел довольный.
— Порядок… Порядочек в танковых войсках, — повторял Валька.
А еще через несколько минут какой-то рослый тип в тенниске, без пиджака подозвал Вальку. Казалось, он начнет бить Вальку тут же, не сходя с места, так он вертел большой рукой перед его носом.
Но Валька стоял, не уходил, лицо его сделалось одновременно смущенным и нагловатым.
Сергей подошел поближе к Вальке. Мало ли что там. Он слышал, как Валька повторял этому рослому:
— Ну че ты, ну че ты…
Сергею он велел отвалить:
— У нас свой разговор.
Вскоре они разошлись. Драки не было.
В этот вечер он пришел домой пьяным. Впервые в жизни отец испуганно, дрожащими руками раздевал его, укладывал на диван. Было как когда-то, как давно, в детстве, его раздевал отец, мать тоже стояла над ним, а ему так хотелось спать, что он засыпал еще до кровати и с кроватью летел куда-то с грохотом, как поезд, и исчезал.
Утром болела голова, в школу проспал, и не будили. Сквозь серую тревожную дрему он слышал обрывки: «Валька… делишки… домоуправление… неприятности…»
Потом уже полностью узнаваемо, различимо голос отца:
— Нашли уголовничка! В пятнадцать лет я ходил с чоновцами, была гражданская война, а не было бы ее, наверняка бы хулиганил хоть немного… Взрывы переходного возраста.
Вальку видел еще один раз после этого. Он пришел однажды вечером, вызвал Сергея на лестничную площадку, долго молчал, потом начал говорить что-то дежурное: как дела и прочее, мол, чего ты не заходишь. Потом он снял с плеча спортивную сумку и попросил:
— Возьми.
— А чего там?
— «Чего, чего»! — усмехаясь, говорил он. — Золото, наркотики… Да ничего там. Чего ты так перепугался? Денежки за честную работу за наши с тобой галстучки. Подержишь немного и отдашь. И тебе перепадет, и мне спокойней будет.
Непонятная яма открывалась, тянула вниз, и, не слыша себя, он бормотал:
— Нет, Вальк, галстуки я просто так, из спортивного интереса… И денег мне не надо. А сумку я не возьму. Извини, но нельзя.
Валька постоял молча, моргая воспаленными красными глазами, усмехнулся, пробормотал:
— Да не в галстуках дело. Галстуки — это все дрянь.
Повернулся и пошел. Видно, он и сам не очень-то надеялся, что Сергей возьмет его сумку, а может, он просто не знал, что ему делать. Он шел вниз, с сумкой через плечо, в чужом подъезде, мимо закрытых дверей.
Вскоре его взяли, дали ему пять лет как несовершеннолетнему.
Остальные все были взрослые, и дело, говорят, было серьезное, и галстуки в нем были лишь самым малым пустяком.
Когда он вернулся, жили уже в разных домах. Ходили слухи, что он опять картежничает, гуляет, спекулирует. Другие же, наоборот, говорили, что он поступил учиться, что у него все в порядке.
Увидел Сергей его очень изменившимся, погрузневшим, необыкновенно приветливым, в диетмагазине с женой и маленьким сыном. Оказывается, он жил теперь снова по соседству.
И вот теперь он шел рядом с ним, что-то говорил, шутил, успокаивал. Они заходили в отделение, где у Вальки был знакомый дежурный, и тот, что называется, не только по долгу службы звонил и звонил на все посты, спрашивал: «Мальчик лет четырнадцати-пятнадцати…»
Нет, не видели, не знают.
Дежурный посадил их в мотоцикл с коляской, повез. Они неслись по каким-то закоулкам, и сквозь нарастающий треск до него доносились обрывистые слова лейтенанта, какие-то его рассказы, как дети забредают неизвестно куда, какие фантазии им приходят в голову, в каком виде их находят. «Но здесь все будет в порядке», — повторял он убежденно. А дальше пошли больницы, длинные коридоры, дежурные, регистраторши, отвечавшие односложно: «Не привозили», «Не значится», детские лица, белевшие сквозь гипс повязок.
Существо его как бы распалось на оболочку и ядро. У оболочки был голос, подобие жизни, она суетливо двигалась за двумя людьми: другом детства Валькой и лейтенантом из отделения. А ядро, глубина оглохла, омертвела, как после наркоза.
XVI
Игорь и Дашка гуляли по Нескучному. Сквозь листву светились гранитные мощные дома на той стороне реки, здесь же был овраг, куда они с отцом зимой ходили кататься на лыжах…
Да и вообще все здесь было связано с отцом. Сюда они пришли впервые десять лет назад, и маленький Игорь увидел дивную страну за чугунной оградой, с оврагами и вершинами, с рекой, заповедником, где жили обезьяны, где прятались в узеньких вольерчиках, чуть пахнущих гнилью, волчата, лисы, где, отвернувшись, слепо глядя на людей, висели на жердях сытые нелетающие птицы.
Здесь отец заставлял его лазить по узким железным прутьям квадратного, как клетка, сооружения. На этой клетке копошилось, ползало множество маленьких детей, родители которых с видом тренеров наблюдали за их двигательными достижениями.
Он ненавидел эту железную клетку для лазания, а любил высотку, с которой удобно было смотреть на реку. По реке медленно плыли баржи, гремели маршами облепленные людьми белые пароходики.
Они шли не торопясь, и отец рассеянно, но обстоятельно отвечал на множество вопросов: откуда? почему? как?
Собственно, все было вопросом: весь мир, и все люди, и отец, и мать, и этот парк, и невысокое небо с врезавшимся в него золотым набалдашником университета.
А теперь он шел по Нескучному саду с девушкой Дашей. Уже было совсем темно, но он знал здесь каждый взгорок и низинку, каждую тропку, уверенно шел по своей местности, протянув ей руку. Он почувствовал даже пульсацию теплой, вспотевшей ее руки, крепко, словно бы намертво сжатой его ладонью, но он не разжимал пальцев, и, что особенно важно, она не высвобождала свою руку из его. Она молча, покорно шла за ним.
Иногда, казалось, они наступали на людей, невидимых, шуршащих в кустах, но они, не обращая ни на что внимания, продолжали свое единое, неостановимое движение. Все остальное не касалось их. Кто-то выпивал на чуть белевших во тьме дорожках, безадресные ругательства, а то и густой мат сопровождали их, словно они наступили на муравейник. Но это не могло их сейчас ни удивить, ни унизить… Они летели, не касаясь земли.
Это была полоса тьмы, неосвещенная часть, сильно пересеченная и холмистая местность. Иногда вспыхивали здесь и фонарики милиции. Вспыхивали и гасли. А чуть дальше, в районе ресторана «Южный», на задах Нескучного, шла совершенно другая жизнь. Там стояли составленные вместе скамейки, трещали, задыхаясь и вновь набирая силу, транзисторы и тренькали гитары. Здесь никто не стремился к уединению, стояли стайками, сидели на скамейках, на корточках ребята и девчонки с Ленинского, с Донских переулков — своего рода вечерний клуб, свободный табор. Иногда Игорь приходил сюда один; он знал здесь кой-кого, но чувствовал себя здесь чужаком. На первый взгляд разобщенные, они были связаны как бы тайным паролем: каждый мог здесь присутствовать и сидеть, петь, подпевать, но не каждый мог войти в н у т р ь.
Здесь они жили как хотели, никто не ругал их за отметки, за длинные волосы, никто не воспитывал, не заставлял их быть лучше, чем они есть, здесь их принимали такими. Разговоры их были кратки, непонятны постороннему, как бы ленивы. Но Игорь понимал, что все это вроде кода, здесь все знают, про что идет разговор, и кажущееся безразличие скрывает вполне определенные чувства и отношения.
Но сейчас он не завидовал их братству. Они с Дашкой прошли мимо этих скамеек с безразличием и внутренним превосходством. Еще долго вслед слышался гитарный рокоток, голоса, заглушаемые транзисторными разрядами. Теперь они уже были близко к выходу, ведущему на проспект. Было поздно, и он понимал: ищут, волнуются, думают бог знает что. Мать звонит деду, и надо вынырнуть из парка и позвонить из автомата.
Но для этого надо было уйти из парка, надо было расстаться. К тому же мысль о скандале, о неприятностях, свернувшаяся, как улитка, вдруг расправилась, осветив смутный, неопределенно счастливый мир режущим, голым электричеством карцера.
— Ты чего задергался? — сказала неожиданно Дашка. — Испугался, что ли?
Он ответил:
— Нет, чего бояться.
И изумился ее догадливости. Мысли она читает, что ли?
И тут неожиданно она прошептала:
— Я и сама боюсь.
— А ты чего?.. Дома, что ли? — так же тихо, будто они говорили о чем-то запретном, сказал Игорь.
— Да нет… Ты что, не чувствуешь — за нами кто-то идет… Уже давно.
Игорь прислушался. Шагов не было слышно, но какой-то шорох, движение почудилось ему сзади. Успокаивая ее, а может быть, и себя, он сказал:
— Ерунда, тебе показалось.
Еще минуту они шли молча, но он уже слышал и шаги сзади, и чей-то высокий голос, вдруг из тишины вырвавшийся. Потом снова все затихло, голоса эти и шорох исчезли куда-то, канули в тишину, заглушаемые шумом собственных шагов.
Они ни о чем не переговаривались, даже не глядели друг на друга, но оба чувствовали, что́ происходит с другим, и когда э т о исчезло, они почувствовали легкость, прежнее желание разговаривать, дотрагиваться друг до друга. И вот они уже забыли о тех, кто шел сзади, все это показалось секундным, глупым видением, случайно нарушившим такой удивительный вечер, и когда вновь они услышали голоса, то это показалось случайным совпадением, просто это кто-то идет чуть сзади. Да, конечно, что же еще может быть, кому придет в голову что-то иное?
Человек внезапно вынырнул из кустов, белея рубашкой, приближался, шел медленно, мелкими шажками, будто скользил, и вот вынырнул. Было видно в темноте узенькое лицо под плоской, с круглым козырьком кепкой. Подойдя, он вглядывался сначала в лицо Игоря, потом в лицо Дашки, словно бы искал кого-то, потом сказал отрывисто:
— Дай закурить.
— Нету, — сказал Игорь. — Не курим.
— Нету? — переспросил парень и снова оглядел их, придвигаясь вплотную и что-то нашаривая в карманах, так что Игорь чувствовал его терпкий, нечистый запах. — А чего есть? — спросил он, окатив Игоря кислой волной перегара и глядя на него неподвижными, бессмысленными глазами.
А тут уже подходили не торопясь и другие, двое здоровых «амбалов». Игорь их узнал; кажется, они сидели в кафе и все косились на их стол, да и девчонка, что с ними сидела, тоже была здесь, стояла сзади, большой рот на маленьком лице двигался — жевала.
— Ну чё, гуляем, погуливаем? По кустикам туда-сюда, — балаболил первый, как бы даже радушно.
— А ну-ка, проверь их, посмотри, чего у них есть, — сказал один из «амбалов», и они схватили его за руки и стали оттаскивать от нее.
Он рванулся, оттолкнул их, увидел мелькнувшее, куда-то вдруг исчезнувшее лицо, пробежал несколько шагов, перескакивая через подставленные ноги, вновь увидел ее рядом, схватил за плечо, вырывая, будто она неживая, недвижная. Она молчала, и, только когда они сбили его на землю и уже лежачего ударили ногами, она закричала топким голосом, и сквозь нарастающий какой-то шум, топот, боль этот голос уколол его, как иголка.
Он вскочил с земли, ругаясь, крича, ударил кого-то в мягкое, видимо в живот, и тут же получил удар, брызнувший снопом искр, ослепивший. Он лежал в пустоте. Повернувшись, он увидел, что все они там, тащут ее по траве, видел ее оголившиеся ноги и то, как она ящерицей выскальзывает из их как бы танцующих ног, и пополз туда, задевая за что-то колючее, обдирая рубашку.
Он не понимал, куда, зачем. Все слилось в темноте. Виделся только неразличимый клубок, покачивающийся, на секунду распадающийся и снова смыкающийся. Сквозь глухую ругань он услышал ее детский какой-то вскрик, потом тишину.
Кто-то сильно ударил его по спине. Теперь он лежал, уткнувшись горячим мокрым лицом в жесткую, как бы всю в камнях, землю, ему казалось, что кожа и на лице и на груди содрана и грязь, пыль, трава задевают его внутренности. Вновь стало тихо, и он услышал другие, набегающие шаги, резкую, как бы усиленную землей, травой и деревьями трель свистка.
XVII
Милиционер сказал им, что так никакого результата не будет, что они ему мешают только и что он их оставит пока на некоторое время, вернется в отделение и будет действовать по своим каналам, а они через час должны прийти к нему. Еще он сказал, чтобы без него они ничего не предпринимали.
Вот это-то и напугало больше всего. Значит, действительно что-то. Он подумал, что милиционер без него будет звонить уже не в больницы, не в отделения «Скорой помощи», а туда (он даже мысленно не захотел произнести это короткое слово), откуда уже никто не уходит сам.
— Да что ты переживаешь? — говорил ему Валька. — Найдут твоего пацана. Да и не там, видно, ищем. Небось сидит в подъезде с какой-нибудь красавицей… Ты что, забыл, как мы с тобой когда-то?
Сергей подумал, что внучка профессора что-то знает — ведь они в одном классе с Игорем, может быть, он к ней поехал… Он слышал о какой-то Дашке и о ней. Но Дашке уже, кажется, звонили, и никто не ответил. Может быть, здесь найдется след?
Он рыскал по старой, беспорядочной книжке, не мог найти телефон старика. Наконец нашел.
Старик сам взял трубку.
— Алексей Михайлович, это такой-то.
— Ах, как же… как же… Чем обязан?
— Да дело тут такое… — запинаясь, говорил Сергей. — Мой сын к вам не заходил? Пошел гулять и исчез куда-то. Я беспокоюсь, так что вы извините за поздний звонок. Может, ваша Лена его где-нибудь видела?
— Да конечно, сейчас спрошу, сейчас выясню, — сказал профессор.
Несколько секунд длилась пауза. В потрескивающем, невидимом, как бы бегущем куда-то пространстве слышались какие-то чужие голоса, даже отзвуки их, приглушенные эхом, потом неожиданно внятный радиоголос произнес:
«Московское время 23 часа 10 минут».
Потом, в тишине, уже чистый, почти снежный, явственно прозвучал молодой голос старика:
— Нет, сведений о вашем отроке не имеется. Лена не видела его после школы.
Пауза. Собственно, он и не надеялся ни на что здесь. И после паузы:
— Не волнуйтесь, дело это обычное. А вот статью вашу о Херсонесе я читал… Есть там моменты…
Что-то он еще говорил, очень, может быть, важное в другой раз, о предложениях Солдатенковой, о трудах итальянских исследователей, что-то он говорил, и все это текло мимо, такое же несущественное сейчас, как тихо вторящий его словам, на втором плане, еле слышный, внятный голос радиодиктора.
…Они тыкались в подъезды, пустые, освещенные голым слабым светом или вовсе темные, тихие или со следами потаенной жизни где-то наверху, на пролете второго или третьего этажа, — с шепотом, вздохами.
Он шел за Валькой, слышал и не слышал его, то обретая надежду, а с нею и волю, энергию, то теряя все, не зная, что делать, куда идти.
Дни, казавшиеся самыми безысходными, долгие дни вялого отчаяния, одиночества, наступившие после того, как он переломил всю свою жизнь, вдруг показались почти счастьем — ведь он мог в любой момент позвонить, прийти, увидеть сына…
…И почему-то в эти минуты перед ним неотвязно стоял зеленый остров в Прибалтике в белой, бесцветной воде, и он с женой и сыном шел по этому острову. Что это был за остров? Почему возникал он в полутьме пахнущих хлоркой подъездов, какой еще мог быть остров в этой шуршащей и безликой тьме? И все-таки они втроем шли по этому острову.
Нет, сначала не втроем.
Сначала он шел один, не было здесь никакого сына, ни жены, он жил здесь один.
В законном отпуске.
Несколько раз в неделю он заходил на почту. Здесь, в маленьком домике, в комнате, пахнущей свежестью дерева, белая девочка лет четырнадцати-пятнадцати приветливо улыбалась ему и перебирала письма.
Сквозь неторопливо движущиеся крупные ее пальцы он узнавал, угадывал: да, это.
И не спеша читал обстоятельные письма жены и краткие, деловые его из пионерлагеря, круглый крупный почерк, ошибки через фразу, описание каких-то фантастических футбольных матчей, побед, рекордов.
Ему хорошо было здесь. Хорошо от этих писем, от тишины, от мокрого, в серых валунах песка, сливающегося с морем.
Остров был безлюден, все мужчины уходили в море, и только мальчишки носились по проселочным дорогам на мотоциклах без глушителей, возникали и исчезали, и снова часами на узеньких улочках ни души, разве только старуха в белых чулках проедет на мужском велосипеде в магазин.
Он часто заходил на рыбзавод, брал салаку. Здесь в коптильне на его глазах из белых, бесцветных рыбин она превращалась в точеные, мерцающие золотом тоненькие тельца с черными, будто наклеенными мертвыми бусинками глаз.
Набрав салаки, он шел домой, к старику Яану, у которого квартировал. Домики в поселке были чистые, крыты черепицей, с низкими, скорее символическими изгородями из валуна, за которыми открывались ровные небольшие участки с кустами крыжовника, с несколькими яблонями, за домами высились башенки свежескошенного сена, аккуратно укрытого брезентом.
На острове этом не было ни райсовета, ни милиции, все местные власти находились на материке. Рыбаки, естественно, пили, и пили крепко, но всегда мирно: не дрались, не ругались. Вообще это был остров добропорядочных людей. Что касается воровства, то воровать здесь перестали, кажется, в семнадцатом веке, когда всем средневековым ворюгам поотрубали руки, уши и носы. С тех пор и по сей день жили только честные люди. Поэтому, может быть, здесь никто не запирал дверей, не было заборов, огораживающих участки.
И единственный участок, который был огорожен высокой, с колючей проволокой весьма мрачного вида стеной, был именно тот, где он квартировал у старого человека по имени Яан.
Он не спрашивал, зачем эта стена: его ли это дело?
Яан работал в совхозе когда-то техником-мотористом. Это был маленький, живой старик с юношеской головой, со звонким мальчишеским голосом, с дрожащими умелыми руками, вечно занятыми мелкими ремонтными делами.
Иногда на лошади мимо дома проезжала женщина неопределенного возраста с красным, загорелым лицом, копной белых бесформенных волос.
Она внимательно оглядывала участок Яана, будто что-то искала и не находила, и долго странно, издевательски-приветливо глядела на старика. Он в эти моменты походил на ежа, которого хотят взять, замершего, поднявшего иглы, грозного и жалкого одновременно. Слышалось гулкое цоканье по единственной улице, мощенной булыжником, а потом звук мягчел, копыта утопали в засохшей глине дороги.
Удалялась женщина на лошади, так неприятно глядевшая на Яана, и лицо его, белое, напряженное, наливалось обычным склеротическим румянцем, он становился весел, все его существо выражало освобождение, облегчение: что-то неприятное и неотвратимое пронесло, проскочило. И теперь он становился прежним, деловитым, всегда занятым домашней работой, но знающим время и отдыху.
Из погреба он доставал водку, крепчайший квас, они пили вдвоем, с разговорами, в пыльной комнате Яана с длинным рядом семейных фотографий, где мальчик, чуть похожий на старичка, глядел из чистенького гимназического ряда прямо из-под крыла наставницы в темном платье с кружевным воротничком, маленький мальчик с любопытными глазками.
Что-то старик рассказывал в эти вечера, путая эстонские слова с русскими, усмехаясь, спрашивая собеседника, чуть присюсюкивая: «Понимаес, Сереза?» Охотно и подробно рассказывал, как скитался по свету, жил в Норвегии, Швеции, потом вернулся на родину, затем попал в Россию, жил в Казахстане, женился на русской, у них родился сын. Прошли годы, и представилась возможность вернуться домой, на остров, он звал ее. «Понимаес, Сереза, своя земля, свой воздух, я домой хотела, а она не захотела, тут будем оставаться, а я — нет».
Что-то еще он рассказывал, пьянея, повторяясь, про брата своего, который уехал в Канаду еще в пятидесятые годы и его звал, а он не захотел. И остался на тихом этом острове, где все было так хорошо. Потом внезапно он замолкал и начинал бормотать уже по-эстонски, в странном возбуждении, озлоблении, и во всех этих смутных и непонятных речах понятно было лишь одно слово, вернее имя, часто повторявшееся с ненавистью: «Линда».
Старик засыпал так же внезапно, как начинал бурные свои речи, засыпал сидя, лицо его отпускали заботы и страсти, оно становилось детским, доверчиво-спокойным; спал он бесшумно, запрокинув голову на жесткую высокую спинку стула.
А Сергей выходил из дома и шел к морю. Оно было холодное, поливалось брызгами, шумело глухо, неразборчиво и тоскливо. Оно не успокаивало душу, а, наоборот, рождало чувство тревоги, ненужности никому в мире. Щупальца маяка открывали вдруг свинцовую бескрайность в мелких белых гребнях, и хотелось отсюда куда-то в теплый, сухой, с понятными разговорами и людьми дом.
Однажды пришла сюда телеграмма от нее:
«Приедем на три дня с Игорем».
Эта полоска бумаги с серым тусклым текстом дала столь прекрасную, столь ослепительную вспышку, преобразившую свинцово-осеннее море в цветущее, тропическое, щедрое, а всю жизнь — в радостное ожидание.
И вот вместе со стариком, на велосипедах, они «пилят» на аэродром. Впрочем, «аэродром» — это сильно сказано. Просто поляна, на которой сидят на траве люди с тюками и чемоданами, и маленький домик в паутине антенн. Здесь был единственный рейс, осуществлявший доставку и выгрузку, привозивший и увозивший все на свете: людей, газеты, мясо и все остальное с материка. Неправдоподобно маленький был этот самолетик, приземлившийся с игрушечной легкостью.
И вот уже он заметил своего парня, торжественно спускавшегося по трапу с видом Чкалова, совершившего кругосветный перелет. А сзади мелькнуло ее побледневшее лицо.
И он сразу увидел остров глазами мальчика — удивительный, первый в жизни, полный загадок… Он почувствовал теплоту и счастье от того, что уже сегодня пойдет с сыном к морю и оно изменит и цвет, и голос, и будет таким, каким положено быть всякому нормальному морю — прекрасным. И еще представился ему этот замечательный первый вечер в их комнатке на втором этаже, бесконечные вопросы сына, и его ответы, и тот момент, когда сын заснет…
И, посадив ее на велосипед, почти уткнувшись в теплую, душистую голову, пахнущую свежестью, шампунем, чуть-чуть духами, уложенную (что редко с ней случалось, она любила все природное и естественное), он катил свой велосипед, обогнав другой, дамский, на котором сидел старик, а сзади, крепко уцепившись за него, его сын.
Все было так, как он хотел, и все вызывало восторг: холодная комната с голубыми табуретками, с канадским рыночным ковриком с кенгуру и тропическими деревьями, с большим железным распятием над высокой кроватью.
Потом, уже через многие годы, он вспоминал как самое, может, большое счастье этот вечер и ночь после прилета.
Они остались здесь не на три дня, а на целую неделю. Яан очень оживился. С ними он чувствовал себя дедом, главой семьи, недолгой, временной. Он сидел с ними долгими вечерами, пел для мальчика отрывистую старую рыбацкую песню, пьянел, маленький, улыбчивый старик-мальчик… и только иногда лицо его искажалось мукой. Это происходило под занавес, когда мальчик спал наверху, а они собирались тоже уходить. Но он не отпускал их, словно боясь остаться один, говорил по-эстонски, потом, заводясь, начинал ругаться жутким каторжным матом, и имя Линды полоскалось и тонуло в этом мусорном потоке.
— Кто же эта Линда, будь она неладна, кто она вам? — спросил Сергей Яана.
— Она мне… сука подзаборная, никто она мне.
— Вы что, крепко любили ее, что так ругаетесь теперь? — спросила его Галя.
Он глянул на нее, сплюнул, не ответил.
Однажды, когда Яан уже спал, они сидели во дворе, курили и неожиданно сквозь ржавые балки и витую проволоку увидели белое пятно, неподвижное, застывшее: приглядевшись, они поняли: это чье-то лицо как бы прижалось к решетке. Сергей подошел и увидел женщину, ту, что проезжала на лошади.
Она не отступила, но сдвинулась с места, так же смотрела мимо него темными, немигающими глазами.
— Вам что-нибудь надо? — спросил он.
Она продолжала стоять, как бы не видя и не слыша его, глядя в глубь двора. Не разжимая губ, она сказала:
— Ты кто тут? Это мой дом.
Он не знал, что делать, открыть ей или позвать Яана, не сделал ни того ни другого, а только спросил:
— Вы Линда?
Она не ответила. Постояла еще секунду и уже другим голосом, спокойным, будничным, сказала:
— Дай закурить.
Он пошел домой, поднялся, стараясь никого не разбудить, снова спустился во двор. Жена спросила с тревогой и недоумением:
— Кто там?
Он буркнул что-то, протянул сквозь решетку сигареты. Все это было непонятно; казалось, что кто-то из них заключенный и получает передачу и нельзя ни на секунду открыть дверь. Странно, что она даже и не просила их открыть и впустить ее внутрь. Она курила жадно, будто дорвалась, словно после долгого поста, и серый дым в прохладном ночном воздухе шел на Сергея, смешанный с пряным запахом цветочных духов. Она перевела на него глаза, впервые заметив того, с кем говорила. И он увидел, что лицо у нее красивое. Она показалась ему гораздо моложе, чем тогда, днем, не видно было морщин, большие темные, равнодушно-внимательные глаза под выпуклыми надбровьями, прямой нос и большой, в черной помаде мягкий и молодой рот.
Она произнесла какое-то эстонское слово, легкое, звенящее, со множеством согласных. Оно не походило на ругательство… Что оно обозначало, он так и не понял. Что-то близкое к сожалению послышалось ему в этом слове. Она ушла, не простившись, медленно повернулась, полосатая юбка пышно покачивалась над белыми чулками. Еще несколько секунд он видел ее; она шла очень прямо, рослая, широкоплечая, потом темнота съела ее.
Словоохотливый рыжий парень, племянник старика, часто приходивший и выпивавший вместе с ними, рассказал как-то ему историю Яана.
Яан собирался было продать свой дом и ехать в Казахстан к семье, уже списался с ними, да тут появилась эта Линда. Она приехала с других островов, работала в коптильне, была, по словам племянника, самый сок, любила поддать и прочее, и все предупреждали старика, но он никого не послушал. Никуда он не поехал. Не пустила, говорят, она его, а может, он сам не захотел. Разве можно «не пустить»? Видно, и сам не рвался дядюшка Яан.
Построил он новый дом, поженился с Линдой, и жили они мирно и тихо, пока не появился Урс, вдовый мужик с двумя детьми, рыбак, здоровый малый, неразговорчивый, двух слов не допросишься.
Говорят, видели, как Линда выходила из его дома. А может, и не видели. Во всяком случае разговоры ходили. Но таких следопытов не нашлось на острове, чтобы могли доказать, что так оно и есть. Но однажды старик вернулся с материка, и, видно, раньше, чем надо было… Застукал он свою Линду с Урсом, и тут нервы у старика не выдержали, устроил он пальбу из двустволки. Под эти самые залпы и ушла Линда из его дома. На острове милиции нет, суда нет, скандалов здесь не любят, разбирательств тоже — зачем, чтобы пыль до самого материка летела…
Яан остался один. Обнес свой дом забором, проволокой. Некоторые считали, что он дурачок. Зачем так волноваться? Баба-то молодая, ей нужно… Зачем стрельба, что за дикость. Через некоторое время Урс выпер ее из дому. Хотела вернуться к Яану, а он слышать не хочет, а может, только вид делает, ждет, что она приползет на коленях, а она сааремская баба, такие на коленях не ползают. Вот такой раскол на сегодняшний день.
Так ли все было, как рассказал рыжий племянник, или кое-что приврал, неизвестно. Они теперь с каким-то новым чувством жалости и понимания относились к Яану.
И когда Галя с мальчиком уезжала, то Яан снова был вместе с ними, и они вновь катили на двух велосипедах к «аэропорту». И все были грустны и молчаливы, кроме Яана, который был, пожалуй, грустнее всех, но разговаривал; вернее, что-то бормотал сам себе, а когда к нему обращались, не слышал. Он обращался иногда к Гале по-эстонски, называл ее двойным именем — Виви-Анн. Потом, на каком-то особенно плохом русском шутливо ругался, говорил, что если он, негодяй Сергей, когда-нибудь бросит ее, то пусть она с мальчишкой приедет на остров и он, старик, будет ухаживать за ней и любить до самого своего последнего дня, который уже хорошо виден.
— А что это за имя такое, дядюшка Яан? — спросила она. — Чьим это именем вы меня зовете?
— Мало ли каким именем я, старик, могу тебя звать? — отмахнулся он. — Может, это цветочек такой, который в России неизвестен, — Виви-Анн.
Когда самолет помчался и оторвался от травы, мгновенно примяв ее бешеным своим ветром, а затем стал как бы замедленно подниматься, они с Яаном, осиротевшие враз, медленно поколесили назад нолем. Он представлял себе ее, прижавшую к себе мальчика, в этой маленькой жестянке, громыхавшей и отважно болтавшейся по небу, и все время как бы проигрывал ленту назад, видел все, что только сейчас было реальностью и уже стало воспоминанием; и вдруг отчетливо понял, что кончилось здесь что-то такое счастливое, чего уже, наверное, никогда не будет. Странный старик со своим горем был лишь фоном этого счастья, и сам он, и Линда, и весь этот островок казались невзаправдашними.
— А знаешь, почему я назвал ее этим именем — Виви-Анн? — спросил старик.
— Откуда же?
— А была у меня дочка. Линда мне родила дочку. И мы назвали ее Виви-Анн. Только она прожила всего две недели и померла. Врачи разное говорили, я не понял. Может, оттого, что я такой старик и не время мне иметь дочку и бог разозлился и взял ее, а может, это Линда виновата — простудила девочку, потому что думала не о ней, а черт те о чем. А может, просто такая судьба, чтобы старику Яану уже до конца быть одному.
Что-то еще бормотал старик, а потом вдвоем они выпили и расстались. Когда кончились работы, он обещал старику, что будет приезжать сюда с женой и сыном каждое лето и будет писать старику каждый месяц.
И действительно, он написал старику два письма и получил в ответ две открытки — одну рождественскую, со свечами на переливающейся бумаге, а вторую с рисунком: дым из трубы и несколько слов не по-русски, будто старик забыл, кому пишет.
На этом и закончилась переписка.
Однажды через несколько лет Сергей попал в эти края и прилетел на остров. Он легко нашел дорогу, обстроенную теперь серыми каменными домиками, легко нашел и узнал в подробностях и тот дом, отметив, что что-то в нем переменилось: нет уродливого забора с колючками, вместо него низенькая каменная изгородь. Он покричал несколько раз: «Дядюшка Яан! Дядюшка Яан!», не дождавшись ответа, вошел во двор. Маленькая рыжая девочка со школьным портфелем, из которого почему-то торчали пучки лука, удивленно посмотрела на него и сказала, что дядюшки Яана нет.
— А где он? — Он мысленно молил девочку, чтобы она ответила, что он где-то, может, в другом доме, или на другом острове, или на материке, в городе, но чтобы он был где-нибудь на этой земле.
— Не знаю, где, — сказала девочка. — Папа знает, мама знает.
— Но он… жив?
— Кажется, жив, кажется, его папа видел, но я точно не знаю, папа точно знает, вы его и спросите.
Он стал терпеливо ждать папу.
Папа, новый хозяин этого дома, и был тот самый рыжий племянник. Он потолстел, крупная красная голова приветливо покачивалась. Он узнал сразу и долго расспрашивал: как дела, как работа, жена, и вообще, как там, в Москве. И все время Сергей пытался прорваться сквозь его вопросы со своим вопросом: «А как же Яан, дядюшка Яан, живой ли?» А тот не отвечал, спрашивал только, и розовое, гладкое, уже немолодое его лицо выражало такой покой, такую ясность, что и речи не могло быть о том, что что-то дурное случилось с кем-нибудь на этой земле, в том числе, конечно, и с Яаном. Он рассказал, что купил этот дом у старика, что живет с женой, она белоруска, а девочка, Марина — вот она, а сын, Эйнар, трех лет, в настоящий момент в рыбзаводских яслях. А что касается дядюшки Яана, то он жив, да, именно жив (это в ответ на взгляд вопрошающий, недоверчивый и как бы требующий подтверждения).
— А где же он?
— А устроен он совсем неплохо, — объяснял племянник, — так как по своему желанию, да, именно по своему, решил поселиться в доме для престарелых рыбаков. А это замечательный дом, таких, может быть, и нигде нет, это колхоз на свои средства открыл, о нем даже в газете республиканской писали. Нет, вы сами убедитесь, что это не богадельня какая-нибудь, а отличный дом, с полным уходом, хорошим питанием, заботой, совершенно бесплатно, на берегу моря, за счет нашего колхоза.
В Доме заслуженного отдыха — так примерно переводилось его название — был тихий час.
Дежурная спросила у племянника:
— Кто такой приехал, не родственник ли, а если да, то по какой линии? — И тут же достала листочек картона, что-то вроде учетной карточки. — Извините, — сказала она, — это не праздное любопытство, мы должны знать всех родственников наших постоянных обитателей. Здесь разные проблемы возникают.
Они с племянником пошли по коридору, встретили молодого человека, который, узнав, что гость издалека, из Москвы, стал водить его по дому с видом радушного хозяина. Дом был действительно красив. В столовой старики и старушки, оживившиеся с концом тихого часа, сидели за толстым деревянным столом, электрокамин радушно мерцал, старики переговаривались или стучали в домино, в широкие окна выкатывало море, медно сверкала чеканка, изображавшая нелегкий труд рыбаков.
Сергей поискал глазами Яана, но за столом его не было.
Потом молодой человек показал подсобные помещения, участок, мастерскую, где обитатели дома (из тех, кто сохранили еще способность), естественно с разрешения лечащего врача, могли заниматься полезным трудом.
Некоторые из них не утратили интереса к искусству: рисовали, лепили, клеили в специальной комнате. А для тех, кто сохранил еще слух и не утратил музыкальности молодых лет, было куплено новенькое, с иголочки, пианино.
Молодой человек, оказавшийся главврачом, показывал все с большой охотой. Он работал здесь недавно. Так же охотно отвечал он на все вопросы.
— Мы не ограничиваем посещения… Только родственники не так-то часто приходят… Больше туристы, экскурсанты. Здесь в основном люди без родственников. Те, у кого есть родственники, все же предпочитают оставаться дома, хотя наш дом и является единственным в своем роде и, как видите, хорошо оснащенным учреждением.
Они прошли но всему помещению, и тут он спросил главврача:
— Как бы поглядеть на дядюшку Яана?
Тот неожиданно задумался.
— Не совсем здоров ваш дядюшка. Но знаю, стоит ли его тревожить… Так-то он молодец, но сейчас… Но если вы специально приехали издалека, то, конечно, жалко не повидаться.
Они подошли к одной из комнат с аккуратной табличкой, пришпиленной к новенькой двери. Постучали.
В комнате было тихо, ни шороха, ни движения. Еще раз постучали. Снова никто не ответил. Послали за кастеляншей. Она открыла дверь. Молча, с опаской вошли в комнату. В комнате, напоминавшей просторный гостиничный номер, никого не было.
Главврач очень удивился. Кастелянша тоже. Ведь было известно, что старик нездоров. И племянник тоже подтвердил: был здесь несколько дней назад — Яан больной, лежал.
Стали искать Яана.
Нашли его в лесу. Он выпиливал что-то из куска коры. Он поднял зоркие голубовато-прозрачные глаза, равнодушно оглядел всех пришедших и снова стал неторопливо выпиливать.
— К тебе гости, Яан, — сказал главврач. — Что ж ты так принимаешь? Твой друг к тебе издалека приехал.
Старик снова приподнял равнодушные глаза.
— Дядюшка Яан, — сказал Сергей так громко, будто считал старика глухим, — это я, Сергей. Помните, я жил у вас когда-то? Ко мне еще жена приезжала с сыном. Потом я писал вам, вы даже отвечали мне. Помните?
В чистой голубоватой воде стариковских глаз как бы мелькнула какая-то тень. Однако он не отвечал… Надо было еще что-то сказать ему, с чем-то связать ослабевшую нить памяти… Ведь это не так давно было, лет шесть, наверное, назад.
— Мы тогда еще с вами на велосипеде ездили. Встречали… Провожали.
Слова его как бы скользили по голубому, чистому пространству, не задевая и не отражаясь. И вдруг неожиданно для себя Сергей произнес, вернее из него вылетело это короткое, так часто повторявшееся тогда слово: «Линда».
Старик нахмурил сыроватый, белый, в школьных линеечках морщин лоб.
— Линда? Да. Давно я ее не видел. Говорят, она умерла.
Он еще раз посмотрел, с усилием сложил губы, и они выразили что-то похожее на улыбку.
— А тебя я не помню. Вот его, — он, неожиданно нахохлившись, посмотрел на племянника, — вот его… Он тут часто болтается. Вроде ты был у меня. Кажется, ты жил со своим сыном или дочкой.
Он провел чуть дрожащей, но точной рукой, зажавшей маленький, тупой ножик, по коре.
— Трудно, трудно все помнить. Да и зачем?
Сергей подошел поближе к старику, протянул ему руку, сказал тихо:
— Извините, дядюшка Яан… До свидания.
Тот протянул легкую, как кора, из которой он что-то выпиливал, коричневую руку. И что-то пробормотал.
Он задержал руку Сергея в своей, и тот чувствовал неожиданно крепкое его пожатие и думал, что старик что-то скажет еще, но этого не было. А на племянника вроде он и смотреть не хотел.
Потом они втроем шли но участку, племянник что-то говорил возбужденно на своем языке. Видимо, он удивлялся. А потом он сказал по-русски:
— В прошлый раз он совсем другой был. Мы его не обижаем. Каждый раз что-нибудь приносим. Что это с ним?
— Что ты хочешь? — рассудительно говорил главврач. — И воздух хороший, и условия, а возраст свое… берет. Сенильные явления. Конечно, многие у нас в хорошем состоянии. Можно сказать, даже в отличном… А вот наш старичок Яан что-то стал сдавать.
Племянник согласно кивал головой.
XVIII
Он увидел снизу ноги в сапогах, много ног, будто взвод шел, все ближе и ближе, казалось, еще секунда — и пройдут но нему, растопчут. Но вот чья-то рука до него дотронулась, он открыл глаза и вновь увидел сначала уходящие, убегающие сапоги и услышал шум какой-то с той стороны, где она была, а уж потом увидел склоненное над ним лицо. Милиционер, оказавшийся совсем молодым, снял фуражку, нагнулся и спросил как бы сам немного испуганно:
— Ну что ты, что ты?
Он не отвечал. Трудно было открыть рот и сдвинуться с места, вернее не трудно, а страшно: казалось, попробуешь встать — и не сможешь.
— Я… я… ничего… — медленно, раздельно говорил он. — А она где? Где Даша?
— Кто?
Игорь повернулся, не вставая, сидя, увидел кучку людей, вернее какой-то распавшийся клубок, белели рубашки парней, один из них что-то возбужденно кричал, по траве зигзагообразно, резко ходил фонарик, выхватывая все одно и то же: темную землю, низкие кусты и вдруг пошел дальше, туда, где метнулись две фигуры, а вслед им от кого-то, словно бы невидимого, но тоже бегущего, стелился резкий, прерывающийся на ходу, то гаснущий, то сверлом вонзающийся в деревья свист.
Он встал. Теперь он уже не боялся за себя. И не думал о себе, поняв вдруг, что с ним ничего такого не произошло, он мог стоять и мог идти и даже не почувствовал вначале боли, только когда он пошел, ускоряя шаг, она отдалась сильно, глухо в груди.
— Стой, подожди, — приказал милиционер.
Но он уже не слышал его, а бежал к тем, кто стоял кучкой. Бежать ему было трудно, он вдруг почувствовал тяжесть ноги, словно бы перебитой.
Он всматривался, искал и не находил ее, она была где-то внутри этого кружка, ее заслоняли слившиеся с темнотой спины милиционеров и светлые — тех парией. Может быть, ее вообще не было нигде, он все шел и шел, но расстояние не сокращалось.
Откуда-то появилась машина. И двух парней стали вталкивать в нее, они оборачивались и кричали, показывая на него рукой, и, хотя они были рядом, он не понимал, что они кричат. А вдали послышалась возня, ругань, потом шаги, приближающиеся, это нагнали тех и вели сюда.
Теперь он увидел ее.
Ее лицо белело у дерева, и он подумал, что она стоит, но она неживая, что ее прислонили к дереву.
— Дашка, Дашка! — закричал он и, всхлипывая, побежал к ней.
Кто-то из милиционеров резко остановил его, но он вырвался и побежал к ней.
Она стояла у дерева, и он уткнулся в ее теплое плечо, но милиционер оттаскивал его, будто теперь нельзя было к ней прикасаться.
Она стояла молча, и он глядел на нее, стараясь понять, что же случилось, искал следы этого случившегося, чего, он еще не знал, но, кроме разорванной у плеча кофты, ничего не мог увидеть и понять… Дашка молча, без движения стояла у дерева.
— Это он, он начал, этот! — истошно кричал высокий голос все на одной ноте.
И, повернувшись, он увидел того самого, первого, маленького; он сопротивлялся, его тащили в машину, а он выдергивал руку и показывал на Игоря.
— Вот негодяи… какие негодяи! — тихо сказала Дашка и неожиданно бросилась к Игорю, ощупывая руками его лицо, рассматривала его, бормотала: — Ты живой… я так боялась! Они ничего не сделали с тобой?.. Ничего?
Какой-то горловой резкий звук вырвался из ее груди, она села на траву, обхватив колени руками, задавливая этот мучительный и резкий плач.
— Истерика, — озабоченно сказал молодой милиционер.
Игорь сел на корточки, взял ее руки, гладил, говорил, пугаясь: «Даш, Дашенька, ну что ты?» А сам все удерживал то, что буквально раздирало все его нутро, то, что словно было заколочено внутрь ледяным огромным комом, парализуя движение, обессмысливая слова: вопрос, который он выкрикивал внутри себя и который но мог прошептать.
Он гладил ее теплую голову, волосы, нависшие над лицом, с застрявшей в них колючей травинкой, и старался увидеть все так, как было еще пятнадцать минут назад, когда они шли только вдвоем, не зная, что их собьет наземь что-то тяжелое, бешеное, нелепо случайное, как грузовик, летящий с горы. Он не понимал: случилось что или нет, но все равно что-то случилось, и все равно так, как прежде, теперь не будет, и как теперь жить, разговаривать? Хотелось вырваться из этого кольца, из этого парка куда-то в другое место, на улицу, где ходят люди, где никто никого не преследует, где можно просто идти. Просто идти.
Но не скрыться, не убежать, не уйти на дно!.. Просто идти нельзя.
И, начиная вновь собирать себя, сжимать все распавшееся, словно бы воспалившееся нутро, готовить себя к чему-то новому, к неведомому еще сопротивлению, ко всему тому, что он смутно себе представлял, он приподнял ее, вглядываясь в ее лицо, рассматривая ее всю, будто видел впервые. Она была такая же, только очень бледная, юбка не порвана, даже не помята почти, только кофта истерзана, словно ее жевала собака.
И вдруг, видимо поняв, о чем он все время думал, она сказала, приблизив к его лицу потемневшие свои глаза с расширившимися, как после атропина, зрачками:
— Не бойся… со мной ничего… ничего… Я их покусала всех.
Лицо ее скривилось, и он подумал, что она вновь начнет, но она не начала, лицо ее стало спокойным и даже чуть насмешливым, и вот так, чуть насмешливо, она смотрела на подошедшего милиционера, который все повторял:
— Пройдемте, пройдемте, ехать надо.
Их посадили вдвоем, густо пахло бензином, поскрипывала железная обивка «газика», куда-то везли; она сидела, прижавшись к нему, закрыв глаза.
Ему стало хорошо от этой тяжести и теплоты, от тишины и запаха машины, старался не думать о том, что было, не чувствовать ничего, кроме того, что они едут вместе, только нога все время побаливала, и, хотя он мог ею двигать, она казалась ему чужой, слоново-неподвижной. Когда они вышли из машины, он вновь не ощущал ни боли, ни тяжести, шел легко.
Тех уже провели вперед, и в просторном, со множеством плакатов на стенах помещении, освещенном резкими лампами, он увидел их, рядом сидящих у стены, одинаково упершихся взглядом в пол.
Лейтенант быстро что-то сказал другому, тот вышел, принес бумагу и, обратившись к Игорю, сказал:
— Фамилия. Имя. Адрес.
Игорь сначала не услышал, он все время представлял себя автоматчиком, тем самым, из фильмов, которые видел во множестве, и он полоснул огнем по их красным лицам… Не шелохнувшись, они продолжали сидеть в тишине в почти слепящем голом свете. Игорь прищурил глаза, чтобы не видеть ни этого света, ни этих лиц с опущенными глазами.
— Фамилия. Имя. Адрес. Вы что, не слышите?
Игорь посмотрел на него:
— А они? Они… их фамилии?
Лейтенант недовольно посмотрел на него и сказал:
— Ты отвечай на поставленные вопросы. Мы тут сами разберемся.
Игорь должен был ответить на эти вопросы, а также написать, давно ли он знаком с Дашкой, и в каком часу он вышел из дому, и когда с ней встретился, и где они гуляли, и в каком кафе были, и что пили там, и когда вышли оттуда.
Писать все это было трудно, слова выглядели нечеловечески казенными, и он сам уже не мог писать «мы гуляли», а писал «мы находились», ему было странно, зачем все это надо объяснять, казалось, их с Дашкой тоже в чем-то подозревают.
Он перестал писать и начал объяснять, как те их выслеживали, но лейтенант сказал, что об этом говорить еще рано и что вообще говорить ничего не надо, что сначала надо описать то, что было до того: откуда они вышли и куда они шли.
— Ты должен изложить все подробности, тогда и следователю будет легче работать.
Слово «следователь» испугало его. Ведь ничего все-таки же не случилось, все это было уже прошлым и надо было только наказать этих и уйти и навсегда забыть, но, оказывается, забывать было нельзя, теперь это продолжалось, становясь иным, новым: показаниями, делом.
— Ну что же, — сказал он, — раз так, так пусть все будет до конца.
Потом ушла Дашка, и он долго ждал ее, а когда она вернулась и молча села, лейтенант начал вызывать тех.
— Доставлен в шестнадцатое отделение, — сказал дежурный.
— Как доставлен? Живой ли доставлен, ранен ли? Что значит «доставлен»?
— Доставлен — это значит доставлен, и ничто иное. Жив и, надо думать, невредим, иначе был бы доставлен не в отделение, а в другое место.
На такси вместе с Валькой несся по опустевшим улицам в 16-е отделение. Жив. Доставлен. Есть. Вот что главное. А уж дальше видно будет.
Прошел, пробежал мимо милиционера, покуривавшего у подъезда с желто светящимся номером отделения, мимо машин, мотоциклов.
И увидел, словно сфотографировал навсегда, большую комнату, лампу в продолговатом белом абажуре, плакаты на стене и где-то в углу, рядом с незнакомой бледной, с каким-то вызовом смотрящей девочкой, своего сына.
Все остальное было сначала неважно. Какая-то стайка парней с опущенными лицами, в голом, желтом свете затылки блестели, и он не сразу понял, что они и есть п р и ч и н а; казалось, они сами пострадали от кого-то, волею несчастного случая попали сюда, так сиротлив и жалок был их вид.
Сын его избит. Он увидел это не в первый миг, не в первую секунду, в н а ч а л е все это было неважно, лишь то, что е с т ь, с и д и т, а уж потом обострившийся, внимательный взгляд мгновенно вобрал в себя резиново торчавшую распухшую губу, синее, с багровым оттенком пятно на подбородке и щеке, и он ужаснулся: никогда не видел таким своего мальчика. Но мальчик мог встать, и двигались его руки и ноги, и он говорил что-то и неожиданно, вопреки всему происходящему, был или казался сравнительно спокоен.
И поэтому он, отец, чувствовал удивительное, никогда ранее не испытанное возбуждение, не страх и подавленность, а, наоборот, счастье, будто какой-то случайный, единственный билет вытащил на страшном экзамене и теперь от полноты чувств не знает, как им распорядиться.
Теперь он внимательно посмотрел на девочку… Что за девочка, почему она тут сидит? И совершенно неожиданная мысль, неизвестно, откуда выскочившая, не имевшая прямого истока, возникшая вот сейчас, на голом месте, и тут же ледяно парализовавшая все сумбурное, почти праздничное движение, происходившее в нем, внутри него. И не отрываясь он стал смотреть на девочку, которая сидела как бы в полусне, как говорят медики — в ступоре.
Почему она здесь? И какая связь между присутствием его мальчика и ее в этой голой комнате с темными бумажными (как во время войны) шторами? Смутное и отталкивающее предположение, которое не могло быть правдой, но могло быть причиной, ползучим грибовидным всполохом взорвалось и качалось в сознании. Он не мог ничего спрашивать ни у своего сына, ни у девочки, ни у капитана, внимательно глядевшего на него.
Он подошел к капитану, они ушли из этой большой комнаты в другую, меньшую, с настольной лампой, письменным столом. Капитан сел за стол, перелистал несколько страниц в мелкую школьную клеточку, с лиловым оттиском печати в уголке, потом положил эти страницы на середину отсвечивающего стола со вспухшими морщинками лака на гладком пространстве.
— А что с девочкой? — спросил Сергей. — Почему она здесь очутилась?
— Вы отец?
И он, поняв вдруг, что иначе ничего не скажут, не ответят, едва кивнул головой.
Да ведь и на самом деле он был отец.
— Мы не можем сейчас сказать с определенностью… Только экспертиза может показать, если в ней будет необходимость… Но девочка отрицает возможный факт. Да и у нас нет никаких оснований утверждать… — откуда-то издалека звучал, то пропадая, то вновь приближаясь, его спокойный, разъясняющий голос — Даже возможно, и не попытка, а просто хулиганское нападение, избиение… Без видимых серьезных телесных повреждений… Необходимость тщательного осмотра, экспертизы… Выявить… определенность.
Сергей все время вспоминал эту девочку. Вернее, не ее вспоминал, ее-то он не помнил, а из ряда возможных ассоциативных вариантов пытался понять, вычислить, кто же она, почему она и сын, и вдруг, как это иногда бывает в таких случаях, почти без всяких внутренних подсказок, интуицией догадался: «Гурьина то ли Гурьева». Память сразу отнесла его к пионерлагерю, к обеспокоенной молодой женщине, говорившей с его женой; где-то, понурясь, топталась девочка с удивительно худеньким, гибким, цирковым тельцем. «Надо немедленно звонить матери», — думал он. Ее матери и матери его сына. Надо звонить им немедленно. Он вдруг почувствовал себя кровно, почти в равной мере причастным и к этой девочке, физически почувствовал себя ее отцом.
Но прежде чем звонить, ему надо было погасить ту тревожно пульсирующую и немедленно гаснущую, совершенно нелепую и вместе с тем не лишенную отвратительной реальности мысль, которая, если сбылась бы, перечеркнула бы все, даже то, что мальчик жив, цел.
— Так как же это все-таки было? Как же все-таки они оказались здесь? — И с какой-то беспомощностью даже, не то что юридической, но просто бытовой, человеческой, закончил: — Кто же виноват, в конце концов?
— Это вы преждевременный вопросик задаете, на то и следствие, чтобы выявить все обстоятельства. А только одно можно сейчас сказать. — Капитан замолчал и провел тупым концом ручки по чистым, ярко белевшим в сфокусированном свете настольной лампы листам: — Оперативная группа на месте преступления застала следующую картину. Мальчишка этот, Ковалевский, кажется, так он себя назвал…
Сергей вздрогнул от того, как этот капитан произнес их фамилию.
— …лежал в стороне избитый, но в сознании. А те группой окружили вашу дочь… Серьезных внешних физических повреждений не установлено, цель преследования в данный момент мы можем только предположить. Каких-то реальных доказательств у нас нет, поэтому скорее всего можно говорить только о попытке.
— О попытке… чего?
— Я же повторяю вам, — терпеливо сказал капитан, — что по внешним признакам нет никаких оснований говорить даже о попытке. К тому же девочка решительно отрицает. Оперативная группа прибыла вовремя и пресекла нападение хулиганов, а досконально может выявить в ходе следствия лишь экспертиза.
«Никакой экспертизы», — подумал, а может, и сказал Сергей, и рука его потянулась к телефону. Он даже не спросил у капитана, можно ли.
Голоса и в его бывшем доме и там, в другом месте, были похожи: истончившиеся, будто распавшиеся на волокна, даже не вскрикнувшие, а выдохнувшие:
— Ну, что там?!
И он отвечал, торопливо, возбужденно, вместе с тем стараясь казаться спокойным:
— Все в порядке… Потом объясню… Нет, приезжать не надо. Я сам привезу нашего сына… вашу дочь.
— Кто вы?
— Отец Игоря.
— Какого Игоря?
— Игоря… Какое сейчас это имеет значение? Важно, что все обошлось.
— Ах, Игоря, вспоминаю… ну да… Скажите, действительно ничего не… Я уже звоню всюду, по всем больницам. — Голос оборвался, задавленный спазматическим рыданием. — Действительно ничего?..
— Ничего практически не случилось.
Неуклюжее, длинное слово «экспертиза» дохлой рыбиной плавало рядом, лезло в рот, в горло, но он, слава богу, не повторил его.
— Сейчас я ее привезу.
Сбитый с толку капитан так и не мог понять, чей же он все-таки отец. Возможно, он подумал, что он отец их обоих… Было уже поздно, и капитану было трудно разобраться, кто чей отец, у него еще полдежурства было впереди, а тут все чьи-то отцы и чьи-то дети, и, успокаивая испуганного отца, капитан говорил, давя зевок:
— Считайте, что все обошлось с вашей дочерью, но разбираться, конечно, будем. Но зачем они в такое время ходят по лесопарку? Ведь зона отдыха в одиннадцать часов закрывается.
И дальше адрес, телефоны, какая-то подпись, то ли в протоколе, то ли просто на бумаге.
Молчаливые парни с насупленными лицами, неподвижно сидящие на скамейке у стены, звонок в таксопарк, ожидание.
Затем улица, такси, и он держит за руки молчаливых Игоря и Дашку. Держит крепко, будто поймал и боится отпустить.
Незнакомый какой-то дом, женщина стоит в темном дворе, выбегает навстречу такси, простоволосая, сравнительно молодая или кажется молодой в темноте. Не плачет, даже находит силы поздороваться с ним, протянуть руку, назвать имя, отчество.
Не зная, что говорить, но сразу стараясь успокоить ее, он повторяет:
— Все обошлось, все, слава богу, кажется, обошлось.
— А что, что обошлось? — с тревогой спрашивает мать.
— Все, все, — повторяет он.
И боковым зрением видит, как Игорь в стороне держит руку этой девочки, смотрит ей в глаза, стоит как вкопанный, держит, не выпускает руку.
XIX
Когда и как это обозначилось, порвалось, поползло в разные стороны, как рубашка, которую носил давно и считал вечной, но вот однажды зацепил за что-то… Не станем говорить о сходствах и несходствах, о противоречиях, о характерах, о всяческих не до конца понятных причинах внутреннего свойства. Как и всякая счастливая пара, они расходились окончательно иногда по два-три раза в день, но все же втайне догадывались, убеждены были, что жить им всегда.
Несколько лет назад, перед поездкой в Среднюю Азию, ему неожиданно позвонили из газеты, причем из молодежной, комсомольской, с просьбой «рассказать молодому читателю об экспедиции».
Он относился к подобным публикациям с настороженностью, с некоторым даже предубеждением, но вместе с тем понимал, что иногда широкая общественная огласка может помочь делу, а тем более этой давно им задуманной и трудно складывающейся длительной экспедиции.
Он согласился. Разговаривал он, как всегда в таких случаях, суховато, тоном педанта, подтекст проглядывал слишком прозрачно: «Я занят, поэтому короче, если можно». И сам понимал, что пережимает, но такова уж была выработанная годами привычка. А на том конце провода звучал сдержанно-просительный, не теряющий достоинства очень молодой, как ему показалось, и очень женский голос. Почти осязаемо он чувствовал бесстрастно переданную мембраной грудную свежесть, чистоту этого голоса.
Он согласился принять корреспондентку в институте.
Худенькая молодая женщина, вполне типическая, по его представлениям (такая именно и должна была прийти), в клетчатой длинной юбке, в тупоносых мушкетерских сапогах, в свитере, с тоненькой крепкой талией, державшаяся одновременно уверенно и скромно, не задававшая, к счастью, никаких глупых вопросов: он с уважением отметил ее четкую профессиональную повадку, это ему всегда нравилось в людях, радостно удивляло, особенно в тех, которые занимались не похожим на его делом. И никакой искры, никакого разряда не возникло между ними. Расстались деловито, довольные друг другом.
— Я позвоню вам в среду, уже будет верстка, и вы завизируете, — сказала она на прощание.
В среду он назначил ей встречу на странном месте — на шоссе, опознавательным знаком служил продмаг. Он собирался заехать к директору института, тот болел и жил за городом, в дачном поселке. Им надо было поговорить перед его отъездом в экспедицию. Сидел в машине с раскрытыми дверцами, выглядывал, боясь, что она не найдет. Она подошла минута в минуту. Он взял серую, сырую верстку с очень коротеньким каким-то, почти жалких размеров текстом, бегло, но цепко просмотрел. Тут же он нашел две неточности; она исправляла, прижав верстку к железной обшивке машины, ей было неудобно, и он предложил:
— Садитесь.
Она молча села. Институтский шофер ждал, потом она неожиданно сказала:
— Я могу вас немного проводить.
В машине она снова проглядывала верстку, сидела молча, придвинутая к нему ухабистой дорогой; мелькало шоссе, такое знакомое, выглядывающие из зелени белые башни новых домов, затем приземистые, темные домики деревни, пивной ларек, облепленный людьми.
О чем-то они принимались говорить, но разговор зависал, лишенный стержня. Сергей не старался ее понять; интерес требовал усердия, сосредоточенности, а он думал сейчас о своем предстоящем разговоре с директором, об отъезде. Все остальное же проносилось мимо, как эти домики.
Но присутствие ее он ощущал, ощущал тепло и тяжесть чуть привалившегося к нему на дорожных выбоинах крепкого длинного тела, не столько слышал ее голос, сколько, как тогда, по телефону, чувствовал его сдержанную и нежную силу. Она о чем-то говорила деловито и разумно, попыхивала сигаретой, замолкала, когда он ее не поддерживал, и вдруг ему захотелось погладить ее по голове, притулить эту рассудительную голову на свое плечо.
Но здесь, в этой обстановке, не должен был, а значит, и не мог.
Машина осторожно катилась по узеньким улочкам поселка, мелькали уютные вечерние окна, белели рубашки возвращающихся с озера купальщиков, слышались ночные голоса, смех. Машина тихо двигалась по мягкому, источающему тепло асфальту, въезжала из московского огромного дня в узенький подмосковный вечер, полный шорохов, голосов, вздохов, совсем других звуков, чем там, в бетонном гудящем городе. А вот уже тот дом, где жил его руководитель, или «шеф», — название, принятое в институте (впрочем, теперь все стали шефы — от официанта до водителя такси).
Близнецы, внуки руководителя, гулявшие около дома, узнали машину и его и дружно закудахтали: «Сереза, Сереза!» Тепло освещенного обжитого дома сразу же дохнуло на него, как костерок в пустыне, где жарится карума, тепло большой, ничем не порушенной семьи, где живут, как встарь, и всегда рады гостям; это был о ч а г. И, уже отдаваясь этому теплу, прогоняя тот мимолетный, чуть тревожный ветерок, что просквозил в дороге, он обернулся, пожал ее маленькую самостоятельную руку, пробормотал:
— Жаль, что не могу позвать вас с собой.
К чему? Ведь ясно же было, что не может позвать, это само собой разумелось, так зачем же делать вид, что жалеешь? Но, сказав, понял вдруг, что и на самом деле не хотелось, чтобы она уехала вот тут же, на его служебной машине или на электричке, хотелось, чтобы прошла рядом с ним через маленькие, беспорядочно раскинутые комнаты на террасу, выходящую к яблоне, и во время традиционного чаепития из самовара он, как в машине, безотчетно и как бы на отдалении, но все время ощущал бы ее присутствие.
«Мечты и звуки», — с иронией сказал он себе. Но с этим уже было кончено, торопливо, бессловесно распрощались, хозяйка вела его в комнаты к Самому, сначала к деловой беседе, затем к непременному чаепитию. По опыту он знал, что такая беседа не будет краткой, к тому же не хотел, чтобы к о р р е с п о н д е н т к а добиралась одна, в темноте, и отпустил машину.
Действительно сидели допоздна. Старик по ритуалу проводил его до крыльца, хозяйка — до калитки, стукнули щеколды, забытая свежесть негородской ночи тронула его лицо, он пошел к станции.
Улочки опустели, кое-где из домов слышалась музыка, а также шорохи встревоженных транзисторов, возбужденная иностранная речь. Не успел он пройти улочку и свернуть на дорогу, ведущую к станции, как кто-то медленно, словно раздумывая, словно боясь, вышел навстречу, и, еще не видя, не узнав, с радостью, с молодым сердцебиением догадался, кто это.
— Вы ждали столько времени?.. — говорил он, радостно протягивая ей руку, будто они расстались очень давно и вот теперь неожиданно после долгой отлучки встретились.
— А я и не знала, сколько. Я все смотрела на ваши окошки.
— Они не мои.
— Знаю, но все равно они к вам имеют отношение. За ними вы сидели, разговаривали. Потом я начала бояться…
— Темноты? — подхватил он. — Одной, конечно, страшно, тем более шпана, хулиганы.
— Не этого. Я ничего такого не боюсь. Никакой темноты… Я ее даже люблю. Я на кладбище в детстве не боялась ходить.
— Так чего же?
— Боялась, вы останетесь ночевать у них.
— Я никогда там не ночую. И вообще нигде… Только дома. У каждого человека есть дом, чтобы ночевать.
— У каждого — да, — сказала она и потянулась за сигаретой.
Ему захотелось ее расспросить, ничего ведь о ней не знал, а потом решил: «Зачем», вообще лучше ничего не знать.
Шли к станции длинной ночной дорогой, мимо улочек и переулков, в которых узнавал и свои, давние, или очень похожие на них; ведь увозили в детстве не только в пионерлагерь, иногда и на дачу. Впрочем, какая дача? Большой деревянный дом, двухэтажная коммуналка, где жили работники санатория и где постоянно жила его покойная тетка, и он немного завидовал ухоженным дачным мальчишкам, игравшим на своих участках в настольный теннис, завидовал тому, что они рвали свою малину, валялись на своей траве, никто их не выгонял, никто не грозил им, когда они рвали ягоды. Вокруг теткиного дома шел общий с чахленькими кустами палисадник, а затем коммунальные грядки картошки и несколько строго охраняемых коммунальных клубничных грядок. Здесь Сергей проводил не только летние каникулы, но и жил в те годы, когда отец уехал работать в Сибирь. Когда отец вернулся и его восстановили в институте, ему предложили небольшой садовый участок, тогда еще очень дешевый. Но он отказался. Всякого рода собственность тяготила его. Он с удовольствием отрекся от этой ноши, находя убедительные причины для окружающих и для самого себя. Тогда была причина, что некому возиться с участком. А как бы сейчас пригодилось это, для Игоря хотя бы…
Какие-то давние волейбольные площадки вспыхивали, и девочка Яна, в которую был влюблен, дачная девочка, и другая, в его же коммуналке, Лена, у которой мать запивала и исчезала на недели. Эта девочка Лена курила «Прибой» и его учила. Иногда она плакала, прижавшись к нему. Она была старше его на два года, писала стихи и все время читала их, и вместе они сидели в его комнате, он слушал ее и держал за руку, ощущая смуту крови, неясное томление, приятную печаль.
— А ведь это вчера еще было, — подумал и сказал он.
— Что — вчера?
— Нет, это только кажется, что вчера. На самом деле очень давно. Вас тогда, наверное, и не было. Вы же ведь еще ребенок.
— Конечно, ребенок, если вам угодно — ребеночек, — усмехнулась она.
Так и шли к станции, приглушенно разговаривая, будто секретничали. Он приобнял ее за плечи, знал, догадываясь, что может ее поцеловать. С пошловатой уверенностью подумал, что можно рассчитывать и на большее, но ему как раз не хотелось ни на что рассчитывать и не торопить ничего, а если ничего и не будет, тоже к лучшему, хорошо, что просто так шли по теплым, уснувшим улочкам.
Он не знал и не представлял, сколько ей лет, для него тогда еще не существовало возраста. Сам он при всем своем опыте чувствовал себя молодым и предполагал, что будет таким еще долго. Сейчас что-то поменялось с возрастами… Старость выглядит средним возрастом, средний — молодостью… Сколько девчонок с интересом и готовностью посматривало на него в институте, на скольких он поглядывал! Возрастной барьер еще не торчал помехой перед ним.
— Странно, вы меня ждали, думали, наверное, будем говорить о чем-то интересном, очень важном, а вот идем просто так, болтаем всякую чепуху.
— Ничего я не думала. Просто хотела вас дождаться.
Он пропустил мимо себя ее слова, ничему не удивился. Будто так и полагалось ей «просто так» ждать его до полночи. Станция просвечивала сквозь листву мертвыми дневными фонарями.
Прошла встречная электричка, неуклюжий человек бежал с другой стороны, косолапо, пьяно прыгнул, когда уже тронулась, когда двери сомкнулись. Раздался резкий скрип. Оба они в ужасе зажмурились. Открыли глаза, услышали страшную ругань, мат, увидели бегущего милиционера, но человек тот, пьяный, был жив, он почему-то сидел в полуотдернутых створках двери остановленного стоп-краном поезда.
Она с силой схватила его за руку. Лицо у нее было смертельной бледности.
— Боже, какое счастье, что он живой… Невозможно…
Он провел ладонью по ее волосам, по мокрым глазам, повернул лицо к себе и стал целовать. Она вся преданно и послушно потянулась к нему, точно давно, может быть всю жизнь, ждала этого.
Что было потом? Он был занят, старался не думать о ней. Так бывает: что-то произошло, всколыхнуло и тут же затонуло, потерялось в повседневности. Не звонил ей. Да и она не звонила. Может быть, ожидая от него первого шага.
Не до шагов сейчас было. С восьми начинался обвал звонков, потом мчался в институт, увязывал, утрясал, оформлял последние дела. Сама экспедиция виделась почти геологической. Один из участков находился на Памире, недалеко от Хорога, там, по его предположениям, было засыпано несколько городищ.
И все-таки думал о ней. Думал абстрактно, теоретически. Реальной встречи он представить себе не мог. Где-то скитаться, ютиться после тяжелых, груженных заботами, с опустошающим грохотом несущихся дней. Никому это не нужно было. И он был рад, что проснулся и отрезвел. И еще более был рад, что есть у него единственная женщина, жена, которую он любит, несмотря на множество напластований, наносов, несмотря на ржавчину, которая всегда появляется после стольких лет жизни. И потому н е н а д о.
Но вот позвонила. И говорили невнятно, отчужденно, то ли но делу, то ли просто так, что-то вяло объяснял, рассказывал ненужные подробности про сроки, про что-то еще, но вот она проговорила, буквально запинаясь, и он с остротой ощутил, какую неловкость, трудность, на грани унижения она преодолевает:
— А как бы… нам с вами увидеться перед отъездом?
Он решил, что она начнет сейчас припутывать сюда статью, еще что-то деловое, но, слава богу, она ни слова больше не добавила. Она просто хотела его увидеть, и, видно, этот звонок, и эта фраза, и это развинченное, не ее «как бы» далось ей нелегко, и он почувствовал стыд за то, что вынудил ее говорить так.
И они снова договорились встретиться в институте.
И снова, как и в первый раз, она сидела в его кабинете, терпеливо, спокойно ждала, пока он звонил, договаривался, неслышно сидела, уткнувшись в книгу. Ни одного взгляда не просверкнуло, ни одного жеста или еще чего-то в этом роде. Он — за столом, а она — где-то в углу, то ли стенографистка, то ли курьерша, ждущая пакета.
Потом пошли по улицам, заходили в какие-то кафе, питейные заведения, всюду не было мест, наконец с трудом воткнулись в молодежное кафе, глупо сидели среди стаек молодых людей, подвижных, рассыпающихся группок, ртутью перемещающихся от столика к столику и затем стремительно выкатывающихся на освободившийся пятачок под прерывающийся, шепелявый звук аппаратика.
Наливая ей вино, он опять рассказывал ей об экспедиции, будто других тем на свете и не существовало.
И ему было тоскливо, глухо в этом неопрятном, шумном помещении. «Зачем мы пришли сюда? Чего мы ждем друг от друга, точнее, чего ждет она от меня? Может быть, она уловила или я дал ей понять, что, по правде, душа моя не заполнена, что есть пустоты, щели? А впрочем, все это чушь, бывают ли заполненные души? Это ведь не бочки».
Так, чуть хмелея, думал он, видя перед собой ее аккуратную загорелую руку с крупными мужскими часами на запястье, ее пальцы, энергично стряхивающие пепел. Да, она была независима, самостоятельна, настолько самостоятельна, что даже открыла сумочку расплатиться.
— Нет уж, бросьте эти студенческие штучки, — почти с раздражением сказал он.
Они подошли к остановке автобуса. Остановка была пуста, как и вся улица в мелкой ряби незатихающего дождя. Зашли в какой-то подъезд. Она курила много, беспрерывно, кружилась голова от сырости, смешанной с этим дымом. И все было опять как когда-то: провожания, подъезд, вино, женщина, будто не прошла уже целая жизнь с ее подъездами, дворами, тьмой, поцелуями, словами, которым и вправду веришь, а назавтра исчезнут, выветрятся, с нежной тайной прикосновений, со всей этой так знакомой и вечно волнующей возней. И сейчас он снова целовал ее, но она была на этот раз безучастна. И, почувствовав ее отдаленность от него, покорную, но лишающую все смысла безучастность, он отстранил ее от себя и сказал:
— Что такое с вами?
Она приподняла голову, сказала со спокойным отчаянием:
— Просто мне очень плохо… Очень мерзко. Как никогда.
— Из-за меня? — удивившись, спросил он.
Она посмотрела мимо него, в полуотворенную дверь, в рябой, вязкий сумрак и сказала:
— Нет. При чем тут вы?.. Наоборот, вы… Только не подумайте, что я преследую вас.
— Какое уж там преследование. Один несчастный звонок. А я так ждал.
— Не надо. Вам не идет лгать. Я знаю, что вы не ждали. Но это неважно, не в этом дело. Важно, что мне самой хотелось позвонить. Вы даже не знаете, как это было мне нужно. А сейчас все… Сейчас уже все.
Что-то он ей говорил, убеждал, уговаривал. Он так и не понял, что «все» и почему она с холодком, так отчужденно говорила с ним весь остаток вечера.
И уже перед самым отъездом он ей позвонил попрощаться.
Она отвечала ему с преувеличенной приветливостью, с тем вниманием, которое как раз и означает, что действительно «все», остался лишь ритуал.
В самолете сидел убаюканный, думал о сыне, о доме, о старике, еще о том, сколько ездишь, а уезжать всегда тяжело и прощаешься, будто навсегда. И так же просто и органично вживаешься, привыкаешь к новому месту, к новым людям, и все отстраняется, будто никто и не провожал тебя на рассвете из дому.
Они работали все лето и всю осень. А когда земля затвердела и начались снегопады, они оставили свой горный городок, засыпанный тысячелетия назад, и вернулись в город. Это были счастливые дни, особенно первые; все поисковики — геологи, геодезисты, археологи — знают это счастье возвращения в город. Все кажется чудом: от струи душа в номере до свежей газеты. В гостиничном киоске «Союзпечати» Сергей покупал все газеты, от «Правды» до «Лесной промышленности», не говоря уж о печати братских стран, ибо он сызмальства был большим читателем газет. Радость воды и тепла, чистенького буфета на третьем этаже, телевизора в холле, транслирующего местный республиканский замедленный футбол. Вечером зажег настольную лампу, разложил бумагу, цветные карандаши. Хорошо ему, уютно было.
В этот момент постучали. Поморщился досадливо. Никого не хотелось видеть. Хотелось сохранить это счастливо-освобожденное, легкое, редкостное состояние. Решил: кто-нибудь из экспедиции с очередными вопросами.
Открыл дверь и ахнул.
Она. В красной косынке, в легком плащике.
В растерянности он спрашивал, как, почему, когда? Какими судьбами? Снимал плащик, усаживал ее, а она стояла, и сигарета чуть дрожала и густо дымилась у нее в руке.
— Какими судьбами? А самыми обыкновенными. Взяла командировку и прилетела.
Боже, как хороша она была! Или показалась такой? Нездешняя, такая московская, куда только делась вся ее самостоятельность, независимость. Опустив глаза, стояла растерянная в сто раз больше, чем он. Потом она сказала:
— Пойдемте.
Не спрашивая куда, он пошел с ней. Шли пыльными улочками, мимо высохших карагачей, она почему-то очень спешила, он еле поспевал за ней.
По дороге она объяснила ему, что они спешат в цирк.
«Цирк так цирк», — подумал он, сегодня уже ничто не могло его удивить. Она объясняла ему, что в цирке она должна встретиться с клоуном каким-то из Ленинграда, про которого она будет писать, из-за которого она, собственно, и приехала.
«И какой бред! Душанбе, цирк, она…» Когда он последний раз был в цирке?.. С сыном, когда открывался огромный, около университета. А перед этим — лет двадцать назад, с Юлькой, на Цветном бульваре. Он смотрел на клоунов и удивлялся. Голоса у них были резкие, будто у каждого в горле свисток. Да и клоуны вроде были те же, что и двадцать лет назад, так же они дико визжали. Да и тогда, двадцать лет назад, они не нравились ему, а нравились укротители и львы.
После спектакля они втроем пошли в чайхану. С ними был клоун Володя. Вернее, получалось так, что они сопровождали клоуна Володю. Он был здесь популярным человеком, ему кивали, с ним здесь здоровались все. Он довольно быстро напился и стал показывать всем фотографию сына и жены.
Чайхана была открытая, верещали, звенели, цвикали цикады. Желтый слабый свет освещал попугайчиков, низко висящих в ажурных клетках, молчаливых и утомленных обилием людей.
Все было нереально.
Потом они вышли, мгновенно исчез, точно испарился, Володя, а они шли в густой, душной тьме горбатыми улочками на окраину города. Там у кого-то из знакомых она остановилась. Она зашла в дом, а он ждал ее в саду. Она вернулась через несколько минут. В домике гасли один за другим огни. Он кивнул в сторону потемневших окон, просяще посмотрел на нее.
Она покачала головой:
— Туда нельзя.
— Ты зачем приехала? Ко мне?
Первый раз он ее назвал на «ты».
Она вновь покачала головой.
Она сидела на краю стола, он на скамейке. Он положил голову на ее колени, на тонкую, как бумага, пропитанную теплом ткань, что-то она отрывисто говорила ему, но он не слушал.
Все в тот момент было неважно, несущественно, и даже фраза о муже пролетела мимо, не задев (в Москве его бы поразило, что у нее есть муж, он ведь ничего не знал о ее муже). А здесь все воспринималось спокойно, с удивительным приятием, покорностью всему, что есть и что будет. И ни от чего не было больно, будто дали укол анестезии. Да, все было несущественно, кроме того, что она здесь, кроме этого удивительного подарка. Здесь, под огромным небом в переспевших крупных звездах, во дворе с дувалом, мимо которого проносились, лая, шумные бездомные собаки. Так же нереально шелестел транзистор где-то вдалеке, доносил слова: «Реакция… империализм… агрессия… жертвы…»
А здесь была такая тишина, темень, такой теплый, ничем не омраченный мир. И она была будто самая первая женщина в его жизни, таинственная, притягательная, близкая и вместе с тем совершенно недосягаемая, тянущаяся к нему и боящаяся чего-то.
Неожиданно кто-то вышел с фонариком и старческим, бесполым голосом спросил:
— Ты где, Надя? Надя, где ты?
Странно, что Сергей никогда не звал ее по имени. Даже и не думал о ней по имени. Только о н а. У нее словно бы и не было конкретного имени. И вдруг оно появилось. Тот, с фонариком, исчез, и снова стало тихо, и Сергей целовал ее руки и болтал всякие глупости, будто студентик, восторженный, сошедший с ума.
И, вспоминая потом тот вечер, думал о том, как важно настроение, состояние, определенный момент определенной секунды, для того чтобы родилось что-то будущее, последующее, неожиданное, в корне меняющее ход твоей жизни.
— Ты моя Надежда, последняя надежда, — повторял он.
— Что за глупость? Почему последняя? И вообще, я не люблю свое имя.
А в горах уже начало светать, и стал виден не только темный, слившийся с небом массив гряды, но и начавший розоветь синеющий венчик над нею.
Через неделю она уехала. Неясно было, какие у нее здесь дела. Куда-то она ходила с магнитофоном, кого-то записывала, днем постоянно была занята, а вечером приходила к нему, а потом он провожал ее на другой конец города, и они гуляли, говорили до утра до бесконечности с такой жадностью, будто уже много лет провели в одиночках.
Это испугало его. Пугала эта нарастающая потребность в постоянном, ежесекундном контакте и в непременной потребности любое жизненное впечатление, ощущение, мысль, как пингпонговый мячик, перепасовать другому; в компании чужих людей, в прокуренных, в полных чужих, громких голосов комнатах он обостренно прислушивался к ее голосу, обменивался с ней взглядом, кодом, ждал, когда они уйдут и смогут снова ненасытно, до исступления говорить друг с другом. Или так же исступленно, будто в последний день жизни, молча приникать друг к другу. Чувство неожиданной, вот-вот готовой исчезнуть радости, недолгого, случайного божьего подарка кружило ему голову и пугало.
Иногда он пытался понять, как это произошло. Ведь вначале она была не нужна ему или почти не нужна, он мог обходиться без нее. «Может быть, — думал он, — в ней воплотилась моя потребность в любви, еще ни разу в жизни не утоленная, детская мечта об абсолютном, всепоглощающем чувстве».
«Она меня понимает, — решил он. — А что значит понимает?» Ведь у других он даже не искал этого понимания. Он едва ли задумывался, понимает ли его жена. Что за чушь, что за туманные необязательные категории, когда вокруг столько забот!
Всегда говоривший о своих делах формально, скорее для себя, чем для кого-то, здесь он в подробностях посвящал ее во всю кухню, во все никому, кроме людей посвященных, ненужные, непонятные подробности.
Ему хотелось, чтобы она знала и про старика Массе, и про директора, к которому он ездил, и про всех его коллег, и про противников, а главное, про него самого, все про него, про его прошлое и будущее, про то, какой он есть, и про то, каким притворяется. Впервые в жизни он испытал потребность не в потаенном и смутном, а открытом, жестоком и все-таки исполненном счастья самоанализе.
И только иногда, без нее, в холодке сиротского гостиничного утра, открывая дверь и словно бы входя на балкон без перил, жмуря глаза от резкого света и повисая над далеким ржавым камнем двора, он задавал себе простой вопрос: а что дальше?
Думать об этом нельзя было, не нужно. Следовало жить только э т и м и только с е й ч а с, спешить туда, на окраину города, где она жила у своих родственников, видеть, как приближаются наливающиеся цветом горы, обещавшие счастье, покой, высший порядок, благодать и гармонию всего сущего. И взлетало нечто неизвестно как называемое и неизвестно, существующее ли — душа, может быть? — над маленькими, приземистыми домиками, над сиротливо прижавшимися к пыльным дувалам «Жигулькам» и «Москвичам», над бывшей мечетью, переделанной в надежный склад, над маленькой районной чайханой и над каркасами комбината и неслось все туда же, к вершинам, и дальше, выше, растекаясь, плавясь, сливаясь с темным небом. И мысль о Творце, столь спорная и идеалистическая, столь даже детски наивная, вдруг явственно возникала в тебе, и хотелось, чтобы он услышал твой слабый голос, голосок, твой писк мольбы и надежды.
XX
От Дашкиного дома проходными дворами, узенькими улочками, торопись, будто кто-то гнался за ними, подошли к дому, к и х о б о и х бывшему дому. Ни о чем Сергей не спрашивал сына, хотя необходимо было знать все, во всех подробностях и деталях, и, может быть, сейчас э т о в с е было легче услышать, пока так свежо, что ни додумать, ни приврать. И все-таки он молчал, ни о чем не спрашивая, словно что-то общее, скрытное сейчас соединяло их, и эту обоюдную тишину боязно было разорвать, потревожить… К тому же, насколько он знал своего сына (а ему казалось — знал), Игорь не мог обмануть в т а к о м, в незначащей мелочи — пожалуйста, но в жизненном, важном — нет, никогда. Так он думал.
Двор, подъезд, затертая кнопка звонка, дверь со свалявшейся обивкой, женщина, кинувшаяся к нему навстречу, едва не сбившая мальчика с ног и тут же захватившая, прижавшая к своему плечу его голову.
И он, Сергей, с неожиданным холодком смотрящий на все это, прогрызший зубами фильтр полуистлевшей чадящей сигаретки в полутьме или полусвете, том особом, что бывает в доме, когда что-то случилось, естественно дурное, несчастное; хорошее, счастливое не случается вот в такой квартирной полутьме да и вообще не случается, оно живет, существует, с л у ч а е т с я же другое. То, чего бессознательно ждешь. С детства всегда ждешь какого-нибудь неожиданного резкого звонка в дверь, именно того звонка — с вестью.
— Что же это? Как же это? Боже мой…
Мать ощупывает, трогает лицо мальчика, заплывший свекольный глаз, шутовски оттопыренную разбитую губу.
— Как они тебя?.. Вот зверье! Звери!.. Судить…
— Спасибо, что так, — говорит Сергей. — Скажи спасибо. Не гневи судьбу.
И тут, вспомнив о нем, она поворачивает истончившееся, мгновенно ставшее злым лицо:
— Тебе спасибо. Тебе за все спасибо.
И, стараясь отсечь то, что будет дальше, не слышать, он уходит в комнату, ту, что была его, называлась «кабинет», в которую сын влетал иногда с радостью, обалдевший от уроков, жаждущий общения с отцом, а иногда входил с робостью, когда видел — отец работает. «Пана работает».
Когда-то это было свято.
Комната, почти не изменившаяся, тот же стол, на нем заляпанный чернильными пальцами бюстик Пушкина, громоздкая ручка «Спутник» на подставке, подаренная сослуживцами, детский довоенный «Чтец-декламатор», всегда валявшийся у него на столе. В первом разделе этой книжечки были самые любимые стихи его детства: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, А. Толстой, а во втором, современном, большинство стихов о революции, Ленине, Сталине, — их-то особенно любил читать вслух его сын.
Возможно, сыну это казалось исторической экзотикой и, удивляя, привлекало, для Сергея же за этими строчками теснились и гремели бесчисленные пионерские линейки, костры, песни, горящие флаги и горящие глаза на демонстрации, да мало ли что еще, об этом можно было долго рассказывать…
Все было так в этой комнате, но не было только здесь его фотографии с ней, когда они сидели на свадьбе своей. Какая, впрочем, свадьба, тогда подобные торжества были не в почете. Просто пошли небольшой компанией на пятнадцатый этаж гостиницы «Москва». Потом пошли домой, туда еще набились гости… Поженились в жару, в мае, страшный, иссушающий был май в Москве. Не знали, что май — дурная примета: «маяться» всю жизнь. Слишком многое было до этой свадьбы, слишком долгие и прочные нити соединяли. Поэтому и свадьба казалась чем-то символическим — излишним и запоздалым. Давно они уже были вместе, неразрывно, навсегда, не было лишь государственной печати, услужливо открывающей им номера гостиниц, домов отдыха, все прелести легальности. «Ну вот, вышли из подполья», — сказал кто-то из его друзей. И тут же щелкнул их, не предупреждая, этаких воркующих голубков. Сергей любил эту фотографию — не голубки там красовались, символизирующие вечное счастье, а сияли два очень веселых, очень молодых, пожалуй, действительно счастливых лица, почти слитно прижатых друг к другу, так что фотография казалась двуглавой. Всегда, когда смотрел на эту фотографию, ловил себя на удивлении, а удивлялся такому изумительно простому и всегда непонятному: вот этот худенький загорелый, в пиджачке, с открытой комсомольской прической по моде конца пятидесятых, в расстегнутой рубашке, без галстука, этакий путешественник в незнакомое — это я, это б ы л я. А эта, с уложенными волосами, улыбающаяся, прильнувшая к нему и чуть-чуть пьяноватая (это не на фотографии, а просто он помнит), — это она ругается и плачет там за дверью, в коридоре.
Славная была семейная фотография, да исчезла куда-то.
И что-то изменилось, переставилось в комнате: выброшен старый журнальный столик, забитый его газетами, составлявшими значительную часть столь любимого им и никогда не выбрасываемого бумажного хлама. Почему-то не было сил у него выбрасывать ни письма, ни старые книги без начала и конца, ни брошюры, ни даже газеты. Как и отец, он был хламильщиком. Впрочем, иногда это оборачивалось и наградой: по прошествии лет как бывали интересны, как поражали старые невыброшенные газеты. Что было, то было.
А теперь эта комната, чей потолок, казалось, потемнел от его дыхания, не вызывала ни горечи, ни боли.
Какая-то возня шла в коридоре и в другой комнате, слышались шаги и шум воды и какие-то указания в виде команд: «Подставь лицо!», «Дай руки!» — она, должно быть, мыла Игоря.
Странно, на расстоянии он всегда думал о ней хорошо. Иногда, где-нибудь в заграничной командировке или просто в другом городе, зайдя в магазин, он привычно смотрел что-то относящееся к ней, искал что-то ей нужное. Очевидно, это было сродни ощущению ампутированной части тела. Забывалось, что данной части уже не существует.
Когда же он приходил и видел ее, то из всех сложнейших элементов соединений, из всех многочисленных химических комбинаций вдруг отчетливо, как на опыте, выкристаллизовывалась одна злость, все другое выпадало в осадок. Ее злость, нерастраченная, долго сдерживаемая и потому особенно сгущенная. И, увы, он подхватывал частенько эту эстафету. Никогда не представлялось, что так будет…
Но сейчас он решил для себя: никаких разговоров, выяснений, ничего, просто с е г о д н я он сделает то, чего не делал еще никогда: заберет сына к себе. Сегодня сын будет у него. День, два, столько, сколько надо. Сегодня ему необходимо быть с сыном. Все услышать, понять, узнать. Если сегодня они будут врозь, то это может оказаться навсегда. Решая это, он знал, сквозь какой обстрел придется идти. Но и отступать было нельзя.
— Игорь, иди сюда.
Игорь, вымытый, с зализанными ранами, как бы похудевший, вошел.
— Игорь, — сказал он, — сегодня ты пойдешь со мной. Нам надо с тобой очень серьезно поговорить. Вдвоем.
Он не так хотел сказать. Получилось стерто, по-учительски серьезно. Он хотел еще что-то добавить, любым способом убеждая мальчика, может быть даже давя на него, разъясняя всю юридическую необходимость ему, отцу, быть в курсе дела. Он приготовил все это, стараясь выстроить перед сыном весь непроходимый частокол доводов. Все, кроме одного. Кроме того, что он сам сегодня, хотя бы сегодня, не может остаться один, без сына.
И что более всего удивило его — едва только он начал говорить, мальчик покорно кивнул. Согласился без всякого сопротивления. И молча ушел из комнаты, видимо одеваться.
Потом был какой-то всплеск, вскрик. Яркий беспощадный свет зажегся в коридоре.
И все-таки мальчик шел с ним. Шел по лестнице, во тьму двора, потом на проспект, в машину.
Она кричала, но отдала. Она поняла, видимо, что это нужно. Она всегда доходила до кипения и вдруг остывала. Слова шрапнелью выстреливали из ее рта, жалили, но не убивали. Выстрелы, в сущности, были холостыми. Да и войны не было… Оскорбленное самолюбие или еще что-то. Он боялся додумывать до конца.
Разве он мог что-нибудь сделать теперь, когда лавина жизни уже стронулась, необратимо понесла?
Ни встать на ноги, ни ускользнуть.
Уже сложились все обстоятельства, соединились, сцепились, а можем ли мы быть сильнее обстоятельств? Да, возможно, конечно. А сильнее выбора? Что делать, когда наступает время выбора?
Вот и подкатила машина с зеленым огоньком. Он приоткрыл дверь, сел с сыном на заднее сиденье, и поехали будто ни в чем не бывало, как бы два подгулявших ездока: большой и маленький.
XXI
Ни в Средней Азии, ни в Москве вначале никогда и ни при каких обстоятельствах, кроме самого первого раза, Надя не обмолвилась о своем муже. Однажды в Душанбе она сказала, что ей надо позвонить в Москву, и он провожал ее до переговорного пункта. Заодно и сам заказал разговор с Москвой. И вместе с нею ждал среди хриплых команд, подымающих сонных людей, слепо тыкающихся то в одну, то в другую кабину. Первому Москву дали ему. Вышел из кабины, как из парной, взмокший, с ощущением одновременно душевной смуты и некоторого недолгого успокоения: там все в порядке, мальчик здоров, в школе нормально, дома ждут его. Он присел рядом с Надей. Ее вызвали уже поздно, в начале второго. Разговор ее был на удивление кратким. Она вышла с изменившимся, побледневшим лицом.
— Что-нибудь случилось?
— Да нет, нет… — Она отмахнулась от вопроса, от разговора.
Потом, как всегда, черными улочками в редких огнях провожал ее и впервые, пожалуй, за все эти дни был далек от нее, весь во власти разговора с Москвой, с домом. Прощались нежно, как всегда, но впервые в нежности этой появилась какая-то механичность. Когда он отошел, то увидел, что она стоит, не шелохнувшись. Он вернулся. Она была напряжена, не отвечала. Он знал, предчувствовал такое состояние. Оно вело к неожиданному взрыву, интуитивно он был готов к этому и даже ждал. Впервые хотелось освобождения.
Он участливо спрашивал ее, разговаривал в несвойственной ему умиленной манере, как с больным ребенком. Они сидели на теплом камне, курили, и вдруг подробно, с неприятными для него деталями она рассказала о своем муже.
Ее муж пил, пропадал, погибал. Она вышла за него восемнадцатилетней девочкой. Ее ребенок просуществовал несколько месяцев и умер. Вот с тех пор или позже (он так и не усвоил историю болезни) этот человек стал пить, потом бросил работу (он был спортивным инструктором). Она укладывала его в больницу, он ненадолго возвращался к жизни, потом снова пил.
Уже потом этот пьяный муж стал безмерно раздражать его, а в тот вечер он жалел ее, жалел, и только. Человек этот не имел плоти, он был далек. И когда она говорила, что «он — мой крест», то он и представлялся Сергею туманным, лишенным всякого веса крестом.
Впрочем, в Москве он тоже почувствовал все возрастающую тяжесть этого креста… Так он и не увидел этого человека. Только иногда, когда звонил, неожиданно нарывался на ломкий, почти мальчишеский голос и, не желая трусливо вешать трубку, унижаться, официальным голосом по имени-отчеству вызывал ее к телефону. Чаще всего он звонил из автоматов, сквозняковых, продутых ветром, с бешено хлопающими железными дверями; и вот он уже ненавидел эти автоматы, себя, вполне трезвый молодой голос, неизменно вежливо зовущий ее к телефону, и все остальное.
Все, кроме нее.
Какой же звериный инстинкт в нас сидит: подобно щенкам, пораненным чужим зверем, подползаем к теплой родительской конуре, скулим и находим облегчение. Так же вот сквозь прутья детского сада или кирпичный забор школьного двора, сквозь все казенные огородки детства в минуту обиды, тревоги тянем мы к ним, родителям, беспомощные руки, и, гораздо более слабые, чем мы, и уставшие и изношенные, они кажутся нам всесильными.
Пока они есть, мы защищены.
Так и тогда (в первую после возвращения из Средней Азии весну) Сергей испытал потребность повидать отца, даже не затем, чтобы спросить его совета, а просто выговориться вслух и до конца, самого себя, ни перед собой, ни перед кем не притворяющегося, услышать и понять до конца. А раз понять — так уж и решить, потому что раз пошел в воду, так нечего болтаться на серединке, клонясь от течения, надо в конце концов п е р е п л ы в а т ь. Так он думал и ждал встречи с отцом, и не как обычно с мелкими, ненужными разговорами во время семейной трапезы, а вдвоем, с глазу на глаз.
Весна, про которую уже забыли и перестали ждать в связи со всеобщей реорганизацией климата, нарушившей и отодвинувшей все природой узаконенные сроки, вдруг нахлынула, прорвалась, и город поплыл в лужах, щедро, яростно засиял; громкий звук прорвался с неожиданной силой, будто во время киносеанса, где начало шло на шепоте расстроившейся аппаратуры и вдруг динамики загремели в полную свою глотку.
И на этот раз после работы Сергей остался в своем институтском кабинете с необычным сознанием свободы. Домой идти не хотелось, не было нужно, и уже почти не существовало этого самого «домой»; она тоже была при деле — дежурила у себя в редакции, а потом должна была ехать то ли к консультанту очередному, то ли к гипнотизеру, якобы способному утолить недуги мужа, то ли еще куда-то…
Было еще несколько звонков нужных, еще можно было втиснуть в это досрочно образовавшееся окошко свободы какую-нибудь деловую встречу, беседу, но не хотелось, не тянуло, не было сил.
И позвонил отцу. Как всегда, Антонина долго проверяла, прощупывала голосом: что там, почему вдруг днем, потом позвала, и Сергей услышал голос, как всегда по телефону нарочито бодрый. Несколько незначащих фраз: «Как дела, как самочувствие?», незначащих потому, что ответы всегда ничего здесь не выражают, всегда сводятся к одному и тому же школьному: «все нормально», но, пройдя быстро этот заученный классический дебют, он сразу же по телефону обострил:
— Знаешь, отец, хотелось бы мне с тобою поговорить…
Реакция была немедленная и тревожная:
— Что-нибудь случилось?
И тут же, успокаивая, как бы прикладывая вялую, пожелтевшую ватку с примочкой, сказал умиротворенно, с нарочито пренебрежительными интонациями:
— Ничего, нормально, просто по некоторым делам, вопросам хотелось бы посоветоваться. И так, вообще… за жизнь поговорить.
И в ответ неизменно ворчливое (он знал, что именно это и последует):
— Знаешь же, как я не люблю этих современных коверканий нашего языка: «за жизнь» или еще того хуже «в районе пяти часов».
— Этого я не сказал, дорогой мой буквоед.
А про себя подумал: «Дай бог тебе здоровья». А еще подумал: «Верно, бессмысленно разговаривать с ним об э т о м. Такая уж пропасть за последние годы образовалась. Да и зачем вовлекать старика?»
Но старик охотно принял предложение. И вот они уже договорились, что встретятся у Донского монастыря. Это было место, где они любили когда-то гулять вдвоем.
Уже когда договорились окончательно, отец неожиданно предложил:
— А может, у нас? Что нам ходить, как бездомным? Посидим, пообедаем.
«Нет уж, этими обедами сыт, сыт по горло!» — зло подумал Сергей, а сам сказал с кротостью:
— Нет, хочется погулять. Весна, солнышко, да и тебе не вредно. Хочется вдвоем погулять.
Именно так, вдвоем, а не в квартире, где он почти всегда утишает голос почти до шепота, хотя все равно Антонина все знает, знала и будет знать обо всем и всегда.
Но говорить об этом с отцом бесполезно, всегда рискуешь нарваться на заградительный, защитительный огонь. По сути дела, отец и сам любил в д в о е м, но так давно и так прочно себя уговорил, что во всех случаях о н а ему нужна и обязательна, что и втроем ему всегда хорошо, так уговорил, что в старости и на самом деле поверил.
Ждал он отца на трамвайной остановке, недалеко от старой телестудии.
Нарядные девушки телевидения, блестя горящими на солнце длинными ногами и перепрыгивая лужи, точно школьницы — нарисованные квадраты, бежали к остановке.
Сырой, теплый воздух весны. И, как всю жизнь, — ожидание чего-то, смешение самых разнообразных надежд… Но к этому примешивалось что-то новое; в этом ветреном, солнечном, гулком воздухе катился еле заметный тлеющий дымок, к нему он шел, его выбирал из всех жителей счастливого весеннего города. А впрочем, чушь все это, чепуха, и ты пьешь этот новый, свежий воздух, и, как газировка, он приятно щиплет твое нёбо.
Проносились трамваи, девчонки бежали, но вот наконец пришел т о т трамвай, и Сергей шагнул к открывшимся дверцам.
Старик осторожно ступил с подножки.
И, как всегда, когда видишь издали, не в малых пространствах квартиры, а в открытом, большом — улицы, отец показался маленьким, как ребенок, и таким же беззащитным. Он шел энергично, самостоятельно, не видя сына, цепко скользя по прохожим слабыми дальнозоркими глазами.
— Я здесь, здесь, папа, — сказал Сергей и взял отца под руку.
Он сначала хотел побродить с отцом по Донскому монастырю, он знал здесь каждый камень, каждую плиту, а потом передумал, неожиданно решив, что все эти памятники, плиты хороши для прогулок в молодости.
И они пошли по трамвайной линии вдоль выныривающих из голых продутых деревьев трамваев с темными разводами сырости на овальных китовых спинах.
— Ну, так что же, отрок мой? О чем ты хочешь мне поведать?
Голос отца был беззаботен, почти легок. Весенняя улица и вправду действовала на него хорошо.
Отец справлялся об Игоре: «давно не звонил, не нахватал ли двоек», справлялся о жене: «тоже замолчала и не заходит, а ведь живем в пяти остановках», о работе: «помни, сейчас самое хорошее твое время, спеши, не теряй темпа». Это был излюбленный его лейтмотив, звучащий в разных вариантах: «Спеши, покуда есть куда. Т в о е время». И действительно, оно было е г о. Как ни надоедливо звучал этот призыв, а был справедлив. Действительно, когда, как не сейчас. И вдруг с завистью подумал Сергей о себе вчерашнем. О себе еще год назад. Когда никто и ничто не существовало, кроме работы, все реки впадали в р а б о т у и в ней растворялись, все маршруты вели именно к этой остановке. Иногда у ближних это вызывало досаду: месяцами он никого не видел и никуда не ходил, после института сидел ночами за машинкой, ненадолго ложился и легко вставал… И вдруг все это ослабло, словно во время парашютного прыжка стропила обвисли и он ощутил тяжесть собственного тела. Парение кончилось, остановилось.
Старое здание, прочный дом его былой жизни, который, казалось, мог выдержать любое землетрясение по самым высоким баллам Рихтера, оказалось на поверку непрочным, в сущности аварийным: посыпалась обшивка, выперли ржавые балки.
И надо было окончательно рушить его, чтобы строить новое. Новое строится на костях. Будь решителен.
Боже мой, как завидовал он легким людям, тем, что «сжигают мосты», но не слышат гари, не оборачиваются на мечущихся где-то там обожженных людей! Он догадывался: то, что зовется решительностью, есть, в сущности, безжалостность, но, видно, она-то и необходима.
Как воришка, он ждал вечера, сумерек, и, когда они наступали, неизвестно откуда, белея платьем, прячась, рискуя неизвестно чем, появлялась женщина. Кто была она? Причина, случайность, жертва. А может, она и появилась в этих сумерках потому, что к этому давно шло, потому, что разлад возник задолго до этого; как хроническая слабо выявленная болезнь, он тлел и вдруг вырос, определился… Так что же в этом случае мешало рвануть этот кусок полуистлевшей материи? Рвал, да не рвалось, так стянуло их крепче железных вервий альпинистской тугой упряжки на крутых горах. А когда нажимал, прикладывал силу, рвал, то с материей этой и что-то другое рвалось: живое, кровное.
Тогда, той весной, ему так казалось. Т о г д а еще было невозможно… И уже когда натягивал веревку до конца, когда последние волокна осыпались с трухой, когда выносило вдруг на чистый глубинный простор свободы, он видел, как там, на том новом, якобы счастливом берегу, копошится его спутница, нагибается, прячет лицо, не договаривает.
Такая беззаветно смелая, она оказалась еще более, чем он, подверженной жалости, и, поджидая ее то у больниц, то у дверей ее дома, гуляя мимо скамеечек со старухами, как бы незаинтересованно глядя по сторонам, сосредоточенно и точно шпик, нанятый неизвестно кем, он думал о том, где кончается жалость и начинается беспощадность к нему, где возникает вечно удивительное, чему и сам можешь поверить, чему он, например, всю жизнь верил, когда убеждал тех, других, в своей единственной правде; и иногда, в яркости фотовспышки, видел то, чего не полагалось видеть: реальность и плоть скрытого от него не существующего мирка.
Он взрывал этот мирок. Наступали паузы. Телефон не звонил. По-детски он ждал э т о г о звонка. Но телефон вызвякивал другими звонками. Он придумывал, что куда-то она уехала, что кто-то ее увез, возникало ощущение непоправимости происшедшего.
Потом кто-то из них первый брал на себя долю унижения, которое, естественно, было паче гордости. Отчужденно, почти официально назначалась встреча. Потом она происходила. По-идиотски, по-юношески («несолидно», как сказал бы отец), где-то в кафе, в подъездах и в бездомье.
Наутро он видел себя человеком, уставшим от этого всего, решительно взрывающим всю неуклюжую, мешающую жить ситуацию. Он торпедировал ее, но торпеда была не настоящая, как в аттракционе. Она поражала цель, но не взрывалась. Женщина металась, и не только ответственность за пропадающего, погибающего без нее человека, — жалость была тому причиной. Сергей на собственном опыте знал, что́ это такое, каков этот ромашковый букетик сантиментов, и однажды в ярости он кричал ей бог знает что, оскорбительное, площадное, потому что вспомнил себя, свои метания, двоения, то, как готовился к уходу и уйти не мог, и догадался вдруг простой догадкой: т о т ей нужен, необходим, а почему, один бог знает. И чем ближе и необходимее выбор, тем старое сильнее, неотступнее, перегнившие эти нити, казалось, из необыкновенного материала сделаны. Он начинал почти презирать себя, но в минуту успокоения задумывался: а за что презирать-то? Просто он в то время действительно любил эту женщину.
Отец расспрашивал его о заседании научного общества по итогам экспедиции, расспрашивал жадно, заинтересованно, вот это было то, что нужно отцу: его дела, его работа, все другое было лишним, об этом отец не спрашивал, думать не хотел. Сергей вспоминал, что отец вообще никогда не говорил о женщинах; они были данность необсуждаемая, может быть вечная, может быть временная; трудно представить, что на эти темы он мог говорить даже с друзьями; о науке, о работе, вот о чем, и еще о политике, о спорте. Кажется, то поколение вообще не обсуждало личных дел. Может быть, эта черта была одним из элементов, входивших в вещество, называемое ими «мужество». Кто знает?
Рассказывал отцу о заседании. Говорил подробно и обстоятельно, в лицах. Отец любил, чтобы именно так он говорил о своей работе. Что сказал член совета профессор К., что сказал член ученого совета профессор М., что сказал директор. Сергей говорил развернуто, с мельчайшими деталями, со специальными терминами. Отец именно т а к любил. Он принадлежал к другому отряду, но, как и они, он был с п е ц и а л и с т о м и потому признавал методику во всем, даже в домашнем изложении недавнего ученого совета. Его, Сергея, дела интересовали его намного больше, чем собственные, возможно, заочно он гордился сыном, его успехами, но сыну не показывал никогда, чаще всего поругивал его, в о с п и т ы в а я. Он был убежден, что в с е г д а надо воспитывать.
И Сергею было стыдно сейчас за внутренний холодок, которого старик не замечал, за то, что рассказывал ему сейчас об ученом совете действительно подробно, добросовестно, но нить сопереживания не натягивалась, как прежде в подобных пересказах, когда, излагая отцу, он переживал все заново, продолжал действие. Иногда, точно в озарении, мог догадаться о чем-то важном для существа, для уточнения ему самому необходимой формулировки и повторял ее отцу, чтобы потом, окончательно поймав и отшлифовав мысль, записать ее.
Сейчас же — он не мог в этом отцу признаться да отец бы и не понял — все это отступило и ушло куда-то на второй план, как бы на консервацию. Жгло и стояло у горла другое. Но говорить было нельзя и не с кем. Вот единственно, может быть, с ним.
— А чем ты озабочен, друг мой? И все, кажется, хорошо, а ты какой-то загнанный. Ты устал, наверное.
— Да, отец, устал, устал я. Научи, отец. Ты многое знаешь, чего я не знаю. Как скажешь, отец, так я и сделаю.
— Да что ж ты там бормочешь, Сергей? — он спрашивает чуть озадаченно.
— Творю молитву, отец.
Отец усмехается:
— Ох, уж и шуточки у этих молодых! — Он все еще считает Сергея молодым. — Да и на самом деле я тебе скажу, — говорит он, — у многих моих учеников вижу я повышенный интерес к религии, и не только аналитически-познавательный, а какой-то совсем другой. Да и все обветшалые доморощенные теорийки полезли в ход. Ты же знаешь, я всегда с уважением относился ко всем серьезным и оригинальным концепциям идеализма, по это, брат, что-то другое. Это кустарщина, брат, именно кустарщина. Это не идеализм, а доморощенная мистика, без научных основ, самодеятельность.
— Но это же лучше журнала «Безбожник», в котором когда-то ты работал, лучше примитивного пропагандистского атеизма.
— Шла борьба — кто кого.
— Борьба кончилась. А вульгарное разоблачительство идеалистических концепций сохранилось. Аргументами надо разоблачать несостоятельность теорий, а не бранью.
Еще говорили об этом, спорили, вспоминали, как с отцом были на пасху в Филипьевской церкви.
— Зачем пошел, ты же атеист, — по-мальчишески наскакивал Сергей. — Сам меня первый и повел.
— Хотел тебе показать этот мир. В этом мире свой смысл, его нельзя обойти, его знать надо. Вот я и повел тебя… Ты ведь тогда же мальчишка был.
— Да, в десятом классе…
Сергей вспомнил открытую дверь, толпу, запах воска, ладана, внезапную волну но толпе, ожидание, спертый воздух, движение вдруг, голоса, что-то золоченое, светящееся — из тьмы, и тонкий крик чей-то, и рука потянулась, сложились пальцы в перст, мучительно хотелось помолиться со всеми, но отец стоял рядом, а он был партиец, безбожник, впрочем, может, и он хотел, кто знает. Каждому человеку иногда хочется, даже убежденному атеисту… Иногда хочется, может, раз, другой в жизни.
— Вот, отец, — сказал Сергей, — обсудили мы с тобой конференцию, поговорили о религии, но я хотел встретиться с тобой по другому поводу.
— По какому же? — Лицо отца стало озабоченным.
— По более простому, обычному.
На лице отца была все та же хмурая озабоченность и некоторое нетерпение: «ну не тяни же». Казалось, ему жаль, что утеряли нить другого, интересного для него разговора.
«А действительно, но какому поводу?»
Выражение озабоченности сгущалось, и Сергей уже вообще жалел о том, что начал тот разговор.
И в последний момент, пожалев старика, он придумал д р у г о й повод. Повод был чисто деловой, научный, он нуждался в совете, и этот совет с готовностью был дан ему.
Участие в профессиональных делах сына никогда не отягощало старика. Наоборот, приносило ему удовольствие.
Давно уже, казалось, был тот весенний день, прогулка их с отцом, долгий, так и не начатый разговор.
XXII
В такси Игорь, пригревшись, задремал. Он чувствовал сквозь дрему движение, быстрое и тревожное, успокаивающий запах бензина, рядом теплое плечо отца. Снилось с перерывами: поле, узенькая речка Клязьма, отец, мать идут по-над берегом. Собака забегает вперед, скрывается в тумане, возвращается назад. Это их старая собака Шалый, ее потом, через несколько лет, расплющит в переулке грузовая машина, а сейчас она бежит, помахивает хвостом, лает часто, звонко, точно вызывает кого-то оттуда, из тумана. И во сне он беспокоился о своей собаке, боялся, что там, в тумане, где пасется стадо, она может наткнуться на широколапую, с квадратной мрачной мордой псину пастуха. Не задрался бы к ней Шалый, не трепанул бы его этот угрюмый кряжистый волкодав.
Но все спокойно и тихо. Вот уже вырисовывается церковка впереди, на горке, а внизу — церковное кладбище. Туда маленьким он часто приходил один, пугаясь черных прутьев оград, тусклых, проржавевших портретов и, наоборот, ярких эмалевых, будто с переводных картинок. Отходил и возвращался к низким оградкам как зачарованный, читал фамилии, имена, незнакомые лица смотрели на него. Он знал, что и ему… когда-нибудь… что так положено людям, но это в теории, это вообще, а с ним — никогда. Затаив дыхание, ходил по узеньким кладбищенским проулкам, читал изредка попадавшиеся строки непонятных ему стихов. А сейчас он с отцом и матерью, и вдали та церковь, и подошвами чувствует он теплую, угретую за день землю, церковные луковки то взблеснут, то тонут в молочном киселе, и навстречу ему бежит вприпрыжку молодой, развеселый их песик, действительно, точно Шалый.
Вот такой приятный сон снился ему. Потом на миг, во сне же, он вспомнил: ведь случилось, случилось что-то плохое. Приоткрыл глаза — тьма, куда-то идет машина, и снова вернулся в сон, и так не хотелось, чтобы он прерывался. А он прервался действительно. И цветная картинка стала ржавой, и пес мертво застыл, и что-то стало надвигаться, тяжелое, огромное: надо крикнуть, позвать, а голоса нет.
Тогда с усилием разодрал глаза, увидел мелькающие темные улицы, услышал запах табака (это отец курил), нечистой теплой обивки сидений.
И вспомнил: ведь едем к отцу. А то — что было?
Какие-то ровные незнакомые белые улицы, вернее серые, геометрически расположенные башни, и кажется, что Москва уже кончилась. И это пригород. Отец направляет водителя: «Сюда, направо, налево».
Здесь, в этом незнакомом районе, живет отец. Странно, Игорь никогда не думал, как выглядит дом отца. Будто и не существовало этого дома, будто отец жил просто так, где-то в неизвестном пространстве: в точке «А», выражаясь языком геометрии.
Большой белый дом стоял рядом с такими же. Двора здесь не было, хотя лысый, с просвечивающей землей газончик как бы соединял уткнувшиеся в полутемное низкое небо торчком спичечными коробками стоящие дома.
Отец расплатился с таксистом, взял Игоря за плечи, вывел из машины, как больного. Начинало светлеть, и смутно забелела эстакада вдали, на нее взлетали машины с тускло блестящими в предрассветном молоке фарами.
Подъезд был заперт. Отец долго открывал его своим ключом, неуверенно, будто впервые. Неожиданно из-за угла вышла высокая молодая женщина, закутанная в плащ, зябко сжавшаяся; по волосам и ногам Игорь определил, что она молодая; она стояла так, что лица ее он не разглядел. Игорь подумал: «Может, не к нам, просто ключа у нее нет», но лицо отца переменилось вдруг, он поджал губы, обозначились, заходили мускулы щек. Такое лицо у отца было, когда он н е х о т е л. Она смотрела на них, точнее на Игоря, не отрываясь, с каким-то, как ему показалось, странным интересом, может быть любопытством.
Глаза ее быстро подавили первое, мгновенное: страх, удивление. Наконец она отвела их, уткнула рот в косынку, сползавшую с головы на шею.
— Ты что? Откуда ты? — спросил отец.
— Я с восьми здесь. Я чувствовала, что-то случилось.
— Ничего не случилось, — сказал отец.
Игорь понял: для отца это неожиданно, он растерян и от этого насуплен и кажется злым.
— Может, мне уйти? — торопливо говорила женщина. — Слава богу, все в порядке… Я уж тут бог знает что передумала, — говорила она быстро, как бы чуть подсмеиваясь над собой. — Да, я, пожалуй, пойду. Жаль, такси отпустили.
— Куда же ты сейчас, — сказал отец. — Поднимемся.
— Да, можно, конечно, подняться, — сказала женщина.
Лифт не работал, и они бесконечно долго поднимались на двенадцатый этаж. Гуськом: впереди отец, за ним Игорь, потом женщина.
Их шаги в глубочайшей, ничем не потревоженной тишине звучали звонко, дробно; казалось, они разбудят весь дом, но дом спал крепко, никому не было дела до их восхождения.
Уже ни у кого не было сил, но никто не сделал и мгновенной паузы передохнуть, да и разговаривать, видно, никому не хотелось. Наконец отец остановился, и они остановились, загремели ключи.
…Множество чужих звуков, громко отраженных пустотою квартиры, этого двадцатиметрового полуобставленного загончика, каждое утро роились, вспыхивали в голове, кромсая вяло загасавший сон. Позывные последних известий, и дробь над головой (видимо, ходили в деревянных башмаках), и хлопанье дверей, и руготня (ругали соседского мальчика, идущего в школу), и ввинчивающийся в мозг нарастающий вой дрели (это новоселы все улучшали и улучшали свое жилище).
Все это врывалось в сон, кромсало его на куски, как живое сопротивляющееся тело. Сергей вспомнил давние свои детские пробуждения, повторяющийся неумелый звук гаммы вспыхивал над головой.
Этот новый дом был скорее площадкой, куда он приземлялся после дневных полетов, деловых мотаний но городу. Потом он привык к этому жилищу, даже благословил его. Это был его угол, его территория. Впервые в жизни он жил вот так, один. Когда-то в юности, до женитьбы, мечтал о таком жилище, не знал, что придет это много позже и некстати. Ему недолго казалось, что эта площадка действительно станет домом и что именно здесь он и его женщина обретут покой и что-то еще… Некий смысл общего существования.
Но кончилось другим. Именно эта площадка стала ареной, здесь грохотали лифты, вверх — к нему, потом — назад.
Мальчик медленно раздевался. Рядом с диваном стояла раскладушка, он лег на нее, она заскрипела мягко, развинченно, материя прогнулась, как гамак. Подошел отец, взял на руки и, как маленького, переложил на диван.
— А ты где? — спросонья шептал Игорь, но ответа уже не слышал.
Он заснул ненадолго, потом тревожно проснулся, слушал голоса в кухне, часто слышалось женское «пойми», а что «пойми», к чему это относилось, он не знал, да ему и не хотелось прислушиваться. Странно, что его не волновало сейчас присутствие этой женщины, голова у него была темная, тяжелая, как бы разбухшая, и только что-то маленькое в ней светлело, какое-то неясное сознание и память о Даше. «Я ведь могу ее увидеть завтра. Да, увижу. Ведь ничего такого не случилось, чтобы мне ее не увидеть».
То далеко, то близко звучал глухой голос отца и голос женщины. Игорь хотел перелезть с дивана на раскладушку, подумал, что отцу тут будет неудобно, она узкая, но как бы на пути он остановился и заснул. Он не знал, сколько он спит, долго или мало. Только услышал какой-то стук, шум дверей. Он встрепенулся, сел, опустив босые ноги на пол. Линолеум неприятно холодил, и ноги прилипали к нему. В квартире стало безжизненно и тихо. Он встал, вышел из комнаты. В кухне горел свет, но людей не было. Стояли две чашки с недопитым чаем. Было странно и неприятно, будто он в чужом доме, а хозяева вышли. «А какие хозяева, ведь отец только». Странно, что это квартира отца, он представлял ее совсем другой. Он погасил свет и вернулся в комнату, лег, не закрывая глаз. Ему не нравился этот ненасыщающий, все время прерывающийся сон в незнакомом доме. Но разглядывать квартиру ему не хотелось. Он с удовольствием бы ушел отсюда.
«Но нельзя, — подумал он, — отец придет, а в квартире пусто. Хватит с них сегодня». Он снова стал думать о Даше, потом встал, подошел к окну. Уже было светло, все дома словно выкатились из тьмы, из тумана, приблизились, стала видна мокрая глинистая земля между ними и неподвижный каток со свежею лужицей черного, как вар, асфальта.
С высоты он увидел человека. Он узнал его по первому же движению. Это был его отец. Вот он торопливо пробежал одну дорожку, вышел на другую, вот на секунду поднял лицо, но тут же опустил, еще шаг, и его уже не видно. Игорь представил, как он один подымается по лестнице, спешит, тяжело дышит.
Отец впервые показался ему старым. Он вышел в коридорчик, отщелкнул незнакомый замок, открыл дверь. Потом он зажег свет в коридорчике. Там, дома, когда-то он тоже встречал отца и с четвертого этажа следил за тем, как отец выходит из институтской машины и идет по двору, слепо смотрит мимо окна.
Отец вошел в открытые двери, лицо у него было серое и беспокойное. Он увидел Игоря в коридоре, в трусах и босиком.
— Холодно, чего ты тут стоишь, — ворчливо сказал отец.
Игорь стоял и не уходил. Отец снял пиджак, расстегнул рубашку. Игорь стоял и слышал запах отца. Этот запах он вроде бы забыл.
Потом они оба пошли на кухню. Отец разогревал чай и что-то говорил, все так же ворчливо, о школе, об оценках и еще о чем-то.
Игорь заснул тут же, не дождавшись чая, без снов, просто провалился в теплую влажную темноту.
Он не помнил и не знал, как очутился на диване и как возится отец, убирает стаканы, идет в ванную, потому что уже пора мыться, бриться, приводить себя в порядок, начинать рабочий день. Невыключенный репродуктор уже мелодично вбивал в тишину позывные известий, но отец выключил радио, чтобы не разбудить сына.
1979
Борька Никитин (Ремесло) РОМАН
Накануне этого, как принято говорить, знаменательного дня звоню старому, с институтской еще поры, другу.
Голос на том конце провода очень знакомый, совершенно не изменившийся за двадцать лет, чуть возбужденный тенорок, — молодой голос моего слегка постаревшего друга. Только почему, не узнавая меня, он отчужденно говорит: «Кто его спрашивает?» Называюсь. Голос чуть теплеет: «Его нет, будет вечером, я обязательно передам».
Пока он произносит эти три фразы, я чувствую удивление; в сущности, меня удивляет то, что не должно удивлять, и то, что всегда ощущаешь с каким-то внутренним изумлением: л ё т в р е м е н и, все нарастающую его скорость, вот уже и голоса не отличишь, юношеский голос его сына стал взрослым молодым голосом, да-да, именно взрослым молодым голосом, каким говорит мой друг и до сих пор, хотя в привычно бодрых, всегда оживленных его интонациях частенько звучат в последнее время нотки усталости.
Ловлю себя на ощущении, что не только главное, стержневое течение жизни так стремительно, но и мгновенна скорость его притоков, и, кажется, двадцать лет, так много в себя вместившие, это было п о з а в ч е р а, но ведь совершенно же недавно, в ч е р а, я говорил с этим мальчиком, он спрашивал, куда поступает мой сын, говорил, что сам для себя не решил, куда ему идти, помню его юношески ломкий озадаченный голос, но ведь и после этого в ч е р а ш н е г о разговора прошло ни много ни мало четыре года.
Спрашиваю его:
— А ты сам надолго в Москве?
— Да нет, на неделю. У меня каникулы.
Сопоставив мысленно его каникулы с каникулами своего сына, удивляюсь несовпадению и тут же вспоминаю: он ведь в военном училище. У него другая учеба, другие каникулы.
— Передай отцу, пусть не забудет. Завтра семнадцатое октября… Мы едем к Борьке Никитину. Ты знаешь нашего друга Борьку Никитина?
Странно, что, разговаривая с мальчиком, я называю своего друга Борькой. Но как-то трудно даже мысленно произнести: Борис Иванович.
— Да, конечно, — говорит мальчик на том конце провода. — Слышал, слышал о нем… Кажется, вы вместе учились.
В ответе его уже слышится что-то формальное. Верно, его не интересует друг юности отца, а может, у него просто нет времени. Времени у них, молодых, мало. Меньше, пожалуй, чем у нас. А каникулы так коротки.
За окном красные, хлопающие, как флажки на ветру, листья. Мокрый асфальт, набухшая грязью лысая поляна озелененного двора. Пошло на вторую половину октября. Борькин день рождения последний. Сашкин был в январе, мой — в августе, его же — именно в эту ненастную пору, и дороги в том поселке, где он живет, наверное, размыло, расквасило, а небо, сшитое из серых темных лоскутов, низко легло над все растущим, все поднимающимся вверх районным городом, над редеющими вокруг него лесами.
Что это? Вымученная традиция? Душевная необходимость? Ритуал, который трудно соблюдать, но и жаль утратить?.. Не знаю. По-разному это бывает.
Раньше, несколько лет назад, мы ехали весело, предвкушая встречу, мы готовились к ней заранее, таскались по магазинам.
А сейчас… Может, просто постарели или распалось что-то в железных звеньях нашей дружбы? Да нет, и так ведь не скажешь. И в конце концов не в том дело, как мы едем. Может, и со скрипом, все с большим трудом вырываясь из судорожного потока забот, дел, обязанностей, обязательств; поток этот все гуще с каждым годом, несет круто, размывает что-то не только снаружи, но и внутри; и все-таки мы вырываемся.
И я не знаю в конце концов, что важнее. Конечно, встречи наши реже и реже, постоянная потребность в общении, так властно владевшая нами в юности, как бы подсохла, затвердела ледяной корочкой. Но с другой стороны — сколько подобных дружб истлело на корню, а наша все же жива. Мы разбегаемся по своим углам, теряем друг друга из виду, но потребность видеть друг друга возникает вновь; значит, он действительно нужен нам, Борька Никитин, да и мы, верно, нужны ему.
Имя это, для вас такое обычное, одно из множества, для нас своего рода код, ключик к той части жизни, которая так быстро, почти незаметно, пролетела, проскочила, да и к другой, которая еще б у д е т и обещает что-то и, как в самом начале, кажется бесконечной…
В конце октября, в день рождения Борьки Никитина, мы едем к нему в гости.
Проносятся станции, сначала более частые и людные, потом более редкие, пустые, мы помним здесь каждое название, дорога известна наизусть, как детское стихотворение. И каждый раз эта дорога вызывает в памяти послевоенную электричку, тесную и темную.
Теперь светло, народ вокруг чинный, негромкий, все с газетами и журналами. Дорога длинная, почти ночь езды, стучат убаюкивающе колеса, и вроде бы засыпаешь, задремываешь, а все равно все помнишь и видишь. И вот расстояние, казавшееся бесконечным, почти истаяло, и мы уже на подступах к той станции, к тому городку, где живет наш друг, «человек предместья», как он сам себя иногда любит называть.
Мы встретились с ним двадцать лет назад на вступительных экзаменах в Институт.
Это был странный Институт: вроде бы он предполагал готовить из нас тех, кем мы мечтали быть и кем — по глубочайшему нашему убеждению — уже были, и вместе с тем на всех консультациях, перед каждым творческим экзаменом Мастер, а за ним и деловитые ассистенты повторяли: «Нет, нет, нет, и не заблуждайтесь!»
Мастер, широкоплечий, свирепого вида, с неожиданно удивленной улыбкой, с маленькими, зоркими, широко расставленными глазами, говорил:
— Может быть, вы и художники, может быть. Но вы не те художники, кем мните себя видеть. Вы — оформители выставочных залов, а может быть, и магазинных витрин. Да, и не кривите лица, магазинных витрин: «Молочные продукты», «Изотопы», «Скобяные изделия». Чистая живопись — лишь раскладка, лишь основа, только материал, а там дальше она растворится в Ремесле… Да-да, и не кривите снова ваши личики. Ремесло совсем не дурное слово; вспоминайте почаще наши древние русские ремесла и забудьте навсегда о понятии «ремесленник»…
Он говорил, а лаборантка заносила в какой-то кондуит номера наших вступительных работ.
Что это были за работы? Гигантские холсты в наспех сбитых щелястых рамочках. Гравюры — темненькие квадратики на простынях листов. Школьные тетрадки с какой-то мазней, может быть, даже гениальной, но все это навсегда осталось тайной, так как работы в подобном виде не принимались.
Каких тут жанров и сюжетов только не встречалось: натюрморты с дарами отечественных садов; геометрические мертвые кувшины, фигуры строителей Университета, который поднялся совсем недавно (поражая москвичей и приезжих своим органным золотом и размахом), лица строителей метрополитена в сверкании автогенных вспышек, просто лица, портреты знатных работников сельского хозяйства и промышленности, портреты незнакомок и незнакомцев.
Лаборантка ставила номер, а лаборант, худющий длинный парень, пытавшийся поступить в Институт уже пятый год, таскал эти картины не глядя, как панели, как строительный материал, передавая их по цепочке, как на стройке, какому-то еще лаборанту, тот, в свою очередь, волок их в неведомый нам запасник. В большинстве своем их по прошествии предварительного конкурса возвращали. Это называлось «завернуть». Тогда это распространенное ныне словцо было новым и зловещей новизной резало слух.
— Заберите, пожалуйста, — говорила лаборантка или ассистентка.
И — забирали.
А первой весточкой поражения был листок с краткой, одновременно и безликой и безоговорочной формулировкой: «Не допущен к творческому конкурсу».
Это был первый этап, первый акт многолетней драмы.
Я принес свои иллюстрации к «Возмездию» и «Двенадцати» Блока, к Есенину и к «Хорошо» Маяковского.
Мой друг Сашка, победитель всех конкурсов, лауреат изостудии Дома пионеров, человек широко известный в наших узких кругах, представил цикл линогравюр: «Новая Москва (Ленинский проспект, Черемушки)».
Когда мы пришли с ним в Институт, то наткнулись не на ассистентку, не на лаборантку, а на самого Мастера. Коренастый, похожий на старого боксера, ставшего тренером, с прижатыми к черепу ушами, приплюснутым носом как бы от многих жестоких схваток, это был сорокалетний человек (которого почтительно называли Мастером и никогда по имени-отчеству); его мы смутно знали по иллюстрациям к детским книгам, самым первым нашим книгам с нежными синими и розовыми чудо-птицами, так не вяжущимися с его суровым обликом.
Он просмотрел — быстро, с кажущимся безразличием — Сашины работы и сказал, бегло глянув на него:
— Годится. Допускаетесь.
Я ждал, что он так же, без оттяжки и проволочек, решит и мою судьбу, но чуда не произошло. Он бросил:
— Оставьте, поглядим.
И так прозвучало это «оставьте», что все, над чем сидел вечерами, ночами, все папки листов, исчерканных легким перышком, все из детства усвоенное раз и навсегда, вечно трудолюбивое «изводишь единого слова ради», показалось грудой макулатуры, некоего бумажного утиля, который мы собирали и сдавали на специальный пункт по приему, обходя десятки домов.
Оставил.
Словно нырнул с головой в вязкую, стоячую воду и тут же вынырнул, сказал себе: е р у н д а.
Минутная апатия, равнодушие, взгляд в окно, где молодая, не запылившаяся еще листва… «Мне что-то совершенно все равно, какое нынче вынесут решенье…»
Нет, не все равно.
Я пройду. И даже если этот с приплюснутым носом забракует, завернет, все равно п р о й д у, не сейчас, не здесь, но пройду. Другого не дано. Как принято говорить у нынешней молодежи: без вариантов.
Мы пили чай в институтском буфетике. Мой друг, давясь, будто у него было сужение пищевода, заглатывал пончики, говорил о постороннем — о футболе, о погоде, ничем не обнаруживая скрытую радость победителя. Я же был мрачен, хотя ничего и не произошло и поражение еще не витало под сводами буфета. Но всю жизнь с детских лет я привык ожидать худшего, и неслучившееся виделось мне как случившееся.
Нельзя сказать, чтобы я не радовался удаче друга. Мне нравились его работы, действительно нравились. Я верил в него, но еще больше, гораздо больше я верил в себя, и я старался радоваться, приучал себя к мысли, что надо радоваться, но впервые в жизни я ощутил то, чего не мог тогда объяснить и даже назвать: не зависть и не обиду и даже не горечь несправедливости. Скорее всего это была боль непонимания, горечь оттого, что тебя не захотели узнать, поленились узнать, хотя это, казалось, было так просто: вытащить лист и посмотреть опытным взглядом, взглядом Мастера.
И тут в буфет вошел парень, худенький, невысокий, светлые волосы стрижены ежиком, взгляд по-комсомольски открыт и дружелюбен. Он волок всего две картины, незачехленные, открытые, без рамок.
Вид у него был растерянный, будто ему уже отказали. Увидев нас, он подошел и сказал с заметным нажимом на «о»:
— Можно оставить на минутку?
Мне даже показалось, что он нарочно окает. Думает, раз из глубинки, с периферии, значит, зачтется.
Не дожидаясь ответа, он направился к буфетной стойке.
Я глянул на его холсты, глянул небрежно, предубежденно — оценивающий, холодный взгляд этот эстафетой был мне передан тем самым боксерским Мастером. Да, с холодным равнодушием. Ни в кого и ни во что не веря.
Глянул и обомлел. И даже отошел, чтобы еще раз увидеть как следует, с дистанции, целостно.
Два портрета стояли прислоненные к металлическим голым куринообразным ножкам буфетного стула; два портрета стояли, будто взявшись за руки, хотя каждый из них был отдельным. На одном было наклеено «Отец», на другом «Мать».
Отец был молодой, чуть ли не моложе самого автора, в форме железнодорожного машиниста, с нарядными блестящими пуговицами, в фуражке. Голубые глаза мерцали молодым восторгом жизни, но в легком их блеске сквозило тревожное ожидание чего-то непоправимого.
А мать сидела прямо, напряженно; крестьянское лицо, городское платье, но чувствовалось, что живет не в деревне и не в городе, а где-то между, может, в пригороде, может, на разъезде, на полустанке, но из деревни — по рукам видно — недавно, руки ее выражали неловкость, будто не сын ее рисовал, а сидела перед фотографом и ей это было непривычно. Да и вообще непривычно с и д е т ь, а привычно двигаться: стирать, кормить детей, ходить за скотиной. Руки были сложены аккуратно, пальчик к пальчику, на одном серебряное колечко посверкивало. Улыбалась она смущенно и с любопытством, будто это не вы разглядывали ее, а она, чуть робея и стесняясь, глядела на вас.
Выполнено это было предельно безыскусно и как-то удивительно… Я даже не мог понять, в чем тут секрет. Никакой сусальности, «утепленности». Ни манерности, ни подробнейшего реализма.
Мы переглянулись с моим другом. Я почти физически почувствовал, что и он, так же как и я, неслышно про себя ахнул — от ощущения зрелой силы этой кисти, особенно на фоне мысленно пронесшихся перед нами натюрмортов с пыльными кувшинами, с цветами почти как настоящие, с тщательными огурцами в тщательных пупырышках, на фоне улыбок псевдосварщиков в защитных очках под неестественно ярким люминесцентным огнем, томных улыбок таких знакомых, примелькавшихся, с Крамского и Серова списанных незнакомок, среди всей этой громадной выставки потуг, претензий, бесцветных водяных знаков псевдожизни, непрожитой, невыстраданной, взятой напрокат в спецпункте, где есть все от классики до модерна, эти два портрета не то чтобы выделялись, были лучше, — нет, они просто были ж и в ы м и. Живыми, и только.
Однако автор уже возвращался с громадным тяжеленным подносом, на котором одиноко высился стакан с чаем жидкого светло-табачного цвета и желтел бутерброд с сыром.
Я ничего ему не сказал, подавил в себе первый порыв, решил обмануть самого себя. Может, впервые я тогда ощутил прелесть этого лукавства: не выражать чувств, не дать человеку возрадоваться, возвыситься.
Сколь много надо разбивать колени, лоб, локти, падая и оступаясь, чтобы понять именно эту необходимость и вернуться к детскому: к невозможности сдержать вырвавшийся из горла крик восторга, искренность и силу первого порыва.
Немедленность и бескорыстность признания другого вовсе не унизят тебя, а быть может, только возвысят. Но это было утеряно в детстве и вернется еще не скоро, когда я повзрослею, может быть, постарею и перестану видеть себя бегуном на дистанции, готовым умереть, чтобы только не прийти вторым или третьим.
Но тогда, может быть под гипнозом холодного взгляда Мастера-боксера, я промолчал.
А Сашка, мой друг (я тут же отдал ему должное), сдержанно, но веско произнес:
— Крепко сработано.
Парень, просветлев лицом, совсем не оспаривая этот вывод, это решение, доверчиво и радостно сказал:
— Да так, вроде бы ничего… Мне кажется, получилось вроде бы.
— А почему ты их таскаешь? Не приняли, что ли? — спросил я.
— Не приняли, — сказал парень. Мы оба так и застыли в удивлении.
— Да нет, не то чтобы не прошел. А вроде бы по срокам поздно. Сегодня, оказывается, последний день. А я только с дороги. Я из Щербакова, ну из Рыбинска. Вздумал, черт, тащиться по каналу, пейзажики смотреть, плесы, то да се… А пароход сколько тащится. Вот я с Химок прямо сюда. А они все счета закрывают. Девчонка из комиссии так и сказала: поздно, черта подведена… Вот так по-дурному получилось.
— Да ты пойди к Мастеру, — сказал мой друг. — Немедленно найди его и покажи. А то ведь действительно не примут. И прямо сейчас иди, он еще здесь, мы его встретили.
Парень неловко подхватил свои холсты и торопливо пошел к выходу.
Вдогон ему я крикнул:
— А почему отец у тебя такой молодой?
Он обернулся, остановился. Вроде бы и забыл, что надо спешить.
— Я батю только так и запомнил… Не вернулся, а где полег — не узнали. У других определенность, а тут — без вести. Ждали, ждем-пождем вот уже сколько лет, все уж ясно как будто, а мать и сейчас к почтальону бегает… Ну да ладно.
Он пошел, подхватив свои портреты.
Мы выходили на площадь, просторную, полную ранней июньской свежести, особенно пряной и светлой после затхлости этих коридоров. Шли медленно, молча, постепенно расслабляясь, будто тяжкую вахту отстояли. Шли каждый в рассуждении своей судьбы. И вдруг услышали издали тонкий мальчишеский тенорок:
— Эй, мужики, робяты, погодите-ка!
Мы обернулись.
Догоняя нас, в синеве, в мареве июньского дня катилась маленькая хрупкая фигурка, летела над сухим московским асфальтом. И вот уже видим лицо с расширившимися, пьяно счастливыми глазами и маленькие, крепкие руки, словно бы вальсирующие. Руки были налегке, свободны.
Картин не было.
— Взял Мастер, — почти кричал парень. — Смотрел-смотрел, нюхал-нюхал, даже рукой потрогал, а потом говорит: «Хорошо».
— Так и сказал? — спросил я в изумлении.
— Так и сказал. «Допускаешься», — говорит. А вы-то уж конечно допущены?
Друг деликатно промолчал, а я сказал жестко:
— Он — да, а я — нет. — И добавил с неизвестно откуда взявшейся уверенностью: — Но не отвертится! Слушай, а как тебя зовут?
— Борька Никитин.
Что было еще в этот день?
Пили пиво в какой-то закусочной. Холодное свежее «Жигулевское». Заедали говяжьими сосисками. Разговаривали много, громко. Сначала о художниках, потом о себе. О Мастере. Двое из нас были уже ему благодарны. Я должен был эту благодарность вырвать, заслужить. И если я не заслужу ее, то мне надо будет доказать сначала себе, потом моим друзьям, потом Мастеру или другим Мастерам, что я могу, имею право ее заслужить.
Мы сели в троллейбус, взяли у кондуктора билетики, каждый деловито посмотрел номер, ни у кого не сошлось…
Отправились в зоопарк. Борька Никитин был там первый раз. Он вообще впервые в жизни был в зоопарке. Он обалдел от пива и кричал, что всех зверей надо выпустить, а посадить туда людей, которые их загнали туда. Когда человек попадает в такой большой город, в такой большой зоопарк, мысли его путаются.
Борька Никитин впервые был в Москве. Самый крупный город, который он видел до этого, был Горький. Он там учился в физкультурном училище и имел диплом преподавателя младших классов по физкультуре. Мы не поверили ему — так он был худ. Но он напружинил свои руки, сжал кулаки.
— Попробуй, — сказал он.
Я положил руку на его бицепс и ощутил железную твердость небольшого круглого ядра.
Запах июньской травы, терпкий запах вольеров, усталые сонные львы… О, как любил я их когда-то, этих имперских зверей.
В том городе, где я провел эвакуацию, был зоопарк и были львы. Они были худые, питались впроголодь, как и люди.
Мы шли и шли по аллеям, мимо слонов, пони, деревьев, детей, шли и рисовали черной тушью по синему воздуху.
Откуда появилась эта вечная мука, эта страсть, это навязчивое желание: малевать, разрисовывать, придумывать, изображать?
Воссоздание отдельной от тебя жизни…
А главный конкурс был впереди — бег с препятствиями, выбыванием, и еще неизвестно, какую оценку поставит Мастер и дойдем ли мы вообще до финиша.
Да, впереди долгий нескончаемый конкурс с меняющимися условиями, меняющимися судьями.
Но в тот день мы не думали об этом (лишь с возрастом думаешь о предстоящих трудностях), мы беспечно шагали по теплой земле, по чистому прогретому московскому асфальту раннего лета, который я так любил, о котором так мечтал когда-то в эвакуации, в разлуке.
Теперь московская земля станет и Борькиной.
Две девушки сидели на скамейке, неторопливо, с физически ощутимым наслаждением мелкими кусочками ели мороженое, где на вафлях были написаны имена «Миша», «Сережа»; мы сидели так близко и прицельный взгляд наш был столь зорок, что разглядели даже это.
Сейчас такого мороженого не выпускают.
Мы сидели рядом на лавке, не решаясь кадриться, но втайне надеясь на успех.
Громко говорили, стараясь обратить на себя внимание: о графике, о Пластове, о голубке Пикассо, о Лактионове, о Горяеве, об иллюстрациях Густава Доре к «Гаргантюа и Пантагрюэлю», о чудовищной по несправедливости победе «Спартака» над командой «Динамо» в чемпионате на первенство страны.
Девушки равнодушно, аккуратно вытирали одним платком пальчики, передавали его друг другу. Никакого видимого внимания к нам.
Они смотрели на пони, мохнатых карликов лошадиного рода с повозками, в которых кишели крикливые, обезумевшие от счастья и невиданного риска каникулярные дети.
«Не эти девушки, так другие, — подумал я. — Жизнь еще такая долгая».
Сейчас нам она не кажется такой уж долгой.
Но сейчас мы еще не знаем своих судеб. И то, чему суждено быть, не случится, а может, и не случится никогда. Сейчас — только зоопарк.
День ярок, но уже идет к вечеру: меняется цвет площадок, посыпанных золотым песком, цвет попугаев, кричащих назойливо, гортанно, как зазывалы на восточных базарах, цвет смирных хищников, ждущих пищи из рук человека, — полосатых тигров и песочных львов.
Меняется все, тускнеет, темнеет, и мы уходим, растворяемся в многомиллионном городе: трое друзей, трое абитуриентов…
Львы, тигры в зоопарке, цирк всегда были моей слабостью и любовью.
В вечернем зимнем городе, куда меня увезли от войны, я увидел на кирпичной стене чудесный плакат: пять огромных львов и женщина в серебряном одеянии. Стоял, смотрел не отрываясь. Потом стал сдирать афишу со стены, никого вокруг не было. Темнело, стояла морозная тишина, и только невдалеке из госпиталя были слышны голоса, смех. Клей смерзся, плотная довоенная бумага не отдиралась. Львы тоже были довоенные, с добрыми сытыми мордами… Наконец я отодрал кусок афиши и, счастливый, побежал домой. Подшитые кожей валенки скрипели на жестком, почти остром снегу со слепящей синеватой крошкой.
Вдруг то ли голос, то ли рык львиный, прислушался — ругань, густая, сочная. Обернулся: мужик какой-то гонится, настигает, еще миг — и ударит страшной львиной лапой. Резко поворачиваю, ныряю в подворотню, прячусь. А мужик проскочил мимо. Я еще долго глядел ему вслед и, приглядевшись, понял, что это не мужик, а большая, в тулупе и сапогах мужеподобная женщина.
Я потом еще несколько раз встречал ее. С дробовиком она ходила возле складов, они были неподалеку от этой стены. Обычно она никого не трогала, но когда выпивала, становилась не в меру бдительной.
Дома я склеил разорванного льва и в слабеньком свете керосиновой лампы нарисовал его. Остроугольный, квадратный, он не походил ни на льва, ни на собаку, ни вообще на живое существо. Я рисовал снова и снова.
Бабушка качала головой, разглядывая моего льва.
— Другие уже читают, а ты, сынок, все ерундой занимаешься.
Она любила называть меня «сынок». Сколько раз в своей жизни я еще услышу эту фразу, только без бабушкиного «сынок»: «Другие то-то и то-то, а ты все ерундой занимаешься».
Подмалевывая холст, глядя на пустой лист, не зная, как начать, сколько раз я готов был поверить людям, что занимаюсь ерундой, не тем, для чего предназначен. Но из расплывчатого, угластого чудовища неясно возникало, проявлялось нечто напоминающее льва.
Еще один удар, одно усилие — и родится лев.
После войны шпана московская крепко дралась, картежничала, воровала, и чтобы увести, отодрать от дворовых дружков, спасти от грядущих неприятностей, бабушка привела меня в Дом пионеров.
Тихие и чистые ребята важно ходили там, говорили о чем-то существенном, незнакомом мне, были объединены каким-то общим занятием, устремлены ввысь, к неведомым далям. Обстановка была торжественная: тонкие мальчишеские голоса слагались в хоры, певшие песню о родине, доносилась из-за закрытых дверей чья-то восторженная декламация. Два голоса — один читал, другой вторил. Они исполняли таким, образом стихи акына Джамбула.
Было ясно, что все они готовились к празднику Первомая.
Я никого здесь не знал, и никто не знал меня. Я был очень одинок, а они занимались делом, а я был ни при чем. Захотелось назад, на улицу, в компанию Пеки Демина, в его ватагу, шляться без дела по улицам, заводить толковищу и слушать бесконечно повторяющиеся, но всегда интересные военные истории.
И тут бабушка сказала с надеждой: «Может быть, изостудия?»
И открыла с надеждой высокую белую дверь.
Там, склонившись над большими белыми листами, время от времени подымая глаза, впиваясь ими в белый кувшин и вновь склоняясь над листами, неторопливо трудились пятнадцать — двадцать типов, или, говоря точнее, детей младшего и среднего школьного возраста.
Они рисовали кувшин.
Но меня-то интересовал череп.
На полке среди множества каких-то других, незначительных, предметов белел череп.
Я воткнул в него удивленные глаза.
Тогда я не мог понять, почему так неотвязно он приковал к себе мой взгляд. Понял позже. Просто в нем впервые открылась пугающая и как бы безобразно окарикатуренная тайна смерти.
Я смотрел и смотрел, а на втором плане, помнится, шелестел чей-то осторожный женский голос, видимо, старосты или секретаря студии. Голос объяснял:
— Надо представить работы, здесь свой конкурс, много желающих, надо пройти отбор…
Иногда вся жизнь кажется мне бесконечным конкурсом, сдачей экзаменов: справки, документы, работы. Как в детском маленьком бильярдике — катишься сквозь загородки, петляешь, гремишь шариком, обходя ловушки, стараешься попасть в лузу, где больше всего очков.
Череп, тишина, склонившиеся над листами притихшие мальчики и девочки.
— Садись и рисуй с другими. — Это говорит худой бледный человек, возраст которого не определишь: может, ему сорок, а может, шестьдесят. Гимнастерка без погон, белые волосы, лежащие венчиком на тусклом парафиновом лбу.
— А что рисовать? — спросил я.
— Что хочешь, хоть вот этот череп… Ты ведь не можешь от него оторваться.
— А из головы можно? Ну по памяти!
— Череп — это и есть голова, — спокойно рассматривая меня, сказал человек в гимнастерке. — Впрочем, что хочешь, то и рисуй. Что тебе в голову взбредет, что тебе воображение подскажет. Как у тебя с воображением?
— Не знаю, — сказал я.
Однако череп мне не захотелось рисовать, на него было интересно смотреть, но он отпугивал как предмет изображения. И я стал рисовать атаку на фашистский танк. Боец с гранатой полз навстречу танку с черным крестом.
Все уже разошлись, а я еще рисовал. Преподаватель сидел на стуле, что-то читал и не торопил меня. Бабушка ждала за дверью. Закончив, я робко подошел к нему. Он внимательно сначала посмотрел на меня, будто не видел или не замечал меня в течение того часа, что я рисовал, потом посмотрел на мою работу.
Он еле заметно покачал головой. Я почувствовал, что подвиг бойца, изображенный мной, ему не показался.
Он склонился надо мной; я чувствовал его дыхание: запах ленинградского «Беломора», который мы смолили лишь по особо торжественным дням (повседневно курился «Прибой»).
Он спросил меня:
— Хочется?
Я не понял, смотрел на него выжидающе и даже чуть-чуть со страхом.
— Рисовать хочется?
Еще час назад я и не думал об этом занятии. Оно воспринималось как вид приятного, но не обязательного баловства. Но сейчас я уверовал: да, конечно, как же жить без этого? Наверное, это и есть моя судьба. Впрочем, тогда я вряд ли знал это слово, может, слышал и знал по звучанию, но не понимал его смысла.
И я сказал убежденно:
— Да. Очень.
— Тогда, — деловито проговорил он и встал, — приходите сюда в следующий четверг, в семь.
Каждый четверг мы рисовали кувшины, пирамиды, уж не помню что еще. Помню только, что чаще всего рисовали птиц.
Станислав Степанович, которого сокращенно звали Эс Эс, вовсе не вкладывая в это никакого зловещего смысла, ставил перед нами чучела птиц… Где он только их добывал? Некоторые говорили, что он охотник и сам набивает чучела, но вряд ли он мог убить орлов и грифов. Да и воробья он едва ли мог убить.
Возможно, по совместительству он был специалистом-орнитологом.
Если в изображении других предметов он допускал известные отклонения и неточности, то едва дело доходило до пернатых, он становился придирчив и неумолим, требуя неукоснительного сходства.
Вначале это было любопытно, потом скучно.
Признаюсь, пернатые истуканы порядком надоели мне, и однажды я стал рисовать нечто иное, отдаленно похожее на птицу, только во сне я мог увидеть такое или в музее, где показывали вымерших ископаемых: чешуйчатое, с хищной головкой кондора, с золотым широким клювом попугая, с пестрым опереньем колибри, с голыми мосластыми лапищами страуса. Это существо виделось мне мощным, как самоходка, и стремительным, как истребитель (военные образы не исчезали, не уходили). Чудо-птица, плод моего воображения. Я все придумывал и придумывал новые диковинные черты. Мне так понравилась собственная птица, что я даже боялся отдать ее Эс Эсу.
Обычно он разбирал каждую сданную работу в аудитории, при всех, а тут в конце занятия, разобрав рисунки, он бросил мне сухим, простуженно-недовольным голосом:
— А ты останься.
В студии был полупогашен свет, зловеще темнели беркуты, таинственные приземистые совы с приплюснутыми человечьими лицами в круглых, светящихся пенсне.
Эс Эс был странен. Он расхаживал по комнате, время от времени посматривая на меня так, словно я чем-то обидел его или даже предал. И вот теперь он не знает, с чего начать тягостный разговор.
Наконец, с удивлением глянув на меня, он произнес фразу, реального смысла которой я тогда не понял. Может, поэтому и запомнил ее навсегда:
— Так не пойдет, мой друг. Сам того не понимая, ты находишься в плену формализма.
Слово «формализм» пахнуло на меня чем-то клейким, спиртовым, наподобие формалина. Я понятия не имел, что это такое.
Он еще что-то говорил, то поучительно и спокойно, то раздраженно. Порой невнятно, почти бормоча, порой раздельно, значительно чеканя слова, словно не для меня одного, не мне, а кому-то, продолжая какой-то невидимый, неизвестный мне спор. Мне даже показалось, что он вовсе забыл обо мне и старается кого-то убедить, а может, и не, кого-то, а самого себя. Особенно часто встречалось в его монологе слово «выкрутасы».
Его широкие скулы с еле заметными оспинами, придававшими лицу выражение спокойствия и доброты, вдруг нервно задвигались, как лопасти:
— Ты, парень, не без способностей, но так дело не пойдет…
Я решил больше не ходить в изостудию.
Честно говоря, я даже радовался этой возможности: сколько времени теперь высвобождалось! Но вот прошло несколько четвергов, и стало пусто, чего-то явно не хватало, и с каким-то новым, угнетавшим меня чувством потери я старался обходить особнячок Дома пионеров.
Я видел, как в светлом помещении мои старательные товарищи рисуют зверей и птиц, машины, великих людей, а я был за пределами поля, как игрок, выгнанный за нарушение правил. Точнее, я сам покинул его.
В конце нашей улицы, впадавшей одним из ручейков в Покровку, собирались инвалиды войны — неподалеку был районный собес, куда они ходили. Частенько приходили сюда ребята из соседней школы. Здесь иногда пели военные песни — и те, что передавали по радио, и какие-то другие, вроде бы самодельные, печальные и одновременно светлые. Меня тянуло в этот дымный, накуренный улей, где все будто бы давно знали друг друга.
Здесь я и увидел Эс Эса. Он стоял, с кем-то разговаривая. Я смотрел мимо него, стараясь не встретиться с ним глазами, мне вовсе не хотелось, чтобы он видел меня. Наверное, и ему было б неприятно, что я увижу его.
Я не учел только его зоркости орнитолога, охотника, любителя птиц. Он окликнул меня по фамилии. Я покорно подошел к нему, и он сказал тихо: «Проводи меня».
Шел он медленно, лицо его время от времени подергивал тик, и он с усилием превозмогал это подергивание, старался справиться с какой-то неведомой, изнутри подымающейся болью; время от времени что-то неразборчиво говорил.
Наконец мы пришли в Армянский переулок. Дворами мы подошли к подъезду его дома, долго поднимались по узким темным лестницам.
Я сам был жильцом большой коммунальной квартиры, но такой коммуналки, в которой жил Эс Эс, я в жизни не видел. Бесконечные коридоры, перегороженные шкафами и шкафчиками, с раскладушками, невидимо притулившимися к стенам, на которые ты постоянно натыкался, с едким запахом керосина, с выскакивающими из многочисленных дверей детьми.
Казалось, он с трудом ищет и не может найти свою комнату.
Наконец мы вошли в нее: маленькая, почти без мебели, вся обклеенная рисунками, обвешанная картинами и картинками одна чуднее другой.
Женщина с измученным желтым лицом, непричесанная, в байковом халате, — мне показалось вначале, что это его мать, — грозно встала навстречу.
— Опять, опять, опять, — твердила она, цепкими руками успевая снять с него пиджак, проверить содержимое карманов. Потом она так же властно, но осторожно, словно боясь повредить, приобняв, повела и посадила моего учителя на диван.
Я был так напуган всем этим, что не мог разглядеть его рисунков и картин, хотя при первом же взгляде они ослепили меня дивной яркостью, синим и золотым излучением.
Она даже не спросила, кто я, как сюда попал. Видно, это было в порядке вещей, возможно, каждый день его кто-то приводил сюда.
— Ему это нельзя, ему это смертельно, — доверительно, как взрослому, говорила она мне. — Если б не это, его работы в лучших музеях страны висели бы, а его отчислили из института.. Способнейшего из всех… Из-за водки.
— Не из-за водки, — вдруг ожив, цепко, трезво глянув на меня и на нее, сказал он.
Он сидел на высоком диване, поджав худые ноги со спадающими, как у ребенка, носками в растянутых обручах перевернувшихся резинок. Я никогда не видел его таким жалким.
Веки его отяжелели, глаза смотрели рассредоточенно, мутно, он как бы засыпал и снова просыпался, не чувствуя, не видя никого.
— При такой контузии совершенно нельзя… Это же смертельно, — по-прежнему тихо, доверительно полушептала-полуговорила его жена.
Казалось, все успокаивается, я уже приготовился нырнуть за дверь, хотелось уйти из этой душной комнаты, из огромной квартиры. Мне было жаль, что я не разглядел как следует его рисунков, но желание освободиться, вырваться из чужой, неясной мне, больной жизни было сильнее.
И вдруг с неожиданной ловкостью он вскочил на диван и стал срывать свои картины.
— Ты что, ты что?! — кричала жена, спасая то, что можно было спасти от его бессмысленных рук.
Я тоже суетливо нагибался, подымал листы, не глядя на них.
Вытянув лицо, скалясь, словно передразнивая кого-то, он произнес с мукой: «Вы-кру-та-сы…»
Еще год после этого я ходил к нему в студию. Он изменился ко мне, был ровен, приветлив и больше никогда не ругал за некоторые отступления от натуры, которые я себе позволял.
Его замечания были конкретны, точны. Иногда он водил нас в Третьяковку, в Музей изобразительных искусств и говорил о картинах не так, как экскурсоводы, без заученных красивостей, кратко, с подчеркнутой технологичностью, все время объясняя, что нерукотворное рукотворно, а значит, созидается, делается. Он обнажал прием, но тайна не исчезала. Те картины, которые мы знали наизусть, обретали какой-то второй план, словно из черноты негатива проявлялось что-то неожиданное, что мы пропустили, во что не смогли или не сумели вглядеться.
Как-то мы, шли с ним к Киевскому вокзалу. На вокзальной площади он остановился и сказал: «Смотри».
Вокзал светился огромным аквариумом. Люди неслись, торопились, движение их было одновременно беспорядочно и целенаправленно, как движение рыб.
— Слушай, — сказал он. — Нарисуй вокзал. Я всю жизнь мечтал нарисовать вокзал, но не получалось… Когда-то начал одну картину — «Киевский вокзал. 1941 год»… Начал еще тогда, да так и не докончил.
Весной он долго не приходил на занятия. Пришел только в мае. Его трудно было узнать. Изжелта-бледный, с уменьшившейся, как бы усохшей детской головкой на такой же худенькой детский шейке. Седые густые волосы посерели, стали прямыми и редкими.
Не помню уже, о чем он говорил. Кажется, о портрете.
На следующее занятие он не пришел.
Это была первая смерть в моей жизни, и она поразила страшной обыденностью, — администратор Дома пионеров распределял, кто понесет гроб, кто венки, кто крышку, другие студийцы получили задание закупить продукты для поминок. Я смотрел на его парафиновый высокий лоб, на поредевшие, аккуратно причесанные волосы и все не мог понять, осознать до конца: как же это?
Пройдет еще много лет, будут и другие потери, и всякий раз буду задавать тот же вопрос, зная, что не услышу ответа, что ответа на это нет и не будет. Никогда.
Детское видение черепа, окарикатуренная суть смерти, ее школярски обнаженная тайна…
В крохотной комнате на всю огромную коммунальную квартиру гудят поминки.
Говорят, говорят, пьют, едят и снова говорят, и это тоже впервые и тоже поражает меня: жевание, говорение, зеркало, закрытое простыней.
Говорят о нем так хорошо, так хвалят его, что я не понимаю: то ли они сейчас прозрели, то ли при жизни он был ими признан, но только не смог о своем признании узнать.
Висели на стенах его рисунки, большой незаконченный холст без рамы… Видно, это и была та картина, о которой он вспомнил на вокзале.
На переднем плане стриженый новобранец; лицо странное, невыписанное, скорее цветовое пятно, только рот поющий и плачущие глаза выделены. А сзади — еще десятки поющих ртов. А с перрона смотрят на него мать и девушка.
Этот холст, зеленоватый по тону, со светящимися пятнами лиц в сумраке, темнел среди удивительных, пестрых рисунков Эс Эса, среди его полыхающих праздничным огнем натюрмортов.
Но больше всего я вглядывался именно в тот холст. Я никогда не видел таких новобранцев. На полотнах того времени были могучие, с суровыми лицами, подробно выписанные, с оружием и амуницией парни, заговоренные от вражеских пуль. Эти же были юны, угловаты, улыбались; бесстрашие и детскость были в их взгляде.
А народ все гудел, говорил, народу все прибывало. И так расшумелись, разговорились, раздвигались, что некоторые рисунки посыпались со стен, по ним ходили, наступали на них, нагибались и поднимали, но водка притупила точность движений, и катились по полу белые листы, не давались в руки.
Куда они делись потом? Не слышал, чтоб была посмертная выставка моего учителя… Сейчас-то я стал похитрее и, может, сохранил бы на память хоть один его рисунок, а тогда только подбирал и складывал на окно.
Голова кружилась от шума, от сознания того, что ни мать, ни невеста не увидят своего солдатика, своего новобранца.
И что я тоже никогда его не увижу.
Что это? Ведь только что был зоопарк и девушки на скамейках, а теперь они уже позади и канули безвозвратно, и, оказывается, мы с Борькой Никитиным идем теперь от Красных ворот к Красносельской, оттуда к Сокольникам, и это уже другой день, но, кажется, продолжается все один, в котором мы не расстаемся ни на миг и утро в нем вяло переходит в вечер.
Обсаженная тополями улица полна юношеских соблазнов: коробы с золотыми пирожками под брезентовыми навесами, колбы с газированной водой, тетки под навесами управляются вручную, суют мокрую сдачу, старенький кинотеатр «Шторм», таинственный пивбар.
Отчего так полно и волнующе это ощущение улицы? Оттого ли, что давно позади она?.. Но скорее иное — просто молодые глаза наши, помнящие разор войны, были чутки и радостно воспринимали обыденные проявления мирного быта. Ведь еще и десятка лет не прошло с окончания войны… И все же не только этим отмечена радость неторопливой бездельной прогулки — в самой улице было то, что потом утратилось: ручная работа, а не массовый поток, многообразие, а не однотипность; конструктивистский клуб тридцатых годов соседствовал с деревянными домами, с палисадниками, лез в небо один из первых высотных домов Москвы у Красных ворот, а здесь стоял трехэтажный ампирный особнячок, райуправление культуры и белокирпичная церковь, нескончаемая трамвайная улица, а дальше сады вокруг сокольнических больниц и разудалый, небезопасный для гуляния без конца и без краю лес, или, говоря по-научному, лесопарк, имя которому Сокольники.
Сегодня я вижу его стеклянно-бетонным, геометрически расчерченным, культивированным, со множеством точек питания и торговли, с павильонами игр, с грохочущими импортными автоматами, с зонами культуры и отдыха, многолюдны его некогда диковатые, дремучие дорожки, и кажется он сегодня легко просматривающимся насквозь, сильно уменьшившимся. А тогда мы шли по его аллеям и дорожкам в постоянном ожидании чуда, которое вот-вот должно случиться.
Мы без конца рассказывали друг другу о себе, почти исповедовались, ибо считали, что каждый должен знать жизнь другого как свою собственную.
Деревянный полупустой павильончик, портвейн и купаты, и ни слова о сегодняшнем. Ведь мы еще не окончательно зачислены и из суеверия не говорили ни слова об Институте. Да и вообще, казалось, сегодняшнее мало волнует нас.
Прошлое — вот что объединяло, хотя у каждого оно было таким разным. Как это ни странно звучит, время и война позаботились о том, чтобы у нас, еще не достигших двадцати, было прошлое, прошлое, в котором слово «смерть» далеко не всегда носило отвлеченный характер. Может быть, потому, что она была так реальна, часта и близка, мы воспринимали ее как нечто впрямую связанное с жизнью. «Мы» — это относится к поколению. Меня же она пугала всегда, любая смерть, о которой я узнавал, подавляла, казалась чем-то неестественным.
Впрочем, хотя смерть и просачивалась в наш опыт, присутствовала в наших рассказах, ощущение бесконечности жизни от этого было, может быть, еще более острым: вечереющий Сокольнический парк с его чудо-молодцами, слоняющимися стайками по пустым аллеям, с его чудо-девицами, белеющими кофточками на ближних скамейках, с бодрыми песнями, несущимися из громкоговорителей, с гитарными переборами и хриплыми блатноватыми голосами, с густой бесформенной стеной леса, в глубине которого вспыхивали иногда огоньки и ощущалось торопливое движение, — все это говорило о жизни, которой нет конца.
В тот вечер Борька впервые рассказал мне о своем немце.
Потом не раз в дальнейшем нашем многолетнем общении так или иначе вспоминал он своего немца. Этот немец стал для меня привычен, будто старый родственник, то и дело встречающийся на перекрестках жизни.
Борька жил с матерью в деревне. Неподалеку от Рыбинска. Там пленные немцы строили железную дорогу. Мать Борьки пригоняла конвойным цистерну с питьевой водой. Часто и он увязывался за ней.
Борька любил наблюдать за пленными. То есть что значит любил? Слово «любил» не могло стоять тогда рядом со словом «немец». И даже не то что было ему интересно смотреть на них, хотя он смотрел на них неотрывно: тяжелое любопытство было в его взгляде. Он видел, что они люди, но он понимал, что они какие-то другие люди, не такие, как наши, что все они с т р а ш н ы е люди. Война ожесточила не только взрослых.
Он замечал, что работали они быстро, точно, что переговаривались спокойно, деловито, и это были совсем не те лающие голоса, пугающе знакомые по фильмам и радиоспектаклям. Да и вообще, как ни хотел, он ничего страшного не мог найти в них, хотя и искал все время. Усталые, мокрые от пота, в выцветших френчах, они выглядели скорее измученно, чем устрашающе. Но он постоянно, ежесекундно держал в голове: «Это они убили отца».
Он уже не вспоминал другого: ленинградских дистрофиков, которых привезли в деревню для поправки, с маленькими, ссохшимися головами, коричневыми лицами, не вспоминал он и плач баб из его деревни, однообразный, жуткий, вспыхивающий то в одном, то в другом доме и тянущийся бесконечно… Это вошло в него с первыми проблесками сознания, но не об этом он думал, глядя на них. Тогда все сузилось и сошлось на одном: «Они убили отца». Впрочем, не было известно, убит ли, написано было по-другому: «Пропал без вести» — и потому и мать ждала и он, но уже война кончилась и уже все говорили, что ждать бесполезно.
Он то вспоминал, то забывал отца. Вот он сидит у отца на коленях, они пьют молоко, вот отец на комбайне, комбайн раскаляется и дрожит. Вот они на улице с отцом слушают репродуктор. И он спрашивает отца: «Там что, человек сидит?» А отец смеется и качает головой. Помнит он отца и в гневе. Отец кричит громко, бьет по столу так, что хлеб прыгает, и кажется, все разорит сейчас и порушит, а он лежит на печке, но не боится, знает: отец все может разорить, а его не тронет.
И помнит, кажется, даже уход отца. Отъезд в грузовике в город, помнит, как мать взобралась в кузов, как оголилось ее колено и как с высоты кузова она глянула ужасными, бесцветными глазами на Борьку, будто и она покидала его насовсем. Отец втянул ее силой, решительно подмигнул Борьке. И крикнул, улыбаясь: «Борька, сынок!»
Первый раз он так назвал его — «сынок», обычно просто Борька да Борька.
И покатила машина, подняла пыль, уже и не видно почти, только здесь, на пустоши, гармошка взвизгивала, замирала, снова расходилась, будто в истерике, никак не могла остановиться.
Еще много чего об отце помнит Борька, и мать медленно, по слогам читала ему отцовские письма, два года читала, а потом письма перестали приходить.
И вот теперь он наблюдал за немцами: переговариваются, стучат лопатами, расчищают завал, греются на солнышке. Люди как люди, только говор не русский.
Однажды Борька сидел у цистерны с водой. Подошел немец, худенький, рыженький, как клоун, попросил воды. Конвойный не слышал, дремал, пригревшись, сидел на земле, чего не полагалось по уставу. Борька же обстругивал ветку. «Вассер, вассер», — вежливо просил немец и показывал глазами на цистерну.
Борька не хотел будить конвойного. Он сам мог дать немцу кружку, но сделал вид, что не понимает, не хотелось ему, чтобы немец пил, незачем ему… Снова попросил немец воды, и вновь Борька не моргая, молча смотрел мимо светлых, словно бы больных глаз. И тут что-то независимое, отдельное от Борьки, как бы не он сам, а какая-то пружинка в нем дернулась, и рука его сама собой потянулась к кружке. Нацедил Борька воды. Пленный бережно взял кружку, долго, медленно пил, тяжело дыша, екая, морщась от наслаждения.
Он поставил кружку, кивнул Борьке и вдруг, опустив глаза, жестом попросил ветку, которую обстругивал Борька, и ножик. От растерянности Борька дал. Немец присел и сидел так, методично работая ножом, не разгибаясь. Минут через пятнадцать он вернул Борьке не ветку, а тоненький мундштучок для курения, только дырка была плохо вырезана: времени было мало, да и нож тупой.
Постепенно Борька стал привыкать к своему немцу. Он таскал ему картошку, а несколько раз даже и молоко, хотя немцев кормили неплохо, но Борьке казалось, что его немец недоедает, такой он худой и болезненный.
Как-то Борька раздобыл немного самогону, принес его немцу. Вольф пил самогон из кружки помаленьку, будто это было молоко. А Борька вдруг ощутил странное беспокойство. Он встал, огляделся, увидел вдали ряды аккуратных домиков за колючей проволокой, и ему показалось, что от горизонта к нему меж вырубленных сосен, к насыпи дороги идет отец.
Он шел четко, хотя и медленно, и когда приблизился, Борька увидел, что туловище у отца живое, а лицо мертвое. Мертвый отец шел куда-то — жестко, прямо, не видя сына, подняв белое лицо с пустыми глазницами. И сзади будто бы шел кто-то с оружием, почему-то Борьке показалось, что это его немец. В сознании его вдруг стало все двоиться. Сидящий на теплой земле с кружкой Вольф, и тот немец, что шел вслед за отцом, и спокойный теплый ветер, и лицо отца с провалившимися глазницами, не узнающее, чужое, и вдруг Борька закричал дико, тонко, так что немец, испугавшись, вскочил и расплескал драгоценный самогон.
Борька с ненавистью изматерил его. Вольф, не понимая, в чем дело, наклонился над ним, смотрел круглыми участливыми глазами, как врач на больного.
Борька с силой оттолкнул его — метил в грудь, а попал в живот, — и тот от неожиданности сел на землю. Борька побежал, слыша сзади его прерывающийся ласковый голос.
И вдруг Борьку оглушил выстрел. А потом он услышал крик.
И остановился как вкопанный. Прямо на немца с автоматом на изготовку бежал конвойный. Вольф неподвижно сидел на земле, и Борька подумал, что он убит. На руке у него действительно была кровь. Борька сорвал с себя рубашку, бросился к Вольфу, готовясь перевязать ему руку.
— Назад! — остановил его конвойный, теперь он стоял между Борькой и немцем. — Встать!
Немец сначала не шевелился, а потом привстал, ничего не понимая.
От страха Борька забыл даже имя немца. Он смотрел на него и переводил взгляд на конвойного. Уже кто-то бежал к месту происшествия. Рука немца была оцарапана, и сам он был оглушен.
— Это я, я, — испуганно причитал Борька и плакал. — Он ни при чем…
После этого случая Борька долго не приходил на стройку, где работали пленные. «Теперь, — думал он, — и не пройдешь. Теперь и не подпустят». Да и идти ему не хотелось.
Возвращался из школы, пригонял корову, пилил с матерью дрова, а ночью, когда мать засыпала, в копотном, косматом свете коптилки малевал что-то на бумаге.
Мать, пригревшаяся на печи, пугливо просыпалась, привставала, сквозь разводы копоти он видел белое, тревожно метнувшееся пятно ее лица. «Это чё, почтальон?» — всхлипывая со сна, бормотала она.
Уже не первый год снился ей ночной почтальон. Что он ей приносил?
— Да не почтальон никакой, — нарочито буднично, даже ворчливо, будто ребенку, говорил Борька. — Ты спи-ка.
Она засыпала, а он все сидел и рисовал. И чем дольше сидел, тем меньше хотелось спать.
Мать снова просыпалась, смотрела слепыми, непонимающими глазами, спрашивала испуганно: «Ты чё? Ты чё?»
— Уроки, мать, — говорил он, и она успокаивалась, затихала.
Он рисовал домики и хатки, коров и лошадь на водопое, и получалось похоже. И еще, вспоминая немца, он рисовал старинные замки и диковинных охотников в шляпах. Но иногда вдруг охотники превращались в обыкновенных солдат, а башенки старинных замков в круглые, врытые в землю доты.
Вновь и вновь рисовал он солдат — идущих в атаку, бегущих и лежащих на земле. Живых и мертвых. Иногда ему хотелось нарисовать своего отца. Вроде бы он и помнил его лицо, но недостаточно для того, чтобы его изобразить, да и лицо это все время менялось: то оно было молодое, то старое, то, как новобранец, отец был острижен наголо, то, как вечный странник, оброс седыми волосами и бородой.
Он не хотел срисовывать с маленькой карточки, висящей на стене. Там отец в белой рубашке обнимал за плечи мать. Видимо, они только что поженились.
Он нашел еще несколько фотографий отца, они лежали в брошюре, посвященной XVIII съезду ВКП(б). Отец Борьки был человек грамотный, комбайнер, партийный, и у него было много таких книжечек с густым серым шрифтом и в мягких обложках. Многие строчки в них были подчеркнуты отцом.
На фотографиях отец всегда смеялся, а глаза напряженно смотрели в аппарат, будто ждали, что из него птичка вылетит…
Немцев расконвоировали. Иногда они забредали даже в деревню. Говорили, что их скоро отправят домой, в Германию, и они будут строить там новую жизнь. Борька нашел своего немца и показал ему рисунки. Тот внимательно посмотрел, тонким пальцем ткнул где неверно, где нарушены пропорции, похвалил лошадок и замки, а увидев военные рисунки, нахмурился и сказал:
— Зачем это? Надо забыть. Я хочу забыть… Ты хочешь забыть. Рисуй дерево, корова, лошадь, рисуй деревня, а криг — нет.
Он провел ладонью по горлу: вот она где, война!
Вскоре немцы стали партиями уезжать. Кончился их плен. Вольф взял адрес Борьки и дал ему свой.
Было непонятно, радуется он тому, что должен вскоре освободиться, уехать на родину, или нет. Другие весело ходили, разговаривали, лица у них были румяные от возбуждения, будто они крепко выпили. А Вольф ходил тихо, выглядел жалким, болезненным. Может, его никто не ждал дома, а может, он просто скрывал свои чувства, а может, из суеверия — боялся сглазить.
И вот посадили их на грузовики, вот расселись они чинно, аккуратно, помахали руками, а деревенские в ответ тоже. Будто и не немцы уезжают, а какие-то постояльцы, сезонники.
Старик один, дядя Борькиной матери, сказал:
— Во время войны каждого бы как гниду давил, а опосля войны все ослабло… Работные мужики, что есть, то есть.
Борька вспомнил, как немец учил его перерисовывать на пленку цветы и зверей, а с пленки сводить на материю:
— О, это… всегда есть рубль, есть марка. Малер — всегда рубль. Всегда кормить. Кисточка — всегда кормить.
Года через два пришел к Борьке почтальон, говорит:
— Письмо тебе. Из Германии. Из ихней демократической республики. И посылка. Так что распишись.
Борька торопливо вскрыл посылку, и увидел блестящие яркие тюбики, и сразу понял: краски. И фото. Немец Вольф в доме отдыха. Стоит у красивого двухэтажного домика и смотрит. Лицо пополневшее, а взгляд задумчивый. И непонятно, доволен он жизнью или нет.
И записка на русском, с ошибками, конечно, но понять можно. Сообщал, что работает на конфетной фабрике, вернее, в тресте конфетных фабрик, делает эскизы для конфетных оберток. Еще он писал, что «немного рисоваль для себя и однажды даже выставиль на выставка свободных немецких художников картину «Русский подросток». И фотография с картины: белокурый мальчик, одновременно напоминающий ангелка и Борьку.
Сообщал свой подробный адрес в Германской Демократической Республике и приглашал «друга послевоенных лет» навестить его.
Конечно, неплохо было бы съездить в гости. Но в то время частные приглашения не имели силы. Так и не побывал Борька в Германской Демократической Республике. Да, кажется, нигде за границей он не побывал в своей жизни.
С первых дней знакомства меня удивляло в Борьке, таком же юном, как и мы, спокойное приятие не только жизни, какой бы она ни была, но и смерти. Из тех же первых вечеров остались в памяти отрывочные его рассказы о том, как заболела мать и как он работал в райцентре на кладбище художником, делал на пластмассе, на эмали портреты усопших на памятниках.
Мне казалось, я не был способен на такое. В его же устах слово «покойник» было столь же обыденно, как «новорожденный», «урожай», «покос» и т. д., смерть была дня него одним из проявлений жизни, для меня же, напротив, стояла над жизнью, вернее, противостояла жизни и потому отталкивала.
В ту пору я проводил навсегда только трех людей: учителя рисования, Калинина и бабушку.
Калинин был первым. Мы, дети, малолетки, знали, что он не просто Председатель Президиума Верховного Совета, но и Всесоюзный староста и любовно звали его «дедушка Калинин». Именно дедушкой он и выглядел на портретах: худой старик с добрым взглядом и острой бородкой. И еще мы видели его в кадрах кинохроники. Он вручал ордена. Улыбался и что-то неслышное нам и, очевидно, приятное им, награжденным, говорил.
Когда он умер, мы с бабушкой стояли в долгой очереди в Колонный зал.
Люди шли, тихо переговариваясь. Я же мысленно представлял себя в январе 1924 года, черный дым на белом снегу, ощущал себя частицей бесконечной осиротевшей толпы.
И здесь, в Колонном зале, в этом скорбном потоке я словно бы шел не только к дедушке Калинину, но и к нему. Мрамором и алебастром светились таинственно стены, отражались огни в них, словно во льду. Пахло хвоей — запах этот для меня навсегда стал запахом похорон, — часовые стояли как железные, не моргая, не дрогнув ни мускулом, горели игольчатые кончики штыков.
А бабушку мою отпевали в церкви… Измученное, желтое, такое родное лицо. Отпевали, а я слышал ее голос: «Сынок, пора домой… Сынок, обедать… Сынок, за уроки».
И свежая земля, стук комьев по крышке гроба — это потом, на кладбище, — и все гуще эта земля, и моя бабушка навсегда уходит в землю, в корни, в черные, отрезанные лопатой ломти чернозема.
А вдали еще люди, конвейер бесконечен, мелькают венки, чужие рыданья слышатся, а здесь так быстро вырастает холм, слишком большой для моей маленькой, такой живой, непривычной к неподвижности бабушки.
Борька со всем этим был знаком почти с детства. Он рисовал иконки и продавал их в церкви, как батюшка велел. Батюшка все тянул Борьку в церковь, а Борька только помогал ему; батюшка говорил со значением: «Пойдешь учиться туда» — и показывал куда-то пальцем. Поступить туда было трудно, но он обещал помочь.
В гулкой сумеречной пустоте Борька рассматривал древние лики. Но батюшку ему неинтересно было слушать, батюшке он не верил. Батюшка говорил одно, а делал другое. Батюшка и любил другое, это Борька чуял нутром, и когда люди стояли в очереди, а батюшка их миром мазал, то Борька слышал не только благовонный душный запах, но и запах перегара из батюшкиного рта и слышал не тихий шелест: «Прости и помилуй», а грубую ругань, что извергал батюшка днем на служку, да и на жену свою.
Нет, сильно отрезвил батюшка Борькину душу, хотя и хотела Борькина душа очищения и праздника.
А когда один стоял Борька в церкви и боковой свет, ломаясь, сочился вниз и в нем плавали мириады пылинок, то виделись они ему не пылинками, а живыми существами, плывущими, раскинув крохотные руки, и среди них, может быть, плыли его отец и те, кого срисовывал он с маленьких фотографий для кладбищенских памятников.
Матери его не нравилось, что он зарабатывает такой работой, что, по сути дела, не учится (целый год он не ходил в школу), но разговоры о том, чтобы отдать его в другое место, оставались разговорами.
В конце концов повезла она его в другой город, где был интернат, да еще с художественным уклоном; таких переростков, как Борька, туда не записывали, но у матери был такой больной и несчастный вид, она так плакала и говорила, что Борька вскоре останется круглым сиротой, пропадет, что в конце концов директор, бегло глянув на его рисунки, дал команду зачислить Борьку.
Так Борька очутился в интернате с художественным уклоном.
И непонятно было по его рассказам, хорошо ему там жилось или плохо. Вроде и не бывает в интернатах хорошо, но иной раз послушаешь Борьку и позавидуешь: такие чудеса там творились, такие ребята были рядом, так замечательно они лепили, рисовали, так хорошо их учили, что хоть прямо из интерната зачисляй в Суриковское училище.
Но однажды Борька признался, что житье было нелегкое, там были и сироты, и дети, брошенные родителями, и дети тех, кто работал далеко от этих мест, что педагоги все время менялись. В родительские дни не всех забирали домой.
Некоторые все ждали, надеялись, слоняясь по коридорам, выглядывали в окна, говорили возбужденно: «Сейчас мой приедет».
Но не ко всем и не всегда приезжали.
Уже в Институте Борька показал мне свою жанровую картинку «Ожидание».
Стриженый мальчик расставил шахматные фигуры-гиганты, такие бывают в парках культуры, в детских садах, в интернатах. Итак, огромные, нелепые фигуры, между которыми затерялась маленькая стриженая голова на тонкой шее… Мальчик смотрит в окно. Там последняя мать увозит последнего ребенка на каникулы. Булыжная мостовая, уходящие женщина и ребенок.
Вот такая картинка. Мне запомнилось лицо мальчика меж странных слонов, коней, пешек, улыбка, уже гаснущая на губах, но еще подсвечивающая глаза.
Переход улыбки во что-то иное, чему и название трудно найти. Может быть, обида, может быть, отчаяние, словом, не определишь.
Если б можно было определить словом, то рисовать незачем.
Борьку как-то особенно трогало одиночество детей.
Город этот, где поселился Борька после Института, был невелик, мы знали его не хуже собственного района, собственной улицы. За эти годы сколько раз наезжали сюда! Одно время Борька был чуть ли не главным художником районного управления культуры. Мы еще с Сашкой дразнили его: «Ты главный, а Репин да Суриков просто…»
Бывало, я оставался у Борьки на несколько дней, работал в его мастерской (коллективной, одна на трех художников, двое, впрочем, почему-то всегда отсутствовали). А иногда без дела ходил по улицам города. Или городка — по сравнению с Москвой он и был городок, этим и притягивал к себе.
Но относительная близость Москвы все равно чувствовалась. Сюда добирались столичные грибники, до Москвы — здешние экскурсанты.
Борька приезжал в Москву редко. Он полюбил свой городок, привязался к нему, и действительно здесь был свой влекущий дух — в крепких приземистых домиках, иногда со скупым бледным декором, а иногда и с колоннами, с мелкими, изящно обрамленными оконцами, сохранился здесь и гостиный двор, где были магазинчики, пусть с небогатым выбором, но зато с нестандартными названиями, один назывался «Сукноаршин», верно, на переломах истории его так и забыли переименовать. Да и в местной фотографии было что-то неизбывно провинциальное, домашнее, казалось, весь город, как выпускной класс, усажен перед объективом.
Вставали в ряды и новые дома, и люди переселялись в них с радостью, жить там было удобнее и просторнее, но лик города определялся все же этим старым центром.
Конечно, в последние годы дела и заботы брали свое, я наведывался сюда реже, но тем более радостен был мне этот город, я приезжал в него почти как на родину, внимательно подмечал все перемены в нем. И если попадалось мне где-нибудь название города или что-нибудь писали о нем, читал с пристрастием, как чужак читать не станет.
В первые годы, особенно после некоторых событий, произошедших в Борькиной жизни, мы изо всех сил вытаскивали Борьку в Москву, поближе к нам. Возможности такие были, но вначале он колебался — то отказывался, то был уже близок к переезду, хотя и с сильным внутренним сопротивлением, а потом неожиданно для нас женился здесь, и когда жена отвергла Москву, что называется, уперлась, он не стал уговаривать ее, согласился с ней. Мне даже показалось, с легкостью, с радостью внутренней — оттого, что выбор уже сделан как бы без него и вариантов нет. Человеку ведь иногда легче без вариантов, без выбора. Хотя на самом деле решение — и, видно, давно — принял он сам.
Не приводил он затасканные доводы о суетности московской жизни, какие нередко слышал я от периферийных коллег; иногда бывали эти доводы искренни, иногда отдавали кокетством, ибо, чего греха таить, суетность не масштабами города определяется и даже не ритмом его жизни. Сколько суетных было и в провинции, а несуетных — в Москве. И сколько осуждавших эту самую суетность с удивительной непреклонностью, буквально изнемогавших в краткой командировке от тоски по своим покинутым далям, с легкостью, как только представлялся случай, перебирались в столицу, в ту самую губительную суету, и обнаруживали недюжинные способности к данной суете приспособиться.
В отличие от них Борька не ругал Москву за суету. «В нас самих суета», — говорил он. Он любил Москву и знал ее, как немногие москвичи. Мы с ним вдоль и поперек исходили любимые наши улицы и переулки. Впрочем, любили мы разное. Моими были Покровка с Чистыми прудами, Замоскворечье и, как у всех коренных москвичей, конечно, Арбат.
Я любил старую Москву, но мне было все равно что XVIII век, что XIX, все это и была для меня старая Москва, даже мой Машков переулок с домом, построенным в конце XIX века, воспринимался как старое. Борька же любил более глубокую старину, в те времена она была крепко забыта, улицы переименовывались, некоторых мемориальных досок, что сейчас появились, и в помине не было, Москву надо было узнавать ногами, разговорами со старыми, все помнящими москвичами, сидением в библиотеках над старинными планами и пожелтевшими справочниками. А Борька знал многое: от Филиппьевской церковки XVII века до Малого Палашевского переулка. Мне, например, название этого переулка мало что говорило, и только от Борьки я узнал (где-то он это вычитал), что здесь в XVII веке проживали палачи. И сразу же переулок стал восприниматься по-другому. Теперь он виделся мрачным, бывшее гиблое место, хотя, как выяснилось, палачи жили здесь не настоящие, они не убивали насмерть, а только кровавили должников кнутом или батогами.
Но одно дело пребывание, другое — житье.
Вероятно, и к Москве он бы привык и отлично приспособился. Он и думал одно время о переезде, а потом отказался, и тогда мы отстали от него с этим, да и верно — иная была его судьба…
И не привычка, не самовнушение были тому причиной, не даже некоторая «гордость провинциала», которой Борька иногда козырял, может быть просто из духа противоречия. Я раньше других перестал его убеждать в том, что столица «даст ему бо́льшие возможности для творческого развития».
Более того, я сам иной раз завидовал ему. Я приезжал сюда нередко и потому знал его здешнюю жизнь, отлично понимал, что она не безоблачна, что масштаб города ограничивает его, что на маленьком пятачке гремят свои страсти, часто весьма далекие от искусства, и отстраниться от них труднее, чем в столице.
Нет мира ни под оливами, ни под березами, если нет его в нас самих. И все же маленький клочок земли — районный город — был е г о городом. А он был его художником, его мастеровым, а не одним из… Доводящий до изнурения темп, к которому я привык как к норме, пугал моего друга, и, может быть, он был прав, что месяцами не вылезал отсюда, несмотря на все наши призывы.
Городок спасал его.
У меня не было такого городка. У меня был только мой гигантский и все разрастающийся город. Но я родился в нем и не мог его судить как чужой. Мне казалось, я знаю его, хотя знать его было почти невозможно, так он был разнолик, разнопланов, из стольких разных городов состоял; я изнывал, уставал от него, и, убегая, ускользая, вновь ощущал необходимость в нем, и, возвращаясь, испытывал счастье; здесь, в этом великом многолюдстве, был м о й дом, и хотя улица, где я родился, и весь район менялись, все менее напоминая старую Москву, все же память о ней и атмосфера, которую они хранили, были моей почвой, а все остальное — местами пребывания, домами для приезжих.
Борькин же дом был в том городке, далеко отстоящем от его родного, но чем-то, вероятно, хотя бы самой малостью, напоминавшем его.
Часто он ругался и говорил, что мы, московские, не понимаем здешней жизни, здешних условий.
И все же, очевидно, именно они были ему необходимы.
Мы встретили его неподалеку от дома. В довольно густой неспешной субботней толпе, курсирующей по торговой улице, мелькнула его фигурка, а может, просто кто-то похожий на него, и растворилась, исчезла.
Я обернулся к Сашке и спросил:
— Ты видел?
— Да, кажется, он. Вынырнул, как черт из табакерки, и пропал.
Меня вдруг охватило странное ощущение, что это уже было, что когда-то где-то в другом городке, в другой толпе, в другой реальности вот так же точно я увидел вдали своего друга, но не успел даже окликнуть его, позвать, как он исчез.
Да, где-то это уже было: человек в толпе, мгновенный промельк лица, и ты ищешь, ищешь и не находишь. И теперь уже не найдешь никогда, а будешь только вылавливать по крупинкам, складывать, вспоминать.
Впрочем, он так любил: появиться и исчезнуть. С самого начала нашей дружбы было предощущение разлуки…
Мы неторопливо шли к его дому, и уже в который раз я отмечал отличие здешних людей от столичных. Они не летели, не рвались куда-то, а гуляли, возможно, и небездельно, с заходами в магазин или на рынок, но это были именно гуляющие люди.
Шли, узнавали друг друга, здоровались, беседовали неторопливо, покупали товары, какие бог послал и местные снабженцы.
И даже в том отделе, где стояла на полках пшеничная водка, никто не отталкивал друг друга локтями. Спокойно и благородно стояли в очереди, ибо каждый знал здесь другого и неудобно было суетиться и лезть вперед.
Мы тоже отстояли свое, сделали полезные приобретения и пошли дальше, мимо каких-то самодеятельных торговых точек, вокруг которых время от времени вскипали небольшие водовороты любопытствующей толпы. Но и здесь она проявляла достаточное терпение. А продавали в основном самодельные календари на холсте, или сумки из мешковины с портретами различных певцов — от Аллы Пугачевой до Джо Дассена, или столь сладких в далекие послевоенные годы леденцовых петухов, насаженных на палочки.
Вот именно здесь, между двумя маленькими водоворотами любопытствующей толпы, покупающей изделия частников, мы увидели как бы в стоп-кадре нашего друга.
Издали он казался суров, стоял в раздумье, в руке портфель, до отказа набитый, возможно, книгами, альбомами, пособиями, и походил (и это было совершенно неожиданное сходство) на чрезвычайно занятого человека, спешащего на совещание, только лохматая и какая-то излишне легкомысленная кепка да сигарета в углу рта придавали ему странный, залихватский вид и наводили на сомнения как в серьезности намерений данного работника, так и в том, работник ли он вообще. Следующий, более внимательный и углубленный взгляд, охватывающий всю фигуру в целом, замечал и плоские ботинки — лыжные, не по сезону, — и совершенно не подходящие уважающему себя работнику мятые матерчатые штаны, нечто среднее между джинсами местного пошива и домашними брюками; да и сам портфель, важный, деловой, буквально лопался от напряжения, кожаные его челюсти разомкнулись, оттого что заполнен он был, увы, не книгами, не альбомами, а, судя по всему, бутылками и снедью.
Вот он увидел нас, ухмыльнулся, погасил первый блеск и первый порыв, посмотрел вниз, никаких объятий, никаких слов; вот глаза поднялись — не голубые, как всегда, а серые, почти бесцветные в сероватом бесстрастном свете дня; лицевые мускулы как бы зажали радостно расползавшуюся улыбку; почти безразличие: мол, приехали, ну что ж…
Я знал — это своего рода самооборона, не любит, не хочет открываться, так или иначе обозначать свое одиночество… Впрочем, непроизвольная игра эта длилась недолго, Борька улыбнулся нам, сразу став моложе и легче, тяжелый портфель словно бы отлетел от него, и чем-то, может быть, совсем отдаленно, он напомнил нам немного обрюзгшего, слегка постаревшего Сергея Есенина. Его светлые, почти льняные волосы потемнели и словно бы огрубели, стали жестче, — золотистый лен побелел под дождями, под белой известковой пылью жизни, даже не побелел, а посерел.
Уже на подступах к квартире, на лестничной площадке, чувствовался острый, перцово-луковый, очень домашний и теплый дух. И мы сразу поняли и узнали: пельмени. Фирменные Екатерины Ивановны пельмени, пельмяши, как ласково называл их Борька Никитин, ценивший несколько радостей бытия, в том числе и вышеназванные, домашней ручной работы, вылепленные из тонкого теста пельмени.
С тех пор как Катя появилась в его жизни, появились и непременные в день рождения пельмени — традиция, символ прочного домовитого образа жизни.
Впрочем, никто из нас с днем рождения Борьку не поздравлял. Мы знали, что он не любил этого: не поздравлений не любил, а осознания нового возраста. Глядевший правде в лицо гораздо беспощаднее, чем мы, в этом он был суеверен и уже с молодых лет темнил, сбавлял себе пару годочков, тем более для этого были основания: неточность в метрике. Но дело не в неточности, просто он суеверно боялся, особенно с годами, этих цифр, все настойчивее округляющихся. Вообще он острее, чем другие, чувствовал в р е м я: переход от одного времени в другое, оконченность, завершенность какого-то этапа в жизни, определенность ее рубежей, реальное для самого себя ощущение ее будущего, может быть, недалекого конца. О смерти он говорил спокойно, не видя в ней или притворяясь, что не видит, трагедии… Только одна смерть навсегда потрясла его. Он не любил знать наперед своего будущего.
Однажды, когда мы добирались в Ростов из Гремячинского района с первой своей институтской практики, нас в поезде окружили назойливые и агрессивные ростовские цыганки.
— Дай руку, миленький, погадаю.
Колдовали они недолго, сделав быстрое заключение об успехах в жизни, в любви, о женитьбах, о длительности жизни. У нас с Сашкой выходило, в общем, неплохо. Особенно в любви. А у Борьки…
Молоденькая, с нагловатыми, быстрыми и, как нам казалось, необыкновенно прозорливыми глазами цыганка, подержав на весу, как врач, Борькину ладонь и перечислив все ждущие его удачи, вдруг с легким удивлением запнулась и, запнувшись, молвила, еще раз с недоумением очертив взглядом его ладонь:
— Линия жизни…
— А что? — тревожно спросил Борька.
— А то, — сказала цыганка. — Живи да не печалься, заработай себе пети-мети, гуляй, ни о чем не думай… Спеши, милый.
Борька ей даже монетку не захотел дать. И только когда она так насупилась, что, казалось, сейчас прорвется такое пророчество, от которого не будет ни сна, ни покоя, бросил ей монетку. Но был растерян и расстроен надолго.
Тщетно убеждали мы его, что припугнула на всякий случай, догадывалась, что может не заплатить за гадание, знает его слабость — не любит швырять денег на ветер, прижимист малость.
Но это не успокоило его. С тех пор, насколько я знаю, он не хотел слышать о своей судьбе никаких сомнительных прогнозов, и даже в лесу, когда неожиданно вступала кукушка, четким своим голосом безразлично и монотонно куковала, он говорил нарочито громко, хохотал, чтобы только заглушить ее. Не любил он этого счета.
И сегодня, вытаскивая подарок, мы не говорили о поводе. Будто просто так собрались все вместе, будто просто так уставлен стол бутылками да яствами.
А стол был прекрасен. Тарелки с пирогами, сквозь плоть которых проглядывала, лохматясь, капуста, желтоватая от яйца, или пироги с черной прослойкой грибов — след здешних лесных прогулок, след Борькиного охотничьего азарта, ведрами он таскал грибы — не из жадности, из любви к искусству.
Ничего на столе, кроме водки, не было фабричного, а все свое: соленья, сушенья, варенья, и не с участка, никакого участка у них не было, а из окольных лесов, дары земли — стол заядлого грибника, рыболова, стол женатого человека, у которого женщина знает толк в еде и может выставить гостям пельмени, сработанные на диво, по всем правилам и чуть-чуть по-своему; нигде я не ел таких замечательных пельменей.
Она вышла поздороваться, улыбнулась приветливо и одновременно с укором:
— Что-то давно вас не слышно, забыли, забыли дорожку. Не то что раньше… Э-эх, мальчики.
И вновь вернулась на кухню. Я следил за ней: пальцы работали, как бы автоматически закатывая тонкие листы теста, заполняя их чем-то пахучим, теплым, легко и ловко придавая этому бесформенному месиву точную, единственную форму, — словно белые, крохотные лебедки, прижав к спине шеи, выплывали и строились в ряд.
Я смотрел на это с восхищением. Любое умение в какой-то своей стадии становилось мастерством и приводило меня в восторг.
Я был в одной арабской стране и стоял у лотка уличного торговца. Тот обжаривал мясо, срезая жир. Я смотрел, как работают его тонкие, загорелые, грязноватые пальцы, как гигантским ножом обрезают, точно полируют, кусок мяса. Мне не советовали есть у уличных торговцев, но так красиво было, что я рискнул. За его искусство я готов был заплатить какой угодно болезнью. Это было не приготовление пищи, а нечто иное, гораздо более важное. Зачем, во имя чего? Чтобы, мгновенно обжигаясь, перемолоть зубами, насытиться?.. Уличный торговец об этом не думал. Именно так ему было надо, так делалось из века в век. Так было красиво, таков был обряд.
Но обряд обрядом, а мы были голодны с дороги, и ожидание у этого как бы еще перевязанного ленточкой, но уже открытого для обозрения стола, стола-натюрморта, начало слегка тяготить нас.
— Сейчас, сейчас, еще немного, — улыбнулась Екатерина Ивановна. Она казалась сейчас очень уютной, даже миловидной в своем фартуке, тонкий черный свитер скрадывал ее по-мужски широкие плечи.
Почему-то мы всегда называли ее по имени-отчеству, Екатерину Ивановну, жену нашего друга. И ведь не в шутку. Может быть, когда-то вначале это произносилось с оттенком иронии, но сейчас — нет.
И ведь была отнюдь не стара, а все же не Катя.
Сейчас она была приветлива, и радовалась нам, и, видимо, ждала нас.
В былые времена она встречала нас совсем не так, никогда не давала себе труда скрыть отчуждение, неприязнь.
Впрочем, это были трудные времена и для Борьки. Ему не работалось, это было как болезнь, и тогда он становился отчужден, груб, мрачен, между нами возникала стена. Именно в эти периоды у него обострялась язва; он старался не выдавать своих мук, и знаки участия, сочувствия вызывали в нем тихую ярость.
Видимо, от этого она так настороженно относилась к нам, да, верно, и не только к нам.
Но когда я приехал сюда и буквально силой потащил Борьку на этюды на здешние озера, где и простудился жестоко, опасно, заболел двусторонним воспалением легких, она ходила за мной как за малым ребенком — безропотно, молчаливо, с необыкновенным умением ставила банки, категорически запретила звонить в Москву, пугать моих близких…
Вот наконец Сашка поднялся с бокалом, стал говорить что-то пространно и несколько витиевато, рюмки с холодной водкой стыли в наших руках, звучал его монотонный голос: «Мы верим, что ты будешь счастлив и знаменит».
— Впрочем, счастлив ты и сейчас, — добавил он и посмотрел на вспыхнувшую под его взглядом Екатерину Ивановну (она и в хорошие и в плохие минуты не умела скрывать своих чувств), — живя с такой верной, доброй, — он снова со значением посмотрел на нее, — и красивой женой… (Она потупилась, запунцовела; что-то неистребимо детское появлялось иногда в этой не такой уж юной женщине.) Мы знаем, музеи будут драться за твои работы. (Тут уже Борька поморщился. Последнее время он стал болезненно относиться к этой теме.) Впрочем, — продолжал Сашка, — кто надо и сейчас знает Борьку Никитина, а кто не надо, узнает позднее. И потому — ура!
Под дружный вскрик хорошо пошла холодная водка, уже ничего не хотелось говорить, дымились, таяли во рту благородные сибирские пельмени.
Все шло хорошо и славно, только время от времени Борька посматривал на дверь и хмурился. Не было еще одного человека, чье присутствие здесь было обязательным. Не было Егора.
Для Борьки он был не просто ученик, свой человек в доме, а как бы приемный сын. Хотя у Егора в этом же городе жил родной отец.
Наконец он вошел, запыхавшийся, с дичинкой в растерянных глазах. Казалось, он долго убегал от кого-то и вот добрался до дому.
Борька встал ему навстречу, помог снять курточку, напряжение и диковатость ушли из глаз, — Егор знал нас, в нашем присутствии чувствовал себя свободно.
Напряжение оставило и Борьку и его жену, мы выпили, нас потянуло к воспоминаниям.
Вспомнился почему-то сухумский ресторанчик «Рица», безлюдное Беслетское шоссе, холод родниковой воды, млечно белеющая на взгорье наша сакля, в которой снимали комнату вдвоем с Борькой (Сашка жил в городе у родственников).
Да, мы входим в этот уснувший дом, закрываем дверь, снимаем обувь, босиком проходим к своим раскладушкам.
До этого момента в воспоминании все хорошо.
Но еще шаг в глубь этого дома, еще один блик той юношеской давно отгрохотавшей жизни — и лицо Борькиной жены тускнеет. Она отдаляется от нас, от нашего прошлого.
Да, еще несколько шагов — и мы окажемся в трудной зоне, зоне высоковольтного напряжения, сжигающей радость наших общих воспоминаний.
Я смотрю на стену. Там висит Борькин набросок, рисунок тушью: лицо юной женщины. Одной линией очерчены продолговатые глаза, темные волосы, нежная тонкая шея.
Я помню это лицо. Но для меня оно было иным. Я и изобразил его по-иному. Оно как бы светило дальним светом, уже с другого, давно покинутого берега…
Лицо молодой женщины, Бориной жены, матери его так и не рожденного ребенка.
То была первая наша так называемая производственно-творческая практика в селе Гремячем Воронежской области. Нас прикомандировали к районной газете «Путь к коммунизму» и оттуда распределили на полеводческие станы делать стенные газеты, листки, зарисовки и портреты передовых, карикатуры на отстающих. В свободное от «творческих занятий» время мы шустрили на разных мелких подсобных работах.
Жили мы очень славно: квартировали у глуховатой Аниски, вставали на зорьке, до обеда пеклись в поле; Борька чувствовал себя в деревне прекрасно и не хотел отсюда уезжать, да и нам было вовсе неплохо, пока не случилось маленькое происшествие, по сути дела смехотворное ЧП, чуть не обернувшееся серьезной неприятностью.
Оформляя стенгазету, мы нарисовали «сарж», как называл то наш бригадир, Петр Нилович Евдокимов, «сарж» на подсказанную жизнью, животрепещущую тему. Изобразили мы (работали в этом жанре все вместе, как Кукрыниксы) жалкого парня, нерешительно стоящего перед сломавшейся сенокосилкой.
Из рисунка было ясно, что он неумеха, не умеет обращаться с техникой. Вид у нашего героя был растерянный, несуразный.
Долго сочиняли мы и подпись: все лезли какие-то слабые, вялые названия, вроде «Недоросль с машиной», «Недотепа на току», и наконец, в восторге от собственной находчивости и афористической точности, мы сочинили стихи:
«Не позорь себя работой слабой, За машиной ухаживай, как за бабой!»Такой агитлисток и повесили.
Такой он и висел пару дней.
Одни, скользнув глазами, улыбались, другие читали с полным равнодушием, так как подобным агиткам значения не придавали, третьи вообще не читали. Висел себе плакатик и висел на полевом стане, постепенно желтея и пылясь.
И вдруг на тебе. Вызывают к председателю колхоза.
Мы уже были с ним знакомы. В первый день, когда оформлялись в колхозной конторе, нам сказали, что он хочет с нами познакомиться. Принял он нас очень приветливо, был внимателен, хоть и без нас дел у него было по горло, а мы для него — лишняя забота, если не обуза.
Но то ли интересовался искусством, то ли вообще был исключительно чуток к людям, но разговаривал долго: интересовался, как устроились, где поселились, посоветовал, в какие бригады поехать, заметил, что «молодые творческие силы найдут у него в хозяйстве безусловно полезное применение».
И вот вновь мы перед ним, в его кабинете. Он и сейчас вроде бы приветлив, интересуется нашим житьем-бытьем, нашей творческой работой. Но какая-то легкая тень все же пробежала по его широкоскулому красному лицу.
А на скрипучем, как разъезженный тарантас, диванчике, в углу кабинета, поерзывает какой-то товарищ, в кепочке, городского вида, с очень серьезным выражением разглядывает наш плакатик.
Затем, отложив его, он спрашивает, будто не знает, откуда мы, из какого вуза, с какого курса, просит показать командировочные удостоверения. Вид у него серьезный. И кажется, что нашему председателю как-то неловко, и не поймешь, за кого: не то за нас, не то за него.
Наконец откладывает он наши удостоверения, смотрит на нас внимательно и спрашивает:
— Кто же сочинил данный текст?
— Да мы все, — говорит Борька, — у нас все коллективно.
— Коллективно, значит, — говорит человек и делает какую-то пометку на бумажке.
— А что такое, — вступаю я, — что мы там особенного написали? Тема, можно сказать, из жизни.
— Из какой жизни, из чьей жизни? — повышает голос этот человек. — И что это за выражение… «как за бабой»? Видали вы: «как за бабой»! — Он смотрит на председателя. — Прямое неуважение к женщине, да и вообще ко всей нашей колхозной жизни. Сельхозтехнику сравнить с бабой. — Он перевел дыхание и, по-прежнему не глядя на нас,, произнес, повысив голос: — Вы из творческого вуза, а какой показываете людям пример? Тут вам не цирк. Я лично доложу об этом в районе, пусть в вашем институте разберутся с вашими художествами.
Председатель, помолчав, сказал, как бы подводя черту:
— В целом ребята помогают колхозникам, работают толково, районной газете помогают, но в данном случае немного не разобрались… Неопытные.
— Мы еще посмотрим, как они помогают. Следует проверить.
Казалось, все успокоилось, можно и уходить, но тут Борька встрял:
— Что же вы проверять-то будете?
— Да не собирается он, — успокаивая, сказал председатель. — Эко дело, чего там проверять. Просто поправили вас, вот и делайте выводы. Делайте новый плакат, с более понятным народу текстом. Так ведь, Егор Васильевич?.. Археологи тут тоже как-то нарисовали не то, что надо. Ну и что? Нарисовали, а потом перерисовали.
— Колхоз имени Ворошилова у нас в районе особый, — сказал, уже успокаиваясь, человек в кепке. Бледное, нездоровое лицо его порозовело. — О нем писали в Москве, в журнале «Огонек». Тут у нас народ силу слова понимает. С этой самой силой слова… надо, знаете ли… не такой у нас сейчас общественный момент, чтобы ерундой заниматься. Это еще здесь председатель либеральный. Другой бы…
— Ну ладно, ладно, Егорыч, сделал сообщение, будем считать, что ребята свободны, пусть продолжают творческую работу.
Мы попрощались и вышли.
Так повстречали мы первого в нашей жизни проработчика.
Еще месяц мы пробыли в колхозе имени Ворошилова, теперь наши рисунки шли без текстов; председатель, встречая нас, улыбался: мы сделали художественную диаграмму для его кабинета — дела шли на убыль, пора уезжать.
В последний вечер гуляли допоздна по селу, стараясь не спугнуть нашу хозяйку, вошли в хату, в лучике света поглядывала богородица, белело вышитое красным полотенце.
Хозяйка наша Аниска ворочалась, не спала. Молчаливая, угрюмая с виду, она относилась к нам по-матерински. Вставала она еще до зорьки, во тьме, старалась нас не будить, днем оставляла молоко.
Мужик ее бросил, ушел в соседнюю деревню — к другой женщине. Дети ее подросшие работали в городе.
Иногда он приходил, не давал нам спать, пьяно скребся, скулил, просил его пустить, но она не пускала. Лежала затаив дыхание, ни движения, ни шороха, будто и нет ее.
Он ругался, сначала ожесточенно, потом горестно, и уходил.
Она так тихо лежала, что не по себе становилось. Жива ли?
Я видел, что она и не лежит, а, согнувшись, сидит на кровати, опустив лицо, чуть покачивая поседевшей головой.
Над высокой кроватью висела их увеличенная свадебная фотография.
Она и Федор, еще в гимнастерке, год сорок шестой.
Когда мы уезжали, она достала домашнего вина, верно, настойка эта вишневая давно лежала в подвале, хорошее было вино, видно, ее Федор толково понимал в этом деле. Мы выпили по стаканчику и простились.
Мы уходили с пожитками своими к проселочной дороге ловить попутку и, оборачиваясь, видели, что она стоит у низкого плетня.
Далеко мы уже отошли, и все отдалялась высокая, плоская фигура, как бы плыла, чуть темнела в беспощадном дневном мареве. Один раз мне показалось, она подняла руку: то ли махнула на прощание, то ли перекрестила перед дальней дорогой.
Помнится, мы еще долго крутились по деревням, останавливались на денек, ночевали. Никому, конечно, не нужны были наши рисунки, а вот руки были нужны: собрать, потаскать сено… В этих воронежских деревнях, теплых, зажиточных, было нам привольно всем, не только Борьке, в деревне выросшему, но мне и Сашке.
Было у меня такое чувство, что я уже был здесь когда-то, что спал на этой прогретой за день соломе, сложившись вчетверо под тулупчиком или продранным, с торчащей ватой одеялом, что уже были эти рассветы, прохладные, розоватые, с острыми и теплыми запахами листвы, земли, жилья, с первыми человеческими голосами, с выпрыгивающими неизвестно откуда и скачущими над твоей головой курами.
Это странная вещь, ощущение давней знакомости жизни, которой ты не жил, впрочем, может быть, в сибирской деревне Ивановке, куда бабушка привезла после тяжкой болезни, в военные времена было что-то похожее. Помню, что меняла она отцовские вещи на молоко. И я, больной, пил его, парное, сладковатое, поначалу неприятное, потом привычное, необходимое, пьешь так, чтобы ни одной теплой капли не пролить, не потерять.
А может, и не давняя детская явь рождала это ощущение, а откуда-то из дальней прадедовской жизни были эта земля, запах тепло-кислой овчины, ветерок, идущий будто бы от листьев корявой липы, и сквозь их просвет все светлеющее, все поднимающееся вверх утреннее небо.
Каждое утро я просыпался с ощущением тайной надежды. На что? На то, что б у д е т, д о л ж н о б ы т ь что-то очень важное, единственное, меняющее всю жизнь.
А было ли что? Если вспомнить как следует, то, может, только и было существенного само это ожидание в каждом дне, с каждого первого проблеска света, включавшегося в жизнь сознания, с того мига, как ты ощущаешь себя ожившим, прозревшим.
И это, может быть, и было главным тогда — ожидание.
Вечерами, под водительством Борьки, мы шли на «мотания». Именно так назывались в тех краях танцы под гармошку.
Недавно только кончилась эпоха патефонов. Была эпоха радиол. Но эти гремящие радиолы с одной-двумя надоевшими пластинками вскоре смолкали, и напротив старенького клуба на вытоптанной площадке начинались «мотания». Парней было значительно меньше. Уходили в армию, в город. В основном пацанва лет пятнадцати — шестнадцати. Поэтому нам, приезжим залеткам, не было конкуренции.
Борька, приглядевшись, приглашал самую глазастенькую и самую лучшую. Потом уж мы вступали в дело.
Я помню красивую девушку Валю, она все время спрашивала, поглядывая на меня: «Вы так считаете?»
Не помню, что я уж там считал, только помню, что она была стройная, крепенькая, говорила врастяжку и не поймешь, где шутит, где всерьез.
И когда я поцеловал ее, она не вырывалась, не сопротивлялась, а только заметила: «Это вы со всеми так?»
— Нет, — удивился я. — Почему со всеми? — И тут же, дразня ее, добавил: — А может, и со всеми.
— А еще художник, — сказала она.
Допоздна мы ходили, она то робела, то смелела, я вел ее, слабо упиравшуюся, к реке, там на холодной земле обнимал, чувствуя все более прерывистое дыхание, удивительно свежие и податливые губы; но это не долго длилось: вырвалась она резко, неожиданно, побежала, я догнал ее, и уже молча мы шли позади двух понуро удлиняющихся теней.
До самого дома она не дала проводить. Посмотрела серьезно, даже сурово:
— Вы дак завтра отъедете, а нам тут жить.
Когда она догадалась, что именно завтра мы собираемся уезжать?
А уезжать не хотелось… Остаться бы здесь на день или на неделю. А может, на год. Навсегда.
Но надо ехать дальше, никакого «навсегда». Навсегда только прощание, вся жизнь — цепь маленьких прощаний, маленьких «навсегда».
И еще помню, как протянула она мне руку, как улыбнулась и вдруг, блеснув глазами, озоровато просияв лицом, спела чистым, сильным, сдерживаемым из-за позднего времени голосом, это была местная частушка:
Меня милый провожал, Провожал до мостика. А я милому сказала: «Ты — мартышка с хвостиком».Назавтра мы сели в попутный грузовик, бросили свои рюкзаки и покатили дальше.
И сколько раз я все-таки вспоминал эту девушку и думал, что вернусь в эту деревню, что как-нибудь, мимоходом, судьба забросит; не вернулся, не забросила. Ведь и ничего не осталось в этой деревне, ничего и не было, а так тянуло туда.
Но только слово «навсегда» осталось, видимо, точным.
Из Новых Лисок мы добрались до Ростова, там пожили два дня и оттуда решили рвануть на юг. До занятий еще оставался месяц.
Пассажирский поезд останавливался надолго, в Туапсе все выскочили и, торопливо суетясь, забыв даже снять майки, лезли в море.
Мне не хотелось так, я даже не выходил. Наша первая встреча с н и м должна быть другой, слишком долго я ее ждал, где-то я вычитал: «У того, кто впервые видит море, открывается половина души».
И потому, уже после приезда в Батуми, я дождался, пока мои друзья уснут в сырой комнатенке, столь непохожей на жилое помещение, в каменно-холодной, узенькой, как ниша в скале, с мокрицами и гигантскими тараканами. Комнатенка эта даже нас, готовых к любому неуюту, радостно принимавших неустроенность, любивших дух скитаний, легко плативших эту неосознанную плату молодости, — даже нас она изумила.
Они заснули, а я выскочил из комнатки, побежал узенькими улочками, мимо белых одноэтажных домов. Тогда еще немного было двухэтажных грузинских домов с внешней лестницей на второй этаж, с гаражами.
Домики той поры были крепкие, одноэтажные, не у многих домов стояли похожие на больших мышей «Победы». Все это я замечал мимоходом, новая реальность, чужая действительность удивляла, отпечатывалась в сознании, фиксировалась как бы механически.
Но главное, что я чувствовал, что вызывало сердцебиение, было приближающееся мощное дыхание чего-то огромного и живого.
Наконец я увидел е г о.
Штормило. Впрочем, «штормило» я подумал, — именно так следовало говорить и мыслить о море. У берега оно закипало, накатывалось, подползало к ногам. Поразили простор и запах. Зазывный и одновременно гибельный размах: войди — и останешься. И запах — солоноватый, поразительно свежий, дразнящий гортань и ноздри. И несовместимая с этим будничность почти пустого берега, несколько голых тел, какая-то пара, уснувшая двухспинным бутербродом, никто не купался, вяло загорали на уже вечернем солнце.
Потом, уже в институте на этюдах, мы писали пейзажи, маринистские этюдики.
Мастер говорил: пробуйте передать образ природы, не копируйте, пытайтесь донести до меня ее сущность, вспоминайте то, что видели, но рисуйте таким, каким почувствовали. Всякий раз море выходило у меня роковым, античеловеческим.
Если лес виделся чем-то слитным с человеком, то море готово было забрать человеческую жизнь, всегда, в любой момент, в его природе и красоте виделась мне гибельность.
Не знаю, с чего это у меня пошло, — с мальчишки, который купался в то лето вместе с нами каждый день и утонул? Через несколько дней его нашли и вытащили.
— Ну и что? — говорил мне мой Мастер. — Да, тонут и замерзают в лесу, в снегу, так что же — изображать снег враждебным человеку? Нельзя так воспринимать природу. Художник не может ее так видеть. Человек уничтожает человека, а природа не уничтожает, она берет к себе снова.
Пожалуй, я поверил ему, хотя позднее я видел, как природа уничтожает, видел вероломство не только моря, но и земной тверди, попав в ташкентское землетрясение.
После того лета бесконечно бился над морскими этюдами, пытаясь соединить лазурь и голубизну с трагедийным характером, пытаясь соединить одновременно гармонию и катастрофу.
Маринистика, даже классическая, казалась мне устаревшей.
Я видел всегда в ней эффект моря, а не тайный смысл его.
Я мог часами стоять около лесных пейзажей Констебля в Эрмитаже. Или около Левитана, или даже у немодного ныне Шишкина, но меня оставляли равнодушными гигантские феерии Айвазовского или лунные эффекты в чернильной тьме Куинджи.
И как всегда кажется в юности, я был убежден, что открою свое море, как открыл его сегодня, на этом пустынном берегу.
В сакле между тем мои друзья набривались, обрызгивали друг друга ядовитым цветочным одеколоном…
Первый наш вечер на южной земле уже темнел в окнах, уже трещал цикадами, уже обещал что-то неизъяснимо-прекрасное, о чем можно было только смутно догадываться.
Итак, почистившись и нагладившись, мы отправляемся в город, в большую вечернюю жизнь. Там и произошло то, что было выше описано, то есть ограбление и побег, а если говорить скромнее, то бегство из ресторана без оплаты счетов.
В Борьке странным образом уживались уважение к порядку, к закону, паническая боязнь штрафа, даже если заведомо контролера не должно было быть, с авантюризмом, с нежеланием приспосабливаться к каким бы то ни было несправедливым, по его мнению, законам и порядкам.
Так из протеста против официантского хамства он чуть не подвел нас под срок, под скромненький такой срок с заменой заключения исправительно-трудовыми работами по месту жительства. Тогда еще не было указа о мелком хулиганстве. И потому мелкое хулиганство наказывалось наряду с крупным хулиганством.
По его инициативе в то лето мы чуть не попали в историю гораздо более серьезную, чем мелкое ресторанное хулиганство. У нее впоследствии было даже название, придуманное Сашкой, «натюрморт из жизни помидор». Название веселенькое, но история совсем другая.
Недалеко от нашей сакли жил старик Арчил. Он был сапожник, как и большинство айсоров. Инвалид войны, одноглазый, он говорил нам, что временно работает один, а раньше работал с сыном.
Мы никогда не видели этого сына. С фотографий в картонных, аккуратно расклеенных в комнате Арчила рамках глядело улыбающееся, темноглазое лицо кудрявого отрока.
Отрок с учительницей в толпе таких же темненьких, хорошеньких, с любопытством глядящих на аппарат, как бы замерших в предчувствии «птички», что сейчас вылетит из его черного нутра в разрыве магниевой вспышки.
С удивительной нежностью и гордостью, почти с восторгом, будто сам впервые видит или забыл и вот снова вспомнил, щуря глаза от счастья этих воспоминаний, Арчил показывал, точно экскурсовод в музее.
— Вот поглядите — это в третьем классе… А это в пятом. Видите, какой? А это с папой и мамой в Батуми.
Ангелоподобный отрок, только с черными кудрями, на берегу моря, у белого павильона, меж молодым Арчилом с его пиратской повязкой на лице и мамой в светлом платье, горестно опустившей глаза.
Отчего она так печальна, счастливая мать? Может, догадывается, что это последняя фотография, что вскоре неизвестно откуда нагрянет, нападет темная, неизлечимая болезнь и она тихо, незаметно выйдет из квадратика фотографии, оставив навсегда вдвоем мужа и сына.
В большинстве грузинских, абхазских, айсорских семей трое, четверо, а то и больше ребят, а здесь — единственный Артем. Вот почему, наверное, так молодо блестел и оживлялся уставший от жизни, всегда работающий с двойной нагрузкой карий глаз Арчила.
Он угощал нас чачей, мы, кривясь, обжигаясь, пили ее, незаметно и счастливо хмелея, только в юности так счастливо хмелеют. Мы гасили огонь этого зелья огромными, лопающимися от зрелости, от избытка плоти, мякоти и сока помидорами. Мы пили, закусывали и слушали бесконечные рассказы Арчила о детстве, юности, отрочестве Артема.
О теперешней жизни Артема Арчил говорил почему-то редко и неохотно и всегда по-разному. То Артем находился в Рустави, трудясь в огненных цехах металлургического завода, то неожиданно перекочевывал на строительство железной дороги в Сибирь, то учился в вузе в Ереване, то вставал на вахту вместе с ткварчельскими горняками, то вообще исчезал неизвестно в какие края, а может быть, даже и в заоблачные выси, откуда и писем никаких не приходит, как бы растворялся в вечернем, сгущенном воздухе, обретая свойство миража.
Идеальный мальчик Артем, печаль и гордость ушедшей в лучший мир матери, радость и надежда еще привязанного к этой земле Арчила, был единственной и главной темой разговора.
Глухо говорил Арчил, пил не пьянея; узнав, что мы учимся в художественном вузе, он неожиданно обрадовался, стал взад-вперед ходить по комнате, таинственно поблескивая лукавым глазом.
И вдруг неожиданно, откуда-то из-за шкапа достал несколько запыленных холстов.
Натюрморты, с помидорами и луком, с баклажанами, тыквами, помидорами и огурцами. Во всех натюрмортах неизменно присутствовали помидоры.
Оглушенные чачей, слегка обалдевшие от рассказов о житии святого Артема, мы смотрели на это пиршество овощей, затаив смешок.
Борька первый очнулся и крикнул:
— Вы посмотрите сюда — на эту кровь.
И действительно, алые помидоры словно бы исходили живой кровью; если всмотреться внимательно, то они походили и не походили на настоящие, со странными, неровными дольками, с обрывком зеленой завязи, — не рыночные, не огородные, не театральные с гипсовой тяжестью муляжа, не из раздела «томатов», — из совершенно иной сферы, области, может быть, из поднебесных видений, маленькие солнца, неожиданно принявшие облик земных помидоров.
Да и остальное, изображенное этой кистью, тоже, если вглядеться, удивляло фантазией. Длинные огурцы плыли на блюде, как аэростаты. Иногда светящиеся и розоватые, чаще же всего — обжигающие колющей изумрудной бородавчатой кожурой.
— Да это же… черт-те что, — восхищенно бормотал Борька. — Я такого еще нигде не видел… Как это так получается, как это можно, а, дядя Арчил?
— Ай, так, баловство, — скрывая удовлетворение, говорил Арчил, стирал рукавом пиджака пыль со своих картин. — Таскал на базар, туда-сюда, продавал по трешнику… Люди говорят: «Что за помидор, это не похож на помидор, зачем такой помидор неправильный?» А я им тоже говорю: «Зачем вам такой помидор?» Он взял со стола настоящий помидор и поднес к нашим глазам. — Зачем такой помидор рисовать — такой кушать надо, а рисовать такой не надо. Жена покойная ругала: «Зачем малюешь, время тратишь? Лучше к Артему в школу сходи, опять учительница беспокоится — непорядок там». Да, — затих старик Арчил и, помолчав, добавил: — Для себя рисовал, понимаешь, не на рынок рисовал… Что мне их трешка-мрешка? Для себя… Да только что толку. — Он досадливо махнул рукой.
Вскоре после этого он куда-то уехал. Вернулся дней через десять, осунувшийся, постаревший, словно все эти дни, что был в отсутствии, тяжело болел. Был он хмур, озабочен, в гости нас не приглашал, да и на работу почти не ходил — пустая стояла его будочка на углу Беследского шоссе.
Однажды он позвал Борьку, одного, без нас.
И Борька подолгу стал пропадать у него, приходил поздно, трезвый и вялый.
Через несколько дней Борька обратился ко мне, именно ко мне, а не к Сашке. Сашка у нас считался самым правильным, и потому, возможно, Борька не стал искушать его.
— Хочешь деньги заработать? Приходи к Арчилу. Артель составим, да и не в деньгах даже дело, полезно руку поупражнять, ремесло отработать.
Днем я зашел в комнату Арчила, Арчил и Борька работали. Работали деловито, молча, быстро.
Я посмотрел на их труды с удивлением: куда девались эти багровые, царственные, сияющие, просвеченные изнутри живой кровью плоды? На холстах были намалеваны пестрые рыночные натюрморты: цветы, груши и яблоки, кувшины с вином — химическое картонное изобилие.
— Зачем? — спросил я.
Не оборачиваясь, Арчил бросил с раздражением:
— Зачем — затем. Не хочешь — иди. — И добавил уже тише, умиротвореннее: — Деньги нужны.
Хозяйка наша была грузинка, повар на турбазе, иногда от казенных щедрот доставались туристские котлеты, туристские каши. Мы были вечно голодны, как вечно зелена растительность субтропиков.
Она была грузинка какого-то русского посола — разбитная, курила, говорила по-русски почти без акцента. Она любила нас за то, что мы ровесники ее дочери, а поскольку дочери, Норы, не было сейчас с ней, неутоленная жажда материнства выражалась в том, чтобы жалеть и опекать кого-то.
Нору мы ни разу не видели, но знали ее на всех этапах формирования. Южане особенно любят показывать фотографии детей, особенно гордятся детьми, вот и показывала нам Беата, так же как и дядя Арчил своего Артема, дочь Нору в школе, на каникулах, в пионерском хоре.
Два-три раза мелькнула фотография стриженого человека — отца Норы, однажды наша хозяйка рассказала, что он немец, — политэмигрант, приехал в Россию еще до войны и всю войну провел здесь.
Где он сейчас, мы не спрашивали, может быть, строил новую жизнь в ГДР, а может, был еще где-нибудь.
Мир чужих фотографий ничего не открывал. В нем одновременно соединялись загадочность и обыденность. Навсегда ставшие картонками, бессловесно глядели оставшиеся где-то позади, в другой жизни лица, а Нора спорхнула с картонки и появилась.
Вечером хозяйка устроила пир.
Куски баранины мерно жарились на мангале, источая душный, острый запах, огурцы с помидорами были достойны арчиловских натюрмортов, свет в каменном дворике был уютен, красен, и все возбужденно занимались приготовлениями, ходили, носили, передавали и давали советы.
Сама Нора — центр внимания — установила с нами простецкие отношения, отношения с жильцами, соседями, чуть приправленные долей прирожденного, сдержанного кокетства.
Не знаю отчего, но каждый ее жест, каждое ее движение, хозяйской дочки, признанной красавицы, с едва уловимым восточным ароматом, отталкивали меня. В самой этой красоте, как ни странно, вполне совпадавшей с оценками матери, уже угадывалось множество свойств, трудных для равного общения. Мне казалось, она носит себя: поворот головы на тоненькой обнаженной шее, округлые движения крепких загорелых рук, низкий голос, медленный грудной говор, как бы уклоняющийся от встречи, мимо тебя скользящий быстрый взгляд серых глаз, — все это заведомо притягивающее, осознанное ею, может быть, скорее отталкивало, становилось препятствием к искреннему, естественному общению. И я сознательно вышел из зоны ее притяжения, из игры, хотя никакая «игра» еще и не думала начинаться.
Впрочем, в ту пору жизни появление любой девушки, а тем более такой хорошенькой, а может, и по-настоящему красивой, обещало что-то именно не плоское, не плотское, а большее, здесь слово «игру» можно было заменить на «судьбу».
Итак, все озабоченно носились, только два человека казались спокойными и невозмутимыми: сама виновница торжества Нора и Борька.
Однажды я столкнулся с Норой, колдовавшей над мангалом, движением профессионального духанщика она разгоняла дым и вдруг улыбнулась. Улыбка показалась мне вопрошающей и несколько беззащитной. Я прочитал примерно вот что: «Да, я вот здесь, у себя дома, в честь моего приезда жарится шашлык… А вы кто? Случайные жильцы? Непрошеные ухажеры? Чего мне ждать от вас?»
Ибо ясно, ждать надо, потому что если т а к а я она приехала и такие трое шакалов слоняются по двору с видом якобы безразличным и вместе с тем почти услужливым, а сами сбоку поглядывают на нее, и каждый уже мысленно отталкивает другого, то ясно — ж д а т ь, ждать чего-то.
Да и вся жизнь — ожидание, может быть, в ожидании — ее главный смысл.
Но я ведь не участвовал в этой игре, я уже заранее отстранился, пропустив вперед себя своих друзей, в первую очередь Борьку, стоявшего сейчас с напрягшимися скулами, с потемневшими, горящими глазами, зачарованно глядящими на нее.
Чего же ждал? Слова ли какого, жеста, может, случайно сорванного в миг всемирной доброты и нежности поцелуя, чего-то еще, еще более влекущего, важного, в том возрасте, в том вечере, в том звоне и верещании цикад, похожем на звуки ночного радиоэфира, мировой надстройки перед готовящимся вылупиться словом.
Все это были лишь частные ожидания, его составные, вливавшиеся в океан Главного ожидания.
Что за мистика, какое Главное ожидание? Оно и составлялось из каждого солнечного мига юной жизни, из душного вечера, так и не кончившегося дождем; каждое просыпание, первый биоток пробудившегося сознания, вступление в день, — все это и было ожидание.
Так чего же, в конце концов? Счастья? Нет, это слово мне неизвестно, не любимо мною никогда, оно выплывает синей тушью на ватмане из гомона тематического утренника, где взрослые в зале будут, покашливая, объяснять, какое оно и в чем заключается.
«Счастье» пищало детскими девчоночьими голосами, задавая вопросы радиотете, радиотетя отвечала цитатой из крупного ученого, а я ждал и не дождался, когда кончится диспут о счастье.
Мне объяснили тогда, в чем оно, говорили с полной осведомленностью, а для меня оно было в том, что я, больной, лежал на диване, освобожденный от школьных занятий, с просветленной от таблеток наркотической головой, и видел некий образ, одновременно реальный и бесплотный, образ женщины, возможно, с лицом вот этой Норы, с шелковыми ногами учительницы пения, с душой неведомой, непознанной, но уже летящей в мировых безднах к моей душе.
Постоянная влюбленность в никого.
Вечное ожидание.
Даже и сейчас, даже и сегодня. Всегда.
И потому разве в Норе было дело? Но вернемся именно к ней, к тому вечеру.
Итак, шашлык уже готов, дым рассеялся, напрягшийся Борис, меланхолический Сашка, отстранившийся от соревнования я.
Почему-то я знал, что обречен на поражение, я даже сам не понимал почему. Я был не робкого десятка, язык был подвешен недурно, я был более светский, чем Борька, понаторевший в школьных вечеринках с танцульками под звуки джаза. Хотя я был не первостатейный танцор (лучше всего я танцевал сам с собой, и пел я лучше всего в одиночестве, особенно в вагоне поезда), но и с партнерами не ударял лицом в грязь и примерно представлял себе эту первоначальную азбуку кадрежа со всеми его ухватками.
Но я чувствовал, что сегодня я проиграю Борьке, потому что в нем была решимость, которой не было во мне. Она смутно проглядывала, я ощущал ее. Он уже что-то решил для себя. А я был обидчив и раним, и если мне казалось, она не слушает, не воспринимает, что-то еще «не», то я был готов легко отступить. Я плохо воспринимал поражения, даже самые малые. Они оглушали меня, отбивали веру в собственные силы.
Борька же нет, наоборот. Как танк, через ухабины, рытвины, на вражеский дот, чтобы подавить его своей огневой мощью.
Конечно, это образно — танк. Суть танка. А обличье, наоборот, — скромное, глаза васильковые, подход осторожный, даже робкий, говорок неторопливый, окающий, приятный. Никакой не танк, а божья коровка.
Впрочем, бывало, и он обижался, неизвестно из-за чего. Из-за неведомого, непонятного другим укольчика.
В наших студенческих компаниях он был то самым молчаливым, в буквальном смысле слова не произносил ни слова, то умел привлечь к себе внимание компании. И тогда он пел, и не какие-нибудь полублатные песенки, как мы все, испорченные городские романсы, а что-то свежее, никогда нами не слышанное, с наивными и удивительными словами.
Но это было на наших студенческих посиделках в общежитии.
А сейчас мы были в новой обстановке, в чужом доме, на чужой земле, с девушкой Норой и ее мамой…
Тяжелое ковровое небо просторно лежало над нами, прорезанное огромными до небывалости звездами, то рвалось, то ухало невдалеке море, мощно вибрировала радиола: «О, голубка моя» и «Мишка, Мишка, где твоя улыбка»… Шашлык дурманно пах бараньим молодым мясом, и даже свет лампы во дворике, раскачивающийся, струистый, давал ощущение какого-то чужеземного патио, нездешней жизни.
Нора рассказывала, как она сдавала экзамены в театральный вуз.
— О, я так старалась, — гортанно говорила она, — я читала отрывок из «Витязя в тигровой шкуре», читала стихи Тихонова, Симонова. Потом один из жюри сказал: «Изобразите получение письма», Я не поняла сначала, какого письма. Он пояснил: «Письма с важным поручением». И я стала изображать.
— И как же ты это делала? — с удивлением спросила мать.
— Ну не буду же я сейчас, — потупив глаза, скромно сказала Нора.
— Да и вообще это трудно, — подержал ее Борька. — Вот бы нам так сказали: «Изобрази эту грушу».
— Ну и что, и изобразишь, если скажут, — угрюмо сказал я.
— Нет, ни за что, так это не делается.
— Конечно, «пока божественный глагол…» — вторил ему Сашка.
— Вы погодите, ребята, а дальше что было? — спрашивала мать.
— А потом басня.
— И ты что?
— Ну, я и прочитала современную басню Михалкова.
— Ну, а он?
— Говорит, неточен характер.
— Кого же?
— Бобра, про бобра седого читала. Ну того, который с молодыми девушками.
— Ну и что?
— Не понравилось ему. Говорит, не понимаете вы характер бобра. Неясен вам этот характер. Вы еще слишком молоды, чтоб это постичь. Нужно знать жизнь. А репертуар надо выбирать по себе. Актер, он и бобер, он и лиса, он и Катерина из «Грозы», он и Платон Кречет… А вы школьница, десятиклассница, и вы еще не почувствовали чужую, взрослую жизнь бобра.
— Ну и долдон, — сказал Борька. — У нас тоже такие есть.
Глаза ее блеснули влажно, казалось, обида глядит на них, обида на тех, не понявших ее дар, издевавшихся над ней. И мы все дружно поддакнули этой обиде: «Да, да, бывают же такие, и ведь всюду».
Но она продолжала свой рассказ.
— А другой говорит мне: «Теперь прочитайте про любовь». — «Классику или современное?» — «Современное лучше». Ну, я Щипачева прочитала. Знаете Щипачева? «Любовью дорожить умейте» и прочее. И тогда другой педагог говорит: «А вы любви этой, то есть щипачевской, не понимаете. Не пережили вы ее, а раз не пережито, значит, нет искусства». Итог: в бобра я не перевоплотилась, любовь щипачевскую не пережила. Что же мне делать?
И она вновь посмотрела на нас как бы с недоумением, словно мы знали ответ.
Усмешка скривила ее губы. Не было понятно, печалится она или издевается над нами или над собой. К своему поражению она относилась и с огорчением, и с юмором, и было ясно, что у этой девочки есть какая-то своя, скрытая точка зрения на все с ней происходящее. Было трудно определить ту черту, где смех у нее переходит в слезы и наоборот.
Поэтому я и решил про себя, что они там, в театральной студии, чего-то недопоняли насчет отсутствия у нее дара перевоплощения.
Шашлык созрел, хозяйка и Борис уже стаскивали, сваливали в кастрюлю обвившиеся вокруг железного раскаленного ствола шампура тугие, пахучие куски мяса. И наконец все примолкли и дружно навалились на шашлык. Он был действительно волшебен, не для неприхотливых туристов, без дела шатающихся по горам, трудилась хозяйка, а для себя. Мы запивали его молодым, обманно слабым, но бьющим в ноги вином.
Мы не привыкли к такому вину.
Мы в полном смысле слова балдели, теряли ощущение реальности, впадали в состояние блаженства. Казалось, это вино можно пить без конца. Я впервые почувствовал вкус настоящего сухого вина, в сущности, я любил лишь сладкое вино, типа московских портвейнов, «Трех семерок». Я еще не потерял вкуса детства, в детстве мы любим сладкое, потом постигаем вкус кислого и горького… Говорят, старики вновь любят сладкое.
Я вспоминаю, как Борька, уже потом, мне сказал: «Ты одаренный художник, но ты не будешь великим». — «Почему?» — «Потому что ты не можешь напиться».
Мне показалось это тогда дурной шуткой, потом позднее я задумался над его словами и понял, что он имел в виду, видимо, идти до конца, идти до беспредельности.
«Беспредельность» — это было его любимое слово. Он считал, что я слишком разумен; может, поэтому и не пью, что во мне живет все время желание уберечь себя, что оно делает меня половинчатым. Он выше всего ценил способность к беспредельности. Пусть она даже погубит, может погубить, но дает миг подлинной свободы от всех и от собственного инстинкта самосохранения.
Краткий миг независимости, иногда приносящий прозрение…
Заглохшая было радиола вновь ожила, засветилась красная лампочка, и тоненькие пленочки, словно горючее, подняли костер, заполыхали на всю округу. На этих гнущихся, сырых пленках были записаны новейшие роки.
Сколько боролись с этим музыкальным наваждением и в печати и на собраниях, сколько карикатур появилось и фельетонов, как обличались узкие брючки и тарзаньи прически… В школе проходили мы бальные танцы: падекатр, падепатинер, падеграс и еще какие-то «паде». Дефилировали по школьному залу за ручку, словно по дворцовому паркету, а вечерами, в домашних компаниях, яростно плясали роки. Их взрывной гул перекрыл тихое бальное журчание неспешных и старательных танцев, разучиваемых под руководством специального педагога.
Точно так же позднее боролись с твистом, не пускали его на танцплощадки, в школьные, студенческие залы, высмеивали, обличали, а он сотрясал своим одновременно притягательным и несколько назойливым ритмом молодые, извивающиеся тела.
А сейчас тихую местность оглушали старые блюзы, новомодные рок-н-роллы, струился свет волшебного фонаря и появилась возможность перехватить инициативу. Борька не был мастаком по части современных танцев. Площадка была пуста. И я пригласил Нору.
Начали мы вяловато, приглядываясь друг к другу, приспосабливаясь к движениям другого. Мы только одни танцевали на всеобщем обозрении, будто на сцене, я так и чувствовал на своей спине иронические глаза друзей.
Звонко стучали туфли о каменный пол двора. Я прибавил газу, она ответила тем же. Осмелев, я яростно бросил ее на себя, как полагалось в роке, и закрутил, так что она вертелась волчком. Получалось у нас все лучше и лучше, но вот запас тоненьких пленочек исчерпался и пошла другая музыка: грузинские и армянские танцы. Они были словно родные для Норы, с такой плавностью она входила в этот медлительный поток, так хорошо подбоченивалась, так свободно и легко, раскинув руки, плыла по этой реке.
Так я не умел. Вертеть, бросать, крутиться и закручивать — пожалуйста, это на московских вечеринках было отработано, а плавно плыть по чужим рекам, закинув голову как лебедь — это…
Я пытался что-то сымпровизировать, уловить ритм незнакомой мелодии, но движения мои были вульгарны, резки рядом с легкой, природной пластикой этой девчонки. В конце концов я отошел в сторону, и она танцевала одна, все более входя в роль, становясь застенчивой и одновременно неотразимой тоненькой горянкой.
Мать курила и с гордостью смотрела на нее, иной раз, не сдерживая восхищения, звонко ударяла ладонями.
Она пила незаметно, втихомолку, то говорила громким голосом, стараясь перекрыть музыку, то хмельно замолкала, мрачнела… Может, об отце вспоминала, может, еще о чем, разве было нам понять немолодую одинокую женщину, мать красивой восемнадцатилетней дочери.
Неожиданно зашел Арчил. Хозяйка усадила его, налила ему вина. Он произнес несколько слов, выпил, потом посидел еще минут десять, заметно мрачный, диковато-недоверчиво оглядывающийся, будто был среди чужих, враждебных людей и ждал какой-то подлости.
Нора была очень ласкова с ним, называла «дядей Арчилом», говорила, что мечтает с ним станцевать лезгинку.
Но он только качал головой. Этот словоохотливый человек был сегодня неразговорчив. И ушел он тихо, без шума, мы и не заметили, как он ушел.
— Какой несчастный человек, — сказала хозяйка.
Я, помню, подумал: «Почему? Почему он несчастный? Ведь рисует так хорошо и у него такой прекрасный сын…» Но не стал спрашивать, выяснять. До старика ли было в тот вечер?
Наше соперничество с Борькой было еле заметно, скрыто. Шло оно полосами. Я набрал очков в танцах, а теперь терял их в разговоре. Каждое слово, шутка, улыбка легко и свободно входили в зону ее внимания и тут же получали ответ. Я же старательно посылал свои сигналы, но словно бы чужие станции забивали их, и зона становилась все более непроходимой для меня.
Уже изрядно опьянев, мы пошли к морю по темным, перекопанным улочкам, под нарастающий грохот и рев августовских цикад. Этот рев только подчеркивал тишину, он сливался с приближающимся равномерным плеском моря, и человеческие голоса на этом фоне, возбужденные, смеющиеся, казались лишними, чужеродными.
Решили купаться. Смельчак Борька полез первым.
Сверкнула белая спина, замелькали длинные, до колен, трусы. Я еще не знал, полезу в воду или нет. Смотрел в море, вслед Борьке, но боковым зрением видел, как раздевается Нора, вот парашютиком упал на гальку ее сарафан. Я слышал шуршание ее белья, она тоже не собиралась, видно, купаться и была не в купальнике, так и пошла, в трусиках и лифчике, белевших в чернильной тьме. Тоненькая, провалившаяся вдруг во тьме фигурка. Я бросился в воду, стараясь ее догнать, все время слыша впереди всплеск и ощущая, что она отдаляется, отдаляется быстро, я нажимал, но звук все больше обгонял меня, мне было не догнать.
Потом я услышал уже более сильный всплеск, двойной, слаженный, и смех, голоса Норы и Борьки вдалеке.
Догнать я их не мог, да и не хотел.
На берегу тихо сидели Сашка и хозяйка. Он был простужен и купаться не решился, она, казалось, дремала. И, одевшись, влажной кожей чувствуя холодок, я пошел босиком по гальке, очень крупной и острой, по земле, не приспособленной для ходьбы.
Что я испытывал тогда? Едва ли боль, я и не знал по-настоящему, что это такое, скорее всего обиду, кислый привкус поражения и неудачи. Именно гордыня мучила, а не ощущение какой бы то ни было потери. Вот, казалось, я иду первый, но, как всегда, что-то должно произойти, чтобы первым я все-таки не пришел. Но все равно мне было хорошо. Может быть, от обиды еще лучше, еще острее я чувствовал холодок земли, скрип гальки, бурно дышащую, осыпающую брызгами бездну…
Я вижу море и не знаю, как его написать, — оно слишком прекрасно, в нем самом скрыта такая сила настроения, что писать его таким, как я сейчас вижу, нельзя; оно неохватно, и у меня нет сил, умения, это будет лишь слабая фотография, жалкое воспроизведение.
Лунные светоэффекты Куинджи, валы Айвазовского передают его красоту, его мощь, его тепло, его гармонию. А как же передать эту громадность, эту безразличную к человеку массу, готовую его мгновенно проглотить или выплюнуть, если он не умеет приспособиться к ней.
А как нарисовать женщину, идущую в море?
Вставали дейнековские физкультурницы, крепко сбитые, полные оптимизма купальщицы, воплощение душевного здоровья и силы.
Они нравились мне, но мне хотелось бы нарисовать другое. Что? Я чувствовал, но не знал.
Обида, одиночество… Ерунда. Это как раз забудется, пройдет.
Другое важней… То, как во тьме, в кипящее, бурливое пространство, как бы светясь в этой тьме, бесстрашно входит девушка. Надо передать ее незащищенность, малость перед этой огромностью, перед стихией и способность укрощать, приспосабливать, подчинять.
Вот что надо передать. Но как это сделать? Теперь я стал думать об этом… Мне показалось, что я вижу способ, как это сделать, и я успокоился.
Теперь мне как бы было неважно, я или Борька, Борька или я, поражение перестало существовать, перестало раздражать душу. Другое теперь, в сто крат более важное, поднимало и отстраняло все остальное.
Я пошел домой. Хозяйка уже вернулась. Сашка лежал, ворочался. Только Борьки и Норы не было.
Я пошел погулять. Спать не хотелось. Казалось, земля сотрясается от храпа, от сонного дыхания курортников, заполнивших каждый метр более или менее приспособленной к жизни площади, не то чтобы комнату, любой сарайчик.
Лишь в окне у дяди Арчила ярко, слепя глаза, горел огонь.
«Почему он не спит, ведь так поздно, может быть, работает», — подумал я.
Окно было приоткрыто, я тихо окликнул его, ответа не было.
Я еще раз позвал дядю Арчила. Ни движения в ответ, ни шороха, ни звука. Я постучал в дверь. Никто не ответил. Тогда я вновь подошел к окну.
— Дядя Арчил! Дядя Арчил!
Из комнаты странно пахло, будто что-то сожгли. Может, у него сгорели его картины, эти прекрасные неправдоподобные помидоры, или безвкусные натюрморты для рыночной продажи?
Я залез на подоконник и спрыгнул в комнату.
В комнате, в странно изогнутой позе, свесив руки с дивана, будто хотел что-то достать с полу и не дотянулся, лежал дядя Арчил.
Потухший взгляд открыт, неподвижно уперт в белый потолок.
— Дядя Арчил, дядя Арчил, — кричал я без голоса и боялся подойти.
Он не отвечал, нелепо свесившийся, лишившийся голоса, движения, цвета.
— Убили, убили.
Через минуту я ворвался в дом, разбудил хозяйку, ничего не мог объяснить, бормотал, задыхаясь.
— Кого? — спросонья сердито, даже раздраженно спрашивала она.
— Дядю Арчила.
Теперь мы бежали с ней вместе. Она остановилась на пороге и крикнула, всплеснув руками:
— Ты что, не видишь? Не видишь?!
— Что? Что? — спрашивал с какой-то дикой надеждой, может быть, она видит то, чего я не вижу, может быть, она видит его ж и в ы м.
— Это Артем… сделал. Артем ему сердце расколол. Ты ничего не понимаешь, — кричала она.
— Я не понимаю, не понимаю, — бормотал я.
Я не понимал, при чем здесь Артем. Я ничего не понимал.
Мимо каменных грузинских домиков с погашенными окнами мы бежали к милиции. Около милиции в полукруге света сидели двое рослых сержантов: ели сулугуни, запивали молоком. На скамейке стоял приемник, комментатор сообщал результаты последних футбольных матчей на первенство страны. Милиционеры слушали очень внимательно. Когда мы появились, у них сделались недовольные лица, мы отвлекли их: «…тбилисское «Динамо» победило минских одноклубников: два один…», — они поцокали языками, довольно покачали головами, подняли кружки с молоком и чокнулись.
— Ну и что там? — спросил один из сержантов. — Вечно вам не спится. Подрался кто? Сдают черт-те кому…
— Нет, нет, — перебила хозяйка. — С дядей Арчилом…
— Ну и что с дядей Арчилом? — поморщился милиционер. — Ты дело говори. Зачем здесь плакать? Дома плачь. А нам дело говори.
— Дядя Арчил умер внезапно.
У обоих вытянулись лица.
Они не стали спрашивать адрес, здесь все знали друг друга.
Один побежал в помещение, чтобы звонить в больницу, другой уже оседлывал мотоцикл.
Мотоцикл, нагреваясь, гудел и дрожал, вот-вот сам сорвется и полетит.
Мы сели, хозяйка в коляску, я сзади. И мы помчались. Что-то подобное движению микротел в микроскопе кружилось и распадалось в резком свете фар. Это распадающееся, вспугнутое и было единственным сигналом тревоги, ее следом в уснувшем, неколебимо спокойном мире.
Никто не знал, что в комнате лежит человек; все живые были отделены от него и от тайны его смерти.
Вот что поразило тогда меня больше всего. Тишина, разорванная цикадами, теплая влажность ночи, всеобщий покой и то, что через несколько секунд неотвратимо сменит это и ворвется в нашу жизнь.
И кто бы мог сказать, Что жить им так немного, Немолчный звон цикад.Это позднее я прочитал в японском трехстишии Хокку.
Провожало Арчила много людей: грузин, русских, абхазцев, армян, айсоров. Вроде бы и не сапожник умер, а большой, важный человек. Тихо журчала разноязыкая речь, шла к местному кладбищу густая, разнородная толпа.
Потом говорили речи по-русски, по-грузински. Музыка точно вскрывала душу.
Нора плакала навзрыд, не сдерживая себя, она не знала так уж близко Арчила, но она оплакивала человеческую гибель.
Говорили о том, какой был дядя Арчил, какой хороший художник, как он любил сына.
А я уже знал правду. Хозяйка рассказала. Артем, его единственный сын, попал в лагерь за попытку ограбления, по сути дела, это была не попытка ограбления, а бессмысленное хулиганство. С группой таких же восемнадцатилетних подошел к человеку, попросил сигаретку, тот не дал, тогда они, пьяные, избили его, сняли часы, потом, как выяснилось, выкинули. Зачем им часы? Они искали приключения, вот и нашли. А часы им не нужны, такие даже тогда не носили — старенькая, первого выпуска «Победа».
Ему дали небольшой срок, срок подходил к концу, и тут с какими-то старшими, матерыми он попытался убежать из лагеря и получил гораздо более серьезный срок.
Вот тогда и поехал Арчил в те края, пытался упросить начальство, но ничего не мог добиться, закон есть закон.
Артема с детства все считали дурным, непутевым.
Но что делать, если больше всего на свете он любил своего непутевого Артема?
Он жил бедно, скромно. Вот и зарабатывал иногда продажей картин. Только что на них можно заработать, а лучшие его картины так и остались в пыли, за шкафом. Кто-то говорил, что надо выставку устроить… Да кто здесь будет устраивать, кто в этом селении понимает в живописи?
Негде было даже устроить поминки. Тогда все собрались вскладчину, и вновь, мы сошлись за тем же столом хозяйки во дворе.
Говорили длинно, подробно рассказывали о нем, все хвалили его как отца, а сына почти не упоминали, не упоминали, кто сын, где сын… Как и при жизни Арчила, сына-преступника не могло быть. А просто жили на свете прекрасный отец и неизвестный сын. Вот и все.
Люди постепенно забывали о том, что именно собрало их за этим столом, говорили все громче, пили все больше, ели все смачнее. И, казалось, начали забывать об Арчиле, о том, что он вообще когда-то жил на этой земле. Уже и тамаду не слушали. Тамада, дальний родственник Арчила, вел стол неумело, корабль застолья качался, зарывался носом в волны.
Рядом со мной сидела Нора, вначале я вообще не думал о ней, забыл, думал только об Арчиле, о его сыне, о его смерти. А теперь горький, то расширяющийся, то сужающийся комок в глотке, запиравший дыхание, начал рассасываться — вино рассосало его, так рассасывает полоскание болезненный комок ангины.
А она молчала, ни слова не проронила за весь вечер. Она была еще т а м, ближе к Арчилу, чем к нам, ее скорбь, не выветрившаяся так быстро, как у меня, как у них, словно отделяла ее от окружающих живущих людей.
Борька же словно старался напиться. Пил не вино, а водку. Я видел, как он вливает, вбивает в глотку залпом, стаканом.
Неожиданно он попросил слова у тамады. Тамада сначала не слышал, но Борька снова и снова настойчиво требовал слова. Наконец дали.
У него сделалось обиженное, бледное лицо. Выпятив грудь, резко, горловым каким-то голосом он проговорил:
— Я недавно знаю дядю Арчила. Но я хочу сказать, о чем здесь мало говорилось. Вот тут упомянули, что он художник, но говорили вскользь, больше какой он сапожник, какой он отец, это все, конечно, хорошо. Но главное-то вы забыли. Вы забыли, к т о он был. — Борька с вызовом обвел глазами стол. — Вы думаете, так это все, малевал дурацкие помидоры, огурцы… Нет, уж извините. Это образ… земли. Да, земли, — еще раз с тем же вызовом повторил он. — Она дает, она и забирает. Он был художник. Борька снова обвел всех глазами и добавил: — Великий художник.
Все притихли. Возможно, переваривали его слова. Известно, что всерьез никто его художником здесь не считал. Картинки его брали так, по дешевке, скорее из симпатии, и платили соответственно. Разве так платят за картины настоящим художникам?
Но никто не стал спорить и поправлять. На поминках вообще не спорят.
Здесь каждый имеет право на преувеличение.
С бородкой, тогда вовсе не по моде, в венце длинных, завивающихся, заметно седеющих к затылку волос, взошел на кафедру мастерства Юрий Иванович Цесарский. Взошел и обвел нас всех внимательным, до каждого доходящим взглядом, проникающим сквозь толстые старомодные линзы выработанных для сильной близорукости очков.
Кто был он? Зачем он пришел сюда? Ведь у нас был Мастер, один решавший наши художественные судьбы… Но Мастер наш часто уезжал, иногда вообще отключался от общения с учениками, у него было много своей работы, своя, отдельная от нас и непростая жизнь, и потому в усиление постоянных, ежедневных занятий в помощь Мастеру был придан новый педагог, сразу же получивший кличку «Цезарь» — то ли по контрасту, то ли по дальнему сходству фамилий.
Известно о Цесарском было немного. Кончил наш же вуз, сначала занимался графикой, преимущественно газетными рисунками, потом стал пописывать статьи общетеоретического содержания.
Он был с самого начала ровен, доброжелателен, никого не выделял, придавал очень большое значение теме, замыслу, направленности. Его разборы не походили на разборы Мастера. Мастер, весьма сдержанный в оценках, разбирая работу, редко пользовался технологической терминологией, как бы выводя плод наших усилий и воображения за рамки учебного упражнения в пространство живой жизни. Мастер говорил примерно так (скажем, был нарисован мужчина): «Вот взгляните, как он идет, он кособокий, топчется, нарушены пропорции не только тела, но и самого движения. Посмотрите внимательно, какие вы изобразили руки. Это гипсовые руки. Манекенные, они не живут, не натружены… Забудьте все, как страшный сон, начинайте снова».
Новый же наш педагог разбирал и объяснял все научно: «Композиция, компоновка, замысел, воплощение».
И не скажешь, чтобы в своих замечаниях он был неточен, он тоже точно подмечал, но говорил как-то обтекаемо, общо, замечание перерастало у него в объяснение. Он всегда знал, как надо и как не надо, и облекал свое знание в подробную многословную рацею.
Если мастер видел, что рисунок не получается, то он констатировал, как врач, не только наличие болезни, но и способ ее излечения. Цезарь же говорил вовсе не о болезни и не о излечении, а о здоровье вообще. Казалось, его интересовал не способ исполнения и не верность данного способа соответствующему данному замыслу, а задачи искусства в о о б щ е.
У Мастера были свои привязанности и антипатии. Одних великих любил, других не принимал. Он не боялся ни своих привязанностей, ни антипатий.
Этот же любил вроде бы всех, даже формалиста Пикассо, когда тот отзывался на социальные нужды времени и рисовал «Голубку».
Он говорил: «Надо видеть лицо простого человека, лицо труженика» и что «не бога вовсе писал Феофан, а лицо простого человека его времени».
Это лицо было повсюду, и неясно, чем оно отличалось от другого лица, чем отличалось у Рублева от Микеланджело, у Ярошенко от Серова, у Серова от Кузьмина.
Мы перекладывали его оценки на свои работы, как бы вставляли их в чугунные мощные рамки. Работы терялись, задавленные мощью великих и поистине невыполнимых задач.
Никого из нас он не выделял, всем говорил: «У вас несомненные способности, но кому много дано, с того много и спросится». Он словно бы боялся выделить кого-нибудь в ту или другую сторону, казалось, курс был единым механизмом, состоявшим из одинаково пригнанных винтов.
Иногда терминология была предельно проста и газетна, другой раз витиевата и туманна, и тогда речи его стирались в памяти, как мел с черной школьной доски, — легкая пыльца курилась известковым дымом и развеивалась.
Его мы не боялись, но и не воспринимали всерьез. С ним не было того ощущения, что возникало с приходом Мастера.
Иногда очень угрюмый Мастер, как бы дремля, рассматривал работу, и ты физически чувствовал, что она слаба, не получилась, видел ее его глазами, знал, что сейчас он ткнет в сердцевину, и сердцевина окажется гнилой. Вялый, как бы равнодушный взгляд, но свет голубоватых, покрасневших от бессонницы глаз вдруг собирался и концентрировался, становился прицельным, беспощадным.
У этого же была прекрасная память, слегка заглянув в работу, он цитировал по памяти классиков философии, живописи, всего на свете. Самое интересное, что цитаты были к месту, иногда он употреблял слова длинные и загадочные, так, например, мы впервые услышали от него сравнительно по тем временам новое слово «концептуально».
По всему этому может сложиться впечатление, что он был человеком абстрактных понятий. Между тем он более чем кто-либо другой говорил о связи искусства с жизнью и был озабочен тем, что эта связь у нас слаба и недостаточна.
Его карьера развивалась довольно стремительно, и вскоре он стал деканом.
Мы с Борькой часто приходили на небольшой заводик скобяных изделий.
Завод находился примерно в километре от нашего института. Мы оформляли там Красный уголок. Делали стенды, репродукций с фотографий.
Тут все уже относились к нам как к своим, даже вахтер приветливо дергал рычажок турникета, закрывавшего путь на заводскую территорию. Мы настолько привыкли к заводу, что даже стали сбегать со скучных лекций и приходили сюда.
Мы знали и начальников цехов, и даже начальника ОТК, и рабочих, и в день получки они брали нас с собой в пивной бар на углу.
Видимо, они считали, что мы тоже что-то полезное сделали для завода.
На институтскую выставку я представил два листа. Первый назывался «Конвейер», второй — «Двое».
Скромный заводской конвейер, неторопливо тащивший всякую железную мелочь, я изобразил лентой, над которой нависали человеческие руки, эти руки как бы символизировали характеры, конвейер был воплощением механической силы.
Эта работа, честно говоря, мне не долго нравилась. А вот вторую я делал с удовольствием и очень в свое время гордился ею.
Дело в том, что на заводе я заприметил девушку из ОТК. Я все время собирался с ней познакомиться, с интересом посматривал на нее, да и она подымала свои синие глаза от проверяемых изделий и одаривала меня полуулыбкой, словно бы что-то обещавшей. Я собирался познакомиться с ней, но все как-то не решался.
Однажды я встретил ее на остановке троллейбуса. Она была очень нарядна, столь контрастная той, которую видел я обычно в халате и шапочке. Широкая юбка парашютом открывала легкие ноги. Эти ноги в белых чулках буквально летели по весенней мокрой земле.
Впереди, за остановкой, навстречу ей также летел рослый малый, они взялись за руки нежно и привычно, и ветерок чужого счастья обдал меня, как обдает на миг запах духов от бегущей мимо тебя на свидание женщины.
Почему-то этот миг чужого счастья, этот мотив взволновал меня, и я попытался его передать.
Я написал их сзади, со спины.
Он и она, держась за руки, приблизив друг к другу головы, уходили. От меня, от вас, от зрителя. В неведомую даль, полутьму, где уже померк свет дня и еще не возник свет вечера, но где уже горят первые фонари.
Борька же нарисовал несколько этюдов, один портрет и представил недоконченную картину «Получка».
Декан, видимо, ждал от нас другого. Но поскольку он не был председателем жюри институтской выставки, а только членом его, то он стал искать кого-то еще, чтобы посоветоваться. Случайно попалась председательница месткома. Она к нашей мастерской никакого отношения не имела и на выставке занималась организационными работами, но формально считалась членом жюри.
Она посмотрела наши работы и сказала, что определенного мнения не имеет. «Кажется, неплохо».
— А вот это? — спросил декан и показал на незаконченную Борькину работу «Старый рабочий».
— Она на что-то похожа, чем-то отдает.
— Может быть, неореализмом? — как бы спрашивая себя, ища точного определения, сказал декан.
— Не знаю, — сказала она, — я ведь преподаю литературу, но вот недавно я видела фильм… «Рим в одиннадцать часов»…
— А при чем здесь фильм? — вступился я. — Это русский сюжет, вспомните передвижников.
Лицо декана, выражавшее до той поры неопределенность и сомнение, неожиданно вдруг посуровело.
— Эту работу не выставлять, — заключил он. — И вашу, — он посмотрел на меня, — скачущую неизвестно от кого парочку тоже. Вы не поняли задания.
Мастер в это время был болен, посоветоваться не с кем, мы показали свои работы однокурсникам, им понравилось, особенно Борькина «Получка» и моя «Двое».
И мы решили принести их. Что называется, они не участвовали в экспозиции, мы представили другие, наспех сделанные работы, а эти принесли в день открытия выставки и поставили на полу, но так, чтобы каждый мог увидеть их. Все останавливались у наших напольных работ, и мы считали, что перехитрили декана и победили.
Декан велел немедленно убрать их. Борька заявил, что ни за что не согласится, что он выставил свои работы отдельно, в порядке обсуждения.
Появился староста. Петя Староребский, человек чрезвычайно активный, председатель комиссии по связи с другими вузами, член комитета, и прочее, прочее.
Он сказал нам дружественно и доверительно:
— Лучше убрать. Не стоит. Завтра придет комиссия оттуда, — он сделал неопределенное движение рукой, — и вся эта ситуация может сильно не понравиться, да и Мастера не погладят по головке за ваши выкрутасы.
Он бил наверняка. Знал, что мы любим Мастера и не хотим, чтобы у него были неприятности.
И все-таки жалко было уступать, сдаваться.
Особенно Борьку мне стало жалко. Я знал, как он болезненно это будет переносить, как трудно ему подчиняться чужой воле, решению, кажущемуся несправедливым. К тому же работа у него была лучшей. Он изобразил старого рабочего. Портрет. Умное, сильное лицо. Лицо старого человека, но как бы вне возраста. В линиях, морщинах, глазах непередаваемый опыт жизни. Сцепленные пальцы, как бы выражающие душевную борьбу. С чем? Может быть, со старостью?
— Так что советую этот неореализм убрать поскорее, и тогда все будет нормально.
Это прилепившееся к нам слово резануло слух. Этот зловещий смысл возникал именно из-за приставки «нео». Был бы обычный реализм, все в порядке. А тут «нео». Хотя в чем выражалось это «нео», ни я, ни Борька не понимали.
— Я не согласен, — сказал Борька. — Пусть мне объяснят на обсуждении.
— Тебе объяснят из комитета комсомола, — сказал староста, уже не дружеским и вовсе не доверительным тоном.
Это было скорее не заседание комитета, а заседание кафедры. Неповиновение наше могло дорого стоить и прозвучать сигналом, который должны услышать остальные.
Упор делался на Борьку Никитина. Выставлять сразу двух виноватых было, видимо, ни к чему и слишком. Один должен быть главным, другой сопутствующим.
Тихий, шелестящий голос декана, его осведомленность о всех наших грешках и прегрешениях — даже о той самой злополучной практике с агитплакатом — не обещали ничего хорошего.
«Пытались отравить студенческую атмосферу, оглупляли и искажали действительность своими работами, создавали нездоровый дух». Отсюда первый вывод о необходимости более строгого отбора. (Куда только смотрел Мастер? Так это читалось.) О более строгом отборе, о том, что некоторые творческие работники в качестве руководителей проявляют несостоятельность, не воспитывают творческие кадры, а способствуют их разложению.
Имя нашего Мастера не произносилось, но все время витало в воздухе.
Время от времени вспыхивали такие определения, как «натурализм», «формализм», «пренебрежение жизнью», «взгляд сквозь замочную скважину».
Кое-кто из педагогов выступал успокаивающе, сводя как бы все на нет, но Борька ни к селу ни к городу начинал защищаться там, где не надо было.
Неопытен он был по этой части. Да и я тоже.
— Будем ставить вопрос о профнепригодности, — сказал декан, — вплоть до исключения.
— Откуда? Из художников? — с вызовом спросил Борька.
— Надо будет, отовсюду исключим, — не глядя на Борьку, сказал декан и брезгливо поджал губу.
Тут я поднялся.
— Как же можно говорить о непригодности самого способного на курсе человека? Мастер же говорил, что у него техника врожденная, что у него удивительное чувство…
Декан оборвал меня.
Мой взгляд потянулся к толстым стеклам его очков, ударился об них, как бабочка о лампу, заметался в жидковатом, как бы на глазах сгущающемся стальном свете.
— Когда вы изображаете конвейер, то вы хотите оболванить труд наших людей. Это и есть худшая форма профнепригодности. Сознательное искажение действительности, а попросту говоря, клевета.
Все притихли. Сашка, пытавшийся все время вылезти, заступиться, глубже вдвинулся в спинку дивана, стоявшего у стенки. Слово «клевета» пролетело низко, тяжело, задевая лица гудящими перепончатыми крыльями, темное, бесформенное, как летучая мышь.
Вечером мы втроем сидели в ресторане «Иртыш», был тогда такой в центре Москвы, почти напротив «Метрополя».
Мы сосредоточенно жевали шашлыки, о случившемся говорили мало, показно улыбались, смеялись, приглашали девиц с чужих столиков.
В ресторане было что-то трактирное. Низкие потолки, духота, пронырливый официант в форменной рубашке. Такими виделись мне трактиры, куда заезжали, возможно, Саврасов, Поленов, куда заходил выпить стакан крепчайшего чаю Аполлинарий Васнецов.
А впрочем, может и вовсе не трактирное, все это выдумка, полет воображения, просто второсортный ресторанчик. Не то что «Метрополь», в котором мы не были ни разу.
Под низкими сводами гудит народ, в основном командированный.
Сашка не пьет ни глотка, и сейчас в отсвете нашего несчастья он, тихий, корректный, кажется мне воплощением всемирного приспособленчества.
А в чем он был виноват?
В том, что был аккуратнее в своих работах, чем мы?
Я так глядел мимо него, так обращался к Борьке через его голову, что он почувствовал это.
— Ну я пойду, ребята.
— Давай.
И мы остались вдвоем, как было нам положено. По нас били, значит, нам вдвоем и держать оборону.
Впереди у каждого из нас еще много будет и непонимания, и обид, и острых ситуаций, когда все, казалось бы, поставлено на карту, но тот вечер останется навсегда, как наше первое боевое крещение.
И приближая лицо к распаренному лицу друга, я бормочу с мукой и наслаждением:
— Как же это так, Боря?.. Мы же действительно… мы же по правде с тобой делали, не халтуру «чего изволите», а по совести, как увидели. Это ведь Мастер нас учил: способов тысяча, ищите тысяча первый, свой… А где он, наш Мастер, Борька? Куда он делся, когда нас бьют? Где он отсиживается, наш учитель?
— А ты как хочешь? Привыкай сам отвечать.
Борька не глядел на меня. Глаза его, неожиданно трезвые на пьяном, покрасневшем и почему-то опухшем лице, разглядывали, прощупывали, пытались охватить зал.
Играл джаз-оркестр. Черный плечистый человек пел нежным, чуть хрипловатым голосом:
А я счастье свое отыскал На широком приморском бульваре…«Нет, как же это, — говорил я уже себе, — как получилось, что из всей груды ученической чепухи выбрал лучшее и по нему именно нанесли удар?»
Два чувства мешались: яростная, открытая, требующая немедленного действия обида и что-то другое, согревающее, похожее на гордость… Да, гордость. От чего? От непонимания, И, как ни странно, я почти радовался этому непониманию. Сама обида как бы приподнимала нас и выделяла, присоединяло к тем, кому мы поклонялись, кто обязательно шел против волны кто создавал и отстаивал свое, новое.
Но холодный, трезвый голосок внятно вступал, приглушал джазовый грохот, а также горячо распиравший грудь, горячий клубок самоутверждения: что же здесь нового? Более или менее приличные работы, но в общем вполне заурядные, далекие не только от смелости, но и подлинного профессионализма. Борькины чуть лучше, мои, наверное, послабее. И никакого непонимания нет, а есть ситуация, в которую ты попал, как кур в ощип. Кому-то и для чего-то эта проработка нужна, и мы просто удобно подставились для удара. И если нас выкинут из института, то через три дня нас забудут со всеми нашими доморощенными картинами.
— Чего ты там шепчешь, будто молишься? — говорит Борька. — Чего переживаешь? Ну, выгонят в крайнем случае, ну и что? Работать пойдем. Надоели все эти лекции, зачеты, весь этот детский сад. Домой хочу, на свободу. Правильно мне мать говорила: «Чем тебе плохо дома, покупай краски, малюй, сколько хочешь, подрабатывай и получай зарплату за два притопа, три прихлопа».
— За что?
— За физкультуру под музыкой.
— «Физкультура под музыкой». Это ничего. Это вроде судака под майонезом.
Ресторан закрывался в два часа. Мы ушли последними.
Долго шатались, первый свет, даже не свет, а проблески света, высветлил дома, медленно идущую поливальную машину с выставленными вперед водяными усами. Мы шли по умытой безлюдной Кировской, мимо «китайского» чайного магазина, потом прошли церковь в Потаповском переулке. Мы еще долго бродили по этим переулочкам, каждый из которых я знал наизусть, которые, кружась, впадая друг в друга, выходили на еще тихое, молочно белевшее Садовое кольцо.
Во времена нашего студенчества Борька любил Москву не меньше, чем я, но все время мысленно соединял неведомую нам, известную лишь по Аполлинарию Васнецову, которого он очень любил, Москву с сегодняшней, лишь через много лет появились у него ворчливо-раздраженные нотки: в московской жизни виделось ему что-то суетное, торопливое, от чего надо избавляться, бежать. Может, и вправду было так, а может, своего рода психологический штамп у него выработался. Ведь не только рука привычно рождает штампы, но и раздражение души тоже порождает штамп отношения.
В ту же ночь каждый из нас мысленно рисовал свою предрассветную Москву.
В ту ночь одна красота владела нами и одна судьба, казалось, связывала навсегда. Да, навсегда. Конечной остановки нет. Дорога только началась, сколько еще переулков, улиц, площадей мелькнут и растают в утреннем тумане.
Общие поражения, пожалуй, сближают даже больше, чем общие радости. И в ту ночь мы были близки беспредельно, почти с радостью готовые нести наш крест.
После выставки и разноса нас оставили в покое, но покой был тревожный и неопределенный, и, как пошучивал Борька, от него пахло «вечным покоем».
Было неясно, как с нами поступят. Вроде бы нас и не трогали, мы ходили на занятия, как и все остальные, готовились к зачетам.
Приезжали какие-то комиссии, при любом случае декан говорил о «попытках отдельных студентов уводить здоровые творческие массы в сторону искажения действительности». Фамилии же тех, кто проводил эту зловредную и постоянную работу, словно жуки-древоточцы, кропотливо и ежеминутно вгрызающиеся в плоть здорового дерева, не назывались.
Намекалось и на то, что некоторые руководители творческих семинаров мало занимаются воспитательной работой, а значит, и к ним, к этим руководителям, тоже следует присмотреться.
Вот такая была атмосфера, и, как научно говорил наш декан: «Весь комплекс этих вопросов должен быть со всей полнотой поставлен и рассмотрен на факультетском собрании».
Что нас ждало на этом собрании?
Тот подъем, что владел мной в первые дни, разделенность общей судьбы, так хорошо поднимавшая и как бы бодрившая, внутреннее сопротивление — все это ослабевало, перетиралось; неопределенность положения, вопрос, который я не мог произнести вслух, но которым изматывал себя: а что будет дальше? — вот что изматывало.
Вечером мне казалось: ерунда, пронесет, а утром — режущим холодком по спине пролетало — ты влип, и, кажется, довольно крепко. Ведь все не так уж безобидно. И наши смелые речи, братание на ночных улицах — это час, миг, а исключение из института — это навсегда, навсегда.
Какой-то другой голос уговаривал, успокаивал: «Ну уж, навсегда. Вспомни классическое: пройдет и это. Ну, предположим, даже и исключат, это ведь еще не смерть…» Однако не успокаивало. И хуже всего была именно неопределенность. В другом случае можно было бы идти и объясняться, просить. В другом случае была возможность п е р е с д а т ь.
А здесь — не пересдашь. Тут не экзамен, а что-то совершенно другое.
Я завидовал Борьке. Не то чтобы он был спокоен. Нет, конечно. Но он мог работать. Случившееся было для него помехой лишь внешней; внешнюю помеху в конце концов преодолеешь. Для меня же — внутренней, мешающей думать о работе вообще.
Собрание должно было начаться в час, а минут за двадцать до начала мы встретили в коридоре нашего Мастера.
О, как мы обрадовались! Ведь его уже не было видно в институте два или три месяца. Одни говорили, что он заканчивает большую работу, другие — что болеет, третьи — что сильно пьет.
Кто узнает истинную правду творческого процесса?
Но сейчас все это было неважно для нас, важно лишь то, что он здесь, с нами, и мы бросились к нему, точно увидели не руководителя семинара, а отца родного, спасителя.
В расстегнутом пальто, со сбитой набок шапкой из дорогого енотового меха по моде тех лет, он шел, перебарывая одышку, и особенно издали определенно напоминал классика XIX века.
Наши ожившие лица, расцветшие взгляды он встретил без отклика. Казалось, он с трудом узнавал нас, сопоставляя с теми, кого полузабыл, старался припомнить, да не мог… Впрочем, кто его знает, нашего Мастера? Взгляд его остановил нас, как бы приказывая выдержать дистанцию и сбить эмоции. Он бегло кивнул и пошел дальше.
Совсем не старое его лицо было бледным, истощенным, как после болезни. Как бы старалось выразить равнодушие ко всему, но выдавало неведомую нам усталость, тоску.
Все же он остановился и издали, чуть усмехаясь, сказал, почти пробормотал: «Ничего… Не такое бывало».
И пошел дальше. Мы переглянулись. Что это означало?
Равнодушную констатацию… Нет, это все-таки не походило на нашего усталого и ко всему безразличного Мастера.
Скорее всего он ободрял нас. Не очень явно, не очень энергично, да ведь это и не было в его характере.
Важно было, что сегодня он пришел, а значит, он с нами. Мы мало общались с ним, по-настоящему ни его работа, ни его болезнь не были нам ведомы. Но почему-то мы были убеждены: он не предаст нас.
В институте у него было особое положение. Он отрывался от преподавательской работы на долгие сроки. Другому бы этого не простили, но здесь, в течение многих лет, как говорят, прежнее руководство сохраняло его, поскольку его творческие силы нужны были не только институту, но и всей культуре, народу.
На каком-то совещании несколько лет назад, говорят, его крепко обругали, написали критическую статью, выявив в его творчестве «нарочито упрощенное воспроизведение жизни, тягу к отжившим художественным формам, в частности, к лубку…»
Почему же упрощенное? Он знал и понимал народное искусство, сложную простоту лубка.
Его сказочные звери, птицы, вспорхнувшие с плотных детгизовских мелованных страниц не были похожи на реальных синиц, скворцов или красноперок. Такие они не были похожи на типично, традиционно сказочных Сорок-воровок или Синих птичек. Его диковинные птицы были скорее птицами воображения, они смотрели на вас добрыми или злыми, но обязательно осмысленными, обязательно человечьими глазами. Он находил удивительный цвет, золотой, но не рыночный, не аляповатый, а приглушенный, почти карий. Он замечательно рисовал небо, кусочек неба, отсвет неба, вспышку голубой лазури.
Впрочем, не только птицы были его героями, но и другие звери наших русских сказок. И серый волк, в одних случаях плохой, зловредный, похожий на немецкого солдата, крепко помятого нашими партизанами, в других случаях добрый, напоминающий стареющего, строгого на первый взгляд доктора. Лиса Патрикеевна выглядела у него стройной красавицей с узким гибким телом, с обаятельно лукавыми глазами… Говорили, что есть у него и взрослые сюжеты, что последние годы он много занимается скульптурой, но никто из нас этих его работ не видел. Он редко и неохотно говорил о своем творчестве, да и самого этого слова «творчество» избегал, употреблял его крайне редко.
И еще одно наблюдение: он не любил ставить оценки в зачетки, всегда морщился, прежде чем вывести «хорошо» или «отлично». Видно, для него «хорошо» и «отлично» было что-то другое, недостижимо высокое, никак не равнозначное тому, чем он мог оценить наши опусы. И вообще он не любил подписывать листы, не любил всего того, что имело отношение к бюрократическому процессу. Этот процесс его раздражал.
Когда ему нравилось что-то в наших работах, он вначале хмурился, как бы недоумевая, не веря, а потом становился приветлив, почти даже нежен. И вообще, когда он постоянно бывал в институте, между нами устанавливалась связь, даже своего рода родство. Когда он исчезал, то он словно забывал о нас, о нашем существовании, и в первые дни после появления эта связь с трудом налаживалась; в такие дни он казался мне героем своей сказки, волком, потерявшим или забывшим своих щенков.
Общий разговор, шедший на собрании, нас вначале не касался: успеваемость, сроки курсовых, задания на практику и т. д. Эта обыденность сначала успокаивала и усыпляла. И я уже начал думать, что все опасения преувеличены, поговорили да перестали, а теперь, может, и вовсе не вспомнят.
Река текла вяло, неся щепки и щепочки повседневной институтской жизни, текла, никуда не впадая и ничем не кончаясь, так как сколько я учился, столько слышал эти разговоры на всех собраниях, более или менее одинаковые. И вдруг вялое течение этой реки напряглось, обозначилось холодное течение, и на берег полетели первые камни.
Тревожные сигналы, симптомы болезни… не упущения, но ошибки. Изъяны в воспитательной работе… Недостаточная требовательность… Неверное понимание задач художника… Все эти раз и навсегда отлитые определения одно за другим вылетали из уст декана.
Старейший наш преподаватель по рисунку, работавший в институте чуть ли не с его основания, пробормотал в паузе, но так, что все слышали:
— Уж что-то больно мрачная картина.
— Нет, я нисколько не сгущаю краски, — декан посмотрел сквозь толстые стекла своими обманно-близорукими глазами, все видящими, все примечающими. — Я бы мог вам рассказать, как вели себя некоторые наши студенты на практике, оглупляя порученную им ответственную работу. Уважаемый Мастер реагировал на это как на обыкновенное мальчишество. А на второй практике, на заводе, все повторилось в гораздо более серьезной форме. Мы видели это на студенческой выставке. И если мы сейчас не сделаем должных выводов, то…
Стало тихо. Фраза как бы повисла на середине. Никто ее не поддержал, но никто и не возразил.
— Может быть, руководитель мастерской, Игорь Николаевич, выскажется? — не поворачиваясь к нашему Мастеру, сказал декан.
Мастер не вставая сказал своим ворчливым тенорком:
— А что тут высказываться? Собственно говоря, я не вижу предмета для обсуждения.
Декан широко развел руками:
— Вот видите, нету предмета. Что же у нас с вами в вузе должно случиться, чтобы вы посчитали это за предмет? Так вот мы и потворствуем им, так вот мы их и портим… Вот как мы относимся к нашей творческой смене.
— Относимся, действительно, не лучшим образом. Только я о другом думаю. Мало мастерских. Плохо с натурщиками. Формально проходим, точнее пробегаем, историю искусств, историю живописи. Художникам, будущим профессионалам эта история толкуется ученически, упрощенно, по-дилетантски. Не знаем собственного прошлого, своих памятников, великих взлетов ранней нашей живописи, русского зодчества. Вы много говорите о современности, о связи с жизнью, — Мастер быстро, жестко взглянул на декана, — но мы с вами ее понимаем по-разному. Я за точность видения, за свой взгляд. Вы — за приблизительность. А приблизительность в искусстве не проходит, здесь, если не выстрадано — значит, пусто. Очень мне жаль, что меньше стало в институте классных преподавателей, знающих мастерство, умеющих конкретно показать студенту, к а к надо делать.
— А те, которые есть, — бесстрастным, нарочито стертым голосом сказал декан, — появляются редко, не знают, чем заняты их студенты.
— И с этим я согласен. Я принимаю на свой счет. Но художнику и самому хочется поработать, пока работается.
— Значит, надо, как бы это поточнее сказать… выбирать…
— А выбора нет. Я бы, может, ушел из института, да, выходит, нельзя уходить. Нельзя отдавать способных людей в чужие руки, тем более в руки, от нашего дела далекие.
Кашлянув, вступился до сих пор молчавший ректор:
— Мы сейчас, уважаемый Игорь Николаевич, педагогов не обсуждаем. Мы студентов обсуждаем. Так что ближе к теме.
Так же не подымая глаз, острым своим, как бы раздраженным голосом Мастер сказал:
— Педагогов тоже иногда обсудить не худо… А что касается студентов, то в качестве самой большой заразы и бог знает чего еще здесь говорится о наиспособнейших. Никитин у меня самый сильный, да и не только на курсе… И работа, представленная им на выставку, очень занятна.
— Вот именно занятна, — сказал декан.
— Ну, это уж моя терминология. Я бы мог сказать талантлива, самобытна, но я опасаюсь таких слов. Во всяком случае, в Никитине я вижу художника. Что же касается второго, Афанасьева, то он тоже одаренный человек, у него есть фантазия, я бы сказал, прирожденная техника… Правда, он несколько книжный, но и это не беда, пройдет. А ярлыки клеить — дело легкое. — Казалось, его сейчас поведет в спор, в какую-то неслыханную дерзость, такое у него было лицо, но, словно спохватившись, он сказал уже другим, спокойным и как бы типично преподавательским тоном: — Не знаю, как по другим дисциплинам они успевают, но по моей я спокойно могу поставить им хорошую оценку.
В зале прошел шумок. Побледневший декан встал.
— Вот вы сказали, педагогов мы не обсуждаем, — сказал Цесарский. — Будет время, обсудим и педагогов. А сейчас мы обсуждаем студентов. Двое наиспособнейших, как выразился их руководитель, самовольно покинули практику, представили работы, сознательно искажающие людей. А когда им было сказано, что эти работы не принимаются, они самовольно выставили их на всеобщее обозрение. Вам не нравится термин профнепригодность. Пожалуйста, я ставлю вопрос о гражданской непригодности, опаснейшем инфантилизме и о том вреде, который может принести нам попустительство и поглаживание по головкам. Не такое сейчас время. Мы подорвем авторитет нашего вуза, если будем терпеть пренебрежение к его порядкам и традициям… Может быть, они действительно и небездарные люди. И я вовсе не желаю им зла. Но они должны получить урок, который будет понятен и остальным, потому и отношусь к этому со всей серьезностью и прошу всех отнестись также. Считаю необходимым поставить вопрос об отчислении.
— Этот вопрос мы будем решать на ученом совете, — нарочито неторопливо, как бы снимая накал, напряжение, сказал ректор.
Неопределенность затянулась и стала привычной. Никто нас не выгонял с лекций, мы готовились по-прежнему к зачетам, но, проходя каждое утро мимо доски приказов, останавливались.
Мы ждали приказа, а приказа все не было. Мы оглядывали эту доску бегло, но цепко, мы не показывали даже друг другу, что ждем… Нет, не ждем, все будет в порядке.
Но я ждал. Не знаю, как Борька, но я ждал. Меня еще не исключили окончательно, но я сам словно бы исключил себя. Еще не случившееся виделось мне как случившееся.
Борька же чаще всего был хмур, резок, слегка поддавал и тогда добрел и говорил мне: «Ни хрена, прорвемся».
— Ни хрена, прорвемся, — повторял я.
Я не показывал своей жалкости, своей растерянности, наоборот, я шутил, острил, небрежничал. Потом ребята говорили: «Ты держался молотком». У нас так тогда говорилось: «молоток». То ли от слова «молот», то ли от слова «молодец». Кремень-парень, железо.
Раз никто не видит, значит, я действительно молоток.
Борька Никитин видел, скорее даже не видел, а чувствовал.
Мы провожали друг друга, то он меня до дома, то я его до общежития. Говорили о самых разных вещах, только не об этом. Вроде все уже давно рассосалось… Но висело, висело. Мы и сами это хорошо чувствовали в институте. И потому Борька, чуть кривляясь, говорил мне, когда прощались: «Старичок, не боись».
Выражение дворовых огольцов послевоенной поры. Нормальные слова «не бойся» как бы поворачивались, приобретали другой смысл: лихость, напористость, бесстрашие.
Такой корявенький, успокаивающий девиз.
…А приказ, который мы ждали, был уже напечатан.
И был обсужден. Кем-то утвержден, а выше, — нет. И в последний момент ректор дал отбой.
Секретарша, жалевшая нас, — есть такие секретарши, которые всегда жалеют, — показала нам потом стенограмму ученого совета.
Цесарский наскакивал, но ректор его сдерживал, поправлял, снимал углы, и в заключение он сам выступил.
Он говорил весомо, рассудительно, как всегда.
— Ну что ж, и так бывает. У двух уважаемых педагогов две противоположные точки зрения. Думаю, что каждый по-своему прав. Конечно, нам следует быть более внимательными к нашей художественной смене. Студенты, о которых идет речь, люди одаренные, безусловно перспективные. Но их, что называется, несколько занесло. Но на то мы и педагоги, чтобы их поправить, подсказать. У них есть сильный творческий руководитель, известный Мастер. Но и Игорь Николаевич прав, заботясь о творческой индивидуальности, о самобытности, о том, чтобы наши студенты были не копиистами, а художниками, мастерами. Только тогда они и сумеют передать дух времени, его движение. И поэтому, я думаю, надо вести разговор шире, не сводя к работам двух отдельных студентов, надо говорить об учебно-методическом процессе, о наших практиках, о порядке в наших общежитиях, о каждодневной воспитательной работе.
И обсуждение пошло по совершенно другому руслу. Мы мало знали нашего ректора. Нам всегда он казался очень осторожным и далеким от художественных интересов человеком.
Только через много лет мы оценили его византийскую мудрость.
Впрочем, если бы он не был мудр, он бы не был ректором.
На последнем занятии Мастер подводил итоги за семестр.
Начал он с самых слабых и скучных работ. Потом отвлекся, сам вид этих работ рождал скуку, и, чтобы забыться, Мастер стал рассказывать о японских гравюрах, об их технике. Он сравнивал их с японскими трехстишиями, и даже прочитал одно наизусть.
Оно поразило нас с Борькой своей простотой:
Долгие дни весны Идут чередой… Я снова В давно минувшем живу.И еще нас удивило, что Мастер знает стихи. Почему-то казалось, что кроме живописи — все ему чуждо.
На том и кончилось то странное занятие. Мастер попросил зачетки. Мы с Борькой были где-то в середине. Я подошел и, не глядя на него, сунул зачетку и отвел глаза. Я уже говорил, что меня всегда не покидало ощущение, что в последний момент что-нибудь сорвется, что судьба отвернется от меня.
На этот раз рукой Мастера судьба старательно выводила журавлик пятерки.
Потом подошел Борис. Он выложил свою зачетку и усмехнулся.
Мастер тоже усмехнулся. Мне даже показалось, он подмигнул Борьке. Оценка была та же.
Будто ничего и не случилось, будто и не было декана, выставки, «неореализма», угрозы исключения.
Странная слабость и теплота, близкая к дурноте, охватила меня… Хотелось что-то говорить, благодарное, может быть, даже жалкое. Хотелось сказать, что раз есть Мастер, значит, есть и справедливость. Но мне показалось, что это слишком громко.
Благодарного — не получалось. Жалкого — не хотелось. К тому же признания не были приняты в нашей мастерской. Стихи были здесь редкостью, может быть, единственный раз. У нас был деловой стиль, и Мастер редко нарушал его.
Значит, и нам не пристало.
Я даже не помню, как декан исчез. Существовал, существовал и исчез. Времена изменились, и он стал не нужен. Уже никого не корили «неореализмом», внимательно изучали всякие другие «измы», особенно начала века, они становились даже модными, правда потом пришла полоса критики абстракционизма, но и в этот период декана уже не было с нами. Свою воспитательную работу он проводил, возможно, уже в другом вузе. Кто-то рассказывал, что его вообще убрали… Что не преподает, проштрафился. То ли кому-то слишком помогал при поступлении и был небескорыстен при этом, то ли что-то еще, в общем, что-то бытовое, не идейное.
Но возможно, это было досужим вымыслом, местью недоброжелателей.
Лет через пять — семь он снова возник: брошюрки, книжечки, что-то на тему «Зритель и искусство».
На одной выставке книжной графики я встретил его. Я представил там иллюстрации к «Ледяному дому» Лажечникова.
В конце он выступал, хвалил художников, ищущих свою индивидуальную манеру, и среди тех, кто ему особенно понравился, отметил и меня.
Еще секунда, казалось, — назовет учеником.
Эта лодочка, видно, была непотопляема.
Еще не раз он встретится в нашей жизни, постаревший, но не одряхлевший, всегда энергичный и возбужденный, как бы постоянно включенный в сеть и вибрирующий, как перекаленная электробритва. Да, он подобрел и стал более терпим к способам изображения жизни. Впрочем, время от времени появлялись его статьи с металлическими нотками.
Учтивый, оживленный блеск под толстыми стеклами старомодных очков неожиданно вдруг застывал и сгущался, тускло посверкивая свинцом.
А Мастер наш вовсе не переменился, так же исчезал и появлялся, но авторитет его все рос и рос, даже вне зависимости от его собственных новых работ. Да, кажется, они почти не появлялись. И каждое новое поколение, приходившее в институт, подхватывало старые легенды: о его твердости, принципиальности, о том, как он грудью прикрыл своих студентов, защитил от несправедливых обвинений, от зарвавшегося администратора.
Быль всегда смешивается с легендами, а легенды становятся былью.
Ленинград. Петербург. Питер.
Мы срывались на три дня, жили у одного нашего приятеля по Институту на Литейном проспекте, в ленинградской коммуналке с высоченными, в вензелях, голубоватыми, как небо, потолками, с огромными окнами, в которых долго и серо занималось петербургское утро.
Знакомый до слез город. В ту пору я любил его больше всех городов, больше родной своей Москвы.
Мы пропадали днями в Эрмитаже и Русском музее.
Богом моим был тогда Нестеров. Полузабытый, лаконично отмеченный петитом в наших школьных программах, еще не переживший новую, позднюю свою славу, даже моду.
Три его портрета буквально околдовали меня: «Портрет дочери», «Портрет Сергия Радонежского» и особенно «Великий постриг».
В «Великом постриге» крылась тайна, никогда мною не разгаданная; с годами лишь я подошел, пододвинулся к ней. Тайна преображения — не судьбы, а души. Душа, измученная обидой или, может быть, ошибкой, почти раздавленная, но одновременно способная на великое чувство. Но кому нужно это чувство? Теперь она ищет успокоения.
Я подолгу всматривался в это нежное, очень юное лицо, уже познавшее боль. Оно смирилось, но еще что-то давнее, полное надежды живет в нем. Только что? В этом и была тайна. Казалось, она понимает, что постриг не принесет избавления, скорее он попытка избавления, попытка выхода. Лицо выражало и страх перед самой жизнью, перед ее неразберихой, и готовность к смирению, служению, скрытую тревогу, растерянность, как у ребенка, которого отдают в казенный дом.
Вспоминалась героиня «Чистого понедельника» Бунина, рассказ этот поразил меня пряной горечью, звуком, цветом, живописью. В нем была златоглавая, трактирная, театральная, немного романтическая старая Москва, идущая к невиданным переменам, к неслыханным мятежам. О такой Москве мы знали, догадывались. Готовые к сносу, не представляющие исторической ценности, уже пустые, разоренные домики Замоскворечья пытались рассказать что-то, да мы не всегда умели услышать. В одном из подобных домиков, когда-то нарядных, жила героиня рассказа такой с виду счастливой и яркой жизнью.
Оказывается, страх перед жизнью иногда сильнее, чем страх перед смертью.
Борька — одновременно суеверный и верящий в могущество человеческой воли — в повседневном своем поведении не только отрицал всякую мистику, но и потешался над ней. И любил он другие полотна, хотя и к этим был явно неравнодушен. Дольше всего он простаивал у сравнительно малоизвестного портрета Зеленова «Мальчик у стола»…
Портрет как портрет. Такой можно было встретить и у Сороки и у кого-нибудь еще.
Деревенский мальчик сидит за столом с ложкой, ждет похлебки. Вот и все. Блеклый тон, тьма избы, тьма жизни.
Только в глазах ясность, скрытое, но какое-то радостное удивление, удивительная чистота, улыбка. Вот в ней и было все дело, вся тайна портрета.
Чему он улыбается, мальчик, в котором, наверное, Борька видел себя? Тому ли, что мамка пришла с поля, а он наголодался и ждет, что его сейчас накормят, и само ожидание — маленький праздник?
Этому ли на самом деле? А возможно, никакой мамки нет и он сирота, уж больно он одинок. Одиночество в его позе, еще в чем-то неуловимом.
— Выходит, опять мистика, — говорю я Борьке, продолжая старый спор.
— Никакой мистики. Просто он благодарен за то, что он есть, за то, что так получилось, что он живой, существует на этой земле. Он живет плохо, но радуется тому, что живет, в отличие от твоей возлюбленной.
— Какой возлюбленной?
— Нестеровской… монашенки.
В институтской мастерской мы сидели втроем и отрабатывали обязательный курсовой натюрморт. Противоестественно яркие муляжные яблоки, груши лежали перед нами. Там же стоял букетик цветов.
Сашка делал это все технично, быстро: цветы так цветы, и они были как живые. Мы втайне смотрели на его работу свысока, нам казалось это похожим на фотографию. Позднее мы поняли, что он рисовальщик-профессионал, что он умеет изобразить натуру, и это немало, когда вокруг бродят стада дилетантов, не способных натуру воспроизвести и выдающих за образ лишенный гармонии и мысли случайный набор цветовых пятен.
Было жарко. Борька старательно макал кисть, малевал что-то кирпично-красное на фоне зеленых травинок. Я не понимал, чего он хочет, куда ведет. Лень было понимать.
Я трудился, проклиная все на свете, ненавидя это обязательное упражнение.
В голом окне был виден сквер, пропылившийся московский скверик с вытоптанной травой. На этих пролысинах копошились дети. Я отвернулся от окна, походил по мастерской, с мукой взирая на возрастающее усердие друзей, и увидел, словно впервые, пол, выщербленный, в подтеках краски, ворох окурков в консервной банке, газовую плитку с почерневшим, много раз сгоравшим, но так и не сгоревшим кофейником. На каждом их нас спортивные, заляпанные краской штаны, на подоконнике угластый репродуктор, на стене «Весна» Филиппо Липпи. Весь этот ставший тягостным набор освещался солнцем, свободно, жгуче входившим в мутно-стеклянный, как бы парниковый потолок.
И тогда не прощаясь, освобождаясь от всех обязательств перед собой, перед Институтом, перед искусством вообще, я бежал из мастерской почти счастливый от возможности такого простого, хотя и малодушного выхода.
«Завтра все придет», — успокаивал я себя.
Сколько раз потом в жизни я учился преодолевать эту беспомощность, тупость, леность, преступную вялость, неспособность, а скорее даже нежелание пробудить в себе живое чувство.
Натюрморт с полузасохшими цветами…
А сейчас — какое счастье! — земля, асфальт, трава. Взаправдашний, терпкий, реальный мир, а не тот мертвенный, полудохлый, что скопирован тобой.
Воображение, своей силой обгоняющее жизнь. Но как сделать, чтобы оно подняло тебя, если ты ползаешь по полу и видишь лишь то, что попадается на глаза? И какое рабство нагнетать его в себе!
Правда, бывали и другие, счастливые, лихорадочные минуты, часы, подобие радостной болезни. Возникали они не сразу, а через вялую муку начала, через темную первую пробу, и вдруг тепло догадки, может быть, счастливой, и тут же страх сбиться, пойти не туда, а дальше уже как бы от тебя не зависящее движение руки, словно мозг переселился в нее и диктует, потеря ощущения времени, даже не радость от работы, нет, не радость, а естественность, единственность этого состояния, такого же необходимого, как сон или, наоборот, пробуждение.
Так бывало, и не раз. Легче всего мне было тогда, когда работал постоянно, каждодневно, подавляя собственное безволие. В эти дни, казалось, его и нет, не может быть. Жадность к работе, тяга, азарт, радостное ожидание завтрашнего дня.
Но бывало и по-другому.
Безволие имело разные формы. Иногда форму откровенной лени, особенно в юности. Знаете это: завтра, завтра, все начнется завтра. Потом иное, уже более серьезное: боязнь начала новой работы, бесконечное топтание на подступах…
Это лишало покоя, уверенности в себе. Ты завидовал даже тем, кого считал слабее, бездарнее. Они что-то делали, трудились, у них было рабочее состояние. А ты забыл, что такое рабочее состояние. Оно так долго не возникало, что ты забыл, на что оно похоже, что это вообще такое. И ты жил воспоминанием о т о й, прежней работе, как живут воспоминанием о прежней, уже ушедшей жизни.
А сейчас я видел лишь шланг, дохлой змейкой свернувшийся в саду.
Попробуем представить, что это сад, а не обычный московский скверик, сад из еще только начавшейся твоей жизни, где был дачный кооперативный поселок «Красный строитель». Дед и бабка, поливающие сад. Сейчас нет ни деда, ни бабки, ни сада.
Но прочь воспоминания, нет ни прошлого, ни будущего. Ты один в своем настоящем, еще очень молод, свободен, так возьми маленькие радости жизни в надежде на большие. Хотя бы детский вкус газировки, которую наливает женщина в халате. Над ее белой спиной, над ее чудо-аппаратом навес от солнца. Густой рубиновый сироп за сорок копеек, сейчас такой не найти. Автоматы хоть и отмеривают точнее, но не подарят вам забытого детского блаженства.
Что же дальше? Домой? Нет. Не хочется из одной темницы переходить в другую.
Да и что делать в пустом дому? Родители в экспедиции, ты сам себе хозяин.
Итак, смесь горечи и сладости, глоток газировки, огромность города, всегдашнее одиночество, в котором все-таки ты связан со всеми и чего-то ждешь от них так же, как они чего-то ждут от тебя. Так только в молодости бывает.
Ожидание чего? Неизвестно. Это даже трудно объяснить. Это состояние точнее назвать ожиданием ожидания.
Может быть, это и чушь для сегодняшнего молодого делового человека, уже запланировавшего заранее все свои деловые и неделовые встречи. Но мы-то другое поколение. Понятие о цене минуты, о точном маршруте дня, месяца, года, запрогнозированность будущего у нас другие. Мы и часы-то заимели поздно, собственные, личные часы, собственную «Победу». Какая взрослость и какая роскошь!
Итак, ожидание ожидания — это вообще. Это состояние.
А конкретнее если, то ожидание встречи. С кем? Неизвестно. Образ неясен, двоится, троится, четверится. Важно, что эта встреча изменит все, навсегда.
В тот день ничего, естественно, не произошло.
Троллейбус. Какая-то смазливая девушка, хочешь подсесть, познакомиться и одновременно чувствуешь натянутость и пошлость такого знакомства, особенно по сравнению с тем великим ожиданием. Так и не познакомился, дурак.
Вышел на своей остановке. Пыль и гарь летней Москвы. Улетающие парашюты ярких платьев по моде тех лет. Куда они летят? Где снизятся, где упадут с шуршанием?
Все чужое и вместе с тем, если посмотреть со стороны, все свое, очень знакомое, свой, обжитый город. И странная робость перед жизнью и такая же уверенность, что она состоится именно так, как ты задумал.
Кисть уже обмакнута в краску, рука уже поднесла ее к холсту; но не знает, не ведает, может быть, и умеет, да не решилась. А может, просто сознание, что все это еще черновик, необязательный набросок, все можно переписать, забелить, начать сначала.
Беловик еще далеко… Оказывается, он начинается раньше, чем мы думаем.
Итак, ничего не произошло, ничего не происходит.
А произошло на следующий день.
Обыкновенный телефонный звонок, только, может быть, чуть более долгий и настойчивый. Его настойчивость заставила меня, уже запиравшего дверь, вернуться назад (вопреки привычке никогда не возвращаться), пробежать через всю квартиру и буквально поймать, подхватить уже последний, наверное, звук длинной, энергичной трели.
— Это ты, Юра?
— Да.
— Ты не узнаешь?
— Нет. Если можно, поскорее.
Но словно не чувствуя того, что я тороплюсь, спешу, незнакомый голос продолжал эту незамысловатую, почти детскую игру:
— А ну-ка припомни.
Голос был певучий и словно непривычный к телефонным разговорам, неуловимо провинциальный.
— Угадайка-угадайка, интересная игра, — передразнил я невидимую собеседницу. — Извините, но я опаздываю в институт.
— Это Нора, слышишь? Ты что, забыл?
Грудной голос, еле ощутимый грузинский акцент, неожиданная детскость тембра. Нора.
Обрадовался ли я? Скорее удивился. Это было недавно, но уже как бы из другого мира.
Я абсолютно ясно увидел ее загорелое лицо, освещенное солнцем, счастливую улыбку. Оно было отделено от мрака, ужаса той ночи, когда я увидел обескровленные губы Арчила, белый лоб, услышал крик: «Дядя!» — ощутил что-то еще более страшное, чем сама смерть, что-то более противоестественное, чем она.
Сила чужого отчаяния. Только в молодости легко удается отогнать т а к о е, жить как ни в чем не бывало.
И голос ее я не забыл, просто другие голоса накладывались и забивали, словно в междугородном телефоне, и совсем заглушили, хотя только год прошел.
Да, я помнил ее голос, помнил скрип гальки, тишину южного вечера с теплым ветром и влюбленность, лишенную ответа, нелепое соперничество с другом, что-то унизительно мальчишеское и вместе с тем неотвязное.
По настроению, что называется по химическому составу чувств, все это походило на первую любовь, хотя на самом деле моя первая любовь была далеко и после нее уже были эпизоды, встречи и прочее. А сама эта первая любовь не походила на то, что набрасывают художники легкой пастелью.
Учительница немецкого языка в средних классах, Алла Петровна. Когда она входила в класс с журналом, я не мог оторвать взгляда от ее голубых глаз, от ленивых движений ее рук, наманикюренных пальцев, сжимающих мелок, стройных ног, слепящих капроновым блеском.
— Ruhig! Тишина! — звучал ее сильный голос, в котором я чувствовал не только учительскую власть.
Это была та любовь, о которой никому не рассказываешь, которая так и остается в плохо освещенном туннеле подсознания.
Впрочем, какая там учительница!.. Нора в Москве, вот неожиданность.
Интересно, что мы с Борькой не говорили о ней ни разу.
Но об этом лучше сейчас не думать… Сейчас мы в Борькином доме, поедаем пельмени, приготовленные его женой, из столовой на кухню дверь открыта, и я вижу, как ее крепкие руки ловко подбирают мясо, заворачивают в теплую тонкую наволочку теста; нескончаемый конвейер несет кораблики пельменей, целый флот, в наши рты, в молохи наших желудков.
Нельзя сказать, что она некрасива: у нее ясные холодновато-серые глаза, прекрасные волосы, чистый овал лица, у нее тонкая талия, кустодиевская грудь, но в походке, в руках, в плечах — что-то неженственное, даже мужское.
Я видел, как она гребет. Мы плыли на рыбалку, очень рано, почти на рассвете. Борька сидел на корме; воспаленные глаза, серое, пористое, как губка, лицо выдавали то, что он пытался скрыть улыбкой, редкими всплесками энтузиазма, когда Сашка рассказывал о поездке на Алтай.
— Здорово! Завидую, братцы! — говорил он и вроде бы ждал новых рассказов, а мы чувствовали: он замкнут, по-настоящему не слушает нас, измотан бессонницей. Общение с ним подменялось видимостью общения.
Сколько же таких дней выдержала она?
И вот сейчас рыбалка, и мы, как когда-то, гребем к плесу, не столько в ожидании добычи, сколько в предвкушении прекрасного вечера, костра, разговоров, свежего запаха жареной рыбы.
Ничего этого, впрочем, не будет. Пить в его присутствии нам нельзя и не хочется. А рыбалку она затеяла лишь для того, чтобы вывести его из состояния болезни и угнетенности.
И глядя на мужской размах легко, сильно работающих рук, я спрашивал себя: почему именно она стала женой нашего Борьки? Ведь за долгие годы его одиночества были и другие, более женственные, более красивые… Они так хорошо говорили ему о его даре, о славе, которая обязательно (только еще немного подождать) придет. Но они исчезли, отпали. Она же прошла все, ступила на долгий путь, где финал и не виден.
Чем она взяла?
Она никогда не говорила ему о его таланте. Я знал, что он не верит словам, не придает им значения, иногда они даже раздражают его, но ему как художнику необходимо признание, пусть хоть друзьями, пусть хоть женой, но искреннее и беспредельное.
Кстати, я редко слышал, чтобы она говорила с ним о живописи, об искусстве. Слушала — да, но не говорила. Возможно, в ней было непонятное, недоступное мне очарование; возможно, ее простота, прямота, некоторая грубоватость давали Борьке ощущение прочности тыла, защищенности от бед и неудач.
А скорее она вошла в его жизнь, в тот единственный момент, когда и надо было войти, в тот момент, когда он начал терять то, что всегда держало его на плаву: уверенность в своей творческой силе, постоянную и мощную работоспособность.
Вот тогда она и появилась и осталась, чтобы его спасти, и он это понял и принял.
Не случайно вспомнилась та рыбалка. Борька не хотел никуда ехать, но она настояла; была не лучшая для рыбалки погода, лодку сносило, но она гребла очень спокойно, и это спокойствие передавалось всем. Она никому из нас не доверила весла, сама вела лодку, на корме которой с бледным, равнодушным, злым лицом сидел Борис. Но через несколько часов он стал приходить в себя, глаза его обрели цвет, ожили, прояснились. И вот он уже нырнул в воду, поплыл.
Ныряли глубоко, до дна, зная, что вынырнем, что нам еще не время тонуть.
Лодочки, кораблики, челны.
Пельмени по-сибирски, теплый дом.
Все вроде бы налаживается, и потому ни слова о делах, тем более дела не очень хороши, выставка его, которую мы с таким трудом организовали, кажется, срывается, но говорить ему об этом мы не станем.
Я скашиваю глаза на рисунок в деревянной рамке, одиноко висящий на стене. Интересно, что на стенах нет ни одной Борькиной картины кроме этого рисунка. Зато фотографий множество, как в деревенской избе: Катя с отцом, Катя с матерью, Катя с Борькой. И в стороне, над ними, чужой им, точно из другого альбома, из другой реальности, незаконченный рисунок.
Портрет Норы.
Она сверху, чуть прищурившись, смотрит на нас. Мы разговариваем, встаем, садимся, позвякивает посуда, а я чувствую все время ее взгляд, словно ей о т т у д а надо разглядеть нас: Борьку, меня, Сашку, Борькину жену Катю.
Сколько же всего было, сколько же лет, как бы разверстанных в пространстве, разделили нас и ее.
Словно поезд, из которого она вышла, а мы сидим, те же пассажиры, только изменившиеся до неузнаваемости. Поезд то мчится, то катится медленно, то стоит на остановках, но он все дальше и дальше оттуда, где она осталась навсегда.
— Нора, — говорит она мне певуче и почему-то с более заметным по телефону грузинским акцентом.
Трубка повешена. Нас разъединили, и слышно только шелестение, разряды, неясные шорохи темного бездонного эфира…
Мы встретились у кинотеатра «Аврора» на Покровке.
Но времени, пространства и событий, разделивших нас на год, будто и не существовало. Кажется, вчера или позавчера расстались.
— Может, в кино? — предложил я.
Она усмехнулась и покачала головой. И тут я впервые увидел, что глаза у нее другие, чем там, на юге, дома, несколько потухшие, и вся она смотрелась иначе, неуловимо угадывалась какая-то неуверенность, лицо стало меньше, не смуглое, как дома, а желтоватое, словно загар побледнел, выцвел.
У меня не было денег, чтобы повести ее в кафе, но мы пошли в рыбный магазин наискосок от «Авроры» и у мраморных столиков поедали бутерброды с рассыпающимися, младенчески розовыми крабами, перевитыми гирляндами майонеза.
Она ела, стараясь сохранить осанку и безразличие к еде, ела красиво, неспешно, и каждое движение ее было красивым и внешне спокойным, но я чувствовал неуловимую растерянность; ее гортанная речь с чуть заметным орлиным клекотом была на сей раз смягчена и даже чуть искательна. Может быть, это наш огромный город придавливал ее?
— Ну как ты, где ты? — спрашивал я.
— Я все-таки поступаю туда, куда хотела. Уже прошла предварительный творческий конкурс.
— Значит, все хорошо?
— Да, конечно, кажется, все неплохо.
Мы вышли из магазина, шли вверх мимо казарменного здания пожарной охраны с его старинными узенькими оконцами-бойницами, мимо ярко горящих на солнце яичным желтком домиков с колоннами. Я хотел ей показать свою Москву — от Чистых прудов до Большой Ордынки, потом вернуться к Гоголевскому бульвару, в Филипповский переулок, показать церкви, извилистые московские дворы, холодные вечерние скамейки.
Она слушала, смотрела, восторгалась со мной вместе, но скорее механически, была чуть рассеянна, и я ощущал все время то ли тревогу, то ли скрытую, но разъедавшую ее заботу.
Я думал с удивлением и гордостью: «Она все-таки мне позвонила, а не Борьке», пока не сообразил: Борька живет в общежитии, а у меня есть телефон: вот как все просто, вот почему я, а не он.
Она ни разу не спросила меня о нем, будто его и не существовало. Это даже настораживало, наводило на мысль о том, что я чего-то не знаю в их отношениях.
В буфетике на Пятницкой пили вермут, она морщилась: «Разве это вино, разве это можно пить?»
Я незаметно захмелел, так как пил за двоих, и, осмелев, взял ее за руку, приобнял, она не сопротивлялась, была рядом и одновременно далеко, приветливая, почти ласковая, но очень чужая.
— Но ты здесь… Как странно, что ты здесь.
Странность и вместе с тем закономерность ее появления совсем из другого края, видящегося отсюда далеким, душным и пряным ботаническим садом, — вот скрытый лейтмотив того вечера. Оттуда — на будничный московский асфальт.
Никогда там, на ее родине, мы не были с ней вдвоем, но почему-то казалось, что сегодняшнее бесцельное блуждание по вечереющей летней Москве — продолжение чего-то уже бывшего. В огромности этого города, одинокие и вместе с тем удивительно слитные, быстро привыкая друг к другу, мы приращивали к этим двум часам хождения по Москве месяц той, далекой, уже нереальной жизни и год разлуки.
И в тот момент, когда я уже не думал ни о ком, кроме себя и ее, когда никого уже не существовало, она спросила о Борьке.
Вовсе не хотелось сейчас говорить о нем.
— Как он? Ну как он… Нормально.
Это стереотипное, ничего не выражающее словцо инстинктивно было произнесено мною, оно должно было сбить, точнее занизить ее интерес к нему; именно то, что она сначала ничего не говорила, а потом спросила, именно то, что он не существовал и вдруг появился, сразу как бы зачеркнуло все наши разговоры, хождения, превратив все это в заполнение паузы, в бессмысленное убивание времени перед чем-то более важным и существенным для нее, перед встречей с ним.
— Если хочешь, сейчас к нему поедем — в общежитие.
Я говорил вполне искренне… Если так, то поедем. Если это ей надо, то поедем. Троллейбусом «двойка» до самого конца, и пешком немного. Там еще не спят.
Она помолчала и сказала:
— Да нет, в другой раз.
Шли, болтая о чем-то неважном, необязательном. Такой разговор только разъединял. Зачем-то я ей рассказал о том, как нас исключали. Она слушала очень внимательно, чуть испуганно.
Теперь она вновь доверчиво шла за мной, мы успели посидеть на всех Чистопрудных скамейках, потом пошли в переулок Стопани, к Дому пионеров, где все у меня начиналось, вдоль диковинных машин у швейцарского посольства, вдоль хрустально светящихся нарядных его окон, сквозь сад Дома пионеров. Очутились в тупике, в котловане строящегося дома, через треснувший забор перелезли на Харитоньевский.
Устали до одурения. Хотелось еды и тепла. И тогда я предложил:
— Зайдем ко мне?
Она постояла в нерешительности, затем молча кивнула головой.
Комната моя в коммунальной квартире, в доме в Машковом переулке, была пуста, родители с ранней весны уехали в экспедицию. Да и вся квартира к этому часу должна была затихнуть, прижавшись по комнатам к толстым линзам, водянисто светящимся над маленькими экранами.
Я нащупал в кармане последнюю мятую десятку, ее в обрез хватало на бутылку дешевенького сухого и двести граммов колбасы в дежурном магазине на Кировской.
Оснастившись таким образом, я решительно повел ее за собой.
Вечерний торжественный подъезд с мраморными лестницами, старинный лифт фирмы «Карл Гоффман», нервный тычок ключа в гнездо замка, насыщенная и скрипучая тишина ночной квартиры, и вот наконец твоя дверь, ограждающая от всех и спасительная.
О чем-то неважном, несущественном говорили, завели проигрыватель, станцевали арабское танго, но, видно, у нее не было настроения для ночных танцев, и, вежливо, но твердо отстранив меня, она села на диван.
— Идти уже пора.
— Так ведь метро работает до двух часов… Я тебя провожу.
— Проводишь? Куда?
— Как куда? Туда, где ты живешь.
Она не ответила, усмехнулась.
— Дай закурить, — неожиданно сказала она.
Я достал сигареты, молча удивившись.
— Вот какая история, — тихо сказала она. Затянулась, закашлялась, сломала сигарету, роняя клочки горящего табака. — Я не поступила, я снова провалилась.
— Ну и что? В следующем году поступишь.
— Слушай, я потеряла уже три года на эти театральные дела. Я, наверное, бездарна, но никто мне не сказал правду. И вы тоже с Борькой только хвалили меня… Я оказалась дурой. Абсолютной дурой. У матери на турбазе отдыхал администратор театра. Мать вздумала меня ему показать. Что-то я там читала, изображала. Он похвалил. Обещал помочь, говорил, что связан с училищем. В Москве я с ним встретилась. Он быстро смекнул, что я помешана на этой идее. Он долго объяснял мне, что все можно устроить, что все оценки зависят от меня… Нет, не от моих способностей. От другого. Ты ведь понимаешь?
Мне не хотелось понимать, но я понимал.
— Провинциальная дурочка, одержимая… Должно быть, он решил, что я готова на все. Первый мой порыв был прогнать его, сказать ему, что он не за ту меня принял, высказать все, что я думаю о нем, о его так называемой «тактике приручения». Это он мне говорил, что не хочет форсировать событий, что влюблен в меня и постепенно меня приручит… Я с отвращением наблюдала это постепенное приручение. А с другой стороны, представь: снова бесславное возвращение, ожидающее лицо матери… Еще один потерянный год… Что было делать?
Я мысленно сопереживал ей, входя, как в мутную илистую воду, в эту ее ситуацию, которая, хотел я или не хотел, но с момента, как встретил ее здесь, в Москве, у «Авроры», стала и моей.
— Я хитрила, старалась выиграть время. Этот человек, сначала такой бескорыстно заинтересованный в моей судьбе, все более открывался… Специалист по таким провинциальным дурочкам. Мне хотелось немедленно послать его подальше и высказать при этом все, что я о нем думаю, но я сдерживалась. И от этого презирала себя. Мне были навязаны правила игры. Конечно, я их не приняла, но все-таки, все-таки… Я не выходила из игры. Я разговаривала с ним, улыбалась ему, хотя понимала, что он скотина. Я боялась его, знала, что если пошлю подальше, он перекроет мне все пути. На первом этюде я получила четверку. Я выложилась, как могла, и, кажется, на этот раз получилось. Вся комиссия сидела тихо, они смотрели на меня внимательно, серьезно, не было иронических подшушукиваний, как в прошлом году. Я была убеждена, что получу пятерку. Но не судьба. И все-таки еще были надежды. Я готовилась ко второму экзамену, но тут меня выперли из гостиницы, куда он меня устроил, чтобы мне легче было готовиться… Не знаю почему. То ли он подсобил, то ли иностранцы какие-то приехали. В общежитие оформляться уже было поздно. Он стал звать меня к какой-то своей сестре, возможно, несуществующей. Сказал, что институт в кармане, если не буду идиоткой… Со мной была истерика. Я ругалась так, как никогда в жизни… Все казалось гнусным: этот гостиничный номер, куда он меня устроил и откуда теперь гнали, ощущение зависимости. Впрочем, когда я высказалась ему, вся зависимость прошла. Теперь я ночевала у девчонок в общежитии без пропуска, нелегально. Одна из них говорила, что я старомодная дура, дескать, театральный институт стоит и не таких затрат… Там, в общежитии, разная публика. Я завалилась на следующем экзамене. То ли нервы не выдержали, то ли еще что. В общем, все.
— Хочешь, я найду этого человека и набью ему морду?
— Зачем? — тихо сказала она. — В конце концов я благодарна ему за урок. Жила-жила себе, закрывая на все глаза, почему-то всегда веря в чужую силу, в чью-то поддержку, в доброго дядю. Вот он и подвернулся, добрый дядя… Как это мы учили в учебниках? «Свинцовые мерзости жизни». Вот я чуть-чуть и хлебнула. Ну ладно, идти пора.
— Куда?
— Попробую в общежитие.
— Оставайся, я прошу тебя. Куда ты сейчас пойдешь? Ты ляжешь вот здесь, на диване. Завтра встанешь. Утро вечера мудреней ведь. И в конце концов ничего не случилось.
Она покачала головой. Потом опустила голову на руки. Я погладил каштановые жестковатые волосы. Я знал: останется, потому что некуда деться. И даже не потому… Может быть, единственный человек в Москве, который может ее понять сейчас и выслушать, это я. Понять и выслушать. Больше ничего. А что дальше… Ничего дальше. Я не могу, не должен обидеть ее. Сейчас она как будто моя младшая сестра, и все, и только.
Она встала, бойко спросила, скрывая смущение:
— Где у вас… тут?
— Сейчас я провожу тебя.
Она пошла за мной по темному тоннелю нашего коридора. Возможно, она впервые в жизни видела ночную московскую коммунальную квартиру.
Кухня пропахла луком. Днем она становилась рабочим цехом. У каждой домохозяйки свой стол, а станок — это плита, и она одна на всех. Входя в кухню, я видел, как они трудились, и шум был действительно почти фабричный, стучали молоточки, мясорубки со скрипом проворачивали фарш, булькала вода, время от времени женщины переговаривались. О чем? Я не вникал в их разговоры, но доносились обрывки; казалось, это был один и тот же разговор, растянутый на много дней.
Высокие своды кухни были закопчены. Иногда их сотрясал крик: ссорились. Ссорились редко, но все, это было как эпидемия, краткая, но бурная.
А сейчас тишина, инструменты начищены, чуть поблескивают в темноте, на столах.
В маленькой закухонной комнатке свет: не спит, молится старуха Феона; она больна, приготовилась умирать, все собрала для последнего обряда. Но при всей своей давней безропотной готовности к иному существованию она живо откликается на события повседневной жизни. Во всяком случае, и сейчас она выглянула и зыркнула на нас своими старыми, быстрыми глазами: все узрела и все поняла именно так, как ей надо было. И мне даже показалось, что глаза ее подмигнули мне, а тонкий рот понимающе ухмыльнулся.
Я подсознательно чувствовал: Феона лишь с виду смиренна, но страсти ее раздирают. Она выпивала тайком, в одиночку, я это знал, я как-то писал ее портрет и чувствовал исходивший от нее мужской водочный запах, да и в давно отцветших глазах словно бы блуждал какой-то бес… Вот этого беса я никак не мог передать, поймать, благостность, внешнее смирение, готовность к иной жизни — все это пожалуйста, все это как бы лежит на поверхности, но я чувствовал, догадывался: это первый слой, за ним другой, горький, юродивый, скрытый до поры до времени.
Бывала она и буйна и ругалась, если ее обижал кто, но такое случалось очень редко. Обычно она была молчалива, приветлива, улыбалась как бы блаженно, но с легкой ухмылкой. Аккуратно ходила к заутрене, на пасху пекла прекрасные, самые нежные, какие я ел когда-нибудь, куличи.
Она жила еще долго, лет десять, уже все соседи разъехались, обменялись, построились, получили новые квартиры в новых районах, а она все продолжала жить в этой маленькой комнатке для прислуги, иногда жалела, плакала, что не пошла в монашенки, как сестра ее, уже давным-давно преставившаяся, а так и осталась здесь, в коммуналке. И одна, без родных, гасла, переживая соседей, готовясь к смерти, которая все ее обходила.
Она не преминула мне как-то сказать после того вечера:
— Я-то думала, ты тихонькой, робкой, а ты эвон какой скорый. Но бог простит, ты молодой, а быль молодцу не в укор.
Любопытство удивительным образом сочеталось в ней с отрешенностью.
Я помнил ее взгляд весь тот вечер, ее необидную ухмылку и сам ухмылялся над собой, когда стоял у ванны, слушал шум воды, ждал Нору, чтобы проводить ее… Как и старуха Феона, я был, возможно, одновременно и свят и грешен.
Я знал, что я не должен обидеть ее ничем, что я не могу, не имею права. Я понимал, что она впервые в своей жизни душевно оскорблена, лишилась домашней защищенности, вышла из уютного окружения, впервые увидела притворство и подлость. И раз так, и она в моем доме, и ей тяжело, то во имя нашей дружбы я буду человеком и сделаю для нее все, что смогу… Так я говорил себе, ожидая ее, прислушиваясь к тому, как шипела газовая колонка, как она наконец, фыркнув, отключилась.
Стало так тихо, что я услышал шелест Нориного белья, платья и снова почувствовал почти физически, как я раздваиваюсь… Конечно, я уже все решил и ничего такого себе не позволю; если бы я не был чист в своих помыслах, то я не решился бы оставить у себя девчонку, давая им всем пищу для сплетен. Но, с другой стороны, зачем это острое, изнуряющее ожидание? Это поднимающееся волнение? В том-то и было противоречие, что я ничего не хотел и не ждал, но подсознательно ждал всего и хотел всего.
Она вышла, сказала, улыбнувшись:
— А я чуть не взорвалась.
И протянула мне мокрое полотенце.
В лице ее я не увидел ни смущения, ни неловкости: наоборот, ясность и спокойствие. Теперь у нее был ночлег и она могла отдохнуть.
И вновь я вел ее по коридору, мы скользили двумя тенями: одна легкая, как бы свободно парящая, вторая сутуло-напряженная (я весь сжался, готовый к отпору, если вылезет кто-нибудь из наших не в меру любопытных, а то и бесцеремонных соседей).
Но мы прошли без препятствий, тяжелая, обитая войлоком и кожей дверь закрылась, отделив от зримого и незримого присутствия чужих; и такой славной и светлой показалась мне сейчас моя старая, порядком надоевшая комната.
В домах напротив уже почти все окна погасли, только наша комната тепло и празднично светилась, и чувство отделенности от всех сближало меня с нею и опьяняло. Я без умолку говорил, читал стихи:
Ночь нема, как дух бесплотный, Теплый воздух онемел, Но как будто мимолетный Колокольчик прозвенел…— Какой-то ты странный сегодня, что-то все время читаешь, а ведь уже бог знает сколько времени… Давай укладываться.
В этом так просто сказанном «давай укладываться» не было ни намека, ни самого малого обещания, но было что-то доверительное, милое и опять же сближающее нас. И еще раз решив для себя, что я буду безупречен по отношению к ней, я стал вытаскивать из матерчатого рваного чехла старую раскладушку.
Все так же радостно я растягивал эту скрипучую, намертво сжавшуюся раскладушку, вытягивал ее длинный, ржавый скелет. Но когда я наконец отладил свое убогое ложе и посмотрел на Нору, то понял, что она не разделяет моей приподнятости, всех этих детских восторгов… Она сидела на диване в какой-то неудобной позе, положив на его высокий валик голову, я видел ее полузакрытые большие сонные глаза.
Уже погасив свет, я слышал, как она вздыхает, ворочается…
Нас разделяло несколько метров, всего несколько метров босиком по поблескивающему крупному паркету, — граница между двумя людьми, двумя состояниями: моим детским самодовольным покровительством и ее одиночеством в чужом городе, в чужом доме.
Я заснул быстро, неглубоко; сквозь клочковатый сон увидел ее. Стояла босиком у окна, в моей рубашке, достававшей ей до колен.
Большое вполкомнаты окно уже предрассветно светилось. Виден двор, а в нем трехэтажный особнячок постпредства, квадратный, с подстриженной травой газон, еще немного солнца — и он будет изумрудным, а пока он еще седовато-зеленый. Когда я приходил поздно, а точнее рано, я видел его именно таким, постепенно проявляющимся, как негатив.
Я тоже встал — она не обернулась, все так же стояла и неотрывно смотрела, будто была только одна, — тихо подошел к ней, осторожно дотронулся до ее плеча. Мое прикосновение было скорее знаком дружбы, чем нежности, но она резко отодвинулась и сказала: «Не надо».
Я отстранился, ее реакция обидела меня своей банальностью.
— Да ты не беспокойся, — сухо сказал я. — Мне ничего от тебя не надо. — И добавил: — Кажется, к Борьке ты была более благосклонна.
— Он нравился мне.
— Нравился? Почему в прошедшем времени?
— Потому что сейчас мне не до него. Мне вообще ни до кого. Понимаешь?
— Ну не поступила, ну и что из этого? Что за горе?
— Не в этом дело. Просто мне некуда деться. Возвращаться назад, домой, я не могу.
— Почему?
— Тебе, наверное, кажется, что там рай… Да, на месяц, может быть. Там можно отдыхать, но жить там тяжело. Праздность, многолюдье, пустота. Мне, во всяком случае, там нечего делать. Я хочу совершенно другого, а у меня не получается… Я не знаю, куда деться.
— Я уверен, что мать прекрасно устроит тебя до следующей весны. А потом снова попробуешь… И я уверен, выйдет.
— Мать и так уж загубила жизнь из-за меня. А сейчас у нее есть, возможность выйти замуж… Есть человек. Может быть, это ее последний шанс. И я не хочу, не могу возвращаться туда.
Не до конца мне понятное, сдерживаемое с трудом отчаяние словно бы росло в ней, ширилось, вот-вот готовое взорваться истерикой. Я видел это по ее ярко, сухо блестящим глазам, по резко, безжизненно побелевшей коже смуглых щек.
— Не надо, не надо, не надо. — Я пытался заговорить ее, как ребенка, троекратно возвращая ей эту ее же бессмысленную, ничего не означающую фразу. — Не надо, мы все для тебя сделаем.
— Кто «мы»?
— Я и Борька.
Она усмехнулась и, успокаиваясь, тихо сказала:
— Да… вы хорошие, но при чем тут вы?
Моя широкая клетчатая рубашка сидела на ней как хитон, щедро открывала загорелую нежную шею, начало высокой груди…
Она стояла босиком, нежно, легко поставив на пыльном полу маленькие, аккуратно вырезанные загорелые ступни, и я мгновенно забыл о роли друга-хранителя, обо всем на свете и притянул ее к себе.
Целуя ее, я слышал тихое, приглушенное: «Не надо, нехорошо так».
Но я уже не знал, что хорошо, а что нет, уже другая сила управляла мной. Подсознательно я чувствовал: моя нежность, страсть не захватывают ее, не передаются ей, она мертвая, чужая, это только натиск, который она терпит, но в конце концов оттолкнет, убежит… А может, и хуже. Может, и оскорбит меня. Но я уже ничего не мог с собой поделать.
Она не оттолкнула. Она была безучастна и странно податлива.
— Что ты творишь? — тихо и как-то обреченно сказала она. — Ты же не любишь меня.
— Люблю, — счастливо, уверенно не то прошептал, не то выкрикнул я.
Я много раз потом наново переживал, словно бы проигрывал тот вечер, стараясь не забыть ничего. Я спрашивал себя: врал я тогда или нет? Нет, в моем таком поспешном, легко сорвавшемся с языка ответе была все-таки правда.
Запомнились мне с детства строчки: «Часто говорят люблю те, которые не знают, сколько букв от Л до Ю».
Я произносил это слово чрезвычайно редко. Слово это не было расхожим для нашего поколения. Наша жизнь была с детства так организована в раздельных женско-мужских школах, что этой самой любви будто и не существовало. А если и существовала, то в каком-то особом виде, скорее всего в виде дружбы и товарищества, отличной учебы и взаимовыручки, а также в виде совместных женско-мужских бальных танцев.
Мы приходили в соседнюю 613-ю школу чинной группкой, поднимались маршами мраморных лестниц, и на нас с любопытством смотрели сотни девчачьих глаз; девчонки подхихикивали, будто мы были существа не только другого пола, но и с другой планеты.
Это любопытная вещь: на улице, во дворах, где мы жили, мы встречались с этими девчонками неоднократно, трепались, шутили, а когда приходили в их школу как бы официальной делегацией, то становились уже не мальчишками и девчонками, а представителями двух замкнутых мирков и смотрели друг на друга по-новому, будто в первый раз видели.
Потом торжественный падекатр, салонный падепатинер и, наконец, вихревая мазурка объединяли нас. Мы протягивали друг другу руки, влагали в теплые ладони свои трепещущие пальцы. Ход раздельного обучения как бы мгновенно нарушался. В шелестении торжественных бесполых танцев мы чувствовали вдруг смутную тайну пола.
Мы важно танцевали под чужой ритм. А популярные в те времена ритмы звучали дома, в комнатах коммунальных квартир, эти мелодии слетали, задыхаясь, с тоненьких кругляшей пленки, с самодельных пластинок, которые продавали в подъездах странные типы в кепочках-малокозырках с продольной полосой, в ботинках на толстом каучуке, типов этих обычно звали Бобами, Джонами, Григами. На самом деле они были Борьками, Иванами или Гришками.
Впрочем, это был один слой, один тип компании, это были джазовые ребята. Но существовали и другие. Они собирались в музее Скрябина или просто у кого-нибудь дома. Сидели допоздна, читали стихи.
Скромные вечеринки пятидесятых годов; малоизвестные стихи, недоступные, хотя и очень близкие девочки, какое-то особое пространство между нею и тобой, сильно сокращенное следующим поколением.
Его не сразу преодолеешь, невозможно сделать шаг, чтобы обнять, поцеловать, нет, сначала надо иначе, как бы бесплотно пройти это пространство, заполненное чужими, своими стихами, разговорами, цитатами. Любовь упрятана, прикрыта, закрыта, закамуфлирована общими интересами, бальными танцами, диспутами, спорами.
Многие из ребят старались казаться старше, опытнее, а победы болтливых и хвастливых мальчишек были сильно преувеличены.
Модно одеваться, пижонить тогда было очень трудно. Стиляги выделялись в толпе как белые вороны.
Я вообще не представлял, откуда у этих парней роскошные светлые пыльники, туфли на толстенных, рафинадного цвета подошвах, шляпы котелком. Я ходил во всем отцовском, перешитом на меня. Самыми пижонскими вещами были перелицованное габардиновое пальто и американские, солдатского вида ботинки на микропоре.
А эти проплывающие мимо девчонки в широких пиджачках, открыто покуривающие, всегда улыбающиеся и грустные, если приглядеться? На них интересно было смотреть. Но любить следовало других. А кого?
Торжественно, с неприступным видом юных графинь плыли под звуки духового оркестра наши старшеклассницы. И мы быстро придумывали себе предмет любви, выскакивали из душного зала, слонялись по пахнущим вечным, неистребимым запахом среднего образования коридорам, выскакивали в весенние дворы, неумело, торопливо целовались.
Целуясь, чувствуя головокружение, вылетая из школьных стен, убегая от всех на свете табу, мы все-таки избегали слова «люблю».
Потому что еще смутно представляли себе, что это такое.
В шесть часов утра меня разбудил голос Левитана, загремевший из невыключенного радиоприемника, бронзовый голос важных сообщений, парадов, собраний и манифестаций, в недавнем прошлом сводок Совинформбюро, голос, от которого ждешь чего-то необычайно грозного или, наоборот, торжественного. На этот раз он просто возвестил начало нового дня и начал перечислять последние события в стране и за рубежом.
К счастью, он не разбудил Нору. Я метнулся к приемнику, вырубил его. Снова стало сонно и тихо. Связь с событиями в мире оборвалась, а Нора во сне заворочалась и чуть застонала. Я накрыл ее сползшим на пол одеялом, подоткнув его с боков…
Первый раз в жизни я проснулся рядом с женщиной.
Я увидел ее как бы в первый раз — бледное, тревожное даже во сне лицо с легкой синевой под глазами, с арочными линиями густых, но тщательно выщипанных по моде бровей.
Сейчас она виделась мне больным ребенком, может быть, сестрой. Странно было: только что прошла эта короткая ночь, переполненная нежностью, страстью, смущением, борьбой, полнейшей свободой и странной скованностью, а сейчас не было ни разочарования, ни отчуждения, только какая-то жалость к ней, а может быть, и к себе, оттого, что все дальнейшее было неясным, запутанным, оттого, что я чувствовал какую-то новую связанность с ней и зависимость от нее… Все это ворочалось внутри меня живым острым комком, поднимавшимся к горлу и запиравшим дыхание.
Босиком, стараясь ее не разбудить, я прошелся по комнате, которая тоже как бы изменилась с ее присутствием, и подошел к окну.
Ровный, ухоженный газон постпредского сада, напоминающий маленькое футбольное поле, наливался краской, зеленел на глазах. Да и само здание в прозрачном, струящемся воздухе казалось золотистым и как бы взлетающим вверх.
Я почти всегда вставал с трудом, редко начинал день легко и счастливо, не сразу врастал в него, а как бы преодолевал зябкую, неживую полосу.
Сейчас же я с неожиданной полнотой и остротой счастья ощутил начало дня. Я как бы увидел себя со стороны, с высоты какого-то другого возраста, мне неизвестного, и подумал о том, что вот это утро часто буду вспоминать, оно останется для меня навсегда — может быть, до конца жизни. Впрочем, тогда этот самый конец жизни представлялся мне таким далеким от сегодняшнего утра, как это сегодняшнее утро, скажем, до дня восстания Спартака.
Убежденность в бесконечности жизни…
И оттого так четко и с поразившей меня новизной я чувствовал надышанное сонное тепло комнаты, пробивающуюся в форточку свежесть летнего, настоявшегося за ночь на запыленной, но живой листве бедных городских рощиц утра, ясность и чистоту начавшегося дня, желтовато светящуюся барочную колоннаду графского дома с вывеской постоянного представительства.
Все это вдруг связалось в одну цепь давно известных, но как бы впервые открытых мной предметов, явлений, а началом этого голубого, сверкающего, будто тронутого киноварью потока была девушка, свернувшаяся под моим одеялом, спящая на моем диване.
Я не мог допустить, что она проснется, встанет, уйдет и больше мы не увидимся. Лезли всякие мелкие, будничные мысли: надо или не надо ехать в Институт, что сказать Борьке, когда я его встречу. Все эти ничтожные мыслишки, изгнать которые я не смог, но как бы засунул куда-то в подвал своего сознания, не могли ни омрачить, ни испортить сегодняшнее утро.
Пустая утроба стоявшего в углу комнаты холодильника время от времени издавала короткий глубокий звук, урчала, напоминала о том, что в доме нет еды. Но было рано, и все магазины города были еще закрыты.
Я подошел к дивану и тихо лег рядом с Норой. Я обнял ее, поцеловал в закрытые глаза.
— Не надо, — сонно сказала она. — Уже, наверное, поздно и пора идти.
— Никуда ты не пойдешь, — твердо сказал я.
Что еще было в те предосенние дни?
Участие в ее судьбе… Постоянное ее присутствие… Желание ее защитить. Я даже добрался до администратора, до того самого типа.
Вот я стою перед ним. Он представлялся мне по ее рассказам плюгавым, лысым, вертким, — такими обычно изображают театральных администраторов. На самом же деле он высок, плечист, кудряв, наряден, и только улыбочка у него ироническая и чуть наглая, вот она-то и дает мне толчок, опору, она стартовая площадка моей ненависти, моего наказания. Какого?
Избить его я не могу при всем желании. Я щупл, низкоросл по сравнению с ним. Когда я вошел в его кабинет, он сидел за столом, и я увидел его мощную кисть, толстые пальцы, поросшие волосами, зажавшие авторучку. Авторучка в этой здоровой ручище казалась спичкой. Достаточно таким рычагам заработать и…
Тем не менее благородная ярость переполняет меня. «Негодяй, сукин сын, проходимец, вас надо выгнать из театра, я вас опозорю, вы ответите», — мысленно говорю я, но на самом деле молчание, тишина, и он с высокомерным ожиданием смотрит на меня.
«Что вам надо, если хотите контрамарку, пожалуйста», — это я тоже мысленно слышу, а точнее готов слышать, но этого он не произносит.
Он будто и не замечает меня, пишет и пишет, сжимая своими клешнями тоненькую шариковую спичку.
— Я брат Норы.
— Какой еще Норы?
— А вы забыли?
— Что-то не помню.
— Той самой, из Келасури, из Абхазии, той, которой вы обещали…
— Обещал, да, кажется, но, кажется, не получилось.
Он отвечал, не глядя на меня.
— Вы негодяй, — прямо в лоб выстреливаю я.
Он смотрит на меня, таращит удивленно небольшие желтые глаза.
— Вы что, делаете вид, что не понимаете? — говорю я.
Он продолжает писать и так же спокойно, негромко, не подымая глаз, говорит:
— Ваша сестра не вправе на меня обижаться. Я ничего плохого ей не сделал.
— Сукин сын, — задыхаясь, кричу я. — Воспользоваться положением, наобещать, шантажировать…
— Но ведь я ничем, кажется, не воспользовался до конца, и никаких, я полагаю, претензий у вас ко мне не может быть, — с поражающим меня спокойствием говорит он. — Ваша сестра, извините, запуганная провинциалочка. Вы же, очевидно, психопат. Вот так.
— Как интересно видеть живого мерзавца, — говорю я громко.
— Ну и смотрите на здоровье, — так же спокойно, не повышая тона, не вставая, говорит он. — Только выйдите на всякий случай. Работать мешаете.
Я стою в растерянности. Вроде бы я сказал все, что надо, а он не реагирует и даже на драку не идет. Впрочем, если дело дойдет до драки…
На углу его стола стоит пузырек с чернилами, взвинчивая себя, я думаю: вот сейчас возьму и брошу в него… Но тут же успокаиваюсь — черт с ним, с этим негодяем, долг исполнен, во всяком случае.
Я осматриваюсь по сторонам. Висят афиши, я механически обращаю внимание на то, что они выполнены в одной манере, будто все спектакли на одно лицо. Хотя, кажется, спектакли этого театра идут всегда с аншлагом. Я не был в нем ни разу. Афиши яркие, но без выдумки, иллюстративные, я бы сделал совершенно иные.
— Что, заинтересовались? Могу контрамарочку дать на два лица. Вам с сестрой.
— У вас бездарные афиши и плохой театр.
С этими словами я покидаю кабинет администратора.
Взад и вперед исхоженная нами осенняя Москва, особенно часто шли мы мимо Библиотеки имени Ленина, по мосту, на набережную, потом на Ордынку.
Чистые пруды и Ордынка — вот два места, где прошло мое московское детство. Я рассказывал Норе историю этой улицы, в то время я был очень увлечен старой Москвой, мне хотелось написать цикл акварелей «Москва ушедшая». И я смотрел в архивах старые чертежи, пожелтевшие рисунки: Ордынская местность, в которой жили тягловые люди, время от времени они должны были возить в Золотую Орду поклажу, а в лучших домах проживали послы Золотой Орды. Потом здесь возникла Ордынская слобода, или Варлаамовская, по церкви святого Варлаама Хотынского… Может быть, где-то здесь, недалеко от церкви Преображения господня молодой опричник преследовал красавицу, жену купца Калашникова.
И казалось, что мы с Норой тоже оттуда, я только не мог определить наше сословие, я говорил, что она грузинская княжна, невесть как попавшая в Москву, а она называла меня мелким купчиком, особенно после того, как я затаскивал ее в кафе, в шашлычные. Она отказывалась от княжеского титула, она видела себя монашенкой.
— Монашенки не целуются в скверах, — говорил я ей.
— Я грешница с душой монашенки, — смеясь, отвечала она.
И опять вспоминался «Великий постриг», — та тоже была живая и целовалась, наверное, перед тем как уйти…
Это был месяц совершенно безмятежный и счастливый. Борьку я так и не встретил, он уехал в деревню, родители еще месяц должны были находиться в экспедиции, и она пока жила у меня. А что дальше? Дальше посмотрим. То, что за пределами месяца, казалось, еще далеко. И нечего всматриваться в завтрашний день. Завтрашний день размыт и неясен, но все же хорош. Август все жарче, все меньше тени в московских садиках и скверах. Все время чувствуешь свои городские пересохшие губы. Подставляешь к ним выщербленный стакан с газировкой и в последнем глотке приторного сиропного питья ощущаешь горечь…
То, что сделало нас с Борькой почти врагами, то, что развело, разделило нас на несколько лет, потом примирило, сблизило. Вслух, в разговоре, мы всего один или два раза вспоминали о ней. Но оба совершенно отчетливо чувствовали ее незримое присутствие. Зримое присутствие столкнуло нас когда-то, ближайших друзей, незримое объединило навсегда.
И едва я входил в его квартиру, где правила его новая жена (почему-то я все считал ее новой, хотя она уже много лет была с ним), я безотчетно, долго смотрел на рисунок в углу. Зачем мне нужен был этот рисунок? Все уже давно переменилось в жизни. Я не думал, плох он или хорош, хотя он был удивительно точен и легок, нарочито не закончен, а может быть, и не нарочито…
Я чувствовал в нем силу остановившегося времени.
Я уже давно привык к ее отсутствию, вся моя жизнь, долгие годы шли без нее. Легче, светлей было бы думать, что она солнечно растворилась в небе, но нет, она была в земле, под серой мраморной плитой с уже несколько потемневшим барельефом, который Борька выбивал днем и ночью.
Пригнувшийся к земле, исступленный, заросший, он, казалось, вот-вот рухнет и не поднимется никогда. Но он не рухнул.
И все же физическая реальность ее исчезновения была не до конца постижима. Казалось, уехала надолго, на годы, навсегда, но где-то есть, живет, существует, Жена же Борькина думала, очевидно, что Нора действительно до сих пор жива, и, как радар, безошибочно перехватывала мой осторожный взгляд на рисунок, взгляд Борьки на меня. Она охраняла и защищала сегодняшнее от вчерашнего.
Есть мы с Борькой, есть жена, есть ее бессмысленная ревность, есть Борькин рисунок.
Нет Норы…
Но это еще не скоро. Еще несколько лет одним клубком катиться нам всем по земле.
Я решил сделать ее портрет.
Портрет давался очень трудно. Если бы я поставил цель нарисовать портрет незнакомой женщины, если бы я писал с натурщицы, было бы гораздо легче.
Чувства было слишком много, оно теснило, распирало и потому мешало. Может быть, труднее всего писать «свой» материал. Личное владеет тобою, и исчезает необходимая отстраненность.
Я все время приглядывался к ней. Она шутила:
— Ты что, меня в первый раз видишь?
— Да, в первый, — отвечал я.
Но именно того, к а к о й я ее увидел в первый раз, именно этого я не мог вспомнить. А необходимо было только это. Все свои поздние чувства надо было забыть, убрать. Нужна была острота первого взгляда, отчуждение от натуры.
Я много раз ее переписывал, переделывал. Я делал другой портрет, уже п о с л е… Но тот, первый, сохранился. Недавно я взял его и посмотрел, будто на чужую работу. Мне было даже неважно, к а к исполнено. Был важен лишь облик…
Она сидела за столом склонившись, в сиреневой кофточке, с голыми загорелыми руками, со счастливыми, тихими, медовыми глазами. Ни облачка, ни тени предчувствия…
Каждый вечер мы ходили куда-нибудь в кино, просмотрели все стоящие и нестоящие фильмы, их, впрочем, тогда выпускалось немного, таскались по молодежным кафе, входившим в моду. Молодые поэты читали там свои стихи, микрофоны, как правило, не работали или их не было, и напряженные голоса поэтов раскалывались на отдельные звуки и фразы, прорывавшиеся сквозь гул толпы, как ни в чем не бывало попивавшей вино и поедавшей мороженое.
Чужеродны были эти поэты здесь, с бледными, серьезными лицами, среди других, распаренных, красных, блаженно-рассредоточенных.
«Нет, никогда не буду выставляться ни в каких кафе», — решил я для себя, хотя никто и не предлагал мне выставляться.
Под этот разнородный и чужой гул мы продолжали с Норой свой долгий, постоянный диалог. Мы бесконечно спорили, хотя, казалось, наши взгляды были схожи, и мы сверяли их друг с другом и уточняли, словно раз и навсегда, именно в этот месяц нам надо выработать единую, общую линию жизни.
Сосуды наших жизненных впечатлений стали как бы сообщающимися, все, что было увидено, прочитано, пережито, надо было сию же секунду передать другому.
Мы знали теперь все друг о друге, да и не только друг о друге — о наших близких, о наших родителях.
Только о своем отце Нора почему-то умалчивала, так же, как там, у нее дома, умалчивала ее мать. Но однажды Нора рассказала мне и об отце.
Отец ее, немец-коммунист, судя по ее словам, всю войну жил здесь, в России. Какую работу он вел, я так и не понял, да и Нора не знала. Ясно только, что он принимал участие в нашей общей борьбе против фашизма. Первая его жена была немка, антифашистка, она погибла совсем молодой, еще в тридцатые годы.
В конце войны, уже в мае сорок пятого, ему предложили отправиться в Германию, и мать, взяв с собой маленькую крикливую Нору, поехала за ним в Берлин по разоренным дорогам Европы. Они прожили там несколько, судя по словам Норы, трудных лет. Я не понимал, что было самым мучительным: то ли ее мать не могла там, то ли не могла с ним… Видимо, у них были какие-то сложные отношения, о которых Норе не хотелось говорить. Впрочем, Нора очень часто повторяла, что мать очень любила отца, но он целиком был занят своей деятельностью, его никогда не было дома, и мать мучилась в одиночестве в полуразрушенном чужом городе.
Время от времени мать возвращалась назад, домой, и после этих возвращений ехать в Германию было особенно тяжело. Мать отказывалась принимать там все: и еду, и климат, и людей. Еда была постная, климат сырой, люди чужие.
Но главное было в чем-то другом…
Норе запомнились лишь бессонные ночи в поездах, таможенники, солдаты, пограничники и запомнился пригород Берлина, в котором они жили: в первый приезд ржавый и разрушенный, во второй — очистившийся, с одинаковыми аккуратными домами, с разноцветными наличниками на окнах, со свежей черепицей новеньких крыш. Еще ей запомнилась гулкая пустая кирха, куда забрела; старуха тщательно мыла полы, тускло светился орган, его трубы показались ей позолоченными газырями.
Старуха спросила ее о чем-то по-немецки, а девочка растерянно сказала:
— Не понимаю.
И старуха что-то долго говорила, глядя на нее незрячими открытыми глазами. Говорила долго и жарко, будто что-то пыталась объяснить, а что — Нора не поняла. Озлобления не было в том, что говорила эта слепая старуха, так Норе показалось, во всяком случае.
Еще в один приезд город увиделся ей рафинадно-белым и розово-пряничным. Он был умыт, вычищен, похож на декорацию. В кондитерской продавались удивительные пирожные: мышки с глянцево-черными спинками. Мышки таяли во рту. Большой, грузный отец с ноздреватым носом, не вынимавший изо рта трубки, что-то рассказывал; слова словно цедились. Ей было странно, как можно говорить, держа в зубах трубку. Ей хотелось любить своего отца, да и мышки, которыми он угощал, были такие вкусные, но, уехав на родину, она всякий раз отвыкала от него и потом привыкала с трудом. Она чуть-чуть боялась его. Он называл ее «майне тохтер» и с гордостью показывал знакомым свою дочь. Она чувствовала, что он очень гордится ею. И еще она понимала, что он видный человек в этом городе, все почтительно здоровались с ним, а некоторые смотрели с неприязнью и страхом, но здоровались еще более почтительно.
Вот и все, что она помнит: музыка из сверкающего автомата, мороженое, сладкий морс, отец с трубкой, а потом вдруг белое запрокинутое лицо отца, длинная процессия, мать, сжимающая ее теплыми мокрыми руками, то молчащая, то рыдающая, толпа, музыка и наконец тишина, и очистившаяся от цветов черная лодка с отцом опускается в бездну…
Когда они отъезжали от этого огороженного забором здания, где навсегда остался отец, она смотрела на плоскую, серую трубу с будто привязанным к ней жидким клубком дыма.
Больше ни она, ни мать не были в Германии.
Мать часто вспоминала отца, кручинилась о нем, будто и впрямь жила с ним счастливо и безмятежно.
Однажды она, непривычно оживленная, сказала, что у Норы, оказывается, есть в Германии братик. Недавно он прислал письмо, возможно, ему хочется посмотреть на свою сводную сестру…
— И ты не ответила ему? — спросил я ее.
— Нет. Все собиралась, но так и не ответила. Ведь все равно он мне чужой человек.
— Странно. Я бы ради этого поехал в Германию или нашел бы его и вызвал сюда.
— Да, мне тоже хотелось, но я не знала, что ему написать. Все откладывала, откладывала, да так и не решилась.
Я мысленно представлял себе ее брата и думал о том, как не похожи ее судьба и ее родители, те города, в которых она росла, на мою судьбу, на моих отца и мать, на мои города.
И вот наши такие непохожие судьбы встретились, неожиданно пересеклись, и ничто не разделяет нас. И не разделит никогда.
«Никогда» было обещанием вечной близости, нераздельности с нею, а теперь превратилось в побитую снегом и дождем плиту с барельефом, ее именем и двумя близкими по времени датами.
Родители мои вскоре должны были приехать, и я тратил все свои дни на поиски комнаты, которую Нора могла бы снять. Я со страхом думал, что в один прекрасный момент ей надоест это бездомье, она махнет рукой на все и отправится домой, к матери. Наконец удалось снять угол у пожилой женщины, машинистки.
От самого этого слова «угол» пахло сиротством, прошлым веком, жизнью бедной провинциалочки при господах… Да еще эти то длинные, то короткие очереди, сухой, нервный треск машинки.
И каждый вечер, как только темнели рябые мостовые Москвы, мы искали прибежища во всех ее парках, скверах и зеленых островах.
Фили, Краснопресненский ЦПКиО, Измайлово, Сокольники…
Снобам нынешнего поколения это может показаться странным, смешным: действительно, что может быть пошлее хождения в подобные места? Я же и мои сверстники любили их не только за тьму и относительное уединение: дети города, мы искали и находили там сень дубрав, ручьи и поляны.
Правда, эти поляны были усеяны бутылочными осколками, которые сверкали словно окаменевшие, застывшие слезы — след какой-то забубенной исчезнувшей жизни.
Иногда Нора брала с собой учебники (она решила теперь поступать в медицинский), а я рисовал на картоне черно-белые пейзажики или фигурки движущихся людей, — меня всегда интересовали элементы человеческого движения, мне казалось, что характер человека в первом своем слое открывается именно в движении, в походке.
Я не понимал, как она относится ко мне, любит ли она меня? Она была ласкова, нежна, иногда чуть снисходительна, иногда она называла меня «мальчик». Это ее «мальчик» пронзало меня нежностью, лаской, но порой в этом слове виделся и другой смысл, словно указывающий на какую-то мою слабость, неспособность ее защитить, даже приютить. Мальчик мог сопровождать, занимать, не более.
Словно на горячем, беспечном бегу натыкался я на опущенный шлагбаум. Все. Дороги дальше нет. Перспектива бесперспективна.
Но об этом я старался не думать.
Буквально каждый тот день и вечер я помню и сейчас. И все они сливаются в один сплошной праздник.
И даже эти долгие сидения на скамейках, ожидание темноты, ненависть к мелькающим белым рубашкам или светлеющим во тьме платьям, и наконец пауза, тишина, пустота, никого, и мы как бешеные бросаемся в объятия друг другу, словно годы ждали этого момента.
Умом я понимал: со стороны объятия на пошлых скамейках глупы, бесстыдны, но мне плевать было на это. «Со стороны» не существовало для меня, я знал: может, это и высоко звучит, но я чист как никогда.
Двойственная сущность любви: разрыв между рождающимся в горных высях чувством и его плотским воплощением; эта остро ранящая, особенно в юности, несовместимость не только уходила, наоборот, возникало чувство полностью поглощающей, новой и абсолютной близости.
Слово «близость», обычно обозначающее отношения мужчин и женщин, было ни при чем.
Другое. Наверное, не близость, а просто одно целое.
И каждый раз я целовал ее будто в последний раз, и после солнечного, слепого взлета была пустота, ноющая, раздирающая грудь боль; сухой запах земли, терпкий дух чабреца, дыхание разлуки. Откуда, почему?
Может быть, груз первой в жизни настоящей любви был чрезмерно тяжел? Может, и так… Но что-то еще мучило. Странное ощущение, что счастье огромно, но досталось как-то уж слишком легко, случайно, без боя: д а р о м и ни за что. И потому — на время.
Но пока рано об этом. Пока мы сидим в Сокольниках, во вновь открытой стекляшке шашлычной, дожидаемся, пока одновременно рассеянно и судорожно, по какой-то ему одному ведомой орбите официант дойдет до нас. И вот наконец дождались, получили неопрятную медицинского вида колбу с табачного цвета кислым вином и несколько кусков горячего, тянущегося, как каучук, полусырого мяса. Как проголодавшиеся звери, мы рвали его молча, сосредоточенно.
Вдруг мимо нас прошел степенный, сосредоточенный Сашка, а за ним Борька…
Все-таки мы не могли не встретиться. Москва огромна и тесна.
Борька похудел, осунулся, — вернувшись из деревни, он отравился в какой-то столовке, да так, что угодил в больницу.
Я несколько раз навещал его. Тема его болезни была для меня спасением.
— Ну как ты там?
— Нормально, у других еще хуже.
Так мы перешучивались, и как действительно мог я ему, больному, рассказывать о том, что происходит, как мог я, чтоб в этих дурацких желудочно-кишечных беседах прозвучало святое для меня имя.
Да и как мог я вообще кому-нибудь рассказать о нас с ней.
Его южный, легкий флирт с ней — или как там это назвать — увлечение? — теперь, после всего нашего, московского, казался игрой, чепухой давних, безответственных, напрочь ушедших времен… Теперь свою жизнь я делил на «до нее» и «при ней», как историки делят эпохи.
Конечно, следовало бы сказать ему, что она здесь, но все как-то не получалось. Да и почему, кстати, я должен ему докладываться? Кто она ему? Кто он ей? Никто. А мне она — все.
И все же когда встретились, стало жарко, противно, нехорошо. Не то чтобы ложь или предательств, но первая моя в отношениях с ним неискренность.
Он посмотрел с изумлением, автоматически перепроверил вторым взглядом, не ошибся ли, и, удостоверившись, что все так и есть, усмехнулся. Трудное, вынужденное движение лицевых мускулов, улыбка, тяжелая, как вес, который необходимо взять, рвануть на помосте, прежде чем начать разговор.
— Однако это интересно. — Он сильно окал всегда, когда волновался… Помолчав, добавил, глядя на Нору посветлевшими почти до белизны глазами: — И давно это вы… здесь… в наших северных краях?
Лицо ее выражало какую-то умственную работу, мне показалось, она шевелит губами, добросовестно подсчитывая:
— Ровно два месяца.
Он еле заметно помрачнел. Два месяца — это было много: ее неожиданное, как снег на голову, появление в Москве, ее случайную встречу со мной еще можно было понять: он в больнице, не нашла его, нашла друга… В таком случае все было бы нормально. Тогда можно было бы все переиграть, снова взять инициативу, но два месяца — это много.
Чудак, он еще не знал, какие д в а м е с я ц а.
Он скрытно, незаметно (но я-то все замечал) следил за каждым моим жестом, словом, за каждым обращением к ней.
И опять ему было непонятно: ушел поезд или нет.
А понятно стало на следующий день в Институте. Он в упор, без всяких прелюдий, как-то по-мужицки грубо спросил:
— Ты что, спутался с ней?
Я ответил твердо. Будто камень, вылетевший из его глотки, с силой втолкнул ему обратно:
— Не смей. Мы любим друг друга.
Хотел сказать: «Я люблю ее». Но сказалось само: «Мы любим друг друга».
Теперь, я знал, это навсегда разъединит нас с Борькой. На каком-то этапе мы все — я, она, он — были частью единого целого. Теперь все изменилось. Мы разделились: я и она — одно, он — другое. На другой стороне, на другом берегу. Сначала был маленький ручеек, перешагнуть его ничего не стоило, но — не шагалось. Стояли на месте. А он все ширился между нами, и все холоднее, глубже становилась эта вода.
Вокзалы, ухающая музыка, — тогда эта музыка громыхала над перронами, заглушая напутствия, пожелания, плачи. Со времен войны это осталось — музыка на вокзалах.
Я отсчитывал дни и часы до ее отъезда. Что ж, не привыкать было прощаться и встречать…
«Едем мы, друзья, в дальние края…» — это даже не песня, это гимн целого поколения. Сначала товарняки и эшелоны войны, эвакуации, разлук, сортировочные станции, откуда поезда выползали медленно, как гусеницы, иногда под кружащимся и примеривающимся немецким самолетом. Потом, в начале пятидесятых, другое. Стройотряды, студенческие отряды — слово «отряд» уже потеряло свой военный, боевой окрас.
Отряды двигались в Казахстан, на целину. Все мы, или почти все, прошли через это. Все поколение. Целина сделала нас взрослыми, заставила — вдали от дома — взглянуть на многое иными глазами, произвести переоценку ценностей.
Палаточные городки вошли в жизнь навсегда. Они были святы для нас. Может быть, поэтому я так не люблю бойких туристских песен с «романтикой», я всегда считал, что их писали люди, ездившие только по курортным маршрутам. Любование чужой неустроенностью, воспевание этой неустроенности, всякого рода фальшивые мечтания чаще всего свойственны людям, удобно устроившимся и крепко оседлым.
Надо сказать, что в Институте была традиция хождения за тридевять земель ради жизненного материала. Несомненно, это многое давало: большое видится на расстоянии… Но всякий раз, отправляясь осваивать новый пласт, мы забывали, что у каждого есть свое, изначальное, ему только, может быть, до конца известное, но почему-то считалось признаком плохого тона писать свою улицу или свой районный городок, а требовалось непременно что-то географически удаленное — там именно должен был высветиться современник.
Да, новые города, новые люди много дали нам, особенно в юности. Потом мы почувствовали потребность выбрать что-то важное для себя из всего этого калейдоскопа, не прикасаться к новым темам перстами, легкими, как сон, а вжиться в одну. Освоить — до конца — свой город, свой поселок, свою дорогу. Впечатления нельзя брать напрокат.
Тяжелее гнать из себя, из своих недр, из своего жизненного опыта. А езда в незнаемое тоже не всегда плодотворна. Не превращается ли она постепенно ездой в заемное? Да и бессрочная командировка — с бесконечной сменой мест, с мельтешением приездов и отъездов — вдруг становится поперек подлинной, выстраданной жизни, и ты чувствуешь какую-то новую необходимость, а может быть, и старую, командировки в самого себя, в свое, в свой, выстраданный судьбой материал, понимаешь, что самые зрелые краски добываются оттуда. Из т а к о г о и вырастает твоя картина.
Аккуратно, мастеровито сработанные портреты, грамотные композиционно, с контрастирующим или подчеркивающим фоном — как часто они не согласованы с внутренним миром портретируемого.
Внутренний мир — что это такое? Горняк смотрит с необыкновенной зоркостью, он привык так смотреть в полутьме, но зоркость его подсказана тебе торопливостью твоего ума и сердца. Это не горняк, а изображение горняка.
Способ изображения не твой, он взят бессознательно у кого-то, не у одного даже, а у многих, он старый, но вместе с тем новехонький, точнее кисть новехонькая, она жесткая, будто еще не купалась в краске, не останавливалась, не шлепала в отчаянии по безмолвному холсту, оставляя розовые кровянистые пузыри.
«Любите живопись, поэты, лишь ей, единственной, дано души изменчивой приметы переносить на полотно…»
А как ее поймать, эту душу изменчивую, в мелькающих командировках?
Впрочем, и не в командировках дело, а в том, чему не научишь.
И я вспоминаю прочитанные когда-то в юности слова старого художника. С наивной простотой он раскрывает свою тайну: берите, пользуйтесь, вот мой секрет, он так прост.
«Вместо того, чтобы писать голову на фоне банальной стены какого-нибудь убогого жилища, я пишу бесконечное, я делаю простой голубой фон, наиболее богатый, наиболее интенсивный, какой я только в состоянии дать, и благодаря этому простому сочетанию освещенная белокурая голова на насыщенном голубом фоне приобретает таинственный характер, как звезда среди темной лазури».
И в который уже раз ты выходишь из Русского музея или Эрмитажа подавленный, с сознанием, что все уже было, что все уже сказано, — и что своего ты можешь добавить? И нужно ли?
Из-за этих неразрешимых вопросов мне хотелось уйти во что-то более конкретное, может быть, даже подчиненное чужому замыслу. Я робел перед живописью, хотя мечтал о ней и все время к ней возвращался. Но я сознательно убегал в книжную графику, хотя она была ох как нелегка.
Сашка же был прирожденным профессионалом, ему давалась и графика и живопись, — тут не было и намека на скоропись, торопливость, дешевку, он работал добротно — иногда настолько, что улетучивалась фантазия.
Борька же никогда не робел перед живописью. Он очень редко говорил о себе, о своих работах, но как никто другой знал себе цену. Мне казалось, в нем было самоощущение сильного дара, может быть, даже гениальности.
Вероятно, такое самоощущение необходимо истинному таланту, чтобы он еще выше поднялся.
Борька работал скрытно, долго, не выставлялся — не только потому, что не предлагали, но и потому, что не хотел. Может быть, он ждал с в о е й выставки.
Почему он ушел в преподаватели — именно тогда, когда каждый из нас уже пробивался в люди, становился в какой-то мере известен? От неудач? Да ведь и неудач-то не было. Было определенное непонимание, неприятие, но все ждали от него, даже те, кто говорил, что он закис, выдохся или бог знает что еще, — даже они не от кого-нибудь, а именно от н е г о ждали.
Многим казалось, что, уйдя в интернат преподавателем живописи, он протестует против всеядности некоторых ловких выпускников нашей альма-матер — «клиентов», как мы их с иронией называли.
Не думаю. Ему нравилось это дело, в нем неожиданно проявилось терпение, способность объяснять, желание показывать, открывать. Но была еще одна причина, вполне понятная, бытовая. Борька занимался одной живописью, она шла медленно, к тому же у него бывали перерывы, когда он совершенно не мог работать, а подрабатывать не умел, да и не любил; выходит, преподавательство было для него еще и средством к существованию.
Долгое время после того, что случилось с Норой, он никого из нас не хотел видеть, жил в своем городке анахоретом, работал тяжело, судорожно, потом дела его неожиданно поправились, его заметили в городе, он вроде пошел… До того момента, когда на слишком многое замахнулся. Замыслы были мощные, но организатор он был никудышный.
После этого он долгое время тяжело болел, лечился, в доме у него на столе беспорядочно валялись разноцветные горошины лекарств, коробки с пугающими незнакомыми названиями.
Вот в эти дни, еще до того как он женился, я впервые встретил в его доме маленького, худющего мальчика, мучительно заикающегося, Егора, Егорку…
Но до этого еще были годы и годы.
День ее отъезда. Проводница, бегло глянув на билет, так же бегло, механически спросила:
— Вы провожающий?
— Да, провожающий, — угрюмо и так же механически ответил я.
Что же это происходило? Какие-то люди, протискивающиеся с бесконечными чемоданами, вжали нас в стену вагона, шли мимо нас, мне даже казалось, что сквозь нас.
Потом начали бубнить проводники, прогоняя провожающих. Чьи-то крики, пьяные мужики, тащившие пиво, пожилые меланхоличные носильщики, неторопливо толкавшие свои коляски, будто без них поезд не уйдет, все вдруг уменьшилось и затихло. Я словно со стороны увидел огромный желтоватый аквариум вокзала, замкнувший это быстрое, суетливое, но по-муравьиному целенаправленное движение.
Явью же было сухое, мрачное, как этот серый бетон подъездных путей, сознание: отъезд… Значит, я остаюсь без нее.
Еще какая-нибудь минута — и все. Но если успокоиться, ведь не в чужую сторону уходил поезд, а на наш родной юг. И это ведь ненадолго, конечно же, ненадолго. Скоро я буду ее встречать.
Гортанные, громкие голоса южан успокаивали, придавали всему ощущение временности, обыденности, незначительной бытовой перемены, перемещения в пространстве, притупляли, скрашивали разлуку; да, все было спокойно, но в воздухе вокзала, под его сводами, в его гулком и одновременно спертом дыхании вдруг возник каменный, пыльный, режущий глаза и рот ветер, предчувствие потери. И разговор, будто и не чувствуешь ничего:
— Когда? Когда?
— Пиши.
— Да, да.
— Мужчина в купе. Может, поменяться?
— Какая разница! Я грузинка, я их не боюсь.
— Я буду ждать, ждать.
— Да, и я… Я постараюсь скоро.
О чем еще? Ни о чем. Мы расставались, влюбленные, и вдруг я с остротой, почти с ужасом понял: чужие.
Да, там, в парке, в лесу, на поляне, друг перед другом, один на один мы были неразрывны, смеженные, как крылья, оторвать нас друг от друга было, казалось, невозможно, смертельно — для каждого. Но здесь, перед поездом, на тесном, затоптанном перроне, на этой ничейной полосе, перед тем новым, что так неожиданно надвинулось, что называлось безобидно «отъезд», но означало разлуку, — перед этим мы чувствовали себя беспомощными, беззащитными, это не объединяло, а страшным образом разъединяло нас, и все слова, которые хотелось сказать, вдруг испарились, исчезли, а те, что говорились, были вязкие, бесцветные, такие же чужие, как этот вокзал.
Может, просто мы не умели тогда прощаться?
— Маме привет, если помнит меня.
— Напомню… Какой стыд, снова возвращаюсь ни с чем…
— Ерунда. В следующем году поступишь в медицинский.
— Это же долго — в следующем!
— Да, долго… Ну все, иди в купе, а то сейчас тронется.
Самое обидное, что она послушалась… Вот это меня больше всего удивило. Я думал, она будет стоять в тамбуре до конца, будет свисать с уже поднятой, захлопнутой подножки.
Она послушно пошла, я видел за стеклами ее мелькающий профиль. Вагоны стронулись, двинулись с места. Как незначительно, мало была это движение, и я шел рядом с вагоном и высматривал ее в окнах. И все быстрее, быстрее. И вот уже загрохотало, понесло.
Орлиный клекот грузинских слов, машущие руки, и вдруг из мелькания белых пятен чужих лиц — совершенно отчетливо ее лицо, прильнувшее к стеклу, улыбающееся.
Ушел с комком в горле. И одновременно с неожиданным чувством — не то чтобы облегчения, скорее освобождения.
Пустота освобождения.
Теперь я каждый месяц ходил на Кировскую, на Главпочтамт, ждал ее писем. Даже не знаю, почему договорились, что будет писать на Главпочтамт; скрывать мне было нечего, никто в мои письма не лез, но получить письмо на Главпочтамте — это совсем не то, что получить дома. Здесь происходил своего рода ритуал: приход, стояние у окошка, тасовка колоды, высматривание своей карты…
«Да, есть, покажите документ». Протягиваешь студенческий билет, забираешь свое письмо, свою добычу.
И впрямь как с добычей уходишь в сторону, подальше от людей, раздираешь ногтями кожуру, достаешь сердцевину… Какая там сердцевина, чаще всего один листок, холодный, гладкий, всегда с каким-нибудь рисуночком, штемпельком в уголке. И всегда без обращения, будто она забыла мое имя, а такие слова, как «милый», «дорогой» и прочее, никогда ею не писались, они, значит, были для нее возможны лишь при личном общении.
О чем она писала в своих письмах? Это была, в сущности, краткая информация: о погоде, о делах, вернее, не столько о делах, сколько о намерениях. В отличие от моих откровенных, полных всяческих признаний писем (сколько я себя ни сдерживал, ни засушивал, все равно прорывалось), ее были нейтральные, лишь в подробном описании погоды сквозил намек на чувство. Дескать, в городе сыро, идут дожди или скучно, грустно и она все время вспоминает Москву. Но заметьте, что именно Москву, а не мою улицу, не мой дом и не меня самого.
О чем еще она писала? Что вместе с матерью была на могиле дяди Арчила, что личные дела матери неясны, раньше она вроде собиралась замуж, теперь все, кажется, распалось. Что один раз приезжал Московский театр транспорта, она пошла, но ей не понравилось. Да и вообще она излечилась теперь от этой детской болезни. Театр явно не ее судьба, и она твердо решила поступать в этом году в медицинский.
В конце она никогда не писала «целую», а всегда что-нибудь в таком роде: «скучаю» или «жду». Сухо, но все-таки хоть что-то обещающее.
Почерк у нее был ученический, как в прописях по чистописанию, но в тонких, стройных буковках, чуть-чуть наклоненных вправо, читалось мне что-то большее, отличное от конкретного смысла слов.
И еще мне казалось, она хочет дать понять: ничего не было, она совершенно самостоятельна и независима, никто из нас не скован даже самыми малыми обязательствами… Чего-то она боялась. Может быть, возвращения в Москву, может быть, повторения того, что было. Да я и сам понимал: повторения быть не может. Может быть только движение вперед, какой-то поворот в судьбе.
Всю зиму я рисовал ее портрет, тот, который начал с натуры, в комнате.
Начало было лихое, броское, казалось, я угадал всю систему портрета с самого начала, точно нашел манеру. Но ничего подобного. Когда она уехала, я посмотрел и понял, что делаю совершенно не то.
Я изменил замысел. Теперь менее всего меня интересовала передача ее настроения и выражения ее лица; мне хотелось сделать что-то близкое по манере к средневековому портрету: сохранить сходство, верность натуре, высветить дух, притушить земную оболочку. Это было очень трудно. Земное вылезало на первый план, какие-то отдельные детали, штрихи, подробности, а надо было, я чувствовал, соединить реальное и ирреальное, но я не способен был воспринимать форму так гармонично, как те мастера, которым я пытался подражать. И потому, с одной стороны, получалась фотографичность, похожесть, с другой — что-то манерное, романтическое.
Подспудно меня тянул «Великий постриг», я ощущал в Норе какую-то скрытую трагедию, она мне казалась монашенкой, но если бы я передал это впрямую, то вышло бы театрально и искусственно: почему монашенка, откуда монашенка?
Я понимал, чего я хочу, но это очень трудно мне давалось. Может быть, потому, что я слишком хорошо ее знал. Не было необходимой удаленности, чтобы увидеть характер целиком. Меня тянуло к средневековому, трагическому, а получалось нечто бытовое, современное. Этакий «Портрет студентки». Я старался уйти от этого, пытался определить что-то важное в ней, одновременно соединимое и несоединимое: старомодное воспитание, мучительную ответственность за каждый свой шаг и рядом — неожиданная решительность, порыв. Вот это я чувствовал в ней. Но этого еще было мало, что-то еще надо было найти, то, что словами не выразишь, да и не надо выражать, а если можно выразить, то только кистью. Но как?
А вокруг шли споры середины пятидесятых: магия двадцатых годов, внезапные открытия русского авангарда. Многое в нем поражало остротой, изобретательностью, новой выразительностью, другое казалось фокусом, ребусом. Но прямо сказать, что это чистый фокус, даже не фокус, а просто обман, было неудобно. Надо отдать должное Борьке, он никогда ни к чему не приноравливался. И все, что казалось ему от лукавого, упрямо, несмотря на любые аргументы, называл галиматьей.
Хотелось знать многое, все, чтобы найти самого себя.
Тогда же появились у меня и новые привязанности, я торчал часами в Третьяковке, где наверху в маленькой комнате была экспозиция «Мира искусств». Эти запоздалые романтики, такие чудеса они делали в книжной графике! Иллюстрации Лансере к «Хаджи-Мурату», его же удивительные по тонкости и настроению яснополянские акварели, черно-белые листы Добужинского «Петербург», чувство прошлого, переход в сегодня, ожидание перемен — вот что такое их книжная графика, такая старая и такая сегодняшняя.
Смотреть, пропускать через себя, отталкиваться и плыть самому.
Репродукции фаюмских портретов. «Смуглая молодая женщина». Середина или вторая половина XI века.
Большие глаза, прикрытый темными густыми волосами лоб, серебряная нитка на высокой шее. Смотрит сосредоточенно, с нежной печалью мимо тебя. Художник безымянен, девушка — тоже. Старинная техника, восковые краски, живое лицо. Интересно, сколько ей жить, этой фаюмской девушке? Тогда ведь жили мало.
Чем-то она определенно напоминает Нору. Впрочем, многое тогда мне напоминало Нору.
И я снова возвращался к своему портрету. Что делать с ним? Может, тоже поразить новизной, придумать шарнирную композицию, со смещенными пропорциями, с невероятными глазами на чешуйчатых стрекозиных крылышках, чтобы остановились и задумались… И назвать — «Нора».
Наверное, я бы сумел…
Как счастливо было в детстве: листок картона, цветные карандаши, танки, самолеты, тигры и львы — все сильное, грозное, способное загрызть или задавить.
Почему именно в детстве мы так любим силу? Потому, очевидно, что малы и беззащитны. В детстве любим сладкое и все сильное.
С Борькой мы виделись, внешне все было как и прежде, только самое главное исчезло: дружба.
Мы подружились с ним сразу, с первой встречи, у нас не было даже периода приятельства: познакомились и, похоже, с первого дня побратались. А теперь — назад, теперь мы просто знакомые, приятели, разговариваем по делу, ни звонков, ни прогулок.
Но вот случилось мне встретить его в Русском музее…
Приехали мы порознь; я даже не знал, что и он в Ленинграде.
Я опустошенно ходил из зала в зал, скользя глазами по таким знакомым, как если бы они принадлежали моим родственникам, лицам, с разной высоты глядевшим на меня со стен. Какие-то экскурсанты, иностранцы, школьники с учителями… И охватывает тебя вдруг та необыкновенная усталость, какую чувствуешь только в музее. Ноги словно чугунные, хочется передохнуть, сесть, а может быть, даже лечь на пол, окинув взглядом все эти замечательные застывшие лица, все эти удивительные и где-то далеко шумящие боры и рощи, лечь на холодный пол в сознании счастья и полного бессилия.
Но так не принято в музеях, тут и присесть-то негде — старички сидят на диванчиках.
Удивительное одиночество, знакомое только тем, кто много раз ходил по одним и тем же залам, охватило меня.
И вдруг я увидел Борьку Никитина. Точнее, я увидел спину Борьки Никитина. Он неподвижно, сосредоточенно стоял перед какой-то картиной.
Интересно, что он там высматривает? Вот так стоит, любуется, а потом будет бранить изо всех сил. Бывает с ним в последнее время такое.
Я подошел поближе, глянул сбоку.
Он стоял у федотовского портрета Н. П. Жданович. Девушка у фортепьяно.
Смотрел он очень пристально, неотвязно, голубые с расширенными зрачками глаза как бы высохли. Портрет был прекрасный, но что-то еще интересовало его. И вдруг неожиданная догадка все поставила на место. Эта девушка, отвернувшая лицо от фортепьяно и чуть вскользь, потупив глаза, смотрящая в сторону, определенно напоминала Нору.
Это было уже не отдаленное и лишь моим настроением, желанием вызванное сходство с фаюмской девушкой. Нет, это было реальное, физическое сходство, как будто бы Н. П. Жданович была родная сестра Норы.
Борька посмотрел на меня, я на него. Мы сошлись, пожали друг другу руки, и я сказал нарочито небрежно, с ухмылочкой, будто мы оба участники какого-то сговора:
— Хороша… А?
Он глянул еще раз на картину как бы для окончательного решения и, помолчав, сказал:
— Шея, пожалуй, слишком лебединая. А так портрет отличный.
И я понял с некоторым облегчением: мы видели разное, думали о разном. Просто в то время я видел и хотел видеть только одно. А он видел все, он разглядывал все портреты и все картины. Я не знаю, искал ли он ее лицо в чужих, как я, думал ли о ней так же неотвязно… Я почему-то был уверен, что тогда — нет.
Мы шли с ним по вечернему Питеру. Заглянули в модное тогда кафе «Норд», ели несказанные воздушные двухэтажные пирожные и, как фраера, запивали ликером в игрушечных рюмочках. О Норе ни слова.
Что-то в наших отношениях вновь затеплилось, ожило.
Помню еще, что в тот день мы были в Петропавловской церкви, усыпальнице русских царей. Молча обходили нарядные, монументальные саркофаги из цинка и серебра, скрывающие от света комки праха, славу и позор России.
Ходили по огромной Петропавловке, мне было интересно найти камеру, в которой по думскому делу сидел мой дед, но так и не нашел.
— Хочешь припасть к своим истокам? — спросил Борька.
— Да, хочу, а ты?
— А я хочу узнать, в какой такой земле лежит мой отец. Ведь ни фамилии, ни даты. Без вести…
Мы еще долго бродили по Питеру, разговаривали. Борька говорил: когда работаешь, надо забыть обо всем, что было до тебя, надо закрыть уши и глаза, есть только свое состояние и то, что тебе надо передать, тот предмет и та мысль, и нельзя ни на кого оглядываться, лучше самому открыть Америку, чем старательно повторить открытую. Он говорил, что все на курсе, даже не только на курсе — в Институте, все почти вторичны, что оригинальных талантов, пусть хоть и небольших, но подлинных, он у нас еще не встречал.
Мы замерзли, почувствовали свою бездомность в чужом городе, хотя у каждого из нас было где ночевать.
Пошли ко мне, точнее, к моему другу, у которого я квартировал. Я показал Борьке несколько набросков к портрету Норы, которые взял сюда. Он их смотрел очень внимательно и ничего не сказал… Меня это даже обидело.
Потом, через много лет, он признался, что ему понравилось, что он даже не ожидал, что я так смогу. И еще в тот вечер он и сам решил ее нарисовать. Когда-нибудь попозже.
Вот так, попозже, он и сделал этот рисунок, что висит на стене. Чем она была занята в тот момент, когда он ее рисовал? Ведь не просто же позировала, у нее уже было много дел, забот. Там, в другой ее жизни, мне неизвестной… Может быть, она склонилась над шитьем? Хотя глаза не опущены, а только едва потуплены.
Преддипломную практику мы проходили в целинных совхозах Акмолинской, ныне Целиноградской области. Не только рисунком занимались. Достраивали, оформляли Дом молодежи, столярничали, плотничали, старались сделать его праздничным, не похожим на стандартные клубы.
Борька даже придумал проект совхозной пивной, именно пивной, он хотел придать этому слову иной смысл: своего рода место встреч, сельский паб, а не какая-то забегаловка. Все там должно было быть простым, скромным, опрятным, столы и табуреты из неотесанного дерева (тогда это не стало еще повсеместной модой). Идея Борькина понравилась нашим руководителям, те рассказали о ней в районе, она обсуждалась всерьез и в серьезных инстанциях. И дело прогресса победило. Проект в принципе приняли, правда, под названием «Сельское молодежное кафе»… Так Борька проявил и свой дар художника-оформителя.
Надо сказать, что это не была дежурная практика. На этот раз руководителем был наш Мастер, мы вместе работали. И не только работали. Он помогал понять, почувствовать живой, на глазах меняющийся облик земли, иногда противящейся преображению, но все же неумолимо обновляющейся.
Так разнообразно и не похоже было здесь все на прежде виденное: прижимистые, крепкие, обособленные домишки старого Акмолинска, а рядом разрытая земля, сплошные улицы серых, как мыши, палаток, улицы фундаментов, а затем, через год, новые здесь и кажущиеся огромными посреди ровной сплошной степи сверкающие на солнце здания из стекла, бетона, металла.
Уже к концу практики получил телеграмму из Москвы. Телеграмма коротенькая, буквально три слова: «Я в Москве. Нора». И в конце, как награда, ни разу не употребленное ею в письмах: «Целую».
Я стал советоваться с друзьями. Сашка мне сказал: «Поезжай, мы тебя прикроем как-нибудь. Все-таки телеграмма, может, что дома случилось». А Борька, присутствующий при этом, посоветовал: «Подожди немного, где-нибудь за недельку до конца уедешь, иначе подведешь Мастера».
Причина для немедленного отъезда была веская — любовь, но Борька был прав: едва ли меня правильно поймут некоторые товарищи. Атмосфера была такова, что возвращение с целины, даже вынужденное, воспринималось как дезертирство. Чем-то оно действительно напоминало дезертирство с фронта.
И потому я был со всеми до конца, до последнего звонка. И меня встречали так же, как и всех: музыкой на вокзале, громкими маршами, объятиями и крепкими рукопожатиями.
Мое возвращение в Москву совпало с моим днем рождения. Я позвонил ей и попросил прийти пораньше, до прихода друзей. А уж потом, когда они придут, мы будем веселиться все вместе. В конце концов все старые счеты уже закрыты.
И вот я в своей комнате, от которой уже отвык за три месяца, она кажется более тесной, как всегда, когда возвращаешься с далеких просторов; да и все более тесное, уменьшившееся: дворик, трехэтажный домик постпредства, скверик, сверкающий осенней медью, облетевшие голые тополя.
Я сходил в магазин на Кировской, где всегда была хорошая ветчина, розовая, прохладная колбаса с аккуратными полянками жира. Купил несколько бутылок желто-лимонной старки и ждал, ждал ее.
В комнате прибрано, скромная, но вкусная снедь сияет на столе между бутылок, каждый звук, каждый шорох кажется мне звонком, я все время вскакиваю, попутно смотрю на себя в зеркало и на этот раз даже нравлюсь себе: аккуратная, приятно уменьшившаяся после стрижки голова, красноватый целинный загар на гладко выбритых щеках… Ничего, кажется, все в порядке. Таким не стыдно предстать перед ней.
А ее все нет. Я постепенно начинаю нервничать, жалею, что затеял этот день рождения, лучше бы просто встретился с ней один на один.
Достаю ее портрет. Смотрю на него, будто не я писал. Мне хочется показать его ей, но я еще не знаю, не решил…
Выражение молодого самодовольства, с которым я гляделся в зеркало, слетает, когда я смотрю на свою работу. Я уже давно ее не видел, стояла за шкафом завернутая в простыню, а сейчас, перед ее приходом, зачем-то достал. При еще ярком солнечном свете цвета показались слишком форсированными. В сумраке ее лицо должно было бы светиться, но сейчас оно слишком торжественно блестело, а глаза показались традиционно иконописными и чересчур напряженными.
Пожалуй, наклон головы, поворот, неожиданность ракурса — все это, если не придираться, было неплохо, но все равно оказалось много ниже того, что я ожидал увидеть. И подогревая свое разочарование, расширяя ту вначале небольшую трещинку между замыслом и воплощением, я произнес самое для меня противное слово, которое мог бы услышать из чужих уст: «Мило, довольно милая работа». Порвать, порезать, сжечь! Но нет, я не чувствовал той решимости и того самоотвержения, великим было легче, они легче резали, легче сжигали, потому что, наверное, и делали легче, они были гениальнее, они и не так пыхтели, не так упрямствовали, потому и не так дорожили своими опусами.
Конечно, все это было еще и оттого, что она не шла. Не так уж плох был портрет… Конечно, он не закончен. Еще работать и работать, но, оценивая трезво, я предощущал будущую удачу… Но сейчас меня злили ее опоздание, нервность моего ожидания, неуверенность в ней, а потому злил и портрет. А как я все благостно представлял себе: вот она придет, мы прильнем друг к другу, скажем какие-то слова, а может, и слов никаких, и вот я достану и покажу ей то, над чем бился почти год.
Я бросил портрет на диван; показалось, что треснула рамка, которую я специально выстругивал, сбивал, чтобы она увидела все как полагалось, не голый холст, а портрет.
Бросил, и тут же стало жалко портрета, жалко своей работы.
В этот момент — звонок.
Нарочито охлаждая себя, замедленно, как бы нехотя, уже заранее решив, что это не она, небрежно и независимо посвистывая, иду открывать.
В проеме приоткрытой двери — она. В красном коротком платье, загорелые великолепные ноги в красных же босоножках, а уж потом только, подняв глаза, вижу ее лицо.
Оно сдержанно сияет — повзрослевшее, загорелое, не родное и привычное, как тогда, а новое и слишком красивое — слишком красивое для этого тусклого коридора с пыльными шкафами, для этих прикрытых дверей, для утлого коммунального быта, для меня, для моего жалкого портрета. Я чувствую какую-то странную робость перед ней, перед ее новизной, перед женской завершенностью, зрелой нарядностью ее одеяния. Я осторожно держу ее за руку, пытаюсь вести за собой, но она идет сама, свободно, не стесняясь, совсем не скрывая того, что хорошо помнит дорогу.
Она уверенно открывает дверь, входит в просторную комнату, вдруг ставшую заскорузлой каморкой, какой-то кургузой, плохонькой рамкой для ее торжествующего лица.
Она прохаживается по комнате, смотрит в широко открытое окно (как она тогда смотрела, босоногая, худенькая, почему-то жалкая и такая близкая мне), она садится на диван, и опять я вижу ее колени, тоже совершенно отчужденные от меня, — элемент завершенной женской формы, мне уже не принадлежащей, — и, повернувшись, обращает свой взор на валяющийся рядом с ней на диване портретик с действительно треснувшей в одном месте рамкой.
Она смотрит на него, а потом на меня с удивлением:
— Это я?
— Нет. Это Н. П. Жданович.
— Какая еще Жданович?
— Обыкновенная Жданович. Надежда Павловна, скажем. Ничего бабка?
Она несколько теряется и говорит:
— Очень даже ничего. Я почему-то подумала, что это я. Вот дура.
— Скажешь тоже, ты! Это репродукция с работы известного художника. Такое нам задание дали. Сделать репродукцию.
— А… — говорит она разочарованно. — А я думала, ты сам так научился рисовать.
— Скажешь, сам. Чтобы так рисовать, нужны десятилетия, годы труда и учебы. Ты старухой станешь, когда я научусь так рисовать.
Странное начало… Присутствие ее мне кажется нереальным, и особенно нереальным то, что можно дотронуться до нее, обнять.
Успокаиваясь, я нарочито медленно заворачиваю в простыню портрет, отношу его, ставлю туда, куда и положено: в расщелину между стеной и шкафом.
И дежурные, мятые какие-то слова, словно все другие забыл:
— Ну что, ну как?
— Ничего, вот поступила, можешь поздравить.
— Поздравляю.
— И я тебя поздравляю.
— А меня-то с чем?
— Ты что, забыл, что ли? У тебя же день рождения. У меня для тебя подарок есть.
— Давай поедим, выпьем, ты же голодная. — А самому все же интересно, какой подарок. Подарок от нее — это что-нибудь да значит. — Откуда ты знаешь, что у меня день рождения?
— Ты как-то обмолвился, а я запомнила.
— Значит, еще помнишь кое-что?
И, изменив нашему странному ладу и тону, она вдруг говорит тихо, с какой-то удивившей меня серьезной простотой:
— Конечно, помню. Все помню.
Она достает из сумки маленький аккуратный сверток, разворачивает. Вижу белый, наверное, слоновой кости, с серебряными готическими буквами мундштук.
— Это мундштук моего отца. Вот, я тебе его дарю.
Единственная вещь, что осталась у меня от нее, — этот мундштук.
— Спасибо, спасибо. Тут уж и впрямь: и подарок дорог и честь дорога.
— Ладно, хватит об этом. Просто мне хотелось, чтобы это было у тебя. Чтобы ты курил и вспоминал обо мне.
Ага, вот она, немецкая сентиментальность…
Сидим на диване, очень хочется ее обнять, но я почему-то долго не решаюсь. Да что такое, что со мной происходит, что вообще случилось? Я обнимаю и целую ее, но она высвобождается и вдруг спрашивает:
— А можно, я еще посмотрю этот портрет? Эту, как ее, Надежду Жданович?
— Нет, не надо. Надежда очень смущается, когда ее так пристально рассматривают… А ты что же, совсем не соскучилась?
— С чего это ты решил?.. Для тебя соскучиться — это только… А я теперь на все стала смотреть по-другому.
Я не стал уточнять, не стал развивать эту тему. Мне показалось, что смогу лучше развеять новую систему ее взглядов, если не буду доводить ее рассуждения до логического конца.
— Ведь мне уже двадцать один год, три года я мыкалась, а теперь, на старости лет, поступила… Вот за это давай и выпьем.
Мы выпили. Чокнулись. Все как полагается. Прошло еще минут десять — пятнадцать. Мне показалось, что она становится той, какой была, что эта непонятная мне новизна стирается, уходит. Теперь все было как прежде, как и должно было быть. Я приблизил к себе ее голову, уложенную точь-в-точь как у Надежды Жданович, и стал целовать ее.
Не вовремя, слишком скоро раздались звонки: пришли ребята.
Вновь мы собрались в прежнем составе, но переговаривались скованно, словно бы осматриваясь, приглядываясь друг к другу… Ничего вроде бы и не произошло, все те же и все то же, а неуловимые изменения, внесенные небольшим, но все же значимым временем, не видны, они внутри каждого из нас.
Но выпивка делала свое дело сглаживания конфликтов и сближения людей. Включили музыку, разогрелись, раскраснелись, разговорились. Пошли вопросы: ну как ты, ну что ты?
Вопросы, естественно, были обращены к Норе. Мы-то друг о друге все знали.
Потом стали танцевать. Бурный рок — три кавалера и одна партнерша. Каждый бросал ее как умел… Но я поймал себя на том, что смотрю, как она танцует с Борькой. Почему-то поставили тихую пластинку, танго, и мне стало неприятно, что ее рука послушно лежит на его плече… А с другой стороны, как же не танцевать?
Вообще Борька был тих и немногословен, посматривал исподлобья. Я знал, что эта мрачность не от приязни, а скорее от сосредоточенности на какой-то одной мысли.
На чем он был сосредоточен тогда, бог его знает…
И был еще один момент… Далеко за полночь все заспешили, чтобы успеть на метро.
И она тоже, вот что удивило. Я был уверен, что она останется. Можно было, конечно, для отвода глаз выйти вместе, проводить их до метро, ну а дальше якобы разбежаться по сторонам, а на самом деле вернуться пересекающими друг друга переулочками, подняться на пятый этаж, проскользнуть (впрочем, чего уж скользить?) темным коридором и очутиться в моей — в нашей — комнате.
Она стала собираться, я отозвал ее и то ли спросил, то ли попросил:
— Останешься?
Она дотронулась до моей щеки ладонью, что-то в этом движении, в этом жесте было снисходительное:
— Нет, сегодня не останусь.
Все собрались, двинулись к дверям, а я еще не знал, пойду или нет, мне не понравилось, что она уходила, что в первый наш вечер не осталась.
Тут Сашка совершенно уж невпопад ляпнул:
— А ты сиди, куда тебе. Мы ее проводим.
Будто его наняли.
Я еще подумал о том, что и себе и ей покажусь жалким, если заспешу, пойду провожать, будто не уверен в чем-то…
И вот так, ощущая что-то непонятное, какую-то несообразность, блик отчуждения, я все-таки шел к метро, отдельно почему-то от нее, будто она такая же для меня, как для каждого из них.
Дошли до метро «Кировская». Оно закрывалось. Все-таки милиционер пожалел, пропустил. И они все втроем вошли в открывшиеся на секунду двери. Вошли — и словно канули в подземелье.
И дальше все было не так, как я ожидал. Какие-то обстоятельства возникали, мешали, разгораживали, я пробивался сквозь них, как сквозь колючую проволоку.
Вначале Нора заболела, простудилась, я ей звонил каждый день, слушал ее больной, обесцвеченный голос, говорить вроде было не о чем, телефонный аппарат окончательно забивал, уничтожал все наше, важное для обоих… Пустые, незначащие разговоры, топтание на одном месте.
Мне хотелось прийти к ней, принести лекарств, апельсинов, лимонов, обогреть ее, но, по ее словам, приходить было неудобно, теперь она снимала комнату у какой-то знакомой своей матери, пожилой грузинки.
Пожилая грузинка аллергически не воспринимала молодых людей, их визитов, посещений, даже звонки она с трудом выносила.
Так три недели мы не виделись. Но вот наконец она выздоровела. Я думал, встреча наша после этой вынужденной паузы будет счастливой. Ничего подобного. Мы просидели на скамейках Суворовского бульвара час, она все время кашляла, мне даже казалось, преувеличенно громко (нерастраченное актерское дарование). Говорила, как плохо она переносит московский климат (это было что-то новое, раньше ей было плохо там, на юге), как трудно ей в институте.
Она превращалась в этакий экзотический цветок, яркий, капризный, на глазах осыпающий лепестки.
Мы поехали на Выставку, в чайхану. Горячий зеленый чай отогрел Нору, она перестала кашлять, как-то подобрела и погрустнела, была нежна со мной, гладила мою руку, но я все время чувствовал в ней какое-то отчуждение. И что-то слишком уж часто она стала говорить о своем одиночестве в Москве… Это особенно больно царапало. Она одинока, будто меня и нет. Будто я не сижу рядом.
Я ее провожал, мы подошли к дому, где на втором этаже светилось окно строгой хозяйки. Нора остановилась. Ей явно не хотелось туда. Мы снова и снова ходили взад и вперед по Рождественскому бульвару, молчали.
Было часа два ночи, когда мы вернулись к ее подъезду, она протянула мне руку, я приготовился пожать ее — обычное рукопожатие, никаких нежностей, своего рода протест против ее сознательного отдаления от меня, — и вдруг она приблизила меня к себе, я увидел ее глаза, ей хотелось плакать, но она сдерживалась, она быстро поцеловала меня — так, будто прощалась, и оттолкнула. Будто прощалась — вот что я запомнил… А может, другое. Может, просила прощения. За что?
Я говорил себе и ей: «Мне ничего не нужно, только твое присутствие в моей жизни, постоянное, каждодневное, только твое присутствие, больше ничего».
Но что значит — присутствие? Звонки, гулянья по бульварам? Раз-два в месяц, когда родителей нет, приход ко мне? Я понимал, что так тоже невозможно. Но что я ей мог предложить, к чему был готов?
Как-то раз она зашла ко мне домой, опять все было хорошо, и она была своя, простая, без фокусов, и в этот день, пожалуй единственный во второй ее приезд, я испытывал с ней всю полноту счастья и умиротворения.
Потом она снова исчезла. Теперь уже причина была другая: институт. Нечеловеческие нагрузки, невероятные задания, анатомия, морги, бог знает что… Можно было подумать, что она не в Первом медицинском учится, а в какой-то академии.
С другой стороны, она способна к преувеличению, но не ко лжи, и потому я понимал, что действительно она много занимается, что существует еще какая-то зависимость от той женщины, у которой она живет, все это было понятно… Но каждый раз наши встречи срывались, что-то пробуксовывало, исчез тот стремительный, поглотивший нас обоих в прошлом году темп, в котором ни паузы, ни отсрочки были немыслимы.
Наконец мы договорились твердо и окончательно. Она придет, и мы поговорим с ней.
Она пришла точно, почти минута в минуту, ее точность даже испугала меня.
И опять, как тогда, зачехленный портретик, к которому я совершенно потерял интерес, бутылка вина, новенькая пластинка, магниево блестящая под иглой проигрывателя.
Вяло пила чай, от вина отказалась; прокручивалась, проигрывалась пластинка, звук был сильный, свежий, но казалось, что она крутится вхолостую, не поднимая, не завораживая, а просто механически производя сложный, тщательно соркестрованный звук, плывущий мимо глухих огрубевших ушей. Я пил один, быстро хмелея, самоожесточаясь. Сочтя, что выпил достаточно, я обнял ее, стал как-то нарочито грубо целовать, был нетерпелив, настойчив, а она и не отвечала мне и не сопротивлялась.
Во всем этом было что-то оскорбительное, словно я был ей чужой; она то противилась, то готова была уступить, словно безропотно выполняя какой-то долг.
Неясное подозрение родилось во мне, еще не оформившееся, слабое, готовое рассыпаться при первом же звуке. Бледнея, еще не веря, что скажет твердо, окончательно, безоговорочно «нет» и тем самым даст мне возможность дышать, любить ее, надеяться на продолжение, я словно во тьме брел, словно свет погас, и только она одна могла его включить: одно движение, одно твердое, как щелчок, слово, и все станет на свои места.
— Но мы же договорились друг другу только правду, только правду, — повторял я, сам чувствуя свою жалкость, но это было неважно сейчас, важен был только ее ответ, причем именно тот, на который я рассчитывал, несущий надежду.
Мое учащенное сердцебиение, тихий мой, неожиданно вкрадчивый голос:
— Ну скажи, скажи.
И сказала тихо, пересохшими губами, без голоса:
— Ничего не было… Не было… Но…
— Что — но?.. Ну скажи, скажи…
— Я, наверное, выйду замуж.
— Поздравляю, — грубовато, как бы с иронией говорю я и не слышу себя, а вижу только ее остановившиеся губы. И не слыша себя, не видя ее, тем же шутовским тоном добавляю: — За кого же?
— Ну, ты узнаешь, узнаешь.
— Нет, сейчас, я хочу знать. Кто он?
— Зачем тебе это?.. Я не могу больше жить, на каждом шагу ощущая бесприютность и одиночество. Тебя по-настоящему не волнует моя судьба. Я ведь много думала. Ты не любишь меня.
— Наступление — лучшая защита, — неожиданно успокаиваясь, говорю я. — Ты сама не веришь в то, что говоришь, да и зачем тебе аргументы, ты лучше скажи кто. Ну чего ты боишься? — И вдруг дикая мысль приходит мне в голову: — Администратор, что ли?
Она изумленно усмехнулась.
— Ну так кто же? Ну не тяни. Кто, я спрашиваю.
Я приблизился к ней, увидел совсем рядом ее темные глаза, глядевшие участливо и отчужденно, будто из дальней какой-то дали.
— Хорошо. Я скажу тебе… Никитин.
Что она еще говорила, когда я молча провожал ее до метро? Вспоминается примерно такое: «Да, я люблю тебя и его… Но это же нельзя, это же несоединимо… Нужен выбор».
Помню, меня тогда особенно поразило это слово «выбор», жесткое короткое слово.
И еще она говорила обо мне: сначала хорошее, как она меня любила всю зиму, как читала и перечитывала мои письма, как ждала своего возвращения в Москву (все в прошедшем времени), потом еще что-то, объяснительное: «В нем есть решимость, а в тебе только настроение, он готов разделить со мной жизнь, а ты?..»
Зачем она это говорила? Она ведь даже и не смотрела на меня, не интересовалась, слышу я или не слышу… Да ей и неважно это было, ей важно было объяснить. Кому? Себе, конечно. Она убеждала, уговаривала себя. Она еще не была в себе уверена.
Все это было так странно и страшно своей новизной, своей новой реальностью. Может, еще что-то можно переиграть, переломить, ведь есть же такое понятие: бороться? Надо бороться, бороться за нее. Но как бороться и что это такое, если раскаленный ком в глотке ничего не дает сказать.
А ей хочется, чтобы было красиво, чтобы было как надо. Она хочет попрощаться со мной достойно. Она гладит мою руку, говорит, что никогда не забудет меня, что я такой…
Я отталкиваю ее и хрипло бормочу что-то длинное, скверное, оскорбительное.
Я ожидал пощечины, ожидал, что она убежит. Ничего подобного. Она, плача, шла за мною, болезненно морщась от моей ругани и все время повторяя жалостно: «Ну что ты, ну что ты…»
Я все ускорял шаг, уходил вперед и наконец окончательно оторвался от нее у перехода через Садовое кольцо (сейчас я думаю, что зря так убегал, может, еще бы все переломилось, еще был шанс, потому что тогда она действительно еще любила меня). Помню, я пошел на красный свет, мостовая вначале была пустынна, дождинки подпрыгивали и отскакивали от нее, потом издали быстро стала накатывать московская ночная стая с волчьими глазищами фар, готовая мгновенно смять, снести, смести тебя со своего пути.
«Ну и пусть… ну и пусть… Теперь все равно».
Не сбили — видимо, я автоматически все-таки ориентировался в этих городских джунглях.
Это был самый гнусный и тяжелый момент в моей жизни. Потом, через ряд лет, я узнал, что есть бездны пострашнее, что бывают моменты…
А тогда теплая ночь, чернота, дождь, машины, бесформенно летящие, обдающие сухим жаром, почти задевающие, равнодушие и слабый вызов всему: «Ну сбивайте, гады, валите, что же вы?..»
Пельмени тают, журчит разговор, звенят стаканы, кажется, все это уже было когда-то, какой-то длинный поезд громыхает и мчится, а я стою между вагонами, там, где серая гармошка перехода над угрюмыми буферами.
Что это такое, куда он идет, в каких тоннелях исчезает, проносится грохоча, с погашенным светом?
Лица, дома, пристанционные здания, магазины, солнечный свет, мелкий густой дождь, обрывки разговоров, обрывки мыслей, погасшие окурки…
В детстве это непонятно, в юности неинтересно, потом — еще отдаленно, но уже страшновато, в старости уже близко, но несколько неопределенно — приговор вынесен, но кем-то еще не подписан.
Начало и конец. Конец. The end. Финал. И кажется, все это неправда, этого не будет со мною.
Но иногда странное, прямо-таки физически осязаемое ощущение: издали, из незнакомой тебе, несуществующей высоты смотрят на тебя те, которых тебе не увидеть… Мы знаем: они были. Они знают: мы есть…
После окончания Института весь курс направили на Рыбинскую ГЭС: там выделили средства на создание музея и галереи портретов передовых рабочих, на оформление общежитий и так далее.
Жили мы в Рыбинске. Лето, широкая Волга, дождь, двухэтажная гостиница-дебаркадер, здание речного вокзала.
Тоска. Ребята пошли на танцы в местный парк… И я пошел. Деться некуда.
Там же и Борька со своей женой Норой, она зачем-то поехала с ним. Еще бы, тут где-то недалеко его родина. Медовый месяц на родине. Делаю вид, что не замечаю. Ослеп. В упор не вижу.
Мелодии здесь на танцплощадке допотопные, чуть ли не «Мишка, Мишка, где твоя улыбка…», но есть и новейшие: «Вьюга смешала землю с небом».
Ухожу с танцплощадки, напиваюсь тупо в буфетике среди подгулявших командированных речников, каких-то разговорчивых девиц.
В гостиницу не пускают. Поздно. Я кричу, бью кулаком в дверь. Кто-то открывает, видно, вахтер, орет на меня, я несусь на него, получаю удар, падаю.
Потом какая-то возня. Кто-то быстро слетает с лестницы, наскакивает на вахтера, сквозь сумрак вижу, вернее, догадываюсь: Борька Никитин.
И действительно, надо мною, распростертым, Борька Никитин. Бормочет, успокаивает:
— Ну че ты, ну че ты? Че раздухарился?.. Вставай. Откуда он взялся здесь, зачем?
— Пошел ты… Пошли вы все.
— Ну че ты?.. Ну че ты, Юрка, Юрк?..
Почему-то меня возмущает, что он меня так зовет.
— Я тебе не Юрка. Я тебе… — И что-то ору злобное, бессмысленное, а он застегивает на мне рубашку, тащит меня.
После этого инцидента наши дипломатические отношения восстановились, во всяком случае, мы стали кивать друг другу. С ней, к счастью, не приходилось встречаться. Она жила где-то в деревне и редко попадалась на глаза.
Связующим звеном между нами был Сашка. Он был и мой и Борькин, но больше он был свой. Он был нашим привычным спутником, нашей тенью, он знал о нас все, мы же о нем — маловато. Виной тому не его скрытность, а, пожалуй, наша незаинтересованность.
Он был доброжелательным, спокойным, никогда не повышал голоса, редко ругался, поэтому, может быть, его и не считали в Институте примечательной личностью.
А между тем рисовал он крепко, у него был как бы врожденный профессионализм, но не было чудинки, он не умел, а может, не хотел себя подать, вокруг него не было никаких историй. А в нашей среде хуже всего быть таким спокойным и хорошим. Из одной добротности славы себе не добудешь. К тому же он всех старался помирить.
Вот и нас с Борькой. Помню, мне он говорил:
— Протяни ему руку, будь выше, вам же всю жизнь придется вместе.
А я отвечал решительно:
— Да пошел он…
Так же, выясняется, он подходил и к Борьке:
— Будь выше…
Да, рисовал он крепко, работал серьезно. И, что называется всегда был самим собой.
А может, как раз и нельзя быть самим собой — с самого начала? Возможно, надо шарахаться и впадать в крайности, чтобы потом стать самим собой?.. Впрочем, кто это знает.
В субботу мы сговорились пойти на рыбалку с ночевкой. Как когда-то ходили в Воронежской области, втроем.
Но пришло вдруг в голову, что Борька может взять с собой Нору.
— Как ты думаешь, — спросил я Сашку, — она поедет?
— Думаю, нет.
— Почему? Они же как нитка с иголкой. Куда иголка, туда и нитка, — сказал я звонко, с каким-то странно веселящим меня бессмысленным нахальством.
— Она беременна, — тихо сказал Сашка. И добавил: — Уже ведь заметно…
Мастер на пару недель отпустил меня, дал даже задание: посмотреть состояние районных и городских краеведческих музеев и написать отчет.
— Там ты такие работы можешь найти, что ахнешь… По сути, эти волжские хранилища еще не исследованы. Может, тебе повезет, ты увидишь забытых художников Коренева, Тарханова, Мыльникова… Ты узнаешь русский художественный восемнадцатый и девятнадцатый век не в главном его течении, а в притоках, не столичный, а губернский. Да и удивительных людей встретишь, энтузиастов, хранителей старины.
То ли он что-то почувствовал в моем состоянии, то ли что-то знал, но решил, что мне надо пожить отдельной от всех жизнью.
С его легкой руки я прошел верхней и средней Волгой, поработал на этюдах, побывал в музеях Горького, Саратова, потом вернулся в Ярославль.
Там и познакомился с Акундиновым.
Человек, видимо, нездоровый, мучительно подавляющий сухой кашель, как бы без возраста, с красным склеротическим румянцем, островками горевшим на желтом лице. Я не знал его должности, знал только, что он реставратор, но служит в местном управлении культуры.
Сначала тихо, будто голос потерял, потом распалясь, уже включив звук, рассказывает:
— В пятидесятые годы десятки полотен сгнили, погибли. Некоторые сохранились, но краска сошла, ткань обветшала, попробуй определи кто. Много я ходил по селам, искал, кое-что удалось спасти, кое-что сырело в сараях, Вишняков например. Год за годом собирали, приводили в порядок. Но сколько погибло, сколько недосмотрели! Да, после войны люди другим были заняты…
Водил меня по тихому, чистому залу, где кроме нас — только сонная, одна на весь музей, дежурная.
Тишина, ясный свет, скрип половиц, покой и словно бы дух тепла из печки, и кажется: все это уже было со мной, много-много лет назад я уже ходил здесь и видел, встречал — живых, а не на картинах — этих ясноглазых детей, они с любопытством поглядывали на меня, застенчиво улыбались, о чем-то хотели спросить. Дом был просторный, вот так же пахнущий сухим нагретым деревом, воском, вишневым вареньем. «Дети Темирниных».
Дети Темирниных голубоглазые, шустрые: любопытство к пришельцу, ко всему новому и одновременно скромность и что-то болезненно-скорбное, иноческое в глазах, уже от будущих разочарований и потерь.
Вот оно, такое обнаженное, открытое в своей простоте искусство, да и искусство ли, не знаю. Может, просто лицо выразило в сей миг главную свою радость, единственную свою печаль. Лицо светящееся и уплывающее в дальнюю даль; там гаснут, затихают шаги на скрипучих, чисто выскобленных лестницах; прадеды, прабабки наши… Куда они спешат по узенькой крутой лестнице? Спустятся скоро, уже сгорбленные, с выцветшими глазами, пройдут по тихим комнатам с небольшими окнами, где пахнет шерстью, вишней, сыростью только что вымытых полов, пройдут и скроются, и не услышу, не увижу, не узнаю, где был их последний шаг, какая болезнь уложила их, да и болезнь ли…
Голос то возвышается, то гаснет. О художниках этих я ничего не знаю, даже имена впервые услышал от Мастера: Тарханов, Коренев, Мыльников, Колендас.
Старый энтузиаст, реставратор, что с ним? Туберкулез, может быть? Откуда этот кашель, это восковое, с густым, неестественным румянцем лицо?
Вечером я у него дома. Сидим на кухне, говорит он.
Новое искусство он не любит, не приемлет. Живопись, скульптура кончаются для него XIX веком, ну а дальше все от лукавого… Боюсь даже спросить о моих любимых Добужинском, Сомове, Бенуа, еще неизвестно, как и на них посмотрит. Ну а когда речь заходит о новейших, о западных мастерах, глаза наливаются, горят негодованием.
Я не возражаю, слушаю. Я благодарен ему за день, который он мне посвятил, за то, что открыл тех, о ком я лишь слышал.
Да и как совмещаются в одном человеке удивительное понимание прекрасного и категоричность, отрицание всего, что ему неблизко и непонятно?
Он громит бытовиков, «фотографов», парадных портретистов. Согласен, согласен… Потом принимается за импрессионистов, за Кокошку, Гросса, Кандинского, Пикассо…
Чаще всего с его языка слетает слово «муть». Это как бы самое любимое его определение: муть, муть.
Не знаю. Я то согласен с ним, то решительно не согласен. И чем яростнее он в своих оценках, тем я спокойнее; чистый запах бедной, опрятной квартирки, чистый свет, тепло, вино согревает, никуда не хочется уходить.
И спорить я не могу, многого я не знаю, только догадываюсь, а ему надо выговориться. А я молод, я еще успею…
— Вы рисовали? — спрашиваю.
— Да нет, немного… Так, начинал. Однажды Грабарю понравилось.
— А Грабарь вам?
— Так, неплохо, добротно, приятно для глаза, но свет хоть и радостный, да поддельный, а вот у Ивана Тарханова, которого ты сегодня видел, не поддельный.
Я неожиданно говорю ему:
— Знаете, я написал портрет. Хотите, покажу?
Он смотрит с недобрым отчуждением.
— Небось тоже с фокусами, с квадратами вместо глаз.
— Нет.
— Все равно…
Он замолкает и наливает мне в кружку чай — густой, почти черный. Я пью обжигаясь.
— Тебе что, плохо, что ли? — спрашивает с некоторой умиротворенностью. — Вот и пей чаек.
— Нет, хорошо, — тихо говорю я и не могу шевельнуться.
— Это настоящий чифирь. От всех болезней, он меня не раз спасал. Пей, полегчает, а то что-то ты бледный… Да не бойся, полегчает, браток.
И так хорошо, успокаивающе он сказал «браток», и вся его непримиримость и ярость куда-то делись, и он пристально так смотрел на меня, с такой заботливостью и тревогой, будто был мне родственник, может, даже отец.
Потом он провожал меня до гостиницы, уговаривал остаться у себя, да мне не хотелось стеснять его.
Мы шли по тенистым улицам, по старым булыжным мостовым. Вокруг теплая и свежая ночь, какая случается только в молодом лете. И все она, казалось, приняла и утишила: и споры, и крики, и ярость, и непонимание, и, самое главное, одиночество.
Потому что молча шли, вдвоем, со старым незнакомым человеком.
«Портрет незнакомого художника». А художники бывают ведь не только неизвестные, но и незнакомые… Вот этих, сегодняшних, я ведь не знал.
— Что ты там бормочешь? Слабаки вы все.
— Да с чего вы взяли, я еще столько же могу.
— Экий могучий. Сейчас все слабые… Скоро уже твоя гостиница.
И действительно, скоро неопределенный, смягченный какой-то блеск воды, и неподалеку двухэтажный Дом колхозника, где я квартирую.
Подходим к дверям, он заботливо держит меня под локоток, будто я и на самом деле набрался…
— Тебя проводить до комнаты? А то ведь не пустят в таком виде.
— Да нет… Кто меня не пустит? Пусть только посмеют. Я-то в полном порядке.
И все-таки он идет вместе со мной по длинному коридору, мимо бдительной администраторши, вводит меня в мой утлый холодный номер, зажигает свет и почти сажает на кровать.
Сквозь туман я чувствую, что ему не хочется уходить, не хочется в свою пустую квартиру, а хочется, возможно, еще поговорить со мной… Да что со мной говорить, если меня прямо так и валит в кровать.
Я еще помню, что он протянул мне руку и она у него была легкая, будто гипсовая. Гипсовое пожатие.
— Утром приходи… Угощу своим чаем. Сразу всю муть снимет. А днем пойдем в музей. Я тебе еще кое-что покажу.
— Ладно… Я приду с утра.
Мне почему-то представилось, что один, ночью, в музее хожу по скрипучим лестницам, по блестящим в сумраке полам и засыпаю под светлыми взглядами мальчиков Темирниных.
Он ушел, а я заснул одетый, и мне что-то снилось все время, какой-то стог сена, то светящийся, то исчезающий во тьме. Зачем мне этот стог? Но нужен почему-то, а ноги исколоты, их будто нет, но надо идти.
Постепенно все растворяется, исчезает — и стог, и небо, и ступени, и движение, — и тайна и явь сна как бы переливаются в ничто, в пустоту…
Резкий стук в дверь.
Я слышу, но не могу встать.
И голос, такой же резкий, даже грубый:
— К телефону, срочно! Вниз к администратору.
Поднимаюсь, в комнате темно, иду на ощупь… Тепло сна выходит из меня, и я чувствую режущий грудь холодок. Зачем этот звонок? Кто мне может сюда звонить? Почему к администратору?
Внизу горит свет, Женщина-администратор с какой-то суетливой услужливостью протягивает мне трубку.
— Это я, ты слышишь?!
— Кто «я»? — Я узнаю Сашкин голос, но как бы инстинктивно стараясь все перевести на другую скорость, переспрашиваю снова: — Это Сашка?
Он не отвечает. Он только говорит каким-то слишком высоким голосом:
— Несчастье. Нора умерла.
— Кто?.. Как?..
— Нора. Несчастный случай.
— Что такое? Что такое?
Я уже не слушаю его, но слышу все, что он говорит, даже его дыхание между фразами.
— Преждевременные роды. Понимаешь?
— Да.
— Она тяжелое подняла. А в доме никого, понимаешь?
— Понимаю.
— И от потери крови…
Я молчу, я еще ничего не понимаю, но уже верю.
— Приезжай в Москву. Ты приедешь? Мы отправим ее на родину.
— Да.
Услужливая администраторша, чьи-то лица, на стене репродукция «Охотников на привале», светает, все уже видно, и петухи кричат, зовут.
И стога нет… Не доползти, не добраться. Никогда… Никогда. Это впервые так ясно: никогда. А как же ребенок?.. Борькин ребенок. Тоже с ней? И как же все — моя любовь, и ревность, и молодость моя — тоже с ней?.. И портрет. И тайный смысл всей моей нынешней жизни: доказать ей. А что доказывать? И кому — теперь?
Не нужно. Бессмысленно… О т п а д а е т.
Какое-то железное, канцелярское слово, выражение чужой, недоступной, ненавистной воли. Отпадает!
Через несколько лет мы сидели с Борисом на веранде второго этажа в кафе на Чистых прудах.
Раскинулся вокруг район, или точнее, местность, каждый метр которой исхожен вдоль и поперек, обточен нашими ногами, все эти улочки и переулки: Жуковского, Фурманный, Чаплыгина, Харитоньевский, Лабковский, Покровка, Армянский.
Желтел массивный купол церкви в Потаповском, блестел новенький отреставрированный крест, и словно бы слышался мне тихий покойный благовест.
Странное чувство покоя, остановившегося времени, примирения со всем.
Борьку я уже давно не видел, почти полгода он сидел в своей «вотчине», а сейчас вот приехал по каким-то делам. Но о делах он говорить не любит, все делает втихомолку, сам. А что делает, я толком не знаю. В последние годы он стал по характеру кустарем-одиночкой и мало говорит о своей работе, то ли из суеверия, то ли потому, что считает: о работе вообще нечего говорить, надо ее делать.
Лето было в разгаре, и город поэтому казался опустевшим: все на дачах, или на курортах, или еще где.
Когда-то такое вот обезлюдевшее московское лето имело надо мной особую власть; все стремились за город, на воздух, а мой воздух был здесь, мне нравились пустынные вечерние улочки, бульвары, особое обаяние летней Москвы.
Теперь эта власть московского лета поубавилась, и я тоже стремился нырнуть куда-нибудь в пятницу или в субботу, чтобы через день-два возвратиться в бензиновое пекло разрастающегося города.
Что-то происходит с нами, и ведь не только оттого, что разрастается город, становится похожим на все другие города — с гигантскими пространствами, плотно заставленными коробками разнотипных и однотипных домов.
Нет, осталась ведь сердцевина Москвы, эти же Чистые пруды, цепи переулочков и тупики, прелесть зеленых дворов, неожиданных двухэтажных домиков, все переживших и все, возможно, забывших.
Все это есть, не исчезла для нас их тайна, но прикосновение больнее — слишком много нашего тут было, навсегда осталось, но другие лица, другие мужчины и женщины ходят здесь, их лица незнакомы, они молоды и рослы, они и не похожи на нас и чем-то похожи, хотя бы тем, что их тоже тянет сюда, в коловращенье этих узких переулков.
«Переулочек, переул, горло петелькой затянул…»
Нет, не затянул, уже прошло, освободило…
Таков закон развития. Закон-то он закон, да только трудно с ним согласиться. Я пытаюсь увидеть все прежним взглядом, в отдельные минуты удается, но все же проще и тверже стали очертания этих домов, ущелья двориков с пробензиненными тополями. Выгорело, сузилось пространство, изменилась и скрытая жизнь его, столь сильно волновавшая, недавним участником которой и сам был. Я, а не кто-то другой, шел именно здесь, по Машкову переулку, ныне улица Чаплыгина, к себе, в темноту коммунальной квартиры. Шел не один. С Норой…
Так и сидим мы с Борькой, ни о чем существенном не говоря… Что-то он мне рассказывает о своих учениках, и как он организовал художественный класс в интернате, и что мне неплохо бы там побывать, но я не очень-то слушаю.
Мы с ним видимся не очень часто, но все же достаточно регулярно, и разные у нас бывают встречи и разговоры, и почти никогда мы не говорим о ней, но вот сегодня мы оказались на таком клочке земли, который во всем моем городе, во всем мире с наибольшей полнотой и силой связывал меня с т е м, относил меня к т о м у.
Почему мы с ним никогда не говорили о ней? Ведь столько уже прошло, и столько нового было. Что это, мужская гордость, нежелание перейти какую-то черту, границу? Страх перед прошлым?
Но уж какие там границы, все границы давно перейдены…
Я поднял грязноватую рюмку и, посмотрев на нее, хрипловато сказал:
— Давай помянем.
Не чокаясь, молча выпили до дна. Он посмотрел мимо меня и вверх, словно хотел там что-то разглядеть, и странно соединился и перешел несколько размытый бело-голубой свет неба в чуть потускневший, но еще очень голубой цвет его глаз.
— Удивительно, — сказал он. — Я не могу ее забыть, вспомнить тоже не всегда могу. Иногда совершенно отчетливо вижу лицо, иногда силюсь, а не вспоминается. А ты помнишь? — Он не стал дожидаться моего ответа, ему, возможно, и не нужен был ответ, ему необходимо было продолжить эту давно и мучительно сидящую в нем, очевидно, не выговоренную до конца очень простую мысль. — Будто и не было никогда. Столик, пруд, стаканы, люди. Мы как ни в чем не бывало. А она где? Что это такое? Ты это понимаешь? Я вижу, ты понимаешь. Как там, с точки зрения материализма?.. У тебя ведь на все есть ответ. — Он увидел какой-то мой жест, словно бы протестующий, и продолжал, отмахнувшись: — Жизнь продолжается… Замечательные какие слова. Мне их все время твердили. Конечно, продолжается. Какие могут быть вопросы? Ты женился, сына родил. Я вдовец, в бобылях хожу. Но тоже, верно, устроюсь. Так ведь? Устроюсь и я. Хорошее какое словечко — «устроиться». Но почему я без нее живу, как это я сумел? Ведь, казалось, ни дня не выдержу, каждое окно звало, тянуло: а ну давай, не робей! Так и уговаривало шмякнуться мешком с разбитыми костями. Ничего, устоял: жизнь продолжается… Ну и ты, наверное, погоревал месяц-другой и занялся иллюстрациями к Гончарову. Так, что ли?
— Хватит, Борька. Не смей.
— Да не обижайся ты. Не о нас речь. Я знаю, ты меня долго ненавидел. По-твоему, я увел ее у тебя. А я презирал тебя за то, что ты пытался подправить, переломить судьбу. Она мне была предназначена богом, а ты замахнулся на нее.
— Не надо, то ли ты пьян, но не те слова говоришь. Еще кое-что вспомни. Вспомни, в метро после моего дня рождения… Как ты обрадовался, что меня не будет…
Я говорил и чувствовал, что вот-вот потеряю самообладание и начнется бессмысленное, тяжкое выяснение того, что и выяснить невозможно, и что наши с ним отношения (единственных двух людей, с нею связанных) опять поломаются, теперь уже навсегда.
И он почувствовал это. И сказал морщась, глядя на меня потемневшими неподвижными глазами:
— Да, ты прав, нечего нам счеты сводить… Все счеты судьбой сведены. Знаю, и ты страдал… Я все это так говорю. Я понимаю тебя даже больше, чем ты думаешь… Это я не тебе, а себе говорю. А знаешь почему? А потому что все время кажется мне, будто я что-то недоглядел, недосмотрел, потому и случилось с нею… А с тобой, ну что ж нам теперь? Один раз мы уже с тобой крепко разломились. А сейчас — верно, не стоит. Теперь мы одни остались. Остальным — нет до нее дела.
— Еще мать, Беата.
— Да, еще мать… Недавно получил письмо. Хочу туда съездить. — Он пристально посмотрел на меня. — Ты что, тоже хочешь? — И тут же сам себе ответил: — А может, тебе и не надо. У тебя другая жизнь, а у меня другой нет, поэтому я все в прошлом и копаюсь, за прошлое держусь… Помнишь наш первый вечер? Я уже тогда был уверен, что она мне судьбой послана… И я прямо так и бухнул ей. Я и слов-то таких не знал, но как-то само сказалось. А она сначала захохотала, а потом посмотрела, перестала смеяться, замолчала, поняла, что говорю правду. И поверила. Клянусь тебе, поверила… Ну а уж потом… Только можешь мне объяснить, за что ей так? Может, мы в чем-то виноваты?
— Да и мы не виноваты.
— Не оправдывайся. Ты не знаешь. И я не знаю… Чувствую, что надо жить иначе, а не умею, что вся работа, работенка наша недостойна…
— Чего недостойна?
— Того, что мы ей обещали.
— А что мы ей обещали?
— А то… Многое обещали, да не смогли. Сам все понимаешь, не притворяйся. Давай-ка еще закажем.
— Хватит тебе.
— Нет, я хочу. Сейчас хорошо, уже легче… А где портрет ее?
— Какой?
— Тот, что ты рисовал у себя в комнате — с натуры. Да ты ведь и показывал его мне. Забыл? Ты его закончил?
— Нет.
— И я не закончил… А точнее даже, и не начинал. Вот рисунок при ее жизни сделал.
Он долго рылся в папке, уже нетвердыми, неточными руками достал лист картона.
Черным по белому фону, незавершенно и одновременно завершенно, одной стремительно летящей, нигде не прерывающейся линией было обозначено, намечено, схвачено в какой-то неясный для меня миг ее лицо… Миг чего? Чем она занималась в это время? Глаза были несколько скошены вниз, но вместе с тем глядели на тебя. И несмотря на этот чуть-чуть потупленный взгляд, лицо было радостное, солнечное.
Я давно уже не видел свой старый портрет и не знаю, что было сильнее: он или этот Борькин набросок. Впрочем, что значит сильнее? Просто на его рисунке она была иной: яснее, счастливее. Такой ясной я ее никогда не видел.
И снова, как в первый наш день в Институте, когда он вошел в буфет со своими портретами, я восхитился Борькой. И снова ничего не сказал. Нет, не ревновал я теперь. Конечно, этот набросок был сильнее моего тяжеловесного портрета. Но какая разница? Не было теперь соревнования, сведения счетов, все они давно закрыты раз и навсегда… Все можно поделить. Только память не делится.
Я молчал, говорить не хотелось. Этот рисунок не для оценок писался. Я это хорошо понимал.
— Ты только не потеряй… Ты ведь можешь… Лучше мне дай. Я сохраню.
— Ошибаешься. Потерять э т о я не могу. Не должен. Это мое… И я повешу дома, у себя дома, понимаешь? Ведь будет же у меня когда-нибудь дом.
— Да, понимаю.
Именно этот рисунок в тонкой деревянной рамочке висел теперь на стене.
Новая жена стирала с нее пыль. Что делать, так уж жизнь устроена, пылится все: и вещи, и книги, и портреты, и кожа, и волосы. Не пылятся лишь те, кого нет с нами, кого защищает земля, кто сам стал землею.
А все остальное пылится. Поэтому жене приходится осторожно касаться рамочки, вытирая пыль, и смотреть каждодневно в эти очерченные легким, летящим штрихом счастливые глаза.
Институт остался позади, давней начальной станцией, дороги шли вперед, поезда то набирали скорость, то снижали ее, некоторые так и стояли на каких-то разъездах, а Институт светил из тьмы далекими огоньками, которые со временем казались все теплей и ярче…
Это не была ностальгия по юности.
Ведь сколько ругали тесные, неудобные коммунальные мастерские Института, вечную нехватку всего, даже красок, а сейчас, при наличии более или менее сносных мастерских (правда, далеко не у каждого), те видятся средоточием уюта, вместилищем неистребимых надежд, очагами дружества.
А как схватывались и тогда друг с другом, как боролись за лидерство, то не веря в себя, то втайне никого, кроме себя, не признавая, да и какое интересное времечко выпало нам.
Но, может быть, потому, что до некоторых истин нам приходилось докапываться самим, — до тех, что ныне общеизвестны и расписаны в учебниках, — может, от этого доморощенные наши открытия потрясали, а иногда и озаряли нас неожиданностью и новизной.
Те самые молодые художники, что пугали и удивляли публику невиданными сочетаниями цветов, странными фигурами, кого никто не принимал всерьез, вдруг «пошли», да так, как никто и не ожидал.
А дело было простое. Никакой, конечно, художественной ценности их работы не представляли, но они нашли себе применение в сугубо прикладных целях, и некоторые наши «новаторы» теперь готовили эскизы для обоев, декоративных тканей и прочего.
Да и вообще все прикладное шло в ход; ремесло, то самое, о котором в первый наш институтский день говорил Мастер, поднималось в цене, требовалось. А то, чем занимался я, чем занимался Борька, требовалось не всегда, в отдельных случаях.
По-разному жили наши ребята, одни оказывались в каких-то далеких, преимущественно сибирских городах, рисовали и лепили тех, кто жил и работал рядом, другие ездили в Среднюю Азию, жгучими красками создавали панно для колхозных клубов… Были и хорошие панно и неплохие портреты.
Другие писали что-то свое, не ведомое никому, годами, иногда о них забывали все, но они по-прежнему разрабатывали одну и ту же тему, точно только она и была им ведома в жизни, так и глохли с ней или неожиданно прорывались. И тогда все говорили: вот видите, он был верен себе.
Я же ничего не мог сделать со своей природой. Я рисовал то, что видел, так или иначе понятая реальность диктовала мне образ, а не образ рождал не ведомую никому реальность.
«Ты слишком лиричен, — говорили мне некоторые друзья, — сегодня надо работать жестче и остраненней».
Борька же вообще не показывал в то время своих работ. Первый, самый зрелый из нас в пору ученичества, он приобрел вдруг репутацию чуть ли не консерватора.
Наш постаревший Мастер покачивал головой: «Какие начитанные, какие наглядевшиеся, всюду были, на все глянули… И все есть, одного только нет: своего взгляда. Но, к счастью, не у всех…»
Однажды, когда Борька исчез надолго, Мастер поехал к нему….
Вернувшись, он сказал, что Борькино настроение и состояние ему не понравились, а работа, которую он делает, наоборот.
— Очень живая работка.
По его шкале это была довольно высокая оценка. Но что это за «работка», он нам не сказал.
— Увидите, — говорит, — никуда он от вас ее не спрячет.
Но Борька прятал. То ли не считал законченной, то ли просто не хотел. Кто его поймет?
Визит Мастера неожиданно поднял Борькины акции. Мастер побывал у городского начальства, объяснил, какой талантливый и перспективный художник находится здесь, у них под боком, и не используется в полной мере, отчего была бы взаимная польза и городу и художнику.
К словам этим, видно, прислушались. Предложили Борьке показать свои работы, выставиться, но он отказался. Объяснил, что все у него еще не закончено, что у него действительно есть работы, но он не может спешить и к выставке внутренне не готов.
Ему предложили тогда работу, правда, не совсем по специальности, но это не смутило его, и он согласился оформить интерьеры перестроенного рабочего Дома культуры.
Это было большое, старое, двадцатых годов здание конструктивистского типа, острыми и голыми своими линиями выделявшееся среди небольших домов горбатой городской окраины. Заказ был серьезный, крупный, солидный договор… Некоторые удивлялись, что Борька за это взялся, другие говорили: «Жить-то надо, понятное дело», но я был убежден: Борька видел в этой работе другой интерес.
Я же ходил по журналам, по издательствам, получал заказы на иллюстрирование каких-то быстро и незаметно мелькавших рассказов и повестей. К тем же книгам, которые мне хотелось бы оформить, не подпускали. Там был свой порядок и свой круг.
Я стал делать иллюстрации просто так, для себя. Я брал вещи из классики, которые любил и которые перечитывал всякий раз с ощущением новизны и откровения. Потом показал их Мастеру. Он посмотрел внимательно, долго, сделал два-три точных замечания по композиции, по второму плану.
Возвращая мне работу, он сказал:
— Неплохо… Может быть, даже хорошо. Но ты делаешь одну ошибку. У тебя что-то смещается во временах, какая-то незаметная подмена, я даже не могу ее объяснить. Ты создаешь тот антураж, а пишешь сегодняшних людей. Я бы посоветовал тебе отойти от этого, отойти сейчас от иллюстраций вообще и написать свое.
— А что свое?
— Ну, что-то пережитое именно тобой, скажем, любовь. У тебя ведь была любовь, вот ее и пиши.
Я замолчал, не зная, что ему ответить.
— Это очень трудно, наверное, невозможно… Она была… ну, не такая, как у других.
— Что это значит? — Он увидел и понял, что говорить об этом я не хочу. — Я и не прошу тебя объяснять на словах… Слава богу, что не такая. Вот и напиши ее. А может, и не ее вовсе. Но что-то самое главное, что ты пережил… Ведь что-то же ты пережил!
Я посмотрел на него. Мне казалось, он чуть-чуть дразнит меня, как бы ненароком, случайно задевает больные места.
— Что ты усмехаешься так сардонически? Тебе повезло. Ты еще сравнительно молод. У тебя осталось еще две попытки из трех возможных. Готовься ко второй.
Вторая попытка? Мне казалось, что жизнь даст мне еще десяток возможностей, но Мастер вычислил, что их всего три… Может быть. Ему виднее. Может, он уже отстрелял все три свои, не осталось ни одной, зато теперь он обрел дар понимания чужих судеб…
Я входил, как бы втрамбовывался в ритм городской суеты, в поиск задания, заработка. Поняв закономерность этого ритма, я стал частью его. Теперь я работал быстрее, не мучаясь так, как прежде, я уже накопил навык, приобрел технику, меня принимали как профессионала, а я все чувствовал себя учеником.
Пришла полоса удач: оформленная мною книга получила приз, предложений стало больше, и ощущение шаткости, незащищенности профессиональной и материальной стало исчезать. Я писал, рисовал, пробовал себя в разном: акварели, пейзажи… Много ездил, с каким-то новым интересом к людям, к земле, к жизни. Я не ловил конъюнктуру журнальных заданий, не спешил предлагать свои работы выставкам.
Но по-прежнему больше всего тянуло к портрету. Хотелось найти непритязательную, простую форму, в которой обнажилось бы нутро, а чужое увиделось бы как свое.
Но дух человеческий не постигается на бегу. Да и в самой методике общения была какая-то фальшь: сначала разговор с начальством, листочек со списком тех, кого нужно, желательно нарисовать, потом отбор из них, причем чисто поверхностный, случайный.
Однажды во время очередной поездки по Сибири я попал на похороны тракториста. Меня поразила черно-белая толпа на первом кладбище в поселке, — там все было первое: первое общежитие, первый отряд, первая столовая, первый тоннель, сквозь который шла дальше на восток железная дорога. И вот первая могила со звездочкой, тайга, хмурые люди, первая потеря. А вроде бы предполагалось, что народ здесь молодой и умирать не собирается, не должен.
Крохотный квадрат земли, огороженный новенькой латунно-блестящей оградой… А вдали — высящиеся краны, морозный дым из труб, заиндевевшие вездеходы, жилые вагончики, рядом с ними пестрое белье на веревках… Начало пути, начало жизни.
Что я увидел в этой смерти? Случайность? Катастрофу? Жертву? Подвиг освоения?.. Конечно и подвиг. Но что-то и еще, не поддающееся анализу и пониманию. Хрупкую грань между бытием и небытием, тайну жизни и смерти.
Вот это и хотелось мне выразить черным цветом на белом фоне — черная ворона над белым снегом.
Я писал быстро, радостно и вместе с тем мучительно. Писалось как бы само.
Среди всего, что я привез из этой поездки, из всего вороха набросков, зарисовок, этюдов, акварелей — эта работа одна казалась мне стоящей.
Я отобрал кое-что, разложил перед Мастером веером. Он цепко скользнул взглядом, отложил одну работу, потом другую, прищурившись (всегда мне казалось, что он смотрит чуть-чуть брезгливо), смотрел на третью.
Наконец он увидел. И, даже разрумянившись, сказал, вернее, не сказал, а ткнул пальцем, — жест слился со звуком:
— Вот эта.
Я стал убирать все остальное. Теперь эта одна лежала перед ним. Он сказал, сдерживая удивление:
— Не ожидал… Довольно сильно.
Впервые я услышал от него слово «сильно». Для ученика это был высший балл, я и Сашка не удостоились его за все эти годы ни разу. Борька же — дважды.
Но дело не в оценке. Готовилась выставка, и я отобрал ряд работ, в том числе и эту. Причем она у меня шла как главная, основная и называлась «Красная звездочка», с подзаголовком в скобках: «Ангарск. Похороны тракториста». Я объяснял устроителям, что если это и трагедия, то оптимистическая, что смерть — неизбежность. Да и фон, казалось мне, был написан мужественно, лица людей, небо, вдали первые дома.
Взяли все работы. Кроме этой.
Как быть? Выставляться или нет?
Сашка сказал:
— Выставись в конце концов. Сначала надо проложить дорогу, заработать имя, потом уж диктовать свои условия.
Это было разумно. Но…
Я пошел на междугородную, заказал разговор с Борькой, через несколько часов дозвонился до него. Он сказал: «Приезжай».
С ним одним мне хотелось и говорить и советоваться.
Осенний, словно ветром обдающий душу пейзаж Подмосковья свободно открывался: обнаженно распахнутые поля, красные — я мысленно слышал их жестяное шуршанье — листья на оголившихся деревьях…
Вы скажете: «Мрачно…» Пожалуй, нет. Пожалуй, что-то другое, но только не мрак. Печаль отшумевшей летней жизни, память о ней, ее ощутимый след в забитых фанерных ларьках, заколоченных домиках, опустевших дачных участках. И не ощущение конца, а наоборот, ощущение близкой перемены, обещание зимы с ее светом, с белым мехом снегов, с радостью спокойного зимнего солнца.
Я чувствовал этот переход, незаметное впадение осени в зиму, и было тревожно от собственных молчаливых дум о будущем, о работе, о жизни, от лежащих в тонкой картонной папке рисунков, хороших или плохих — самому неясно, от предстоящей встречи с другом, с которым накрепко, быть может навсегда, объединяет не только настоящее или будущее, но и прошлое…
Странное дело. Еще в самые молодые свои годы я физически ощущал время, эту непонятную горечь, когда будущее, которое ждешь, незаметно для себя становится прошлым; физическое ощущение времени, его движения через всю твою жизнь… Хотелось что-то главное запомнить в его лёте, но главное претворялось в повседневность, обманывало, ускользало, виделось промежутком между тем, что ушло, и тем, что еще будет.
Только в детстве я мыслил время как бесконечность, навсегда принадлежавшую мне.
Дорога с редкими остановками, — этот поезд напоминал экспресс, — мягкие сиденья, чистота, тишина, ничего от прежних долгих поездов, от электричек послевоенной поры. Но память все держала, все относила — туда, к тем послевоенным дорогам, к тем дребезжащим шумным электричкам.
И вот на каком-то полустанке ввалилась компания с баяном, рыдающие, но одновременно счастливые голоса громко, нестройно запели, мелькнула стриженая голова мальчика, которого провожали в армию.
Все это и будоражило и успокаивало, в дороге мне никогда не хотелось спать, она не укачивала, не затормаживала меня, а наоборот, обостряла зрение и слух.
Впрочем, я знал ее краткость, это когда вы только собираетесь в путь, кажется, что он будет бесконечным, и потому обдумываете, какое чтиво взять, чтобы он незаметней пролетел. Но вот что самое удивительное: он и без этого пролетает незаметно.
На самом деле конечный пункт всегда ближе, чем нам казалось.
За вокзальной площадью, за двух-трехэтажными домами, на петляющей булыжной мостовой я встретил Борьку.
Обветренное красное лицо его просияло голубыми глазами. Встретились мы сейчас радостно, даже обнялись.
Мы молча шли, ветер нес запах гари, Борька ни о чем меня не спрашивал, я его тоже. Какие-то люди здоровались с нами, он приветливо и даже, мне почудилось, не без важности им отвечал; это было что-то новое, раньше он то ли чурался людей, то ли мало кого знал, а может, и не хотел знать, а теперь он вроде был своим человеком в этом городе.
Мы прошли мимо деревянного двухэтажного домика, где он жил до сих пор, я хотел было спросить, куда он меня ведет, но вовремя сдержался, промолчал и оставил ему возможность преподнести мне сюрприз.
По дороге зашли в магазинчик, напоминавший сельпо подбором товаров и запахом (в одном углу стояли бутылки с вином, в другом — насосы для велосипедов, а запах был какой-то странный, колбасно-гуталиновый). В Борькином портфеле было теперь все необходимое для теплой и дружественной встречи.
А встречи наши, как своего рода шахматная партия, состояли из трех стадий. Вначале как бы раскачивались, долго не могли разговориться, топтались на месте, затрагивали что-то незначащее… Потом начинали спорить, чаще всего на художественно-эстетической почве, спор наш доходил до какой-то опасной грани, полного неприятия позиций и взглядов другого, грозил разрывом. Это было тем более странно, что при всех различиях вкусы наши в основном совпадали. Нам по-разному могли нравиться те или иные вещи, но не нравилось с полной очевидностью одно и то же… И так, обычно без особых осложнений миновав опасный миттельшпиль, мы приходили к благополучной концовке, расставались друзьями, он провожал нас на ночной поезд или оставлял у себя…
Мы уже прошли центр города, на пустырях белели, светились в зелени поредевшего, подавленного бульдозерами леса новые дома, валялись глыбы цемента, бетонные плиты. Наконец уткнулись в аккуратный, словно бы еще влажный, сыроватый от новизны, от склейки дом-башню.
— Мой, — небрежно сказал Борька. — Первая моя квартира.
Да, действительно, это была первая в его жизни собственная квартира, если не считать той, где он родился. Интернат, студенческая общага с еще двумя гавриками в комнате, потом жилплощадь в этом городе — временное, арендованное жилье, — а теперь вот настоящая, своя квартира. В ее белизне, пустоте как бы прорезались черты будущего жилья, зачаток уюта; Борька умел обживать новое место, он был даже домовит по-своему — домовит без дома.
На розовой, светящейся кухне сверкали две новенькие табуретки, такой же стол; в комнате стояла раскладушка, придавая ей вид студенческий, временный, но уже прибиты были полки для книг, а в углу привалились к стене подрамники.
Борька, всегда о своих делах темнивший, на этот раз был открыт и сразу как пришли решил огорошить меня.
— Представляешь, городской клуб купил у меня несколько работ и предложил сделать панно, витражи. Вот и договор.
Кое-что я уже слышал об этом, но чтобы доставить ему радость, удивился и сказал, как в таких случаях было принято:
— Ну даешь!..
Я уважительно вертел бланк договора, где была проставлена довольно приличная сумма прописью.
— И еще персональную выставку предлагают… Но я еще сам не знаю… Пока не закончу одну картину, вряд ли… В общем, пока все неплохо, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Ну а ты как там?
Мне нечего было противопоставить его стремительному взлету, и я сказал:
— Оформляю какие-то книжки. Что-то рисую для себя. Скоро выставку откроют: «Творческий отчет молодых».
— Молодых, молодых, — вдруг с раздражением сказал Борька. — Искусству нет дела до возраста. А мы все ходим в молодых.
— Искусству…
— «Молодые»… Послабленьице, вроде форы.
— Тебе хорошо, с таким договором можно год работать на себя.
— А я не хочу делить — «для себя», «для кого-то». И клуб этот буду делать как для себя.
Он был неожиданно боевит, полон оптимизма и веры в победу. Я уже давно не видел его таким. И, честно говоря, радовался за него.
Мы еще долго сидели, он заражал меня своей уверенностью, говорил о том, что если мы начнем постоянно уступать другим, то приучимся уступать себе и уступки станут нашей нормой.
Мне казалось, он на подъеме. Топтался, топтался на старте, а вот теперь разогнался и пошел вперед.
Только иногда его глаза серели, темнели, точно в них свет выключался. Тогда, словно забыв, о чем только что говорил, он замолкал, безучастно сидел, глядя на тебя уже чужими, невидящими глазами.
— Ты чего, Борь?
— Да так.
Усилием воли он возвращался о т т у д а, начинал ходить по комнате, громко говорить.
В конце я показал ему «Красную звездочку». Он смотрел долго, и по его лицу я понимал: нравится.
Он так и не высказал впрямую своего отношения, не сделал никаких замечаний. Поднял глаза и внимательно, точно проверяя меня, глянул в мои зрачки, сказал веско, не допуская возражений:
— Без нее не выставляйся.
Сказать по правде, я еще ничего не решил и, вернувшись в Москву, колебался. Некоторые мои товарищи уговаривали меня выставиться, говорили, что и другие работы на уровне, главное — чтобы заметили сейчас. А через некоторое время и та пройдет.
Несколько бессонных ночей. От бесконечных советов, советований с друзьями, с собой гудела голова.
В последний момент отказался.
Через несколько месяцев я приехал на выставку Борьки Никитина. Той картины, о которой он говорил мне, на ней не было. Не знаю уж почему, но он согласился на выставку без этой, как он сам считал, главной работы… Возможно, он думал, что работать над ней еще годы.
Открытие прошло хорошо. Его хвалили… «Искренность таланта», «народность таланта»… Кто-то, правда, заметил, что художника подавляют Нестеров и кто-то там еще. Но это прозвучало вяло.
На открытие неожиданно прибыл наш бывший декан — теперь он был критик.
Он говорил пространно, цитируя по памяти великих и выдающихся; он был доволен, он хвалил, он считал, что Борька значительно вырос и идет по правильному пути.
Я вспомнил, что меня он тоже хвалил на какой-то выставке, не вдаваясь ни в манеру, ни в стиль. Как и Борька, я был для него лишь материалом для обобщений.
В конце и Борька сказал несколько слов. Говорил довольно сбивчиво, с паузами. Он говорил о том, что эта выставка нужна была ему, чтобы увидеть не то, что он сделал за эти годы, а то, чего не сделал, но должен был бы сделать.
Я знал, я чувствовал, что он недоволен этой выставкой. И действительно чего-то не хватало, хотя все было хорошо.
Через год Борька сдавал проект своего Дома культуры. Меня долго не было в Москве, а вернувшись, я сразу поехал к нему. В нем что-то переменилось. Стал жестче, резче, грубее. Ему сделали серьезнейшие замечания. Ему напомнили, что он не профессиональный оформитель, а художник, живописец и что некоторые его идеи совершенно неприемлемы.
Я просмотрел Борькины эскизы. И надо сказать, был удивлен… Борька всегда тяготел к портрету, любил сочетать подлинность и условность, они как бы входили друг в друга. В эскизах же он дал волю своей фантазии. Обнаженность декоративного элемента, необычность решений, интереснейший цвет: синий и золотой, цвет Волги и осени, надежды и потери. Рыбы, вырываясь из синего фона, сверкали серебром и золотом, вились друг вокруг друга, искали что-то неведомое, захороненное на дне.
Панно, витражи, мозаики…
В своем решении интерьеров он искал света, сказочности, праздничности. Не будничное заведение с буфетом и залом для танцев, куда люди заглядывают, чтобы убить время, а дом, где отдыхает душа.
Борькин проект отклонили.
Благоденствие и признание были недолгими.
В тот день, когда его отстранили, Борька не казался побежденным. На этот раз поражение не деморализовало его, не знаю, надолго ли… Я чувствовал в нем новую страсть к работе, уверенность в своей правоте, силу.
Конечно, я знал, по себе знал, что такое состояние может смениться отчаяньем, меня неудачи выбивали из колеи надолго, непризнание никогда не было для меня толчком к работе, наоборот, ослабляло, обессиливало… Это пришло ко мне не сразу. В юности я бесконечно верил в свою правоту, возможности и удачу. Теперь же правота все чаще становилась для меня самого спорной, удача сомнительной; оставались только возможности, они еще, пожалуй, казались неисчерпаемыми…
Дома сидеть не хотелось. Зашли в ресторан, там было душно, людно, громыхала музыка. Мы вышли, долго рыскали по городу, искали, куда бы приткнуться. Наконец забрели в какую-то чайную, необыкновенно захолустную даже для этого городка.
Борьку узнавали, какая-то компания звала нас к себе, кто-то приветственно махал рукой:
— Художник, эй, художник!
Мы посидели недолго и ушли. Рваная сырая мгла влажно облегла нас. Было ветрено, зябко, а там тепло, и вслед нам цокали граненые стаканчики и кто-то призывал:
— Художник, эй, художник, ты куда? Не спеши, посидим!
Согретые этим непрочным теплом, мы ходили по городу. Темно, ничего не видно, но Борька вслепую показывал мне то, что осталось от старого города, и я впрямь как будто видел приземистые домики, горбатые переулки, спуск на набережную, древние липы над ней, — вкус и прочность давнего, наследуемого от века к веку, от поколения к поколению быта.
Борька говорил о том, каким он сделал бы этот город. Я уже не помню сейчас его проектов, но мысль о безликости, ординарности новых застроек уже тогда волновала нас, хотя эти новые дома, спасение для множества семей, живущих в коммуналках и подвалах, только начинали строиться и даже казались красивыми. Мы думали о том, как оживить геометрическую сухость стандартных коробок, как при всей однотипности сделать их непохожими, найти какую-то линию, цвет, найти в этом симметрически однообразном царстве живую асимметрию. Что-то нужно было придумать, противопоставить, но что? Терема по Борькиным проектам? А может, наоборот, конструктивистское, летящее, бетонно-стальное, с огромными во все стороны стеклами, отражающими воду?
Мы не знали, плутали в потемках…
Набродились, замерзли, пришли домой. Борька сунул в кружку кипятильник, насыпал чаю. Командировочным, гостиничным духом веяло в квартире новосела.
Неожиданно позвонили в дверь. Тревожно, длинно прокатился по тоненьким переборкам настойчивый, слишком резкий звонок.
Пошел открывать не Борька, а я.
На пороге стояла женщина.
— Кто там? — крикнул из комнаты Борька.
Я не смог ее разглядеть в полутьме прихожей. Она была в дождевике с капюшоном, стояла, несколько смущенная, тоненькая, в черном, ветряном распахе дверей. Потом сбросила капюшон, сделала шаг вперед, к свету, и стало видно молодое, но не юное женское лицо, выгоревшие брови, остренький носик, небольшие, тоже как бы выгоревшие, почти бесцветные глаза. И теперь уже не казалась такой тоненькой, скорее была полновата, сбита крепко и нисколько не походила на ту, которую нам в земной нашей жизни все равно было не дождаться.
— Вы Борис Никитин?
Приняв секундную паузу за замешательство, она пояснила:
— Борис Никитин, художник.
— А, художник, — сказал я, словно проснувшись. — Он там, в комнате.
Не снимая плаща, она вошла. Художник в это время размешивал слишком густую, клочками, заварку, разливал ее по стаканам.
— Простите, что так поздно, — быстро заговорила она. — Я никак не могу вас застать… Вас не бывает никогда, поэтому я решила…
— Может, вы снимете плащ, посидите? Вот мы чай пьем.
— Да нет, уже поздно, я спешу… Я ведь по делу… Я ведь преподаю в интернате. Черчение. Я слышала, вы интересный художник, даже была на вашей выставке.
— Что вы мне предложите? — с неожиданной резкостью сказал Борька. — Оформление интерната? Я уже оформлял Дом культуры… Вот что из этого вышло.
Он обвел глазами пустую комнату, стаканы на голом столе, ржавый кипятильник.
— Да нет, вы не поняли меня… У нас интернат для трудных детей.
— Ну и что? Мы с ним тоже трудные. Вот посмотрите на него.
Она, помолчав, сказала:
— Я ведь не шутки шутить пришла к вам. Я вас ищу уже несколько дней.
— Слушаю вас, — серьезно сказал Борька.
— Я бы хотела, чтобы вы пришли к детям. Это сложные дети, интересные дети… Многие практически брошены родителями.
— Что же я могу сделать? Заменить им родителей?
— Да нет, — уже не обращая внимания на его колкости, продолжала она. — Мы решили проводить беседы о прекрасном.
— О чем?
— О прекрасном… Может быть, это нелепое название, но вы должны понимать, о чем речь. Там есть самые разные дети, есть очень тяжелые… В этом возрасте они еще чутки к красоте… Вот мы и пытаемся… А то упустишь.
— Что вы конкретно хотите от меня?
— Чтобы вы встретились с ними, поговорили о живописи, может, показали бы свои работы.
Борька помолчал, поморщился.
Она опустила глаза.
— Когда? — неожиданно деловито осведомился Борька.
— В четверг, если вам удобно… После уроков… ну, часа в два.
Лицо его изобразило заботу и напряжение, словно он мысленно листал свой деловой, расписанный по минутам календарь. Я знал, что он по характеру своему безотказен, тем более в таком деле, но поломаться, особенно когда перед ним женщина, тоже любит.
В конце концов он сказал:
— Хорошо. Давайте адрес.
— Мы за вами придем.
— Это еще лучше.
Она кивнула мне, Борька встал, чтобы ее проводить. Что-то они там говорили, уже на лестничной площадке, но я не слышал.
Что я знал о его так называемой личной жизни? Довольно мало. Естественно, Борька не был отшельником, и я заставал у него каких-то околохудожественных девиц, бойко обхаживающих Борьку. Было странно: казалось, не он приводил их, а они сами приходили к нему, и уже хозяин был безучастен и не выказывал к ним ни малейшего интереса, а они все сидели и сидели. Являлись и какие-то молодые люди, старавшиеся казаться раскованнее, чем были на самом деле.
Все это чем-то напоминало вечеринки и сборища в нашем институтском общежитии, но без той естественности и веселья, без той чрезмерной, но насыщенной жадным интересом к искусству болтовни, без тех уже полузабытых сейчас песен.
Здесь тоже пели, и гитара наигрывала что-то, и разговоры шли, но все было пусто, словно я в поезде случайно забрел в чужое купе.
Может быть, я просто постарел и эти компании были не моими? Я смотрел на Борьку, тихо сидящего в углу с кружкой в руке, и чувствовал, что и ему все это не очень нужно, неинтересно, он словно бы не участвует, а присутствует и со стороны кажется гостем в собственном доме.
Я мысленно представлял, что одна из этих девиц останется здесь до утра, а потом, может быть, навсегда, и Борьке будет пусто с ней самой глухой и больной пустотой. Она будет что-то спрашивать и говорить, бойко, с молодым задором, а он будет молчать и думать о своем…
Несколько месяцев мы не виделись, и я мало что знал о нем. Я работал не отрываясь, трудно, оформлял Мишеля Монтеня для детского издательства; бился, не мог найти решения, выходило слишком философично, будто я иллюстрирую идею, концепцию, а нужен был зримый отзвук этих идей, понятный детям. Получалась графическая заумь, ложная символика, а требовались простота, ясный образ времени и чтоб эта простота и ясность соединялись с чем-то необычным, отражающим таинственное излучение неистребимой мысли, ищущего духа.
Работать было интересно. Я перечитывал книги, точнее, не перечитывал, а читал — те, к которым едва прикоснулся в детстве.
Раза два звонил Борька. Голос его был то далек, то близок, будто звонит с соседней улицы. И голос его мне не нравился — безразличный, раздавленный, размытый.
Он вообще не умел и не любил разговаривать по телефону. Ни его состояния, ни его настроения по телефону определить было нельзя. По телефону с ним можно было лишь договариваться о чем-либо — о встрече, о поездке.
— Ну как ты, ну что ты? — спрашивал я.
— Нормально, — отвечал он.
И в этом «нормально» чувствовались болезнь и отчужденность. И не зная, что ему сказать, я произносил какие-то пустые, дежурные фразы, которым надлежало отвлечь его, настроить на другой лад, произносил с каким-то простецким, грубоватым оптимизмом.
— Ты бросай, — говорил я ему. — Кончать с этим надо. Пьешь небось? Работать тебе надо… Бросай это дело.
— А бросать-то че? — так же грубовато и вместе с тем тускло, как бы без выражения, отвечал он. — Сам бросай, у меня все в порядке.
Однажды я съездил к нему, но дома не застал. Искал по всему городу, соседи снизу сказали, что несколько дней не ночевал у себя. Наконец под вечер встретил бледного, опухшего. Он смотрел косо, облизывал пересохшие губы и, не глядя на меня, отчужденно, недобро бубнил:
— Все вы там в Москве… Все вы там…
Словно мы были из чужих, враждебных краев.
А между тем в Москву он приезжал, но не звонил ни мне, ни Сашке. Что он здесь делал, я не знаю.
Как-то я шел из кинотеатра «Художественный». Был не один. Девушка, которая молча шла рядом, вскоре стала моей женой, но в тот вечер я еще не думал об этом…
Осень переходила в зиму, рано темнело, мы шли по Суворовскому бульвару и заглянули во двор, где стоит старый памятник Гоголю. Вокруг него бегали дети, хлюпая по слякоти, на склоненную голову Гоголя косо падал снег. Ни прожектора, ни лучика на лицо. И оно темнело, угадывалось, знакомое до мельчайших подробностей: измученная улыбка с оттенком то ли презрения, то ли издевки.
И странное совпадение — из-за памятника, с другой его стороны, выходит Борька. Я знал, что он тоже любил этот старый памятник. Но что он там делал? Почему не позвонил мне?..
— Ты надолго в Москве?
— Да нет, на несколько часов.
— Вот, познакомьтесь. Это Боря Никитин, это Таня. Я Тане о тебе много рассказывал.
— Да? — усмехнувшись, сказал он. — А что рассказывать-то?
— Ладно. Может, пойдем посидим куда-нибудь?
— Нет. Пора домой. Поезд скоро.
Я бы с удовольствием проводил его до вокзала, хотел было предложить, но сквозь летящий мокрый снег увидел его бледное, далекое, очень чужое лицо и промолчал.
Глаза его чуть оживились, когда он пожимал мне руку, посматривая не без интереса на мою девушку, потом секунду помешкал, словно не зная, как с ней проститься — за руку или кивком, в конце концов улыбнулся, тряхнул головой и исчез, слился с бульваром, со снежным дождем, с прохожими.
— Какой-то он странный, твой Борька Никитин, — сказала моя девушка. И добавила задумчиво: — Все вы немного странные. Такое уж поколение.
Она была моложе меня на шестнадцать лет.
Через некоторое время он снова очутился в больнице. Как только я узнал об этом, я тут же поехал к нему.
Мы долго сидели в палате, болезнь сделала его мягче, открытее. У него было желтоватое, будто покрытое каким-то странным, нездоровым загаром лицо. Ему не велено было вставать, но он, естественно, нарушал больничные порядки и сейчас тоже пошел за мной к лестничному пролету, где была как бы прогулочная площадка для тех, кого не выпускали на улицу. Гудели голоса, больные разговаривали по телефону, курили. Борька стоял спокойно, разглядывая ходящих взад и вперед людей; я знал за ним эту привычку, смотреть на что-то знакомое так, как если бы впервые увидел. Наверное, десятки раз в день мелькали перед ним эти лица, но он вдруг с пристальным любопытством начинал всматриваться в них. И этот взгляд обрадовал меня… Значит, жив.
Неожиданно повернувшись ко мне, он сказал:
— Когда нависает — хочется работать, что-то еще успеть… Если так пойдет, ничего не успею.
— Успеешь. Ты обязательно должен успеть. Вот поправишься, перевезем тебя в Москву, будешь нормально работать.
Я говорил, не очень веря себе, потому что темное предчувствие укололо меня. Впрочем, в тот раз я ошибся.
— Нет уж, в Москву я не поеду, — спокойно, без прежнего раздражения сказал Борька. — Я не столичный человек, я человек провинциальный, районный.
Мотив этот был знаком, и я перевел разговор на другую тему.
Вдруг я заметил, что он смотрит вниз, на лестницу. А по ней быстро поднимается женщина с сумкой.
Были приемные часы, много женщин несло сумки, авоськи, но Борька внимательно, потеплевшими глазами смотрел на эту — в сереньком плащике, быстро, в такт движению покачивающую свою, видимо, тяжелую сумку.
Я узнал ее — это была та, учительница из интерната, — и отошел в сторону.
О чем-то они быстро поговорили, и Борька несколько смущенно сказал мне:
— Подожди минутку.
Она перевела на меня взгляд и сдержанно улыбнулась, очевидно, тоже узнав.
Потом они пошли в палату. Он — впереди, стараясь шагать боевито, не как больные; маленький, в больничной пижаме, похожий на чуть постаревшего огольца. Она — за ним, с сумочкой, из которой выглядывало голубое горло кефирной бутылки.
Вот тогда я и понял: она б у д е т.
После возвращения из больницы она навсегда осталась в Борькином доме. И квартира мгновенно преобразилась. Исчез ее дух, одинокий и безбытный. Я уже говорил, что Борька был домовит, и в первые дни его вселения полупустая квартира казалась мне образцом мужского уюта. Но потом он потерял к ней интерес, она стала не домом, а ночлежкой, напоминая какой-то запущенный номер с постояльцем, который и не живет и не уезжает.
Теперь же ощутимо чувствовалось присутствие женщины, дом стал чист, из него выбили всю пыль, выгребли весь мусор, появилась мебель, появилась еда в холодильнике, а прежде не было ни еды, ни холодильника.
Только стенки были голые, Борька не вешал своих работ, как другие, лишь в уголке висел тот самый черно-белый набросок.
Трудно сказать, как складывались наши отношения с ней; мне иногда казалось, что она смотрит на нас с неприязнью, будто все мы были в чем-то виноваты.
Кто знает, может, и были.
«Девушка с пельменями»… Безотчетно хотелось ее принизить, она мешала нашему братству; я понял с самого начала, что она будет стоять между нами, не только между нами и Борькой, но между ним и его прошлым.
Но было и другое. И это другое перевешивало все наше скрытое недовольство: без нее, мне кажется, он просто бы не выжил.
Между тем интернат стал занимать все большее место в его жизни. Уже не встречи и беседы о прекрасном раз в месяц, а регулярные преподавательские часы. Интернат понравился ему, и он, видимо, понравился интернату.
Теперь единственный из нас он получал зарплату и из вольного художника превратился в служащего.
В один из моих приездов дверь открыл не Борька, не она, а мальчик лет тринадцати — четырнадцати.
— Ты, извини, кто? — в некоторой растерянности спросил я.
— Я Егор, — сказал мальчик и, помедлив, добавил: — Дядя Боря в мастерской.
Я пошел в мастерскую. Она была получена Борькой в то время, когда он начал было преуспевать. Находилась она на краю города, но город был невелик, и минут через пятнадцать я уже подымался по выбитым ступеням рано состарившегося нового дома.
На шестом этаже располагались мастерские. Борькина дверь была полуоткрыта. Я тихо постучал, не услышав ответа, вошел.
Борька отпрянул от холста, двинулся мне навстречу. Движения его были слишком быстрыми, почти суетливыми.
— Садись, да нет, вот сюда, сейчас чаю согрею. Хочешь? Я и не знал, что ты приедешь.
Я понял: он уводит меня от картины, ему почему-то не хочется, чтобы я ее видел. Он повел меня в маленький темный закуток, нечто вроде кухни и склада, там рядом с чайником и стаканами стояли банки из-под краски, валялись шурупы, доски для подрамников.
Он быстро провел меня в этот закуток, но я все же не удержался, бросил взгляд на полотно. Взгляд был мимолетен, и я не разглядел картину, но — я увидел ее. Этого было достаточно.
Мне захотелось подойти к ней, рассмотреть как следует, но его цепкий взгляд все время стерег меня, заставляя держаться на расстоянии, не подпускал к картине.
Странно, что он никогда ничего мне о ней не говорил.
Он почувствовал неловкость и пробормотал:
— Я тебе покажу потом… Я уже давно работаю, но урывками, и конца не видно… Вот когда кончу, тогда покажу.
— Как назвал?
Почему-то именно в ней, в этой картине, мне было важно название.
— Пока никак. Есть что-то общее, не название, конечно, а мысль, идея… Примерно так: «Рассвет радости и скорби». Но над названием я еще буду думать, сейчас не до названия. Кончить надо… Ты небось с дороги замерз. Выпить хочешь? — Он перехватил мой удивленный взгляд. — Да не бойся, я сам не пью. Хочется иногда, но нельзя… Другого выхода нет, иначе… Ну а для друзей держу.
— Что это за мальчик мне открыл?
— Это из интерната. Егор… В выходные приходит ко мне, остается. Мальчик хороший и будет рисовать. У него там дома сложно. А так мальчик перспективный, надо только ему руку поставить.
Он что-то еще говорил о мальчике Егоре, не о его жизни и сложностях в семье, это он обошел, а о каких-то его рисунках, говорил со сдержанной нежностью, но сейчас меня занимала только его картина. Я не рассмотрел ее, но увидел. И, должен признаться, она поразила меня. Что-то совершенно новое для Борьки было в ней, хотя шел он — от себя.
Белое поле, снежное, бесконечное. Спокойная снеговая равнина, а вдали, призраком — цветущее вечнозеленое дерево. По полю, над полем шла, точнее, летела девушка, она как бы из второго плана переходила в первый, ее лицо было обращено к вам, она одновременно и знакомилась и прощалась с вами; улыбка ее была удивительно молода, но глаза полны позднего знания жизни, и я узнал в ней ту, которую мы оба любили и потеряли; но она была совершенно иной, чем в жизни, в ее знакомом лице было что-то совершенно незнакомое, одновременно и ее и не ее. И меня поразило это соединение знакомости и незнакомости. А еще в ней было одновременно и ничем не потревоженное счастье и тень тяжкого предчувствия.
А сбоку и на втором плане стояли люди, улыбающиеся и живые, — идея вечной жизни всегда занимала Борьку. И что же это были за люди? Деревенские старики и молодая пара, его родители, но совершенно иные, чем на тех портретах, которые он принес на конкурс; был и седой человек с ярким, молодым улыбающимся лицом и с гигантским яблоком в руках, — я узнал дядю Арчила… Все эти люди странным образом сошлись, соединились в этой картине.
Мне трудно было понять, да и не хотелось разбираться в том, как это строится. Я видел лишь поле, поле жизни с очень разными людьми, живущими своей разной жизнью в замкнутом пространстве картины. Я даже не мог определить манеру. Реализм соединялся с условностью, но условность была не приемом, не самоцелью, а ощущением того, что всем суждено встретиться, всем тем, кого так или иначе соединила жизнь.
По белому и вместе с тем как бы цветущему полю к нам шла или летела эта девушка, то ли здороваясь, то ли навсегда прощаясь живой, гаснущей улыбкой…
Что-то он говорил, рассказывал, но я не слышал его. И не слыша его, а видя эту картину, ворвавшуюся в мои глаза лишь на мгновение, я тихо сказал:
— Я тебя поздравляю… Это очень сильно, очень необычно. Жаль, что ты не дал поглядеть как следует.
— Знаешь, еще рано. Не хочется, пока не сделано. Фигуры второго плана еще не прописаны… Да и многое меня не устраивает. Я ведь уже очень давно работаю… Но все урывками, урывками.
Потом мы пошли в Борькину квартиру, сидели допоздна, и я остался у них ночевать.
Катя хозяйствовала на кухне, пекла крендельки с маком, в доме душно и сладко пахло тестом. Делала она все споро, умело и держалась хозяйкой. Только иногда в каком-то мимо тебя скользящем взгляде угадывалась неуверенность. Роль была еще новой для нее.
Егор тоже сидел допоздна, а потом собрался уходить. Борька сказал ему:
— Если хочешь, оставайся. Места на всех хватит.
И парень легко, даже с радостью остался, хотя был законный родительский день и можно было пойти домой.
За весь вечер при нас он не сказал ни единого слова, только помогал Кате, таскал тарелки, стаканы, мыл; внимательно слушал наши разговоры.
О чем в тот вечер говорили? Не помню.
Помню только, что, засыпая, я думал о Борьке и о себе. О том, что он ни в чем не изменил себе, всегда делает то, что хочет, что считает единственно верным. Иногда шумно, со скандалом, как в истории с Домом культуры, иногда тихо, никому не говоря, ни на что не надеясь.
Но — только то, что ему необходимо, только это…
А я?.. И ведь не скажешь, чтобы шел на поводу, брал что придется, что дадут, тоже ведь старался сохранить себя, выбирал то, что хочется, то, что нравится. И вроде сделано немало. И кажется, не только крепко, профессионально, но и с душой, как говорят понимающие люди. Но сам-то я знаю, что не вся душа вложена, часть припрятана на случай, на будущее. И потому есть что предъявить, а показать нечего.
Борька же выкладывается до конца… А ведь все, и даже я, считали, что его бескомпромиссность — и в работах и в жизни — дурь, бравада.
Оказывается, не бравада.
Но ведь я тоже не стал выставляться без главной своей картины, без «Красной звездочки»…
Я вспомнил это, и мне стало легче. Да и работа, кажется, была неплохая, сильная, ведь и Борьке понравилась. Но почему я ее забросил, почему ни разу не вернулся к ней, точно она была закончена, почему забыл ее, будто не я писал? Почему выставляюсь без нее, будто она не моя? А ведь она, наверное, пока лучшая.
И еще портрет Норы… Его ведь я никому не показывал. Только Борьке и ей.
Как-то несколько лет назад Мастер мне сказал:
— Вы рисуете очень хорошо, у вас счастливо сочетается и нутро и техника. Но вы начинаете и бросаете! У вас нет сквозной темы и мало одержимости… Нужна одержимость. А тема придет — ее подскажет судьба.
Теперь Борька стал чаще звонить мне. И всякий раз просил:
«Приедет Егор, если сможешь, своди его в Музей изобразительных или в Третьяковку. Покажи ему… скажем, голландцев или же зал Сурикова».
Мне представлялось, что у Борьки есть какая-то программа, которую он как бы осуществляет в Егоре. Какой-то замысел, мне еще непонятный, преследующий большее, чем просто образовательные цели.
Я выполнял его просьбы. Должен сказать, что это было нелегко — я был занят, а приходилось вдруг ни с того ни с сего идти в Третьяковку или в Музей изобразительных искусств, которые так плотно были мною исхожены за эти долгие годы, что, казалось, не могли уже вызвать никакого ощущения новизны и чуда, никакой радости, столь необходимой мне самому, чтобы в какой-то мере передать другому.
К тому же общаться с Егором было невероятно тяжело. Иногда это напоминало разговор с глухонемым. То ли я на него так действовал, то ли московская обстановка, то ли он догадывался, что отвлекает меня от работы, мешает, но он замыкался, молчал. Я вел его за собой, показывал, объяснял. Он слушал вроде бы внимательно, но никак не реагируя на мои слова. Скрывая раздражение, стараясь заинтересовать его, я повышал голос, вокруг нас собирались люди, принимая меня за экскурсовода. Я обращал его внимание на те или иные детали, указывал приемы, старался переломить стандартный, школьный подход к картине, отбить у него охоту к преждевременным суждениям, общепринятым оценкам, но все мои старания оказывались напрасными.
«Что он нашел в этом парне? — думал я с тоской, жалея драгоценное время, свой впустую растраченный пафос. — Как вообще Борька с ним работает? Неужели они все у него такие в интернате? И что за крест этот интернат? Надо будет как-нибудь поехать посмотреть, чем он там с ними занимается. А может, я просто не могу найти подхода к этому мальчику?»
Как-то мы шли с Егором по центру мимо «Метрополя».
Был сияющий июльский день. Врубелевские фрески, незаметные в другие дни, как бы затерянные среди крыш, сейчас, в сгущенной свежей синеве, ожили, задышали.
Я поймал себя на том, что и сам смотрю на них так, будто вижу впервые.
Я ничего не сказал мальчику, но он заметил, что я приостановился, поймал и, мне показалось, понял мой взгляд, обращенный вверх. Его глаза как бы пошли за моими, он смотрел так же, как и я, с удивлением, восхищением. Первый раз, пожалуй, я увидел его восхищенным. Но, может, виной тому просто синева неба, яркость столичного дня, праздничность центральной улицы?
Мучительно преодолевая робость, боясь ошибиться, будто на экзамене, мальчик спросил:
— Это Врубель, да?
— Да. Ты откуда знаешь?
— Дядя Боря показывал.
— А хочешь посмотреть Врубеля?
— Конечно, — сказал мальчик.
В его тоне мне почудилась благодарность.
Мы вернулись в Третьяковку; я, стараясь не упустить этот неожиданно установившийся контакт, подвел мальчишку к картинам, ничего ему не рассказывал, чтобы не перебить впечатления, два-три наводящих замечания, и все.
Но странное дело, он вновь погас, словно своды музея что-то подавляли в нем, а может, и не в этом было дело. Смотрел он старательно, но не так, как смотрят художники или человек, уже заболевший э т и м. А ведь Борька говорил мне, что он необыкновенно способен.
Мы вышли из музея молча, я уже не старался его разговорить, дал себе волю думать о своем. Тем более что шли мы по Ордынке, мимо церкви и дальше вниз, мимо домов и двориков с еще не пожухшей листвой…
Давно не ходил я по Ордынке просто так, без дела, один. Впрочем, разве один? Рядом со мной, подлаживаясь под мой небыстрый шаг, шел Егор.
Неожиданно он сказал:
— Похоже, как у нас.
— Что? — не понял я.
— Да дворы такие, как в Старом городе. И петунья такая же.
— А ты в Старом городе живешь?
— Да.
— Отец у тебя кто?
— Пенсионер.
— Работает?
— Сейчас нет. Работал счетоводом, в совхозе.
— Чем же он сейчас занимается?
— Цветами.
— Чем? — переспросил я.
— Да цветами! Разводит всякие сорта, на выставки возит.
— А на рынке продает?
— Продает, — с неохотой сказал мальчик.
— А почему ты не дома?
— А что дома делать? Он все с цветами возится, ему ни до кого.
— Ну а вечерами?
— А вечерами он выпивает, — спокойно сказал мальчик.
— Ну и что ж, многие выпивают, но ребят в интернат не отдают.
Я пожалел о последней фразе, мне показалось, я вторгся в чужое, может быть, тяжелое, да и могу ли я, имею ли право вот так походя вызнавать его судьбу? Но странное дело, мальчик отвечал, кроме отдельных каких-то моментов, спокойно и даже охотно. Не то чтобы подробно, но без внутреннего сопротивления.
— Пьют-то многие, — сказал мальчик, — но мой как выпьет, дурной становится. Он ведь за себя не отвечает.
И словно впервые я увидел на его лбу сравнительно свежий шрам; он полз змейкой и скрывался в волосах.
Я ничего не стал спрашивать у мальчика, но он понял мое изумление, даже испуг, и сказал спокойно, как о чем-то вполне обыкновенном, может быть, даже само собой разумеющемся:
— Это он ключом от калитки. — И пояснил: — Я калитку как-то забыл на ночь запереть, вот он и разнервничался… К нам, конечно, многие лазают, цветы хорошие, дорогие… Ну а я от дяди Бори пришел поздно, задумался как-то, забыл запереть. А отец уже спал. А наутро проснулся, увидел, ну и…
— Так ведь и убить мог, — тихо сказал я.
— Так-то он не злой. Ешь до отвала. Деньги дает. Но как выпьет — лучше не попадайся… И не дай бог чего с цветами. Если кто-то цветок повредит… Не дай бог. — Мальчик глядел спокойно, даже смиренно, констатируя, а не осуждая. — После того случая соседи прибежали, хотели на него дело завести. А я сказал: «Не надо его в тюрьму, лучше я все время в интернате буду. Домой вообще не буду возвращаться».
— Ну а сейчас как?
— Я и не возвращаюсь почти… А он обижается. Когда я есть, он злой. Когда меня нет — еще злее… Это он после смерти матери такой стал.
Снова он замолчал, замкнулся, этот всплеск откровенности, видимо, недешево ему стоил, и поэтому шел он теперь совершенно безучастно. Мы уже давно прошли Ордынку, зашли в Серпуховский универмаг, где по просьбе Борьки я купил ему набор цветных карандашей. Но и это не обрадовало его. До самого вокзала был молчалив и задумчив.
Нагрянул в Москву и Борька. Встретились у Никитских ворот, гуляли, сидели на скамеечках, беспечно грелись на летнем солнце, разговаривали о чем-то и мимоходом поглядывали на проходящих девушек.
Что-то институтское, давнее было в нашем сидении; казалось, у нас бездна времени и можно тратить его радостно и беспечно. И девушки эти, бегущие куда-то или ненадолго присаживающиеся на нашу скамейку, такие блестящие, нарядные, совершенно новенькие, не обращали на нас внимания и вместе с тем чувствовали наши взгляды; так и уходили они, не сказав нам ни слова, и мы знали, что больше не встретим их в этом огромном городе.
Было солнечно, легко, неопределенность будущего, как когда-то, кружила голову — вместе с ясной мыслью о том, что все задуманное сделается, осуществится. Такая легкость, уверенность бывает после выздоровления или после долгой полосы неудач.
И Борька был необычайно сговорчив, умиротворен, не ругал, как вошло в привычку, московскую суету; наоборот, я чувствовал, что он получает физическое наслаждение от этого летнего дня, от бездельного сидения на пригретой скамейке столько раз нами исхоженного бульвара.
Не хотелось говорить о работе, о заботах. Вообще не хотелось говорить.
Кто-то шел к нам, потом оказалось, что совсем не к нам, просто на теплую, свободную половину скамейки, но мне представилось, что это к нам, что Нора сейчас подойдет и мы молча подвинемся, дадим ей место. Уже пятнадцать лет… Это число показалось диким… То была наша жизнь, но другая. И тепло, и деревья, и шум голосов — все было похожим — и другим.
Я подумал о том, что мы слишком привержены прошлому, слишком зависим от будущего. А вот день, час, миг настоящего — солнечный, теплый, медленно, на наших глазах исчезающий, — мы считаем ничем, своего рода переходным этапом, незначительной перевалочной станцией от вчерашнего к завтрашнему.
Эта мысль понравилась мне, и я попытался дать ей графическую форму, закрепить ее изображением; но решение не приходило.
Не знаю, о чем думал Борька. Мне казалось, ему спокойно, хорошо, может быть, даже он дремлет, и я молчал. Потом я увидел, что он словно очнулся и какая-то тревога отразилась в его глазах. Я испугался, что он сейчас встанет, а уходить не хотелось. И чтобы удержать его, я спросил:
— Ну как твой Егор?
— Ничего. Будет рисовать.
— Ты что, видишь в нем ученика?
— Учеников у меня сейчас много, есть и посильнее его, хотя и он способный, просто я его жалею.
— Это его не обижает?
— Это ерунда, что жалость обижает, настоящая жалость не обидит. Я ведь не подчеркиваю ему, что он одинок, несчастен, наоборот, стараюсь отвлечь его от той мерзости, что его окружает. Вначале мне хотелось разбудить в нем человеческое, он был так загнан, так придавлен… Я вспоминал свой интернат, вот таких же бессловесных ребят, от которых неизвестно что ждать. А потом я понял, что плохого ждать от него нельзя, что всякая подлость ему чужда. Удивительно, как, живя рядом с сумасшествием и жестокостью, он остался совершенно нетронутым… Он и взрослый парень и младенец в чем-то. Может быть, ты почувствовал?
— Да… Он очень незащищенный. Ну а дальше что? Ведь у него же есть отец.
— В том-то все и дело. Я очень привык к Егору, и он к нам. А отец, видно, бесится…
— Может, он просто ненормальный?
— Не совсем так. Когда ему выгодно, тогда он ненормальный, когда невыгодно — вполне здоровый. Странная помесь куркуля, самодура и бывшего начальника. Привык всю жизнь командовать, а для него командовать — это подавлять. Сгубил мать, теперь мальчишку тиранит… Да что говорить, тяжелое это дело. Егор теперь в выходные дни после интерната домой не заходит, бежит ко мне. Что же, гнать его? И ведь слова худого об отце не сказал. Эту историю с ключом я от других узнал, удивительный парень, только б его не сломали.
— Не знаю, Борька, не мое это дело, но мне кажется, слишком ты заигрался со своим интернатом.
— Почему же заигрался? Это моя жизнь. И мешает, конечно, и бросить нельзя. Не могу их бросить, они меня ждут каждый раз, для них мои занятия — праздник. Им же скучно, понимаешь ты? У них скучное детство, что может быть хуже этого? А ты говоришь — бросить. Да и вообще интернат не мешает мне, наоборот, может быть, они нужнее мне, чем я им. Откуда ты знаешь?
— А картина?
— Работаю, работаю помаленьку… Я даже боюсь ее закончить. Страшно увидеть, что она не вышла.
— Она вышла.
— Не знаю.
— Ты кому-нибудь вообще ее показывал?
— Никому.
— Ты должен бросить все остальное, хотя бы на время. Твое отшельничество загубит тебя, ты же не для себя пишешь картину. Закончи ее, выстави, покажи… Посоветуйся с Мастером, он часто тебя вспоминает, он поможет, я уверен. Нужна твоя персональная выставка. Чего ты боишься?
Он посмотрел на меня и тихо сказал:
— Я ничего не боюсь, но пока не закончу картину — не могу. А когда закончу — не знаю.
После этого мы долго не виделись, жили своими делами, своими работами. Да и дом, семья забирали много времени. Мне стало казаться, что железный трос, швартовавший меня к Борьке, ослабевает.
Почувствовав это, я поехал к нему. Долго ждал, пока он придет из интерната, разговаривал о незначащем с его женой.
Он пришел тогда, когда мне надо было уже собираться, как всегда провожал меня на вокзал, мы задавали друг другу какие-то вопросы, отвечали, но все как-то мельком, не о главном, и когда я вскочил на подножку и помахал ему, то было такое ощущение, что я уже больше не приеду сюда.
Институт готовился провести юбилейную выставку своих учеников, своих питомцев, разумеется, не всех, а тех, что, как говорится, вышли в люди, «состоялись».
Попасть в число «состоявшихся» было почетно.
Меня пригласили, Сашку тоже, Борьке же приглашение не послали.
Я пошел к Мастеру, он возмутился, позвонил в какую-то секцию, и тут же при мне ему ответили, что приглашение будет.
— Все в порядке, — сказал Мастер.
— Все в порядке, — машинально повторил я.
А сам с грустью подумал, что все они — и те, кто забыл его позвать, и те, кто в виде особого одолжения теперь исправляет свою ошибку, и те, что ценят его, и те, что не ценят, и даже сам Мастер — не знают все-таки Борьку Никитина, моего удивительного, трудного друга, не понимают до конца, какой это художник.
Борька никогда не спрашивал меня и Сашку о наших подрастающих детях. Может, это и в самом деле не интересовало его, как не интересовало многое из того, что занимало нас, а может, мысль о своем сыне, так и не увидевшем свет, — он всегда верил, что у него будет именно сын, — была столь болезненна, что он непроизвольно избегал касаться этой темы.
Теперь у него была новая семья, я не исключал того, что появятся дети, однажды даже спросил Борьку об этом, но Борька помотал головой: нет… Почему нет, я не мог понять, но не стал докапываться.
Может быть, его родительский дар уходил в педагогику, в учительство, а память о собственном детстве, обделенном любовью, делала его более чувствительным, чем мы, к этим неприкаянным, глядящим на каждого нового человека с любопытством и недоверием пацанам. Правда, иногда я думал, что это способ убегать от работы, так как работа становилась для него непосильной, — слишком большие задачи он ставил перед собой и, видно, не всегда мог осуществить их. Так называемое растворение в учениках не всегда есть признак избытка творческих сил, иной раз наоборот…
Однажды, еще в начале своей педагогической карьеры, Борька признался мне, что мечтает здесь, на базе интерната, создать студию. Не обычный изокласс или кружок, а именно студию, мастерскую, организованную из наиболее способных ребят. Занятия в этой студии, представлялось ему, должны были не просто развить природные способности, воспитать чувство прекрасного и прочее. Нет, Борька хотел видеть своих учеников художественными ремесленниками («Да, да, и не бойтесь этого слова — ремесло», — как говаривал когда-то Мастер), а точнее мастерами, которые сумеют восстановить полупогубленный посад, подновить обветшалую церковку, вернуть ей хотя бы декоративное значение. Не реставраторов хотел он делать из них, а именно мастеров, способных, например, расписать здешние общепитовские точки и т. д.
Он знал, что строятся в других городах безжизненные терема под старину — вычурные постройки с громадными столами и скамьями, подчеркивающими подчас убожество угощения.
Нет, такого рода ресторации-декорации он не признавал. В идеале ему виделись небольшие трактиры, чайные, блинные, где будет чисто, опрятно, где не подделка под старину, а скорее намек на нее, что-то от ее духа и настроения.
— Старину надо сохранить, где осталась, — говорил он, — а если пойдем путем копирования, подражательства, будет пародия вроде «Русского чая» с электросамоварами и жидкой заваркой или, наоборот, дорогих заведений для интуристов в стиле «Березка» с псевдонародными штампами. В городе, особенно небольшом, должны быть уютные маленькие заведения, где люди могли бы встречаться друг с другом, просто чаевничать, разговаривать.
— Ну не фантаст ли ты, Борька? — говорил я с иронией. — Сам-то ты много чаевничал?
— Сравнил… У них другой уровень, другие запросы, им общаться надо, разговаривать.
— Ну вот и строят для них дискотеки.
— А что это за дискотеки? — возражал он. — Содрали название, а суть-то… Сути-то нет… Танцы в полутьме, заезженные пленки, кафельные стены, как в ванной или уборной, а столики из столовой самообслуживания. Красоты тем нет.
— А ты, как и тот, великий, наивно веришь, что она спасет?
— Может, и не спасет, но уберечь кое от чего должна.
— Уберечь?
— Да. От безвкусицы, например. Посмотрел бы ты, как разряжаются иногда мои красавцы в интернате, какие-то цепочки подшивают к штанам, проволоку на шею вешают, кольца под золото в табачных ларьках покупают за рубль. И вот идет в таком виде гулять. А навстречу другой — тоже в кольцах и цепочках. Встретились, разговорились. И вдруг ни с того ни с сего — в драку… И злость какая-то недетская. Откуда?..
Меня тоже поражала ярость этих столкновений: будто давние враги сошлись свести счеты, а ведь причина, если разобраться, так ничтожна, но я спорил с ним; в своей жизни я видел гораздо больше других — умных, деятельных, организованных, какими и мы не были в их возрасте. И таких большинство — в школе, на стройке, в институте. Но я понимал Борькину тревогу — ведь он общается с ребятами не в пример мне чаще, а делает для них много больше, чем я или кто другой из наших. И это перед ним, а не передо мной сидят за партой живые, любопытные, жаждущие познаний дети…
Но возражая сам себе; я говорил — мысленно или вслух, если Борька был рядом:
— А вспомни наше время, драки нашего поколения.
Во время таких разговоров я с замиранием и страхом думал о своем сыне Сережке. Как он там? С кем? Кто идет ему навстречу? Не попасть бы ему в случайный бессмысленный вихрь, втягивающий и выталкивающий на голый, незащищенный пятачок земли, взрыхленной яростными ногами.
А Борька? За кого он тревожился, о ком думал? Вообще о людях?
Теперь я точно знал о ком. О своем Егоре.
После того прекрасного вечера, проведенного у Борьки, после пельменного изобилия и тихих возлияний мы с Сашкой, естественно, остались ночевать.
И когда утром хозяйка и Егор отправились в интернат, мы втроем продолжили пиршество…
Тускловатый, серо-стального цвета денек глядел в окна, не обещая ничего радостного. Не хотелось возвращаться в Москву, вообще никуда идти, серый этот день теснее, крепче замкнул нас втроем.
Внезапно Борька вышел и вернулся с небольшим холстом без рамы.
Это был пейзажик: поля с тракторными колеями, уже освободившиеся от снега, но еще хранившие тишину зимы. Вдали бульдозеры, деловитые фигурки людей, голые деревья, самый малый намек на весну, сероватое, с легким просветом небо.
Пейзаж был чистый, славный, его портила только ученическая выписанность, старательность и явные ошибки в передаче пространства, в композиции.
— Твое? — сказал я, внутренне усмехаясь, отлично сознавая, что к этой работе Борькина рука вряд ли прикасалась.
Сашка понял меня, подхватил мою игру и с серьезным видом ждал ответа.
Борька медлил, довольный таким вопросом.
— Нет, не мое. — Он еще раз любовно оглядел пейзажик и сказал: — Егор…
Помолчал, давая нам возможность получше, повнимательнее вглядеться, увидеть не только то, что есть, но и что-то большее, что он один, может быть, и увидит.
— Чуете, мужики, какую тонкую нотку нащупал парень?.. Настроение тут есть. Что-то предвесеннее. Ожидание. Поняли? Откуда это у него?
И гордясь, удивляясь, он завернул пейзажик в газету и унес.
А я думал о том, что даже такого, как Борька, родительское чувство может лишить объективности…
Впрочем, если не судить слишком строго, пейзажик и вправду был недурен.
По Борькиным рассказам я знал, что мать Егора умерла. Говорили, болезнь. Болезнь-то болезнь, только какая? Поговаривали так же, что она наложила на себя руки. Во всяком случае о матери Егор никогда не говорил.
Возможно, он инстинктивно оберегал себя от душевной муки, отталкивая какое-то свое страшное знание… Так ведь бывает, и не только у детей. Знаем, но не говорим. Себе не говорим. Бывает, что в с е г о нельзя не только сказать, но и представить.
Борька рассказывал, что Егор как-то признался ему, что с отцом они не разговаривают, молчат. Вроде отец про что-то свое думает, весь как-то сжимается, смотрит в одну точку…
Я мысленно видел этот сверкающий, ухоженный сад с розами, цветущими вишнями и на фоне алого и вишнево-красного, яркой зелени и желтых нарциссов — двух разобщенных, затерявшихся в этом раю с бледными лицами людей: отца и сына.
Только почему с бледными?
По словам Борьки, этот человек, иногда появляющийся в интернате на родительских собраниях, был не бледен и не чахл, а высок, подтянут, с румянцем на тщательно выбритых щеках. Обычно он молчал, но иногда и выступал — веско, немногословно, чеканя каждую фразу, чаще всего ругая порядки в интернате, недостатки воспитательной работы, малокалорийное питание, якобы свидетельствующее о процветании здесь жульничества и воровства.
— Так заберите ребенка, если вы не доверяете интернату, — предлагал директор.
— В любой момент готов, — с твердостью говорил он.
И действительно забирал, но через несколько дней Егор снова возвращался.
Жизнь течет, идет своим размеренным, ровным ходом, но вот ты встретился с человеком, которого давно не видел, почти забыл, и что-то в жизни изменилось, как бы пошло в другую сторону, и ты вспоминаешь, что так уже было когда-то, после встречи именно с этим человеком…
Полтора десятка лет я не был в Ярославле. Где только не побывал, но этот город казался слишком близким, слишком доступным, и потому все никак не мог туда выбраться.
И вот я вновь проехал по волжским городам, наконец-то завершив свой маршрут самым ближним — Ярославлем.
Все они разрослись, изменились, стали чем-то похожи друг на друга, как похожи друг на друга новые районы всех городов, но все-таки, особенно вблизи воды, чувствовалось прежнее, то, что раньше так захватывало, что было подсказано воображением, настоянным на чужом творчестве: книгах, картинах; старый, сложившийся в тебе образ как бы накладывался на реальный и сливался с ним, и тогда с новым чувством ты видел гранитные набережные, в которые ударяет зеленая речная вода, видел волжские пароходики, не те, колесные, как в бунинские и чеховские времена, но все же чем-то похожие: профилем, посадкой, белыми палубами.
Да и рядом увидишь человека, идущего мимо тебя, вглядишься и узнаешь в его лице черты, тебе хорошо знакомые, — недаром же уловили их и оставили навсегда старые художники.
Нет, был еще жив дух тех городов. Не только в музейных экспозициях, старательно воссоздающих прошлое, но и в самой жизни, в голубых глазах мальчишки, бегущего с портфелем, в спокойном, коричневом лице неторопливой, забывшей о времени старухи, в желтом двухэтажном особнячке с белыми пилястрами.
И вспомнился вдруг неожиданный мой знакомец, открывший мне малоизвестных волжских художников, тот непримиримый консерватор, навсегда оставшийся в XIX веке, если не раньше. Колючий человек, с которым мы так хорошо сидели и который так нежно, отечески провожал меня в гостиницу. Да, в тот самый день.
Жив ли он? Ведь прошло шестнадцать лет. Я знал лишь его фамилию. Анкундинов. И больше ничего, ни имени, отчества, ни адреса.
В справочной дали телефон, который не отвечал. В отделе культуры мне сказали, что такой не значится, сейчас у них новые работники, в основном молодежь. Был один пожилой консультант, но ушел на пенсию и, кажется, умер.
«Кажется, умер».
Что-то леденящее остро кольнуло меня, хотя вполне можно было ожидать этого. Но мне не хотелось верить, да и интуиция подсказывала, что равнодушная, с имитацией соболезнования информация ложна.
Старое дерево долго стоит… Его вон какие бури не сломали, что же он в тихое время возьми да и рухни?.. Впрочем, в тихое время и ложатся старые деревья. К тому же уже тогда он был болен. Но не хотелось верить этой приблизительной информации.
Во всяком случае я решил искать его.
Возможно, что он и не помнит меня. Неважно, лишь бы он б ы л.
Я долго ходил по улицам и дворам, расположенным недалеко от музея, мучительно выискивая растворившиеся во времени приметы, что старательно подсказывала зрительная память: большой тенистый двор, детская запыленная площадка, трехэтажный деревянный домик с удивившей меня надписью «Лоскутная мера», новый четырехэтажный дом.
Мелькали такие же или похожие дворы, но не попадалась надпись «Лоскутная мера» — то ли я не мог ее найти, то ли она дожила свой век. И все-таки зрительная память не подвела меня; готовый уже сдаться, плюнуть на свой сомнительный поиск, я вдруг угадал и тот двор и ту площадку…
Открыла пожилая женщина, маленькая, с живыми карими глазками. Не стала выспрашивать, кто, зачем, откуда, как это принято у недоверчивых жителей больших городов, только сказала:
— Сейчас, обождите минуточку… Я ему помогу одеться, он не совсем здоров.
Я стоял, ждал в крохотном коридорчике. Он вышел сравнительно быстро, через несколько минут, в полосатой пижамке.
Я узнал его сразу, хотя нельзя сказать, чтобы он не изменился; был он и тогда худ, а сейчас время соскребло с него не только всякое подобие жира, но и само мясо: кости не то что выпирали сквозь кожу, а почти обнажились.
Зато лицо цвело болезненным румянцем, но было теперь не белым, как тогда, а коричневым, словно навсегда загорело под уходящим солнцем жизни.
Облик его мог бы даже испугать, если б не усмешка да проницательный, цепкий взор зеленовато-карих глаз.
Я начал что-то объяснять, думая в это время, на кого же он похож, и решил, что на старого схимника, только женщина рядом и пестрота одежды разрушали этот образ. И еще я подумал: как давно это все было, словно другая эпоха, ведь еще Нора жила, и при всей остроте обиды, ужасе разлада как же я был тогда счастлив — до той секунды, как пришла роковая весть.
Мне не надо было объяснять ему долго. Хорошо помнил он не только портреты, но и лица.
— Да, да, припоминаю… Куда же вы пропали? Вы же, кажется, обещали зайти на следующий день и канули, сгинули. Впрочем, мне попадались книги с вашим оформлением. Ведь с вашим, должно быть?
Я кивнул, удивился, что он запомнил мою фамилию, застыл, учтиво потупившись, ожидая оценки моих работ, думая, что скорее всего она будет уничтожающей. Я ведь помнил его высказывания и взгляды. Но он ничего не сказал, промолчал, то ли схитрил, что на него в моем представлении не походило, то ли вовсе не собирался меня ругать, а может, и откладывая неприятный разговор.
— Да, много воды утекло, — сказал он. — А экспозицию-то новую вы посмотрели в музее?
— Так, бегло… Я вас искал. А мне сказали, что вы…
— Что я? — он насторожился.
— Что вы не работаете. Даже адреса не дали.
— Да, сейчас все новые, все новые, и город не очень знают, и людей знают мало, особенно старых. Тех, кто все это открывал, начинал. Картины, правда, знают. Картины сейчас легче знать. Я когда-то составил подробнейшую картотеку, собирался сделать книгу о местных художниках, все же как-никак я их знаю.
— Ну еще бы! Еще как!
— Сдал заявку, начал работать. А через некоторое время гляжу, выходит моя книга, только под другой фамилией. Какой-то молодой почти все у меня соскоблил, все, что я открывал. Только своими словами пересказал.
— Безобразие.
— Да что там, ладно. Бывали безобразия и похуже. Важно, что книжка вышла, хоть узнают о местных художниках. Только не узнают, как искали мы их, спасали, рылись в мерзлых сараях, бог знает где еще и доказывали в то время, что они чего-то стоят, что им есть место в истории русской художественной культуры. Слава богу, доказали. А теперь молодые их превозносят, только с неточностями, с ошибками.
Я чувствовал, что в нем сосуществуют два потока, я это ощущал и тогда, давно: поток мудрый и поток желчный. Сейчас желчный начинал брать верх, и я решил остановить его.
— Да, «Дети Темирниных», вы мне их открыли впервые. Какие ясноглазые… Я их на всю жизнь запомнил.
Он успокоился, постепенно привыкая к присутствию чужого человека, видимо, вызывавшего у него возбуждение, тяжелый для него нервный подъем. Он дышал трудно; хозяйка внимательно, но так, чтобы он не заметил, приглядывала за ним и наливала чай.
— Может, чего покрепче? — слабым голосом спросил он. — А то у меня есть, вы не стесняйтесь.
Я вспомнил нашу прошлую встречу, наш разговор о Маяковском и современных живописцах и то, как он провожал меня.
— Чай — это хорошо, — сказал я, не зная, о чем говорить и как говорить. Разговаривать вроде было не о чем. Тогда молодость вела меня за ним и против него, жар познания…
— А знаете, если можно, я рюмку выпью, — неожиданно сказал я. — Один. Я знаю: вам нельзя… Но мне хочется, в память того вечера.
Женщина тут же откликнулась, завозилась и через минуту вышла из кухни с блюдечком, на котором стояла рюмка с зеленовато-желтой влагой.
— Сами настаивали, — сказала она. — Эту магазинную мы не любим. А ему-то вообще не стоит.
— Не стоит, не стоит… — проворчал он. — Тогда и жить не стоит. Наливай-ка и мне маленькую.
Женщина спорить не стала, возможно, у нее уже был давний, неведомый посторонним опыт обращения с ним, и этот опыт сейчас подсказывал, что спорить бессмысленно и потому не надо — раздражать только. Я увидел, что она еле заметным движением перекрестилась и дрогнувшей рукой налила ему половину рюмки.
— И не половинь. От пяти граммов ничего худого не будет. А половинка — дурная примета. Ну так за что же выпьем, столичный гость залетный? — И как бы заново разглядывая меня, проговорил: — А ведь вы были тогда мальчик. Мальчик, да, вежливый, внимательный, но со своим мнением.
«Кем же он видит меня сейчас? Кем, интересно? Да и кто я на самом деле? Кто я перед ним? Тот ли, что перед собой?»
— Так за что же выпьем? — спросил он снова.
— Давайте выпьем за одного моего друга. Он художник. Когда-нибудь я приведу его к вам, я уверен, что вам понравятся его работы.
— Когда-нибудь… Этак я, пожалуй, не доживу до встречи с твоим художником. Мне ведь осталось…
Мы оба замолчали, и рюмки наши зависли над столом, и я услышал подавленный глухой вздох маленькой пожилой женщины.
— Простите, но не надо об этом, — сказал я. — Никто на свете не знает, сколько кому… Вот и тогда, шестнадцать лет назад… Вы еще провожали меня, помните? Все было хорошо, я шел в гостиницу спать, так хотелось выспаться, а меня разбудил звонок. Точнее позвонили вниз, к администратору, а та послала за мной… Это был страшный звонок… Но сейчас не об этом. Я хочу выпить за моего друга Борьку Никитина. Он очень талантлив.
— С современными штучками?
— Конечно, он ищет, но дух его вам бы понравился. Он чем-то связан с теми художниками, которых вы мне открыли.
— Любопытно. Он выставляется, этот ваш друг?
— Нет. У него сложная судьба.
— В чем же эта сложность? По-моему, вам всем сейчас проще.
— Это не совсем так… Да вы и сами понимаете… Но у моего друга еще и особые, личные обстоятельства. Вот тогда, в тот вечер, я узнал, что умерла его жена. Ей было двадцать два года. — Мне самому было странно, что я могу говорить об этом как бы со стороны, словно чужой, словно свидетель. — После этого у него все пошло трудно. Мытарился, искал, пил… Ну и заболел немного.
— Повредился? — спокойно и с пониманием, приложив руку к коричневому высокому лбу, сказал старик.
— Нет, просто нервы стали сдавать, бессонница, прочая муть.
— Муть, — старик оживился, это ведь было его излюбленное слово. — Да, много вокруг мути, много.
— Так вот, у него нет мути. Он по своей сути очень чистый человек. И работает серьезно, мучительно, не так, как многие… Все там болью оплачено. Последняя его работа просто потрясла меня.
— Интересно, интересно, — прищурившись и как бы отвлекшись от того, что я говорил, произнес старик.
— Я привезу его к вам. Вам надо познакомиться… Как бы это было хорошо.
— Ну что ж, давай за твоего Никитина, — сказал старик. Впервые он назвал меня на «ты» — то ли забылся, то ли потеплел оттого, что я запомнил его.
Мы чокнулись и выпили.
Он выпил четко, по-молодому, не поморщившись, до последней капли. Старуха положила нам колбасу, огурцы, хлеб, но он не взял ничего из закуски.
Он провел по лицу сухой, осыпанной коричневой гречкой стариковской рукой. Мне показалось, он снова куда-то уходит от меня, от моего рассказа. Да и зачем ему все это… Чужие беды, чужие картины. Он уже все знает, от всего устал.
— Уже поздно, — сказал я. — Мне, наверное, пора.
— Да нет, посиди, — попросил он. — Здесь редко удается поговорить с кем-нибудь.
Это была не жалоба на одиночество, а что-то другое, скорее признание в невозможности общения.
— Я редко… сейчас… — добавил он и закашлялся.
Я встал, но он жестом остановил меня.
Я сел и стал пересказывать ему Борькину картину. Это было довольно нелепо — как можно рассказать картину? — да ведь и видел-то я ее всего одну секунду, но мне хотелось говорить о ней. Я описывал ему лицо Норы на первом плане, лица всех стоящих позади: всех, кого мы знали, любили, не уберегли. Впрочем, что значит не уберегли? Просто они ушли от нас.
— Интересно, — сказал старик. — На кого же это похоже?
— А ни на кого. На многих и ни на кого. Он вобрал, пропустил через себя и чужое, и оно стало своим.
Он потупился, обдумывая мои слова…
— Ну что ж, мне любопытен твой художник. Приезжай с ним, если успеешь.
Опять возникла эта тема, видно, он все время думал об этом и порой, словно устав делать вид, что все в порядке, позволял себе расслабиться. Но на этот раз я не стал убеждать его, что мы успеем.
Подняв глаза, слабо усмехнувшись, с некоторой долей лукавства он сказал:
— Ты небось думаешь: воинствующий ретроград. Это не так. Я люблю подлинность и боюсь всякого рода спекуляций. У тех художников, которых я тебе показывал, была удивительная новизна. Они шли от опыта, от чувства, они подчиняли себе прием, так как владели им, были мастера… Они были по-настоящему народны. — Он помолчал. — Ты понимаешь, о чем я говорю?.. Они рисовали таких же людей, как они сами — похожих и совершенно других. Вот это, может быть, самое главное — передать похожесть и неповторимость. А этот твой… Забыл, как его зовут… Умеет?
— Его зовут Борька Никитин, запомните это имя… Да, он умеет.
— Почему же Борька? Он ведь уже взрослый, — тихо сказал старик. — У меня когда-то был сын Борька.
Женщина позади завозилась, и вновь стало тихо, старик вдруг резко поднялся, подошел к книжному шкафу, наугад, но вместе с тем точно взял какую-то книгу. Глаза его, наверное, были еще достаточно остры, потому что он легко нашел нужную страницу. Стал читать неторопливо, без выражения, видно считая, что текст не нуждается ни в каком приукрашивании:
— «Как олово пропадает, когда его часто плавят, так и человек — когда много бедствует. Никто ведь не может ни пригоршнями соль есть, ни в горе разумным быть; всякий человек хитрит и мудрит о чужой беде, а о своей не может смыслить. Злато плавится огнем, а человек напастями; пшеница, хорошо перемолотая, чистый хлеб дает, а человек в печали обретает ум зрелый». Знаешь, кто это сказал? — Он не стал ждать моего ответа, вспомнив или догадавшись, что не следует подвергать человека экзамену. — Это сказал очень старый человек, еще постарше меня, Даниил Заточник, в письме, написанном князю Ярославу Владимировичу. Ты небось думаешь, что я рехнулся на своей старине. Нет, брат, я не рехнулся, я за нее страдал. Потому что все здесь правда, все про душу говорит, а теперь народилось много спекулянтов, подражателей, лукавцев разного рода. Вот и у нас такие есть. Я понимаю, что сегодняшних детей нельзя рисовать так, как детей Темирниных. Это будет неправда. А мода, оказывается, не только на модерн бывает, но и на старину. Еще какая.
Он сел и замолчал; я видел, что говорить ему нелегко, что он устал. И начал прощаться.
Я обещал, что не исчезну на этот раз, как тогда, что приведу своего друга, может быть, даже уговорю его привезти картину, хотя это трудно. Он протянул мне руку и улыбнулся, и я почувствовал, что он более примирен с жизнью, чем тогда, более добр.
«…Человек в печали обретает ум зрелый…».
Но ведь сколько он узнал печали еще до первой нашей встречи, и ведь тогда у него был ум зрелый. Зрелый, но нетерпимый… А теперь — только зрелый, сосредоточенный на чем-то одном внутри себя. Хорошо бы действительно познакомить с ним Борьку. Они найдут общий язык.
Да, да, хорошо бы… Но другой голос не обещал мне этого, не обещал этой встречи втроем… Не знаю даже что, предчувствие, что ли. Странная это была мысль и связана почему-то не только со стариком, не только с его возрастом.
Но ведь тогда не было никаких предчувствий. Теплая ночь, булыжная мостовая, я пьян, старик тоже навеселе, тогда ведь он еще не был таким стариком…
— Ну прощевай, прощевай, брат, и не исчезай на шестнадцать лет, это уж слишком долго. Теперь считай срок месяцами.
Я прощаюсь, протягиваю руку старухе, чувствую прикосновение сухой маленькой ладошки, выхожу из квартиры, спускаюсь по лестнице, во двор, где на скамейке сидит, бесформенно слившись, какая-то пара.
Иду быстро, с горьким комком в горле, убегаю от прошлого, ухожу от сегодняшнего, уже ставшего прошлым, и не знаю, не ведаю, что будет завтра.
Но как все-таки хорошо, что я разыскал старика.
Неожиданно вспоминается декан, исключавший нас, старый перевертыш. Почему, зачем он вспомнился мне в этот вечер? Я изгоняю его из моих мыслей, и думаю только об этом старике, и молю бога, чтобы он еще пожил и чтобы остались, не перевелись на земле такие же, как он.
Я звонил Борьке, напоминал о юбилейной выставке Института; чувствовал, что эти напоминания раздражают его. Вместе с тем мне казалось: если он выставится и покажет свою главную картину, то это изменит его жизнь…
Но однажды позвонил Борька и сказал:
— Приезжай немедленно. У нас тут своя выставка, почище вашей, интернатская. Выставка моих учеников.
И я, конечно, приехал. Увидев его, обрадовался: деятельный, важный, он отдавал какие-то распоряжения, был не то чтобы горд, но полон серьезности. Народу собралось сравнительно много: учителя, ученики, родители, представители роно.
Никаких речей на этом вернисаже, слава богу, не было. Только Борька, открывая выставку, сказал несколько слов:
— Выдающихся произведений вы здесь не найдете, к сожалению. Хорошо бы, но пока не получается. Мы еще только учимся рисовать, да и это не цель наша, мы стараемся понять, постичь, оценить красоту, чтобы не казалась жизнь будничной или, хуже того, безобразной. Каждый раскрывается здесь как умеет, а мы лишь помогаем раскрыться. Так что не судите нас строго… Это лишь самые первые шаги.
Работы были обычные, детские, одни получше, другие послабее. Но Борькино что-то чувствовалось. Обычно дети начинают с самолетов, ракет, танков, а здесь были пейзажи: стада коров, спящая на жаре собака с высунутым языком, старые улочки города, заросший парк. Были, конечно, и индустриальные пейзажи, и военные сюжеты, и даже портреты. Например, один паренек нарисовал ветерана, видимо, после праздничного вечера. Ветеран одиноко сидит на скамейке, задумался, а рядом ребята что-то спрашивают, а он не слышит, сейчас он далеко, далеко от них, в другом времени, может быть, и в другой стране — где воевал.
Висели и работы Егора: весенний пейзаж и несколько интернатских зарисовок.
Ребята делились на тех, кто выставился, и на зрителей. Участники были возбуждены, кучковались вокруг Борьки, а остальная публика разбрелась по залу, разглядывая выставленные работы — кто-то с сочувствием и интересом, а кто-то с чем-то вроде насмешки.
А те участники все шептали: «Борис Иванович», «Борис Иванович…» Уже давно я не слышал, как его зовут по имени-отчеству… А то еще «шеф»: «шеф передал», «шеф сказал»…
Что-то странное было в этом детском признании; видимо, ему оно было необходимо, давало опору, но по сравнению с тем, и н ы м признанием, которого он мог добиться, э т о было такой малостью! Но, с другой стороны, может быть, вдохнув что-то в них, он получает и нечто взамен?
Кто знает?
«Шеф велел», «шеф поручил»…
Ходила гордая жена Бори, счастливый, никого не видящий Егор. Потом устроили что-то вроде банкетика, такой ученический банкетик за длинным столом с маленькими бутербродами и бутылками сладкой воды.
Все это возвращало меня в давно забытое, но вечно во мне живущее, в послевоенные годы, в собственную школу, в ее коридоры, пустые во время праздников и уроков, в туалеты, пахнущие карболкой, где дрались, курили, отсиживались от контрольных, писали и передавали шпаргалки…
— Ну что ты такой скучный? — спрашивал Борька. — Тебе не понравилось?
— Да нет, хорошее дело, хорошее, — пробормотал я. — И банкетик хороший и газированная вода. И все такое хорошее и полезное. Только смотри не разбросайся. А то ведь свою картину разменяешь на детские рисуночки.
Борька как-то с вызовом посмотрел на меня и сказал:
— Не боись, прорвемся…
Так мы стояли в отдалении от безалкогольного пиршества, глухого стука граненых стаканов, звона ликующих детских голосов, басовитой торжественности взрослых. Длинный коридор поблескивал в сумраке таблицами, стендами, неясно белевшими лицами великих людей. Пахло школой, но еще больше — из раскрытых, распахнутых окон — весной. И тот и другой запах был одновременно и радостен и мучителен, отсылал, возвращал туда, куда возвратиться нельзя.
Коридоры время от времени сотрясали проходящие поезда — вокзал был близок, и это обостряло ощущение скорого отъезда, предстоящей разлуки.
Подошел Егор, вернее, не подошел, а прошел, чуть замедлив ход, и посмотрел на Борьку, то есть не на Борьку, конечно, а на Бориса Ивановича, своего «шефа».
Тот перехватил его взгляд и сказал:
— Я сейчас.
Мальчик пошел дальше, уже почти его и не видно было, только рубашка чуть белела, он добрел до конца длинного коридора и повернул обратно.
— Слушай, — сказал я Борьке. — Есть в Ярославле замечательный старик. Он реставратор в прошлом, после войны, в пятидесятые годы, спас много картин, отменный знаток восемнадцатого, девятнадцатого веков, всех волжан знает досконально. Мы знакомы уже шестнадцать лет.
— Ну и что?
— Он хочет познакомиться с тобой. Посмотреть твою картину.
— Вот устрою выставку в Москве, ты его и пригласишь, — не принимая всерьез моих слов, чуть высокомерно отмахнулся Борька.
— Ты зря так… Неизвестно, сколько ему осталось… Удивительный старец, таких сейчас мало. Тебе надо повидаться с ним, поговорить. Он тебе многое может сказать.
— Зачем мне твой старец? И что он мне может сказать?
Непонятное упрямство, какая-то жестокость, непременное желание оттолкнуть… Я и раньше замечал это в Борьке. То ли это действительно сидело в нем, то ли просто оттого, что не видел того старика, не представляет себе, что это за человек.
— Старик серьезно болен, я не зря тебе говорю о нем. Знаешь, дар понимания тоже редок, как дар творчества.
— Ну заговорил, друг… Уж больно высокие материи, — смягчаясь, сказал Борька. — И к тому же как я эту картину попру? Она ведь огромная. Да и что говорить сегодня об этом? Видишь, какие у нас здесь дела?
Действительно, уже звали назад, требовали его присутствия, тянули свои стаканы с лимонадом, чтобы, взметнув их над столом, торжественно чокнуться с ним.
— Ты не останешься? — спросил Борька.
— Нет, я поеду последним, ночным.
— Ну давай.
— Давай. Мы обнялись.
Я быстро проскользнул по коридорам, спустился по лестницам, и вот уже двор, и в вечернем холодке остро пахнут тоненькие деревца, луна молочно обливает их, и они кажутся восковыми.
Я испытал неожиданное облегчение оттого, что наконец покидаю это здание, остаюсь один; какая-то назойливая связь со школьным выпускным вечером все время мешала мне, будто что-то перепуталось и я попал туда и в то время, куда не хотел возвращаться, но меня словно бы возвращали силой…
А сейчас назад, в Москву.
Близко, в голых весенних кустах просвечивает и словно бы движется вокзальное здание.
Я уже ступил на невидимую, но знакомую мне тропинку, освобожденно, легко дыша, чувствуя радость одиночества и возвращения домой, как вдруг кто-то перегородил мне дорогу.
Рослый человек в плаще, прямоугольно висевшем на его развернутых плечах, шел навстречу, лоб в лоб.
— Извините.
Это «извините» было сказано так, точно он собирался арестовать меня.
— Извините, у меня к вам два слова.
— Слушаю, но только два… Я опаздываю на поезд.
— Я могу вас проводить.
У меня похолодело в животе при мысли о таком провожатом.
— Говорите здесь.
Я посмотрел на него. Держится прямо, с военной выправкой, плащ темный, очень длинный, по моде прежних лет, прорезиненный, бритая голова.
— Вы друг этого самого… художника… Никитина. Я вас часто тут вижу.
Странно, что я не видел его ни разу.
— Скажите, пожалуйста, — произнес он, стараясь быть предельно вежливым, вероятно, оттого, что сдерживал себя. — Скажите, пожалуйста, вам не кажется, что вся эта беготня, все эти затеи с художествами — ерунда? Вредная и опасная ерунда!
— Как так?! Вы что, с ума сошли?
Я даже не знал, как с ним говорить: то ли немедленно послать куда подальше, то ли спокойно объяснить, какое важное и прекрасное дело делает мой друг. Я не имел опыта общения с такими людьми.
Следующая его фраза была произнесена странным, как бы внезапно сорвавшимся голосом, мне показалось даже, что он не в себе.
— Я занят, а он пользуется этим! Он отнимает у меня сына!
Мне послышался глухой и ухающий отзвук сдерживаемого рыдания.
— По-моему, он отдает все силы вашему сыну. Он развивает в нем…
Он так пристально, в упор посмотрел на меня, что я замер.
— Я чувствую, мы не поймем друг друга, — сказал он.
— А зачем нам понимать друг друга? Этот «художник», как вы его называете, кроме всего прочего, прекрасный педагог, и он дает всем, и вашему сыну в особенности, много, очень много. Неужели это непонятно?
Я говорил эту фразу словно самому себе, физически ощущая, что тот меня не слышит и не хочет слышать. Он мрачно и, как мне показалось, язвительно молчал.
— Так, все понятно, — произнес он прежним прокурорским тоном, словно подвел черту. И неожиданно вновь рыдающе ухнул: — Он отнимает у меня сына!
— А чего бы вам хотелось? — почти кротко спросил я. — Чем бы вы хотели его занять? Что заменит ему эти художества?
— Это у нас найдется. Можете не волноваться.
— И что же это?
— Вам хочется знать? Пожалуйста, никаких тайн. Сад!
— Какой еще сад?
— А вот такой… Уникальный сад с уникальными цветами. Я уже несколько лет развожу их.
— На продажу?
— Частично, для поддержания сада, но многие цветы я экспонирую на выставках.
— Но вы ведь не подпускаете, кажется, никого к вашему саду.
— Почему же? Откуда это вам известно? Специалистов подпускаю.
— Ну а если не специалист… то… ключом по бровям?
Он замолчал и начал шепотом, будто потерял голос:
— Вранье все. Никакого ключа… Я не подымал руку… на сына…
Голос его истерично и резко переходил от шепота к визгу; но я чувствовал, что он играет, что своей историей он управляет сам.
— Вы не думайте, я много повидал. Я воевал, я работал, и я не привык, но пусть запомнят: тот, кто подымет руку на меня или моего сына…
— Я опаздываю на поезд. А на сына поднимаете руку только вы.
Он замолчал, на лице его промелькнуло что-то, напоминающее обиду: он так искренен, а его не хотят понять. И уже с холодком, уже без интереса, глядя не на меня, а вниз, на землю, заключил:
— Хорошо. Мы объяснимся с этим художником.
Я обогнал его, перешел почти на бег — оставались считанные секунды до поезда.
Еще я подумал: «Может, вернуться, сказать Борьке?» Да нет, плохая примета — возвращаться.
Спиной я чувствовал, что этот человек стоит, не уходит. Массивный, широкий, точно памятник в прорезиненном плаще. А я к нему спиной… Но все дальше, дальше от него, все ближе к вокзальным огням.
На следующее утро я позвонил Борьке и рассказал ему о неожиданной встрече.
Он слушал молча. Потом устало сказал:
— Да, все это мне знакомо. Он буквально преследует парня. А теперь, кажется, принялся за меня. И ничем его не проймешь. Где надо, он прикрывается справкой, что псих. В других местах он общественник, здоровый человек… Со всеми борется по самым разным поводам, особенно с молодежью. Отстаивает свой сад… Ну да ладно, не с такими придурками встречались.
— Смотри, мне он не понравился.
— Тебе… Мне ох как он не нравится. Главное, за мальчишку боязно. Ну, хватит об этом.
— Какие у тебя планы?
— Какие там планы! Отдохнуть надо. Вот втроем, с Катей и Егором, уйдем на плотах. Ты с нами не хочешь?
— Дел полно. А когда поедем к старику?
— К какому еще старику? К Мастеру?
— Что у тебя за память дырявая? Я же тебе час талдычил о реставраторе из Ярославля, а ты все забыл.
— Поедем, поедем.
Я хотел еще спросить его о картине, но не спросил. Знал за ним это суеверие — не говорить о работе, о главном.
Звякнул зуммер, трубка повешена, поплыли, полетели, настигая один другого, коротенькие гудочки.
Синим сигнальчиком вспыхнула тревога, и надо было что-то делать, может быть, даже и не делать, а хоть поделиться ею с кем-то.
Рука тянулась к телефону, номера товарищей отвечали пустыми, безжизненными гудками, уносящимися куда-то. Среди этих безответных номеров был и Сашкин; начиналось лето, пора разъездов: в отпуск или, наоборот, на заработки, вольные поиски заказов…
В конце концов я набрал номер Мастера. Зачем? Чего ждал от разговора с ним?
Он по-прежнему присутствовал в нашей жизни, но мы никогда точно не знали — присутствуем ли мы в его. Если б я стал писать о нем воспоминания, то не имел бы возможности заметить, как это принято, что вокруг него всегда «роились молодые таланты, что под его благотворным приглядом — как грибы после теплого дождика — подрастали и поднимались ученики, те самые, которые вот-вот уже начнут обучать и своего учителя, осуществляя вечный закон взаимосвязи поколений». Ничего подобного. Общение с ним было скупым: редкие встречи в редакциях, в отделах художественного оформления, на заседаниях и секциях творческого союза, на выставках.
В этих и подобных этим местах он выглядел далеким, чужим. Я никогда не подходил к нему первый, иногда казалось: может и не узнать. С годами он не стал бронзовым, не превратился во всеобщего метра, но говорил все же нарочито скупо, весомо, как бы сознавая ценность и значительность каждого своего слова. Я чувствовал, что это не из важности, а скорее оттого, чтобы уберечь себя, соблюсти дистанцию, не разрушить какой-то устоявшийся покой, может быть, даже не покой, а определенное состояние: всегда быть «над схваткой», над общей суетой для того, чтобы сохранить рабочую форму, или, как пишут иногда журналисты, «настрой». Это бодрое слово, впрочем, меня всегда отвращало.
Он мало перед нами раскрывался. Да, мне кажется, и не только перед нами, и не от замкнутости, не от застегнутости на все пуговицы это шло. Никогда он не был закрыт, но вместе с тем с первых дней и до последних мы знали, до какой черты близости можно дойти, когда следует остановиться. У нас были педагоги, любившие говорить о своих удачах или неудачах, о судьбе, о времени, о несостоявшемся и состоявшемся, они могли казнить других и казниться сами. В определенном возрасте, видимо, возникает потребность в такой вот исповеди на людях.
Ничего подобного мы не слышали от него.
Интересно, что он значил для нас больше, чем, вероятно, сам предполагал, наверное, поэтому мы хотели, чтобы он был с в о и м, а своим он не становился.
Только среди чужих мы чувствовали его своим.
В людских водоворотах, на выставках, на всяких обсуждениях встретишься с ним глазами; вначале разочарование — то ли не узнает, то ли занят собой, какая-то пустота, первая мимолетная стыковка всегда не удавалась, только потом он разрешал приблизиться, словно перепроверив в себе: надо ему это или нет? Он подзывал, спрашивал, и ты рассказывал послушно, как давно, в ученичестве, а он, кивая, слушал.
Кто-то еще подходил и тоже рассказывал, и он слушал и того и тебя, и неизвестно, что доходило до него и что было ему важней. Иногда казалось, что все, а иногда, что никто, что он с а м.
Я удивлялся его осведомленности о наших делах: все-то — или почти все — он знал. Редко при этих случайных встречах давал оценки, но сам факт, что запомнил, был оценкой: как же, слежу, слежу… Иной раз одаривал: ничего, нормально. И тут же добавлял, и тут же делал замечание, всегда точное. Как все это он помнил?
Это и в Институте удивляло: смотрит почти без интереса, думает о своем, далеком, взгляд вроде бы направлен мимо твоей картинки, как бы обтекает ее, но вдруг бац — зацепил, заметил в таком на вид ладном изделии изъянчик, ошибку, и вот уже сам понимаешь: строение кособокое, скоро развалится.
Другие метры были темпераментнее, щедрее. Кричали своим: «Старик, это гениально!» — или наоборот: «Это убожество, старик, куда это годится!» — а он никогда не употреблял это слово «старик» и когда хвалил, то точно жадничал, взвешивая на аптекарских весах, боясь выдать миллиграмм лишнего.
Да, в воспоминаниях я не мог написать, что он был тем учителем, которому звонишь по любому поводу — показать новую работу, спросить совета, задать вопрос: как жить дальше?
А последнее было иногда так необходимо.
Впрочем, вовсе не запрещалось обращаться к нему. Другое дело, что не отзывался, как таксист, на первый зов, но мы всегда знали: если действительно о ч е н ь н а д о, то можно встретиться.
Но за эти годы я и Борька были у него дома всего один раз, после восстановления в Институте. Тогда мы даже собирались купить ему подарок, стали размышлять, что же именно: какую-нибудь вазу — глупо, он ведь не дудтист. Может быть, тогда бутылку лучшего армянского коньяка? Да тоже как-то не совсем удобно…
Борька еще сказал:
— Порыв хороший, а идея ложная.
Я удивился:
— Как это так?
— Да так. Представь: вваливаемся с подарочком. За что? За то, что нас спас. Так за это, мой хороший, другим отплатить надо… Картинами бессмертными, к примеру. А мы по дешевке — бутылочку Мастеру, подарок, подарунок.
— Нужны ему наши рисуночки, у него небось на стенах…
Трудно было представить, что у него на стенах. Может, какой-нибудь средневековый Липпо Далмазио. Он любил малых великих художников… «Широкой публике почти не известен Липпо Далмазио, — как бы обижаясь за этого Липпо Далмазио, говорил Мастер, — а напрасно. Конечно, он не Рафаэль… художник второго ряда. Но посмотрите…» И он показывал нам репродукции.
У Липпо Далмазио были нежные, просветленные мадонны — почему они были не столь знамениты, как те, которых ограждали от толпы решетками, те, которых раз в столетие в клочья рвали и резали сумасшедшие?
А на этих прелестных мадонн никто не покушался, хотя они были ничем не хуже. Впрочем, что значит хуже, лучше. Это все равно что сравнивать моря или реки. Чем, например, Эгейское море лучше Черного? Просто оно другое.
Великие мастера второго ряда… Отчего вы так любите их, наш учитель? Может быть, вас угнетает историческая несправедливость? А может, и себя вы считаете великим мастером второго ряда?..
Мы купили ему цветы.
Борька выбирал, торговался с теткой на площади Революции; выторговав полтинник, купил хороший букет тюльпанов, но на подступах к дому Мастера стал ворчать: «Будто гимназистки какие-то».
Я молчал. Его противоречивость иногда становилась невыносимой. Я вырвал из его рук букетик, поискал глазами урну.
И тогда Борька вздохнул, сказал с детской жалостью:
— Все-таки трешник, да и цветы красивые.
Вздох о трешнике и остановил мою руку.
Он мог прогулять много и тогда о деньгах не думал. Но даром, так, впустую, в урну, да еще такие красивые… Это было выше его сил. Так и пошли с цветами.
Дом, к которому мы пришли, чем-то напоминал тот, в котором я родился. Но более темный, гранит, мрачноватые маленькие окна на мощном конструктивистском фасаде — словно на крупном лице маленькие детские очки.
Это был один из вариантов, один из типов дома, в котором, как мы предполагали, и должен был жить наш Мастер. Мы и представить его не могли в свеженьком панельном доме новостроек или в новом, розовом, как вафля, из тех, что строились уже тогда, расталкивая двухэтажные покосившиеся домики уходящей Москвы, те, что не представляли исторической ценности и были непригодны к капитальному ремонту. Сегодня они кажутся чудом, и на каждом таком еще сохранившемся доме хочется повесить табличку: «Охраняется государством». Двухэтажные, трехэтажные, с лепниной, с колоннами или без, построенные никому сейчас не известными архитекторами, не возвеличенные проживанием в них великих людей, заурядные, говоря современным языком, типовые дома отшумевших далеких времен.
Мне казалось, они тоже напоминают великих мастеров второго ряда.
Но Мастер жил в доме середины тридцатых нынешнего века.
И квартира его и встреча тогда разочаровали. Мы шли переполненные благодарностью, жалко мяли цветы, мечталось о задушевном долгом разговоре, а он встретил нас озабоченный, на цветы даже не поглядел, швырнул куда-то, провел коридором в кабинет и надолго нас оставил.
В доме явно ощущалась атмосфера тревоги, нервозности, каких-то житейских неурядиц.
Все время звонил телефон. Жена Мастера (я почти не разглядел ее, помню, что показалась мраморной статуэткой) кивнула почти не глядя, без интереса — как молочнице, почтальону или водопроводчику — и даже с каким-то неудовольствием, точно водопроводчик пришел не вовремя, а почтальон ошибся дверью. Я, помню, подумал, что мы для нее из этого же разряда или скорее всего еще из худшего, из тех, кто не часто приходит в дом, но все же назойливо, постоянно напоминает о себе, досаждает звонками, просьбами, толчется где-то под окнами в ожидании помощи.
Мы были из разряда учеников.
Кивнула, что-то взяла, куда-то ушла. Странно, что это была жена нашего Мастера. Мы видели ее в первый раз и в последний.
И действительно, как я потом узнал, она исчезла из его жизни как раз в то время, и как раз в то время он расставался с ней. Почему-то не хочется говорить «разводился», не хочется видеть Мастера стоящим перед народным судьей, объясняющим причину развода или делящим квартиру. Впрочем, он, кажется, и не делил. Каким-то образом, думаю самым благородным, он решил все жилищные проблемы и остался в этой же квартире.
Но все же почему, относясь к нему с уважением, даже с почтением, я иногда невольно думаю о нем с иронией?
Не могу точно объяснить это. Мы просто не хотели и не умели видеть его человеком, мы хотели поднять, подсадить его на пьедестал, а он не подсаживался. На пьедестале ему было бы неудобно, он и там остался бы человеком, а человеческие черты, как известно, не идеальны.
Вот и в тот раз дух суеты витал над ним, причем внешне это ни в чем почти не выражалось. Почти… Если приглядеться, можно было уловить, что движения слишком отрывисты, рассеянны; он словно забывал, что мы тут, прерывал разговор на полуслове, что-то все время искал в письменном столе, шкафу и не находил. Странно, в Институте он всегда был спокоен, сосредоточен, мы мельтешили, а он взирал на нас — не свысока, но с высоты; здесь же чувствовалась скрытая растерянность, именно скрытая, он был немногословен, как всегда, но вдруг переспрашивал нас, точно был глуховат, а когда мы стали благодарить, он сказал с раздражением: «А… вы все об этом…»
Будто каждый день нас исключали и каждый день кто-то помогал нам восстановиться.
И еще раздражала возня с собакой. Огромный, невероятно игривый дог все время был в центре внимания — то к нам приставал, то жена Мастера звала его и кому-то невидимому громко объясняла, чем кормить Ингула (так звали этого пса), называла блюда прямо-таки из ресторанного меню, не порционные, конечно, но во всяком случае хорошие дежурные.
Мы были голодны и возненавидели дога с его грозным богатырским экстерьером и младенческим нравом, этого бумажного тигра, жрущего калорийную человеческую еду: молоко, мясо, кашу. Особенно ненавидел пса Борька — пес ласкался к нему, а Борька тихо, чтобы не увидел хозяин, рыкал на него. У Борьки, как у кота, вставала шерсть дыбом от одного вида этого дога.
Я удивлялся, я знал, что он любит собак, согласен подцепить любую заразу, чтобы только погладить бродячего пса, эти ничьи собачонки так и волочились за ним до самого общежития, и он подкармливал их чем мог. А красавца Ингула, казалось, готов был пристрелить и на обратном пути поливал его последними словами и говорил, что псы не должны жить в квартирах как люди, а люди не должны жить как псы в каких-то каморках, что псы должны сторожить людей, а не наоборот…
Единственный просвет во всей этой бессвязной и тусклой встрече с Мастером возник, когда Мастер вдруг остановился, сел и сказал, вздохнув, словно сбрасывая с себя груз еще более тяжких забот, которые ему, видно, только предстояли:
— Хватит думать о чужой несправедливости. Эта история очень неприятна, но вы еще вспомните ее с благодарностью. Да, да, позже вы поймете меня, сейчас не задерживайтесь на этом. Ну а моя роль… Она естественна; другое дело, что в искусственных условиях бывает трудно играть естественные роли… Сейчас это трудно, но не слишком. Во всяком случае не смертельно.
Мне показалось, что он еще что-то хочет сказать об этом, что-то объяснить нам, но передышка кончилась, и вновь возникла в его квартире какая-то нарастающая возня, забегал, сотрясая стены, накормленный пес, зазвонил телефон, жена, с которой что-то происходило, с кем-то разговаривала в соседней комнате — слов не разобрать, но голос слышен: красивый, грудной, несколько глуховатый.
Наш учитель вышел и опять долго не появлялся, будто забыл, что мы здесь.
Это было для нас не ново. Он и в Институте так исчезал.
Когда мы прощались, уходили, он снова стал таким, как обычно: спокоен, чуть угрюм, деловит, недосягаем; дал несколько указаний по этюдам, распорядился насчет практики. Больше я ничего не помню.
Уходили мы от него с некоторым разочарованием — ждали все же другого, ведь не так уж часто удается увидеть учителя дома, так сказать, в туфлях и халате, не так уж часто предоставляется возможность побеседовать с ним в домашней обстановке, спокойно и, как говорится, по душам.
И потому мы ругали пса, будто это он нам помешал. Да, именно пес был виноват в том, что встреча не удалась. Как легко было его ругать, пролетая вниз маршами длинной лестницы, мимо обитых кожей дверей с табличками, на которых значились фамилии, известные всей стране.
Не простой был этот дом, здесь дежурная спрашивала, к кому ты идешь и от кого уходишь. А нас особенно подробно.
Мы летели по лестнице, по этажам, думая о себе, о тех домах, в которых еще будем жить.
Впереди было действительно еще много домов. А сейчас улица, столовка, две кружки пива, сосиски, я и Борька. Мы разные, но и единое целое, еще ничто не разделило нас.
И последнее из того дня: странно, что я не запомнил, какие картины висели у Мастера. Помню, что их было несколько, меньше, чем я думал, но все-таки были.
И никакого Липпо Далмазио. Ведь у Мастера не музей, а обыкновенная квартира.
А своих картин Мастер на стену не вешал.
Прошло шестнадцать лет, и я должен был увидеть Мастера, чтобы поговорить с ним о друге.
Таков повод, предлог. А причина — другая. Хотелось поговорить о Борьке, но немного и о себе.
На том конце провода голос глуховатый, мало измененный телефоном, молодой. Менее всего старятся голоса. «Кто его спрашивает?» Я назвался.
Было мне известно по нечастым моим звонкам, а также и от друзей, что в последнее время Мастер как бы сам секретарит себе: чуть-чуть изменив голос, людям не нужным, не допущенным заявляет, что в данный момент он в отъезде.
Потому назвавшись, я выжидал с некоторой тревогой: как отреагирует, не уехал ли куда-нибудь внезапно? Нет, не уехал.
— Да, да, конечно. — И тут же: — Ну, как ваши дела?
— Вот об этом-то я и хотел, если можно.
— Хорошо. В пятницу, часов в шесть. Устраивает?
Не очень устраивало, но мне ли торговаться.
— Да, конечно, спасибо.
И вот второй раз в жизни я отправился к нему. Хотел взять что-то из графики, воспользоваться редким случаем, показать, но не взял. Всякий раз получается, что использую его для оценок. Какой-то вечный урок, из года в год переползающее занятие по мастерству.
Нет уж. Сегодня без папочек с листами.
А для чего же тогда? По какому делу? Поговорить о Борькиных проблемах? О его выставке? Об интернате?.. Да. А что еще? Ведь было же еще что-то.
Оно, это что-то, не в последнюю очередь толкнуло меня на звонок Мастеру. Но как об этом говорить с не имеющим свободной минуты человеком, с профессионалом, который, как мне известно, любит конкретность и четкую ясность в постановке любого вопроса.
А что это за вопрос? Он довольно смутен, мне до конца самому непонятен. В сущности, безответен.
Он звучит примерно так: к а к д а л ь ш е?
И может быть, важнее высказаться самому, чем то, чтобы тебя выслушали.
Но как выскажешься? Как объяснишь, что идет пробуксовка, топтание на одном месте, ожидание того самого второго дыхания? И что это такое — второе дыхание? Его ведь можно ждать до тех пор, пока и первое иссякнет навек.
Да, будем говорить языком спорта. Примерно так: планка на приличной высоте, а ты ее берешь, далеко не все могут ее взять, эту высоту, и узкий круг судей, тренеров и специалистов уже знает, на что ты способен, верит, что ты достаточно прочен и всегда можешь с легкостью перемахнуть через эту планку, а когда-нибудь, может, и через более высокую.
Ты входишь в двадцатку, в десятку сильнейших, тебя возят на состязания, отправляют в другие города, иногда доверяют защищать спортивную честь родины за границей.
Ты не бьешь рекордов, но не беда, редко кто бьет рекорды, а и держатся они недолго. Важно, что ты не опускаешь планку ниже своего уровня.
Что же еще тебе надо? Все-таки тянет к рекорду, к немыслимому результату, к езде в незнаемое, к высоте, над которой еще не зависала нога человека? Так тренируйся днями и ночами, режимь, посвяти жизнь побитию рекорда!
Но беда в том, что к рекорду не тянет, хотя неплохо было бы его установить.
Беда в том, что надоели сами эти прыжки в высоту. Сами эти ножницеобразные движения ног, толчок И взлет. Взлет так недолог, собственно говоря, это не взлет, а просто краткий миг перемахивания через планку, и тут же — падение в яму с опилками.
Чего же хочется? Может быть, ты и сам не знаешь?
Нет, знаешь примерно… Бежать, ощущать бесконечное пространство, тающее, поглощаемое тобой… Хочется заниматься другим.
Ксилография, линогравюра, гравюра на нитролинолеуме, на целлулоиде, офорт, самая обыкновенная графика… Сколько убито времени на это, сколько попорчено металла и дерева, сколько притуплено сухих игл!
Почему же так безнадежно? Ведь получалось. Хвалили, а иногда и самому нравилось. И даже призы, премии, «лучшая книга года». Да, но не в этом дело, не хочется никакой книги. Хочется другого, того, к чему тянулся с первых лет, когда вообще только начал заниматься этим, хочется распахнутого, просторного, не черно-белого и не цветного, а такого, как день за окном, как вот этот вечереющий, уходящий день. Какой он? Легче всего написать его сиреневым, как это делалось тысячекратно, но у него другой тон, другой цвет. Какие соединения нужны, чтобы его воссоздать, чтобы он стал не похож на этот реальный цвет за окном, настолько не похож, чтобы все признали: да, это он?..
Но этого еще мало. Мало одного цвета. Есть гораздо более важные вещи или такие же важные: то, что ты переживал, потерял, узнал, те лица, которые еще недавно смотрели на тебя и которых уже нет, то время, которое видоизменяло эти лица, делая несчастных счастливыми, а счастливых несчастными, старых молодыми, чаще молодых старыми, время, которому столько раз ты орал, кричал, хрипел: «Остановись… да, да, ты, то самое мгновение, или как там тебя, именно ты, восемнадцать часов пятнадцать минут, до восемнадцати тридцати, остановись, ты прекрасно!» Нет, черта с два, оно неслось, как и положено, летело, не замечая тебя, наполняя тебя отчаянием, что все твои надежды, иллюзии, долгие приготовления к жизни — все это ничто. Холостой выстрел, не родивший даже дымка…
— Вам надоела книжная графика? — спросил он, глядя на меня с неожиданным вниманием (обычно он смотрел сквозь, мимо), и тут же сам себе ответил: — Да, ею можно объесться, тем более выбираете не вы сами, вам дают. А вы сделайте так, чтобы вы предлагали условия, а не они.
«Ах, в этом ли дело? — думал я. — И не надоела вовсе, я делаю не потому, что надо, а потому, что привык, и люблю, и умею». Но ведь хочется наконец вырваться за пределы этого малого листа, выйти из подчинения чужому замыслу… Конечно, это всегда контрольная, но ты примерно знаешь ответ, примерно знаешь. Развернутые форзацы, цветовой удар, штрихи, производственные ограничения и другие табу, еще более важные, и срок неделя, а тебе хочется работать год — и над другим.
Так что тебе мешает? Ведь десятки твоих товарищей так и работают: часть на рынок, часть — для себя. Десятки людей делают так. Причем это количество нужно удвоить — ведь в каждом из них два человека, два художника, рисующих разное.
Разное?.. Но разве так возможно?
Выстоять можно иначе: выражая то, что тебе самому необходимо, единственно необходимым способом… К этому тянутся всю жизнь, догадываясь, что это и есть твое, тянутся, но все не могут начать. А когда наконец начнут, то окажется, что уже не умеют, не могут, да и время вышло.
И я отвечаю Мастеру, пытаясь сформулировать все это кратко и ясно, но получается расплывчато:
— Я и сам уже выбираю, делаю то, что хочу, правда, выбор не так велик… Но я не делаю то, что мне антипатично хоть в малейшей степени.
— Да, да, конечно, и нельзя, — думая уже о чем-то своем, говорит Мастер.
— Но мне кажется, живопись…
— Вам кажется, — ворчливо говорит Мастер. — Так где она?.. Я не помню. Я знаю вас только по книгам, по гравюрам. И по-моему, один юношеский портрет. Может быть, у вас есть что-нибудь еще?
И опять же — как ему объяснишь? Есть, конечно, кое-что, начатое, незавершенное, брошенное, можно бы и вытащить и довести до конца, ей-богу, было бы совсем… Но зачем, когда видишь уже по-другому и другое. «Другое, другое, но что это за другое, где оно наконец? Если его нет, так хоть объясни, что называешь этим самым другим: другой способ изображения, что ли? Сколько таких способов было и еще будет… Да нет, при чем тут способ».
Уже видится иначе, не так буквально, вне связи с прямой задачей, конечной целью, даже с замыслом, да, да, с замыслом, он ведь часто и губит, этот самый замысел, просвечивая в каждой фигуре, — та же задача в контрольной с заранее известным ответом. Осуществляешь замысел жестко и четко, но пока закончил, осуществил — растерял по дороге все, ради чего и начал, оторвался от множества ассоциаций, сопоставлений, от памяти, от той главной памяти, что претворяет замысел во что-то внешне более от него отдаленное, на самом деле глубже с ним связанное, в новую реальность, в то самое остановленное мгновение, схваченное, запечатленное, уже оставшееся навсегда с тысячей примет и подробностей…
— Кажется, я уже знаю, как… Поэтому я не могу по-старому. Поэтому все, что я делаю, мне кажется продолжением одной и той же темы… Я уже устал от нее, но…
— Не можете решиться?
— Не знаю. Наверное… Я слишком плотно существую в реальности. Я исполнитель заданий. Когда я их заканчиваю, я вижу, что они лишь наполовину мои.
— А наполовину?
— А наполовину — всех остальных.
Он помолчал и неожиданно сказал:
— Наполовину — это не так уж мало… Да, не так уж мало. Не огорчайтесь.
Я впервые огляделся. Комната показалась меньше, чем тогда, хотя и была пустой. Помнится, я вспоминал все время, какие у него картины, и ничего не мог вспомнить.
Так вот, никаких картин. Несколько листочков, две гравюрки, правда, Добужинского. И в тоненькой рамочке сощуренные глаза Хаджи-Мурата. Это Лансере. А дальше пустые стены с какими-то светлыми квадратами на обоях, будто здесь стояли шкафы и их перетащили.
Что-то нежилое было в этой тихой опустевшей квартире.
— Ремонт, ремонт, — сказал он вяло. — Зря вы не показываете вашу живопись, судя по всему, что-то есть. Только незаконченное не надо показывать. Вам раньше немного не хватало свободы, легкости, ну, знаете, отрыва от земли. Да, да, нужно отрываться, нельзя стоять на ней пудовыми ногами. Но я помню несколько ваших работ, вот эту самую…
Он замолчал. А я не знал, что он имеет в виду. Было бы неприятно, если бы он спутал мою с чьей-нибудь еще. Так ведь тоже бывает. Сколько у него таких, как я.
— Да, да… Кладбище где-то в Сибири. Так ведь?
— Да, было такое.
— Ее еще до сих пор не приняли на выставку. Я помню, помню. И недурной женский портрет, немножко под передвижников, чуть-чуть устаревший. А знаете, в чем вам не повезло? Вы не попали в водоворот.
— То есть?
— А просто вы должны были настоять и выставиться с той работой. Потом бы вас раздолбали… Но вас бы крепко запомнили.
— Я пытался выставиться, я настаивал. Потом я и выставил эту работу, через несколько лет.
— А надо было тогда. Стоять насмерть, но выставиться… А через несколько лет — не в счет. Все устаревает.
— Все?
— Великое не устаревает, но мы редко знаем, что это такое — великое. Мы понимаем его, когда смотрим назад, далеко назад, но не сегодня.
— Но ведь бывает не так уж далеко назад…
— Ладно, вы поняли мою мысль, и достаточно об этом. Давайте о другом, о вас.
— Зачем обо мне? О себе я знаю. И все, что я делал, точнее почти все, что я делал и делаю сейчас, не представляет интереса. Может быть, представит интерес то, что я когда-нибудь сделаю, но…
— Не принижайте себя. Я редко вас хвалил. Сознательно. Мне всегда хотелось видеть в вас больше дерзости, а иногда и детскости. Понимаете, о чем я говорю?
— Кажется, да.
— Детское изумление, будто все в первый раз… Ремесленник как раз и не имеет этого. Он его утерял, а может, и не было никогда… Но вы-то не ремесленник. Вы работаете серьезно, честно, но чего-то не хватает. Может быть, дело даже не в ваших данных.
— А в чем же тогда?
— У вас есть имя. Очень неплохое имя. Я ведь знаю… Вы ведь давно уже не ученик. Но в свое время вы не попали в струю. Чуть-чуть бы побольше шума вокруг вашего имени, успеха. Глупости, что это не нужно. Нужно. Успех — это поворот в судьбе, прорыв.
— Но я не хочу фокусничать. Вы же знаете, как иногда это делается. Как он возникает, этот самый успех…
— Вы говорите как пуританин. И фокусничать иногда нужно. Только талантливо, а не повторяя в сотый раз старые фокусы.
Я замолчал… Он удивлял меня сегодня какой-то нарочитой непедагогичностью. Может, он дразнил меня? Всегда был так скуп на слова, так сдержан, а сегодня словно самому необходимо выговориться. И вместе с тем он закрыт, как всегда, хотя и расположен к общению. Поразительно, он видит, что со мной, а я только смутно догадываюсь, что с ним, да и верна ли моя догадка? Видимо, и у него то же самое, что и у меня, только в его возрасте это страшнее.
Но как же так? Разве с такими такое случается?
— Я вовсе не желаю вам осложнений, не дай бог, но какой-то шум, споры, черт его знает… Впрочем, это трудно сейчас, все солиднее, спокойнее. Наверное, так лучше. Вы придете к своему успеху количественно, постепенно.
— Но я хотел поговорить не о себе…
— Да, да, о вашем друге, я знаю. Я недавно думал о нем. Он всегда кажется неблагополучным.
— Да, он очень неблагополучен. Вот и сейчас…
— Я не знаю про сейчас. Но при всем неблагополучии у него очень прочный, твердый ствол. Ничто извне не изменит его судьбы, понимаете, о чем я говорю?
— Да, но…
— Вы еще расскажете мне подробно о его делах. Только поймите мысль… Это важно для вас. Есть растения, которым необходимо искусственное орошение, и есть те, у которых свой запас влаги, надолго, навсегда, они будут плодоносить даже в засуху, в самых жутких условиях. Понимаете?
— Я понимаю, но это не совсем так… Как раз об этом я и хотел сказать. Мне кажется, он вообще перестал заниматься живописью.
— Как?
— Да так, преподает и урывками работает.
— Где он преподает?
— В интернате, учит детей элементарным основам рисования. Немного о перспективе, немного о цвете, что такое натюрморт, что такое портрет. Вот так.
Мне показалось, я озадачил Мастера. Кажется, он слышал-об этом интернате, но не думал, что это так серьезно. В раздумье, словно что-то решая для себя, он поднял усталые, холодноватые глаза и сказал, уже со спадом, как бы снижая напряжение, что все время клокотало в нем:
— Значит, это ему для чего-то надо.
— Конечно, — с оттенком иронии сказал я. — И не в последнюю очередь для денег. Он ведь неважно живет, еле сводит концы с концами.
И снова Мастер задумался, точно сомневаясь в моих словах, не веря им.
— Вы не совсем понимаете его. Это нужно ему не для денег. Хотя и деньги не помешают. Да и какие там деньги, рублей сто, наверное, платят за эти уроки. Это ему нужно для другого.
— Для чего же?
— Для работы, для живописи… Это какое-то соединение с его работой, я уверен. Вы давно перечитывали Вакенродера?
Я чуть было не ответил «давно», но удержался и сказал:
— Я его вообще не читал.
— Жаль. Вам это было бы полезно. Особенно «Сердечные излияния отшельника — любителя искусств». Так вот, он пишет о флорентийском живописце Мариотти Альбертинелли, называет его неспокойным и чувственным человеком. Этому Мариотти наскучило многотрудное изучение живописи, — тогда, поверьте, оно было еще более многотрудным, чем сейчас, — а также вражда и травля со стороны собратьев. Хоть и отшельники, а тоже умели травить друг друга. Так вот этот чудак Мариотти бросил живопись и стал трактирщиком. Собирая друзей, он похвалялся: «Видите, насколько это ремесло лучше? Больше я не мучаюсь с мускулами нарисованных людей, а питаю и укрепляю мускулы живых, и пока в бочках у меня хорошее вино, мне не грозят ненависть и клевета».
— И что же дальше?
— От тоски по живописи он стал спиваться. И вдруг, пустив по ветру все с трудом нажитое, он продал трактир и с рвением новообращенного взялся за кисть. Он насмотрелся грязи, всякой дряни, грехов и пороков и оттого, может быть, с таким удовольствием писал священные сюжеты. Посмотрели бы вы его вещи, какие там смирение и простота, какая высочайшая духовность…
— Что ж, податься в трактирщики?
— Не знаю куда. Может, в учителя, как ваш друг, но что-то изменить. К примеру, бросить графику, начать картину и работать над ней семь лет.
— Почему семь?
— Так, священное число… Я не призываю вас удалиться в скит, вы понимаете. У меня другая мысль. Вам нужна свобода от потока, от обязательств, от привычной цепи обстоятельств. Забыть все, что делали, будто вы и не ведали ремесла, словно опять ребенок, и взгляд неопытен, незамутнен… Увидеть людей как будто первый раз, нырнуть в жизнь, в глубину без оглядки. Напишите живых людей, а не такое.
Он пододвинул мне журнал. Его гладкую, блестящую обложку украшал фрагмент из триптиха. Триптих назывался «Целина». Около мотоцикла стоят мужчина и женщина. Он в куртке и крагах, как спортсмен, она — в кокетливом плащике и резиновых сапогах; чуть в стороне художник изобразил трактор. На руках она держит ребенка. Ребеночек же, в свою очередь, тоже поднял руку и сжимает в пальцах алый полевой цветок.
— Но ведь это же пародия.
Он сказал, словно не обратив внимания на мои слова:
— И ведь этот парень тоже мой ученик… Довольно крепкий парень был, а стал ремесленником. Что-то искал, а потом смекнул, и это подсказало способ. Если б он один… Я недавно объяснялся по этому поводу с руководством института, посылают группу выпускников на две недели на БАМ. Что можно сделать за эти две недели? Но пусть едут, пусть смотрят, чтобы вернуться потом надолго. Это должна быть не командировка, а судьба. Так нет, с них требуют отчет, целые циклы — и они варганят наспех.
— И видите, — успех, обложка в журнале.
— Тот самый успех… Нет, совсем не тот. Небось думаете, а что, чем я хуже? Я бы еще ловчее намалевал и схватил какую-нибудь премию. Думаете ведь так?
— Нет, я так не думаю. Так я даже не умею, если бы и захотел.
— А я вот получил премию примерно вот за такую работу в начале пятидесятых годов. Но не такую, конечно. На несколько порядков выше, но все же… Мне даже иногда странно, что я ее написал. Мне иногда даже самому кажется: а что, неплохо. И следующую от меня ждали такую же, в том же роде. А у меня не получилось в том же роде. Я сделал совершенно не то, что от меня ждали… Сам не заметил, как сделал. Совсем не то. Тут и покатили на меня бочку. Несколько месяцев громыхало, до пятьдесят третьего. Я сам думал, почему я не смог снова повторить себя, ведь все было бы хорошо для меня. И не оттого, что такой смелый был, нет. Просто вкусовой барьер помешал. Понимаете?
— Да, но у людей нет вкусового барьера, они принимают эту троицу с трактором за настоящее. Раз в журнале, так значит и нужно, покажи им другое, они не примут. Скажут: «чушь, мазня».
— А вот вы и тараньте, и подымайте вкусовой барьер, чего же вы робеете? Ведь понимаете, что дурной вкус сегодня — это почти социальное зло. Вот сейчас я вам покажу кое-что.
Он встал, сутулясь, медленно вышел из комнаты, как человек больной, недавно перенесший болезнь. Только сейчас я заметил, как усохла и словно бы облетела его фигура, уменьшилась голова, некогда казавшаяся такой мощной, может быть даже излишне массивной, на небольшом, но крепком туловище. Сейчас и туловище истончилось, и в походке, в движениях все чаще возникала странная легкость, опасное парение, когда человек вот-вот потеряет вес и оторвется, улетит насовсем, навсегда… Впрочем, что это я такое мрачное затеял? Нет, он еще крепкий, еще в форме, да и лет ему совсем немного. Всегда казалось, что много, что он старше на целую эпоху, а пройдет еще лет десять — пятнадцать, и наши года выровняются, словно бы мы нагоняем его.
Прошло несколько минут, он что-то искал там, возился, потом принес листы почтовой бумаги. На каждом из них в уголке были крошечные, как марки, рисунки. Пушкинская серия. Она действительно была ужасающа. Крохотный Пушкин, крохотная Гончарова, крохотная надпись: «Моя участь решена, я женюсь». А на другом — такой же лилипутик, весь вдохновение, театральная поза, кудри ко лбу и подпись: «Являться Муза стала мне»… И все остальное в таком же духе.
Мы оба переглянулись и ничего не сказали. Единственные слова, которые могли прийти на ум, были достаточно крепкими, и мне казалось, мы оба про себя произнесли их.
Он бросил пачку бумаги, листы рассыпались, заползли под стул, я нагнулся, хотел поднять, но он показал рукой: не надо, и, словно забыв о них, вытягивая нить какого-то давнего разговора, того, что шел в самом начале, глядя в окно, с выражением неожиданной, почти детской мечтательности, он вдруг сказал:
— Графика — сама по себе прекрасна, но, признаться, и мне она надоела порядком. Просто, наверное, я занимаюсь ей слишком давно и потому тоже хочется другого.
— У вас были удивительные вещи, — прервал я его. — Мы на них, можно сказать, учились.
Сохраняя все то же неопределенное, мечтательное выражение, как бы пропустив мимо ушей мою реплику, он сказал:
— Под старость вновь хочется попачкать холсты, кое-что накопилось за эти годы, а все как-то не сложится, не сделается. Как вы сказали, «урывками»? Так и я, представьте, урывками… Институт, Союз, дела, обязательства. И все собираешься послать это подальше… ведь понятно, осталось уже немного, и все-таки держишься, держишься. Слаб человек.
Мы прошли в кухню: коридоры, да и вся квартира казалась грязноватой, неухоженной, похоже, он жил здесь один, а может, все домочадцы были в отъезде. Не знаю. Время от времени звонил телефон, но он не брал трубку. Серии были то длинные, то краткие, быстро испаряющиеся, летучие звонки, словно там, на другом конце, с легкостью поверили в то, что хозяин отсутствует.
И мне вдруг тревожно и странно представилась эта квартира — пустая, без хозяина, и звонки, то взрывающиеся, то гаснущие, и, наконец, полная тишина.
Отгоняя это от себя, я пил чай, кипяток обжигал нёбо, почему-то вспомнился глоток обжигающей чачи, ее вкус, тот давний: горький, на похоронах дяди Арчила.
— Дядя Арчил, — вдруг вслух сказал я, — был такой великолепный художник.
— Где? Я не слышал.
— В грузинском селении. Давно. Еще до того, как нас исключили.
Он искоса посмотрел на меня.
— Вы всякий раз возвращаетесь к этой теме. Смотрите, как вас это задело.
— Еще бы.
— Во времена моей молодости были истории покруче. Одного моего друга, очень талантливого портретиста, обругали, исключили.
— И ничего нельзя было сделать?
Он сказал нехотя:
— Ребенок. Там все было другое. Вам это, возможно, не совсем понятно.
— Почему же?
— Вы пришли, когда с этим было уже покончено.
Он задумался. Лоб, глаза, щеки были абсолютно спокойны, как и минуту, как и час назад, и лишь на миг выдали какую-то мучительную работу памяти, как бы растерянность или тень растерянности. Может быть, даже память о давней растерянности. Что-то проступило сквозь темноту гладко выбритых щек, сквозь словно чем-то запылившийся блеск глаз, он и отвечал и не отвечал и, может быть, забыл обо мне, а я ловил себя на том, что пытаюсь мысленно схватить, уловить, написать его портрет именно в этот миг отчуждения от меня, броска к чему-то давно прошедшему; вот такое бы схватить и написать. Чтобы не сбивать его, я молчал, а он взял мундштук, выдул его, но так и оставил без сигареты, а потом он встал и быстро пошел по комнате, сказал нарочито весело, четко:
— Вот видите, бросил курить. Даже не сосчитаешь, сколько лет курил, а бросил.
Чай уже был допит, и пора было уходить, но уходить не хотелось, да и он не только не торопил, а вроде бы не отпускал меня. Может быть, сегодня он не ждал никого и мог уделить мне время, а может быть, просто не хотел оставаться один.
Я вспомнил неожиданно Эс Эса, своего покойного учителя с его странными рисунками, навязчивым бредом, с деревяшкой, где пьют ханыги, зловещее слово «формализм», которым он пугал меня по пьянке. Какая-то неведомая интуиция вырвала его из дали, из долгого моего забвения, приблизила и подсказала, что этот человек именно тот, о ком говорил Мастер. Почему-то так мне показалось.
Я спросил:
— Скажите, а того человека, ну… художника, звали не Сергей Сергеевич?
Мастер с удивлением и, как мне даже показалось, с раздражением сказал:
— А зачем вам это? — И добавил: — Едва ли вы могли его знать.
Неожиданно он заговорил совсем о другом, о том, как если бы вдруг все получили абсолютную возможность выразить себя любым способом в живописи, в скульптуре, в графике. Он говорил с увлечением:
— Представьте себе ситуацию. Вот кисть, карандаш, игла, выбирай, что хочешь, и давай — на холсте, на дереве, на камне — рубай, как можешь…
— Фантазия?
Он продолжал, не замечая моей иронии:
— И вот что самое интересное, многие бы оказались бессильны, легче наспех нарисовать тракториста с женой и сыном на обложку, чем написать настоящий портрет этого же тракториста. И особенно беспомощны были бы те, кто кричат, что все им мешает. На самом деле художнику ничего не мешает. То, что мешает, и есть сила необходимого преодоления; чаще всего ее просто нет.
Он замолчал, видимо устав, и я стал вновь говорить о Борьке.
Ведь ради этого, собственно, я и пришел. Я рассказывал ему, не понимая, слушает он или нет, об интернатской выставке, о мальчике, о его отце, о том трудном положении, в которое Борька попал, и еще о картине.
Он слушал внимательно, но думал о чем-то другом. И вдруг сказал:
— Будет обидно. Нельзя, чтобы и у него не получилось. — И посмотрел на меня.
Этот взгляд в темноте, даже не взгляд, а просто белевшее лицо, которое я не мог разглядеть как следует, невидимый мне рот вдруг произнесли приговор мне: «Не получилось».
И видно, он понял, о чем я думаю, потому что с неожиданной горячностью сказал:
— При чем тут вы? У вас еще есть время, я о себе говорю.
«Как это о себе? — отталкивая и соглашаясь, мысленно говорил я, — столько сделано, столько наработано за долгую жизнь».
Но я не решился сказать это ему, сейчас это было неуместно, нечего было хитрить друг с другом. На самом деле я прекрасно понимал, о чем он думает. Знал его другую, чем все мои дежурные и лежащие на поверхности доводы, правоту.
Он вышел проводить меня до дверей. Жидкий свет площадки, громыхнувший лифт. Однако, как тогда, с Борькой, я пошел пешком вниз, мимо темных закрытых дверей со знаменитыми фамилиями на табличках, не совсем так, как тогда, не водопадом — вниз, а медленно, даже степенно, чуть придерживая шаг.
Так сходят с крутой горы. Так сходят с горы, на которую не забрались.
«Однако еще не вечер, — думал я, хотя уже было поздно, — и какая к черту гора! Обыкновенная лестница в нестаром, но устаревшем московском доме, возвращение от учителя».
На улице было неожиданно светло, оживленно, шумно. Я постоял в ожидании такси, но все они проносились мимо, не останавливались. Так и не дождавшись, вышел на Садовое кольцо и пошел, пошел быстро, ни о чем таком не думая и не печаля душу, как бы собираясь для осуществления будничных забот завтрашнего дня.
Вскоре я уехал на Волгу. Снял в Касимове комнату у старого, со студенческих времен, приятеля; теперь он был большой человек, чем-то заведовал в областном управлении культуры, распределял заказы. Предлагал мне, Борьке, но ни я, ни он не воспользовались. Хорош он был еще и тем, что свою избу, в которой вырос, перестроил, перекурочил, надстроил второй этаж и превратил в хороший дом с видом на Волгу, или, как, поездив по заграницам, он любил выражаться, «бунгало».
Так вот, я и остановился в этом бунгало, где в одиночестве жил его полупарализованный отец; до того, как его разбило, он коптил рыбу на местном заводе.
Так мы и жили вдвоем, только раз в неделю приятель приезжал, подгонял еще машину с бревнами, фанерой, кровельным железом, кирпичом, — бунгало росло и ширилось, и в этот день работать было нельзя, а надо было участвовать в общем подъеме частного строительства, а уж потом, вечером, в угощении «левых» работников, приехавших с ним, и еще кого-то, кто приезжал отдельно, уже на ужин, и кто, судя по всему, был вообще всемогущ. Это чувствовалось по всему, и по отрывистому строю хмельной, но важной, словно бы государственной, речи, и по тому, как постукивал пальцем по стенкам нового дома, сдержанно одобряя, но не впадая в крайности (видно, у него бунгало было еще получше). Уже сильно выпив, он как бы терял осанку и, раздевшись донага, заплывал куда-то в блестящую и холодную тьму ночной реки, махал саженками вниз по матушке по Волге и что-то пел в воде.
Вот такая была компания.
И откуда что взялось? Я помнил этого своего приятеля в общежитии, тихого, приветливого, немного забитого; когда выпивал, он становился агрессивен, но выпивал редко, зато часто угощал нас копченой и вяленой рыбой, которую привозил из дома. Были и мы у него однажды с Сашей и Борькой, изба показалась нам сырой, тесной, много беднее тех, воронежских, в которых мы жили. Способностей никаких особенных он никогда не выказывал, да и в общественники не лез. После института несколько лет прозябал, а потом начал штурмовать небо, только на административном поприще. И вот нате вам, постепенно завоевал если не небо, то место под солнцем.
Вполне хорошенькое местечко, где можно было расширить избу, сделать ее двухэтажным домом-мастерской, фонды выдавались под мастерскую, с местом для гаража и т. д.
Надо сказать, что дом он сооружал не бросовый, не какой-нибудь, а крепкий, даже не без изящества; все как полагалось было в этом доме или должно было быть, и неструганое дерево, и большие окна, из которых так хорошо смотрелась Волга, и, естественно, камин для дружеских пирушек. Наши городские квартиры казались просто клетушками по сравнению с этой виллой.
Но хорошо, что Михаил, ныне его звали Михеич, не возгордился настолько, чтобы забыть старых друзей, приглашал их к себе и охотно демонстрировал новым своим приятелям, дескать, не кто-нибудь, а хорошие художники к нему приезжают, и не как-нибудь, а именно по назначению используют его строящуюся мастерскую.
Но эти лихие наезды были нечасты, тихие, долгие дни я проводил вдвоем со стариком и работал.
О, как тяжко-мучительно вначале шла работа, точно урок, который — кровь из носу — надо выполнить, сдать, а урок не идет, и полный внутренний сумрак, бессилие, злость, рука чугунная. Она механически подчиняется замыслу, а он неясен, смутен, и чугунная рука движется скованно и беспомощно; уж какая там свобода, — дни, наполненные вязкой мукой.
И все-таки незаметно втянулся, словно тяжеленный шлагбаум отодвинул, и дорога открылась, и медленно сдвинулся. Чиркал углем, карандашом наброски, прикидывал композиции.
Теперь уж каждый приезд друга выбивал, мешал сильно, вечерние посиделки, ночные купания были как повинность.
Какое счастье, когда они уезжали!
Я так любил этот недоструганный большой дом, резко пахнущий краской, мне так уютно было с молчаливым стариком, который не лез в мои дела, ни о чем не спрашивал. Он много спал, иногда готовил я, помогая ему. Лицо, потерявшее подвижность, маска с живыми, проворными глазами, и проворные же руки, никогда не бывавшие без дела, то картошку чистили, пытались стругать что-то, хотя два пальца не гнулись; иногда он замолкал, я пугался и подходил, видел, лежит с открытыми глазами, дышит.
Иногда я чувствовал за своей спиной: он смотрел с любопытством, с удивлением. Я не люблю, когда глядят из-под руки на работу, но старик был настолько молчалив и я настолько привык к нему, что не раздражался, скучно ему было…
Ни в каких казенных мастерских не было так привольно, как здесь. И впервые я почувствовал тоску по такому вот бревенчатому, просторному, может быть, и скромному, поменьше, но своему дому, далеко от города, и пусть бы он также глядел окнами на реку, пусть бы даже шли дожди, как здесь, но воздух был бы теплый, а река ртутно, подвижно блестела.
Как нужен был бы такой дом. Но я все как-то не думал об этом всерьез, откладывал на потом, ни с чем не хотел связываться до конца, ни от чего не хотел зависеть… Поездки, переезды, встречи, движение к чему-то, затянувшийся переходный период. А к чему движение, к чему переход?
Да и вся жизнь почему-то еще до недавнего времени виделась вступлением, дебютом, а самое существенное, главное вот-вот только начнется… А на самом-то деле уже д а в н о началось и идет, идет вовсю, и уж скоро пойдет на убыль, и тогда тот, второй, последний берег приблизится, станет так четко, так явственно виден: желтый, с какими-то низкими, пожухшими, как после большой жары, растениями, сухо напрягшимися под ртутным движением воды…
Так и жил двойным ощущением. Одно утешающее, обманчивое: вступление, начало, ну если не начало, то середина; а второе — совершенно беспощадно и быстро надвигающийся каменистый берег, без кустарников и деревьев, безжизненный, конечный. Там уж тебе ничего не удастся, потому постарайся что-то успеть сейчас.
Итак, начнем с того, к чему подкрадывался, от чего всегда уходил, начнем с лиц человеческих, живых лиц, с тех глаз, что одновременно и не забыть и не вспомнить. Начнем с самого близкого и потому самого трудного.
Но в этом близком для начала выберем все-таки еще не самое главное, не самое больное, пусть это будет первый подступ к нему… Потому — Нору не надо трогать сейчас. И Борьку тоже, хотя я обязательно должен его написать, давно знаю, что должен, и давно думаю об этом, но сейчас начнем с дальнего, с самого дальнего из всех ближних.
Старик. Вот тот старик из Рыбинска, живой ли? Страшно искать встречи с ним. Скорее всего, почти наверняка… Но почему-то решил с него начать свою серию, словно какое-то механическое, нет, не серию, а цепь характеров, связанных чем-то, увиденных и в пространстве и во времени.
Вот так и этот старик. Я дам его как бы двойным отражением. Его молодые глаза увидят его же — старые. Это будет воспоминание наоборот, вся жизнь между двумя обликами — дистанция в полвека, с какими-то скупыми приметами времени, еще не знаю какими. Они будут гиперболизированы, и в них должна уместиться вот именно эта жизнь, много горя, но, вероятно, и не меньше радости. Для других эта жизнь прошелестела совершенно незаметно и угасла незаметно, ибо она прямо не отразилась во времени, и эпохе, в общей жизни страны, искусства. Она была лишь песчинкой в этом общем движении, но вся тяжесть, все напряжение, все потрясения, время, земля — все отразилось в ней… Замысел. Он для того и существует, чтобы ломаться и меняться.
Не замысел, а первый толчок.
Но если эта жизнь исчезнет — то ничего не изменится, ничто не дрогнет в мире, песчинка не осыпется с крыши, неужели так? Только одна пожилая женщина будет рыдать, несколько людей выразят ей сочувствие, перенаселенное городское кладбище примет еще одно тело, а дальше… Но ведь для чего-то было. И если и забудут его, а может даже не узнают о его конце, все равно он б ы л и перешел в меня, в других, во мне отразился.
И он действительно был и жил, и открыл мне многое, и другим, и пусть забыли, но это уже перешло в других, то, что он знал, то, что он почувствовал… Обратная связь между двумя лицами, двумя обликами одного и того же человека, обратная связь между ним и землей.
Но как? Портрет с двойной экспозицией. Слишком просто. Что-то другое. Не замыкающееся в одном лишь портрете с определенным фоном и с какими-то странными деталями, как любят говорить критики, приметами времени, нет, что-то другое, очень точное по памяти, реальное и вместе с тем хранящее и другую память: память надежд, снов, невысказанных обид — страха перед старостью, может быть, и сознание своей силы, своей бесконечности.
Я чувствую, как это делать, еще не зная до конца; я боюсь, что этот самый замысел слишком прямо поведет меня, шаг за шажком, придаст всей композиции; механистичность, рассудочность.
Мольберт стоит, холст натянут, открыты окна, серый туман над водой, я рисую что-то на клочках картона.
Как трудно начинать. Прав Мастер. Дай свободу, не знаешь, как ей распорядиться.
Беглый, одноцветный набросок, беглая запись для себя о цветах.
Уголь, сангина, карандаши.
Да, да, больше всего я люблю «итальянский карандаш» — рисунок глубок, темен, как бы объемен, лишен блеска, а потом уголь, но еще рано… пока только карандаш. И как далеко еще до, станка, до живописи, до стыка и единства теплых и холодных оттенков, как далеко еще до первого движения кистью, осторожного полушлепка, полупоглаживания этой льняной холстины, распяленной на подрамнике. Боишься даже к нему прикоснуться, как будто не смываемо никогда, но еще немного, — и движения перестанут быть осторожными. Хватит тебе его бояться, это ведь не живое, дышащее тело, которое можно покалечить, нет, это всего лишь холст, это твой экран, никакое не дело, гони свой страх и делай с ним что хочешь, как хочешь. Кто-то из учивших нас говорил: как с женщиной. О, как это нам нравилось тогда. Чушь какая, пошлость. Но может быть, и надо было так когда-то сказать, чтобы мы обалдело кидались на холст и делали с ним все, на что способны.
Но сейчас уже не детские штучки. Рука уже осторожнее, все равно, полная свобода на самом деле — это тончайший расчет, и выверенность, и абсолютная точность попаданий, будто стреляешь по движущейся цели, а рука подключена к какой-то батарее, дающей энергию.
Ощутить точно цвет среди десятков цветов, реальных и нереальных, естественных и химических, выверить свой, единственный и точный цвет. На время забудь о замысле, о конечной цели.
Как будто ты видел это один. Никто другой до тебя — этого не видел, только ты один. Надо забыть все похожее, все облики, лики, портреты, все глаза на чужих полотнах; только то, что ты видел на самом деле, и то, как ты это помнишь, тот цвет, который тебе запомнился.
То, что подсказывает тебе твоя детская память, не сегодняшний взгляд, а давний, уже почти полузабытый, и уж потом твое знание, твой опыт; совсем даже не тот опыт, который выработался годами от упражнений, работ, заданий, от понимания того, как надо и как не надо; нет, здесь нужен совсем другой опыт, который еще по-настоящему не выразился в том, что ты делал всегда. Да по-настоящему ты и не пытался его выразить… И что это за опыт: неосуществленных желаний, амбиций, надежд, обид; нет, все это как раз совершенно не важно сейчас, опыт постоянного ожидания, ни в чем пока не воплотившегося, потерь, наконец страха, не только перед концом, перед смертью, но и перед жизнью… Как бы сделать, чтобы все это вошло, как принято говорить, «отразилось».
И попробуем отказаться от желания написать лучше, чем кто-то… Надо выйти из соревнования. Оно проиграно все равно. И сейчас не в этом дело.
«Успех, — говорил учитель, — нужен успех». Конечно, нужен, конечно, хочется. Но только брось об этом думать. Сейчас, пока ты работаешь, тебе это совершенно неважно, несущественно. Потребность высказать что-то, необходимое тебе самому. И неизвестно, необходимо ли это кому-то еще… Жили, живут и будут жить без твоего опыта. И все-таки…
Не надо смешивать краски слишком медлительно и осторожно, в надежде на то, что они дадут чудо сами, нет, не дадут, сами по себе они ничего не значат, и тут опять надо вспомнить первоначальное, то, ради чего ты решил это делать, и тогда вдруг возникнет точный и нужный тебе цвет: он сформировался, родился в тебе и жаждет освобождения… Только таким ты и видел человека, землю и небо. И незачем даже себе объяснять это словами. Цвет не объяснишь, его можно только создать.
Это очень приятно, вот такое состояние, немного наркотическое, но вот что страшно: наркоз этот кончится, и ты увидишь — все блеф, никакого цвета, мазня, ерунда; потому и стараешься продлить, укрепить себя в своем состоянии, в этом самозаводе, но постепенно самозавод кончается.
Я слышу, кто-то прошел за моей спиной, что-то взял, не удержавшись, глянул в холст.
— Не интересно. Там ничего нет, — говорю я «кому-то».
— Извините.
Да, я уже видел ее. Эта девушка уже бывала здесь, она иногда заходит к старику, прибирает в доме, приглядывает за ним, видимо, родственница. Я повернулся и увидел ее уже около двери. Вид у нее на этот раз был городской: кожаная или под кожу юбка, красные туфли; да и взгляд не тот, что обычно, скользящий мимо, с тенью каких-то бытовых забот, будто не юное создание, а кормящая мать; сейчас взгляд легкий, свободный, даже как будто чуть с вызовом, серые, небольшие, очень быстрые и сообразительные глаза — глазки.
— Значит, хотите посмотреть, что я тут малюю.
— А я уже посмотрела. Столько сидите, а еще ничего нет.
— Это только так кажется… Это особые такие краски.
Она подошла поближе, внимательно посмотрела на холст и с детским разочарованием на меня.
Потом она усмехнулась, детское исчезло, в глазах вновь появился женский какой-то вызов.
— А вы сами знаете, что здесь будет?
Знаю ли я? Вопрос в самую точку. Только всерьез объяснять не хотелось, хотелось сохранить дурашливость тона, и я сказал:
— Знаю, но не скажу.
Она не ответила… Юмор выдохся… разговор как-то повис. Отчетливо было слышно, как внизу громко и с визгом храпит старик.
Девушка, не глядя на меня, сказала:
— Извините, я вас отвлекла.
— Да нет… Что вы.
Да, она отвлекла меня. Но если бы она знала, какая это радость, — отвлечься…
Ведь ни о чем таком и не думал, вроде бы давно все это заглохло во мне. Сам себя видел отрешенным, одному только всецело преданным — и вот нате: юный, удивленный и тоже чего-то ждущий взгляд, красные туфли, нежное свечение ног.
Вот как легко появление ее вдруг разорвало тот круг, что был добровольно замкнут мною, даже радовал; один только был выход — работать, отвык от голосов, сам не разговаривал ни с кем, разве что в субботу, когда наезжали друзья Михеича.
Только на зорьке крик за окном: «Машка, Машка!» Выглянешь, а это корову кличут, и снова тишина часами, иногда скрипучий, как сорвавшийся и потерявший глубину голос старика, отдельные, почти нечленораздельные фразы, или вдруг бравурный, бодрый крик неожиданно включенного им радио, и я тут же спускаюсь, выключаю. Ничего мне не надо, ни новостей, ни сообщений; только вот эта тишина.
Она не будит воспоминаний, не тревожит, почти не рождает безнадежных мыслей, только вечерами иногда тяготит.
Отчего же она тяготит, если ты сам решил все постороннее выключить для себя?
Оттого, что в ней нет ни намека на обещание.
Это, наверное, симптом застарелой юношеской болезни о ж и д а н и я. И вот вечерами он обнаруживает себя: зовет куда-то, толкает.
Выходил, радостно подставлял лицо, грудь, оцепеневшие от долгого напряжения, ветру с реки, ветер был пронзительно-прохладный, но обжигал приятно, чисто, словно речными брызгами осыпал лицо. Я подходил поближе к реке, она была быстрая, необыкновенно деловая, с огоньками барж, с гудками, с утробным рокотом сухогрузов; иногда она мне виделась не рекой, а железной дорогой, широченной, темной, во вспышках огней, тянущей по себе транспорт. Он дрожит дизелями, пускает пар, будит сонную округу шипеньем, гудками, сиренами. Вдруг вырывается из этого гула хрипящий возбужденный голос певицы: «Все могут короли!..» — транспорт с музыкой.
Я уходил с набережной, возвращался домой, заваливался спать, говоря себе, что это хорошо, правильно так рано лечь, ведь завтра с рассвета работа, все было правильно и спокойно, но все же я чувствовал себя чуть-чуть обойденным судьбой и немного уже старым.
Какие-то другие вечера, подсказанные чуть приукрашивающей все памятью, падали с неба светящимися парашютиками под полузабытую, может быть, даже вышедшую из моды музыку.
Они были так праздничны, просторны, так много в себе содержали, так переполнены были движением, все время меняющимися лучами, словами, содержание и смысл которых почти не помню; так и сыпались эти вечера, светясь и кружась, на глинистую почву. Я отлично понимал, что они не были на самом деле такими: гораздо прозаичнее, будничнее, может, даже бессмысленнее и тупее, — трата времени и никаких там парашютиков и кружений, а всего лишь топтание по асфальту или по такой же вот глинистой земле. Вся-то радость была в том, что их можно тратить как хочешь и куда хочешь, уверенность, что их так еще будет много, оттого бесцельность наполнялась каким-то другим смыслом.
Тот самый предел, который еще только угадывался вдалеке, в темноте, теперь все явственней, все беспощадней придвигался, ты пытался обмануть время, судорожно рывками работая, но потом снова наступали провалы, дни, будто бы заполненные чем-то до предела, на самом деле — несущественные, полые, бесцельные.
Не молодая бесцельность ожидания, а вязкое, муторное предчувствие, что уже ничего, на что так надеялся, и не состоится.
— Ну ладно, я пойду, вам надо работать.
Работать, действительно, было надо, но все-таки обидно, если она сейчас уйдет. Мне захотелось ей сказать просто, что называется открытым текстом: «Не уходите, посидите или постойте, как вам угодно… Конечно, работа, но я потом наверстаю, догоню. Всю жизнь ведь догоняешь. Может, догоню и сейчас. А уходить не надо».
Но вместо этого каким-то небрежным, пошловато-легкомысленным тоном я сказал (видно, за три недели, проведенные здесь, разучился разговаривать с женщинами):
— Конечно. Небось ждут… Свидание на причале.
— Какое ж там свидание, — охотно, открыто ответила она и улыбнулась; осветились глаза, небольшие, ясные, как будто бы очень знакомые. Улыбка сделала ее женственней, старше.
Моя пустая комната с холстом, кусками ватмана, испещренными набросками, с тюбиками с выдавленной и обезмасленной крокусной бумагой красками, все это не располагало к разговору.
Впрочем, может быть, ей нравилось. Необычное всегда вначале нравится.
Она что-то стала искать в сумке, почему-то опустив глаза, как бы конфузясь, робея. Было такое впечатление, что она давно хотела что-то там найти и мне показать, и потому чуть-чуть суетливо, вслепую перебирала руками по дну красной клеенчатой сумки.
Наконец она достала какую-то книгу, показала мне. Это был «Ледяной дом» Лажечникова, детское издание.
— Тут ваша фамилия… Это вы рисовали?
— Да.
Книжка, встреча… Нет, так не бывает случайно.
А сам думаю: во-первых, откуда она знает мою фамилию, и, во-вторых, как попала к ней эта книжка? Несколько десятков тысяч экземпляров уже давно растворились. Старая книга, какими судьбами к ней попала?
Пока я думал, она все объяснила сама:
— …сказали, книжный художник, назвали фамилию, у нас ведь тут редко кто бывает. Стала у себя искать, не нашла, у меня только детские, для малышей, сын еще и читать не умеет. И вдруг случайно, в больнице, в кресле у телевизора, после отбоя, нашла эту книжку. Чудно́, да?
— В больнице?
— Да, я там работаю. В ту ночь как раз дежурила.
— Давайте пойдем куда-нибудь… Здесь есть что-нибудь такое? Если, конечно, не спешите? Ну, может, кафе, бар… Сейчас ведь всюду понатыкали баров.
— Да нет, здесь — особенно-то некуда. Летом «Поплавок» был, но закрыли, и есть еще кафе «Лель», но там одни алкаши. Да и не знаю, есть ли там еда. Вы ведь, наверное, голодны? Дед-то не готовит, а вы целый день работаете.
Она чуть насупилась, привычная забота отразилась в ее глазах, словно вот и сейчас, как всегда, ей надо было думать о том, как кого-то накормить, будто она была главой большой и вечно несытой семьи.
— Подумаешь, алкаши, — сказал я. — Я тоже был алкашом. Но вылечился. Пошли.
По свежеструганой, с пятнами клея лестнице, отдирая от нее прилипающие подошвы, мы спустились вниз.
Старик не без удивления скользнул взглядом: больной, а приметливый, все ему надо.
Но вот мы уже на улице, куда-то деловито спешим под дождем, она достает складной зонтик, прикрывает меня; зонтик заслоняет все, видны низко, косо летящие крупные капли, освещенные светом. Только округленная малость пространства, защищенная ее зонтом. Ближе, теснее, мягкое плечо под холодной кожаной курткой прижато к моим рукам.
Долго молча идем куда-то, дождь все сильнее, все назойливей. Поравнялись с ресторанчиком-поплавком. Он темный, безжизненно покачивается на темной воде, открытые, будто разграбленные, окна. Корабль не корабль, пустая кабина, покинутая людьми.
Ни машины, ни людей, наконец что-то зашумело, выкатило из тьмы, поравнялось с нами, из кабины недоверчиво смотрели. Она подошла, что-то сказала и махнула мне зонтом.
И вот сидим на заднем сиденье газика, куда-то он мчит. Я молчу, ни о чем не спрашиваю.
Выбитая дорога чувствуется так сильно, так бухают камни в железное днище, будто машина без колес и ползет плашмя.
Все это так странно, необязательно. Куда едем, зачем? Но вместе с тем и завороженность ее теплом, близостью, приятной тяжестью чуть привалившегося ко мне тела.
Что-то давнее, очень молодое увиделось вдруг в этой встрече, было ощущение, что так уже ехал, вот на этой машине, по такой же разбитой дороге. Просто ехал, не рассуждая, не раздумывая.
Но вот какое-то оживление, и свет, и музыка громыхает, мы вылезаем из газика, проталкиваемся сквозь образовавшуюся к этому позднему часу небольшую толпу тех, кто порешил уже все магазинные бутылки и теперь вот пришел за ресторанной, черт с ней, с наценкой, лишь бы дали выпить. Плечистая, похожая на мужика тетка покрикивает, чтоб не слишком толпились, деловито берет десятки, выносит бутылки.
У нее свой, привычный промысел.
А мы мимо нее ныряем в пахнущий винным чадом предбанничек, раздеваемся, и вот уже освещенный зал, выложенный почему-то сбоку кафелем, как огромная ванна. В конце зала во всю мощь громыхает оркестр, а на узеньком пространстве между оркестром и столиками, а также и в проходах, оживленно вихляясь, поднимая пыль, повторяют новомодный дискоритм разудалые молодые танцоры.
Впрочем, почему вихляются? Это мне так кажется, со стороны. Я сторонний наблюдатель, трезвый к тому же, и потому глядящий с иронией и холодком свысока. А им плевать на мою иронию и холодок, они себе танцуют, получают удовольствие.
Интересная закономерность. Во времена моей юности в столичных ресторанах, в ресторанах больших городов — оркестры играли все новейшее, а в глубинке что-то словно бы пахнущее нафталином, из другой эпохи.
Теперь же — вот прогресс — в любом, или почти в любом ресторане периферии лопают то же, что в московском «Метрополе».
Как всегда в незнакомом месте, долго ищу и не нахожу места, наконец присаживаемся где-то в середине зала, обтекаемого танцующей публикой. Наконец тишина, все садятся по местам, зал начинает гудеть и жужжать, почти вибрировать от слившихся друг с другом разговоров, восклицаний, шепотов: официант, естественно, долго не подходит, да и никто не обращает на нас внимания; только какой-то тип за соседним столиком внимательно, будто у него других дел нет, смотрит на нас, даже не то слово «смотрит», и не на нас, а на нее, вперился маленькими цепкими глазками и смотрит неотрывно.
Наконец ловлю официанта, он подходит, что-то рассеянно записывает, по-моему, и сам пьяный, все время повторяет: «Вторых уже нет, поздно, товарищи, приходите». Наконец приносит что-то холодное, несъедобное, но под водку и это пойдет. Горячая водка быстро меняет что-то в настроении.
— Конечно, плохонький ресторанчик, не то что в Москве, — говорит она. — А поверите, года два назад здесь такая уха была, издалека приезжали.
— Конечно, конечно, — подтверждаю я и совершенно не знаю, о чем с ней говорить в этом ураганном грохоте и в такой же ураганной тишине, назойливо гудящей над головою многоголосым, спертым гулом.
Внезапно откуда-то из прокуренной пегой полутьмы обозначается человек — очень бледное лицо, какой-то судорожно сосредоточенный взгляд, с удивлением вижу, что он идет прямо на нас, я даже напрягся и привстал, приготовился к драке. Но он тихо сел за наш столик.
Он не поздоровался с ней, но почему-то я понял, что он ее знает, и знает хорошо, во всяком-случае, она не удивилась. Она молчала, стараясь скрыть то ли досаду, то ли тревогу.
Он что-то коротко сказал ей, я не расслышал, она пожала плечами.
Я сидел, испытывая сильное раздражение. Мне хотелось прогнать этого человека, но почему-то я догадался: нельзя. Во всяком случае, не стоит. Он сидел оцепенело, бормотал что-то бессмысленное, полузакрыв глаза, он был пьян, но полузакрытые глаза, как бы совершенно отсутствующие, на самом деле, я это чувствовал, все подмечали. Он вскидывался, словно просыпаясь, и тогда бесцеремонно, цепко, внимательно, с нескрываемым интересом смотрел то на меня, то на нее.
Уйти, и все. Чего проще… У них свои отношения, какие, я не знаю, но при чем тут я?
Я выпил еще рюмку и, наклонившись к ней (странно, я ведь даже не знал ее имени), сказал:
— Я, наверное, пойду…
Она торопливо, горячо, я даже не ожидал такого, зашептала:
— Нет, нет. Не надо:.. Он уйдет сейчас… Я прошу вас.
Я не слышал, что она ему говорила. Она говорила довольно долго, лицо ее было спокойно, но плечи приподняты, а голова резко, по-птичьи, повернута к нему, и в профиле было яростное, ястребиное. Потом загрохотала музыка, она сидела, не обращая внимания на меня, глядя туда, где к освещенному квадратику мотыльками на огонь слетались танцоры, вот только их несколько билось в этом высвеченном пространстве, а теперь уж куча, но что мне до них? Совсем близко ее разрумяненное от возбуждения лицо, сузившиеся зрачки, остывающие от жара глаза.
— Давайте потанцуем, — сказала она.
Не хотелось, но я покорно пошел.
Оркестрик, если прислушаться, грохотал слаженно, сыгранно. Музыкальные шабашники, приехавшие на субботу из города, видно, знали свое дело.
Она тут же поймала, взяла ритм. Гулкая, глуховато и сильно бьющая волна отдавалась в висках, и я никак не мог войти в нее, а она тут же вошла; я заметил, что женщины мгновенно и безраздельно отдаются музыке, и она, пусть ненадолго, но мгновенно освобождает их от житейского груза.
Я же таскал свой груз с собой и потому долго не мог приспособиться к ее затейливым движениям, к резким ныркам, вкрадчивым замахам рук, к туманной улыбке на успокоившемся, почти блаженном, но совершенно отдельном от меня лице.
Я чувствовал эту разъединенность, да и вся ситуация была непонятна; может, потому я не столько танцевал, сколько тяжело волок эту мелодию, выполнял какое-то задание с застывшей на напряженно улыбающемся лице улыбкой.
Она посмотрела на меня и на секунду вдруг прижалась ко мне, пробормотав что-то, может быть, только для себя. Мне показалось, она попросила меня о чем-то. О чем? Может быть, о том, чтобы я забыл все, что несколько минут назад было, этого странного пьяного мужика и что-то еще другое забыл, свое, неизвестное ей, разделяющее нас, чтобы я забыл ненадолго, тогда и она забудет свое недавнее, сегодняшнее, тоже неизвестное мне.
«Да, надо забыть», — подумал я, а получилось, что сказал вслух, и она не удивилась, только быстро посмотрела на меня.
Танец то втягивал нас в середину этой бессвязной мотыльковой гущи, к свету низкой эстрадки, то выбрасывал в сторону, и мы словно оказывались совершенно одни. Вот в такую минуту я посмотрел в полутьму опустевшего зала, за нашим столиком сидел этот человек и допивал водку.
«Ну и пусть, — уже совершенно спокойно подумал я. — Каждому своя радость. Ей танцевать и стараться что-то забыть, мне приспосабливаться к новой партнерше, ему — допивать чужую водку, и каждый должен полноправно распоряжаться своими скромными возможностями».
Теперь мне было совершенно все равно, пусть сидит он за моим столом, лакает мою водку, я освободился от раздражения, от желания подраться или немедленно уйти, оборвав слабую нить, что сначала выткалась между мною и ею, а потом повисла, в любую секунду готовая порваться.
«А зачем ей рваться? Порваться она всегда может». Я только сейчас увидел и понял, что она (довольно дико, что я не знаю ее имени, а может, и лучше: просто «она») очень хороша: длинное, стремительное, такое легкое тело; маленькая, вдохновенно откинутая назад, прекрасно вылепленная головка; в этой пьяной сутолоке она парила, а не вихлялась, как распаренные и чуть обезумевшие от водки и музыки люди. Именно парила и летела под глухой грохот ударника, под развязное тонкоголосье саксофона. У каждого из нас есть свой запас вдохновения, у каждого есть и право по своему усмотрению и возможностям расходовать его. Она расходовала так… Она так умела.
— Ты замечательно танцуешь, — сказал я. — Экстракласс, замечательно. Да, да, — я почему-то подмигнул для убедительности.
— Вы тоже, — сказала она.
Это уже было явное преувеличение. Но всеобщее удовлетворение, почти благость, уже овладевали нами.
Мы долго шли по-над берегом, все огоньки вокруг погасли, только гудел движок электростанции, да все слабея, отдаляясь, ухал оркестр в ресторане.
Я не знал, провожаю ее или нет. Кажется, она и не собиралась домой, просто куда-то шли без цели, потом сидели на мокрой скамейке. Я обнял ее, она не шелохнулась, ничем не ответила, но и не отодвинулась. Может, боялась меня обидеть, а может, ей хотелось, чтобы я обнял ее. Действительно, подумаешь, какое дело. На то и вечер, и танцы, и водка, и мокрая скамейка.
Все было более или менее понятно и знакомо, неизвестно только, позовет ли к себе. Скорее всего нет. Все-таки первый вечер. А так не положено. Во второй — пожалуйста. Но второго уже не будет. Работать надо, и надо уезжать.
Так или примерно так я думал, но думал еще и по-другому. Думал, Что мне хорошо сейчас, гораздо лучше, чем одному в пустом доме с молчаливым инвалидом, в постоянном напряжении из-за того, что время уходит, а работа все на месте.
Но рука моя, обнявшая ее почти механически, потому что так надо, вдруг ощутила тепло ее тела, как бы затаившегося, вежливо не отстраняющегося от меня, нейтрального, и оттого, может быть, особенно притягивающего.
Нужно было что-то говорить. Как-то высказаться. Как-то выразить свое отношение к происходящему, сказать, например, что она мне нравится, что мне с ней хорошо. Это ведь и на самом деле так. Но я не мог ничего говорить. Я словно бы отупел. И ведь даже имени ее не знаю, а спросить теперь неудобно.
Я представил себя давнего, прежнего, одновременно наступательного и ранимого, боящегося обиды, отпора. Подумал: а какие я слова говорил тогда? Я попытался вызвать в себе тот дух, тот настрой, это был своего рода спиритизм, я как бы вызывал собственную тень.
И эта тень что-то бормотала, говорила, то нежно, то яростно, отстаивала, ниспровергала, отвоевывая для себя жизненный простор, реку, скамью и эту девушку… Моя давняя, истончившаяся от времени тень.
— Ну что ж, пойдемте, — сказала она.
— Куда?
— Как куда? Я — домой, а вы — к деду.
— Дед спит давно, не добудишься, а у меня ключа нет… Мы ведь с вами сорвались, не предупредили.
Она помолчала.
— Серьезно у вас ключа нет или вы так?..
— Честное слово.
Она нахмурила лоб, как бы что-то прикидывая, высчитывая.
— И ведь действительно, не добудишься, как же мы не подумали?
И после небольшой паузы сказала, как-то очень серьезно:
— Ну, раз такое дело… Не ночевать же на улице. Лягу с сыном, а вы в моей комнате.
Я ничего не ответил. Пусть так. Она ляжет с сыном, а я в другой комнате. Ведь и в другой комнате можно переспать, скоротать ночь. Давно я уже не спал в других комнатах.
Странно: теперь мы шли целеустремленно, торопливо и оттого бесконечно долго. То, что мы шли к ней, не объединяло, а создавало неловкость, поэтому мы молчали. С Волги дул резкий, уже осенний ветер.
Наконец пришли в ту деревню, где я жил, это была еще не сама деревня, а как бы встроенный в нее зачаток городской улицы. Несколько домов аккуратно тянулись один за одним, потом обрывались, и снова шла деревня, эти новенькие пятиэтажки подавляли своими размерами приземистые, утонувшие во тьме строения, кособокие сараи, длинную, как поезд без колес, ферму. Тьма была сырая, иногда ее, казалось, прорывал ветер с реки.
Она жила в одном из городских домов. Мы молча вошли в подъезд, тоже темный, она обогнала меня, все время шла впереди, где-то на следующем этаже я слышал шорох ее куртки.
Потом я догнал ее, и мы вошли вместе.
Темная прихожая, отсвет зеркала, очень маленькая, тесная квартира, но комнаты не проходные, а в одной дверь раскрыта, и детский запах, и какое-то бормотание со сна, и все время повторяющиеся движения, как бы броски по кровати.
— Плохо спит. Во сне ждет, меня ждет, — прошептала она и, раздеваясь, вошла в комнату. Поправила что-то, наклонившись над ребенком, что-то привычно зашептала, успокаивая, заговаривая.
Потом она прикрыла дверь. Что-то охраняющее было в этом движении. От кого? Может, и от меня.
Крошечная чистая кухонька, с большими, будто бы самодельными часами, механизм был, естественно, фабричный, а рамка украшена петушками, очень затейливо и искусно вырезанными.
— Чья работа?
Ответила после паузы и неохотно:
— Мужа.
Она искоса поглядела на меня, видимо, ожидая каких-то расспросов, но я ничего не стал спрашивать.
— Чаю хотите?
— Можно.
Она тихо, на малую громкость включила старенькую «Спидолу». Играли танго, что-то очень знакомое. Кажется, я помнил его с послевоенных времен.
— Старинная музыка, — сказала она. — Сейчас опять модно.
«Старинная музыка» с одновременно успокаивающим и надрывным ритмом выплескивала что-то совершенно недавнее и вместе с тем смутное, полузабытое.
Да, точно, это была музыка моих родителей, их довоенной молодости. И моя тоже. Но в моем детстве ее не играли на школьных вечерах, а только дома на вечеринках. Это даже не наши были вечеринки, а чужие, более взрослых ребят. Почему-то вспомнился дачный поселок, многонаселенная чужая дача, в которой мы снимали комнату, еще моя бабушка была жива. Зачем-то он мне вспомнился сейчас, этот поселок? Может, оттого, что не о чем было говорить? А музыка, еще так недавно бывшая моей, живой, реальной, музыка моего детства, действительно звучала как старинная, будто из прошлого века. И в том же прошлом веке я ходил по участку и видел, как на освещенной террасе плавно, точно рыбы в аквариуме, плыли, двигались мои соседи, их гости. Они были в белых рубашках и в галстуках, девочки в платьях с накладными плечами. Плыли, улыбались, им было, видно, жарко, а я смотрел неотрывно на их веселье и все решал, можно ли и мне зайти, ведь дверь была полуоткрыта.
Бабушка заметила и сказала: «Туда не надо. Они взрослые. Видишь, у них компания. И ты им вовсе ни к чему».
Я не понимал, почему нельзя пойти послушать эту музыку, запрет наполнял горечью, я механически сосчитал, что их было поровну, шестеро ребят и шестеро девчонок, но я был так мал, что мне еще это ни о чем не говорило. И не понял, зачем надо было гасить свет и закрывать дверь. Теперь во тьме лишь слабо просвечивало движение, белые рубашки, плотно прижатые, слитые с белыми платьями, двухспинными рыбами медленно повторяли еле слышный такт. Аквариум погас, спектакль, в котором я не участвовал, шел ко второму акту, а я, маленький зевака, ничего не понимал, но почему-то чувствовал себя обойденным.
Сколько еще раз потом я буду чувствовать себя посторонним и обойденным на чужих праздниках, на играх. А тогда — впервые.
И потому все это помнилось, и музыка, и как потом вышел за пределы участка, и как она затихла, и что шел по улочке, сосновой, уютной, спящей. Ветерок взрослой, потаенной жизни, в которую еще закрыта дорога, хотя двери приотворены.
Самое простое и поражающее, что это было в ч е р а.
Я даже помнил, как не мог заснуть в странном томлении, в неосознанной и поэтому лишенной приятности грусти.
Вчера, недавно.
Совсем недальняя дистанция разделяла от той освещенной и погасшей дачки. Только эта дистанция вмещала всю жизнь моей знакомой хозяйки, уж не знаю, как ее назвать.
— Сколько вам лет? — спросил я.
Она посмотрела на меня с удивлением. И действительно, я спросил слишком впрямую, будто какой-то доктор на приеме.
Помолчав, она ответила с неохотой:
— Двадцать пять. — И добавила: — Много.
Она хлопотала, доставала из кухонного шкафчика какую-то еду, закипал чай, казалось, я давно уже с нею знаком и был здесь не раз, и ничего не хотелось говорить, может, еще и оттого, что было уже очень поздно, глубина ночи, ее мнимый покой, из которого то и дело вырывался сонный детский вскрик.
Я сказал ей:
— Не надо хлопотать, беспокоиться, посидите.
Но она не слушала меня, и вот уже на столе появилась початая бутылка, миска с квашеной капустой, соленые огурцы.
Пить не хотелось. А впрочем, какое дело, посидим, выпьем, согреемся, и я уйду. Ведь на самом деле я случайно забрел сюда.
И еще мне было жалко ее усилий, ее хлопот, я не столько видел, сколько чувствовал, что дом этот скуден, и ни к чему все это. Но ей так хотелось, что называется, принять гостя, быть не хуже других.
Она не слушала, что я говорил, была поглощена всеми этими приготовлениями, но лицо было отрешенное, далекое, — делала одно, а думала о другом, и я неожиданно залюбовался этим отчужденным, бесконечно далеким от меня лицом. Может, свет так ложился, может, настроение было такое, но она вновь, как и там, в кафе, показалась мне красивой.
Мне даже захотелось увидеть в ней Нору, что-то от Норы, найти какую-то связь, чтобы отозвалось внутри давней болью. Но хотел я того или не хотел, а связи не было. И найти ее не удавалось. Во всем этом скорее слышался отзвук таких же необязательных приходов и уходов, стертость житейской схемы, пустота.
Всю жизнь я чего-то искал, и это было ошибкой, когда не ищешь, приходит само. Так и в работе, так и в жизни…
Еще и оттого я не мог ничего найти и не умел быть счастливым, что никогда не звал, что мне действительно надо, а если и знал, что бывало редко, то подчинялся полностью этому ощущению, но чаще всего я подчинялся инерции. Вот и сейчас я по инерции пришел, по инерции сидел, и вот ведь какая странность, мне определенно нравилась она, но еще больше росло желание освободиться, уйти… А от чего освобождаться-то?
Что-то рассказывала, и голос ее был так слышен, почти звенел в этой тишине, я прямо-таки ощущал живое движение звука, его колебание, причем звук жил отдельно от нее; он был сильный, ясный, напористый, а лицо бледное, и глаза смотрели очень грустно и мимо меня, точно не участвовали в рождении этого бойкого, так отчетливо слышного в тишине звука. Я только его и слышал.
Содержание было обычное: работа, больница, будни, но что-то общее, ничего по-настоящему не говорящее о ней.
Вдруг на ее звонкий голос наложился другой — механический, громкий, требовательный, как всегда ночью, — тревожный звонок. Я почувствовал, как он ударил ее, и она на секунду замолкла, но не поднялась.
— Может… хозяин?
— Нет, — быстро и резко ответила она.
Звонок то замирал, то вновь набирал силу, звучал нестерпимо, вызывающе. Но ребенок не просыпался.
Я все больше чувствовал глупость, неловкость своего присутствия. Звонок замолк, и начали стучать, громыхать, ломиться; казалось, еще миг, — и дверь с треском вывалится.
Лицо ее обострилось, глаза выражали не тревогу, а злость, но я удивлялся ее выдержке, другая бы побежала к двери, а она все сидела, не двигаясь.
— Может, мне открыть?
— Нет, не надо. Не надо вам в это… Я сама.
Она встала, пошла к двери.
Послышался щелчок задвижки, резкое движение, хриплый голос, одновременно и угрожающий и вместе с тем жалкий, с оттенком мольбы:
— Вера, Вера…
Вот я и узнал ее имя… Оно почему-то не очень подходило к ней.
Слышалась его ругань, но ярость как бы спадала, и, по-видимому, он все торчал там, в дверях, на пограничной линии, почему-то не решаясь войти, ворваться в квартиру. Если это тот, кого я видел в ресторане, здоровый и испитой мужик, то он мог бы смести ее с пути в одно мгновение.
Я встал.
Она меня не увидела, но по движению догадалась, что я встал и иду к ней, и четко, быстро сказала:
— Не надо. Он сейчас уйдет.
И, уже обращаясь к нему, сказала тихо и внятно:
— Уходи… Прошу тебя.
Ее голос убеждал, а не приказывал, в нем были отзвуки каких-то непонятных мне отношений, я только понял, что она не боится его, что она имеет власть над ним.
Я сидел, курил, мною теперь овладело безразличие и тупая усталость.
Еще был слышен его голос, но к словам я не прислушивался, все это было чужим, и не хотелось в это вникать…
Заплакал ребенок. Наступило молчание, хлопнула дверь, и все затихло. Она быстро скользнула, прошелестела, будто кошка, в комнату, где спал ребенок, и оттуда донесся тихий, успокаивающий и успокаивающийся голос.
Только минут через десять — пятнадцать она вернулась в кухню, улыбнулась мне: мол, ничего, ничему не надо придавать значения, — улыбка была несколько вымученная и почему-то виноватая.
«Бедная, в чем же она виновата передо мной?» Мне было ее жаль и хотелось успокоить, утешить. Но еще больше хотелось уйти.
Она поняла это сразу. Я удивился ее чутью:
— Пожалуйста, не уходите сейчас… Ну хотя бы немного позже. Скоро уж светло будет.
Мне показалось, что она разговаривает со мной так же, как и со своим ребенком — материнские, просящие и успокаивающие интонации.
— Вы еще немного посидите, мне так скверно.
— Мне тоже, — сказал я.
То чувство уязвленности, оскорбленности вмешательством кого-то третьего, может быть, даже имеющего все права, подымалось во мне, наполняло раздражением. Еще секунда, и я мог бы ляпнуть какую-нибудь грубость, чтобы окончательно все разрушить… Да и что, собственно, разрушать? Только что я жалел ее, понимал, готов был принять любой удар на себя, а стоило ей попросить меня, выказать виноватость, — и все испарилось, словно у меня были с ней какие-то давние счеты.
Она и это почувствовала и сказала тихо, не глядя не меня:
— Ну конечно, если вам противно, то извините, что так получилось. Я могу, даже проводить вас, чтобы вам не плутать.
«Да, пора уходить, надо уходить. Завтра будет день разбит. Чушь какая-то».
Я встал, пошел к выходу, уже у двери посмотрел на нее, остановился. Она сидела, докуривая мою сигарету, очень спокойная, не собирающаяся меня удерживать, и на расстоянии ощутил я ее оцепенелость и понял, что не уйду. Я вернулся в кухню, встал над ней, провел рукой по ее волосам. Этот жест не успокоил и не отвлек ее. Так же сидела с опущенными плечами, с бескровным, постаревшим лицом.
— Ну что вы, что вы, — сказал я.
Она молчала. Наконец, после паузы, подняв глаза и с удивлением посмотрев на меня, сказала:
— Я несколько раз забегала к старику, но вы меня не видели. Я смотрела, как вы работаете. Я видела часто, как люди пьянствуют, дерутся, а тут человек рисует… Творит.
— Какое сильное слово, — перебил я ее, — творит… Это Леонардо творил, ну еще некоторые… Я же работаю, да и то мало и плохо.
— Да нет, — это я так, у нас же больница при совхозе, так директор всех художников, скульпторов называет творцами. Он любит приглашать этих творцов. Один панно рисует о достижениях совхоза, другой скульптуру какую-нибудь. К нам часто приезжают эти творцы. Но вы, кажется, другой.
— Да нет, наверное, такой же. Только денег меньше зарабатываю. И больше о себе мню.
— Я мало в этом разбираюсь. Но я знаю, что это не так.
— Почему?
— Знаю, и все. Какая разница, почему?
Она встала, прошлась по маленькой кухоньке, приоткрыла балкон, уже светало, холодная свежая волна мгновенно, резко заполнила эту маленькую прокуренную комнатку. Река, видно, была недалеко от дома, и на ней уже начиналось, а вернее, продолжалось движение, загробными натужными голосами сигналили буксиры, баржи.
Она стояла спиной ко мне. И показалась немного похожей на Нору: Нора стоит и смотрит в окно, как когда-то в моей комнате. Никогда не поймешь, что с ней происходит и что она может выкинуть в любой момент.
Я шагнул к ней, обнял за плечи, уткнулся в холодные, густые волосы, так молча мы стояли несколько секунд.
— Брось, у тебя все будет хорошо, — сказал я.
Она молчала. Я гладил ее плечи, мне самому было худо, горько, словно я что-то забирал от нее, перекладывал на себя. Мне передавалась ее беспричинная растерянность, впрочем, почему беспричинная? Причин, видно, достаточно.
Я вдруг понял, что уйду и все это останется позади, а я боялся разлук, почти всех, даже с людьми случайными в моей жизни.
Поезд так безостановочно грохотал по туннелям, несся вперед к неведомой конечной станции, и всегда было жаль, что пассажиры, соседи, попутчики уходят, даже те, что ничего не значили для меня, с кем я обмолвился взглядом, двумя-тремя словами, именно у й д я они начинали значить.
И я догадывался, что когда уйду от нее, то первым чувством будет облегчение, но потом все покажется другим, гораздо более важным для тебя; это и на самом деле так, а может, просто странный закон отдаления, все отдаляющееся вырастает, видится более значимым и значительным, чем было на самом деле.
— Вы о чем? — спросила она.
— А что?
— Я чувствую, вы о чем-то… Вам тоже не очень.
— А кому очень? — сказал я. — Вам такие попадались?
— Попадались… вы, наверное, черт-те что обо мне подумали?
— Да нет.
Мне не хотелось, чтобы она рассказывала, а она не поняла и почему-то стала рассказывать очень подробно о том, как этот человек преследует ее и унижается перед ней, что раньше он был начальником цеха на рыбозаводе, а потом попал в историю: кто-то смухлевал, а его подставили, на суде выяснилось, что он ни при чем, его оправдали, но он сломался.
Она рассказывала обстоятельно, безлико, видно, действительно не любила его, но рассказ ее был неприятен мне. Я и так понимал, догадывался, а зачем подробности? Я сказал, оборвав ее:
— Так надо спасать его. Вы должны спасать, а вы прогоняете.
— Я и спасала раньше, но теперь он у меня вот где. — И она провела рукой по горлу.
У меня отвратительная особенность: все видеть в натуральную величину, воображение немедленно вызывает реальный образ. Представилось, к а к она спасала…
— Он у тебя вон где, — повторил я ее жест, — а где муж?
— А мужа нет. На новостройках Сибири мой муж. Передовой парень. Поехал, освоился. И освоился крепко. А что, зачем вы спрашиваете? Я же ничего не спрашиваю у вас.
— Пожалуйста.
Она замолчала и посмотрела на меня. Глаза ее были близко, я помнил их серый цвет, но сейчас свет падал так, что они странно, пугающе белели.
— Я не знаю, но вижу, — сказала она.
— Что вы видите?
— Вашу жизнь… Зачем бы вам одному забираться в эту дыру? К вам ведь жена ни разу не приехала.
— Ну и не надо.
Я обнял ее, прижал к себе. Когда я стал целовать ее, она сначала не отвечала, только позволяла, не отталкивала, не отворачивалась. Потом она заплакала, давя что-то в себе, стесняясь меня, потом освобожденнее, бурнее. Я знал: эти слезы не имеют ко мне отношения, не связаны они и с тем, о ком она так подробно и вяло говорила, есть, видно, еще что-то, какое-то более важное горе ее жизни.
— Не надо, ну зачем, не надо, — так я говорил ей слова пустые, беспомощные, в них была лишь видимость успокоения, потому они не утоляли ее, не помогали ей. Ладонью вытирал со щек ее слезы, гладил волосы, остро ощущая ее слабость, желание быть хоть на миг защищенной.
— Не надо, пожалуйста, я понимаю, как это. У меня у самого…
— Что, что? — спрашивала она и не ждала ответа, но успокаивалась.
И вскоре она забыла, что несчастна, это уже неважно было ни ей, ни мне… Какой-то парок шел от ее слез, детский, нежный, соленый парок. Потемневшие глаза блестели, забываясь, она все крепче обнимала меня.
— Ты еще очень молодая, — шептал я ей, — у тебя будет все, все будет.
Она не отвечала, она уже не слышала меня. Нежность, слабость, хмель, прорыв из одиночества к чему-то другому, и это другое захлестывает, освобождая от всяких мыслей, от жалости, от бог знает чего. Другое, другое… Спасающее, утоляющее, но ненадолго, чтобы потом вернуть с удесятеренной силой к прежнему, к тому, что было.
Нет, нет, не хочу возвращаться, мне ведь так хорошо с ней…
— Что ты там бормочешь, — шептала она, — все ерунда, не жалей меня, не думай…
Я целовал ее, уже уходя, уносясь от всего, что было здесь, не видя, но чувствуя, как мы почти со стоном падаем куда-то. Какая-то маленькая комната и проблеск солнца в окне, и дрожат вдруг стены и окна. Это проходят по реке тяжелые сухогрузы.
— Какой, черт возьми, чуткий дом, — пробормотал я потом, засыпая. Но она не поняла и сказала:
— Какой у тебя чуткий сон. Спи. Я подниму сына и уведу в садик так, чтобы ты не слышал…
И действительно, я проснулся, когда никого не было в доме. Пустая, почти без мебели, прибранная комнатка. Пузатый старый проигрыватель. Полочка с детскими книгами. Под стеклом на полке — портрет артиста. Этот артист мне не нравился, казался пошлым, и было удивительно, что она выбрала его. Ведь у нее, кажется, есть природный вкус, как же ей может нравиться этот телевизионный шлягерный артист и она не понимает, что таким огнем, как она, он никогда не горел в своей жизни.
Я лежал, чувствуя себя разбитым, уныло думая о том, что скоро уезжать. Как легко разлетелись золотые денечки. И скоро опять московская круговерть, бессмысленная беготня… Это была утренняя, уже давно мучившая меня тяжесть. Страх перед днем, мучительная неуверенность. Почему-то я вспомнил маленькую картину Брейгеля Младшего в небольшом зальчике Эрмитажа. Раньше мне казалось, что в ней сосредоточен весь ужас жизни.
Удивительно все-таки, какая у Борьки самостоятельность выбора и вкуса. Я, как положено, стоял у Питера Брейгеля Младшего, и вдруг он окликнул меня. Я подошел и увидел маленькую картину. Никогда раньше я даже не слышал о ней. «Пейзаж с легендой о святом Христофоре»… Помню ее не очень четко, какие-то детали, грозовой мрачный колорит, существа, похожие на саламандр, но самое главное — человек с крыльями бабочки. Он летит куда-то, но на лице выражение вечного рабства… Вот что поразило. Выражение вечного рабства. Кто его так забил, этого человека? И, кажется, рядом был какой-то скорбный монах с фонарем, просветленный монах. Что он символизировал, что означал? Небесный свет в мире вечного рабства? А может, и ничего не обозначал, а просто так было угодно художнику. Написать монаха с фонарем.
Внутреннее рабство, вечное рабство… Только ли перед обстоятельствами, временем, — нет, и перед кем-то внутри себя. Желание приспособить себя, приспособить и сохранить. Наверное, и сохраняешь, когда не приспосабливаешь.
Человек с крыльями бабочки…
Несколько раз в жизни я пытался вырваться из этого внутреннего рабства. И даже чувствовал свет освобождения, но всегда возвращался обратно. А как другие? Может быть, даже и не пытаются. Оттого они счастливее.
Это правильно, что Борька свободнее.
Я стал думать о Борьке, о том, что я должен нарисовать. И вдруг очень захотел его увидеть. Так бывает: забываешь о человеке на время и вдруг понимаешь, как он тебе нужен.
Видно, я снова задремал, потому что не заметил, как она пришла. Только в передней шорох платья, шаги, открывается дверь, комната неожиданно для меня мгновенно наполнилась солнцем, светом, будто был летний день, и я вижу, как она приближается ко мне в красном платье с погончиками, придающем ей студенческий вид. Я прикрыл глаза, по-детски затаился, слышал ее осторожные движения, сквозь прищуренные глаза я видел рядом ее ноги, как бы в золотистом свечении — это нейлоновая паутинка чулок антрацитно сверкала на солнце, бьющем из окна.
Захотелось, ничего не говоря, прижаться своим небритым и, как мне самому казалось, постаревшим за эту бессонную ночь лицом к ее коленям. Но я по-прежнему лежал, как ребенок, притворившийся мертвым в игре, не выдавая жизни и радости от того, что она здесь.
Она наклонилась надо мной:
— Эй, вы живы?
— Полуживой, — не открывая глаз, сказал я.
— А я загадала…
— Что такое?
— Я загадала, вы здесь или сбежали. — Она помолчала и снова улыбнулась.
Я усадил ее рядом с собой, прижал ее голову, чувствуя тепло и свежесть лица, такого еще молодого, не помнившего этой ночи, ничем не омраченного, все на мгновение или навсегда забывшего.
День, начавшийся со смутного, тяжелого пробуждения, вдруг переменился, заблестел, и, может быть, впервые за долгие-долгие дни я почувствовал легкость и освобождение.
Мы шли по-над Волгой, будто бы по направлению к моему дому, но все время сворачивали и то ли проходили дом, то ли не доходили до него.
Мы говорили, говорили, вернее, мне казалось, что говорили, говорил я один, а она слушала, странно, что ей был интересен мой бред, мои разорванные, разбросанные мысли о чем-то далеком для нее.
Говорила и она. Я слушал как бы рассеянно, больше смотрел на нее, чем слушал, но все западало в память, все несчастья ее немудреной жизни.
Я обнял ее за плечи, мне показалось, что она напряглась и сделала движение плечом, чтобы освободиться от моей руки: поселок небольшой, все знакомы. Я тут же убрал руку. И она сбоку, с холодком посмотрела на меня. Ей, видно, не понравилось, что я так быстро подчинился.
— Боишься? — дразня ее, сказал я.
— Нет, я не боюсь… Все равно, что подумают. Сейчас — все равно.
Она взяла мою руку, и мы пошли по набережной. Меня не оставляло ощущение, давно уже не испытанное: что не ты покорен жизнью, а она тобою покорена, подчинена, и ты можешь делать с ней что угодно.
Так и шатались мы взад и вперед по утренней набережной, замечая и не замечая людей, а также той одновременно стремительной и вместе с тем неторопкой жизни со своим установившимся укладом, которой жила река, все время прорезающая тишину то тонкими свистками барж, то мощным гудом как бы врезанных в середину реки и разрывающих дно машин.
Лениво, необязательно думалось: надо домой, старик беспокоится, и ведь работа, работа… Но о работе думалось без муки, как обычно, без чувства самообкраденности, — с какой-то неожиданной надеждой и успокоением. Может, как раз сейчас и пойдет, и сдвинется… Ведь должно же когда-то…
Но, как всегда, мне было мало того, что есть. Мало этого поселка, реки, захотелось очутиться тут же с ней в другом месте. Не в Москве, не на Замоскворечье, не на улицах детства, а почему-то в Ленинграде, в чужом с в о е м городе. Захотелось повести ее по залам Эрмитажа, я даже уловил восковой запах блестящих и все отражающих, как зеркала, полов. Я мысленно останавливался с ней у с в о и х чужих картин, таких знакомых, таких выстраданных, будто я действительно сам их написал.
— Была в Ленинграде? — спросил я.
— Была, — сказала она.
— Видишь, ты всюду уже была без меня.
Она засмеялась:
— Два дня только. Экскурсия. Всюду таскали, но я ничего не разглядела. Всюду опаздывали… Это было еще в училище.
— Поедем, — сказал я.
— Поедем, — тихо повторила она. И сбоку выжидательно посмотрела на меня. И почудилась мне какая-то жалость, да собственно, очень простая, понятная: сейчас мы поедем и полетим с тобой куда только ходят поезда и летают самолеты, а завтра, когда ты окажешься в Москве…
Все это было в ее взгляде, она ничем не обмолвилась, ничего не сказала, но зачем-то я стал спорить именно с этим, невысказанным. И оттого, что я лишь улавливал это, слова мои были беспомощны и корявы. Я бормотал что-то вроде: «Нет, нет, не надо так думать. Все действительно не должно так кончиться».
И тут, глянув, она сказала, жестковато как-то усмехнувшись:
— А что кончится? Разве что-то началось, что может у нас кончиться?
Она испытывала меня, может быть, неосознанно, все это было так понятно, но чем-то меня задели ее слова, даже не слова, а тон, и все постепенно стало блекнуть, все становилось таким же, как вчера, до встречи. Да и с чего было всему меняться? Что за чушь? Застаревшая детская болезнь… Ожидание.
— Знаешь, у нас девки любят иногда прикидываться.
— При чем тут это?
— Да так и я, боюсь. Сначала обожжет, потеряешь голову, потом одумаешься.
— Видишь, как у тебя все быстро, — сказал я. — Какие перепады…
Все сбивалось, праздничность исчезла, что-то охладевало и пустело внутри.
Она почувствовала это.
— …Как легко ты отстраняешься… Я просто боюсь, просто боюсь. Знаешь, легче никому не верить, чем…
— Ну и не верь. Я же не прошу тебя верить.
Она опустила голову. Наверное, так и есть. Я уеду через несколько дней, замотает жизнь, и останется только та ночь и это утро, уже навсегда вчерашнее, без продолжения.
— Да нет. Все не так, — хрипловато, неожиданно низким голосом сказала она. — Я буду ждать. Ничего мне не надо… Просто, чтобы ты помнил. А если когда-нибудь выберешься…
— Мы ведь еще не прощаемся. Что ты…
Я взял ее руку, прижал к своему лбу, снимая тяжесть, пытаясь вернуться к той радости, освобождению, что еще так недавно было испытано…
Пока мы шли к моему дому, я думал об оставшихся днях. Хорошо, что есть эти оставшиеся дни, пусть считанные, но все-таки мои, и что-то хорошее еще ждет меня и ее, ведь мы же еще не расстаемся с ней.
Я еще подумал о том, как совместить работу и ее, ведь я обязан сделать очень многое за эти дни. Если не сделаю сейчас, то, может быть, не сделаю никогда. Да, днем я буду работать с рассвета, вкалывать буду по-настоящему, как никогда, зато вечера будут наши…
Она проводила меня до самого дома и хотела было уйти, как вдруг мы оба увидели, что старик открывает дверь и, тяжело, с мукой разгибая позвоночник и нелепо вихляясь всем телом, перед тем, как сделать невыносимо тяжелый очередной шаг, приближается к нам.
Как жутко он движется, и какое странное у него лицо.
Может быть, он сердится, обозлен, что я ушел, что я с ней? Ведь она его родственница.
Меньше всего я ожидал чего-то другого.
— Во-от ту-ут ва-ам ту-ут те-ле-гре… — едва выговаривая, сближая слова как слоги, коверкая и не умея произнести мучительно долгое слово, он доставал скрюченной рукой розоватую бумажку.
Еще не увидев как следует, я понял: телеграмма. Зачем телеграмма? Ведь никто не знает, где я. Что же такое, как же?..
— Да что ты так побледнел? — сказала она. — Обыкновенная телеграмма… Ты же еще не читал, а весь белый сделался. Что-нибудь по работе.
Я взял из его скрюченной руки телеграмму, раскрытую, разорванную, ставшую уже не только моим достоянием, и пробежал глазами ее короткий текст. Там от руки сельской телеграфисткой было написано:
«Выезжай немедленно Борькой несчастье Саша».
— Что, что такое?
Я не слышал, что она говорила, скорее догадывался.
— Хочешь, я поеду с тобой?
Я не отвечал, еще не зная, как приспособиться к тому, что произошло, как перевести это в движение, в билеты, в отъезд, в поезд, а самое главное, как понять это странное и страшное слово: «несчастье». Какое несчастье? Почему? И что оно означает? Ведь не обязательно же оно означает…
Поезд вез меня к нему. Только я не знал — к нему ли, есть ли он вообще на земле. Как и давно, когда умерла Нора, я ощущал поражающую несовместимость моей беды (да моей ли только? — любой) с обычным укладом жизни. Радость, удача вполне уживаются, сосуществуют с обыденностью, поднимаются, взмывают ввысь, беззаботно парят, как бы не соприкасаясь с ней, несчастье же уродливо и одиноко на фоне обыденности, оно выпадает из естественного течения жизни — оно п р о т и в о е с т е с т в е н н о…
Проносились станции, мелькали, движение успокаивало, все в этом пейзаже было так знакомо. Я не помню, чтоб Борька рисовал пейзажи, но я знал, что этот лес, эти деревья, это небо светились в глазах тех, кого создавала его кисть. И сколько она еще может, сколько сделает, если…
Тягость незнания, неизвестность, неожиданность этой телеграммы — именно теперь, когда налаживалось рабочее состояние, когда так хотелось завершить то, с чем возился вот уже столько времени, именно в этот момент душевного взлета — вызывали почти физическое ощущение боли. Что с ним? Болезнь?
В последнее время он чувствовал себя гораздо лучше, огромная отдача в интернате не только не помешала, но помогала ему, происходил как бы кругооборот: выкладываясь, отдавая себя, занимаясь с ребятами, он получал новые силы, необходимые ему для главной работы.
Что есть, в сущности, главная работа?
Только ли портрет, этюд, скульптура, пейзаж, схваченный на лету, то, что запомнило и сумело выразить наше воображение, наша фантазия, наша способность воспроизвести жизнь?
Не только это.
Может быть, для него Егор, этот трудный человеческий материал, упорно и долго формируемый им, тоже был главной работой.
В памяти возникала прямая, как столб, мрачная фигура Егоркиного отца, вспоминались угроза, исходящая от него, болезненная ревность, жестокое, тупое собственничество по отношению к мальчику, атмосфера затхлости, нелюдимости, невидимая стена, которую этот человек хотел возвести между Егором и интернатом, его постоянное сопротивление тому, что росло и крепло в мальчишке, духу творчества, а значит, и новому самоощущению себя.
Тяжесть догадки, тревога неизвестности хуже иной раз самого тяжкого знания.
Предсказание цыганки, то самое, давнее, в поезде, который вез нас на юг, вдруг мелькнуло, мгновенно омрачив душу, и исчезло, как дерево за окном вагона.
Почему именно ему, не мне, не Сашке? Почему судьба выбирает самых талантливых, рассчитанных природой надолго, кажется — навсегда? Навсегда…
Портреты живут дольше, чем их авторы… Но зачем я об этом? Да, хрупок талант, хрупка земная его оболочка. Зло и жестокость выстреливают именно в него, выбирая среди сотен других. Так бывало уже не раз, к несчастью.
И все-таки я верил в жизненную силу своего друга, несмотря на болезни и беды, которые он мужественно перемогал…
Поезд гремел, то ускоряя, то замедляя ход. Почти механически я воспринимал все, что происходило в поезде. В тамбуре играли на гитаре, двое молодых людей наперебой рассказывали какие-то байки, громко смеялись, напротив сидела девушка, — вся их веселость была для нее, но она не обращала на них внимания, уткнулась в кроссворд; потом прошли контролеры, привычка двигала моей рукой, заставляла искать билет.
Все это словно бы уже было со мною давно, когда-то, будто бы я видел уже эти лица, слышал эти разговоры. Поток жизни чувствовался даже здесь, в замкнутом пространстве вагона, где люди сидели, стояли, ходили, как бы на время передоверив свое движение движению летящего вперед поезда.
Старушка присела рядом — я даже не заметил, как она вошла, — сидела тихо, как бы не замечая никого, о чем-то своем далеком думая, но вдруг спросила участливо: «Ты что такой пасмурный, сынок? — И добавила, не дожидаясь ответа: — Ничего, не кручинься, ты молодой, все обойдется».
Я промолчал, ничего не стал ей объяснять, но слова ее, вроде бы ничего не значившие, дежурные, странным образом успокоили меня.
Да ей и не нужен мой ответ. Нутром почуяла: что-то неладно.
Обойдется… Конечно же, иначе и быть не может. Слишком многое нас объединяет, чтобы так вот просто разрушиться, распасться.
Я подумал о Сашке — конечно же, он там, с ним; я вспомнил нашу первую встречу с Борькой: давний студенческий буфетик, две юношеские работы, два портрета — отца и матери, — и в лице нынешнего Борьки, в голубых глазах, в легком их блеске, проглянули и радость жизни, и жадный интерес к ней, и тревожная тень ожидания.
Ожидание…
Ожидание всегда владело нами. Эта была вечная страсть к переменам, к поиску, обновлению. Время подсказывало нам наш поиск, способ самовыражения. Ремесло, которому со студенческих лет учил наш Мастер, требовало работать на полном пределе.
Несколько раз в жизни я пытался выразить себя с предельной, силой, до конца. А Борька всегда работал на пределе, не давая себе ни пауз, ни передышек…
Я неотступно думал о нем, о нашей молодости, о жизни, о том, что нам еще предстоит.
Пролетали, проносились рощицы, уже поредевшие по-осеннему, вспыхивал желто-красный кленовый лист, спокойно синело чуть придвинувшееся к земле небо — все это успокаивало, подавляло бушевавшую во мне тревогу; сызмальства знакомый, тысячу раз воспроизведенный и всегда сохраняющий черты новизны пейзаж успокаивал и рождал надежду.
1981—1983
Примечания
1
«Окно» — задний брючный карман.
(обратно)
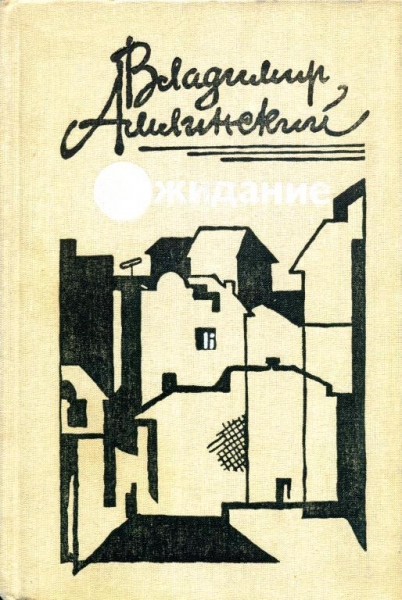

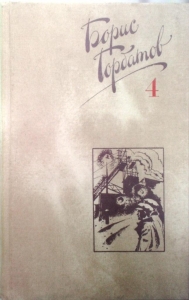
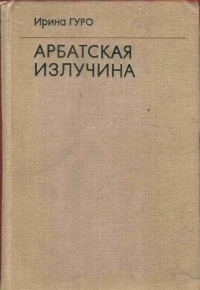
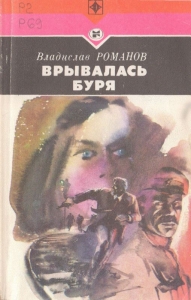

Комментарии к книге «Ожидание», Владимир Ильич Амлинский
Всего 0 комментариев