Александр Черненко Моряна Каспийская повесть
Клименту Ефремовичу Ворошилову
Часть первая
Глава первая
Из морских неоглядных пространств, где в дымах тускло синел Каспий, хлестала сырая, терпкая моряна.
Пахло первыми днями приморских вёсен — солеными ветрами и острою рыбьей свежью.
Влажные каспийские ветры опадали тяжелым рассолом на прибрежный прозрачный лед, — они разъедали его, протачивали, лед набухал, становился ноздреватым.
Моряна врывалась в Волгу через просторные, с пологими берегами банки — по ним выходили ловецкие суда на Каспий. В устье восточного банка, на песках, одиноко торчал серый, ветхонький маяк, его подымали в сплошь затянутое тучами небо зыбкие, обглоданные морем стропила. От ветра стропила вздрагивали и глухо стонали... Ночью, когда ожесточенно била моряна, маяк, туго пошатываясь, неуверенно разрезал вязкую, гудящую темь: узкая полоска света, иссиня-матовая, робко чертила по косматым, студеным гребням Каспия. Волны с тяжелым шумом катили на маяк, над ними юркими чайками взлетала пушистая пена. А лед еще несколько дней тому назад, во время смежного шургана, с перекатным треском оторвался от берега и, грозно шурша, громоздкими островами медленно, незаметно уполз в необъятные просторы моря.
На таком ледяном острове попал в далекий и опасный относ Василий Сазан.
Этот остров, где ошалело метался одинокий ловец, встретила штормовая моряна и, раскачав его на волнах, переломила на несколько льдин; на одной из них Василия Сазана понесло дальше, в открытое море.
А вскоре на Каспий хлынуло горячими потоками весеннее солнце, и льдина, кутаясь в теплые, пухлые туманы, стала быстро таять...
Зимою, когда с утра лютовал жгучий мороз, ловцы на лошадях выезжали на море — в ледяную пустыню — на лов белорыбицы; они брали с собою паруса, кошмы, оханы — громадные сети с ячеею в изрядную ладонь.
Ловцы жили в буграх, которые с грохотом заламывались от подвижки льда: льдина на льдину, льдина на льдину — вот и бугор, а вокруг него образовывались обширные дворины; в буграх, между глыб льда, ловцы устраивали коши — ледяные шалаши. Коши выстилались сначала камышом, сеном, рогожами, потом кошмами и парусами.
По ночам в ледяных шалашах было тепло: огонь разводили прямо в кошах.
А днем в белом, накаленном морозом надморье лучисто рассыпалось холодное солнце. Ловцы наслушивали, проверяли оханы: не попалась ли беленькая...
Дубленые сети были опущены подо льды через майны на глуби заглохшего, обледенелого Каспия. И ловцы, кутаясь в тулупы, по целым дням разъезжали на лошадях по сетевым ставам; они изредка выкидывали на лед небольших платиновых белорыбиц, — крупночешуйчатая, с жирной и вкусной спинкой, рыба тут же намертво застывала.
Когда ловцы производили мену сетей, выдирая оханы из-подо льда, вода сбегала в рукава, обжигала тело.
При выбивке оханов на новых местах надсадно дробили пешнею льды — ломом с деревянной рукояткой прорубали десятки майн; из прорубей со свистом вырывалась столбами вода, окатывая знобящим дождем.
Счалив концы шестов, ловцы просовывали прогон через майну под лед; за прогоном тянулась хребтина, и по ней спускались подо льды сети на многие и многие сотни метров.
Жгучая вода сводила судорогой руки; ловцы яростно хлестали себя помороженными руками по тулупам и снова принимались выбивать оханы.
Густая, словно ртуть, вода не вся скатывалась с одеревенелых рук, остатки ее намерзали тоненькой серебряной чешуей...
Ветер несносно палил ловцов, а трескучий, обжигающий мороз захватывал дыхание.
Ловцы под конец уставали, от них клубами валил сизый жаркий пар. Но ветер все крепчал и бил сильней, леденил затылки, знобил, пронизывал до костей. Ловцы шумно гнали лошадей вскачь и, чтобы не закоченеть, долго бежали позади саней: разгоряченные, они бросались в них, зарывались в сено, кутались в тулупы.
К концу дня, когда на западе лежало в пунцовом чаду солнце, ловцы возвращались к буграм. Широкий, багряный полукруг солнца, погружаясь во льды, скоро исчезал, и на месте его полыхал невиданно яркий костер, но и он быстро пропадал, растворяясь в наступавших сумерках.
Зацветали звезды — ядреные, огнистые; от них до самого льда струились тонкие нити света.
Ловцы, прикатив к ледяным шалашам, бывали похожи на сказочных витязей: бороды, усы и брови их густо обрастали инеем; лошади тоже индевели, шерсть у них становилась белой и пышной, а с губ свисали ледяные иглы.
С вечера ловцы долго калили в коше жарник, отогревая красные, ошпаренные стужей лица и руки.
Черный жарник местами светился огненными, багровыми пятнами, около них ловцы держали сведенные морозом пальцы. Багровые пятна в одних местах затухали, в других вновь проступали; когда пальцы отходили и уже шевелились — медленно и неуверенно, точно плавники у рыбы после необычно долгой стоянки, — ловцы, весело подмигнув друг другу, свертывали цыгарки, долго и молча дымили, а потом, хватив залпом по кружке водки, начинали чаевничать...
Василий Сазан, разомлев от жарника и несчетных кружек чаю, распахнул фуфайку; сидел он на кошме, подобрав под себя ноги: на широком колене кружка чаю, на другом — бугорок из кусочков сахару.
— Кто, может, не знает хромого Лешку-Матроса, а я-то знаю, — говорил Сазан своему товарищу Дмитрию Казаку, который лежал на тулупе немного поодаль жарника. — Он, Митек, такой человек: раз — и в дамках!.. Напрямки всегда идет. А если зацепишь его — сам не возрадуешься. В запрошлом году вместе в районе были, заявки наши ловецкая кредитка разбирала. Ну, мне, конечно, отказали, потому как я прежний долг в сотню целковых не вернул, а Лешке просто говорит Коржак: «Для тебя бумаги на кредиты еще не подшиты...» Слыхал? Это что значит? А то значит, что обеспечения этого самого кредита у него не с чего взять: ну, там, чтоб дом был свой или еще какое движимое-недвижимое... Услышал это Лешка, да в ответ ка-ак стукнет деревянной ногой, да ка-ак гаркнет на председателя Ивана Митрофановича: «Ах ты, гад недвижимый! Под домики только даешь? А под эти руки? А под эту ногу?» — и пошел его чистить, аж чешуя с Коржака полетела...
Василий захлебнулся в смехе, покачал головой:
— Ой, и бедовый же этот Лешка-Матрос!
Лицо его, в довольной тихой улыбке, лоснилось от пота.
Он был кряжистый и тучный ловец, будто перед икрометом сазан; у Василия такие же, как у сазана, глаза — круглые и красные.
Вдруг он поднял палец и зашептал:
— В восемнадцатом году, сказывают, Лешка ходил чуть ли не в помощниках у самого Сталина и Ворошилова. В Царицыне это было, когда белые генералы хотели захватить город...
Ловец еще выше поднял палец, разъеденный водою и солью:
— Каким-то командиром Лешка там был. И награду имеет, да вот почему-то не носит...
Дмитрий продолжал молча лежать на тулупе.
Василий, откинув край кошмы, глянул в вырубленное в ледяных глыбах углубление, где стояла лошадь: там, в полумраке, округло выделялся блестящий ее круп. Переступая ногами, лошадь звучно хрумкала сено.
Ловец неторопко обмял в ладонях опухшие пальцы.
— И вот как интересно, гляди, получается... Лешка суматошный, будто судак бешеный. А возьми ты Андрея Палыча — степенный, достойный ловец. И возьми Костю Бушлака: ни то ни се, как стерлядка — и в осетра не растет, и в севрюгу не выходит. А Григорий Иваныч Буркин — вроде и тихий и больной, а уж как навалится на какое дело, как попрет, будто сельдь весною. Ну, а Сенька — это малек еще, частиковый... Разная, видишь, порода, а сошлись же вот, — и в море вместе ходят, и дома заодно, будто семья с одного двора. И шельмовства никакого... И я с ними уже второй год ловлю. Да вот сманил ты меня сегодня на этот зимний лов. Ну, да ладно, думаю, что все хорошо обойдется...
Он вытер рукавом запотевшее лицо и хотел было пуститься в россказни, как они с Дмитрием заработают деньги, справят полную ловецкую сбрую и будут ловить сообща с Андреем Палычем и его товарищами, но взглянув в ледяное отверстие на лошадь, промолчал.
Лошадь, перестав жевать сено, тихонько пофыркивала и глухо скребла копытом лед.
— Ты чего это, Рыжий, а? — Василий снял с колена кружку и переложил на кошму кусочки сахару.
Лошадь, подняв голову от сена, беспокойно озиралась на ловца; уши стояли у нее торчмя, опасливо вздрагивая.
— Чего настремился, купецкий выкормок? Ну-ну! Лопай!
Рыжий снова зашаркал подковой о лед.
«Не беду ли какую чует?» — уже с тревогой подумал ловец.
Нередко на Каспий обрушивается норд-вест — ветер с северо-запада; заштормовав,он заваливает коши, тут и могила бывает ловцу, а чаще ветер внезапно отламывает льдину от побережья и с людьми угоняет ее в море, в страшный, порою безвозвратный относ.
Четыре года назад этот относ похоронил в море Васькиного родного брата, а прошлой зимой двое ловцов из соседнего поселка чуть ли не месяц плавали на льдине по Каспию. Харчи вышли, спички кончились, ловцы замерзали, но вскоре проходил мимо пароход и снял их с льдины; ловцы очутились по другую сторону Каспия, под самым фортом Александровским.
Василий посмотрел на Дмитрия — тот лежал по-прежнему, не шевелясь.
— Мить! — окликнул его Василий. — Что-то Рыжий тревожится.
Дмитрий не ответил.
Василий ничего не знал о думах товарища и потому, недовольно махнув рукою, нахлобучил шапку, набросил на плечи тулуп и, откинув над входом парус, вышел из коша.
Его ослепила искристая зеленая ночь.
Ловец зажмурил глаза.
Огромная яркая луна щедро поливала зеркальные отполированные ветрами льды, и они отсвечивали — над Каспием дрожало тончайшее изумрудное сияние.
Была тихая, стеклянная стынь.
В безоблачном назористом небе, расцвеченном звездами, пробегали сполохи; они сверкали зеленым светом, отражаясь во льдах.
Василий откинул воротник тулупа, сдвинул на затылок шапку, облегченно вздохнул:
— Погожая ночь... — и повернул к кошу, чувствуя, как стужа клейко схватывала усы и ресницы.
Шаги ловца звучно отдавались в стылом, морозном воздухе.
Перед ним двигалась его тень, густая и черная, словно политая лаком.
У входа в кош ловец снова посмотрел на отливавшую металлическим блеском, словно ярко начищенную, луну, — свет ее, озелененный отблеском льда, рассыпался над Каспием лучистым сиянием.
Кругом блестела ослепительно зеленая ночь.
Ловец двинулся к лошади. Она опять зашаркала подковой по льду.
«Овса хочет, — подумал Василий, — вот и шумит... Ночь-то погожая, никакой беды не приметно. Овса подбросить надо».
Рыжий не успокаивался, он всхрапывал и бил копытом о лед.
— Довольно баловать! — и ловец подсыпал лошади овса, но она отвернулась и скосила глаза; затем, облизнув руку Василия, снова забила копытом о лед. — Н-но1 — уже сердясь, крикнул на нее ловец и широко замахнулся. — Я тебе!..
Лошадь вздернула голову и тревожно заржала.
Василий вошел в кош и долго, тщательно закладывал у входа парус, чтобы не так быстро выдувало тепло.
Остановившись у жарника, ловец подбросил в него несколько чурок и, сняв тулуп, опустился на кошму. Из жарника высыпали искры, потом вырвались синие струйки пламени, огонь все разгорался, и скоро по темным сводам коша запорхали багровые отсветы.
Ловец уселся попрежнему, подобрав под себя ноги; налив в кружку чай, он поставил ее на широкое колено, на другое наложил бугорком кусочки сахару. Как и многие ловцы, Василий любил чаевничать, особенно любил он при этом разговаривать.
Рядом снова забил копытом Рыжий о лед и сдержанно проржал.
— Вот сатана! — выругался Василий и тут же вновь подумал о том, что лошади часто чуют опасности и несчастья.
Он отставил поднятую было кружку, но вспомнив зеленую тишь и расцвеченное звездами небо, махнул рукой и шумно выпил чай.
«Верно, поблизости кобыла прошла, — усмехнулся Василий. — Вот и беснуется Рыжий».
Не обращая больше внимания на лошадь, он начал медленно и внятно говорить, словно взвешивая каждое слово, тщательно вникая в его смысл:
— Значит, та-ак, Митя: у нас теперь с тобою две дюжинки белорыбок. Завтра еще раз наслушаем оханы, а потом выдерем их, и айда ко дворам! Передохнем денек-другой, заберем харч — и опять за беленькой... Море-то, как сказывают старые люди, по рыбе не тужит, это ловец о ней в беспокойстве. Во-от передохнем малость...
Дмитрий грузно перевалился на тулупе и уже готов был передразнить дружка:
«Передохне-ом!.. Тебе все только отдыхать да за Настину юбку держаться...»
Но почему за это надо передразнивать? Разве и сам он только что не цеплялся мыслями за берег? Разве не думал о теплой береговой жизни сейчас, когда сон тебя ее берет, а только туманит голову надсадная дрема? Ну, а дрема не потому ли, что мысли раскинулись и туда и сюда?.. Василий — за Настину юбку, а сам-то он о какой теплой домашности скучает, когда вот по сводам коша полыхают огневые отсветы жарника и будто выстилают кумачовыми полотнищами ледяное логово? О какой теплой домашности вздыхает он, когда дымчатым псом шмыгает по углам коша ветер?.. Там, на берегу, и ветер домовитее, какой-то свойский. В эту пору на берегу ни души. Покуривают, охают, ругаются ловцы и подсчитывают деньки до выхода на весенний лов. По числам-то легко отмерять: в календаре время держится, как море в берегах. А ни времени, ни морю — края не видно... По числам приходят, уходят дни — набираются годы. Только тех годов, что впереди, их не видно, а те, что позади, как дальний берег... Там, позади, веют огневые полотнища, а под ними светятся лица, музыка и шумят напутственные речи. Комиссар машет рукой: тише! Он, демобилизованный Дмитрий Казак, будет говорить. О чем же он будет говорить?.. Об окончании военной учебы, о проводах домой или просто скажет ловецкое спасибо шефам — рабочим завода? Но опять ударила, как штормовой ветер, музыка. У Дмитрия примолкло сердце... О чем же он будет говорить? Может, о том, что раньше, до Красной Армии, он много бездельничал, много гулял с парнями, хороводился с девчатами. А теперь он — взрослый, ему двадцать три года! И есть у него в кармане маленькая, но важная книжечка, которую дала ему армейская комсомолия — драгоценный билет... Или он повторит свое обещание не порывать связи с полком, обещание писать, как будут идти дела с организацией комсомольской ячейки в их глухом, всего только в полсотню дворов рыбацком поселке, что приник к морю на самом выкате Волги...
Вот если бы тогда знал он, то перво-наперво рассказал бы о том, что дома его подстерегает невзгода — отец занемог, и ему, Дмитрию, надо в два счета собраться на лов; должен же кто-нибудь мать, отца и сестренку кормить!..
Эх, теперь рассказать бы ребятам по роте, как после смерти отца Дмитрий сам взялся по-настоящему за устройство своей жизни. Сам хозяин!.. И рассказал бы еще, как отец корил его.
Батька помирал, но стоял на своем... А какой он был, нетрудно вспомнить: высокого роста, прочный, словно коренная мачта морской посудины; всегда нахмуренный и своенравный. Он лежал на дощатой кровати, а помирать места не хватило: под ноги были приставлены табуретки.
— Умру — тогда чего хошь делай. А сейчас не тревожь меня со своим комсомолом. Отцы и деды наши прожили без комсомола, и я век прожил... Не тревожь, Митрий, отца... Прошу тихой смерти... Умру — тогда чего хошь делай!
Пожаловаться о том армейским ребятам — покачали бы они головой и сказали бы о батьке: «Отсталый элемент!»
Четыре месяца отбивался батька от смерти; по нескольку дней лежал без памяти, а когда приходил в себя, снова натужно гудел:
— Вот и конец приходит...
Умирал он хозяйственно, словно собирался в дальний путь на лов:
— Терентьевна! Чайку!
Мать варила густой, на молоке, кирпичный чай. Он залпом выпивал полдесятка стаканов горячей жирной жижи и, шумно отдуваясь, говорил:
— Хорошо!.. О-ох!..
Приподнимаясь на локте, властно кричал жене:
— Терентьевна! Подложи под спину подушку!
Мать обкладывала его подушками, и он, недвижный и худой, похожий на гигантский скелет, продолжал настойчиво поучать:
— Понимаешь, Митрий?.. Трудиться человек должен в поте лица своего. А комсомол твой много разговоров разводит, собранья там разные, заседанья всякие.
Пожалуй, расскажи об этом на ротной ячейке — эх, и зашумят!..
А батька гнул свое:
— У стариков, Митрий, ума набирайся. Я У своего отца тоже уму-разуму учился... Вот я отойду, а ты примешь мое хозяйство — дом, сбрую... А мне от твоего деда пришлась одна рубаха латаная. А дед-то твой из беглых николаевских солдат был. При первом еще Николае царёву службу по двадцать пять годов служили — пойдут безусыми, а вернутся бородатыми стариками. Вот как!.. Ты вот в армии, в Красной-то, два года отгулял, книжки там листал, — чего не служить! А деду каково было! И не стерпел твой дед николаевской муки и убег сюда, на Каспий. Тогда народу тут было — кричи не докричишься...
Эх, батяша, хорошо рассуждать поживши, на скончинах-то!
Ну, что там — дед! Известно, капля за каплю — и дождь, а дождь реки поит, реками — море стоит. Известно! «А на чем мир стоит?» — спросил бы его комиссар наш. На труде весь мир стоит, а труд что дождь: по капле от каждого человека капает, а после собирается в море, в море труда, и он, труд, двигает всем миром. Вон их, рук-то, сколько провожало меня, и плеск от ладошек ходил волной, будто море шумит...
Дмитрий нетерпеливо завозился на тулупе.
«И чего это батя спать не дает?.. А все берег! Берег человека везде найдет. И что значит земля! Батька туда уходит, а за нее держится...»
Стыдно было бы рассказать комиссару, как терпеливо выслушивал Дмитрий отцовские заповеди и ни слова не возражал.
Зато поведал бы, как однажды вечером не стерпелось — жарко наговорил батяше, что не так он жизнь понимает, что комсомол хорошего хочет и следом за Коммунистической партией на лучшее путь держит. Для чего, спрашивается, и революцию делали? Для лучшей жизни, батяша! Вот! Но только мы хотим лучшей жизни добиваться не так, как вы — вразброд, каждый сам за себя. Нет! Мы хотим добиваться этого артелью, то есть это называется коллективно. И, конечно, без рыбников твоих, без дойкиных и краснощековых... Ты вот, батяша, заговорил о купцах-рыбниках этих — и смолк. А почему? Да потому, что грабили они тебя, обирали. Ведь за то, что ловил ты в водах Беззубикова и его сбруей, он принимал от тебя селедку, скажем, по пяти целковых за тыщу, а в городе ее сдать можно было по десяти целковых, а иной раз и дороже. Ты мог бы построить десяток таких домов, как наш, а то и больше!.. Чего ты хорошего в своей жизни видал? Вспомни: зимой чуть ли не босой ходил, по неделям щей мясных не хлебал... Разве жизнь, батяша, это? А еще цепляешься за старое!.. Нет, не скрою от тебя и в глаза скажу: комсомол в Островке непременно будет, и артель ловецкая будет...
И еще рассказал бы комиссару Дмитрий про то, как батяша жестоко оборвал его речь. А Дмитрий, не оглядываясь, ушел прочь, хотя батяша сердито закричал и громко ударил рукой о кровать: «Поди сюда!»
Неделю не приходил он домой, жил у товарищей, а потом явилась мать и сказала, что отец кончается и надо проститься. Ну, конечно, жалость проняла, пришел домой.
— Прости, батяша...
— Бог простит, сынок... И ты меня прости...
Тут Дмитрий такое сказал, что деваться некуда:
— Прощаю! — вместо обычного «бог простит».
Матушка, охнув, упала на скамью.
Отец открыл пустые, поблекшие глаза и скорбна взглянул на Дмитрия:
— Больно, сынок, мне... Ну, да ладно.
— Ладно, батяша! Все будет ладно!..
Отец поймал Дмитрия за руку и, словно клещами, стиснул ее, хоть кричи. Так и умер он, не сказав ни слова больше...
А дальше что бы еще можно было рассказать на полковых проводах?.. Ну, поделили они с сестрой наследство: сестре — дом, но с уговором, что в нем по смерть свою будет жить и мать, а Дмитрию всю сбрую и новую бударку, прочную ловецкую лодку.
И еще это море, ловецкое поле, в наследство батяша оставил ему — ищи, черпай что в нем есть; да найдется ли там фартовая доля?..
Наступала весенняя путина; круглые сутки готовился Дмитрий к лову, и некогда было подумать о комсомоле и артели.
До этого тоже забота была: то хоронил отца, то сестру выдавал замуж...
А путина безудержно наступала, вгоняя в обширную волжскую дельту неисчислимые косяки каспийской рыбы.
Дмитрий исправно вышел на лов. И в самом начале путины этого же двадцать восьмого года штормяк разбил его бударку и уволок тридцать концов новехоньких сетей. С тех пор Дмитрий и не может крепко стать на ноги. Все перепробовал он, чтобы скопить деньги на новую лодку и сбрую. Но, как ни вертелся, как ни бился, ничего не вышло... Несколько раз ездил в город, но по вкусу работы не нашел. Все лето по промыслам слонялся. Ходил он еще с некоторыми ловцами на совместный морской лов. Но осенняя путина выдалась на редкость неуловистой.
Крепко захлестнула Дмитрия нужда... Ну, и пошла трепать его жизнь, как посудину штормовое море: того и гляди, перевернет. Только и знал одно: отбиться от нужды, обзавестись хоть какой сбруёшкой, а после, думалось ему, само дело в гору пойдет.
Отчаялся Дмитрий от неудач и, взяв подряд у рыбника Дойкина, который и в советское время нашел лазейку для наживы, вышел теперь в море искать подледного счастья.
Вот обо всем этом бы порассказать ребятам в роте, погоревать с ними, посоветоваться, как легче отпихнуть от себя нужду, как быстрее стать на ноги.
Эх, ребятушки, дружки!..
Дмитрий повернулся, приподнял голову и дремотно посмотрел на Василия. А тот все сидел у жарника и о чем-то неустанно говорил.
Ему, Василию-то, что! У него и домишко свой, и на берегу женка, как следует быть. А тут — не жизнь, а канитель какая-то... Живет Дмитрий в своей глиняной кухне один, будто собачонка в конуре. И жена-то не своя, а чужая — Глуша.
Он беспокойно завозился на тулупе и недовольно подумал:
«Корил я Ваську — «передохнем». А чем плохо-то, когда есть где, когда есть с кем?..»
Прошлую осень он работал два месяца на Маковском промысле, и деньги были, а справы — хотя бы немного! — ну, там сетей или снасти, как это покойный отец делал, не сумел приобрести. Купил, дурень, ботинки желтые, штаны с пиджаком да сатиновую рубаху, чтобы приехать в поселок козырем и щегольнуть перед Глушей. А Глуша, видать, умнее Дмитрия — и ну его стыдить: «Непутевый ты человек, Митя! Заместо этого барахла, мог бы ты полную справу сетей иметь, а поработал бы еще — и бударку заимел».
Помнится, тогда навзрыд, отчаянно плакала Глуша...
Нет, ни слова не сказал бы Дмитрий ребятам в роте про Глушу, про ту самую Глушу, что мучается у Матвея Беспалого — своего хилого, немощного мужа.
Даже комиссару не сказал бы, разве только Шкваренке, секретарю армейского комсомола, с глазу на глаз признался бы, что Глуша ждет не дождется, когда Дмитрий хоть чуточку развернется в делах, чтобы было им обоим чем кормиться,. Тогда они сойдутся жить вместе... Правда, и Матвей Беспалый — не ахти какой ловец: у него тоже не стало теперь справной сбруи, и частенько ловит он от рыбника Дойкина; но Матвей все же дом деревянный имеет, корову и прочую живность. А у Дмитрия одна пустая глиняная конура!..
— И подведем это, Митя, мы с тобою счета, — вдруг пробудил его от дум довольный, сытый голос Василия Сазана.
Дмитрий, не совсем еще разобравшись, о чем идет речь, приподнял голову.
— И думается мне, — медленно, нараспев говорил Василий, — опять нам сотняга придется, а с прежними это составит, милый ты мой, триста целковых. Пожалуй, до ухода льдов еще раза два поспеем махнуть сюда, — глядишь, и на всю полтыщу целковых выловим!
Василий заулыбался и шевельнул длинными бровями; чуть помолчав, он расправил мокрые брови, снимая с них капельки пота, затем снова налил в кружку чай.
Деловито кидая кусочки сахару в рот и прихлебывая чай, Василий снова неторопливо заговорил, словно искушая:
— И получим мы эту полтыщу с Дойкина.. Сотняга у меня еще имеется, да у тебя тоже. И какую мы, Митек, справу заведем! И пойдем на общий, совместный лов с Андрей Палычем...
Дмитрий приходит в себя и. видит, как закатывает Василий глаза под лоб, словно батяша на прощаньях.
Помолчав, Сазан тихо, мечтательно повторил:
— И какую, Митек, справу-то заведем!
«Фу, леший! — завозился на тулупе Дмитрий. — Мертвый, и тот встанет».
А дружок, поставив кружку на колено, продолжал:
— Бударку новую купим.
— Ра-аз... — радостно откликнулся Дмитрий.
— Полсотню концов сетей.
— Два-а...
— Перетяг сорок снасти.
— Три-и...
Василий замолчал, поглядел на Дмитрия.
— А твоя сохранность в целости? — пытливо спросил он. — Сколько у тебя?
— Полторы сотни, — глухо сказал Дмитрий и повернулся со спины на бок.
Опустив голову, Сазан слегка покачивался из стороны в сторону и тихонько приговаривал:
— Ну и справу мы с Митяем заведем — что надо: бударку новую, сетку...
Усмехаясь, Дмитрий осторожно толкнул дружка ногой.
— Довольно тебе?
Сазан вздрогнул, и брови его взлетели на лоб.
— Чего ты? — испуганно спросил он.
— Ничего. Спать пора! — дружелюбно сказал Дмитрий и шумно зевнул.
— Постой, Митек... Надо нам по-серьеэному о делах поговорить, об артели подумать. Помнишь, мы толковали... — И, словно просыпаясь, освобождаясь от только что захватившей его мысли о ловецкой сбруе, Василий повторил громко и взволнованно: — Об артели надо подумать, Митяй! А то что-то очень много и долго о справе мы говорим. Как следует об артели надо подумать — вот оно что!
— А чего о ней зря много думать: справа будет — и артель будет!
— А мне сдается, не только так надо думать, — все больше оживляясь и волнуясь, говорил Василий.
— А как же еще? — и Дмитрий вновь слегка приподнял голову.
— Мы же толковали с тобой: перво-наперво артель нужна, а тогда все будет — и бударка, и сетка, и снасть... Я и с Лешкой-Матросом говорил об этом, и с Андрей Палычем, и с Буркиным Григорием Ивановичем.
— Знаю... Слышал... А чего ж вы до сих пор артель не организовали?
— Да вот видишь... говорим больше, нежели дело делаем. И с тобой тоже целый год уже толкуем... Нет, с весны непременно артелью пойдем на лов! Непременно! Вернемся в поселок — и я на попа поставлю этот вопрос. Пускай секретарь нашей комячейки Андрей Палыч шевелится... Да он, правда, и сам в прошлый раз толковал о том же: возвратятся, мол, вот коммунисты с моря — ну, и соберемся, решим... Артелью пойдем, Митек, на весенний лов! Артелью? — горячо повторил Василий. — Партия зовет нас к этому! — и вдруг, что-то припоминая, торопливо спросил: — А ты читал статью товарища Сталина «Год великого перелома»? Читал, как он говорит о наступлении на нэпмана и кулака? — И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Сейчас я тебе почитаю. Вот послушай!.. — Василий ощупал один карман, другой! стараясь найти газету. — Э-эх, да я ведь ее Андрей Палычу вернул! — с сожалением сказал он и недовольно махнул рукой. Однако, подумав, снова горячо заговорил: — Постой-ка! Я же некоторые его слова о переломе крепко запомнил! Вот послушай, Митяй: «Перелом этот шел и продолжает идти под знаком решительного наступления социализма на капиталистические элементы города и деревни». Понял, что это значит? Да это, милый мой, значит, что и нашим волжским рыбникам-кулакам каюк скоро должен прийти. Понимаешь это дело?..
Глаза Василия блестели, щеки пылали румянцем, он привстал на колени, готовый страстно рассказывать дальше, — было видно, что статья сильно взволновала его.
— Ты понимаешь? — вновь спросил он Дмитрия.
— Понимаю... Только не хочу про вашего Лешку слышать. Со всеми вами согласен ловить, только не с ним. Потому и не шел к вам до сих пор на общий, совместный лов.
— Чего тебе дался Лешка?!
— Не хочу о нем слышать больше!
И только было Василий вновь заговорил, как неожиданно у входа шумно откинулся парус, и в кош, пригибаясь, вошли два человека.
— Здорово были, ловцы!
Василий схватил пешню, а Дмитрий только и успел приподняться на локте.
— Здорово, ежели добрые люди! — уклончиво ответил Василий.
Дмитрий нашарил под боком темляк — железный крюк, которым багрят крупную рыбу.
Пришедшие были в тулупах; шерсть на высоко поднятых воротниках заиндевела, лица обросли белым пушистым мхом. Откинув воротники и опускаясь на корточки к жарнику, нежданные гости стали отдирать от бород и усов сосульки, — только теперь, в полумраке коша, Василий и Дмитрий опознали своих односельчан: Трофима Игнатьевича Турку и его сына Якова.
Усмехнувшись, Дмитрий выпустил темляк и неторопливо заложил руки за голову.
Очистив бороды и усы от ледяшек, отец и сын распахнули тулупы.
— Как ловится белорыбка? — спросил старый Турка и, вынув из кармана трубку, насыпал в нее махорки.
— Да так, ловится, — неопределенно сказал Василий, придвигаясь к гостям.
— А у нас не ловится... У нас беда!.. — продолжал хрипло Турка. — Вор по сетям шастает, каждую ночь улов выбирает.
— Выследим — подо льдом прогоним! — угрожающе вставил Яков.
— Все одно нападем на след! — подтвердил старый Турка. — Третью ночь караулим.
Он беспрерывно и жадно тянул дым: то и дело вытаскивал щепотку махорки и, выбивая из трубки пепел, закладывал в нее новую порцию.
Яков держал руки у стенок жарника и недоверчиво глядел в сторону Дмитрия.
«Неужели заподозрили нас в оборе ихних оханов?» — с тревогой подумал Василий.
А Яков упорно косил глаза на Дмитрия; у молодого Турки большие и черные зрачки, словно налитые смолой.
«Будто и взаправду против нас что-то имеют», — и Сазан в упор глянул в блестящие глаза Якова.
Яков замигал и перевел взгляд на отца.
Василий посмотрел на Трофима Игнатьевича: у того все лицо было покрыто рыжими волосами, точно у старого дворового пса; из этой дикой заросли волос светились узкие, прищуренные глаза.
«Этот, пожалуй, в артель не скоро потянется», — мелькнуло у Василия о старом Турке.
— А по соседству с вами кто ловит? — вдруг требовательно спросил Трофим Игнатьевич; он продолжал беспрерывно курить, прижимая пепел в трубке указательным пальцем.
— На глуби — Костя Бушлак и Лешка-Матрос, — неохотно сказал Василий, — а ближе к черням — разинские, кажется.
— А больше никого не видали? — настойчиво допытывался Турка.
— Будто никого... — Василий приподнялся, обиженно заморгал кругло-красными глазами, недовольно подумал: «И чего пристали!»
Оба Турки тоже поднялись и пристально посмотрели на Дмитрия, а тот недвижно лежал на тулупе и глядел вверх.
— Ну, что же, Яшка, — сердито прохрипел старый Турка, — двинемся, стало быть, дальше.
Он выбил о ладонь пепел из трубки и, снова взглянув в сторону Дмитрия, сумрачно спросил еще раз:
— Как улов-то у вас?
Дмитрий молчал.
— Понемногу ловится, — ответил за него Василий и, пригибаясь, чтобы не задеть головой низкий ледяной потолок коша, прошел к дружку.
- Могу закупить весь ваш улов, — предложил Турка. — Заплачу дороже, чем Дойкин. И харчом снабжу сейчас же: не надо и в Островок будет ездить.
«На обман берет, — сообразил Василий. — Хочет выпытать, сколько у нас белорыбицы. В подозрении, значит, мы с Митрием».
— Ну, как? — спросил Турка.
— Нет, Трофим Игнатьевич, не берет ваша наживка, — решительно заявил Сазан. — Завтра мы сами в Островок едем. Да и ловим мы от Дойкина — знаешь, сам, потому и белорыбку сдавать ему надо.
Турка ухмыльнулся и запахнул тулуп:
— Полным рублем плачу, а Алексей Фаддеич с вас вычет возьмет: и за сбрую и за лошадь...
— Не продадим улов! — еще тверже сказал Василий.
— Как хотите, — и Турка направился к выходу. Подняв край паруса и пропустив сына, он всердцах пробурчал:
— Тогда прощевайте!
— Прощевайте, — глухо откликнулся Василий.
Приправив за Турками парус, он зашептал в сторону Дмитрия:
—Видал? Подозрение на нас имеют...
— А ну их к бесу! — сердито сказал Дмитрий. — Спать давай!
Он приподнялся, вытащил из-под себя тулуп, натянул его на ноги, на грудь.
Василий недовольно взглянул на товарища, ему очень хотелось продолжить разговор об артели, но Дмитрий уже с головою укрылся тулупом. Василий осмотрелся вокруг и только сейчас почувствовал, что в коше стало холодно: в жарнике дотлевали последние угли, и на стенах его уже не светились пунцовые пятна.
Он поежился, быстро застегнул фуфайку и, набросив на плечи тулуп, подполз к Дмитрию и привалился к нему.
Василий долго не мог уснуть; он все думал о будущей рыбацкой артели, вспоминал Андрея Палыча, Перед ним открывалась волнующая картина новой, артельной жизни...
Глава вторая
Луна медленно опускалась за море, одиноко тлея на почерневшем горизонте; звезды таяли, будто крошево льда в мутном весеннем Каспии.
Едва ощутимо тянул колючий норд-вест.
Было странно тихо в этой чуткой предутренней пустоте морского простора: осыплется ледяной бугор, треснет лед — и по надморью раскатисто проплывет гуд...
Старый Турка останавливал лошадь, откидывал воротник, прислушивался. Яков вскакивал на ноги и пристально озирался вокруг: не он ли, грабитель, едет?
Лошадь снова шла шагом, звонко цокая копытами о лед.
— Тише гукай, чертяка! — дергал ее Турка.
Она сбивалась с размеренного шага, потом опять отчетливо и гулко цокала...
Отъехав с десяток километров от коша Василия и Дмитрия, ловцы остановились у высокого ледяного бугра с острою макушкой.
— Залазь и гляди, — приказал сыну Турка, — а я покурю.
Яков стал осторожно карабкаться на вершину бугра; вниз дробно посыпались ледяшки, потом ухнула громоздкая глыба.
— Яшка! — зло предупредил Турка. — Тише!
Он подошел к лошади и накинул на нее покрывало; тревожно навострив уши, она громко ударила передней ногой о лед.
— Уймись! — замахнулся на нее Турка и прошел к саням. «Все одно уследим! — и он поспешно набил в. трубку махорки; отвернувшись, закурил и начал жадно пыхтеть дымом. — Э-эх, поймать бы злодея! Поймать бы его!»
У Турки нестерпимо ныло сердце; он то ложился на спину и глядел, как темнеет перед рассветом небо, то вылезал из саней и топтался вокруг лошади, пристально осматривая мертвую ледяную пустыню.
Его подмывало мучительное любопытство: кто бы мог быть тот злодей, который три ночи подряд обирает их оханы?
Не Дмитрий ли с Василием шастают по их сетям? Когда заезжали к ним, Василий что-то тревожился, а Дмитрий даже не поднялся, притворяясь спящим.
«Уследим! Все одно уследим!» — и Турка оглядывался на вершину бугра, где находился Яков.
Шесть раз Турки выезжали этой зимой в море; четыре раза ни одной белорыбки не подняли они своими оханами. Только в пятый раз напали Турки на белорыбье скопище: как проверят оханы, так и есть десяток; в эту поездку около сотни белорыбок вывезли они в Островок. В тот же день вернулись Турки обратно на Каспий и выбили оханы на прежнем месте. Проверили на следующий день — ни одной белорыбки. Заметил Яков, что некоторые майны были побиты и затянуты лишь тонкою льдистой корочкой.
«Вор был!» — решили Турки, и вот четвертые сутки маются в поисках злодея.
Приедут проверять оханы, а они кем-то уже проверены, и следов никаких; только побитые майны выдают, что здесь был вор.
Все планы, все думки старого Турки перевернуты шиворот-навыворот. Рассчитывал он в эту зиму собраться с деньгами, чтобы переменить частиковую сеть, оснастку новую справить для реюшки — парус и прочее. Да мало ли прорех в любом ловецком хозяйстве! Много прорех и в хозяйстве Турки; хотя оно и крепкое, исправное, а недостач — целый ворох!..
Раньше, год или два назад, кое-как справлялся Турка с этими прорехами. Возьмет бывало у Полевого, городского дельца, взаймы несколько сот целковых — и баста! Правда, большой процент брал этот хапун Полевой за одолжение — двадцать рублей с сотни, но выкручивался, изворачивался Турка. И свой улов почти всегда был хорош — добро, что справа дюжая! — да и перекупит бывало Турка уловы нескольких ловцов — вот и деньги!
К концу путины обычно и долг Полевому покроет, и сбрую пополнит, и запас муки, круп, сластей приобретет, да еще что-либо в дом прикупит: зеркало, швейную машину, горку или несколько стоп материи разной. Невесту Турка растил, дочь Марию, — потому и прикупал все в дом. И теперь настало время выдавать ее замуж — двадцатый год стукнул, да и жених попадается неплохой, здоровый и работящий парняга. А тут еще и Яков на выдел просится, избу новую ставить ему надо.
У Турки такая хозяйственная думка была: Якова непременно следует выделить, а Марию выдать замуж и поселить к себе в дом зятя-работника. Оно, конечно, было бы лучше не выделять Якова, а выделить в женихов дом Марию, но таких женихов, со своими домами, сейчас редко встретишь. А жить всем вместе в одном старом доме, где всего-навсего передняя да горница, никак нельзя: у Якова двое ребятишек, и скоро еще будет, а там, глядишь, и у Марии появятся...
И на выдел сына и на свадьбу дочери — только подавай деньги!
Был бы сейчас Полевой, взял бы у него Турка сотен восемь, а то и всю тысячу целковых взаймы — как-нибудь рассчитался бы!.. Только нет теперь Полевого, нет и других дельцов и рыбников в городе — многие из них запрятаны в тюрьму. Когда их судили, все газеты расписали про их мошенничества: и про то, как они обманывали финорганы, и про то, как пытались подкупать советских работников, чтобы еще меньше платить государственных налогов... Турке далеко было до этих крупных дельцов-рыбников, и он не пытался никого подкупать. Но судьба Полевого и ему подобных тревожила и его, Турку. Торговая политика советской власти была ему не совсем понятна.
После гражданской войны ввели нэп. Советской стране нужна была рыба. И Турка вместе с другими ловцами принялся за настоящий, промышленный лов. До этого ловил он с сыном кое-как и уловы переправлял на базары города, но в те времена и спроса достаточного не было, и цена стояла низкая, а самое главное, сбруи не было: ни сетей, ни пряжи, ни посудин.
Семь годов тянулась война: то с немцами, то с белыми генералами, и хозяйство ловецкое пришло в упадок — обносилось, захирело. Многие ловцы на фронты ушли, опустели ловецкие поселки, заглохла былая жизнь... Но Турка крепился — цедил воду штанами, а от лова не отходил. И вот, с нэпом, опять расцвела торговля и опять рыбный промысел стал выгодным. А страна продолжала требовать все больше и больше рыбы. Такого спроса и в старое, царское время, пожалуй, не было: помнится, в большой ход рыбы городские купцы не только платили за нее гроши, но частенько и за бесценок продать было некому. Теперь же только подавай, и цена подходящая! И Турка, снабженный Полевым и сетями, и снастью, и мукой, быстро стал подниматься в гору. Бударку скоро поставил на прикол и приобрел при помощи того же Полевого новую реюшку — небольшую морскую посудину.
Долго, очень долго рассчитывался Турка с Полевым за эту реюшку и морскую сбрую. Улова двух путин не хватило на покрытие кредитов. Тогда Турка стал заниматься перекупом рыбы у ловцов, а потом .доставил на реюшку к Якову сухопайщика, и сам приноровился к скупу красной рыбы. Сядет в свою бударку, которая до этого тоже в деле была — в пае у одного ходила, — и ну шнырять на ней по протокам, искать красноловцев. Накупит осетров, севрюги в город, в рыбные лабазы; тогда их в городе открылось несколько сот — больше, чем до войны было... Расквитался в конце концов Турка с Полевым и стал уже на себя и семью работать. А чуть нехватка какая или неудача в лове, сейчас же снова к Полевому... Если бы еще год-два так продолжалось дело — и Турка щедро выделил бы сына и знатно выдал бы замуж дочку. Рассчитывал Турка на эту зимнюю путину — очень рассчитывал! — но тут незадача с ловом вышла. А когда, под конец, на белорыбье место напал, опять беда: вор появился, обкрадывает оханы.
«Не уйду с моря, пока не словлю его!» — и Турка еще быстрее зашагал вокруг лошади, заложил очередную порцию махорки в трубку.
Наконец он остановился позади саней и глянул на вершину бугра, где находился Яков.
— Не видать? — спросил Турка сына, сложив ладони у рта рупором.
Яков, словно часовой на вышке, зорко осматривался вокруг, медленно поворачивая голову.
Становилось все темнее; предрассветное небо заволакивалось тучами, сея редкий, тихий снежок. Но северо-западный ветер заметно крепчал, обливая стынью, и скоро запахи снеговой влаги исчезли.
«Шурган не ударил бы...» — обеспокоенно подумал Турка, чувствуя, как набирает силу ветер.
Ловец покосился на лошадь — она, беспрерывно прядая ушами, встревоженно озиралась по сторонам. Турка снова посмотрел на вершину бугра.
— Не видать? — переспросил он сына.
Вместо ответа, с бугра посыпались ледяшки, и Яков кубарем скатился вниз. Турка подбежал к сыну.
— Кто там? Не Митька Казак с Васькой? Кто?
— Нет, батяша, — Яков громко дышал. — С другой стороны кто-то, и прямо на наши оханы подался.
Турка бросился к лошади, сорвал с нее покрывало.
— Прыгай, Яшка!..
И отец с сыном на ходу метнулись в сани. Лошадь понеслась вскачь.
— Правь, батяша, к тому бугру! — Яков снял тулуп и, нашарив темляк, встал иа колени. — К тому вон, батяша! — И он ткнул железным крюком вперед.
— Правь сам! — Турка кинул вожжи сыну и стал снимать тулуп.
— Нно-о! — Яков замахнулся на лошадь темляком. — Пошел! По-ше-ел!..
Турка, привстав на колени, повернулся к ветру спиной.
Еще до бугра Яков выскочил из саней и, продолжая бежать наравне с лошадью, сдержанно прокричал отцу:
— Я один, батяша... А ты веди лошадь шагом и схоронись пока под бугром...
Остановив коня, Турка спрыгнул на лед; пройдя несколько шагов, он вдруг побежал за сыном.
— Яшка, постой! Постой, говорю!
Яков уже обходил бугор; крадучись, он выглядывал из-за него, старался незаметно высмотреть злодея. Турка подбежал к сыну и вместе с ним, опираясь на глыбы льдин, стал осторожно обходить бугор.
— Смотри, батяша!
Яков остановился, загородив дорогу отцу.
— Видишь? — и он показал крюком, слегка пропуская Турку вперед.
Прямо от них, всего в каких-либо двух-трехстах метрах, маячила в белесой полумгле черная тень. Турка прищурил глаза и разглядел лошадь, запряженную в сани; вправо от нее на льду качалась другая, меньшая по размеру тень: должно быть, это копошился около оханов вор.
Яков, удерживая отца за рукав, горячечно прохрипел:
— Стой, батяша, здесь, а я поползу и отрежу ему путь от лошади. А то уйдет... Ты, в случае чего, — наперерез ему.
Яков опустился на лед и пополз, волоча за собой темляк.
Он неслышно скользил на животе по гладкому льду, отталкиваясь ногами и одной рукой, в другой держал железный крюк.
«Эх, не ушел бы!» — Яков дрожал, быстро приближаясь к мародеру. Он уже отчетливо видел его фигуру: тот, согнувшись и стоя спиной к Якову, торопливо проверял оханы.
У Якова гулко стучала в висках кровь.
Это из-за него, из-за этого злодея, может Яков еще надолго остаться жить у отца. Якову надоело тянуть лямку работника, надоело рвать жилы на то, чтобы справлять приданое сестре, заготовлять на несколько лет пряжу, сети, муку... Отец обещал в эту зиму выделить его, и весь улов от этой зимней путины должен был пойти на покупку дома для Якова, а уловом, оказывается, пользуется кто-то другой.
Яков взглянул на грабителя и притаился, — тот стоял к нему боком и выпрастывал из охана большую белорыбицу — она зловеще поблескивала серебряной чешуей.
Яков не стерпел.
— Ааа-а!.. — захлебнулся он в гневе и напролом рванулся на врага.
Вор сначала оторопел; выпустив из рук охан, он удивленно глядел на бежавшего с темляком человека, потом метнулся к саням, но Яков отрезал ему путь; тогда он бросился в обратную сторону, но навстречу кто-то вывернулся на лошади из-за бугра. Он повернул снова назад и, думая прорваться в прогал между человеком с темляком и тем, кто несся на лошади, ринулся наутек.
Яков успел опознать врага: это был их сосед из Островка — Коляка, рослый, сухопарый ловец.
Не оглядываясь, Коляка бежал напрямки.
Появление ловцов было для него неожиданным. Он хорошо приноровился к обору чужих оханов: метил всегда попасть в мутный предрассвет, когда повисала над морем полупрозрачная, седая мгла мороза.
«Ловцы крепко дрыхнут в это время, — говорил ему старый Краснощеков, который давал лошадь и сани на это дело. — А самое главное: не выбирай всю рыбу из оханов, оставляй половину, тогда и подозрений не будет».
Не послушался Коляка советов Захара Минаича, вот и беда теперь! Да как можно было соблюсти советы, когда в первую же ночь Коляка напал на эти отягощенные белорыбицей оханы?!
Три месяца прожил он с семьей без хлеба. Осенью срезали у него льды бударку и сети и унесли в море... В первую ночь Коляка выбрал всю белорыбицу из оханов, и во вторую ночь так же, и в третью. На этом можно было бы и покончить: и хлеб появился, и сотня целковых на новую бударку. Но разыгралась охотничья страсть у Коляки, и снова пошел он на обор чужих оханов.
«Словят — убьют!» — с тоской подумал он и посмотрел вправо: лошадь галопом скакала на него. Коляка оглянулся — за ним бежал человек и что-то кричал, а далеко позади стояла краснощековская лошадь.
Коляка подался влево, — тогда человек побежал к нему навстречу.
Вдруг что-то ударило в ноги, и Коляка споткнулся; упав на колени, он снова быстро поднялся и подхватил со льда темляк.
«Ага! Промахнулся!» — радостно мелькнуло у него.
Он остановился и узнал молодого Турку; тот, обезоруженный; отходил в сторону.
Коляка, вскинув над головой подобранный крюк, двинулся было на Якова, но взбешенно скакавшая от бугра лошадь была уже совсем близко.
«Собьет», — сообразил он и, грозясь темляком, пустился мимо Якова в обратную сторону, где стояла краснощековская лошадь.
Старый Турка одной рукою рвал вожжи, другой держал пешню; он остервенело гнал коня и правил- им с таким расчетом, чтобы сбить злодея с ног. До него оставалось с десяток метров, и старый Турка вскочил на ноги, вскинул на плечи пешню и, хлестнув лошадь, со свистом гикнул на нее.
Коляка только хотел свернуть вправо, как лошадь настигла его и ударила оглоблей в плечо. Он круто повернулся и беспомощно повалился на лед.
Турка, нагнувшись, шарахнул его пешней по спине.
Выскочив из саней, Трофим Игнатьевич подбежал к вору и, перевернув его на спину, признал Коляку.
— Не будешь шастать, чорт, по чужим сетям! — и он пнул соседа ногой.
Коляка лежал неподвижно, широко раскинув руки по льду.
«Неужели насмерть долбанул?» — спохватился старый Турка.
Эта мысль сразу отрезвила его.
«Ответ еще придется держать...» — с тревогой подумал он, искоса оглядывая недвижное лицо соседа.
— Бей его! Бей! — заорал подбежавший Яков, готовый распотрошить Коляку, как рыбу. — Бей, батяша!.. Бей!..
— Чего гавкаешь! — сердито остановил его Турка.
Яков тяжело и шумно дышал.
— Не видишь, насмерть будто пристукнул, — и Турка отошел к саням.
Яков пристально взглянул на Коляку и заметил, что тот шевелит ногами.
— Батяша! — крикнул он и вырвал из рук соседа темляк. — Живой!
Турка прибежал с пешней.
Коляка пытался приподняться, но, обессиленный ударом старого Турки, опять беспомощно поник на лед. Отец и сын подступили к соседу.
— Чья лошадь? — гневно закричал Турка.
И, видя, как оживает Коляка, как приподнимается он на локте, Турка снова пришел в исступление.
— Говори, чья лошадь? — замахнулся он пешней. — Говори! Все говори!.. Чья лошадь? С кем сделку имеешь?
— Трофим Игнатьич... Яша... — тихо простонал Коляка — Пощадите...
— А ты пощадил нас? — заорал Яков и ткнул его темляком в грудь.
Коляка, поджав ноги, повернулся на бок и, склоняя голову ко льду, едва слышно попросил:
— Яша... Трофим Игнатьич... Сми-илуйтесь...
Разъяренный Яков предложил отцу:
— Прогоним его, батяша, разок! — и побежал к саням.
Турка, держа пешню на плече, вновь гневно спросил Коляку:
— Чья лошадь? С кем сделку имеешь?
Коляка умоляюще взглянул на Турку:
— Краснощековская... Захара Минаича... Он и рыбу принимал...
Яков привел лошадь и, вынув из саней темляк, нагнулся к Коляке.
— Пощади-ите!..
Проткнув темляком Колякины штаны, молодой Турка привязал веревку от крюка к саням.
— Садись, батяша, — и Яков тронул лошадь.
Турка бросил пешню в сани.
«Вот так Захар Минаич! — думал он, шагая рядом с лошадью. — Вот тебе и кум!»
Забагренный за ноги, Коляка волочился позади саней; он пытался приподнять голову, старался удержаться руками за лед и дико ревел:
— Трофим Игнатьич!.. Сми-илуйтесь!.. Яша!..
Турка прыгнул в сани и, не желая слышать истошного Колякиного рева, накрылся тулупом.
Свистнув, Яков погнал лошадь быстрей; он то и дело оглядывался назад, где по льду моталось большое тело Коляки.
«Может, кум и не виноват? — продолжал размышлять Турка, лежа под тулупом. — Может, этот ворюга не говорил ему, чьи он обирает оханы?»
Турка не мог допустить мысли, что его приятель и кум Захар Минаич Краснощеков мог заниматься таким грязным делом, да еще заведомо зная, чью принимает он рыбу.
«Брешет Коляка, — решил Турка и сбросил с себя тулуп. — Попытать его надо!»
Подъезжали к майне, где мирно стояла лошадь.
Норд-вест напирал все тяжелей, снег сыпал плотнее.
Выскочив из саней, Турка подбежал к чужой лошади и действительно признал в ней краснощековского Булана.
«Вот так та-ак!» — и он растерянно посмотрел в сани: там лежал десяток белорыбиц.
У Турки закипело в злобе сердце:
«Наша белорыбка!..»
Яков полукругом развернул сани, и Коляка очутился недалеко от майны.
Подбежав к сыну, Турка шепнул ему на ухо:
— Готовь... И впрямь прогоним разок его.
Присев на корточки у майны, Яков отвязал с кола хребтину и, вытащив на лед несколько метров ее, двинулся к Коляке.
Старый Турка нетерпеливо выспрашивал соседа:
— Захар Минаич знал, чей улов? Говорил ты ему?
— Знал... говорил... — тихим стоном отвечал Коляка.
Яков молча выдрал из его штанов темляк, накинул на Колякину голову петлю из хребтины и, продернув ее на грудь, заложил ему под руки.
Коляка только сейчас понял, какое испытание готовят ему Турки. Он приподнялся на локте, уставил на них застывшие, беспамятные глаза и вдруг рванулся.
— Держи, батяша! — рявкнул Яков и бросился к следующей майне, где был другой конец хребтины.
— Шалишь, сосед! — запальчиво вскричал старый Турка, когда Коляка попытался сбросить с себя петлю; подхватив со льда хребтину, он еще туже затянул петлю на груди ловца.
— Что со мной делаете?! — завопил Коляка. — За что губите человечью жизнь? Бога побойтесь!
— А ты боялся бога, когда шастал по чужим сетям? — исступленно кричал Турка, изо всей силы дергая хребтину. — Сам побойся!
— Трофим Игнатьич, — уже тихо, жалостливо просил Коляка, — пощади, смилуйся... За все с тобой расплачусь... Дорогой мой, век на тебя работать буду. Смилуйся...
Метрах в пятнадцати от них Яков быстро выбирал из майны хребтину, концом которой был опутан Коляка; хребтина наконец туго натянулась, и Яков, упираясь ногами в лед, что есть силы потащил ее.
Коляка дрогнул, и его потянуло к майне, близ которой он лежал.
- Трофим Игнатьич! — снова завопил он. — Смилуйся! Что делаете? Век работать на вас буду!..
Турка бросился к дальней майне на помощь сыну.
— Пощадите... Трофим Игнатьич!
Оба Турки натужно выбирали хребтину из дальней майны, одновременно зачаленный Коляка двигался к ближней.
Он неистово ревел, хватался за лед, пытаясь задержаться, но отец с сыном настойчиво тянули из противоположной майны хребтину, и она влекла его к воде.
— Нажмем, батяша!
— Нажмем, сынок!
И оба Турки стали рывками выбрасывать из майны веревку.
Коляка, обессилев, перестал сопротивляться; был он уже возле самой воды, но не видел ее — лежал на спине, а хребтина, которой была опоясана его грудь, тащила ловца в майну головой вперед.
Вдруг его опалила ледяная вода. Коляка ухнул в майну.
— Пошел... Пошел... — и отец с сыном, облегченно вздохнув, напряглись, чтобы последний раз натянуть как следует хребтину и втащить ловца под лед: в воде он пойдет уже легко, без задержки.
Но Коляка успел вымахнуть из майны и, вцепившись руками в края льда, повис над водой.
— Пощады прошу! — истошно завизжал он, чувствуя, как бесповоротно тянет его хребтина вниз. — Ребята останутся сиротами! Смилуйтесь!
— Держи, батяша, крепче! — крикнул Яков и побежал к саням; выхватив из них крюк, он бросился к Коляке.
Подбежав к ловцу, Яков ударил его темляком по рукам.
— Не держись, сволота! Не держись!
Коляка хрипло, отчаянно выл.
— Все дело мое попортил, сволота! — Яков нещадно бил крюком по рукам соседа. — Верно, из-за тебя, поганая сволота, опять на Маньку придется жилы рвать! Не держись, говорю!..
Из Колякиных пальцев брызнула кровь, и он сорвался в воду. Старый Турка рванул хребтину, и Коляка скрылся подо льдом.
Отбросив крюк, Яков шагом направился к отцу.
Они нарочно не спеша выбирали веревку — Коляка медленно двигался подо льдом.
Старый Турка отошел в сторону, вытащил трубку, набил ее махоркой и закурил.
Неожиданно хребтина затяжелела, и Яков, с большой силой дернув ее, отбежал к отцу.
Из-подо льда показалась Колякина голова.
Отец с сыном рванули хребтину и выбросили Коляку на лед.
Ловец был живой, он дрожал и, задыхаясь, жадно ловил ртом воздух, словно выхваченная из воды рыба. Его поволокли по льду к лошадям. Выбросив из саней белорыбицу, Коляку вскинули туда.
Яков заметил, что Коляка, хватаясь за ободку саней израненными в кровь руками, пытался приподняться; он широко открывал рот — видимо, что-то говорил, — но застуженного голоса не было слышно.
Пройдя к краснощековскому Булану, Турка стукнул его колом по голове и направил в противоположную от берега сторону.
Лошадь вскинула задние ноги, ударила о деревянный передок саней и, рванувшись, понеслась в предутреннюю темь Каспия.
Только и видел Яков, как мелькнули остеклянелые, в больших синеватых белках Колякины глаза.
— Пусть половит белорыбку на глубях, — ухмыльнулся старый Турка.
— Пропадет, батяша... — начал было Яков.
— Выбирай оханы! — прикрикнул Турка на сына. — Что? Сдрейфил?!. — и стал сердито бросать в сани отобранную у Коляки белорыбицу.
Яков исподлобья беспокойно поглядел вслед саням, увозившим Коляку.
— Пропадет — чорт с ним! — бурчал про себя старый Турка. — А в случае чего скажем: не знаем, и все тут. Бились, мол, с ним из-за воровства, а потом утек он. Вот и весь ответ!
Снег вдруг повалил густо-густо, словно накрывал сетями море; вслед со свистом ворвался штормовой ветер, и шурган, завывая, скрыл ловцов.
Глава третья
Лютый норд-вест бешено носился по Каспию; он тяжелой стеною гнал снегопад и, натыкаясь на бугры, грозно сотрясал их.
Василий и Дмитрий в испуге проснулись. Ветер срывал с бугра пласты льда, а лошадь металась во тьме и шумно фыркала.
— Шурган, кажется, — Василий вскочил и зажег спичку.
Лошадь продолжала фыркать и рваться.
Ловцы выскочили из коша. Ветер ударил снегом, ожег лица и чуть не сбил ловцов с ног; снег валил так густо, что слышно было, как он сухо, жестко и с присвистом шуршал.
— Экая кутерьма, — сказал Дмитрий хриплым голосом и сбросил с себя тулуп. Он тревожно задышал и беспокойно повел лицом, вслушиваясь и вглядываясь в занавешенный снегопадом предутренний полумрак.
Ветер нещадно хлестал колючими и острыми иглами снега.
— Не относ ли? — уже с тревогой спросил Дмитрий своего дружка.
Надвигая шапку на лоб, Василий удивленно шевельнул неимоверно длинными и пышными бровями.
— Ступай огляди, — дрогнувшим голосом сказал он Дмитрию и в смятении добавил: — Верно старые люди говорят: не море топит ловцов, а ветры...
И замолчал, когда Дмитрий скрылся в снегопаде.
Снег, казалось, плотной стеной соединил небо и море.
Василий вбежал в кош, сорвал со входа парус и стал поспешно бросать в сани одежду и сбрую. Лошадь в упряжь не шла; она рвалась, становилась на дыбы и косо зыркала кровавыми глазами по сторонам.
Вспомнив о кошме, ловец хотел было броситься за ней в ледяной шалаш, но внезапно с новым наскоком ветра ударил слева истошный голос Дмитрия:
— Ва-а-аськ!..
Сердито ударив лошадь по влажным, теплым губам, Сазан вогнал ее в оглобли и набросил дугу.
— Ва-а-а-аськ!..
Не затянув как следует хомут, он схватил лошадь под уздцы и погнал ее влево, на крик.
Сверху, не переставая, сыпал снег, ветер подхватывал его и кружил столбы белого смерча.
Лошадь противилась; ступая шагом, она все время косилась назад. Василий бил ее по голове, тыкал в брюхо ногой.
— Что такое? — взволнованно спрашивал он не то себя, не то лошадь. — Неужели относ?
И он снова вспомнил об оставленной кошме, намереваясь вернуться обратно в кош.
Вдруг с оборота донесся слабый, замирающий голос Дмитрия:
— Ва-а-а!..
Василий рванул лошадь назад. Она охотно подалась и, быстро сделав полукруг, помчалась в обратную сторону.
Он держал лошадь под уздцы, бежал наравне с нею и ошалело орал:
— Ми-ить! Я зде-есь! Митя-ай!
Снег забивал ему лицо, словно кто-то надевал тяжелую плотную маску.
Он бежал и думал, что оханы не выдраны из воды; пожалуй, и не все забрано из ледяного шалаша:
«Ясно, не все забрано, — кошма осталась, жарник остался... Во-от беда! Во-от незадача! Как бы не пришлось теперь оплачивать Дойкину брошенные оханы и прочую сбрую...»
Ему было трудно дышать. Ничего не видя и не слыша, он пытался кричать Дмитрию, но ветер разрывал слова, глушил голос.
Лошадь стала. Василий содрал с лица пласты тяжелого, теплого снега. Он едва различил лошадь: вся она была белая от снега и пены.
— Чего ты?
Она обессиленно шаркала ногою по льду. Ловец поспешно оглядел ее ногу: не было подковы.
— Что же делать? — и он растерянно посмотрел вокруг.
Снегопад непрерывно несся плотной стеною; он шуршал о лед, шлифовал его, делал скользким.
У Василия снова мелькнули мысли о брошенной сбруе, о кошме, о жарнике...
— Пшла-а! — в отчаянии закричал он на лошадь, и, пнув ее в брюхо ногой, опять схватил под уздцы.
Лошадь тронулась, прихрамывая на больную ногу.
Ловец гнал ее все сильней. Она часто поскальзывалась и падала на задние ноги. Сазан приподнимал ее и опять гнал. Пройдя несколько десятков метров, она шумно зафыркала и, обдавая ловца горячей пеной, вдруг разъяренно ринулась в галоп.
Снежные волны вскинулись перед Василием. И тут он вспомнил о том, что главное не взято из бугра: два с половиной десятка белорыбицы остались разложенными в ледяной пещере! Он попытался остановить лошадь, чтобы вернуться к кошу, но она неукротимо неслась вскачь, закинув голову. И ловец летел вместе с нею, не касаясь, казалось, льда... Неожиданно лошадь вздыбилась, попятилась назад, захрапела и шарахнулась в сторону.
Только сейчас заметил Василий, что снегопада уже ее было и норд-вест дул слабинкой, без напора. Василий взглянул вперед: в двух шагах от него зияла черная разводина — пропасть между льдинами; в разводине неслышно бились дымящиеся волны.
Он неистово заорал:
— Ми-ить! Мите-ок! Митя-ай!..
Оглядываясь по сторонам, он продолжал цепко держать лошадь под уздцы, — она исходила кипевшею пеной, и пена тянулась до самого льда.
— Ми-ить!..
Неожиданно лошадь вскинулась, отшвырнув ловца далеко на лед; из разводины в Василия ударил ливень воды, лошадь и сани рухнули в море...
...Дмитрий охрип от крика. Как он ни старался еще раз подать голос Василию, ничего не выходило: голос срывался, в глотке першило.
Ловец обежал все вокруг, но бугра не нашел, не нашел он и дружка.
«Куда делся Васька? Что с ним?..»
Стоя у разводины и вглядываясь в белую мглу снегопада, Дмитрий пытался определить ширину пропасти, но снег непрерывно валил, — видна была только эта кромка льда; о кромку бились небольшие волны с запушенными снегом гребнями.
«Может, я заблудился?» — И ловец хотел было опять бежать на поиски дружка, но с большой силой навалился ветер и чуть не опрокинул Дмитрия в разводину.
Ветер свистел и круто хлестал ловца: бил в него снегом, рвал одежду, толкал в пропасть.
Дмитрий старался удержаться на ногах, но напор ветра был настолько силен, что ловца вдруг сорвало и покатило, словно он был на коньках.
Тогда ловец бросился на лед и вцепился в него ногтями, потом на четвереньках отполз дальше от разводины.
Внезапно снеговая стена рухнула — снегопад, прошуршав, оборвался.
Поднимаясь, ловец взглянул вверх: совсем низко неслись плотные белые тучи.
Так же внезапно оборвался и ветер, но через секунду он еще раз взметнулся, взвихрил и, как бы стряхнув с туч остатки снега, где-то залег, притаясь; потом слегка, едва ощутимо подул.
Снег перестал.
Над Каспием качался белесый рассвет.
Дмитрий удивился: недалеко возвышался белый бугор, а он столько кружил и не мог отыскать его.
«Где же Васька?!» — Он взглянул на разводину: прибрежный лед был очень близко — всего каких-либо десяток метров.
А вдали чуть приметно светился огонек — может быть, это маяк?..
Ловец поспешно пробежал взглядом кромку льда, близ которой он стоял.
«Что такое?» — и он подался вперед.
Впереди что-то метнулось в разводину, ударил фонтаном столб воды.
Дмитрий напряг зрение.
«Да-да, лошадь!» — признал он.
Должно быть, Василий решился переплыть разводину со всей сбруей. Дмитрий громко закричал:
— Ва-а-аська! Ва-а!..
Он сбросил с себя валенки, фуфайку, шапку и, стоя полураздетым, долго глядел, как медленно плыла по разводине лошадь, за нею волочились сани. А Василия почему-то не видать. Дмитрий прищурил глаза. Может быть, он плывет рядом с лошадью, сбоку ее?
Должно быть, так. И Дмитрий почувствовал, как быстро стынет его тело, а ноги в шерстяных чулках словно примерзли ко льду.
Разводина заметно ширилась; льдину, на которой стоял ловец, относило от прибрежного льда.
Вздрогнув, Дмитрий бросился в разводину. Ледяная вода больно ожгла его, точно насквозь проткнула большими острыми иглами.
Он вынырнул, замотал головой и, отфыркиваясь, никак не мог открыть глаза.
Глаза будто смерзлись.
«Неужели конец?» — Захлебываясь, Дмитрий стал обеими руками протирать глаза; один глаз приоткрылся, и ловец увидел исчерна-зеленоватые, кипящие воды.
Широким взмахом рук он сильно двинул свое тело вперед. Плыл Дмитрий быстро и шумно, выплевывая горечь соленой морской воды.
Теперь хорошо было видно кромку противоположного, прибрежного льда.
— Выплыву, — радостно шептал Дмитрий. — Глушу увижу...
Однако ноги его затяжелели; теплые стеганые штаны настойчиво тянули ловца вглубь, словно большие грузные якори.
Дмитрий перевернулся на спину, но ноги не пластались по воде — их тащили ко дну набухшие ватные штаны. Ловец попробовал плыть боком, — так было легче; он широко разгребал руками воду, упорно продвигаясь вперед.
«Только бы добраться до льда, а там — лошадь, сани, Васька...»
Он лег иа воду грудью и, размеренно ударяя руками, взглянул вправо — вдоль разводины, где должна была плыть лошадь.
Лошади не было.
Ловец приподнял голову и прищурил глаза: лошадь карабкалась на кромку льда, но лед не выдерживал ее и рушился.
Одна нога у Дмитрия одеревенела, икру свело судорогой. Он перевернулся на спину и стал быстро растирать ногу. Потом снова лег на грудь и сильно забил руками по воде.
Лошадь была уже на льду, она только никак не могла вытащить из воды сани; оглобли поднимали на ней хомут, который, наверно, душил ее, и она высоко вскидывала голову, отчаянно мотала ею.
Но вот лошадь взбешенно рванулась и выбросила сани на лед.
«А где же Васька? — Дмитрий посмотрел вдоль разводины. Василия не было видно, не было его и на льду. — Может быть, он лежит в санях?..»
Исходя паром, лошадь беспокойно озиралась по сторонам; потом, вздернув голову и задрав хвост, понеслась к берегам, припадая на задние ноги.
— Ры-ы-жий! Ва-аськ! — хрипло закричал ловец. — Ва-аськ! Ры-ы-жий!
Он напряженно заработал ногами, крепко ударяя ладонями по воде.
«Надо догнать лошадь, — решил Дмитрий. — Непременно догнать!»...
Лед совсем близко.
Проклятые штаны! Они тянут и тянут ко дну, не дают как следует двинуть ногами.
И ловец еще сильнее забил руками по воде.
Вот и лед. Хватаясь за его края, Дмитрий приподнялся, но лед рухнул, и ловец с головой ушел в воду.
Остро кольнуло в груди:
«Неужели пропал?»
Он свирепо рвал руками воду, чтобы выплыть наружу и вдруг ударился головой о что-то твердое.
«Подо льдом! — внезапно ожгла его мысль. — Пропал!..»
В загоревшемся мозгу стремительно пронеслись отец, мать, Василий, Глуша.
«Эх, Глуша!.. — Сердце у него дрогнуло. — Пропал!.. Погиб!..»
Дмитрий исступленно метнулся и снова ударился головою о лед. Взбросив руки, он уцепился за шершавое подледье и, перебираясь по. нему, быстро двинулся в сторону.
Неожиданно подледье оборвалось, и Дмитрий выплыл на поверхность разводины.
Он рванулся к кромке и выбросился на лед.
Дмитрий жарко дышал. Все его тело корчилось в судорогах, и голова беспомощно никла ко льду.
Вдруг он вскочил и изо всех сил пустился бежать...
Ни о чем не думая, он несся напрямик и тяжело, громко дышал.
Вскоре ловец разглядел впереди лошадь.
«Может, это Рыжий, а в санях Васька?..» И, напрягая последние силы, он попытался нагнать лошадь.
Но она продолжала уходить вперед.
В мутном рассвете забрезжил огонь маяка.
«Добежать бы до Егорыча, — мелькнула у Дмитрия мысль о маячнике. — Эх, добежать бы!»
Огонь открывался все шире и шире.
Теперь маяк уже окатывал льды приметною, мутно-белой полосою света; льды слегка блестели, и по ним черной тенью, словно в тумане, металась лошадь.
Одежда ловца, обмерзая, казалось, срасталась с кожей; шерстяные чулки его стали точно деревяшки и громко стучали о лед.
На непокрытой голове Дмитрия болтались ледяные сосульки, они больно драли волосы.
Продолжая бежать, ловец широко размахивал руками, оттого оледенелая рубаха и штаны нестерпимо рвали его кожу.
Он ложился на лед и катался по нему, чтобы обмякла одежда и не обдирала тело.
Вскочив, он опять бросался бежать.
Маяк был уже близко, он поливал ловца тусклым, матовым светом. Заскорузлая одежда Дмитрия, словно панцырь, блестела ледяными иглами.
Глава четвертая
Глуша долго не могла уснуть; Дмитрий обещал еще вчера вернуться с моря, но прошел день, и наступила эта грозная шурганная ночь, а его все не было.
Ветер тревожно стучал в ставни, шуршал по ним снегом и заунывно гудел в трубе.
На столе мигала пригашенная лампа; в ее стекло то и дело выскакивал тонкий и длинный язычок огня, он на миг освещал низкую, в желтых обоях комнату.
Ветер настойчиво выдувал из дома тепло; поздно вечером Глуша жарко натопила камышом печку, в комнате сначала было душно, будто в бане, а теперь стало нестерпимо холодно.
Глуша дрожала и куталась в одеяло, натягивая его по самый подбородок.
Рядом с ней лежал рыхлый и неподвижный Мотя.
Он обычно с вечера сразу засыпал, оставляя ее одну в тоске и думах.
И Глуша, как и сейчас, долго не засыпая, лежала в постели, разглядывала выбеленный потолок и старалась найти в нем хоть какое-либо темное пятнышко, чтобы задержать свой взгляд и думать, думать без конца.
Семь годов мучается она с Мотей. Что только не предпринимала Глуша, чтобы сделать здоровым своего слабосильного мужа. Она поила его по наставлению бабки Анюты парным молоком — не помогло. Она в течение нескольких месяцев готовила ему всю пищу только на подсолнечном масле — тоже не помогло. Тогда Глуша, прослышав о некоем прозорливом казахе Сандже, поехала под Гурьев. Костлявый и бритый Санджа, сидя в темной кибитке на корточках и стукая палочкой о какую-то железину, велел ей поить Мотю тюленьим жиром — и это не помогло!..
Мотя не обращал внимания на заботы Глуши: он напролет просыпал не только целые ночи, но часто спал и после завтрака и после обеда.
А однажды, вскоре после их свадьбы, были они в гостях у соседей на крестинах. Сосед, Павло Тупонос, часто и до этого не давал прохода Глуше, а тут — как выпил, так и начал приставать к ней. Глуша пожаловалась Моте, а тот только рассмеялся.
Ловцы частенько намеренно приглашали в гости Мотю с Глушей. Споив его, они приставали к ней, пытались обнимать, но она вырывалась и убегала домой.
На ее жалобы Мотя спокойно отвечал:
— Ну и что же из того, коли помял он немного тебя, — не убудешь от этого.
— Да он, Мотя, хотел... — недоговаривала Глуша и заливалась слезами.
Иногда в ответ на эти слова Мотя необычно сердито кричал:
— Ты, должно быть, хотела, а не он!
— Нет, Мотя, — и Глуша нарочно рассказывала все подробности того, как приставали к ней ловцы, надеясь возбудить в муже ревность.
Но он, как и всегда, безразлично выслушав ее, говорил, шумно позевывая:
— Обедать, что ли, готовь, — и тут же засыпал.
Глуше завидно было глядеть на подружек, которые жили с мужьями в согласии и довольстве. Почти у всех подружек было уже по ребенку, а у некоторых по двое и даже по трое.
Она плакала, тосковала и, чтобы забыться, неустанно с утра до вечера работала: каждый день мыла полы, по нескольку раз чистила посуду, то и дело перетирала чашки и блюдца в горке, носила воду, подметала двор...
А Мотя ел, пил, спал, шлялся по берегу, говорил о пустяках с ловцами и изредка выезжал на лов.
«Батяша виноват», — горестно думала Глуша.
Максим Егорыч исправно каждый месяц приезжал к дочери и зятю.
Он жил на маяке, где по ночам калил ослепительную лампу, указывая ловцам обратный путь из Каспия. Один раз в месяц Максим Егорыч ездил в район получать деньги и продукты. По дороге из района на маяк он направлял свой утлый куласик в Островок, где и проводил целый день.
Из полученных продуктов он выделял половину дочери и, распив с зятем бутылку водки, отдавал ему и деньги.
Жил он на маяке один, и деньги ему не нужны были.
— Живите, детки, радуйтесь! — говорил Максим Егорыч, похлопывая зятя по плечу.
Выпив, отец быстро хмелел и подолгу тянул смешным баском свою любимую песню:
Эх ты, до-ля, моя до-ля...Он плакал и безрадостно пел:
До-о-ля, до-олюшка мо-о-я.Мотя, медленно раскачиваясь, гнусаво подтягивал тестю:
Э-зх, за-а-чем ты, зла-ая до-ля...Всхлипывая, Максим Егорыч поднимался из-за стола, подходил к дочери, обнимал ее и безутешно плакал, смеялся.
— Живите, детки, — повторял он, — и радуйтесь...
Порой, когда засыпал Мотя, Максим Егорыч посылал Глушу за хромым, но всегда веселым Лешкой-Матросом, у которого была ладная саратовская гармонь с колокольчиками.
Распив с гостем новую бутылку, отец, совсем захмелевший, весело кричал ему:
— Жарь, Лексей, плясовую!
Тот, широко растягивая алые мехи гармоники, сразу ударял во все лады и колокольчики.
Лихо притопывая перед дочкой, отец долго, до изнеможения кружил по горнице и, споткнувшись, падал на пол и засыпал.
А Матрос, дерзко подмигивая Глуше, наигрывал задушевные волжские припевы и, должно быть намекая на то, что когда-то Максим Егорыч обещал выдать ее за него замуж, — тихонько и грустно подпевал:
Эх, вспомни, что было, — Наверно, забыла...К вечеру Максим Егорыч уезжал на маяк...
Глуша долго не говорила отцу о своей несчастной, постылой доле, но однажды, когда не было Моти дома, она заплакала и все выложила старику.
— Почему раньше не говорила? — строго спросил он ее.
— Совестно было... А сейчас будто все равно, — закрыв лицо передником, всхлипывала Глуша. — Все одно, батяша, утоплюсь или отравы какой приму.
— Шалишь, дочка! — сердито предупредил Максим Егорыч. — Я поговорю с ним сегодня. Проучу его, судака-дурака!
Когда заявился Мотя, отец заперся с ним в горнице и сурово спросил:
— Ты что же это, Матвей Никанорыч, мою дочь изводишь?
Затаив дыхание, Глуша слушала, как отец нещадно ругал зятя. Найдя в простенке щель, Глуша увидела: маленький ее отец суетливо бегал вокруг огромного Матвея, а тот спокойно сидел на табурете, отец тыкал его то в грудь, то в плечо, свирепо грозился, мотал головой и на какое-то возражение зятя вдруг визгливо вскричал:
— Дурак!
Выхватив из-под полы пиджака прут, он неожиданно жиганул Мотю по спине.
— Батяша! — взвизгнула Глуша.
Не обращая внимания на крик дочери, Максим Егорыч хлестнул зятя еще и еще раз.
— Батяша!
Зять упал в ноги тестю, а тот продолжал хлестать его по спине.
— Прости, Максим Егорыч! — взмолился Матвей. — Постараюсь! Постараюсь, Максим Егорыч!
Глуша бросилась к двери:
— Не надо, батяша! Не надо!
Отец, не пообедав, уехал к себе на маяк...
Через месяц, снова заглянув в Островок, он не пошел к зятю в дом, а вызвал Глушу на берег и спросил ее:
— Ну как, дочка?
Она, потупив глаза, печально ответила:
— Все так же, батяша...
Максим Егорыч поехал к свату, отцу Матвея, — жил он недалеко, в соседнем поселке.
Оба они, выпроводив Глушу из дома, долго говорили с Мотей и, должно быть, секли его, — он несколько дней после того и пил и ел стоя.
Опять через месяц приехал Максим Егорыч к Глуше:
— А теперь как, дочка?
— Все одно, батяша...
После этого не приезжал он в Островок полгода; только изредка передавал дочери приветы через ловцов.
Ловцы говорили Глуше:
— Батька кланяется тебе. Только что-то водку сильно хлещет. Гляди, не опился бы да не помер...
Она ездила на маяк и ни разу не заставала отца трезвым.
Был он всегда пьян, беззвучно плакал и, без конца целуя Глушу, приговаривал:
— Милая ты моя... Хорошая ты моя... Погубил я тебя, старый дурень. Нашел тихоню, Мотьку... Думал, что тихий парень, а стало быть, и жизнь тихая, ладная у вас будет. А вышло ни то ни се. И не штиль, и не штормяк у вас, а чорт-те что получилось!.. Эх, за что же тебе, дочка, такое наказание от господа-бога? Ты же не жила еще как следует и не успела грехов натворить. Это я, старый бес, много грехов имею. За что же тебе наказание такое?
Он поднимал глаза на икону и пьяно, безалаберно кричал:
— За что, господи, такое наказание моей Глушке?!
Шатаясь, он шел к иконе, пытался сорвать ее, но как только приближался к ней, смиренно опускал голову, что-то беззвучно шептал и снова принимался за водку.
Глуша прятала от него бутылки с водкой и к вечеру увозила их с собою...
Но ловцы опять и опять напоминали ей об отце, об его пьянстве. Она все реже и реже ездила к нему на маяк. Эти поездки тяготили ее: отец не мог сказать ей ни одного путного слова, он все так же плакал и только усиливал Глушино горе.
Мотя, избалованный раньше помощью тестя, хотя и ощущал теперь недостаток и в хлебе, и в деньгах, и во многом другом, продолжал, однако, все так же нерадиво относиться к своему хозяйству и не часто выезжал на лов.
Глуша еще больше ушла в заботу по домашности. Она даже, чтобы найти хоть в чем-либо утешение, выполняла мужскую работу: смолила бударку, перекрывала камышом крышу, поправляла забор, сбивала рассохшиеся ставни...
Часто ощущая во многом нехватки, она принуждена была, не дожидаясь, пока надумает Мотя, сама выбивать сети, чтобы иметь рыбу на варево. Но это нисколько не тяготило ее; она эту работу, как и все другое, выполняла охотно, даже ревностно, зная, что это займет у ней время, натрудит ее, — возможно, скорее будут смыкаться ночью веки ее глаз, она быстрее будет засыпать.
Когда бывало она проходила по поселку — высокая и стройная, качая крутыми бедрами, — парни и женатые ловцы завистливо поглядывали на нее.
— Хороша стерлядка! — говорили они. — Да скоро портиться начнет...
Глуше недавно исполнилось двадцать семь лет. Круто изменился характер ее за последние годы: становилась она злой и сварливой, на приставанья ловцов отвечала дерзко. Мотю она колотила, часто сбрасывала ночью с постели на пол, а особо назойливых ловцов изводила неисполняемыми обещаниями: они напрасно и подолгу ожидали ее в прибрежных камышах или под бугром. Иной раз, условившись с надоедливым ловцом о встрече, она шла к его жене и, рассказав об этом, посылала ее вместо себя. Нередко, разговаривая на улице о чем-либо с парнем или женатым ловцом, она нарочно задерживала его, стараясь, чтобы кто-нибудь увидел их, и, зная, что ловца ожидает выговор от жены или невесты, она громко смеялась, развязно хлопала его по плечу...
И кто знает, до чего довела бы ее эта озорная игра, если бы не подоспел Дмитрий Казак.
Парни уже собирались отомстить Глуше за ее проделки, несколько женатых ловцов тоже обещали ее встряхнуть, а некоторые рыбачки, которые подозревали о связи своих мужей с Глушей, хотели особенно крепко разделаться с ней.
В это время и появился Дмитрий.
Однажды по протоку, где были выбиты Глушины сети, мчался он на бударке под парусом.
Глуша сидела на вдвинутой в камыш лодке и задумчиво глядела на тихие, светлые воды камышевой заводи, мысленно разговаривая сама с собою о несносной, никчемной своей доле.
Неожиданно над протоком вскинулась чья-то песня:
Не ходите, девки, замуж, Не губите свою жисть. Эх ты, горе, бабье горе, — Хоть живою в гроб ложись.Вздрогнув, Глуша раздвинула камыш и увидела Дмитрия; он полулежал на корме, раскинув ноги по бортам лодки.
Если муж тебе не пара И не балует тебя...Не докончив припева, он вскочил на ноги и отпустил шкот; парус начало хлестать, и лодка замедлила ход. Схватив шест, Дмитрий стал поспешно водить им под рулем.
Очнувшись, Глуша поняла, что лодка Дмитрия наскочила на ее сети и, должно быть, порвала одну из них. Она быстро выдвинула свою бударку из камышей и грозно закричала на ловца:
— Слепой, что ли! Куда заехал!..
— Но-но! — оборвал ее Дмитрий. — Чего орешь? На Мотьку, что ли? Не ори, я тебе не муж!
— Выкладывай новую сетку или деньги плати! — не унималась Глуша. — А то вот веслом как дам!
Дмитрий, сдвинув на затылок картуз, громко рассмеялся.
Лодки их столкнулись.
— Я тебе посмеюсь! — и Глуша угрожающе подняла весло. — Давай новую сетку!
Опустив парус, Дмитрий набросил цепь своей лодки на уключину Глушиной бударки и сам перемахнул в нее.
— Ты что ругаешься? — спросил он Глушу, вплотную подходя к ней.
— А тебе здесь чего надо? — она обеспокоенно, часто задышала.
Сощурив глаза, Дмитрий сдержанно усмехался.
— Чего, спрашиваю, надо тебе здесь? — и Глуша отступила.
У Дмитрия лихорадочно блестели глаза. Вырвав из рук Глуши весло, он рывком вогнал лодку в камыши.
Все усмехаясь, Дмитрий вплотную подошел к Глуше и ласково толкнул ее...
Глуша крепко привязалась к Дмитрию.
Не обращая больше внимания на равнодушного Мотю, она опять стала тихой и молчаливой; с ловцами она тоже не была теперь злобной и дерзкой — шутила, смеялась с ними.
И в неизбывной радости Глуша стала еще пышнее расцветать.
Рассказывая своей подружке Насте Сазанихе о связи с Дмитрием, она признавалась душевно:
— Знаешь, Настенька, будто сызнова я на свет народилась...
Подружка, охая, предупредительно говорила:
— Смотри, Глушенька... Как бы чего не случилось...
Глуша закрывала глаза, закидывала руки за голову и, потягиваясь, беспечно произносила:
— Ну и пусть! А сейчас мне хорошо... Будто сызнова я жить начинаю...
Отец, прослышав о связи Глуши с Дмитрием, приехал в Островок.
— Брось, дочка, баловать! — строго пригрозил он ей. — Ей-ей, побью, ежели еще раз услышу.
— Батяша! — в отчаянии воскликнула Глуша. — Или ты сам не знаешь!..
— Ничего не знаю! — Максим Егорыч сердито топнул ногой. — А баловать брось!
Он стал меньше пить и теперь почти каждую неделю приезжал к дочери.
Сначала маячник все грозил выпороть ее при всем народе, а потом стал запугивать:
— Бросит он тебя. Попомнишь мое слово, бросит. Он — парень! Ему для жизни девка нужна. А баба — так, только для потехи...
Об этом же говорили ей и Настя и другие рыбачки...
Однажды Максим Егорыч сумрачно сказал ей:
— Куда ни шло! Раз не люб тебе Мотька, бросай его и выходи за Лексея-Матроса... А Митрия забудь: не пара он тебе! Попомни мое слово: бросит он тебя. А Алексей — суженый тебе. Помнишь?..
О Лешке-Матросе, с которым гуляла Глуша еще в девках, она не хотела теперь и слышать: с гражданской вернулся он поздно, без ноги и частенько изрядно выпивал.
— Митрий — парень, а ты — не девка! — твердил Максим Егорыч. — Известно, для чего ты ему нужна... Бросит он тебя!
Это начинало волновать Глушу, и она, отрадно отвечая на ласки Дмитрия, стала понемногу задумываться над тем, а что же будет дальше...
Один раз она прямо спросила об этом Дмитрия.
— Окрепну с хозяйством, — решительно заявил он, — тогда и жить вместе будем. Повенчаемся в загсе, и перейдешь ты ко мне в мазанку.
Глуша верила Дмитрию и ждала; она терпеливо переносила угрозы отца, безропотно выслушивала сомнения подружек, упреки досужих рыбачек.
«Скоро конец мученьям, — думала Глуша, лежа в постели и слушая, как во дворе бесновался шурган, громко ударяя снегом в стены дома. — Удачливо ловят белорыбку Митя и Васька. В эту весну непременно они самостоятельными ловцами будут!»
И она улыбалась, чувствуя, как в радости закатывается ее сердце...
Но рядом, раскинув руки, шумно храпел Мотя.
Она закрыла глаза и повернулась к нему спиной, снова пытаясь заснуть, но сон не шел — шурган бушевал, хотя уже и тише, все же продолжал настойчиво напоминать ей об опасностях, которые подстерегают ловцов на море.
Ворочаясь и вздыхая, Глуша с сожалением подумала о том, что напрасно погорячился Дмитрий и не взял с собой в море купленную ею у бабки Анюты спасительную, волшебную грамотку «богородицын сон».
«Капризный, чертяка», — ласково выругала она Дмитрия, припоминая, как швырнул он грамотку в помойное ведро и, нахмурясь, сердито сказал: «Меня в Красной Армии другим делам обучали!»
Слушая, как стучит в ставни ветер, Глуша все думала о Дмитрии. Ей то мерещилось, что его и Василия заваливает в коше этот шурган, то отрывает льдину и уносит с ловцами в относ, то Митя с Василием, возвращаясь домой, сбиваются в снежной буре с дороги...
Опять открыла она глаза и опять долго разглядывала потолок... Потолок, казалось, заволакивался туманом, незаметно переходя в картины ледяного, пустынного Каспия. Над морем беспрерывно кружила метель, сквозь нее пробирались Митя с Василием в Островок.
И вдруг из этого снежного бурного вихря, кажется, вырвался басовый в отчаянии голос:
— Глуш-а-а!..
Она вздрогнула, сбросила одеяло, пржгоднялась на локте.
Потрескивал фитиль в жестяной лампе, да осторожно за печкой скребла мышь.
Глуша долго вслушивалась в это мирное, ладное затишье.
«Шурган кончился, — решила она. — Должно, светать скоро будет».
И, вспомнив, что Настя, жена Василия Сазана, которая была на сносях, просила пораньше утром проведать ее, Глуша соскочила с кровати и в одной рубашке подбежала к столу.
Она прибавила свет в лампе, посмотрела в висевшее над столом зеркало — оттуда глянуло розовое, полное лицо с черными и круглыми глазами.
Глуша тихо улыбнулась своему отражению, и оно тоже ответило улыбкой, молчаливой и согласной.
«Может, из ловцов кто приехал, — подумала Глуша, — и Насте что-либо передали о наших. А может, и сами прикатили».
Она быстро оделась и выбежала во двор. Кругом были навалены огромные сугробы снега. Тускло светилась, густая белизна.
На улице властвовало безмолвие, курился синевою снег.
Проваливаясь в мягкие сыпучие сугробы, Глуша пробиралась к противоположному порядку домов; почти во всех домах уже были огни.
— Шурган поднял, — тихо сказала она, озираясь по сторонам.
Обходя высоченный бугор, подумала:
«А не сбегать ли к бабке Анюте погадать о Мите?» — и направилась было в проулок, но тут же замедлила шаги.
Бабка жила на самом краю Островка, у относной могилы.
Про этот курган с черным, из мачты, крестом говорили много страшного. Ходили слухи, что замерзшие когда-то в относе девять ловцов в шурганные ночи встают из этой могилы и бродят по поселку. Передавали также, что не раз видели, как мертвецы выходили группой прямо на Каспий и, прикидываясь добрыми людьми, заманивали к себе ловцов.
Глуша переборола страх и бегом пустилась к бабке. Где-то громко залаяла собака...
Запыхавшись и не глядя в сторону относной могилы, Глуша торопливо постучала в окно.
— Кого леший принес? — сердито прошамкала бабка, выходя в сени.
— Я, бабуся... Глуша...
— Чего спозаранок надо?
Бабка слегка приоткрыла дверь и высунула белую, седую голову; у нее был узкий, маленький лоб и впалые, ямками, виски, синеватые и чуть прикрытые редкими волосами.
— Погадай, бабуся, — и Глуша потянулась к ней, жадно вдыхая шедшие из сеней медовые запахи засушенных трав.
— Знаешь сама, — бабка недовольно взмахнула руками, —до солнца не ворожу. Взойдет, тогда и прибегай, — и захлопнула дверь.
— Бабуся!
— Ступай, дочка, ступай домой!..
Постояв немного, Глуша взглянула на относную могилу, сверкавшую белым снежным саваном, и опрометью побежала к Насте.
Навстречу из-за угла выкатила подвода, рядом с нею шагал человек. Глуша признала Антона.
— Хапун чортов! — недружелюбно зашептала она. — Жадюга ненасытный.
Антон последние годы работал от Дойкина. Он копил деньги на полную ловецкую справу, надеясь быть сам себе хозяином... Антон занимался обловом запретных рыбных ям, возил от Дойкина на государственные тони водку, где казахи тянули невода, и тайно обменивал ее на красную рыбу.
Жена Антона, худая и высокая Елена — подружка юности Глуши, — вот уже больше года чахла от какой-то болезни. А он, этот сквалыга, дрожа над каждой копейкой, не лечил жену, морил голодом и все копил, копил деньги на сбрую.
— Чортов алтынник! — онова зашептала Глуша. — И сам подохнешь скоро. Вон как согнулся!..
Грузная, когда-то статно-дерзкая фигура Антона была теперь искривлена ревматизмом: ходил он не спеша, вразвалку, сгорбившись.
В девках Глуша засматривалась на Антона. Но это было давно — семь-восемь лет назад.
И, глядя сейчас вслед размеренно, по-стариковски шагавшему подле саней Антону, она вновь с неприязнью подумала:
«И Елену в могилу пихает, и сам туда же лезет, жадный!..»
Глуша остановилась возле небольшого домика и, осторожно приоткрыв ставень, посмотрела в окно.
Настя Сазаниха сидела на табурете и чинила сеть. Слегка покачиваясь из стороны в сторону, она негромко пела старинную песню рыбачек о ловце, который ушел в море и не возвратился к жене и ребятам.
Песня лилась плавно и заунывно.
Перестав петь, Настя взглянула на окно. Глуша улыбнулась и махнула ей рукой. Прикрыв ставень, она прошла в сени.
Впустив подружку, Настя взволнованно заговорила:
— А наших все нету... Обещали вчера приехать. И шурган этот — что-то сердце щемит. Всю ноченьку глаз не сомкнула.
— И я тоже, — Глуша опустилась на скамейку. — Сон нехороший видела. И не сон вроде, а будто на самом деле слышала голос Мити... Так это он жалостливо, словно из могилы, позвал: «Глуша-а!..»
Настя молча перекрестилась и присела на табурет к натянутой вдоль всей комнаты сети. Быстро работая большой деревянной иглой с намотанной на ней пряжей, она чинила разорванные ячеи.
— А как у тебя? — спросила Глуша подружку и кивнула на ее выпуклый живот.
— С вечера, как ты ушла, тошно было, схватки мучили, а потом полегчало...
Настя снова затянула песню о погибшем ловце.
— Дай-ка и мне игличку, — попросила Глуша и, сбросив с себя коротушку и платок, придвинулась ближе к сети. — С весны ведь, как говорили, совместный, артельный лов у нас будет, и я, значит, тоже должна помогать.
Не переставая петь, Настя согласно кивнула головой и подала подружке деревянную иглу.
Дожидаясь утра, а с ним и возвращения своих ловцов, рыбачки чинили сети и неторопливо, вполголоса тянули все одну и ту же песню...
Глава пятая
Вслед за Турками в Островок прикатил краснощековский Булан; был он весь в пушистом белом инее, в санях лежал застывший Коляка.
Когда старый Турка пустил Булана в даль Каспия, Коляка, чувствуя, что он замерзает, что приходит ему конец, кое-как выполз из саней, ухватился за оглоблю и беспамятно побежал вровень с лошадью.
Это согрело ловца, разогнало в нем кровь, и он наконец сообразил, что лошадь идет не к берегам..
Повернув Булана в обратную сторону, Коляка, окончательно надорванный бегом, в изнеможении повалился в сани; изредка приподнимал он голову, проверяя, так ли идет Булан.
Все глубже и глубже зарывался ловец в сено, и когда ударял шурган, он уже крепко спал.
В устье Волги, где еще с осени были наворочены подвижкой льда ухабы, Булан чуть не выбросил ловца; сани, съехав с одной льдины в провал, встали на полоз, и Коляка очнулся; хватаясь за ободку саней, он едва удержался, когда лошадь рванула из провала.
Бурно начиналась заря; пылающий багровый восток окрашивал в цвет крови однообразные приморские снега.
Отупело посмотрев вокруг, Коляка снова опустился на сено и впал в забытье...
Булан уже вбегал в Островок, а ловец не знал об этом; и не в состоянии был двинуть окаменелыми ногами и безразлично думал о конце своей суровой ловецкой жизни.
«На роду, стало быть, написано... — безмолвно примирялся он со смертью. — И батька, затертый осенью льдами, сгиб в море... И дядька... И брательник...»
Коляка ощущал себя, свое стынущее тело только тогда, когда вспоминал жену и ребят; в это время беспокойно шевелилось сердце, хотелось подняться и снова побежать с Буланом, чтобы не пропасть, не замерзнуть. Но сил в закоченелом теле не было, и ловец, тупо разглядывая камышовую ободку саней, опять думал о своем конце.
По улицам поселка Булан бежал шустро, высоко вскидывая голову, и потихоньку ржал, радуясь близости своего двора.
Коляка лежал в санях недвижно, попрежнему тупо рассматривая ободку саней остеклянелыми глазами. Он даже не слышал, как ловцы и рыбачки Островка окружили сани, тревожно и громко кричали:
— Гони лошадь к Колякиному двору!
— Сам гони, с мертвецом-то!
Большой, черный Цыган наклонился к Коляке и поднес к его рту ладонь. Толпа притихла.
— Дышит, — уверенно сказал Цыган. — Живой еще!
Снова зашумели ловцы и рыбачки:
— Гони лошадь!
— Кричи жинку!
— Кадку надо готовить с холодней водой — отойдет!
— Водкой отогревать надо!
— Снегом!
— Ледяной водой лучше!
Толпа шла за санями и без умолку шумела. Лошадь вел под уздцы широколицый Илья, сын Краснощекова.
Сам Захар Минаич не вышел из дома — у него от страха отнялись ноги, обмороженные много лет тому назад. Он сидел на кровати и, разглаживая их, нетерпеливо поглядывал на дверь, в которую то и дело вбегала на секунду Марфа и, сообщив, что происходит на улице, вновь спешила на двор.
«Чорт меня дернул спутаться с этим болваном! — с досадой думал Захар Минаич о Коляке. — Что теперь будет? Неужели попался он Турке?..»
Марфа рассказывала, что Турки возвратились с моря еще на заре; проезжая мимо краснощековского дома, они на приветствие Марфы почему-то не откликнулись.
Отсюда и сомнение и страх у Захара Минаича.
— В дом повезли! — крикнула вбежавшая в горницу жена. — Живой еще!
Захар Минаич, выпучив белесые глаза, свирепо рявкнул на Марфу:
— Дура! — и от злобы у него затряслись розовые, сытые щеки. — Вот ду-ура!
Упираясь руками о матрац, он попытался спустить ноги с кровати, но они затяжелели и не двигались.
— Говорил тебе, узнай: не попался ли Коляка, что с ним...
— Как же узнаешь? — начала было оправдываться Марфа. — Он же замертво лежит в санях...
— Как же, как же! — передразнил Краснощеков жену. — Закаркала, ворона!
— Замертво... в санях... Захарушка...
— Молчать! — вскричал Захар Минаич и упал с кровати на пол.
— Ой! — и Марфа бросилась к нему. — Так убиться можно!
Закусив нижнюю — жирную и толстую губу, он пополз к окну. Марфа, не зная, что делать, бестолково суетилась вокруг мужа.
— Захарушка... Что ты... Захарушка...
Около окна Захар Минаич приподнялся и, опираясь локтями о подоконник, глянул на улицу. Толпа, окружив сани, медленно двигалась к Колякиному дому.
— А Илья где? — и Краснощеков попытался приподняться на ноги.
Жена поспешила к нему на помощь.
— Лошадь повел, — тихо сказала она, подымая мужа подмышки.
— Зачем?!
— Захарушка... Да что ты кричишь? Повел он лошадь, потрется среди ловцов, — может, что и узнает.
Захар Минаич при помощи жены уселся на стул. Ноги, словно железные болванки, тяготили тело.
— Подвинь стол ко мне, — приказал он. — Самовар поставь. Сходи к куму, Трофиму Игнатьичу. Поздоровайся еще раз с ним, приглядись, в чем там дело. Потом позови его ко мне, скажи, что занемог я, плохо мне, да еще скажи, что Коржак был, о городе рассказывал...
— Ладно, сейчас пойду, — говорила Марфа уже в кухне, гремя то ведром, то самоварной трубой. — Так и скажу, ладно.
Когда она вышла на улицу, толпа уже была во дворе Колякиного дома. Марфа заспешила обратно и стала наблюдать через забор за тем, что происходило у соседей.
Заспанная Пелагея выскочила во двор в одной юбке, без кофты; увидев в санях обмороженного мужа, она внимательно оглядела притихшую толпу и метнулась обратно в горницу.
Ловцы зашумели:
— Вноси в дом!
— Кадку с водой готовь!
— Живее!..
Ловцы начали поднимать Коляку из саней.
— Полегче берите, а то ноги-руки переломаете!
— В самом деле, полегче — замороженный он!
— Под спину бери!
— Легче!..
Коляку понесли в дом.
Навстречу из горницы опять выбежала Пелагея, остановилась на крыльце; на руках у нее был грудной ребенок, а по бокам держались за юбку пятилетний Миша и восьмилетняя Ирина. Дети спросонья голосили, недоуменно глядя на гомонившую толпу.
За Пелагеей поспешно вышла, подвязывая платок, мать Коляки — старая-престарая рыбачка, сгорбленная и седая.
— Пелагея! — окликнул кто-то из ловцов. — Не мешай! Входи в горницу!
Ловцы уже поднималисъ с Колякой на крыльцо.
Пелагея с ребятами и свекровью отступила к жиденьким перильцам, освобождая узкий проход.
Коляка на руках ловцов продолжал оставаться недвижным, одежда на нем окаменела, и он безответно глядел пустыми глазами.
Посуровев в лице, Пелагея пристально наблюдала за мужем; дети, прижимаясь к ней, тихонько всхлипывали.
Мать Коляки под напором толпы входила в горницу и, покорно вытирая концами платка сухие глаза, безропотно твердила:
— Я так и думала... Чуяло мое сердце беду... И сон нехороший видела.... Чуяло сердце...
А потом вдруг повалилась на пол и пронзительно заголосила:
— И на кого же ты нас, Коляшенька, спокинул?!.
Всех желающих знать, что будет дальше с Колякой, маленький его домишко не мог вместить, и многие бросились к окнам, но стекла намерзли толстыми узорами. Тогда ловцы и рыбачки, не попавшие в горницу, двинулись на берег. Там была другая, меньшая толпа, — люди ожидали с Каспия остальных ловцов.
К дому Коляки подходил спокойный, медлительный Андрей Палыч, секретарь комячейки и депутат Бугровского сельсовета, — в Островке, за малочисленностью населения, сельсовета не было. Ловцы уважали Андрея Палыча, ходили к нему за советом, за помощью.
Войдя в горницу и узнав о случившемся с Колякой, Андрей Палыч коротко, но решительно сказал:
— Выноси его на волю!.. А водка есть?.. Начинайте растирать его снегом с водкой!..
И молча пошел на берег, где громко и тревожно шумели ловцы, ожидая возвращения с моря кто родственников, кто соседей. Не вернулись еще с моря Василий Сазан и Дмитрий Казак, Костя Бушлак и Лешка-Матрос, Григорий Буркин, Сенька.
К Андрею Палычу подошла его жена Евдоша, и они зашагали вместе.
— Надо хорошенько разузнать о Коляке, — раздумчиво рассуждая с самим собою, сказал он. — Тут есть что-то такое...
— А что? — с любопытством спросила Евдоша.
Андрей Палыч не ответил, убыстряя шаг. Жена искоса, недовольно посмотрела на него...
Ловцы на берегу высказывали разные догадки о не вернувшихся еще с моря людях, вспоминали случаи относов, спорили, курили.
Вместе с другими на берег шли Глуша и Настя Сазаниха. Позади их шагали Евдоша с Андреем Палычем.
— Думаешь, отойдет Коляка? — тихо спросила Евдоша.
— Должен отойти, — уверенно ответил Андрей Палыч. — Оттирают его снегом с водкой и на воле. А то вон прошлой осенью попортили человека, — и он кивнул на жену Савелия, который по первому еще льду обморозил ноги и лежал теперь в районной больнице. — Оттирали его тогда в горнице. А надо на воле, и онегом с водкой...
Евдоша нагнала Глушу и Настю.
— Твоего все еще нету? — и она участливо глянула на Настю.
Вместо ответа, Настя, охнув, схватилась за живот и присела на снег:
— Ой, Глушенька!..
Глуша придержала Сазаниху под руку.
— Пойдем, Настя, домой. Я за бабкой сбегаю.
Настя отрицательно покачала головой, скривила губы и, пересиливая боль, поднялась.
— На берег хочу, — мужественно заявила она и выпрямилась. — Дойду.
С берега доносился громкий голос Антона:
— Перемерзли они и подались на маяк к Максиму Егорычу. Потому и нет их все. А вы каркаете: в относ угнало, в относ угнало!.. Чего каркаете? На маяке они!
Подружки, улыбаясь, переглянулись. Кто-то невнятно, чуть слышно говорил, — наверно, отвечал Антону. А он все не унимался:
— Когда узнаешь, что в относе, тогда и каркай!
Какой-то парнишка, спрыгивая с забора, голосисто вскричал:
— Едут! Едут!
По ту сторону протока, вдоль камышей, едва приметно, мелкой рысцой бежала лошадь.
— Вроде Андрей Палыча кобыла.
— Она. Костя с Матросом, стало быть.
— Нет! Это дойкинский маштак!
— Андрей Палыча!
— Дойкинский!..
Лошадь отделилась от камышей и пошла наперерез протока.
Ловцы и рыбачки сошли на лед, ребятишки бросились лошади навстречу.
Павло Тупонос пристально посмотрел на проток.
— Дойкинский маштак, — утвердительно сказал он и оглянулся.
Позади стояли притихшие Глуша и Настя. Павло весело подмигнул Сазанихе:
— Встречай муженька!
Потом вплотную подошел к Глуше и шепнул ей на ухо:
— А ты милягу встречай, — и хотел обнять ее.
Глуша сильно толкнула его в грудь.
— Не лезь!.. — и, взяв под руку Настю, сошла с нею на лед.
Настя признала приземистого, коротконогого дойкинского коня.
— Наши! — радостно шепнула она Глуше.
Лошадь была уже близко, но из саней никто не показывался, никто не правил конем.
Настя задрожала, обхватила живот и прижалась к подруге.
— Ты чего? — спросила ее Глуша.
— В поясницу стучит... И в санях будто никого...
Еще раньше Насти приметила Глуша эту несуразицу — сани без ловцов, но она пока молчала, боясь напрасно потревожить подружку.
А теперь было уже, кажется, ясно: сани пустые.
Ребятишки, встретив лошадь, вели ее под уздцы к толпе и что-то кричали. Конь сплошняком обмерз льдом, а грива, вся в сосульках, топорщилась.
Поддерживая Настю, Глуша видела, как толпа окружила лошадь, а потом расступилась и нерешительно глянула на них, на рыбачек, стоявших невдалеке от толпы.
Почувствовав неладное, Глуша ринулась к лошади, увлекая за собой и Сазаниху.
В санях и на самом деле не было ловцов.
Хватая руками воздух, Настя вдруг отчаянно взвизгнула и повалилась на лед.
— Ой, бабоньки! — истошно закричала она. — Живот!.. Где же Васенька?! Ой, живот!..
К Насте подбежали рыбачки.
Не зная, что делать, Глуша молча и безнадежно глядела на сани, где лежали обмерзшие оханы и тулуп.
И вдруг она подскочила к рыбачкам, которые держали Сазаниху, и требовательно выкрикнула:
— Бегите за бабкой Анютой! А Настю в сани — и домой! Скорей!
И, подбегая то к одному, то к другому ловцу, Глуша хватала их за тулупы, фуфайки и, округлив большие черные глаза, взволнованно спрашивала:
— Что ж это такое?.. Где же Митрий с Васькой? А?.. Где же они? А?..
Ловцы пожимали плечами, крякали, отводили глаза в стороны, закуривали.
Неожиданно кто-то громко крикнул:
— Еще едут!..
По-над берегом Островка бойко бежала лошадь. Ловцы двинулись навстречу.
Несколько рыбачек повели на берег дойкинского коня; в санях лежала Настя и безумно выла.
Вместе с толпой Глуша молча шагала к быстро приближавшейся лошади.
— Андрей Палыча кобыла, — снова выразил предположение Павло Тупонос.
— Она! — уверенно подтвердил Антон.
Лошадь, проворно перебирая передними ногами, шибко катила сани, из которых то и дело показывались ловцы.
— Костя Бушлак это и Лешка-Матрос... — Откинув воротник тулупа, Антон подмигнул шедшему с ним рядом Павлу Тупоносу и показал на Глушу. — Нет еще, значит, Васьки Сазана и Митрия Казака. — Последнее имя ловец особенно подчеркнул и снова взглянул на Глушу. — Жалко парня!.. Эх, и жалко Митьку, — хорош парень!..
Не оглядываясь, Глуша сердито прошептала в ответ Антону:
— Хапун чортов! Жинку свою пожалей, доктора привези ей да лекарства купи. Деньги-то у тебя дешевые! Видала, как утром вез нахапанную из ямы рыбу...
Не слушая, что говорил дальше Антон, она зашагала быстрее, напряженно глядя вперед.
Кругом гомонили ловцы и рыбачки.
Признав Лешку-Матроса, который, привставая из саней, крутил над лошадью кнутом, Глуша тяжело задышала и, беспомощно опустив голову, повернула на берег.
«Куда же делся Митя? Что с ним стало? — непрерывно задавала она себе вопросы. — Почему лошадь порожняком пришла? — И вдруг сердце ее зашло: — Может, относ случился? — В море, может, унесло?..»
Она сразу обессилела; ноги еле двигались, руки расслабленно повисли.
Глуше тут же припомнилась с малейшими подробностями вся ее безрадостная жизнь с Матвеем Беспалым.
«Митенька... Где ты? — шептала она. — Что с тобой? Митенька...»
И всю ее окатило, словно морской волной, жгучей, нестерпимой тоскою.
Она шла и ничего не видела...
Позади кто-то окликал ее, но она, все слабея, продолжала нетвердо шагать по берегу.
— Глуша, Глуша!..
Повернувшись, Глуша увидела, как из саней выпрыгнул Матрос и, слегка припадая на деревянную ногу-протез, спешил на берег.
Она снова, пошатываясь, зашагала к поселку.
— Глуша, постой! Постой, говорю!
Глуша опять безотчетно остановилась, машинально глянула на проток: там, у лошади, сгрудились ловцы и о чем-то громко говорили с Костей Бушлаком.
— Глуша!
Лешка-Матрос, как и всегда, восторженно улыбался.
— Послушай! — восхищенно кричал он. — Послушай!..
Он козырем подошел к Глуше и, хлопнув ее по плечу, сказал:
— Поезжай на маяк, батька дожидается...
Глуша недоверчиво посмотрела на него.
— Чего уставилась? — и Лешка снова хлопнул ее по плечу.
У ловца было розовое, брызжущее смехом лицо, — оно всегда сияло радушной, приветливой улыбкой.
— Бери у кого-нибудь лошадь да кати на маяк, говорю!
Сердце у Глуши радостно зачастило.
— А еще чего скажешь, Лешенька? — и она в беспокойстве шагнула к нему.
— Еще?.. Суженый вот еще твой перед тобою, — Лешка щеголевато подтянулся. — Забываешь только ты меня... И батька твой забывает...
Глуша дрожала, догадываясь, что ловец что-то утаивает от нее.
— Леш... родной, — она теребила его за рукав. — Скажи правду, Леш...
На секунду помрачнев, он недовольно проронил:
— Митька на маяке... С относа вырвался...
И, снова засияв улыбкой, тихо попросил:
— Не езди туда... Оставайся здесь, поговорим с тобой... Что тебе Митька? А я — суженый... Потолкуем по душам...
Глуша хотела что-то сказать, но вдруг, вздернув с боков юбку, пустилась бегом по улице.
— Ах, ты!.. — и Матрос нетерпеливо затыкал ногой-протезом в снег. — Вот ведь какое дело!
Он долго и грустно смотрел вслед убегавшей Глуше.
— Ну и ну!.. — ловец покачал головой. — Раньше на Мотьку меня променяла, а сейчас вроде на Митрия меняет...
Глуша бежала и думала:
«У кого же взять лошадь?.. Что с Митей? Напрасно не расспросила я Лешку. А Васька где?.. Не посмеялся ли надо мной Лешка? Не набрехал ли о Мите?.. Нет, не должно быть... А где же лошадь достать? Где?.. К Лешке еще забежать надо, узнать подробно... И к Насте надо...»
Завидев депутата сельсовета, Глуша бросилась к нему.
— Андрей Палыч, наряди, пожалуйста, побыстрей очередного на поиски Митрия и Василия! — умоляюще попросила она. — Я сама поеду! Лешка говорит, на маяке вроде они.
— Казак — на маяке, — глухо подтвердил Андрей Палыч. — А вот Василия — в относ, видать, угнало... — Помедлив, он сказал: — Наряжу тебе очередного, но с условием: заедешь в сельсовет и передашь мою бумажку о Василии. Иди к Дойкину и скажи: приказал, мол, депутат сельсовета дать лошадь. Так и говори: приказал!..
Когда Глуша вошла во двор Дойкина, из конуры, что была подле калитки, высунул страшенную морду Шайтан. Он глухо зарычал и выполз на волю; на нем была грязно-серая, длинная, в клочьях, шерсть, она шматками свисала с живота и волочилась по земле.
Глуша в тревоге посмотрела на толстую ржавую проволоку, которая тянулась от калитки в конец двора; по этой проволоке на цепи Шайтан громыхал по ночам, не давая покоя не только соседям, но и самым дальним жителям поселка.
Разгуливая по двору, окруженному, точно крепость, отменной стеной из шелевки, пес хрипло рычал, проволока вместе с Шайтаном беспрерывно скрежетала.
Пес надежно сторожил дойкинское добро — прочные, на замке, сетевые амбары и рыбные, в земле, выхода.
Пробираясь по-над стенкой застекленного коридора, Глуша видела, как у конюшни распрягали Рыжего сам Алексей Фаддеич и Шаграй.
— Стой, ш-шорт! — кричал на коня Шаграй, поддерживая его и пытаясь снять шлею. — Уй, какой, ш-шорт!
Рыжий, только что вернувшийся один, без ловцов, с моря, истощенный и надорванный, безнадежно валился с ног.
«Это та самая, — мелькнула у Глуши мысль о лошади, — что бросила Митю с Васькой... А может, они бросили ее?..»
Рыжий беспомощно свесил голову; вся сбруя на нем обмерзла, и ее никак нельзя было отодрать от обледенелой шерсти.
— Алексей Фаддеич! —окликнула Глуша.
Не оглядываясь и продолжая отдирать от хомута примерзшую гриву, Дойкин едва слышно пробурчал:
— Чего надо?
— Мне бы лошадь на часок...
— Одну вот попортили... — Дойкин помолчал, а потом в сердцах добавил: — Нет лошади! Не дам!
— Депутат сельсовета велел... Очередь ваша...
— Пусть он наряжает свою кобылу! — и Дойкин крепко выругался.
Был он крупный, жирный; ватная фуфайка туго обхватывала его плотное туловище.
— Я же, Алексей Фаддеич, хочу на поиски Митрия и Васьки ехать. — И вдруг голос Глуши зазвучал тверже, требовательней: — А они на тебя ловили, и ты должен дать лошадь на поиски!
— Как?! — Дойкин приподнял голову и косо взглянул на рыбачку.
— На тебя, говорю, ловили они! — вспылила Глуша. — И лошадь ты должен дать!
У Дойкина изогнулись вихрастые брови, что до этого покойно лежали на могучих надбровных буграх.
— Марш отсель! — гневно крикнул он и снова стал распрягать Рыжего. — Ишь, хозяева какие!..
Постояв немного, Глуша направилась к калитке.
— Ч-чорт жадный! — выругалась она, выходя на улицу.
Навстречу ей шагал Антон.
— Дома Алексей Фаддеич? — спросил он, пытаясь задеть рыбачку локтем.
Не отвечая и сторонясь его, Глуша подумала:
«Верно, рассчитываться за краденую рыбу идет, проклятый обловщик!»
И, быстро перебежав на другую сторону, она направилась к каменному дому Краснощекова.
Антон вразвалку вошел во двор и, боясь встречи с Шайтаном, еще издалека громко кликнул Дойкину:
— Здравствуй, Алексей Фаддеич!
Взглянув на ловца исподлобья, Дойкин что-то пробормотал и шагнул к конюшне, куда Шаграй только что увел Рыжего.
— Алексей Фаддеич!
— Ну? — Дойкин приостановился и, подняв с земли ржавый снастевой крючок, сунул его в карман.
— Подсчитаться хочу, Алексей Фаддеич. Ночью я... Мироныч-то, должно, говорил тебе?
— Говорил... Уехал он по делам. Приедет, и подсчитаешься.
Антон забеспокоился:
— Путиной пахнет, Алексей Фаддеич. К весне готовиться надо.
Дойкин осторожно скользнул взглядом по ловцу.
— Никак сам ловить хочешь? — испытующе спросил он.
— Да собираюсь, Алексей Фаддеич, — Антон тихо улыбнулся. — Потому-то и хочу подсчитаться за эту ночь и за прошлые.
— Так-так... — Дойкин, нашарив в кармане крючок от снасти, вытащил его и, переваливая из ладони на ладонь, спросил: — Значит, сам хозяин?
Он ухмыльнулся и окликнул:
— Шаграй!
Из конюшни вышел в мохнатой шапке казах.
— Сегодня утром принимал с Миронычем рыбу от Антона?
— Принимал.
— Сколько?
— Сорок семь пуда.
— Ладно. Ступай!
Прищурив глаз, Алексей Фаддеич быстро зашептал, производя подсчеты с Антоном.
Ловец в ожидании нетерпеливо переступал с ноги на ногу.
«Не меньше как две сотни, — думал он, — окромя всяких вычетов. Отсюда прямо к Тимохе зайду, задаток дам за бударку».
— Получай! — неожиданно сказал Дойкин и, вытащив, засаленный бумажник, отсчитал семь червонных билетов. — Получай семьдесят целковых...
Недоверчиво принимая деньги, Антон удивленно спросил:
— И всё?
— Даже лишку трешница, — уверенно сказал Алексей Фаддеич; — Думаю, за тобой не пропадет, — и пошел было в конюшню.
— Ошибка тут, — Антон за рукав придержал Дойкина. — Все четыре раза подсчитывал?
— А как же?
— Ошибка, Алексей Фаддеич!
— Никакой ошибки! — Дойнин вполуоборот взглянул на. ловца. — Четыре пуда ржаной брал?
— Брал.
— Полтора пшенишной?
— Брал.
— А полпуда пшена?
— Тоже брал.
— Ну, так вот — мука вздорожала, пшено поднялось в цене, — и Дойкин шагнул в дверь конюшни.
— Алексей Фаддеич!
— Чего еще?
— Все равно, приходится больше!..
По лицу Дойкина сразу пошли багровые пятна, появляясь то на лбу, то на щеке, то под глазом...
— А что я с твоей рыбкой буду делать?! Знаешь, какой кавардак идет в городе? Слыхал? — Откинув шапку на затылок, он снова шагнул к двери: — Говорил этому дурынде, Миронычу: не принимать больше рыбы! Куда ее, что с ней делать, когда в городе такое...
И, скрываясь в конюшне, сердито пробурчал:
— Помощь нужна будет — заходи!
Отупело разглядывая зажатые в руке червонцы, Антон долго стоял возле конюшни... Потом, очнувшись, понуро двинулся к калитке.
«Вот те и раз! Как же быть-то? — размышлял ловец, шагая по берегу. — Две сотни должно причитаться...»
В эту зиму он особенно отчаянно облавливал рыбные ямы, ходил на самые рискованные дела, надеясь, что к весне будет иметь и свою бударку, и свои сети, и свои снасти.
«И заимел бы, — уже примирялся с обсчетом Антон, — ежели не слегла бы Елена да не тянула сохранность...»
Ловец подходил к своей мазанке и только тут заметил, что в руке у него червонцы; беспокойно взглянув по сторонам, он поспешно сунул их за пазуху.
Когда Антон вошел в кухню, из горницы послышался слабый, дрожащий голос Елены:
— Антошенька...
— Я, — недовольно отозвался ловец.
— Антошенька...
— Ну?
— Есть хочется... Молочка бы мне...
Не отвечая жене, Антон вытащил из-за пазухи деньги и переложил их в карман шаровар; сняв ватный пиджак и швырнув его на скамью, прошел в горницу.
На деревянной кровати уже год лежала больная Елена: была видна только взлохмаченная голова рыбачки, а туловище под одеялом было почти неприметно — она, казалось, исхудала дотла, и кости ее словно усохли.
Возле кровати возилась пятилетняя Нина.
Антон выдвинул из-под стола самодельный дощатый сундучок, ушел обратно в кухню.
— Антошенька... Молочка...
Поставив сундучок на скамью, ловец отомкнул замок; среди разного инструмента он отыскал голубую банку из-под монпансье «Ландрин» и, пряча ее подмышку, прошел в угол, за печку.
Высыпав на стол аккуратно сложенные кредитные билеты и присоединив к ним только что полученные от Дойкина, Антон стал торопливо развертывать и подсчитывать их.
— Антошенька...
— Не мешай!
— Молочка бы...
— Погоди!
Отодвинув одну подсчитанную стопку денег на край стола, ловец зашептал:
— Это — на сетки...
Составляя вторую стопку, он еще тише прошептал:
— А это — на снасти...
Собрав остатки денег, он присел на табуретку:
— Ну, а это, скажем, на всякую мелочь: на ловецкий билет, на балберы, на сторожья...
На лбу у него набухла толстая, словно хребтина, жила.
— А на бударку?.. — Антон растерянно посмотрел на опустевший стол. — Может, я обмишулился?
Трясущимися руками он начал пересчитывать деньги.
— Антошенька, молочка...
Жила на лбу у Антона возбужденно задрожала.
— Молочка!.. — озлобленно передразнил он жену. — Фу ты, чорт... Со счета сбился!
И ловец снова стал проверять стопки денег. Выходило, как и прежде, — три стопки, а четвертой, на бударку, не хватало.
«Перед ледоставом, — сумрачно припомнил он, — так же вот получилось. А прошло четыре месяца... Три раза за эту пору с Алексеем Фаддеичем подсчитывался. Раз полную сотню целковых получил, потом сорок, сегодня семьдесят. А все одно и то же — на бударку нехватка».
— Молочка бы, Антошенька...
«Бударку целую съела со своим молочком! — гневно ответил он в мыслях жене. — Все молочка тебе! Год уж молочничаешь!..»
В кухню вбежала Нина и, увидев на столе деньги, радостно всплеснула ручонками:
— Мамка! У батяши, ой, сколько!..
Антон быстро подхватил дочь на руки и, пригрозив ей, шепнул на ухо:
— Конфетку куплю!
А Елена тянула свое:
— Молочка...
Загородив спиною стол, ловец сурово сказал:
— Денег, Елена, нету... — и погрозил дочке.
— А сохранность, Антошенька?
— Вся вышла...
Помолчав, Елена прерывисто заговорила:
— Алексея Фаддеича попроси... Даст!.. Под улов или как... Сходи!..
— Не даст теперь. В городе-то вон что творится — жмется он!..
— О-ох, Антошенька...
Посадив дочку на стол, Антон опять шепнул ей:
— За конфеткой сейчас пойдем, — и стал сызнова пересчитывать деньги.
Глава шестая
Над Островком мирно качались столбы дыма, — они тянулись из труб, едва приметных среди наваленного буграми на крышах снега.
Рыбачки готовили завтраки — жаренную на горчичном масле рыбу.
На берегу и в проулках было пусто; ловцы, взволнованные на короткое время событиями с Колякой, дойкинской лошадью, отсутствием Дмитрия, Василия и других, расходились по домам.
Тревога улеглась. Ловцы торопились к завтраку. Они должны спешно заканчивать зимний подледный лов — весна уже не за морями! — и начинать подготовку к весенней путине.
Одни, даже не отведав в это утро жареной рыбы, укрылись в амбары и начали перетряхивать сети, другие озабоченно ходили вокруг перевернутых вверх днищем посудин, намечая, как законопатить и осмолить их.
Глуша, проходя мимо дома, где жила сестра Дмитрия, увидела через низкий камышовый забор, как во дворе Елизавета с мужем торопливо разбирали под навесом сети.
«Жадюга! — обругала Глуша сестру Дмитрия и отвернулась. — Не подумает даже о своем брате: где он и что с ним»
И, не переставая размышлять о Дмитрии, еще быстрее зашагала...
Не доходя нескольких домов до Краснощекова, она встретила Василия Безверхова — члена правления районного кредитного товарищества ловцов. Он вместе с Дойкиным решал судьбы ловецких заявок на кредиты. Рассказав ему про неудачное посещение Дойкина, Глуша убеждающе попросила:
— Поговорил бы ты с ним, Вася.
— О чем?
— Да о лошади! Ты ведь с ним как брат-сват.
— А ты еще раз сама сходи к нему да попроси по-хорошему, без всяких приказов Андрей Палыча. Сама попроси! — Василий поспешно разгладил реденькую рыжую бородку и так же поспешно зашагал в сторону берега.
«Подхалим дойкинский!» — подумала Глуша о Василии и заспешила к Захару Минаичу.
Краснощекова застала она одного; он сидел за столом и, то и дело нагибаясь, разглаживал омертвевшие ноги.
— Доброе утро, Захар Минаич, — приветствовала его Глуша.
— Здравствуй, дочка, — и Краснощеков, подхватив ноги под колени, вдвинул их под стол; был он в одних сподниках и нижней рубахе.
Заметив это, Глуша смутилась, но Краснощеков указал глазами на табурет:
— Садись, дочка. Чего скажешь?
— Просьба, Захар Минаич, у меня. — Глуша опустилась на табурет. — К батяше хочу на маяк съездить. Лошадь мне бы на часок-другой.
— А что с батькой?
— Ничего... — Глуша потупила глаза. — Митрий Казак там. С относа...
-— Аа-а... — Краснощеков ухмыльнулся. — Митрий... Знаю, слыхал...
Он отряхнул пышную, по пояс, бороду.
— Захар Минаич, — Глуша приподнялась, — не откажи! Я за камышом потом съезжу для вас, как тогда ездила.
Краснощеков, слегка покачиваясь, продолжал разглаживать под столом ноги.
— Маловато тогда, дочка, привезла.
— Еще раз съезжу, Захар Минаич!
— Коли так, ладно, уважу.
И, вынув из-под стола руки, Краснощеков положил их на клеенку, — были они мясистые, в густой рыжей шерстя.
Кивнув та окно, он спросил:
— А с Колякой как там? — И у него дрогнули сытые, розовые щеки. — Какие разговоры идут? Что там?
— Ничего...
— Что говорят-то ловцы?
Глуша непонимающе посмотрела на Краснощекова.
— Ну, все-таки, что же говорят? — допытывался он. — Дурное чего-нибудь, или что?
Еще раз взглянув на Захара Минаича, Глуша нерешительно сказала:
— Говорят, что жалко Коляку... И еще: диву даются, как это его в относ не угнало...
— А дурного, дурного чего-нибудь не слыхала? Попался, может, в чем-то он, что-то сделал...
— Не слыхала, Захар Минаич. Все время на улице была, на берегу потом, а такого ничего не слыхала.
— Ага! Ну, так... — И, сразу подобрев, он снова отряхнул пышную бороду... — Найди Илью, он, должно быть, у Коляки, и скажи, чтобы запряг тебе жеребчика.
— Благодарствую, Захар Минаич!
— Ладно, сочтемся...
Когда Глуша вышла из горницы, Краснощеков почувствовал, что ноги его будто начинают оживать.
— Ну, слава богу! — он облегченно вздохнул и перекрестился на множество икон, которые, словно иконостас в церкви, были расположены по обеим стенам правого угла. — Кажется, с Колякой благополучно. И Глуша сейчас говорила, и Илья... Должно, Марфа напутала.
Но вспомнив, что до сих пор почему-то не приходит позванный Марфой кум Трофим Игнатьевич Турка, Краснощеков опять забеспокоился и начал старательно разглаживать ноги.
«Ох, уж эти ноги! — тяжко вздохнул он. — Отрубить бы их да пристроить деревяшки, как вон у Лешки-Матроса. И то было бы лучше, чем так маяться с ними!»
Двадцать пять лет беда с ногами у Краснощекова тянется: обморозил он их однажды на взморье, и с тех пор, как только расстроится Захар Минаич или думка тяжелая найдет, ноги перестают двигаться, а потом исподволь отходят, оживают.
Сколько горя перенесено из-за них!
А напасть эта вышла так. Сначала его накрыли в море ловцы при оборе чужих сетей и за это жестоко отомстили ему — протянули хребтиной подо льдом. Отошел Захар Минаич и пристрастился к новой, еще более легкой наживе: стал заниматься обловом запретных вод. Быстро приобретал состояние Захар Минаич, как вдруг захватили его стражники рыболовного надзора при облове богатейшей ямы. Он подался наутек, стражники открыли по нему стрельбу. Удалось Краснощекову скрыться с лошадью в приморских камышовых чащобах. Долго еще гремели выстрелы, а он все глубже и глубже забивался в камышевую крепь... Наступила ночь, и надо было выбираться домой. Лошадь порезала о камыш ноги и брюхо и, обессиленная, пала. Бросил ее Краснощеков и пошел... Была суровая зима, стояли лютые, жгучие морозы. Только к утру выбрался Краснощеков из камышей, ободрав всю одежду и в кровь исцарапав лицо и руки. Изнеможенный, он не в состоянии был двигаться дальше и, присев на лед отдохнуть, крепко заснул. Тут бы и смерть нашел себе Захар Минаич, но на счастье ехали мимо ловцы, заметили его и подобрали.
Хотели тогда еще, как только привезли его обмерзшим со взморья, отрезать ноги, — заартачился, не послушал доктора... Как на грех, в то время помог ему один знахарь. Выхворался будто Захар Минаич, но стоило ему первый раз побывать в волости и встретиться со стражниками рыболовного надзора, которые захватили его при облове запретной ямы, как сразу ноги перестали действовать. Захару Минаичу тогда не было точно известно: знали или не знали стражники, что именно он был в облове. Выведав в тот же день о том, что стража не знает об этом, он успокоился, и в ночь отошли, ожили его ноги.
С этого и пошло: как беда — отнимаются ноги!
Но все же можно было еще терпеть: с утра отнимутся, к вечеру отойдут, или с вечера отнимутся, к утру отойдут.
А вот спустя год после злополучной встречи со стражниками, в следующую зиму, случилось с Захаром Минаичем такое событие. Ехал он из города один и нагнал тихо шагавшую лошадь; в санях оказался известный богатей-рыбник казах Жумгали Култаев. Он крепко спал.
Окликнул его Захар Минаич раз, другой, а казах, прикурнув к ободке саней, спит да посапывает. Сани Краснощекова поровнялись с санями Култаева, Захар Минаич еще раз окликнул его.
«Наглотался в городе, — подумал Краснощеков, — после расчетов-то...»
И, привстав на колено, зорко оглянулся вокруг: длинный и узкий коридор протока был пуст, по бокам его стояли белые, заснеженные стены камыша.
«Верно, не пустой возвращается из города», — кольнуло Захара Минаича.
Нашарив в сене пешню, он еще раз осмотрелся, и когда сани сошлись вплотную, бок о бок с култаевскими, Краснощеков вскочил и со всего размаху трахнул казаха по голове ломом с деревянной рукояткой.
Култаев вскинул руки, словно пытаясь приподняться, но Краснощеков ударил его вторично, и казах, не издав ни звука, бездыханно сник на ободку саней.
Захар Минаич вывернул все его карманы и нашел в одном из них кожаный мешочек с деньгами. Он быстро вытащил Култаева из саней и, когда взглянул в его лицо, — отшатнулся.
У казаха натужно выперли глаза, — налитые кровью, они дрожали и, казалось, в упор рассматривали Краснощекова. Захар Минаич перекрестился и, подбежав к Култаеву, надвинул на его лицо шапку; схватив казаха за ногу, он поволок его к майне и сунул под лед.
Вогнав казахскую лошадь в камыш, Краснощеков покатил в обратную сторону и свернул в ближайший проток...
После этого целый месяц не действовали ноги у Захара Минаича, потом отошли, а через полмесяца совсем ожили.
К своим сбережениям присоединил он еще четыреста култаевских целковых и начал разворачивать скупное дело: купил рыбницу, прорезь, нанял работников... Неожиданно, перед самым выходом на путину, в Островок заявился из города судебный пристав. Перепугался Краснощеков, и ноги его омертвели. Пристав оказался в Островке проездом и скоро укатил обратно в город.
Целую неделю оставались неподвижными ноги у Захара Минаича.
С той поры и стало невмоготу: чуть что — и без ног Краснощеков, то на неделю, а то и на две...
И какие только меры не предпринимал он, чтобы избавиться от этого недуга, — благо что были скоплены большие деньги: сначала от обора чужих оханов, облова запретных ям, потом этот Култаев, рыбная скупка... Объехал Краснощеков лучших докторов Астрахани, Саратова, Казани. Был даже в клинике знаменитого профессора в Санкт-Петербурге. А сколько перепробовал он разных знахарей, колдунов, бабок... Ничего не помогло! И, решив, что недуг его — божье наказание за грехи, удалился он на год в Чуркин златоглавый монастырь. Откупил себе отдельную келью и зажил тихой, монашеской жизнью.
Прошло полгода смиренного жития в монастыре, и ни разу у Краснощекова не было оказии с ногами.
Целые дни молился он богу, молился за него и сам игумен, и в церкви происходили службы за здравие Захара Минаича, — тогда вся монастырская братия молилась за него.
Игумен был строгий, сухой человек с восковым лицом и жиденькими прядями волос на круглом, лбистом черепе.
Сошелся с ним Краснощеков характером, — деловой игумен был, умело управлял хозяйством обители: садами, водами, покосами... Быстро договорился с ним Захар Минаич об аренде богатых рыбою монастырских вод.
Вскоре Захар Минаич вышел из обители и иачал щедро снабжать игумена осетриной, севрюгой, икрой, вином, мукой-крупчаткой, а братию — обыкновенной частиковой рыбой и ржаною мукой; платил он монастырю за аренду вод и деньгами.
Доходная была эта аренда, и все шло гладко, как по ветру под парусом ловецкая посудина.
Задумал однажды Краснощеков расширить свое скупное дело; решив приобрести еще несколько судов, он задержал очередной взнос денег обители и стал экономнее снабжать не только братию, но и самого игумена.
Потом снова оттянул месяца на два взнос денег в обитель, — как раз в то время отправлял он в компании с одним купцом большую партию малосола в центральную Россию.
Игумен, неоднократно ласково напоминавший Краснощекову об его обязательствах по отношению к монастырю, неожиданно прислал грозное письмо, в котором говорилось, что на Захара Минаича за задержку денег и продовольствия обители подана архиерею и губернатору жалоба и что он, игумен, собирается Захара Минаича предать анафеме.
Перепугался Краснощеков, и ноги у него опять отнялись.
Не помог и монастырь! Все дело тут, как теперь понимает Захар Минаич, в тихой безмятежной жизни.
И до каких только казусов не доводили его эти ненавистные ноги. Во время войны с немцами Захар Минаич поставлял рыбу на оборону, на армию. Вызвало его один раз военное начальство срочно в Москву; забеспокоился он, и ноги его перестали двигаться. Грешил Захар Минаич в поставках: в середину тары с обыкновенной сельдью закладывал он недомерок, посылал рыбу с душком, были и другие у него грехи, поэтому и перетрусил.
После оказалось, что военное начальство вызывало Краснощекова для того, чтобы вручить ему награду — медаль за верную службу царю и отечеству...
А вскоре после революции заявились в Островок уральские казаки, которые хотели захватить волжский рыбный город. Шел тогда Захар Минаич на берег к казачьему офицеру с хлебом-солью, а тот как гаркнет на Захара Минаича: «А деньги где? А провизия где?..»
Подкосились ноги у Краснощекова, и повалился он на песок.
Ох, уж эти ноги!.. Вот и теперь — даже при этом малом, пустяковом случае с Колякой они уже не действуют.
Может быть, ничего еще и нет плохого, а они, проклятые, отнялись!
Перестав разглаживать ноги, Захар Минаич внимательно прислушался к шуму в сенях.
Скрипнула дверь, и боком вошел старый Турка. Он перекрестился на иконы и, не глядя на Краснощекова, хмуро сказал:
— Здравствуй, Захар Минаич.
— Мое почтенье, кум, — тихо отозвался тот и подумал: «Что-то имеет супротив меня, старый пес. Ишь, глаза прячет!»
Лицо Турки, покрытое рыжей шерстью, хранило внешнее спокойствие; только узкие, прищуренные глаза его ярко светились, и по тому, как он прятал их в могучее подлобье, прикрывая пучками мохнатых бровей, можно было догадаться, что Трофим Игнатьевич чем-то взволнован.
— Звал меня? — спросил он, опускаясь на табурет и вынимая трубку.
— Звал... — Захар Минаич откашлялся. — Занемог я немного, кум. С ногами опять беда... Вчера заезжал ко мне по пути из города председатель нашей кредитки — Иван Митрофанович Коржак. Ну, и рассказал о делах в городе, — жара там, кум! Беда, верно, и к нам заглянет...
Турка, продолжая прятать глаза в подлобье, сердито подумал: «У меня и так беда. А тебя надо бы поприжать, — всю жизнь поперек дороги всем стоишь».
— Говорит Иван Митрофанович, что не узнать города, — продолжал Краснощеков. — Арестовали, слышь, еще многих рыбников...
«Меня не арестуют, — сумрачно усмехаясь, думал Турка. — Я не подкапывался под власть, не посягал на нее, как ваши дружки в городе... вроде того же Полевого. Тебя вот, куманек, — да! — тоже могут взять за шиворот. Дойкина еще возьмут. А я что? Честным своим трудом живу, кровями живу, жилами своими, потом... И ты мешаешь мне: Коляку на обор моих оханов послал!..»
— Сажают в тюрьму, Трофим Игнатьевич, нашего брата без разбора... — Захар Минаич говорил долго, стараясь запугать кума, сделать его сговорчивым, но тот молчал и, не выказывая особого беспокойства, жадно тянул трубку.
Отряхнув бороду, Краснощеков в упор глянул на угрюмого Турку и решил переменить разговор:
— А улов как, Трофим Игнатьевич, у тебя? Благополучно выбрались с моря? Крестник мой как там, Яша?
Снова набив трубку махоркой, Турка закурил.
— С моря выбрались, слава богу, — и он часто задымил. — Только вот... Коляка...
— Что? — и у Захара Минаича по-всегдашнему дрогнули розовые, сытые щеки.
— Коляку словили мы при оборе наших оханов... А лошадь — твоя!..
— Как ты говоришь? — Краснощеков хотел было переставить ноги и не смог.
— Сознался он, что белорыбку тебе сдавал и ты будто знал все это.
Турка беспрестанно, шумно курил.
Разглаживая ноги, Захар Минаич увесисто и складно начал:
— Не верь, кум!.. Всякая мразь, чтобы извернуться, наговором занимается. А ты веришь... Лошадь моя? Да, моя, признаю... А давал я ее Коляке на поездку за камышом. Знаешь, как это у нас: воз мне, воз ему... Вот и все!
— А Коляка говорит... — Турка быстро заложил новую порцию махорки в трубку.
— Кум! Трофим Игнатьич! — умышленно сердито оборвал его Краснощеков. — Кому вера?! Мне или Коляке?
В окно громко постучали.
Захар Минаич поспешно оглянулся.
Снимая шапку и кланяясь, Яков что-то кричал.
Краснощеков закивал головою:
— Зайди, зайди! Да, да! Здесь батька! Зайди!
— Яшка? — приподнялся старый Турка. — Чего ему?
— Не знаю. Сейчас зайдет, — и Захар Минаич снова в упор глянул на кума. — Такие-то вот дела, Трофим Игнатьич...
Яков быстро вошел в горницу.
Сняв шапку, он слегка кивнул головою в сторону Краснощекова:
— Доброе утро, Захар Минаич!
— Здравствуй, крестник!
Пристально взглянув на отца и на Краснощекова и, не поняв, какой оборот принял разговор о Коляке, Яков подошел к отцу:
— Батяша, с кобылой совсем плохо.
— Ну? — забеспокоился Турка.
— Да.
Турка поспешно выбил о ладонь пепел из трубки и направился к двери.
— Покуда, Захар Минаич. Надо с кобылой что-то делать.
— А что с ней такое?
— Перемерзла она. — Турка открыл дверь и неохотно добавил: — И загнали мы ее...
О чем-то переговариваясь, Турки задержались в сенях.
Захар Минаич прислушался; невнятные голоса трудно было разобрать. Вскоре заскрипела лестница.
«Ушли, — облегченно вздохнул Краснощеков. — Поверил или не поверил мне, старый псюга?»
Он оглянулся на окна — по улице торопливо шагали Турки.
Провожая пристальным взглядом кума, Захар Минаич сказал, будто вдогонку ему:
— Хватит с тебя и того, что имеешь... Жиреть очень уж стал. Шибко в гору пошел... Хватит!..
И когда скрылся кум за углом, Захар Минаич начал заботливо разглаживать ноги.
Глава седьмая
Лешка-Матрос нетерпеливо сидел за столом; часто приподнимаясь, он быстро говорил звучным, будто звенящим голосом:
— Ну, Андрей Палыч, и дела — как сажа бела!..
Улыбка никогда не сходила с его влажных, тонких губ.
— Да-да, — подтвердил Костя Бушлак, молодой и крепко сложенный ловец. — Здорово тряхнул нас шурган...
У Кости было бритое, докрасна ошпаренное морем лицо.
Андрей Палыч молча сидел у окна, задумчиво навивая на кривой, мозолистый палец жидкую черненькую бородку. Перед ним на подоконнике лежала стопка газет, на газетах очки, запечатанный конверт.
— Оханы жалко, Андрей Палыч, — засветился в тихой улыбке Лешка. — Оханы-то новехонькие. Около полсотни концов пропало с этим относом.
— Зато сами остались целы и невредимы, — вставила Евдоша; она копошилась у печки, приготовляя пельмени.
— Нас, тетка Евдоша, ни одна сила не возьмет, — Лешка вылез из-за стола и, припадая на деревянную ногу, важно прошелся по горнице. — Ни пуля, ни море, ни шторм, ни горе...
У Матроса порозовело лицо.
— Ни одна сила не возьмет нас! — И Лешка снова молодецки прошелся по горнице.
Глядя на него, Евдоша добродушно улыбнулась:
— А без ноги вот остался.
— Без ноги, а живой!
Матрос остановился перед Андреем Палычем и спросил:
— А что с Колякой-то случилось?
—Никак не понять, Алексей. Я еще раз заходил к нему. Опамятовался вроде он, а молчит. Я и так и эдак к нему, а он — ни слова... А люди толкуют, будто кто-то подо льдом его протащил. Этого еще зверства не хватало в нонешнее-то, советское время! Зайду еще раз, проверю. А ежели и на самом деле кто озверел — под суд отдадим! Проучим!..
Матрос посмотрел на горку и, сияя доброй улыбкой, убеждающе попросил:
—Поставил бы ты на стол божью водицу, а то как-то сердцу муторно.
Усмехаясь, Андрей Палыч поднялся и медленно прошел к горке.
Лешка внимательно следил за ловцом.
Вернулся он к столу с бутылкой водки и стопками.
—Что ж, Андрей Палыч, может, перед пельменями прополощем горло? — предложил Матрос.
— Хочешь — прополощи, — уклончиво ответил ловец.
Лешка молча налил стопку и так же молча выпил.
— Эх, как бы не усохла божья водица! — он громко пристукнул протезом о пол и заспешил к печке. — Как у тебя, тетка Евдоша, пельмени-то? — Он остановился около рыбачки и засучил рукава: — Давай помогать буду!
Она, смеясь, отстранила его локтем:
— Делайте свои дела, а тут я сама управлюсь.
— Долго что-то ты управляешься, — и он искоса посмотрел на стол, где стояла бутылка с водкой.
Евдоша вытащила из печки чугун и стала бросать в него комочки теста, в которые была завернута наперченная и с луком, вкусная рыбья мякоть. Засунув обратно в печку чугун, она обратилась к Косте:
— Что ж это Татьяна Яковлевна не идет?
— Должна скоро быть маманя. — Костя приподнялся со стула и посмотрел в окно. — Не видать...
Он пожал плечами и снова взглянул в окно.
— Пельмени зараз и готовы. — Евдоша подошла к посуднику и стала снимать тарелки, деревянные ложки.
— Пойду схожу за маманей. — Костя встал и, набросив на плечи полушубок, направился к двери.
— Ты поскорее, — предупредил- его Лешка и, подмигнув, шагнул к полногрудой Зинаиде, дочери Андрея Палыча. — Рада, что Коська в живых остался? А?..
Евдоша осторожно посмотрела на дочку. Зинаида задорно повела плечами, отложила плюшевый кисет, в уголке его она вышивала розу.
— А это кому? — Лешка показал глазами на кисет и рассмеялся: — Не мне ли?
— Сеньке! Вот кому!.. — Зинаида вскочила и прошла к матери, которая, искоса взглянув на дочку, недовольно покачала головой.
Лешка не удивился ответу Зинаиды. Он знал, что ей нравится Костя, но тот почему-то все сторонился ее. Андрей Палыч и Евдоша, смутно об этом догадываясь, не особенно препятствовали дочке гулять с Сенькой.
Однако втайне они надеялись, что, может быть, одумается Костя...
Подойдя к Зинаиде, Лешка снова подмигнул ей и серьезно сказал:
— Ты брось миловаться с Сенькой. Трепло он, как и Митька Казак!
Зинаида, нахмурившись, ушла по другую сторону матери.
— Неправду, что ли, говорю я, а?.. — Лешка безнадежно махнул рукой и двинулся к окну, у которого сидел Андрей Палыч и, надев очки, задумчиво шелестел газетами. — А про наш район и Островок ничего не пишут газеты?
Андрей Палыч не ответил.
— Я спрашиваю, о нас ничего не пишут? — и Лешка заглянул в развернутый Андреем Палычем газетный лист.
— О нас пока не пишут, Алексей.
— Должны писать! Пора!
Андрей Палыч поднял очки на лоб, посмотрел на Матроса.
— Давно должны! — уверенно повторил Лешка. — А свежие газеты были?
— Были.
— И о нас, значит, ничего?
— Ничего! Зато вот обо всех пишут...
— Как это — обо всех? — удивился Лешка.
— Да так. И про тебя, и про меня, и про таких, как мы с тобой, и про других. А называется статья «Год великого перелома».
— «Год великого перелома»... А кто пишет-то?
— Товарищ Сталин пишет — о наших, партийных делах пишет.
— Так бы и говорил! — поспешно сказал Лешка. Лицо его озарилось хорошей, светлой улыбкой. — Товарищ Сталин по-настоящему отпишет! Он по делу скажет. Читай давай!
Глаза Лешки стали ясными, доверчивыми и мечтательными. В памяти вдруг встали дорогие его сердцу картины гражданской войны, встречи с товарищем Сталиным в Царицыне... Грозный восемнадцатый год... Республика Советов в огненном кольце врагов — внутренних и внешних... Э-эх, и тяжелое же времечко было!..
Лешка громко вздохнул, лицо его на секунду помрачнело. Страна истекала кровью, голод душил советские города. Рабочие Москвы и Питера по осьмушке фунта черного хлеба со жмыхом получали, да и то не каждый день. В это время и явился Сталин в Царицын с наказом Ленина: дать волжский хлеб голодной стране, удержать всеми силами город, потому как был он самый надежный пункт, который связывал Волгу с Москвой и Питером.
Андрей Палыч опустил на переносицу очки, переложил газету, вторую, третью и, отыскав нужную, развернул ее; газета эта, как и остальные, была кое-где исчиркана черным, жирным карандашом.
— Василий Сазан брал у меня ее перед тем, как укатить в море. Видишь, как Василий читал ее? — он поднял лист, показывая многочисленные кружки, рамки, растянутые в длину четырехугольники. — Вот он какой чтец — Василий! И так понравилась ему газета, что он чуть не увез ее с собой в море...
Пока Андрей Палыч располагался у окна, стараясь поудобней усесться, в памяти Лешки лихорадочно пробегали те события, которые оставили когда-то в душе его неизгладимый след... Ни в Москве, ни в Питере нет хлеба. Вся надежда на Царицын... И Царицын выручает: шлет в Москву и Питер эшелоны с хлебом, мясом и рыбой. Белые генералы сразу прослышали о продовольственных эшелонах и пуще прежнего навалились на город. Горячие были деньки! Ой, горячие!.. А вскоре на помощь Царицыну прибыл из Донбасса Ворошилов со своей Пятой украинской армией. Полегчало немного, но не совсем. Белые наседают и наседают — того и гляди ворвутся в город. Царицын им нужен был, чтобы с уральской контрой соединиться, чтобы единый белый фронт создать от Дона до Урала против Республики Советов. Но не тут-то было! Разгадали их планы. И вот — создали огромную армию с броневыми поездами, автобронемашинами, и пошли без остановки эшелоны с хлебом в Москву, Питер и другие города...
Приготавливаясь читать газету, Андрей Палыч торжественно, старательно и аккуратно разглаживал ее своей широкой ладонью и затем так же старательно и медлительно-торжественно прилаживал очки на носу.
А перед глазами Лешки в это время стремительно проносились памятные эпизоды героической обороны Царицына... Одно время он находился в охране начальника штаба формирования и не один раз участвовал вместе с товарищем Сталиным и Ворошиловым в очистке от белых банд железнодорожных линий, не раз и не два сопровождал эшелоны с хлебом в Москву, отбрасывая с пути то и дело прорывавшиеся белые банды...
— Да ты читай давай! — нетерпеливо попросил Лешка. Медлительность Андрея Палыча начинала раздражать его.
Андрей Палыч откашлялся и размеренно, чуть ли не по складам, стал читать:
— «Истекший год был годом великого перелома на всех фронтах социалистического строительства. Перелом этот шел и продолжает идти под знаком решительного наступления социализма на капиталистические элементы города и деревни». Ясно тебе, чего добилась наша партия? — И Андрей Палыч поднял на лоб очки.
Лешка молча и серьезно качнул головой.
Андрей Палыч продолжал читать:
— «Характерная особенность этого наступления состоит в том, что оно уже дало нам ряд решающих успехов в основных областях социалистической перестройки (реконструкции) нашего народного хозяйства». Понятны тебе дела нашей партии? — Ловец посмотрел поверх очков на Матроса.
Лешка опять молча и согласно кивнул головой.
А Андрей Палыч медленно-медленно, словно взвешивая каждое слово, продолжал читать:
— «Из этого следует, что партия сумела целесообразно использовать отступление на первых стадиях нэпа для того, чтобы потом, на последующих его стадиях, организовать перелом и повести успешное наступление на капиталистические элементы...»
Лешка напряженно слушал. Статья заставляла его заглянуть вглубь тех громадных общественных вопросов, которые еще недавно казались Лешке затуманенными, неопределенными и которые сейчас обретали четкие контуры и ясный смысл.
Андрей Палыч, не переставая читать, посмотрел поверх очков на Лешку.
Лицо Матроса горело, глаза блестели, пальцы дробно барабанили по подоконнику...
Костя Бушлак неторопливо шагал по вытоптанной в снежных сугробах тропке.
Ослепительно белый снег больно резал глаза, и Костя, жмурясь, думал о том большом уроне, который постиг его и Лешку прошлой ночью: около полсотни беличьих оханов пропали из-за этого шургана и относа.
Ловцы, особенно глубьевые, морские, испокон века проводили совместный, в два-три человека, лов. Море заставляло их соединять свои силы, чтобы успешнее бороться со стихией. Иначе и нельзя было: одному на морской реюшке не выехать на Каспий, а на меньшей посудине — на бударке или куласе — выезжать можно было только за смертью; во время шторма одному не совладать было и с ветрами, одному в это время — верная погибель...
И ловцы, чтобы жить, детей растить, кто как мог, так и изворачивался. Одни, которые покрепче и поумней, стараясь выдержать безжалостные удары моря, совместно работали сами на себя. Другие, послабее волей, шли за помощью к дойкиным и краснощековым, — рыбники объединяли их, снабжали сбруей и посылали на лов.
Но у каждого была заветная думка: стать исправным, самостоятельным ловцом. Посудину свою иметь, сети, снасти — такова была думка. Глядишь, и добился всего этого человек, как вдруг — шторм, относ или пролов, и опять человек в беде.
У Кости в девятнадцатом году отца повесили белые; Андрей Палыч взял опеку над молодым Костей, с тех пор и ловят они сообща, вскладчину, а года четыре назад присоединился к ним Лешка-Матрос, потом присоединился Григорий Буркин, молодой рыбак Сенька, Василий Сазан.
Ладно, в полном согласии ловили они. Несколько раз шурганы и штормы накрывали их, напрягали ловцы все свои силы, и кое-как сами справлялись с неудачей. Никогда не обращались они за помощью ни к Дойкину, ни к Краснощекову. А если и обратились бы, все равно не помогли бы они. Косте не помогли бы потому, что его отец в восемнадцатом году арестовывал самого Краснощекова, Буркин тоже памятен и Краснощекову и другим скупщикам, Лешке отказали бы из-за того, что очень уж злословил он над рыбниками, а Андрею Палычу не дали бы помощи по той причине, что молчалив он, горд слишком, никогда не снимет шапки.
«Что будем делать? — рассуждал Костя, не спеша шагая к дому. — Как вывернемся из беды?..»
Несколько лет подряд пытались они справить беличьи оханы для лова белорыбицы. И наконец прошлой осенью вложили они в это дело все свои сбережения. В надежде на хороший зимний лов, они не смогли из-за справы оханов как следует подготовить сбрую к весенней путине.
Белорыбка, казалось им, даст хороший заработок, и тогда, зимою, справят они все, что надо. А что получилось? И оханов нет, и весна скоро.
Говорили они еще о создании рыбацкой артели — настоящей, большой. Но вот случилась беда с Василием Сазаном, неизвестно, что стало с Григорием Ивановичем Буркиным и Сенькой...
«Что же делать? — продолжал мучительно думать Костя, сворачивая за угол. — Что будем делать?»
О том же думал и Андрей Палыч, по-привычному молчаливо навивая на кривой, измозоленный палец свою черненькую бородку.
В то время, когда Костя с Лешкой и Буркин с Сенькой были в море, Андрей Палыч тоже не сидел сложа руки. Он каждый день выезжал в протоки и ерики, где ставил замысловатые вентеря и секреты. Наловил он частиковой рыбы рублей на полсотню. Не меньше наловил и Василий Сазан, которому не хватило совместно приобретенных оханов и который вынужден был пойти в море с Дмитрием Казаком. Остальные товарищи тоже успели до этого шургана поймать рублей на двести. Но на эти деньги подготовку к весенней путине не провести. Им нужно проконопатить и осмолить реюшку, почти заново провести оснастку ее, купить еще бударку, пополнить вобельные и селедочные комплекты сетей...
Для этого много сотен рублей надо!
А где их взять?..
Помочь в этом может только ловецкое кредитное товарищество. Но шансы тут не очень большие. Андрей Палыч до сих пор еще прежний кредит не вернул. Костя и Буркин тоже задолжали, а Лешке и раньше не давали кредита и теперь не дадут, особенно после того, как он за отказ ему в кредите учинил скандал председателю Коржаку.
«Беда, сущая беда! — Андрей Палыч крякнул, закинул ногу на ногу. — А может, с кредиткой и выйдет чего? Может, на артель дадут кредиты?»
Газеты последнее время все чаще и чаще пишут об артелях и кредитных товариществах ловцов: пишут, что рыбникам чересчур большие кредиты идут, а беднота ловецкая не получает их, а если и получает, то совсем ничтожную долю.
Хотя в городе и крепко взяли в оборот Солдатовых, Заславских и других крупных купчиков, но Андрей Палыч не совсем верит в свою районную кредитку.
Да как же поверишь, когда, несмотря на такие события в городе, в их районе идет все попрежнему: председателем кредитки продолжает оставаться Коржак, большой силы рыбник, немалую роль играет там и Дойкин...
Андрей Палыч взглянул на Лешку, — тот, задумавшись, попрежнему смотрел в окно, за которым лежали высокие навалы снега, ослепительно поблескивая на солнце.
Кто-то зашумел в сенях.
«Верно, Костя с маманей идут, — подумал Андрей Палыч. — Поговорим сейчас, обмозгуем, что к чему. Газеты ему еще как следует почитать надо».
В дверях показалась Глуша.
— Я за вашим письмом для сельсовета забежала, Андрей Палыч.
— Вот оно... — Ловец взял с подоконника конверт и, передавая его рыбачке, спросил: — Значит, дал Дойкин лошадь?
— Нет, не дал.
— А на чем же ты едешь?
— Захар Минаич дал жеребчика.
Андрей Палыч нахмурился, недовольно сказал:
— Ну, ладно... Я поговорю с этим Дойкиным! — Он сердито махнул рукой, прошел к окну.
Глуша шагнула к Андрею Палычу, взяла у него письмо для сельсовета и тихо спросила:
— А Лешка не был у вас?
— Тут он, — глухо отозвался Андрей Палыч и показал в конец горницы, где за горкой, у окна, сидел задумавшийся Матрос.
Глуша быстро подошла к нему.
— Я к тебе, Леша. Не подшутил ты надо мною? Верно, что на маяк мне ехать надо?
Матрос молчал, сосредоточенно о чем-то думая.
— Леш...
Он повернул голову, посмотрел на Глушу.
— Не подшутил ты надо мною, Леша? — вновь спросила она.
— Батька наказывал... — едва слышно сказал Матрос и, словно просыпаясь, медленно поднялся со стула. — Какие тут шутки!
— А я все Илью Краснощекова искала. Захар Минаич аелел запрячь мне жеребчика... Да с Настей Сазанихой еще вот пропуталась, — беда там.
— А что с ней? — Евдоша отложила нож и подошла к Глуше.
— Да как же, родила она с перепугу прямо на берегу. Бабка Анюта еле подоспела принять ребеночка...
— Да-а, — Евдоша покачала головой и снова, подойдя к столу, начала резать хлеб.
Чуть заметно кивнув Лешке, Глуша направилась к двери.
— Прощайте. Побегу я, а то Илья пошел запрягать, — и она снова кивнула Матросу.
Он пошел следом за ней.
В сенях, дергая ловца за пуговицы телогрейки, Глуша тревожно выспрашивала его о Дмитрии:
— Как он попал к батяше? Что с ним? Живой ли? Расскажи, Леша...
Переступая с ноги на ногу, Матрос светился доверчивой улыбкой.
— Батька твой с маяка встретил нас с Костей, — начал рассказывать он, пристально заглядывая в ее черные, округлые глаза. — Встретил и сказал: «Пусть Глуша ко мне приезжает». А потом, старый чертяка, на ухо Косте шепнул: Митька, слышь, больной у него лежит...
— Больной? — взволнованно переспросила Глуша.
— Больной, говорит. Костя мне об этом рассказал... — И Лешка вплотную подошел к рыбачке...
Она легонько отстранила его.
Лешка отступил, обиженно опуская голову.
— Э-эх, ты... — горько сказал он. — Не хочешь пожалеть меня. Я ли не суженый тебе?.. Не ездила бы ты лучше на маяк. Охота поговорить мне с тобой напрямик, с глазу на глаз. Довольно тебе мучиться с Мотькой, и Митрия бросить надо... Э-эх, пожалела бы ты меня! И зажили бы мы с тобою по-законному. Да и дела в поселке должны вот-вот развернуться жаркие. Сейчас с Андрей Палычем говорили, газету читали.
Глуша пожала плечами, направляясь к дверям.
Матрос, всегда веселый и речистый, сразу опечалился и затих.
Выбежав во двор, Глуша громко сказала ему:
— Приеду с маяка, тогда и поговорим, — и, посмеиваясь, она прищурила глаза.
Лешка встрепенулся.
— Ладно... — он снова нахмурился, огорченный и тоскующий.
Распахнув калитку, Глуша спросила его:
— А про Ваську батяша ничего не говорил?
— Нет... — притихший Лешка стоял в дверях, расслабленно прислонясь к косяку.
Махнув ему рукой, Глуша быстро скрылась за калиткой.
Ловец долго стоял у косяка, жмурясь от яркого, с огоньками, снега. Ему припомнилось, как года полтора тому назад — еще до связи Глуши с Дмитрием — она однажды пожалела его и целый вечер провела с ним... И Лешка после этого стал особенно настойчиво добиваться перед маячником своего суженого, обещанного счастья. Глуша как будто тоже против ничего не имела. Но тут заявился из Красной Армии Дмитрий Казак и перевернул все вверх дном.
Матрос встревоженно, жарко дышал...
Как он вошел в горницу и когда заявился Костя со своей матерью, Лешка не помнил.
Очнулся он только теперь, сидя за столом и жадно глотая пельмени.
Андрей Палыч ел по-обычному молча, медленно.
Евдоша то и дело подкладывала гостям горячие пельмени, подливала бульон.
— Ешьте, ешьте, — приговаривала она. — Ешьте, милые.
Окончательно придя в себя, Лешка чему-то хмуро усмехнулся и, взяв бутылку, налил в стопки водку.
— Выпьемте, что ль! — И он высоко поднял стопку.
— Не могу больше, — скуластая, с узкими щелками глаз, Татьяна Яковлевна отодвинула стопку на середину стола.
— А вы пейте, на нас не смотрите, — и Евдоша снова принялась подкладывать гостям пельмени.
Лешка чокнулся с Андреем Палычем и Костей, рядом с которым сидела Зинаида, и они втроем разом запрокинули головы. На чисто выбритой шее Кости, когда он пил водку, выпирал большой кадык.
— А вы чего не пьете? — обратился Лешка к рыбачкам.
— С нас и того довольно, что выпили, — Татьяна Яковлевна подсела ближе к Евдоше.
Когда Костя заговорил шепотом о чем-то с Зинаидой, рыбачки многозначительно переглянулись и, улыбаясь, потупили взоры.
Евдоша опять и опять потчевала гостей пельменями:
— Кушайте, милые... Кушайте на здоровье... еще подложу...
Первым вышел из-за стола Андрей Палыч. Остановившись у окна, он негромко заговорил:
— Плохи наши дела... Что будем делать дальше, и не знаю... А из беды выкручиваться как-то надо...
Лешка молча свертывал цыгарку. Задумчиво глядя в окно, Андрей Палыч все говорил:
— Беда, большая беда накрыла нас... Выход искать надо...
Ему хотелось сказать очень многое, но речь, как и всегда, у него не ладилась, нужные слова во-время не приходили, — поэтому Андрей Палыч говорил неторопливо, с перерывами.
— Беда... — И он стал медленно прохаживаться по горнице. — Выход искать надо... Выход!..
Рыбачки, поглядывая в сторону Кости и Зинаиды, едва слышно разговаривали.
— А Коляка-то ожил, — шептала Евдоша. — Сказывают, не относ его попортил и не шурган, а вроде Турки подо льдом протащили...
— Слышала, слышала я, — кивала головой Татьяна Яковлевна. Щуря узкие, слегка раскосые глаза, она вдруг тяжело, печально вздохнула: — Где-то теперь наш Вася Сазан... Не дай бог, ежели в открытом море...
И рыбачки, глядя в угол, где висела икона Николы-чудотворца, которого почитали за покровителя ловецкого племени, неторопливо перекрестились.
Андрей Палыч, заложив руки за спину, не спеша двигался по горнице.
— Выкручиваться как-то надо. Что-то делать надо!..
Костя просматривал газеты, которые передал ему Андрей Палыч; газеты были старые, они приходили в Островок раз-два в месяц целыми пачками. Рядом с Костей сидела Зинаида, она задумчиво вышивала кисет.
— Читай, Костя, читай, — говорил Андрей Палыч. — И думай, что к чему.
Лешка непрерывно тянул цыгарку, выпуская густые сизые клубы дыма.
Андрей Палыч стоял у окна и попрежнему задумчиво повторял:
— Выход нам надо искать.. Беда...
— Есть выход! — неожиданно заявил Лешка.
Он отстегнул ворот рубахи, из-под которой была видна его расцвеченная темной синью татуировки белая грудь.
— Есть выход! — повторил он, поднимаясь из-за стола. — Да, есть! Кончал их базар!
Матрос взмахнул рукой и возмущенно выкрикнул:
— За жабры надо тряхнуть Краонощекова и Дойкина — и баста! Жить мешают!.. И партия о наступлении на них говорит, — читали же мы сейчас статью Сталина «Год великого перелома»! Тряхнуть Краснощекова и Дойкина!
Лицо Матроса стало неузнаваемо: оно было искривлено ненавистью, потемнело, губы тряслись, а глаза, большие и зеленые, угрожающе поблескивали.
— За жабры их, как в городе! Вот и выход!..
— Будет тебе, Алексей! — остановила его Евдоша.
— Что значит будет?! — И Лешка направился к Андрею Палычу. — Тряхнуть!.. За жабры!..
— Ну и человек! — Евдоша безнадежно покачала головой; туже затянув на шее платок, она обратилась к Костиной матери: — И чего говорит! В городе тряхнули тузов-рыбников, а тут другое дело...
Остановив у стола Андрея Палыча, Лешка не переставал кричать:
— Возьмем за жабры! Тряхнем!.. А?.. Что скажешь?!
— Постой, Алексей! — ловец задумался. — Не шуми!
— Почему не шуми? За жабры их!..
Андрей Палыч снова медленно зашагал по горнице. Матрос опустился на стул и дрожащими пальцами стал свертывать новую цыгарку.
Рыбачки едва слышно говорили о Насте Сазанихе, о Коляке, а потом заговорили о Глуше, осторожно поглядывая в сторону Зинаиды и Кости.
— Не знаю, и чего спуталась она с Митрием, — недовольно сказала Татьяна Яковлевна.
— И то правда, — согласилась Евдоша. — Он парень, а она баба, да еще в годах. Ей уже, верно, под тридцать... — и она беспокойно посмотрела на мужа.
Андрей Палыч продолжал все ходить, повторяя одни и те же слова:
— Выход из беды искать надо... Непременно надо...
Костя внимательно просматривал газеты.
— Выход нужен!.. Выход! — Андрей Палыч остановился перед Лешкой и, глядя мимо него, в окно, долго молчал; потом вдруг, круто повернувшись, решительно сказал: — Значит, так, товарищи, — решаем: артель, колхоз создаем! Жалко только нету Василия, Григория Иваныча, Сеньки... — И громко, уверенно повторил, стараясь, чтобы слышали все: — Артель, колхоз создаем!.. Но нам нужна помощь, поддержка. Я в район еду. И вообще в район съездить пора. Давно уже не были! Узнать там, что к чему и что от чего. Вон ведь какие дела кругом творятся!
Он энергично шагнул к печке и, сняв с нее валенки, настал переобуваться.
Так обычно с ним всегда случалось. Молчаливый и задумчивый, он, по обыкновению, неторопливо обдумывал свои решения. Говорил он всегда мало и тихо, больше работал и молчал. К решениям же своим лржхюдил через мучительные искания, сомнения, колебания...
Но раз решив, Андрей Палыч уже не отходил от намеченного, шел напролом, всячески добнвался его осуществления.
— Костя, на всякий случай пиши в кредитку заявку о кредитах для артели! — Переобувшись в валенки, он поднялся. — Евдоша, давай теплую рубаху!
Костя хотел возразить, что из этого ничего не выйдет, — они ведь не вернули еще прежние кредиты, а новых кредитов не дадут, раз старые не погашены!
— Пиши, Костя, заявку о кредитах для артели, — настойчиво повторил Андрей Палыч и строго посмотрел на жену.
Костя попытался остановить его:
— Андрей Палыч...
Но тут поднялся посуровевший Матрос и, зло пыхтя дымом, жестко сказал:
— А ты, Костя, слушай, что тебе говорят!
— Пиши, пиши давай! — Андрей Палыч быстро снял валенки и поверх штанов надел еще теплые, стеганые шаровары. — Что? Думаешь, откажут? А газеты зачем?! С собой возьму! И ту — со статьей товарища Сталина, и другую — с его речью... В районный партийный комитет пойду. И скажу, как сейчас говорил: решили артель, колхоз создать. Давайте помогайте нам, товарищи. Пора! По всей стране артели создаются. И у нас на Волге создаются... Алексей! — окликнул он Матроса. — Запрягай коня!
— Есть запрягать коня! — и Лешка, схватив шапку, заспешил на двор.
Андрей Палыч снова обул валенки и прикрикнул на жену:
— Чего стоишь? Давай, говорю, теплую рубаху!
— Что уж это, — обиженно залепетала Евдоша, — будто на пожар бежит... Шебутной, ну и шебутной! Послушал бы, что Костя хочет сказать. Посоветовались бы все... Да и солнце вон уже на заходе. Завтра и поехал бы, ежели решили...
Но Андрей Палыч не такой ловец, чтобы поддаться уговорам. Деловитый и спокойный, он вдруг — будто на него налетал шквал — начинал спешитъ, решительно распоряжаться н быстро действовать.
Скоро снарядившись в путь, Андрей Палыч вскочил в сани и погнал лошадь к Сазаньему протоку.
Его обступили снега. Алый закат солнца окрасил их в розовый свет, и эта картина напомнила Андрею Палычу один из тех далеких вечеров восемнадцатого года, когда розовое сияние снегов было таким же волнующим и тревожным и когда Андрей Палыч вот так же мчался в санях по Сазаньему протоку навстречу бурным и грозным событиям...
...В семнадцатом году рабочие и солдаты сбросили в столице царя, а ловцы здесь, в приморье, перебили рыбных стражников, разогнали промысловых хозяйчиков и пошли ловить рыбу где попало: в купеческих, монастырских и даже казенных водах.
Запаслись в тот год ловцы — и мукой, и крупой, и сахаром, и маслом — на многие, многие месяцы. А кто пожаднее в лове был, тот запасся всем и на год и даже больше.
У Андрея Палыча с Евдошей впервые за всю жизнь запасы продовольствия были на полгода.
И вот, следом за осенней путиной, в январскую стужу восемнадцатого года, заявился ночью из города в Островок старый Бушлак, отец этого Кости, который только что, склонившись над столом, строчил заявку в кредитное товарищество ловцов.
Заявился ночью Бушлак в Островок, разжег посреди улицы костер и ударил в набат у пожарного сарая.
Сразу поднялся весь поселок; загавкали собаки, заржали кони, выскочили в чем попало из домов перепуганные ловцы, рыбачки, дети.
А Бушлак, стоя на пожарной бочке, гремел могучим голосом:
— Ловцы-ы! Беда-а в городе! Белые казаки на рабочих напали!
Костя, тогда еще шестнадцатилетний паренек, таскал из дома дрова и палил костер.
— Ловцы-ы! — продолжал призывать Бушлак. — Рабочие царя прогнали, нам помогли разогнать рыбную стражу, баров разных, купцов промысловых...
Он наклонялся в сторону Кости и кричал ему:
— Пали, сынок, огонь вовсю! Пали!..
Костер на морозе трещал, взвивался ярким, большим полымем.
— Ловцы-ы! Рабочие в крепости, в порту схоронились от казаков. У рабочих нехватка продовольствия, оружия не в достатке. Подмога нужна им!..
Андрей Палыч медленно прохаживался вокруг костра.
Толпа все ширилась и молча слушала Бушлака.
А он, не переставая, кричал, тревожил ловцов, звал их на помощь рабочим города:
— Побьют казаки рабочих, тогда к нам сызнова заявятся баре, купцы. Заберут опять все воды, поставят стражу...
Одни ловцы убегали от костра домой, чтобы переодеться — был лютый, хваткий мороз; другие возвращались уже в тулупах, прихватив с собой кто полено, кто ненужный обломок шеста, — все это бросали в костер.
Пламя длинным столбом рвалось в небо, окатывая ближайшие дома зловещей краснотой.
Костер шипел, стрелял большими краснымн искрами.
Толпа тревожно гудела; говорили, кричали все разом, ничего нельзя было разобрать.
Только изредка из этого гама вырывался громкий голос Бушлака:
— Ловцы-ы! Дви-инем!.. Подмо-огу!..
Андрей Палыч все решал: как быть, что делать.
Несколько раз он являлся домой; Евдоши не было, — она находилась с рыбачками у костра.
Пройдясь по горнице, Андрей Палыч выходил на двор, отпирал амбар и, нащупав мешки с мукой, тяжело вздыхал и снова направлялся к костру.
Толпа все гудела. Костер не переставал бушевать, — ребята приносили со двора поленья, камыш и не давали погаснуть огню.
Выйдя на берег, Андрей Палыч долго и сумрачно глядел на закованный во льды проток. По льдам широко расстилались. кровавые отблески костра; колыхаясь, отблески уходили далеко длинными полосами, — так далеко, что, кажется, достигали агабабовского рыбного промысла, где много годов тому назад работал Андрей Палыч и где пьяный Агабабов, шутки ради, чуть не утопил его в чане с тузлуком..
«А что, ежели и впрямь казаки побьют рабочих? — неожиданно припомнились ему слова Бушлака. — Купцы обратно вернутся, стражники тоже, воды перейдут опять к рыбникам. И Агабабов вернется...»
Андрей Палыч поспешил с берега домой; миновав ловцов и костер, он вбежал в горницу и, рванув со стены берданку с патронташем, выскочил на двор.
Он быстро запряг лошадь в сани, побросал в них мешки с мукой и с шумом подкатил к костру.
— Эй! Сторони-и-ись! — заорал он. — Сторо-ни-и-ись, говорю!
Ловцы и рыбачки испуганно шарахнулись в стороны.
— Говорим много! — закричал Андрей Палыч не своим, внезапно охрипшим голосом. — Делаем мало!
И он взобрался на мешки.
— Грузи сани продовольствием — и айда в город!
Толпа плотно обступила саии Андрея Палыча. Распахнув тулуп, он продолжал громко выкрикивать:
— Грузи сани!.. Забирай оружие!.. В город!..
Скоро к костру прикатили еще две подводы, навьюченные мешками с мукой.
Неожиданно в сани к Андрею Палычу вскочила Евдоша, первый раз в жизни заимевшая полугодовой запас муки; взбираясь на мешки, она что есть силы кричала:
— Не дам муку! Не дам!..
Андрей Палыч пытался уговорить ее, успокоить, но она, словно помешавшаяся, бестолково визжала, махала руками. Тогда Андрей Палыч слегка толкнул ее в грудь, и Евдоша скатилась с мешков.
Через секунду она снова уже была в санях.
— Не дам, не дам!..
Он вновь толкнул ее, и Евдоша, захлебываясь слезами, свалилась в снег.
В это время загудел набат в соседнем поселке.
Толпа притихла.
Далекие звуки обеспокоили тихую приморскую морозную ночь...
Ловцы напряженно вслушивались.
Звуки, нарастая, вселяли в людей смятенье, безотчетный страх, напоминали о купеческом городе, о промысловых хозяевах.
— Ловцы-ы! — внезапно распорол застойную тишину Бушлак. — На по-омощь!..
Толпа опять зашумела.
К Андрею Палычу подбежал с полумешком муки на плечах Григорий Буркин.
Бросив в сани мешок, он поднялся к Андрею Палычу и стал громко кричать, повторяя одно слово:
— Поехали! Поехали!..
Кто-то опять ударил в набат Островка; гулкий звон его заглушил набат соседнего поселка, сбил гвалт ловцов и рыбачек. В набат били все чаще и чаще, он гудел тревожно, зловеще.
К костру поспешно подъезжали одна за другой груженные мешками с мукой подводы.
А набат продолжал гудеть...
Девять подвод с двадцатью семью ловцами, вооруженными берданками и централками, выкатили из Островка в эту памятную морозную ночь.
Зарево не перестававшего бушевать костра ярко освещало им дорогу...
По этой дороге — по сжатому льдами Сазаньему протоку — мчался теперь Андрей Палыч в район.
«Артель, колхоз создадим! — думал он. — Непременно создадим! Партия верный путь нам указывает... Верный!..»
Он приподнялся и крепко стегнул коня по спине. Нащупав за пазухой газеты, обрадованно зашептал:
— Прямо в районный партийный комитет пойду!..
Кругом сверкали алые снега; лед был завален волнистыми радужными сугробами, камыш осыпан светящимся розовым пухом, а небо в багряном закатном пожаре будто тоже затянуто снежными пунцовыми покровами.
И Андрей Палыч примечал: чем быстрее бежала лошадь, тем лучистей сияли снега...
Глава восьмая
Маячник Егорыч беспрерывно суетился: то подбрасывал в печку дрова, то подбегал к небольшому, кованному разноцветной жестью сундучку, то спешил к столику, на котором стояло несколько бутылок.
— А ты еще хватани! — И он подливал Дмитрию водки. — Согреться надо, непременно согреться!
Дмитрий, лежа под тулупом Егорыча, приподнимался на локте и, морщась, выпивал новую стопку.
Становилось все жарче и жарче; под тулупом было, нестерпимо душно, и ловец тоскливо глядел на печку, где на веревке сушилась его одежда.
«Где теперь Васька? Что с ним стало? — спрашивал себя Дмитрий. — Егорыч говорил, что на заре, когда он тушил маяк, мимо пронеслась чья-то лошадь с порожними санями.. Куда же делся Васька? Неужели угнало его в относ?.»
И ловец снова тоскливо взглянул на свою одежду; ему хотелось встать, одеться и двинуться на помощь товарищу, но когда пытался приподняться, кружило в голове, звенело в ушах, и он опять беспомощно падал на подушку.
— Сейчас начнем варить ловецкий чай, — и Егорыч, маленький, толстенький старичок, снова убегал к печке; волосы на голове у него были короткие, ершиком, и почти всегда насмешливо прищурен один глаз. Егорыч напоминал собою шустрого, лукавого ерша.
— Давай я тебя еще раз натру! — Маячник брал бутылки с водкой и уксусом и сбрасывал с Дмитрия тулуп.
— Хватит, Максим Егорыч, хватит. Спасибо!
— Пропотеть ты должен, как следует пропотеть! — настойчиво повторял маячник и, отвернувшись, неприметно для Дмитрия наливал в стопку водки и залпом выпивал ее. — Самое главное — пропотеть! И тогда — капут простуде. Сорок годов я ловил, шесть раз в относе был, — знаю, как выгонять эту хворобу...
Налив в ладонь водки с уксусом, Егорыч начинал растирать крупное мускулистое тело ловца.
— И как же это вы такой штормяк проспали? И лошадь, говоришь, предупреждала? Э-эх, ловцы!.. Сказано же в ловецком евангелии: море и кормит, оно же и топит... Бросать надо было все и скакать ко мне... А шкура твоя вся в ссадинах, будто удочками кто драл.
Дмитрий хрипел, жаловался на одежду, которая, обмерзнув, ободрала его тело.
— Давай спину! — покрикивал Егорыч.
Руки его ловко ходили по ладной спине молодого ловца; спина у Дмитрия добротная — в аршин шириною, около лопаток катались бугристые мускулы.
— Эх, судаки-дураки! — ворчал маячник. — Забыли ловецкую присказку: лошадь на льду копытом бьет — беда идет... Э-эх, ловцы, что за ловцы!
Маячник снова наливал в ладонь водку и уксус.
— Повернись! — и плескал. холодной едкой влагой на грудь Дмитрия.
Он старательно водил руками по, прочной груди ловца, которая была неподатлива и туга, точно засмоленный борт морской посудины.
Старичок то и дело поворачивался к окну и, казалось, пристально следил за песками, что струились тонкими серыми прядями среди стремительно бегущих холстин снега. Он видел, как над Каспием опять потянул ветер, высоко взбрасывая, освободившиеся ото льда воды.
Как и на заре во время шургана, снова дрожит его ветхая примаячная сторожка, и над нею гулко скрипят под напором ветра стропила.
Дмитрий уже полдня лежит в сторожке Егорыча.
Он не ожидал, что так необычно ласково примет его маячник. Раньше Дмитрий слышал от Глуши, что ее отец знает о том, что она сблизилась с Дмитрием, и не один раз грозил выпороть дочь, оттаскать за косы. Да и сам Егорыч как-то предупреждал ловца, чтобы не приставал он к Глуше, не заводил смуты в семье...
И вот, спасаясь от страшного относа, Дмитрий прибежал к маяку и долго не осмеливался войти в эту сторожку. Обмерзший и разбитый, он припадал к окну, прислонялся к двери и наконец, не выдержав, беспомощно опустился на приступок у входа и стал скрести дверь.
Что же не прогнал Егорыч Дмитрия?..
Не помнит он, как маячник втащил его в сторожку и оттер водкой, привел в чувство.
Приметил ловец, что маячник почему-то много и охотно говорит с ним, суетится, ухаживает.
И, ободренный ласковым приемом Егорыча, ловец пытался заговорить с ним о Глуше, но каждый раз, как только произносил он имя его дочери, старичок, будто ничего не слыша, убегал то к печке, то к сундучку.
Вот и сейчас Дмитрий едва слышно сказал:
— Глуша, верно, волнуется...
— Ой, чай кипит! — притворно забеспокоился маячник и заспешил к печке. — Плотней прикройся тулупом-то!
— Глуша-то, верно, соскучилась... — еще раз, нарочито громко сказал Дмитрий и замолчал, намеренно не досказав, по ком соскучилась Глуша.
— Что? А? Как ты говоришь? — лукавил Егорыч, прикладывая к уху сложенную трубочкой ладонь.
— Глуша, говорю...
— Чего это? — хитрил маячник. — Недослышивать я стал, за шестьдесят годов мне уже перекатило.
Помешав в котелке чай, маячник снова заспешил к сундучку; он отпирал его уже несколько раз маленьким светлым ключиком, который висел у него на пояске из хребтины.
— Раздел я тебя до костей, а одеть-то и не во что! — Он приподнимал крышку и начинал быстро перебирать содержимое сундучка.
— Спасибо, Максим Егорыч. Скоро одежа моя высохнет.
— Не знаю, во что мне тебя и одеть... Есть вот у меня смертная рубаха да сподники. И жалко вроде, и грех, пожалуй, — к смерти ведь готовил!
Он поднялся и развернул желтые рубаху и штаны, густо пересыпанные махоркой.
— Спасибо, Максим Егорыч!
— Одеться надо, а то зайдет, может, кто — неудобно эдак!
Дмитрий подумал:
«Чего-то хитрит старикан», — и громко спросил, стараясь выведать тайну маячника:
— А кто может зайти сюда? Островок отсюда верст пятнадцать, а ближе как на тридцать — и никакого другого жилья нет!
Старичок опустил на колени рубаху, нахмурился и обидчиво произнес:
— Ко мне ловцы часто заезжают, и бабы тоже.
Егорыч посмотрел на Дмитрия хитро прищуренным глазом:
— А может, дочка приедет...
— Глуша? — радостно приподнялся Дмитрий. — Глуша, говоришь, Максим Егорыч, приедет?!
— А? Чего ты сказал? — заюлил маячник. — Недослышивать я стал... А? Что?
Он бросил на сундучок белье.
— Эх, чай убежит! — и метнулся к печке.
Вытащив котелок, маячник составил его на пол, затем, опустив веревку, придвинул ее с одеждой ловца ближе к огню.
— Как бы не спалить твои штаны! — и воровато взглянул из-за одежды на ловца.
Дмитрий чему-то улыбался.
— Э-эх, вы, ловцы! — снова заговорил маячник. — Штормовой норд вверх дном море перевернул, а они дрыхли! Известно: раз рыбу ловишь, значит при смерти ходишь! Беречься надо было, глядеть в оба... Э-эх, вы!.. Никудышные вы с Васькой Сазаном ловцы. И справы-то у вас своей нет, на рыбников — на живоглотов работаете.
Дмитрий нетерпеливо завозился на постели. «Брось, Максим Егорыч, рыбу учить плавать», — недовольно подумал он.
— Я бывало всегда имел свою справу. — Егорыч то подносил одежду ловца ближе к огню, то отстранял ее. — Всего один год на рыбников работал, а потом — каюк, довольно! И сорок годов самостоятельным ловцом был. Никак не признавал рыбников. Ну, понятно, улов сдавал живоглотам, потому что казна не занималась приемкой рыбы, а ежели б занималась — ни фунта, ни рыбины не сдал бы хапунам.
Он подходил к окну и подолгу, молчаливо глядел на прибрежье.
Ветер крепчал и, срывая с песков снег, попрежнему бросал его в стекла. Стропила маяка, туго пошатываясь, скрипели над сторожкой все громче и тоскливей...
Маячник снова возился у печки, потом подходил к столику, наливал водку и быстро опрокидывал стопку.
— Ежели и беда случалась, — продолжал говорить он, — и тогда я не шел внаем. Крал, а не шел!.. Обловом запретных вод занимался, по чужим сетям плавал, а в наем — никак!.. Обижал я не своего брата-ловца, а рыбника, живоглота, — плавал по его сетям, а не по ловецким.
Он взглянул на икону и торопливо перекрестился:
— И господь-бог простит меня. Свое я крал, наше, ловецкое... Живоглот у ловца крал, а я у него! — Он снова быстро перекрестился. — Расскажу вот тебе всю правду-матку о живоглотах.
Голос его осекся, и он шепотом произнес:
— Вроде убил я одного субчика-голубчика...
Егорыч пододвинул ногой табурет к печке, сел и, свернув цыгарку, густо задымил махоркой.
— Приехал я на Каспий годов сорок назад. Жили мы в Тамбовской епархии и землю пахали. А земли было — только лечь да протянуться... Жили, значит, богато и не каждый день трудились поесть досыта. А тут подати подошли до горла. Туда-сюда, так и эдак, — описали у нас лошадь! Коровы нет у хлебопашца — полбеды, а ежели коня нет — тут уж полная беда. Ложись живым в гроб и помирай!.. Как раз с нашей деревни собирались мужики идти на Каспий, на рыбные промысла. Ну и я с ними увязался... А в деревне отец с матерью, сестренка с брательником да жена остались дожидаться меня к весне с деньгами... Нанялся я к одному «кормильцу», в море пошел и скоро приспособился к новой работе. Зимой тоже ходил в море — за белорыбицей... Работаю, а денег у хозяина не беру: пусть, думаю, растут до сотни, а потом сразу всё заберу — и в деревню! После передумал и так решил: нечего в деревне делать, выписать надо на Каспий всю семью и жить тут. Работать-то на море, известно, трудно и опасно, смерть подкарауливает ловца изо дня в день, а все же привольней жить здесь, и заработать можно. Посоветовался я со своим живоглотом, он и говорит: «Правильно, Максим, и я помогу тебе стать на ноги...» Хотел я полсотню целковых послать в деревню, а он отсоветовал: «Беречь деньги, Максим, надо. Пошли десятку, и хватит!..» Едва выклянчил я у кормильца двадцать целковых...
Дмитрий видел, как шевелятся у старичка седые бородка, усы, и то расходится, то сжимается вокруг рта ржавый, обкуренный махоркой кружочек.
— Ну, кончилась весенняя путина, жду семью. Думаю себе: рассчитаюсь теперь с хозяином, получу целковых полтораста. Восемь месяцев работал!.. Начали мы счета подводить. Хозяин щелк-щелк на счетах: за харч — вычет, за жилье — вычет, за порванный пароходом невод — вычет... и подходило к тому, что приходится мне вроде чистый нечет. Вот как!.. Замутилось у меня в голове, задрожал я весь. Как же так получается? Пять ртов скоро приедут, а у меня не только на хозяйство денег нету, а даже и на прокорм... Не стерпел я, схватил счеты — большенные такие, тяжелые — да как хрясну по живоглотской башке!.. И убёг из каюты. А были мы в то время в городе, у рыбных лабазов. Так и не знаю по сей день—насмерть или как хряснул я моего кормильца...
Маячник вскинул робкий взгляд на икону и, быстро крестясь, прошептал:
— А ежели и насмерть, и за это господь-бог простит. Потому простит, что за правду я...
В стены сторожки громко ударил ветер. Стекла в окнах зазвенели. Маяк грозно загудел стропилами.
Старичок поспешно подвинул табурет к кровати и наклонился к ловцу:
— Смотри, малый, мою жизнь!.. После этого живоглота я под Гурьев подался, а со мною и вся семья. Без рубля ехали, голодали, сестренка на пароходе померла... Отец пристроился в сторожа на промысле, а я на лов пошел. Относ тут хватил меня, чуть ли не месяц мотало на льдине по Каспию, а потом долго я в больнице лежал.
«Вот и с Васькой так, может, — тревожно подумал Дмитрий. — Где он теперь?..»
Ловец приподнялся на локте и жалостливо посмотрел на старичка.
— Вернулся я домой на клюшках, — ноги малость поморозило, а матери в живых нет, заплакалась она обо мне, загрустилась... Отец восемь целковых в месяц получал, а я лежал в постели. И опять впроголодь жили мы. А тут холера случилась, брательник помер.
Егорыч жадно то и дело тянул цыгарку.
— И отец не так, как следует, помер... Караулил он промысел одного живоглота. Ночью явился этот самый Фома Мартыныч проверку делать, а отец заснул, — старику уже было под семьдесят. Как на грех, живоглот воров приметил, снимали они с вешалов рыбу. А отец спал и ничего не слышал. Разогнал хозяин воров и к отцу подошел, а он спит себе, прикурнул к стенке амбара... Живоглот окликнул, а он все спит. Разозлился живоглот и что есть силы пнул отца ногою в грудь. Отец захлебнулся кровью да так и помер, не просыпаясь. Начал я судиться с этим хозяйчиком, да разве осилишь его?..
Ветер то порывисто налетал на сторожку, сотрясая ее, то затихал и осторожно шуршал по стене, словно жалея и гладя ее холодными, жесткими лапами.
— Выправился я кое-как после относа — и опять на лов, а тут штормяк подкараулил меня, посудину разбил... Эх, думаю, как же жить-то?.. Подумал, погадал и решил: дальше моря — меньше горя. И поплыли мы в Баку, на нефтяные промысла. А там народищу больше, чем в нашем Каспии сельдей! И работы никакой... Хватанули мы горя там погорше морского, и айда обратно под Гурьев... Нет, думаю, сеть да весло — неплохое ремесло. Опять начал я к лову пристраиваться, а скоро и фарт подвалил — жена на коптилку рыбы устроилась... Два года маячили мы с ней в нужде, а потом на поправку дело пошло. Глуша в эту пору родилась. И вдруг — на тебе! — жена на коптилке опалилась. Платок от огня на голове вспыхнул: волосы хватило, а лицо черное стало. Лечил я ее. Хозяина коптилки в оборот взял: давай, мол, денег на лечение!.. Не дал ни копейки. Так и не сумел я отправить жену к докторам в город. Отправил в могилу... Видишь, малый, какая жизнь была!..
Дмитрий, слушая рассказы маячника, в полусне переживал вместе с этим добрым, говорливым старичком его трудную, тяжелую жизнь.
«А может, и у меня завертится такая канитель? — смутно шевельнулась у него тревога. — Что-то похоже на это. Все эти незадачи, прорехи в лове. И опять шурган с относом!..»
Ловец нетерпеливо повернулся на бок, откинул с груди тулуп, вытянулся на спине.
— Не может такого со мной случиться, — успокаивающе сказал он. — Времена другие!..
Егорыч недвижно сидел на табурете и, свесив руки между колен, казалось, не слышал Дмитрия и говорил про свое тихо и скорбно:
— У Глуши, как и у меня, никчемушная, негодная жизнь... И время ведь нынче другое, а вот, поди ж ты, не ладится и у ней жизнь...
— Верно, Максим Егорыч! — подхватил Дмитрий. — Не ладится у Глуши жизнь!
Старичок боязливо взглянул на икону:
— Господь-бог всё гневы разводит... Ну, я уж, ладно, виноват, скажем, — грехов много, а Глуша-то молодая еще и не успела нагрешить, а вот, видишь, какая ее жизнь.
Вдруг он схватил руку Дмитрия, качнул головой и не то с верой, не то с ехидством зашептал:
— А знаешь, малый, иной раз — и сейчас вот тоже — дьявол в душу залезет и сосет: а есть ли господь-бог на свете? И если он есть, то куда это он ладит такую никудышную жизнь, как у Глуши?
Маячник опять с тревогой скосил глаза на икону:
— Вот и возьмет тебя сомненье о господе-боге...
И снова шептал старичок про то, что он чуть ли не десять годов в церкви не был — с тех самых пор, как из Островка сюда, на маяк, перекочевал; и про то, что слышал он однажды лекцию, будто бога нет и все это — поповская брехня, и что вот раньше старый Бушлак, которого в революцию расстреляли белые, читал об этом книжку. Хорошая была книжка, запрещенная, с картинками. Тогда у Григория Фомича Кушланова жил грузчик Иван Самарин с парнишкой Сашкой. Грузчик из города был, с казаками он и с полицией там дрался. Была у него проломлена голова. Он и поправлялся у Кушланова. Там часто собирались ловцы, и грузчик правду рассказывал о жизни...
Старичок, еще ближе пригибаясь к ловцу, будто опасаясь, что вот-вот рухнет маяк и придавит избушку, перехваченным голосом шептал:
— И вспомнишь ее, никудышную, и согрешишь, и подумаешь: а есть ли, в самом деле, этот самый господь-бог?..
Дмитрий чувствовал, как пухлая рука Егорыча дергалась в его руке, будто пойманная маленькая рыбка.
Внезапно о крышу сторожки что-то с треском стукнуло.
Егорыч головою припал к груди ловца.
По крыше опять что-то громко скребнуло, покатилось и ударилось о стену.
«Верно, доску сорвало со стропил», — подумал Дмитрий.
Он приподнялся и, закрывая голую грудь полой тулупа, сел на кровати.
Старичок молчал, вскидывая робкие взгляды на икону.
Ловец наклонился к маячнику и тихо заговорил:
— Брось, Максим Егорыч, пустое это дело. Никаких богов нет... Я вот в Красной Армии был, и в городе там, в соборе, мощи были выставлены разные. Труха одна, опилки да вата...
У маячника часто вздрагивала бородка.
— Все знаю, Митрий, а подумать боязно... Я вот, видишь, на самом краю света живу, один.... Разыграется непогода, штормяк да молния, гром да дождь — ну, и господь-бог сейчас же на ум, а тут икона висит. Вот и молишься, один на один с погодой... И в море бывало так же: ударит, вскинется штормяк, страх возьмет, и полезешь в пазуху за крестом: тут ли спаситель?..
Искоса взглянув иа икону, маячник поднялся и выпил подряд две стопки водки. Он уже и до этого охмелел, и теперь, пошатываясь, прошел к сундучку; вытащив полотенце, сумрачно сказал:
— Не могу глядеть... Неловко как-то и боязно будто... И чую — ругаться сейчас начну с ним из-за Глушки. Э-эх!..
Он придвинул в угол табурет и, встав на него, прикрыл икону полотенцем.
— Легче так... — тихонько промолвил Егорыч и, спрыгнув с табурета, покачиваясь, подошел к ловцу. — А ты, Митрий, как выздоровеешь, вынеси мне икону из дома. У самого рука не поднимается. Один грех с ней, с иконой-то...
И, махнув рукой, он заспешил к печке.
— Эх, заболтались мы с тобой! И огонь прогорел, и чай остыл.
Дмитрий молчаливо следил за маячником.
«Чудной старикан!..» — думал он.
Егорыч снова растапливал печь.
Ветер затихал. За окном, вокруг маяка, навалило большие сугробы, а дальше желтели голые пески. Тучи неслись высоко и разрывались; небо светлело — вот-вот должно было показаться солнце.
Старичок долго стоял у окна, словно кого-то высматривая; постучав пальцами о подоконник, он повернулся и не спеша прошел к печке.
— Давай, Митрий, чай пить. И одежа твоя подсохла.
Он снял с веревки рубаху и передал ее ловцу; затем, пододвинув столик ближе к кровати, начал приготовлять чай.
— Я вот ругал тебя, Митрий, и еще ругать буду. Плохой ты ловец, ну никудышный, и еще много в Островке плохих ловцов... Зачем вы на рыбников ловите? Зачем на них работаете? Судаки-дураки!.. Поглядите на Григория Буркина. Вот он — человек! Ловец!.. Еще пара-тройка есть таких ловцов: Андрей Палыч, Костя Бушлак, Лешка-Матрос... А Григорий Буркин отменней всех! К рыбнику гнуть шею не идут. Вместе ловят! Живут пока небогато, зато сами ловят, сами на себя работают.
Дмитрий сердито кашлянул.
— Про других молчу, — глухо сказал он. — А ежели Лешку-Матроса взять — трепло, а не ловец!
— Потише, малый, — привскочил маячник, — а то весла поломаешь! Лешка — герой! Награда у него! Командиром в Красной Армии был и партизанил еще... Вот как! А ты чего болтаешь?..
И он, будто радуясь, что нашел в Дмитрии уязвимое место, стал с еще большей горячностью говорить о Матросе:
— Лешка, что и Григорий Буркин, верный своему партизанству. С живоглотами не знается, на них не работает... Это я понимаю — ловец! Человек!.. Знает ловецкую честь!..
Он долго корил ловца, потом, успокоившись, начал наливать в чашки чай.
— Одного, Митрий, не возьму я в толк. Сказывают, теперь будто в городе опять живоглотам плавники подрезали, — знайте, мол, власть советскую! А тут вот — в нашем краю-то — они живут себе, и вы работаете на них, судаки-дураки!.. Никак в толк я не возьму: ежели в городе и впрямь плавники им подрезали, почему они тут, у нас, свободно плавают? Как ты думаешь?..
Слушая маячника, Дмитрий вспомнил Василия, вспомнил его последние слова об артели, о наступлении на нэпмана и кулака.
«Правильно... И Егорыч об этом толкует... об этом же... о наших кулаках-рыбниках...»
Дмитрий утомился, его клонило ко сну. Обмякшее под тулупом тело, согретое водкой и чаем, требовало покоя.
Старичок же не унимался; выпив подряд три чашки чаю, он говорил уже про семейные, кровные дела:
— Такой же, как и ты, мой зятюшка, Тюха-Матюха этот! Пропадает с ним моя Глушенька...
Дмитрий приоткрыл глаза.
Егорыч вскочил и подбежал к сундучку; подняв свою смертную рубаху, он удрученно сказал:
— Вот она! Все, что оставил я себе от имущества. Сорок годов копил, на смерть в море ездил... Ежели не хватало сил или беда случалась, крал уловы у живоглотов, в тюрьму мог попасть, а все копил да копил... Думал: я плохо жил, пусть хоть дочка по-хорошему заживет. Мужа нашел ей, позарился на судака-дурака, на тихого парня!.. Забыл, старый дурень, дедовский ловецкий устав: от ловца чтобы ветром пахло, а от рыбачки дымом... Ну, как знаешь, передал я Беспалому дом свой, полную ловецкую справу, лошадь, корову, а сам перебрался сюда, на маяк. Пусть, думаю, молодые одни поживут, лучше им так будет... А что вышло?
Маячник сердито швырнул в угол смертное белье.
— Тюха-Матюха сбрую сгноил, а новую — не хватило сметки приобрести, лошадь заморил, дом у него скособочился... А он все дрыхнет. Я ему говорю: «Ну и соня ты, Мотя! Неужели у тебя на боках еще мозолей нет?..» Он молчит, ухмыляется. А как я учил его уму-разуму! Ка-ак учил!.. Да все без толку, — ума, видно, за морем не купишь, ежели его у тебя нет...
И вдруг он совсем тихо, шепотком, как бы самому себе, сказал:
— А я-то думал, на старости лет побалует меня зятек внучком... Эх, и понянчил бы я его... Веселись, стариковская душа, доживай в радости последние денечки... Вот и нанянчился, старый чертяка!
И он не спеша двинулся к окну.
— Замучилась с ним моя Глуша, плачет все. Сонливый уж очень муж!
— Да, плохо живет с Мотькой Глуша! — поспешно поддакнул Дмитрий.
— А? Что? — хотел было снова слукавить маячник, притворяясь оглохшим на одно ухо, но махнул рукой и подскочил к ловцу: — А ты думаешь, Глуша с тобой лучше жить будет?
— Лучше! — уверенно сказал Дмитрий и быстро поднялся.
Старичок присел, согнулся, — сейчас он был похож на запутавшегося в сетях ерша, который метался-метался, а потом, обессилев, угомонился.
Он молча глядел на ловца.
Дмитрий, босой и в тулупе, накинутом на плечи, вышел из-за стола. Пройдя к двери, он вдруг ухватился за косяк и тупо посмотрел на маячника.
— Что с тобой? — с тревогой спросил Егорыч.
Покачиваясь, Дмитрий осторожно двинулся к кровати.
— Плохо что-то, Максим Егорыч, — глухо сказал ловец. — Голову мутит...
Выставив руки вперед, он повалился на постель.
— Не надо вставать было, не надо! — строго прикрикнул Егорыч. — Говорил — пропотеть должен!
Он заботливо подоткнул под спину ловца тулуп и положил на ноги коротушку.
— Спи давай, а я обед сготовлю.
И опять маячник тянул водку; говорил он теперь тихо, не суетился:
— Как хотите, так и делайте сами с Глушей. Как хотите — сами... А я против этого...
Говорил он все тише и тише:
— Да, как хотите... И денег теперь у меня нет, и сил нет, чтобы имущество-хозяйство вам справить...
Дмитрий понимал, что лукавый Егорыч окончательно сдался, и хотел было сказать старику, что никакого его имущества-хозяйства им с Глушей не надо, но голова отяжелела и губы не разжимались.
Взяв бутылку, старичок молча, пошатываясь, прошел к окну.
Глянув на прибрежье, Егорыч вдруг быстро вытер рукавом стекло и припал к нему.
Повернувшись к Дмитрию, он хитро прищурил глаз и необычайно весело произнес:
— Думаешь, с горя пью? Я, может, с радости!..
— С какой же такой? — спросил ловец, предугадывая, что старичок что-то затевает.
Не отвечая, маячник напряженно глядел в окно; приподнимаясь на носках, он медленно поворачивал голову, будто за кем-то следил.
«И чего хитрит?» — подумал Дмитрий, и сам хотел приподняться, чтобы взглянуть в окно, но усталость словно приморозила его к постели.
Отставив бутылку и мурлыча себе что-то под нос, старичок, покачиваясь, поспешно зашагал к двери.
— Куда, Максим Егорыч?
Маячник задорно подмигнул и толкнул ногой дверь.
Вся белая, запушенная снегом, вступила в сторожку Глуша.
Не сказав отцу и слова, она сбросила с себя шаль, коротушку и быстро подошла к кровати.
— Живой ли, Митенька?
Ловец удивленно глядел то на Глушу, то на маячника.
— Живой ли ты? — трясла Дмитрия Глуша, чуть не плача.
Дмитрий приподнялся на локте.
— Живой... Спасибо Максиму Егорычу...
А старичок стоял в сторонке и молча наблюдал за дочерью.
Опускаясь на табурет, она обшлагом кофты вытирала глаза.
— Брось дурить! — вдруг сердито прикрикнул на нее маячник. — Что за слезы?.. Брось, говорю, дурить!
Всхлипывая, она посмотрела в глаза отцу; глаза его золотисто горели.
— Ой, спасибо, батяшенька, за Митю!.. Как хорошо-то мне!..
Искоса оглядывая дочь и ловца, Егорыч снял со стены полушубок и начал одеваться.
— Лошадь бросила! — забурчал он. — А лошадь чужая!
— Чего ты, батяша? — Глуша подняла голову.
— Лошадь, говорю, не распрягла! — и маячник сердито запахнул полушубок.
Пройдя к двери, он остановился и строго сказал:
— Ты особенно-то не расходись у меня, а то живо прикручу хвост... С Митрием шашни пора кончать. Для этого и вызвал тебя, а ты, верно, думала, благословлять свел вас. Шалишь, дочка!..
— Максим Егорыч! — жарко воскликнул Дмитрий. — Ты же только что супротив ничего не имел...
— А твое дело молчать! Не с тобой речь!.. Кончать надо! Про вас и так много брешут... Молва-то людская что зыбь морская — так и катит, так и катит...
Глуша поднялась и тихо зашагала к Егорычу.
— Батяша, — взволнованно сказала она, — не могу я больше с Мотькой. Сам знаешь!..
Маячник сердито кашлянул, притопнул ногой и опрокинул шапку глубже на глаза.
— Эх ты, дочка, дочка, — бесстыдница!..
Отшвырнув с порога окурок, он отворил дверь и, скрываясь в клубах пара, проворчал:
— Нет!.. И внучка от вас не приму...
Дмитрий — довольный, радостный — чуть слышно проронил:
— Ух, и хитер у тебя старик.
Глуша села рядом с Дмитрием и, склонив голову на его грудь, облегченно вздохнула:
— Видно, согласен батяша...
Глава девятая
Третий день живет Дмитрий у Максима Егорыча. Все это время, как только приехала Глуша, Егорыч, поругавшись с дочерью, упорно молчал.
Он непрерывно что-нибудь мастерил, пытаясь казаться очень занятым: то возился с починкой сетей, то сбивал новую табуретку, то вытаскивал из-под кровати ящичек с сапожным инструментом и начинал примерять заплаты к валенкам.
Будто озабоченный работой, старичок искоса следил за Глушей и Дмитрием; когда они разговаривали вполголоса, он слегка подавался всем туловищем в их сторону, стараясь не пропустить ни одного слова.
Если Глуша с Дмитрием говорили шепотом и маячник не мог слышать их, он нетерпеливо ерзал на табуретке и сердито кашлял.
Как ни старалась заговорить с отцом Глуша, он продолжал упорно молчать, нарочито кропотливо подшивая валенки.
Но Глуша не отставала.
Тогда он, насупясь, строго приказывал:
— Не мешай! Не видишь — занят батька!
Она ближе подходила к отцу и подкупающе спрашивала:
— Батяша, и чего это ты?..
Максим Егорыч бросал работу и, уходя на вышку маяка, недовольно бормотал:
— Чертяка вас принес до меня! От дела отрывают!
Но вскоре, возвращаясь в сторожку, он опять садился подшивать валенки, опять внимательно прислушивался к разговору дочери с ловцом.
Глуша заботливо ухаживала за Дмитрием: натирала его водкой с уксусом, поила горячим чаем, и ловец с каждым днем чувствовал, как возвращаются к нему прежние силы.
На четвертый день, проснувшись рано утром, Дмитрий осторожно поднялся с кровати Егорыча и начал собираться.
На полу спала Глуша. Рядом с дочерью примостился старичок; он недавно затушил маячную лампу и теперь, укрывшись ватником, беззаботно, громко сопел.
Из-под полушубка выбилась Глушина нога — тонкая, лоснилась коричневая кожа, как в чулке, с ямками под круглой чашечкой колена.
Дмитрий перешагнул через Глушину ногу и, сняв с печки теплые стеганые штаны, встряхнул их.
Шумно вздохнув, Глуша завозилась и отбросила полушубок, потянулась, с плеча сползла рубашка.
Дмитрий учтиво отвернулся, и когда хотел пройти к кровати, поднялся маячник и спросил шепотом:
— Ты куда?
— Домой собираюсь, Максим Егорыч.
Старичок замахал руками, быстро вскочил на ноги; подбегая на носках к ловцу, недовольно зашипел:
— Ложись обратно!.. Да ты что: окочуриться хочешь? Грели мы тебя с дочкой, грели, а ты — на, чего удумал: на волю!.. Теперь день-два остыть тебе следует, а тогда — на все четыре стороны!
Заметив оголенное плечо у дочери, он покосился на Дмитрия и прикрыл ее полушубком.
— Ложись в постель! — настойчиво шептал Егорыч. — Ложись!
Ловец растерянно стоял перед маячником.
— Да я, Максим Егорыч... Мне домой пора. Выхворался уж... И к путине готовиться. Я...
— Без разговора! Ложись!
Дмитрий прошел к кровати и нехотя присел. Егорыч опустился рядом на табуретку, свернул цыгарку и, передавая ловцу кисет с бумагой, тихо, участливо сказал:
— Теперь и ты можешь побаловаться табачиш-ком. — И, попыхивая дымом, строго спросил: — А какой у тебя расчет с твоим кормильцем?
— С Дойкиным?.. Триста целковых за ним у нас с Васькой.
— Как так?
Дмитрий жадно потянул цыгарку, закашлялся.
— Тише! — погрозился маячник. — Дай выспаться Глуше, а то всю ночь крутилась возле тебя. Ну, говори, какие же расчеты у вас с «народным кормильцем»?
— Триста целковых за ним значится. Ну, оханов мену относ угнал, — вычет, стало быть, за то. Потом: не знаю, все ли захватил из коша Васька, — оханы там, тулупы, жарник. Вот и надо подвести счета.
— Э-эх, судаки-дураки! — Егор покачал головой и раздосадованно, горячо зашептал: — После каждой сдачи улова надо было расчет делать и брать с живоглота целкаши! Понял? А теперь он тебя, как осетра, обделает: и икорку выпустит, и вязигу вытянет, и балычок сготовит. Э-эх, судаки-дураки, сами прямо в сетку лезут! Теперь он вам наскажет: и оханов-то лошадь не привезла, и тулупы-то оставлены в коше, и то, и это.
— Глуша ведь видала! — привскочил Дмитрий. — И оханы, и тулупы видала в санях. Она же говорила!
— Вида-ала! — раздраженно перебил его маячник. — А чего она видала? Считала она их? Было, скажем, два десятка оханов в санях, а он, кормилец, скажет: десяток только. Тулупы ежели привезла лошадь оба, он скажет: один привезла. Да-да! Еще хорошо, ежели эдак скажет... Тут и Глуша тебе не помога. А то, гляди, скажет: пустые прикатила сани лошадь с моря, — и все тут. Да-да, и так может сказать! На то он и живоглот: он не только рыбку глотает, но и ловца может сглотнуть. Эх, вы!.. Помнишь, как меня обделал мой живоглот?..
Дмитрий нетерпеливо елозил на постели; он часто поднимался, пытаясь шагнуть к двери, но Егорыч дергал его за рукав, шикал на него, указывая глазами на дочь:
— Тише! Ложись, говорю! Тише!..
Поглядывая на Глушу, ловец покорно опускался на кровать.
Они долго и молча курили. Изредка налетал на маяк ветер, и тогда слышно было, как обветшалые стропила тихонько поскрипывали. Егорыч, опершись локтями о колени и склонив голову, говорил задумчиво и душевно:
— Знаешь, Митрий, прикинул я в уме твои расчеты с Дойкиным, и думается мне: нет смысла тебе с ним подсчеты вести. Так и эдак, а все с тебя приходится. Он насчитает тебе такую кучу долгов, что ты ни одного целкаша с него не получишь, — знай, Митрий, работай на кормильца!.. По-моему, махни ты на эти подсчеты да бросай Дойкина. Становись исправным ловцом, хозяином... Я вот что хотел тебе сказать. Ежели хочешь, бери мой кулас, кое-какие сетчонки у меня имеются, да у тебя, поди, тоже что-нибудь сохранилось от покойного батьки. Прикупить еще можно будет немного. И вали, дорогой мой, встречай путину полным хозяином!
Егорыч заулыбался, покачал головой, облегченно вздохнул:
— Бери, Митрий, мой кулас. Я обойдусь и так. Харчи там или керосин и прочую надобность я доставлю себе и без куласа, сумею с попутными ловцами договориться. Бери кулас — становись хозяином!.. Глядишь, в весну счастье привалит, а оно, дорогой мой, в воде завсегда есть, только ищи его, не ленись!.. Умей гоняться за косяками — они от тебя, а ты за ними. Тут их нет, ты на другое место подавайся. Выбьешь сети там, да выбьешь здесь, глядишь — и улов добрый есть! Вот оно что! И заживете вы...
Старичок замолчал и, взглянув на спящую Глушу, обеспокоенно поправился:
— И заживешь ты, Митрий, по-хорошему.
Пристально и с опаской посмотрел ловец на маячника. А тот поспешно вскочил с табуретки и метнулся в передний угол, где хранилась бутылка с водкой.
— Не надо, Максим Егорыч, — предупредил Дмитрий и поднялся с постели.
Маячник погрозился пухлым кулачком и, запрокинув голову, начал глотать прямо из бутылки. Отпив третью часть, он причмокнул и, вытерев губы рукавом, сказал:
— От радости, Митрий, пью я!
— Какая же радость, Максим Егорыч, у тебя? — притворился непонимающим Дмитрий.
— Радость-то какая? — старичок пристально поглядел на ловца прищуренным глазом. — Бо-ольшая, дорогой мой!.. Тебя вот, неплохого парня, на путь истинный направляю — раз! Дочка после долгой разлуки рядом со мной — два!
И он снова запрокинул голову. Проснулась Глуша. Она недоуменно посмотрела на Дмитрия, на отца — и вдруг вскочила:
— Брось, батяша!..
Глуша вырвала у него бутылку и укоризненно сказала:
— Нехорошо, батяша! Опять начинаешь!..
Егорыч поскреб щеку, заросшую редкой щетиной, и возмущенно топнул на дочь:
— Прикройся чем-нибудь! Чего выпялилась перед парнем?!
Он ловко и быстро вошел в свою прежнюю роль ворчливого, недовольного старика:
— Ишь, распустилась! Смотри у меня!.. Я с тобой разговора еще не имел. Погоди, я тебе задам, я тебе все припомню!..
Глуша послушно опустилась на пол; накинув на плечи полушубок, она, улыбаясь, взглянула на Дмитрия.
Вытащив ящик с сапожным инструментом, Егорыч начал подколачивать свои домашние чибрики.
И опять он упрямо молчал, стараясь казаться поглощенным работой, но продолжал так же настойчиво следить за всем, что делали Дмитрий и Глуша, и по-прежнему прислушивался к их разговору.
Перед обедом он вышел из сторожки.
Крутое, янтарное солнце заливало все вокруг теплыми, ослепительными лучами; над морем и протоками лениво ползли редкие, дымчатые туманы.
Маячник перевалил шапку на затылок, потер лоб; сумрачно усмехнувшись, он подумал о Дмитрии и Глуше:
«Спаровались, видно, крепко...» - Глянув на небо из-под ладони, приложенной козырьком ко лбу, маячник сощурился и заулыбался.
Шел медлительный небесный ледоход — по бело-голубым мирным просторам неба, точно по заштилевшим водам, плыли небольшие белые облачка, которые быстро таяли, как последние запоздавшие льдины во время волжского солнечного ледохода.
Все улыбаясь, Егорыч подошел к амбару, где стояла краснощековская лошадь.
— Да-а, крепко спаровались!.. — уж вслух и раздумчиво сказал маячник.
Откинув железную скобу с двери, он неторопливо вошел в амбар. Лошадь обеспокоенно затопала ногами и ткнулась мордой в грудь старичку.
— Стой!..
Уже четвертый день Егорыч кормил лошадь болтушкой, израсходовав на это все запасы муки: ни овса, ни сена у него не было.
— Пожалуй, придется отвести в Островок, — сказал он громко самому себе. — Кормов нет, да и перед Захар Минаичем неудобство. Митрий пролежит еще дня два-три, а Глуша без него с маяка не уйдет.
Он отстранил лошадь и, выйдя из амбара, с добродушной грубостью выругал дочь:
— Э-эх, такая-сякая! Нет покоя старику!..
Посмотрев на. солнце и решив, что к вечеру он успеет возвратиться из Островка на маяк, Егорыч принялся запрягать лошадь.
Часто озираясь на окна сторожки, он шепотом понукал лошадь, стараясь уехать с маяка незамеченным... Маячник направился в объезд накатанной дороги, чтобы не увидели его в окно сторожки ни Глуша, ни Дмитрий. Сани глубоко проваливались в мягких, разбухших от солнца сугробах. Егорыч вылезал и с трудом пробирался через снежные завалы.
Отъехав несколько километров и взглянув на маяк и на сторожку под ним, которая была затянута тонкой пеленой ползучих туманов, Егорыч только тогда свернул на накатанную ловцами дорогу.
Крепко стегнув кнутом лошадь, он широко развалился в санях и, пригретый солнцем, невнятно замурлыкал песенку...
У Егорыча все еще был хитро прищурен глаз, что говорило о какой-то новой его затее. И действительно: ехал он в Островок не для того только, чтобы передать лошадь Захару Минаичу.
Любил Максим Егорыч играть сам с собою в прятки: часто обманывал себя, делал не то, что решил сделать, подолгу спорил с воображаемым ловцом...
Иной раз, громко сказав себе, что пора вскипятить чай, он, прищурив глаз, озорно улыбался и начинал втихомолку готовить обед или, решив сходить на вышку маяка, долго и блаженно потягивался и вдруг заваливался спать. А заспорив о чем-либо с воображаемым ловцом, чаще всего с Матвеем Беспалым, он входил в такой азарт, что кричал на всю сторожку, стучал по столу кулаком, даже выбегал на волю, точно кого-то преследуя, и свирепо грозился — то в сторону степей, то в сторону моря... Зная, что у него осталась только одна бутылка водки и что в ближайшие дни он не сможет достать себе пополнения, Максим Егорыч начинал хитрую игру, которая должна была растянуть водку на несколько дней. Отпив из бутылки чашечку, он разбавлял водку водой и приговаривал: «Было сорок градусов, а сейчас будет тридцать семь». Спустя час другой снова выпивал и опять подливал в бутылку воды: «Теперь тридцать пять градусов». Так он доходил до десяти, до пяти градусов и, глотая из бутылки почти уже чистую воду, слегка пахнущую спиртом, серьезно морщился, сплевывал, вытирал рукавом губы и сердито крякал: «Ух, и горькая, как рыбья желчь!..»
Эта игра разнообразила его скучную, отшельническую жизнь на маяке, сокращая одинокие, серые дни, месяцы, годы.
За многие годы жизни на маяке Егорыч так сжился со своей игрой в прятки, что, встречаясь с людьми, беспричинно хитрил с ними, пытаясь запутать разговор, делал не то, что обещал, без всякого повода ругался...
Так было и сейчас: обманывая самого себя, маячник воспользовался лошадью для поездки в Островок только как поводом — у него были совсем другие намерения.
Решив, что теперь Глушу с Дмитрием и водой не разольешь, Егорыч спешил рассчитаться со своим зятем, Матвеем Беспалым.
Приближаясь к поселку, он погнал лошадь быстрее, то и дело настегивая ее кнутом.
Подъехав к краснощековскому дому и не желая встречаться с Захаром Минаичем, маячник передал лошадь его сыну Илье и задами прошел к своей хатенке.
Войдя в горницу и застав Матвея спящим, он разбудил его и, стал сердито кричать, беспокойно бегая по комнате:
— Спишь, Тюха-Матюха! Дом проспал, соня, — гляди, как покривилась хата! Бударку проспал, сбрую проспал!.. И жену под конец проспал!
Матвей, спросонья глядя на тестя, недоуменно спросил:
— О чем толкуешь, Максим Егорыч?
— Как о чем? — закричал старичок. — Глушка от тебя сбежала! Вот о чем толкую!
— К кому же она сбежала? — раздумчиво задал вопрос Матвей, обращаясь не то к себе, не то к тестю.
Протирая глаза, он поднялся с постели и смущенно огляделся вокруг.
— Ой-ей-ей-ё-ой! — покачал головой старичок, неприязненно смотря на заспанного, медлительного зятя. — Ну и соня же ты, Матвей! Ну и Тюха-Матюха!
Егорыч подскочил к зятю и, тыча его кулаком в грудь, стал гневно выкрикивать:
— Не хочу с тобой много говорить! Хватит!.. Сколь годов говорил! Балабон пустой! Вот тебе последнее мое слово: выметайся из моего дома за два дня. Понял? Дом-то мой? А?
— Твой, Максим Егорыч, — еле внятно ответил Матвей, отступая перед маячником в кухню.
— Заруби себе на носу: через два дня чтобы духу твоего в моем доме не было... А ежели противиться вздумаешь — убью! Возьму темляк и хрясну по твоей дурацкой голове. И виноват не буду! Потому как ты мой дом сгубил, всю справу сгубил, Глушу сгубил...
Подойдя к двери, он взялся за скобу и переспросил зятя:
— Понял?
— Понял, Максим Егорыч.
Старичок уже примиряюще добавил:
— День или два еще можешь поспать, а потом освобождай... Ключи от дома передашь Митрию Степановичу, к этому дню он будет в Островке.
— Какому это Митрию Степановичу? — очнувшись, живее обычного спросил Матвей.
— Митрию Казаку, вот какому! — раздраженно крикнул Егорыч.
— Почему же Казаку? — уже тверже и требовательней спросил Беспалый.
— Ай, Тюха-Матюха! — старичок безнадежно махнул рукой. — Хотела б и рыбка песенку спеть, да голоса нету...
Он ухмыльнулся и опять сердито прикрикнул на зятя:
— Хватит балабонить! Освобождай дом — и кончено! Да гляди у меня, не вздумай тронуть Глушины вещи! Свое барахло можешь себе забрать, а Глушины вещи — не тронь! Не то — все равно, убью!
Рванув дверь, маячник скрылся в вихрастых клубах пара.
Свернув в проулок, он быстро зашагал в сторону сельпо, где хотел купить несколько бутылок водки. Оттуда Егорыч намечал двинуться через Сазаний проток к Буграм, — там часто можно было встретить попутного ловца и подъехать с ним к маяку.
Глядя под ноги, он что-то бормотал, качал головой, грозился пальцем, — должно быть, все еще продолжал разговор с Беспалым.
— 3-э! Максим Егорыч!
Маячник вскинул голову.
— Максиму Егорычу! Мое почтенье!
Навстречу шагал Лешка-Матрос, широко и светло улыбаясь.
Уменьшив шаг, Егорыч забеспокоился, не зная, как ему держаться с ловцом. А Лешка, сияя доброй, приветливой улыбкой, уже тряс его руку и приговаривал:
— Как живешь-можешь, Максим Егорыч? В гости пожаловал в Островок? Чего нового у тебя?..
Старичок, откашлявшись и шныряя глазами по сторонам, чуть слышно ответил:
— У ловца одного тут был.
— У какого, Максим Егорыч? — обходительно спросил Лешка.
— Да который из ловецкого кармана деньгу удит.
Матрос громко рассмеялся:
— Кто ж это такой, Максим Егорыч?
— Есть такие!
И, глядя на блещущего смехом Лешку, маячник тоже заулыбался. Потом, стараясь быть серьезным, сухо добавил:
— У Захара Минаича был, дело там одно.
Ласково хлопнув Егорыча по плечу, Матрос засуетился:
— Что ж это я дорогого гостя речами угощаю? Ах, ты!..
Он подхватил маячника под руку.
— Пошли, пошли, Максим Егорыч, ко мне. Выпьем по стаканчику божьей водицы. Посидим, поговорим...
— Нет! — упирался маячник. — Никак не могу. Благодарствую, Лексей. Не могу никак! На маяк надо.
— Успеешь, Максим Егорыч. Гляди, солнце-то еще высоко. Я тебя сам переправлю на маяк.
Лешка тихонько, плечом подталкивая старичка:
— Обижусь, Максим Егорыч, ежели не зайдешь.
Взглянув на солнце, маячник махнул рукой:
— Ну, да так и быть: глотну стаканчик...
Когда они вошли в холодную холостяцкую горницу Матроса, Егорыч никак не мог найти места, где можно было бы присесть.
В горнице была всего только железная кровать, да и та без ножек, лежала прямо на полу, около нее стояла вверх дном небольшая бочка, — она заменяла, должно быть, и стол, и стул. Егорыч примостился на край бочки.
Из темного и, казалось, пустого угла Лешка выдвинул ящичек с самодельным запором: из проволоки были свиты кольца и прибиты гвоздями, на кольцах висел большой и грузный, чуть ли не в четверть ящичка, замок.
— Садись, Максим Егорыч!
Оглядывая убогую обстановку комнаты, маячник еле слышно проронил:
— Плоховато живешь, Лексей.
Искоса взглянув на старичка, ловец грустно ответил:
— Хозяйки нет, Максим Егорыч.
Старичок заерзал на ящике, недоволыно кашлянул, отвернулся, глядя на распахнутую дверь в длинную пустую залу, приспособленную Лешкой под стрелковый тир Осоавиахима. Дверь в залу была перегорожена доской-стойкой, на которой лежало два небольших пневматических ружья и коробка с дробинками. Лешка обучал молодых ловцов стрельбе, готовил будущих «ворошиловских стрелков». В глубине залы были расположены мишени из картона, изображавшие разных рыб, птиц, животных. В центре мишеней выделялся толстый, заплывший жиром паук-капиталист с запрятанными за спину руками; когда стрелявший попадал в голову паука-капиталиста, руки его угрожающе вскидывались, обнажая огромный топор... По бокам двери, ведущей в зал-тир, висели зеленые санитарные сумки с красными крестами. Молодые рыбачки частенько собирались у Лешки, который обучал их санитарному делу — как оказать первую помощь раненому или повредившему ногу, порезавшему руку. Санитарный кружок посещала и Глуша...
Маячник громко вздохнул, повернулся к Лешке.
А тот, уже поставив на бочку бутылку с водкой и желтоватый стакан, принес из угла чалку воблы и кусок черного хлеба. Хлопнув о ладонь донышком бутылки, из которой со свистом вылетела пробка, он налил в стакан водки.
— Пей, Максим Егорыч!
— За твое здоровье, Лексей!
Маячник торопливо запрокинул голову.
— Ф-фу! — он сплюнул, отломил кусок хлеба и, жадно понюхав его, начал закусывать.
— Постой, Максим Егорыч, — и Лешка залпом выпил. — Тащи еще стаканчик, а потом я еще. Тогда уж и закусим, и поговорим.
Они снова выпили и принялись раздирать воблу; ели молча, не глядя друг на друга.
Матрос опять предложил выпить и, слегка захмелев, несмело спросил:
— Как там Глуша поживает?
Старичок беспокойно метнул глазами в угол.
— Глуша, Максим Егорыч, спрашиваю, как поживает? — уже решительно спросил Матрос.
— Чего ты? — Маячник сразу прикинулся оглохшим, прикладывая к уху сложенную трубочкой ладонь. — Как говоришь?
— Говорю, как поживает Глуша?! — нарочно что есть силы крикнул ловец.
— А-аа... — Егорыч замялся, сплюнул и вдруг стал собираться. — Ничего, гостит у меня на маяке.
— Постой, Максим Егорыч, — и Лешка снова усадил маячника на ящик. — Зачем так скоро? Разговор у меня с тобой есть.
— Не могу больше, Лексей! — Егорыч поднялся и, пошатываясь, шагнул к двери. — На маяк надо!
Схватив старика за рукав, Матрос силой усадил его.
— Дело есть! — и Лешка опять налил стакан. — Пей, Максим Егорыч!
Маячник и так уже сильно захмелел, но держался настороже. Ему хотелось поскорее уйти от Лешки, уйти не потому, что он чувствовал, что водка быстро затуманивает его сознание, он просто не хотел больше слушать о дочери: вопрос об ее совместной жизни с Дмитрием Егорыч считал уже решенным. А Матрос, как казалось маячнику, пытался заговорить именно о Глуше.
Принимая от Лешки стакан, Егорыч вдруг хитро прищурил глаз и твердо заявил:
— Будешь о Глушке брехать — сейчас и уйду. Помолчи!..
Выпив, он не заметил, как Матрос снова налил ему; маячник и этот стакан осушил.
Распахнув полы полушубка и пытливо поглядывая на задумавшегося Лешку, старичок, как и всегда с ним случалось во время выпивки, затянул смешным баском свою любимую песню:
Э-эх ты, до-оля, моя до-о-оля...Лешка, обхватив голову руками, склонился над бочкой и тупо разглядывал распотрошенную воблу. А старичок уныло тянул и тянул:
Э-эх, за-а-чем ты, зла-ая до-о-оля...Горестно покачав головой, Матрос посмотрел на маячника. Егорыч, продолжая петь, уже сам наливал водку.
— Сыграй, Лексей, на саратовской! А? Сыграй!..
Заметив, что Матрос расстроился, старичок хлопнул его по плечу и участливо сказал:
— Не хнычь, Лексей! Слезою море не наполнишь... Не надо, дорогой... Давай гармонь!
И снова, покачиваясь, тихонько затянул песню.
— Душа болит, Максим Егорыч! — Лешка выпрямился и отстегнул ворот рубахи. — Невесело живу я.
— А кто весело? Я, что ли?
Припадая на ногу, Матрос поднялся и вышел на середину горницы.
— Эх, Максим Егорыч! — с отчаянной тоской сказал Лешка. — Сердце червяк гложет!
— А кому не гложет?..
Матрос рванул с ворота рубашку, она с треском разорвалась пополам, обнажив его грудь, расцвеченную темной синью татуировки.
— Душа болит... Сердце... Максим Егорыч...
Зажмурив глаза, он яростно скрипнул зубами. Старичок встал и, шатаясь, подошел к ловцу.
— Ты чего, Лексей?
Тот на секунду засветился лучистой улыбкой, а потом помрачнел и глухо сказал:
— В обиде я на тебя, Максим Егорыч!
Маячник сразу засуетился и снова стал собираться в дорогу.
— Опоздаю! Ей-ей, опоздаю зажечь огонь, — забормотал он и, качаясь, пошел было за шапкой.
Придержав старичка за плечо, Матрос снова заговорил:
— О Глуше не буду говорить, — успокойся.
— А-аа, — маячник пьяно усмехнулся. — Тогда другое дело!
— Чего ты спутался с Митькой Казаком? — неожиданно громко и властно спросил Лешка. — Знаешь сам, что это за человек. Классу в нем нету, Максим Егорыч! С рыбниками дело имеет, ловит на них. В такое-то жаркое время! А ты с ним!..
Пошатываясь, старичок без шапки направился к двери.
— Постой! — крикнул Матрос и, опередив маячника, загородил ему дорогу. — Слушай до конца, Максим Егорыч! Глушу тревожить не стану. Слушай вот!.. Должно, знаешь ты, как в городе купцов-рыбников тряхнули. Скоро и здесь мы своих за жабры возьмем. Крепко возьмем! Вот так!
Он метнулся к бочке и, схватив воблу, ожесточенно оторвал у ней жабры.
— Видал, как будем расправляться с дойкиными? Не гляди, что ноги у меня нет, зато сердце горит!
Швырнув воблу в угол, Матрос снова подошел к маячнику.
— А Митька твой что делает? На рыбников ловит, путается с ними... Ему, комсомолу, надо было в первой нашей шеренге быть, зачинать общее, артельное дело. Так я говорю?
Прислонясь к стене, Егорыч молчал.
— Так или не так я говорю? — настойчиво спрашивал Матрос и тряс старика за плечо. — Классу у Митьки нету, вот оно что! Справедливо говорю?
Он долго тряс маячника, переспрашивал его, потом угощал водкой и снова тряс, но Егорыч был нем как рыба.
— А ты, — укоризненно добавил наконец Лешка, — Глушу с этим дерьмом спутываешь. Знаю я: и Митька и Глуша на маяке сейчас... Опять ты Глушину жизнь, Максим Егорыч, попортишь. Поверь мне: попортишь, как тогда попортил, — не дождался меня с фронта и выдал ее за Беспалого...
Егорыч, держась за плечо ловца, прошел к ящику и бессильно опустился на него. Вытащив из кармана маленький порыжелый кошелек, он вынул из него червонец и, передавая его Матросу, едва слышно попросил:
— Сбегай, Лексей, купи еще бутылку горя...
Дымный, оранжевый шар солнца уже сползал к морю, когда Егорыч и Лешка подъезжали к маяку.
В небе ярко горели облака; зарево пылало буйным пожарищем.
Вдали на закате виднелся маяк, отчетливо выступали переплеты его черных стропил.
Всю дорогу маячник и Матрос ехали в обнимку, пели песни, целовались; зазвонисто гремела гармонь...
Еще в Островке, как только Лешка нашел лошадь для переправы старика на маяк, он ухарски прокатил его несколько раз по поселку. Стоя в санях, ловец громко кричал на лошадь, свистел, гикал, в надежде, что он целиком завладел Егорычем:
— Н-но!.. Поехали с орехами!..
В припадке радости Матросу было море по колено.
— Держись, Максим Егорыч! Н-но!..
Лицо его восторженно сияло.
Он крутил кнутом, орал на лошадь, бестолково гнал ее, часто наскакивал на сугробы, а при крутых поворотах чуть не вылетал сам из саней.
Ему хотелось, чтобы весь поселок знал и видел, что он кутит с отцом Глуши.
— На маяк! Пшла-а!..
За санями бежали ребятишки, — они свистели, кричали, смеялись; но когда кто-либо из них хотел присесть на задок, Лешка наотмашь стегал кнутом.
— Н-но-о! На мая-ак!
У матроса была лихо заломлена на затылок бескозырка, специально по этому случаю вынутая из ящика; ленты бескозырки развевались, словно флажки. Подпрыгивая, Лешка крутил над лошадью кнутом и, то и дело оглядываясь, подмигивал маячнику. Старичок заливисто хохотал. От быстрых поворотов лошади он, словно бочонок, перекатывался в санях.
— Ой, Лексей!.. — кричал он. — Гляди не выбрось! Ой, ой!..
Придерживая лошадь, Лешка выхватывал из рук Егорыча гармонь и, разухабисто гремя колокольчиками, ударял во все ее девять медных голосистых ладов:
Все пропьем, гармонь оставим, Э-эх, Волга-матушка река!.. Плясать Глушеньку заставим, Э-эх, заливает берега!..Он до хрипоты надсаживался в припевах и, вскидывая гармонь, отрывал под нестерпимый звон ее колокольчиков оглушительные переборы; потом бросал гармонь в руки маячнику и снова гнал лошадь по поселку.
— На маяк!..
Из окон домов выглядывали ловцы и рыбачки. Одни, осуждая, качали головами, другие сумрачно усмехались, третьи выбегали на улицу, шушукались, строили догадки.
А Лешка с маячником снова появлялся то в одном, то в другом конце Островка...
Завидев черный скелет маяка, Егорыч будто сразу отрезвел. Он поднялся на колени, насупился и тронул ловца за плечо:
— Постой, Лексей! Станови коняку!
Матрос непонимающе посмотрел на старика.
— Станови, говорю, коняку! — И Егорыч перекинул ногу за ободку саней.
Лешка придержал лошадь.
— Чего ты, Максим Егорыч?
Маячник вылез из саней и неожиданно заявил:
— Ты поедешь назад, а я пойду на маяк.
— Максим Егорыч!..
— Слушай, что говорю! — строго оборвал маячник. — Глуша пьяных не любит, а мы с тобой — в стельку. Правильно? Ругаться она будет, выгонит непременно, а то и хуже... А через три дня — заявляйся в гости.
Он лукаво прищурил глаз:
— Понял?.. Да принарядись немного.
— А если завтра?.. — и Лешка в тоске посмотрел на порванные алые мехи гармоники.
Старичок подумал, почмокал губами и пьяно замотал головой:
— Нет, нет... Через три дня, Лексей.
— Уедет она с маяка...
— А ты слушай, что говорю: никуда не уедет! — И, обняв Матроса, Егорыч смачно поцеловал его в губы.
Пошатываясь, маячник пошел по протоку к камышам, которые прочной стеной окаймляли берега. Войдя в камыши, он быстро продрался через крепь на высокий берег.
Взглянув на проток, Егорыч махнул Лешке рукой:
— Валяй обратно!
Ловец недвижно сидел в санях.
Запахнув полушубок, старичок двинулся к маяку. Он то и дело спотыкался и, когда входил в глубокие, забухшие на ветру и солнце снега, едва вытаскивал ноги из провалов и, часто падая, громко смеялся, что-то лопотал.
Скоро маячник вышел на пригорок и оттуда снова посмотрел на проток; лошадь понуро шагала в сторону Островка, и Лешка так же понуро пригнулся к передку саней...
Маяк был уже совсем близко, — старичок пошел в обход, чтобы не заметили его из сторожки Дмитрий и Глуша.
Он старался шагать тверже, но хмель еще не прошел, и маячник покачивался, спотыкался, кряхтел...
Когда он воровато взбирался по крутой, зыбкой лесенке на вышку маяка, то пытался шагать через две и даже через три ступени, пропуская ненадежные и скрипучие. Но ноги не слушались, и, часто оступаясь, Егорыч с шумом шлепался руками о лесенку. Притаившись, он долго смотрел вниз — на сторожку.
Взобравшись наконец на вышку, он прислонился спиной к будке и, отдуваясь, тяжело задышал.
Перед ним широко открывался неоглядный, озолоченный закатом Каспий.
Солнце мерно погружалось в море, и через весь Каспий, на многие-многие десятки километров, протянулась золотистая полоса, — от легкого ветра она трепетала, тускло блестела червонной позолотой, будто шевелился огромный, чудовищный сазан.
Далеко, на самом стыке воды и неба, медленно ползли розовые от солнца льдины.
«Относные льдины, — подумал маячник. — Может, и с ловцами...»
Солнце окунулось в воды, стало необычно тихо, и закатный костер запылал еще ярче.
— Хорошо море только с берега!..
Егорыч тяжко вздохнул и, держась за жиденькие перильца, прошел в будку. Запрятав бутылки с водкой, он сбросил полушубок и начал настраивать маячную лампу.
Глава десятая
Василий Сазан проснулся от солнца — оно резко било в глаза.
Было тихо...
Совсем рядом бесшумно плескались воды, а вдали виднелись редкие, пунцовые от яркого солнца ледяные бугры. Над ними дрожал прозрачный розоватый дымок.
И ловец вспомнил рассвет, снегопад...
Лошадь с санями рухнула в разводину, отбросив Василия в сторону; он ударился головой о лед и потерял сознание.
Ловец провел рукой по лицу — оно было в комках свернувшейся крови, усы тоже были забиты кровяными сгустками.
Василий тяжело дышал, старался припомнить, что же было после того, как на рассвете ушла от него лошадь.
«А где Митя?.. Где же Казак?..»
Он рванулся и не сдвинулся с места: одежда его вмерзла в лед.
Беспокойно пронеслись мысли:
«Лошадь пропала, сани пропали, сбруя пропала... Эх, Митек, не рассчитаться нам теперь с Дойкиным!»
Василий попробовал подняться и не смог.
Он снова хотел повернуть голову, но почувствовал, что ее будто кто-то держит. Он напряг все силы и наконец отодрал голову ото льда.
Вокруг искрились воды тихого студеного моря; по нему медленно ползли ледяные поля, и кое-где стояли высокие, облитые солнцем бугры.
«Относ!..» — опалила ловца мысль.
Он скреб пальцами лед, впивался в него ногтями.
«Ох, беда!» — Василий неистово мотал головой, дергал плечами и будто рыба извивался всем телом, стараясь отодраться ото льда. От натуги рвущей болью отдавалось в затылке, — кажется, лопалась кожа. Он вспотел и громко дышал; щекочущие капли пота скатывались по щекам за шею, намерзали в усах.
Обессилев, Василий закрыл глаза, и теплая усталость разлилась по телу. В голове слегка шумело, и так хорошо, покойно было лежать.
А солнце ласково, домовито пригревало.
Василий вновь и вновь терял сознание...
Промелькнула жена Настюша — полная и строгая рыбачка. У нее яркоголубые глаза и пухлые красные губы. У них будет сын. «Именно сын!» — так говорил Василий Настюше. Она смущенно улыбалась: «Дочку, Вася, хочу».
Скоро должен родиться ребенок, и жизнь станет лучше, веселей. Схватит Василий малыша на руки и ну его подбрасывать к потолку, а малыш, захлебываясь, будет смеяться, визжать. Хорошо!
Показался Андрей Палыч с газетой в руках. «Все будет хорошо, — сказал он. — Наладим вот артель — и заживем!» Да, только бы наладить артель, а там жизнь закипит, забурлит... Сквозь движущийся снежный заслон послышался голос Дмитрия: «Ва-аська-а!..» Снежные вихри вскинулись, закружили...
Где-то сторонкой прошел Дойкин. Ну, и чорт с ним! Оплатят ему как-нибудь они с Дмитрием убытки: лошадь, сбрую... Подумаешь, какая беда! Разве это в первый раз? Раньше Василий с отцом жил, — и уловы были, и проловы, и штормы, и отзимки... Отец сгинул в море, и стал Василий хозяевать с братом. Удачливая путина выпала, даже бударку новую купили. Четыре года Сазан ловил как следует. Женился... Но опять случился пролов, а после — снова удача. В двадцать седьмом году, в осеннюю путину, Василия застиг в море ледяной ураган, — норд-вест неожиданно хлынул заморозью, заковал во льды лодку...
Василий снова очнулся, но теперь уже от холода, который хватко сжал его. Ловец только сейчас почувствовал, как все тело его цепенеет и, будто в самом деле, стынет кровь.
Внезапная мысль о том, что он может замерзнуть и не увидеть Настюшу, ребенка, Дмитрия, Андрея Палыча, остро ожгла его мозг:
«Неужели пропаду?»
Он открыл глаза и сквозь разноцветные слезинки увидел солнечный шар — он грузно опускался к водам.
Василий рванулся, что-то треснуло, и ловец отодрал спину ото льда. Затем он хотел повернуть ноги, но они были недвижны, точно прибиты гвоздями.
Он метнулся на бок, вскочил и упал на колени; потом снова поднялся, осмотрелся. Выдранные изо льда ноги его дрожали. Во льду остались клочья одежды.
Василий беспомощно оглядывал то ледяной остров, на котором он стоял, то сине-зеленые просторы Каспия.
Попрежнему едва приметно двигались ледяные поля. Струился жгучий ветерок. Кругом царило глухое, холодное безмолвие.
Вдруг Василию нестерпимо захотелось есть.
Он поднялся и побрел по льдине. Невдалеке маячил радужно сверкающий ледяной навал. Нащупав в кармане спички, Василий сурово улыбнулся и подумал:
«Может, кош там был... может, кто жил и оставил чего-нибудь».
Одежда на спине ловца была разодрана, — болтались клочья ваты и ледяшки.
Он едва переступал ногами.
Взгромоздившиеся одна на другую льдины были насквозь пронзены солнечными лучами — казалось, льдины горели, пылали.
Навал оказался пустым.
Изнемогая, Василий опустился на лед и притих...
Покорный судьбе, он молча наблюдал за тем, как солнце стлало по морю огромный золотистый тракт — он тянулся так далеко, что, кажется, достигал берегов родного Островка.
Встал бы и пошел по этому светящемуся тракту домой!
Но Василий ясно сознавал, что он в далеком и опасном относе. Кто знает, может, льдину отнесет под вест Каспия, к Брянску, где встретит ее пароход; может, льдину погонит к Долгим островам, и ее заметят гурьевские тюленщики, которые теперь бьют тюленя; могут заметить и ловцы: они должны скоро выехать на весенний лов подледной воблы — тогда жив Василий! Но может случиться и так, что льдину будет долго мотать по морю, а тут полыхнет весенним теплом солнце — и льдина растает. Не увидит тогда Василий ни Настюши, никого...
Ловец снова взглянул на огромный сверкающий, солнечный тракт.
«У ловцов могилы две, — вспомнил он старинную присказку деда: — одна в море, другая на земле».
Какая же из двух могил первая поглотит его, Василия Сазана? Неужели могилой будет море?
И ему стало нестерпимо жаль себя.
Выкарабкивался, рвался он в жизнь по-всякому — и вот теперь угоняет его неизвестно куда этот относ.
А как хотелось выбиться в люди — в добротные, исправные ловцы! Как хотелось иметь в достатке сети, хорошую бударку, доброго коня!.. И сколько раз Василий был на гребне этой заманчивой жизни! Гоняясь за фартом, за ловецким счастьем, он не щадил себя. Только за последние три-четыре года несколько раз фарт был в его руках. Однажды напал он на невиданный косяк сельди: рыба так густо шла, что даже задерживала ход бударки. Без помощи сетей, одной зюзьгой — сетчатым черпаком — налил он лодку доверху сельдью и покатил на промысел сдавать ее: хотя рядом с ним и стояла приемка Дойкина, но Василий боялся, как бы другие ловцы не выследили его и не перехватили косяк. Вместо того чтобы предупредить о богатой добыче поблизости ловивших соседей и вместе с ними успеть вычерпать рыбу, он тайком, через камышовые заросли, снова пробрался в счастливый проток. В это время подула моряна. Опять налив лодку сельдью, он под парусом помчался на промысел. Когда в третий раз возвращался Василий к небывалому косяку, моряна перешла в шторм; против буйного ветра трудно было гнать бударку, он до крови сбил пальцы о весла и шест. С большим трудом пробился Василий в проток, но сельди уже не было — моряна разбила косяк.
После он ловил вскладчину с Василием Безверховым. Добыча была толковая, каждый день поднимали они по десятку осетров и севрюг. Лов закончился совсем знатно: около трехсот целковых пришлось Василию. Опять он подновил свое хозяйство, опять сам себе хозяин. И в осеннюю путину исправно вышел на лов, а рыбы нет. И туда и сюда — нет рыбы! Рядом с ним ловят, а в его сетях — пусто! Перебрался он на другие места — одно и то же! Так целый месяц и гноил попусту сети. А потом напал на судака — огромного, полпуда весом! И тут чамра застигла его — ветер налетел страшенным шквалом и опрокинул судно. Погиб бы Василий, но напоследок посчастливилось: подобрал его шедший в Гурьев пароход.
Одну весну ходил он на краснощековской реюшке в море; заработали они втроем только за первую неделю полтысячи целковых. Рыба шла как по заказу: густо, косяками. И вдруг — ураган! Зачернело море, взбешенно ударил ветер, загромыхали огромные валы. Подломило на посудине мачту, и штормовой ветер распорол парус. Бросили якорь, но цепь лопнула, и ловцов понесло дальше в море. Два дня, две ночи грохотал ураган по Каспию. Реюшку разбило, и ловцы были выброшены вместе с ее жалкими остатками на остров Сухой...
Чего только не испытал Василий!.. В позапрошлом году подсек его под самый корень отзимок — внезапный и короткий возврат зимы начисто срезал тонким льдом его сети и лодку... И теперь вот ловит он сообща с Андреем Палычем и другими коммунистами. Только в эту зиму вышла незадача — не хватило для всех оханов, и Василий пошел на лов пока с Дмитрием Казаком. Но ничего! Станет Василий на ноги, выправится. А теперь-то непременно выправится, и выправится окончательно, выправятся и все его товарищи, все ловцы — партия указала верную дорожку: наступай на рыбника-кулака, организуй колхоз!.. Все будет: и сетка, и лодка, и снасти. Все, все! Только надо быстрей налаживать артель.
Эти мысли сразу пробудили Василия, вывели его из состояния оцепенения, покорности судьбе.
Чувствуя прилив новых сил, он открыл глаза — по небу плыли алые от закатного солнца облака.
Артель!.. Давнишняя мечта Василия была совсем близка к осуществлению. Он вспомнил последний разговор с Андреем Палычем. Секретарь комячейки говорил: как только вернутся люди с моря, тут же и будет решен вопрос об артели. Правда, они и до этого не раз толковали об артели, но организовать большой, настоящий коллектив им до сих пор не удавалось. А по существу, в поселке давно были уже крошечные коллективы — зародыши артели. Взять хотя бы тех же Андрея Палыча, Костю Бушлака, Лешку-Матроса, Григория Ивановича, Сеньку и его, Василия, ловивших сообща, — разве это не коллектив?! Многие ловцы также ловили совместно — по два, по три человека. И наконец теперь вот будет уже создана большая, настоящая артель.
Василий быстро приподнялся на локте, посмотрел на медленно ползущие ледяные поля и, кажется, только сейчас понял всю тяжесть своего положения — он был один в открытом море!
— Ми-и-итя-а! — вдруг громко закричал он. — Ми-и-итя-а!
Василий вскочил и побежал вдоль кромки льда.
Ему казалось, что вдали ледяные поля сходились краями.
И он быстро несся по кромке, в надежде, что там перескочит на другую льдину, оттуда на следующую, — так и доберется до берега.
Позапрошлой осенью на Каспий налетел лютый норд-вест; из банков волжской дельты пошел лед и стал относить ловцов вглубь моря. Ураганный ветер настолько был силен, что ловцы привязывали себя к мачтам. Тогда, после спада ветра, Василий бросил затертое льдами судно и вот так же, прыгая по льдинам, выбрался на берег.
«И теперь может обойтись так», — уверял он себя и безостановочно бежал по кромке льда, все надеясь на то, что где-либо его остров соединится с другой льдиной, он перемахнет на нее, а оттуда дальше...
Василий устал, от него валил жаркий пар. Он напрягал все силы, то и дело вытирал шапкой запотевшее лицо.
Но края льдин все не сходились.
Он бежал и думал о Дмитрии — где же дружок? Думал он и об Андрее Палыче, вновь и вновь вспоминал его разговор об артели. Перед воспаленными глазами Василия то и дело возникал газетный лист с глубоко взволновавшей его статьей.
— Теперь-то и у нас будет перелом! — жарко шептал он. — Непременно будет артель!
Василий спотыкался, падал и снова поднимался, снова бежал, все ожидая, что вот-вот подойдет какая-либо льдина и он, перескочив на нее, помчится дальше, а там встретятся еще льдины и, возможно, окажутся прибрежными.
С трудом переводя дыхание, он остановился и долгим, пристальным взглядом осмотрел все вокруг.
Огненное солнце, словно тяжелая глыба раскаленного металла, опускалось в стылые каспийские воды, и, кажется, воды кипели — над ними кружили розовые пары.
И вдруг Василий заметил: к ледяному острову, на котором он находился, медленно приближалась в небольших навалах льдина.
— Есть одна! — радостно воскликнул он.
Выждав, пока льдина подошла вплотную, Василий перескочил на нее и побежал быстрее прежнего. Миновав навалы, он увидел еще льдину...
В густой синеве неба далекими маяками сверкали звезды. Тянул сырой, пронизывающий ветер. Льдины сталкивались, море наполнялось тревожным шорохом.
Василий, несмотря на тупую усталость, непрерывно шел дальше.
С той стороны, где недавно пылала огненная лава солнца, быстро поднималась грозная черная туча, — у нее были лохматые, длинные лапы, которые быстро гасили яркие золотистые звезды.
Ветер беспрерывно усиливался, и скоро по Каспию загрохотали косматые валы. А Василий, перескакивая с льдины на льдину, все шагал и шагал. Неожиданно налетел шквал. Под ногами ловца дрогнуло, качнулось, он чуть не упал, и когда вгляделся во тьму, то почувствовал, что рядом с ним разводина: льдину, на которой он стоял, переломило.
Василий отбежал от пропасти и, кутаясь в обмерзший ватник, присел на лед, но тут же поднялся и вновь зашагал.
Ветер хлестал обжигающей, соленой водой. Море глухо рокотало.
Черная грохочущая ночь беспрерывно сгущалась. Шторм неукротимо гнал волны, гремел льдинами.
Каспий обволакивала кромешная тьма...
Вскоре, однако, ветер очистил небо от туч, и серебряное лунное половодье, сплошь затопив море, осветило пробиравшегося по льдинам одинокого Василия.
«Дойду! Выберусь! — думал он и, напрягаясь, шагал и шагал, зная, что стоит ему только присесть хотя бы на минуту, как усталость расслабит его и мороз скует насмерть. — Все одно дойду! Все одно выберусь! — настойчиво повторял он. — Не для того я маялся всю жизнь, не для того я так долго ждал артели, чтобы сгинуть в море. Нет, выберусь! Великий перелом наступил и в нашей ловецкой жизни. Дойду! Выберусь!..»
Мысли об артели, о взволновавшей его статье придавали ему новые и новые силы.
Василий шагал уверенно и быстро. Он был твердо убежден, что непременно достигнет прибрежного льда.
Глава одиннадцатая
Моряна, истекая просоленною влагой, минуя плывущие по морю ледяные острова, мчалась к обширным прикаспийским степям. Здесь, у морского прибрежья, уже не было льда.
Ветер с моря, сотрясая маяк и жадно слизывая с песчаных морских берегов редкий и бурый снег, со свистом несся дальше по закованной еще льдами, пустынной волжской дельте.
Волжские льды быстро теряли глянец, они набухли и потускнели. Пушистый иней каждое утро густо белил камыши, ивовый кустарник, редкие ветлы.
Все чаще и чаще подымались на разведку из преддельтовских просторов небольшие партии дикой птицы; покружившись над ледяными ильменями и протоками, птица улетала назад, на временные прикаспийские кочевья... Здесь, на обширных берегах, опускаясь на кормежку с далекого южного пролета, птица пестрела огромной живою массой точно так же, как неисчислимые косяки рыбы стояли сейчас неподалеку от морского берега, готовые ринуться в волжские банки и протоки. Птица, как и рыба, выжидала оттепели — того неуловимого перелома в природе, который вот-вот должен двинуть на север эти полчища уток, лебедей, гусей, цаплей... Дельта, изрезанная вдоль и поперек тысячами протоков, ериков, ильменей и банков, ждала влажного, с терпким рассолом, морского ветра, чтобы быстрей освободиться ото льда, который мешал входу из Каспия миллионным полчищам рыбы для нереста. Рыбе, что приходила сюда каждую весну из морских глубин, нужны были тепло, солнце.
Третьего дня солнце, прорвав наконец тяжелую тучевую завесу, обрушилось потоком горячих лучей и целый день огненно жгло, целый день над приморьем бродили серебряные туманы.
Вчера солнце только к вечеру вырвалось из-за низко и грузно ползших туч и повисло в закате огромным и холодным малиновым шаром. А сегодня, с промозглой зарей, окутанной в густой, парной туман, опять заштормовала моряна, поливая дельту пронзительной сырью...
Последние дни волжский лед в приморье начал сдавать: он сухо трещал, грозно гукал, — эхо долгим рокотом носилось по дельте.
Недавно громыхнуло особенно гулко, и несколько встревоженных ловцов Островка заспешили на берег.
Моряна валила их с ног, вгоняла обратно в дома; ловцы, преодолевая ветер, двигались боком, хватались за камышовые плетни, закрывали рукавами лица.
Во дворах и проулках ветру не было простора, и он отчаянно метался, вихрил, валил плетни на землю, выдавливал стекла, сотрясал дома. Припадая к земле, ловцы пробирались на берег: там моряна шла тяжело, но ровно, — можно было, широко расставив ноги, выдержать любой ее напор.
Молодой Турка, наклонив голову, упрямо двигался посредине улицы.
Вдруг с соседнего дома моряна сорвала крышу, высоко подбросила ее, перевернула и, покачав, словно лодку на волнах, швырнула на берег, крыша упала на ребро; ветер снова подбросил ее, потом метнул в проток и стремительно покатил по льду. Через минуту крыши в протоке уже не было — ветер вбил ее в камышовые заросли противоположного берега.
Яков в удивлении покачал головой:
— Эка, балуется...
На берегу стояли ловцы. Они о чем-то говорили, спорили, размахивали руками.
— Здорово, Яшка! — закричал навстречу Турке Павло Тупонос, стараясь пересилить ветер.
Яков посмотрел на его длинные руки и примятый, иссиня-красный нос. Подойдя ближе к ловцам и твердо расставив ноги, он громко ответил Павлу:
— Здорово!
Макар — низкорослый, в мохнатой шапке ловец, которого все называли за злой язык Контриком, — отрывисто и сердито выкрикивал Косте Бушлаку:
— А ловить чем?.. Чем ловить, спрашиваю? Штанами, что ли? А может, подштанниками?..
Макара перебил Антон:
— Ты, Костя, очень много говоришь. Смотри-ка: ни сетей, ни пряжи...
Он тоскливо посмотрел на стройный, запушенный ослепительно белым инеем камыш, который, точно зубчатый частокол, выстроился по противоположному берегу протока.
У Антона было темнокожее жесткое лицо, иссеченное бесчисленными морянами.
Елена его все болела, продолжая недвижно лежать на кровати; она каждый день требовала еды, и не только хлеба, но и молока, масла, яиц. И сейчас вот Антон ушел из дому за молоком для жены. Он слоняется уже несколько часов по поселку. «Может, забудет про молоко, чаю напьется», — думал ловец, вспоминая, как быстро тают, словно льды в весну, остатки скопленных им денег на обзавод бударкой и сетями. А тут еще Дойкин не развертывает свои дела, как это следовало бы, — все боится чего-то Алексей Фаддеич: события в городе, наверно, сильно напугали его.
Антон спохватился, вспомнив, что стоит на берегу с ловцами, и сосредоточенно вслушался в слова Кости Бушлака.
— Объединяться надо на совместный лов... — Кутаясь в тулуп, Костя отворачивался от ветра и продолжал: — Объединяться надо!.. Артель вот будем создавать. Большую артель! Андрей Палыч в район поехал. Газеты вон как пишут об артелях...
— Газетки! — возмущенно выкрикнул Макар и, рванув из кармана скомканную, засаленную газету, которую он всегда имел при себе, потряс ею над головой: — Газетки! Кредиты!.. Который уже год слышим это!..
Не выдержал и Антон, он тоже с возмущением крикнул Косте:
— Давным-давно следовало бы сколотить артель!.. — И, нахлобучив шапку, отошел к Сеньке, рослому и круглолицему парню.
Павло Тупонос безнадежно махнул рукой:
— Бросьте вы это! — Ухмыляясь и подмигивая ловцам, он обратился к Турке: — Расскажи-ка нам лучше, Яшка, как это ты с батькой подо льдом Коляку купал?! — И разразился громким дребезжащим смехом, отчего весь затрясся, лицо густо покраснело, из глаз покатились слезы.
Ловцы молча переглянулись.
А Турка, искоса посмотрев на Павла, зло выругался:
— Судак тухлый!..
Он круто повернулся и, подгоняемый ветром, быстро зашагал в поселок.
За ним двинулся Сенька.
Павло, снова подмигнув ловцам, крикнул вдогонку Турке:
— Чего же не расскажешь, Яшка? А?
— Трепло поганое! — не оглядываясь, ответил Яков.
Сенька быстро нагнал Турку.
— Зайдем, Яша, к Митрию? — предложил он.
Турка приостановился, торопливо спросил:
— А разве здесь он? Приехал с маяка? — и у него заблестели большие, черные зрачки.
— Вчера еще приехал.
— Значит, надо зайти. — Яков сразу повеселел, прибавил шаг. — Только давай сначала пополуднуем, а потом я к тебе или ты ко мне, и двинем к Митрию.
— Ладно, — согласился Сенька и свернул за угол, но тут же остановился, не в силах двинуться дальше: здесь особенно, словно из прорвы, хлестал ветер.
Хмуро улыбаясь и подталкивая товарища плечом в спину, Турка слегка нагнулся и зашагал в проулок. Мимо быстро катил на санях Лешка-Матрос.
— Здорово были, ловцы! — весело крикнул он.
Сенька и Яков приподняли шапки.
Лицо у Матроса, как и всегда, восторженно сияло.
— Откуда, Лексей Захарыч, в такой штормяк? — спросил Сенька, когда сани поровнялись с ловцами.
Лешка задорно тряхнул головой и, стегнув лошадь, что есть силы крикнул:
— С маяка! От Максима Егорыча!..
Когда проехал Матрос, ловцы снова заговорили о Дмитрии.
— Толковый Митрий парень, — задумчиво сказал Турка. — Да вот с Глушкой спутался. Закрутила она ему голову.
— Брехня это!
— Как брехня? — Турка насторожился. — А помнишь, как приехал из Красной Армии, про комсомол все говорил, об артели тоже. А спутался с Глушкой — молчок об этом. Закрутила она ему голову.
— Он ей закрутил! — резко оборвал Сенька. — Понукает ею, а до конца дело не доводит.
— До какого конца?
— До такого вот: из дома, от Мотьки ее надо бы взять. Чего она с ним, с этим тюленем, пропадает!.. А Митрий все тянет... — И тише, будто про себя, добавил: — Хорошая женщина Глуша, редкостная...
Яков молчал, угрюмо глядя под ноги.
— А ты чего такой? — спросил его Сенька. — Будто пришиб тебя кто.
Тяжко вздохнув, молодой Турка прерывисто заговорил:
— С батькой у меня нелады... Думал я к весне выделиться и на себя ловить. А тут Коляка уловы наши обобрал... Батька теперь говорит: повременить с выделом надо. Э-эх!..
И его охватило отчаяние. Он рванул ворот, оттянул его, словно трудно было дышать.
С каким нетерпением ожидал он этой условленной с отцом зимы! Весь улов должен был пойти на выдел Якову. И вот... Коляка... Сгинула надежда!
Он крепко, желчно выругался.
Навстречу ловцам из проулка вышел Буркин.
— Доброго здоровья, Григорий Иваныч! — крикнул ему Сенька.
Буркин шел медленно, высоко держа голову и глядя прямо перед собой.
— Мотает его моряна, как лихорадка, — шепнул Якову Сенька. — Жалко Григория Иваныча.
— Он, значит, благополучно выбрался с моря? — спросил Яков.
— Да мы вместе с ним, благополучно...
Снова бабахнул лед, грозный треск прокатился по рыбацкому поселку и далеким, рокочущим эхом отозвался в приморье.
Лед на Сазаньем протоке, что против Островка, надломился пополам — поперек реки залег толстый зеленоватый шрам. Под напором моряны и нагнанной ею из Каспия воды края шрама грузно поднялись, вздыбились, а потом рухнули в проток, дохнув на ловцов острым рыбьим запахом.
Следом загромыхал лопавшийся лед в нескольких местах, — он гукал пушечными выстрелами, словно вблизи Островка била артиллерийская батарея.
Буркин не выдержал оглушительного грохота и, прижав правую руку к груди, заспешил на задворки Островка. Длинноногий, худой, он долго слонялся за шишами камыша.
Ветер то бесшабашно трепал его одежду, то, казалось, приклеивал ее к длинным, тонким костям ловца. Буркин похож был на огородное пугало: рубаха и штаны болтались на нем, словно на жердинах.
Он бормотал что-то невнятное, и рука его, правая, круто согнутая в локте, мелко и непрерывно дрожала памяткой о гражданских боях. В штормы особенно давала о себе знать его контузия.
Выйдя за камышовые шиши, Буркин порывисто, под толчками ветра, быстро зашагал на край Островка, что длинным, острым углом уходил в море. Ловец шел и ни о чем не думал; он даже не выбирал дороги — шагал прямо по отсырелому, забухшему снегу, часто проваливаясь в него по колени.
В стороне стояла плотная, высокая камышовая крепь; от ветра она туго качалась, роняя белый пушистый иней.
Начинали попадаться стайки дикой птицы, и чем дальше шел ловец, тем птицы становилось все больше и больше.
Моряна упорно гнала ловца к низким, продолговатым холмам, — за ними начиналось море.
Ветер непрерывно хлестал холодной, соленой влагой, но нет-нет да и пахнет южной, пахучей теплынью.
Буркин останавливался, тихо улыбался, глубоко вдыхал бодрые, свежие запахи... Под новыми, еще более мощными толчками ветра он стремительно взбежал на холм.
Здесь буйно кружила и свирепо ревела моряна. Частый грохот трескавшегося льда гулко носился по приморью. С Каспия валили туманы — они двигались к берегам крутыми валами. Не достигая холмов, валы туманов бесшумно рассыпались и быстро застилали прибрежные воды мохнатым, бесконечным полотнищем.
Буркин, присев на корточки, что есть силы прижал коленом больную руку к груди и тупым, беспамятным взглядом обвел все вокруг.
В грохоте льда и реве морского ветра ему чудился фронт под Петроградом, перестрелка с белыми, орудийная канонада.
...На Буркина рухнула глыба взорванной земли, но он продолжал крепко держать заряженную винтовку — того и гляди из дальней балки вылетит белая конница; банды Юденича всё пытаются прорвать фронт, занять славный город.
Под землей было трудно дышать, в висках громко стучало, и засыпанный Буркин скоро обессилел, затих.
Когда товарищи отрыли его и хотели отправить в госпиталь, они долго не могли отодрать его руку от винтовки, — пальцы, казалось, приросли к прикладу...
Вокруг стоял тревожный, ни на секунду не умолкавший гуд, будто несчетные тысячи оркестрантов проверяли свои инструменты, готовясь к игре. Вся земля, весь снег были устланы полчищами птиц: они бились, трепетали, двигались сплошной массой, — казалось, движется сама земля. Из этого разнообразного птичьего гама особенно выделялись своим звучным голосом гуси и тоскливым кряканьем утки.
Перелетная дикая птица черными гудящими тучами передвигалась на пригорки с отталинами; на пригорках она паслась — здесь были прошлогодние жухлые травы.
С пригорков птица шумно спускалась к болотцам, где дымилась светлая снеговая вода.
Буркин рассеянным взглядом смотрел на птичье царство.
Некоторые стаи шумно срывались на разведку. Сделав несколько кругов над приморьем, где трещали льды и, пыхтя, таяли серые снега, стаи опускались снова на пригорки с отталинами и звучными, высокими голосами возвещали приближение перелета.
Буркин задержал блуждающий взгляд на небольшой стае сизых атласных гусей: у них были выпуклые дымчатые груди и темнозеленые длинные носы и лапы. Крупный, должно быть самый старый гусак-вожак, словно почувствовав взгляд ловца, высоко поднял голову и, тревожно вскрикнув, быстро расправил широкие шелковистые крылья и грузно, вперевалку отбежал за холм; за вожаком, глухо застонав, ринулось остальное сизое стадо.
В стороне от других держалась небольшая стайка красных гусей — фламинго — редкого в Прикаспии африканского гостя; фламинго — огромный в развороте, у него тонкие, необычайно длинные ноги, розовато-алые крылья.
Непрерывный птичий базар неумолчно кружился над приморьем, — он то слегка стихал, то вновь усиливался, заглушая нарастающий рев моряны.
Птица продолжала передвигаться по пригоркам, и когда опускалась она к болотцам, ветер сгонял с пригорков белый пух, кружил его, забивал в низины, в талый снег.
К холму, на котором сидел Буркин, спешила из поселка женщина; моряна трепала ее юбку, взбрасывала подол, оголяя смуглые колени. Женщина, махая руками будто крыльями, сбивала подол юбки книзу и под ударами ветра невиданно крупной птицей быстро неслась на вершину холма...
Она тихо окликнула ловца:
— Гриша, — и опустилась рядом с ним.
Буркин, не замечая жены, попрежнему тупо смотрел на птичьи стаи.
— Гришенька...
Рыбачка, сдернув с головы платок, поспешно окутала им руку ловца и двойным узлом прикрепила ее к груди; рука сразу перестала биться, — она только едва заметно вздрагивала, будто пойманная и оглушенная рыбина.
Ветер разметал черные густые волосы рыбачки, смоляные пряди тяжело скользили по ее овальному коричневому лицу.
— Гриша, пошли домой... — Собирая волосы жгутом, рыбачка обеспокоенно смотрела на мужа грустными синими глазами. — Гришенька, пойдем...
Она долго уговаривала мужа как малого ребенка. Рыбачка боялась, чтобы Григорий не ушел слоняться в камышовые крепи, где теперь шатался изголодавшийся за зиму щетинистый, клыкастый кабан.
— В море, Наталья, пойдем, — глухо сказал ловец. — На глубьевой лов...
— Что ж, и пойдешь, если надо, — неуверенно ответила рыбачка, опасливо поглядывая на мужа.
— На глубьевой, на морской пойдем лов, — едва слышно повторил Буркин. — Непременно пойдем...
— Пойдешь, пойдешь, — соглашалась рыбачка. — А сейчас домой, Гриша, надо.
Она поднялась, тяжко вздохнула.
Ловец тоже встал, выпрямился и пошел рядом с женой, глядя вдаль недвижными, словно стеклянными глазами.
— Теперь, Наталья, непременно в море пойдем...
— Ладно, ладно, — рыбачка скорбно кивала головой.
Она знала, что Григорий и Сенька вернулись с Каспия без оханов — шурган унес сети вместе со льдами в открытое море. Она знала, что теперь сбруи не хватит не только на глубьевой, морской лов, но и для речного лова большой недостаток. Все же рыбачка соглашалась с Григорием, горестно поддакивала ему, зная, что в штормы часто заговаривался муж, не находил себе места, — так же вот, как и сейчас, бродил он на задах Островка, пропадал в камышовых крепях. Наталья старалась увести его домой, на последние деньги покупала водки, наливала мужу стакан-другой, и он, выпив, крепко, надолго засыпал, пока не переставал бушевать ветер... После шторма Буркин снова становился исправным ловцом, больная рука его отходила и не билась; она лишь изредка вздрагивала, и Григорий, будто с ним ничего и не было, уходил на лов. Иной раз случалось и так, что еще задолго до окончания шторма он приходил в себя и тут же принимался за работу. А бывало, что и шторм не особенно влиял на него, — Григорий становился только молчаливым и жадно, без конца курил.
Наталья осторожно взглянула на мужа и шумно, закатисто вздохнула.
Наступала путина, приближалась одна из горячих весен — пора напряженного, просоленного морем и потом ловецкого труда. А у Натальи с Григорием был только кулас — утлая речная лодчонка да полтора десятка сеток.
— Непокорный уж очень! — невольно вырвалось у рыбачки. И, спохватившись, она в тревоге посмотрела на мужа: не услышал ли он ее горькие слова?
А Буркин, как и прежде, шел молча, беспамятно глядя вперед.
Рыбачка огорченно перебирала свои затаенные думы:
«У Краснощекова можно было бы взять под улов сбрую, чтобы исправно встретить весенние рыбные косяки. За это Захару Минаичу пошла бы только половина добытой рыбы... А у Дойкина, войдя к нему сухопайщиком, можно было бы получить все: и сети, и бударку, и хлеб, даже можно бы взять морскую реюшку, оханы. Ловцу-пайщику не надо беспокоиться ни о чем — он участвует в этом деле, выходит, сухим паем».
Не беда, что Алексею Фаддеичу пришлось бы отдать четыре пятых улова за их с Григорием сухой пай, зато им досталась бы вся пятая часть выловленной рыбы!..
Когда она на днях заговорила было об этом с мужем, Григорий решительно заявил:
— Красногвардеец никогда не пойдет на поклон к рыбнику!.. Понимаешь? Не пойдет!..
«И чего противится?» — Рыбачка снова в тревоге взглянула на мужа.
Он неотрывно, бездумно глядел вдаль.
«Эх, согласился бы Григорий на сухопай!» — Она готова была сама пойти с ним на лов. Запасли бы они хлеба, круп разных и всего-всего, а при хорошем, удачливом лове и приоделись бы по-настоящему.
И тоска по прочной, сытой жизни горечью окатила сердце Натальи.
Она сама начала бы разговоры с Дойкиным и наверняка напросилась бы у него в сухопайщину.
Но Григорий против!
«А что говорил он на холме? — вдруг мелькнуло у рыбачки. — Собирался ведь на глубьевой лов, в море. Уж не решился ли Григорий на сухопай? — Она ласково взглянула на мужа. — Но, может, Григорий говорил это так — не думая, заговариваясь?»
И рыбачка, чтобы выведать его мысли, громко спросила:
— Гриша, а когда же на лов?..
Буркин, словно просыпаясь, медленно провел левой, свободной рукой по лицу, пристально оглядел все вокруг и, сурово улыбнувшись жене, раздумчиво сказал:
— Скоро, Наташа... Скоро...
Он высвободил правую руку из платка, развязал узел и, вновь сурово улыбнувшись, бережно накинул платок на голову жене.
— А с кем и как, Гриша, пойдешь на лов? — пытливо спросила она, видя, как светлокарие глаза его загораются золотистыми огоньками.
— Артелью, Наташа, пойдем. Артелью! — Буркин быстро свернул цыгарку и закурил. — Андрей Палыч, говорят, уехал хлопотать в район. Надо и мне двинуть на помощь ему...
Рыбачка печально опустила голову. Сколько раз Григорий и Андрей Палыч говорили с ловцами об артели, сколько раз пытались они сойтись на совместный большой лов, но почему-то до сих пор не удавалось им осуществить задуманное.
Моряна шибко била под ноги. Наталья и Григорий, сгибаясь, с трудом преодолевали напористый ветер. Они входили в поселок.
Глава двенадцатая
Яков пришел домой, когда вся семья уже сидела за столом. Раздеваясь, он почувствовал, что недавно здесь была ссора, — выдавала ее прежде всего необычная для Турок тишина, выказывал недавнюю ссору и мрачный, грозный вид отца. А то, как жена Якова, круглолицая, с дугастыми черными бровями Татьяна, шикала на ребятишек и дергала их, принуждая быстрее есть, особенно подтверждало догадку Якова.
«Опять ругалась с Манькой или с мамашей», — сокрушаясь, подумал он о жене и прошел к столу.
Яков сел на скамью между Татьяной и сынишкой, рядом с которым высился громадный и широкогрудый Турка; по другую сторону жены сидела дочка, дальше — мать Якова, рядом с ней — Мария. Сидя между отцом и матерью и чувствуя себя в безопасности, она то и дело бросала вызывающие взгляды на Татьяну.
Из громадной сковороды, занимавшей чуть ли не полстола, Яков не спеша взял кусок жареной рыбы и поочередно оглядел всю семью.
Старый Турка, пряча в могучее подлобье узкие, с огоньками глаза, ел медленно и спокойно. Но по тому, как он хмурил пучкастые брови, прикрывая ими глаза, Яков понял, что отец взволнован жестоко.
— Ешь скорее! — неожиданно с отчаянием выкрикнула Татьяна, дернув за платье дочку. — А то вон дед чортом смотрит! — и она зло кивнула на сумрачного Турку.
— Будет тебе, Таня, — тихо сказал Яков.
— Опять я?! — визгливо закричала жена. —Опять я причиной всему? Опять я виновата?!
Она выскочила из-за стола.
— Заездили, замотали! Моченьки нету! Уеду к батяше! Все одно уеду! Не могу больше!
И, громко зарыдав, она побежала в переднюю. Дети заголосили и бросились за матерью.
— Не жизнь, а каторга! Помрешь безо времени!.. — неслись из передней причитания Татьяны. — Всё им не так да не эдак!
Мария, наскоро прожевав рыбу, требовательно обратилась к брату:
— И чего выдумала, — она сердито кивнула на переднюю. — Проверяем это мы с маманей мое приданое: ситцы там разные да полотно, а она твоя Та-а-ня, — и сестра, скривив лицо, передразнила брата, — лезет и лезет. Дай ей то да вот это. На штанишки отрежь Ваське, на платьице Нюрке да на кофту ей...
— Она тут, Яша, такой скандал затеяла, — жалобно подкрепила мать, — батюшки мои! Прямо беда с ней, сынок! Уйми ты ее!
— Брешете! — из передней с шумом выскочила Татьяна. — Брешете!..
Старый Турка молча поднялся и, пройдя к окну, закурил трубку.
— Яшка! — и Татьяна резко рванула за рукав мужа. — Собирай меня! Уезжаю к батяше!
— Давно бы пора, — пренебрежительно бросила Мария.
— Но-но! — не сдержавшись, крикнул Яков на сестру. — Смотри ты у меня!
— Нечего на меня нокать! — И Мария важно прошла к отцу. — На жену вон больше нокай, — дело лучше будет!
— Молчи, дура несчастная! — закричала Татьяна. — Я на тебя и твое приданое четыре года горб гнула. Ду-ура!
— От дуры слышу!..
Татьяна ринулась к Марии, но Яков преградил ей дорогу.
Турка молча курил, посматривая в окно.
Обхватив жену, Яков увел ее в переднюю. Татьяна вырывалась, кричала:
— Не могу больше! Собирай, говорю, меня к батяше!
— Погоди, погоди, Таня. — Усадив жену на кровать, Яков взял на руки плачущую дочку. — Скажи толком, чего тут у вас?
Уткнув голову в подушку, Татьяна сквозь всхлипывания запричитала:
— Метала я сети, а они, как барыни, перебирали приданое... Я и скажи: отрезали бы ребятишкам ситцу... Ведь несколько сот метров его у нас...
И без рассказа жены Якову было все понятно. Который уже день идет эта канитель в доме — с тех самых пор, как возвратились Турки с моря после поимки Коляки. Отец наотрез отказался выделить сына в скором времени. Яков сначала как будто и согласен был на отсрочку выдела, но Татьяна не хотела об этом и слушать. Она все эти дни искала повода к тому, чтобы схватиться с Марией или с матерью, даже вызывала на скандал самого Турку.
А поводов к этому хватало. Татьяна, как и Яков, работала неустанно с утра и до вечера: доила коров, топила печи, стряпала, мыла посуду, полы. Она даже находила время, чтобы сметать за день несколько метров сети. Мария же только и знала, что наряжалась и ходила к подружкам да приводила их к себе и, открыв сундук, хвасталась нарядами. Мать, больная желудком, сидела больше на печи, занималась с ребятишками. Татьяна, подоткнув с боков юбку, целые дни мыкалась по кухне, по двору. Мария редко помогала невестке, а когда та просила что-нибудь сделать, она, недовольно сморщив лицо, отвечала:
— Не видишь, новое платье на мне — попортить могу!..
А Татьяна и в будни и в праздники ходила в одной и той же серой кофтенке, в полинялой, замызганной юбке. И у Якова из одежды была только одна пара: суконные штаны да пиджак — носи хоть в праздник, хоть в будни!.. Пожалуй, ни у кого другого, кто мог бы сравняться в Островке по достатку с Турками, так бедно не одевались молодые, как у Трофима Игнатьевича его невестка и сын.
Но Яков терпел, все ожидая выдела. Он надеялся, что отец, помимо богатой ловецкой справы, поделит с ним и те запасы материи и прочей сохранности, которые Яков наживал вместе с ним. Он прочно верил в это. Потому и соглашался молчаливо, тайком от Татьяны, ждать выдела до осени. Она же, как только намекнул старый Турка на то, что придется, мол, прежде выдать замуж Марию, а потом уже, как поправятся дела, можно будет подумать и о выделе Якова, начала язвить, ко всему придираться... Никогда Яков не видел такой Татьяну и раньше даже не мог себе представить ее столь запальчивой и требовательной. Но скоро он и сам втянулся в эту потасовку, то защищая жену от нападок сестры, то обрывая мать за надоедливые жалобы на сноху. А третьего дня даже повздорил с отцом, который выругал Татьяну. И когда Яков грозно прикрикнул на отца: «Полегче, батяша, а то глотка лопнет!» — тот оторопел и заорал что есть силы: «Цыц, щенок! На кого рот разинул? А?» И, замахнувшись, двинулся на сына. Яков отступил, а отец, грохнув дверью, вышел из дому. И с этого раза сын почувствовал, как с каждым днем, с каждым часом нарастает у него неприязнь к отцу...
Уже третий день не разговаривают Турки — хмурятся, молча враждуют. Того и гляди, что схватятся за грудки.
И теперь Яков решил немедля требовать от отца выдел. Не просить, а именно требовать! Разве не он свыше десятка лет рвал жилы на то, чтобы сделать добротным их ловецкое хозяйство? И не с Татьяной разве они, вот уже четыре года, не покладая рук корпят в работе, надеясь, что вот-вот батька выделит их? А он все молчал, оттягивал и на днях вновь осторожно подал намек: осенью, дескать...
«Довольно! Натерпелись!» — твердил про себя Яков, но не знал, как и с чего начать разговор с отцом.
— ...И ребятишки голые, — продолжала всхлипывать Татьяна. — И сами ходим в шаболах. А в сундуках материя гниет. И подумать только, чья материя, как не наша!
Она вскочила с постели и снова раздраженно крикнула на Якова:
— Собирай, говорю, меня к батяше! Все равно уеду! Сегодня же уеду!
— Постой, Таня, — и Яков передал ей дочку.
Пройдя к двери, он нарочито громко сказал, чтобы слышали все:
— Погоди немного. Может, еще обоим придется нам ехать к твоему батьке.
Эти слова покоробили старого Турку.
— Скатертью дорога! — громыхнул он и, швырнув на подоконник трубку, поднялся с табурета.
— И уеду! — запальчиво выкрикнул Яков. И, радуясь, что наконец пришелся случай посчитаться с отцом, он стал громко выкрикивать в дверь: — Не подумай только, что пустой уеду! Потребую от тебя законного выдела! В сельсовет поеду с жалобой, а то и в самый район! Все возьму свое!..
Турка не ожидал такой прыти от сына. Он держал его, как и всю семью, в строгом повиновении. И теперешняя решимость Якова озадачила его.
А сын, стоя в дверях, вызывающе кричал:
— Давай делиться!.. Не хочу с тобой больше жить!.. Надоело мне лямку тянуть!..
От обиды у старого Турки сжалось горло, и он, побелев, затрясся.
— А-ах ты, щенок! — и ринулся к Якову.
Вся семья разом заголосила и бросилась кто к отцу, кто к сыну.
Туркам не дали схватиться.
Мать с Марией оттащили отца к окну, а Татьяна повисла на груди Якова.
— Выйди, Яша... Выйди, Яша, во двор, — упрашивала она мужа.
— Давай выдел сейчас же! — не отступал сын и порывался к отцу. — Начинай делить имущество!
— Я тебе дам! — хрипел Турка, пытаясь высвободиться из рук жены и дочери. — Ишь! На отца эдак! Я тебе!..
Татьяна увела Якова в переднюю и, сунув ему шапку, выпроводила за дверь.
Долго и гулко топал старый Турка по комнате, заложив руки за спину.
— Хорош сынок!.. Нечего сказать!..
Зло пыхтя трубкой, он без конца твердил одно и то же:
— Нечего сказать! Хорош сынок!..
А когда вернулся Яков, отец, не глядя на него, решительно заявил:
— Получай долю!
И, одеваясь, глухо продолжал:
— Бударку бери... Пять мен сетей разных... Полсотни перетяг снасти...
Дальше Яков не расслышал — отец вышел в сени.
— Иди, говорю, получай! — крикнул он оттуда сыну.
Яков осторожно шагнул в дверь. Отец был уже во дворе и открывал сарай.
Яков так же с опаской пошел к сараю, как и выходил на окрик отца в сени. Он боялся Турку — отец мог схватить его за загривок и задать ему «памятную», что он часто и проделывал с Яковом. Исподлобья поглядывая на отца, Яков долгое время стоял у косяка двери и не входил в сарай.
Перебирая на вешалах сети, Турка сквозь зубы процедил:
— Входи... Будем делиться...
Яков переступил порог и остановился неподалеку от бочки с солью.
— Получай мену вобельных, — и Турка полез в дальний угол, где висели вконец обветшалые сети, которыми не ловили уже несколько лет; чиненные да перечиненные, они, кроме того, настолько перетрухли, что от одного прикосновения к ним рвалась нитка.
Задрожав, Яков вцепился руками в края бочки.
— Принимай! — и Турка начал бросать на пол связки сетей. — Пять концов... Десять... Пятнадцать...
Он считал, а сын, казалось, и не слышал.
От обиды Яков дрожал, его подмывало крикнуть отцу что-либо злое, оскорбительное. Но он сдерживал себя, продолжая молчаливо оглядывать ворох трухлявых сетей и выжидая, чем же будет наделять его отец дальше.
— Проверяй, сынок! — вдруг язвительно прохрипел Турка. — А то, может, обжулил тебя батька.
Он перешел в другой конец сарая и снова начал отбирать сети. На передних шестах висели бело-серые, мягкие, шелковистые сети, но отец и не дотрагивался до них, он все лез дальше в угол, где была поношенная сбруя.
— Теперь селедочные принимай, сынок!
И когда Турка стал снимать с вешалов третьегодичные, перепрелые сети, у Якова хватко сжала злоба сердце.
— Не признаю такой доли! — вдруг исступленно закричал он и, отбросив концом сапога крайнюю сеть в угол, отпрянул к выходу.
— Не торопись, сынок! — продолжал ехидно Турка. — Не всё еще! Судачьи получишь, снасть, оханов дам... Да не забудь долг наш в шестьсот целковых: триста будут мои, а триста твоя доля платить. Раз делить — так все делить...
У Якова залязгали зубы, и он готов был броситься на отца, но в это время во двор вошел Сенька.
— Яшка! — крикнул ловец. — Пошли!
Переминаясь с ноги на ногу, Яков на секунду выглянул из сарая, махнул рукой Сеньке и внушительно окликнул отца:
— Слышь? Кончай дурить! Слышь, что ль?
Турка вопросительно посмотрел на сына. А тот неожиданно дерзко заявил: — Такую рвань не принимаю! Не сетка, а труха это! К вечеру чтоб было как обещал: пять справных мен. А не то — сельсовет!..
— У-у, ты! — взревел Турка и, схватив кол, рванулся к сыну.
Чуть не сшиб Яков с ног подошедшего Сеньку, когда выскочил из дверей сарая. А Турка, не догнав сына, пустил вслед ему кол. Яков нагнулся, и кол, просвистев над головой, бухнул о забор.
—К вечеру чтобы доля была сполна! — кричал отцу из калитки Яков. — И не ошметки чтобы, а справная сетка!
Старый Турка медленно, разбитой походкой шагал обратно в сарай.
— В сельсовет поеду!.. — неистовствовал Яков. — В суд потащу!..
Сенька, крадучись пробирался к калитке.
Глава тринадцатая
Дмитрий вчера пришел с маяка в Островок пешком. И хорошо сделал, что именно вчера пришел, — сегодня, пожалуй, не добраться бы ему до поселка.
Каспийские ветры начали с ночи ломать волжские льды, — они трещали, сотрясая воздух, отчего звенели в окнах стекла и содрогались стены ловецких домов.
Когда Дмитрий окончательно собрался домой, маячник уже не препятствовал его отъезду. Он даже хмуро просопел себе под нос:
— Пора уж!.. Давно бы!..
С того вечера, как Егорыч возвратился из Островка пьяным, он совсем перестал разговаривать с Глушей и Дмитрием. Почти все время старик находился на вышке маяка; сходил он в сторожку только пообедать и попить чаю.
Он беспрерывно пил водку, но Глуша никак не могла найти то место, где были запрятаны бутылки. Когда же она хотела пройти в будку на вышке маяка, старик загородил ей дорогу - и сердито сказал:
— Нельзя сюда чужим! Головой отвечаю за маячную лампу. Марш!
Егорыч больше не подслушивал, как вначале, разговоры Глуши с Дмитрием.
Он упрямо молчал.
И даже на прощанье маячник не сказал Дмитрию ни одного путного слова. Он только еще более нахмурился и, подтянув шаровары, прошел к окну, где висела начатая вязкой сеть.
Глуша робко посмотрела на отца.
— Батяша, — и подошла к нему. — Я тоже с Митрием пойду. И еще мне охота, чтобы ты...
—Никуда не пойдешь! — резко оборвал он ее. — Тут пока останешься! Я с тобой не говорил еще по-серьезному.
— Батяша!..
— Довольно! — Старик сердито притопнул ногой. — Поговорю, помуштрую тебя, а тогда - провожу... Завтра вместе поедем в Островок, мне тоже надо.
Он вытащил из сети игличку и стал проворно метать ячеи...
«Ну и хитрец! Ну и вертун этот Максим Егорыч!»— удивлялся Дмитрий выходкам старика, сидя у себя в кухне и припоминая события на маяке.
Сегодня ловец чувствовал себя хорошо, а вот вчера, как вышел с маяка — всю дорогу, и вечер, и ночь, — он волновался, думал, не мог заснуть... Дмитрий не, понимал, что случилось с маячником: почему он переменил свое отношение к нему? Вначале Егорыч с добродушной укоризной наставлял Дмитрия на жизненный путь, обещал даже дать ему на весеннюю путину кулас, а потом вдруг, как только съездил в Островок, переменился.
И только сегодня утром, когда пришел Матвей Беспалый с ключами от стариковского дома, Дмитрий наконец понял намерения маячника.
Матвей подробно рассказал ему об этой оказии.
Во время рассказа лицо у Беспалого было, как и всегда, непонятное; говорил он тягуче, без выражения, и никак нельзя было догадаться: спокоен он или в обиде на Казака.
Но когда вытащил из кармана связку ключей, чтобы передать их Дмитрию и тот начал отказываться, делая вид, что ничего не понимает, Матвей вдруг рванулся с табуретки и, кажется, в первый раз раздраженно вскричал:
— Обалдуй ты!..
Швырнув ключи на пол, он с руганью выбежал из кухни.
«Прорвало наконец-то!» — ухмыльнулся Дмитрий.
Подняв ключи и вертя на пальце колечко, на которое они были нанизаны, ловец зашагал по кухне. Так он долго ходил, весело позванивая ключами.
Только теперь Дмитрию стал полностью понятен Максим Егорыч.
«Вертун!.. Хитрец!.. — думал он. — Хочет все по-своему! С норовом старик! Ну, да ладно!»
Он улыбался, потирал руки, нетерпеливо поджидая с маяка Глушу и Егорыча.
Дмитрий и до этого смутно догадывался о согласии старика на уход Глуши от Матвея, но маячник почему-то все хитрил, юлил, не соглашался; он и до последнего дня открыто не дал согласия на совместную жизнь Глуши с Дмитрием.
«Вот вертун! — изумлялся ловец. — И чего ему надо? Чего дурачится?..»
Дмитрий был уверен, что дело обстоит именно так: тешится над дочкой Максим Егорыч по привередливой старости — и только!
Он остановился у окна и, наблюдая, как неистовая моряна срывает с земли остатки снега, крутя его над поселком, поежился от холода и подумал:
«А старикан ведь может еще что-нибудь отчубучить».
Когда Дмитрий уходил с маяка, Егорыч, помнится, обещал на следующий день прийти вместе с Глушей в Островок.
«Сегодня, видно, уже не явятся, — дело идет к вечеру, да и непогода вон какая!»
Он опять посмотрел в окно, за которым буйно кружила моряна.
Дмитрия вдруг пронзил жгучий озноб. С тех пор, как он ушел с маяка, этот мучительный озноб часто напоминает о себе.
Он долго не мог согреться. Вздрагивая, отошел от окна к печке и, растопив ее, присел на чурбан.
«Не надумал ли опять чего старикан?» — продолжал рассуждать Дмитрий, тревожась отсутствием Глуши и Максима Егорыча.
Он нечаянно разжал кулак и выронил ключи, усмехнулся и, довольный, зашептал:
— Придут... Завтра придут... Может, к утру и моряна затихнет... — и придвинулся ближе к печке; нагнувшись, глянул в ее зевло — жаркое пламя окатило его теплом и сразу всего согрело.
Он сунул ключи в карман. Шаркая ладонью о ладонь и жмурясь, Дмитрий задумчиво смотрел на гудящее пламя, которое бурно рвалось в трубу.
Белый с черными пятнами Пестряк бесшумно скакнул с кровати и сонно потянулся, упираясь передними лапами в пол и выгибая спину. Обмахнув лапой белую, с черным пятном на носу мордочку, он лениво поплелся к печке.
Тихонько мурлыкая, Пестряк долго ласкался у ног ловца, — он терся боком, обводил ноги Дмитрия пружинистым хвостом и беспрерывно тянул свое теплое:
— Хх-хррр... хх-ррр...
Дмитрий вздрогнул, когда Пестряк облизнул его руку. Погладив кота, он дребезжащим басом, в тон Пестряку, заурчал:
— Налаживается, Пестряк, наша жизнь... Налаживается...
Почуяв ласку, кот громче и приветливей замурлыкал; он упруго выгибал спину, подставляя ее под большую шершавую ладонь ловца.
И Дмитрию хотелось без конца, поглаживая пушистую, теплую спину кота, слушать его однообразную, радушную песенку.
Так хорошо неторопливо размышлять над тем, что говорил ему Максим Егорыч: о жизни, о живоглотах, о куласе...
Кот улегся в его ногах и, то закрывая, то открывая глаза, едва слышно мурлыкал. А Дмитрий думал о том, что было бы неплохо воспользоваться куласом маячника. Он прикидывал в уме свою сохранность: хватит ли у него денег на полный обзавод сетями и всякой к ним мелочью?
Будто и хватит, будто и нет...
Да он и не хотел сейчас окончательно решать этот вопрос, — он ждал встречи с Алексеем Фаддеичем, хотел знать результаты подсчетов.
Дойкин вчера, перед тем как прийти Дмитрию с маяка, ускакал на стригунке в район и до сих пор не возвратился.
— Узнаю точно свои подсчеты, — говорил себе Дмитрий, — тогда и видно будет, что делать. Может, и не потребуется кулас Максима Егорыча. Глядишь, денег хватит и на свою бударку.
Вчера вечером у Дмитрия был Сенька; они так и порешили: подведет он счета, а тогда и думать будут, как быть. Договорились они еще и о том, чтобы сходить к Григорию Ивановичу Буркину поговорить с ним об артели, попросить его поехать в район на помощь Андрею Палычу, за кредитами...
Закрыв глаза и положив мордочку на вытянутые лапы, Пестряк мурлыкал уже совсем тихо, с перерывами.
Дмитрий поднялся с чурбана, не торопясь прошел к кровати, вытащил из-под подушки бумажник, в котором хранились разные документы и письма. Ему захотелось снова прочесть письмо Шкваренко — секретаря комсомола того полка, где Дмитрий проходил военную учебу.
Шкваренко писал о том, что полковой комсомол беспокоится о бывшем сослуживце, и спрашивал, как идет его жизнь, какие дела в их поселке.
От письма, которое было прислано еще год назад, Дмитрию стало не по себе. Секретарь написал всего несколько строк — строгих и сухих, как полковой приказ, но в то же время таких близких и понятных.
— Товарищи... — взволнованно зашептал Дмитрий, снова присев к печке. — Дружки вы мои...
Он. чувствовал себя виноватым перед Шкваренко, перед всей полковой комсомолией, упрекал себя, досадовал. Особенно неловко чувствовал он себя перед секретарем, которому обещал писать обстоятельно про все дела в Островке: и про комсомол и про артель...
От стыда Дмитрий прикрыл глаза, словно сейчас стоял перед ним сам Шкваренко.
Дмитрий все задерживал ему ответ, все надеялся, что вот-вот подвалит счастье, справит он бударку, сети и тогда, организовав артель, напишет секретарю подробное, хорошее письмо.
Он сокрушенно покачал головою, развернул лист тонкой пожелтевшей бумаги, на котором было когда-то начато им ответное письмо полковому комсомолу:
«Дорогие дружки и товарищи! Дорогой секретарь Шкваренко!
Живу я, как вы сами знаете, на самом краю света — кругом вода да камыш, ветер да вода...
Ни сельсовета у нас в поселке — за малочисленностью населения, ни комсомольской ячейки — это уж по бессознательности (всего двое нас, комсомольцев: я да еще Сенька Бурый).
Судьбина моя пока нерадостная: штормяк разорил меня в пух и прах...»
Не дописал тогда Дмитрий этого письма — решил подождать лучших времен. Боялся, что засмеют его ребята, скажут: «Э, какой слезливый стал!» Так прошел месяц, полгода, год...
— Ничего! — вдруг радостно, шумно выдохнул Дмитрий, вспоминая Глушу, Максима Егорыча, обещанный кулас. — Ничего! — громко повторил он. — Скоро такое письмище напишу — держись, Шкваренко!
Пестряк поднял голову, облизнулся, посмотрел на хозяина и опять громко, журчливо затянул песенку.
— Правда, Пестряк? — и Дмитрий ласково потрепал кота.
Вынув из кармана ключи, принесенные Матвеем, и крутя колечко на пальце, он стал медленно прохаживаться по кухне.
Пестряк ходил следом за ним, выглядывая то с одной, то с другой стороны, как игриво вертелись в руке хозяина ключи, празднично позванивая.
— Налаживается, Пестряк, наша жизнь, — говорил Дмитрий, потешаясь над прельщенным ключами котом, который забегал вперед и поднимался на задние лапы. — И твоя жизнь, Пестряк, станет лучше. Хозяйка у тебя скоро заявится, перестанешь бездомничать...
Неожиданно распахнулась дверь, и в кухню вошли Яков и Сенька.
— Ну, как живешь-можешь? — хмуро спросил Яков, тяжело опускаясь на чурбан у печки.
— Ничего, отошел будто, — простуженно забасил Дмитрий. — Немного вот только что-то грудь давит.
— Та-ак... — Яков помолчал, потом опять угрюмо задал вопрос: — Чего хорошенького скажешь?
Дмитрий недоуменно пожал плечами:
— А ты чего скажешь?
Молодой Турка снял шапку, неторопливо положил ее на пол и разгладил свои длинные и редкие, как у сома, всего в несколько волосинок, усы.
— У меня ничего хорошего нету, — сказал он, тоскливо оглядывая кухню. — Одна канитель только!
Посмеиваясь, Дмитрий сунул в карман ключи и присел на кровать.
Сенька, сидя на корточках у стены, задумчиво водил пальцем по земляному полу.
— Разговор с тобой серьезный имеется. — Яков дернул волосинку своих усов. — От батьки хочу уходить я. Житья, Митя, нету!.. — Он безотрадно посмотрел на ловца. — Рву я жилы, рву день и ночь, а житья нету... — На кого работаю, спрашивается? Знаешь моего батьку: скаредный, дьявол! Все запасы разные устраивает да Маньку жениху готовит. А мне какая польза с того? За что я свои жилы рву? У меня своя семья: и жена и дети... Своя забота! А тут еще Коляка, чорт, поперек дороги... Ты, должно, слыхал?
— Не слыхал, — отрицательно покачал головой Дмитрий.
Шумно вздохнув, молодой Турка стал подробно рассказывать, как он условился с отцом о выделе в эту зиму.
— А Коляка спутал все планы, обором наших оханов занялся...
О том, как отомстили они соседу, Яков умолчал. Рассказал Яков еще и о том, что отец не хочет его выделять, ссылаясь на отсутствие денег.
— Но только брешет, сатана!.. Маньку хочет замуж выдать после весенней путины. А мне говорит: обожди, Яшка, немного... Знаю я! Опять начнет жадничать: то подновить надо, то подправить, а это заново купить. А ты жди да рви жилы!
Лицо Якова налилось кровью, и он еще злее дернул волосинку усов.
— Я это все к тому рассказываю, что серьезный разговор с тобой хочу иметь.
Он пытливо глянул на Дмитрия.
— Ты вот, как пришел из Красной Армии, — Турка снова посмотрел на Дмитрия, — артель затевал, и комсомол еще, а потом — молчок!
Дмитрий крякнул, сжал в кармане ключи.
— Дело мое серьезное такое, — и Яков распахнул полушубок. — Давай артель сбивать. Ты, Сенька, я, еще кто там... Сызмальства ведь друг дружку знаем. Чего же там! Давай — и все!
И он начал обдуманно, хозяйственно выкладывать свои расчеты — этому научился у отца:
— Старый кащей мой обещает мне на выдел бударку и пять мен разных сетей. Хотя и норовит, жадюга, всучить всякую рвань, но я заставлю дать то, что нужно. А ежели заартачится, то я через суд свое возьму! Вот... Кое-что у тебя, Митя, сохранилось от батьки. Сенька деньжат немного скопил... Комсомол бы вот еще организовать — все полегче! Да и комячейка наша по-серьезному за артель взялась. Андрей Палыч в районе уже. Дело с артелью должно пойти...
Заложив ногу на ногу и неслышно перебирая в кармане ключи, Дмитрий сосредоточенно слушал Якова.
Когда-то, ребятами, они, бесштанные и вихрастые— Митька, Яшка и Сенька, — вместе играли, мастерили на берегу лодочки, из лоскутов шили паруса, пускали по протоку игрушечные бударки, ловили у берега мальков, солили их, сушили, готовили балыки — словно заправские ловцы!.. Потом, с семи-восьми лет, пошли они на настоящий лов: кто в волжскую дельту, кто на глубь Каспия. Отцы их были крепкожильные, напористые ловцы. Они научили сыновей бороться с суровым Каспием, с его штормами, шурганами... Сенькин отец погиб в море. А старый Турка за последние годы свернул с открытого и честного ловецкого пути на опасную купеческую тропку: стал заниматься скупкой рыбы.
И то, что дает теперь на выдел старый Турка своему сыну всего-навсего разбитую бударку и несколько мен сетей, — все это подтверждало мысли Дмитрия.
«Артель... Понятно, артель нужна! — думал он. — Но вот как ее организовать? Как?»
Дмитрий невесело взглянул на Якова. А тот продолжал выкладывать свои подсчеты:
— Мою бударку оконопатить и засмолить надо будет. Для этого совсем немного потребуется денег. Сетка на первое время найдется, — стало быть, садись два человека и начинай артельничать. А дальше? Чего ж дальше?..
Он замолчал и растерянно развел руками.
—Вот то-то и оно! — усмехнулся Дмитрий и, поднявшись, прошел к окну.
Широко расставив ноги, он посмотрел на угрюмого, задумавшегося Якова и всегда веселого, задорного Сеньку.
— Я, ребята, так думаю, — решительно сказал он, — и артель, и комсомол обязательно организуем!
Яков сурово улыбнулся, вынул из кармана кисет. А Сенька, привскочив, радостно ударил ладонью по коленке.
— Это мы сделаем непременно! — взволнованно продолжал Дмитрий. — Но... не сейчас, ребята. Сил у нас пока нет.
Яков перестал вертеть цыгарку.
— Артель создать — это, ребята, бо-ольшое дело! А для чего нужна нам артель? Для поправки нашей жизни. Без артели никак не выйдет ничего. Ты вот, Яшка, с отцом мытаришь, я туда-сюда мотаюсь, и Сенька сейчас в тяжелом положении. Артель должна вывести всех нас на хорошую дорогу. Или не так говорю я?
— Вроде так, — осторожно отозвался Яков.
— И Коська Бушлак, — добавил Сенька, — об этом на берегу говорил.
— Чего Коська! — сердито прервал Дмитрий товарища. — Артель у вас, что ли, с Андрей Палычем?
— Будто артель... только маленькая, — и Сенька торопливо добавил: — Коська и говорил о том, что надо, мол, большую, настоящую артель организовать!
— Знаю я! Спряглись, ловите вскладчину — и все. Каждый о себе старается: Андрей Палыч кухню новую построил, Коська забор вокруг своего двора новый поставил. Зачем это?.. Не думают они об артели, не вникают в это дело. Мы, ребята, такую создадим артель, что твоя коммуна будет! Домину отгрохаем на всех, как в городе! И квартиры для каждой ловецкой семьи отдельные. Столовую откроем!
— Эх, мать честная! — Сенька в удивлении покачал головой.
— Нам бы только заиметь немного денег, прибавить еще кое-что к Яшкиной бударке, а там — такие дела, ребята, развернем!.. — Дмитрий торопливо зашагал по кухне. — Я так думаю, ребята. Эту весну мы поработаем кто где, и как только кончится путина, тут же все деньги в кучу, все, что есть, тоже в кучу: сетка там или какая другая сбруя — и артель готова!.. Потом будем других ловцов звать. Только слово надо друг другу дать: не транжирить заработки, копить деньги.
Дмитрий остановился около Сеньки, громко спросил:
— Ты у кого думаешь эту путину работать?
Сенька ответил не сразу.
— Не знаю... Подожду Андрей Палыча... — глухо сказал он и, насупившись, отвернулся.
— А ты как? — Дмитрий подошел к Якову.
Молодой Турка медленно поднялся.
— Ума не приложу, что к чему... — Он запахнул полушубок, помолчал. — Одно только знаю: от батьки непременно уйду. Не могу больше, житья нету! — И стал вертеть новую цыгарку.
Дмитрий пристально оглядел товарищей — поугрюмевшие, они молчали.
— Вы что же? — в тревоге спросил он их. — Не согласны, что ли?
— Оттяжка, Митя, — недовольно сказал Сенька. — Каждую путину ты все откладываешь... А теперь будто и случай подходящий — у Яшки вон бударка с сеткой. Подправим ее — и пошел! И Андрей Палыч приедет вот скоро из района.
— Верно! — поддержал Яков. — Зараз и артель сбивать надо!
— Эх, вы! — Дмитрий раздраженно махнул рукой. — Я же говорил вам, целый час толковал... Бу-да-арка! Какой толк от одной Яшкиной бударки? Ну, подправим эту самую бударку. Пойдешь ты, скажем, с Яшкой на лов. — Он искоса взглянул на Сеньку. — А я что буду делать? Или я с Яшкой двину, а ты куда?..
И, крепко сжимая в кармане ключи, он вновь стал подробно доказывать необходимость в ближайшую путину работать каждому в отдельности, чтобы скопить нужные средства на ловецкую справу.
— Ты вот, Сенька, говоришь об оттяжке. А так ли это?.. Гляди-ка вот: раньше Яшка и слушать не хотел об артели. Помнишь, как уговаривали его? А тут — сам заявился. Погляди на себя теперь, Сенька: у тебя сейчас небольшая сохранность завелась. А раньше была? Ни гроша!.. Меня возьмите: сохранность тоже имею. И жизнь моя на лады пошла. С Глушей, под конец, все устроено: Максим Егорыч согласие дал.
Он радостно хлопнул Сеньку по плечу. А тот, припомнив вчерашний разговор о Буркине, спросил Дмитрия:
— А к Григорию Ивановичу пойдем?
— Сходим, поговорим.
— Сегодня?
— Хоть сегодня, хоть завтра.
— Хорошо...
— А ты что невесело глядишь? — Дмитрий подошел к Якову и, положив руку на его плечо, сказал: — Отработаем путину — и артель сбивать начнем! Непременно собьем!
Молодой Турка сдержанно улыбнулся.
— Э-эх, Яшка! И какие дела мы развернем! — Дмитрий взял Турку за руку. — Есть артель, Яшка?
— Есть, — сдержанно ответил Турка.
— По рукам, стало быть?
Они громко ударили ладонь о ладонь. Дмитрий повернулся к Сеньке, хотел обменяться и с ним крепким, дружеским рукопожатием, но Бурый, нахмурившись, направился к двери, следом за ним шагнул Яков.
— А вы заходите еще завтра ко мне, — сказал им вслед Дмитрий, легонько перебирая в кармане ключи. — Заходите! Слышь, Сенька? Я вот подсчитаюсь с Дойкиным —? может, новое чего удумаем. К Григорию Иванычу сходим, потолкуем с ним. Заходите!
Оставшись один, он задумчиво зашагал по кухне...
Вечером Дмитрий решил пойти к Дойкину.
«Может, приехал из района, — подумал он, надевая полушубок. — Подсчитаюсь с ним».
Неожиданно широко распахнулась дверь, и в кухню ввалился слегка подвыпивший Лешка-Матрос. Стараясь казаться трезвым, он подтянулся, разгладил усы.
— Здорово Казаку!
Дмитрий недружелюбно ответил:
— Ну, здорово...
Лешка строго спросил:
— Получил от Беспалого ключи?
— Ну... получил, — растерянно пробормотал Дмитрий.
— Вертай обратно!
Дмитрий непонимающе смотрел на Лешку.
— Ключи Максима Егорыча выкладывай! — крикнул Матрос и протянул руку. — Оглох, что ли? Ключи, говорю, вертай назад!
Дмитрий, приходя в себя, вдруг ожесточенно приказал:
— Вон отсюда!
— Ключи!.. — не унимался Лешка.
— Убирайся, тебе говорю!
— Гони ключи! — и Матрос, качнувшись, двинулся на Дмитрия.
Дмитрий, стараясь выпроводить Лешку из кухни, толкнул его, тот чуть не упал и, схватив табуретку, замахнулся:
— Даешь или нет?!
Пригнувшись, Дмитрий рванулся к Матросу и, перехватив табуретку, вытолкал Лешку из кухни. Заложив дверь на крючок, он прислушался.
Матрос рвал дверь, бил по ней кулаками, кричал:
— Максим Егорыч прислал за ключами! Отвечать будешь!.. На маяке я был! Максим Егорыч!..
Вскоре в сенях стихло. Притаясь за косяком, Дмитрий молча и долго стоял.
«Что такое?.. — думал он. — Откуда Лешка знает про ключи? И говорит — на маяке был. Что такое?.. Максим Егорыч, слышь...»
Он осторожно выглянул в окно — на улице было пусто.
«Вот тебе и Максим Егорыч! — продолжал размышлять Дмитрий, крепко сжав в кулаке ключи. — Не одумался ли уж он?.. Не похоже вроде. Должно быть, Лешка все это выдумал... А может, и в самом деле чего Максим Егорыч?..»
Торопливо запахнув полушубок, он решил сейчас же сходить к Дойкину, а от него, не дожидаясь завтрашнего дня, зайти за Сенькой и Яшкой, чтобы втроем пойти к Буркину.
И когда он вышел во двор, его заворожил теплый душистый вечер. Дмитрий устало прислонился к камышовому забору, сдвинул на затылок шапку и часто, глубоко задышал, вбирая влажные, душистые запахи Каспия.
— Зима надломилась, — радостно зашептал он. — На весну дело пошло!
Стоя у забора, Дмитрий продолжал удивляться, как это внезапно опустился на приморье такой тихий, задушевный вечер.
«А днем моряна штормовала...»
Он распахнул полушубок и глянул вверх: густосинее небо было затянуто сплошной движущейся птичьей массой, словно было задернуто огромнейшим неводом.
«Птица пошла!..»
Дмитрий слышал свист и шипение воздуха, рассекаемого бесчисленными крыльями. Ему казалось, будто небо колышется — то приближается к земле, то удаляется, — так густо неслись на север многотысячные стаи разнообразной птицы.
Звучно кричали гуси.
Высокими голосами перекликалась казара — малый гусь.
С трубными звуками неслись колонны лебедей.
Заунывно плакала утка.
— Скоро и рыба пойдет из Каспия, — растроганно прошептал Дмитрий и вышел на улицу.
Он вспомнил Глушу и Максима Егорыча. «Завтра непременно должны явиться с маяка!» Шел он, широко распахнув полушубок, часто поглядывая на небо. Там, между стаями птиц, дрожали яркие звезды, — они то потухали, то вновь светились, будто далекие огневки в темную ночь на воде.
Совсем низко — Дмитрию казалось, можно было достать рукой — плыла партия белых лебедей, распахивая гигантские, словно паруса, крылья. Шумно шуршали эти полотнища, и резко свистел разрываемый ими воздух.
Призывно звенели гуси, неустанно стонали утки, торжественно трубили лебеди.
Всю эту ночь над приморьем созвучно и стройно гудел диковинный пролетный птичий хор...
Часть вторая
Глава первая
Целую неделю нещадно била моряна, всю неделю стоголосая стихия неукротимо ревела, шало кружась по приморью, а потом разом оборвалась, канула в камыши...
И когда вышел на берег народ взглянуть на притихший и оттого радостный мир, то у своей посудины уже сидел раньше других дедушка Ваня.
Дедушка, должно быть, чуял, как моряна покоробила ледяной проток и как в разводьях промеж льдов заблестели чернистые воды.
Слышал дедушка и далекие всхлипы перелетной птицы, да только не видел он, как птица эта, исчертив сизое поднебесье, черными вереницами плавно шла на норд, на места гнездовья и размножения, а по ее следу на заштилевшее взморье опускались, покачиваясь, белые пушинки...
Небо, раздвинувшись, отложило в море и в степи грозные лохмотья туч, и вдруг из этой бирюзовой прорвы ударил горячий, ослепительный ливень солнечных лучей; взлохмаченные края туч и в надморье и в надстепье вспыхнули ярким, невиданным пожарищем.
Над Сазаньим протоком качались густые лиловые дымы.
Добрая половина глубьевых морских ловцов была уже в полной готовности к выходу на Каспий: многие еще несколько дней тому назад спустили по каткам на воды жирно засмоленные посудины, перебросили в них на тележках и тачках сети, паруса, продукты. И, собираясь семьями, ловцы поджидали, когда пошире раздадутся проглеи между льдов и потянет береговой попутный ветерок, чтобы вольней вздернуть паруса и удариться от берегов прочь — на глубьевые каспийские пространства — встречать миллионные косяки рыбы.
Но проглеи для прохода морских посудин все еще были узки. От берега на середину ледяного протока уходило только несколько извилистых полосок воды, соединяясь там с другими проглеями, — и все они, казалось, невиданно крупными миногами надолго залегли во льдах. В проглеях ходили волны, и чудилось, что эти гиганты-миноги шевелились, а когда происходила подвижка льда, они тоже двигались, ползли, извивались... По этим ледяным тропинкам ловцы на шестах, осторожно, чтобы не срезать посудины, пробивались к морю, на выкате в Каспий ставили паруса и неслись навстречу рыбным косякам. Но зато, когда вдруг спадал ветер или наотмашь хлестал штормяк, ловцы истово кляли все воды с их обитателями, вплоть до самого морского дна; переругиваясь, они долгое время мотались у берегов.
Так и теперь — ветры не удались: над приморьем властвовал золотистый, застойный штиль. Да и проглеи не раздавались по-настоящему. А по ночам все чаще и чаще сковывал проглеи тонкой коркой льда мороз. Морские ловцы, боясь, чтобы не порезал лед суда, вытаскивали их обратно на берег... И только речные ловцы, да и то особенно рьяные и смелые, шмыгая на махоньких куласах по узким межльдиньям — того и гляди, что срежут свои лодчонки об острые, ребристые ледовые окромки, — поспешно разворачивали лов; одни выбивали сети, другие поднимали улов, а третьи уже гнали переполненные рыбой посудины на приемный пункт...
Дедушка Ваня, невесть когда вступивший во второй век жизни, быстро мчался с Волокушьего протока на утлом, узкогрудом куласе; на корме его лодчонки сидела сгорбленная женщина.
Кулас был налит по самые борта рыбой, и с берега казалось, будто в черную свою посудину дедушка начерпал груду серебра.
Слепой ловец размашисто работал шестом, словно идучи с посохом из дальнего странствия по знакомой тропе; ему, незрячему, все одно — по широкой ли дороге, по широкой ли волне...
Вот он подвел кулас к берегу и, тяжело отдуваясь, сказал сидевшей на корме женщине:
— Ну, Ильинишна, вылазь — тороплюсь на приемку!
Он снял черную лохматую шапку и отер ею лицо; у древнего деда большой, изрезанный толстыми, в палец, складками лоб и точно обмытый маслом желтый череп.
Вслед за дедовым куласом невдалеке двигалась бударка; она часто останавливалась, задевая то бортом, то носом о края льда; видно было, что лодку гонит человек неопытный. Он бестолково скакал с кормы на нос и опять на корму, неуклюже отталкиваясь багром, и лодка неизменно натыкалась на льды, а то становилась бортом поперек проглеи.
Дед повернулся к протоку и, будто видя, как маялся человек с бударкой, пробираясь по проглеям к Островку, ухмыльнулся, а потом опять сурово сказал:
— Вылазь, вылазь, Ильинишна!
К дедову куласу спешили ловцы; в женщине они признали мать Василия Сазана, — она возвращалась с поисков сына.
Не дожидаясь ловецкого чуда, когда унесенную льдину с Василием, возможно, прибьет к берегам, рыбачка уехала за помощью в район и в город.
Первым подошел Сенька; искоса взглянув на Ильиничну и не зная, с чего начать разговор, он неторопливо взял из дедова куласа живую рыбину.
Жирная, с темнофиолетовым отливом, вобла жадно ловила воздух, то и дело открывая влажные красные жабры.
— Хороша воблуха, дедуша, — пробуя на руке вес рыбы, сказал Сенька и снова искоса посмотрел на Ильиничну.
В переполненном куласе шевелилось скользкое вобельное месиво. Сотни рыбин, стараясь выползти друг из-под друга, рвали хвостами воздух, распахивали жабры, таращили серо-голубые глаза, а некоторые, вскидываясь, вымахивали за борт и, недвижно пролежав на воде брюхом вверх секунду-другую, вдруг расправляли плавники и, перевернувшись, мигом скрывались подо льдом.
В руках Сеньки рыбина пружинисто изгибалась, хлестала его махалкой по локтю.
— Воблуха редкостная! — сказал он.
Дед еще раз отер шапкой запотевшее лицо, нахлобучил ее на голый череп и, взяв шест, недовольно сказал, будто видел, что парень держал в руке его добычу:
— Ложи в кулас! — и только тогда оттолкнулся от берега, когда ловец бросил воблу обратно в лодку.
Посудина шумно зашуршала днищем о крошево льда.
Из куласа деда то и дело сигали в проток рыбины, а вот одна стрельнула даже на лед; подпрыгнув несколько раз, она успокоилась и, изогнувшись, застыла.
— Спасибочко, дедушка Ваня!
Ильинична, одернув юбку, нагнулась было за узелком, но ее предупредил Костя Бушлак, — он поднял узелок и подал рыбачке.
— Что слышно, маманя?
Она пристально посмотрела на бурое, заштормованное лицо Кости и тихо, нараспев ответила:
— Была и в городе, была и в районе, сынок... — Ильинична не спеша тыкала то в одну, то в другую сторону жиденьким ивовым посошком. — Дали по чужим берегам клич, чтобы смотрели на относные льдины. А клич-то по этому самому радио пустили, по своей — городской, стало быть, волне. Вот и все, сынок...
Помолчав, рыбачка скорбно добавила:
— А так ничего и не слышно о Васятке.
Собираясь уходигь, она вдруг заговорила быстрее, взволнованно:
— Сказывают, будто под Долгими островами тюленщики сняли четверых относных ловцов. И в городе и в районе про то слышно... — Ильинична подумала, потом тихо сказала: —А про Васятку не чуют, не ведают.
У рыбачки стремительно хлынули слезы. Костя нетерпеливо переступил с ноги на ногу.
— Не надо, маманя, — попытался успокоить он Ильиничну. — Рыбачке горевать — только море гневить.
Смахивая полушалком слезы, Ильинична согласно закивала головой:
— Правда, сынок. И то правда... Знамо дело, кто в море не бывал, тот и горя не видал.
Одни ловцы молча отходили в сторону, другие, крякнув, переводили затуманенные взгляды на переполненный рыбой дедушкин кулас, что под солнцем ослепительно блестел серебряною чешуей.
Древний дед, как по изведанным тропкам, гнал кулас по проглеям на рыбоприемный пункт, — лодка шла в самый раз по черным межльдиньям. Уж не в самом ли деле дедушка Ваня видел все, как говаривали ловцы, внутренним оком, душою?..
К берегу приближалась бударка, что все время натыкалась на льды; человек с багром в руках продолжал бестолково метаться по посудине.
— Эка дурень! — не вытерпел Макар-Контрик, пристально следивший за неведомым человеком.
Когда бударка вошла в узенькую проглею, извилистой дорожкой бегущую к берегу, и крепко ударилась бортом о края льда, Макар даже подпрыгнул и, сложив ладони рупором, что есть силы крикнул:
— С кормы надо пихаться! С кормы!.. Слышь?!. С кормы, говорю!.. Посуду срежешь, дурья твоя голова! С кормы пихайся!
Ловцы, с любопытством наблюдавшие за незнакомцем, двинулись по берегу дальше, оставив Ильиничну с Костей и Сенькой.
Впереди всех шел Макар; опасаясь, как бы не срезал человек посудину во льдах, он без умолку повторял:
— С кормы пихайся! С кормы!
Ловцы, неторопливо, вразвалку шагая, громко переговаривались:
— Что за гость?
— Откуда такой фертик?
— Не нашинский, видать.
— Городской!..
— А багор-то держит, будто трость!..
Посмотрев в сторону ловцов, Ильинична двинулась домой.
— Маманя, — остановил ее Костя Бушлак. — А может, среди этих-то четверых, что тюленщики под Долгими сняли, и Василий как раз? Слух тут такой есть.
Горько улыбаясь, рыбачка остановилась и попрежнему запричитала:
— А может, а может... И бабка Анюта тогда гадала: чудо выходило... Район-то вот запрос сделал, а ответа все нету и нету.
Она жалостно посмотрела на молодого и крепко сложенного Костю, точно хотела ему сказать: «Вот и сам ты собираешься в море, а кто знает, вернешься ли?..»
Будто чуя думу рыбачки, Костя шумно вздохнул, отвел глаза в сторону и негромко сказал:
— Скоро, маманя, дойкинские посуды уйдут под Долгие. Глядишь, и разузнают про Ваську. А там и мы выбежим в море. Тоже узнаем что-нибудь.
— Спасибочко, сынок, за доброе слово... — Ильинична благодарно кивнула головой и снова двинулась в поселок; она тяжело опиралась на ивовый посошок, который чуть ли не наполовину уходил в зернистые пески.
На пригорке, увязая в песках, стояли исчерна-серые, захлестанные штормами ловецкие дома; крыши их были в густой зеленой плесени от бесчисленных морян и частых сырых туманов.
Ильинична остановилась и, помахав узелком, позвала Бушлака:
— Поди-ка сюда, сынок! Совсем забыла...
К рыбачке вслед за Костей зашагал и Сенька.
Развязав узелок, Ильинична вынула из него конверт и, передавая Косте, попросила:
— Сходи, сынок, к Маланье Федоровне. Почитай ей. От Катюши это... Устала я очень. Скажи, вечером зайду и все выложу ей про дочку.
— От Катерины Егоровны письмо? — Костя в удивлении вертел в руках конверт.
Рыбачка заулыбалась, любовно оглядывая ловца.
— Тут и тебе и Маланье Федоровне — заодно... Катюша-то на заводе — сама хозяйка! Это она все устроила: и радио пустили по городской волне на Каспий, и в район бумажку повезли о помощи... Все она, все Катюша. — Ильинична пристально посмотрела на ловца. — Про тебя, может, не раз и не два спрашивала. Вот как!..
Взглянув на Сеньку, Костя сунул конверт в карман и бережно взял Ильиничну под локоть:
— Пойдем, маманя, провожу тебя.
Сенька повернул к ловцам, которые собрались у бударки незнакомца, уже приставшей к берегу.
Неведомый человек, спрыгнув с лодки и озорно посмеиваясь, громко спросил:
— Где тут Василий Сазан живет?
— А ты кто будешь? — полюбопытствовал Макар.
— Тебя это не касается! — развязно ответил человек. — Где Василий живет, спрашиваю?
— В относе он... — начал было Макар.
— Дом где его? — резко оборвал ловца приезжий. — Живет где он?
— Да в относе же, говорю, Василий...
— Ну и бестолочь! Дом, спрашиваю, его где?
Ловцы удивленно переглянулись, а Макар, нахмурясь, молча отошел в сторону.
Незнакомец глубже надвинул на лоб серую с длинным козырьком кепку, из-под которой торчали большие острые уши; заметив подходившего Сеньку, он пошел ему навстречу и, ухарски подмигнув, спросил:
— В котором тут доме Василий Сазан живет?
Кивнув на проулок, Сенька растерянно пробормотал:
— Направо от угла, третий... Желтый, два окна.
Приезжий быстро подался в поселок; Сенька успел только заметить его вертлявые зеленоватые глаза.
Ловцы заговорили разом: — Что это за птица?
— А сапожки-то, сапожки! Эх ты, маманя родная!
— И галифе по бокам, ровно бочонки, прилажены.
— Из района какой-нибудь!
— Нет, городской!
— И зачем ему спонадобился Васька?
Долго еще говорили ловцы, высказывая разные предположения о том, кем являлся приезжий и зачем прикатил в Островок...
Ильинична и Костя шли медленно, — пески в поселке глубокие, рыбачка круто опиралась на руку ловца.
— Спасибочко, сынок, спасибочко! Замучилась я с этой поездкой. Во-от спасибочко!.. — И ни с того ни с сего стала жаловаться на Василия: — Говорила ему, ка-ак говорила: возьми, возьми с собой, сынок, ладанку! Не гнушайся стародавнего дедовского свычая. Подвесь ладанку на грудь ко кресту, а на нем сам Христос распят... Сбережет тебя ладанка ото всех напастей, ото всяких бед... Еще дед наш с ней в море ходил и сам батька... Надежная ладанка!
Рыбачка остановилась и, расстегнув фуфайку, вынула из-за пазухи на шнурке крохотный розовый мешочек.
— Видал? — рыбачка, перекрестившись, осторожно приложилась к нему губами. — Велела я Васятке надеть эту пречистую, палестинскую... Как упрашивала захватить ладанку в море. А он — куда там! Насмехаться стал. Не взял, дурень, ладанку — вот и беда! А как говорила, как упрашивала! И старый мой тогда в останний раз выбег в море без нее, без пречистой. Вот и сгиб безо времени...
— Ладанкой не утихомиришь, маманя, море, — невесело заметил Костя.
Ильинична задумчиво посмотрела на ловца.
— Да-а, — огорченно протянула она, — оно такое, наше море...
Поддерживая под руку рыбачку, Костя все дожидался, что она снова заговорит о Катюше.
Но Ильинична молчала, продолжая с трудом передвигать разбитые ревматизмом ноги.
Костя наконец сам решил заговорить о своей землячке, однако начал издалека:
— А не видала ты случаем, маманя, в районе Андрей Палыча?
— Ой, как же! Совсем запамятовала... Видала, видала, сынок! Велел передать, что скоро воротится.
— А еще ничего не говорил?
— Нет, ничего, — Ильинична, еле переводя дух, остановилась. — Хватит, сынок. Я этим вот закоулком пройду. Спасибочко.
И только Костя решил спросить старую рыбачку о Катюше, как вдруг из соседнего двора ее громко позвал Цыган:
— Ильинишна!
Цыган подошел к камышовому забору и, слегка приподняв шапку, спросил:
— Узнала что про Ваську?
— Ох, нет...
— Так вот слушай. Я встретил под Маковом человека... — Цыган шагнул к калитке и предложил Ильиничне: — Да ты зайди к нам на минутку.
Впустив рыбачку во двор, он так же громко, словно в рупор, продолжал:
— Верно, слышала про четверых относных, что гурьевские тюленщики сняли? Так вот этот человек и говорит, — один, слышь, вашинский, из Островка. А кому, как не Ваське быть, я думаю...
Дальше Костя не слышал — Цыган с Ильиничной уже входили в сени.
Бушлак постоял у забора и, досадуя, что не успел подробнее расспросить рыбачку про Андрея Палыча, неторопливо зашагал дальше.
С той поры, как уехал Андрей Палыч в район, Костя не находил себе места; он спозаранок бродил по поселку и везде натыкался на предпутинную горячку. И стар и млад готовились к выходу на лов: чинили старые сети, метали новые, садили их на хребтины, дубили, конопатили и смолили посудины, латали паруса.
Повсюду висели сети: и во дворах, и в проулках, и на берегу, — казалось, весь Островок опутан тонкою паутиной.
Пахло прелью сетей и старой пряжи, жирно несло смолой.
Предпутинная спешка была в полном разгаре. А Костя все ожидал Андрея Палыча, — прошло уже много дней, как тот уехал в район.
Лешка-Матрос на уговоры Кости начать как-то самим подготовку, чтобы не пропустить начало путины, больше отмалчивался или мрачно, отрывисто отвечал:
— Подождем Андрей Палыча...
После гулянки с маячником он целые дни сидел один, запершись в своей мазанке, или же бродил где-то на задах Островка, возвращаясь домой только поздней ночью.
Свернув в проулок, Костя встретил шагавшего на берег угрюмого Лешку.
— Куда, Лексей?
Матрос остановился, о чем-то думая.
— Чего ж будем делать, а? — спросил его Костя.
Лешка сердито махнул рукой и снова зашагал на берег. Выйдя к протоку, он сумрачно посмотрел в сторону маяка, тяжко вздохнул... В самом деле, какая это глупая история с Максимом Егорычем! Лешка даже был там, на маяке, снова гулял со стариком, потом поскандалил с Дмитрием. Весь поселок говорил об этом.
«Нескладно получилось, — думал он, — и с гулянкой и с Митрием. Нехорошо, совсем нехорошо!..»
Он жестоко корил себя, раскаивался. На душе у него было очень тяжело. А тут еще Андрей Палыч не возвращался из района — уехал и как в воду канул!
— Эх-эх!.. — Лешка в отчаянии покачал головой и зашагал дальше, вдоль берега, заложив руки за спину, согнувшись.
«И что сталось с дядькой? — вновь и вновь думал Костя об Андрее Палыче, направляясь к Маланье Федоровне с письмом от Катюши. — Чего не едет? Дали ему кредит или только посулили? И с артелью ничего неизвестно. Чего торчит там?.. И лошадь прислал обратно. Тут путина, а он... Ведь море не ждет!»
Он приостановился и безотрадно посмотрел на берег. Там вразнобой шумели ловцы, перекликаясь с посудин, что стояли уже на приколе в проглеях; на посудинах вздергивали на проверку паруса, гремели шестами, баграми... В нескольких местах дымились топки под огромными черными котлами; в котлах дубили сети. Из топок валил коричневый дым и, поднимаясь вверх, стоял прямо, будто дюжие мачты морских судов.
А дальше — в лиловом от распаления льдов чаду — по протоку, едва сдерживаемому пухлым, ноздреватым льдом, продолжали проворно сновать на куласах речные ловцы...
Поровнявшись с домом Маланьи Федоровны, Костя постучал в кривое, с двумя только стеклышками оконце и, не дожидаясь ответа, направился к крыльцу.
В сенях никого не было. Костя осторожно стукнул в дверь горницы.
— Тетка Малаша!.. — Он приоткрыл дверь и еще громче позвал: — А, тетка Малаша!
Костя вошел в горницу.
В горнице была полутемь. Из трех окон два были наглухо заколочены, и в редкие щели их пробивались полоски света, словно кто-то натянул тонкие серые хребтины для посадки сетей. Третье окно у переднего угла имело шесть створок в раме, четыре из которых забиты дощечками, картоном и заткнуты тряпками, и только две створки — в мутных стеклышках. Через них вливался в горницу полусвет, выделяя бревенчатый угол, где, вместо икон, висели фотографии, ниже стоял маленький, с круглой покрышкой столик.
Костя разглядел в противоположном углу лежавшую на кровати старую рыбачку.
— Тетка Малаша!
Осторожно ступая по скрипучим половицам, будто по мелким льдинам, что уходили под ногами, ловец подошел к кровати. Тетка Малаша дремала; ее закрытые веки слегка приподнимались, глаза сверкали фосфорическим блеском.
— Тетя! — Костя тронул ее за плечо.
— Кто тут? Кто?..
Через минуту рыбачка стояла согнувшись и никак не могла поднять голову, чтобы рассмотреть ловца.
Годы скрючили тетку Малашу вдвое, словно надломили в пояснице: голова ее свисала почти до колен, а руки болтались у самого пола.
— Кто тут? — опять зашептала она, стараясь разогнуть спину.
— Да я — Костя...
Упираясь руками в бедра, тетка кряхтела и, выпрямляясь, надвигалась на ловца. У старой рыбачки — сизые, мутные глаза и большой, горбылем, нос; голова ее — белая, седая — тряслась. Долго и пристально смотрела тетка на Бушлака: она быстро, жадно дышала, как пойманная рыба.
— А взаправду, кажись, Костя, — зачмокала тетка маленьким беззубым ртом.
Все упираясь руками в бедра, она вразвалку, точно подшибленная гусыня, прошла к изголовью кровати, и когда начала шарить под подушкой, верхняя часть ее туловища беспомощно свисла.
Вытащив очки и нацепив их на нос, тетка, кряхтя, снова долго выпрямлялась, словно на спину ей взвалили тяжелую кладь. Потом она опять подошла вплотную к ловцу и, пристально оглядев его, удовлетворенно прошептала:
— Костя и есть... — и бережно погладила Бушлака по плечу. — Ну, пойдем в мой родной уголок. Там и посидим, поговорим.
Грузно переваливаясь с боку на бок, тетка зашаркала в передний угол. Вслед за ней Костя прошел к маленькому круглому столику и опустился на табурет.
— Чего скажешь, родненький? — она уселась против ловца.
Уже много лет говорила рыбачка шепотом, сухим и звучным.
— Письмо тебе из города, от Катерины Егоровны.
— Неужели правда? — обрадованно воскликнула тетка.
— Ага! — и ловец протянул старой рыбачке конверт.
Она поспешно замахала руками:
— Читай давай! Читай!
Костя разорвал с краю конверт, вынул из него пачку бумажек и бережно развернул их; несколько страничек было сложено вчетверо, с жирной надписью: «Для К. И. Бушлака».
«Ага! — радостно подумал Костя. — Это мне».
— А это — пять червонцев, — сказал он. — Держи, тетя, подарок от дочки!
Рыбачка снова заторопила ловца, сердито бросая хрустящие бумажки на столик:
— Читай, тебе говорю! — и, отложив за ухо платок, приготовилась слушать.
«Дорогая моя мамашенька Маланья Федоровна!
Была у меня в гостях Ильинична. Рассказала она мне, что ты совсем постарела, часто прихварываешь, и разболелось у меня сердце, и потянуло в родной Островок.
Собираюсь я, дорогая моя, скоро приехать к тебе. Да и случай подходящий, кажется, подвертывается, а то ведь все завод и завод...
Не была я в Островке уже четыре года и тебя ее видала давно — с двадцать восьмого не приезжаешь ты ко мне! Да и по могилкам батяши да Васи соскучилась.
Купила я еще стекла для рамок под портреты, но с Ильиничной не передала, побоялась, как бы она не разбила их».
Костя посмотрел поверх письма на тетку, — глаза ее были недвижно устремлены на фотографии.
На стене в один ряд висели четыре слегка порыжелых портрета в черных незастекленных рамках. На снимках отчетливо выделялись крупные, мужественные фигуры ловцов: одни — снятые по пояс, другие — во весь рост; все они составляли погибшую в гражданской войне семью тетки: муж, два сына и зять.
Напротив, на другой стене угла, висели один над другим еще два портрета — в светлых, из ракушек, рамках, — они представляли остатки семьи тетки: верхний снимок изображал круглолицую, статную дочь Катюшу, а нижний — невестку, жену старшего сына, худенькую и остроносую Клаву.
Бушлак снова посмотрел на оцепеневшую тетку, громко кашлянул, но она продолжала молча глядеть на фотографии. Костя догадался: тетка впала в глубокое забытье и, должно быть, сейчас, как это часто с ней бывает, созерцала видения погибшей своей семьи.
Она беспамятно беседовала с мужем, повешенным белыми, с убитым под Самарой сыном Алешей, зарубленным казаками зятем Васей, расстрелянным уральцами сыном Колей.
Тетка до точности воспроизводила картины их гибели: одни — виденные ею самой, а другие — восстановленные по рассказам очевидцев.
Быть может, для тетки Малаши ловцы на этих порыжелых снимках оживали. Быть может, стена дома, на которой висели портреты, неслышно отступала, а за нею вдали развертывались чадные от суховея степные фронты или плыли протоки и ерики с партизанскими заставами ловцов... Из тех туманов, должно, являлась черная посудина, мачту которой белые приспособили под виселицу; она медленно плыла с повешенными от поселка к поселку... Неожиданно из ильменей выбегал партизанский баркас с грозным названием «Моряна», он, как шалый зюйд-ост, метался по протокам, обстреливал отряды белых казаков, поднимал на промыслах суматоху, забирал с собою ловцов...
В жутком оцепенении старая рыбачка просиживала в своем родном уголке по целым дням.
Бережно положив на столик письмо, Костя тихонько поднялся и на носках прошел к двери.
Вдруг тетка торопливо, жарко зашептала:
— А ты, Вася, не противься, не гордись... Послушай старую, родной...
Она поднялась с табурета и, согнутая почти до пола, медленно зашагала к печке; она шла и рукою хватала воздух, будто кого-то теребила за одежду.
— Не противься, Вася! — горячо повторяла рыбачка. — Не гордись, родной!
Сердце у Кости — прочное, охлестанное жгучими каспийскими штормами — дрогнуло, и он отшатнулся к стене.
«Да-да, так и было!» — подумал он.
Так же, как и сейчас, шла тетка в восемнадцатом году за своим зятем Василием, мужем Катюши, — его вели из этого же дома на берег наскочившие на Островок казаки; она шла позади зятя и, теребя его за рубаху, шептала:
— Не противься, Вася... Скажи, что ты не знаешь, и отпустят. Не гордись, родной...
А Катюша в это время сидела в рыбном выходе, ее запрятали туда от казаков, как и всех других молодых рыбачек; у Катюши и Василия только что состоялась свадьба.
Казаки, что вели Василия, забегали во дворы и кричали, чтобы несли на берег муку, сахар, хлеб; хохоча, они шашками рубили кур, индюшек, уток.
Костя это хорошо помнит — тогда ему шел семнадцатый год. Василий только утром прикатил на куласе в Островок за продуктами для ловецкого партизанского отряда. Партизаны скрывались в ильменях, ожидая с часу на час оружия из города, — там еще с памятной зимы, когда ловцы ездили на помощь осажденным в крепости, власть была рабочая...
— Не гордись, родной, — шептала тетка, шагая за Василием и осторожно озираясь по сторонам.
На берегу шумно галдел отряд чубатых казаков.
Завидев пленника, с баркаса спрыгнул офицер и, подскочив к ловцу, остервенело закричал:
— Говори! Где шатия? Говори!!
Василий остановился и чуть внятно сказал:
— Не ори... Ничего не знаю...
Офицер нетерпеливо завертелся на каблуках.
— Что ты сказал? А? Что сказал?! — Он выхватил из ножен шашку, взмахнул ею перед глазами Василия. — Все знаю! Утром приехал ты за продовольствием. Говори, говори, где шатия?!
Было ясно: кто-то выдал зятя Маланьи Федоровны...
Василий стоял молча.
Обежав вокруг ловца, офицер пнул его в живот и снова заорал:
— Скажешь? Нет? Ну?! — и высоко вскинул шашку. — Ну?!
Василий попрежнему глухо ответил:
— Не знаю... Не ори...
— Врешь! — Неожиданно офицер, подпрыгнув, полоснул шашкой по ловцу, точно обдал огнем.
Голова Василия, сорвавшись, покатилась по песку, оставляя густой багровый след.
Тело его, недвижно простояв несколько секунд, вдруг замахало руками и двинулось на офицера; тот оторопел, выронил шашку и пригнулся, защищая лицо руками, в это время тело Василия покачнулось и упало на офицера.
Дико завыв, тетка Малаша повалилась на обезглавленного Василия...
Костя заспешил к двери и, распахнув ее, посмотрел назад: Маланья Федоровна билась на полу и глухо стонала. Костя выскочил во двор и только здесь, глотнув острого морского воздуха, сообразил, что надо сбегать домой и послать мать отхаживать тетку Малашу. Быстро свернув в проулок, он подошел к выкрашенному охрой домику и постучал в окно:
— Маманя, маманя!
Показалась скуластая, с узкими щелками глаз, Татьяна Яковлевна.
— Сходи к тетке Малаше! Опять ей плохо!
Мать согласно кивнула головой и приветливо заулыбалась:
— Сынок! Зина у нас. Заходи в горницу!..
Костя медленно зашагал обратно на берег, и только теперь смог прочесть письмо, присланное ему дочерью Маланьи Федоровны:
«Многоуважаемый Константин Иваныч!
Письмо ваше о плохом здоровье моей мамашеньки Ильинична мне передала.
Очень благодарю за хлопоты. Гостившая у меня Ильинична рассказала, как вы с Татьяной Яковлевной каждодневно заботитесь о моей дорогой. Я, вероятно, скоро буду в ваших краях. Вот и свидимся, значит, и поговорим. А еще хочется мне отблагодарить вас с Татьяной Яковлевной за хлопоты, но как и чем — не приложу ума...
Рассказала мне Ильинична и о том, что у вас в Островке до сих пор все по-старому — и артели нет, и верховодят рыбники — дойкины да краснощековы. Как же это так получается, Константин Иваныч? Разве вы не знаете, что творится в городе и по всей стране?! Хотя Зубов ваш — Алексей Захарыч — молодец! Крепко написал он. Очень крепко! Но одного этого мало. Надо биться за новую жизнь, Константин Иванович. Бороться за нее надо! Помните, как боролись тогда — в самом начале...»
Костя взволнованно перебирал в руках странички Катюшиного письма, и перед ним, словно из тумана, всплывали картины прошлого.
Тогда, после расправы офицера над Василием, казаки бросились грабить ловецкие дома... К вечеру, набив с верхом баркас одеждой, мукой, швейными машинами, казаки покинули Островок.
В этот же вечер Катюша, прихватив с собой Костю, покатила на бударке искать партизан, чтобы передать им приготовленные погибшим мужем продукты.
Долго петляли они по непролазным ильменям — бесконечным приморским озерам, забитым вековой камышовой крепью. А сколько избороздили они ериков, протоков! Только под утро напали они на след партизан. Передав им продукты, Катюша и Костя решили пробираться обратно в Островок, но командир оставил их в отряде. Вместе с партизанами они чуть ли не все лето провели в набегах на казаков, перехватывая их баркасы, уничтожая заставы, пока не прибыл из города на помощь батальон Красной Армии, сообща с которым был быстро очищен от белых весь ловецкий район. Партизаны вернулись домой, приступили к добыче рыбы. А Катюша уехала работать реэалкой на дальний промысел. Нелегко было Косте расставаться с нею. За время совместной борьбы в партизанском отряде, когда они с Катюшей под видом мирных ловцов ездили в разведку, возили донесения в город, добывали продукты, подвергаясь опасностям, выручая друг друга, он крепко привязался к ней... Через полгода Катюша вернулась в поселок. Костя радостно встретил ее. Но вскоре она уехала работать в город. Костя затосковал. Он не знал тогда, испытывала ли то же самое Катюша. Не знал он этого и позже, не знал истинного отношения к нему Катюши и теперь, хотя виделись они много раз. Катюша иногда приезжала в поселок к матери, бывал и Костя в городе, заходил к землячке. Она всегда была рада встрече с ним. Они подолгу беседовали. Катюша рассказывала о работе консервного завода, он — о жизни поселка. И странное дело, ни разу не обмолвился он хотя бы единым словом про свои сокровенные, сердечные дела; раньше не обмолвился, вероятно, потому, что, будучи еще совсем пареньком, стеснялся и боялся, как бы не обиделась Катюша, позже — потому, что она, тоскуя, часто вспоминала своего погибшего Василия, а в последние годы — он и сам не знал, почему молчит, испытывая тягостную душевную муку. Да и Катюша, казалось, не давала ему повода к тому, чтобы решиться на признания, хотя и была с Костей всегда ласкова и предупредительна. Они несколько раз были в театре, в кино, ходили в музей. А когда долго не виделись, писали друг другу письма, но неизменной темой их было состояние здоровья Маланьи Федоровны. Костя иной раз, наедине с собой, припоминая до мельчайших подробностей встречи с Катюшей, догадывался, что вся беда заключается в его нерешительности. Он вспоминал теплый, ласкающий взгляд ее иссиня-черных глаз, вспоминал мягкий, певучий Катюшин голос, вспоминал и то, как она сдержанно-радостно встречала его, как наряжалась в лучшие платья, заботилась о нем. А когда он собирался уезжать в поселок, она, вдруг слегка огорчившись, быстро пожимала ему руку и спешила на завод. Последний раз Костя видел Катюшу в позапрошлом году. Она попрежнему жила одиноко...
— И чего я не расспросил Ильиничну как следует про Катюшу! — взволнованно сказал Костя, когда опомнился и увидел в руке странички Катюшиного письма.
Он только сейчас заметил, что стоит у забора дойкинского двора, словно кого-то поджидая.
— Чего это я...
Тревожно взглянув по сторонам — не смеется ли кто-нибудь над ним, — Костя сунул письмо в карман и, бережно ощупывая его, зашагал по тихой улочке к протоку.
В поселке притаилась пустынная тишина; ловцы, рыбачки и дети были на берегу, откуда доносились глухой говор, звяканье цепей, отдельные выкрики.
Чувство гнетущей раздвоенности охватило Костю. Незадача с подготовкой к путине тяготила его, и он с тревогой ожидал возвращения Андрея Палыча. Письмо же Катюши приятно волновало его, рождало радостные мысли о встрече с ней, в то же время письмо заставляло его думать о том, о чем говорил недавно Лешка, — о борьбе с рыбниками.
Но видя, как на берегу копошатся ловцы, готовясь к выходу в море, Костя снова задумчиво оглядывал Сазаний проток, по которому вот-вот должен был возвратиться из района Андрей Палыч... И опять возникало перед ним письмо Катюши, и с еще большей силой его охватывало волнение. Увидев же, как иной ловец с ворохом сетей на плечах спешил на берег, Костя, будто просыпаясь, снова думал о путине, об Андрее Палыче, о Лешке. А зажатые в руке странички Катюшиного письма упорно возвращали к мыслям о ней...
Под конец эти мысли овладели им окончательно; и, не замечая того, как не замечает иногда ловец, когда опустит весла, чтобы подымить махоркой, и лодка сама скользит по течению, — Костя задумчиво шагал к широко разбросанным камышовым шишам.
Когда проходил он мимо последнего двора, его кто-то громко окликнул:
— Ко-остя!
От мазанки, что стояла на самом краю поселка, отделился Антон и неторопливо пошел навстречу Косте.
— Мое почтенье, Костя!
Они пожали друг другу руки.
— Как жинка? — спросил Бушлак.
— Не спрашивай! — Антон безнадежно махнул рукой. — Никак не помереть ей... Лежит, а не помирает. Ты знаешь, хотел я... Думалось, с весны сам буду хозяевать. А ей все молочка да яичек, того да сего... Бабку-то Анюту не захотела. По зарез, видишь ли, спонадобился ей доктор. И он тоже под ее дудочку — кормить, слышь, побольше жинку надо. Она и пошла пуще прежнего: «Молочка, яичек»... А всему виной Митрий Казак. Заходил он как-то ко мне, говорили об артели. Ну, и насказал жинке: доктор, дескать, вылечит непременно, а бабка Анюта в могилу угонит...
Антон помолчал, громко вздохнул.
— Сполна мне теперь и не справиться. Порастранжирил я деньжата. А она все свое... После доктора-то, знаешь, вроде и на самом деле полегчало ей. Даже сама с постели начала подыматься. И харчи разные откуда-то в достатке появились, — говорит, добрые люди дают. А мне что — пусть дают!.. Мне бы только еще сотнягу-полторы достать — и баста! Сам хозяин!
Он мечтательно улыбнулся, но тут же посуровел, нахмурился.
— А где же достанешь-то?.. И сойтись ежели — не найти мне подходящего ловца. У вас вот с Андрей Палычем и Лешкой своя компания, да и то теперь, кажется, дело обернулось решкой — после шургана-то!
Антон тоскливо посмотрел вдоль улочки: в конце ее виднелся засиненный край протока. Оттуда доносились отзвуки предпутинной суеты: стук топоров, грохот шестов, приглушенные голоса.
— Ну, а Андрей Палыч как? — наконец, после долгого раздумья спросил Антон.
— Ожидаем со дня на день, с часу на час.
— А мне, видно, опять к Алексею Фаддеичу придется... — Антон задумался.
— Обожди! Андрей Палыч вот-вот заявится.
— А чего ждать-то?
— Артель будем организовывать!
— Артель?.. — Антон недоверчиво покосился на Костю, подумал. — Посмотрим... — и, приподняв на прощанье шапку, вразвалку поплелся на берег протока.
Глава вторая
На песчаном пологом берегу было людно и шумно.
К морским посудинам продолжали свозить сети, бочонки с пресной водой, канаты, паруса, ребятишки наперегонки несли шесты, багры, мачты.
Громко звякали якорные цепи, заглушая ловецкую перекличку на судах. Около реюшки Василия Безверхова толпился народ; реюшка была новая и рыжая— смола не успела еще зачадить ее.
Ловцы завистливо осматривали морскую лодчонку.
— Хороша реюшка! — говорили они.
Хлопали по бортам, старались заглянуть внутрь.
— Хороша!
Поочередно приподымали корму.
— Легка, что птаха!
А Василий Безверхов, хозяин реюшки, такой же рыжий и рябой, как и его новая посудина, не обращая снимания на ловцов, кичливо покрикивал на Тупоноса:
— Павло! Пошли-поехали!
Беспомощно свесив длинные, словно весла, руки, Павло Тупонос прислонился к мачте и задумчиво поглядывал на берег — в стороне от толпы стояли его Ольга и двое ребят.
Не раз порывался он сойти с реюшки, но Ольга решительно качала головой и, указывая глазами на ребят, осторожно, чтобы никто не заметил, грозилась пальцем, словно говорила: «Нельзя! Видишь ребят? Им есть надо. Непременно ты должен идти в море!»
Ольга, маленькая женщина, похожая на девочку, боялась, как бы Павло не раздумал выходить на лов.
«Он ведь такой! — недовольно думала она о муже. — Найдет на него, как в холодину спячка на рыбье царство. Будет дома дрыхнуть да махрой чадить, песни тянуть... А я работай, корми ребят и его...»
— Павло! Пошли-поехали! — снова закричал Василий Безверхов.
Сдвинув корму реюшки с берега, он повернулся к жене и строго сказал:
— Прощай, Лена!
Рыбачка, убрав руки под синий, с белыми горошинками фартук, пристально посмотрела на мужа.
— Прощай, Вася! — И, спохватившись, тихо сказала. — Обождал бы немного. Ни один еще человек не выбег в море. Обождал бы... Скоро краснощековские, дойкинские пойдут и еще, может, кто. Тогда б и ты с ними. А то, вон... — и, замигав карими, кроткими глазами, рыбачка шепотом закончила: — Васьки-то Сазана нету...
Сдвинув на затылок шапку и взглянув на ловцов, Василий хвастливо ответил на уговоры жены:
— Что ж, по-твоему, у моря сиди да погоды жди?
Вспрыгнув на корму реюшки, он опять важно прикрикнул на Тупоноса:
— Пошли-поехали!
Мимо брел дедушка Ваня; он вернулся с рыбоприемки и теперь, нагруженный веслами и шестами, направлялся к своей мазанке.
Заслышав голос Безверхова, древний дед призадержался, уставясь на ловцов глубокими глазными ямками.
— Жидковато, ребятки, теплынь идет, — сердито сказал он. — Рановато еще в море выбегать... — Спустив с плеча весла и шесты на землю, дед выставил руку вперед, словно пощупал пальцами воздух. — И солнышко будто греет, а теплыни нет. Вот оно что, ребятки! Стыли много, — отзимок может случиться. Да и отродясь в эдакую рань люди не выходили в море. — Слепой ловец снял шапку и отер ею лицо. — И чайка пришла рано...
Над протоком носились белокрылые чайки, — они стремительно падали в проглеи, на лед и, мгновенно вырываясь оттуда, стрелою взлетали ввысь и опять неугомонно кружили над протоком.
Чайки пронзительно и беспрестанно кричали.
Взбросив на плечи весла и шесты, дедушка Ваня двинулся домой, недовольно повторяя на ходу:
— Опаска большая сейчас в море выбегать... Отзимок может хлынуть...
Елена забеспокоилась, окликнула мужа:
— Вася, переждал бы денек-другой!
Внезапно с реюшки шумно спрыгнул на берег Павло Тупонос; в руке у него болтался мешок с припасами.
— Ты куда? — спросил его удивленный Василий.
Вскинув мешок за плечи, Павло беспечно сказал:
— Домой пошел-поехал.
Василий, потрясая шестом, сердито закричал:
— Ты чего? Шутишь?!.. В море надо! И четвертную взял!..
Павло неторопливо ответил:
— Заработаю — и отдам, — и, сплюнув, направился к жене.
Ольга, закрыв лицо руками от стыда, громко зарыдала и повернула в поселок; ребята, заголосив, побежали следом за матерью.
— Вот скандальная баба! — Павло в нерешительности остановился и, не зная, то ли идти ему домой, то ли возвращаться на реюшку, с тревогой посмотрел на проток, где синели и вспухали под солнцем льды.
Нахлобучив на глаза шапку, он быстро зашагал в поселок.
— Куда?! — снова закричал Василий.
Усмехаясь, ловцы свертывали цыгарки.
— Лодырь царя небесного! — кричал вдогонку Тупоносу Василий. — Лодырь!..
Макар поучительно сказал Безверхову, попыхивая цыгаркой:
— А чего ты с ним спутался? Знаешь, что это за рыбеха! — и крепко выругался.
Он, казалось, до самых костей был просолен: вся одежда его заскорузла, обросла рыбьей чешуей, пропиталась солью.
Сердито взмахнув рукой, Василий крикнул жене:
— Беги за Сенькой! Скажи, чтобы живо собирался! — и, обращаясь к ловцам, с досадой добавил: — Думал ведь о Сеньке, а вот поди ж ты — этого лежебоку взял.
Спрыгивая на берег, он прокричал вслед жене:
— Скорей, Лена! Скорей!.. — и, присев на корточки, начал скручивать цыгарку.
Туже затягивая на шее платок, Елена поспешно шагала в поселок.
Ловцы опустились в кружок около Василия; некоторое время они молча дымили махоркой.
Макар медленно поднял сплошь заросшее рыжими волосами лицо; блеснув изумленными, навыкате, глазами, он сплюнул в ладонь и в ней затушил окурок, потом потер ладонь о ладонь и, очистив их от пепла, спросил Безверхова:
— Не знаешь, что это за прыщ прикатил на бударке? К Ваське Сазану, слышь. А Васька-то в относе.
— Не видал такого. А когда прикатил-то?
— Да вчера или позавчера. В сапожках эдаких. Городской!..
— Может, родня какая, — и Василий, привстав с корточек, опустился на одно колено.
В это время пахнуло крепким ледяным норд-остом.
Все настороженно переглянулись. Макар глухо сказал:
— Пожалуй, дедушка Ваня правду говорил: ударит отзимок, вернется еще к нам зима.
— Оно того... похоже на то, — подтвердил широкоплечий, могучий ловец и быстро перекрестился: — С нами бог...
Вдруг кто-то громко выкрикнул:
— А с нами власть Советов!!
Ловцы оглянулись, — к ним подходил Лешка-Матрос и, как всегда, широко улыбался. Бескозырка у него была лихо заломлена на затылок. После рассказа Кости о письме Катюши он вновь повеселел, принарядился.
— Здорово, ловцы! — задорно сказал он.
Опускаясь в кружок к ловцам, Матрос поочередно оглядел их и спросил:
— Ну? О чем дебаты ведете?
Все оживились — одни, улыбаясь, друг другу подмигивали, иные заново скручивали цыгарки, третьи усаживались попрочнее, ожидая, что Лешка подробно расскажет про драку с Дмитрием Казаком и про события на маяке.
— Так о чем же совет-то ведете? А? — У Матроса восторженно сияло лицо.
Макар язвительно сказал:
— Толкуем о твоей женитьбе — скоро ли на свадьбу позовешь...
Сразу наступило, тягостное, напряженное молчание.
Все слышали про Лешкину историю с Максимом Егорычем и Глушей, и многим, как и Макару-Контрику, хотелось подробно разузнать, чем же все это кончилось.
Но с Лешкой шутки плохи: вгорячах он может выкинуть такое, что потом и не расхлебаешь...
Лицо Матроса посуровело, всегдашнюю улыбку его словно сдунула моряна, губы задрожали. Глянув исподлобья на Макара, он угрожающе приподнялся:
— Все брешешь? Неймется?
Быстро сообразив, что Лешка не намерен рассказывать о себе, Макар заискивающе засмеялся:
— Брось, Лексей Захарыч! — и дружески похлопал его по плечу.
— То-то! — удовлетворенный, Матрос снова засиял улыбкой, опускаясь на песок. — О чем же вы тут прения-то вели?
— О погоде гадаем, Лексей. Дедушка Ваня отзимок предсказывает, — сообщил Макар.
Василий Безверхов не вытерпел:
— Чепуху дедушка порет! Стар он, и мозга у него высохла! Придет Сенька, и я в море выбегаю!
— А ты постой! — перебил Лешка. — Дедок Ваня погоду ладно примечает. На то и жил он целый век, а может, и полтора.
— Все одно, сейчас же в море выбегу — и, вскочив, Безверхов быстро прошел к своей реюшке.
— Брось хорохориться, Вася! — Лешка поправил бескозырку и подмигнул ловцам: — Сядь-ка вот с нами да расскажи, как это ты реюшку зачалил? Горбом своим? Или Дойкин сосватал? А может, Коржак наградил?
— Да-да! — привскочил как ужаленный Макар. — Расскажи-ка вот нам!
Василий вызывающе бросил:
— Кредитка справила!
— Креди-итка! — задыхаясь, вскричал Макар. — А почему нам не справила? Чем мы хуже тебя? И ты ловец, и мы ловцы. Только ты член правления, и все тут. Почему, спрашиваю, нам кредитка не справила?
Поднявшись, Макар шагнул к Василию:
— Давай нам ответ! Почему так? Тебе есть кредит, а нам нет? Сказывай!
— Правильно! — поддержал Макара Матрос. — Держи, правленец, ответ!
Ловцы наперебой заговорили:
— Дай ему жару, Макар!
— Почему такое с кредитами?
— Выкладывай, Васька, ответ!
Все двинулись к Безверхову, громко ругаясь, размахивая руками.
А Макар уже кружился подле него и неистово кричал:
— Почему, спрашиваю, кредитка нам не справила? А? Почему?
Отстраняя наседающего Макара, Василий важно, подчеркнуто разъяснил:
— Кредиты возвращать ко времени надо! Кто в срок не воротил, тому и нет ни шиша! Да еще и описать могут...
— Стращать?! — взвизгнул Макар и схватил Василия за руку. — Кого описать? Чего описать?
— Тряхни, тряхни его, Макарка!.. — закричали ловцы. — Ишь, чего выдумал, — стращать нас... Мы тебе опишем! — И плотно обступили Безверхова.
Лешка насторожился, надвинув на лоб бескозырку, он бросился к толпе.
— Кончал базар! — и, расталкивая ловцов, стал пробиваться к реюшке.
Притиснув Василия к корме посудины, ловцы кричали, грозились.
— Хватит, говорю! — Лешка рванул одного ловца за ворот, другого за рукав. — Кончал базар!..
На шум спешили к реюшке Василия ловцы, рыбачки, дети.
— Чего там?
— Бьют!
— Кого? Кто?
— Макарка там!..
А Макар, выхватив из кармана потрепанную, измочаленную газету, которую всегда носил при себе, и, потрясая ею, не переставал кричать:
— Всё себе хапаете, а нас газетками угощаете!.. Кредиты-де маломощникам, бессбруйникам... А где они, эти кредиты-то? Где?.. Реюшку себе справил! Да дойкины с коржаками!.. А нам?.. Правленец!.. Власть тоже!..
— Контра! Ш-ша! — оборвал Макара Матрос. — Власть ругать?! Ваську ругай, а власть не трожь! Понял? Знаешь, чем добыта она?
И Лешка, показав глазами на свою покалеченную ногу, грозно шагнул к Макару.
Тот отступил и примиряюще сказал, искоса поглядывая на Матроса:
— Да я так, Лексей. К слову пришлось... Обидно или нет! Тут на лов выбегать надо, а сетки нету. Толкнулся в кредитку — отказ. Прошлым летом я у них на бударку взял. А он, слышал ты, чего сказал? Описать могут!.. Да ты прежде дай мне на сетки, и я путину встречу как надо. Тогда можешь получить обратно и прежние деньги, и те, что на сетки дадите. А то — описать! Как же это так?
— А так, — неожиданно вставил один из ловцов. — Шукнёт Васька Дойкину, а тот Коржаку, а Коржак-то — главный заправила в этой самой кредитке, — и опишут. Помнишь, как у Тупоноса?
— Теперь не опишут! — уверенно заявил Лешка. — Довольно! В городе-то их описали, а не нас!
— Оно так, — охотно согласился ловец.
— А ловить-то, — поспешно вставил Макар, — штанами приходится! — и стал аккуратно складывать вконец растрепанную газету.
— Ты бы хоть газету-то сменил, а то вроде как мочало она у тебя, — усмехаясь, заметил Лешка и, подумав, серьезно добавил: — За свежей, что ли, в район съездил бы. Может, новости какие...
Макар сунул газету в карман и молча отошел в сторону.
Василий, стоя задом к корме реюшки, оправлял телогрейку, — ее чуть не порвали ловцы.
— Ну, правленец, что скажешь? — и Лешка вплотную подошел к Безверхову.
— И чего бучу затеял? — уже без гонора и с упреком сказал Василий, влезая на реюшку.
— А чтобы злее ты был! — и, сдвинув бескозырку на затылок, Матрос стал поучать Безверхова: — Она, злоба-то, брат, штука важнецкая. Вспомни-ка гражданскую... Были злы на цареву жизнь — и без промаха били разных гадюк. Понял, злоба-то, какая штука, а?.. Вот и хочу, чтобы ты, щучий твой нос, злее был! Поменьше бы заглядывал в рот Дойкину да побольше беспокойства имел бы о ловцах. О Макаре вот — без сетей он. Сам-то ты на лов идешь, а он что будет делать? Мотней трясти?.. Андрей Палычу должен был помочь — об артели он старается. Понял?.. На кой тяп и в правлении ты этом самом сидишь! Не для того же, чтобы кумом ты стал Коржаку!
Ловцы дружно подхватили:
— Ай да Лексей!
— Отчитал!
— Молодчага!..
К реюшке подходили все новые и новые ловцы.
В стороне остановились Дмитрий Казак и Антон. Они молча рассматривали новенькую посудину Василия.
— Ладную реюшку Безверхое справил, — завистливо проронил наконец Антон, продолжая угрюмо поглядывать на морскую лодку.
Дмитрий с обидой подумал:
«Да, сумел Васька... А я?..» — и Казаку опять припомнился недавний относ.
Совсем было поднялся Дмитрий на ноги — триста целковых у них с Василием Сазаном за Дойкиным значилось. И вдруг этот проклятый относ! Дойкин ни копейки не выплатил Дмитрию, все вычел за угнанные относом оханы и прочую сбрую. Только и дал, что муки немного да сахару горсть, и то, говорит, это в счет будущих расчетов... А тут, как на грех, Рыжий еще околел, на котором Дмитрий с Василием в море выбегали. И записал ему Дойкин новый долг в семьдесят пять целковых... Василию-то Сазану что! Он не брал у Дойкина ни оханы, ни лошадь, ни тулупы. Все это за Дмитрием значилось. Да и плавает сейчас Василий где-то там по Каспию на льдине. А Дмитрий вот здесь, в Островке, — плати, отрабатывай долги!..
«Ну что ты скажешь?! Ну что ты будешь делать?!» — Дмитрий выругался, зашагал вдоль берега.
За ним поспешил Матрос.
— Эй! Постой! Постой!.. — Лешка приблизился к Дмитрию, добродушно приветствуя его: — Здорово, Митек!.. Ты извиняй за тот вечер...
Не отвечая, Казак двинулся дальше. Матрос, не отставая от него, снова окликнул:
— Постой, говорю!
Не обращая внимания на Лешку, Казак прибавил шаг.
— Оглох, что ли?! — и, рассерчав, Матрос рванул его за рукав.
Долго и пристально смотрели они друг другу в глаза: Дмитрий — огромный, прямой, как мачта, Лешка — кряжистый и сутулый.
Казалось, вот-вот схватятся они и завертятся по песку.
— Охота мне одно тебе сказать, — Лешка передохнул и решительно добавил: — Мотает тебя, как балберку!
Лицо его перестало излучать улыбку.
— Комсомол, а с рыбником путаешься, с этой гадюкой Дойкиным. Что это? Срамота! — и, задрожав, будто его внезапно хватила лихорадка, он зло продолжал: — Классу в тебе нету! Бросай Дойкина! Будем вместе с Андрей Палычем артель налаживать.
Косо глядя на Лешку, Дмитрий сквозь зубы чуть слышно процедил:
— Иди-ка ты!.. — и вновь зашагал вдоль берега.
Матрос гневно повторил вдогонку Казаку:
— Классу в тебе нету!.. С гадюкой путаешься!..
Дмитрий оглянулся и посмотрел на свои широкопалые, внушительные руки, похожие на добротные якоря.
«Мазану вот раз, — подумал он, — и все!»
Лешка шел смело, лицо его восхищенно светилось.
«Вот ведь какой!» — и Дмитрий отступил; круто повернув, он направился в сторону мазанки дедушки Вани.
А Лешка кричал уже о другом:
— На чужое добро позарился!.. Ключи захапал!.. Не выйдет!.. От этого не заживешь лучше!..
Глава третья
Дмитрий шел и думал:
«Как ни кинь, а все выходит клин... Неужели придется опять к Алексею Фаддеичу?..»
После возвращения с относа он ходил на подсчет к Дойкину, и, как предсказывал Максим Егорыч, все свелось к тому, что Дмитрий остался еще должен Алексею Фаддеичу.
Ему очень хотелось проверить все эти подсчеты, но озноб, который не покидал Дмитрия со времени ухода с маяка, под конец свалил его в постель, и он сильно занемог...
— Рыжий околел... Оханы бросили... тулупы... Какая тут проверка!.. — твердил он в бреду.
А теперь, припоминая наставления маячника о живоглотах, он снова захотел проверить дойкинские подсчеты.
«Но как проверишь? — рассуждал Дмитрий, шагая по поселку. — Скандалить же надо с Алексеем Фаддеичем! А потом куда? Как на лов потом?..»
Волновало его и то, что вот уже вторая неделя на исходе, как уехал Буркин в район, и до сих пор нет от него никаких вестей.
Собирались у Григория Ивановича и долго толковали об артели Сенька, Яшка и он, Дмитрий. Буркин поехал в районный комитет партии за помощью. А до него, оказывается, туда же укатил и Андрей Палыч.
Уехали — и пропали...
«И Глуши нет... — думал Дмитрий. — Неизвестно, что скажет и Максим Егорыч. Обещал ведь на другой день приехать с Глушей в Островок, а прошло уже, пожалуй, больше полмесяца... А Лешка все о ключах кричит. Дескать, Максим Егорыч требует ключи... Так ли это? Может, и так. От старика всего ожидай. Но и Лешка — мастак известный!..»
Эти мысли особенно беспокоили Дмитрия, заставляя его думать и думать об исходе нежданно подвалившего счастья, словно невиданный косяк рыбы. А счастье, как и косяк, привалив, может так же внезапно и скрыться... И Дмитрий, строя разные предположения, ни на одном из них не мог остановиться, терзаясь столь долгим отсутствием Глуши и старика.
«Чего же делать-то? — Он остановился, поглядел на берег, где в предпутинной спешке шумел народ, и повернул к Наталье Буркиной. — Может, она чего слышала о Григории Иваныче?»
Когда Дмитрий вошел в горницу, Наталья в одной рубахе, с оголенными руками и грудью, метнулась от стола за печку.
— Заходи, заходи, Митя, — виновато проговорила она, надевая кофту.
Дмитрий присел у окна.
— А я все тряпье свое латаю. — Наталья, одергивая юбку, прошла к столу. Несмело поглядывая на ловца, она убрала нитки, иголку и наперсток в жестяную коробочку.
Дмитрий молчал.
— И когда уж по-хорошему жить-то начнем?.. — Наталья опустилась на табуретку, стыдливо прикрывая руками серые, из брезента, заплаты на юбке.
— От Григория Иваныча никаких новостей? — Дмитрий посмотрел на ее узенькие, точно лодочки, ладони, что беспокойно скользили по коленям.
— Нету никаких, — рыбачка печально покачала головой, и смоляная прядь густых волос скользнула по ее овальному коричневому лицу. — Может, занемог там со своей рукой...
Быстро поправив волосы, Наталья снова положила ладони на брезентовые заплаты, которыми была часто усеяна, словно крупной чешуей, ее полинявшая, синяя когда-то юбка.
— Не знаю, чего и делать. — Дмитрий поднялся и неторопливо зашагал по горнице. — Люди на лов собираются, а мы всё ждем и ждем... А все этот Сенька! Говорил ведь ему: отработаем эту путину всяк по-своему, а потом уж и за артель примемся. Нет, все свое — давай, давай артель! Да и Григорий Иваныч то же самое...
Наталья молчаливо слушала ловца.
— Ну, ладно! — он вдруг сердито запахнул полушубок. — Я пошел!
— А как же, Митя, — забеспокоилась рыбачка, — артель-то? Григорий ведь такой человек, — она встала с табуретки и быстро прошла за стол, стараясь скрыть залатанную юбку, — раз взялся он за это дело, то непременно выполнит его.
— Посмотрим, — и Дмитрий направился к двери.
На улице было глухо и тоскливо; с берега доносились говор, звяканье цепей.
«И Григория Ивановича нету, — снова подумал Дмитрий, сворачивая в проулок. — И Максима Егорыча тоже. А ведь обещал кулас дать и сетку... — Неожиданно сердце его дрогнуло. — А может и так получиться: ни того, ни другого не дождешься и на лов ни к кому не успеешь пристроиться...»
Он поровнялся с домом Дойкина и, немного задержавшись у крыльца, решил зайти к Алексею Фаддеичу.
Осторожно приоткрыв калитку, опасаясь наскока свирепого Шайтана, Дмитрий заметил посреди двора на проволоке, по которой метался по ночам на цепи пес, вывешенные для просушки тулупы.
Ему сразу припомнился рассказ Глуши о тулупах, которые видела она в санях, когда встречала с моря застигнутых относом и шурганом ловцов.
«Неужели и мой тут, за который вычел Алексеи Фаддеич?» — И Дмитрий решительно распахнул калитку.
Шайтан мирно дремал, положив голову на лохматые лапы.
«Он и есть!» — чуть не вскрикнул от неожиданности Дмитрий, когда признал среди тулупов тот самый, что брал у Дойкина в море.
— Алексей Фаддеич!.. — закричал он сиплым, надорванным в относе голосом. — Алексей Фаддеич!..
Дойкин, заметив ловца, поспешно вышел из конюшни. Не дойдя до Дмитрия, он свернул к Шайтану и, пнув его носком сапога, отпрянул к забору:
— Чорт! Дрыхнешь все!..
Пес свирепо рявкнул, взбросился на задние лапы, но признав хозяина, замер и заскулил.
— Здорово, здорово, Казак! — и Дойкнн направился к ловцу. — Хвороба на тебя, что ли, напала какая? Чего ты такой худючий?
— Алексей Фаддеич! — взмолился Дмитрий, позабыв даже поздороваться. — Вот ведь!.. — Он кивнул в сторону тулупов. — Ворот-то с белым пятном! Тот и есть, что в вычет пошел.
— Чего городишь! — У Дойкина изогнулись вихрастые брови, до этого покойно лежавшие на могучих надбровных буграх.
— Как чего?! — Дмитрий затрясся в гневе, точно снова хватил его озноб.
— Постой, постой. Не горячись! Говори толком.
— Тулуп в вычет пошел, — лязгал зубами Дмитрий. — А он тут... висит вот...
— Может, ошибка какая, — и Дойкин, пожимая плечами, не спеша оглядел двор.
У сетевого амбара копошился казах.
— Шаграй!
Нахлобучивая шапку, казах поспешно подбежал к Дойкину.
— Тулупы были, Шаграй, в ихних санях?
Казах часто замигал узкими глазами.
— Мой не помнит, — и он растерянно развел руками.
— Да чего ты, Алексей Фаддеич! — Дмитрий вплотную подошел к тулупу, вскинул его полу. — Вот и латка на подоле. Сам ставил!
— Должно, Софка напутала, — согласился наконец Дойкин и стал ругать жену: — Ох, уж эти бабы! Говорил, не лезь куда не надо!..
Скосив глаза в сторону пса, он зло сказал что-то Шаграю по-казахски.
Казах кинулся к Шайтану и подхваченным с земли прутом стал нещадно наносить ему удары. Пес приглушенно зарычал и метнулся к забору, оттуда скакнул обратно, чуть не свалив Шаграя с ног.
— Ш-шорт! — кричал казах, гоняясь за Шайтаном и ожигая его прутом. — Спать надо минута, а караул давать целый сутка. Ш-шорт!
— Отойдем в сторону, — предложил Дмитрию Дойкин. — Пусть проучит, чорта! Хорошо вот ты зашел, когда он дрых, а то ведь шатается тут всякая шантрапа. Сопрут еще чего. Тот же и тулуп, а ты потом выясняй да моргай перед ловцом... Так его, так, Шаграй!..
И, следя за тем, как гоняется казах за псом, Дойкин подобрел.
— Во сколько ценили тулуп-то? — спросил он Дмитрия.
— В полсотню целковых.
— Ой ли?
— Алексей Фаддеич!..
— Ладно! Сниму полсотню с тебя.
— Вот и хорошо! — Дмитрий радостно опахнул руками запотевшее лицо.
А Дойкин, будто позабыв про ловца, продолжал кричать казаху:
— По башке его, Шаграй! По башке, чорта!
Грохоча проволокой, пес разъяренно метался от калитки в конец двора и под ударами казаха снова несся обратно.
— Шаграй! По башке!..
Взбрасываясь на задние лапы и хрипло рыча, Шайтан кидался на Шаграя, но тот, вооруженный колом, откидывал пса и снова гнал его из конца в конец двора.
Дмитрий осторожно тронул Дойкина за плечо:
— Алексей Фаддеич, раз все по-хорошему, хочу и в эту путину от тебя на лов идти.
— Согласен, — отозвался Дойкин, все увлекаясь муштровкой пса. — Как пойдешь? Пятым паем?
— Пятым, Алексей Фаддеич.
— Стало быть, собрать тебя совсем?
— Ага!
— Чтобы не было греха, помни паи: один твой, четыре мои... А то с этой заварухой в городе память у некоторых отшибло.
— Знаю, Алексей Фаддеич! Как не знать!
— Зайди вечером.
— Зайду!
— Значит, по рукам? — и Дойкин сунул Дмитрию свою белую, пухлую руку. — Оно, конечно, для закрепки, по старому-бывалому надо было богу рюмкой помолиться. Но какой там бог у комсомола!..
Он осклабился, безнадежно махнул рукой.
— А про Ваську Сазана ничего не слыхал? — Дойкин сразу посерьезнел.
— Дельного ничего, — глухо откликнулся Дмитрий. — Слухи только разные...
Из сеней показалась жена Дойкина — маленькая, тучная Софа.
— Шаграй! — воскликнула она. — Довольно тебе!
Но казах не слышал; сбросив шапку, он все гонял по двору Шайтана, с которого шматками летела шерсть. Исходя пеной, пес уже не гавкал, а только подвывал, стараясь нырнуть в конуру.
— Шаграй!..
— Чего орешь! — прикрикнул на жену Дойкин. — Не видишь, уму-разуму поучают божью тварь!
Слегка приподняв на прощанье шапку, Дмитрий двинулся к калитке. И когда вышел он со двора, Алексей Фаддеич приказал Софе:
— Пошли Антоновой Елене еще харчи.
— Опять... — возразила было Софа.
— Пошли, говорю!
Немного подумав, он спросил жену:
— Сколько раз посылала?
— Четыре, а всего уже — два пуда муки, фунтов пять масла да яиц с полсотни.
— Еще пошли пшеничной, да побольше. Масла ей побольше. Пусть выздоравливает! Не жалей, дурында, добра. Добро и родит добро... А я запишу Антону. Вот и опять он со мной. Поняла?..
Дмитрий проворно шагал домой. Он был доволен столь неожиданным и благополучным исходом разговора с Дойкиным.
«И тулуп с долгов снят, — легко думалось ему, — и на лов договорился... Останний раз выбегаю в море от Алексея Фаддеича. Останний!»
Ему припомнился вчерашний разговор с Сенькой и Яковом: порешили они, если в ближайшие дни не приедут из района Буркин и Андрей Палыч, выходить в море кто как может.
«Теперь бы только еще Сеньке упроситься к Захару Минаичу или к кому другому — и шабаш! Яшка-то как-нибудь сам соберется на лов. А воротимся с моря — и артель начнем собирать!»
Подняв с земли камышинку и помахивая ею, Дмитрий еще быстрее зашагал домой.
А со стороны двора Алексея Фаддеича все громыхала проволока и слышался жалобный вой Шайтана.
«Тулуп в полсотню ценился, — продолжал рассуждать Дмитрий. — А за Рыжего, что околел, мне семьдесят пять целковых записано. Ну, муки с сахаром на пятерку какую я взял. Вот и выходит, Алексею Фаддеичу я остаюсь должен всего-навсего четвертной билет...»
Дмитрий вспомнил, что уже давно не проверял свою сохранность, которая была запрятана в чулке матери.
Во время его болезни, после относа, мать брала из этой сохранности то на продукты, то на лекарство для сына, два раза нанимала подводу для поездки в район за доктором, — Дмитрий наотрез отказался от услуг бабки Анюты.
Когда он поднялся и подсчитал деньги, вместо полутораста целковых, оказалась только сотня с червонцем да пятерка.
После мать еще тратила на Дмитрия, а потом у сестры умер ребенок, мать давала взаймы дочери на похороны...
Теперь Дмитрий не знал, сколько же точно целковых хранится в чулке матери.
И он в тревоге распахнул калитку.
Во дворе сестра с мужем садили сети. Во всю длину двора были натянуты между шестами хребтины, — к ним ловец и рыбачка пришивали сети, быстро работая игличками с намотанной на них пряжей.
— Дома маманя? — спросил Дмитрий, поднимаясь на крыльцо.
Ни сестра, ни Егор не ответили; они торопились закончить посадку сетей, — к вечеру Егор должен был выйти на лов.
Дмитрий открыл дверь в сени.
— А ты ноги-то вытирай! — сердито крикнула сестра.
Мать сидела у окна и латала парус.
Пройдя к старухе, Дмитрий отшвырнул край полотнища под стол, намереваясь опуститься к ногам матери.
— Ой, чего ты, Митек? — встревожилась мать. — Чего ты, родной?
— Сохранность хочу проверить.
— Сейчас...
Старуха отстранила сына, нагнулась и вытащила из-за чулка сверток.
Дмитрий, громко дыша, развернул дрожащими руками над столом серый платок.
Заметив, что в окно могут подсмотреть со двора сестра и Егор, он сунул платок под фуфайку и направился к двери, торопливо говоря на ходу:
— Я к себе, маманя, пошел, там и проверю. А ты после зайди.
— Хорошо, хорошо, родной, — тихо откликнулась старуха и, вздохнув, нагнулась, чтобы поднять спущенный чулок.
Дмитрий прошел в конец двора и скрылся в своей мазанке.
Не раздеваясь, он развернул на столе платок и быстро пересчитал деньги.
— Вот так так! — и устало опустился на табуретку. — И сотни даже нету! Только шесть червонцев, две пятерки да целковый!
И долго тоскующим взглядом смотрел он на окно, — там, на камышовом заборе, ворона старательно чистила перья.
Глава четвертая
На берегу у столба с маленькой, игрушечной крышей, похожей на опрокинутый гробик, стоял, заложив руки за спину, Алексей Фаддеич; под гробиком висела почерневшая икона Николы-чудотворца.
Дойкин исподлобья следил за приготовлениями своего компаньона к выходу в море. Мироныч прытко скакал по посудинам, проверяя, все ли в порядке.
Алексей Фаддеич грузно переступал с ноги на ногу.
Пока только одну партию судов посылает он в эту весну на Каспий: стоечную — судно-стан, четыре подчалка — лодки, с которых идет добыча рыбы, и подбегную — для вывоза улова с моря.
Остальная флотилия — рыбница «Софа», баркас «Алексей», другая стоечная, около десятка подчалков и бударок — стоит без дела.
Не решается Алексей Фаддеич шире организовать лов, — очень тревожное нынче время! Прошлой осенью большая заваруха случилась в городе. Даже таких влиятельных воротил, как братья Солдатовы, имевших крупный, точно в старое, царское время, промысел в городе, — и тех тряхнули. Арестован и знаменитый на всю Нижнюю Волгу рыбозаготовитель Георгий Кузьмич.
Вначале Дойкин обрадовался этому аресту: долги Георгию Кузьмичу в пять тысяч целковых рухнули. А потом — и радость не в радость. Говорят, все рыбные палатки в городе закрыты и опечатаны...
«И что делается! Не поймешь!.. — Алексей Фаддеич тяжко вздохнул. —А тут еще газеты трещат о каких-то колхозах. Эдакое непостижимое идет по всей стране... Не поймешь, никак не поймешь, что творится!»
Он нетерпеливо вынул руки из кармана, пошаркал ладонь о ладонь.
Мимо проходили ловцы, здоровались с Алексеем Фаддеичем; одних он замечал, других не слышал, все размышляя о событиях в городе и стране.
Думы тяжко навалились на него, и в конце концов, не в силах понять всю сложность и необычность случившегося, он запутался в них, как рыба в сетях.
Ясно сознавал он только одно: беда, большая беда обрушилась на рыбников!
Дойкин сумрачно посмотрел на лик угодника, нарисованный на трухлявой, рассохшейся доске, что висела под крышей-гробиком; потом перевел взгляд на проток, — по нему все чаще и чаще выбегали из Островка посудины на добычу рыбы.
Видел он — мало кто из ловцов поднимал руку, чтобы перекреститься и поклониться Николе-чудотворцу, который испокон века почитался как верный и надежный покровитель ловецкого племени. Может, только два-три ловца из десяти украдкой от других или по привычке взмахивали руками с небрежно сложенными пальцами, косясь на столб, у которого недвижно стоял Алексей Фаддеич.
— Выходит вера из людей, — жарко зашептал он. — Или люди выходят из веры — не поймешь, беса не поймешь!..
И глядя на то, как собираются ловцы в море, Дойкин с тоской подумал:
«А как раньше-то, в бывалое время выходили на лов! Как тогда открывали путину! Любо смотреть — с молебном, с попом, с хором!..»
От радостного волнения у Алексея Фаддеича захватило дух, и перед ним открылась знакомая, любимая картина.
...Берег кишмя-кишит народом, точно невиданный косяк выбросился на отмель.
Дьякон, воздев руку с орарем в небо, громогласно восклицает, хор во множество голосов неудержимо орет, а пышноволосый отец Сергий в раззолоченной ризе важно шагает по морским и речным посудинам, кропит их и сети святой водой.
А потом — жирные обеды на берегу, под натянутыми на шестах парусами, сотни ведер пива и водки, гармошки, песни, пляски.
Помнится, один раз даже отец Сергий, задрав полы рясы, плясал камаринского, — тот самый отец Сергий, что когда-то священствовал в новой церкви, которую выстроил батька Дойкина, Фаддей, на новом, обширном промысле и назвал ее в честь сына именем Алексея божьего человека.
Дойкин взглянул на икону под крышей-гробиком и громко, встревоженно задышал.
Это он, Алексей Фаддеич, и старый Краснощеков на свои собственные деньги соорудили здесь в двадцать четвертом году сие деревянное подобие часовенки. А потом объявили сбор денег на сооружение в Островке настоящей, каменной часовни, а возможно, и небольшой церквушки. Дойкин ассигновал сотню целковых. Хорошо сделал, что только ассигновал, а не дал: не развернулось это дело. Ловцы, да и то лишь крепкие, вроде Турки и Цыгана, дали кто по трешнице, кто по пятерке, и ещё некоторые старики да старухи внесли свою жертву натурой: одни рыбой, другие николаевскими золотыми... Перепало и от таких городских нэпманов, как братья Солдатовы, — они охотно откликнулись. Старый Краснощеков, не желая отставать от Дойкина, тоже ассигновал сотню. Как-никак, а в общем набралось четыреста целковых да полсотни золотыми... Дойкин предусмотрительно не взял этих денег на хранение, а поручил их Краснощекову — мало ли что могло случиться. Как посмотрело бы еще на эту затею начальство! Тогда у Дойкина не было таких зацепок, какие имеются теперь и в сельсовете и даже в районе!..
«Старый псюга! — с ненавистью подумал Алексей Фаддеич о Краснощекове. — Прикарманил часовенные денежки и молчит!..»
— Алексею Фаддеичу!
Дойкин вздрогнул.
Перед ним стояла, кланяясь в пояс и сложа руки на груди, Полька-богомолка; вся она была черная — и лицо, и платок, и ряска. Полька когда-то обитала в городском Девичьем монастыре.
Закатив глаза, она вдруг запричитала, беспрестанно теребя ряску на груди и чем-то позванивая:
— А я к тебе, кормилец ты наш, просить за рабов божьих — за Савелия и Анастасию. Знаю, не оставишь ты их в нужде...
Польку и Дойкина окружили ребятишки, рыбачки и кое-кто из ловцов. Продолжая громко причитать, богомолка просила за Савелия, что прошлой осенью работал у Дойкина:
— Помоги, помоги, кормилец ты наш. Деткам его помоги, да и самой Анастасии тоже... Пошли им мучицы, а Христос не оставит милосердия твоего.
— А что Савелий? — стараясь быть участливым, спросил Дойкин. — Нога у него как?
— Не сегодня-завтра Савелий из больницы выпишется и в Островок заявится, кормилец ты наш. А нога его, слава богу, на поправку пошла! — Полька-богомолка низко поклонилась. — Не оставь рабов божьих и деток их. Не оставь, Алексей Фаддеич!
— Пойди к Софке, пусть пошлет пуд ржаной и пуд пшенишной, — и перевел взгляд на Наталью Буркину.
Она стояла позади ребятишек.
«Ка-акой добрый! — с умилением подумала Наталья о Дойкине. — А Григорий все ругает его».
И снова тоска по сытой, прочной жизни охватила Наталью, как и недавно, когда она вела мужа с холмов.
— Не оставит тебя Христос, кормилец ты наш, Алексей Фаддеич!.. — Полька-богомолка крестилась, и, когда кланялась, у нее что-то грузное лязгало под ряской.
Закинув руки назад, Дойкин строго сказал ей:
— Ступай!
Она мигом, по-рыбьи вынырнула из толпы; ребятишки бросились за ней.
— Полька-голька, крестик на цепи! — громко кричали они, стараясь нагнать ее.
Отбиваясь от ребятишек, богомолка распахнула ряску и, обхватив обеими руками большой деревянный крест, что висел у нее на якорной цепке, замахала им:
— Свят, свят, свят!..
Ребятишки, смеясь, не отставали. Тогда Полька, бряцая цепкой, поспешно скинула несколько кругов ее со своей шеи и, грозясь крестом, пошла на ребят.
— Да воскреснет бог и расточатся врази его! — вдруг визгливо запела она.
Рыбачки зашикали на ребятишек, стали отгонять их от богомолки. А она, повернув назад и надсаживаясь в песнопении, зашагала к своей землянке, которую называла кельей; соорудил ее для Польки на краю Островка Алексей Фаддеич.
К Дойкину подошел его суетливый компаньон Мироныч; разговаривая с ловцами, он еще издали наблюдал за Алексеем Фаддеичем и Полькой-богомолкой.
Ловцы прозвали Мироныча Щукой — он постоянно находился в суете, спешке; тонкая и длинная фигура его, извиваясь, напоминала рыбу. У него, кажется, всегда был флюс, — опухшая щека неизменно перевязана черным платком.
— Все готово, в порядке все, — сказал он Дойкину. — В море хоть сейчас. И проглеи — вон как раздались!..
Мироныч широко обвел рукою проток.
Глянув в сторону моря, он заметил, как у дальних берегов затрепыхали метелки камыша.
Дохнула моряна, и с Каспия потянуло терпкой солоноватой влагой. Солнце лучисто заискрилось в разводьях между льдов, словно золотые рыбины пошли поверх воды.
— Вот, видишь, и моряна потянула, — заторопился Мироныч. — Перейдет в штормяк — и не даст выйти, а то лед тронется.
— Рано еще в море, — твердо сказал Дойкин. — Посудины порежем!
Мироныч неопределенно пожал плечами:
— Оно известно... Зима может еще и вернуться... Хотя и в море вроде пора...
— Обождем!
— Можно и обождать, — согласился Мироныч, понимая опасения и тревогу Дойкина.
— Успеем...
Посмотрев по сторонам — нет ли кого поблизости, — Мироныч недовольно сказал:
— А ты чего расщедрился — два пуда Савелию отвешиваешь.
— Забыл разве?.. За Савелием три сотни значится. Пусть поправляется на здоровье!
— Та-ак... — Мироныч помолчал и кивнул на проток: — А мы как с приемкой?
Замысловато лавируя между льдинами, по проглеям бежали бударки и куласы: одни с уловом на рыбоприемку Госрыбтреста, что недавно появилась под тем берегом, другие со свежими менами сетей скрывались в дальних туманах.
Дойкин едва слышно проронил:
— Пока погодим и с приемкой.
Внутри у него дрожала обида, большая и жгучая; стараясь овладеть собой, он говорил прерывисто, волнуясь:
— Сегодня в район махну. Разузнаю, что там и как. Иван Митрофаныч-то в курсе всего: он в ладу с районным начальством. И в городе на днях был. Прошлый раз я ведь так и не дождался его...
— Здрасте! — к рыбникам подошла шустрая Анна Жидкова. — А я к вам насчет того-сего — работы. На тоню стряпуху надо будет?
—Не надо! — отмахнулся Мироныч.
— А я тебя не спрашиваю! — оборвала Анна. — Я к Алексею Фаддеичу.
И она лихо повела подчерненной бровью.
Искоса посмотрев на рыбачку, Дойкин сдержанно ухмыльнулся; он вспомнил, как рыбачки говорят о Жидковой: «Сетки не ставит, рыбу не ловит, а улов собирает».
— Или другую работу давай! — требовательно просила Жидкова. — Я да Настя Сазаниха, да Ольга Тупоносиха и еще Зимина хотим работать... — Вертя плечами, она безудержно говорила: — К Краснощекову просились, а он, жадюга, не берет. Боится, не поймаем мы ничего.
Дойкин с ухмылкой оглядывал незадачливую, сухую фигуру Анны, похожую на третьегодичную воблу-сушку.
Все ухмыляясь, он вдруг уронил с дрожью в голосе:
— Бабы, да не поймают, — у них подолы широкие! Погоди немного, Анка...
— Что, Щука?! — заносчиво и радостно воскликнула Жидкова.
А Дойкин быстро закончил:
— Скоро вот ловцы от путины богатеть зачнут, тогда и улов будешь собирать, Анка! — Он осклабился и шумно выдохнул: —Х-ха-ха-ха-а!..
Анна нахмурилась, покраснела.
— Зазналися! — вдруг взвизгнула она. — Все вы зазналися, и Краснощеков зазнался! Все!!
— Цыц, дура! — прикрикнул на нее Мироныч.
Анна не унималась:
— Погодите! Скоро и вас за жирный задок возьмут, как в городе взяли вашего брата! Да еще как возьмут!
У Дойкина пошли багровые пятна по лицу, появляясь то на щеке, то под глазом, то на лбу.
— Ну и дура, — уже мягче и покачивая головой, пытался урезонить Анну Мироныч.
— Сам дурак!..
На шум спешил Лешка-Матрос, громко выкрикивая на ходу:
— Молодец, Анна Сергеевна! Так их! Так!.. Мы им покажем!..
— Пошли! — Мироныч тронул за рукав Дойкина, и они зашагали к своим посудинам.
— Просилась я в стряпухи или еще куда, — и Жидкова кивнула в сторону уходивших хозяйчиков, — а они насмехаются... — и стала подробно рассказывать Лешке про ссору.
Анна уважала Матроса и даже любила его скрытно. Пожалуй, он был единственный в поселке, кто не насмехался над нею и говорил с ней как равный с равной.
Другие называли ее по-всякому, рассказывали про нее и то, чего сроду не было; Лешка же говорил с Анной учтиво и всегда называл ее по имени-отчеству.
— Не знаю, Лексей Захарыч, чего и делать, — говорила она, шагая рядом с Матросом и печально поглядывая на проток. — Хочу работать, а ничего не выходит.
— А зачем ты к ним пошла? — задумчиво спросил Лешка. — Знаешь ведь их!
— Куда же мне идти, Лексей Захарыч?..
— Артель, Анна Сергеевна, будет у нас скоро. Ожидаем вот только Андрей Палыча. — И Лешка, улыбаясь, показал глазами на хозяйчиков: — А поделом ты их шугнула. Молодец!..
Дойкин и Мироныч были уже около своих посудин. Заметив поодаль Василия Безверхова, недавнего своего сухопайщика, Алексей Фаддеич жестко окликнул его:
— Василий Ильич!
Когда подошел к нему Безверхов, он с упреком сказал:
— Как же это, Василий Ильич, допускаешь такое? Тебя ловцы чуть в проток не сбросили, слышал я.
— Лешка да Макарка все, — оправдываясь, начал было Безверхов.
— Бумажку накатай в сельсовет! — сурово перебил его Дойкин. — А лучше — в район! Жалобу подать на Лешку надо, на Макарку, да и на других! Это же покушение на члена правления — на государственного человека! Это все одно, что покушение на советскую власть! Чего доброго, еще и дальше пойдут. — Он скосил глаза в сторону Анны и Лешки. — Не дадим спуску!.. И воровство пошло — тот же Коляка. На чужое добро посягают. Честному человеку, выходит, нельзя трудиться. А депутат сельсовета молчит. Сейчас же строчи бумажку, да покрепче. А я к вечеру в район направлюсь, заодно и прихвачу. Да смотри, покрепче пиши, так и валяй: покушение, мол, на жизнь советской власти!.. Не забудь и про Жидкову черкнуть: воду, мол, мутит. Слышал, как орала? А главный зачинщик — Матрос! И об Андрее Палыче, как о депутате сельсовета, скажи — никакого, мол, порядка в поселке нету...
Безверхов все порывался уйти, нетерпеливо поглядывая на свою реюшку, вокруг которой толпились ловцы.
— Напишу... Сейчас напишу... Сейчас... — твердил он, то и дело оглядываясь. — С Леной пришлю.
— Ты чего это? — спросил его Дойкин, видя, как тот все беспокойно озирается вокруг.
— Сеньку никак не найду! Хочу его взять заместо Тупоноса... А вон и они!
Из поселка спешили Елена и Сенька.
Направляясь к реюшке, Безверхов весело закричал:
— Скорей, Сенька! Скорей!..
У посудины Василия попрежнему разноголосо шумели ловцы; тут же был и Лешка-Матрос, который, расставшись с Анной, снова пришел сюда.
— Добрая реюшка! — значительно сказал он, сдвигая на затылок бескозырку.
И снова, как в самом начале, ловцы принялись разглядывать посудину, хлопать по бортам. Примостившись на носу реюшки, Василий Безверхов быстро строчил бумажку, часто слюнявя карандаш.
Подбежал запыхавшийся Сенька и, растолкав ловцов, перебросил на посудину узел.
— Пошли-поехали! — не отрываясь от письма, крикнул ему Безверхов.
— Сию минуту, Василий Ильич, сию минуту...
— Ни одной минуты! — недовольно сказал Безверхов, поднимаясь и складывая исписанную с обеих сторон бумажку. — Пошли-поехали!
— Давай, давай! — Сенька кому-то махал рукой.
— Чего ты? — спросил его Василий, переходя на корму реюшки. — Ждешь кого?
— Зинка там бежит!
— А-а-а... — Василий усмехнулся, когда заметил дочку Андрея Палыча, что спешила из поселка на берег. — Только скорей, Сенька, прощайся!
Парень быстро пошел навстречу Зинаиде.
— Лена! — окликнул Василий жену.
И когда та подошла к нему, он, передавая ей бумажку для Дойкина, осторожно зашептал на ухо.
— Ладно, ладно, — взглянув по сторонам, Лена сунула ему что-то в руку. — Грамотка, «богородицын сон»... От всех напастей... К бабке Анюте забегала.
Посмотрев на синий лоскут, в котором была завернута переписанная на бумагу молитва, Безверхов недовольно спросил:
— Верно, трешку стоит?
— До улова, Вася. Тогда и отдадим.
В стороне от других стояли Сенька и Зинаида.
Молодая рыбачка что-то говорила парню. Черная прядка волос то и дело падала ей на белое лицо и закрывала — то один, то другой — круглые черные глаза. Зинаида легким движением руки откидывала прядку, но она снова падала ей на лицо; тогда рыбачка убрала назойливую прядку под пуховый платок.
— Сенька! — Василий взмахнул шестом. — Пошли-поехали!
Лешка-Матрос, посмеиваясь, погрозился Зинаиде:
— Расскажу вот батьке про твое любованье. И Косте расскажу!
Ловцы, поглядывая на молодую пару, слегка улыбались.
Потупив круглые черные глаза, Зинаида несмело вынула из-под фуфайки бутылку водки и передала Сеньке.
— Ого! — Лешка затрясся в звонком смехе. — Так, так! Значит, не одна любовь согревает ловца, а еще эта самая?
Сенька и Зинаида, смеясь, прошли к реюшке. Лешка шагнул к молодой рыбачке.
— Молодец, Зинка! Дай пять! — и взял ее за руку.
Улыбаясь, девушка пыталась вырвать руку из цепкой Лешкиной руки.
— Дома у ловца — рыбачка! — громко продолжал он. — А на море — водочка!..
И вдруг, взглянув на Сеньку, Лешка слегка посуровел, отвел его в сторону.
— Обождал бы Андрей Палыча, — глухо сказал он молодому ловцу. — Артелью в море пойдем!
Сенька молчал.
— Слышь? — требовательно спросил его Лешка.
— Слышу, Алексей Захарыч...
— Понимаешь, должны артелью в море пойти!
— Понимаю, Алексей Захарыч...
— Значит, согласен?
— Согласен, Алексей Захарыч...
— Так почему же не ждешь Андрей Палыча?
— Да долго уж очень он там...
— А скоро, брат, ничего не делается. Ясно?
— Ясно, Алексей Захарыч...
— Тогда бери свое движимое-недвижимое! — и Лешка кивнул на реюшку Безверхова, на корме которой лежал Сенькин узелок.
Сенька взял узелок и вместе с Зинаидой и Лешкой направился в поселок.
Безверхов так и ахнул:
— Что такое?!.
Но на выручку ему подоспел Антон:
— Я иду с тобой в море, Василий Ильич! — И ловец тут же взобрался на реюшку.
— А ты готов в море-то? !
— Я всегда готов!..
Василий Безверхов снял шапку и громко сказал ловцам:
— Ну, прощевайте, граждане!
На берегу тоже сняли шапки, сумрачно закивали головами.
— Лена! — и Василий, махнув жене, быстро надел шапку, схватил шест и оттолкнулся от берега.
С носа реюшки Антон ударил багром о лед, ударил еще раз, еще...
Посудина медленно вошла в проглею; узкая полоска воды тянулась на середину протока, где соединялась с другими проглеями.
К Елене подошла Наталья Буркина.
— Горюешь? — участливо спросила она рыбачку, вместе с нею следя за реюшкой, что, борясь со льдами, уходила все дальше и дальше.
Василий снял шапку и махнул Елене последний раз. Посудина скрылась за камышовой крепью.
— Рано очень пошел в море-то, — тягостно вздохнула Елена. — И дедушка Ваня говорил...
— Ничего, обойдется, — успокоила ее Буркина.
— Боязно, Наташенька... Нам эта справа стоит ой-ой сколько! И в кредитке взяли, и у Алексея Фаддеича, шаль свою и платья я продала... Оголились мы и кругом задолжали. Боязно все чего-то. Как бы беды не было, — в море выбег он рано...
— Ничего, — опять успокаивая рыбачку, сказала Наталья. — В море, известно, не без горя. Но от кого же ждать ловцу подарка, Лена, как не от моря же? Знаешь, как это говорится: будет рыбка — будет хлеб, будешь сыт, обут, одет...
Некоторое время они шли молча, а когда поровнялись с дойкинской флотилией, Елена сказала:
— Записку надо передать Алексей Фаддеичу.
А Дойкин уже сам шагал к рыбачкам. Приняв от Елены бумажку, он ласково спросил Наталью:
— Как Григорий Иваныч? Не вернулся из района?
Буркина смущенно ответила:
— Нету еще... Жду вот...
— Напрасно поехал он, — с достоинством сказал Алексей Фаддеич. — С кредитами сейчас туго. Средств не хватает у власти... Зашла бы ко мне сама, раз он противится, — и Дойкин пристально осмотрел ее складную, тугую фигуру. — Частиковой сетки у меня эту весну хоть отбавляй — без пользы будет лежать. Зашла бы и взяла, что ль!
Отступая под жадным взглядом Дойкина, рыбачка благодарно кивнула:
— Спасибо, Алексей Фаддеич, — и, подтолкнув Елену, быстро зашагала с ней по берегу.
Развернув бумажку, Дойкин не спеша прочитал ее.
— Та-ак, — и двинулся к дому. — Дельно написал Васька!..
Навстречу ему вышла из ворот жена.
— Алеша! — еще издали окликнула она Дойкина, таинственно прищуривая глаза.
— Иду, иду!..
Нетерпеливо поджидая мужа у калитки, Софа качала головой, заставляла его поспешить.
— Настя Сазаниха прибегала, — тревожно шепнула она Алексею Фаддеичу, хватая его за рукав. — От Георгия Кузьмича из города человек у ней!
— Как? — спросил перехваченным голосом Дойкин. — В тюрьме же Георгий Кузьмич!..
— Ты слушай! Была я там. Знаю... Человек велел приходить тебе вечером, под ночь. А днем — никак, боже упаси! Насте он дружком Васькиным представился. Это тот самый, что на днях остановился у ней... Иван Митрофаныч твой тоже должен ночью быть. Он-то, видно, и велел этому человеку остановиться у Насти...
Продолжая рассказывать, Софа беспокойно посмотрела на мужа, — по его лицу поползли багровые пятна.
Глава пятая
С нетерпением ожидал Андрей Палыч возвращения из города секретаря райкома партии Болтова, который еще неделю назад уехал на пленум окружного комитета партии.
До приезда Болтова Андрей Палыч не решался обращаться ни в кредитное товарищество ловцов, ни лично к его председателю Ивану Митрофановичу Коржаку, зная заранее, что ему откажут в помощи. Да и дело-то по существу заключалось не в кредитах, а гораздо в большем — в создании артели, в создании новых путей жизни.
Сидя у знакомого ловца в горнице, он сокрушенно качал головой, волновался, думая о том, как его примет секретарь. По ночам он не спал, подолгу рассуждая с самим собою:
«Так и скажу ему: надо тряхнуть дойкиных!.. Хватит!.. Пора нам и артелью доброй зажить... Партия верную дорогу указывает...»
Чтобы скоротать ночи, он одевался, выходил на двор, отпирал калитку и долго бродил по пустынным, сонным улицам районного поселка, слушая, как гудел и ломал льды на Быстренькой свирепый норд-вест, дувший беспрерывно третьи сутки.
С рассветом Андрей Палыч возвращался, пил чай и сызнова перечитывал привезенные из Островка газеты.
В райкоме партии он просиживал целыми часами, ожидая, что вот-вот заявится из города секретарь.
Работники райкома давно уже приметили сумрачного посетителя, который недвижно и молча сидел на табуретке у печки.
— Вам кого, товарищ? — спрашивали они Андрея Палыча.
— Самого главного — Болтова.
— Его сейчас нет.
— Знаю. Потому и жду.
— А по какому делу, товарищ? Возможно, мы и без него разрешим?
— Только он один может...
И, не желая больше разговаривать, Андрей Палыч надвигал на лоб шапку, часто вздыхал, вновь и вновь думая о близкой встрече с секретарем райкома...
Как только открывалась дверь и со свистом врывался ветер, он пристально оглядывал каждого входившего, надеясь сразу признать Болтова, хотя ни разу и не видел его, зато много слышал о нем.
Люди торопливо проходили мимо Андрея Палыча.
Один раз дверь особенно широко распахнулась, и под ударом ветра в коридор вбежал Буркин.
— Григорий Иваныч! Мое почтенье! — обрадовался Андрей Палыч. — И ты сюда?
— А куда же мне? — Буркин сурово улыбнулся.
Они прошли в конец коридора и там, у окна, присели на скамейку.
За окном кружил ветер, гоняя по двору бумажки, солому; когда ветер, завывая, ударял сильней, дом сотрясался и где-то шумно хлопали ставни.
Андрей Палыч пытливо посмотрел на Буркина, осторожно спросил:
— По каким делам, Григорий Иваныч?
— К тебе на подмогу... — Буркин быстро свернул цыгарку, закурил и, шумно пыхтя дымом, продолжал: — Когда ты уехал сюда, я был еще в море. А когда вернулся, заходили ко мне Сенька, Дмитрий и Туркин Яшка. Об артели толковали. Ну, вот я и следом за тобой...
От наскока ветра загудела железная крыша и снова где-то шумно захлопали ставни.
Буркин помолчал, свернул новую цыгарку, отрывисто заговорил:
— Артелью надо выходить в море, Андрей Палыч! Пора!.. Артелью!..
— Непременно, непременно...
К ловцам спешила худенькая рыжеволосая девушка.
— Товарищ!.. — обращаясь к Андрею Палычу, торопливо спросила она. — Вы хотите к товарищу Болтову?
— Мы.
— Он вас ждет.
— А разве он приехал?
— Вчера еще приехал.
— Гм... Интересно...
— Идите, а то скоро бюро начнется.
С любопытством озираясь на Буркина, который нещадно дымил цыгаркой, девушка ввела ловцов в небольшую комнату. Постучав в низенькую дверь, она слегка приоткрыла ее.
— Можно, Павел Семеныч?
— Да-да! — ответил из кабинета громкий голос.
Первым в кабинет вошел Буркин и сразу опустился на диван, продолжая густо чадить цыгаркой.
Андрей Палыч задержался у двери, осторожно посматривая на секретаря райкома, который, сидя за огромным столом, вынимал из портфеля книги, газеты, блокноты и раскладывал их в строгом порядке вокруг чернильницы с медными завитушками.
Болтов был одет в черный просторный пиджак со вздутыми у плеч рукавами; коротко подстриженные волосы торчали седой щетинкой. Слегка опухшее лицо его казалось усталым; под глазами висели большие синеватые мешки. Откинувшись на спинку кресла, он вдруг порывисто поднялся.
— Григорий Иваныч! Ах, ты!.. Здорово! — и, выйдя из-за стола, шагнул к дивану. — Давненько, давненько ты у нас не был, пропащая душа! Как поживаешь? Чего нового?
— Есть новое! — Буркин жадно затянулся дымом. — Сейчас вот наш секретарь комячейки доложит... — и стал торопливо свертывать очередную цыгарку.
Болтов посмотрел на Андрея Палыча и прошел к столу, следя за Буркиным. Знал он Буркина давно — с тех самых пор, как тот, контуженный, вернулся с фронта и года полтора-два работал в волисполкоме, а одно время даже замещал председателя исполкома. Но контузия вконец расшатала его здоровье, и он вскоре отошел от работы, уехал к себе в Островок.
— Вы, значит, ко мне, товарищ? — спросил Болтов Андрея Палыча, все поглядывая на Буркина.
— Да. Вместе с Григорием Иванычем, — и ловец подошел к столу.
Следом за ним приподнялся Буркин и тоже зашагал к Болтову.
В окно хлестал ветер, звонко осыпая стекла желтым песком; у крайнего окна, повизгивая, то и дело хлопал ставень.
Буркин посмотрел на Андрея Палыча, неловко переступавшего с ноги на ногу — он всегда не сразу начинал говорить, — посмотрел еще раз на него и, глубоко затянувшись дымом, отчего ярким пламенем вспыхнула бумажка цыгарки, глухо сказал:
— Хотим артелью выходить в море, Павел Семеныч... Давай помогай! На Коржака нажми по части кредитов... Да и пора вам за него приняться.
— Тряхнуть его надо! — внезапно вырвалось у Андрея Палыча. — И Коржака и Дойкина нашего! В городе вон...
Болтов вскинул настороженный взгляд на ловца:
— Полегче, товарищ!
— А как же?.. — Андрей Палыч непонимающе развел руками; потом, быстро распахнув полушубок, высыпал из-за пазухи на стол секретаря газеты. — Значит, газеты неправду пишут и про кредиты и про артели?..
— Ты не волнуйся, товарищ. Присядь, — Болтов кивнул на кресло и строго спросил: — Ты ведь, кажется, секретарь ячейки?
— Вроде так.
— Как это понимать?
— А вот когда у нас в Островке по-настоящему работала комячейка...
— А разве сейчас не работает?
— Да нет, работает, но не совсем.
— Не пойму, что это значит: не совсем.
— Люди же у нас поразъехались кто куда, Павел Семеныч!
Болтов крякнул, закурил.
— ...Петро Жижин наш в Москве работает, — продолжал Андрей Палыч, — Семен Кошелев в Сталинграде, Сергей Курьянов обратно в городе, он у нас секретарем был. А теперь и Василия Сазана нету — в относ попал. Остались вот Григорий Иваныч да я, Бушлак еще...
— Зубов Алексей, кажется, есть еще у вас?
— Есть!
— Та-ак... — Болтов постучал кончиком карандаша о стол. — А вы присаживайтесь, товарищи... Да-а, не совсем ладно у вас с ячейкой — не растете!
— Как не растем! — обиженно воскликнул Андрей Палыч. — Бушлака давным-давно перевели из кандидатов в члены, двоих приняли в кандидаты почитай год еще тому назад, да вот райком все никак не утверждает — ни Бушлака, ни тех двоих.
— Оно, конечно, понятно с вашей ячейкой, — и Болтов сердито швырнул карандаш. — Далеко вы от нас, чуть ли не на самом море. Однако помочь вам надо... Хорошо! Поможем!
Он откинулся на спинку кресла, испытующе посмотрел на Андрея Палыча:
— Ну, а теперь я должен тебе, товарищ, разъяснить относительно слухов про город.
Буркин попрежнему ненасытно курил и во время коротких пауз между затяжками настойчиво повторял:
— Артелью, Павел Семеныч... Артелью в море... На Коржака нажми...
— Я слышу, слышу, Григорий Иваныч, — и Болтов, снова приглашая ловцов присесть, быстро заговорил, обращаясь к Андрею Палычу: — В городе арестовали, товарищ, злостных рыбников, которые обманывали и обкрадывали нашу власть, превышали нормы заготовок рыбы, укрывали прибыль и, таким образом, не платили полностью государству налоги. Делали они и еще кое-какие дела: пытались спаивать, подкупать некоторых слабовольных наших работников... Но есть, товарищ, рыбники и другого сорта, другого посола: честные, исправно выполняющие все законы и постановления нашей власти. Взять хотя бы Ивана Митрофановича Коржака. Чем плохой? Лов развернул широко, кредитное товарищество организовано по его инициативе. Он даже работает председателем этой кредитки! Таким честным рыбникам мы не должны мешать. Пусть трудятся на всеобщее дело, пусть разворачивают лов. Страна от этого только больше получит рыбы. А Каспий — море большое, улова на всех хватит. На то и нэп, на то и существует ленинская новая экономическая политика, — и, поочередно оглядев Буркина и Андрея Палыча секретарь внушительно добавил: — Это следует вам хорошенько запомнить, а заодно и растолковать вашему Алексею Зубову...
Сбитый с толку речью секретаря, Андрей Палыч никак не мог понять: правильно ли тот говорил?.. С одной стороны, казалось ему, будто и прав Болтов, а с другой — получалась нелепица: газеты непрерывно, вот уже чуть ли не полгода, пишут о борьбе с сухопайщиной, об артелях, а секретарь райкома говорит о каких-то честных рыбниках.
«Как же это так? — Андрей Палыч недовольно посмотрел на опухшее лицо Болтова. — Коржак — честный? Дойкин — честный? А не у них ли в сухопайщине сидят, как рыба в садке, многие ловцы? Что ж это такое? И ежели у ловца беда, куда же деваться? В сухопайщину, значит?.. А газеты что пишут? Нет-нет, тут что-то не то, не то...»
— Да ты присядь, товарищ!
Андрей Палыч очнулся и растерянно, тихо произнес:
— Спасибо, мне уже вставать пора... — Немного подумав, он вдруг взволнованно сказал: — А честных рыбников все-таки нету, Павел Семенович! — и стал поспешно собирать свои газеты со стола. — Нету честных рыбников! — горячо повторил он, собираясь уходить. — Сроду не видал эдаких! — И вдруг, спохватившись, вновь вытащил из-за пазухи газеты. — А как же, партия, как же товарищ Сталин говорит о наступлении на кулака и нэпмана в «Годе великого перелома»?
— То совсем другое дело... — Болтов поднялся, сердито одернул пиджак.
— Как другое дело?! — Андрей Палыч в упор посмотрел, на секретаря.
- Ну, хватит дискуссировать! — раздраженно бросил Болтов. — Приедет вот новый секретарь райкома, тогда и поспоришь! А может, и общий язык найдете с ним...
— Новый секретарь? — удивился Андрей Палыч.
— Да! Новый!
— И скоро приедет?
— Скоро! Сегодня!..
В комнату Болтова входили члены бюро райкома, настороженно поглядывали на секретаря, что-то говорили друг другу, пожимали плечами. А он уже торопливо заканчивал разговор с ловцами.
— Вернемся, товарищи, к тому, с чего начали: то, что вы артель надумали, — неплохое дело. Поддержим! — Болтов поднялся. — Ершов! Кузьма Фомич!
К столу подошел худой, жилистый председатель райисполкома; лицо его было густо покрыто оспинами.
— Это, — Болтов кивнул на Андрея Палыча, — товарищ из Островка. Артель они там организуют, Григорий Иваныч еще с ним, — и он показал глазами на Буркина, который в сторонке разговаривал с одним из членов бюро райкома, со своим старым знакомым Махотиным. — Ты его знаешь! Помнишь?..
К Болтову подошел высокий, щеголеватый начальник районной милиции и громко спросил:
— Скоро бюро начнется?
— Скоро! Не мешай, Минаев! — отмахнулся Болтов и снова обратился к Ершову: — В Островке они артель организуют. Надо поддержать! Поговори с Иваном Митрофанычем, дай директиву.
Зорко оглядев собравшихся, он стал быстро перебирать разложенные на столе книги, газеты, блокноты. В это время зазвонил телефон. Болтов снял трубку.
— Иди сюда, — Ершов потянул за рукав Андрея Палыча к дивану. — Я вам записку напишу в кредитное товарищество. Ступайте прямо к Коржаку.
— Вы из Островка, товарищ? — к Андрею Палычу подошел началыник милиции.
— Из Островка, — Андрей Палыч распахнул полушубок, отер полою лицо.
В комнате было душно, накурено; собравшиеся на заседание разделились на несколько групп и о чем-то тревожно, вполголоса разговаривали.
«О смене секретаря, видать, толкуют», — мелькнуло у Андрея Палыча.
— Что у вас там в Островке происходит? — начальник милиции вынул кожаный портсигар и закурил. — Члена правления кредитки, говорят, чуть не убили?
— Не слыхал что-то, — и Андрей Палыч снова отер полою лицо.
— А кто это у вас там Зубов?
— Есть такой. Матрос наш!
— Аа-а, помню, — начальник милиции ухмыльнулся. — Тот, что однажды Коржака...
— Он самый!
— Придется его, видно, того...
— Товарищи! — Болтов громко постучал стаканом о графин.
— А потом, воровство, говорят, у вас пошло, — торопливо продолжал начальник милиции, — и депутат сельсовета этому потворствует...
— Тише, товарищи! — Болтов снова громко постучал стаканом о графин.
Ершов поднялся с дивана и передал записку Андрею Палычу.
— Товарищи!..
Люди быстро рассаживались: одни на диван, другие на стулья, третьи в кресла.
Андрей Палыч хотел спросить начальника милиции про то, что же такого наделал в Островке Лешка-Матрос, хотел узнать, о каком воровстве шла речь, но тот повернулся и быстро прошел в угол, где стояло пустое кресло.
Болтов высоко вскинул руку:
— Товарищи!.. Звонили из города. Товарищи из окружного комитета партии выехали к нам еще с утра. Значит, вот-вот должны быть...
Андрей Палыч и Буркин торопливо вышли из кабинета.
На улице было ветрено.
Здесь так же, как и в Островке, люди поспешно готовились к путине: несли на берег сети, паруса, багры, весла.
Буркин молча взял из рук Андрея Палыча записку Ершова и, прочитав ее, снова передал ему.
— Да-а, — тяжело вздохнул Андрей Палыч. — Болтов того... неправ насчет честных-то коржаков... неправ!
— Ясно, неправ... — раздумчиво сказал Буркин. — Махотин мне сейчас говорил — город вмешался в это дело...
Когда ловцы вошли в просторный и светлый дом, где помещалось кредитное товарищество, они застали Коржака сидящим с бухгалтером за столом.
Согнув могучую, в жирных складках шею, Коржак рассматривал разложенный перед ним лист бумаги; бухгалтер, водя карандашом по листу, вполголоса разъяснял:
— Это — остатки на кредиты, а это...
Постояв немного у двери, ловцы двинулись к столу. Коржак поднял голову, жестко спросил их:
— Чего надо, граждане?
Из глубоких его глазниц глянули на ловцов черные сухие глаза.
— Получай партийный приказ! — Рука у Буркина вздрогнула. Он взял у Андрея Палыча записку, положил ее на стол.
Прочитав записку, Коржак отрывисто сказал:
— В пятницу заседание правления, тогда и разберем.
— Да мы же, Иван Митрофаныч, нездешние! — Андрей Палыч вплотную подступил к столу. — Чуть ли не целую неделю ждать!
— Знаю! — Коржак сунул записку в карман. — Раньше надо было беспокоиться!
— Товарища Болтова ждали из города...
— Ну, довольно! — Коржак взмахнул рукой. — Сказано, в пятницу.
— Иван Митрофаныч...
— В пятницу! Один я здесь не хозяин. Правление решает такие вопросы, — и Коржак склонился над усеянным цифрами листком.
Хмуро переглянувшись, ловцы словно сказали друг другу: «Ничего не поделаешь, — порядки, чорт бы их побрал!» — и решили ожидать пятницу. А заодно решили они ждать и приезда нового секретаря райкома партии.
Вечером, обложившись газетами, Андрей Палыч долго перебирал их, листал, водил пальцем по карандашным отметкам.
Буркин молчаливо наблюдал за ним, лежа на кушетке и дымя цыгаркой.
— Это ж, что называется, правый уклон на практике, правый уклон в действии! — вдруг удивленно воскликнул Андрей Палыч, поднимая на лоб очки. — Вот он кто оказывается!
Григорий вопросительно посмотрел на товарища:
— О ком это ты, Андрей Палыч!
— О нем — о Болтове! Ишь, чего придумал: честные рыбники! Партия иначе толкует о них! — И, вскинув газету, Андрей Палыч энергично тряхнул ею. — Вот послушай, Григорий Иваныч, как товарищ Сталин говорит об этих самых...
— О ком?
— Ну, о болтовых, о правых уклонистах.
И, опустив очки на переносицу, Андрей Палыч стал медленно и громко читать:
— «В чем состоит опасность правого, откровенно оппортунистического уклона в нашей партии? В том, что он недооценивает силу наших врагов, силу капитализма, не видит опасности восстановления капитализма, не понимает механики классовой борьбы в условиях диктатуры пролетариата и потому так легко идет на уступки капитализму, требуя снижения темпа развития нашей индустрии, требуя облегчения для капиталистических элементов деревни и города, требуя отодвигания на задний план вопроса о колхозах и совхозах, требуя смягчения монополии внешней торговли и т. д. и т. п.»
Андрей Палыч отложил газету, повернулся к Буркину и поверх очков многозначительно посмотрел на него.
— Теперь ты понимаешь, откуда у Болтова эти честные рыбники? — задрожавшим голосом спросил он после длительного молчания.
Григорий вскочил с кушетки, запалил новую цигарку.
— Выходит, бухарины в Москве, — взволнованно заключил он, — а у нас болтовы действуют?!
— Я же и говорю: как есть, правый уклон в действии! — жарко воскликнул Андрей Палыч.
Григорий поспешно прошел к товарищу, уселся рядом с ним за стол и, склонясь над газетой, убеждающе попросил:
— Давай дальше читай, Андрей Палыч...
Глава шестая
Коляка сидел у окна и сумрачно следил за тем, как мимо его дома ловцы везли на тележках, несли на плечах вороха сетей и разную оснастку: якоря, паруса, мачты.
Руки его неспокойно лежали на подоконнике, скрюченные ревматизмом пальцы шевелились, словно перебирали сети.
А ловцы шли и шли, перебрасывая оснастку на берег, на посудины.
Коляка тяжко вздыхал, разговаривал с самим собой:
— У всех забота... Путина... А я...
Еще с утра Пелагея его ушла проситься на заработки к Краснощекову, ребятишки бегали во дворе, а в кухне копошилась мать — она что-то достала у соседей на обед.
Сидя один в жарко натопленной камышом горнице и наблюдая, как поселок готовится к весенней встрече рыбных косяков, Коляка жестоко упрекал себя за оплошность, что допустил при оборе оханов. Ну что ж из того, что Турки отомстили, протащив его подо льдом. С кем не бывает! Коляка уже почти совсем отошел и вот теперь второй день встает с постели без чьей бы то ни было помощи. Вся беда в том, что надежды его на обзаведение своей справой при помощи Краснощекова безвозвратно сгинули... Коляка не знал, как и с чего начинать разговор с Захаром Минаичем: или сначала потребовать деньги, которые не все еще выплатил ему Краснощеков, или перво-наперво просить у него прощения, что так нескладно вышло с Турками, а потом уже говорить о деньгах...
Для того и послал Коляка Пелагею к Краснощекову, чтобы разузнала она про настроение Захара Минаича.
— А чего, маманя, обедать будем? — обратился он к вошедшей из кухни старой рыбачке.
— Рыбки достала, сынок.
— А хлеб? Хлеб как?
— Плохо, сынок. Не выпросишь — люди ведь в море собираются. Самим надо... Перебьемся еще денек-другой как-нибудь, рыбкой. А там, может, ты подымешься...
В горницу вбежал Миша, за ним с радостным криком ворвалась старшая, восьмилетняя Ирина:
— Батяша, мамка идет!
Следом за ребятами вошла сумрачная, молчаливая Пелагея.
— Ну? — нетерпеливо спросил ее Коляка. — Чего слышно?
Пелагея не спеша скинула полушубок и принялась раздевать ребят.
— Чего там, спрашиваю?
— И слушать не пожелал, — всхлипнула Пелагея. — Сатана!.. Я и так и эдак к нему, а он молчит, словно рыбина безголосая. Почитай, полдня крутилась у них. Чтоб ноги совсем отнялись у него!..
— Сам пойду! — решительно заявил Коляка, поднимаясь со стула. — На погибели был! Мог совсем пропасть! А он...
И, пошатываясь, ловец двинулся за полушубком.
— Переждал бы! — жена умоляюще взглянула на Коляку. — Отошел вот немного. А то хвороба может еще вернуться.
— Ко мне не воротится! Скорей к его ногам пристанет! — и Коляка вышел из горницы.
Порывы острого, просоленного ветра остановили его, и он расслабленно прислонился к забору. Постояв минуту-другую, Коляка нетвердо зашагал и, свернув в глухой переулок, чтобы не встречаться с ловцами, многие из которых уже знали про его историю с Турками, задами направился к дому Краснощекова.
У Захара Минаича он застал Кузьму, дядю Анны Жидковой — плечистого, с огненно-рыжей бородой ловца.
Они, должно быть, не слышали, как вошел в горницу Коляка.
— Ну, что ж, — сказал, вставая, Краснощеков. — По дедовскому житью и обычаю надо помолиться.
За ним встал Кузьма, и они начали усердно креститься на множество икон, которые, будто иконостас в церкви, были расположены по обеим сторонам правого угла.
Коляка осторожно, на цыпочках, отступил назад, в сени, вышел на улицу и стал прохаживаться вдоль забора.
Когда Кузьма ушел от Краснощекова, Коляка немного переждал, а потом быстро двинулся во двор; навстречу ему из-за сетевого амбара показался Илья.
— А батька где?
— Тут он, — кивнул на амбар сын Краснощекова.
Коляка подошел к амбару, — оттуда терпко пахло сетями, солью, канатами. Видно было, как на вешалах висели несчетные богатства сетей, а на полу лежали вороха добротнейших неводов.
— Захар Минаич!
— Кто там?
— Я!.. — Коляка, устало придерживаясь за косяк, заглянул в амбар.
Из-за навесов сетей вышел Краснощеков. Сердито лязгая железным засовом, он глухо спросил:
— В чем дело?
Не зная, с чего начать, Коляка переступил с ноги на ногу и невнятно заговорил:
— Вот... Стало быть... Подсчитаться...
Вешая на дверь редкостный, в полпуда весом, замок, Краснощеков повернулся к ловцу.
— За что подсчитаться-то? — и он скосил глаза на Коляку. — За срамоту, что ли, которую возвел на меня?
— За белорыбку, Захар Минаич!
— Какую?
— Тебе же сдавал, Захар Минаич. Немного осталось там за тобой. На лов я собираюсь.
Сунув в карман ключи, Краснощеков зашагал было в сторону конюшни.
— Подсчитаться бы, Захар Минаич! — настойчиво заявил Коляка, преграждая ему путь.
— Чего? А с кем я буду подсчеты вести за коня, которого ты загубил?
И, не желая больше разговаривать с ловцом, Краснощеков отряхнул пышную, по пояс, бороду и шагнул обратно к сетевому амбару.
— Захар Минаич! — взмолился Коляка. — Пойми же ты!
Отпирая замок, Краснощеков зло сказал:
— Не хочу больше разговаривать! Балда ты!.. Оскандалил меня на весь мир. Коня загубил... — И, сбросив замок на землю, он настежь распахнул дверь, шагнул в амбар.
— Захар Минаич! — вспылил Коляка, но чувствуя всю безысходность своего положения, примиряюще заговорил: — Ежели того... в самом деле чего с конем, подсчитай, Захар Минаич... И принимай меня на лов. От тебя пойду в эту путину.
— Не нужен ты мне!.. — гневно выкрикнул Краснощеков. — Валяй домой, к жинке, на печку!
— Ага! Так ты? — Коляка вдруг подскочил к амбару и что есть силы ударил кулаком по дверям. — Так?! Ладно!.. В суд подаю на тебя и на Турков. Чуть не до смерти дело дошло! За измывательства по головке не погладят! Теперь не царские времена!.. А кто лошадь давал на обор чужих оханов и краденую рыбу принимал? Кто?.. И тебя к ответу!
Краснощекова словно кто подкосил: он присел на приступки, обхватив внезапно омертвевшие ноги.
Из дома на шум выбежала Марфа; из конюшни спешил на помощь Илья.
Коляка, отступая к калитке, неистово кричал:
— В суд, в суд потащу!.. В тюрьму загоню!..
Илья и Марфа, подхватив Захара Минаича подмышки, поволокли его по двору в дом.
— Я вам покажу, — грозил Коляка, — как над человеком измываться! Покажу! Попомните! К Андрей Палычу с жалобой пойду!..
Хлопнув калиткой, он торопливо зашагал на берег.
Мимо прокатил тележку с горой сетей Цыган — огромный ловец с черным, как уголь, лицом и кудрявыми смолистыми волосами. Он вогнал тележку в воду, под борта своей реюшки. У Цыгана отменные непромокаемые, по пояс, бахилы. Сдвинув на затылок шапку, он вошел повыше колен в воду и стал перекладывать сети из тележки в реюшку. Ему помогал худенький сынишка Кирюха.
С Кирюхой Цыган ходил в море, начав его брать на лов еще с семилетнего возраста. Все удивлялись, как это Цыган управляется один, — он никогда и ни с кем не сходился на совместный лов, никогда и ни у кого ничего не занимал, зря никуда не ходил и в досужее время сидел дома безвылазно, словно лягушка в ильмене. А если случалось несчастье — штормяк или отзимок уничтожали его справу, — Цыган закидывал на спину котомку и уходил на заработки в город. Жена и ребята его несколько месяцев сидели без хлеба, на одной рыбе, и не знали, где их кормилец, что с ним... Цыган недосыпал и, подчас тоже впроголодь, катал на пристанях бочки, таскал тюки, мешки, тес.
Когда работы в родном городе не было, он ехал в Царицын, бывал не один раз в Саратове, в Самаре, даже в Нижнем Новгороде.
Через три-четыре месяца, а иногда и через полгода, Цыган, исхудалый и оборванный возвращался в Островок и обязательно с сотней целковых в кармане. Опять заводил он свою справу, опять становился сам хозяином и, сумрачно усмехаясь, довольно говорил про себя: «Мне чужого не надо, но и моего не бери...»
Цыган был жаден до работы: он просиживал за меткой сетей по целым суткам, ни разу не поднимаясь с табурета.
— Не сбивай с дела! — сердито кричал он на жену, если она звала его обедать или ужинать.
Когда же от усталости тупо ныла спина, он, как уверяли ловцы, подпирал ее ухватом и так снова мог просидеть еще целые сутки.
«А вот и не разбогатеет, как Краснощеков, — внезапно подумалось Коляке. — А работает, будто вол или верблюд какой... И день и ночь... А Захар Минаич?..»
И Коляка припомнил, как наживал состояние Краснощеков: обором чужих оханов, обловом запретных ям, скупкой краденой рыбы.
«А как же мне-то быть? Ведь пора и на лов... Чего ж делать? Куда податься? — и он нетерпеливо распахнул полушубок, словно было ему нестерпимо жарко. — В относ угнало бы, как вон Ваську Сазана, и то легче, чем мыкаться здесь...»
Он остановился и растерянно посмотрел вокруг.
В затишке, за дубными котлами сидели ловцы, негромко о чем-то разговаривая. Коляка подошел к ним, невесело приподнял шапку.
Ему взволнованно ответил Яков Турка:
— Здравствуй, Николай Евстигнеич! Здравствуй!..
Другие ловцы будто и не заметили Коляку, — они с увлечением слушали приезжего человека, который рассказывал про город:
— ...Арестовывают там, други мои, всех, кто любит хозяевать, кто хочет горбом своим нажить себе домишко или другую какую надобность... Дело тут не во власти, конечно, а в комиссарах, в коммунистах этих. Власть-то, она — наша, сами мы ее выбираем. Она ведь — вы, должно, слышали — арестовала и комиссаров некоторых. Вот где гвоздочек-то забит!..
Лихо подмигивая, он то и дело выхватывал из кармана тяжелый серебряный портсигар и щегольски раскрывал его:
— Закуривай, ловцы-молодцы!
Когда папиросы кончились, он вынул новую пачку, вложил ее в портсигар и, как бы нехотя, сказал:
— Рассказываю я вам, а вы, наверно, и сами уже знаете про все это из газет.
— Газетки! — выкрикнул Макар-Контрик, по-всегдашнему потрясая измочаленной газетой. — Путина на носу, в море выбегать надо, а в потребилке муки нету. Пряжи нету, сетки нету! А газетки всё свое: снабдить, мол, ловца в море всем, чем ни на есть!.. Снабжать-то, верно, Захару Минаичу да Алексею Фаддеичу придется. Газетки!..
— И то правда, — поддержал Матвей Беспалый, — раньше-то всего вдосталь было, всем хватало.
— Вот-вот! — незнакомец многозначительно подмигнул ловцам.
С корточек приподнялся, как грозное предостережение, дедушка Ваня — длинный, костлявый. Уставясь в Беспалого черными впадинами глаз, он взмахнул иссохшей рукой и гневно спросил:
— Чего? Стародавнего, барского захотел?.. Бывальщину эту знаем!.. — И, нещадно отругав ловца, поучительно закончил: — Не мутясь, и море не становится. Погоди немного — и у нас все наладится!
Все с уважением поглядывали на древнего деда. Во всем районе знали слепого ловца и ценили его старинную мудрость, накопленную тяжким, оброчным веком.
— Легко живем, ребятушки, — дед сердито запахнул полушубок, — без царёв, без барья всякого. О-ох, легко!.. А меры-то нет — еще легче хочется. А не помозгуем, что к чему, как и отчего.
— Правильно! — поддакнул незнакомец, внимательно следивший за слепым ловцом.
— А это что за человек? — Дед недовольно уставился на приезжего. — Что за брехун такой заявился, а?.. Умач большой, гляжу!
Дедушка по-привычному обмахнул шапкой лицо, подумал и повернул к своей мазанке.
Как только скрылся он за дубными котлами, с корточек привстал Павло Тупонос.
— Пора расходиться чаевать, — и, ухмыляясь, обратился к Матвею Беспалому. — Ну? Отчитал тебя дед?. А Глушка где? Улетела, говоришь?
Матвей безучастно взглянул на Тупоноса, негромко ответил:
—Улетела будто. Что ж из этого?.. Жили вместе, а теперь врозь поживем.
Павло зычно рассмеялся. Заметив улыбающегося Якова Турку, он вдруг нарочито почтительно спросил его:
— Так ты и не рассказал нам, Яша, как вы с батькой гоняли подо льдом Николая Евстигнеича. Может, сейчас расскажешь? Дюже интересно! — и разразился гулким, дребезжащим смехом.
Яков привскочил, метнул на Тупоноса загоревшийся злобой взгляд и, кивнув Коляке, приглашая его с собой, зашагал в поселок. Пройдя несколько шагов, он остановился, поджидая недавнего своего врага.
Коляка задумался, решая, видимо, идти ему или не идти; однако колебался он недолго, запахнул полушубок и пошел вслед Турке.
Как только поровнялись они, Яков тихо, прерывающимся голосом заговорил:
— Ты того, Николай Евстигнеич... Давай прощай меня... Думалось... Сам знаешь!..
Коляка молчал, шумно и часто дыша.
— От батьки ведь ушел я... Чуть не до ножей дело дошло! Верно, слышал...
Сзади кто-то громко окликнул Коляку. Ловцы оглянулись. К ним спешил краснощековский Илья.
— Батька тебя кличет, — сказал он, обращаясь к Коляке.
«Испугался, видно», — радостно мелькнуло у ловца. И, не сказав ни слова Якову, он засуетился.
— Пошли! — и вместе с Ильей скрылся в проулке.
Постояв немного, Турка зашагал к Сенькиному дому, в который он перебрался после скандала с отцом. Сенька собирался в море, и Яков со своей семьей просторно расположился в его холостяцкой горнице.
«И Сенька уходит на лов, и Митрий скоро... — досадовал он. — А я все кручусь...»
Думалось Якову, что отец сам пришлет ему обещанный выдел — сети и бударку; думалось, что сам заговорит с ним батька, но Трофим Игнатьевич и не помышлял об этом.
Старый Турка хотел проучить сына, сбить с него спесь; хотел, чтобы пришел сын с повинной, попросил прощения, пал в ноги...
А Яков, не желая покоряться, упорно не шел просить у отца ни сетей, ни посудины. Ему опостылела совместная с ним и сестрой жизнь. Он готов был жить впроголодь, глодать рыбьи кости, только бы не быть в кабале у отца, не рвать силы на приданое сестре, на запасы всякие.
И теперь, проходя мимо отцовского двора и видя бесчисленные вороха сетей, развешанные на шестах для просушки, он впервые подумал по-иному:
«Вот Коляку искупал я подо льдом. А за что про что, спрашивается?.. Прав он был. Сбруи нет, а жить надо. Ну, и пошел по чужим оханам. Как же иначе-то? Не помирать ведь? Да я и сам готов сейчас уворовать у батьки сетку... Прав Коляка, ей-ей, прав! Не поговорил вот я только с ним как следует. А Митяй ведь и на него виды имеет...»
Яков вспомнил, что недавно он и Сенька снова собирались у Дмитрия Казака и порешили, не дожидаясь из района Буркина, выходить на лов.
«А может, зря мы поспешили? — с тревогой подумал он. — А вдруг Григорий Иваныч и Андрей Палыч с кредитами для артели вернутся?!»
Почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, Яков через плечо посмотрел на отцовский двор.
Трофим Игнатьевич вышел на улицу и, опершись плечом о косяк калитки, нещадно дымил трубкой.
— У-у!.. Жадина!.. — прохрипел Яков и быстрее зашагал к Сенькиному дому. — Все одно не пойду на поклон! Обожду еще день-другой. Ежели не пришлешь и попорченной справы — к Захару Минаичу, а то и к Алексею Фаддеичу в паи попрошусь, а к себе с поклоном не жди! Все одно не пойду!
И когда Яков свернул в проулок, нагнал его приезжий человек.
— Здорово еще раз, ловец-молодец! — весело приветствовал он Якова и, подмигнув, щелкнул портсигаром: — Закуривай, дружище!
Яков отступил и, недовольно взглянув на неведомого человека, прошел мимо.
«И откуда такой появился?» — недружелюбно подумал Турка о незнакомце и вдруг спохватился, припоминая, что он где-то встречался с ним давным-давно.
Оглянувшись, Яков увидел, как приезжий, попыхивая папиросой, свернул за угол.
— Тот самый! — вспомнил Турка. — В конторе у Полевого работал!..
Яков слышал, что Полевой, у которого батька часто брал под улов деньги, уже давно арестован в городе.
«А чего этому у нас надо? — И он еще быстрее зашагал к Сенькиному дому. — Здорово отчитал его дедушка Ваня. Ка-ак он его!..»
Глава седьмая
Древний дед подсказывал ловцам забытое, напоминал о прошлой вотчине, о промысловой барщине...
Давным-давно это было, не сосчитать и не объять памятью прошедшего.
Сам дедушка Ваня, да и другие ловцы полагали за ним полную сотню годов, но правильного счета никто не ведал. Ежели и сейчас спросить, сколько дед прожил на белом свете, то так же, как и пять и десять годов назад, древний ловец ответит одинаково: «Кажись, сотка, милый, а может, и больше...»
Смолоду он был кудряв и смугл, удалой плясун и песенник, лишь одна кручина — отца и матушки не помнил. Только люди сказывали, будто родитель его, не стерпев неволи у графа Протасова, учинил в подмосковной усадьбе бунт, за что и угнан был на Иртыш-реку; будто родительница его, в назидание холопам, была отнята от малого Ванюшки и подарена старым графом проходившему солдату, и увел ее тот отставной барабанщик куда-то под Новгород...
Сызмала Иван ходил за скотом на графских дворах, а к пятнадцати годам выдался Ванюшка в дюжего, коренастого паренька. И как раз в ту пору умер старый Протасов-граф. Понаехали из Москвы графские родичи, послужили панихиды, пожили, покутили в усадьбе и запродали ее вместе с крепостными соседнему дворянину. А тот, отобрав себе что понужнее, остатки перепродал дальше.
И пошел дворовый молодец Иван мыкаться от барина к барину, из имения в имение, пока не попал к его благородию — молодому помещику Губатову.
Прослышал Губатов про густые богатства нижней Волги, девяносто устьев которой кишмя-кишели рыбой, соблазнился даровой поживой и порешил перебраться в рыбный поволжский город. Отобрал он из дворовых людишек пятерых молодцов, остальных же и все прочее хозяйство распродал, сел в возок и покатил на Волгу.
В рыбном городе молодой Губатов перво-наперво принял чин и должность в канцелярии генерал-губернатора, а привезенных крепостных людей отдал в наем купцу-рыбнику.
Вскоре отрядил бравого служаку губернатор на взморье — учреждать нерушимые порядки, а будь там какие людишки окажутся, ставить пойманных в царев и божеский закон. В первый же день напал губернаторов законник на семь курных шалашей, притулившихся в камышах на песчаной проложине. Лихой барин, пересчитав плетью людей, разведал, что сидят в камышовом царстве беглые от именитых тамбовских господ.
Веселый Губатов размилостивился и объявил неизвестный дотоле поселок своей вотчиной.
На радостях он гульнул и, захмелев от браги, приказал беглым петь песни хотя бы про то:
Как на Волге-реке, в конце матушки, Да дремуч камыш там, ребятушки, — Эх ты, воля моя, Эх ты, доля моя...Народ песни сквозь слезы тянет, а барину — хаханьки.
Повелел его благородие на прощанье людям обживать хорошенько берега и все окружные воды и, довольный, повез царев закон по другим местам.
В те стародавние времена далеко слава великая шла вместе с песней горькою про понизовскую Волгу-матушку, про волю-волюшку... И на ту песню до богатого моря Каспийского шел со всех концов острожной Руси разноязыкий и безродный люд. Бежали сюда крепостные от барщины, служивые от царевой службы, бежали и те, кто провинился или ослушался барина, кому грозили смертная порка, острог, кандальная Сибирь... Тянулись на взморское приволье еще беглые каторжники, невольники, не знавшие ни роду, ни племени шатуны, бродяги, беспутные. Пробирались сюда и гонимые церковью православной братья старой веры... Однако же больше всего бежало на Волгу крепостного люда, коему постыл свет божий, суд царев да милость господская. И с котомкой также несли они думки свои: чем на барщине да с плачем жить, так уж лучше на просторе да с вольной песней помереть.
И всех принимала она, матушка-Волга, всех поила-кормила, всех скрывала в своих непролазных камышовых чащобах.
Селились беглые далеко от купеческого города — на самом выкате Волги в Каспий, иные забивались далеко в степи по берегам ильменей и волжских протоков; мастерили утлые челны, ходили добывать пищу — глушили палками рыбу и поджигали камыш, где жировал кабан.
Схоронившись в приморских камышах и никого вокруг не видя, люди спервоначалу радовались, что наконец-то они вольны, как птицы, наконец-то объявилась их заветная, счастливая доля.
Иной год только беспокоили кочевники, и тогда народ забивался все дальше и глубже в камыш...
Следом за трудовым людом поспевали на Волгу разные князья, графы, вотчинники, казенные правители, вроде Губатова. Всякий из них со своей ухваткой стал задерживать и ловить бежавших крепостных, обращая их на пользу хозяйскую да цареву. Еще издавна было повелено всемилостивейшей треклятой царицей Екатериной задержанных беглых, которым полюбилось жить в поволжском понизовье, бить батогами не ниже трех раз и, кто сознавался, высылать обратно к помещикам, а которые не знали ни своего барина, ни имени, ни того, где рождены, — тех приписывать к казенным вотчинам и оставлять при рыбных промыслах.
— Воля холопов портит, — таков был указ, — а неволя учит...
Рачительные хозяева и правители рыбного города, охотясь на вольных людей, приписывали их без хлопот не к казенным местам, а поближе, к своим. По их примеру поступил и Губатов, открыв в приморье неизвестный дотоле поселок с двадцатью четырьмя безродными людьми; присоединил он к ним еще взятых от купца пятерых своих крепостных, — тут-то и вышел Ивану ловецкий путь.
Но где ветер да море, там тоже неволя. Оказалось, что и тут нет доли, и тут нет житья. Слышно было, как песни пели, да не слышно было, как волком выли...
А раз уже довелось хлебнуть соленой воли, люди сызнова бежали из вотчины; одни селились в самой прикаспийской глуши, куда ни пройти, ни проехать, другие бежали куда песня вела: в степи, на кубанскую сторону, за Яик.
Побежал и Иван из губатовской вотчины, но у беглеца одна дорога — куда глаза глядят! И его скоро словили. На порке он не признался, какого хозяина человек, а объявился Иваном, не помнящим роду-племени, и тут его приписали к казенной вотчине. Недолго маялся Иван — и отсюда бежал он. Может, гнала его бунтовская кровь отца, или та песня о дремучих камышах не давала ему покоя, — четыре раза бывал Иван в бегах и каждый раз попадал на цареву стражу.
«Видать, на роду написано», — горестно думал он.
Долго маялся Иван на государевом промысле, где только песня помогала коротать работу. И вдруг удивил однажды необычайной своей силой купца-рыбника, заехавшего в гости к промысловому приказчику.
В ту пору Ивану было уже годов двадцать пять. Широкоплечий, загорелый, носил он в себе дикую, первобытную силу. И похвалялся им приказчик купцу:
— Во сила так сила! Самого чорта на лопатки, не дай бог!..
И приказывал Ивану показать силу.
На спину Ивану взгромождали днищем вверх посудину, и, чуть сгибаясь под нею, он легко проходил по берегу с десяток саженей, потом подымал огромный чан с рыбой, сдвигал одним плечом забор с места, вырывал из земли ветлу с корнем.
Удивленный тороватый купец выменял Ивана у приказчика за ласковую заморскую собачонку, ученую плясать на всех лапках. Как раз в те времена купцы начинали забирать силу: по-всякому промышляли они себе людей на промыслы, принимали даже беглых — песенный народ.
Вскоре Иванов купец стал снаряжать своих людей в первый поход на кипучее море: метил он послать с ними и нового работника. Тогда-то, около сотни годов назад, лов проводили только в низовьях Волги, в изобилии вылавливая красную рыбу: осетра, севрюгу, белугу. Лишь немногие отваживались в те годы выбегать на глуби Каспия, да и незачем было — рыба так густо шла по волжским протокам, что порою даже сеть не выдерживала ее и рвалась, а воткнутый в косяк шест проплывал стоймя по реке многие-многие версты... Но тут купцы широко наладили переправу рыбы в российские города, да и народу прибавилось на Волге изрядно. В протоках и ериках красной рыбы не стало хватать на всех ловцов. Хотя и ловили, кроме этой благородной, на барский стол, рыбы, еще и частиковую — судака, селедку, сазана, леща, воблу, — однако употребляли ее больше на жиротопление. Но Иванов хозяин и эту рыбу начал продвигать на московские и прочие базары. А людей все прибавлялось и прибавлялось, — так уж исстари повелось:
Волга, Волга, мать родная, Принимай-ка беглеца...Тогда в погоне за большим уловом люди всё чаще и чаще стали ходить в море, исподволь привыкая к нему.
В первый же глубьевой поход Иван сбежал с купеческого промысла. Продравшись сквозь дремучие камышовые заломы в самую дальнюю часть приморья, что сходилась с пустынными горячими степями, он забился в тихий, глухой култук, где и нашел под конец свою нескладную долю... Сладил он из камыша шалаш, сбил ладью, а вскоре и повстречался здесь, на самом краю света, с такими же, как он, беглыми, — беда не ходит одна. И повенчался вокруг ветлы Иван с Дарьей, что была трижды венчана, а с мужем не живала...
Много ли, мало ли годов после этого кануло в воду — Иван не помнит; только поползла однажды по упрятанным в камышах поселкам молва о том, что будто вышла на русской державе крестьянам воля. Но каковы веки, таковы и человеки: не поверил Иван тому, не поверили и люди, с которыми жил он теперь уже в шестнадцати шалашах, никуда особо далеко не выезжая. Кругом вода, а посередине остров да беда... Но молва про волю шла настойчиво.
Как-то раз пробился Иван сквозь камышовую крепь в обширный, многоводный проток — и диву дался, когда увидел два поселка, открыто стоявших на ближних буграх.
Расспросил Иван людей — и действительно, уже сколько годов назад была дана крепостным воля. А вслед за этим обнародовали в Прикаспии и рыболовный устав, что уничтожил промысловую барщину и основал вольный билетный лов.
Приметил еще бородатый Иван наново выстроенные промыслы; увидел и то, что селедку, которой поначалу брезговали, считая бешеной рыбой за ее буйный, в миллионы голов, ход, теперь солили и несчетными тысячами бочонков отправляли в верховья Волги...
А вскоре по протокам зашумели и суда-самоходы: баркасы, буксиры, пароходы.
Пожил-пожил Иван в новой жизни, и обернулась воля неволей.
Как и по всей Руси земля оставалась у помещиков, о чем сказывали все прибывавшие на Волгу крестьяне, так и здесь после обнародования рыбного устава все водные угодья оставались у купцов, у казны, у монастырей.
По уловищам разъезжала стража, оберегая хозяйские воды. За самовольный лов людей сажали в кутузки, отбирали сбрую. Негде было развернуться ловцам, приходилось идти в кабалу или к барину, или к казне.
А безземельный народ, у кого добра всего трубка да песня — из-под Тамбова, Пензы, Твери, Воронежа — попрежнему валом-валил в понизовья Волги, надеясь найти здесь лучшую судьбину... К шестнадцати шалашам, в которых обитали дядя Иван и его товарищи, скоро прибавился еще десяток шалашей, потом другой десяток; после начали рыть землянки, ставить мазанки, а вскоре появились и тесовые избы. И приписали прежний безымянный поселок к волости, назвав его Островком, — да и расположен он был как раз на небольшом песчаном острове, окруженном водою и камышом... А народ со всех концов царства русского не переставая шел на Волгу — кто совсем на житье, кто на знатные заработки, за копеечкой с коньком.
Росли промыслы, ширился лов. Становилось тесно орудовать сетями не только на волжских протоках, а даже и на самом взморье. Ловцы стали выходить еще дальше на глубь Каспия и там встречать рыбные косяки.
Как и прежде, по следу обездоленных пробирались сюда темные дельцы, пройдохи, оскудевшие помещики, провинившиеся генералы, спившиеся чиновники и прочая картежная шатия. Все тянулись к этой золотой рыбной ямине в ненасытной жадобе к легкой наживе.
А вскоре случился на Руси повальный голодный год, который привалил к волжским берегам видимо-невидимо крестьянского люда. И рыболовное хозяйство приморья стало расти быстрее прежнего. Ежели до воли насчитывалась здесь какая-либо полсотня промыслов, то теперь их стало полтысячи. И пошла, завертелась жизнь в Прикаспии! Ловцы не переставая добывали рыбу, везли ее на купеческие промыслы, зарабатывая полные горсти мозолей, а хозяева безостановочно гнали рыбные товары в верховья Волги, на восток и запад России, на Урал и даже к иностранцу.
Все больше становилось пароходов, они днем и ночью бороздили тихие волжские протоки, выходили на Каспий; скоро появились и первые шаланды — морские пловучие промыслы.
На Волге стало круче, чем было до воли. Тогда, в барщину, можно было хоть сбежать да укрыться в непролазных заломах камыша, а теперь и воля будто, и податься некуда. Знай кланяйся купцу да работай поспевай, а кричать, что тяжко, — можно только в песне.
Особо сильную власть имели над ловцами скупщики, которые исподволь выходили в именитых купцов, рыбопромышленников, пароходчиков.
Снабжая ловца сетями, хлебом, билетом на право лова, водкой, скупщик так забирал его в свои лапы, что ловец до конца дней своих не мог свободно дохнуть.
За кредиты, которые выдавались под улов, ловец сдавал своему благодетелю рыбу по заранее установленной цене, которая обычно оказывалась ниже рыночной. И как бы ни был хорош улов, ловец всегда, хоть малой долей, оставался в долгу у скупщика. А не то случался пролов или другая незадача с путиной, — благодетель милостиво обещал потерпеть, откладывая долги до следующей путины, суля новые кредиты и ублажая ловца водкой, чтобы отвел он душу, не горевал.
«Да и не вечно же горевать! — думалось Ивану. — Бывали всякие бывалости. Да и что говорить: на воде жить, на воде и голову сложить».
Так же говорили и люди из города — пароходские матросы, грузчики, разные мастеровые...
Сказывали, что был это девятьсот пятый год, когда вдруг зашумел в городах фабричный люд, с дубьем и вилами поднялась крестьянская Русь, — тогда Иван, уже дед, вместе с ловцами пытался разделаться с промысловыми хозяевами. Но правители города наслали в приморье казацкие сотни, нагайками разогнали ловцов на посудины и приказали: «Ходи в море и там бушуй!..»
Так и провековал Иван в людях век, подкрепляя своим горбом купеческие миллионы. Немало было в те времена таких рук, как у деда Вани, которыми хозяева наращивали звонкий рубль на потной копейке.
И век отжил Иван — и в руках ничего. Зато в чужих руках росли богатые промыслы, купцы строили каменные, по нескольку этажей, дома, воздвигали многоглавые церкви. Иван же только и смог, что переменил камышовый шалаш на однооконную мазанку.
Все мыкаясь по морю за фартом в надежде на лучшую долю, дожил он и до сутулой старости, что согнула его спину, свела ноги. И теперь не упомнить деду, когда умерла его Дарья, и сын Степан, и внучка Фрося.
Будто вовсе отвековал Иван, так и не дождавшись отрады. Но бегучее время растит других сынов и внучат. И встретил ту волю, про которую пели целые века, уже древний дедушка Ваня. Да только посмотреть ее по-настоящему не довелось ему. Всего и успел взглянуть на то, как ловцы, прослышав, что под конец-то скинули окаянного царя-батюшку с престола, побросали лов и истово гаркнули: «Вали сплеча!» — и ладно забушевали, изничтожая стражников, выгоняя с промыслов и поселков купцов, приказчиков, скупщиков. А вскоре ловцы послали в город двадцать семь отборных ребят на помощь рабочему люду, что заперся в крепости от восставшего казачьего офицерства... Потом нагрянули в приморье белые казаки. Ловцы свое: «Была не была!» — и в схватку с ними. Из города вышли на подмогу мастеровые — красногвардейцы. И пошла по всему каспийскому поморью битва...
Тут-то и стряслась с дедушкой напасть: пропало солнце навеки, перестали видеть дедовы глаза. Случилось это так. Ловил дедушка Ваня неподалеку от Островка: глубже на море опасно было забираться — там, говорили, разъезжают белые казачьи отряды. Были с дедом и еще ловцы. Перед вечером на уловище наскочил казачий баркас. Согнали казаки ловцов на берег, отобрали посудины, сетку. Старикам велели по воде пешими пробираться, а молодых оставили себе. «В наше войско пойдут!» — заявил о молодых казачий начальник. Но старики вместе с молодыми наперекор выступили. А начальник в ответ: «Гони всех на промысел!..» Полную ночь мерз дедушка Ваня в ледяных выходах на промысле, где хранили присоленные рыбные товары: чуть не окостенел он вместе с рыбой в набитых льдом выходах. Наутро над дедом смилостивились и выпустили из подвалов. Решил он как-нибудь добраться до Островка. И только вышел за промысел, как вдруг остановился и обмер.
В двадцати шагах от него шевелился бугор.
— Что за притча? — и дедушка протер глаза.
Шепча молитву, дед подошел ближе. Подняв валявшийся возле обломок весла, он начал осторожно разгребать свежую глиняную насыпь. Откуда-то из-под земли исходили человеческие стоны.
Не переставая шептать молитву, дедушка поспешно разбрасывал веслом с двигавшейся насыпи глину. Не успел он поглубже раскопать холм, как вдруг из него поползли в разные стороны, изуродованные и все в крови, недобитые казаками ловцы, что вчера отказались идти под их команду.
Ловцы всё ползли и стонали; иные пробовали приподняться, но тут же падали и опять ползли.
А дедушка, отступая, закрыл ладонью глаза, и когда отвел от лица руку, то уже солнца — как не было, багровая пелена заложила вольный свет, словно та кровь, которой истекали ловцы, сожгла его глаза.
С тех пор и не видит дед...
Но еще чуют землю ноги, слышат уши море, и цепко хватают сетку руки, хоть и ноют кости.
— Эх, кабы глазоньки были целы, — часто сокрушался дед. — Глянуть бы мне на мир нонешний — бесцаревый... Чую душою новую жизнь, а охота вот еще глазоньками глянуть. — И подолгу безутешно плакал, но и слез уже не было у слепого ловца, плакал он тихо и молча, одним сердцем. — Глазоньки вы мои!..
И сейчас, слыша, как идут с песнями под гармошку парни и девчата по берегу, дед одиноко сидел на пороге, вытирал сухие незрячие глаза.
— Вот и волюшка золотая, а глазоньки не видят ее.
Гулянье девчат и парней снова и снова наводило его на мысли о том, как молодой Губатов разлучил кудрявого Ивана с первой любимой, как Протасов-граф разбросал его, Иванова, отца и мать по разным местам и как один, круглой сиротой, мыкался Иван сызмала по вотчинам.
— Вот она, прежняя-то, с достатком да со всем вдосталь жизнь! — как бы отвечая кому-то, взволнованно прошептал слепой ловец, прислушиваясь к задорным голосам, что неслись уже с задов Островка, где гуляли перед выходом в море парни с девчатами.
И в самом деле: им и непогода нипочем, и туманы, что еще вместе с сумерками хлынули на Островок. И настолько был густ этот белесый, со стылою влагой туман, что, казалось, поселок затопили высоко поднявшиеся воды Каспия. Молодые ловцы и рыбачки двигались медленно, чуть ли не ощупью, напоминая собою черные тени.
Было пронзительно зябко.
Но недолго качались туманы над Островком: вскоре набежал легкий, с теплынью, зюйд-ост; свертывая полог тумана и приземляя, ветер погнал его в сторону камышей и дальше — в степи.
А потом выплыл молодой и тонкий, как изогнувшаяся стерлядка, месяц; вслед за ним по густосинему небу, похожему на затихшее предвечеровое море, зароились тысячи и тысячи звезд, словно шли куда-то по синему океану неба несчетные косяки рыбы.
Все крепчая, зюйд-ост навалисто и мерно поплыл, разливая по приморью пахучую свежесть Каспия. Сумерки все сгущались, переходя в черную, смолистую ночь, а вместе с нею приплывали с моря и грозные, тяжелые тучи, но зюйд-ост быстро пронес их дальше в верховья Волги. И опять просветлело небо; и опять в нем ярко задрожали, заискрились звезды.
Островок, залитый тягучим, просоленным ветром, беспечно дремал. Только где-то на краю поселка все приглушенно стонала саратовская гармонь с колокольчиками. Тоскливые звуки медленно плыли над берегом, уходя все дальше и дальше в приморские просторы. Но вот гармонь, как бы широко дохнув, залихватски рванула переборы во все лады, а потом опять стала тужить, расслабленно позванивая колокольчиками.
Негромкий голос грустно тянул:
Скоро в море мы уйдем, Прощай девки, прощай дом.Могучий голос подхватывал:
Взброшу парус, флаг откину — На три месяца вспокину.И так, то один, то другой, тянули задушевные волжские припевы о том, что любимая, оставшись дома, не должна горевать да плакать по ловцу, а то накличет беду; пели и про то, как ловец встретит в море косяк и нальет рыбой полным-полнехонько свою посудину.
Долгое время кружили припевы во влажной, ветровой ночи. В припевах чудились грусть и тихий ропот на тяжелый ловецкий труд, жалоба на крутую ловецкую судьбину, на ветры и волны, что подстерегают ловца на каждом шагу. А потом под гармошку похвалялись:
Был я в море на волнах, Видел чорта в кандалах.Уже совсем тихо тужила гармонь, и никто не подпевал, как вдруг, точно желая продлить припевы, торжественно протрубил в вышине лебедь.
В это время из-за шишей камыша показались парни и девчата; впереди шел краснощековский Илья с гармонью подмышкой.
— Зайдемте к Митьке Казаку, — позвала Мария, Туркина дочка.
— Лихоманка его мутит, — неохотно предупредил Тимофей Зимин. — С относа простыл он наскрозь.
Тимофей хотел было свернуть в проулок, чтобы уйти домой, — ему надоела гулянка, его донимали мысли о выходе в море.
Заметив, что Тимофей намеревается отстать и уйти домой, парни взяли его в кольцо, а Илья задористо сказал:
— Сегодня гульнем, а завтра, может, в море все ударимся!
«Все, да не все, — угрюмо подумал Тимофей. — Кто ударится, а кто и вслед поглядит».
— Брось, Тимоха!
— Зайдемте за Зинкой!
— Нюрки еще нету!
— Агафьи тоже!
Вошли в узенькую, кривую улочку, и когда Илья снова ударил в гармонь, парни громко запели:
Камыш палят, камыш жгут, Нас девчонки давно ждут!И как бы в ответ им тоненько прозвучал девичий голосок:
А я вышла, вышла, вышла, — Саратовску гармонь слышно.Кирюха Цыганенок, в огромной шапке, выскочил вперед и ладно подзадорил:
А я парень — грудь горой, Девки щучатся за мной!Из-за угла дома Андрея Палыча вышли девчата, — шли они шеренгой, в обнимку. И когда поровнялись с парнями, Зинаида, подбоченясь, трогательно запела:
Черны глазоньки с отливом, Сама пахну черносливом...Девчата толкнули Зинаиду к парням; ее подхватил Цыганенок. В это время кто-то подставил Кирюхе подножку, — он упал, на него повалилась Зинаида.
— Куча мала!
— Мала-а-а!..
Воспользовавшись суматохой, Тимофей незаметно скрылся за угол.
Крики и смех ненадолго оживили Островок, и как только успокоилась молодежь, поселок опять заполонила пустынная глушь.
Впереди шли попарно Илья и Мария, за ними — Цыганенок и Зинаида, остальные двигались позади гурьбой, тихо посмеиваясь и перешептываясь.
— Эх, Сеньки нету! — пожалел кто-то из парней.
— А чего он тебе? — и Зинаида обернулась, пристально оглядывая ребят.
— И тебе бы за гулянку всыпал, и нам с ним веселей!..
Парни рассмеялись, а Зинаида не то шутя, не то серьезно ответила:
— Он к нам сватьев еще не засылал, а стало быть, и всыпать руки коротки.
На платочке, в уголочке, Желта канареечка, Я сама свому миленку Стала лиходеечка.Это пела Зинаида, подхватив Цыганенка под руку.
Когда проходили мимо мазанки дедушки Вани и заметили на пороге одинокого древнего ловца, все остановились и разом, дружно сказали:
— Добрый вечер, деда!
Слепой ловец слегка качнул головой:
— Добра ночь, ребятки-девчатки!
— Не спится, деда? — нагибаясь к нему, участливо спросил Цыганенок.
— Не спится, паренек. Никак не спится... Косточки ноют. Так ноют, хоть отломи да брось иль живой в могилу залазь.
Опираясь о плечо Цыганенка, Зинаида попросила:
— Загадай нам, деда, загадку!
Вытянув кривые, изуродованные простудой ноги, дед сказал:
— И крылья есть, а не летает, и без ног, а не догонишь.
Все задумались.
— Аэроплан! — отозвался Илья.
Отрицательно покачав головой, древний ловец повторил загадку.
— Рыба! Рыба! — звонко выкрикнула Зинаида.
— Она и есть, дочка.
— А вот отгадай, деда, — и Зинаида отошла немного в сторону, понизив голос, — кто с тобой говорит?
— Чего ж, дочка Андрей Палыча — Зинуха!
— А кто про аэроплан сказал?
— Илья. Сын Захара Минаича.
— А кто сказал про то, что не спится?
— Ну, будет, Зинуха! — недовольно сказал дед. — Поди, не дурее тебя?
— Ты чего? Обиделся, деда? — Зинаида подошла ближе.
— Нету, — он ласково потрепал нагнувшуюся к нему молодую рыбачку. — Ну, идите своей дорогой. Посмейтесь, пошумите... А то пареньки не седни-завтра в море уйдут, а девчатки горевать останутся.
Илья широко развернул мехи саратовской — гармонь заплакала, а Мария приглушенным, гортанным голосом затянула:
А я выйду на край поля — Не бежит ли милый с моря...Улыбаясь, дедушка долго прислушивался к припевам молодежи. Ведь и он когда-то был таким же удалым пареньком, как Кирюха, как Илья... Но парни тогда не певали вот этого припева, что сейчас озорно вскинулся над поселком:
Вместо ладанки, креста, Милка компас принесла.Долго еще пела молодежь и о том, что в районе заправляет теперь делами не стражник, а Гришка-рыбак в Совете орудует; похвалялись и тем, что скоро ловцы весла и паруса сменят на моторы, заживут артелью.
И нет, кажется, конца припевам, не дождешься... С трудом разгибая поясницу, дед выпрямился и, приговаривая свое обычное, шагнул в землянку:
— Ноют косточки... Освежить надо...
Достав из-под койки бутыль водки, настоенной на травах, дед опять вышел наружу. Он поднял голову, будто что видел своими черными впадинами глаз, и долго стоял так, прислонившись к косяку.
А ночь выдалась тихая, напоенная пахучими ветровыми запахами. С моря попрежнему тянул тепловатый зюйд-ост.
Глубоко и ровно дышал дед, вбирая бодрые, душистые волны ветра.
— Рассвет, должно, скоро. Освежу косточки и сосну часок-другой.
Присаживаясь на порог, он снял с горлышка бутылки чашечку и опустил в нее указательный палец, чтобы чувствовать меру и не перелить через край.
Только забулькала водка, как ловец насторожился, перестал наливать. Поблизости кто-то находился — у деда тонкое, обостренное чутье.
— Кто тут? — спросил он и снова стал наливать водку.
Отставив бутыль с чашечкой за порог, в землянку, он громче переспросил:
— Кто тут, говорю?
Невдалеке, всего в каком-либо десятке шагов от землянки, кто-то, не в лад переступая ногами, крадучись пробирался на берег.
«Что за человек? И не отзывается...» — подумал дед и, поднимаясь, нашарил в дверях пешню.
— Кто, спрашиваю?
Человек остановился и, словно сразу обледенев, долгое время чернел недвижной глыбой.
Размахивая пешней, дедушка двинулся к протоку, где стоял выдвинутый на песок его кулас; с опаской поглядывая в сторону человека, который, казалось ему, направлялся к куласу, он снова спросил:
— Кто ты, спрашиваю? — и угрожающе поднял пешню.
— Да все я, — недовольно отозвался человек и зашагал к слепому ловцу.
— А-а-а... Лексей, — старик признал Лешку-Матроса и повернул к мазанке. — Чего бродишь по ночам, ровно сазан в мутной воде?
Лешка молчал, переминаясь с ноги на ногу; когда дед опустился на порог, он присел рядом.
«И чего не спит, седая душа?» — сердито подумал Матрос. Он уже несколько раз выходил на берег, надеясь, что вот-вот запрется в своей мазанке дед и тогда он сможет незаметно взять его кулас и быстро — за ночь — съездить в район, чтобы разузнать про дела Андрея Палыча.
— Чего, говорю, бродишь? — и слепой ловец легонько подтолкнул Матроса локтем.
«А так все одно не даст, — думал про свое Лешка. — Лучше и не проси! Украдкой только взять можно».
Подлив в чашечку водки, дедушка в один глоток выпил и, отдуваясь, сказал:
— Хороша калган-трава!
Матрос покосился на деда.
— Может, выпьешь? — предложил слепой ловец.
— Нету... — глухо ответил Матрос.
— Почему так?
— Не до выпивки теперь!
— А что такое?
— На сердце муторно, дедок.
— Вот и выпей чашечку — зальешь горе!
— Не хочу, — Лешка тяжко вздохнул. — И море песком не засыпешь, и горе водкой не зальешь...
— Выпей, прошу! — и дедушка осторожно наполнил чашечку. — Ей-ей, полегчает!
Матрос отвернулся.
— Пей, говорю! — уже сердито сказал слепой.
Лешка молча отвел руку деда в сторону и задумался.
Ои хотел рассказать делу про незадачу с Андреем Палычем, который вот уже как полмесяца уехал в район и от которого нет никаких вестей. Но зная крутой нрав деда и то, как бережет он свою лодку, Матрос не надеялся, что слепой ловец даст ему хотя бы на одну ночь кулас. Поэтому Лешка решил перевести разговор на другое:
— Спрашивал, что закручинился я?.. А чего же мне веселиться-то?! Путина привалила, а подымать рыбу нечем. Ты вот хоть на куласе да кое-как, а таскаешь уже рыбеху. А я и Костя — тут, а Андрей Палыч — в районе...
Лешка взглянул на деда, — тот внимательно слушал его, перебирая худыми и длинными пальцами полы ватника.
— Ну, ну, говори, — заторопил он умолкнувшего Матроса.
А тот все молчал и нерадостно поглядывал на яркий месяц, что обильно рассыпал над Островком свои тончайшие серебряные сети. Небо казалось мирным, заштилевшим морем, а звезды, будто золотые островки, густо раскинулись по нему.
— Смолк, голубь сизокрылый? — и дед уставился на Матроса.
— Да чего говорить, седая твоя душа!.. Дела надо делать!
— Какие дела?
— Такие вот!.. — Матрос вскочил, разрезал рукой воздух, скрипнул зубами.
— Сядь, милай, сядь!
Лешка медленно опустился на порог и, обхватив голову руками, слезно сказал, словно пропел:
Голова ты, моя головушка, Удалая моя голова...Древний дед похлопал Матроса по плечу:
— Слезу лей, да дело, голубь сизокрылый, разумей. На час ума не хватит — навек дураком прослывешь.
— Разумею, дедуша! — и Лешка снова вскочил на ноги. — Знаю, все знаю!
— О чем же тогда горюешь, милай?
— О чем? — и Матрос зло усмехнулся. — Дойкиных да Коржаков взнуздать надо! На кукан посадить! Вот о чем речь...
Согласно кивая головой, дед тихо, раздумчиво сказал:
— Так, милай. Верно берешь! Оно известно: кто в море бывал, тот лужи не боится.
— Точно! — и Лешка поцеловал деда в голый желтый череп. — Я, дедуша, завсегда так говорил.
— Сядь, милай, — ловец за рукав потянул Матроса к себе.
— На кукан их надо! На кукан!.. — грозился Лешка — Ты слышал, дедуша, как их в городе?
— Слышал, милай, слышал, — древний дед устало вытянул ноги. — Известно, голубь сизокрылый: щука — рыбка увертливая, обжористая. Сколь веков вот ее ловим, а на убыль, нечистая, туго идет, и все пожирает, пожирает ладную рыбу. — Так и тут, с этими рыбниками, — беда с ними!.. Но рыбники — вникай, милай, — не в море живут, а с нами заодно. Стало быть, легче и разделаться с ними. Главных-то, милай, щук давно уж повывели. Сам же ты в городе в крепости был и по разным фронтам бился. Где всякие там миллионщики — Беззубиковы, Сапожниковы? А Лбовы где, Агабабовы, Кононовы? Царство им, проклятым, небесное! Должно, и сам ты спроваживал их туда... Вот, голубь сизокрылый, остались теперь уже не щуки, а только щучки, мальки, что поверх воды шныряют. По этим только хлопни веслом — и брюхо кверху. Не так ли, милай?
— Правильно! — радостно подхватил Лешка. — Правильно, седая душа!
— Постой, постой! Я вот к чему все это говорю: не надо, милай, тужить, не надо кручиниться. Партейный народ-то знает, что делает. Раз в городе взялись они за щучек — стало быть, и тут этой рыбешке, голубь сизокрылый, не жить.
— Да терпежу нету, дедушка! В городе то уже давно начали, а тут что? Штиль, что ни на есть, полный!
— А чего же не шумишь? Ты ведь партейный человек!
— Я не шумлю? Шумлю, дедок! Андрей Палыч даже в район покатил от моего шума.
— Хорошо! Оно известно: ежели скорей мальков-щучек изничтожить, лучше будет — щука не вырастет.
— И я так говорю, дедуша! — Матрос прижался к слепому ловцу и, теребя его за пуговицы ватника, жарко задышал. — Знаешь, седая душа, какое я дело удумал? Хочу в район ехать, на помощь Андрей Палычу, а ежели ничего там не выйдет, то в город махну, а не то и в Москву!
Отодвигаясь от наседавшего Матроса, дед недоуменно спросил:
— А зачем в Москву?
— Зачем, зачем! — гневно повторил Лешка. — В прошлом году, помнишь, я Коржака за движимое-недвижимое крепко отчитал?.. А район чего? Осудил меня, да чуть не посадили.
— Ну, тогда в город толкнись.
— И в город сигналил, дедок, да вот пока — ни слуху ни духу.
— Да-а, — вздохнул древний дед и снова попытался отодвинуться от Матроса. — Всякие бывают люди, милай. В море ведь иной раз глубины, а в людях правды не изведаешь. Или то взять: в одном осетре есть икра, а другой — и с виду он как будто подобротней, но пустой.
— То-то вот и оно! — и Лешка, наседая на деда, продолжал трясти его за пуговицы ватника и горячо, взволнованно говорить. — Самим надо приниматься за дело! Самим браться за ум, дедок!
— Оно, вестимо, милай: на ветер надеяться — без посудины быть.
— Самим, самим, дедок...
Лешка замолчал; припомнив, на чем остановил его слепой ловец, он вновь заговорил:
— Заявлюсь это я в Москву — и к самому Клименту Ефремычу!
— А кто он такой? — спросил дед.
Матрос вскочил, подтянулся, взял под козырек и, словно рапортуя, отчеканил:
— Товарищ Ворошилов — Народный комиссар по военным и морским делам, председатель Реввоенсовета!
— А-а-а... — Слепой ловец закивал головой. — Знаю, слыхал.
Лешка, не слушая деда, уже светился своей всегдашней лучистой улыбкой и, прислонясь к косяку двери, чуть слышно, мечтательно говорил:
— Заявлюсь это я к нему и скажу: «Здравствуйте, Климент Ефремыч! Помните красного моряка Лешку Зубова, который под Царицыном на катере ходил, приказы товарища Сталина и ваши выполнял?.. Помните?..» Вспомнит он, дедуша, меня. Ой, вспомнит!.. А я дальше ему: «Выручайте, Климент Ефремыч, от беды! За подмогой к вам явился. Житья от дойкиных и коржаков нету. Выручайте, Климент Ефремыч!..» И поверь, дедуша, — выручит, даст подмогу. Вместе же всяких Красновых да мамонтовых изничтожали... Помнишь, дедок, как он меня с ногой выручил? А помнишь, как тогда целый воз книг прислал?..
Все знали: каждый раз, когда обращался Лешка с какой-либо просьбой-письмом к Ворошилову, он всегда откликался. Касалось ли это ноги-протеза для Лешки, или пополнения библиотеки Островка, или организации стрелкового тира в поселке, — нарком неизменно оказывал помощь.
— Помнит он своих бойцов, — продолжал Матрос. — Хорошо помнит!.. Климент-то Ефремыч, дедуша, бо-ольшой герой!
Лешка долго рассказывал слепому ловцу про Ворошилова и про то, как он, Лешка, выполняя его приказ, однажды заехал по Волге далеко в тыл белых и, высадившись с отрядом матросов, атаковал большой обоз, который перевозил на вражеские позиции ящики с патронами. Согнав обоз на берег и перегрузив ящики на забуксиренный дощаник, Лешка повел катер под другой берег Волги и без помехи проскользнул к своим.
Рассказывая о расправе над белым офицером, что сопровождал обоз и пытался подпалить ящики с патронами, Матрос привскочил и, хватая воздух рукой, сказал:
— Я его, г-гада, черк за жабры! — и он до хруста в пальцах сжал увесистый кулак. — А когда отъехали мы от берега, вывел я его на корму и командую: «Становись, г-гад, лицом к Волге — к Волге-матушке-реке...» Стал он и молчит. Тут я и прочитал ему приказ: «Именем советской-ловецкой власти сматывайся, г-гадюка, на тот свет!. »
Матрос наклонился к слепому ловцу и спросил:
— Ты слышишь, седая душа?
— Слышу... — сквозь дрему еле внятно протянул тот.
— Э-эх, дедуша, дедуша! — Лешка печально покачал головой. — А как мы ворвались в Царицын, когда там Врангель был... Это- уж после случилось... У-ух, мать честная, что было!.. В Царицыне штаб белых находился, войска не счесть, а мы, сотня-другая какая матросов, подкатили к заводу, что под самым городом стоит, и десантом на берег. Оттуда — на город! А белые: «Что такое? Не фронт ли красные прорвали?..». Паника пошла. А мы свое — швыряем гранаты, рвемся к центру города. Белые генералы уж собирались тикать.
Матрос замолчал, нахмурился.
— Не добрались мы тогда в самый центр города, седая душа... В кольцо нас взяли. И что тут было, дедуша! Сколь дружков полегло!.. До останней гранаты, до останнего патрона бились мы. А многие дружки-та останний патрон в себя пускали. Не хотели белого плена... Прорвались все-таки мы, оставшиеся, на берег — и прямо в Волгу. Выноси, родимая!.. И пошли по волнам: кто вплавь, кто на бревне, кто на чем. А пули по нас, как дождь проливной...
Дед слушал и дремал.
А Лешка уже снова рассказывал про Ворошилова, про его необыкновенную храбрость и смелые, остроумные планы, — рассказывал про то, как Ворошилов, желая выручить окруженный в Мартыновке трехтысячный отряд Красной Армии, сам двинулся во главе конницы, вместе с Буденным скрытно пробрался в тыл противника и лихим, внезапным ударом разорвал кольцо, вывел отряд из окружения.
— Климент Ефремыч, дедуша, завсегда быстро решал задачу. Один раз, когда белые прорвались между Бекетовкой и Отрадным и были уже на окраине Царицына, он — раз им навстречу запасную бригаду! Белые — назад, врассыпную. И опять город в безопасности...
Дед поднялся и, что-то сонно пробормотав, ушел в мазанку.
Лешка молча и долго стоял у двери, затем не спеша зашагал по берегу.
Крутая темь, будто смела, залила весь поселок. Изредка приглушенно гукал рыхлый лед, словно где-то далеко разрывались снаряды. В ответ так же глухо плыло по взморью эхо, напоминая топотавшую вдалеке конницу. Совсем низко над поселком пролетела-запоздалая партия гусей; вожак громко, будто гудок катера, окликал отстающих.
Лешка остановился, откинул на затылок бескозырку и устало провел рукой по лицу.
Слышно было, как тревожно скрежетали, передвигаясь по протоку, льды.
Вдруг кто-то тихонько, вполголоса затянул молитву:
— Кре-сту твоему по-кло-ня-емся-а, вла-адыыко...
Взглянув вдоль берега, Лешка, заметил: невдалеке то и дело вспыхивал слабый огонек.
«Дойкинская святоша, — подумал он о Польке-богомолке, — уже у Николы-чудотворца орудует».
— ...И святое воскресение твое поем и слаа-авим, — протяжно пела Полька.
Перед каждой путиной она все ночи проводила у столба с крышей-гробиком.
Полька не давала угаснуть огоньку, что зыбко колыхался в малиновой лампадке перед, ликом, Николы-чудотворца.
Проходя мимо, Лешка, разглядел черную, в длинной ряске, богомолку — она, низко кланяясь иконе, шептала и пела молитвы.
Заслышав ловца, Полька взвизгнула и, схватив обеими руками большой крест, что висел у ней на якорной цепке, быстро, замахала им:
— Свят, свят, свят!..
Лешка всердцах подумал:
«Чего ее так чертяка разбирает!»
А она ошалело, на весь поселок, вновь затянула молитву:
— Да воскреснет бог, и расточатся врази его!.. — и еще быстрее замахала крестом, отчего громко залязгала цепка.
Махнув рукой, Лешка зашагал дальше.
В ловецких домах огней уже не было — давно все спали. Лишь изредка гавкали собаки, да дойкинский Шайтан неумолкаемо громыхал проволокой.
Не доходя нескольких шагов до дома Василия Сазана, Лешка остановился, прислушался. Переговариваясь, из Васькиного двора выходили люди.
«Что тут за крестины-именины Настя устраивает? — подумал Матрос о Сазанихе, что недавно чуть ли не на льду родила ребенка. — Васька в относе, а она...»
Люди, будто слепые, двигались прямо на Лешку — должно быть, только вышли от Сазанихи и не успели ещё приглядеться во тьме.
Едва не столкнувшись с Матросом, мимо прошел Дойкин, за ним старый Турка. Подавшись от них в сторону, Лешка не успел опознать двух других, что шагали немного поодаль от Алексея Фаддеича.
— В другой раз, — чуть слышно сказал Дойкин, — надо Захара Минаича позвать.
— Ноги со страху отнимутся! — сердито откликнулся Турка.
— Потише... — предупредил Дойкин. — Непременно надо позвать... Сам понимаешь — такое дело!..
Дальше Лешка не расслышал, — люди, должно быть, свернули в проулок.
«Вот оно что?! — задрожав, подумал, он. — Собираются, значит, г-гады!..» — и осторожно повернул в тот же проулок, прижимаясь к камышовому забору.
Глава восьмая
А на маяке шла своя жизнь. Да, пожалуй, она и не шла, а, скорее, кружилась на одном месте или стояла мутной заводью, отрезанная от главного русла, которое по-всегдашнему суетливо двигалось вперед... На маяке, забытые в хлопотливых сборах на путину островскими соседями, сидели и молчали, поглядывая друг за другом, отец и дочь.
Навряд ли кто бывает разговорчив под замком, да еще у родного отца. Этакое учудил блажной Максим Егорыч со своей Глушей то ли потому, чтобы лишний раз показать отцовский норов, то ли просто с похмелья.
В тот раз, когда гулял маячник с Лешкой-Матросом, это и произошло.
Егорыч с Лешкой чокался, пил, плясал под гармонь, пел песни и обнимался, а потом обернулся к Глуше с речью о суженом. Побледнев, она выслушать не выслушала, рванулась из сторожки, намереваясь убежать в Островок. Батька кинулся за ней. И тут, в суматохе, старик споткнулся в сенцах и, качнувшись, ударился головой о притолоку... После перебранки с Лешкой Глуша ласково вытолкала улыбчивого гостя за дверь, а сама, все посмеиваясь, прикрывала глаза, точно и впрямь ей резала глаза эта яркая улыбка Матроса... Уложив хмельного батьку на койку, она сгоряча и сама хотела уйти в Островок, но старик сразу заснул, и Глуша побоялась, как бы не проспал он время запала лампы на маяке.
«А может, уйти мне? Ну его!.. — Но недолго колебалась она. — А если и всамделе захворает батяша? Вон как грохнулся-то головой!»
Тревожно поглядывая на старика, Глуша осталась ждать, пока он очнется. А когда проспался Максим Егорыч и опамятовался, то, как и раньше, хотел было прикинуться, будто он ничего не помнит и ничего не случилось, — хитровато, одним глазом обшарил сторожку, заметил прибранный стол, чистое стекло на лампе и мирно сидевшую у стола за шитьем дочку.
Как будто и в самом деле ничего не произошло, но Егорыч не вытерпел:
— А Лексей где же?
Глуша только этого и ждала:
— Выгнала!
— Как?! — Старик вскочил с койки.
— Ну, проводила. В поселок... И мне пора домой, батяша.
Маячник молча оделся, повязал голову полотенцем, застонал, то и дело трогая затылок:
— Пропала головушка моя, пропала! Кровью, видно, изойду...
Глуша удивилась: еще когда спал старик, она, беспокоясь и ухаживая за ним, не только не заметила крови на его затылке, но даже не нащупала и припухлости.
— Чего ты, батяша?
— Эх, дочка, дочка! — Егорыч, обхватив голову, шагал из угла в угол, исподлобья поглядывал на Глушу. — Все тебе не так да не эдак!
— И чего ты всамделе, батяша? — Глуша резко отбросила шитье на стол.
— Пропала головушка!..
Старик заметил, что дочь, недовольно взглянув на него, отвернулась к окну. Тогда он в гневе сорвал с головы полотенце, накинул на плечи полушубок, снял с разноцветного сундучка замок, подскочил к столу и топнул:
— Арестую!
С тех пор и не разговаривает Егорыч с дочерью.
Не в обычаях стариков сознаваться перед детьми в своих оплошностях и проступках. Давай им волю, детям-то! Отцы больше знают!.. Держи в ежовых, особенно дочек.
Не с этакими ли думками выходил сейчас Максим Егорыч из сторожки, вешая на двери замок, что снят был с окованного разноцветной жестью сундучка? Нет, если бы с этакими, то не шептал бы он о том, что «а вдруг убежит, шалая».
Так и шло на маяке изо дня в день... Оставляя Глушу в сторожке, замкнув дверь на замок и старательно проверив, надежно ли привязан ключ к пояску, старик запахивал полушубок и направлялся в амбар порыться в инструменте, постоять, покурить, подумать.
«А ежели окошко высадит да выскочит?» — Маячник суетливо обегал сторожку, прикидываясь озабоченным работой, а сам искоса поглядывал на окно. Затем он взбирался на вышку маяка, трогал стропила — не шатаются ли — и гулко стучал молотком по скрепам.
Привычным взглядом обегал маячник мутный горизонт Каспия. С вышки море всегда казалось и шире и ближе. Вот оно, совсем под ногами, дышит просторной грудью, недавно сбросив ледяной панцырь. Море бежит на берег и возвращается обратно... Волны, словно подгоняемые лучами солнца, идут то цепью, то врассыпную, и кажется, не волны это, а неохватный, потревоженный косяк рыбы засверкал, заиграл медно-красной чешуей... А вон там, на самой глуби, в синеве морского простора, прошлась тонкая черная кайма.
Маячник сразу признал в ней дымок парохода и отрадно усмехнулся:
«Первач, должно...»
Попыхивая цыгаркой, он взглянул вправо: над всем приморьем уже который день катились шарами прозрачные белесые пары, отлетая от хрупких, подтаявших льдов.
А почти под самым маяком в ледяной броне, кое-где уже покоробленной, лежал банок, — словно громаднейшее чудовище распласталось среди необозримых камышовых зарослей, уткнув голову в поселок, а хвост опустив в море. Так оно и есть: с одной стороны раздвоенного хвоста возвышались эти зыбкие, обглоданные ветрами стропила маяка, по другую сторону — пески, а посреди — устье банка, взбудораженное еще с осени подвижкой льда; здесь взгромоздились одна на другую могучие ледяные глыбы, образуя чуть ли не с маяк высотой ледяной навал.
«Все одно ухнет, — определил маячник. — Не помешает... Скоро начнут пробиваться в море первые посудины. Придется ловцам покрошить топорами и пешнями ледку. И все-таки пробьют лазейку, вырвутся на Каспий».
Егорыч снова посмотрел на банок, на дальние ерики и протоки, которые вот-вот отряхнутся от ледяного нароста и, грохоча, понесут его в море.
«Надо бы съездить за жалованьем и припасами, — продолжал размышлять маячник. — Старшой говорил насчет прибавки. Хорошо бы!.. Сетки вот вобельной я не заготовил. И соли маловато...»
Но и здесь, на вышке, он не находил себе покоя, снова и снова одолевали его мысли о Глуше, о том, кто ей ровня — Дмитрий или Лешка.
Наконец, все на вышке осмотрено, все облажено, пора спускаться. Но Егорычу нерадостно попадаться на глаза Глуше, и, сойдя с вышки, он опять забирался в амбар, опять курил, качал головой, решая один и тот же вопрос:
«Как же быть-то? И не удумаешь!.. Ежели на Митрия согласье дать, пиши пропала дочка. А Лешку, видно, никак не хочет, беспутная. У парня, известно, полторы ноги. В жизни далеко не ускачешь!.. А Митрий по виду человек-человеком. Вся беда, что парню дальше Дойкина податься некуда. Не зря Лешка сказывал — классу в нем нету... Что ж делать-то? Фу ты! Голова аж трещит! — Он хватался за голову и до изнеможения кружил по амбару. — Задала задачку, доченька!.. А что, ежели самому попытать заговорить? Ох, стыд! Засмеёт старого!..»
Крадучись, он быстро-быстро обошел сторожку и исподлобья метнул взгляд в окно. Не заметив там Глуши, остановился, кашлянул и вразвалку, будто усталый, подошел ближе; откинув шапку на затылок, он дробно забарабанил пальцами по стеклу:
— Дочка, а дочка!
В черноватой раме окна показалась сумрачная Глуша.
— Готовь на стол! Не видишь, устал, заработался батька!
Его тревожила мысль о ключах, которые велел он Матвею Беспалому передать в собственные руки Дмитрию Казаку, а когда загулял с Лешкой-Матросом, то приказал и этому отобрать ключи у Дмитрия.
«Ух, и молодчага парень Лешка!» — вспомнил Егорыч выпивку с Матросом и бесшабашное катанье с ним на санях по Островку, но тут же спохватился, догадываясь, что Глуша предпочитает Дмитрия.
Для старика было ясно: он, именно он виноват перед дочерью за то, что выискал ей такого мужа, как Матвей Беспалый. И должен он, отец, поправить ее судьбу, сделать удачливой — такою, чтобы зажила Глуша, как ни одна рыбачка не живет в Островке.
«А может, обойдется? — утешал он себя, все чего-то выжидая. — А может, что другое выйдет?»
Ни в ту, ни в иную сторону ему не хотелось сразу решать, не хотелось сразу давать согласия, хотя и видел, как томится Глуша взаперти.
«Горе-горюшко по свету шлялося и на нас невзначай набрело... Это ж про нас, дураков, сказано! — И маячник безотрадно оглядывался на золотистую россыпь моря. — Людям-то я дорогу указываю с маяка круглый год, а вот дочке не могу простой пути-дороженьки выбрать!»
И тут же начинал ругать себя:
— Кончать надо, кончать!.. Сколь дён мудруешь над дочкой, старый бес! Гляди, сотворит еще чего недоброе... Не зря же говорится: «От горя хоть в море, от беды в воду». Только не убегла бы, шалая!
А Глуша и не думала убегать... Как только Дмитрий ушел с маяка в Островок, она, уверенная, что батька согласился на ее совместную жизнь с Дмитрием, принялась убирать сторожку: побелила печку, сняла в углах паутину, вытерла пыль на посуднике, на сундучке, на подоконнике, вычистила посуду и вымела целую кучу мусора; потом вымыла горячей водой полы и, разрезав мешок, постелила его дорожкой от двери к столу.
На другой день Глуша стирала батькино белье, на третий шила, латала. Входившему в сторожку Егорычу она каждый раз напоминала, чтобы хорошенько вытирал он ноги. Маячник послушно пятился в сенцы, добродушно ворчал, называя ее выдумщицей и барыней.
А сейчас она встретила отца настойчивым вопросом, не подняв даже головы от иголки:
— Когда же домой, батяша?
— Завтра, дочка.
— Опять завтра! — и она сердито отложила шерстяные носки в сторону.
— Маячная лампа что-то у меня не ладится, дочка.
— У тебя все не ладится! — не вытерпела Глуша.
— Как ты говоришь? — прикинулся недослышивающим маячник и, хитро прищурив глаз, добавил: — До завтра, думаю, управлюсь с лампой. — Он насупился и отошел к окну.
— Ах, управишься? — зло спросила Глуша.
— Беда! Не ладится маячная лампа. Что с ней такое?! — И старик выскочил из сторожки, заперев ее снова на замок.
А лампа исправно горела.
В этом уверилась Глуша сама, заметив из окна, как упала с вышки ослепительно белая полоса света и, скользя по волнам, пошла на глубьевые, морские пространства.
К подошве маяка непрерывно катились рассеченные лентой света волны, — взбегая на песок, они беспокойно шипели в темноте.
«Ну вот, людям светим, а сами пути не видим. Все: и батяша, и я, и Митя».
А Лешка?
Лешку не могла Глуша вспоминать без улыбки, как ни тяжело ей было сидеть взаперти у старика.
«А все из-за него! — незлобиво упрекала она Матроса. — И чего привязался?»
Осерчав на Лешку, она все же порой жалела одинокого ловца; в нем привлекало ее то, что он хоть и неудачлив в жизни, зато радостен, и среди шуток и смеха в нем горели большие желания, — они и отталкивали и привлекали к нему людей.
Однако Глуша избегала дум о Матросе, хотя восторженная улыбка его часто сверкала перед ее глазами; Глуша думала только о Дмитрии, только его считала себе под стать.
И теперь, глядя из окна на море, где лениво роились волны, перехваченные с маяка яркой холстиной света, Глуша впервые сравнила Дмитрия с Лешкой. Тут ей припомнились слова отца, которые говорил он Дмитрию, о том, чтобы бросал тот Дойкина. Да и Лешка не один раз с неприязнью упоминал о Дмитрии, говоря, что классу в нем нету. Что это такое?.. Припомнились Глуше и другие слова батяши о Матросе: «Хорош парень. Крепок!» И в самом деле, без ноги — ведь не без сердца...
Но почему же так влечет ее к Дмитрию? И правы ли старик и Лешка, осуждая его?
Стоя у окна, Глуша заметила, как вдали неожиданно, сверкнув, зарябили воды.
Полосой налетел ветер. Море глухо зарокотало, покатив к берегу косматые, пенистые валы; волна набегала на волну, взметая кипучие белые гребни. Ветер тревожно завыл в стропилах маяка.
Глуша подошла к зеркалу и отшатнулась — она не узнала себя! — на нее глянуло исхудавшее лицо, под глазами лежала печальная синева.
«Извелась, совсем извелась! Что-то Митя скажет?..» — И жгучая тоска, предчувствие какой-то беды нахлынули на нее. Кутаясь в шаль, она повернулась к окну, присела на подоконник и долго слушала, как тяжело бились под маяком волны. А когда пристальней вгляделась в белую полоску света, что уходила далеко-далеко в море, в тревоге вскочила и простонала:
— Ой! Не Митя ли?..
От берега стремительно понеслась на глубь Каспия посудина под парусами, словно большая белокрылая птица.
Глуша, шатаясь, прошла к койке и уткнулась в подушку. Все думая о Дмитрии, она то засыпала, то вдруг вздрагивала и поднималась, — сердце громко, стучало, хотелось кричать о помощи.
Она опять шла к окну и, глядя на однообразно бегущие на маяк волны, прислушивалась, не спускается ли с вышки батяша.
— Замучил меня! — шептала Глуша. — Замучил вконец!..
Егорыч не приходил до полуночи, отсиживаясь на вышке и выжидая, пока уснет дочь.
Но не всю же ночь топтаться на мостках!..
И как только он, крадучись, заявился в сторожку, Глуша набросилась на него:
— Долго будешь мудровать? Утопить хочешь?..
В гневе она рванула его за рукав.
— Что ты, что ты, дочка? — опешил Егорыч. — Чего ты, родная?
— Родна-ая! — передразнила она. — Была б родная, не измывался бы!
— Постой, постой! — Маячник, отступая, попробовал отшутиться: — Мы ведь, Глушок, с тобой как рыбка с водой!
— Довольно! Наслушалась прибауток!
— Да чего ты, доченька?..
— Не могу! Не могу больше! — продолжала наступать Глуша на старика. — Садись! Говори!
И, подведя отца за руку к столу, она опустилась на табурет:
— Говори, говори! Кому обещал меня?.. Лешке?!
Громко зарыдав, она ударилась головой о стол.
— Ой, дочка! — Старик, обхватив голову Глуши, стал целовать ее, приговаривая: — Чего ты, родная! Да разве я?.. Глуша! Сама выбирай! Известно: рыба ищет где глубже, а человек где лучше... Вот и выбирай, родная ты моя!
Не поднимая головы, Глуша сквозь всхлипывания, с упреком сказала:
— А чего молчал?
— Да чего ты, право! — изворачивался старик. — Потому и молчал, все терпел, пока сама обмозгуешь. Сама должна выбирать себе человека. Сама, дочка!
— Сама-а... — Глуша отвернулась, вытерла слезы.
— Знамо дело, дочка, сама.
— А когда домой поедем? — строго спросила она.
Маячник удивленно подумал:
«А спрашивает как начальник, как старшой!»
— Когда в Островок, говорю, поедем? — еще настойчивее повторила Глуша.
— А хоть завтра, дочка. Прямо с зорькой, — заторопился Егорыч. — Проглеи-то вон как раздались, да и лампа теперь у меня в исправности... — Он хитровато прищурил глаз. — Еле справился с этой проклятущей лампой! Чайку попьем — и тронемся на куласе.
Не раздеваясь, Глуша упала на койку.
— С зорькой, дочка, и тронемся.
Он готов был ехать хоть сейчас — так напугала его столь неожиданная перемена в поведении Глуши.
Никогда не кричала она на отца, никогда не противилась его воле, всегда терпеливо выжидая мучительно долгие отцовские решения.
«Ишь, чего наделал, старый пень! — ругал себя маячник. — Плюнет на тебя — и уйдет. Ну и настряпал делов, старый хрыч!»
Присев у изголовья койки, Егорыч долго глядел на дочь, удивляясь, откуда взялась у нее такая непокорность.
— Не спишь, дочка?
Глуша молчала.
«Дурень! Чертяка старый! — продолжал корить себя Егорыч. — Из ума выжил! Вконец замудровал дочку!..»
В раздумье просидел он до рассвета подле Глуши и все качал головой:
«Эх ты, жизнь!.. А может, еще и обойдется? Обойдется, может?.. Эх, как бы повернулось все по-хорошему!»
...Рано утром, как только вынырнул из-за края моря багряный полукруг солнца, Егорыч погасил лампу на вышке, покурил, посмотрел на розовую зыбь Каспия и недовольно взглянул вправо, в сторону Островка, где кружило белое марево туманов. Закатисто вздохнув, старик медленно спустился в сторожку, чтобы разбудить Глушу.
А дочь уже сама поднялась и хлопотливо приготавливала стол. Они молча пили чай. Старик пытался украдкой заглянуть дочери в глаза, желая дознаться, чего она хочет.
— Налей батьке еще чашечку. Может, и наливаешь-то в последний раз. Эх, дочка, дочка!..
Глуша не ответила.
И, чтобы разжалобить ее, чтобы тронуть внезапно зачерствевшее дочернее сердце, он унылым голосом опять просил, передавая ей свою чашку:
— Налей, Глушок, налей... Может, больше и просить не придется, дорогая ты моя.
И, как раньше сам упрямо молчал, так же упрямо не отвечала ему теперь Глуша, пока сама же не нарушила мучительного молчания:
— Значит, поедем, батяша?
— Сейчас и поедем! — обрадованно откликнулся он и торопливо подул на блюдце.
В ответ старику Глуша. в первый раз за эти дни ласково улыбнулась. У Егорыча радостно зачастило сердце.
«Отошла, — подумал он. — Утихомирилась».
Бросив пить чай, она стала быстро собираться.
Видя, что дочь становится прежней, послушной, маячник осторожно заговорил:
— Так вот... того, дочка...
— Чего ты? — Глуша насторожилась. — Опять начинаешь?
— Как говоришь? — и старик приставил к уху сложенную трубочкой ладонь, но взглянув на посуровевшую дочь, испуганно проронил: — Гляди, говорю, сама... Сама — как лучше, чтоб не каялась.
Высоко держа голову, она ходила по сторожке как никогда горделивой походкой и, должно, чувствовала себя полной хозяйкой, чего с ней никогда не было. Маячник впервые видел дочь такой решительной.
«Будто кто подменил ее», — с тревогой подумал он.
— Поскорей, батяша! — требовательно заторопила Глуша.
«И говорит-то как не с батькой, — все удивляясь, думал старик. — И чего с ней стряслось?»
Он опасался, как бы она опять не стала кричать на него.. Наливая в блюдце чай, старик продолжал исподлобья следить за пей.
— Довольно тебе! — необычно строго сказала Глуша и с шумом сорвала со стены полушубок.
От испуга маячник даже чашку выронил.
— Дома напьешься! Поехали!
Она выжидательно остановилась у двери. Старик устало прикрыл глаза и тяжко вздохнул — вот и ускользает, уходит его власть над дочерью!
— Ну? — и Глуша строго свела брови.
Егорыч медленно встал, подтянул шаровары и негромко сказал напоследок:
— Ладно, дочка. Пошли на кулас... Так и быть... Да... Ладно... И помни отцовы слова: подумай обо всем, погляди вокруг как следует... Кто милей, кто лучше тебе, — помозгуй: Митрий или Лешка... Лешка, а может, Митрий... Помозгуй — тебе жить, не мне...
Намекая на Дмитрия, он тихо добавил:
— У ловца весло — одно ремесло, да и то поломано!
И, подойдя ближе к Глуше, жалостливо попросил:
— Подумай, дочка. А то ведь — чем сатана не шутит! — и так может получиться, как в штормы: и к одному берегу не пристанешь и к другому, милая, не прибьешся... И понесет тебя, понесет!.. Да-да, часто бывает так. Глядишь — и по рукам пошла. Пропала тогда, дорогая!.. Помни, дочка: и быстрой и широкой реке слава ведь только до моря.
Глуша решительно открыла дверь и вышла из сторожки.
Егорыч смахнул внезапно брызнувшие слезы и, быстро напялив телогрейку, направился следом за дочерью...
Отталкиваясь с кормы шестом, он молча гнал кулас по широко раздавшимся за ночь проглеям. За всю дорогу, вплоть до Островка, маячник не проронил ни слова.
А Глуше было радостно, хорошо. Вот скоро берег, Островок — и встреча... Она улыбчиво следила за чайками-хохотушками, что стремительно носились над приморьем.
Радовало Глушу и это домовито теплое солнце — оно уже подбирало последние мутные сугробы в по-низях и, казалось, вот-вот должно дотла растопить взбухшие льды протоков и ериков.
Над камышами приветливо курился прозрачный синеватый туман.
Глава девятая
Всю эту ночь, как и прошлые, просидел Дойкин с нежданным гостем из города чуть ли не до рассвета. Давно уже уехал Коржак, ушел старый Турка, куда-то вышел вертлявый Мироныч, на руках унес Илья своего батьку Захара Минаича, у которого внезапно отнялись непослушные ноги. А Дойкин все ходил из угла в угол и поучительно говорил приезжему:
— Напрасно ты, Владимир Сергеич, много насказал при Турке и Краснощекове. Напрасно!.. Люди эти не так уж надежны. Или не видал — даже без ног остался бородач, когда заговорил ты о том...
— О чем? — гость усмехнулся.
— Да как же! — Дойкин многозначительно прищурился.
Приезжий посмотрел на свои холеные белые руки с длинными пальцами и светлорозовыми ногтями.
— А чего я им, Алексей Фаддеич, лишнее, по-твоему, сказал? Что крышка подошла честным людям? Что упрятали чуть ли не полгорода в тюрьму? И что теперь наступает очередь за ними?.. Об этом они и сами знают. Хотя бы из газет!..
— Не то, не то, Владимир Сергеич. Говорил же ты... — Дойкин настороженно взглянул на окно, плотно прикрытое ставнями, — обороняться, мол, надо... готовиться...
— Не дураки же они, в самом деле! — прервал гость. — Сами должны понимать: когда за горло берут, от смерти отбиваться надо.
— Все это так. А болтать-то зря не следовало бы. Да и пора тебе перебраться от Сазанихи. А то заявится нежданно-негаданно твой дружок-то с относа, — Дойкин ухмыльнулся, — и все откроется...
— Еще по одной, что ли, пропустим? — оборвал разговор приезжий и, нагнувшись под стол, достал графин.
Дойкин снова беспокойно зашагал из угла в угол.
— Засиделись мы долговато, Алексей Фаддеич, — взбалтывая настойку в графине и разглядывая ее на свет, сказал гость. — Устал я от этих разговоров... Светать, поди, скоро начнет!
Дойкин догадывался, что приезжий что-то скрывает от него, недоговаривает. Но как ни старался Алексей Фаддеич расположить к себе гостя, выведать его тайны, разузнать планы — все, казалось, было напрасно.
Знал о нем Алексей Фаддеич не так много, но и это немногое заставляло теперь, в такое тревожное время, настораживаться, строить догадки, доискиваться истинных причин его приезда в Островок. Владимир Сергеевич, бывший чиновник царского рыбного надзора, вернулся в город в двадцать четвертом году из-за границы, куда попал после разгрома Врангеля. Имея обширные знакомства в городе по своему значительному в прошлом положению, он был одним из тех редких дельцов, которые сводили рыбников на «дружескую ногу» с отдельными работниками торготдела, финотдела, а чаще всего пытались денежными подношениями добиться увеличения для частников норм заготовок рыбы, снижения налогов... Теперь Владимиру Сергеевичу посчастливилось избежать ареста и удрать из города.
Приехав в Островок с письмом от Георгия Кузьмича, который с осени вместе с другими рыбниками сидел в тюрьме, гость вел себя здесь очень подозрительно.
Дойкин был убежден, что заявился он сюда не только для того, чтобы получить от него те пять тысяч целковых, которые Алексей Фаддеич остался должен Георгию Кузьмичу. Тут было что-то посложнее... Да и сам приезжий изредка кое в чем проговаривался, возбуждая в Алексее Фаддеиче тревожное любопытство.
Один раз гость сказал, что из Островка он намерен поехать под Гурьев, где у него много знакомых богатых баев, у которых до революции были тысячные гурты скота. Есть у него там и знакомые ловцы — уральские казаки, имевшие когда-то свои собственные воды и промыслы. Но спохватившись, гость отделался шуткой — милашка, мол, под Гурьевом его ожидает... А когда в первые дни приезда гость настойчиво напоминал Алексею Фаддеичу быстрее передать ему деньги, то опять проговорился, что деньги нужны на большое дело, и снова перевел беседу на другое — а что, мол, у вас здесь слышно?.. Так было и сейчас — гость увиливал от разговора напрямки, ссылаясь на усталость и поздний час. Запрещая Алексею Фаддеичу встречаться с ним днем, сам он все время проводил на берегу, без умолку балагурил с ловцами, ругал вместе с ними сухопайщину, рыбников и, наоборот, возражал, защищал от нападок власть и только подсмеивался над комиссарами и коммунистами... В это время и закрались у Дойкина сомнения: а не обманным ли путем хочет приезжий выманить у него деньги? Получит тысячи — и пошел скрываться дальше. Но просматривая письмо Георгия Кузьмича, находил, что этого быть не может — писано оно именно им: размашисто, крупно, с нажимом. Такое же письмо с напоминанием о долге в шестьсот рублей получил и старый Турка. Турка нашел у себя случайно сохранившуюся записку Георгия Кузьмича, которую писал ему тот еще два года тому назад; сравнили они почерки — как будто одинаковы... Удивительно было то, что сидит Георгий Кузьмич под стражей, но как-то ухитряется оттуда вести свои дела, пересылать письма. «Значит, тут что-то есть такое, чего я еще не знаю», — рассуждал Дойкин. И вчера вечером он решил передать деньги, надеясь, что после этого приезжий будет более разговорчивым. Но и после того как отсчитал ему Дойкин пятьсот червонцев, тот все так же, стращая рассказами об арестах в городе, ни о чем другом не говорил.
«Крутит!..» — зло думал Алексей Фаддеич, все шагая по комнате и косо поглядывая на гостя, который молчаливо тянул водку стопку за стопкой.
Коржак, уезжая к себе в район, просил Алексея Фаддеича, чтобы он беспрекословно выполнил все просьбы гостя. А на прощанье шепнул на ухо: «Тут, брат, дело дюже сурьезное... Он сам тебе все откроет...»
«Не поймешь, чорта!» — вздохнул Дойкин и пристально посмотрел на приезжего, на его длинные, пунцовые уши. Гость, преспокойно опорожнив весь графин, закусывал осетровым балыком.
В это время слегка приоткрылся ставень.
Алексей Фаддеич отпрянул за оконный косяк.
— Хазаин!..
В мутное стекло глянуло скуластое лицо Шаграя.
— Шайтан раскосый! — Дойкин прошел к лавке, где лежала его поддевка.
— Хазаин! — казах осторожно поскреб ногтями по стеклу. — Домой давай!.. Софка велел!..
Это означало, что скоро должна прийти домой Настя Сазаниха, которую со дня приезда к ней гостя, объявившегося Васькиным дружком, Софа Дойкина с вечера зазывала к себе, поила чаем с вареньем, с халвой, угощала пирогами, пельменями. Софа старалась как можно дольше задерживать у себя Настю, чтобы дать вдоволь наговориться мужу с приезжим.
Накинув на плечи поддевку, Дойкин шагнул к столу и решительно спросил гостя:
— Когда же под Гурьев?
— Людей вот поджидаю... — загадочно ответил тот и закурил папиросу.
— Каких?
— Товарищей... — Гость пьяно усмехнулся.
Алексей Фаддеич взглянул в упор в его вертлявые глаза.
Приезжий искусно выпустил изо рта крутящееся кольцо дыма, негромко сказал:
— Коржак должен переправить их сюда...
По лицу Дойкина сразу пошли багровые пятна, появляясь то под глазом, то на лбу, то на щеке. Нахлобучив шапку, он вплотную подошел к приезжему и, тяжко дыша, спросил дрожащим, не своим голосом:
— А как же будете переправляться дальше, под Гурьев?
— На твоей флотилии, Алексей Фаддеич, — гость снова пьяно усмехнулся и, шагнув к сундуку, пошатываясь, стал раздеваться. — Завтра поговорим обстоятельно... Завтра!.. — Он лег и укрылся одеялом.
— Хорошо! — и Дойкин облегченно вздохнул. — Давно бы так!.. Знаем, поди, друг друга, зачем таиться? — и, грузно ступая по скрипучему полу, зашагал в кухню.
Шумно рванув дверь, он вышел во двор и, чтобы не встретиться с Сазанихой, пошел задами.
Было ветрено и холодно. Месяц быстро скатывался к камышам, как снулая рыбешка по течению, а звезды, испуганно мерцая, гасли одна за другой.
С моря надвигался плотной стеной туман, будто опускались на льды огромные лохматые тучи.
Дойкин шел и, думая о последнем разговоре с приезжим, уже видел обширные казахские степи, видел гостя и его товарищей среди бывших баев и уральских казаков-хозяйчиков, видел, как организуются в боевые отряды обиженные и недовольные.
«Все одно что в восемнадцатом году!..» — вспомнил он выступления белых уральских банд. И от радостного волнения у него захватило дух.
Алексей Фаддеич остановился и вдруг в тревоге подумал:
«А ежели раньше времени откроется эта затея? Ежели власть пронюхает? Тогда что?»
Он смахнул ладонью выступивший на лбу холодный пот.
«Тогда что? — вновь спросил он себя. — Что тогда?..» — и, не находя ответа, мучаясь, решил повернуть к вдове Зиминой, чтобы успокоиться и забыться. Он тайком изредка захаживал к ней, когда был всердцах, и за то, что давал иногда рыбачке работу, подолгу и ненасытно тешился ею.
Только было направился он к дому Зиминой, как рядом открылась калитка: из двора вышла с ведром Наталья Буркина и выплеснула на улицу помои.
Ветер круто обжимал кофту на ее груди и шибко трепал юбку; не замечая Дойкина, она одернула подол и повернула в калитку.
— Простудишься, голубка! — И он взял под локоть ее тонкую теплую руку.
— Ай!.. — Наталья испуганно метнулась во двор.
— Постой, постой, голубка! — Дойкин заспешил, догнал ее у крыльца и заботливо спросил: — Чего ж, Наталья Егоровна, за сеткой не заходишь? Давно приготовил!
Рыбачка, не оправившись еще от испуга, удивленно глядела на Алексея Фаддеича и, вздрагивая, шептала:
— Нехорошо!.. Ух, как напугалась!..
А он потихоньку вталкивал ее в сени и шептал:
— Тебе даю сетку, а не Григорию. Красавице даю... Пропадаешь ты с ним, голубка, ни за что...
Наталью сразу обдало жаром; она откинулась к стене, подняв над головой руку с ведром.
И когда Дойкин вплотную подошел к ней, она вдруг громко крикнула:
— Отстань, сатана! — и уронила ведро ему на голову.
Выскочив из сеней, Дойкин быстро зашагал к калитке, от которой навстречу ему шла удивленная Зимина. Нахлобучив шапку, он прошел мимо.
Наталья, подняв ведро, все еще взволнованно кричала из сеней:
— Погоди! Григорий заявится!.. Он тебе покажет сетку!..
Зимина поднялась на крыльцо и, вздыхая, участливо спросила рыбачку:
— И к тебе, милая, уже заглянул?
— Я ему!.. — Наталья отвернулась и позвала вдову в горницу. — Думал только...
Распахнув коротушку, Зимина присела на скамью у печки и, слушая рыбачку, то и дело повторяла:
— А я вышла — и слышу шум у вас на дворе... Думаю, чего такое? Вышла — и слышу...
— Сатана слюнявая! — ругалась Наталья, передвигая в печке чугуны. — Сомина тухлая!
— Он такой, милая, — вдова устало прикрыла глаза. — Натерпелась я от него... Опротивел, как лягуха. Да и дает-то крохи... Отбиться бы от него. А как?.. Хотели, вот мы с Нюркой да Настей Сазанихой поработать. А Краснощеков не взял нас... Куда деваться — ума не приложу! Иду теперь к деду Ване. Упросилась поехать с ним на рыбоприемку. Будто у нашего берега хотят государственную приемку надолго, совсем поставить. Глядишь, и работа какая найдется, — стряпуха, может, нужна будет людям.
Перетирая посуду, Наталья печально поглядывала на грузную фигуру вдовы.
— О-ох, кабы Трифон был жив, — тяжело вздохнула Зимина, вспоминая сгинувшего в море мужа, — иль ребят было б у меня не пятеро, а скажем, один, двое. Подалась бы я на промысел, нанялась резалкой, кладчицей или солильщицей... А то вот от ребят-то ни шагу, как привязанная. И этого чорта ждешь не дождешься, когда придет да посулит работу... А он, как именинник, раз в год... — Давясь слезами, вдова притулилась головой к печке.
— Не надо, не надо, Марья Петровна! — Наталья поспешно вытерла о фартук руки и подошла к Зиминой.
— Как же, милая, не плакать! Только слез и вволю — не занимать...
— Не надо, не надо! — Наталья села рядом с Зиминой. — Вот послушай... Собирались недавно у Григория ловцы: Митрий Казак, Сенька, Туркин Яшка. Говорили об артели и тебя поминали, — слышь, Марью Петровну записать в артель тоже надо!.. Вот и уехал Григорий в район, к своим партийцам да в кредитку. А еще раньше туда же уехал Андрей Палыч...
Слушая Наталью, вдова сбила на затылок платок и, согласно кивая головой, растроганно зашептала:
— Ох, кабы! Вот кабы!.. Эх-эх, как хорошо!..
А Наталья уже жаловалась на Григория:
— Знаешь же, какой он у меня! Ты, говорит, других обзавидовала. А чего обзавидовала? Чего я лишнего хочу? Хочу только, чтобы жили мы как люди: сыты были да радости чуточку... А то шабалы одни, — она тряхнула подолом выцветшей, латаной юбки. — Ну, а если уж он взялся за что, то непременно сделает. По-моему, будет артель! — Рыбачка, довольная, улыбнулась.
Повеселевшая Зимина торопливо поднялась с лавки.
— Ну, что ж, пока суд да дело, я съезжу с дедушкой Ваней на приемку. Может, у приемщика с подручными возьму бельишко постирать. Хлеба, глядишь, дадут, рыбы на варево... Ты уж, Наталья, присмотри за моими ребятишками. А то как бы не нашкодили.
— Ладно, загляну... — И вдруг рыбачка беспокойно сказала не то себе, не то Зиминой: — Долго только что-то Григория нету.
— Не тужи, приедет!
Вдова, запахнув коротушку, толкнула дверь и чуть не бегом заспешила на берег, боясь, что запоздала: дед Ваня мог уехать один.
И в самом деле, слепой ловец уже копошился у своего куласа, кидая в него сети, весла, шесты.
— Деда, деда! — окликнула его Зимина, с трудом шагая по песку.
Дедушка Ваня снял черную мохнатую шапку и отер ею лицо; потом обернулся к протоку, затопленному туманами, и, будто видя что, задумчиво сказал:
— Как бы кулас на льду не порезать...
Шумно отдуваясь, к деду подошла Зимина:
— В самый раз успела! Доброе утро, родимый!
— Успела! — заворчал дед. — Сказано было — чуть свет!
— К Наталье заходила я...
— Ну, залазь! — дед недовольно взмахнул рукой, и когда вдова прошла в кулас, оттолкнул его от берега и сам вспрыгнул на корму; он заработал шестом быстро и ловко, не хуже зрячего, и погнал лодчонку в туманы промеж льдов.
В тумане, казалось, плыли под водой: кругом перекатывалась шарами белесая муть, туман слезил глаза, и трудно было дышать...
Грозно шуршало о борта крошево льда, изредка лодчонка натыкалась на льдины. Под тем берегом туман был реже: отчетливо выступали почерневшие за зиму камыши. Вода здесь тускло, студено блестела.
— Давай помогай, — тихо сказал Зиминой дед, вгоняя кулас на обширную водяную поляну, где находились его сети.
Вдова села за весла.
— Ударь покруче! — Дед наклонился за борт и стал выбирать сети в лодку.
Сеть была сплошь забита воблой: казалось, не найти ни одной свободной ячеи, где бы не торчала жирная, с синеватым отливом рыбина.
— Эка привалило, — сердито ворчал дед, еле вытягивая сети. — И откуда столько наперло!..
Ледяная вода жгла руки, крючила пальцы; выбрав сеть, дед подул на руки, похлестал ими себя по бокам и, принимаясь за другую сеть, строго приказал Зиминой:
— Полегче, полегче, Петровна!
Она, загребая одним веслом, старалась держать кулас против ветра и так, не спеша, вела его вдоль выбитой в протоке сети.
Дед, упираясь одной ногой в борт, старался быстрее выбирать сети, но они были отягощены богатым уловом и часто трещали — пряжа не выдерживала редкостного живого груза и рвалась.
— Разор, а не улов! — сердился ловец.
Когда кулас был наполнен рыбой доверху — так, что Зимина сидела, по пояс заваленная бившейся воблой, — дедушка Ваня, ворча, погнал лодку на приемку. Еще издали его встретили рабочие радостными приветствиями:
— Дедо-ок!
— Здравствуй!
— Давай, давай почин!
— Эх-ма, первейший ловец!..
Снимая шапку, он улыбнулся и сурово крикнул в ответ:
— Принимай чалку!
Кулас легонько стукнулся о борт прорези, что служила садком для рыбы. Рабочие в брезентовых рубахах и шароварах, смеясь и похлопывая деда по спине, подвели кулас к стоящей рядом посудине и тут же принялись сетчатыми черпаками выливать улов из лодки в носилки.
Зимина прошла к приемщику, молодому казаху, который стоял недалеко от весов. Поблескивая голубоватыми белками глаз, он внимательно выслушал вдову.
— Работа тут никакой, — сказал он. — Промысел надо ехать. Там многа работа...
— Мукашев, вешай! — окликнули приемщика рабочие.
Он шагнул к весам, вынимая из кармана небольшую записную книжку в красном переплете.
Зимина задумалась.
Приемщик отрывисто заговорил, щелкая гирькой по никелевой пластинке весов, на которые то и дело рабочие ставили носилки с уловом деда:
— Сорок один кило... Сорок девять... Пятьдесят два... — и торопливо записывал в книжку.
Слепой дед стоял тут же и будто следил за весом.
— Уй-юй-юй! — радостно воскликнул казах, когда закончил принимать рыбу. — Два ста и один кило... Ба-альшой деда фарт идет, — и легонько хлопнул слепого по плечу. — Ну, пошли контора, расчет делаем.
Они двинулись к каюте; у двери приемщик задержался и, направив дедушку Ваню вниз по лестнице, повернулся к Зиминой:
— Сейчас штаны-рубах даем тебе стирать. Ожидай!
Зимина присела у весов и, глядя на палубу, сплошь усыпанную чешуей, взволнованно подумала:
«Скорей приезжал бы Григорий Иваныч и Андрей Палыч... Артель бы скорей!..»
Она так крепко задумалась, что даже не заметила, как подошел к ней приемщик с узлом белья.
— Бери штаны-рубах, — и сунул ей в руки узел. — А слух твой верный: приемка скоро ставим Островок. Тогда твой стряпуха наш будет. Приказ вчера давал директор промысла. Баркас идет!
Молодой казах отвел Зимину в сторону и, вертя приколотый к рубашке кимовский значок, несмело спросил:
— Как там мой коке, старый ш-шорт, Островок поживает?
— Какой?.. Шаграй, что ли. что у Дойкина? — догадалась вдова.
— Он самый, старый ш-шорт!
— Ахат?! — Зимина радостно взмахнула рукой, признав в молодом казахе того самого Ахата, сына Шаграя, который несколько лет работал у Дойкина и в позапрошлом году ушел от него на государственный промысел.
Вдова с удивлением оглядывала парня.
— Значит, приемщик теперь? А это что у тебя? — она показала на значок.
— Комсомол! — Ахат улыбнулся, сверкая белыми мелкими зубами. — Мое сердце Ленин бар, Ленин живет!.. — Он крепко прижал значок к груди. — Моя хочет ба-альшой, ба-альшой жизнь!
— А зачем коке, батьку-то своего, ругаешь? — и Зимина неодобрительно покачала головой.
Ахат перестал улыбаться и, краснея, ответил:
— Говорил ему, писал: бросай Дойкин, ходи работа промысел. А старый ш-шорт хозаин работает. Скоро мы этот Дойкин убирать с дороги будем. Мешает!
Вдруг казах чиркнул пальцем по горлу и зло прошептал:
— Ж-жик! Кончал их праздник!..
Белки его глаз налились кровью.
— Марья Петровна! Поехали! — Дедушка Ваня уже стоял в куласе и держал наготове шест.
— Передавать твоему коке поклон? — на ходу спросила Ахата Зимина.
Он насупился, нехотя ответил:
— Никакой привет...
— Петровна! — дедушка громко стукнул шестом о палубу приемки. — Один уеду! Э-эх, бабы!
— Бегу, бегу! — Зимина, перескакивая через носилки, заспешила к куласу.
— Людей задерживаешь!
Не успела вдова прыгнуть в лодку, как дед уже оттолкнулся от приемки: Зимина чуть не угодила в воду.
— На весла! — скомандовал слепой ловец и, вынув из кормы бутыль с любимой настойкой, разом отпил половину. — Хороша калган-трава!
Зимина налегла на весла и стала рассказывать деду об Ахате и о том, что говорил он о Дойкине.
Слушая вдову, ловец задумчиво проронил:
— Ветром море колышет, а молвою народ...
Откинув шапку на затылок, он, будто зрячий, обвел лицом проток.
Солнце настойчиво пробивалось сквозь туманы, и если бы не эти туманы, то сегодня, наверно, по-особенному лились бы на приморье потоки его жарких лучей.
Набухший лед часто и едва приметно подвигался, отчего одни проглеи суживались, другие раздвигались, студеная вода в них густо дымилась.
Дед отер шапкой лицо и приказал Зиминой:
— Ложи весла!
Подняв шест, он быстро погнал кулас по узенькой проглее, словно по знакомой, исхоженной тропе.
Глава десятая
Взморье дымилось голубыми туманами.
Влажный ветер, все чаще и чаще налетая с Каспия, обдавал пахучей, солоноватой теплынью.
Сазаний проток — весь в прососинах — готов был того и гляди сбросить с себя рыхлый ледяной панцырь, под которым уже двигались с моря косяки рыбы.
Когда ветер напирал сильней, лед колыхался, шуршал, проглеи раздавались шире. По ночам, однако, жгучий мороз вновь и вновь сковывал проглеи, покрывая весь проток сплошной ледяной коркой.
Несмотря на часто повторявшиеся морозы, некоторые ловцы Островка пытались по-настоящему наладить добычу рыбы — одни в протоках, другие в море. Правда, те, что хотели пробиться на Каспий, всё еще боролись со льдами в устье банка или же, не в силах преодолеть ледяные преграды, возвращались обратно в поселки, как это случилось с Василием Безверховым. Да и речные ловцы выбивали сети только в Сазаньем протоке и в соседнем — Волокушьем. Повсюду еще лежали набухшие, тяжелые, громоздкие льды. Но ловцам не терпелось — всех неодолимо тянуло на реку, в море.
Один только Лешка-Матрос, казалось, не думал собираться на лов. Он по целым дням бродил по берегу, ненасытно курил, грозился Дойкину и часто с тоской поглядывал, но уже не в сторону маяка, где находилась Глуша, а в сторону Бугров, откуда можно было легко добраться до района, от которого до города — совсем пустяки, а там — и Москва близко!
После разговора с дедом Ваней Лешку неотступно одолевали мысли о поездке в Москву. Многое за это время он передумал, вспоминая фронты, дружков, встречи, разговоры... Его так захватили эти мысли, что он и ночи напролет думал только о былых годах, о Москве. В полночь, когда одному становилось совсем невмоготу от тяжких дум, Матрос выходил из своей хибарки, являлся к слепому ловцу, заходил к тетке Евдоше, к Косте, следил за домом Василия Сазана, где чуть ли не каждую ночь собирались к приезжему человеку Дойкин, старый Турка, Краснощеков и еще кое-кто... Лешка, осторожно ступая, словно идя по тонкому льду, подкрадывался под окна Васькиного дома, старался подслушать разговоры, но окна плотно закрывались ставнями, занавешивались изнутри одеялами, и он улавливал только глухой, невнятный гомон. «Не к добру собираются!..» Эти подозрительные сборища еще крепче убеждали Матроса в том, что уже давно пора по примеру города разделаться со здешними рыбниками. Но снова и снова припоминая, как он однажды за отказ ему кредита учинил скандал Коржаку и за это его чуть не засудили, Лешка полагал, что в районе и теперь не найдет он поддержки.
«В город! В город надо! — думал он. Но тут же закрадывалось у него сомнение: — А может, и в городе не помогут? Может, и там дружки есть у дойкиных и коржаков? Писал же я в город, а ни ответа ни привета... Видать, надо прямо в Москву!»
Однако он никак не мог раздобыть на дорогу денег. Костя Бушлак отказал ему, как отказали и другие ловцы; не дала денег и тетка Евдоша. Все они относились к его поездке недоверчиво, с предубеждением.
Зато дед Ваня не пожалел Матросу пятерки, да еще выпросил он червонец у тетки Малаши.
«Этого хватит пока, — думал он, бродя спозаранку по берегу. — А там видно будет».
Поглядывая на рыжее, тусклое солнце, что настойчиво пробивалось сквозь густые, шедшие валами туманы, Лешка рассуждал о том, как ему пробраться в город: по взбудораженным ледяным протокам и ерикам сейчас не проедешь, не пройдешь, а до полного распадения льдов было еще далеко.
— В город! — не переставая твердил он. — А ежели чего — в Москву!..
Шагая по берегу, он незаметно вышел за поселок, и когда очнулся от дум, увидел: из-за косы, которая врезывалась узким и длинным углом в проток, вынырнула лодчонка.
Лешка пристально всмотрелся в посудину и признал в ней широкозадый, с обрубленной кормой, кулас маячника; на корме стоял Егорыч и, помахивая шестом, проворно гнал кулас по разводьям между льдин. Посредине лодки в яркой, цветистой шали сидела Глуша...
Появление Егорыча и Глуши ненадолго взволновало Матроса: вначале он обрадовался, у него даже шевельнулась надежда относительно Глуши. Но тут же его вновь охватили мысли о Дойкине, о неведомом человеке, который много дней жил у Насти Сазанихи, о поездке в город, в Москву...
Лешке было теперь не до Глуши.
— Лексей! — громко окликнул его с куласа Максим Егорыч.
Матрос чуть приподнял бескозырку и повернул обратно к поселку.
— Лексе-ей!..
Он, не оглядываясь, шагал по берегу.
Когда лодчонка, пробиваясь сквозь льды, вышла на широкую водяную тропинку, что вела прямо к берегу, поднялась Глуша.
— Лешенька! — и, слегка улыбаясь, кивнула проходившему мимо Матросу.
Как и на приветствие Егорыча, так и в ответ Глуше Лешка едва дотронулся до бескозырки.
Маячник что есть силы разогнал лодчонку, и она, с шумом рассекая крошево льда, взбежала носом на отлогий песчаный берег.
Из лодчонки легко выпорхнула Глуша и, смеясь, подскочила к Матросу:
— Живой, Лешенька? Здравствуй!.. А Митрий тут? Не в море еще?
Едва успел Лешка ответить, как Глуша, отряхнув подол юбки, побежала в поселок.
Егорыч вытащил якорь, воткнул его в песок и, искоса наблюдая за Лешкой, который молчаливо стоял невдалеке, сердито сказал:
— Должно, к Митрию поскакала, шалая! — и разом повернулся к Матросу, сурово спрашивая его: — Ключи отобрал?
Лешка не ответил.
— Отобрал, спрашиваю, ключи? — вновь спросил Егорыч Матроса. — Тебе доверил, ты и отвечать будешь! За все отвечать будешь: и за дом, и за все прочее.
Не слушая маячника, Лешка направился в поселок.
— Лексей! — строго окликнул его старик, но видя, что Матрос не обращает на него внимания, почувствовал, что и здесь ускользает его власть; тогда он впервые назвал ловца ласково, по имени-отчеству: — Лексей Захарыч!..
А тот, не оглядываясь, продолжал шагать дальше.
— Лексей Захарыч!.. — Маячник нагнал Матроса и, придерживая его за рукав, быстро заговорил, но уже не о ключах: — Беда, Лексей Захарыч, стряслась. Ой, беда! Ты понимаешь...
— Какая такая беда? — Матрос раздумчиво посмотрел на маячника.
— Ой, не тревожь! — еще жалобней запричитал старик. — Ой, не выспрашивай!
Он крутил головой, вздыхал, повторял одно и то же:
— Беда... Беда...
— А чего ж молчишь? — недовольно спросил Лешка. — Давай рассказывай!
— Ой, Лексей Захарыч!..
Так они вошли в улочку, на которую выходило окно мазанки Дмитрия. Не дойдя и десятка шагов до этого окна, маячник повернул обратно и зашагал к своему дому, но не дошел до него и свернул в узенький переулок; отсюда он опять вышел на улочку Дмитрия, затем снова на другую...
— Какая же беда, Максим Егорыч? — строго спросил его Матрос.
Не знал старик, где сейчас находится его дочка: у Дмитрия в мазанке или уже вместе с ним в его, маячника, доме. Не знал он и что ему делать — куда деваться, как вести себя с Матросом. Потому все и кружил, кружил по проулкам, увлекая за собой Лешку.
И когда очутились они невдалеке от матросовой хибарки, Лешка, которому надоело бесцельное хождение по поселку, схватил маячника за плечо и сердито крикнул:
— Стой, Максим Егорыч! Кондрашка тебя шибанул, что ли?! — и, плюнув, направился в свою хибарку.
Егорыч остановился, растерянно посмотрел вслед Матросу и, распахнув полушубок, двинулся за ним. Войдя в горницу, Лешка прошел к окну и тоскливо уставился в мутное стекло. А маячник молча присел на бочонок, шумно вздохнул.
В горнице было тихо и холодно, как в ледяных выходах для посола рыбы; лишь изредка где-то за печкой осторожно скребла мышь, да вторила ей в углу другая, копошась в обрывках сетей.
Крепился, крепился старик, а потом неслышно подошел к Лешке и, уронив на плечо ему голову, рассказал о случившемся на маяке.
— Ушла... И, видать, совсем...
— А ты что ж думал, она с тобой век вековать будет?
— Ругалась. Кричала на батьку... — продолжал жаловаться маячник.
— Одно скажу, Максим Егорыч, — Лешка отошел от старика, приосанился: — Что было — былью поросло. Но Глушу зря ты отпустил к Митрию... В такое-то штормовое время, когда паруса следует подбирать туго-натуго, он шкот бросает. Сам знаешь, какие дела творятся в городе, да и по всей нашей матушке-России. На кукан сажают рыбников и разных нэпманов, вожжу им поднатягивают... Во какие дела! А он, ваш Митрий...
— Не мой, — маячник безнадежно замахал руками и, пройдя к бочонку, устало опустился на него.
— А Митрий, вместо того чтобы повыше вздергивать наши паруса, опять пошел к Дойкину!
— Как? — Старик подпрыгнул на бочонке, будто рыба на горячей сковороде.
— В море от Дойкина собирается.
— А я еще кулас ему давал, — обиженно протянул маячник. — Сетку сулил... Э-эх, Лексей Захарыч! Пропала, видать, Глуша.
— Дело покажет! — с достоинством произнес Матрос.
— Лексей Захарыч, — старик подошел к ловцу и, вытащив кошель, сунул ему червонец. — Сбегай в потребилку, купи бутылку горя. Выпьем да помозгуем, как быть...
— Не могу, Максим Егорыч!
— Чего так? — удивился маячник.
— В путь собрался. Не видишь? — Лешка кивнул на угол, где на протянутой веревке висели наутюженные его бушлат и брюки-клеш. — Раньше в район заеду, а потом в город, а может, и в Москву. Только вот с деньгами плоховато у меня.
— А в Москву зачем?
— К Клименту Ефремычу Ворошилову — за подмогой против всяких дойкиных и коржаков.
— Чего ты говоришь? — Вытаращив глаза, старик все еще никак не мог понять, о чем говорил ловец. — К Ворошилову? В Москву?.
Усадив маячника на подоконник, Матрос начал подробно рассказывать о гражданской войне, о своей поездке в Москву...
— Толково, толково придумано, — приговаривал удивленный Егорыч, согласно кивая головой. — Молодчина, Алексей! А Глуша — дура!
— Дура не дура, — веско вставил Матрос, — а несколько шурупчиков в мозгах у нее не хватает.
— В точку попал! — привскочил маячник. — Хвалю за ухватку, Лексей Захарыч! Червонец на дорогу даю тебе! — и он раскрыл кошелек.
— За это спасибо, Максим Егорыч! — Лешка засветился благодарной улыбкой. Крепко пожав руку старику, он попросил его: — Свези меня, Максим Егорыч, в Бугры. А оттуда я легко доберусь до района. Свези, Максим Егорыч! Прошу тебя!..
— Ладно, свезу, — согласился маячник.
И снова Лешка крепко потряс руку старика.
— Спасибо, Максим Егорыч, спасибо, — и прошел в угол, где висела выглаженная его одежда; сняв с веревки клеш и бушлат, он осторожно, чтобы не помять, разложил их на кровати. Затем тут же подсел на корточки к небольшому ящичку с самодельным запором. Когда он открыл крышку, Егорыч через его плечо заглянул в ящичек; там был разный ловецкий инструмент, пряжа, шматки пакли, цепка...
«А наград-то и не видно», — подумал маячник.
Про Лешкины награды толковали разное: одни уверяли, что есть у него награды, другие говорили, что это выдумки.
Вытащив из ящика ботинки, Матрос отставил их в сторону и вдруг легко подбросил на руках блестящий, вороненой стали револьвер.
— Спрячь, спрячь! — отшатнулся старик. — Не дал бог стрельнет!
— Видал? — и Лешка показал на именную серебряную пластинку, что была прибита сбоку нагана. — Читай, Максим Егорыч: красному матросу Алексею Зубову... Сам Климент Ефремыч вручал. Не веришь? На, читай! — и, крутнув барабан, сунул было револьвер маячнику в руку.
— Ой, батюшки! — перепугавшийся Егорыч отскочил к стене. — Положь, положь пушку обратно!
— Этот наганчик, — Лешка приподнялся и выставил ногу вперед, — опять может понадобиться!
Он вдруг круто повернулся в сторону зала-тира и выстрелил в мишень паука-капиталиста.
Паук-капиталист вскинул над головой запрятанный за спину топор.
— Видишь, что для нас гадами приготовлено?!
— Положь, говорю, пушку обратно! Положь обратно! — трясся маячник, укрывшись за бочонок и осторожно выглядывая из-за него.
Усмехаясь, Лешка снова опустился к ящику:
— А вот и еще...
— Довольно, Лексей, довольно! — старик замахал руками. — Закрой сундук, закрой ради бога! — Он в тревоге глянул на дверь. — Убегу, не могу пушку видеть!
— У меня еще и не такая есть, — желая потешиться над стариком, нарочито серьезно сказал Матрос и стал рыться в ящике.
— О-ой!.. — старик зажмурил глаза и опрометью бросился к двери.
— Куда ты? — схватил его за полу вскочивший на ноги Матрос.
— Пусти, Лексей!
— Да пошутил я, Максим Егорыч, пошутил ведь.
— Пусти!
— Говорю, пошутил, — виновато улыбаясь, сказал Лешка и силой усадил Егорыча на бочонок.
Только исподволь, вприщурку открыл глаза старик, и то раньше один, потом другой.
А Лешка, вынимая из ящика разные документы, уже сновал от кровати к окну, от окна обратно к кровати; просматривая бумаги, он едва слышно говорил:
— Мы им, дойкиным-то, покажем. Покажем...
«Вот так Лексей! — восхищался маячник. — Прямо настоящий герой!.. Да-а, в этом парне классу хоть отбавляй. Не то, что Митрий!»
Раньше Егорыч знал Лешку только как веселого и дельного ловца, который хорошо владел веслом и ладно умел выпить. А теперь Лешка своими разговорами о рыбниках, о районе, о городе, о Москве предстал перед маячником совсем в ином свете.
«Перевернулся парень... — И маячник вздрогнул от неожиданного сравнения: — Как Глуша, все одно, изменилась».
Но взглянув на Матроса, он подумал иное:
«Нет, Лексей изменился в одну сторону, а Глуша совсем в другую. Э-эх, дочка, дочка!..» — и Егорыч беспомощно опустил голову.
Посмотрев на задумавшегося маячника, Матрос негромко спросил его:
— О чем думку мнешь, Максим Егорыч?
— О Глуше, Лексей Захарыч.
— А чего много думать? Пусть сама подумает. Не маленькая, не девчонка.
— Так-то оно так, да не совсем эдак, — тяжко вздохнул старик. — Дочка она мне, или кто?
— Ну, дочка.
— Вот и жалко.
Поднимаясь, старик взглянул хитро прищуренным глазом на Матроса и жалостливо уронил:
— Пропала, видать, Глуша.
— Не пропадет, если за ум возьмется.
— Ой ли? — встрепенулся маячник.
— Говорю, не пропадет! — и Матрос значительно повел плечами.
Старик попрежнему жалостливо сказал:
— Ведрами ведь, Лексей Захарыч, ветра не смеряешь.
— Всякое, Максим Егорыч, бывает: и рыба взлетает, и птица ныряет...
— Лексей Захарыч... — Маячник вплотную подошел к ловцу и умоляюще попросил: — Сходим вместе, выручим бабу!..
Лешка провел рукой по лицу, нахмурился.
«Они-то собираются, о чем-то толкуют, — неожиданно мелькнуло у него про Дойкина, старого Турку и других, что сходились по ночам у Насти Сазанихи. — А мы чего же не соберемся? Почему мы не потолкуем про свои дела?..»
И вдруг он радостно хлопнул маячника по плечу:
— Пошли, Максим Егорыч! Только ты — наперед ступай. Да покличь туда Костю Бушлака, Сеньку, Антона, Павла Тупоноса...
— Зачем же их? — недоумевая, перебил Матроса старик.
— Надо, Максим Егорыч! Там узнаешь. Коляку еще позови, Анну Сергеевну, вдову Зимину, брата ее...
Старик удивленно глядел на Матроса, ничего не понимая.
— Да побыстрей только! Побыстрей! — торопил его Лешка. — Делай так, как говорю. Ступай! А я вот приоденусь сейчас и следом за тобой... Жалко, Андрей Палыча да Григория Иваныча нету. Ну, да ладно, — на этот раз обойдемся и без них.
Аккуратно сложив на подоконнике пачку документов, он начал быстро переодеваться.
— Ступай, ступай, Максим Егорыч! Созывай людей! Сейчас и я заявлюсь!
Искоса поглядывая на Матроса, маячник шагнул к двери и серьезно, озабоченно спросил:
— Не шутку ли со мной, Лексей Захарыч, шутишь?
— Что ты, Максим Егорыч! Что ты! Глушу идем же выручать!
— А народ-то зачем?
— А там увидишь!
— Непонятно... — Старик потоптался у порога и только было взялся за скобку двери, вдруг кто-то громко постучал:
— Дома гражданин Зубов?
— Кто там? Заходи! — Матрос прикрепил к бескозырке выглаженную ленту, на которой ярко блестели золотые буквы: «Решительный».
В горницу вошел милиционер.
— Здесь гражданин Зубов? — спросил он, с удивлением оглядывая ловца, что был в полной матросской форме и прилаживал к поясу наган.
— Здорово, дружок! — обрадовался Лешка. — Ты-то мне и нужен!
— А что такое? — спросил милиционер.
— Дело есть, — загадочно ответил Матрос. — Такое, дружок, дело, что ахнешь!
— И у меня дело, — милиционер, раскрывая брезентовый портфель, искал место, где можно было бы присесть.
— Вот-вот, — Лешка подвинул ногой бочонок. — Ну, а ты чего стоишь? — обратился он к маячнику, который изумленно глядел на милиционера. — Иди, иди, Максим Егорыч! Созывай поскорее людей. Сейчас и мы с товарищем милиционером заявимся. Торопись!
Тряхнув головой, старик широко распахнул дверь.
«Старый хрыч, — мысленно выругался Лешка вслед маячнику. — Дальше своей Глуши ничего и не видит!»
— Значит, вы будете самый гражданин Зубов? — Милиционер вынул из портфеля папку, все еще с недоумением поглядывая на Матроса.
— Единственный! А ты откуда: из района или из сельсовета?
— Из сельсовета, — и приезжий снял фуражку; бритая голова его отливала белизной. — Жалко, вашего депутата сельсовета нету, он тоже нужен.: —Милиционер раскрыл папку. — Та-ак... Расскажите-ка, гражданин Зубов, как тут у вас произошло избиение члена правления кредитного товарищества ловцов?
— Какое избиение?.. О Ваське Безверхове, что ли, говоришь?
— Да-да, о нем.
— Брось, дружок! — Лешка усмехнулся. — Пустое дело!
— Прошу к порядку! У меня распоряжение из района...
— Потом это! — Матрос, не дав досказать милиционеру, быстро подошел к нему и захлопнул папку. — После объясню. А сейчас — айда со мной. Вот я тебе дам дело так дело!
— Гражданин!.. — начал было милиционер, сбитый с толку решительным поведением Матроса.
— Потом, потом, дружок. Пошли поскорей! Зайдем только сейчас на собрание одно, а оттуда двинем птаху городскую ловить. У-ух, и птаха! Редкостная!..
Милиционер в недоумении пожал плечами.
— Пошли, пошли, дружок! Некогда!
Лешка потрогал рукой наган и, шагнув к двери, настежь распахнул ее.
Милиционер, поспешно сунув папку в портфель, выскочил следом за Матросом.
— Гражданин! — растерянно окликнул он Лешку, застегивая на ходу портфель. — Товарищ военмор!..
Глуша, как только вбежала в мазанку Дмитрия, сорвала с себя шаль и, заплакав от радости, прильнула к его груди.
— Чего ты, чего ты, дуреха, — он сурово улыбнулся и крепко прижал Глушу к себе, гладя ее густые шелковистые волосы.
— Батяша, Митенька, замучил...
— Довольно тебе, довольно. Садись давай. Я окно прикрою, а то видать все.
Сбросив полушубок, Глуша пытливо оглядела Дмитрия, желая понять, не рассердился ли он на нее за столь долгое отсутствие. Она часто, взволнованно дышала. Большие черные глаза ее были влажны и блестели.
Дмитрий, задернув занавеску и заложив на крючок дверь, шагнул обратно; был он нахмурен — казалось, чем-то недоволен.
Глушу сразу сковало страхом, точно льдом.
Подойдя к ней, Дмитрий снова улыбнулся.
— Митенька! — и она расслабленно повисла у него на груди. — Батяша все. Он все, он, Митенька!..
— Будет тебе, Глуша.
— А любишь ты меня? — она пристально посмотрела ему в глаза.
— Нет! — и Дмитрий рассмеялся.
...Долго рассказывала Глуша про чудачества Максима Егорыча, про Лешку-Матроса, пока не заметила узелок на столе.
— А это что такое? — с тревогой спросила она.
— В море собрался... Иду от Дойкина...
— А я как же?.. И с батяшей поскандалила, чуть не подралась. Куда же я денусь?
Дмитрий поднялся с кровати, шагнул к столу.
— Надумал я, Глуша, так... — начал он.
Подойдя к зеркалу и поправляя волосы, Глуша настороженно слушала Дмитрия.
— Собирались мы тут... Всё об артели думали... Ну, и порешили под конец: пока кто как пойдет на лов, а уж вернемся — непременно артель!..
— Куда же я, Митенька, денусь? — снова в тревоге спросила Глуша.
— Не перебивай... О тебе я так думал: на промысел пока поедешь, резалкой.
Глуша вздрогнула и бессильно привалилась к косяку окна. Никогда не выезжала она далеко из Островка, разве что на маяк. Поездка, о которой теперь говорил Дмитрий, пугала ее.
— Глядишь, и зашибешь какую полсотню, а то и всю сотню. Да я, да Сенька... — Он все больше и больше волновался, ворошил волосы и гулко ступал по земляному полу. — Вот и справа тогда, вот и артель готова... Эх, и заживем мы с тобой, Глушок! Да как еще заживем-то!
Глуша молчала, опустив голову.
— Такую артель собьем, что ахнут все! Мало-помалу весь Островок войдет в нашу артель. Развернем мы тогда дела! О-ох, и двинем...
Дмитрий, радуясь, что наконец-то никто ему не помешает как следует потолковать с Глушей, что нет возле них Егорыча, который ни разу не дал им по-настоящему поговорить на маяке, стал торопливо рассказывать дальше:
— Комсомол, Глушочек, — большой лагерь. А партия — еще больше. Это они новую жизнь создают и нам указывают, как ее налаживать. Начать только, Глуша, трудно, а там — колесом все завертится. Я вот сколько время бьюсь за артель, — видно, слыхала. А все тпру да стой, стой да тпру... Только бы начать артель, а там помогут и районный комсомол, и партийный комитет, и кредитка...
Глуша видела впервые Дмитрия таким взволнованным; так обстоятельно и горячо он еще никогда не говорил с ней.
«А батяша его ругал, — недоумевала она. — Ругал его и Лешка, будто классу какого-то в нем нету. И чего им надо?»
Неожиданная мысль поставила ее в тупик: «А почему Митя идет на путину от Алексея Фаддеича? Ведь батяша ругал его за это самое!»
Она тревожно взглянула на Дмитрия.
«Может, и правду говорят о нем батяша и Лешка?» — снова кольнуло ее сомнение.
Обеспокоенно задышав, она шагнула к нему.
— Митенька... — и, вертя пуговицу на его телогрейке, тихо спросила: — А почему ты не хочешь взять батяшин кулас? Ведь он же обещал! И сетку, говорил, даст. Мы с тобой вдвоем на лов поедем. Да еще батяша помог бы нам. И мне бы тогда не надо ехать на чужую сторону.
Дмитрий долго не отвечал, задумчиво глядел мимо Глуши на занавешенное окно...
В это время и постучался в дверь глинянки Максим Егорыч.
— Митрий Степаныч, отворяй ворота!
— Батяша, — испуганно прошептала Глуша.
— Он! — отозвался Дмитрий и направился к двери.
— Митя, — остановила его Глуша. — А может, пьяный он? Буянить еще тут начнет.
- — Митрий Степаныч! — колотил ногою в дверь маячник. — Принимай гостей!
Откинув крючок, Дмитрий распахнул двери. Следом за Егорычем вошли в глинянку Макар-Контрик, Павло Тупонос, Коляка.
— Здорово живешь! — весело приветствовал маячник Дмитрия, крепко прижимая к груди бутылки с водкой. — Освобождай стол! — кивнул он Глуше на узелок.
Ничего не понимая, Глуша удивленно глядела то на старика, то на ловцов, что пришли с ним.
— Освобождай, говорю, стол! — Егорыч локтем отодвинул узел и осторожно опустил бутылки на стол.
Дмитрий как был у двери, так и остался стоять там с широко открытыми глазами.
— Что ж это ты, Митрий Степаныч, — укоризненно покачал головой маячник, — плохо гостей принимаешь, а? Рассаживай давай, что ль!
Откашлянув, Дмитрий молча поздоровался с пришедшими, некрепко пожимая им руки; выдвинув из угла табуретку и чурбан, он прошел к кровати, из-под которой вытащил сундучок.
— Садись, ловцы, — и сам опустился на край кровати, рядом с ним присела Глуша, все беспокойно поглядывая на старика.
Егорыч, отдернув с окна занавеску, хотел что-то сказать, но тут распахнулась дверь, и в глинянку, шумно переговариваясь, вошли Анна Жидкова, ее дядя — Кузьма, вдова Зимина, Наталья Буркина.
— Здрасте! — бойко сказала Анна и обратилась к маячнику, лихо поводя подчерненной бровью. — Зачем кликал нас, Максим Егорыч?
— Садись, садись, бабоньки. — Старик засуетился, выискивая, где бы можно было пристроить рыбачек.
— А зачем звал-то нас? — заносчиво спросила Анна, высоко вскинув голову и поочередно оглядывая ловцов.
— Сейчас все откроется... — Егорыч усадил Жидкову на подоконник, Буркину на чурбан, Зиминой уступил свою табуретку. — Лексей Захарыч сейчас придет, он все и откроет.
Дмитрий тревожно переглянулся с Глушей.
— А-а-а, Лексей Захарыч, — радостно протянула Анна. — Тогда обождем!
Глуша недовольно скосила глаза в ее сторону.
Опять скрипнула дверь, и один за другим вошли Тимофей — брат Зиминой, Костя Бушлак, Сенька, Антон, затем пришло еще несколько ловцов и рыбачек.
А вскоре заявился и сам Лешка.
Когда он, улыбчивый и разодетый, с орденом на груди, при нагане на поясе, вступил в мазанку, да еще в сопровождении милиционера, все так и ахнули.
— Здорово, товарищи ловцы, — сказал Лешка, — и гражданочки рыбачки!
Одни из пришедших заулыбались, другие с любопытством поглядывали на милиционера.
Протиснувшись к столу, кивнув на водку, Лешка строго сказал Егорычу:
— Убрать! — и, выдвинув стол на середину мазанки, обратился к милиционеру: — Садись, дорогой дружок. Послушай вот! Мы быстро...
Лешка попросил Зимину пересесть к Глуше на кровать, а табуретку уступить милиционеру.
— Проходи сюда, дорогой дружок!
Милиционер порывался что-то сказать, но Лешка за рукав подвел его к столу.
— Садись, садись! Раскрывай бумаги!
Скинув фуражку, милиционер сел, расстегнул портфель.
— Согласно поступившего заявления...
— Это после! — остановил его Лешка. — После!
Милиционер недоуменно взглянул на ловцов и рыбачек.
— Константин Иваныч председателем будет, — продолжал распоряжаться Лешка. — Садись! — и пригласил Бушлака к столу. — А Сенька — секретарем, пусть протокол ведет. А товарищ милиционер — вроде как член президиума. Правильно, товарищи ловцы и гражданочки рыбачки?
— Правильно, правильно, — не совсем уверенно ответили собравшиеся, еще не зная точно, в чем же дело.
— А я докладчиком буду. — Лешка одернул бушлат, подтянулся. — Так, что ли?
— Давай, давай, Лексей Захарыч! — крикнула Анна. — Народ ждет!
— Поскорей только! — поддержал Анну Макар.
Рыбачки, что пришли последними, перешептывались, тянулись к столу, ловцы выжидающе смотрели — одни на милиционера, другие на Лешку, некоторые вопросительно поглядывали на Егорыча: зачем, мол, позвал нас? А Павло что-то говорил на ухо Антону.
Егорыч нетерпеливо следил за Лешкой, выглядывая из-за печки, куда оттеснили его до отказа набившиеся в мазанку ловцы и рыбачки.
Восхищенно оглядев собравшихся, Матрос подумал:
«Давно бы так — все вместе!»
Он хлопнул бескозыркой о стол, прочно взялся руками за край стола, обвел взглядом низкий, задымленный потолок и, сурово поджав подбородок, взволнованно произнес:
— Граждане ловцы и гражданочки рыбачки! Скажу прямо: собрались мы сюда, чтобы объясниться по текущему моменту нашей жизни, а она, наша золотая, ходит что на гребне волны: или еще выше вскинется, или в прорву рухнет... А ты, Сенька, — Лешка кивнул Бурому, — пиши протокол, слово в слово... Слыхали, какие дела творятся в городе, — рыбников к ногтю, а заодно с ними и тех работников, что потворствовали этим рыбникам. В самую точку угодили товарищи-дружки, что приехали с центра проверить в нашем городе советские порядки. Довольно вола вертеть с рыбниками! — Лешка громко стукнул кулаком о стол. — Хватит!.. Эдакое и по всей нашей стране идет. Так я говорю, дорогой дружок, или не так? — и он пригнулся к милиционеру.
Тот сдержанно ответил:
— Выходит, согласно Конституции...
— Согласно, согласно!.. Революция наша шагнула на новый фарватер, скажу прямо: в новую путину вышла! — Лицо Матроса восторженно сияло. — По-иному и жизнь наша поворачивается. А кто здесь это видит? Кто это у нас чует? Мало кто!.. Дойкины это лучше нашего понимают, а мы одно только знаем: на гулянки с девками ходить, песни орать. Чего гыкаешь?.. — Лешка чуть заметно задержался взглядом на брате Зиминой, которого видел каждый вечер с девчатами. — А иные наши ловцы только за бабьи подолы держатся, — и Лешка осторожно скосил глаза в сторону Дмитрия. — Да и сам я, каюсь, грешник, последнее время зря много о юбке думал. А теперь бросил. Поважнее дела есть!..
«У-ух, какой!» — У Глуши в тревоге дрогнуло сердце.
— А есть и такие ловцы, что только о своих дочках думают, будто весь свет на зяте клином сошелся...
Егорыч отступил подальше за печку.
«Ну и шерстит! Ну и перебирает наши косточки!» — И тут же маячника подмывало тревожное любопытство: к чему такое и что будет дальше, куда повернет неожиданную речь Матрос?
Этого ожидали и другие ловцы, пристраиваясь кто у стен на корточках, кто у стола, иные подсаживались к Дмитрию и Глуше на кровать.
— Почему никто не видит, что вокруг делается? — всё громче и громче говорил Лешка. — Всяк собою занят! А кругом нас гады вертят, жить мешают, а может, и петлю готовят.
— Гады бывают разные, говори толком, — глухо проворчал Коляка.
— Гады какие, спрашиваешь? — Лешка потянулся в сторону Коляки. — А вот после собрания пойдем с товарищем милиционером накрывать одного гада, — Матрос тронул наган, — тогда и увидишь. С легкой руки его, может, сразу и за других примемся. Каждую ночь крестины-именины там. Дойкин наш любезный, старый Турка захаживает, твой благодетель — Захар Минаич...
Лешка громко прищелкнул языком:
— Знаем мы их шатию!
Лицо его — розовое, в лучистой улыбке — на секунду помрачнело.
— Ничего не видим, что вокруг заворачивается!.. В новую путину, говорю, наша жизнь выходит. А мы все одно как незрячие, на месте топчемся. Дела пора делать! Они по ночам собираются, а мы днем будем собираться. На то мы и ловцы, на то и власть наша, ловецкая... Раз в городе г-гадов за жабры — значит, и тут на хвост наступим! Не мешайте шагать революции нашей по новым путям-дорогам. — Он быстро оглядел всех и резко взмахнул рукой: — А то что же получается? Они, разные дойкины и коржаки, и в кредитке заправляют, и в сельсовет нос суют...
Милиционер решительно поднялся, намереваясь, должно быть, прервать Лешкину речь. Но на него зашикали, чтобы не мешал слушать. Потоптавшись, он опустился на табуретку.
— Люди в море собираются, — не обращая внимания на милиционера, продолжал Лешка. — А мы вот на берегу торчим. У кого сетей нет, у кого посуды... А у г-гадов полно от наших трудов. Гниет!..
— Правильно! — вскричала Анна Жидкова и оглушительно захлопала в ладоши.
— Постой шуметь, Анна Сергеевна, — и Лешка приветливо улыбнулся ей. — Мне так думается: прежде всего давайте артель создадим. А чтобы крепче было, выберем сейчас же и комитет, или, как это называется, правление. Перво-наперво нужно выбрать, по-моему, Андрей Палыча, он и председателем, вожаком артели должен быть. Кряду надо выбрать Григория Иваныча Буркина, деда Ваню, Анну Сергеевну. А еще Дмитрия Казака — у него ведь больше прочих голова болит за артель!.. Тоже — комсомол, а с рыбниками! Где ловецкий класс?.. А меня надо сделать вашим уполномоченным. Я за управой на кредитку и на рыбников в район поеду, в город поеду. А не то и в Москву махну!
Слушая Матроса, милиционер забывал о целях своего приезда в Островок, а когда вспоминал, пытался подняться, теребя Лешку за бушлат. Но тот, увлекшись, все говорил и говорил:
— Ты вот, Митрий, был в Красной Армии, — неожиданно повернулся он к Казаку. — Значит, должен знать о Клименте Ворошилове, кто он есть и что за человек. А ты вот с Дойкиным!..
Дмитрию хотелось вскочить и отругать Лешку, вытолкать его из-за стола. Он и раньше порывался сделать то же самое, когда Матрос говорил о нем. К Лешке он относился свысока, недоверчиво, особенно после скандала из-за ключей маячника. Вначале Дмитрий с тревожным нетерпением слушал Матроса, полагая, что вся эта канитель с гостями затеяна им и маячником с целью устроить новый скандал... Но Дмитрий чувствовал, как постепенно эти тревожные мысли исчезали, сменялись новыми, что нарастали смутно, исподволь, захватывая его с каждой минутой все сильнее.
«И в самом деле, — решил он наконец, — из-за Дойкина не ладится жизнь. — Но тут же заколебался: — Шурган виноват... Относ... Кабы не то, с деньгами я был бы. А стало быть, и справа была бы. Артель смело можно было бы налаживать. — И опять спохватился Дмитрий: — А ежели снова выйдет незадача и с этой путиной? Ежели фарт не подвалит? Тогда что? Опять к Алексею Фаддеичу?..»
Ему припомнилось, как пытался Дойкин вычесть с него за тулуп, будто оставленный в море, как записал Алексей Фаддеич ему долг в семьдесят пять целковых за околевшего Рыжего, а тот и половины того не стоит.
«А Антон?.. Он тоже никак не может уже который год выбраться из дойкинской сухопайщины. А разве Антон один? — спрашивал себя Дмитрий. — Разве мало таких под Дойкиным и Краснощековым ходит?.. Коляка вон, Кузьма еще. А Павло Тупонос? А Зимины? А сам я?..»
Сейчас он впервые почувствовал, что был неправ, когда надеялся при помощи Дойкина скопить деньги, приобрести справу, и только после этого собирался организовать артель. Теперь он начинал понимать, что Лешка, хотя кое в чем и перехлестывает, торопится, но прав — сотню раз прав! — в своей ненависти к дойкиным. Начинал он осознавать и то, что, живя в мире с рыбниками и не борясь с ними, в одиночку артели не создашь, не построишь новую жизнь для ловцов без вовлечения этих же ловцов в жестокую борьбу с рыбниками. Об этом же не один раз говорил ему Шкваренко.
И когда Лешка опять на людях корил его, Дмитрий сердился, ворошил волосы, крякал, вздыхал. Но Лешка говорил правду, да и нельзя было долго на него сердиться — он мягко, дружелюбно улыбался и от души попрекал его:
— Эх, Митяй, Митяй!.. Комсомол должен одним из первых быть в новой путине нашей жизни. А ты все топчешься — шаг на месте!..
И Дмитрию снова захотелось вскочить, но уже не для того, чтобы выругать Лешку, а ударить по рукам с ним в знак дружбы и обещать ему и всем, всем, что он бросит Дойкина и что готов он с Лешкой хоть сейчас ехать куда угодно, только бы поскорее бросить дымную мазанку и начать налаживать артель, строить новую ловецкую жизнь!.. Но у Дмитрия не хватало решимости, чтобы встать и открыто посмотреть в глаза Лешке и другим ловцам. Поэтому-то сейчас он растерянно блуждает глазами по залатанным коленям своих штанов, искоса поглядывает на ладони Глушиных рук, что беспокойно скользят по краю кровати.
А Лешка, стукнув ладонью о стол, вдруг громко закончил:
— Я, значит, как докладчик, все выложил! Теперь, товарищ председатель, — он склонился к Бушлаку, — открывай дебаты! — и подмигнул милиционеру: — А потом пойдем накрывать гада.
Милиционер, не зная, что ему предпринять, нерешительно поднялся с табурета.
— Граждане, — заговорил он после долгого молчания. — Я должен, согласно заявления, опрос сделать, а может, и...
— Потом, потом, дорогой дружок! — Лешка усадил озадаченного милиционера на табуретку. — Ты собрание веди, тебя же народ в президиум выбрал... Ну? — он оглядел ловцов. — Кому же слово в дебатах? Разворачивайтесь! — и рукавом бушлата вытер густо запотевшее лицо. — Кому ж охота? Или некому? — удивился он. — Выходит, для всех жизнь — светлый праздник, что для Дойкина с Краснощековым, что для Митрия с Колякой — одинаково? Или нет?
Поднялся было Макар и по привычке сунулся в карман за газетой, но взглянув на Лешку, поспешно опустился за спину Бушлака, так и не сказав ни слова.
— Ты что же? — спросил его Матрос.
— Подумаю... Не все одумано, — невнятно буркнул Макар.
— А чего много думать! — недовольно сказал Костя Бушлак, поднимаясь из-за стола. — И в газетах про то каждый раз напоминают.
Макар снова сунулся в карман за газетой, но опять присмирел, как только посмотрел на Матроса.
— Власти, слышь, рыбницкой, — обстоятельно продолжал Костя, — этой самой купеческой — крышка! Артелям, пишут газеты, первое место.
— Газетки!.. — не выдержав, крикнул Макар. — Знаем мы эти газетки!.. — и вскинул над головой, вместо всегдашней истрепанной газеты, новый газетный лист.
— Свежая газета? — удивился Бушлак.
— Ага!
— Откуда она у тебя?
— Ильинишна из города привезла!
Костя взял у Макара газету и, быстро пробежав ее, вдруг широко взмахнул листом.
— Граждане! Граждане!.. — взволнованно воскликнул он. — Алексей Захарыч про весь наш район написал и про Островок!
— Как так? — Макар подскочил к Бушлаку и через его плечо заглянул в газету, хотя был и неграмотен.
А Костя уже громко читал собравшимся статью Матроса о том, что во всем их районе засилье рыбников-кулаков и что районные организации не помогают ловцам исправно выйти на весеннюю добычу рыбы. Матрос требовал принятия решительных мер против рыбников, требовал помощи по организации артели, называл поименно опытных, искусных ловцов Островка, которые вынуждены из-за отсутствия сбруи сидеть сложа руки. В числе названных бывалых ловцов значилось и имя Макара.
— Неужели и про меня? — Он тыкал пальцем в газетный лист, изумленно восклицая: — Где это? Где?.. — И, выхватив из рук Бушлака газету, замахал ею, как флагом. — Вот так газетка! В самую точку! Молодец, Лексей!..
Милиционер засуетился, беспокойно поглядывая то на Лешку, то на кричавшего Макара. Лешка весело кивнул милиционеру и прикрикнул на ловца:
— Хватит тебе!.. А ты давай-давай, Константин Иваныч! Все в порядочке, — и, улыбаясь, он подмигнул милиционеру.
— Вот так газетка!.. — не унимался Макар. — А ты, Костя, так говори, как Лексей: черк под жабры Дойкина!
Не слушая Макара, Костя стал рассказывать собравшимся обо всем, что вычитал он за последнее время в газетах, о борьбе с сухопайщиной, о наведении порядка в кредитных товариществах ловцов, о создании артелей, колхозов...
— И землячка наша Катерина Егоровна про то же самое пишет, да еще добавляет: бороться, слышь, надо!.. — и Костя зачитал письмо Катюши.
Письмо Кочетковой, как и статья Матроса, произвело на собравшихся сильное впечатление. Дочку тетки Малаши помнили все, знали, что она — большой работник в городе. И ловцы заговорили все разом, жалуясь на свою нужду, на нехватки сетей, на дойкинскую сухопайщину, на дорогой хлеб и сбрую, что давал под улов Краснощеков.
— А я что говорил?! — ударил о стол бескозыркой Лешка. — А я что писал в газете?! Тряхнуть их!..
— Тряхнем! — подхватил Макар, размахивая газетой. — И Дойкина тряхнем, и Краснощекова!.. Газетки брехню не пишут! Тряхнем!
— И старого Турку, — добавил Коляка, — следует за измывательство!
— Следует! — поддержал Сенька, отрываясь от протокола.
В мазанке было душно от большого скопления ловцов, махорочного дыма и жарко натопленной печки. Анна Жидкова распахнула окошко, и в мазанку ворвался свежий морской ветер, еще более тревожа ловцов, вновь и вновь напоминая о том, что пора уже собираться на лов.
— Эх, в море скорей бы! — с тоской проговорил Макар. — Постарайся, Лексей Захарыч!
Егорыч за печкой смачно прищелкнул языком:
— Он, Лексей-то, такой — море разгородит!..
Павло Тупонос, оглядев собравшихся, деловито спросил Лешку:
— А где же сбруя для артели?
— Найдем! — Матрос многозначительно подмигнул.
Павло поднялся и шагнул к двери.
— Благодарствуем, — сказал он, ухмыляясь и по-смешному раскланиваясь. — Когда сбрую найдете, меня позовите, — и вышел из мазанки.
Следом за ним поспешили две рыбачки.
Молча поднялся Антон, хотел что-то сказать, но в отчаянии махнув рукой, направился к выходу.
— И ты?! — вскричал Матрос.
В ответ Антон крепко хлопнул дверью. Все переглянулись.
Милиционер посмотрел на притихших ловцов и рыбачек. Костя Бушлак воспользовался наступившей тишиной и вновь неторопливо заговорил:
— Видать, все согласны с Лексеем, кроме тех, что ушли. В самый раз он поднял нас на создание артели!
— И Митя тоже артель сбивать думал, — неожиданно вставила Глуша и покраснела.
С подоконника вскочила Анна и, подбоченясь, заносчиво ответила Глуше:
— Твой Митрий уже сколь путин продумал!
— А твой какой? — и Глуша укрылась за спиной Дмитрия.
Анна, задорно вскинув голову, оглядела ловцов:
— Все мои! И твой — мой!
Дальше не слыхать было голоса Анны — потонул он в громком, раскатистом смехе ловцов и рыбачек:
— Уморила!
— Ой, батюшки!
— Ха-ха-ха-а!..
— Граждане! Граждане!.. — стуча портфелем о стол, закричал опамятовавшийся милиционер, видимо решивший под конец сам вести собрание, чтобы скорее закончить его и приступить к своему делу. — Гра-аждане, я говорю!
Ловцы хохотали, хватаясь за животы; рыбачки, стыдливо прикрывая лица концами головных платков, тихонько посмеивались, сокрушенно покачивали головами.
Милиционер, надевая фуражку, строго заявил:
— Граждане, согласно кодекса...
Смех то затихал, то вновь вскидывался, разрастаясь в гремучий хохот.
— Гра-аждане! — милиционер умоляюще взглянул на Матроса.
Лешка схватил бескозырку, взмахнул ею.
— Ловцы-ы! — закричал он. — Ловцы-ы!..
Когда немного стихло, милиционер кивнул в сторону Кости Бушлака:
— Продолжайте, гражданин, не задерживайте. У меня свое дело!
— Как же тут продолжать, — с обидой ответил Костя. — Эдакий шум!
— Вали, вали, Константин Иваныч! — крикнул ему Лешка.
— Товарищ военмор! — милиционер постучал костяшками пальцев о стол. — Призываю к порядку!.. Говорите, гражданин! — и он снова кивнул Косте.
— Да чего же много говорить... И так наскрозь все видать, — артель требуется! Без нее нам нет житья. Ловцы же мы, и завсегда совместно работаем. Всем известно: я вот, скажем, какой уже год с Лешкой и Андрей Палычем совместно ловлю. С нами еще Григорий Иваныч ловит, Василий, Сенька... Да чего говорить! Так порядок велит ловецкий, море приказывает. А в одиночку ловить — погибель, смерть верная... Выходит, надо еще теснее — настоящую, большую артель сбивать. С ней-то и ловить способнее, да и с Дойкиным легче биться...
— Известно, легче, — негромко добавил Дмитрий, все боявшийся, что вот-вот Лешка или кто другой опять отругает его или высмеет.
«А почему же хотел идти от Дойкина в море?» — недовольно подумала Глуша о Дмитрии и осторожно, искоса посмотрела на него.
— Уполномачиваем Лешку: пусть катит в район и город! — Костя поглядел на Матроса, а тот, надев бескозырку и откинув за плечи ленты, приосанился, важно посматривая на ловцов, на Глушу. — А правление, какое предложил он, так тому и быть! Ну, хватит с меня, — закончил Костя и сел за стол.
К столу подскочил Макар и строго сказал Бушлаку:
— Выкинуть из правления Анку! Срамота! Баба, да еще... — он сердито махнул рукой и ушел к печке.
Вспыхнув, Анна подбоченилась и задиристо сказала:
— Меня сам Лексей Захарыч в правление прочит, — и вскинула глаза на Матроса.
— Не надо Анку! — поддержал кто-то Макара.
— Гра-аждане! — осерчав, милиционер ударил портфелем о стол. — К порядку!..
— Зимину заместо Анки!
— И то верно — Марью Петровну!
— Анну Сергеевну! — крикнул Лешка, потрясая бескозыркой. — Страдалицу нашу!
Милиционер вскочил, застегнул шинель, сунул портфель подмышку и дернул за рукав Матроса:
— Пошли, гражданин Зубов!
— Что?! — вскричал Лешка. — Собрание срывать?!
Милиционер швырнул портфель обратно на стол и распахнул шинель:
— Кто еще, граждане, хочет по существу доклада? Поскорее, граждане! У меня дело неотложное!
— Я насчет Анны Сергеевны, — поднялась Зимина и кивнула в сторону Жидковой. — Она, как есть, девка разбитная, самый раз подходит.
— Ладно, гражданка! — сказал милиционер. — Кто еще?
Из-за угла вышел Коляка и только начал было говорить, как его опередил Егорыч:
— Дай я, дай я!.. — и прищуренным глазом он пристально посмотрел на Дмитрия. — Ладно тут и Лексей Захарыч говорил, и Костя ладно толковал. Оно, известно, человек без людей, без общества все одно как рыба в одиночку, без косяка. Такая рыбеха, чего и говорить, — пропащая!.. И то верно, что о рыбниках-живоглотах здесь говорено. Видать, каюк им теперь! Две весенние путины в году не бывает. Так и в этом деле — разных правов насчет рыбников не может быть: в городе их за шиворот взяли, и тут, стало быть, пора... — Маячник подошел ближе к столу. — Но теперь, граждане ловцы, должны мы припомнить нашу ловецкую присказку: на ветер надейся, и сам не плошай. О чем тут речь? Пускай Лексей Захарыч едет за правами, как сказывал он. Пускай! Заручиться подмогой непременно следует... Но и нам сидеть сложа руки не полагается. Сейчас же следует приниматься за дело! Надо в сельсовет торкнуться, в район. Разнюхать, что там и как. Да покрепче требовать!
Егорыч пытливо посмотрел на Дмитрия.
— А ты, — подступил он к нему, — должен этим делом наперед других призаняться. Махай сегодня же в район — на помощь Андрей Палычу и Григорию Иванычу! Да гляди, потверже будь, не отступай ни перед кем. Гляди!.. Э-эх, позабыл, верно, ты, как я с тобой толковал. Целую неделю на маяке долбил, чтобы классу набирался...
Маячник, поглядывая на дочь, что сидела с опущенной головой, все настойчивее корил и наставлял Дмитрия, надеясь, что сегодняшняя встряска образумит его, выведет на верную дорогу, как огонь маяка в непогожую ночь выводит ловцов к берегу.
Милиционер перебил:
— Это уж семейное пошло... Все ясно, граждане?
— Ясно!
— Как вода!
— Отлично! А теперь займемся моим делом, товарищ Зубов... Лексей Захарыч ваше имя-отчество? И вы, гражданин Макар... Как ваша фамилия? Ага! Останьтесь... Гражданка Анна Сергеевна Жидкова, тоже останьтесь. Собрание закрыто!
Милиционер облегченно вздохнул, вынул из портфеля папку, из папки — исписанную с обеих сторон карандашом бумажку и лист чистой бумаги для протокола.
— Согласно поступившего заявления...
Ловцы плотно обступили стол.
Глава одиннадцатая
Дойкин стоял на берегу у своего излюбленного столба под маленькой крышей, напоминающей перевернутый гробик. Поодаль за ним топталась и негромко тянула церковные напевы Полька-богомолка; часто крестясь и кланяясь, она дергала плечами, отчего глухо звякала висевшая на шее якорная цепка с большим деревянным крестом.
Перед иконой червяком вертелся в малиновой лампаде огонек, и казалось, вот-вот он погаснет от ветра, но поплавок с фитилем был опущен глубоко в стаканчик, и огонек то выпрямлялся, то снова сжимался на дне лампады.
Минуя столб, торопливо шли на берег ловцы и рыбачки поглядеть на неожиданно уходящую в море флотилию Дойкина.
Моряна, трепля вдали махалки камыша, все крепчала, тихонько подвывал и посвистывая.
Долго стоял под иконой Алексей Фаддеич; ноги его ныли, и когда мимо прошла последняя рыбачка, он устало привалился плечом к столбу.
Сумрачно следил Дойкин, как одно за другим собирались отваливать от берега его суда.
Сегодня утром льды в протоке снова подвинулись, и от напора их выросли на средине реки крутые ледяные курганы.
Алексей Фаддеич закатисто вздохнул, еще раз вздохнул, покачал головой. Посылать в море флотилию было еще рано и опасно — льды могли порезать суда, затереть их, сжать, раздавить в щепы. Но приезжий настоял на своем...
К Алексею Фаддеичу спешил Мироныч. Он еще издали встревоженно, отрывисто заговорил:
— Не могу больше... Матерятся, требуют... Надо трогаться, что ли... Чего скажешь?..
Дойкин видел, как Мироныч волновался, беспокойно поглядывая по сторонам.
— Ну — с богом! — коротко отрезал Алексей Фаддеич и, перекрестившись, обнял компаньона, трижды поцеловал его. Помолчав, он жестко добавил: — Значит, помни, как уговорились: высадишь их на берег — и в море на лов... мне сообщи... а там видно будет...
Мироныч, казалось, на секунду заколебался, хотел что-то сказать, но, должно быть, раздумал, тряхнул головой и решительно повернул в сторону флотилии.
Стоявшие на берегу ловцы и рыбачки недоумевали, озадаченно разводили руками:
— И куда эдак рано?
— Куда торопятся?
— Вернулся же Васька Безверхов с пробитой реюшкой!..
— Порежут посудины!
— Непременно порежут!..
И только Ольга, жена Павла Тупоноса, не высказывала ни недоумений, ни сомнений. Она боялась, как бы муж опять не отказался от выхода в море. Крепко прижимая к себе ребят, Ольга беспокойно следила за Павлом.
Черный, как уголь, Цыган, кивая в сторону Дойкина, громко сказал ловцам:
— Видать, Алексей Фаддеич хочет всю рыбу в море один заграбастать... — и, зло усмехаясь, выругался.
В это время загремела якорными цепями дойкинская флотилия.
Первой отвалила от берега двухмачтовая грузная стоечная, под кормой ее на тросах шли емкие, широкие в бортах подчалки, а за ними, плавно покачиваясь, плыла высокая, острогрудая подбегная.
На корме стоечной, широко расставив ноги, стоял Мироныч; сняв шапку, он размашисто крестился, поочередно на все четыре стороны — на ост и вест, на норд и зюйд.
Ловцы, работая кто шестами, кто баграми, настойчиво продвигали стоечную по проглеям.
Когда отвалило от берега последнее судно, Дойкин снял фуражку и, поклонившись иконе Николы-чудотворца, неторопливо перекрестился. Взволнованно дыша, он пристально посмотрел на черный лик.
«И что творится на белом свете? — тревожно зашептал он. — Куда бежит жизнь?.. Волга в Каспий бежит. А жизнь эта куда?..»
Повернувшись к протоку, Дойкин увидел, как его флотилия, удаляясь от берега, искусно лавировала промеж льдов.
Алексей Фаддеич посмотрел на лик чудотворца и растревоженно спросил: «А может, обойдется?.. И советская власть ведь не без добрых людей... Где же ее, лучшую, взять-то?»
По проглеям медленно пробирались суда; ловцы шестами и баграми отводили встречные льдины или, разбивая их, гнали осколки прочь.
«...Где же ее взять, власть-то лучшую? — вновь спросил Дойкин и вновь посмотрел на черный лик, на лампаду; огонек в лампаде сжался, точно потух. — А может, и взаправду отчаянный человек? — подумал Алексей Фаддеич о нежданном госте. — Может, и впрямь по-настоящему подымет баев и казаков, как в восемнадцатом?.. А там, глядишь, подымется и вся Волга, вся Россия... Да и люди с ним — народ, кажется, лихой и отпетый... Дай им бог удачи! Господи!»
Он часто и громко задышал; по лицу его поползли багровые пятна.
Флотилия уходила все дальше и дальше от берега. Ловцы беспрерывно крушили льды. Со стоечной Мироныч махнул на прощанье шапкой. Дойкин ответил кивком головы, кивок пришелся не то Николе-чудотворцу, не то Миронычу.
Алексей Фаддеич заметил, как Мироныч, припав грудью на румпельник, круто сдвинул руль вправо, и стоечная вошла в широкую проглею; ловцы грузно налегли на шесты, продвигая судно вперед.
— Опаска! — крикнул с правого борта стоечной Антон. — Срежет, срежет!
Он с размаху вонзил багор в рыхлый покров встречной льдины; на подмогу Антону подбежал Павло Тупонос, и, натужась, они отодвинули ледяную глыбу в сторону.
Антон, шумно отдуваясь, откинул шапку на затылок.
— А может, зря мы с тобой, Павло, ушли с собрания-то? — спросил он Тупоноса.
— А может... — неопределенно пожал тот плечами и с тоской посмотрел на удалявшийся поселок.
— Вроде по-серьезному затевается дело с артелью-то.
— Вроде... — все так же невнятно ответил Тупонос, продолжая смотреть на поселок.
На носу стоечной стоял Яков Турка с высоко поднятым багром. Не дождавшись от отца обещанного выдела, он пошел сухопайщиком к Дойкину.
«Жадина! — мысленно ругал Яков отца. — Вернусь с моря — все одно потащу в суд! Все возьму свое!»
Неожиданно Мироныч громко вскричал:
— Отводи ту! — и показал на остроребристую льдину, что бешено неслась слева, готовая прободать борт стоечной. — Ту отводи! Быстрей!
«Молодец Мироныч мой!..» — и Дойкин облегченно вздохнул.
Антон в два прыжка перемахнул на другой борт и ударил багром в льдину, другие ловцы тоже ударили в нее; она встала на ребро и, казалось, вот-вот обрушится на судно, но вдруг перевернулась в обратную сторону и ушла под стоечную.
«Правильно!» — одобрил Алексей Фаддеич ухватку ловцов.
Он только боялся, что льдина может рвануть по днищу судна, но тут снова вскричал Мироныч:
— Гляди справа! Гляди-и!
На стоечную острым углом надвигалась ледяная глыба. Ловцы настороженно выставили багры, и когда ударили в нее, Яков Турка выпрыгнул на край льдины, пытаясь погрузить ее в воду и протолкнуть за нос судна; за ним вымахнули из стоечной другие ловцы, и под их тяжестью глыба скрылась под водой. Мироныч рванул руль влево, и судно миновало опасность.
Ловцы зорко высматривали новые льдины.
— За подчалком гляди! — то и дело покрикивал, оглядываясь, Мироныч. — Мотя, гляди за подчалком!
Наваливаясь грудью на румпельник, он водил его то влево, то вправо, заставляя судно замысловато лавировать между льдин.
Матвей Беспалый стоял на корме подчалка и неторопливо работал шестом.
Мироныч внимательно следил за встречными льдинами и в то же время озабоченно поглядывал на дверку каюты, где находился Владимир Сергеевич со своими приятелями. Изрядно подвыпив, приезжие всё порывались выйти на палубу, однако Мироныч не пускал их, уговаривал повременить.
Но вот снова распахнулась дверка каюты, и показался красный, вспотевший Владимир Сергеевич, за ним потянулись его приятели.
Мироныч недовольно поморщился, но на этот раз промолчал — берег был уже не так близко.
— Ф-фу! Как в бане! — пьяно посмеиваясь, сказал Владимир Сергеевич и распахнул было френч, но обдавший его жгучим холодом ветер заставил застегнуться. — Мироныч, убери там со стола! — строго приказал он, кивая на каюту, и еще строже добавил: — Да чай побыстрее согрей!
Пошатываясь, он поднялся на палубу и хрипло сказал удивившимся его появлению на судне ловцам:
— Здорово, ловцы-молодцы! — и, по обыкновению выхватив из кармана тяжелый серебряный портсигар, стал угощать: — Закуривайте, ребята!
Все признали незнакомца, объявившегося дружком Василия Сазана. Следом за ним, так же пошатываясь, вышли на палубу четверо неизвестных людей в городских, щегольских сапожках и брюках-галифе, как и сам приезжий, и только один из них был в обыкновенных брюках, заправленных в сапоги. На всех были френчи и кители. Неведомые люди нещадно курили, сумрачно посматривали по сторонам.
— Как думаете, сумеем пробраться под Гурьев? — спросил ловцов незнакомец, пошатываясь и хватаясь за снасти.
Ловцы в недоумении переглянулись.
— Мой закадычный друг Вася Сазан сидит там в ледяных торосах, — разъяснил незнакомец и, крепко выругавшись, добавил: — Спасать надо товарища, раз власти наплевать на человека!
Ловцы снова озадаченно посмотрели друг на друга.
— Мироныч! — требовательно окликнул незнакомец. — Как там чай?
— Сейчас, сейчас, — заторопился Мироныч, до этого сосредоточенно следивший за разговором. — Антон, поди сюда!
Антон прошел на корму. Мироныч хотел было передать ему управление рулем, но приезжий снова заговорил с ловцами.
— Убери там в каюте, — торопливо попросил Мироныч Антона. — И чай вскипяти...
В каюте было сильно накурено — не продохнуть. Железная печурка исходила жаром. Кругом валялись пустые бутылки. Пол был заплеван, загажен. На столе стояли стаканы с недопитым вином, тарелки с разными закусками, в которых торчали окурки папирос.
«Поганцы!» — с омерзением подумал о неведомых людях Антон, прибирая каюту.
Переставляя тяжелый ящик, он решил, что в нем находится вино, но вдруг нечаянно соскользнула крышка, и Антон, вздрогнув, едва не уронил ящик на пол.
В ящике поверх замасленных тряпок лежали два револьвера: один длинный, похожий на наган, другой — короткий, будто с обрубленным дулом.
Антон осторожно потрогал тряпки — в них было завернуто что-то твердое.
«Наверно, еще револьверы!» — решил он.
По палубе громко затопали, мимо оконца замелькали сапоги — неизвестные возвращались в каюту.
Антон поспешно прикрыл ящик крышкой и выскочил на корму. Присев у жарника, он стал разводить огонь.
Неизвестные прошли в каюту, оставив дверку полуприкрытой.
Антон поставил на жарник котел с водой и, строгая ножом кирпичный чай, взволнованно прислушивался к разговору, доносившемуся из каюты.
«Что за история? — в тревоге думал он. — Оружие... Зачем?.. И люди какие-то... Под Гурьев, слышь... Что за оказия?..»
— Сто-ой! — оглушительно закричал Мироныч. — На-ва-ал!..
У косы, что выходила на самую середину протока, путь судам преграждали взгромоздившиеся одна на другую желтоватые, в прососинах льдины. Торосы вздымались высокой, казалось, непроходимой стеной. Ловцы, спустившись на лед, начали пешнями и топорами пробивать дорогу.
Долго ловцы крушили ледяной навал, истово ругаясь, кляня все на свете... А когда пробили в нем проход, то легко протащили суда дальше. Вооружившись баграми, они снова стали следить за встречными льдинами: гнали их в стороны, разбивали...
Дойкин безотрывно наблюдал за продвигавшейся во льдах своей флотилией.
Когда-то хаживал так в море и сам Алексей Фаддеич; помнятся ему и студеная вода, пахнущая острыми запахами, и пронзительная сырь, и эти легко плавающие предвесенние чадные туманы.
А теперь вот стоит он у столба с иконой; и думает он, и видится ему, что все вокруг — и берег и воды — бьется у его ног, и люди тянутся к прежней дойкинской силе. А сила эта была и тяжелая, и добрая, и ласковая.
До-обрая!.. Но этой доброты не поняла даже Наталья Буркина. Ф-фу, поганое ведро!.. Недотрога! Тоже, добро... Годков пятнадцать бы назад, — тогда кто сказал бы, что натура Алексея Фаддеича недобрая и неласковая?.. Кто, как не Алексей Фаддеич, был попечителем Мариинского приюта имени государыни Марии Федоровны? Не его ли, Дойкина, милостью воспитывались дети бедноты и подкидыши. Или не жертвовал он на приюты и деньгами и рыбой? Не он ли самолично, заезжая к своим питомцам, отечески и любя, навещал особо пригожих воспитанниц, — надобно же судьбу их устроить как подобает! Не Алексей ли Фаддеич думал вместе с ними, девушками-голубицами, о приданом, о будущей их жизни. Кто бы приласкал их, кто бы позаботился о дальнейшей их судьбе, ежели бы не он? И женишка при помощи верных людишек найдет, не грузчика какого-нибудь, а чиновного, непьющего. И посаженым отцом на свадьбе — не он ли бывал, сам Дойкин.
А сколько питомцев-подкидышей устроил Алексей Фаддеич у себя на промысле!.. Засидится бывало девушка долго в приюте в ожидании жениха. Глядишь, и восемнадцать годков стукнуло ей, а то и больше. Что с ней делать? И опять Алексею Фаддеичу забота... Или парнишек-подкидышей взять: шли они из приюта мальчиками в торговые лабазы, в столярные и медницкие мастерские, редко кто из них выходил в приказчики, конторщики. И о них попечение имел Алексей Фаддеич... Не один десяток таких пареньков милостиво приютил он у себя на промысле. Особо же ревностно заботился Алексей Фаддеич о девушках.
Кто же другой похлопочет о женской судьбинушке, как не сам попечитель приюта имени государыни Марии Федоровны Алексей Фаддеич Дойкин!
Что и говорить — есть, что вспомнить!..
Была в приюте одна розочка — сирота Софа, маленькая, пухленькая, не по летам полногрудая. Два года выжидал Алексей Фаддеич, пока вытянется Софа в стройную девушку, но она все оставалась такой же маленькой и продолжала хорошеть. А когда узнал Дойкин, что Софе исполнилось восемнадцать лет, увез он девушку к себе на промысел. Не сразу сломил ее Алексей Фаддеич, а потом за расточительные ласки Софы взял он девушку с промыслового плота к себе прислугой в дом. Но однажды о его связи с Софой узнала жена — кроткая, богомольная женщина. Не сказав мужу ни слова, она покорно ушла в монастырь. Дойкин после этого стал жить с Софой открыто, как муж с женой... Вскоре навалился памятный семнадцатый год, а потом январь восемнадцатого, когда рабочие города и ловцы забрали не только багры, но и власть в свои руки. У Дойкина отобрали трехэтажный каменный дом в городе, новый пароход, четыре буксира, десяток баркасов и богатый промысел на взморье... Сумел Алексей Фаддеич выбраться из города в рыбацкий поселок, где и схоронился у своего икорника. Потом перекочевал в другой поселок, оттуда в Красный Яр к племяннику. В это время со стороны Гурьева двинулись уральские казаки; племянник со своими друзьями ушел им навстречу. Дойкин начал собираться в город, который, казалось, вот-вот возьмут уральцы. Но Красная Армия разметала их. Пришлось Алексею Фаддеичу уехать из Красного Яра. Свыше года он жил у бывшего своего конторщика в пригородном поселке, а потом перебрался в Островок, в этот глухой, малолюдный култук, где проживал верный его промысловый приказчик Порфирий Мироныч, который занимался тогда ловом рыбы... А когда ввели нэп, Алексей Фаддеич в компании с Миронычем начал поспешно расширять рыбный промысел, немного спустя занялся он скупкой рыбы, переправляя ее в город. В двадцать пятом году его хозяйство уже настолько окрепло, что в компании с уцелевшими рыбниками открыл он в городе рыбную фирму, — правда, предусмотрительно не входя официально в число ее хозяев. Поплыли вагонами белорыбица, балыки, икра — и в Москву и в Питер... Разыскалась и Софка, только стала она теперь тощей, костлявой бабенкой.
— Разве от этой жизни не постареешь?! — Алексей Фаддеич печально глянул на лик угодника, зашептал сдавленным голосом: — Господи! Никола-чудотворец!.. Помоги людям, дай им силу... — Плотно привалившись плечом к столбу, он стал громко рассуждать не то с самим собою, не то с угодником: — Ничего, что приходится ползком пробираться в этой жизни. С кем не бывает!.. К чему тут гордость и спесь? Когда дело есть, можно и без фирмы тихо, благополучно обойтись. Не в фирме дело! Сумели же мы с Миронычем прошлой осенью незаметно переправить в Саратов два дощаника рыбы и икры. Оказывается, можно и без вывески обходиться, — кошельку все равно! Но тут вскоре снова зашумели партийные люди: об артелях, об уничтожении сухопайщины... О-ох, и беспокойный народ пошел нонче! Известное дело — власть! А что тоска вот ожигает и, как ледяная глыба, давит на сердце, то ведь и лед проходит. Пронеси, господи! Помоги, господи!.. Только бы благополучно добраться людям под Гурьев. А там... А там, может, и вновь пойдут мои пароходы, буксиры, баркасы. Вот ушли же сейчас хоть и бедные посудинки, да чьи они? Чьи?.. Может, еще поставим великий монумент именитому волжскому тысячнику Фаддею Дойкину, батяше моему... О-ох, родитель! А каков ты был: саженного роста, кудрявый, краше своего сына. Бывало возьмет за руку, подведет к карте православной Российской империи, ткнет кургузым пальцем в голубую борозду Волги и синий овал Каспия и дух переведет: «Видишь, сынок?.. Волга — это вроде как ручка, а Каспий — самый ковш. Понял?.. Крепко держись, сынок, за Волгу, за эту самую ручку. Крепко-накрепко!.. Каспий-море — золотая ямина, сынок. Черпай оттуда сколько там хватит, только не ленись! Я черпал великие тысячи, а ты должен взять этим ковшом мильены. Сам знаешь — начал я поздно и помираю вот рано. Запомни сынок: я был тысячником, а ты должен быть мильенщиком! — Тут родитель опускался на кровать и прерывающимся голосом продолжал: — Помни: никого не жалей, потому что тебя никто не пожалеет. Не зря же говорится: рыба рыбою сыта, а человек — человеком. Понял?»
Было это, когда Алексею исполнилось двадцать лет, и батька, мучительно страдавший язвой желудка, передавал ему свои богатства. До этого Фаддей безотдышно, как осатанелый, тридцать годов носился по Волге и приморью, создавая капитал.
Открыв поначалу в городе небольшой лабаз с ловецкой сбруей, он исподволь забрал в свои руки чуть ли не половину окружного ловецкого населения, снабжая его сетью, мукой, кредитами... Шла тогда про Фаддея худая слава. Говорили про него разное, как начинал он богатеть. Одни упоминали имя какого-то недавно умершего московского купца, незаконным сыном которого будто являлся Фаддей. Другие передавали, что щедро задарил он князя Кудашева, управляющего государственным имуществом Нижней Волги. Третьи шептались о том, что выкрал где-то Фаддей из алтаря церковное добро: золотые кресты, чаши... Но только не прошло и пяти годов с тех пор, как Фаддей открыл в городе небольшой лабаз, слыл он уже по всему Поволжью именитым тысячником. Жизнь его, что река, широко разлилась на многие-множества протоков. Вниз и вверх по Волге плыли его беляны, баржи, плоты, баркасы, буксиры. По всему волжскому понизовью хвалили его самарскую муку с голубым клеймом на мешках: «Мучная фирма Фаддея Дойкина», а семь крестьянских губерний центральной России ели его рыбу с черной трафаретной отметиной на тарах: «Рыбная фирма Фаддея Дойкина».
Однако и в то время он ни на минуту не переставал думать о своих капиталах, все ненасытно ворочая делами. Опамятовался Фаддей только после того, как болезнь окончательно приковала его к постели... Побывав у многих профессоров и не получив облегчения, решил Фаддей посетить перед смертью святые места.
Передав дела Алексею, поехал он в Киево-Печерскую лавру, в Саровскую пустынь, на Афон. Изредка появляясь в городе, Фаддей богато наделял вкладами местные монастыри, строил по бедным церквам иконостасы, увенчивал золотом куполы.
Алексей же, с головой окунувшись в батькины дела, развернул их еще шире, азартно приумножая унаследованные тысячи.
Но тут шквалом пронесся семнадцатый год, ударил шурганом январь восемнадцатого. А теперь вот закрутилось такое, что не поймешь, не разберешься. И эти загадочные люди, покатившие под Гурьев, — удастся ли им поднять народ?..
Алексей Фаддеич, задыхаясь от волнения, провел дрожащей рукой по глазам и оглянулся. Стоит он у столба, под навесом которого слабо мерцает лампада перед ликом Николы-чудотворца, рядом нудно тянет молитвы Полька-богомолка, одна из бывших воспитанниц приюта, что, лишившись рассудка, была отдана когда-то им, чтобы не было скандала, в Девичий монастырь.
— Замолчь! — прикрикнул он на запевшую было громко Польку. — Утихомирься!..
И, прислушиваясь, как моряна все крепче и крепче била с Каспия, он заметил над камышами противоположного берега вихристые клубы густого черного дыма, словно нависли над приморьем ураганные тучи.
Перед веснами ловцы часто поджигают камыш, как говорят они, для того, чтобы новый рос гуще и выше; тогда все приморье дни и ночи пылает кровавым заревом...
Неожиданно где-то взревел гудок.
Дойкин взглянул на проток, — к Островку из-под того берега баркас тянул рыбоприемное судно.
«Под самый корень подсекают! — И Дойкина прошиб озноб. — Значит, не зря брехали, что государственный промысел ставит у нас приемку!»
Он растерянно осмотрелся вокруг и увидел шумную толпу ловцов и рыбачек — шли они на берег и, казалось, направлялись к нему, Дойкину.
А гудок баркаса, что тянул приемку к Островку, все гудел — Громко и протяжно.
Впереди толпы шагал милиционер; по левую руку с ним был Лешка-Матрос, рядом шла Глуша, поддерживая плачущую Настю Сазаниху. А поодаль от них Максим Егорыч, размахивая руками, о чем-то сердито говорил Дмитрию Казаку. Позади шли и шумели Анна Жидкова, Зимина, брат ее, Коляка, Макар-Контрик, Костя Бушлак, Наталья Буркина, Кузьма.
— А ты не плачь! — кричал Матрос Насте Сазанихе. — Не плачь, а расскажи толком, куда он делся, этот самый гость!
После собрания у Дмитрия, что затянулось чуть ли не до самого обеда, милиционер опросил Лешку-Матроса, Макара и Анну Жидкову по поводу избиения, как значилось у него в деле, члена правления кредитного товарищества Василия Безверхова. Потом ловцы и рыбачки направились следом за Лешкой и милиционером к дому Василия Сазана, где остановился неведомый человек из города.
Но в доме не оказалось ни приезжего, ни хозяйки.
Толпа двинулась к лавке сельпо, но и здесь не нашли Сазаниху; тогда все потянулись на берег и встретили ее у дома Дойкина.
— Говори, Настя, — настойчиво допытывался Лешка. — Все говори, не скрывай! Как там они собирались, про какие дела толковали... Не скрывай, а то плохо придется!
— Не пугай, Леша, мамашу, — уговаривала Матроса Глуша, отстраняя его от Сазанихи.
— Не знаю я. И чего пристал? — всхлипывала Настя, крепко прижимая к груди ребенка, что был завернут в розовое одеяльце. — Приехал, Васькиным дружком назвался. А где мне знать, какие у него дружки?
— А куда же девался дружок?
— Говорю, не знаю... Встала утром, а его нету. И других тоже нету...
— Каких других? — удивился Матрос.
— Да вчера ночью к нему четыре человека откуда-то приехали.
— Вот как?! Их, значит, тоже нету?
— Нету...
— Найдутся! Их адрес Дойкин знает! — Лешка взглянул на милиционера.
Милиционер молча и важно шагал рядом.
Когда подошли к Алексею Фаддеичу, Матрос вызывающе сказал:
— Ну, добрый денек, хозяин! А где ваши гости? Видишь, народ интересуется... Милиция! — строго скомандовал Лешка. — Принимайся за свои обязанности! Нас опрашивал о Ваське Безверхове. Опроси-ка теперь этого хозяйчика о залетной птахе: зачем она прилетала, о чем пела, кого еще накликала, куда девалась... Да поскорее опрашивай! А то у нас дела неотложные — сам знаешь!
Ловцы и рыбачки стояли молча, взволнованно переглядывались. Милиционер, козырнув двумя пальцами Дойкину, строго спросил:
— В чем тут у вас дело, гражданин?
— Тебе виднее, товарищ милиционер, — ухмыльнулся Дойкин. — Слушай этого шалопая, — он кивнул на Матроса, — и будешь в курсе.
— Ты о приезжем говори! — не вытерпев, вскричал Лешка и подскочил к Дойкину. — Расскажи, как вы собирались у него и зачем: ты, Турка, Краснощеков...
— Да-да! Расскажи-ка милиции! — поддержал Макар, размахивая газетным листом: — А не то газетка расскажет!
— Ну-ну! Довольно брехать! — оборвал ловцов Алексей Фаддеич и тут же обрушился на милиционера: — Зачем сюда приехал? Выяснить, как произошло покушение на жизнь члена правления кредитки? Выясняй, опрашивай, действуй!.. Да забери из Островка этого прощелыгу, — он ткнул пальцем в Матроса. — Беспокоит, мутит народ. А людям на лов пора собираться!
Лешка ринулся к Дойкину:
— Ах, ты!..
— Гражданин Зубов! — и милиционер встал между Дойкиным и Матросом. — К порядку!
— Обыск надо! — Лешка повернулся к ловцам и рыбачкам. — Найти эту залетную птаху! И других найти!..
У Дойкина зло сверкнули глаза, лицо покрылось багровыми пятнами; тронув за плечо милиционера, он требовательно заявил:
— Отвечать и ты будешь за оскорбление, потому как не принял мер. В сельсовет с жалобой поеду, в самый район поеду! Ишь, честных людей оскорблять!
— Пошли! Пошли! — уговаривал ловцов Лешка. — Накроем сейчас залетную птаху!.. Милиция — за нами!..
Но тут громко воскликнула Анна Жидкова:
— Андрей Палыч едет!
Зимина, сорвав с головы платок, радостно взмахнула им:
— Григорий Иваныч! Буркин!
Все бросились вниз от столба, у которого остался один лишь Алексей Фаддеич. К берегу подплывала бударка с ловцами. Милиционер окликнул Матроса, но тот вместе с толпой устремился навстречу подъезжающим. Тогда милиционер глубоко надвинул на лоб фуражку, оправил шинель и, козырнув, значительно сказал Дойкину:
— Я сейчас! Обождите! Разберемся!..
Размахивая портфелем, он двинулся вслед за Лешкой, нетерпеливо окликая его:
—-Гражданин Зубов!.. Товарищ военмор!..
Алексей Фаддеич снова привалился плечом к столбу и сумрачно посмотрел вдоль берега: ловцы и рыбачки кричали, махали руками, платками, шапками возвращающимся из района.
На том берегу, где недавно был подожжен камыш, бился черный дымище, сплошь застилая полнеба.
У косы стояла приемка; баркас, что привел ее, гудел отрывисто и тревожно, пытаясь отвалить обратно, но моряна хлестала наотмашь и все прибивала баркас к приемке. Ветер, кружась по протоку, подламывал льды, они глухо шуршали, подвигались. Вдруг где-то поблизости оглушительно громыхнуло, и от напора льда на берег выдвинулся ледяной хребет, за ним, звеня осколками, вздыбился другой; льдины, грохоча, неслись на берег, громоздились друг на дружку, осыпались... Моряна с воем и присвистом металась по протоку, мешая льды со вспенившеюся водою.
Запахнув поддевку, Дойкин следил, как Андрей Палыч направлял бударку к Островку; ветер относил лодчонку в сторону, а ловец, работая шестом, старался подогнать ее к берегу.
За веслами сидел Григорий Буркин, дальше находилась женщина, рядом с нею мужчина.
Лодку наконец прибило недалеко от того места, где стоял Алексей Фаддеич.
Первым вылез из бударки Андрей. Палыч и поспешно подал руку женщине в коричневом пальто и синем берете. Следом за женщиной выпрыгнул на берег Буркин.
Потом поднялся незнакомый человек — не старый, но уже седой, даже брови его — и те были белые, словно посеребренные инеем. Андрей Палыч помог ему выйти из бударки. Когда человек крепко оперся о костыль и глянул на столпившихся ловцов и рыбачек, все так и ахнули. А Настя Сазаниха, пронзительно вскрикнув, вместе с ребенком повалилась ему в ноги.
То был Василий Сазан, вернувшийся с относа...
— Ну, здравствуйте, товарищи! — приветствовал собравшихся Андрей Палыч. — Вот и мы! А вот и Катерина Егоровна наша — уполномоченная города, окружного комитета партии. А теперь она — новый секретарь районного комитета партии. Только на днях ее выбрали! Приехала Катя помочь нам навести в поселке порядки и организовать артель-колхоз.
Все сразу признали Катюшу Кочеткову — дочь старой тетки Малаши, хотя и не видели ее давно, да и сильно она изменилась: от прежней беззаботной молодой рыбачки не осталось и следа, — была она теперь строгой, внушительной на вид женщиной.
— Катя!.. Катерина Егоровна!.. — вырвалось у Кости Бушлака, и от смущения лицо его залилось румянцем.
— Здравствуй, здравствуй, Константин Иванович! — Сдержанно, но ласково улыбаясь, Кочеткова крепко пожала ему руку. — Алексей Захарыч, здравствуй!.. Марья Петровна! Ба, да это же Тимофей! Аннушка, здравствуй! Наталья!.. — Взволнованная и радостная, она пожимала ловцам руки, целовалась с рыбачками.
А Василий Сазан уже держал на руках ребенка, с любовью глядел на его розовое личико, успокаивал жену:
— Да будет тебе, Настя... будет, родная...
Настя от радости и плакала и смеялась. То и дело смахивая слезы, она прерывисто говорила:
— Я-то — ничего... а вот ты... ты как... — И, поглядывая на сплошь седую голову мужа, на его посуровевшее, в резких морщинах лицо, продолжала: — А тут гость этот... Милиционер вот... Лешка меня...
— На Лешку жалуешься? — Матрос повернулся к Насте, погрозил пальцем и, потянув к себе за рукав Кочеткову, начал торопливо рассказывать ей и Василию о случившемся.
Кочеткова остановила его, позвала Андрея Палыча, Буркина.
— Давайте собирайте народ! — решительно сказала она, надвигая на лоб берет и намереваясь двинуться в поселок.
— А мы уже собирались, Катерина Егоровна! И артель организовали! — и Лешка кратко, сбивчиво рассказал о только что состоявшемся собрании.
— Узнаю, узнаю Алексея Захарыча! — удивленная Кочеткова благодарно пожала Матросу руку. — Чего же мы, товарищи, на берегу торчим? Пошли в поселок! И давайте сейчас же партийное собрание проведем. Там и поговорим обстоятельно обо всем... Товарищ, — обратилась она к милиционеру, — вы партийный?
— Нет...
— Ну все равно, пойдемте с нами.
Все двинулись в поселок, громко и взволнованно разговаривая, минуя Дойкина, попрежнему недвижно стоявшего у столба с иконой.
Из-за штормового ветра Алексей Фаддеич не слышал, о чем говорили на берегу ловцы и рыбачки, не слышал он их разговора и когда проходили они мимо него. Но он чувствовал, понимал, что надвигается новое большое испытание. Зачем было приезжать сюда из города в такое тревожное время Кочетковой — не для свидания же с матерью! Да и то, что прикатившие сегодняшней ночью приятели Владимира Сергеевича поспешно собрались ехать дальше, — говорило о многом.
Дойкина сдавило удушье.
И вдруг ему захотелось побежать вдоль берега, захотелось нагнать свою флотилию, рассказать Владимиру Сергеевичу и его приятелям о новой лихой напасти и просить их — нет, не просить, а потребовать, приказать! — чтобы быстрее пробирались они под Гурьев к своим людям, чтобы быстрее поднимали народ.
— Шуровать надо, будоражить! — вырвалось у него. — Отпор готовить, обороняться! Нет, не обороняться, а наступать. Наступать!..
Моряна, все усиливаясь, жгла острой, соленой влагой.
Пожарище камыша охватывало новые и новые крепи, заливая ревущие воды и льды протока кровавыми отблесками.
«Все одно как в гражданскую... — подумал Дойкин, оглядывая пожарище. — Тогда полгорода спалили...»
Он чувствовал подмывающую его месть и готов был рвануться вдогонку своей флотилии, но ее уже было не видно.
«А ежели баркас наладить?» — мелькнуло у него о моторном судне.
Распахнув поддевку, Алексей Фаддеич с шумом ринулся на берег к оставшейся своей флотилии.
А пожар, подгоняемый моряной, грозно гудел, расстилаясь над приморьем жгучим красным полымем.
По небу летели искры, хлопья пепла; пахло гарью и дымом.
Под ударами ветра над протоком носились чайки, они кричали пронзительно, тревожно.
Лютое пожарище стремительно катилось в сторону моря; огонь, все разрастаясь, рвался в задымленное небо, зловеще бушуя багровыми волнами.
Глава двенадцатая
Собрание коммунистов и комсомольцев проходило у Андрея Палыча.
У ворот на скамейке сидела Евдоша и никого не пропускала в калитку. Ловцы и рыбачки, взбудораженные созванным Лешкой-Матросом необычным собранием, таинственным исчезновением незнакомца, приездом Катюши Кочетковой, взволнованно шумели, спорили, пытались прорваться в дом Андрея Палыча, нетерпеливо заглядывали в окна.
— Нельзя! Говорю же, нельзя!.. — предупреждала Евдоша ловцов и рыбачек, все порывавшихся проникнуть в калитку. — И в окна заглядывать нельзя! Люди же работают, заседают!.. Не мешайте?.. Да потише! Потише, прошу?..
— Как же можно потише! — возмущалась Анна Жидкова, то и дело заглядывая в крайнее окно. — Эдакое поднялось во всем поселке!
— Скорей бы тряхнуть Турку! — кричал Коляка, не отходя от калитки. — Турку тряхнуть бы! А они — опять заседать!
— Заседали же мы! Решили! — подхватил Макар и взмахнул газетой. — И газетки про то пишут: давай артель — и баста, а рыбников — к ногтю!
— Да потише, граждане! Потише! — продолжала уговаривать Евдоша. — Говорю же, мешаете людям! Они ведь там об артели решают!
Макар, снова взмахнув газетой, закричал:
— Решили же мы!
— А они закрепляют, чтобы как лучше и навсегда, — невозмутимо доказывала Евдоша и снова просила: — Потише! Потише, граждане!..
Сквозь толпу пробивалась к калитке сгорбленная Маланья Федоровна. Расталкивая людей, она охала, причитала:
— Катюшенька моя... Где же ты, доченька... Даже и домой не зашла!.. Всё дела и дела, — ах ты, сердешная...
Ловцы и рыбачки, заметив тетку Малашу, уступали ей дорогу, помогали продвигаться дальше, поддерживали под руки — и вскоре до самой калитки образовался свободный проход, словно длинный узкий коридор.
Навстречу старой рыбачке поднялась Евдоша и, подхватив ее под руку, усадила рядом с собой.
— А я к дочке... к Катюше... — жарко зашептала Маланья Федоровна, вытирая концом платка глаза. — У вас, говорят, она.
— У нас, у нас... — заторопилась Евдоша, не зная, как повести себя со старой рыбачкой: то ли пропустить ее в дом, то ли задержать — там ведь шло собрание коммунистов и комсомольцев!
Маланья Федоровна порывисто поднялась, разогнулась и, опершись руками в бока, шагнула к калитке.
— О-ох, дочка!..
Евдоша осторожно придержала старую рыбачку за рукав, снова усадила ее на скамейку, растревоженно сказала:
— Погоди немного, Федоровна... Заседают они... Сейчас и закончат.
— Да я же на минутку! — и старая рыбачка, охая, вновь поднялась.
— Погоди, погоди, дорогая. Они быстро.
— Да мне хоть бы одним глазком глянуть на нее. Почитай три года не видела...
Неожиданно кто-то громко вскричал:
— Ба-а!.. Чего-то стряслось! Глядите, что за человек?!
Ловцы и рыбачки зашумели громче прежнего, повернулись в сторону берега.
От протока бежал по улице какой-то человек и, то падая, то прислоняясь на секунду к забору, снова бежал и снова падал, поднимался, хватался за голову.
Макар и Коляка первыми бросились навстречу человеку, следом за ними поспешили Анна Жидкова, Кузьма, Зимина, Тимофей и другие ловцы и рыбачки.
...А в доме Андрея Палыча продолжалось собрание.
После Лешки-Матроса, подробно рассказавшего о последних событиях в Островке, говорила Кочеткова. Она была в черном, простого покроя костюме — неширокая юбка, короткий жакет четко облегали ее плотную, статную фигуру. Вокруг головы лежали золотым венком пушистые светлокоричневые косы.
— ...Вся ваша беда, товарищи вы мои, земляки, в том и заключалась, что вы редко, совсем редко собирались. Сидели и ждали, пока вас кто-то организует, кто-то преподнесет вам на ладошке готовенькую артель. А они, как правильно говорил здесь Алексей Захарыч, оказывается, собирались. Мы это еще точно узнаем, зачем они собирались! Проверим!.. — Она быстрым, энергичным взглядом посмотрела на дверь, за которой в сенях находился милиционер. — Вы забыли, товарищи земляки, что вы — коммунисты и комсомольцы, забыли, что вы — передовой отряд в поселке...
Сенька исподлобья поглядывал на Дмитрия Казака — тот, обхватив голову, низко склонился над столом.
Екатерина снова и снова попрекала собравшихся, то осуждая их всех вместе, то распекая каждого в отдельности.
— Но об этом пока довольно!.. — Она пристально оглядела притихших ловцов. — Тут, понятно, виновато и партийное руководство района, которое оказалось правоуклонистским. Оно теперь, я уже говорила вам, заменено новым. В этом оказал большую помощь городу Алексей Захарыч своей статьей-сигналом. Многое открыл нашему окружному комитету партии, как уже известно вам, и Василий Петрович. — Кочеткова кивнула в сторону убеленного сединами Василия Сазана. — Но и об этом — довольно!.. — Она посмотрела на окна, в которые заглядывали люди, прислушалась к шуму, доносившемуся с улицы. — Хорошо, что, хоть и с опозданием, принялись вы за артельные дела. Это очень хорошо!
Костя Бушлак, внимательно слушая Катюшу, безотрывно следил за ее плавными движениями рук, следил за иссиия-черными ее глазами, которые то вспыхивали, то вдруг потухали, то вновь загорались.
Она говорила коротко, то и дело переходя от одного вопроса к другому, желая, должно быть, ознакомить людей не только с тем, что творилось в их районе и округе, но и со всем, что происходило в стране. Сейчас она рассказывала о том, какой невиданно большей волной по всей советской земле идет организация колхозов и какая жестокая борьба развернулась с лютыми кулаками.
— И у нас, на взморье, товарищи вы мои, земляки, повсюду создаются колхозы, убираются с дороги мешающие нам рыбники-кулаки. Это только у вас, в вашем поселке и районе, произошла небольшая задержка. Но мы эту ошибку исправим. Быстро исправим, товарищи!
— Факт, быстро! — поддержал Лешка-Матрос, сидевший за столом рядом с Василием Сазаном.
На столе лежали стопками газеты; были здесь и те газеты, с которыми Андрей Палыч ездил в район, испещренные черным жирным карандашом, в кружках и рамках.
Слушая Кочеткову, Лешка машинально перебирал газеты, поглядывал на молодого седовласого Василия, удивляясь, как это удалось ему благополучно выбраться с моря. Хотя голова Василия и была сплошь седой, хотя и посуровел он в лице, но казался бодрым, смотрел весело.
— Так и не рассказал ты, — шепнул Матрос Василию, — кто же помог тебе, кто спас?
Василий сурово улыбнулся, показал внезапно загоревшимися глазами на газеты.
Лешка непонимающе пожал плечами.
Василий нетерпеливо потянулся к газетам и осторожно взял одну — с обведенными карандашом словами и целыми фразами; он аккуратно свернул газету и бережно, стараясь не помять ее, как самое дорогое и сокровенное, положил в боковой карман. Это была памятная ему газета, которую читал он перед выходом в море...
Лешка глядел на Василия и не узнавал товарища — лицо его было озарено каким-то необыкновенным, внутренним светом.
— Потом... потом расскажу... — взволнованно прошептал он и посмотрел на Андрея Палыча, который поднялся из-за стола, намереваясь говорить.
Но, как и всегда, Андрей Палыч не сразу начал свою речь. Он неловко переступил с ноги на ногу, поднял на лоб очки, опустил их на переносицу и снова вскинул на лоб.
— Прежде всего... — наконец заговорил он, отодвигая стул и проходя за него. — Прежде всего спасибо за науку Катерине Егоровне. Здорово отчитала она нас и поделом отчитала. Спасибо ей... Но не все наши ошибки и промахи знает она. Я хотел... — Андрей Палыч запнулся, посмотрел на Матроса. — Оно, может, и не к месту сейчас. Но я хотел, мне кажется... — Он говорил тяжело, волнуясь и так крепко сжимая спинку стула, что пальцы его рук стали белыми. — Я хотел сказать о проступке Лексея Захарыча. Он тут, рассказывали, недавно скандал учинил, гульбу с маячником... пьянку! Весь поселок знает об этом. Не положено коммунистам вести себя так срамно. Не положено!.. Правда, он и раньше у нас изрядно выпивал, но ведь теперь, товарищи, эдакое ответственное и важное время...
Лешка стоял за столом, виновато опустив голову, нервно теребя бескозырку.
— Не к лицу коммунисту это, да в такое-то еще время! — настойчиво повторил Андрей Палыч.
Вдруг со стула вскочил Дмитрий Казак и громко, страстно заговорил:
— Но Алексей Захарыч и собрание наше об артели организовал, и про темные дойкинские сборища первым дознался, и городу дал сигнал о непорядках!
— Правильно! Хорошо! Молодец! — Андрей Палыч снова посмотрел на Матроса и, подумав, взволнованно сказал: — И все-таки нельзя, товарищи, пятнать нашу партию — чистую, как чиста сама морская вода. Нельзя, товарищи!.. Осудить предлагаю я проступок Лексея Захарыча — вот что!
— Не об этом сейчас речь! — Из-за стола вышел Буркин и кивнул на окна, в которые то и дело заглядывали ловцы и рыбачки. — Видишь? Не об этом сейчас надо толковать!
— И об этом следует говорить, — сердясь, перебил Буркина Андрей Палыч, — о чистоте нашей надо говорить перед большими делами!
— Согласен! — строго сказал Буркин и снова кивнул на окна, из-за которых доносились встревоженные голоса. — А когда же о делах будем толковать?
— И это дело, — настаивал Андрей Палыч, — очень важное дело!
— Постойте, постойте, товарищи! — поднялась Кочеткова, желая прекратить спор. — Дело ясное. Я предлагаю...
Но тут громко постучали в дверь, из сеней послышался шум, затем дверь широко распахнулась, вошел милиционер, за ним показался изнемогающий Антон, которого поддерживали под руки Коляка и Тимофей. Позади кричали о чем-то ловцы и рыбачки. Лицо Антона было в крови. Потный, он часто и жадно дышал, словно ему не хватало воздуха. Заметив Матроса, ловец глухо застонал, потянулся к нему.
— Откуда ты? — бросился Навстречу Лешка. — Что с тобой?
Антон, хватаясь за грудь, с трудом выдохнул:
— П...п...п-ить...
Он залпом осушил протянутый ему ковш воды, беспомощно опустился на стул.
— Там... на стоечной... гость этот, Васькин дружок, вроде... — Антон передохнул и прерывисто продолжал: — И вовсе не дружок он... Подслушал я, когда чай кипятил... С ним еще четверо, под Гурьев пробираются... бунтовать, возмущать народ... восстание вроде готовить...
Вытирая вспотевшее лицо, он размазывал по нему полосы крови, которая ручейками сбегала из-под шапки на лоб, виски, щеки.
— И оружие у них — целый ящик!.. А я убег... когда все сошли на лед пробивать навал... Думаю, надо дать знать в поселок о смутьянах и заговорщиках... Нагнать их, думаю, надо... Вот и убег...
— Нагнать гадюк! — вдруг неистово завопил Макар, размахивая газетой, порываясь к Матросу.
— Нагнать, нагнать!.. — закричали ловцы, потрясая кулаками, грохоча стульями.
Кочеткова окликнула милиционера, окликнула еще раз, но он из-за шума не слышал ее. Екатерина, отстраняя людей, двинулась к нему.
Но в это время пробившаяся к дочери Маланья Федоровна горячо воскликнула:
— Катюшенька! Родимая ты моя! — и, зарыдав, припала к ее плечу. — Доченька!..
— Маманя!.. Милая!.. — Екатерина целовала мокрое от слез лицо матери, целовала редкие седые ее волосы, растроганно повторяла: — Маманя!.. Родная!..
На какой-то миг в горнице стало тихо... Но вот Екатерина бережно усадила мать на стул, ласково погладила ее, поцеловала в лоб.
— Минуточку, маманя, — волнуясь, прошептала она. — Одну минуточку... Мы сейчас...
Одернув жакет, Екатерина обвела ловцов и рыбачек влажными, поблескивающими глазами и, секунду помедлив, решительно позвала:
— Товарищ милиционер!
Она быстро надела берет, накинула на плечи пальто.
— Куда ты, родимая? — всполошилась Маланья Федоровна, хватая дочь за рукава пальто. — Куда?..
К Екатерине подскочил милиционер.
— Слушаю, товарищ секретарь райкома! — и, козырнув, он застыл на месте.
— Арестовать сейчас же Дойкина! — приказала Екатерина и надвинула на лоб берет чуть ли не по самые глаза.
— Краснощекова и Турку! — добавил Лешка, выхватывая из кобуры наган.
— Быстро, товарищ милиционер! — вновь приказала Екатерина и нагнулась к теребившей за рукав пальто матери, заботливо успокаивая ее.
— А мы на помощь ему! — грозно заявил Коляка и вместе с другими ловцами устремился следом за милиционером.
— Алексей Захарыч! — остановила Екатерина Матроса, который тоже ринулся было за милиционером. — Давай срочно организуй погоню!.. Настичь их! Захватить! Константин Иваныч — с тобой! Товарищ Казак тоже! Сеня вот еще!
— Я еще! — Из-за стола вышел Буркин, свирепо пыхтя цыгаркой.
— И я непременно! — обвязывая голову полотенцем, заявил Антон. — Ничего, ничего со мной не станется! Только малость ударился, когда с торосов полетел...
— Митя! — окликнул Казака Лешка. — Беги за Глушей — на всякий случай с нами поедет. Пусть только побольше положит бинтов в санитарную сумку!
— Мы тоже в погоню! — закричали толпившиеся в дверях ловцы. — Нагоним злодеев!
— Тише, товарищи! — Екатерина высоко вскинула руку. — Тише!
Голос ее звучал твердо, повелительно.
«Вот она, оказывается, какая!» — удивленно подумал Костя Бушлак.
Он впервые слышал ее такой сильный волевой голос, нисколько не похожий на прежний Катюшин — мягкий и певучий.
— Алексей Захарыч отвечает за погоню! — продолжала распоряжаться Екатерина. — Григорий Иваныч — в помощь ему! — Она круто повертывалась то к одному, то к другому ловцу, и от резких движений полы пальто ее вскидывались, словно от ветра. — Андрей Палыч со мной останется! Василий Петрович тоже здесь останется!
— Я останусь?! — вдруг вскричал Василий Сазан, громко ударяя по столу кулаком. — Да я им, г-гадам, должен самолично горло перегрызть!
Он был глубоко потрясен — его дом, его семью, его беспорочное имя использовали враги! Он, казалось, еще более поседел.
— Я им!.. — и, не помня себя, Василий стремглав выскочил из горницы.
Следом за ним бросились другие ловцы.
Глава тринадцатая
Реюшка, переполненная ловцами, быстро скользила по протоку.
По обеим сторонам судна, вдоль бортов, проворно двигались Коляка, Макар, Дмитрий Казак, Кузьма Жидков, отталкиваясь шестами о неглубокое дно протока. На носу реюшки работали Тимофей Зимин, Сенька и Костя Бушлак, разбивая встречные льдины, отводя их в сторону. На корме находились Лешка-Матрос, Григорий Буркин, Василий Сазан.
Из бокового оконца каюты выглядывали то Глуша с перекинутой через плечо санитарной сумкой, то Антон с обвязанной бинтом головой; он был похож на муллу в чалме.
Василий искусно управлял рулем, заставляя судно стремительно лавировать промеж льдин, выводя его на новые и новые пути-проглеи.
— Пошибче, товарищи! Пошибче! — подгонял он ловцов, испытывая жгучее нетерпение скорее настичь врагов и разделаться с ними за поруганную его честь, за нарушенную ловецкую жизнь.
На приморье быстро опускался вечер; солнце, словно раненая птица, падало в далекий Каспий. Камышовое пожарище утихло, — только кое-где низко стлались, будто туманы, черные полосы дыма. Утих и ветер...
— Покруче, товарищи! — не переставал торопить Василий ловцов. — Поживей!
Не терпелось и Лешке-Матросу. Он то и дело поднимался на крышу каюты и зорко всматривался вдаль, следя за дойкинской флотилией, которая уходила все дальше и дальше, то скрываясь за камышами, то вновь показываясь, то исчезая за крутыми поворотами протока.
— Слезь, Алексей! Слезь! — сумрачно твердил Буркин, дергая Матроса за широкую штанину. — Слезь, говорю!
И когда Лешка спускался с крыши каюты, Григорий настойчиво продолжал:
— Хитростью надо, хитростью взять их. Разве забыл боевую нашу хватку?.. У тебя наган, у Кости централка — вот и все наше оружие. Ты понимаешь?.. А у них, помнишь, Антон говорил, целый ящик. Перебить могут нас, всех перебить! — Запалив потухшую цыгарку, он стал излагать план захвата врагов: — Как только дойдем до Бакланьей косы — все в каюту! Останутся наверху Коляка, Тимофей, Дмитрий да ты, Василий...
— Не смогу я! — вырвалось у Василия. — Не стерплю! Я им!.. — И он умоляюще попросил: — Пусть лучше кто-то другой...
— Сможешь! — перебил его Буркин. — Стисни зубы — и сможешь!.. Ну, вот. Подъедете вы, значит, к Миронычу, и ты скажешь ему: Алексей Фаддеич, мол, в сухопайщики принял, идем с вами в море. Ну, разговор пойдет у вас — как это ты выбрался с относа... Только, Василий, гляди в оба, и в подходящий момент — сигнал нам. — Он повернулся к Матросу и спросил: — Ну, так, что ли?
— Так, — глухо сказал Лешка. — Говорили же мы... — и, нахмурившись, шагнул в каюту. — Давай всех ко мне!
У Бакланьей косы льдины, сбившись, громоздились одна на другую, образуя высокий сверкающий навал. Ловко обойдя косу, Василий вывел реюшку на чистую воду — широкая проглея лежала посреди протока, обрамленного с боков ледяными торосами. Буркин приказал лишним ловцам укрыться в каюте.
Впереди была видна медленно продвигавшаяся к морю дойкинская флотилия: первой шла стоечная, за нею плавно плыли по проглеям остальные суда.
Пристально следя за флотилией, Буркин прерывающимся голосом сказал Василию:
— Значит, как условились... гляди в оба...
И вдруг он подался вперед, радостно воскликнул:
— Ага, бандюги! Стоп на месте! Гляди, Василий!
Но Василий и сам заметил, как одно за другим остановились дойкинские суда: должно быть, новый ледяной затор преградил им дорогу.
— Вася... — волнуясь, сказал Буркин и, пригибаясь за крышу каюты, показал товарищу на крепко сжатый кулак: крепись, мол, держись!
Василий согласно кивнул, навалился всей грудью на румпельник, круто поворачивая реюшку.
Ловцы, находившиеся в каюте, тревожно наблюдали в боковые продолговатые оконца за быстро мелькавшими мимо берегами. Лешка сидел за столиком, вертел в руках наган и — в который уже раз! — пересчитывал патроны.
— Маловато, — сокрушался он. — Маловато!
— Хватит! — успокаивал его Антон, поправляя сползавшую с головы повязку. — Тринадцать штук у тебя, а их всего пятеро.
Лешка сердито посмотрел на Антона.
По другую сторону столика сидел Костя Бушлак, проверяя охотничье ружье Андрея Палыча.
Глуша тревожно наблюдала то за Лешкой, то за Костей, поминутно открывая и закрывая лежавшую у ней на коленях санитарную сумку.
В каюту вошел Буркин. Все повернулись к нему.
— Застряла шатия в ледяном заторе, — возбужденно сообщил он. — Готовьтесь... Скоро подвалим... — и беспокойно оглядел ловцов, вооруженных кто топором, кто ломом, кто темляком. У самого Григория за поясом торчал огромный сверкающий тесак.
Лешка уловил беспокойный взгляд Буркина, понимающе качнул головой, повернулся к Антону.
— Говоришь, они все на стоечной у Мироныча расположились? — спросил он.
— Все, у него в каюте, и здорово выпивши, — подтвердил Антон.
Лешка на миг задумался, а затем жестко сказал, обращаясь к Буркину:
— Передай, Григорий, мой приказ Василию: пришвартовываться только к стоечной. Только к ней! Не иначе!
Буркин вышел из каюты и тотчас вернулся.
— Совсем близко бандюги, — доложил он.
Наступила настороженная тишина. Только слышно было, как пыхтел цыгаркой Буркин да за бортами судна журчала вода. Ловцы прильнули к оконцам. Мимо быстро проносились ледяные берега, окаймленные частоколом почерневших за зиму камышей.
И вдруг раздался хриплый, простуженный голос Василия:
— Осторожней, полегче!.. Сходи на лед!
О палубу с грохотом ударились шесты.
Лешка помрачнел, надвинул на лоб бескозырку, решительно поднялся.
— Без моей команды — ни шагу! — строго сказал он ловцам. — Окошки занавесить!..
В каюте стало темно.
По палубе гулко затопали сапогами находившиеся наверху ловцы.
Лешка подошел к занавешенному окну и, слегка приоткрыв брезент, посмотрел в щелку: мимо проплывали ледяные торосы, воды совсем не было видно — реюшку, должно быть, вели по узкому, вырубленному во льдах проходу.
Лешка чувствовал, как позади него тяжело и прерывисто дышали ловцы.
— Как там? — шепотом спрашивали они его. — Чего там?
Он молчал, продолжая напряженно глядеть в щелку оконца.
И тут снова раздался голос Василия — на этот раз необычно громкий и взволнованный:
— Мое почтенье, Мироныч! Не узнаешь, поди?.. Да это — я! Я!.. Василий Сазан!.. Здравствуй! С относа вернулся!.. Узнал?
— Боже мой! — донесся в ответ удивленный голос Мироныча. — Да никак и на самом деле Василий?
— Я! Я, Мироныч!.. Здравствуй!
— Доброго здоровья! Как же это ты от смерти убег?
— Расскажу, Мироныч. Расскажу... Совсем я разорился... А сейчас — спасибо Алексею Фаддеичу! — в море, вместе с вами, послал. Да еще вот со мной Дмитрий, Коляка и Тимофей.
«Молодец, — хмуро усмехнулся Лешка, думая о Василии. — Будто артист какой играет!»
Реюшка обо что-то сильно ударилась — наверно, пришвартовалась к стоечной. И действительно, через какую-либо минуту Лешка увидел в щелку оконца каюты приближающийся черный засмоленный борт судна. А еще через минуту реюшка встала борт о борт со стоечной.
Лешка хорошо видел край палубы дойкинского судна и пару чьих-то ног, обутых в добротные морские сапоги, жирно смазанные дегтем. А вот показалась еще пара ног в подшитых кожей валенках.
«Ага, — догадался Лешка, — в валенках Василий, а тот, видать, Мироныч».
Валенки приблизились к сапогам.
— Ну, здравствуй, здравствуй, счастливчик! — сказал Мироныч. — Прямо чудо!
— Чудо, Мироныч! Истинное чудо!.. Спасибо гурьевским тюленщикам.
— Граждане, граждане! — громко крикнул Мироныч и дробно застучал носком сапога в стену каюты. — Господа, милые!.. Слышите?.. Поглядите-ка на чудо! Вот это — чудо!..
Через несколько минут к двум парам ног присоединилось еще несколько пар — все в ладных, щегольских сапожках.
«Они!..» — вздрогнув, подумал Лешка о врагах. Он нетерпеливо крутнул барабан нагана, взвел курок и, оглянувшись, свистящим шепотом приказал ловцам:
— Ни с места!.. Только по моей команде!..
И снова припал к щелке.
— Пошел в море молодым, а вернулся стариком, — рассказывал Мироныч. — Был в лапах у самой смерти, и вот — чудо! — живой...
Лешка насчитал пять пар щегольских сапог. Одна пара — лаковая, с низкими голенищами в гармошку — была совсем близко. Другая пара — с длинными острыми носами — стояла рядом с валенками. Против валенок остановилась еще пара с высокими каблуками.
— Вот оно какое чудо, господа милые!..
Лешка поднес к щелке наган, прицелился, навел мушку на один сапог с длинным острым носом и нажал на спуск.
Раздался выстрел. Со звоном брызгнули осколки стекла. Раздался другой, третий, четвертый выстрел... Сапоги завертелись по палубе. Кто-то вскрикнул, кто-то упал, закрывая все сапоги. Но вот мелькнула пара лаковых. Лешка ударил по ним, затем ударил по высоким каблукам, метнулся к двери, распахнул ее и, перезаряжая на ходу наган, крикнул:
— Ловцы! За мной! Бушлак — первым! Глуша — пока в каюте!..
На палубе стоечной уже шло побоище. Василий Сазан и Коляка, вооруженные темляками, расправлялись с тремя подстреленными Лешкой незнакомцами, которые, то вскакивая, то падая, то вновь вскакивая, пытались отбиться, норовили соскочить на лед. Тимофей, схватившись с Миронычем, катался с ним по палубе. Дмитрий Казак, размахивая обломком шеста, наседал на остальных двух незнакомцев, которые стремились пробиться к каюте.
Лешка сразу понял, что незнакомцы были без оружия.
«Значит, вышли из каюты пустыми! — мелькнуло у него. — Потому и рвутся туда!»
И он громко крикнул Бушлаку:
— Бей по этим!..
Бушлак и Лешка выстрелили одновременно.
Один из незнакомцев широко взмахнул руками, опрокинулся на палубу; на него навалились подбежавшие Буркин и Сенька. Но другому незнакомцу, что был в огромной серой кепке, удалось прорваться в каюту.
Не успел Лешка сообразить, что же делать дальше, как вдруг из-за низкой крыши каюты показалась голова в огромной кепке, грохнул выстрел — и тут же упал Бушлак. Снова грохнул выстрел — и повалился Дмитрий, не то подкошенный пулей, не то укрывшийся за выступом люка.
— Ах ты, г-гад!.. — Лешка ударил по незнакомцу в кепке, ударил еще и еще раз.
Кепка скрылась за крышей каюты, но тут же показалась с другой стороны каюты. И Лешка услышал, как совсем близко прожужжали пули. Лешка бросился на палубу и, растянувшись за кругом каната, выстрелил.
— Н-на... г-гадюка! — яростно выругался он и снова услышал, как где-то рядом звонко цокнула о палубу пуля, другая.
Лешка нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало.
«Все патроны! — мрачно подумал он. — Все!!» — и, заметив недвижно лежавшего у борта реюшки Бушлака, пополз было к нему, намереваясь воспользоваться его ружьем. Но свистящая очередь пуль заставила Лешку вновь припасть к палубе. Рядом с ним, пронзительно вскрикнув, растянулся подсеченный пулей Кузьма Жидков.
Осторожно приподняв голову, Лешка увидел, как вдоль стены каюты пробирался ползком Макар, метивший, наверно, обойти незнакомца, который находился по другую сторону каюты. Макар волочил за собой топор. И только было нырнул он за каюту, как его встретил выстрел в упор.
Лешка вскочил, подбежал к Бушлаку, выхватил ружье и, вскинув его, выстрелил в незнакомца. Но тот снова скрылся за крышей каюты. Неожиданно он появился с противоположной стороны, откуда Лешка никак не ожидал его. И, если бы не подоспела на помощь Глуша, вряд ли Лешка избежал бы вражеской пули.
Выглядывая из двери своей каюты, Глуша, вдруг заметила, как незнакомец направил револьвер в спину Матроса.
— Леша!! — пронзительно закричала она и тут же сорванной с плеча санитарной сумкой со всего размаха хлестнула по ногам незнакомца.
Тот, качнувшись, свалился за борт, на лед, однако, мгновенно вскочив на ноги и отстреливаясь из двух револьверов, стал отходить к берегу.
Со стороны ледяного затора бежали ловцы, которые до этого пробивали проход в торосах для дойкинской флотилии. Размахивая ломами, топорами, они бежали наперерез стрелявшему человеку, еще не зная точно, что случилось.
Впереди других бежал Яков Турка, за ним Павло Тупонос.
— Держа-а-ать его! Держа-а-ать!.. — кричал Лешка и, перескочив на стоечную, спрыгнул на лед.
Глуша поспешила к неподвижно лежавшему на палубе стоечной Дмитрию, на ходу раскрывая санитарную сумку.
Следом за Лешкой спрыгнули на лед Коляка и Буркин. Коляка вырвался вперед и, то припадая ко льду, то вскакивая, двинулся в обход незнакомцу.
Незнакомец, отстреливаясь, уходил все дальше и дальше к берегу.
Лешка выстрелил по нему, но промахнулся. Перезарядив ружье, снова выстрелил.
Незнакомец упал на колено, однако быстро поднялся. Но в эту минуту Яков Турка с одной стороны, а Коляка с противоположной подшибли его пущенными по льду топорами. Он опрокинулся на лед и только было хотел подняться, как на него набросились подбежавшие ловцы.
Первым подоспел к ним Лешка.
— Вяжите его! — приказал он и кратко сообщил Якову о случившемся.
— Ах ты, сволота! — зло выругался Турка, пиная незнакомца и скручивая ему на спине руки. — Поперек дороги захотел встать, сволота!
— Поперек артельной дороги, — поправил Якова Коляка.
Турка растроганно посмотрел на Коляку и улыбнулся. Улыбнулся и Коляка.
— Такие-то вот дела, Яша! — взволнованно сказал он.
— Добрые дела, Николай Евстигнеич! — радостно откликнулся Яков, довольный своим примирением с Колякой и тем, что наконец-то создана артель.
Незнакомец, кусая губы, исподлобья и ненавидяще посматривал на Лешку, который шагал сбоку его. Позади шли Яков и Коляка, придерживая за концы веревку, которой были связаны руки незнакомца.
Когда поднялись на стоечную, Яков Турка сказал Василию, показывая на приведенного злодея:
— Вот он, твой «дружок»!
Это был тот самый, который первым приехал в Островок и остановился в доме Сазана.
Василий, вскинув кулаки, рванулся к нему. Но Лешка преградил дорогу.
— Не стоит, Вася, руки марать о такую мразь, — спокойно сказал он и брезгливо поморщился.
Василий разжал побелевшие кулаки, облизал пересохшие губы, шумно вздохнул.
— А тут как? — спросил его Лешка, оглядывая стоечную.
Окончательно овладев собой, Василий по-военному подтянулся и доложил, кивая на палубу, где лежали связанные бандиты.
— Все четверо — порядком ранены, один доходит...
Лешка презрительно посмотрел на связанных. По одну сторону их стоял с ломом на плече, будто с ружьем, Тимофей, по другую — Антон с топором.
— ...Никак не признаются, — продолжал докладывать Василий. — Ни в какую! А Мироныч все рассказал... — И, помолчав, дрогнувшим голосом добавил: — Костя и Макар ранены, Кузьма еще ранен, а Митрий... насмерть.
Он скользнул взглядом по крыше каюты, на которой лежал под брезентом убитый Дмитрий Казак; видны были только его ноги в огромных морских сапогах, подбитых блесткими железными пластинками. Рядом стояла Глуша, скорбно опустив голову на грудь.
Лешка откинул край брезента. Лицо Дмитрия было необыкновенно белое, словно запорошенное снегом, а руки кем-то сложены крест-на крест на груди. Лешка посуровел; снял бескозырку. Следом за ним обнажили головы ловцы.
— Жалко Казака, — глухо сказал он. — Только начал классу набираться... — И, отвернувшись, задумчиво оглядел влажными глазами торосы. — Жалко...
Ловцы, склонив головы, молчали. И только Глуша чуть слышно проронила сдавленным голосом:
— Спасибо, Леша... Ясно, жалко...
Из глаз ее катились слезы, намерзая светлыми тонкими льдинками на округлых розовых щеках.
А на льду, в стороне от стоечной, Буркин рассказывал людям дойкинской флотилии о последних событиях в Островке, о злодейских замыслах задержанных бандитов.
Глава четырнадцатая
Ловцы Островка, как и все ловцы Волги и Каспия, выходили на первый колхозный весенний лов рыбы.
Ярко светило солнце, затопляя теплыми потоками золотистых лучей окружные воды, камыши, берега.
Сазаний проток ослепительно сверкал червонной солнечной чешуей, словно поверх воды его двигались несчетные косяки сазана. Грохочущий ледоход, еще неделю тому назад, ночью стремительно пронесся в море.
На берегу собрался весь поселок. Даже древние деды и старухи, которые уже по нескольку годов не слезали с печей, и те вышли на берег посмотреть на желанный и радостный праздник первой колхозной рыбацкой весны.
Все были одеты по-праздничному; даже уходившие в море ловцы надели вынутые из сундуков и пропахшие нафталином добротные пиджаки, суконные шаровары. Рыбачки нарядились в новые, широченные юбки, в цветистые полушалки, платки, косынки.
Тут и там звенели гармошки, танцевали парни с девчатами, слышны были песни, шутки, смех.
И только не было на берегу Глуши да еще нескольких ловцов. Похоронив Дмитрия, она стала работать в сетевом лабазе колхоза, но вдруг затосковала и уехала к отцу. Лешка уговаривал ее остаться в поселке, проводить людей в море; она согласилась и, сказав ему: «Спасибо, Лешенька! Я же скоро вернусь!»— отправилась на маяк...
Не было на берегу и Дойкина, Краснощекова, старого Турки: их вместе с пойманными бандитами отправили в город.
Не вышли еще на берег Костя Бушлак, Макар и Кузьма. Раненные, они лежали в доме старой Маланьи Федоровны, где за ними ухаживала сначала Глуша, а затем присланный Катюшей Кочетковой врач из района.
Но вскоре и они показались на берегу — их вели под руки, чтобы посадить на баркас и отправить в районную больницу.
Первыми шли Макар и Кузьма; их поддерживали жены и другие рыбачки. У Макара была забинтована простреленная шея. Кузьма припадал на правую раненую ногу, обутую в чувяк и перевязанную от ступни до самого колена.
За ними осторожно вели Костю. С одной стороны его шагал врач, с другой — Кочеткова, снова приехавшая в Островок проверить, как подготовился колхоз к выходу в море.
— ...Нет, нет, доктор! — торопливо и встревоженно говорила она. — Его следует отправить в город: ранение ведь очень серьезное. Вы же сами говорили!..
Костя слегка повернул забинтованную голову в сторону Катюши и посмотрел на нее усталыми, благодарными глазами.
Он был очень тяжело ранен, еле передвигал ноги.
На берегу попрежнему было людно и шумно.
Председатель колхоза Андрей Палыч отдавал последние распоряжения бригадирам морских бригад — Лешке-Матросу, Сеньке Бурову, Антону, проверял готовность к выходу в море. Рядом с ним стоял Василий Сазан — новый секретарь комячейки. Андрей Палыч, то поднимая очки на лоб, то опуская их на переносицу, заглядывал в испещренную жирными цифрами тетрадь, спрашивал поочередно бригадиров:
— Значит, у тебя, Сеня, полный комплект вобельных сеток? А у тебя, Антон, теперь как с селедочными? А ты, Лексей, полностью взял снасти?..
Лешка, утвердительно кивая в ответ, озабоченно посматривал на проток: не едет ли с маяка Глуша. Она ведь обещала скоро вернуться, но вот уже наступил день выхода в море, а ее все не было.
Вместе с Андреем Палычем и Василием находился Буркин — колхозный завхоз.
— Могу еще дать вобельных сеток, — предлагал он бригадирам. — Снасти могу пополнить... Столько всего наслали из города — даже без дойкинских обошлись бы! Значит, никому и ничего больше не нужно? Тогда, Андрей Палыч, пошел я в сетевой лабаз. — Но задержавшись, спросил председателя: — А когда же Глуша заявится, когда же я передам ей лабаз? Решили же с Катериной Егоровной... Мне ведь речную бригаду надо налаживать.
— Пошлем за ней человека, — ответил Андрей Палыч. — Сегодня же пошлем, если сама не придет. Она ведь обещала не задерживаться...
Работавшие в сетевом лабазе Анна Жидкова и вдова Зимина нетерпеливо поджидали завхоза. Им хотелось поскорей освободиться, чтобы пойти на веселый и людный берег. Выглядывая из амбара, они взволнованно говорили:
— Ах, Аннушка, на берегу-то что делается!
— Праздник, Марья Петровна.
— Понимаю, что праздник, — и Зимина концом фартука вытерла глаза. — Да еще какой праздник, Аннушка!..
Со стороны Каспия тянула свежая, острая моряна, покачивая прибрежные камыши, гоня по протоку волны, заливая поселок пряными солоноватыми запахами.
К бывшему дойкинскому баркасу подвели раненых и осторожно перенесли их в каюту. У баркаса на берегу столпились ловцы и рыбачки.
Костя попросил открыть окно.
— А не простудишься? — заботливо спросила Катюша и старательно обложила его подушками, запахнула на нем пиджак, поправила на голове марлевую повязку.
Костя не сводил с нее глаз.
— Пойду попрощаюсь с людьми, — сказала она и повернулась к Маланье Федоровне.
Вместе с Катюшей уезжала в район, по настоянию Кости, и ее старая мать.
— Погляди, маманя, за Костей, — попросила она Маланью Федоровну и ласково провела рукой по ее плечу.
У баркаса, среди ловцов и рыбачек, уже находились Андрей Палыч, Василий, бригадиры, Буркин, все правление колхоза.
Екатерина взялась руками за натянутую вдоль бортов баркаса цепь, заменявшую поручни, внимательно оглядела собравшихся и, радостно кивнув им, взволнованно сказала:
— Ну, товарищи вы мои, земляки и землячки, желаю вам хорошей колхозной путины! Доброго улова желаю вам, дорогие мои!
Ловцы и рыбачки разом, громко ответили:
— Спасибочко, Катя! — Спасибочко!..
К баркасу вышел Андрей Палыч.
— А может, Катерина Егоровна, задержитесь еще? — попросил он Кочеткову. — Вместе проводим людей в море.
— Опоздаю я, дорогие, к бугровским ловцам — они ведь тоже сегодня выходят в море!
— Ну, что ж... — Андрей Палыч вскинул руку. — Благодарствуем, Катерина Егоровна, за помощь! — приподнято сказал он и снял картуз. — За все благодарствуем!
Кочеткова сорвала берет и, растроганная глубоким душевным порывом Андрея Палыча, горячо ответила:
— Ну какая там моя помощь, товарищи! Зря это вы... — Она обвела беретом шумный берег, задержалась секунду на Лешке-Матросе, на Василии Сазане, на Буркине и, волнуясь, добавила: — Вы же сами все сделали: и артель организовали, и с рыбниками покончили, и на лов собрались...
— С твоей помощью, Катерина Егоровна! — перебивая ее, настойчиво сказал Андрей Палыч. — С твоей!
— С помощью города! — поправил его Лешка.
— С помощью партии! — дополнила Катюша.
— Вот-вот, с помощью партии! — вдохновенно воскликнул Василий, и, пробившись к баркасу, он впервые подробно рассказал людям о себе: как он четверо суток, голодный, в лютую стужу, днем и ночью перебирался с льдины на льдину и как мысли об артели, о партии дали ему силы выйти на прибрежный лед под Гурьевом, где промышляли тюленщики...
Когда Василий кончил рассказывать и баркас дал отвальный гудок, Кочеткова, нагнувшись, негромко, но твердо сказала новому секретарю комячейки:
— Помни, Василий Петрович, как решили на партийном собрании: все коммунисты и комсомольцы должны быть на лову. Они должны быть примером для всех!..
Баркас медленно отходил от берега и громко, протяжно гудел.
Из одного окна каюты выглядывали Макар и Кузьма, из другого — Костя и Катюша, из третьего — Маланья Федоровна и врач.
— Быстрей поправляйтесь, герои! — кричал Лешка, махая бескозыркой отъезжающим.
Махали им и остальные ловцы и рыбачки — кто фуражкой, кто платком, кто косынкой. Все желали раненым вернуться здоровыми, просили писать письма.
Лешка с хорошей завистью следил за счастливыми Костей и Катюшей, которые, приникнув головой к голове, махали вместе Катюшиным беретом.
«Э-эх, Глуша, Глуша!» — растревоженно подумал Лешка и, слегка посуровев, посмотрел в сторону маяка.
Моряна попрежнему трепала камыши, гнула их к воде, катила по протоку пенистые волны.
Надев бескозырку, Лешка решительно шагнул к Андрею Палычу.
— Ну и нам пора! — сказал он и, кивнув на прощанье отъезжавшим, двинулся к своей бригаде.
Следом за ним заспешили к бригадам Сенька и Антон.
Андрей Палыч и Буркин еще раз проверили записи, подсчитали сетевое вооружение ловцов и, оставшись довольными, зашагали к бригадам.
Василий Сазан переходил с одного судна на другое, знакомился с оснасткой, говорил с людьми...
У морских судов собрался чуть ли не весь поселок.
На берег торопились последние, запоздавшие рыбачки, — они несли отъезжавшим в море мужьям только что испеченные хлебы и пироги — пышные и дымящиеся.
— А водочка? Водочка где? — шутливо кричали им ловцы. — Спасительница наша где?
Рыбачки, посмеиваясь, показывали из-под платков бутылки, фляги, графины с красной и желтой настойкой.
У всех было радостное, приподнятое настроение. Счастливее других, казалось, были жены Тупоноса, Буркина и Антона.
Ольга, Наталья и недавно поднявшаяся с постели Елена стояли рядом, без умолку говорили, поглядывали на мужей, которые готовили к отплытию суда.
— Ну вот и заживем теперь по-настоящему, — мечтательно сказала Буркина.
— И безо всякого страха, — дополнила Елена, намекая на своего Антона, который до этого вынужден был заниматься обловом и другими опасными делами.
— И мой вроде совсем переродился, — довольная, заметила Ольга и кивнула на Павла: тот быстро и ловко бегал по палубе стоечной, проверял оснастку, готовил парус. — Ей-ей, переродился!
— Оно и понятно, — внозь заговорила Наталья, — на себя ведь теперь идут ловить, а не на Дойкина, и всем поселком идут, вроде как одной семьей. — И, мечтательно прикрыв глаза, она часто-часто задышала. — О-ох, и заживем, бабоньки!.. Приоденемся по-настоящему. И в дом чего надо прикупим: комод ли, зеркало, кровать никелированную... А самое что ни на есть главное — легко как-то стало, бабоньки, и воздух будто чище без этих паршивых псов-дойкиных.
— Чище, да вроде не для всех, — сказала Ольга и осторожно показала глазами на небольшую группу людей, которые находились в стороне от провожающей морских ловцов толпы.
То были Цыган, Василий Безверхов и Егор — муж сестры Дмитрия. Боясь расстаться со своими, с большим трудом приобретенными суденышками и сетями, они собирались в море отдельно от артели. Но их неодолимо тянуло к людям, влекло к товарищам-ловцам, объединившимся в одну большую и дружную рыбацкую семью. И, обуреваемые сомнениями, они долго колебались, мучились душевно: то ли вступать в артель, то ли не вступать. А Цыган, особенно мучительно переживая происходящее, то и дело являлся к Андрею Палычу, и не только днем, но и ночью, все советуясь с ним, все выспрашивая, как быть, что делать, и не повернутся ли артельные дела к худшему: тогда — прощай его реюшка, прощай его сети, его снасти... Он много раз подавал заявление о принятии его в артель, но раздумав, брал обратно и снова подавал, снова просил вернуть. Подавали заявления и Василий с Егором, но узнав, что Цыган взял свое обратно, тут же требовали вернуть их. А Цыган вновь просился в артель и, узнав в свою очередь, что Василий и Егор отказались от вступления в нее, шел к Андрею Палычу и брал свою потрепанную бумажку обратно. Чуть ли не целый месяц метались они, ссорясь с женами, испытывая муку, терзаясь сомнениями; не в силах уснуть по ночам, они выходили из дому — кто забирался в сетевой лабаз, перебирая свои сети и снасти, кто бродил, словно помешанный, по поселку, не зная, как же ему все-таки поступить, кто шел на берег и, вскарабкавшись на свое суденышко, сидел на нем до самого рассвета, все обдумывая, все решая один и тот же, казалось, неразрешимый вопрос — что же делать?
И теперь, собираясь отдельно от всех на лов, они сумрачно, с тревогой поглядывали на артельную флотилию, у которой весело шумел весь поселок.
Жены Цыгана, Василия и Егора молчаливо стояли у суденышек своих мужей, беспокойно переглядывались, не в силах вымолвить слова.
А со стороны артельной флотилии доносились звонкие и радостные голоса, заливистые звуки гармошек, лихие припевы расстававшихся девчат и парней.
Цыган, стоявший на корме своей реюшки, спрыгнул на берег, подошел к жене и, кажется, впервые за всю долгую совместную с ней жизнь спросил совета, жестоко волнуясь и неожиданно заикаясь:
— К-как, С-стеша, думаешь?.. М-может, с... с артелью п-пойти?
Зная крутой нрав мужа, растроганная его необычайным волнением, она растерянно посмотрела на него, неопределенно пожала плечами, приложила конец полушалка к заблестевшим глазам.
Цыган, сердито махнул рукой и чуть ли не бегом ринулся к артельной флотилии. Но вдруг остановился и, подумав, повернул назад. Взобравшись на реюшку, он раздраженно прикрикнул на сына, который жадно следил за расставанием парней и девчат:
— Чего рот разинул? Готовь парус!..
И, неожиданно спрыгнув на берег, вновь устремился к артельной флотилии. Он на ходу выхватил из кармана смятый и замасленный лист бумаги, который одиннадцать раз передавал Андрею Палычу и одиннадцать раз брал обратно.
Артельная морская флотилия была готова к отплытию.
Андрей Палыч прошел на бригадную стоечную Лешки, чтобы поднять на ней флажок. Бригада Матроса должна была головной выходить в море. Лешка передал председателю колхоза мачтовик — шнур от флажка.
На берегу сразу стало тихо. Все повернулись к Лешкиному судну.
И только было Андрей Палыч хотел вздернуть флажок, как на стоечную вскочил запыхавшийся Цыган и молча протянул ему потрепанный, в жирных пятнах лист бумаги.
Андрей Палыч посмотрел на бумажку, на жарко дышавшего Цыгана и, осторожно отстраняя бумажку, негромко сказал:
— Спрячь, Афанасий Матвеич... Подумай еще как следует... Вернемся с моря — тогда и поговорим... А то, может, опять раздумаешь...
— Да новое заявление напиши, — сурово добавил Лешка, — а то не бумажка, а вроде тряпка какая-то.
Цыган исподлобья поглядел на Лешку, на Андрея Палыча, на Василия.
— 3... з-значит, отк... отк-казываете? — спросил он, страшно заикаясь.
— Нет, тебе не отказывают, — ответил за всех Василий, внимательно следя за разволновавшимся Цыганом. — Обдумай как следует, реши окончательно — и примут. А пока один поработай... и подумай.
— Т... т-точно п-п-примете, ежели ок... ок-конча-тельно н.. н-надумаю? — спросил Цыган и, получив утвердительный ответ Василия, с облегчением вздохнул, вытер катившийся по лицу пот.
Андрей Палыч ловким движением потянул шнур, вскидывая флажок на мачту.
Красная лента флажка, словно пламя, забилась под ветром.
Сенька и Антон вскинули флажки на своих судах.
— Выходим в первую колхозную весеннюю путину, товарищи! — радостно возвестил Андрей Палыч и, сняв картуз, высоко поднял его.
Ловцы на судах, рыбачки на берегу ответили ему дружными возгласами одобрения, хлопками в ладоши.
Следом раздались троекратные выстрелы — салют ловцов из охотничьих ружей. Лешка стрелял из именного нагана.
Заиграла гармонь, другая, третья, поднялся шум, рыбачки и дети потянулись к судам — прощаться с мужьями, отцами, братьями. Ловцы спрыгивали на берег, обнимали жен, целовали детей.
— По места-а-ам! — громко скомандовал Лешка и в последний раз с тоской посмотрел вдоль протока: не возвращается ли с маяка Глуша.
По протоку бежали косматые водяные валы — один за одним, нагоняя друг друга, рассыпаясь в кипучей пене.
Попрощавшись с Андреем Палычем, Василием и Буркиным, Лешка выждал, пока они сошли на берег.
— Тронулись! — приказал он и встал за руль. Загремела якорная цепь, и когда был поднят якорь, ловцы шестами отодвинули стоечную от берега.
Следом за стоечной Лешки стали сниматься с якорей и другие суда колхозной флотилии.
— Через недельку прикатим с председателем к вам на помощь! — пообещал уезжавшим ловцам Василий, беспрерывно махая картузом. — Наладим вот как следует речной лов — и прикатим!
На протоке показалось несколько бударок и куласов. Речные ловцы, услышав выстрелы-салюты, спешили к Островку, чтобы проводить товарищей в море.
Первым подкатил к поселку на своем куласе дед Ваня. Стоя в корме, он снял шапку и, будто зрячий, внимательно оглядел колхозную морскую флотилию.
— Богатой путины, сынки! — сказал он ловцам. — Счастливо вам воротиться!.. Особо желаю Лексею Захарычу — нашему герою!
— Спасибо, дедок! Спасибо! — растревоженно откликнулся Лешка. И тут же подумал: «Рассказать бы ему про Глушу... Он понял бы... А может, и заехал бы на маяк, навестил ее, напомнил бы обо мне...»
— Эх-ма, совсем забыл, Лексей Захарыч! — торопливо крикнул дед Ваня и сунул руку за пазуху. — Письмо тебе есть. Почтальон сейчас проездом передал. Московское, слышь, письмо! — И он перекинул длинный белый конверт на стоечную Лешки.
Лешка поднял конверт, поглядел на него и, довольный, улыбнулся. Быстро пробежав письмо, он радостно сообщил Андрею Палычу, Василию и Буркину, которые шагали по берегу вровень с идущим по протоку Лешкиным судном:
— Климент Ефремович пишет: письмо мое получил, поздравляет нас с большой победой — с артелью. — У Лешки захватило дыхание, и он торжественно воскликнул: — А еще желает нам доброй-предоброй путины!
Весть о московском письме быстро облетела берег. Люди устремились к отходившей все дальше и дальше стоечной Лешки, просили его на минуту задержаться, прочитать письмо.
Но читать письмо было уже поздно — стоечная далеко отвалила от берега.
— Андрей Палыч расскажет о письме! — крикнул Лешка людям на берегу, охваченным радостной вестью.
Видя, что встречный ветер с моря задерживает движение судна, он предложил ловцам:
— Рейнем, ребята?
— Рейнем! Рейнем!.. — весело подхватили Коляка и Яков Турка, с трудом продвигавшие шестами стоечную вдоль берега.
Ловцам нипочем и встречные морские ветры, если они только не штормовые. Ловцы так искусно направляют огромные косые паруса, что суда быстро мчатся и против ветра.
— Поднимай! — скомандовал Лешка.
Побросав шесты, Коляка и Яков с грохотом вздернули на мачту широкое белое полотнище. Парус туго натянуло ветром, и стоечная, со свистом разрезая носом волны, ринулась вперед, за нею побежали подчалки.
Лешка подтянул шкот, полотнище вплотную пришлось к борту, стоечная накренилась и, едва не забирая краем воду, еще стремительней понеслась наискось протока — к противоположному берегу.
— Добре! — сказал Лешка и налег на румпельник. А когда стоечная приблизилась к берегу, он торопливо приказал: — Перекидывай!
Ловцы быстро перебросили парус на другой борт, и судно, резко повернутое Лешкой, покатило обратно, к тому берегу.
Так — от берега к берегу, наискось — реила стоечная, постепенно продвигаясь к морю.
Лешка оглянулся.
Позади реили стоечные Сеньки и Антона, следом плыли подчалки. На берегу Островка все еще толпился народ, махал уходившим в море ловцам платками, фуражками. А вот кто-то высоко вскинул на шесте не то пиджак, ни то ватник и стал быстро-быстро водить его из стороны в сторону — казалось, билась под ветром какая-то огромная птица.
Лешка усмехнулся, кивнул последний раз на прощанье оставшимся на берегу и повернул руль, направляя судно во встречный банок.
Островок скрылся за камышами.
Банок был широк, по нему ходуном ходили крупные, с гривастыми беляками волны. По дальним берегам качались под ветром густые камышовые заросли. И чем дальше продвигались суда, тем банок становился шире, бурливей, берега уходили в стороны. А вскоре показалась голубая полоска Каспия.
Лешка задумался, посуровел. Он знал, что за тем вон крутым поворотом, до которого рукой подать, должен показаться маяк.
Стоечная быстро пересекала банок.
Лешка подтянул шкот, закурил, и когда судно обогнуло поворот, на берегу выросли черные стропила маяка.
На вышке, казалось, было пусто.
У Лешки тревожно забилось сердце.
«Неужели никого нет, неужели уехали в Островок? — подумал он о Глуше и маячнике. — Но мы ведь никого не встретили по пути! А может, Тихим ериком они проехали?..»
Он пристально посмотрел на вышку маяка и вдруг заметил появившегося на площадке Максима Егорыча.
Маячник подошел к перилам, перегнулся через них и, признав своих земляков, взмахнул рукой, потом шапкой.
Ловцы со стоечной и подчалков замахали ему в ответ фуражками.
— Максиму Егорычу!
— Держи как следует огонь!..
Но вряд ли слышал из-за ветра маячник ловцов, хотя расстояние между маяком и судами было небольшое — всего какая-либо сотня метров. Он не переставая махал ловцам шапкой и тоже что-то кричал — должно быть, желая землякам богатой добычи.
Лешка, держась за руль, нетерпеливо поглядывал на вышку: не покажется ли на площадке Глуша. Но ее не было видно.
«И чего не покличет дочку, старый хрыч!» — выругался Лешка, когда стоечная поровнялась с маяком и вот-вот должна была выйти на просторы Каспия.
Он даже намеренно задерживал ход судна, отпуская шкот все больше и больше, отчего парус не надувался как надо. Лешку нагоняли суда Сеньки и Антона. Ловцы их тоже махали Максиму Егорычу руками, фуражками.
И когда Лешка, кажется, последний раз посмотрел перед выходом в море на вышку маяка, там уже была Глуша.
Она стояла рядом с отцом в накинутой на плечи цветной шали, облокотившись о перила, задумчиво глядя вниз, на ловцов.
Ловцы продолжали махать фуражками Максиму Егорычу и Глуше. Маячник отвечал им, а Глуша, будто окаменевшая, недвижно стояла у перил.
Лешка сорвал бескозырку, широко взмахнул ею, и ленты, как флажки, трепетно забились под ветром.
— Глу-ша-а-а!.. — закричал он громко и радостно.
И, будто услышав его голос, Глуша вскинула голову, пристально оглядела плывущие мимо суда, провела рукой по лицу, словно освобождаясь ото сна.
— Глу-ша-а-а!.. — кричал Лешка, описывая в воздухе широкие круги бескозыркой.
И вдруг над вышкой маяка взметнулась Глушина огненно-оранжевая, цветистая шаль — словно взошедшее солнце засверкало ослепительно яркими лучами.
Яков, подмигнув Коляке, нарочито громко сказал, чтобы слышал Лешка:
— А нам ведь не отвечала!
— Не отвечала! — довольный за Лешку, подтвердил Коляка.
Лешка мельком посмотрел на ловцов и снова устремил горящий взгляд на вышку маяка, лицо его светилось счастливой улыбкой. Он готов был побежать к Глуше, казалось, по самой воде. Но впереди было море, и суда, минуя маяк, уже выходили из банка.
Открывалась неоглядная каспийская синева. Каспий могущественно блестел.
Лешка оглянулся на шаль-солнце, лучисто сверкавшую в Глушиных руках, весело рассмеялся и припал к румпельнику.
Стоечная выходила на Каспий.
На стыке моря и неба маячили сотни белых, матовых парусов; выше были бледнозеленые, бирюзовые просторы, по которым неслись караваны пушистых облачков, а ниже лежал крутой, в легком мареве, овал Каспия; по нему расстилались бесконечные рыбацкие пути-дороги.
Навстречу неслась моряна — остовый, рыбный ветер.
Сколько ни оглядывался Лешка на маяк, над вышкой продолжала ярко пылать Глушина шаль-солнце, даже и тогда, казалось, сверкала она, когда уже совсем исчез из виду маяк.
Лешка легко, полной грудью вдыхал свежий морской ветер.
Ленинград — Алексеевка
Каспий — Ленинград
1930—1934 гг.
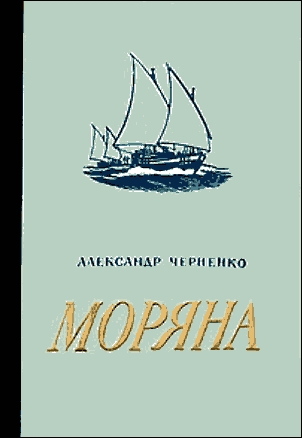

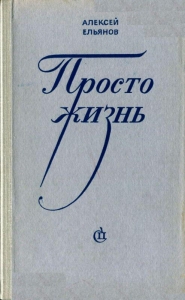

Комментарии к книге «Моряна», Александр Иванович Черненко
Всего 0 комментариев