Ладожский лед
ПОВЕСТИ
ЛАДОЖСКИЙ ЛЕД
Всегда говорили весной: «Холодно потому, что идет ладожский лед», — действительно было очень холодно, но кто-то спорил: «Потому и идет ладожский лед, что холодно, то есть дует северный ветер». Трудно было понять: то ли в самом деле лед несет холод или северный ветер несет холодный лед, но так или иначе лед вместе с ветром приносил холод, и осталось в памяти: Ладога — это холод. Чистая вода Ладоги олицетворяла холод, холод, лед. Но это было не все. Как только попадала на Ладожское озеро, так ветром и холодом обдавало всю, казалось, что приехала на север, окунулась в холодную воду родника. Особенной чистотой севера, особенной прозрачностью воды и воздуха и суровой красотой веяло от Ладоги, веяло огромным, непомерно огромным простором, и чувствовалась глубина этого озера, его незамутненность, чистота.
Если было очень жарко, так жарко и пыльно в городе, а в поезде душно и хотелось мыться, купаться, то на берегу озера сразу, тут же обдувало ветром и останавливало. Озеро будто говорило: «Ну что — испугалась, остановилась? Не хочешь в мою глубину? Нет?» И правда, чудесный берег, песок и пляж, пустой и спокойный, с кромкой темного леса и цветочной пыльцой на берегу уже будто окунал в воду, охлаждал пыл и страсть мыться и купаться, он останавливал и остерегал: «Ты, жительница Ленинграда, выросла здесь, впитала в себя мою чистейшую воду, ты вся состоишь из меня и — боишься?» И я храбро раздевалась, бежала в воду, но не всегда окуналась.
Прозрачная даль, блестки и стремнина на истоке Невы, мелкий мусор лодочек, стоящих на якоре, баржи и громадины белых, кружевных пароходов. Плывет бакен по воде. Она обтекает его и будто заставляет плыть. Плескалась Ладога, вся — огромная вода, простор и ветер, чистая моя Ладога, такая, что окунись — и омоешься, отмоешься, воскреснешь.
Вот хочешь разбить повесть, роман и написать нечто, похожее на сказку и на быль, чтобы работала фантазия, как работает сердце. Без приказа даже — работай, фантазия! Чтобы вода говорила человеческим языком, — скажем, вдруг рассказала тысячу историй о себе и тех, кто был здесь когда-то, жил, ходил по волнам, причаливал к домам. Огромные, они стояли тут, вот простор был там, вот счастье было переходить из одной комнаты — не комнаты, а целого зала — в другую по скрипучим переходам, крытым, добротным, где травинки свободно жили в щелях, а осы лепили свои гнезда в каждом углу. Работай, фантазия!
Эх, снова я спотыкаюсь об это слово — роман. Снова начинаю думать: а как хорош сюжетец. Так-то просто и спокойно взять и тянуть читателя — а он хо-очет читать длинный роман про страшное и историческое, про любовь и дуэли, про милых фрейлин с осиными талиями, про мужественных мореходов и всякое такое. Да что греха таить — и сам любишь в тени березовой листвы, на раскладушке взять и почитать роман с продолжением, не тот, что восхищает тебя новизной и утомляет голову донельзя тем напряжением, которого требует, но легкостью, радостью простой фабулы, радостью своей иллюзорной жизни, иллюстративной нежностью и тем, что отвлекаешься от мысли и так просто живешь на свете, как жил бы и жил век. Живешь этакой бабочкой, осой, жуком, муравьем, которые никогда ничем не перенапрягают свою голову. Живешь, как живется, и солнце хорошо, и небо хорошо, и тень, и дождь. Все ладно в этом мире…
Вот ползут муравьи, а что делают они, когда наступает зима и у них бессонница? Они рассуждают: есть ли человек на земле, есть ли вообще нечто, кроме них, и посылают первопроходцев, кои должны увидеть человека, этого Гулливера, который может растоптать и разрушить муравейник черт знает какой палкой, откуда только он берет эти палки — страшные, будто горы, и каким образом он ворочает ими?
И поползли мураши в тот таинственный мир, который был здесь, рядом с ними, и шли, и шли на край света, то бишь ползли они по ноге человеческой к его лицу и волосам, кусали его — пробовали на вкус, пока одного не убили, другого не стряхнули, третьего искалечили. Тогда поставили памятник убитому, озолотили искалеченного и понесли на руках третьего. И он рассказывал всем о том, что это нечто, где он был. Оно — солоно на вкус и противно пахнет, двигается и дерется, оно — смертельное и страшное, но какое оно еще, он сказать не мог. Он все равно не знал.
И все-таки догадывались муравьи обо всем, чуяли, понимали, что есть нечто, похожее на них и огромное, то, что им доступно и не совсем доступно, то, что разрушает и не разрушит совсем — понимает, что разрушить совсем нельзя. Прежде разрушалось чаще, теперь реже, даже нарочно разводят муравьев и изучают их, даже охраняют специально муравейники.
Постепенно, постепенно так втягиваешься в жизнь леса и моря, воды и бобров, что становишься куда моложе и светлее. Ты тут антироманы сочиняешь, то есть фабулу рвешь, а рядом с большой водой вдруг налетает на тебя роман, и становишься будто одержимый — и живешь этим романом, и пишешь его, сочиняешь, чтобы после смеяться: господи, для чего все это было написано?
А было…
Бобровый роман, муравьиный, стрекозиный и бабочкин роман, простой, как песенка. С чего он начинался — ни с того ни с сего. Просто — наступило время романа. С человечком по имени Бобриков. Не очень молодым, не очень особенным, не очень умным и совсем даже обыкновенным. И думал он просто, как все, действовал просто, как и положено, и ничего собой не представлял, ни-че-го, а вот случился этот роман, и был он прост и прекрасен в своей простоте, был он великолепен. Он, роман этот, будто был сочинен где-то кем-то. И то правда…
Сняли дачку в тихом месте, и там, на дачке этой, в тени больших старых елок, сидела девочка с толстой косой. Сидела в беседке, в тени и писала что-то на столе, покосившемся, старом. Писала, торопилась, спешила, поправляла пряди волос.
Я стояла над этой девочкой, глядела на нее и думала: «Письмо пишет? Сочинение, которое задали на осень? Что пишет? Стихи? Нет». Девочку звали, звали, и я окликнула, только она не отзывалась, она все писала и писала, даже голову не поднимала. Некогда ей было. По ней ползали божьи коровки — она не замечала, по ней плелись паучки — она не отмахивалась. Только мухи ей докучали, и она этих мух гнала, и то машинально.
«Не иначе как она сочиняет роман», — подумала я и пошла к хозяйке, которая выглянула из дачи.
И что потянуло меня в этот дом, на эту веранду? Тот самый роман и образ девочки, которая так старательно писала?
Я видела, что хозяйка смотрит в ее сторону и будто даже ей тяжело, что девочка, дочка, невменяемая совсем, не поднимает голову, не отзывается на имя, ничего не говорит ей.
И явился Бобриков тут на крыльцо. Дачник, холеный, чистый, сытый, в рубашке из такой ткани, которая не растягивается, не мнется, не пачкается, не рвется, никогда не меняет цвета, вида и так далее, не рубашка, а этакий предел вожделений всех людей на свете, как перпетуум-мобиле. У Бобрикова и лицо было такое — вечное лицо. Оно тоже могло принадлежать и юноше, и старцу, и человеку преклонного возраста. Оно было свежее, холеное, чистое, бесстрастное, даже улыбчивое, приветливое, даже, пожалуй, славное лицо, но дело было не в выражении лица, не в том, что оно говорило, а в полном довольстве и радости. Он радовался всему и всем: тому, что он живет на свете, тому, что у него рубашка самая прекрасная, тому, что дача хороша и погода тоже, что он — вот такой вот — теперь выходит на крылечко к нам и улыбается, радовался даже жукам и паукам, которые тут тоже ползали у него на плече и которых он снимал с плеча. Он радовался, и мы радовались, глядя на него.
И тут девочка оторвала лицо от тетрадки и не покраснела, нет, не смутилась, не вздохнула, даже бровью не повела, но все сказала своим сдержанным видом. Все. Именно тем, что сдержалась. Не покраснела. Хотя у нее и так пылали щеки.
Она прошла мимо нас, неся свою тетрадку и свой сдержанный вид, неся все то, что клокотало в ней, и обдала этим жаром, этой радостью бытия и страдания, счастьем и несчастьем, этой любовью, которая распространялась вокруг, будто пожар, как солнце и сама Ладога с ее глубиной и неизмеримостью.
— Валентина, — сказала ей мать, — хоть поздоровалась бы с новыми людьми.
Она подняла глаза, которые и так были устремлены на нас, но ничего не видели, подняла глаза, а вернее сказать, увидела нас — не нас, а его, великого его увидела, хотя старательно глядела только на меня, увидела и кивнула. Достойно кивнула и, как ей показалось, спокойно кивнула.
И он кивнул, сказал, будто тоскливо:
— Вале-ечка, — сказал и усмехнулся, сказал и поглядел на нее с радостью и пониманием.
Она поморщилась, будто от боли, уловив это понимание, и прошла.
— Пройдет, как рублем подарит! — продекламировал он, когда она скрылась. — А что она пишет?
— Кто ее знает — буркнула мать.
— Что-то пишет, — сказал он.
— А правда — что? — спросила я, уже зная, догадываясь, что она пишет, почему так пишет, ничего не видя, ничего не слыша и не отзываясь. Знала, потому что и сама писала когда-то точно так же — не дай бог оторвать, не дай бог спросить что-то или сказать, что нечего писать всякие дневники и письма подругам, рассказы и повести, когда есть уроки, уроки. Простые уроки, за которые надо получать отметки и переходить из класса в класс.
Говорят, что Бетховен не мог осилить таблицы умножения. Знал только сложение и вычитание. Когда ему надо было умножить, то он многократно складывал. Гений! Я осилила с легкостью, просто, и запомнила, и умножала, но — хромала. Ах, как хромала по физике, по математике и как радовалась, когда вдруг ни с того ни с сего понимала, узнавала, что понять легко, что все это не так уж сложно. Ах, не гений я, почему не гений, почему не радовалась тому, что могу только писать, сочинять, фантазировать, понимать свое писание? Так гордилась тем, что смогла постичь и физику — после, ну, не совсем постичь, но осилить или вернее сказать — проскочить сквозь нее, проникнуть к гуманитарному вузу, в котором было учиться такое счастье, такая радость, блаженство, будто наконец-то меня, иссохшую, напоили, голодную, накормили и дали все игрушки, о которых мечтала и которыми любовалась. Боже, как это прекрасно заниматься словесами, всякими там образами и тропами, всякой филологической наукой, кою обожала, знала и, казалось, понимала. Любую, любую — все готова была принять, лишь бы только не физика, не тригонометрия, лишь бы только не формула.
Но счастье не бывает долгим. Оно проходит довольно легко, просто. Оно дает усталость и, больше того, вызывает раздражение, тоску, даже ненависть. Сильнейшее счастье — сильнейшая любовь — ад. Схватка. Поединок.
Любовь к филологии кончилась с вузом, а может быть, несколько позже. Остался скепсис и некоторая доля необходимости и привычки. Любишь? Люблю свою привычку. Любишь? Боюсь потерять, но тут есть нечто странное и не очень доступное — перепутанность нервов и клеток, запутанных за многолетье так, что можешь ходить чужими ногами и чувствовать чужими нервами. Нервы уже представляют такой клубок, который похож на паклю, — попробуй вытащить нитку — никакими силами не вытащить. Попробуй сделать несколько мотков. Ничего уже не получится. Все не только спутано, но даже слежалось и сделалось таким плотным, что и представить себе нельзя ничего, что могло бы помочь в этом случае. Только смерть сама, а смерть тоже может увлечь и другого. Круг заколдованный и тяжкий. А как хороши бывают легкие и приятные отношения, когда человек может сказать другому: «Ну все, я ухожу», — и уйти, не оглядываясь, не взвешивая, не думая больше ни о чем. Взять и уйти. Ан не уйти…
И тут Валентина выронила тетрадку из рук — далеко от нас, на пороге, в самом уже коридорчике, но надо же было, чтобы эта тетрадка полетела, как бабочка, прямо на ноги ему, Бобрикову, полетела и раскрылась там, где было отчетливо выведено слово: «РОМАН»…
Слово мелькнуло и скрылось, а страница со словом «РОМАН» осталась открытой и прочитанной. Всеми-всеми. Даже матерью, которая покраснела за дочь так густо, так молодо, что можно было удивиться: откуда на старом лице столько краски. А Валя не покраснела, нет, она почти что упала сама вместе с тетрадкой. Она подняла ее мгновенно, стремительно, но все равно знала, что все видели и все прочли. Это ненавистное слово, этот позор, эту кляксу на сердце — роман. Что бы другое написала, не то слово, так вот же именно его. Можно было — повесть, очерк, что угодно, но не роман, потому именно, что это был роман — самой классической формы, классической легкости и невесомости.
Но слово было прочитано, и все улыбались, кроме Натальи Ивановны, матери, которая тоже, конечно, как и старые муж и жена, спутана была нервами с дочерью смертельно, вечно, — дочь… Это еще страшнее, чем муж и жена. Эти все-таки могут как-то разобраться, когда-то утихнуть, а мать и дочь — вечно. Они живут так едино, что диву можно только даваться. Они живут одной кровью и одной соединенностью. В день, когда дочь, скажем, заболевает, мать ощущает или страшную тоску и всякую недужность, или особенное нечто, будто даже осиянность — тоже не совсем нормальную. Можно развить это, можно и заглушить совсем, но почти ничего не чувствовать не может никто, только не обращать внимания и не знать, что происходит. Доказать это трудно, но и отрицать все не очень легко.
Я отвлеклась от Валентины и ее романа, который она писала-сочиняла-ощущала, этот роман, род недуга, захлестнул всех в доме, и…
Но вернемся к Бобрикову.
Узнала сразу по лицу его, да и хозяйка шепнула: «Разведенный», — узнала, что он в бегах от жены. Может, вернется к ней, а может, нет, но сразу было видно, что он отныне один и так хочет оставаться долго, век. Да тут и случилась Валя. Именно: произошла Валя и все кругом.
А кто он, Бобриков? Совсем неважно, кто он — инженер, или зубной техник, или капитан дальнего плавания, или приемщик в химчистке, или директор ателье мод, он и то, и то, и то, но главное, что он не пьет. Пил было, но теперь уже не пьет. Он мог бы быть кем? Даже чемпионом по коньякам, мог быть тренером, даже доктором наук, ну хоть не доктором наук, но кандидатом — вполне, а главное было в том, что он просто знает, чего хочет, да еще и умеет держать себя в обществе, вполне престижен.
О, престиж! Это так много, это так важно. Не уронить себя, не показаться глупой, не забыть, как пишется слово кинематограф, от слова «синема», «синема», то есть знать все слова во всех их значениях и грамматической точности, знать, сколько колонн, фигур на Зимнем и сколько картин Матисса в таком-то зале, вообще любить прекрасное во всех музеях мира, любить старинную мебель и красивую посуду и так далее, а главное держаться с достоинством.
Престиж, о господи, он нужен для тех, кто занят дипломатией и вообще большим политесом. Престиж, пусть им занимается кто хочет, но не я. Имя мое ему — фанфаронство, которому я не причастна совсем.
А у Бобрикова был катер. Не простой катер, как наш, например, а хороший, даже великолепный катер.
Мы и приплыли сюда на катере и собирались плыть дальше. Плавали, глядели на поляны, на лес — куда приплываем, где лучше. Плыли усталые, оглушенные мотором и возненавидевшие его, рычащего, вонючего, — символ цивилизации, столь чтимой, притягивающей и отталкивающей цивилизации, без которой уже не обойтись, которой мы отравлены и задавлены, с которой сжились и в то же время поссорились, плыли на лодочке и удивлялись тишине деревеньки, этих замшелых домиков, они при рокоте мотора были все равно тихими и складными, говорящими: «А пусть их трещат, нам это не вредит, мы и не слышим совсем их, этих моторов, они для нас как комары — пусть», — а мы были все в моторе, в его нервном клекоте, в его страсти, имя ей — скорость, сокращение расстояния, и в то же время эта страсть привела нас к тихому ключику, прозрачному, бесшумному ключу, выливающему свою ледяную воду в темную речку.
Тут мы и остановились. Это был дивный ключик, он притягивал всех жителей в округе, он холодил воду, вытекал из песчаного оврага, из-под корней сосен, из пещерки, которую прикрывали корни сосен, охраняли бобры, птицы и все живые твари, кто пил тут.
Но люди были здесь самыми ревностными хранителями ключа. Они, кто вырос, купаясь в чистейшей воде Ладоги, кто знал только самую светлую воду из колодцев, приезжали сюда за водой, на ключ. Это были гурманы воды, они знали толк в ней и пили воду уж совсем чистейшую, как росу, и то роса для них, верно, содержала некую примесь пыли и цветочной пыльцы. Они бы ее собирали только после того, как дожди промыли листья.
Весь грохот мотора, всю его суету и страсть оценили только тогда, когда после тишины, что наступила, выпили громадный глоток воды из ручья и она омыла душу, утешила ее и вернула на землю: «Вы там думайте, что хотите, делайте свои моторы, ездите на них, только придете ко мне, и поклонитесь, и напьетесь, тогда поймете, что я такое, что такое жить на свете, и заснете блаженным сном человека, которому дарована жизнь».
Вспомнились рассказы о том, как покупали дельцы из Америки секрет пильзенского пива. Купили все: ячмень, солод, что положено, даже сахар и бочки старинные. Долго изучали всю технологию изготовления пива, даже присказки и молитвы старых мастеров, но ничего не получилось у них. То есть получилось пиво как пиво — обычное. Снова приехали и упрекали мастеров из Чехии, из Пильзена, что обманули их, но те сказали, что никто никого не обманывал, что все так точно делали они, как и надо было делать. Не поверили дельцы, снова все изучали, и тогда открылся им секрет: не только ячмень и солод, бочки и прочее, а вода пильзенская придавала вкус пиву. Их вода… И стали в Америку возить пильзенскую воду. Обыкновенную воду — и получился вкус пива, лучше которого нет на свете.
* * *
Большая вода Ладоги… То бурная, то тихая, то серая, то голубая. Возле Орешка — целый водопад, все озеро, как океан огромное, сливается в узкое горлышко и течет, течет… И плывут по нему огромные теплоходы, идут, не замечают никаких водосбросов, никаких перепадов, ничего не ощущают эти громадины, а мы на своей утлой лодчонке будто все разом ощущаем — течение и ветер, грохот мотора, который вот-вот сломается, везя против течения нас и нашу поклажу, — гудит, тарахтит, ревет, плюет воду из всех резиновых прокладок и кричит, что он совсем не может дальше, что ему тяжко, что он на пределе, — и навстречу плывут эти плавные громадины, которым нет дела до нас, водомерок, паучков, там внизу — где мы там? Кто мы такие? А мы — живые, мы — тоже мореходы…
Бывают, говорят моряки, волны плавные и мягкие, бывают они жесткие и жестокие, как ножи. Каждая волна — нож в грудь лодочки. Может быть, надо очень много плавать, много ходить по морям и волнам, чтобы узнать все оттенки жестокости волн. Мотор не хочет, не может тащить лодчонку, но вытащил — и мы в тихом мутном канале, вошли и укрылись от ветра и простора, от волн и огромных теплоходов, от самоходных барж, от мелких мух — моторок с большой скоростью, от всех, от всех.
Давно, двести лет назад, Петр страдал на Ладоге, плавал и терял свои корабли и грузы, тогда же он и решил прорыть канал вдоль Ладоги, ему так показалось удобно — проплыл на маленьких своих ботиках — провести корабли берегом, углубиться в такую даль, как только можно. Видно, и он, бесстрашный, боялся этой голубой громадины, которая кажется такой же невинной, как и балтийская Маркизова лужа, о нет, эта расщелина, эта воронка с водой была не того тихого нрава, как лужица. Она кипела страстями ветров и течений, вся бурлила и несла его корабли к чертям на рога, несла на каменистые берега, несла в дальнюю даль и валила с борта на борт.
* * *
После мытарств и треволнений, после грохота моторов и всех страстей наступает тишина, прежде всего — тишина, а после — Вечер Отчетливых и Глубоких Восторгов: четки все линии, глубоки и сочны краски, все запахи и тени, все блики на воде, все лучи — прямо в глаза, в уши, в нос — как хорошо. Боже, как красиво. Никто никогда будто не видал этих красок и теней, никто не слыхал этой тишины шорохов, этой свежести, этого покоя не ощущал, и наступает такой прекрасный миг тишины, тепла, безветрия — и погружаешься в тихий сон.
Мотор — это прекрасно, мотор нас привел на эту полянку и к этому ключику, на этот берег, пропахший хвоей и рыбой, грибами и брусникой, это он, проклятый и страшный, ревущий и грохочущий, привел в этот омуток, в этот берег, имя которому — рай.
Все небесные краски растекаются в глазах и застят их от всего, что только что было, — от суеты и страсти, от всех напастей.
Сон блаженный, детский, глубокий, и утро такое прекрасное, что хочется купаться и брызгаться в той холоднейшей воде ручья, когда ноги немеют и зубы тоже, когда страшно подумать, что эта вода никогда не согреет, а только заледенит. Утро такое холодное, такое свежее, аппетит так велик и радостен, что стоя едим — сесть не на что: все влажно от росы, и доски, и даже резиновые подушки из катера кажутся лягушками. Едим, согреваемся, и тут выползает солнце, похожее на огромную теплую купель, в которую окунают тебя, замерзшего, до самой шеи. Но что говорить — ни на что не похоже солнце, ему нет сравнения, оно обливает теплом и светом, радостью и особой своей теплотой, погружает в дремотное созерцание самого себя — то есть себя и солнца. И ничего уже больше нет, кроме поляны и солнца, кроме тебя и цветов, брусники и грибов, тропинки среди вереска, тропинки и мелкий сосняк.
Такой сосняк, где на каждой хвоинке, на каждом разлапистом дивном отростке — капля росы дрожит и светится, смолистая капля — рядом, и запахи эти окутывают тебя, радуют и даже валят с ног. Нет сил подняться в лесу сразу и брести до пота, нет сил даже собирать грибы — раскис на солнце, не можешь обрести того состояния, при котором проснулся. Усталость и даже страшная вещь старость охватывают тебя: ох, не по силам это, сидел бы себе дома и строчил на машинке или гулял бы в парке — не трогался с места. Для чего тебе это все надо? Но проходит время — день, другой — и приходит радость полянки, привычка к лесу, к воде и холоду, к ручью и круглой опушке. И скука забирается от счастья, и простая работа становится надоедливой, но и силы, силы вливаются в тебя, будто проснулась снова в юности легконогой девой, полной энергии и счастья бытия, полной сил и надежд на будущее. Какое оно — будущее? Прекрасное. И в самом деле прекрасно твое будущее, хоть и не совсем ты в блаженстве будешь жить — и страдать надо будет, но и в блаженстве тоже станешь пребывать, потому что знаешь, как хорошо жить на свете, дышать и любить, думать и воплощаться. Пусть, пусть думают, что ты все не сделала или, вернее, не все сделала, не все верно думала, не все так, как надо, поняла — и в самом деле не все поняла, глупее других, — да боже мой, это тоже прекрасно сознавать, что другие умнее и лучше тебя, что ты просто рядом с ними, что в тебе не всегда есть дух творчества, но и он есть. Есть в тебе, пусть не знают, что есть, или преувеличивают, или преуменьшают. Пусть не гладко идет, пусть. Все, как положено тебе, так и будет. Тут на полянке особенно остро вспоминаешь все: и промахи — ах, как много их было — и не промахи, — все вспоминаешь и живешь так полно и глубоко, как дышишь…
Простите меня, если я не воплотила всех ваших надежд, люди, простите меня, что я обижала кого-то там, я здесь все сознаю, и живу отшельником, и жду, когда это чудо кончится, жду и боюсь, что оно кончится…
Жалеть кого-то там, направлять его, обучать — как мы любим, все это так любим: поучать и жалеть. Из всех чувств нам доступны вот эти особенно: жалости всевозможные и разные жалости, кои происходят от немоты душевной, от суеты, пожалел и посочувствовал — будто легче тебе и другому. Так и настроены на жалость, а ведь до того оно нелепое это чувство, до того примитивное, до того унизительно, когда тебя жалеют и сочувствуют, будто все время тебе говорят, что ты глупа, глупа и так легко поддаешься этому ощущению своей глупости, будто других и не бывало с тобой состояний. А ведь есть другие состояния, есть. Они и в том, что ты невольно делаешь, и в том, что делаешь вольно. Ты знаешь так отчетливо нечто, что дано тебе знать, а другим это состояние передать не можешь. Оно будто заколдовано.
Вот приходит человек с насмешкой, и ты, легко уловив эту его настроенность и насмешку, насмешничаешь сам первый, говоришь то, что он хочет сказать, и ему часто не даешь даже опомниться — уже сказал, это его сердит. Для чего тогда приходил и для чего весь сыр-бор происходит? Ведь он хотел тебе сказать то, что ты уже сказал. Или наоборот. Приходит человек подзанять у тебя хорошее, что ты будто можешь сделать, а ты — опять-таки уловив его это стремление — уже снова говоришь, но совсем не то, что ему надо, а все мрачное и скучное, то есть прячешь от него свое и не ловишь ровно ничего, и он не ловит, и знаешь наперед, что человек только зол уходит, и больше ничего. Он зол, и ты сердит на него его злостью, так уж устроена душа у тебя…
Да и не только у тебя, но и у других тоже. Многое идет так, как бог на душу положит, то есть совсем не так, как предполагаешь. Идет просто, как идется — все само собой, все даже как придется. И нет никаких сил остановить или сделать то, что тебе необходимо.
Ах, как других это сердит и раздражает: что за нелепость подчиняться тому, что случается, надо сопротивляться, — а это сопротивление все равно что езда по морю на колесах или по снегу на лодках — бессмысленное, только силы убивает, только время проходит. Одно и то же можешь делать, делать без конца, и никак не приходит сделанное дело, а только длится вся та работа, которую начал и не сделал.
И вот в тени сосенок, под шорох и шепот ручейка, приходят такие ощущения: затеряться бы здесь, чтобы никто и ничто не мешало, не отвлекало тебя, чтобы никто и ничто не знало и не интересовалось тобой, чтобы никто никогда не старался что-то сделать тебе — хорошее или плохое, нужное и не очень, чтобы ты, одна, или со своими, которые так привычны тебе, — тоже были бы тобой, была здесь всегда, и только здесь, где себя уже не чувствуешь, — и вся суета, все страсти кончаются тогда, когда ты вот так вот дышишь смолистым воздухом и глядишь в омуток. А там между деревьями и берегами открываются даль и простор Ладоги, ее плавный берег, ее блеск и свет, там она вся искрится и золотится, и в ней вся свежесть и чистота, все то, чего так ищешь, так ждешь вечно. И сосны отвечают тихим шорохом, а тепло ластится под ноги, а вода искрится и моет тебя, и ветром шевелится тихо лодка.
Ах ты, поляна, летучая, искристая, вся усыпана вереском и гвоздикой, белым пузырчатым странным цветом, будто надутыми шариками, шевелится и вьется высокий ворс травы, — поляна, окаймленная сосенками, украшенная крупными бусами брусники, свечками можжевельника и мелким ельником. Веселая полянка — будто детская рожица с голубыми глазами, белыми зубами ромашек и желтой челкой выгоревшей травы.
Как вижу ее всю, усыпанную первым листом осенним, оттененную березой — как желтое идет к белому! — и усыпанную пухом иван-чая. И приходит на ум все хорошее, радостное, простое.
Счастье приходит, и знаешь, что такое вкус земли? Никто не ел ее будто бы, никто не пробовал. И все-таки существует вкус земли, которая бывает сладка или солона, бывает вкусна или горька. Есть чистая земля, которой так мало осталось на свете, но она есть еще здесь, на Ладоге, где леса похожи на снег, а снег сверкает такой чистотой, будто все солнце опрокинулось и разлилось в мире и больше нет ничего, кроме солнца — светлого и легкого. Вкус земли, который отдается ягодам и картошке, морковке и простой брюкве, нежной брюкве, слаще дынь.
Вкус чистой земли, ничем не испорченной, вкус земли вечной, такой, как бывает чиста и прекрасна вода глубины родников, забытый нами вкус этой земли существует еще там и, верно, будет существовать еще долго, хоть и говорят, что нет больше ее, но она есть.
Вкус земли обетованной, прекрасной и чистой, вкус земли, который передается всем фруктам и овощам, — его не описать, не передать. Кажется, все пробовал, все видел, все ощутил на свете и знаешь, до того умудрен годами и этим знанием, что никогда и ничто уже не удивит, и вдруг попробуешь какую-то репку — простую репку или брюкву — и поразишься, что эта репка-брюква слаще зеленоватой дыни, что привозят из Средней Азии и продают за страшные деньги, и мы берем эту дрянь только по привычке, потому что эта дрянь уже нам известна, а брюква тоже известна, ее тряпичная бессладкая мякоть, — что может быть нового в брюкве?
Такая была история: все меня просил человек-чудак купить ему репку на базаре. Куплю — не ест.
— Вот тебе твоя репка… Чего не ешь?
— Разве это репка?
— Репка. Да еще и с базара.
— Что это за репка, — говорит скучливо и сердито.
— Ну какой тебе репки нужно? Я не знаю.
— А, бывает репка слаще меда.
— Может, и бывает, но я не знаю, где такая бывает, и вообще бывает ли, просто в детстве и мороженое кажется необыкновенным, а потом и мед не очень сладким, а скорее горьким.
— Нет, бывает.
Не поверила. Думала, что просто дурит человек. И вот приехали в далекие края, откуда мой приятель сам взялся. Приехали и поразились тому, что в этих краях, далеких, северных, масса фруктов из Болгарии, из Крыма и Кавказа. Правда, не очень зрелые, но долежать могут до спелости. Вполне могут. Купили всякой всячины — и дынь, и груш, и слив. Купили, угощаем, а он все то же говорит:
— Купи репку…
— Какую опять репку? Черт возьми! Вот тебе груша.
— Не хочу груш.
— Да ты привереда, и только! Иди и покупай себе репку сам. Я не знаю, какую тебе еще нужно сладость.
Пошел и купил.
— Угостить? — спрашивает.
— Нет, не угостить.
— А ты попробуй.
— И пробовать не хочу.
— Почему?
— Потому что репку с грушей не могу есть.
— А ты не ешь груш.
Попробовала, и вдруг репка-брюква, эта обыкновенная репка-брюква растаяла во рту и оказалась в самом деле слаще и нежнее зеленоватой дыни и твердоватой груши. Она была удивительной, нежной и куда более дынной, чем сама дыня.
Это и был вкус земли чистейшей, никем никогда не удобряемой, никем никогда не порченной, никем никогда не политой ничем другим, кроме навоза, да дождями, простыми чистыми дождями, простым и чистым навозом. Навоз тоже бывает прекрасен.
Дар земли обетованной, цельной, прекрасной, дар земли простой, простодушной и бесхитростной, такой, которая вся пропахла клевером и ромашкой, в которой только и есть, что все от бога, от самой себя и себе подобных. Ретроградство? Земля… Одно из первых слов, одно из тех слов, что невозможно разъять и постичь, понять, откуда они — вода, земля и небо, солнце и луна. Все прекрасно на свете, всякая цивилизация, все возможные чудеса разума человеческого, только никто не хочет есть искусственную икру и прочее, все хотят натуральную чистоту воды, простую селедку предпочтут искусственной икре.
И чистому воздуху предпочтут все, ленивому существованию на поляне, полной чистой воды и воздуха, ягод и грибов. Для чего все остальное, когда легкие дышат, глаза видят, язык ощущает все вкусное, когда ноги и руки, кожа и каждая клетка тела живут и радуются, ждут новых и новых лучей солнца и воды, прикосновения песка и травы к ладоням? Для чего все остальное?
* * *
А где же Валентина и все ее страсти, где ее пылкий румянец, который горит, как яростный пожар, горит и манит? Где же Бобриков, который бежит и не жаждет, спасается? Потому его и ловят, что он бежит.
Вот там, под окнами, у самой калитки, кружит на велосипеде человек лет шестнадцати, как и Валентина, он просто катается на велосипеде, сверкает спицами, и кажется, что искры сыплются от спиц, — он тоже в страсти, но не желает, чтобы поняли, глядит вперед, и только, но достаточно сказать ему: «Эй, погоди, я тоже поеду на велосипеде!» — так он — даже если очень далеко ему, кажется, и не слышно совсем — услышит, повернет. Остановится у самой калитки, услышит. Только она не позовет его, и он сам знает наперед, что не позовет, не остановится и не скажет.
Но она позвала его вдруг, выбежала к калитке и позвала. Он остановился и повернул, а она нырнула в сарайчик и вышла уже с велосипедом, вышла в шортах, в кедах, такая вся статная, литая, ладная — кукла, И они поехали по горушкам, аллейкам, попадая то в солнечный столб света, то в призрачную тень.
Чужие страсти! Ах ты боже мой, как страшны чужие страсти. Кажется, что там детишки и их страстишки? А нет. Именно их страсти и есть страсти, не смиренность, а вечная страсть. Когда она полыхает, то кажется, будто дерево со всеми своими корнями, ветками, плодами прорастает из тебя, как из земли, рвется к солнцу и попирает тебя. От него не спастись, не убежать, не скрыться, оно с тобой вечно. И ты так и будешь с ним, как с ношей, которая тебе не под силу. Но если ты освободишься от этого груза и останешься один, легкий, будто невесомый, то такая тоска бездействия и бессчастия охватит тебя, такая страшная тоска.
* * *
Мне хотелось крикнуть Вале: «Эй, Валентина, где твой роман? Роман под названием «Тетрадка в косую линейку?» Где Бобриков?» А правда, где Бобриков? Уехал рыбачить? Поехал в город за яблоками и помидорами? Уд-рал? Уже удрал? А как же роман? А он заплатил за дачу вперед? Он дал задаток? А где прелестные картины в духе Франсуазы Саган — купание на лодке, пляжи, кофий на веранде? Ну хоть не кофий, так чай с малиновым вареньем, и чтобы из самовара или по крайней мере чай из электрического чайника, и Бобриков с тортом приехал или с пирожными, а варенье Наталья Ивановна подавала на стеклянных блюдечках под хрусталь, и молоко, густое, прекрасное, в кувшине, и васильки с ромашками в старинной стеклянной банке, по форме напоминающей кринку. И там, в тени вишни, сирени и ползучих мелких роз, пить этот чай так долго, с таким удовольствием. И Бобриков рассказывает про… Что, про что? Про то, как он был в Чехословакии или в Болгарии, про балет на льду? А Валя фыркает, пьет чай с блюдечка — нарочно, нарочно, просто для балды. Знает, что это не престижно, но пьет именно с блюдечка, так ей хочется посердить всех — особенно мать, — и пьет. А потом приходит и уходит сосед Иван Иванович, славный такой, любимый сосед, человек, который из корней и пеньков режет фигурки, составляет их из веток и прочих шишек-елок-метелок, и у него целый сад таких поделок, а еще есть щенок по прозванию Шаньга. «Если хотите, пойдемте смотреть щенка и сад!» О, сад, усеянный корнями — скульптурами и всякими поделками!
И нет особой охоты смотреть эти поделки, а идешь и смотришь: «Ах, да, чу́дно!» (то бишь чудно́ — хотел бы сказать), но говоришь чу́дно. А щенок (жуткий Барбос) — прелесть! Ах, прелесть, а не щенок.
Но тут все зависит от настроения. Коли выспался да умылся или окунулся даже в Ладоге, коли напился прекрасного молока с пирогом, который испекла хозяйка, то и стал примерно таким, как хозяйка, таким вот прекрасным существом, которое никогда не утруждало себя книгами, да мыслями тож, фильмы смотрела — и не видела их, книги иногда читала, но все равно не помнила, и для нее Валентина и ее тетрадки (иначе она их не называла) — это позорище последнее, но вот ныне макулатуру сдавала да покупала книженции на талоны: все покупали. Так надо было. И пошли к соседу в гости.
Нас встретил щенок, обыкновенный толстый щенок, веселый, резвый и суматошный, такой преданный и униженный, нет, пожалуй, даже не униженный, а радостный, будто никто никогда не бил его, или он сразу забывал это, или знать не хотел зла. Знал, но не хотел знать — радовался тому, что он жив-живехонек на свете и может лизнуть кого-то там в руку или даже в лицо — все равно кого.
Он прыгал вокруг, суетился, молча, поспешно выискивал миг, когда вы наклонитесь, чтобы погладить его или просто дать конфету, сухарик, что случилось, что завалялось в сумке, — и в этот момент лизнуть и сплясать короткий танец вокруг вас, даже и не желая той конфеты, сухарика, просто сплясать свою короткую, полную энергии и счастья мазурку, обтаптывая вам ноги, разрывая чулки, обгрызая шнурки на ваших туфлях. Он был ужасен в своей суете и прекрасен, он был невыносим и наделял вас уверенностью, что жить на свете необыкновенно, он обращал вас в бегство и в то же время привлекал к себе, потому что нет на свете ничего более прекрасного, чем счастье и жизнерадостность.
Это счастье заливает весь мир, оно распространяется вокруг, оно заставляет сверкать листья и каждую каплю росы, оно обливает вас.
Щенка звали Шаньгой. Это была собачонка, а не собака (очень не люблю слово сука, такое оно щучье, ругательное и скверное). А шаньги бывают розовые, пышные и прекрасные, как розы, не угловатые розы, а простодушные, круглые и свежие. Пышные розы. И щенок был пышный. Он лакал из миски воду, крутился на всех своих лапах, вдруг окунул голову в миску, и я посмотреть на миску не успела, как он закусил ее и понес пустую куда-то. А он был в экстазе — несся как вихрь, но даже в его полете и мелькании этой миски я различила, что она — не простая. И много надо было труда, чтобы отнять ее от щенка, взять в руки и рассмотреть. Миска была старинным ковшиком, до того старым и странным, что вся почернела, была заляпана, замурзана, но все равно привлекала к себе своей странностью — она была плетеная, покрыта лаком, была будто соткана из бересты или лыка, да так, что держала воду, и зазоринки не было нигде, и найти невозможно было.
Отняв у щенка его игрушку, я была вся оцарапана, истоптана, потому что он старался отнять — не злобно, не сердито, а так, играючи. Он был уверен, что я все равно отдам ковшик. И тут явился хозяин щенка и ковшика. Хозяин, который глядел хмуро на всю нашу игру. А щенок все прыгал, и я услышала, как хозяин сказал грозно:
— Н-ну?
Можно было подумать, что он говорил это не только щенку, но и мне. Весь его вид был довольно сердитый: «Нечего играть с чужими собаками, нечего хватать чужие миски-ковшики. Что это за дело?»
Хоть дом не был огорожен, стоял себе так просто, но все, что было возле дома, принадлежало ему, дому, и хозяину тоже.
Щенок не очень огорчился, не очень присмирел, но послушался, зато хозяин смягчился:
— Добрая собака будет!
Я все держала в руках берестяной ковшик и не знала, как заговорить с хозяином о том, что очень мне нравится этот ковшик.
Трудно всегда получить то, что очень понравилось, и хоть знаешь, что хозяевам все равно: миска эта из жести, алюминия или дорогая вещь, все равно они, уловив твой особый интерес к вещи, непременно заупрямятся и будут говорить на одной ноте: «Нет, положь, пусть будет тут… собака привыкла из нее лакать». И хоть собаке всего-то месяц и она вполне может привыкнуть к другой посуде, не уступят нипочем, так, из упрямства, оттого что дом не растаскивай — пусть будет, и все тут… Потому я решила не оттенять мое желание получить миску, а просто посмотрела на нее еще раз и поставила за завалинку. Обратит хозяин внимание на то, что я не на место ее положила, а на завалинку, обросшую травой?
Он не обратил внимания.
Это меня порадовало.
Ах, каким тонким дипломатом почувствовала я себя! Какой замечательно умной и сообразительной. Прекрасное чувство! Если бы думать, что всегда можешь положиться на свою сообразительность, на то, что сделаешь все, как надо, без промаха, но в то же время не всегда тебе стоит являть свою светлую голову, стоит и уступить другим, дать им поумничать, поговорить, сказать за тебя. Только есть опасность уступания. Это знакомо не всем. Посторонился по привычке, чтобы пропустить человека, глядь, а он уже впереди тебя стоит-сидит-существует, да еще и разглагольствует, что ты просто-напросто мазила и ворона, так тебе и надо… Тогда можешь гневаться и кричать: «Я — Багира, присовокуплю к своим словам быка — берите!» — только смотришь, и быка съедят, да и не запомнят, что съели. А потом и Маугли могут слопать, хотя Лягушонок может и огонь раздобыть.
Надежда на Лягушонка…
Плоховатая, но есть…
А хозяин играл теперь со своей доброй собакой Шаньгой, и надо было ему подыгрывать, чтобы завести разговор о туеске-ковшичке, тем более, что у меня была маленькая коллекция туесков и здесь, в далеком Сельце, я уже высматривала всякую всячину такого рода, но ничего не находила, кроме корзин.
* * *
Теперь все собирают коллекции. Знала такого человека, который собирал коллекцию печатей и одну — самую ценную — первую печать японских императоров — нашел на дворе в старом доме, почти закопанную в землю, каменную, огромную. Он поднял ее и прочел стертую надпись. Написал в музей, и оттуда ответили, что такого не может быть, что эта печать утрачена в каком-то там веке. Он еще раз написал — в другой музей, и тогда его пригласили в Японию вместе с печатью.
Он долго не мог собраться, но поехал наконец, и принимали его как императора. Оказывали такие почести, что он оторопел совсем, не знал, куда деваться от всевозможных церемоний. Его кормили жареными хризантемами и всякой всячиной, имя которой он не ведал, но чувствовал к ней некоторую опаску, если не сказать больше, чем огорчал людей вокруг несказанно, и они все спрашивали, что, что ему приготовить, как уложить, куда повезти, что показать. Он хотел простой жареной говядины в достаточном количестве, хотел свежее яйцо всмятку, а не курицу под соусом из водорослей, но его кормили всеми видами водорослей и рыб, которые пахли розами, а на третье подавали розы в рыбном рассоле.
Его приглашали еще и еще, и он приехал еще раз, но тогда ему сказали, что в третий раз древнейшая из печатей уже не выедет назад в Россию, таков закон Японии. И он остерегся, не поехал, хотя за два путешествия в Японию попривык и к церемониям, и к поездкам на яхтах, привык к тому, что надо созерцать природу после обеда, да и к самому обеду привык.
Он уже даже скучал без рыбного рассола из хризантем на завтрак. Но — не поехал. Слушая его рассказы и зная его лично, я с тех пор всегда на старых двориках оглядываю камни: авось тоже случится найти такое вот чудо. Но не случалось даже и туеска порядочного отыскать. И вот нашелся ковшик, который скромно лежал на завалинке, а я скромно стояла возле, потрагивая его, будто от нечего делать. Хозяин и внимания не обращал на ковшичек. Он покуривал, поглядывал на щенка, хотел только, чтобы мы посмотрели его корни, а то и их не хотел показывать, а только щенка.
— Вот ковшичек этот мне нужен — воду черпать…
Он и не глянул на ковшик.
— Пить, что ли, хочешь?
— Не пить, а воду вычерпывать из лодки, — у меня и голос дрожал.
— Бери.
Я мгновенно взяла ковшик и пошла отмывать-отмачивать его в реке. Шла и думала, что он не понял, какой мне ковшик нужен, для чего. Спохватится — отнимет. Решила пойти в магазин и купить простую миску или отдать ему взамен наши — эмалированные, если не найду в магазине. Но я ошиблась, ах как ошиблась! Этот ковшик совсем не был единственным в доме и очень старым, это была его работа, да и какие ковшички тут были, какие корзинки, лапотки, резные копилки, тарелки и прочие вещи. Можно было рассматривать эти вещи без конца и края, мне это нравилось, я могла просто все купить или выпросить. Иван Иванович был доволен и доверял нам, хотя я уже успела выпросить ковшик. Но разве простодушному человеку понять, что такое коллекционер?
Допустим, я имею самую маленькую страстишку к собиранию этих вещей, допустим, я только изредка умею загореться именно собирая и находя такие вещи — редко, очень редко получаю их, но все-таки страсти разгораются, как и аппетит во время еды. Уж если есть нечто, то и другое надо, и третье. И я стала рассматривать все его драгоценности, чем его обрадовала еще раз.
И тут влетел в комнату вихрем щенок, кинулся к хозяину, ко мне, снова к хозяину, потом завернулся в половик, скрутил его, и грозные окрики: «Н-ну!» — не действовали на него нисколько, будто он не слышал ничего от радости. Был пнут, был выброшен ногой — не больно, просто отброшен за порог, и снова ворвался, и снова ему дали легкий пинок, но он даже не взвизгнул, не тявкнул, а молча опять продрался к хозяину и затих на время, чтобы снова грызть половик и закрываться им.
Быстры щенячьи радости, легки и просты. Его так манит день, солнце, река, трава, всякая вещичка в доме от веника до ложки на полке — прекрасной ложки, которая так и просилась в рот, до того была тонка, изящна и отполирована. Она не была под лаком, просто липовая ложка, но ей и лака не было нужно — она и так сияла своей точеной, литой, прямо костяной плавностью, будто ее отлили. Я разглядывала ложку, а щенок пытался вырвать ее из руки хозяина, что молча хмурился, глядя на щенка, — уж потерял терпение бороться с ним, а только искал веревку на окне, шнурок, приговаривая:
— А где ремень у меня?
Хозяин совсем не интересовался тем, что я перебираю его работы и все выглядываю, что самое интересное.
Он просто привык к тому, что его хвалят, его почитают, у него покупают или выпрашивают его поделки, он знал, что они привлекают внимание всех, что они хороши.
Он нашел наконец веревку и стегнул слегка щенка. Тот притворно испугался — и в этот миг вырвал у меня ложку из руки, которую я опустила.
Корни и пеньки были куда хуже всего остального, хотя хозяин именно ими гордился. Он работал все время. И я стала наблюдать за тем, как хозяин работал: он работал дни и вечера, все время, что мог, то и пилил-строгал-шкурил, полировал в руках. Шел на дворик, в руках держал тонкую шкурку, и все двигались его пальцы, шевелились, будто в руках он держал четки.
Помню, мне рассказывали, что четки делали из персиковых косточек, которые были отшлифованы пальцами тех, кто перебирал их, — они стирались до того, что не было видно рельефа косточки, только паутинка.
Так и хозяин беспрестанно вертел в руках свои поделки. Пальцы его мяли шкурку, трогали дерево, и это дерево будто становилось мягким, прозрачным и в то же время твердым. Оно напоминало теперь уже не просто слоновую кость, но старинные вещи из кости. Хозяин ел — и то держал свои деревяги возле тарелки, смотрел на них и, верно, думал, что ему предпринять дальше, а может быть, и не думал, а мысленно продолжал работать. И в воскресенье он не сидел сложа руки, и вечерами тоже.
— Иди, — кричала ему жена, — наколи лучины да Шаню загони, самовар ставить буду!
Хозяин не вдруг поднимался, не сразу отзывался. Он раскачивался долго, глядел неотрывно на то, что было у него в руках, потом еще держал это, что делал, перед носом, потом уже вставал и нехотя шел во двор. Там он разглядывал то полешко, которое надо было перевести на щепки: не то ли, которое ему нужно, пригодиться может, не то, что высохло и все в рисунке, — когда он убеждался, что нет, не то полено, только тогда он щипал его и собирал мелкие стружечки-колечки — не пригодятся ли на то, чтобы сделать из них деревянную муку для шпаклевки. Конечно, у него дерево висело на стенках, на полках лежало штабелями — высушенное, твердое, легонькое, завощенное с торцов, иногда и покрытое не то суриком, не то черт знает какой позолотой-бронзой-медом, сахаром, будто это были не полешки, а куски торта, похожие на сливочное полено, шоколадное, вкусное, просто съел бы, и только.
Я видела однажды человека, стоящего возле дома, который рушили, — старый дом, маленький, дачка старинная, его ломали, и летела пыль, стоял треск, и он, человек этот, весь в пыли, все ждал, когда кончат ломать, чтобы кинуться в самую пыль и грязь и извлечь оттуда старые балки, старые доски. И он кидался, нырял в этот пыльный омут и извлекал оттуда балки. Тащил их в сторону, пилил, оглядывал с великой нежностью, оглаживал, ласкал и пилил, пилил, сколько мог. Рабочие стояли кругом и глядели без всякой издевки, без всякой насмешки над этой работой — понимали его. Это был мастер скрипок. Больше того, эти рабочие, мне казалось, даже завидовали его страсти, его глазу на старое дерево, его умению видеть в дереве то, что оно может дать после. Петь, звучать, продолжать жить века.
Но если даже и не поет дерево, то оно может стать прекрасным и необычайным в руках такого любителя. Не просто там туеском-корзинкой, но вещицей, которая сама по себе уже нечто необыкновенное. Страсть в нем, глаза его, руки останутся — и даже настроение. Чужое тяжелое настроение передается. Не только человеческое, но даже собачье.
* * *
Кто таков чудак? Да просто человек, который делает все, как ему этого хочется: вот ему уж подыграли, открыли все двери, сделали все возможное, а он все равно идет своей дорожкой, идет совсем не той тропинкой или ломится изо всех сил в те двери, которые как раз закрыли перед носом. Он шел себе бы и шел туда, куда велели, куда так просто было войти, но он только взглянул в открытую дверь и пошел в другую…
Не поверил? Или сам хотел открыть свою дверь?
Человек обаятельный и текучий так просто вливается в толпу, так ловко идет и всегда улыбается, так легко благодарит — и все открывается ему само. А чудак сердит. Он раздражает особенно своей манерой путать игру.
Вот уж ясно, что собака не собака, а просто вихрь страстей самых разнообразных и не будет доброй собаки, ан нет, он силится доказать всем, что это и есть его собака, и будет натаскивать ее до последней потери сил, потому что и он привязан к этой собаке, он любит ее. Нет ведь ничего более страшного, более заманчивого, более притягательного, чем любовь чужая.
Неведомо мне, научил хозяин Шаньгу таскать палки и находить корни, но только мне Шаньга помогал носить корзины и искать землянику. Шли мы с ним, шли по лесу, искали-искали полянки с грибами и земляникой — не очень попадались нам с ним места. Избили ноги, устали, легли на поляне — комары допекают, слепни, вышли на поле, спугнули рой бабочек и жуков. Шаньга бросился догонять каждую, ловить и смотреть — куда полетели эти шельмы, которые, как ему казалось, тоже могут куснуть — кто их знает. А Шаньга уже меня охранял от всех, кто мог кусать. Так его заели, что он всех жалел, меня тем более. Меня защищал. Не дай бог защита глупого — не знаешь, куда деваться от лая и суматохи, от страшного его аллюра, кажется, все цветы испугались, все облака улетели от этого щенячьего восторженного писка и визга, от его защиты. После Шаньга провалился в канавку, я его искала, тащила, потом он залез в чужой дом, и там на него напали собаки, потом он попал в болото, только вдруг он затих и затаился. Исчез совсем. Нет щенка и нет. Звала, бегала, рукой махнула. Ну, придет, вероятно, найдется сам. Такой закон пропавшей вещи — не ищи — сама найдется.
Пошла назад и вижу, что стоит пес посреди такой полянки, что заглядеться можно — красна поляна, и на ней пес выкусывает что-то там, выискивает, на меня не смотрит, наклонилась — ягоды ест, лягушонка лапой придавил, играет с лягушонком. Покричала на него — как смеешь не отвечать и таиться? Он и внимания не обратил совсем, смотрит рассеянно, оглядывается, ушами встряхивает и снова ловит несчастного лягушонка. Отняла лягушку и прикрикнула на него, только полянка меня утешила — просто загляденье. В одну минуту полстакана ягод собрала, съела и того больше, потом отошла в сторону — еще и еще ягоды. И снова он набрел на поляну в стороне, полную ягод. Снова собрала и опять пошла — прошли несколько шагов, и вижу, что стоит он над кустиком, поглядывает на меня: «Вот тебе еще! Бери…» Заметила, что он ягоды может куснуть, жует нехотя и не глотает, хотя иногда может и съесть, потому только, что он все мог есть, даже бумажки, веревки и всякую всячину, что приходило ему под настроение.
Шли после домой еле-еле, — может, дойдем, а может, и упадем. Пить хотелось, вытянуть ноги, сесть в тень и задремать, но шли и шли. Он очень устал, как и я, только все-таки был куда бодрее, но и я, глядя на него, шла, двигалась, шла и шла вперед.
Добрели, и блаженная усталость, после того что выпили несколько огромных глотков холодной воды, блаженная усталость слетела, спала, отошла от нас. Сидели в тени и глядели друг на друга. Мы пили воду и говорили: ты мне друг? Я тебе друг…
И это была правда — он был другом, и я знала, что он никогда не предаст, никогда не оставит в тоске, только и не утешит, увы. Не может утешить, когда вдруг все станут поносить, угнетать, перестанут понимать совсем и даже будут бранить как смогут.
А и то бывает прекрасно, когда бранят и злят, и то бывает хорошо и весело на душе, когда там, в черной тесноте непонимания, вдруг вспыхивает твое противление всему, что происходит.
Сопротивляешься как можешь всему тому, что делается кругом, и ощущаешь радость существования на земле, свою особенную близость ко всему и проникновение во все на свете. Весь мир принадлежит тебе, и ты — ему, ты знаешь его, и он — тебя, ты его любишь, и он — тебя. Страшна только жалость к тебе, сочувствие, которое сродни отвращению. Ты не принимаешь мер, и он тебя отвергает, откидывает от себя, ты его не слышишь, и он — тебя.
А пес? Он может тебя оделить радостью и тоской, но твою тоску он может только разделить с тобой. Поскулить, когда ты плачешь, повизжать, положить морду на колени, заглянуть в глаза, может принести тебе что-то — подарить, но не может сказать слова, которые тебя утешат.
* * *
Кто сказал, что Наталья Ивановна не читает ничего? Она вот сидит и читает, читает. Уже час читает или около того. Я сижу и читаю тоже. Вали нет, никого, кроме нас с Натальей Ивановной и прекрасной погоды. Мне надо давно бросить читать, а ей тоже надо бежать в магазин и еще куда-то там, а она все читает. И вдруг слышу — плачет, просто навзрыд рыдает и смеется — ну и ну, и что бы это все значило! — и идет-бредет ко мне, сморкаясь и утираясь концами платка, вся трясется от слез и рыданий. Садится возле меня.
— А где Валя? — спрашиваю дрожащим голосом.
— Ва-аля… — утихает она с таким видом, будто я утешила ее совсем. Вздыхает и смотрит на меня и на книгу. Вдруг снова начинает рыдать и сморкаться.
— Я ведь ее ро-ман… прочла.
Прочла, значит… Господи!
Молчим и глядим в стороны. Она знает, что нельзя было читать, верно, Валентина прятала этот роман в щели, под матрас, ночью не спала, думала, куда спрятать бы этот роман подальше, с собой на пляж таскала, и в лес, и в кино — всюду, но мать подстерегла ее, когда она вдруг уехала, нашла и прочла.
Снова плач:
— Нет, ты прочти только! Прочти! — вздыхала. — А может, она тоже… поэтессой будет? (Это значит и деньги получать станет, да не такие малые деньги, а работать не так уж сложно, не лес валить!) Ты бы тоже прочла.
Я вздыхаю. О, как не хочется говорить и всячески объясняться, уж лучше с собакой сидеть в доме, уж лучше уйти подальше.
— Не хочешь… Говоришь, что… Осуждаешь, что я прочла, да? Нельзя чужие тетрадки читать, а я вот взяла и прочла, потому что дочь она и должна я с ней возиться еще! Я за нее отвечаю, да и не то все это, не то, что тебе говорить.
Ясно, что мне говорить все это незачем. Так вот сидим, вздыхаем, и про себя каждая все понимает, а может, и накручивает лишнего — что накручивать?
Так все странно: знаем, что этот вот Бобриков, который исчез, пропал, уехал, этот великолепный Бобриков витает тут, существует и долго будет существовать. И для чего читала, душу травила, для чего плакала и смеялась? Могла бы и подождать Валю, а теперь она так наэлектризована всем прочитанным, что ее не остановить, не утешить, она думает только о том, что там пишет и делает Валентина, что с ней дальше будет. И говорить может только о том же самом Бобрикове и Вале, о том, что Валя страдает.
И мне кажется, что Валя страдает безмерно, что она не на шутку взвинчена и все делает себе во зло, что ее собственный роман страшнее того, что она пишет, и нет в ней той силы и смелости, простой трезвости, которая нужна для того, чтобы одержать верх.
И тут с шумом, звоном, смехом и криком, падая на забор, смеясь и поднимаясь, влетела Валя на велосипеде, а у ворот остановился велосипедист, ее провожатый. Они были мокрые, разгоряченные, радостные, совсем не такие, какими мы их ожидали, совсем не те, о которых мы скорбели и печалились, другие приехали, и Валя кричала:
— Мама, мама, он такой… такой… — смеялась и не могла выговорить дальше ни слова.
— Кто?
— Прекрасный, теплый…
— Кто?
— Он только вот тяжелый и толстоват…
Мать перевела глаза на велосипедиста.
— Кто? Ты говори.
— Его немножко переделать, — и Валя провела рукой по коленям.
Мать стала вдруг совсем багровой:
— Ты говори толком.
Валя уже поняла, что она морочит матери голову, и продолжала нарочно, продолжала уже подыгрывать тому, что мать предполагает.
— Он вот такой, — и она развела руками, — он хороший, добрый зверь, зверик, по прозванию тулуп.
И снова она смеялась от всей души, сморкалась, слезы капали из глаз.
Потом она вытерла глаза и сказала:
— Тулуп дядя Федя продает — хороший тулупчик и не очень дорого, правда. Я его сейчас привезу, покажу. Хороший зверик и новый, мягкий совсем, да? — И она стала ластиться к матери, как ластятся все дети, особенно девочки, которым, знают, купят игрушку, непременно ее купят и подарят, стоит только попросить, стоит только приласкаться и стать хорошей-прехорошей дочерью.
И она ластилась.
— Тулуп, — тупо сказала мать, — какой тулуп?
Валя махнула рукой своему велосипедисту:
— Привезешь, а то у меня уже солнечный удар будет.
Тот кивнул и исчез.
— Тулуп, — повторяла мать, — а сколько дядя Федя хочет?
И Валя сказала сумму не очень великую, вполне сносную.
Они обе сидели совершенно спокойные. Валя и не подозревала, что происходило только что.
Через несколько минут они рядились в тулуп и меня приглашали смотреть, мерить его и оценивать — стоит ли брать или нет, хорош или нет.
И тут появился Бобриков, в тот миг, когда Валя, облаченная в тулуп, вертелась на лужайке, и ее мы оглядывали, оглаживали, смотрели, как сидит — что в спине, на плечах, рукава? И оказывалось, что хоть и великоват тулуп, да хорошо ей, и она в нем такая славная, будто зверюшка, и Бобриков оценил это, а мы, как нарочно, подыгрывали.
Только что Валина мать рыдала, что Валя пишет роман, разыгрывает его, размазывает в тетрадке, делает все не то, и вдруг все забыли, и сцена случилась сама собой, как по сценарию: все наоборот, накал страстей все нагнетался и нагнетался.
— Вот какая у нас Валентина!
— Прямо картинка!
— Вся из модного журнала.
— Какая красотка!
Это говорили и Наталья Ивановна, и я, и мальчик, что привез тулуп, и даже Иван Иванович и его жена за заборчиком. А Шаня лаял громко и пытался проникнуть в наш двор.
И Бобриков согласился:
— Да уж Валечка хороша, да, хороша…
И тут Валя сняла тулуп, бросила его небрежно, отвернулась, и все спохватились — чего ради подыгрывали роману? Только что обрадовались, что она будто сбросила с себя всю свою влюбленность, всю эту канитель — каталась на велосипеде и думала про тулуп, даже разыгрывала нас, и вот, как только все пропели ей свои песни, так снова она погрузилась в этот поток своих страстей, разогретых нами.
И снова Бобриков сказал свое:
— Ва-а-лечка! — которое, все знали, только сердило и взвинчивало ее, да и нас тоже. Это «Ва-а-лечка» как бы зачеркивало все ее настроение приподнятости и радости, все его похвалы и то внимание, которое он обратил на нее.
Тут громко залаял Шаник, звонко и слезливо. Тут все разбрелись в разные стороны, и одиноко остался лежать тулуп, а мальчик за забором тоже оттолкнулся от калитки и уехал.
— Ну давай, — сказала Наталья Ивановна, — купим тебе тулуп, ладно?
Валя не отозвалась.
— Ну что ты? Расхотела?
Валя пожала плечами.
— Говори же! — вскипела Наталья Ивановна.
— А что говорить, — сказала Валя.
— Да берите, не думайте, — сказал Иван Иванович.
— Возьмем?
А Валя уже ушла.
И скрылся Бобриков. Он у себя в комнате скрылся, окно открыл и лег на диван — хороший диванчик, включил приемник — тихо-тихо. Он всегда включал тихонько, за что и любим был хозяйкой и всеми нами особо, но не Валей. Валя любила и музыку, и все, что от него исходило, любила слышать его, одного его, а все кругом мешали, и то, что он один делает, уже не было слышно.
— А что я скажу, — вдруг выглянул Бобриков, — на базаре грибов полно, да каких! Приглашаю за грибами съездить на катере. Что, Валечка? Наталья Ивановна?
Валя встрепенулась сразу, выбежала, будто вылетела из окна.
— Да, да, поедем!
— Иван Иванович, мы за грибами поедем! Вы хотите?
— Да можно, — отозвался Иван Иванович, и Шаня взлаял.
* * *
Все думала, что такое отдыхать? Потом поняла — это значит радоваться. Только и всего. Радуйся дома, радуйся где хочешь, веселись на полянке, на озере, в музее, в библиотеке, у кого-то там в гостях, в бане, радуйся, сидя в тесном вокзале, ожидая поезда-самолета, радуйся где хочешь — и отдохнешь душой.
Значит, Шаник всегда отдыхал, потому что он радовался поминутно, всегда, радовался, когда бежал полем и вдыхал запах клевера и тонкой пыльцы пшеничного поля, радовался, когда вдыхал сосновый живительный, острый дух, радовался, когда, проваливаясь в болоте, ковылял за лягушкой, радовался, когда видел хозяев, когда ел или хотел есть, радовался, когда даже защищал хозяина и его двор от охотников. Он тосковал только для того, чтобы страшно обрадоваться, когда встречал хозяев. Он радостно спал и радостно просыпался, его ничто не могло вывести из равновесия, даже наказания хозяев: он чувствовал, что это — временно, просто так и сейчас все кончится благополучно, и он вновь обретет свободу и их любовь, их желание смотреть за тем, что он вытворяет, что теперь выкинет еще.
Радоваться — это значит ни о чем не думать, ничего не ощущать совсем, кроме свободы, легкого дыхания и кожи. Есть, конечно, и другая точка зрения — есть люди, которые только и рады тому, что думают. Ничего другого им не нужно — только сам процесс размышления, только движение мысли. Таких тоже много.
Мы сели в лодку и поехали за грибами. День был прекрасный, легкий, летучий такой, так славно было дышать. А Шаник остался дома с хозяйкой, но он вырвался и бежал следом за нами, и такая у него была морда, такая страшная обида на лице, во всей фигуре, позе, что казалось, он сейчас заплачет. И в самом деле он горестно побежал по воде, нервно полакал воду, поднял морду — сейчас завоет, подвыл немного и побежал вдоль воды. Мы уплывали, а он бежал и бежал вдоль, отражался в воде, когда застывал на месте и глядел на нас.
Бежал, бежал и останавливался. Смотрел, снова двигался, и ему казалось, что он сейчас догонит нас и впрыгнет в лодку. Мы удалялись, а он бежал и бежал. Наконец он остановился и лег. Изнемог. Устал ждать и бежать. К нему подошла хозяйка и погладила его. Он машинально лизал ее руку — привык отвечать на ласку и вызывать ласку, но всей душой он был с нами. «Я бы вам и грибы нашел, и ягоды, я бы вам все отыскал. Какой лес без меня? Разве вам интересно без меня? Почему меня не взяли?.. Я вам не мешаю в лодке, я вам помогаю, я — это и есть лес, с его комарами и мошками, слепнями и ягодами, с его бурной, страстной жизнью, с его ласковыми полянами, темными трущобами, с его чистыми взгорками, где деревья стоят, будто сполохи пламени, в кустах живет и трепещет все, где я, я могу все показать, и никто другой…» И мы сидели грустные — в самом деле, почему не взяли собаку? Все он мог, и его азарт был нашим азартом, потому что нет другого азарта на свете, кроме как азарт детства, юности, детский аппетит, детская сладость бытия, детские зоркость и радость, слух, зрение. Все оно передается и приходит к другим, коли существует рядом. А оставили собаку, и напустила она на нас тоску свою и свое ожидание. Только-только приплыли назад, только-только свиделись с ним, и снова он нас оживил своей пляской вокруг. Схватил гриб, разгрыз его и понесся с ним прочь — вот вам, будете знать, как меня не брать. Я бы вам искал грибы и нашел, а теперь унесу грибы. Не будет у вас грибов. Потом он и корзину опрокинул, был побит нами и даже заперт в чулан, но ненадолго, а только пока грибы разбирали, пока пообедали. Выпустили его, и ураганом налетел он, схватил хозяина за штанину и затих — чтобы не оставил больше его. Держал за штаны и ногу хозяину не давал подвинуть: «Моя нога, мое все, что здесь».
Все это я понимала, это отождествление себя с человеком, все это — преданность, привязанность и полное переселение одной души в другую, переливание этой души и невозможность разделить и отделить чужое от своего.
Часто, так часто начинается все даже с игры, с какого-то придуманного счастья с кем-то, а кончается полным отречением от себя, таким уж уподоблением другому существу, при котором сам себя уж не сознает человек, а существует для других, и отмести ничего не может, ничего не значит без другого. Игра становится правдой, да еще какой.
Я знаю, какие животные бывают умные и проницательные, я знаю, что они ощущают, что хотят сказать. Они могут сказать, что мы уезжаем и оставляем их за несколько дней, они могут понять даже то, что кто-то мог бы покупать для кота, скажем, не рыбу, не обрезки мяса, а хорошую вырезку.
Скажем, ест кот плоховатую рыбу, а кругом смотрят старухи, как он ест неохотно, и приговаривают: «Вот бы мне бифштекс хороший дали, а то что это — все рыба и рыба». Не дай бог сказать это: кот отходит от рыбы и ложится в позе пренебрежения к рыбе — на что мне эта рыба? Я ее не ем. Я жду бифштекса. Где бифштекс? — Бифштекса нет, и кот лежит, или забивается в шкаф, или уходит совсем в глубокий скит — в такое место, где его не найти никакими силами. Все ходят и ищут кота — ищут день, а то и два. Рыба портится, рыбы нет совсем, а кот не будет больше ее есть, даже с голоду — двух дней поста, не будет, и все тут. Он даже не покажется из своего логова, не высунет головы, а если покажется, то в таком унылом, несчастном виде, будто его туда загнали, закрыли, замуровали и держат голодом. Уж теперь все будут выплясывать вокруг кота: предлагать ему рыбу, и вареное-жареное мясо, и все, что можно, но кот не станет есть все равно.
Было даже однажды так, что кот не ел месяц, почти совсем не ел, и не потому, что он был болен, не потому, что тосковал, а потому, что выстрадывал, заставлял всех понять, что он не то плебейское животное, не то существо, которое способно есть что попало. Когда все кругом будут есть только бифштексы, он обречен есть эту заваль? И даже не только это томило его, но и сознание того, что он обделен, обижен, как ему это сказали.
Зверь смотрит вам в глаза и наблюдает за вами, как ребенок, которому будто бы все известно, будто бы понятно то, что не очень понятно и взрослому. Зверю надо сказать что-то, и он говорит, будто бы даже говорит: «Я хочу есть, дайте вот то, что вы там едите… Я хочу с вами всюду, куда бы вы ни ехали, хоть в самолет или в подводную лодку, я хочу быть с вами и играть с вами». Он может сказать и более тонкие вещи, что понимает, настроение в доме бодрое или взвинченное, настроение покоя или суеты, брани или примирения. Он тоже с вами спорит, говорит, что вы ничего не понимаете, что не слушаете, что не знаете чего-то там. В разгар страшного скандала, домашнего обыкновенного скандала, пес или кот начинает просить его выпустить, или он просто нервно зевает, поминутно ест, просит есть или не может есть, только пьет и лакает.
Помню такую картину: кот ждал нас три дня из лесу, а то и больше. Ел только из чужих рук, которые его гладили, потрепывали, просто даже шлепали — ешь, некогда с тобой возиться, потом кот дождался, но все приехали мокрые, усталые и начали тут же разбирать грибы-ягоды: хоть намочить грибы, чтобы не съели черви. Разобрали грибы, залили водой, а кота хоть и покормили мало, тем, что было, но не это его заботило, а то, что все делали.
Была суматоха в доме и всякая возня: «Да помоги же, сделай, принеси, возьми…» И так далее. Кот тоже совался всюду. Мы все — кто проливал что-то, кто подтирал то, что пролили, кто просто сердился и ничего не хотел делать от усталости, словом, просто возились. И он тоже помогал, помогал и был доволен, что все дома, все вместе, теперь уж не будет тоски без людей, теперь можно и поесть, поспать, придержать лапой людей, чтобы не ушли. Так он часто делал: придерживал лапой, когда знал, что вот-вот уедут. А он это всегда прекрасно знал и чувствовал: теперь уезжают совсем, но иногда ошибался — уезжали не совсем, тогда он радовался вдвойне. Теперь он суетился — все суетились, и он. Грибы выложили в большой таз и залили водой. Они всплыли, и получился плотный настил из грибов. Кот не разобрался. Он суетился и пошел по грибам. Решил пробежать по ним. Не понял, что вода и что грибы просто плавают. Он провалился в грибы двумя лапами и обиделся, когда вымок, когда чуть не захлебнулся, когда вымокли даже усы — он очень берег свои усы и ел осторожно, чтобы усы оставались сухими и чистыми. А тут его еще и прогнали и нашлепали слегка, чтобы не совал свой нос, куда не следует. Он очень обиделся и ушел, правда, скоро вернулся, чтобы снова помогать и пробовать все на свой лад. Этот лад ему достался тяжко. Он мылся и обсыхал весь вечер, но не терял надежды все узнать. Его пьянили запахи леса и чистой воды, откуда привезли и рыбу, которую он не ел совсем, но нюхал с великим любопытством и счастьем. Все-таки это была, с одной стороны, рыба, которая, по его глубокому убеждению, принадлежала ему вся, родилась только для него, а с другой стороны, она была и знакома несколько, потому что его — маленького — брали на дачу и там он с неохотой и презрением ел эту рыбу, хотя всю жизнь предпочитал только мороженый хек и треску, то есть довольно примитивную рыбу, морскую, вымороженную и даже не слишком свежую.
Потом он снова нюхал грибы, ягоды, цветы и пытался вынюхать то, что спрятали в холодильник, но ничего не узнал, ничего не мог поделать с холодильником, только мог снова пройтись по грибам, но уже не шел. Понимал. Помнил, что вымок.
Когда все страсти угомонились и все заснули, кот тоже заснул, перетрудился совсем, устал умываться и помогать нам.
* * *
Мне оставили Шаника. Ушли в гости и оставили. Не то чтобы поручили — смотри, приглядывай, а попросили, чтобы он не убежал следом за ними.
Он сначала веселился, прыгал, кусался, заворачивался в половик, а после захотел выйти из дому, стал скрести лапами дверь, а дверь и не велено было открывать и его выпускать, потому что удрать он мог следом за ними, а этого и нельзя было допускать, потому что они пошли к соседям, и он там бы всех измял, зацарапал, а там гости были, дети из города приехали, торжество — к матери приехали. Вот и просили Шаньгу держать в комнате да не пускать. Как только Шаньга понял, что его не выпускают, держат тут, так совсем приуныл: заскулил, завыл, стал царапать двери, крутиться волчком, хватать меня за ноги — пусти, мол, пусти! Потом смочил все половики от волнения и тоски, потом кинулся к окнам, стараясь вспрыгнуть и выползти оттуда. Я гоняла его, уговаривала, пыталась кормить, но он даже и не поглядел на пряник и сахар, которые в прежние дни съел бы сразу, не разглядев даже, что ему дают. Тогда я и колбасы достала — заветной, копченой, но он и колбасу не стал есть, а повернулся носом к двери и застыл в такой позе.
В этой суматохе, в этой тоске его, в легком, уже безнадежном поскуливании было столько страсти и страдания, что оно и меня охватило. Что делать — я была тоже в страхе, — что же, что теперь будет? Где все? Где домашние, где сам дом? Не дом, а сарай без хозяев. Это уж после мне объяснила хозяйка, что запирали щенка в сарае за всякие провинности, и сидел он там один в такой же позе скорби и раскаяния: «Больше никогда не буду гонять чужих кур, не буду сгонять наседку с гнезда, не буду катать ее яйца, из которых вот-вот должны были вылупиться цыплята…»
Так и тут мы с ним затосковали смертной тоской, пока не пришли домой хозяева — мне пришлось даже бежать из дому и оставить Шаньгу. Но он отчаянно залаял мне вслед, так завопил, что я вынуждена была вернуться и взять его с собой на берег. И там, на берегу, он несколько оттаял, отошел, стал лакать воду, бегать вдоль берега, даже хватать и кусать песок. Плавал за палкой и кидался за камешками, что я в рассеянии бросала в воду. Но он не уставал ждать, хоть и был мал.
Животное, прожившее около человека много лет, понимает всякое слово, всякий жест. Даже коты, которым так отказывают в уме и привязчивости, тоже. Говорят, что коты привыкают к месту, а только собаки к человеку, но коты тоже привыкают к людям, они знают, что такое человек-хозяин — существо, которое кормит, разговаривает и даже иногда ласкает, любит. О, они это знают. Но Шаня был еще мал, ему было все равно, к кому пристать, он искал еще объект любви и обожания и был так полон сил любить, что даже меня готов был полюбить, но вдруг издалека он услыхал, заметил, что хозяева двигаются к дому. Слышен был только очень тихий голос, кашель даже. Он тут же сорвался с места, весь стал стальным и помчался от меня. Зря я пыталась остановить его, удержать, он мчался, летел, снова распространяя радость и обдавая меня этим счастьем, летел бомбой, и вдалеке я видела, как он накинулся на хозяина, на хозяйку, с каким диким воплем блаженства встретил их.
Он кричал: «Дорогие мои, любимые, милые, вы вернулись, и вернулся дом, очаг, тепло и ласка! Я за вас готов в огонь и воду, я за вас…» Он пел романсы любви.
Я знала, что он может теперь даже стать смиренным и послушным, будто облачко; так и случилось: вечером, когда хозяин балагурил и потел за самоваром — пришли они оба сильно веселые, — Шаня лежал на ногах у всех, лежал тихо и спал-дремал блаженным сном счастливчика, который после больших утрат обрел-таки дом, уют и покой. Он лежал и спал, только иногда вздрагивал и повизгивал во сне.
Что ему снилось? Чего он боялся? Вернее всего, он боялся того, что уже было утром, но сладкий сон его и все, что он выражал своей довольной и тихой миной, не вязалось с повизгиванием. Да что там говорить — рад был пес, и все тут. А что кому снится, никто часто и не вспоминает после. Может быть, он от радости скулил — так ведь тоже случается порой. Как бы там ни было — вел себя пес весь вечер и даже следующий день вполне прилично. Не хорошо, а прилично, был он послушен и ластился к хозяину, как ребенок.
— Добрая собака будет! Добрый пес…
— Да, хорошая собака, — говорила я.
— Послушная стала, щенок еще. Подрастет, так будет пес.
— Хорошая собака.
— А вот был у нас пес — уток приносил.
— Где же он?
Хозяин молчал.
Поняла, что не хочет рассказывать о том, что подох пес.
Господи, до чего люди привязываются к животным, до чего отождествляют их с людьми.
Шаник не был голодным, но всегда мне жаловался и подносил пустую миску: вот, мол, смотри, не дают ничего, даже воды и молока не дают, жалеют… А хозяева не жалели, они просто не хотели перекармливать щенка, чтобы не был тучным и неподвижным, чтобы не был глупым и нюха не потерял.
А Шаня жаловался: «Жадные какие, вечно миска пустая, вечно ходи и проси. Два раза в день кормят, и то не очень много дают. Я бы в три раза больше хотел, да вкуснее…» А уж я Шаню подкармливала, конечно потихоньку, подкидывала ему и булки, и молока, колбасы и мясца, коли случалось. Шаня и картошкой, и грибами не брезговал, не пропускал и ополоски от еды, даже салаты ел от азарта доесть то, что все ели, а ему не дали. Однажды Шаня и винца отведал — сунул нос в миску, куда слили из рюмок, и глотнул, но не понравилось ему — долго очень чихал и головой вертел. А рассказали мне, что он, Шаня, назван был Чангом, который видел сны и пил вместе с капитаном, был таким, как хозяин, но из нашего Чанга не вышел тот необыкновенный пес, в честь которого его назвали, из него должна была выйти добрая собака, а пока что вышел добрый щен, непослушный и суматошный.
И имя его быстро трансформировалось из Чанга в Шаньгу, а из Шаньги превратилось в Шаню.
Чудаки хозяева могли только мечтать о том, чтобы из Шани вышел добрый пес, на самом деле должен был быть пес-чудак, такой, как они сами. Не больше. Так и вышло — пес становился чудаком.
Однажды утром пропали и хозяин и Шаня. Исчезли оба-двое, как говорилось в деревне. Хозяйка спрашивала всех — не видали ли ее хозяина? И меня спрашивала, и тех, кто шел с рыбалки, с озера, из магазина. Даже спросила тех, кто шел со станции и из леса. Никто не видал хозяина. Никто не видал Шаню. Они проскользнули незаметно, хотя вся деревня имела обычай знать все и видеть всех, даже тех, кто старался скрываться от людских глаз. Но хозяину удалось то, что не удавалось, скажем, влюбленным или тем, кто тихо и смиренно тащил куда-то рыбу или сети, нес домой из столовой остатки, из магазина нечто, чего не было в магазине на прилавке.
Они скрылись, исчезли, делись куда-то.
— Не иначе как хозяин пошел Шаню учить искать корни да пни…
— Значит, вкус к своему рукоделию развивает.
— Да. Скоро заставит его и пилить, и строгать, А после и лаком покрывать да полировать.
— Вот будут шедевры! Никто никогда не видел.
— Да уж, разбогатеем.
И в самом деле пришли они из лесу оба довольные, счастливые. Шаня прямо улыбался во весь рот, и хозяин тоже, потому что притащили они оба (Шаня тоже нес палку) много сучков да палок — обструганных, необструганных, корявых и ровных — много.
Хозяин говорил:
— Ну, Шаник, молодец — сколько нес, помог мне.
Шаник и правда был молодцом. Уши прикладывал от удовольствия к голове, прижимал их, передними лапами перебирал на месте и выпрашивал ласки, подачки, поощрения. Получил их — печенье да кусок колбаски. Получил, но не утолил жажду.
— Уж я ему палку-другую даю понести — несет, бежит вперед, потом снова вернется да мне ее в ноги положит — и опять вперед. Я говорю: «Бери и неси как надо!» Не несет, танцует на месте, потом отстанет, кричу: «Неси!» — вернется и несет, опять положит и снова за мной. Столько я муки с ним получил, — вдруг вырвалось у хозяина невольно, и он оборвал себя.
* * *
У Бобрикова прекрасный катер, отличный катер, веселый, резвый, весь блестит. А наш катер — каракатер, еле тащится, но идет. У Бобрикова все в порядке: и мотор, и даже брызги особенно светлые, бусы — не брызги, хрустали чистые, а у нас нет брызг. Брызги — это прекрасно, это ход лодки, бег, быстрота, а наша каракатица — сзади.
И куда спешит Бобриков? Куда мчится? Летит, пыжится? Для чего ему первому быть? Вот у Ивана Ивановича старая лодочка, старая, да мореходная, вечная. Ее дед его, может, строил, да тут и оставил. Может, она и вечна, только спрашиваем его:
— Что, эта лодка по Ладоге ходила?
— Ходила. Только на смертушку кому охота ходить?
— На смертушку?
Молчит Иван Иванович.
А лодка вся будто литая, будто из одного куска дерева долблена, и так она идет себе, как уточка, пыхтит тихонько да идет. И вдруг перед всеми в веере брызг является еще одна казанка. Лодка велосипедиста. Верно, не его, а брата-свата-деда-дяди. Но есть, и он проходит возле нашего носа, обдавая нас брызгами и удалью.
Ей, мальчишки, лихо идете! Вы, родившиеся в лодке, выросшие здесь, на лодке. У вас и стать такая — морская. У вас рыбья чешуя вместо веснушек.
А верно, почему нет у них веснушек? Совсем розовая кожа и нос румяный. Смешные, ловкие в лодке и на воде. Одна беда — много труда рыбная ловля отнимает. Одна беда — бесшабашны очень и люты от этих рыбных страстей. Люты и бесшабашны, а рыбу готовы ловить в любую погоду, даже в снег. Будут мокрыми с ног до головы, будут совсем усталыми, а пойдут проверить перемет да тихо сетью порыбачить, лишь бы рыба была.
А на какой лодке идет Валя? На лодке Бобрикова? Нет. Ивана Ивановича? Нет. На лодке велосипедиста? Тоже нет… Да она на нашей лодке! Спряталась на носу, лежит там, за кабиной не видно, лежит и руку за борт опустила. В купальнике плывет. Загорает, да еще и спит. Так нужно. Она просто для того лежит, чтобы лодка лучше шла, но как так случилось, что она у нас, а не в лодке Бобрикова? Вся в брызгах, в пене летела бы вихрем, не спала.
А Бобриков нарочно идет тихо, чтобы нас не оставить. Он может очень легко обогнать, но, видно, не хочет нас из виду упустить, и Валентину хочет видеть. А она спит на носу и не обращает ни на кого внимания. Лежит Валентина на носу лодки, а все кругом резвятся.
Было ее торжество, когда появился велосипедист.
Но стоп да стоп! Приехали? Нет, не приехали, а на блесну рыба попала — хорошая щука, большая щука, красавица прямо, больше локтя, да увесиста, да светла, золотится на солнышке. Попала щука — и померкла Валя. Щука-щука-щука! Рыба-рыбина, красавица о двух кило весом — увесиста. И все катера сгрудились, сомкнулись, сошлись: щу-у-ка. И Валя встала, и азарт напал на всех: щу-у-ка! Да хороша! Ушица! Жарить ее! Тушить с помидорами, с луком-сметаной. Да и не в том дело, чтобы съесть ее, а просто — пой-ма-ли, ура, попалась! Значит, улов будет.
Бесстрастие как рукой сняло. Все закинули свои удочки, блесны, спиннинги, и пошла потеха, радость да огорчение — ловля, великая ловитва.
Еще одна щука, щуренок-недомерок, еще окушки да ерши. Эх, судака бы хоть одного. Было, было в этих местах — ловила сама, своими руками на донки. Кинешь — и поймала судака, кинешь — и еще один. Было — давненько, правда, когда наш катер не сверкал своими лаками да всеми цветами радуги, а плыл с подвесным мотором да с брезентовым верхом, плыл тихо-скромно, уж очень скромно, да все на Ладогу приплыл и ткнулся в малиновый лес — лес из малины и земляники, из ландышей и черники. Встал носом в берег и тут, в глуши страшной, набрали полные корзины малины и земляники. Сколько ее было, поздней и сочной, пахучей и нежной. Сколько ее было, и рыбы тоже. Захотел ушицы — и вот она вам, хоть невелики окуни и ерши, а есть, хоть не очень много, а ушица, пожалуйста, готова. Больше лаврового листа и перца, лука и корешков, вот и ушица. И судаки жареные, и грибы, и брусника да черника. Лещи… Будто бы теперь их нет!
И взлетали удочки, спиннинги, будто ветки под ветром, а любовные страсти все улеглись, утихли совсем перед лицом азарта, великого азарта рыбной ловли. И Бобриков тут уже не Бобриков в чистом виде, а рыбак. Бобриков, рыбак и азартный человек, как переменили его. Сейчас он может даже жениться от азарта, может стать настоящим бойцом, даже пьяницей стать может, потому что страсти — они всюду страсти. Раз возникнув, они уже не кончаются, не иссякают бесследно, они должны воплотиться, хоть как-то воплотиться, во что-то вылиться.
И изливались страсти. Валентина уже не Валя со своими тетрадками, уже не украшение форштевня, она тоже рыбак. Ей попалась плотва, попалась одна, вторая, третья. Бывает такой клев удачливый и быстрый, как будто нарочно придуман для рыбаков, чтобы раззудить их, растормошить и зажечь своим огнем.
Ура, мы ловим! Нам попалась даже прекрасная лещиха с икрой, лещиха весом в килограмм. И все мы изменились совершенно, будто каждый, кто был собой, стал другим. Вот Иван Иванович выпустил из рук руль, который машинально полировал пальцами, и стал суматошно закидывать удочку. Все ловили, все радовались всякой рыбине — хоть махонькой, хоть большой, устали страшно, ловили до самой темноты, когда уже и поплавков не видно стало и луна показалась из-за веток, тогда утихли, угомонились, спать легли в катера, да у костра.
И поднялась луна.
* * *
Туман садится на озеро. Только холод и сырость утра, боязнь простуды охладит тебя, хотя кто скажет, что тебе страшно? Иной раз в тепле дома, духоте, жаре и работе чуешь сквознячок легонький: вот ноги мерзнут, вот сам весь ознобился, замерз — вот-вот он грипп, кашель непрестанный, подлый, вот совсем заболел, а тут, в холоде утра, промерзший в катере с ночи — холодно в катере спать, — и ничего, ничего в холодной воде, в тумане — тепло, жгуче, даже прекрасно. То замерз, то согрелся, то от жары совсем растаял, как снеговик.
* * *
А Валя, Бобриков и велосипедист идут себе по берегу в тумане, идут-бредут, проверяют донки. Нет судаков да лещей, нет совсем, только они не унывают. На них нашел ладожский лед, некое состояние особое, светлое, необыкновенное утишье, когда все прекрасно и ладно. Хотел бы увидеть нечто — замки, картины, утварь дорогую, вазы, мрамор и прочее, а поглядел на простое дерево, которое вдруг золотится на солнце, сосну плавную, текучую, змеиную, поглядел на озеро, попил воды из ключа и понял, что здесь все такое первозданное, не сохраненное, не возрожденное, а естественное, что вот тебе и Лад, Ладога. И этот туман, что рассеялся вдруг, растаял и исчез совсем, остался только у Вали на голове и плечах. Э, да это настоящий пуховый платок, тот, что называют оренбургским, невесомым. Поняла я, он из облака и тумана и соткан, он весь из искр, из радости светлой воды, из пуха одуванчика, только и всего. Он призрачный, невесомый. А Бобриков, этот цивильный Бобриков, этот поклонник всего искусственного (кроме искусства, ахти и искусства тоже в его броской, съедобной, сдобной, скоромной форме), вдруг надел на себя ватник, засаленный ватник велосипедиста, замурзанный ватник. Он щегольски накинул эту рыбацкую принадлежность, так непринужденно, так ловко накинул, будто это замшевый пиджак, будто это прекрасный смокинг, и он сейчас пойдет на прием к… ну, все равно к кому, все равно куда, а идет он в лес за грибами, за малиной и земляникой, за черникой и голубикой. Идет себе и идет, а велосипедист идет в роскошном свитере, красивом, длинном свитере. А Валя летит облаком, туманом в своем невесомом платочке из чистейшего пуха.
* * *
И вернулись все с грибной ловли, с грибной охоты, сбора ягод; ох, довольны все, и пуще других — Валя. Она — как малина сама, раскраснелась, вся в поту — ела малину, да собрала же ее полную корзинку, полнехоньку. Недаром она здесь живет, недаром на Ладоге выросла да с детства в лес бежала за матерью — привычна к лютой работе, хоть и хочет романы писать, хоть и приладилась к литературе, уже ушиблась этой литературой, а руки сами собирают, знают, как это все делается просто, привычно, будто без ее ведома работают, пока корзина не станет полнехонька. Пройди за ней, и под листиком малины нет, и ягодины во мхе — чисто. Так приучена.
А велосипедист? А у него почти что пусто. Он ничего не собрал. Он грибков наломал маленько. Беленьких, да красных, да подберезовиков. Он палку отстругал, да и теперь все строгает. Не мужское, не рыбацкое дело ягоды собирать.
А Бобриков? А Бобриков тоже много собрал. Ох, много. И малина тут, и черника, и грибки в бересте, да и зеленая брусника, да и голубика. Все вместе, хоть и переложено берестой, листом, да все вместе. Городской человек! Привык собирать все, что попало, а не набрать, так лесом дохнуть, мохом, прелой землей. Не очень привычен собирать, да еще, видно, привык, что жена — мама — кто еще разберут всю эту мешанину дома сами. Он так собирал следом за Валей да глядя на ее проворство. Или обедать привык, а не по лесу до ночи? Да! Отощал Бобриков, оголодал. Воду пьет, на нас глядит — что наловили да сварили? А мы наловили, а мы сварили. У нас все готово и даже есть немножко хлебнуть перед ухой. Это непременное условие.
И поел Бобриков. Хлебнул, отошел от своей усталости. Растянулся на ватничке. Блаженство. Его совсем разморило, да и все хотели поспать в тепле, в светле.
А, хорошая погода Ладоги! Вот оно — счастье. Не очень балует погода, не очень балует, и сегодня есть то ветер, то холод. А вообще только на канале и есть затишки, за ветром, за лесом — тишина да благодать. И заснули в тепле…
* * *
Проснулись. Сердитые. Валя спрашивает:
— А где мой платок?
— Нет! Утопила, по ветру улетел. Он ведь легче воздуха, а ты в нем, как Ремедиос[1], можешь улететь на небо…
Нахмурилась: не знает, кто такая Ремедиос — раз, испугалась — вдруг не отдам, сердита, потому что пить хочет, вообще домой хочет, устала.
— Где платок?
— Да спрятала в катере. На костре прожжешь.
— И то правда, — говорит Бобриков. — Вещи беречь надо.
— Уважать, — вставляю я.
— Уважать надо, а костер не горит.
— На жаре костер жечь нельзя. Вот плитку в катере разведи да чай кипяти.
— Пить…
— Из родника надо.
Напились да снова воскресли, обрадовались. Снова потек азарт ловли — ловитвы переметной, вечерней, обязательной.
И тут отличился велосипедист. Уж он-то решил показать, что и как ловится. Надоело ему все остальное — лес да грибы, всякие там малины-черники. Решил показать класс, да и уехал как вихрь на катере.
А Иван Иванович тоже ягод собрал и палок принес…
А Бобриков? Остался без ватника. А Бобриков уже без всяких там психологических нюансов. Он больше не поэт, он не поклонник. Да разве он был поклонником? Когда это был? Он кто? Хозяйственник? Директор ателье? Кандидат наук? Он бывший муж? Еще раз не желает быть мужем даже прекрасной Ремедиос, даже Василисы Прекрасной, он — Бобриков, он не рыбак, не грибник. Пусть Ремедиос летит на небо, пусть она делает что хочет, идет в лес с велосипедистом, идет куда ей вздумается. Он тут у них случайно, ему это все на-до-е-ло. Надоело. Ко-нец.
Да и всем надоело на поляне, на канале, в лесу. От отдыха надо отдыхать тоже, причем дома, в тепле, у себя на кровати, со своими книгами, приемничками, подушками, чаями. Можно и водицы увезти, ягод, грибов, только домой, до-мой.
И уехали.
* * *
В каждом щенке, как и в каждом человеке, живут разные существа — то суетливые и вздорные, то углубленно-сосредоточенные, то живые и радостные, то вдруг буйные, и кажется, будто кто-то их колдует и заставляет делать нечто несусветное вдруг, ни с того ни с сего.
Так и Шаник — вдруг до того разрезвился в один прекрасный день, что и рассказать невозможно. Утром пришли охотники и принесли уток. Иван Иванович долго говорил с ними, сердился не сердился, а просто был угрюм, потому что утки ему самому были много симпатичнее, чем охотники, эти странные люди, пропахшие дымом и водкой, рьяные, усталые, злые от усталости, от бессонных ночей, проведенных у костров, усталость вещь опасная, в последней усталости человек совсем теряет власть над собой и прямо пьянеет. Он несет все, что ему приходит в голову, делает хаотические движения и может наделать всяких нелепостей, потом проспится и вновь обретает равновесие и покой и в таком виде кажется совсем другим существом. И эти люди были очень усталыми и странными для хозяина, потому он и говорить не хотел с ними, а они старались то его напоить остатками вина, то подарить утку, которую хозяин совсем не хотел брать: знал — савук, который рыбой сильно пропах, вкуса в нем меньше, чем в щуке, а щука по крайней мере просто рыба, от нее ничего, кроме рыбьего духа, и не ждут, а от утки ждут жаркого, мяса, вкусного мяса, а она обманывает это ожидание, и потому ее и не хотят жарить.
А хозяин, правда, не ждал, он просто не хотел с ними быть в каких-то отношениях и пускать их спать не хотел — знал, что они ему нарушат весь его уклад жизни — свои радости, работу и то, к чему он привык. Например, ложки его растащили по двору, колотили по заборам — так их научили пробовать ложки на прочность, колотили и приговаривали:
— Хороши! — (То есть не разваливаются от удара.)
Шаник уловил это недовольство хозяина и заметался по двору, заюлил, забегал. Стал отнимать ложки, подпрыгивать, повис на рукаве ватника, потом вдруг кинулся на другого, на третьего, сделал такой прыжок, что один сразу рассердился и будто хотел ударить собаку, та отскочила и оскалилась, зарычала, как взрослая, кинулась на охотника да и куснула как надо. Хозяин схватил палку, ударил сильно Шаника, да попал ненароком, а может и нарочно, по ноге охотнику, а Шаня будто того и ждал — вцепился в другого, и сделалась страшная кутерьма во дворе. Хозяйка кричала, все кричали, прибежали и другие псы — лаяли, кидались на охотников, защищали свою территорию, — ужас что получилось из всего этого, и кончилось тем, что сердитые охотники просто бежали со двора и из деревни, бежали с позором — отступали, как в бою, бежали, хотя желали только отдохнуть в деревне.
Шаньгу закрыли в сарае и долго держали там, и он не скулил, не просился — молча сносил это свое заключение только потому, что знал, что виноват и казалось догадывается: надо дать остыть хозяину. Но он и хозяину не хотел простить то, что сильно попало ему — не по вине. Потому он и был оскорблен, но и понимал, что не совсем виноват, что хозяин ему простит, да и сам прощения будет просить у него. Так и вышло.
Вечером варили мясо и, когда выпустили Шаню, дали ему столько сладких хрящиков, костей, обрезков, что он и за всю неделю не надеялся съесть. Угощали его и даже приласкали. Ссорились хозяин с хозяйкой, говорили, что не надо так обращаться с собакой, ровнее надо бы… И Шаня радостно взглядывал на всех — одобрял эти разговоры, понимал и хотел всем своим видом сказать: «Правда, правда не надо! Но я понимаю, что вы все хорошие, я все равно вас люблю…»
* * *
Бывают дни радостные, особенные, ладные такие. Можешь сказать: от Ладоги лад-ладность идет, можешь сказать, что от свежести, от того, что отдохнул, еще что хочешь — от витаминов там, малины-рыбы, но так-таки и не узнаешь толком отчего. Иной раз кажется — понял, но все это только догадка, проблеск, момент, который вдруг исчез, забылся совсем. Всем на свете правит некая невольность, противостоять ей не всегда удается.
А бывают дни суматошные, ужасающие по своей общей неразберихе и сумятице, когда все плохо и все ужасны.
Вот в такой день, когда набежали, налезли охотники, рыболовы, когда Шаню высекли и заперли, когда мы вернулись и Валя обнаружила, что ее тетради брали, читали — кто? Кто? Мать-отец-я? К-т-о? Когда Бобриков перестал быть поклонником, когда от усталости и ветра и погода переменилась к худшему, когда Валин отец явился пьяным, ужасным, тогда все вдруг будто рассорились, говорили резко и тоже пьяно, будто все разом потеряли толк совершенно и смешались в клубке этого нервического состояния.
Бобриков закрылся у себя и включил магнитофон громко, для себя ужасающе громко, а Валя кричала на мать, кидала из окон книги и клочки бумаги, а Иван Иванович собрал мусор и листья и поджег их, а ветром стало тянуть дым ко мне в комнату, и было это ужасно, просто страшно и надо было уехать, просто уехать от всей этой свежей свежести, от цветов и малины, ладной Ладоги, от рыбы и катеров, купаний и прочего. Надо было скорее уехать от них от всех. И Бобриков тоже так решил или нет?
В такие дни особенно сердит и зол, особенно нелепым кажется все и таких, как Бобриков, хочется назвать: «Этот болван Бобриков», «Этот болван…», а Ивана Ивановича: «Этот нелепый человек, для чего ему сегодня жечь мусор?», а хозяйку: «Кому нужны ее затеи с романами-тетрадками Вали?», да и сама Валя — кому она интересна?
Только что, только все было складным — и вот, поди ж ты, вдруг все смешалось. Нервы напряжены, сосуды в голове гудят. Все плохо, надо ехать от всех Бобриковых вместе взятых.
А там у Вали что происходит? Что так грохает, кто плачет-скачет?
Я не хочу разбираться в психологии, то бишь в психопатии, мне все это претит — ох, претит, совсем не желаю. Кому что взбредет в голову сейчас? Отцу побить жену или Валю, Бобрикову их развести по углам, мне вмешаться? Не хочу, не хочу этой мешанины.
Костер тлеет и стелет дым на веранду. Шаник мечется по двору, а Бобриков? Бобриков спит! Он просто уснул. О, Бобриков, святой прелестный человек. Он спит, и слышу, как стихли страсти. И почему болван Бобриков? Почему он глуп? Вот мой высокоумный друг, который постиг, постиг (а не все ли вам равно, что он постиг, антимиры или наоборот мир внутри себя?) — мой высокоумный друг желает доказать всем и свою мудрость, и свою удачливость, и свою концепцию — и уж боже ты мой, чего он не натворит ради этого, кого он только не убьет — почти что не убьет, так — сильно ранит.
Привычные словеса, привычные фразы. Они могут нас погубить совсем. Обезобразить все, что вокруг. Привычные словеса…
А Бобриков без словес совсем, но уж и без ножа в спину. Бобриков — это человек, который может сам существовать и другим разрешит то же самое. Он — тихий человек, даже истовый, и что издеваться над ним? Он вот вышел на крыльцо, бумажки подобрал, в бочку сложил — зачем бумагам зря валяться и портить пейзаж весь? Тут клумбы кругом, хозяйка чистит все, а бумажки зря валяются. Валя выбросила. Бобриков понимает, что тут происходило, что случилось, что делается кругом. Он понимает, хотя и так только, как ему этого хочется и нужно. То, что ему не нужно, он просто отбрасывает, отметает прочь. На что ему? Он и понимать не желает. Нет, умный человек Бобриков, право, умный. Все к месту у него, все как надо…
* * *
И тут явился велосипедист. Мокрый, усталый, весь пропахший рыбой — чешуя рыбья даже на губе верхней, не потому, что чистил рыбу, это не его мужское дело, а потому, что платка носового у него нет. У него усы чуть видны, а на этих вот усишках чешуя, потому и казалось, что усы седые у него.
Пришел, скинул рюкзак, сел, закурил. Вид победный. Развязал рюкзак и вынул судаков. Хорошеньких, больших судачков, небрежно вынул — положил на стол в саду. Все разахались, столпились возле него — судаки, настоящие, хорошие судачки. Вот это улов! Кормилец, поилец, молодец! Вот это охотничек, вот так удружил. А он курил-покуривал, глаза у него слипались совсем — устал, ох устал.
Все ахали, только Вали не было видно. Он глядел на ее окна, на второй этаж, и на лице его было такое выражение: то ли я еще тебе поймаю! Не в Ладоге — в океане! Весь океан будет моим — и твоим тоже. Будешь в золоте ходить, чисто серебро носить…
И Валя поняла-почуяла, выглянула из окна, вышла, смеясь, заплетая косы, закидывая их за плечи…
Судаки, судаки, в море ловят рыбаки. В море ловят рыбаки,А на речке ни черта не поймают, — сказала она.
О Валентина! Быть тебе поэтессой.
О Валентина, такие страсти, такие перепады настроений, такие восторги и смещения — это только поэты могут себе позволить, только артисты, только художники в широком смысле этого слова. Быть тебе поэтом. Что ты там написала, не знаю, только все равно — быть. Может, выйдешь вот за этого велосипедиста-рыбака-радиста, будет он плавать, а ты ждать и стихи писать, может, выйдешь за Бобрикова — тогда уж чур, не быть поэтессой, а только женой, коя детей растит, немножко подрабатывает где-то там в магазине, в аптеке, парикмахерской. Выбирай. Бурная, страстная, тяжкая жизнь поэта — то взлет, то падение, то удача, то нет, страсти, горести, радости и прочая, прочая — или тихий быт, уют, потребление прекрасного, потребление стихов, книг и всего такого. Хождение в театр, или в музей, в кино — или создание этого всего. Что хочешь — выбирай…
* * *
Читать лежа полезно. Очень полезно лежать и почитывать. Тут все жужжит, кусается, комарится и крутится вокруг тебя, а ты лежишь и читаешь запоем, чтобы забыть после все, что прочла, все, что тебе так нравилось, увлекало за собой в острую, пряную, яркую даль сюжета, великолепного сюжета, который уже даже и не тот, что тебе угоден, а будто тобой придуман в процессе чтения. О, сюжетец, прелестный сюжетец, особенно детективный сюжетец, когда подложена бомба и должна взорваться, а все не знают, что она вот-вот взорвется, не знают, только ты знаешь, знаешь, или лучше — кто-то убит, кого-то ловят, все улики даны тебе, читателю, и ты, читатель, должен по этим уликам найти преступника, найти во что бы то ни стало. И ты жаждешь найти, ищешь, и находишь, вот-вот уже решил кто, нашел совсем. Можно решать это, как задачу. И тянет эта задача, ее логика. Нашла! В детективе пленяет логическая задача, ее хитросплетение и радость решить самому это, шевельнуть мозгами. Вот и радость, вот и восторг соучастия в решении. Презирать детектив нет смысла, как и вообще нет смысла что-то там презирать, хоть и Бобрикова, с которым мы встретились в электричке.
И он так любезно уступает мне место, я отказываюсь, потом мы долго торгуемся, разыгрываем сцену высшей любезности, когда все перемещаются и сажают-таки тебя почти себе на голову, то бишь на колени или, вернее сказать, на жердочку, как воробья, и сидишь — мучишься этой любезностью, сверхлюбезностью.
Поразительно, как люди — одни и те же — сначала кидаются в электричку, цепляются, толкаются, кричат всякие громовые слова, потом стихают и начинают быть молчаливыми, а после, когда воздух, и спокойная езда, и некая разрядка в столпотворении наступает, то становятся не просто любезными, но архилюбезными и сажают тебя на краешек, на жердочку, чтобы непременно сидела, а не стояла.
Так и мы с Бобриковым сидели и читали. Он — изящную вещь из иностранки, а я — детектив, примитив, прелесть, про девицу, которую запутывали в убийство и до того запутали, что она сама была готова поверить, что убила во тьме сознания.
А Бобриков и разговор вел изысканный, про то, что Иван Иванович режет корни со вкусом, не просто так себе мастер, но со вкусом, что он не так уж прост, не так примитивен, не такой бездарный. Поразительно! Такие, как Бобриков, должны все отрицать, заставить поверить, что у них только особый вкус, изысканный, и, отметая все, тем самым утвердить себя.
Скажем, спроси Бобрикова, любит ли он сыр, он тотчас схватит что так спрашивали ханжу, и ответит, что знает Козьму Пруткова, но не любит плоских острот и прочего, что он любит, скажем, Артура Хейли или еще кого-то там. И еще Бобриков не любит восторженного, сентиментального, ничего такого-этакого и склонен к любым быстрым выводам: скажем, кто плохо моет полы, тот и плохо делает все, даже решает задачи. Ему не придется долго размышлять над тем, что и кто может: он сразу видит всех насквозь — так ему кажется, так он считает.
Мы говорим о велосипедисте, и он замечает, что у него, велосипедиста, бараний взгляд, особенно когда он глядит на Валю. Так и говорит, что тот: «Смотрит на Валю как баран» — Валентина Прекрасная задела его, он в ревности, хотя, боже ты мой, что можно сказать о таком тонком и деликатном предмете, как увлечение Бобрикова! Кто может сказать, что он — вот он — в бобочке, новой и опять модной, он, слегка склонный к тучности, он, директор ателье проката или кандидат наук, разведенный и не желающий жениться, он, веселый и выспавшийся Бобриков, который никогда не закурит, не напьется, не потеряет достоинства, он, любитель изящного чтения, противник бурных чувств и страстей, он, определивший себя, что будет жить вечно, ну, хоть не вечно, то до ста лет, объездит весь мир и увидит все галереи, все дворцы и храмы, выкупается в океане, в горах будет спать, дыша чистейшим воздухом, снегом, он, резиновый человек без возраста, без смещений, он действительно не вечен. Он проживет, и я приветствую его.
* * *
Ах, что там страсти и самосожжение, искусственное искусство, когда есть на свете трава, земля и судаки! Ведь есть судаки в Ладоге, натуральные судачки, не то что форели, которых, как индюшек, раскормили до размеров лещей разной городской пищей, от которой форели потеряли свой вкус и стали ни то ни се, даже рыбой не пахнут, а скорее индейкой, а судак в Ладоге прекрасен, пахнет судаком, водорослями, чистой водой. И утка пахнет уткой, а боровая дичь пахнет лесной ягодой и хвоей, шишками, живой, натуральной природой, которую не воскресить, только можно сохранить, а пока здесь, на Ладоге, она еще и сама жива-живехонька, ее и сохранить легко. Она жива, и велосипедист — все они, жители окрестных сел, те, кто ловит еще судачков, они все инстинктивно поддерживают это, как сами зверьки и рыба, что живут тут.
Мы все едем с Бобриковым в вагоне, читаем себе, но меня гложет вдруг мысль о том, кто же Бобриков. Кто он? И так хочется навести разговор на то, чтобы он сам рассказал все об этом.
А он не желает никаких откровенностей. Всем своим видом он говорит, что он — это он во всех своих ипостасях, и меня так и мучит мое простое любопытство узнать. Без всяких околичностей спросить, да и все. Ну и спрошу, вот и спрошу. Он глядит на меня своими телесными глазами (они будто бы голубые, а на самом деле водянистые, но не мутные, а просто цвета бесцветной воды), глядит на меня и не говорит. А я знай выспрашиваю:
— Так вы инженер?
— Не-ет, — ответ, как молчание.
— Преподаете?
— Ну нет, — ответ, как брань.
— Может — пишете?
— Пи-и-шу? — ответ, как выстрел.
— Так что же вы?
— Не что, а кто, — достойный ответ, но тут сразу возникают всякие подозрения и всякие догадки: может, вор или, напротив того, может, деятель большого масштаба, может… нет — кто в самом деле!
— Знаю, вы — скульптор!
— Ха-ха-ха, — вот так смех!
— Тогда вы, вероятно, шахтер.
— Точно, — ответ благодушный.
Так темно отвечают продавцы на курорте, когда их допекают ради того, чтобы попросить о чем-то, так они отвечают — уклончиво и со смехом, чтобы не навязывали знакомство.
А и вообще принято у нас говорить темно и уклончиво — очень хороший тон говорить темно и осторожно. Говорить-молчать — хороший тон, а сказать прямо — поди ты, разве же можно, разве так говорят! Ни в коем разе. Говорить-вилять, говорить-хитрить, отвечать вопросом на вопрос. Господи, до чего это утомительно, а сказать так, чтобы слово взорвалось, сказать нарочно — ни в коем случае.
А Бобриков говорит изысканно. Он очень выбирает слова, он очень осторожен. Ахти! Ни в коем случае он не станет откровенным, ни с кем, ни в коем разе. И он все время учит, как надо говорить — не только слова выбирать, а то недавно я в бюро ремонта сказала, что автомат не работает: «Он съедает монету!» — уж на что избитое выражение, а мне резонно ответили: «Научитесь выражаться, говорить по-русски!» — «Как еще по-русски?» — кипятилась я. «А так — выражайтесь осторожнее». — «Это для телефона оскорбительно?» — спрашивала я, но мне отвечали гудки отбоя.
Нельзя у нас выражаться, надо постоянно говорить красиво, красивыми словами, иначе не желают слушать, а уж коли пошло дело о косноязычии, то не дай бог!
Кос-но-язычие, тот непреодолимый напор слов, который готов выкрикнуть, выплеснуть, вылить, то состояние одержимости, неостановимости, род шаманства, когда что-то говорит за тебя, — это уж всем тяжело слушать, этого никак нельзя, а толково, внятно, с юмором, размеренно, просто и лучше — изысканно, как Бобриков, изысканно. Подбирать слова, подбирать выражения:
«У нас, извините, не работает автомат, он сломался. Монета… как вам лучше сказать, в некотором роде пропадает, проваливается (нет, этак тоже нельзя! Слово проваливается уже слишком сильное), она проскальзывает, а телефон не соединяет», — вот, вот как надо. А тот словесный бег, что так часто случается невольно, уже после того, как мог говорить своеобразно, веско и ясно, языком, пожалуй, изысканным, после того, что все это тебе приелось, случается, происходит сам собой, — ни в коем разе.
* * *
Итак, совсем не утолив своего любопытства по поводу того, что такое Бобриков, и зная наперед, что он такое, я все-таки утешилась детективом, простой задачей, которую решила — и решила верно. А Бобриков опять заснул, привалившись к окну. Заснул, и все тут, как младенец. И сны видит совершенно младенческие, и встает без всяких там настроений, без того, чтобы вдруг стать сердитым, как бес, или нежным, как котенок. Хотя было с ним — на речке, было, да скоро прошло, и то прекрасно, и то лучше, чем стойкие настроения гения, героя, коему все можно, все прощается. Нет, благословен будь Бобриков, право, будь счастлив…
И я дремлю… Вижу во сне речку, а на речке — бобры, их так много, они все такие блестящие, ловкие, такие все гладкие, будто стальные, такие юркие, проворные, довольные, и все копошатся, копошатся… Кто дом строит, кто грызет корни, кто плещется просто в воде — рыбу ловит. Кто приспособил себе бревнышко и катается на нем, кто лежит на песке и обсыхает, кто жует и жует… А эти детей прогуливают, те — играют. И наш Бобриков тут как тут, тоже прогуливается под зонтиком — не хочет загорать, не хочет обгореть, купается, плещется.
А это кто? Судак судаком… Да велосипедист! Худой и унылый, рыба не ловится, на солнце жарко, а рядом с ним легкой дымкой, облачком, пухом тополя — Валя, Валентина.
Летает по небу, а то туманом садится на воду, плывет… Вдруг обретает форму простой подушки, пуховика и ложится на берег, на полянку, растекается на поляне славным дымком, даже пахнет вкусно, елово, мшисто. Течет ручейком в воду, уплывает в Ладогу, в Неву, в залив, далеко-далеко, не уследить. Не то чтобы растеклась в мире и оказалась на небе, не то чтобы улетучилась совсем, а водой в кране — свежей, острой, будто корюшка, огурец, льдинка. И нет в ней ни привкуса нефти, ни болотины, ни солярки, нет в ней еще ничего лишнего, а только свежесть да цвет неба.
ДОМ БЕЗ ВЗРОСЛЫХ
Просыпалась утром, и вся свежая свежесть травы и леса, садов и мокрой земли, крапивы и теплого, нагретого солнцем пола ударяла в нос. Кожа ощущала теплую ласку каждого ветерка, веселого солнечного луча, холодка с озера, из оврага, где еще было по-зимнему сыровато и пахло снегом, но снега уже не было, и казалось, что вот-вот появятся грибы из-под старого листа, плотного, как клеенка.
Вставала и ощущала радость, шершавую прелесть половиков и гладкую гладкость чистых досок, по которым можно было всегда ходить босой и так хотелось ходить босиком: стоять в солнечном квадратике комнаты или на крылечке, где доски были уже старые, но еще сильнее щекотали пятки.
И уже слышался запах вареных яиц, особенный, тонкий дух свежих, чуть пахнущих курятником, но гораздо сильнее мелом, известью, скорлупой, которую всегда хотелось тоже съесть.
Здесь, на даче, было все вкусным и свежим и особенно прекрасно пахло маслом, молоком, чистой водой и хлебом. Боже, как пахло хлебом! Там, в городе, и лучшие пирожные, ванилин и всякая всячина не пахли так, как здесь простой хлеб, и открывались все тончайшие запахи сухих простыней, белейших, высохших до ломкой ломкости, выглаженных старинным угольным утюгом, от которого тоже шел великолепный дух березовых углей и ветерка, на котором его раздували.
Пахли волосы сеном, свежими подушками, на них спала так славно, так глубоко — одна подушка пуховая, другая жесткая, сенная, дачная, именно ее любила больше своей, пуховой, вероятно потому, что она напоминала о даче и всей этой перемене от духоты асфальта и паркета, от пыльных окон и диванов к вольному духу леса и озера.
О, какое это было огромное и небесное озеро, какой чистоты и радости, какие песок и камни на берегу, промытые всеми дождями и снегами. Казалось, что великан тащил эти камни на себе далеко-далеко, устал и сбросил их здесь, чтобы мы удивлялись, как они попали сюда и держатся. Так оно и было в самом деле: огромные камни таскали огромные люди. Каким образом? Катили? Камни громоздились один на другом, держались странным образом своими гладкими боками, круглыми и обкатанными, будто шары.
Как они держались? Казалось, встань на них или только тронь, и они покатятся в озеро, на нас, но они не катились никогда. Они стояли и стояли. На них стирали и кипятили все те же простыни, на них сидели и загорали, на них можно было карабкаться, их, наконец, можно было даже стараться сдвинуть с места, что мы и пытались сделать, но никогда они не раскатывались.
Сквозь эту груду камней открывался песок и пляжик — пустынный и чистый, маленький, но прекрасный пляжик, о котором мечтали в городе. Даже рисовали только этот пляжик и пустую прозрачность озера. Мечтали — вот проснемся на даче и побежим влажной, крапивной, заросшей тропкой к этому пляжику, к этим камням, хватая первое полотенце и первый обмылок, который в городе казался самым обыкновенным, а здесь на озере вдруг источал аромат миндаля и тонких духов, чуть пропах клеенкой, на которую был положен, и ржавчиной умывальника, но мягкая озерная вода живо смывала все старые запахи и наделяла своим запахом свежести и тины, песка и ветерка.
И открывалась сонная тишь озера, его светлая солнечная гладь, слышался скрип уключин — там, далеко, у самых камышей, плеск маленьких волн и шорох листьев.
Озеро заманивало окунуться, и знала — нельзя, холод, холод, холодный песок, но оно так блестело, так веселило одним своим видом, одним только духом, что уже будто купалась в нем и плавала, окуналась..
Надо было бы разбежаться с пригорка и влететь в озеро, как об этом все мечтала дома в духоте, разбежаться и влететь в воду с уханьем и брызгами, только знала, что надо осторожно бежать и опасаться того, что порежу ноги, или наступлю на крапиву, или еще куда противнее — на коровью лепешку, — как ненавидела эти лепехи и то, что коровы ходили тут, побаивалась их.
Озеро было еще холодное и парило в теплом воздухе, оно не прогрелось, но все равно притягивало и передавало свою свежесть и радость.
Хотелось увидеть все разом: и тех, кто приехал в поселок, кто есть здесь, и лесок, и первые купавы, и ландыши — вдруг остались еще, — мы всегда приезжали позже, ландышей почти не находили, зато какой радостью было найти последний крупный цветок, вот-вот готовый осыпаться.
Вдали уже мелькали белые панамки — чьи? Кто это? Лиля?
Кричала громко: «Лиля! Лиля!» — но панамка не поворачивалась, значит это была не Лиля или Лиля в новом своем качестве — новая, которая уже повзрослела и стала куда серьезнее, она уже не желает, как прежде, в детстве, кидаться стремглав к тебе и говорить, перебивая тебя, о пустяках или даже не о пустяках, о том, что учитель спрашивал на экзаменах, о том, что она отвечала.
Меня отвлекал от этих сомнений колодец: гулкий, яркий колодец, темный в своей страшной глубине и в то же время вдруг пускавший солнечного зайца прямо в глаза. В нем звенела каждая капля, гудела и тарахтела старинная цепь, ухало ведро и звонко отдавалось каждое слово: «Ма-ма! Вед-ро!» Особенно красиво звучали эти слова: «Вед-ро» и «Хо-ро-шо!» Можно было разглядывать колодец и сидеть возле него долго, почти позабыв о том, что пришла за водой и воду ждут и от этого — принесешь ты или нет воду — зависит обед или завтрак, умывание и прочее…
Только радость каждой травинки возле колодца, особенной, сочной травинки, напоенной водой сверх меры, каждого пучка незабудок, которые голубели тут и пышным своим цветом, крупными цветами так отвлекали от дел, что часто вместо воды приносила незабудки: «Вот, поставить надо в воду…», — отдавала своим, на что отвечали: «А где вода?»
Но все равно приносила иногда даже и мягкую глухую крапиву, чьи бархатные лапы только ласкали руки, не жалили их и не кололи, а радовали. Или вдруг возле колодца находила в канаве белую свечку ночной красавицы, пахнущую всеми цветами сразу, казалось, что она, эта ломкая полупрозрачная неженка, вобрала в себя и запах сирени, и ландыша, и даже розы, но была лучше всех и похожа только на себя, а не на розы.
* * *
Нет, там, на огородах, все-таки была Лиля, Она шла и тоже собирала первые ромашки и лютики. Это была ее манера нагибаться так стройно и ловко, будто бы она была балериной, и любила говорить о гибкости, о балете так много, говорить о том, как делать мостик, шпагат и прочие упражнения, будто она и в самом деле умела их делать лучше нас, а умела она только то, что мы, не больше. Зато у нее была плавная походка и движения статистов балета, которые ходят по сцене и принимают позы.
И она любила принимать эти позы, играть в балет, только теперь бежала со всех ног к нам и обнималась или не обнималась, смотря по настроению.
Только я оставалась прежней, такой, как была: восторженной в хороший солнечный день и не очень — в пасмурный, когда надо было натягивать на себя все теплое и все равно мерзнуть и мокнуть под дождем или торчать на крылечках, мешая взрослым и всем на свете. Я оставалась такой, как была, и бежала к Лиле с криком:
«Здравствуй!» — и Лиля поддавалась этому моему настроению и тоже бежала и кричала мне «здравствуй» и обнимала меня, но после отстранялась и показывала божию коровку, или бронзовика, или бабочку, с важностью говоря, что они, эти жуки и бабочки, полезны тем-то и тем-то, или вредны, или вредны и полезны в одно и то же время…
Я и слушала и не слушала ее разговоры, знала и не знала о жуках, только потому, что в такой ясный день у такой огромной и свежей воды так не хотелось говорить о школе, а хотелось только бежать дальше, в лес, в поле, в другую деревню рядом или просто узнать, приехала ли Рая, например, — Рая, девочка из Москвы, девочка, которая жила с собакой, частенько одна. Она была самая надменная, самая спортивная, самая молчаливая и спокойная из всех нас. Старшая… Ей соорудили собственную вышку — качающуюся доску, с которой она ныряла, никогда не пуская нас даже забраться на эту вышку.
«Упадете, не ходите», — спокойно говорила она, и мы слушались, не ходили, только любовались тем, как она прыгает, ныряет, стоит там на своей доске, тоненькая, даже плоская, высокая, сливаясь со своей вышкой, похожая на доску, будто была продолжением своей вышки.
Но Раи еще не было, а было только поломанное сооружение. За зиму, за морозы оно осело и почернело совсем, рассыпалось. Можно было бы влезать на него и там стоять, как она, но не хотелось влезать: без Раи, без ее надменного взгляда эта вышка не манила так, а манила каждая тропинка в лес, каждая чистая дорожка, и мы бежали с Лилей, мчались сквозь новые заросли, подросшие за год и спутавшие все тропинки.
О, каждая лапка папоротника и всякий новый росток из-под земли казался диковинкой, казался особенным, невиданным растением — вдруг из этой куриной лапки вырастет нечто необыкновенное, а не простая трубка тысячелистника, трубка, из которой можно стрелять горохом, или просто дудеть, смотреть на луну, как в подзорную трубу, или набирать в рот воду и обливать всех… Это все так любили, кроме Лили и Раи, кроме нас.
Но мы знали свою игру с трубками — погружались в воду и дышали сквозь трубку, как индейцы. Это не всегда получалось очень хорошо, но иногда получалось. Правда, иногда получалось и худшее — мы втягивали воду и кашляли этой водой, то есть почти что захлебывались. А главное, мы играли в индейцев и в самую прекрасную игру: как хорошо жить на свете. Мы уходили на старую мельницу, где торчали только балки и остов дома, но нам хотелось восстановить этот дом, и мы старались сдвинуть балки с места, их нельзя было и водой поднять, так тяжелы и странны были они, будто камни, то есть они и превратились давно в камни, в гранитные колонны, но мы пытались сдвинуть их. Нам и хотелось сделать из них колонны, поставить рядком и положить сверху нечто вроде портика, поиграть с ними, как кубиками, только очень громоздки были эти кубики, а мы — легки.
Нас одолевал так часто дух неукротимой деятельности, и хотелось восстановить мостки возле мельницы, хотелось сделать заново и саму мельницу или по крайней мере положить доски на пол старого дома, где была мельница, проложить дорожку к ней, вымостить ее и подвести к крыльцу, которое стояло и не провалилось, а сама мельница провалилась и совсем разрушилась.
Мы бегали возле нее с такой прытью и столь долго, что забывали о времени и о еде, о том, что нас ждут дома — мы ведь на лодке уплывали в речку, о нас могли беспокоиться наши, спохватывались только тогда, когда было уж совсем темно и сыро кругом. Бежали скорей-скорей к лодке, ведь грести надо было час, два, а мы и без того устали за день, что и сказать было бы трудно, когда мы вернемся, когда вытащим лодку и принесем весла, закроем лодку на замок, когда оправдаемся дома. Когда мы обещали вернуться? Когда это все было? Когда? Утром? Или вчера? Или вообще бог знает когда, нам было уже трудно сказать, потому что грести старались быстро и скоро устали. Ветер как назло дул в лицо, то есть не помогал, а мешал, и мы плыли и плыли до полной темноты, когда уж все озеро закуталось туманом и все деревья стали черным-черны, каждый куст казался камнем, а домов все не было видно. О, нам и не приплыть было, казалось, не найти домов, но вот загорались огоньки на берегу, манили и звали в тепло домов, где ждали и уж не сердились, только волновались за нас старшие.
В этом позднем возвращении был свой смысл: дома уже только радовались, что живы и вернулись домой.
Каким блаженным теплом и радостью казались теплые сени и славное тепло комнаты, где пахло картошкой и луком, свежими огурцами и чаем, самоваром; как хотелось есть и спать, скорее спать, чем есть, спать, спать на теплых простынях — долго, уплывая все так же в светлую даль озера и погружаясь в его великолепную огромность.
* * *
Рая приезжала всегда тихо и внезапно, будто бы ночью или из-под воды: так она плавала часто вечерами и ночами под водой, затаив дыхание, и мы с тревогой и страхом считали вслух: «Раз, два, три» — сколько же она может так плавать — час, два, кто знает, как она там дышит — жабрами? На самом деле проходили всего минуты, пока она плыла под водой и не дышала, всего-то две-три минуты, но нам казалось — вечность.
Далеко-далеко появлялась ее голова над водой, и мы вздыхали с облегчением — жива; мы вдыхали воздух вместе с ней так глубоко, будто плыли тоже (мы и пытались, как она, погружаться с головой на долгое время, но со счетом двадцать выныривали так стремительно, что мальки кидались врассыпную, будто мы могли их раздавить).
Мы смотрели, как плавно и ровно она двигается, как идет из воды, улыбаясь нам своей надменной улыбкой, усталой, но вполне счастливой. Она не перекупается, как мы, до синевы, идет и даже машет нам рукой: «Плавали? Тоже плавали?»
Да, мы тоже плавали, как плавают утята. Мы плавали и ныряли до тех пор, пока уши не закладывало совершенно, пока нос не становился синим, пока не сводило скулы от холода и все тело не становилось будто чужим, мы купались до того, что уже и руки и ноги немели, вкус воды оставался во рту и в носу, ломило все тело; пока взрослые не старались нас вытащить силой, мы все купались, плавали, ныряли, погружаясь с головой, мы даже тонули иногда.
Рая никогда не тонула, не говорила лишних слов, не делала лишних движений, да и мы, сказать по правде, не всегда делали их — эти лишние движения. Она была отстраненная и не то чтобы пренебрегала нами, не то чтобы избегала нас, но была просто отстраненной, чужой и молчаливой. Она была хорошо и ладно воспитана, настолько ладно, что вполне могла существовать, жить одна на даче, что нас пленяло больше всего, заставляло завидовать и удивляться, как это ее, в тринадцать лет, оставляют совсем одну, совсем одну на даче — не надолго, не на все лето, но оставляют, ее, которая так много плавает, ныряет, так может спокойно уехать на лодке на целый день и исчезнуть совсем из дома, — оставляют.
Собственно, мы повторяли слова взрослых, мы повторяли то, что говорилось дома: «Странно, что ее оставляют, странно и опасно, потому что она не взрослая и не может сидеть дома одна». Говорилось, что само это одиночество может ее заставить делать всякую ерунду, но, как ни странно, ерунду делали мы, а не она. Рая была уже воспитана раз и навсегда, по крайней мере достаточно воспитана для своих лет.
А у нее тоже бывали разные воспитатели, да, были и бабушки, которым хотелось, желалось вдруг ни с того ни с сего приехать к ней на дачу и быть с Раей, которая легко и просто воспитывала их, бабушек, настраивала на свой лад и делала, что ей хотелось, говоря, что она все равно будет плавать и не будет есть пирогов, которые пекла бабушка, или привозила, или сооружала из старых сухарей и сахара, тертых зеленых яблок и вина, она прикусывала эти пироги и оставляла на страшную обиду бабушек и тетей, которые так старались для нее. А она привыкла есть только простоквашу и молоко, сухари и консервы, колбасу или рыбу.
Бабушки так суетились возле нее, готовя ушицы и вареники с вишнями или черникой, а она не ела совсем эту всю их снедь и сердила их нещадно, но и заставляла слушать себя: «Мне не так уж важно, что именно я ем».
Да, мы завидовали ей, очень, очень завидовали и сердились особенно потому, что она нисколько, ничуть не завидовала нам, не думала о нас вообще, не знала, почти не знала нас. Этот ее мостик, ее пьедестал, ее одиночество — все это так занимало нас, так удивляло и даже приводило в расстройство, потому что она была вполне довольна всем.
Она читала, да, она много читала и подробно, так небрежно-углубленно, так быстро-углубленно, так великолепно читала, что казалось, будто она и не читает даже, но все равно знает.
* * *
И вот она приехала, и мы видели, что выгружают велосипед, прекрасный, сверкающий, новенький велосипед выгрузили из машины и вкатили в сарайчик — такую прелесть — велосипед… Мы так загляделись на него, что не рассмотрели даже толком Раю, которая помахала нам рукой и даже улыбнулась нам — прекрасная Рая, любимая Рая, выросшая настолько, что уж нам и подойти было страшновато, ведь она казалась всегда взрослой, теперь была взрослой. Вилась по спине ее коса до колен, ах какая коса, какие волосы, шея, ноги. И самое удивительное — плечи, грудь. Мы, все еще плоские, как щепочки, мы, все еще способные купаться в одних трусах или даже без трусов, а она — в купальнике, и этот ее теплый взгляд уже совсем взрослый и даже не высокомерный, потому что она и в самом деле была взрослой, подросшей девушкой, длинноногой и величественной, как аист.
Велосипед отвлек наше внимание настолько, что мы даже не посмотрели, что с ней приехал мальчик, меньше ее ростом и вообще младше, но приехал и разгружал вещи. У него тоже был велосипед, поменьше, чем у Раи, только был тоже, а у нас не было велосипедов, совсем никогда, даже плохих, старых, ржавых, о чем мы сожалели.
Только через некоторое время мы разглядели мальчика — какой смешной и славный мальчик, курносый, веселый, общительный и приветливый, полная противоположность Раи, но оказалось — ее брат! Брат? Столько лет его не было, и вот явился уже взрослый брат.
Да, брат, братик Саша со своим маленьким велосипедом, со своим смехом, книгами, картонками, коробками, удочками и даже надувным матрасом, латаными-перелатаными, смешными, выгоревшими шляпами, будто он был туристом, альпинистом, прошел все горы-окияны, прошел моря и реки…
Смешной Саша, никак не похожий на Раю, даже такой белокурый, что страшно было смотреть, будто он альбинос, такой голубоглазый, такой бледный, с розовым носом, такой неуклюжий рядом с ней, а она тоже как-то неуловимо стала похожа на него, особенно в улыбке и в повадках, — он оставался на ее попечении, и она улыбалась ему его улыбкой, снисходила.
Они спокойно и просто разговаривали друг с другом, будто всегда так вот жили вместе и всегда только и делали, что приезжали на дачу, это их нисколько не утомило, не привело в то несчастное и даже жалкое состояние, в котором пребывали мы, когда прибывали — будто из далекого похода. Мы приезжали совершенно замотанные, на грузовике, привозили все: от продуктов до кресел, от подушек до цветов, привозили котов и аквариумы, привозили даже то, что не имело никакого назначения — например, сундучки для того, чтобы они не оставались дома, старую обувь и всякую всячину, которая могла бы служить кому-то там — хозяевам — для чего-то. Помню, что привезли однажды елочные игрушки — правда, случайно в коробке, в спешке захватили не тот ящик, привезли, чтобы тут же отправить назад, потому что они могли потеряться и разбиться — старинные игрушки, когда здесь, возле наших мест, был завод, и где с петровских времен выдували стекло, и в том числе игрушки. У каждого в доме были эти игрушки — красивые и безобразные, старинные куски стекла под драгоценные камни, просто глыбы стекла и даже дорогие хрустали, которые отливали золотом и серебром.
Здесь игрушки совсем никому не были нужны.
Мы привозили все, а они будто ничего, только велосипеды и самое необходимое, после оказывалось, что у них все есть, а у нас только и есть, что пустые сундучки да игрушки. Мы, например, привозили самовар, чтобы однажды, дважды в лето почистить и поставить его, хотя у хозяев был свой самовар, который всегда кипел. Наши сундучки очень нравились хозяевам, и они оставляли их себе с радостью, равно как и старую обувь и всякие вещички, которые хозяйка переделывала, или носила, или плела из них половички, ткала коврики, шила из лоскутков одеяла или просто наряжалась в праздники. Например, ходила в шляпе, прекрасной когда-то шляпе, с вуалеткой: надевала ее и перчатки и выходила на огород полоть, полола мелкую травку, и руки ее оставались чистыми в этих лайковых перчатках, а в праздники наряжалась в старинную скатерть, которую принимала за шаль и накидывала на плечи.
Они приехали, все сразу переменилось, будто стало новым и особенно занимательным, не только тем, что занимало до сих пор, но еще и тем, что занимало их. А его, Сашу, занимало все — он ведь был здесь в первый раз, он не знал наших мест, ничего не знал из того, что знали мы сами. Он не знал даже, что здесь водятся утки и ондатры, не знал, как нам нравится и как мы хотим жить на мельнице, не знал даже само озеро и его глубину. О, мы почувствовали себя такими владетельными, такими богатыми и хотели радоваться его глазами, не только своими.
Погода! Какая была погода, редко стоит такая погода, когда легко дышать и жить на свете. Бывает солнце, тепло, но тяжесть и нерадость даже от этой прекрасной жары и ветерка, бывает тягостно все, особенно медленно и тяжело идет такое время — ожидания, волнения и всякой ерунды, а бывает легко в дожди и ветер, в снег и бурю, только люди не различают этого своего состояния, а сердятся.
Саша был веселым и не знал расстройства вообще. Смеялся он как ребенок, хотя ему было столько, сколько и нам. Он смеялся во весь рот, он кричал и бегал точно так, как мы, сломя голову, точно так он восхищался всем, радовался озеру и всякой травинке, радовался и дому: пустому, доброму, заждавшемуся за зиму садику и спуску к озеру.
— Какой песок, какая тень, какая вода! — кричал Саша.
Ему нравилось все, и нам — особенно, следом за ним.
Чужие глаза, которые рады твоему счастью, особенно радуют тебя, когда ты умеешь радоваться. В доме так славно пахло духом детской новизны, и я знала, что Рая мечтала сразу поставить и надуть матрасик, лечь на него в тени черемухи, раскрыть книгу и читать, есть шоколадку или другую какую-то сладость, припасенную на случай вкусного чтения и вкусного первого дня загара и солнышка; так оно и случилось, так все и было: она лежа читала, пока комары не заели ее. Погода уже ленилась быть хорошей и светлой, природа вдруг вся расцвела разом — от сирени до черемухи, и даже сама Рая стала теплее и ленивее. Она пришла к нам с Сашей. Теперь она была нашей только потому, что соскучилась. Она угощала нас шоколадом и велосипедом, гамаком и собой, главное — собой, своей улыбкой, своим откровенным и спокойным взглядом… О, мы были рады, так рады этому!
Мы уезжали на мельницу и там показывали им, как надо восстановить эту мельницу, и Рая, смеясь до слез, помогала нам одной рукой или совсем не помогала, только смеялась и сидела возле реки. Зато Саша старался изо всех сил, он один старался, и больше нас. Всякую нашу глупую затею он понимал раньше нас и принимал как должное. Он умел сделать все лучше нас, куда лучше. Он умел даже найти где-то гвозди, тут, на мельнице, старинные гвозди, и приколачивал ими доски, которые тоже вынимал из воды, из грязи, куда их бросали под колеса, чтобы вытащить машины или телеги, которые там застревали.
И скоро можно было пройти по мосту, скоро можно было войти на мельницу и посмотреть в окно, скоро можно было уже даже вылезти из окна, пройтись по мосткам, пробежать и снова войти на мельницу.
Это нам нравилось, даже очень нравилось — лазать туда и сюда, бегать и скакать по одной доске новых мостков через реку.
И Рае нравилось, хотя она все равно смеялась над всеми затеями Саши — нашими затеями, смешными, конечно, но мы так гордились ими, этими мостками и долго рассказывали после, как было великолепно на реке.
Мы садились на велосипеды — на раму, на багажник и ехали, ухали, ахали, смеялись, пока не сломали Сашин велосипедик, пока он не треснул, пока не вылетели спицы и мы следом за ними с велосипеда, вместе с Сашей.
Велосипед, казалось, уж кончился, пропал совсем, мы шли пешком, все так же смеясь и радуясь неизвестно чему — просто тому, что были веселый теплый день, и веселый голод, и хорошее настроение.
Мы хохотали и тащили на себе велосипед. «Тебе теперь попадет!» — говорили мы, забывая, что не от кого ждать наказания Саше и Рае, совсем не от кого. Это нам могло попасть или не попасть, это нам могли не дать чего-то, а не им. Они были одни, и оказалось, у них было даже запасное колесо. Было целое колесо. Саша его переставил сразу же, и велосипед снова покатил, только уж мы не садились на него все разом.
* * *
О, как я хочу снова попасть в тот острый, пахнущий, светлый и темный, яркий и блеклый, богатый и бедный мир моего дачного детства, с его ласковым и нежным ветерком, пахнущим навозом и вкусной, тонкой, как пудра, пылью, с его колючим вересковым духом, банным, лопушиным, комариным, коровьим, грибным, черничным духом свежести и прелести бытия, когда просыпалась от тягучего коровьего мычания и сразу, с первого взмаха ресниц, радовалась или даже не сразу, а через некоторое время приходила в себя и, чувствуя горячий и радостный плеск солнца на окне, предвкушала день, весь из желаний, часто перебивающих друг друга — что лучше: читать в гамаке, бежать за черникой в лес, купаться и плыть за хлебом в чужое дачное место, где все казалось красивее, чем у нас, вдыхать аромат свежего черного хлеба и съедать его углы, пока везешь домой, хлеба с маслом, вдыхать даже дух сельского магазина, вдыхать влажный болотный дух или дух сосен, крапивы, молока и колодца.
Как мне хочется воскресить все в том новеньком виде, как было тогда, когда смеялись и веселились волосы и лаковая моя челка, когда пятки щекотали иголки от хвои на тропинке, когда важно и горделиво шагала Лиля, ездил возле нас кругами Саша и мы обе, не отдавая себе отчета в том, старались его пленить, вовлечь в ту игру, о которой столько начитались, наслышались, но все еще не ведали, а он не начитался и совсем не ведал ее — игры во влюбленность, в почитание женщин, девочек, он ее не знал и знать не хотел совсем, и мы, стыдясь того, что знаем и вовлекаем, вдруг поддавались его желаниям бежать, рушить, строить, прятаться, катать мяч, кидать и ловить его, срывать репейники, сбивать их головки прутом и кричать не своим голосом.
Тот новенький мир без машин и мотоциклов, без всех возможных и невозможных транзисторов и моторов — он есть, он тут, под боком, и даже в лучшем виде — прибран и чист, асфальтирован и доступен, тут ходит автобус и не надо плестись за тридевять земель пешком через леса и болота, шаткие мостки и броды, тут и озеро то же самое, обмелевшее и тинистое, озеро, которое уже не пахнет той первозданной чистотой и чистым бельем, озеро, которое уже не манит так яростно окунуться, погрузиться в его чистоту, оно кажется подозрительно мутным, а тропинки истоптанными, пустыми, без единого грибка и ягодины, без всякого таинства, радости, что сулила тогда всякая ямка под ногой, каждая перелеска, даже вид ствола и корня.
«Здесь должны водиться белые, я нашла в прошлом году», — говорили мы и долго искали грибы прямо на дороге, в каждой колее, в которой действительно нашли когда-то там, в какие-то грибные времена.
Боже, как хочется воскресить — и воскрешаешь, сколько можешь, всю остроту бытия, осеннего, осенней радости, грибной, пахучей, усталой, полнокровной радости осени, особенного грибного утоления, когда всякий найденный гриб казался таким лакомым, когда каждый желтый лист был шляпкой гриба, когда постоянно хотелось есть, хотелось вкусного, и каждая малинка таяла во рту и казалась конфетой, а липкая конфета была такой ценностью, с которой могло равняться только мороженое.
Видела малину, ветку из окна, гнутую, украшенную ягодами, казавшуюся нарядной, как елка, и застывала в созерцании этой малины, а потом срывалась и сшибала с ног Сашу или Лилю, бежала с криком: «Малина!» — будто ее не было целую вечность, прорывалась сквозь липкие, паутинные кусты, царапавшие меня, мое лицо, но не замечала ничего и добиралась до этой малины, рвала ее и ела, ощущая дивное блаженство сладости и аромата ягод.
* * *
Дом Саши и Раи, пустой, без взрослых, священный дом, где можно было делать все, что угодно, даже валяться на постелях, даже топить печь; пустой, прелестный дом, коричневый от времени и в то же время чистый, как баня, где не было никаких признаков чужого запаха, чужой жизни, только запах веников и щелочи, где камни пахли копченым, где можно было бы даже поцеловать Сашу или разрешить ему поцеловать — о чем, собственно, и мечтали, вероятно, и он, и мы, но никогда не целовали, — где можно было бы даже изжарить колбасу, купленную Раей, картошку. Дом без взрослых — как это было прекрасно, как это манило и радовало, что это было такое! Дом, где мы одни, и темные балки стен, светлого пола, особенной чистоты — нашей, детской чистоты, никому не ведомой, дачной чистоты, пахучей, с окном в сад, с окном на озеро. Кто может вспомнить, как прекрасно было ощущать себя в своих никем не контролируемых комнатах, как душно и плохо пахло в чужих домах, где парилась печь и сохли грибы, где чужие одеяла источали противный взрослый дух и даже тленный дух, а здесь все было нашим и молодым, свежим, где можно было бы делать все, но мы не делали ничего предосудительного, только топили печку, низали грибы на палки, играли в блошки на столе и упивались одиночеством, дивной бесконтрольностью, беспечием, тем, что никто не мог нас остановить, спросить, подозревая нечто безобразное, что даже нам не приходило в голову.
О, как они не понимали, взрослые, что нам так надо было войти в дом и почувствовать, что мы без надзора и без всех их воспитательных затей, окриков, подозрений не можем ничего натворить, а только отдохнуть от их тягостного воспитания, только отойти от их благих намерений, от их устремлений к тому, чтобы мы были примерными и в том стиле, как им того хотелось, чтобы действовали автоматически, не сердили их и были бы во всем удобны им.
Нам было так неудобно с ними, так тягостно, так неприятно и скучно слышать воспитательный тон, зная, что они сами в свое время тоже тяготились таким тоном и тоже хотели одиночества…
Только так редко оно случалось им и нам тоже. И вот было это — дом Раи и Саши. Книги, игрушки, конфеты, слипшиеся в коробочке, малина из окна и стол, покрытый одеялом, — наш стол. Все здесь было нашим, даже воздух наш, где никто никогда не курил, не источал тяжелого дыхания, не сердился и не воспитывал. Здесь были наша обитель и наша воля, замкнутая на засов. Все было нашим, и мы царили, входя в дом, говорили друг другу:
— Хочешь, зажарю быка?
— Котлету.
— Картошку.
— Кисель.
— Кисель не жарят, его варит.
— А как жарят котлеты?
Мы не знали, как жарить котлеты, как их готовить.
— Кажется, котлеты мелют в мясорубке.
Это говорила Рая, взрослая Рая, даже я знала, что котлеты мелят, а потом уже жарят. Нашлась и мясорубка, нашлась и сковорода, вот только не было мяса.
— А я попрошу у бабушки мяса, — сказала Лиля.
Это было бы волшебно — сделать самим котлеты и изжарить их, проглотить горячими и полусырыми, и мы с замирающим сердцем ждали, дадут ли нам мясо для котлет. И они выдали нам кусочек мяса, лук и булку, масло и соль. Нам дали все и оставили нас в покое: мы знали, что Лилина бабушка очень хочет, чтобы Лиля научилась делать котлеты и всякую снедь, и вечно приобщала ее к хозяйству. Она отдала даже мясо, которое возили и носили, ценили очень. Она все это дала Лиле, и та принесла нам мясо. Какой восторг и счастье — мясо, мясорубка, все то, что было у них, у взрослых, все то, что они умели и мы получали только из их рук, теперь могли произвести сами. Сделать то, что они, и даже накормить их. И мы привинтили мясорубку, мы промололи мясо срывающимися руками, выворачивая себе руки, почти смолов и пальцы вместе с мясом, мы сделали даже котлеты, мы развели огонь в печке и услышали уже даже дух котлет, распустив масло на сковороде, мы уже приготовились сделать эти котлеты и съесть их — горячими, обжигающими, когда забарабанили в дверь, когда почти выломали дверь с криками:
— Что вы делаете, что там происходит, ведь пожар будет! Откройте!
Все было кончено: бабушка Лили, дав ей мясо, не подумала о том, что надо еще и жарить котлеты на огне, и для этого нужен огонь в печи, она-то думала, что мы будем просто молоть мясо и готовить сырые, игрушечные котлеты, но мы так хотели есть, что ей было и не понять этого никогда, мы так хотели сами зажарить котлеты, сами сготовить их, и вот теперь, когда было уже почти все готово, когда весело плясал огонь и скворчили, радовались котлеты на сковородке, когда их аромат уже раздразнил нас совершенно, когда все было готово, бабушка ворвалась к нам и, можно сказать, вынула котлеты прямо изо рта с криком:
— Кто разрешил! Кто? Кто?..
Мы даже не понимали, о чем речь:
— Вы же разрешили, вы дали нам мясо.
— Я думала — для игры, а кто разрешил топить, и дым во всем доме, во всем поселке!
И мы молчали, снова и снова было это, ужасное: их власть и наша провинность, вечная наша провинность перед ними — виновность.
— Но ведь котлеты жарят? — полувопросительно, полудостойно спросила Рая.
— Да, жарят, но кто разрешил?
— Ну, значит, все так, как надо. Ведь я часто топлю, если холодно. Я ведь живу, и я мерзну, если дождь. Я здесь живу, — еще раз повторила она, и бабушка Лили сдалась, утихла. Она смотрела на Раю с таким видом, будто нечто нестерпимо неприличное происходило на ее глазах, но она не могла прекратить это неприличное, безобразное, дикое, она не в силах была его остановить и уничтожить. Она смирялась перед ним, останавливалась. Так длилось несколько минут, пока мы все стояли и потеряли всякий интерес к нашей затее, потеряли и аппетит, все под грозным окриком и тяжестью своей — опять! — вины и подневольности, но в этот миг (мы уж все забыли про котлеты) ее профессионально-котлетный нос чуял, что котлеты горят…
Горели наши прелестные, розовые, румяные котлетки на открытом огне, горели и пахли уж не тем блаженством собственности, а жженым, противным, взрослым и даже старческим, чем так часто пахло именно от Лилиной бабушки, — тут она мгновенно отключилась от нас и стала переворачивать котлеты, срывать сковороду с огня и кричать:
— Они горят!
В мгновение ока она преобразилась и из злобной, давящей нас фурии стала уютной, хлопотливой поварихой, для которой честь дороже всего. Она перевернула котлеты, открыла печь, поправила огонь и выпустила чад на улицу, она увидела через открытое окно салат, маленький огурец и подобрела совсем. Через несколько минут она уже послала Лилю за уксусом, сахаром, а меня в огород за этим первым — с грядки — огурчиком, и скоро мы сидели над тарелками с салатом и котлетами, и она приговаривала:
— Вот это обед с салатом и огурцами, только вы могли так сготовить, только дети так умеют жарить и все устраивать.
Она льстила нам, и мы знали, что никогда нам не приготовить ничего более восхитительного, чем она, — этот салат и эти чуть-чуть пропахшие подгорелым котлеты, которые в сочетании с салатом и уксусом казались необыкновенными, будто действительно приготовленными нами, имевшими наш вкус, а не ее. Мы принимали эту ложь и отталкивали ее.
— Никогда нельзя врать, никогда нельзя не слушать взрослых, а делать только то, что положено.
Но это уже было уксусом и перчиком к тем же котлетам, это было только немножко запаха горелого мяса, который можно было и простить ей за тем славным деревенским столом, за которым мы сидели и ели.
* * *
Какое это было великолепное лето, полное всяких удовольствий и счастья, оно казалось таким пышным, а счастье таким вечным, что никогда, никогда не приходило в голову, что может быть нечто другое, кроме этого состояния.
Такой легкостью и прелестью было все в тебе — каждая мышца дышала и радовалась, а ты была уже почти взрослой и такой ловкой, ладной, что, казалось, ничего другого не может быть лучше. И в самом деле не было ничего более славного, чем то состояние — осеннее, грибное и ягодное.
Луна топилась каждый вечер в озере и таяла, таяла, луна продолжалась в воде, вытягивала свой лик и растекалась, растекалась. Проливались легкие дожди, яркие, светлее театральных люстр, светлее светлого, ярче воды под лучами, и снова вспыхивали вечерние блики на воде и траве, на каждом листке, и мы в восторге таяли вместе с ними. Пел шмель, облепляя жухлый клевер, ероша его и перебирая лапками, доставая засохший, самый сладкий мед. И вдруг под мостками проплывала ондатра, прямо у нас на глазах, огромная, распластавшаяся, с толстым хвостом, проплывала не боясь нас, не зная, что мы смотрим, что мы тут. Откуда она? Мигом мы срываемся, бежим следом, преследуем ее — ондатра, быть того не может!
Теперь и не поверить, что в местах, где стоят огромные дома рядом с маленькими домишками, где все такое уж не деревенское, а городское, в местах, где машины едут с большой скоростью, свободно плавала ондатра. Но это была настоящая ондатра, да и теперь они, вероятно, есть в этом озере — оно осталось еще чистым…
И осень кидала нам под ноги свои сухие листья, высыпала шляпки грибов и бросала такие краски на все и даже на тусклые, старческие лица, что казалось, они могут тоже вдруг стать молодыми.
Осень поднимала из земли такую красоту, такое обилие, что нельзя было и вместить в себя, собрать и нельзя было оставить, пройти мимо — никак нельзя.
Там, где все ходили, топтались, все, кто был с нами, и ездили, там вдруг прямо на дороге появлялись грибы, росли в колеях на опушках, на кострищах. Мы собирали их и тащили домой — в корзинках и платочках, в руках, за пазухой.. Мы приносили их и высыпали на крыльцо, разбирали их, играли ими, любовались. Уж банки, кастрюли, все было полно грибами, и тогда наполнили и аквариум. Огромный мой аквариум белыми толстоногими грибами. Высадили моих рыб в банку, даже предлагали их выпустить в воду, но оставили, слушая мои вопли.
Смеялась и светилась Рая, делала то, что ей хотелось, она и должна была быть смелой в своих действиях, должна была быть такой вот радостно-величественной, даже смешной в своих действиях.
А на дорожки высыпали белые, было их так много, и все их бархатные шляпки, тугие ноги так будоражили нас, так восхищали и заставляли бежать в лес каждый день, каждый день.
Грибы лезли из травы, как жуки, ползли и ползли прямо в руки, мы их хватали, брали, дарили друг другу, а иногда отнимали, спорили, кто увидел первым, чей гриб, и все это буйство природы делало и нас буянами. Мы не замечали времени, не могли остановиться, это было похоже на бой, на атаку, и в то же время это было просто прогулкой в лес, детским лепетом на опушке.
* * *
И в этой грибной вакханалии, и в этом разгуле грибов и брусники, в дни, когда рожь клонилась до земли, появился человек в кожаной куртке, человек с кинокамерой, человек в машине, вернее, человек из машины, страшно иссушенный, весь искусственный, он шел во ржи и в этом поле казался марсианином. Он был небрежен до безобразия, он был весь из другого мира, и мы, полные жизни, смеха, цветов, остановились перед ним.
Он снял очки и показался нам оголенным без этих сложных, странных очков, похожих скорее на бинокль, чем на очки. Он снял их и глядел на нас, а мы на него во все глаза. Кто это? Кто он, откуда? С Луны? Он рассматривал нас, а мы даже и смотреть не могли, таким диким казался он на фоне яркой ржи, рядом со своей машиной.
Он был будто бы и живой — и не совсем, будто бы из гроба — и не совсем. Жалость, сострадание и даже некое понимание смешались в нас, и мы глядели на него очень долго. Все в нем и заставляло разглядывать его во все глаза, и в то же время отталкивало нас, а он, будто и не глядя на нас, все видел, и мы знали — смотрел на Раю, милую Раю, всю раскрасневшуюся и такую живую, такую полную сил. Это был уже роман, еще не совершившийся, но уже роман — вот уже совершающийся и такой, какой ему был необходим, маленький и в то же время долгий, как того хотела она, роман в одну минуту, который тянется годы.
Рая, румяная, розовая, в своем ситцевом халатике, в резиновых сапогах, такая небрежно-ладная, вся из солнца, воды и светлого песка, и он — из табачного дыма и бензина, будто синтетический.
— Где можно умыться, вымыть руки? — он говорил, будто не совсем владея языком.
— В озере! — сказали мы. — В озере же!
— В озере, — рассеянно сказал он опять с запинкой, и мы поняли, что это ему так дико, что ему нужен кран, обыкновенный кран или даже не совсем обыкновенный, а кран с горячей водой и душ.
— Озеро — это прекрасно, — грустно сказал он.
Наш поток счастья, запах леса и воды, грибов и мха, наше здоровье — все это будто бы притягивало его и заставляло оживать, и в то же время было ему тяжко.
— Я подвезу вас, — сказал человек.
Мы все согласились разом, кроме Саши, который не мог же погрузить свой велосипед в машину, да и не хотел, а нам так хотелось и было необходимо скорее, скорее добраться домой, что мы посыпались в машину, как град.
— А где озеро? — опять спросил человек.
— Да вот же! — снова в один голос сказали мы. — Вот, ехать прямо и на шоссе.
Странно было, что человек не видел озера, и как он мог не видеть его небесную, призрачную красоту, которая сияла всем в глаза, бросалась и виделась всюду, даже в той низинке, где мы стояли.
— А… — протянул он и поехал не в ту сторону. Он петлял по полю, будто его преследовали, и у самой дороги попросил нас выйти из машины и вполз на шоссе.
И все-таки мы доехали, вылезли из машины, высыпали из машины, полные своими грибными заботами помчались в дом, не спрашивая его, куда он денется, а он никуда не делся, он пошел вместе с нами, за нами в дом и оказался на крыльце, потом и в доме, и мы не могли сказать ему, что это наш дом, что мы в нем живем одни, что нам сейчас надо во что бы то ни стало окунуться и заняться грибами. Они и так уже все крошились и портились, пока он просил нас влезать и вылезать из машины, когда въезжал на горку, пока петлял в поле. Я уже чувствовала, что Рая хочет совсем выйти из машины, но она покорно влезала и вылезала, хотя ей этот человек был уж невмоготу, но она сдерживалась, только раздувала ноздри и поджимала губы, но теперь, когда он вошел в дом так вот — не спрашивая ничего и никого, — так вот вошел, и все, теперь она просто онемела.
Он в машине чувствовал себя совершенно хорошо, будто родился в ней, будто и не был только что как шальной в лесу, зато теперь, в доме, он тоже чувствовал себя как дома и сидел здесь преспокойно, курил и, казалось, сейчас заснет.
Он вошел, и мы сразу ощутили страшную неловкость — ведь не могли же мы прямо сказать ему, что он мешает, что ему тут нельзя быть, что вот озеро рядом и шел бы на озеро. Рая что-то пролепетала, но махнула рукой. Он будто и не слышал даже. Она сказала, что даст ему мыло и полотенце, тогда он будто очнулся, сказал:
— Да, да, — но не двинулся с места. Он полулежал и глядел на нас, а мы суетились, хватая купальники и полотенца, мыло и тапочки.
Мы не знали, где нам переодеваться, и толпились в маленьких сенцах, прятались, хихикали, а он и не замечал этого всего, он просто не замечал нас, только видел Раю, которая мучительно не хотела, чтобы он оставался в доме. А он прямо засыпал в доме, он не хотел и двигаться даже, ему было хорошо здесь, он опять курил и чувствовал себя гораздо лучше, чем в лесу, а у нас была своя затея — выкупаться и разобрать грибы — грибы, которые портились с каждым часом, с каждой минутой, мы знали это их свойство — вдруг из целых, крепких, чистых грибов сделаться старыми, червивыми и никуда не годными осклизлыми, даже противными кляксами, которые уже совсем никуда не были годны.
Но он не двигался, зато суетились мы: ведь не оставлять же было его одного в доме — он бы мог тут заснуть на нашей кровати и остаться навсегда. Неловкость его присутствия царила в доме, ведь не могли же мы ему сказать просто — уходите, и все тут, нам надо уходить, переодеваться и вообще — он здесь жить не может, мы здесь существуем одни, и все тут, но он этого и не понимал совсем. Нам надо было все сделать по-своему, а он не давал нам простора, он тут присутствовал, и хотелось крикнуть: «Да ищите же себе дачу! Мы здесь одни, и никто не может быть с нами!» Мы шептались в углах и делали друг другу большие глаза, говоря: «Он никогда не уйдет!» — и правда, он не уходил, а зевал и произносил:
— У вас тут рай! Просто прекрасно! — блаженствовал.
И тут влетел Саша с целым мотком гороха на шее, не Саша, а копна гороха на велосипеде. Где он раздобыл его, мы не знали, но он примчался, смеясь и торжествуя, не зная еще всех наших тревог, не зная, что человек в очках пришел к нам поселиться навек, что он выжил нас в сенцы и мы теперь будем там крутиться, тесниться и надевать трусы задом наперед, стукаясь лбами об углы и проклиная его, помня о грибах, которые с каждой минутой промедления становились все невзрачнее и невзрачнее, и наши грибные сердца съеживались вместе с ними и падали с высот счастья в такую бездну, из которой уже не вынырнуть.
Саша влетел со своей улыбкой, с физиономией, которая торчала из копны гороха и смеялась, как всегда, смеялась, но смех мгновенно оборвался, как только Саша увидел его в нашем доме. Все помрачнело, даже горошины посыпались сами собой на пол, раскатились по всем углам. «Он — здесь?! Он здесь лежит? С какой стати?» — говорило лицо Саши, но вслух он сказал только:
— А я думал — моется в озере… — Он пробормотал это довольно невнятно, и человек совсем не расслышал его слов.
Рая вдруг воспряла духом и сказала громко:
— Мы все уходим! Пойдемте купаться, — и властные, взрослые нотки послышались в ее голосе, — все на озеро!
Человек будто очнулся от дремы и сказал:
— Да, да… у меня ничего нет с собой.
— Вот, вот полотенца! Их сколько угодно, даже купальные простынки, даже трусы, — Рая срывала с веревок полотенца и кидала ему — одно, другое, третье. Саша кидал ему тряпки, которыми вытирали ноги, даже Раины ленты и обмылки…
— Вы не очень… гостеприимны, — очнулся вдруг человек.
— Мы живем одни в доме, совсем одни, без всех, только с ним, и у нас нет места…
— Да, да, — рассеянно сказал человек. — Как одни? И у вас нет хозяев?
— Нет, мы без хозяев.
— И вы меня боитесь? Я не грабитель. Я не…
— Мы не боимся, но у нас нет места.
— А вы — старшая? — спросил он у Раи.
— Да, и очень сердитая…
— О-о! — он смеялся. Он еще над нами смеялся!
— Мы уходим! — крикнула Рая.
Он поднялся так лениво, так тяжко, что мы немножко пожалели его, но все равно надо было спешить, и все бежали к озеру стремглав, потому что грибной дух гнал нас из дому и возвращал в дом, чтобы успеть, успеть до заката все сделать: и растопить печь, и обсушить грибы, поесть что-то, и завтра снова, снова бежать и бежать в лес, где еще ждали нас все удовольствия последних дней лета.
Рая бежала первая, размахивая полотенцем, бежала скорее-скорее вниз, к своей вышке, она уже не помнила ничего, кроме озера, кроме воды, ей не было дела до этого человека — чужого и старого, боже, какого старого! Нам даже не определить было, сколько ему лет, — может быть, сто? На самом деле ему было всего тридцать, как мы после узнали, но для нас это был старик, да еще и чужой совсем, такой страшный.
Рая бежала бегом к воде, распахивая свой халатик, скидывая его на песок, и не думала о том, смотрит он на нее или нет, видит или нет. А он и в самом деле не глядел, ему было трудно бежать, и только на берегу, когда он сел на песок, а Рая вспорхнула на вышку, он рассмотрел ее, стройную, такую прекрасную, тоненькую, ровную, будто гладиолус, а она уже прыгнула и скрылась под водой, и мы все оглянулись — видел он? Он все видел, но не говорил ничего, не удивился той легкости, с которой она будто вспорхнула и улетела в небеса, а не под воду. По нашим лицам можно было понять, как мы гордимся Раей, ее прыжкам и всеми фокусами, но он будто бы и не понимал. Лежал с закрытыми глазами на песке и не глядел ни на что в оцепенении.
Мы заметили время, когда она скрылась под водой, и думали, что она сейчас покажет класс — свои шесть минут под водой, но она и не желала показывать класс — она вынырнула через три минуты, за которые он вдруг вскочил и стал даже бегать по берегу и кричать:
— Она… она же утонула! Что вы, что вы сидите?
Побежал в воду — спасать? Нырять за ней? Оглянулся, призывая нас, брызгавшихся в воде возле берега и смеявшихся над ним, который так суетился, даже кинулся в воду и поплыл-поплыл кролем, даже довольно споро. Он плыл и не глядел, что голова Раи уже появилась над водой, что она плывет себе и плывет, а когда заметил, то утих и лег спиной на воду отдохнуть, и Рая сама подплыла к нему, боясь, что он может утонуть. Мы тоже испугались, что его, такого старого, надо будет тащить на себе из воды, и поплыли к ним, но он мгновенно перевернулся и снова поплыл, схватил Раю за руку, погрозил ей пальцем и опять повернулся на спину — устал. И снова они плыли, теперь уже рядом и мы махнули на них рукой — уж Рая не даст ему утонуть, да и он сам тоже может плавать, раз бросился ее спасать.
Он уже полз из воды на берег и задыхался от тяжкого пути, лежал в теплой воде, и мы даже побрызгали в него, а он ответил нам, но вяло. Мы знали по себе, как прекрасно лежать в тепле после холодной и даже жгучей воды, собственно потому мы и плавали часто у берега, что вода была очень, очень холодной и очень легко было совсем замерзнуть в ней, как нам говорили:
— Не плавайте далеко, там сведет ногу, и вы потонете! — Мы фыркали в ответ или говорили:
— Как же Рая не тонет? — но и слушались, подспудно понимая, что они правы, надо быть очень тренированными, а не такими, как мы.
Теперь все кончилось так просто и благополучно: он был цел и все целы, он даже спасал, что нам понравилось, хоть и не спас, но все-таки — спасал, мы совсем смирились с ним и не думали о том, что он так и останется у нас вовек и не уедет никуда, будет сидеть у нас в доме, ну пусть спит на чердаке, пусть…
Но он не остался в доме, а вдруг исчез, пока мы суетились и бежали отдавать грибы, он делся куда-то, пропал: машина оказалась закрытой, машина была пуста, полотенце брошено на забор, а его не было, он пропал…
* * *
Наш маленький поселок — всего-то четыре улицы, всего несколько домов — на глазах, а его не было совсем…
Все домишки, пляжики, все сараи нам знакомы и ведомы, все хуторочки видны, а его нет и нет. Ведь он голодный, мокрый, полотенце было сухое, а его нет и нет. Сначала это было даже хорошо — пусть его пропал, и все. Делся и делся, к кому-то там определился и спит, где-то его покормили — ведь не мы же его будем еще и кормить? Заблудился в лесу? Или все-таки еще поплавал и утонул? Быть того не могло, ведь он плавал кролем.
Уж все грибы были разобраны и нанизаны на лучинки, сварены и положены в банки-бутылки, аквариумы, а его все не было. Уж темнота наступала на нас, а его все не было. Уехал на поезде?
Мы отправились спать и спали, как всегда, сладко и долго, а проснувшись, сразу спохватились: машина была на месте, а он и не появлялся, никто не видал его — ни домашние, ни дети из деревни, ни даже Лилина бабушка, которая всегда все видела и знала, даже то, что в самом деле не происходило, она знала будто наперед и все время была в тревоге: вот Лиля теперь заблудится, вот она поест не то, вот она еще и испортится с нами — мы ведь ужасные, и тем самым толкала нас действительно на то ужасное, что она предполагала, будто разрешала своими сомнениями.
Да, мы знали, ведали, могли быть и ужасными — с ее точки зрения, такими, что и в ее воображении не умещалось, — но и не были, были детьми, и только.
Пошел дождь, и мы совсем приуныли: если он спал в лесу или в палатке, в спальном мешке, то должен был встать, но он не спал в палатке, не было у него ничего с собой, он должен был спать в машине, но машина стояла тут, у ворот. Оставалось предположить, что он испарился, исчез, или обшарить все леса, все перелески, дальние сараи, и мы отправились искать его, но пошел дождь — страшный дождина, такой грибной и ягодный, такой мокрый и тусклый, что он бы проснулся от этого дождя непременно…
И приуныли все — где же он, спасавший Раю, он, такой усталый и страшный, он, кого мы почти прогнали — кого? Мы даже не спросили, кто он. Пока мы унывали от дождя и своих нелепых действий, он становился для нас все более и более загадочным, его фигура становилась все более призрачно-удивительной и в наших глазах разрасталась до размеров невероятных. Кто он, кто? А вдруг и в самом деле он заснул в лесу и его загрызли дикие звери — ведь у нас были и рыси, даже кабаны, — но когда он успел зайти в лес? Мы выгнали его, и осталась одна машина.
Все было, будто нарочно, плохо в тот день, и тоскливо шел дождь, барабанил в окна — препротивный дождь, унылый дождь, мокрый и безнадежный.
Да, мы знали, что для грибов, для ягод так нужен дождь, но нам он был так не нужен, что все унывали, кроме Саши.
Саша один хохотал и бегал по дому, лущил свой горох, ворошил грибы и таскал хворост в дом. Печь дымила и наполняла дом страшным чадом, сидеть можно было только на крылечке, не сидеть, а толпиться, а Рая была так сердита, что даже Саше приходилось утихать под ее взглядами.
Вымокли его сандалии, полотенца, потерялись тапочки, но он все пел свои песенки и был рад, что исчез этот человек, он не желал его искать, но и он вдруг приутих, когда вечер подкатил, а человека все не было и не было. Саша ел свой горох, был мокрый и черный от копоти печки, бегал из дома во двор, обратно и таскал грязь в комнаты, где и без него было грязно и мокро, пахло дымом и пригорелыми грибами.
Мы знали, что Саша доволен, что этот человек исчез: «Хоть он исчез», — вся физиономия Саши сияла, «Хоть его нет по крайней мере», — говорил его вид, рот, который он набивал горохом. Мы знали — он хочет нас развеселить, хочет, чтобы мы согрелись и обрадовались наконец его простодушной радостью, но нам было тошно. Вся одежда казалась влажной и холодной, носки-туфли тоже, все скверное приходило в голову: если человек уехал на поезде, то почему бросил машину, если он нашел себе дачу, то почему не приходил за вещами? Где он мог быть?
Он нигде не мог быть, кроме как у друзей, — что-то он говорил про них, или нам показалось? Где могли проживать его друзья? В другой деревеньке — Симанково? Наконец мы устали думать о нем и занялись уборкой: мы прибрали все и даже вымыли полы, потом протерли стекла, потом нашли сандалии Саши, потом проветрили подушки и одеяла; день тянулся долго, и было так мрачно, что хотелось зажечь свет и даже несколько ламп сразу, чтобы было впечатление солнца, как нам хотелось видеть солнце — нельзя было и передать. Солнце… оно было, как наша радость, нескончаемо, оно было на каждом листике, на каждой травинке, оно было всюду — внутри нас, согревало и даже кипело. Хотелось всего сразу, желания перебивали друг друга, а во время дождя все совершенно угасало, и только печь, прекрасный жар печи заставлял нас суетиться вокруг огня, делая вид, что нам надо что-то повернуть в печи, подкинуть дров, принести новую лучину с грибами, а на самом деле надо было согреться, взглянуть на огонь и почувствовать, как жаром пышет лицо и тепло бежит к ногам.
И все-таки — где мог быть этот человек? Минутами мы забывали о нем, но после снова и снова вспоминали: где же он мог находиться? И выходили в сад, в деревню, смотрели, не идет ли под дождем? Но его не было.
Вот уж обед был готов дома, вот и молоко принесли, а его все не было и не было, даже дождь прекратился, высохли дорожки, можно было снова бежать в лес, но мы не бежали, а ждали его, должны были ждать. Рая вдруг, как нам показалось, безобразно переоделась — натянула новое платье, распустила волосы и — что самое удивительное — вертелась перед зеркалом и надевала и снимала разные бусы, в том числе и красивую нитку кораллов, которые очень шли к платью, но нам — и особенно Саше — казались ужасными.
— Сними, а то потеряешь в лесу! Сними, прошу…
— Ты что мои драгоценности хранишь? Лорд-хранитель драгоценностей?
— Просто ты их потеряешь!
— Я еще ничего в жизни не теряла, — сказала Рая.
— Только потеряла своего ми…
— Замолчи! — вдруг рассердилась Рая и даже взмахнула рукой, будто хотела ударить Сашу.
— …лого — милого! — нагло повторил он и увернулся от нее.
И разразилась ссора — первая ссора между ними, но страшная. Они кричали и бегали друг за другом, они почти дрались, и юркий Саша и прыткая Рая гонялись друг за другом в надежде настичь и отмстить за несправедливые слова, со стороны Саши — дерзости, как говорила она:
— Прекрати свои дерзости!
— А ты прекрати влюбляться!
— Ты получишь!
— А ты…
— Я тебе сейчас помогу сделаться калекой.
Великолепная фраза, которую придумала сама Рая, но она и не то придумывала в один миг:
— Тебе понадобится много мяса, чтобы стать нормальным!
— Почему мяса?
— Я тебе оторву руки и ноги.
Их благонравный союз, их тихая любовь и послушание Саши вдруг исчезли, и стали отношения невыносимыми — казалось, что так, случайно, но не случайно, хотя они и мирились.
Рая схватила свой плащ и умчалась куда-то, а он, Саша, заплакал. Мы тоже разбрелись, потому что слушать их брань было просто неловко и даже противно, а Сашины слезы казались страшными. Саша — плакал! Он, правда, скоро перестал и уж снова смеялся, красил губы химическим карандашом, барабанил по всем стенам ногами и делал Раино выражение лица перед зеркалом.
Мы вышли вслед за Раей и увидели, что она уходит, сворачивает в проулок, а вернее сказать, на огороды, бредет по тропинке между сарайчиками и идет себе, опустив голову, изредка поглядывая на дома и сеновалы.
Да, там, на сеновалах мы не глядели — он конечно же мог спать в сене: в сене так великолепно спать! И проглядывали-просматривали все сараи и сеновалы, нет ли его там, и в одном из сараев нашли, нашли его. Он сползал вниз — мы услышали прежде охи, стоны, кашель и увидели его, но не узнали; он весь опух, он был не он, а чудище — ухо одно было больше другого, отекло лицо, и весь его костюм, голова, весь он был как копна сена. Он пытался сползти вниз, и не мог нашарить ногой лесенку, мы подставили эту лесенку, и он почти упал нам на голову, мы подхватили его, и он бормотал:
— Как я влез? Как я попал сюда?
Но он сполз вниз, стеная и ахая, разминая ноги.
— Как вы исчезли? — спросила Рая.
— Я… устал. Спал.
— Мы вас искали.
— Да, да, — и он побрел к выходу, отряхивая солому и клевер, вытаскивая цветы из волос.
— Мне опять — купаться? — покорно спросил он.
— Да как хотите.
— Но все-таки — мыться, — человек задышал глубоко и стал оглядывать все кругом. — Вы просто в раю живете.
— Да…
Он поплелся к озеру, а мы все хотели, чтобы он нашел себе дачу, поискал по крайней мере, но он и не думал искать. Где он будет спать? Где будет жить, когда дождь? Нам казалось, что он может, может сейчас опять влезть в наш дом и там остаться.
Только позволь ему, и он останется навсегда, и мы с ужасом думали, что он пойдет и опять ляжет тут у Раи на постели, но он уж, видно, выспался совершенно. Он уж больше не хотел спать.
— Какой прекрасный ветер! Как хорошо я выспался!
Мы хотели ему сказать, что уж так прекрасно, так долго, что новые грибы наросли, что все кругом стало другим, что дольше спать нельзя, а он все восторгался:
— Хорошо! Какой ветер! Как все колышется и все кругом из этого ветра состоит — деревья, и вода, и берег… Видите, он весь из мелких волн и ветра — этот песок…
— Да, пожалуй, — недоверчиво говорила Рая, все еще думая о том, что он не ел и где он теперь будет жить.
— Надо снять этот ветер, он пригодится…
— Надо снять дачу, — сказала Рая.
— Да, прелестный ветер! — пищал Саша, подражая ему.
— Молчи, — шептала Рая.
— Молчи! — отзывался Саша тоном, который, казалось, был похож на ее тон. — Я молчу, а для чего мне молчать, когда ты носишься с ним как с писаной торбой, когда тебе все равно — твои ноги он снимает или волны, ты хоть знаешь, что он твои ноги снимал?
— Ну, и почему бы их не снимать? У меня такие ноги.
— Так тебе это нравится, что он твои ноги снимает?
— Нравится.
Они шептались, пока он летал по берегу, пока он старался изо всех сил, как казалось нам, понравиться Рае, для фасона это сделать, пока он купался, лежал на песке, то есть был от нас далеко, они шептались:
— Он и тогда тебя снимал, когда ты переодевалась в кабине! И тогда, когда… Я вот бабушке напишу.
— Ну, пиши сколько хочешь, лучше на дуэль вызови его.
— Нет, не на дуэль, а напишу домой.
И тихий крик Раи:
— Я тебя ненавижу!
— А я — тебя.
Рая вдруг уходила из дому, но тут же ее смех был слышен на огороде и в поле — с ним она просто ворковала, голос ее менялся и пел, а Саша в это время, если не слышал всего этого, то просто качался на плетне или ездил на своем велосипеде. Он мог ездить, в сущности, целый день или даже сутки.
Мы забывали, что он взрослый человек, и думали, что он, как мы, беспомощен. Мы о нем заботились и беспокоились, а он тут же устроился в доме напротив у хозяйки и ел вместе с ними, угощая их своими консервами, конфетами, так что у Саши слюнки текли глядеть из, окон на все, что съедали хозяева. Мы и не знали, что Саша всегда голоден, что он так быстро подрастает и потому хочет есть не изредка, как кормила его Рая, а все время. Так быстро он съедал все и оставался голодным. Мы на спор могли заставить его съесть целый хлеб и выпить столько, сколько ему влезет, — он съедал буханку, даже полторы и не толстел нисколько, даже было удивительно, куда девался хлеб: Саша оставался тощим, легким, дунь — полетит на своем велосипедике, будто комарик, стрекоза или самолетик, которые он так любил пускать. Рая и сама была будто былиночка, ей ничего не стоило пролезть сквозь тонкие жердинки плетня, проскользнуть, ей ничего не стоило взлететь на вышку — кажется, вообще улететь на простынях за облака, как прекрасной Ремедиос.
Казалось, она иногда летает и висит в воздухе, как и Саша, который ускользал из дому на своем велосипеде и порхал на нем дни и ночи, смешной Саша, прекрасный Саша. Как я помню мокрый асфальт платформы, высыхающие лужицы, влажную, пахучую землю, светлое небо и спелые облака, такие, такие свежие, будто все состоят из черемухи, и Саша на своем велосипеде кружит и кружит возле платформы: мы встречаем своих, они должны приехать из города и привезти всякую всячину — и арбузы, и вишни, и много-много всего; в небе поет жаворонок, кружит-кружит над нами, как хорошо, легко дышать и видеть его, Сашу, который тоже летает и поет какие-то смешные свои песенки. Но нам и без песенок смешно, нам все равно смешно — от одного вида смешного щенка, оттого что поезд вот-вот подойдет и выйдут взрослые — и мы идем, идем, нет, бежим, кидаемся их встречать — таких вот, нагруженных рюкзаками, сетками, сумками, пакетами, из которых торчат помидоры и арбузы, арбузы, великолепные арбузы, полосатые и прекрасные арбузы — самое любимое на свете пиршество, арбузный дух — прекрасный, дух свежести и торжества лета, солнца, тепла и радости. Мне так хочется, так хочется, чтобы мама привезла арбуз яркий и сладкий, он мне нужен во что бы то ни стало теперь, летом, когда так жарко, когда арбуз напоминает город и ни у кого нет арбузов, — нет, мне не нужен арбуз одной, мне нужно, чтобы все радовались кругом маме и тому, что она привезла, притащила на себе, мне не нужно в одиночестве ничего, только вместе — всем и радоваться. И мама приезжает, идет по платформе, а я кидаюсь к ней, и вся моя радость — ей одной, все ликование, все-все нарассказать: сколько грибов, сколько всего, как выглядит человек, что приехал, и мама слушает — не слушает, видит и не видит всех нас, рада и не рада тому, что мы бежим ее встречать, потому что уже устала от дороги.
* * *
Мамины заботы были всегда далекими, у мамы был свой азарт, и тоже грибной, а у нас — свой, маме надо было вести всех в лес на свои места и там, в большой трущобе, в страшных, непроходимых для нас местах, находить целые мосты грибов, как у нас говорили в селе, — и в самом деле по грибам ходили, казалось можно перейти вброд, так они были велики и мясисты — черные грузди и белые и рыжики, красные кисти брусники, мясистые и сладкие, — где это сейчас, есть или нет, там, на делянках, далеких-далеких, как тогда казалось — непроходимых, ужасных, таких огромных, что провались и не вылезешь никогда, и не выплывешь из болота, только если вытащат, но были эти мосты грибов. Мне не найти теперь не только мостов, но и самих мест, хоть я ходила туда, и не раз. Ах как было обидно не найти, не увидеть, не приметить и грибов, когда другие — все — находили, несли, даже еле тащили корзины, набитые и не только одними подорожками и всякой мелочью, но настоящими груздями — и черными и белыми груздями.
И мы их находили — прекрасные грузди из-под листьев, то есть запрятавшиеся так, что никакими силами не увидеть простым глазом, только грибным глазом, наметанным, как у мамы.
— Вот видишь, вот гриб, — говорила она, — найди его, я вижу…
— Где, где?
Я обшаривала все кругом, никаких грибов не было видно, только маленькие бугорки, только листья, чуть вздыбленные над шляпкой, и мама тут же палкой ворошила листья, и они показывались — грибы белели своими шляпками, толстой мясной плотью. Грузди, и сыроежки, и целые моря поганок. Ныне хоть бы видеть эти моря поганок — все поганки перетоптаны и сшиблены ногами, все шляпки их сбиты, да и мох тоже.
Воздух первозданный, которым никто никогда не дышал, вода, которую не пили, мох, который рос и рос, трава, по которой не ходили. Где все это? Где веселые полянки, пахучие и светлые, где? Далеко-далеко, там где-то, вне поля нашего зрения, доступности. Мы, скучные люди, любители комфорта и удобств, все ждем чуда возрождения себя и всех детских восторгов, которые исчезают со временем, пропадают и куда деваются? В никуда.
* * *
Человек из машины просто был другим, не таким, как мы, он так пугал нас и манил в одно и то же время, так страшил и так тянул к себе, смешил нас и удивлял. Сильный и такой беспомощный, такой странный — валился нам на голову с сеновала, так что мы должны были его тащить на себе, и в то же время прекрасно мог забраться на этот сеновал — нашел же его и спал. Мог спасать Раю и в то же время не мог иногда и шагу сделать без нас — и он потянул Раю с тайно неудержимой силой, она полетела за ним, не думая о том, что будет дальше, что вообще кругом произойдет, — лишь бы с ним, и все тут, и летит, летит за ним, как в воду, как бежала с нами на мельницу, прогоняла от себя своих близких и уверяла всех, что может, может жить и одна с Сашей. Теперь он был для нее взрослым, он следил за ней.
Всей своей юностью и живостью Саша чуял, что Рая теперь может сделать все — назло всем и себе самой, — что хочет, потому что человек этот — странный, ведает все и может сотворить нечто такое, чего никто не может. Он и волшебник, и в то же время ничто совсем, он и ведает и не ведает, он и силен и слаб. Саша знал точно, что он просто морочит всем голову, и только, считал, что все это для Раи и делается, но Рая знала свое и готова была с ним, за ним куда угодно, хоть на смерть, а Саше не хотелось ни смерти, ни даже страданий, ему хотелось всего, он был так полон своим счастьем жить на свете и все еще увидеть.
— Он просто позирует! — кричал Саша.
— Глупый ты, — отвечала Рая или молчала.
— Он даже не умный, а с придурью.
— Это ты с придурью.
— Я с придурью, а ты, ты… — Саша захлебывался.
Теперь было так скучно у них в доме, они совсем не могли ладить, они ссорились поминутно и только не в доме — в поле, в лесу — мирились и ладили. Им было хорошо врозь. Так быстро наступило это — почти разрыв, полный, неминучий.
Как стало грустно, когда наш дом, к которому мы привыкли и прижились окончательно, вдруг развалился и не с кем было купаться, потому что Рая нынче уже не плавала так долго, она совсем не купалась, не ходила в лес за грибами. Они уже больше не ползли на дороги, не ломились из-под земли, не прыгали прямо в руки.
Но в лес мы все-таки ходили. Да, бежали, ехали на велосипеде, на лодках, на подъезжающих телегах. Бежали в лес со всех ног. Мама шла с нами далеко. Мама была нужнее нужного, милее милого. Так давно не видеть ее — пытка. Сколько? Два месяца, с наездами по воскресеньям. Разве это видеть? Это просто так — повидать. А тут мама всегда, но идет в лес — и я с ней, и я? Мама идет в магазин или едет на лодке в другое село — и я, и я с ней. Для мамы к ее дню рожденья созрел белый налив и пекут пироги с черникой и сливками. Для мамы собираем лилии в речке и плетем венки, украшаем стол к празднику. Мама — именинница, ей подарили два помидора и массу цветов, фотографии и конфеты, для мамы хотели сделать мороженое — оно не взбилось, осталось сливками со льдом, но это было все равно черт знает как вкусно, пусть его никто не ел, кроме нас. Мы — ели, еще как ели!
Все созрело: молодая картошка и белый налив, маленькие помидоры и всякая зелень, клубника и малина — все, все: и морковка, и огурцы, которые уже приелись — даже со сметаной и луком, укропом и всяким майонезом. Салат из одних огурцов, что это — скучно, просто скучно, а вот помидоры — это да. Как красиво накрыли стол и положили прямо в саду, на скатерть, цветы и венки, а из лилий сплели такие гирлянды, что и положить было некуда — повесили над столом, и довольная, веселая мама сказала:
— Так позови же своих!
А своих было нельзя звать, они просто все растворились, исчезли кто куда: Саша на велосипеде, а остальные — в лес и вообще неизвестно куда.
Радостная, я бегала по улицам и искала — где, где все? Их не было, и только вдруг мне встретился он, человек в очках, человек из машины, он так рассеянно глядел вокруг, он так смотрел вокруг себя уныло и грустно, что очень обрадовался мне, и я пригласила его:
— Пойдемте со мной!
— Куда?
— На мамин день рождения!
— Мамин?
— Мамин.
— Так я… должен рубашку надеть, — он был в майке, — одну минуточку.
— Пожалуйста.
Он ушел и скоро вернулся со свертком, с камерой, с козырьком на глазах, он, который только что выглядел, пожалуй, даже хорошо, очень свежим, выспавшимся, совсем не таким, как был в первый день, опять стал похож на марсианина.
И снова я заколебалась, можно ли его привести и показать своим — можно или нет? Вот они сидят все там за столом, едят пироги и картошку, и вдруг я приведу его… Тут показалась Рая, и я ухватилась за нее: ведь Раю все знали и даже любили, Рая была наша, а с ней он, пожалуй, был уместен, и я закричала:
— Рая, Рая, где Саша? Я ищу вас и зову — скорее пойдемте!
И Рая сразу согласилась, она готова была с ним всюду. Даже на день рождения. Даже на свадьбу и похороны, на край света… Это были не мои злые слова, а Сашины, я знала, но так или иначе она шла со мной и с ним сразу. Она даже не думала о подарке, да ей и нечего было дарить, она все равно ничего не могла подарить.
Человек из машины шел преспокойно, шел, как будто так и надо было, будто он всегда ходил на дни рождения к маме, будто он знал всех наших, спокойно, весело он поклонился, здороваясь со всеми, и передал маме сверток-подарок: «От нас с Раей», и всем стало интересно посмотреть, что там. Мама развернула сверток, и все ахнули — там был коньяк, колбаса и левкой с грядки его хозяйки.
— Ну что вы, что вы! — Мама так была удивлена (ей дарили помидоры…), она даже не знала его имени, и мы все не знали — и вдруг такой дар. Хорошо бы одна колбаса — это уже лакомство, но еще и коньяк, цветы…
— А я, — сказал он, — сам делаю коньяк и цветы, я волшебник по профессии, и это очень тяжело, а зовут меня Алексеем Ивановичем, Змеем Ивановичем, и ем малолетних, пуговицы, как косточки, выплевываю, — как он разрезвился, этот потешный человек, который падал нам на голову и казался таким странным.
И сразу воцарилась такая непринужденная обстановка, как будто и не бывало наших ссор и распрей, будто все происходило давно-давно, и Саша, милый мой Саша прилип к забору на своем велосипеде, был позван и посажен рядом со мной и ел пироги, ел, уписывал и вымазался черникой и вишней по уши.
Ах эти пироги с вишнями и сливками!..
Нам каждый день приносили молоко в кринках и ставили его на холод, а мы снимали толстый слой сливок и пили снятое молоко, как могли, сколько могли, хоть пять литров в день, и сливки, сливки, густые и не очень, мазали на теплый хлеб, а если нам давали пироги, клубнику или чернику со сливками, то это был пир горой, пир на весь мир. И вишневые пироги были самые удивительные. Их было делать так долго — чистить шпилькой косточки, ставить тесто, топить печь и долго ждать, пока поднимется тесто, пока вишни пропитают все тесто, пока сливки смешаются и растворятся с сахаром, но после — это было волшебно, прекрасно — пироги со сливками и вишнями — лучше уж ничего не бывало на свете, разве что купанье в холодной воде и долгий сон, а утром хорошая погода и мамины утренние слова:
— Идешь в лес?
— Да, да, конечно!
Хотя так еще спалось, так еще виделось все во сне радостное и светлое, такое теплое и тягучее счастье сна, но лес был лучше.
Но вот принесли щук с салатом — боже, как вкусно! Как это было вкусно! И никакой коньяк, никакие пироги, никакие цветы и помидоры не могли восхитить нас больше, чем щуки, только что пойманные, только что из печи, только что обсыпанные всякой зеленью и перчиком.
Ел Саша, ела Рая и наш человек из машины — тоже ел за обе щеки.
Он даже не шептался с Раей, он даже не глядел на нее, он ел и был слегка пьян, и все были пьяны, и не слегка, даже хозяйка, которая по случаю торжества приоделась в свой лучший платок и принесла нечто мутное, очень пахучее — самогон, который, кажется, никто не пил, кроме нее, но все пробовали, содрогались и… хвалили.
И уже все были немножко слишком веселы и рады, когда настал вечер и все разбрелись кто куда — кто домой, кто на озеро, кто вдоль деревни, как обычно, кроме хозяев, которые остались пить и есть, песни кричать, как им этого хотелось.
А наши ушли в лес, далеко от деревни, чтобы там повеселиться, как им хотелось, порадоваться от всей души. Да, они умели радоваться. Радовались, и все тут, смеялись беззаботно, будто не приближалась война, блокада и все то, что после случилось. После войны казалось, так уж знали все заранее, казалось, что предвидели.
А тогда просто жили, и все тут, веселились, когда хотели, и смеялись.
Как хорошо смеялись в тот день маминого рождения, и мама сама смеялась лучше других и пела свои цыганские романсы в цыганской шали в том чудном настроении, когда бывала в голосе. В лесу продолжали веселиться у костра, там было просторно, на далекой поляне, с людьми, которые знали толк в шуточке. Они знали, как весело жить, как можно дурачиться здесь, на просторе, ставить целые спектакли, водевили, разыгрывать друг друга, дурачиться до утра, чтобы утром слышать упреки бабушек и тетушек, которые не могли бежать на поляну и потому тоскливо ожидали нашего возвращения и выговаривали:
— С детьми не хотите считаться? Если уж с нами не хотите, то их пожалейте.
А детям было во сто крат веселее с ними, живыми и даже юными, смешливыми и радостными, чем с бабушками, которые не могли так вот беззаботно веселиться, а только ворчать, упрекать, сердиться, что не пришли вовремя, не сделали того и того, для детей, якобы для нас, а на самом деле для них, не исполнили их воли, их надежд на то, чтобы слушались, чтобы все было как им нравится, а как им нравилось больше — этого тоже никто не знал, да и они сами тоже.
А родители умели жить на свете, они даже могли снимать фильм — с помощью Алексея Ивановича, — когда бык напал на нас.
Мы шли, и вдруг бык разъярился, что-то его рассердило, и он кинулся на нас — стал ни с того ни с сего рыть землю копытом, страшно опускать голову, мычать и кидаться, и тогда Алексей Иванович схватил хвою камеру и стал снимать, когда кто-то из наших парировал удары жердиной, старался отогнать быка, а бык все яростней хрипел, кидался, а наши, смеясь, увертывались от него и даже дразнили. Кто-то взял красный платок и повязал себе голову, кто-то подыгрывал ему и смеялся, а бык нападал и нападал на нас, кидался, и все, смеясь, увертывались от него, а Алексей Иванович снимал и стрекотал своей камерой.
Картина была смешная и страшная, потому что позировал больше всех тот, кто повязал голову платком, а быку и в самом деле не нравилось это его позерство, и он яростно кидался на него, желая задеть его рогами, но тот увертывался, и все хохотали до упаду, и визжали, и бегали вокруг, а больше всех старался Алексей Иванович, потому что он очень хотел снять кадр, а все было куда серьезней, чем нам тогда казалось, потому что быку на рога или под ноги было попадать нельзя. После, много после, нам говорили хозяева:
— Вот храбрые люди! С быком воевали и справились, а ведь он не одного затоптал и убил человека, пропорол живот, его надо бояться, он норовистый.
Бабушки, вослед хозяевам, тоже любили говорить, что всего, всего надо опасаться, не только быка, не только купания в холодной воде, но и далеких прогулок, и леса, и поля — всего, даже птиц небесных, например голубей, которые якобы могут заразить нас пситтакозом, кур, которые тоже могут быть заразными, и так далее.
А родители ничего не боялись — ни поездов, ни быка, ни холодной воды, ветра и дождя. Они и за нас не очень боялись — и зря: мы могли наделать всякой ерунды, хотя кто знает, что случится с человеком в том нашем возрасте, что ему взбредет в голову — влюбиться в Алексея Ивановича или сражаться с быком вослед взрослым.
Нам очень хотелось победить быка, взять его за рога и повергнуть ниц, как этого хотели и все мужчины, кто сражался с быком — отец Лили или еще кто-то там, не помню, но, вероятно, для того и сражались, чтобы быть храбрыми и понравиться, для того и снимались на пленку, чтобы нравиться, чтобы веселиться.
И Алексей Иванович резвился со всеми вместе, даже больше других, и Рая была радостная с ним, а Саша бесился все больше и больше, страдал за нее и, может, сам по себе, а ей было все равно куда и зачем, лишь бы с ним, Алексеем Ивановичем. Саша чувствовал, что она просто своевольничает и хочет во что бы то ни стало быть взрослой и даже совершенно свободной. И Саше хотелось во что бы то ни стало отвратить от него Раю, но чем больше он старался, тем сильнее она сопротивлялась, и теперь, на дне рождения, Рая, слегка пьяненькая, вдруг сняла с себя кораллы и надела их маме на шею, а мама, смеясь, сняла их и снова надела Рае, и так было до тех пор, пока Рая чуть не расплакалась, а мама, всегда нежная к другим детям, как мне казалось, и действительно очень внимательная к другим, сказала:
— Я уже сержусь и совсем рассержусь, если вы не возьмете их назад.
— Нет, не рассердитесь!
— Почему же?
— Потому, что я… от всей души!
— А я рассержусь! — сердито повторила мама, и действительно твердой рукой надела ожерелье ей на шею. — Все!
И тут подоспел Алексей Иванович и долго шептал что-то Рае на ухо, может быть то, что он ей не велит дарить, или то, что мама права, или, как казалось нам, что он ей подарит бриллианты, а не кораллы, а вернее всего, что она умница, что он пойдет завтра за грибами или поедет, что грибов полно еще и он хочет непременно их собрать, а без нас ему не собрать, что было известно.
Что он там мог собрать? Знал ли он вообще не мосты, а места? Не знал, да и грибов не хотел, верно, он хотел ехать с Раей, так нам казалось, он хотел просто быть с ней, и она тоже — ехать во что бы то ни стало — на машине. И они исчезли утром, и все тут — исчезли. Куда они делись? Никто не знал, просто не знали, и все тут. Уехали утром или ушли, удалились на болото? Мама тоже думала о том, что они исчезли.
Во мне же жило одно чувство: ревности. Мама должна была думать только обо мне, больше ни о ком.
Хотя Саша очень интересовал меня, я, пожалуй, думала гораздо больше о Рае, чем о нем, нужно было во чтобы то ни стало вернуть дом без взрослых, мне нужно было, чтобы повторилось то состояние веселой беззаботности, вольности, Раиной воли, Сашиного смеха, наших спортивных и грибных увлечений и даже того унылого иногда существования в дождь, когда мы ожидали просвета в облаках и ждали новых грибных восторгов. (Мы не очень любили грибы, во всяком случае не умели их готовить, а сушеные тем более, но отдать взрослым или просто увидеть их — было для нас особенным восторгом.)
И Саша в своем доме это был не просто Саша, а мой Саша, тот самый, который умел улыбаться до ушей, вбегать в воду с визгом и ездить на велосипеде без устали.
И они удалились в неизвестном направлении или, скорее сказать, в известном всем направлении: на болото. Туда идти было далеко, но они не поехали, а пошли. Это было даже хорошо, что они не поехали: мы и то знали, что ездить вдвоем далеко в лес несколько подозрительно, лучше бы уж взяли кого-то с собой вроде мамы или нас, но они исчезли, исчезли, делись, им было ни до кого, как нам казалось.
— Имеет сельская свобода свои прекрасные права, — говорила мама.
— Как и надменная Москва, — добавляла я только потому, чтобы все поняли, что я знаю и умею говорить в тон.
Все и так знали, что уж чем-чем, а литературой мы баловались, знали, читали, что этим нас не удивишь, что мы можем и спектакли ставить, и пьесы писать, правда не очень оригинальные: например, Золушку на свой лад, что и шарады и пантомимы мы умеем вослед взрослым, что у нас это в крови и от взрослых, что они все ушиблены этим, и навек. Они готовы всегда насмешничать и даже разыгрывать кого-то в духе Гоголя, принимая тон Чичикова или даже старушки Коробочки, которая ехала выяснять, почем нынче мертвые души.
Они же могли, научили нас говорить на том привычном для них языке, грубоватом, как у Зощенко. С другой стороны, и Метерлинк был им не чужд, да и нам тоже.
Да, мы ставили Метерлинка, и хоть спектакль не состоялся, все-таки сам Метерлинк запомнился на всю жизнь.
Но их все не было и не было.
Где они могли быть?
Саша был вне себя, да и мы тоже. Организовывалась экспедиция, розыск: мы должны же были их найти, обнаружить, спасти, отвести удар. В чем состояла трагедия, мы еще и отчета себе не отдавали, но нам казалось, что она уже произошла.
Только дети и старики имеют такое пылкое воображение, могут предполагать нечто несусветное, страшное и даже трагическое, имеющее некую сексуальную подоплеку. Только дети и старики так сосредоточены на чужих бедах, хотя на самом деле это их собственная неудовлетворенность. Они и не предполагают, что сами толкают людей на те поступки, которые уже как бы свершились, но на самом деле не совершались. Можно было их толкнуть на этот поступок, разрешить своей уверенностью в том, что они уже грешны, хотя они и не были грешны.
И он, человек в очках, Алексей Иванович, который был совсем измучен и будто бы даже забыт, стал другим, и даже сражался с быком, и покорял легко, как на арене, не было другого человека, который был бы беден и богат, смешон и силен, и не потому, что был смешон, а потому, что хотелось смеяться, просто смеяться постоянно, не над ним, а даже скорее над собой, вообще потому, что было хорошо.
Да, теперь уже дом без взрослых больше не был домом без взрослых, а просто домом, где происходили далеко не детские трагедии, где сражались Рая и Саша и не было им мира.
Вот они жили среди нас и даже веселились от всей души и смеялись над тем каменным лицом, которое умел делать Лилин отец, смешивший даже Лилину бабушку: ее рассмешить было трудно, зато помню мамин прекрасный смех, такой славный, естественный, будто по льду рассыпались камешки, будто издали слышалось ржанье молодого жеребенка или хорошо, бегло сыгранная гамма, которую только и умели играть великолепные музыканты и мама.
Так они резвились перед самой войной, дурачились как маленькие. Например, Алексей Иванович притворился мертвым и его несли на носилках далеко, к костру в лес: он лежал и не шевелился совершенно, хотя его и тормошили, поднимали с земли и наконец устроили над ним суд: сели вокруг и курили трубку — одну на всех, — и каждый произносил свой приговор:
— Казнить нельзя помиловать, — сказал отец Лили.
Пошла трубка по кругу и досталась даже мне, и, когда я взяла ее и затянулась впервые, сказала дрожащим голосом, боясь ударить в грязь лицом:
— Положить головой в муравейник. Привязать к двум верхушкам деревьев и отпустить.
И вдруг приговор Раи:
— Отвезти его на машине.
Так как никто не умел водить машину, кроме него, то это звучало необыкновенно, но Рая продолжала:
— Подарить ему еще одну машину. — И всеобщий смех.
Он был вынут из носилок, и суд продолжался…
— Нести каждого обратно в деревню на себе.
Это был жестокий приговор: путь был не очень близким, а он не был силачом, пожалуй, даже слабее нас с Сашей, но это был настоящий суд охотников за головами. Согласно правилам этого суда, Лилин отец произнес самый страшный приговор:
— Простоять под холодным водопадом, пройти босиком по углям и отрубить голову врагу, чтобы сделать тцанцу.
И он вдруг воскрес:
— У меня нет врагов.
— Чтобы делать тцанцу, надо иметь голову по меньшей мере.
— Да, казнить нельзя помиловать.
Прекрасно светились загорелые оживленные лица, и было так славно, он восстал из мертвых и покорно подставил спину огромному, даже тучному отцу Лили, и тот серьезно проехал на нем триста шагов, слез, и тогда он схватил меня и Сашу разом, и мы узнали, что у него сильные руки и вообще не так уж он слаб, а потом мама сидела амазонкой у него на спине, и была Раина очередь, но Рая куда-то делась, исчезла.
Все растворились куда-то в темноте, ездили друг на друге верхами — например, Лилин отец вез нас троих: Лилю, меня и Сашу. Кто-то закутался в простыню и двигался как тень, как приведение появляясь в тумане, а мама пела тирольские песни.
Как было весело, как смеялись все вокруг. Все во мне смеялось и веселилось: быть, быть на свете, существовать, летать в небеса. И веселился Саша, милый мой Саша, забыл, как забыл про свой велосипед, что было чудом, а теперь велосипед дремал где-то там в крапиве, жил сам по себе, как и Рая оставалась — в лесу, в поле? Где? Мы не знали, мы были так рады, как никогда.
А Рая оказалась дома. Вот так диво! Она уже спала. Ревновала? Страдала? И то и другое, тем не менее она спала.
Такой была она и сильной и слабой, и женственной и мужественной.
Она знала, что сильнее его и он ей нужен только теперь здесь, на даче, но Саша этого не знал, как и мы тоже. Мы внушали им это и ждали от них чего-то, и они должны были совершить то, что мы хотели — не хотели, чего боялись — не боялись.
Ахти, боже мой, мутные страсти, некое волшебство, что составляло и нашу жизнь. Ведь мы со своими страстишками желали особенного, необыкновенного зрелища, зрелища, спектакля, который не состоялся, а мы хотели, чтобы он состоялся.
Так, ставя спектакли в доме, мы разыгрывали драму наяву, настоящую драму.
Так ставили Золушку в моей интерпретации, но смеялись не зрители, а мы сами во время действия.
Нам было весело, на нас напал смех. Увидев самих себя, намалеванных, в плохих самодельных костюмах, мы смеялись до упаду и даже закрыли занавес, чтобы отсмеяться всласть, и получилась длиннейшая пауза, а мы потом спрашивали: было ли заметно, именно заметно, что закрыли занавес, и расстраивались, что спектакль провалился.
Да, конечно, было заметно, и все заметили паузу и смех за сценой, хотя и роли мы знали и так хотели сыграть, как подобает, но он провалился…
Разумеется, в сандалиях и сарафанах, в футболках и трусах мы сами себе были смешны, да и опыта не имели — надо сказать, и не стали актерами вообще.
* * *
Хороши были вечера, полные чудес, опять же наполненные артистическими устремлениями взрослых, когда Алексей Иванович изображал пантомимой известные всем стихи Лермонтова: «Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой».
Он садился, скрещивал пальцы перед глазами, изображал темницу как мог, поднимался с земли и делал вид, что кормил кого-то соской, парил в воздухе, и так далее. Это была такая прелестная шутка, балет, такое вдохновенное веселье, что и не передать.
В затейливом действовании было уже заложено будущее, ныне прославленное на весь мир, балетное пантомимическое начало, артистизм, признанный всеми и делающий чудеса.
Они, ставшие после кем-то там значительным, делали уже тогда свое дело, а мы — за ними.
Мы, которые не знали устали, не хотели конца лета, не хотели заниматься тем, что нас заставляли делать в школе, не хотели повседневных и педантичных забот, не хотели вообще педантизма, который все равно был нужен или не нужен — бог весть, бог весть…
Мы жили той же жизнью, что и они — легкие и веселые люди, артисты в широком смысле этого слова, то есть художники, занятые тем, чтобы дополнить мир своим существованием, расцветить его каким-то там своим способом, своим шутовством и веселостью. Мы просто жили, и все тут.
* * *
А Саша, страдая, конечно же преувеличивал, да и мы тоже. Ему казалось страшным просто их уединение, отсутствие, хотя на самом деле все собирали ягоды, грибы, все ловили рыбу не тут рядом, около деревни, а на речке или в своих местах, где им уже случалось однажды или дважды поймать щуку, что считалось таким блаженством, что щуку взвешивали, обмеряли и даже иногда рисовали. Во всяком случае, всегда фотографировали отца со щукой в руках, с блаженным видом добытчика, кормильца.
И лицо поймавшего блаженное, ибо щуки, которые именуются ныне сорной рыбой, поедающей драгоценных мальков, водились там в большом количестве, да и сейчас водятся.
Трагедии не должно было произойти, она и не произошла, хотя суть трагедии далеко не в том, что предполагал Саша и все мы, а именно в том, что она не произошла, оттянулась на некоторые неопределенные времена, а вернее сказать, осталась в голове, в сердце, во всем организме — любовью, жаждой, назовите как хотите, а вернее сказать, тем состоянием неутоленности и ожиданием этой утоленности.
Они просто вернулись, вдруг появились, просто принесли бруснику и грибы, а Саша исколесил весь лес на велосипеде и не принес ни одного гриба и ни одной ягоды, ничего, кроме своих обид, раздражений и голода.
Нам казалось, что Саша не читает вовсе, что он только на своем велосипеде и ездит, что он маленький, но он читал, он смотрел фильмы, он знал даже «Трех мушкетеров». Он видел эти фильмы и запомнил их с такой страстью, с какой и запоминают только в детстве, в юности. Он предавался им всей душой, он и был мушкетером и рыцарем, был даже королевой и королем разом, и тут вдруг взыграло его голодное и ретивое сердце (а я тоже ревновала без удержу, без толку, без головы, могла наделать тысячу глупостей и сделать то, чего совсем не желала, но что-то удержало меня).
Когда они появились такие довольные, с полными корзинами грибов (из них многие были совсем плохонькие) и Рая была снова румяная и светлая в своем платье и бусах как вышивка, Саша, наш веселый, добренький Саша, увидев их, подбежал к ним и, пыжась из последних сил, стараясь стать на цыпочки и выглядеть взрослым, крикнул:
— Я, я вот теперь, вот сейчас побью вас, драться, сейчас… — Ему было трудно говорить, все это было смешно и нелепо. — А ты, ты… — и он хотел ударить Раю.
Она удержала его, но он все-таки порвал ее бусы, и они посыпались по дорожке. А Алексей Иванович растерялся, да, он просто растерялся, как растерялся бы человек, если на него налетел баран или индюк; он не мог, не умел справиться с ним, этим мальчишкой, который мог разбить ему очки, разорвать лямку камеры и даже его поцарапать.
После, много после, он возмутился, и смеялся, и рассказывал об этом с юмором, но тогда — он просто остановился и отступил, он не схватил его за руки, он не удержал его, он отступил, и вся эта сцена была не из красивых — ни для него, ни для всех тоже.
Только Рая сказала:
— Ты взбесился? — и удержала его руки, но он вырвался и удрал, он разорвал ее бусы, и они разлетелись на траву, в канаву, в крапиву, и Рая не стала их собирать, хотя это были красивые бусы и сочетались с вышивкой кофты, — так была весела и рада лесу и прогулке с ним.
* * *
Господи, когда теперь вспоминаешь первые влюбленности, эти увлечения, то невольно удивляешься, что и имени не можешь припомнить, да что там имени — облика, так, нечто неопределенное, но помню отчетливо и зримо Сашу — я нашла его на мельнице, он грустно сидел на мостках, не ловил рыбу, не купался, просто водил прутиком по воде и глядел на воду; увидев меня, встрепенулся, когда я подошла, тоже не без фанаберии, к нему:
— Ты тут теперь будешь всегда сидеть?
— Вот и буду.
— Пойдем…
— Куда? — он смотрел так просительно, и все это означало, что он не знает, куда ему деваться и что делать. Он — только теперь я увидела — так подрос за это время, так стал похож на юношу, таким стал даже суровым, грубоватым.
— Пойдем к нам, — сказала я.
Он нехотя поднялся, нехотя поплелся за мной.
Я шла быстро и вдруг стала смеяться у самого дома, смеялась, зная, что нельзя, что надо бы объяснить ему, почему мне так смешно, и, видя, что он совсем рассердился, что он убежит сейчас, сказала:
— Как ты его… Он так испугался!
— Он не испугался, а я все-таки хотел бы его…
— Зарубить, — подоспела я.
— Нет, просто… дать между глаз.
Было такое ходячее выражение, было в ходу в школе, во дворе, вообще было, и нам нравилось. Пожалуй, это было мужественное выражение, так нам казалось, не столько жаргонное, сколько мужественное. И Саша так его и употребил, кстати, а я скорее повела его к нам, чтобы хоть накормить, и он стал пить молоко и есть печеные яблоки, хлеб, все, что было. Они, взрослые девочки, в то время собирали зеленые яблоки и пекли их в печке — сначала это сделала я, собрала и испекла яблоки, они их съели и положили в пустую миску записку: «Спасибо!» — потом и они сами собрали яблоки — много и пекли их теперь для нас. Мы с Сашей съели их и не оставили записки, нам было не до записок. Мы говорили о том о сем, избегая страшной для нас двоих темы и прекрасной темы наших с ним отношений — ну что такое Рая и Он, когда есть на свете мы с ним, Я и ОН — ведь мы тоже живем и тоже любим и страдаем, а Рая… Они — старше, и им нравится все то, что им хочется, а нам нравится свое. Да, нравимся мы друг другу, и больше ничего нет другого на свете: ОН и Я.
Он оттаял, он стал другим, когда в тепле и сыте посидел здесь, в пустом доме. Он совсем отмяк и теперь глядел на меня и думал только обо мне — может быть, чуточку о нем, но и обо мне, чего мне и хотелось больше всего на свете. Мы тихо сидели в нашем доме, не в том пропавшем доме без взрослых, а нашем, вдруг опустевшем и потому особенном. Наш ведь был лучше и просторней, светлей и вообще другой. В нем помещалось так много людей, в нем было тепло и всегда чисто, и наша веранда, крылечко, огромный крытый двор, огороды, сад и картошка — простор, все это было куда как славно, лучше, чем у Раи. Гораздо лучше, только мы не замечали разницы, потому что нам надо было одно: волю. И мы ее потеряли вместе с домом.
Но дуэль, поединок, назревала, была вот-вот уже готова случиться. Саша не очень, не очень забыл, он помнил, что нападал на него, грозил, что он хотел защищать Раю. Он помнил вполне, знал, что это не просто детская угроза, а настоящая распря происходила между ними, и кто победил бы в этом поединке — не физически, а нравственно? Он от этого не отказывался — победить, он хотел — и побеждал.
* * *
Да, никто не победил на этом поединке. Алексею Ивановичу казалось, что он, а нам казалось, что мы. Смотря что считать победой: увечье, унижение, смотря кто и каким образом хочет победить: побежденный может быть куда как сильнее, а победитель слабее. Давно известны случаи, что выигравший сражение может упасть в обморок от какого-то пустяка, скажем, оттого, что на него напала маленькая собачонка или ребенок с игрушечным пистолетом. Другой считает себя победителем, если человек ретировался, удрал, как это случилось тогда: человек в очках уехал, вдруг взял и уехал.
Он снова стал для нас человеком в очках, а не Алексеем Ивановичем, к которому уже привыкли все и даже считали своим, вполне своим, шутившим так же, как и другие, и умевшим попадать в тон всем нашим.
И вот он ретировался, а Рая осталась. Мы видели: его машина удалилась.
Он уносил вещи от хозяйки, он проверял свои шины, переливал бензин и потом уехал. И пыли не было и звука лишнего — никто не махал платком ему вслед, не вытирал слез и, кажется, не тосковал: Рая своей твердой походкой, взяв полотенце, отправилась на озеро в последний раз поплавать. Это мы видели сами. А Саша думал, по-видимому, только о том, что уехал, уехал этот человек, наконец-то, и думал о том, что мы победили и возродился дом без взрослых.
Теперь, может быть, и Саша вдруг стал сожалеть о том, что грубо и глупо вел себя не только с ним, со мной, Раей. Да, больше всего со мной, потому что Рая же заслуживала какого-то порицания, она действительно могла сделать то, что воображал Саша да и все мы, а Саша остерегал ее, но и конечно же ревновал, а я — его. Трудно было сказать, к кому я ревновала больше, к Рае или к тому человеку, который мне не нравился с самого начала, даже его шутки не казались приятными. Так чуешь в детстве умирающую плоть, некое тленное состояние, хотя оно кажется более творческое, чем какое бы то ни было, но ведь в детстве, в благорастворении воздусей не хочешь знать того, что происходит с другими. Можешь оставаться ребенком долго — всю жизнь. Правда, смотря что считать инфантильностью: образ действия, мыслей, открытость, непримиримость, эгоизм. Есть дети маленькие старички, есть взрослые маленькие дети.
Я так много знала, видела старообразных детей, из которых после ничего не выходило, даже простой глупости они не совершали, и наоборот, я утверждаю в который раз, что дети вполне взрослые существа, которые могут сказать, сделать нечто необычайное, необходимое всем. Давайте же слушать детей, ведь мы их заставляем слушаться, а не они нас. Вдруг они нам подскажут теперь, что делать, как быть. Вот проснулись мы однажды утром и стали делать то, что им взбредет в голову: есть мороженое, удить рыбу, собирать грибы, ходить на голове, спать целый день, а ночью бегать по улицам, плавать в грязной воде, поджигать дома, изобретать порох и взрывать все кругом — разве не это делали взрослые люди и делают по сию пору? Разве не взрослые люди — и даже старые — затевают войны, тешат свое злобное начало, разве не они стараются выиграть и победить? Только они не так отходчивы, как дети, только им гораздо больше надо всего, а ребенка утешит и маленькая победа, маленький подарок судьбы, маленькая свобода и завоевание: он настоял на своем, и баста — утешился, а взрослого человека не уймешь, он настойчив до беспредельности…
* * *
А Саша все страдал.
И почему, казалось мне, думалось, я, такая веселая, живая, не занимаю его, а занимает Рая со своими дурацкими романами, со своими бусами и плаванием — занимает? Ведь я должна его занимать. Вот я, в новом выглаженном сарафанчике с крылышками, ну немножко косолапая и не совсем совершенная, должна его привлекать я, а не взрослая сестра, никто другой. Пусть она там выходит замуж за кого хочет, хоть за этого старого человека в футляре, за крокодила, но мы знали, что она может выйти замуж и уйти из замужа, то есть ошибиться и сделать ненужную для себя и для всех трагедию в четырнадцать лет. В четырнадцать лет всегда делают ошибки, так и должно быть, но нам и самим было чуть меньше, мы и сами не очень разбирались во всех тонкостях бытия и любовных отношений. Да мы просто хотели любви, и всякий объект другого пола был уже предметом вожделения. Он раздражал, он привлекал, манил, заставлял бежать и жаждать.
Так мы сидели с Сашей, смотрели друг на друга и обменивались мыслями. Он вдруг будто бы впервые заметил, что я девочка, которая рядом с ним, что я теперь объект его устремлений и я ему нравлюсь. Он с удивлением заметил это, а я почувствовала.
— Пойдем выйдем отсюда, — сказал он.
— Пойдем, — ответила я с некоторой паузой, уже рассчитанной на успех, уже слегка пренебрежительной (ты у меня есть, ты мне не очень нужен).
И мы пошли. Он все еще искоса смотрел на свой дом, на озеро, в поле, он все еще был немножко озабочен своими трагедиями, но мы уже шли и были вместе, мы шли на мельницу, и было так хорошо. Мы шли той походкой влюбленных, которые идут, будто танцуют, то есть чувствуют движения партнера, каждый его шаг. Они идут — плывут, и все вокруг них: последнее неяркое солнце, сжатое поле, рыжий лесок вдалеке и яркие флажки осинок.
Все распри и обиды, дуэли остались где-то позади, разговоры о том, кто и в чем виноват, ссоры и арии Ленского, то есть его бессонная ночь и размышления о том, куда удалились его дни и что будет дальше.
Теперь были только мы — он и я — и все вокруг. И он не голодный мальчишка, а успокоившийся и даже, пожалуй, сытый человечек, который вдруг стал подростком, вытянулся, как это я заметила, когда он нападал на Алексея Ивановича, пыжился и старался подняться на носки, чтобы быть выше, но все-таки уже был не мальчонкой, таким, как приехал, а почти юношей, вытянувшимся и подросшим. Еще немножко, и он стал бы вровень с Алексеем Ивановичем. Просто кость его была тоньше и сам он был хлипкий, но зато его внутренняя уверенность в своей правоте, его задор сделали бы его победителем. И тот почувствовал, понял или просто испугался?
И все-таки он уехал. Мы остались с Сашей, сидели на мостках, и рыбы улыбались нам, и последние птицы кричали своими гортанными голосами и улетали на юг. Мы все это слышали, видели, мы дышали полной грудью, и всякая желтая кувшинка пахла, пусть болотным духом корней и улиток, но пахла так явственно и великолепно, и золотилось поле, давно скошенное и уставленное скирдами, такими светлыми, будто созданными из лучей. И текла дорога между этими полями, вилась, уходила далеко-далеко, и там был лес темный, лиловый, пожалуй даже слишком темный, почти черный на этом золотистом фоне. Нам хотелось тогда всего светлого, яркого, червонного, новенького, нам так светило солнце, что даже белое казалось белейшим, невозможно белым, ослепительным. Так оно и есть: у солнца и любви свои законы: белить все серое и золотить самое тусклое, только черный цвет остается черным, хотя и он при солнце отливает разными оттенками, но все равно ему не нужен яркий день, когда нисколько не светится, не пылает все кругом, как горит.
А звуки сливаются в тот поток радости, необыкновенный ансамбль, почти какофонию, обязательно завершенную в какой-то небесной гармонии. Всякий звук слышен так далеко, даже легкое кряканье уток, даже скрип телеги и звук уключин.
Вот скрипит, приближается лодка, а там далеко слышен мотор, а еще дальше гудок паровоза и чей-то голос, что кричит: «Анюта!», может быть, и не «Анюта» вовсе, но кажется, что прямо здесь, над ухом.
И вот мы сидим с ним на мостках, и видим свое отражение, и понимаем без слов все, что думаем, и видим друг друга в воде и в глазах, в которых бродят лучи и блики воды.
Мы с ним знали то одинаковое, что было в это время, происходило, то состояние невесомости, которое знают только влюбленные дети. Мы парили в воздухе, плыли рыбами, ползли жуками и говорили на внятном нам языке. Знали, чего именно мы хотим: повзрослеть, то есть пройти тот страшный возраст, когда все нельзя, и достичь наконец этого желанного берега — можно. Все можно!
И мы просто не заметили, как пробежало, пролетело, промчалось время и село солнце, и комары вдруг разбудили нас. Они тучами налетели и заставили очнуться. Темно, сыро, холодно. Туман наполз на нас. Тогда мы опомнились: как долго мы сидели? Куда делись, как ищут нас взрослые, которые, правда, разъехались кто куда, но все равно существовали и ждали. И мы пошли обратно, побежали. И были встречены Раей, которая сердито раздувала ноздри, стояла, надменно вытянув шею, и все ее лицо выражало полупрезрение и даже было несколько агрессивно.
Нам захотелось проскользнуть, исчезнуть, не встречаться с ней, во всяком случае такой, ныне торжествующей: «Попались?!»
Да, теперь мы попались. Мы были в их положении, она могла бы взять Сашу за ухо, а меня за косу и дернуть того и другого изо всех сил, она могла бы нас пошлепать как детей. Но она этого не сделала, она презрительно смотрела на нас, и все: дуэли, поединки, просто сказать, драки и возмездия — светились в ее глазах.
Она молчала, но это было хуже, чем крик.
— А я, а мы, — залепетали мы, — были на мельнице.
И она и мы знали, где были мы — на небесах радости, то есть там же, где была она, а мы ее оттуда стащили, сволокли, рассыпали мир ее счастья и сами влезли в него. Мы — дрянные девчонка и мальчишка, которые не различают, не допускают чужих радостей, но допускают свои, мы поняли все, как и она.
Она была отомщена, и воцарился мир между нами.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Глава первая ДОМ НА КАМЕННОМ
Теперь скоро разрушат этот дом на Каменном, простенький дом, обыкновенную деревянную дачку с верандой и мезонином, садиком и оградой. Тем, кто живет в доме, дадут квартиры со стенными шкафами, в шкафы сложат старые картины и портреты, рисунки моего деда и его братьев, кому, собственно, и принадлежал этот дом. Рисунки обыкновенные — тоненькие акварели, масляные портреты; как говорила тетя Маня: «Вот хороший портрет плохой школы, а вот плохой портрет хорошей школы». Уберут старые барометры и маленькие пыльные безделушки, напоминающие о тех, тех родственниках, погибших там, там, так, так или умерших своей смертью тогда-то и тогда-то.
Все это хранит в памяти тетя Маня. Она еще недавно — совсем недавно — любила рассказывать мне обо всех и делала это с таким вкусом и радостью, так изящно и старомодно, что я невольно слушала ее много раз и ни разу не услыхала повторения историй — наоборот, сколько слушала, все больше и больше понимала, что прежде была невнимательна.
Она не только помнила всех, а и вела записи, так сказать, летопись нашего рода, и не пропустила ни одного родственника, ничего не спутала; но записи, содержавшие даты рождений и смертей, всякие числа, перечни работ, были куда суше ее рассказов.
О, как тетя Маня умела держать дом и всех своих родственников в струне, как прекрасно она изъявляла свой гнев и милость младшим, как умела поощрить и отринуть, как необходимо было раз в год прийти к ней с визитом — со старинным визитом, когда она принимала; а запросто, когда хотелось или было по дороге, — не приходили, нельзя было.
Как помнятся мне все эти съезды гостей с детства, когда я жила в этом доме, и запах бензина и свежего дуба — чуть не первые впечатления: тогда дяди купили машину и строили лестницу, которая вела на второй этаж, — потому запах дуба и бензина остался в памяти.
Съезд гостей, и тетя Маня под своими портретами: один портрет сделан так, что лицо, и без того очень тонкое и красивое, кажется особенно портретно красивым, именно про этот портрет говорилось, что он хорошей школы, и второй, который гасил всю яркость лица и оттенков кожи, смазывал линии, был сделан на особенно тусклом фоне — хороший портрет плохой школы, — и сама тетя Маня все-таки лучше портретов и всегда хороша, всегда одинакова.
Есть лица, которые меняются и кажутся в разные времена совсем разными. Но не ее лицо. Оно всегда было так великолепно, что казалось вымыслом, идеальной фантазией художника. Глядя на нее, я думала: нет, этого на самом деле нет, про это пишут; но это было, и было недавно, слышался ее голос — музыкальный, нежнейший и звучный. Помню этот голос с детства: шум гостей и тети Манин голос надо всеми, сквозь всякий шум — мелодия ее интонаций.
Именно с нее я и начинаю свою повесть, потому что без нее я и не вспомнила бы никогда всех своих дедушек и тетушек и других близких мне людей.
Я могла узнать у тети Мани куда больше, но я не умела быть послушной и любимой внучкой, со мной всегда надо было справляться. Лучше всего это удавалось деду и тетке Виктории, которым я обязана всем на свете: она и дед — брат моего родного деда — во время войны взяли меня, и только благодаря им я осталась жива.
Это еще удавалось и маме, которая умерла так рано, в сорок восемь лет, и когда я теперь думаю о ней, то мне кажется, что она умерла только потому, что так хотела. Не то чтобы хотела умереть, но не хотела жить без радости, а радость постепенно уходила от нее, терялась, таяла и растаяла совсем.
Глава вторая МАМА
Всегда жила с ощущением ужаса, что вдруг умрет моя мать — боже мой, что будет, как я буду жить дальше без нее, когда она — это я, а я — она. Она, которая смеется, как я, и смотрит, как я, а я, которая говорит ее голосом, имеет ее походку, делает все, как она.
Все говорили, что моя мать очень красивая женщина, но я с самого малого детства знала ее подробно, ее, большую, с красными жилками на щеках, ее, с тяжелыми веками, крупными порами на лице, ее, для меня тогда безобразную в сравнении с собой, круглой, маленькой, гладкой, как мяч, и только по мере того как я взрослела, она становилась для меня красивее и красивее. Я уже видела ее даже прекрасной, чаще со стороны, или на фотографии, или чужими глазами, которые восхищались, а я следом за ними. Она приезжала на дачу в каком-то новом платье с прорезами на рукавах, в маленькой летней шляпке — вся новая, отдохнувшая от домашних забот, неурядиц, более стройная, чем всегда, и счастливая без меня, без нас. Я знала после, что это выражение счастья, и особенно летнего счастья, и было ее красотой.
Еще отчетливее помню мать в зимнем пальто с высоким стоячим воротником (этот воротник делал ее выше и стройней), ее, улыбающуюся не моей — своей улыбкой, специальной, чтобы сверкали зубы и щеки имели особенную форму, образуя впадинку под скулой.
Вечно в ней был трепет перед всеми и передо мной. Она не понимала, что я не то дитя, которое совсем дитя, а только дитя в некоторых вещах и поступках. Она будто подстерегала во мне ребенка и лелеяла его, а я старалась ей помочь в этом, то есть играла ребенка. Годам к восемнадцати мне удалось сделаться таким идеальным дитятей, чтобы ей было легче (и тяжелее в одно и то же время) обращаться ко мне и скрывать от меня что-то, хотя как бы хорошо было нам обеим без этой игры.
Мои отношения с матерью — в общем очень дружеские — всегда были еще и отношениями для других; эти отношения для других — родных, с которыми мать не всегда ладила, — бывали напоказ и чаще всего неуравновешенными.
Она, учившаяся по-французски в Париже шесть лет и говорившая в детстве по-русски не слишком хорошо, произносившая свое имя на французский манер — Галин, блестяще окончившая музыкальную школу, подобную школе Гнесиных, по классу рояля, игравшая по шесть часов в день, вдруг, ни с того ни с сего, стала мечтать о пении, бросила рояль и брала уроки в тридцать лет. Именно тогда она только начала петь.
«Не описать певицы мук, огромен рот, ничтожен звук» — все, что помню от маминого пения, и еще обиды. Страшные обиды с ее стороны, когда все говорили: «Как ты могла бросить играть!» (Могли добавить: как могла бросить медицинский институт чуть не на четвертом курсе. Это тоже было запрещенной темой: про то, что бросила, нельзя было и упоминать. Так страшно ей хотелось петь.)
Все говорили:
— Но у тебя же нет голоса!
Мать отвечала:
— Есть!
И, совершенно оскорбленная:
— Вы не знаете, что есть природная постановка голоса и есть благоприобретенная. Я могу начать петь, как только научусь.
Кажется, она изъяснялась именно так, но дело было не в словах, которые она произносила, а в ее обиженном жесте и лице, в том, как она все это говорила. И казалось действительно, что она может научиться владеть какой-нибудь там своей диафрагмой или горлом, петь легкими и даже пятками, но все-таки она не пела.
Всеобщее осуждение, ропот родных будто заставили ее не петь, то есть петь плохо, страдать из-за этого и вдруг очутиться в больнице в роли медсестры и тянуть эту тяжесть каждодневной работы и умереть в том же госпитале.
Но у мамы был такой запал радости, беззаботности, веселья, что никакие перемены и потери не заставляли ее глубоко страдать. Она была всегда она, со своей улыбкой, которая до самых последних лет делала лицо ее светлым и таким искренним.
И все-таки была не она со мной, а всеобщее осуждение ее — и я. Это вечное осуждение мамы делало меня ее защитницей и страдалицей за нее. Я знала, что она права, а они все не знали. Я давала ей право действовать, как она хочет, своей любовью к ней. Но ей было мало только моей любви, ей важно было всегда являть себя хоть на какой-то срок веселой и прелестной, чтобы головы оборачивались к ней и улыбались лица. Она и не заботилась о том, чтобы царить в чьих-то сердцах дольше, чем несколько минут, — она угасала, и восхищение гасло. Я знала и это ее неумение да и нежелание удержать интерес к себе. В этом тоже была ее искренность.
Я знала: сейчас придут гости и начнутся разговоры о прекрасном голосе Галли Курчи или голосе Зои Лодий, непременно о Зое Лодий, которую я с тех пор втайне и не любила именно за однообразие хвалебных разговоров о ней — никогда, кажется, ее и не слушала, но, главное, не хотела слышать разговоров о ней. Странная вещь — после, много после смерти мамы, я безошибочно различала в толпе тех ленинградцев, маминых знакомых или людей, которые могли бы быть ее знакомыми, потому что они в разговорах между собой обязательно упоминали имя Зои Лодий.
Прекрасно помню, как после блокады, в Перми, слабые, умирающие от голода люди, говорившие в основном о сухарях и всевозможных своих недомоганиях, вдруг называли имя Зои Лодий, и тогда имя это уже не сердило меня, а только напоминало маму и наши вечерние приемы гостей, которые непременно кончались пением не Зои Лодий, а ее собственным.
Мама никогда не заставляла просить себя спеть, пела непременно, начиная свое неизменное «Войке сапете». Я, следом за ней, могла петь весь следующий день эту арию, и слова: «Кто объяснит мне, это ль любовь?» — звучали у меня в ушах, мучительно заставляя думать о том, что есть в самом деле любовь.
Слово это волновало меня лет с пяти, и теперь, когда мне говорят, чтобы я написала о моей первой любви, то я смеюсь, потому что не могу рассказать о ней толком. Объект, коего имя забыла я начисто — пусть будет Алеша, — явился мне впервые в ангельском виде, настоящим ангелочком в ночной рубашке до пят. (Он мог бы сойти и за демона в своей ночной рубашке.) Мы были окружены настоящими демонятами, прыгающими в кроватках и поющими:
Жук, паук, Академия наук, Залез в сундук И там сидит И все время пищит —песенку, которую сочинил Алеша в честь академического детского садика, куда мы вместе ходили. Увы, все оборвалось моей болезнью, я заболела не любовной горячкой, а прозаической желтухой, и нас развел страшный и тяжкий зверь — карантин, в котором сначала сидела я, а потом он, потом началось лето, и мы расстались навсегда.
Но мамино «Войке сапете» продолжало звучать во мне и в ней гораздо сильнее и без объекта волнений. Оно существовало само по себе, и я знала, что ее и моя радость — это и есть «Войке сапете». Это была вечная способность находить счастье в любом положении; даже в блокаду, когда, полуголодные, измученные, все они носили раненых из палат в бомбоубежище и обратно, вверх и вниз по лестнице, то и тогда, почти задыхаясь, она машинально пела свое «Войке сапете», и молодой ассистент вдруг начинал вторить ей, кашлять и говорить: «Увы, не в голосе», — то есть он острил, а мама смеялась и повторяла его слова другим, думая, что всем тоже, как и ей, это кажется смешным, но они, другие люди, не смеялись. Они, может быть, и всегда не смеялись, им всегда было не до шуток, а уж в блокаду и вовсе. Но мама все равно шутила.
И все-таки погас запал ее радости, умолк маленький гимн пажа, последний раз мама играла у деда на расстроенном рояле — уже негибкими пальцами, — и все-таки играла деду, совсем неподвижному, он умер через месяц, а мама на восемнадцать дней позже. Она играла двухголосную инвенцию — детскую вещь, несколько раз, и в последний, почти как прежде, — молчаливому деду, которого любила больше других своих дядюшек. Хотя что значило для матери любить — для нее это бывал всегда порыв, иногда исчезавший вместе со смехом и радостью.
И она случилась — мамина смерть, произошла.
…Помню маму и себя за роялем. Она заставляет играть гаммы, а хочется скорее-скорее играть пьесы, как она — бегло, и аккорды, аккорды, чтобы звук был певучим и мощным, но мама говорит:
— Научись играть гамму с выражением. Видишь, простую гамму можно играть по-разному.
Мама и играла гамму так, и это меня сердило. Казалось, что музыка — только те, кто играет прекрасно, а я это не музыка — ужас. Садилась за рояль и играла то, что уже знала: пьесы Майкапара. А мне твердили про Баха и про Листа и говорили всякие великолепные слова о музыке, которым я так свято верила, что нисколько, ни капли не верила себе и своей музыке. Вот бы когда мне глухонемой рояль для беглости пальцев, для техники без ужаса разучивания, потому что и мамины занятия были достаточно громки, однообразны и неприятны: долгое повторение одного и того же, и, только иногда, для гостей, для кого-то, мама играет прекрасно, не одну фразу, а все.
И вот наконец передо мной ставят толстую тетрадь с надписью: «Бах», и я, еще плохо читающая, разбираю это имя и кручусь на вертушке от радости. Мама сидит рядом и проигрывает мне правую руку — и, о боже, какое разочарование: это все та же самая гамма! В горле судорога:
— Ты меня обманула!
— Да попробуй, сыграй дальше, послушай…
Но я слышу вариации все той же гаммы.
— Я хочу аккорды, чтобы двумя руками…
— Но у тебя нет техники, ты не можешь двумя руками. Вот научись читать с листа.
Эта нудная фраза еще страшнее гаммы. Я не могу научиться быстро читать с листа, потому что прежде чем выучу ноты, записанные на бумаге, уже понимаю вещь по слуху, по маминой руке. Запоминаю сразу, и все твердят, что у меня прекрасный слух. Я хожу гордая и радостная, нося свой прекрасный слух и неумение читать ноты.
— Вы знаете, у внука Римского-Корсакова слух не безукоризненный, — ловлю жест в мою сторону и тихое слово «лучше». Это значит «у нее лучше» — надуваюсь совсем. «У меня слух лучше, чем у внука Римского-Корсакова». У нас с ним одна учительница музыки, но я его никогда не видела, даже на экзамене, только знаю, что он живет где-то рядом. Внук или правнук, не помню.
Эти слова меня утешали гораздо больше, чем сама музыка.
Спустя много лет — когда была уже брошена моя музыка и сгорел инструмент, когда, уехав из Ленинграда, все искала в Перми, в эвакуации, филармонию и удивлялась, что там нет такой и такого зала, там музыка звучала бедно и голодно, однообразно и несчастно, но все равно ее слушали и будто бы восхищались, а на самом деле не могли толком слушать музыку из-за всех своих и чужих бед, — все равно я не хотела слушать Баха. То мое первое разочарование и назойливость, с которой меня им обольщали, сделали свое дело. Я только и твердила: «Нет, не хочу слушать». И казалось уже, что никогда не вернется то состояние, в котором музыка открывается и все звуки — земные и небесные — становятся более внятными, чем слова. Вся любовь и ненависть, ласка и грубость, тяжесть понимания и прелесть открытия — все это становится тобой — в музыке, все это твое и происходит с тобой. Все божество музыки, что в детстве только влекло и тщеславило — мой слух, — все это было забыто, пока я вдруг, опережая себя, не сказала однажды: «Я люблю Баха» — и испугалась этих слов, потому что вовсе не знала Баха. После оказалось, что я все-таки его знаю, вспоминаю, узнаю, как узнала бы забытые свои детские игрушки и все связанное с ними.
Можно ведь помнить и то, что как-то случайно мелькнуло в тебе и даже оттолкнуло тебя, можно помнить так много случайного более подробно, чем кажется. И чаще случайное запоминается явственнее, чем примелькавшееся. Прутик, брошенный на дороге, рубашка, надетая на левую сторону, ветка яблони, сломанная в порыве радости. И, обожествляя Баха, забываешь, что это все есть в нем — случайное и вечное, живое и мертвое, и все так просто, как лесная дорожка и рубашка, надетая от счастья на левую сторону, — все равно хорошо!
И весь его стиль спокойного приятия мира и великого терпения — разве он для ребячьих ушей? Что́ Бах детскому уху, которому, кроме считалки, нужно так много: и серьезной нежности, и брани, все, все, кроме терпения. Зрелому человеку Бах входит в душу, как ливень в засуху; вот когда он понят всем существом, тогда он уже не он, а ты — в нем. И это не блаженство очищения, а настоящий смысл сущего, это твоя боль и радость, твой мир — вот что такое Бах.
Как странно было мне не слышать мамину игру, маминого Баха тогда, когда она играла, и вспоминать, и слышать эту игру после, когда уже мамы не было в живых, но так именно я и слышала ее, видела ее быстрые пальцы, которые постоянно были в привычном движении игры, даже когда она и не играла — все равно ее пальцы шевелились и будто из деревянной доски или мягкой ручки кресла извлекали звуки.
Глава третья ОТЕЦ И КОСТЯ
Давно, с самого детства: Хибины, апатиты, полевой шпат… Чуть не первое слово: Хибины.
— Где твой папа?
— В Хибинах.
Представляла себе Хибины как хибарку, и еще многое себе представляла…
— Я очень апатична к этому апатиту, — говорили дома мама и бабушка, вкладывая в это еще и антипатию.
А я играла в апатит и полевой шпат. Ломала известку около дверей и приносила бабушке:
— Вот тебе, пожалуйста, апатит. Незаменимая вещь…
Я была болтушка. За это мне попадало. За это меня ставили в угол. Иногда мне так хотелось что-то рассказать, что я просила:
— Дайте мне, пожалуйста, рассказать, а после я постою в углу. — И, видя грозные взгляды: — Ладно, я уж просто так постою в углу, не буду рассказывать…
В памяти моей был случай: отец приехал с Севера, Привез массу всяких вещей, показал шапку с длинными ушами, унты, камни, нож в бисерных ножнах, резные игрушки. Говорил:
— Представляешь себе, маленькая девочка лет шести резала по дереву и вышивала по коже…
Мне было невмоготу, что он все показывает и рассказывает, и все его слушают. Очень хотелось тогда рассказывать, рассказывать, как он.
Я побежала к бабушке и сказала:
— Представляешь себе, у нас в садике маленькая девочка вышивала по дереву…
— Что же она вышивала? — спрашивала бабушка.
— Так… разное, — я замолкала перед надвигавшимся на меня углом.
— Все-таки? — допытывалась бабушка.
— Слонов, — отчаянно сказала я и уже сразу поняла всю бесконечность последствий этих необдуманных слов: эти слоны преследовали меня всю жизнь.
— Опять слоны? — говорила бабушка, потом мама, и я шла в угол.
С этими слонами связывались для меня Хибины и апатиты, постигнутые в углу на всю жизнь.
Когда, спустя много лет, я увидела Апатиты — плоские горы, серые, невысокие, не очень живописные, — я с удивлением подумала: почему отец столько о них рассказывал? Вероятно, потому, что он был дома после мытарств и переходов, рад был вернуться.
Так им надо было в первых экспедициях: скорее, скорее все открыть, пройти, хоть умереть. И умирали: и мой отец тоже, только не в Хибинах, — в Самарканде.
Они любили свои мытарства, им они были даже нужны больше, чем спокойная жизнь, они не чувствовали в ней радости. Им нужны были острые переходы от несчастья к счастью.
Они любили свои мытарства, свое неистовство и хотели жить на грани смерти. Так им было надо: выжить и радоваться жизни.
Самая колоритная фигура среди них — Костя, не хочется называть его фамилию. Пусть — просто Костя, каким я помню его с трех лет. Костя, человек двухметрового роста. Человек, который «отогнул» батарею.
Он «отогнул» ее только потому, что ему показалось: из батареи каплет вода. Так он объяснил:
— Я вижу, что капает вода… вода капает…
Он был растерян тем, что после из батареи хлестал фонтан, комнаты затопило, все кидались с ведрами и тряпками, звонили, чтобы перекрыли воду. Костя тоже суетился.
Он сам не мог толком объяснить, почему стало хуже. Он хотел сделать лучше. За него объясняли, что такой уж Костя, он не может без фокусов. Он привык проваливаться в шахты и там открывать редчайший камень, который сиял только в короне английского короля, да и тот считался искусственным.
Я рассказывала девочкам:
— Костя провалился в шахты времен Агирана Седьмого и там открыл какой-то синий камень.
Сейчас я не решаюсь назвать камень, который открыл Костя, Костя сам очень мало рассказывал о себе и вообще мало говорил. За него рассказывали и о нем, и главным образом отец. Вообще помню всегда вместе огромного Костю и отца, человека среднего роста, но рядом с Костей просто маленького. Костя — спокойный, реакции его замедленны, отец всегда возбужденный, даже взвинченный, часто бывает чем-то недоволен, особенно мамой.
Иногда нарочно, когда рассматривали фотографии, кто-то из гостей или мои приятельницы спрашивали: «Это отец?» — и показывали Костю, я кивала. Когда рассказывала им об отце, то имела в виду Костю, путала Костины подвиги и те случаи, которые рассказывал отец о себе, — всегда хотела, чтобы Костя, Костя был отцом, а не отец, или, вернее, хотела, чтоб оба, оба.
Когда ходила вместе с ними — я посредине, держа их за руки, можно было иногда повисать или подпрыгивать и перелетать на их руках сразу очень далеко, требовать от них от двоих сразу два мороженых, причем от отца часто получать отказ, от Кости — никогда, наоборот, получать от него — всегда — удвоенные порции всего (он сообразовывался со своим аппетитом, потому и покупал всего много).
Отец всегда рассказывал о Косте, вообще о нем все говорили. Говорили, что Костя видел снежного человека и даже писал о нем. Говорили это о нем теперь, не тогда, а теперь, по радио. А тогда рассказывали, что он женился на алмаске. Говорили, что потому Костя и не женился на Лиде, что искал эту свою даму. И повстречал ее на Памире, в кожаной шкуре…
Маленький городок в Хибинах напомнил мне Костю во всех подробностях. Городок не имел названия, и я подумала: а почему бы не назвать этот город именем Кости. Казалось, что Костя и теперь мог бы жить здесь.
И дикое ощущение: вдруг Костя здесь? Я его, конечно, не узнаю, я его ведь и помню больше понаслышке. Ну каким он здесь будет: станет произносить тосты в честь нас, гостей, чистить фрукты ножичком, может быть он совсем забыл, как это «отгибать» батареи? Сам согнулся и звонит всем, чтобы напечатали его работу. И стало так страшно, будто Пржевальский отвел своих верблюдов в зоологический сад, а сам стал просить прописку в Ленинграде и доказывать всем, что он имеет на это право.
Все спорили: как назвать новый городок. Хотели назвать его Кировском, хотя был уже один Кировск, хотели назвать Хибиногорском, хотя был Хибиногорск, и если бы назвали этот городок именами тех старых городов, то какая бы путаница случилась на почте! Кстати, так и было: звонили по телефону и кричали:
— Дайте Апатиты!
— Какие Апатиты, которые Новый город?
— Да нет, настоящие Апатиты.
— У нас апатиты все настоящие!
— Да не валяйте дурака, мне некогда! Апатиты, Академию…
— Так и говорите: Академию.
И пока шли все эти разговоры, я думала о Косте, о том, что назвать город его именем нельзя. Костя слишком рано погиб. Он так мало успел сделать, опубликовать работ, хотя и вспоминают его часто. И там, в Академии наук на Кольском, помнили, знали его имя, но нельзя было вдруг, ни с того ни с сего, назвать город именем безвестного геолога, каких были, может быть, сотни здесь в горах.
Я помню, как в один прекрасный день мама, и тетка, и бабушка пришли домой и сидели молча под лампой у стола. Молча передавали друг другу письмо, молча плакали, сморкались. Это было извещение о смерти Кости: он вдруг, ни с того ни с сего, слез с Памира и пошел в ближайший военкомат. Сел в эшелон рядовым и отправился на фронт добровольцем: никто его не отзывал, никто не велел ему бросать свою работу, а он так вот уехал и погиб — его не знали в военкомате и никто не ценил там, на Памире. Не знали, что он альпинист, бесстрашный человек, почти легенда — отпустили, и он погиб.
И для меня он остался самым геологом из всех геологов, квинтэссенцией всех геологов на свете, самым талантливым из всех, и, верно, только потому, что о нем вечно рассказывали.
Все: мама, отец, знакомые, наконец теперь — даже археолог, даже по радио какой-то ученый. Вспомнили. И все думаю: мой отец погиб в экспедиции. У него работ было гораздо больше, но никогда о нем ни дома, ни друзья особенно много не рассказывали. И Костя ничего не рассказывал. А я о Косте опять все. И знаю почему. Сейчас попробую объяснить…
Вот так, с детства, и особенно в детстве, понимаешь, любишь некрасивую красоту, неуклюжую повадку, внутреннюю оригинальность, без всяких потуг, такую вот первородную, ненатянутую, свою, которая так часто на первый взгляд кажется нелепостью, поражает, вызывает смех и заставляет всех говорить о себе. Так и начинаются легенды о человеке. «Вы его видели? Он огромный, как слон…»
Слон…
Косте двадцать пять лет, он огромный толстый слон, я — маленький слоненок. Костя приносит кило трюфелей и невольно, не замечая ничего, съедает их сам. Конфету за конфетой, так что я, глядя на него, на его жующий рот, говорю со слезами:
— Их не глотать, а сосать надо…
Когда появляется этот громадный пакет — ах, какой восторг, но пакет тут же исчезает на глазах. Взрослые еще не успели сказать: «Что ты, ребенку столько конфет!» — и Костя тут же съедает их дотла. И в то же время, сколько бы он ни съел конфет, я всегда жду появления Кости; и когда он приходит, радуюсь без конца.
Он входит, а я сижу и ем что-то: мне не оторваться от вишен или от еще чего-то. Он входит, я отгибаюсь на стуле, он наклоняется надо мной, и мы целуемся.
— Как Амур и Психея! — говорю я, и все взрослые в восторге. Ого, каков Амур и какова Психея! Острят на эту тему весь вечер, и потом, когда Костя уходит, прощается со всеми, я спрашиваю его:
— Ты когда приедешь?
— Через полгода, — говорит он.
И я со слезами говорю:
— Скудные видания!
И опять разговоров об этих наших с Костей скудных виданиях хватает на месяц.
Никто не понимает, что слово, сказанное однажды, не должно повторяться сорок раз, да еще если тебе пять лет и ты не можешь вынести чужого, взрослого внимания. Это чужое внимание каким-то образом раздваивает тебя, заставляет то ли сожалеть о том, что сказал, то ли радоваться. А в этих раздумьях теряется вся твоя непосредственность. Да и Костю ставили в тупик бесконечные рассказы о нем, хотя все эти рассказы были такие влюбленные в Костю.
Много, очень много людей его любили. И отец, и все мои тетки. И со всеми у Кости были особенные отношения. Одна моя тетка, умная, колкая, встретила Костю на вокзале, когда он в первый раз приехал в Ленинград, и тут же на вокзале решила Костину судьбу.
Они шли по перрону. Костя нес два огромных чемодана, которые были под силу только ему, да и он поставил их, чтобы отдышаться, остановился на минуту и спросил тетку:
— Ну, как твои родители?
— Мои родители, — сказала тетя с кокетливой злостью, — хотят, чтобы ты на мне женился…
Костя вдруг, не говоря ни слова, ушел от своих чемоданов. Он ушел с перрона, ушел с вокзала, потерялся совсем.
Тетя сначала смеялась ему вслед, потом посмотрела на чемоданы, попробовала их поднять — не подняла, и стала кричать носильщика. Еле дозвалась носильщика и извозчика, все еще долго искала Костю на вокзале, но так и не нашла.
Костя так и не пришел за своими чемоданами.
Через несколько дней Костя уехал в экспедицию. Вещи ему переправляли через другую тетку, которая никогда не думала, что она настолько хороша, что ей могут простить любые колкие слова. Она тоже любила Костю, и Костя никогда не оставлял ее со своими чемоданами.
Я до сих пор думаю — что означали эти чемоданы? Были они такими же тяжелыми, как и Костина страсть к тете Лиде, или они просто для него ничего не значили? И, вернее всего, это была та самая страсть, которая заставляла Костю лазать по горам, переходить ледники и проваливаться в ущелья. Это была страсть, которая, не будь Лида так неосмотрительна и не желай уколоть Костю, обратилась бы к ней тяжкой нежностью, а не тяжким непониманием ее светской манеры острить.
Так и осталась она без Кости, с вечными рассказами о нем, и было это со стороны Кости просто жестоко, просто нелепо, как нелепо было ему «отгибать» батарею, как нелепо было погибать от шальной пули.
Больше помню Костю, чем отца, или помню отца, который рассказывает про Костю, или — обязательно — их вместе: отца — маленького — рядом с Костей и часто, очень часто вспыльчивого.
Мать, которая сердится на отца за его вспыльчивость, и никогда — на Костю.
Смерть отца приняла почти безболезненно, да и было трудно горевать долго в шесть лет.
Глава четвертая ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ
Шура была такой же, как Костя, — шумной и нескладной, она была так на него похожа, что одно это заставляло меня радоваться, глядя на нее. Ее нескладность была мне очень приятна, мои складные родители совершенно меркли перед ней.
Шура налетала на меня как шквал, целовала меня, тащила куда-то, тормошила и спрашивала, чего я хочу съесть, где хочу побывать. Тут же я становилась такой, как она, и отвечала на ее восторги — своими. Как только мы кончали обниматься, так глядели несколько минут друг на друга с видом заговорщиков: она кивала мне слегка, а я — ей, это означало: «Удерем?» — «Удерем». — «Сейчас?» — «Да». — «А отпустят?» — «Постараемся».
Я никак не могла определить — сколько ей лет. Всегда мне казалось, что она только немного старше меня, (мне было четыре-пять, ей, пока она жила в Ленинграде и училась в университете, — семнадцать-восемнадцать).
Меня неохотно отпускали с ней, но все-таки мы удирали всеми правдами и неправдами. Мы удирали, и весь город, все его кондитерские, кино, парки, пароходики, садики и театры становились нашими. Мы в один день успевали и в цирк, и в зоопарк, и на Елагин остров. В один и тот же день мы успевали покататься на пароходе, на американских горах, на каруселях и на лошадях.
К моей радости примешивалась ее радость, и, пребывая в этом общем восторге, чувствуя его вдвойне — за себя и за Шуру, а она — за меня и за себя, мы мчались по улицам, и езда в трамвае нам казалась слишком медленной.
Шура очень любила Костю — как и все, — и еще больше, потому что она все делала страстно, порывисто и неукротимо. Она уподоблялась Косте не только потому, что была его родной сестрой, но и потому, что подражала ему нарочно. Он слезал с гор радостный и возбужденный, приезжал в Ленинград с особенным ощущением оконченных трудов, и она приезжала после зачета или экзамена с теми же словами и жестами — врывалась к нам как ураган и веселилась, как будто кончился трудный поход и она осталась жива.
Смерть его она не пережила: чахла, чахла и умерла во время войны от странной анемии.
Тогда же она была полна такой энергии, такого восторга, что его хватило бы на троих. Она была просто великолепна в своей непосредственности и радости.
Часто Костя посылал ей, студентке, привыкшей есть хлеб всухомятку, пить молоко и чай, большие по тем временам деньги, и эти деньги придавали ей еще больше удали и восторга: она прибегала ко мне, чтобы вместе со мной скорее потратить их и после опять сесть на хлеб и воду. О, я готова была помочь ей сделать это.
Мы сразу накупали столько яблок, что некуда было их прятать, столько вафель, пирожков, сладкой воды, мороженого, что приходилось всем этим делиться со слонами и обезьянами, приходилось все это скармливать рыбам и птицам, а это все только было прелюдией, и большой пир ожидал нас впереди в кондитерской, но мы, никак не успевали проголодаться, по крайней мере я.
Шура таскала меня от одного аттракциона к другому — то метала какие-то кольца, то садилась на качели или на каруселях ехала верхом на лошади и хохотала до того, что вот-вот упадет от смеха. Прямо от каруселей мы скакали в лодку, отчаливали от берега сильным толчком, и Шура начинала быстро грести — мы налетали под мостом на чужую лодку, и Шура все время смеялась и громко просила прощения, говорила именно эти слова: «Прошу прощения» — совершенно по-мужски, так что однажды старичок, которого она случайно обрызгала веслом, сказал ей с сердитой вежливостью: «Вам, господин, нужен целый океан, а не этот маленький пруд…» Шура сидела в трусиках и майке, он серьезно принял ее за мужчину. Шура нисколько не смущалась тем, что ее принимают за мужчину, наоборот, она всячески подчеркивала свою силу и некоторую грубость лица и фигуры. Она стриглась коротко, носила мужские рубашки, куртки, которые ей оставлял Костя. Вероятно, сожалела, что не может надеть брюки, как теперь бы носила, — тогда это было невозможно.
Какая обида была — наши, дома, ни за что не хотели ездить со мной в парк на лошади кататься, их было не уговорить, они вечно отговаривались всякими пустяками и отшучивались: «Почему именно на лошади, а не на осле? Или на верблюде? Что за навязчивая идея?»
А мне лошадь внушала какое-то особенное к себе расположение одним своим цокотом копыт по мостовой и мягким движением повозки, сидя в которой, я будто ехала верхом, ощущая всякое движение лошади. Я помнила, что на даче, возвращаясь из дальних походов в лес, может быть, всего в два километра, но для меня — дальних, я, усталая, заморенная, слышала позади спасительный шум телеги и садилась в ожидании на обочину дороги, надеясь, что меня подвезут оставшиеся полкилометра. И действительно, иногда оказывалось, что на телеге едет кто-то знакомый из нашей деревни, и на робкую мою просьбу он отвечал: «Да ведь вот она, деревня, видна уж!» — и сажал, а иногда и не сажал, проезжал мимо и подхлестывал лошадь, так что она на мощеной дорожке близ деревни начинала грохотать телегой и копытами, раздражая меня и заставляя думать про себя: «Да и пусть не взял — так громко я не люблю ездить!»
Но в парке катание на лошадях было мягким и плавным, похожим на качание на качелях, оно баюкало меня и заставляло дышать так, как дышалось в лесу, вернее, после леса, когда меня сажали и подвозили. Эта езда настраивала меня на особенный лад веселья и покоя: легкого веселья и легкого покоя.
Иногда думалось, что я в другие времена с гиком носилась бы по степям, настигала врагов и била их нагайкой, или травила бы лисиц, или ехала в кибитке и жила в ней, кормила бы маленьких жеребят кислым хлебом, который и сама ела, срывала где-то в степи сладкие клеверинки и другую какую-то неведомую мне в этой жизни траву и приносила им.
И если вдруг нам с Шурочкой случалось прийти в парк, когда катали на лошадях — катание было не всегда, — это казалось особенным блаженством: сажание в маленькие повозки, совсем игрушечные или карусельные, усаживание на своих местах, ожидание. И вот — трогается лошадка, которая в парке казалась не такой довольной и норовистой, а несколько измученной, как все горожане, с шерсткой хоть и лоснящейся, но не тем естественным лоском, как в деревне, где для корма она добывала особенные, ей только ведомые травинки и не ела витамины, как в городе. Там, в деревне, или в какой-то неведомой мне жизни, я знала, что лошади бегут по своим дорожкам с радостной резвостью, будто знают, что впереди их ожидает нечто веселое, — их пустят пастись не на вытоптанном поле, а где-то в лесу, где никто до них не ходил, разве что лоси, и где растут эти нужные травинки-витамины, от которых так ласково лоснится шерсть. Здесь же, в городе, сытые, бокастые лошадки бежали быстро, но служебно, а не радостно, в них чувствовалась грусть о тех лесных ласковых полянках.
Мы с Шурой катались на этих лошадях упоенно, и каждый раз, подъезжая к тому месту, где мы садились, я замирала от страха и с надеждой глядела на Шуру — вдруг она купит еще билет, и она покупала. Мы кружились по парку, словно на карусели, без конца, без конца, пока мне не становилось жалко лошадь, несчастную лошадь, которая делает эти круги ежедневно и которой давно уже надоели галдящие и скучные пассажиры.
В один из своих побегов с Шурой мы очутились возле парашютной вышки, и Шура долго смотрела наверх, подмигнула мне и сказала:
— Прыгнем?
— Прыгнем, — ответила я.
— Пошли, — сказала она.
— Пошли, — ответила я более робко и, подходя к вышке, замедлила шаги и сказала, что вообще-то мне не очень хочется прыгать и идти на вышку, пусть она прыгает, а я буду смотреть снизу.
Шура рассмеялась громко, затормошила меня, обняла и не полезла на вышку, но я знала, что она прыгает с вышки, потому что Костя когда-то прыгал, и она с ним. Она все делала, что и Костя, только не пошла почему-то в горный институт, училась на химическом факультете.
Но зато мы с ней столько кружились на чертовом колесе, столько ездили на лодке в тот день, что в трамвае я уже спала и проснулась только в кондитерской, когда нам подали целый торт и принесли какао. О, как я тут проснулась! Мне отрезали угол торта, я съела его, мне дали еще кусок, и я опять съела, мне дали еще, и я ела почти нехотя, но еще оставалось столько торта, и Шура все время спрашивала:
— Хочешь конфет?
Я кивала.
— Хочешь шоколаду?
Я не могла ответить, потому что у меня был набит рот. Я кивала. Нам принесли шоколаду. Я заедала торт шоколадом, а шоколад тортом. Я не могла говорить, потому что жевала. Торт никак не кончался. Съесть его мы не смогли. Взяли свой шоколад и ушли.
Я ложилась спать, и в глазах у меня мелькали лошадки, лодки, торты, шоколадки, парашютные вышки — и всюду Шура, Шура. Я заснула так крепко, спала и спала, что утром мама не могла меня разбудить. Она поднимала меня, надевала мне платье, чулки, я сидела и спала, она ставила меня на ноги, но я снова падала на кровать и засыпала. Мама сердилась и снова поднимала меня, и даже умыла, и надела пальто, когда увидела, что я опять сплю. Хорошо помню этот долгий сон, тяжкий, когда казалось, что стоит закрыть глаза, и все будет опять хорошо, я буду спать, я буду видеть во сне великолепный день с Шурой на качелях-каруселях, в кондитерской, хотя что-то в кондитерской было мне тяжело, и сон про шоколад был неприятен, я старалась во сне уйти из этого сна.
А мама все поднимала меня и говорила, и говорила, что пора идти, пока вдруг не поняла, что я больна, совсем больна, пока не раздела меня и не положила в кровать.
Ах, какие были прохладные простыни и подушка, когда я смогла снова лечь и заснуть, как было хорошо спать и никуда не идти. Снова я могла видеть сон, какой мне хочется, снова засыпала и видела блеск пруда под веслом, великолепный станиолевый блеск, вот он сливается в сплошное серебро и шуршит под рукой, открывая загорелое тело шоколадки, но я не хочу слышать ее запах, хочу слышать свежий дух реки, а она вся шоколадная, сладкая, я прошу вымыть мне руки, они липкие и сладкие, пожалуйста, прошу, но никто не моет мне рук, меня купают в шоколаде, намыливают голову тортом, и всюду торт и шоколад, и я кричу…
Месяц после этого я болела жестокой желтухой, а потом еще чем-то, еще и еще, и уже казалось, что мне никогда не подняться с кровати. Но в один прекрасный день я проснулась и увидела Шуру, она робко смотрела на меня и на маму, с опаской гладила меня по голове и приговаривала:
— Скоро ты выздоровеешь, вот я тебе яблоки принесла, — и совала мне красные огромные яблоки.
Я откусила кусочек и поняла, что хочу есть, что хочу встать, что вообще опять хочу с Шурой в парк, и заплакала, потому что знала: больше меня с Шурой не пустят — так и случилось.
Глава пятая АННА ЯКОВЛЕВНА
У меня было столько бабушек, что нельзя перечислить, и все они были не родные — родные умерли, я их не знала, а остались их сестры, родные и двоюродные, но все бабушки столько пеклись обо мне, так любили меня, что невольно я говорила: это моя бабушка, это бабушка, еще одна бабушка, еще и еще. Бабушка Миля, бабушка Анна, тетя Маня — тоже бабушка, Амалия — тоже приходилась бабушкой, все удивлялись: сколько же у тебя бабушек, а я совсем не могла сказать действительно, сколько же было бабушек — любящих, настоящих бабушек — много, и ни одной родной.
Об Анне Яковлевне я всегда говорила: уж эта — настоящая моя бабушка, самая первая, любимая — вслед за мамой — не потому, что маму любила, а после — Анну Яковлевну, а потому, что мама ее любила и я следом.
Но надо сказать, что, если бы мама даже не так хорошо относилась к Анне Яковлевне, если бы я не знала ее по рассказам о ней — рассказам, которые я слышала после ее смерти от всех родных, — я бы все равно помнила ее по-своему.
Воспоминания о ней — смутные, но собственные — встают в памяти такой далекой, что, например, помню, как однажды, совсем крошечная, услышала от нее одно из первых слов, которое запомнила: наволочка.
Анна Яковлевна надевала чистую наволочку на подушку, а у старой только расстегнула пуговки, но не сняла ее совсем. Взялась за уголки чистой наволочки и надела ее прямо на старую. Грязная наволочка была снята, вытащена, выволочена из-под чистой, а чистая заволокла подушку. Анна Яковлевна навлекла ее на подушку.
Действия ее были быстрыми, ловкими, а слово было длинное и неловкое — я повторяла это слово целый день: «Наволочка, на-во-лоч-ка». Тогда же услышала от нее не ко мне обращенные слова, еще более непонятные, но смутно приятные мне:
— У нее прекрасная артикуляция.
Понятные, потому что приятные слова, которые поглаживали по голове. Так, верно, радуются собаки и коты, когда говорят: «Ах, хороший, красивый пес, какой умный, великолепный пес, очень понятливый пес, наш добрый пес», — собаки тут же нервно зевают, кладут лапы или голову вам на колени, смотрят так понимающе, после от восторга перед собой — таким умным, хорошим — валятся на спину, катаются по полу или от избытка своей хорошести вскакивают, бегут куда-то стремглав, сбивают с ног кого-то, кто несет посуду, бьют посуду и получают шлепок и много выговоров.
Примерно так же вела себя я, похваленная Анной Яковлевной, — тут же, от восторга перед тем, что у меня прекрасная артикуляция, я бежала куда-нибудь, хватала на туалете гребенку, тут же ломался у гребенки зуб, роняла духи и разливала их, и весь восторг улетучивался вместе с запахом духов, береженных мамой, редких, дорогих духов, с которыми у меня всегда были плохие отношения: я не любила духов, даже самых хороших.
Я так болезненно слышала малейшие запахи, что, казалось, могу различить человека с закрытыми глазами, как тот же щенок, который учил меня своей нелепой щенячьей радости. И я действительно, даже сонная, не открывая глаз, чувствовала, кто подошел ко мне — мама или отец, бабушка Аня или кто-то посторонний. Различала маму, которая пришла из театра, и маму, которая пришла из института, маму, которая готовила что-то или только что вышла из ванны. Первое ощущение, когда приезжал отец из экспедиции, — обонятельное: пахнет поездом, угольным, неприятным, вагонным духом, который я долго не знала сама, но, когда меня привели в вагон, сказала: «Это папин запах, папа здесь?»
Духи казались мне всегда крепкими, раздражающими, может быть вызывали неприятные ассоциации, когда, после того как я разливала мамины духи, меня наказывали, и я долго не могла отмыть руки от душного запаха духов. От этих рук пахла еда, пахли мои игрушки — потому я и не любила духов, зато как я любила запах чистого белья, принесенного с мороза, или запах ветра за городом, запах сохнущего пола, запах воды на озере, особенной, свежей воды, которую теперь так ищу и не могу найти, — исчезла та вода, тот дух свежести, вся вода теперь непременно пахнет то ли хлором, то ли ржавыми трубами, то ли болотом. А тогда, когда я не выносила духов, тогда чистая вода пахла только свежестью, детской, дивной свежестью, и Анна Яковлевна, которая всегда что-то чинила, штопала, гладила, пахла этим свежим бельем, утюгом, вафлями: глаженое белье пахнет вафлей. Еще она могла пахнуть молоком, конфетами и куклой.
Этот особенный запах куклы, еще ее куклы, — куклы, которую вынули из старинной коробки, где вместе с кукольной одеждой лежали сухие духи и флердоранж столетней давности, какое-то истлевшее саше и кружева, был самым лучшим из запахов — после свежести, — самым любимым и четко запомнившимся еще с тех времен, когда только приехала к нам Анна Яковлевна. Этот запах никогда не забывала и не путала, как то, что она говорила и как говорила. Голос ее — тихий, куда менее звучный, чем голос тети Мани, — был все-таки похож на тети Манин и так же, как тети Манин, звучал особенным, дивным, старинным образом, как клавесин, и, мешаясь с легким ароматом куклы, казался мне пахучим, прекрасным: в нем не было тлена, а только некоторая приглушенность и — необходимая — ненастроенность. Он не звучал полно и глубоко, как мамин «Бехштейн», а чуть дребезжал, как мамин же старый прямострунный рояль.
Этот запах старых коробок казался мне всегда очень выразительным. Если бы пристально разобраться в нем, то можно понять так много из того, что было и с Анной Яковлевной, и со всеми: этот запах, казалось, может воскресить историю. И в самом деле — всякая вещь, пропахшая чем-то, может явственно напомнить все события, сообщить всякие подробности и забытые детали.
Знала запах черепаховых гребенок Анны Яковлевны — тонкий запах, вероятно исходивший от ее волос, показавшийся мне запахом именно гребенок из черепахи. Упорно повторяла всем:
— Так гребенки пахнут.
— Чем пахнут?
— Черепахой.
— Какой черепахой?
— Обыкновенной черепахой, из которой сделаны.
— Не выдумывай.
На этот выговор я обижалась, но тем более утверждалась в своей правоте, и всюду, где видела черепаховую вещь, скорее нюхала ее, чтобы выяснить — тот ли это запах, и мне всегда казалось, что тот, именно так пахнут черепахи и я права.
Эти гребенки я даже отмывала водой и однажды керосином. Я хорошо помню, как взяла гребенки и унесла их в кухню, раздобыла керосин и хотела чуть-чуть взять его — наклонить бачок и взять, но керосин выплеснулся на меня, на пол, и, страдая от предчувствия неминуемого выговора, от того, что я вся пропахла не очень приятным и липучим керосином, я все-таки окунула в лужицу гребенки и помыла их, после, уже забыв все, что будет, я пускала эти гребенки, как кораблики, в лужице керосина — не помню, плавали они или нет, помню только аханье Анны Яковлевны, какие-то ее слова по поводу моей необычайной проворности по части выдумок и какие-то выговоры со стороны мамы, нелепый вопрос: «Зачем ты это сделала?» Вопрос, который заставлял забывать причину поступка, во-первых, а во-вторых, совсем не требовал объяснений с моей стороны; веселое мое объяснение вызывало потоки маминых слов, угрюмое мое молчание еще сильнее сердило маму.
Но Анна Яковлевна нисколько не сердилась — она ахала так уютно, так славно, что ее аханье мне было даже приятно — я бы всегда делала что-нибудь несуразное, чтобы только слышать ее ахи, если бы не мама.
У нас с Анной Яковлевной был свой контакт, особенный, когда я все ей объясняла, как это мне казалось, а она понимала.
Ей можно было рассказать самое удивительное свое открытие — например, что я вижу все молекулы, если плачу, а потом посмотрю на свет, сощурив глаза. Тогда в глазах появляются такие круги, в которых плавают точки — то есть молекулы или микробы.
Она никогда не смеялась тому, что слышала от меня, никогда не восклицала:
— Ах, боже мой, что за ребенок! — а только пыталась выяснить, что бы все это могло значить, что я могу видеть в самом деле.
Так, помню, как в воскресенье они, тетя Ирина или мама, играли в четыре руки. Утром Анна Яковлевна делала воскресный пирог, похожий на торт, а до того, как сесть за стол, они обязательно играли Грига, каждое воскресенье, одно и то же, одно и то же, и в конце концов мне так надоели эти пироги и игра в четыре руки, что я уже совершенно путала, где торт, где Григ, и когда в чужом месте слышала игру в четыре руки, то думала, что ем торт, а когда ела торт, то слышала Грига и уже не хотела ни того ни другого, пока не стало ничего — ни торта, ни Грига, и я поняла, что смертельно люблю Анну Яковлевну и все, что связано с ней. Я поняла, что не любила только какие-то свои ощущения воскресенья — хоть и хорошо, что все дома или уходят, но и плохо, потому что нарушен звуковой, вкусовой и прочий фон, привычный мне, а от взрослых исходит обычное воскресное раздражение. Еще дело было в том, что всегда ждала от воскресенья чего-то особенного, а особенное не происходило, и разочарование было сильнее, чем ожидание удовольствия.
Как жаль, что она очень скоро уехала от нас в Москву и я видела ее только в те дни, когда приезжала к ним, но все равно мне всегда казалось, что она — именно она — больше всех осталась во мне.
Глава шестая ТЕТКА КОРИНА
Утром всегда, уходя в школу, торопясь, кричала Надежде:
— Подожди меня! Я сейчас, готова уже…
Но она не ждала, уходила, быстро спускалась по лестнице и, не оборачиваясь, говорила мне:
— Что за нужда спешить, иди одна, я уже ушла…
Я бежала, но она уходила и уходила скоро от меня, как нарочно скоро, а тетя Кока — никогда. Она всегда ждала, даже если я копалась, ждала и приговаривала:
— Жду, жду, не торопись.
Хотя Наде было по пути со мной, а ей в другую сторону, на трамвай, но она ждала, и мы вместе спускались по лестнице. Она делала это нарочно, чтобы я не сердилась на Надю зря, но я все равно сердилась и всю дорогу вниз говорила Коке, что Надежда всегда такая.
— Но если всегда, то и привыкнуть можно.
— Нельзя привыкнуть, — с горечью говорила я, — нельзя привыкнуть.
Меня мучило это сознание, что никогда Надя не будет со мной как со своими девочками, что я всегда останусь младшей и потому — зависимой. Но ведь могла же Кока, человек пожилой, уже немножко дряхлый, быть со мной как со всеми, могла же! А Надежда не могла и не хотела.
Но такая была Кока всегда и со всеми, не только со мной.
Кока — было ее домашнее имя, сокращенное от Корины, хотя все думали и всем приходилось объяснять, что она не крестная мать ни мне, ни Наде, просто — Кока.
В доме всегда шум, разговоры, игра на рояле, а Кока проходит тихо, только ласково здоровается и уходит к себе в комнату, редко сидит в нашей большой комнате и разговаривает с кем-то, никогда не спорит и ни о чем не расспрашивает, не рассказывает о себе, а о ней, как только она уходит, — все и всегда, будто именно потому, что она этого не хочет.
Лет с трех я слышала, что Кока была очень красивая и три раза выходила замуж, что она писала и печатала рассказы, что у нее был рассказ «Антоновские яблоки», так что однажды, когда я прочла знаменитые «Антоновские яблоки», то с удивлением заметила имя Бунина и решила, что это псевдоним Коки. Очень просто: Кока, как Жорж Санд, печаталась под мужским псевдонимом. Некоторое время меня еще глодало сомнение, и я спрашивала у всех, те ли это яблоки, но так как всем очень хотелось пошутить надо мной и Кокой одновременно, то мне отвечали, что, разумеется, или это те самые — ее, или это кто-то с нее списал.
Говорили, что Кока путешествовала вокруг света на пароходе, была даже в Африке и ела слоновую ногу. Об этой ноге она сама нам рассказывала, чтобы посмешить.
Огромную ногу закапывали целиком в яму с углями, и три дня она тушилась в яме, а потом откапывали, и блюдо было готово…
Надя со своим вечным скепсисом:
— А кожу с ноги снимали, прежде чем тушить?
Ответов не помню.
— А сколько человек тащило ногу к яме?
— А пока тушилась нога, все голодали ровно три дня?
Выходило так, что смеялись не тому, что она рассказывала, а над ней, что было бы обидно всякому, но не ей. Она не обижалась никогда, она готова была каждому подать пальто, каждому сделать хоть что-то. Однажды она помогла ребенку надеть боты, а ребенок кричал и дрыгал ногами, рассек ей бровь, и пришлось накладывать шов. Так, видно, и исчезла ее красота. Она нисколько не берегла ее.
К тому времени, как я помню ее, она уже была обыкновенная женщина, которую, кажется, невозможно было заметить на улице, настолько она была скучна с виду, правда — она оставалась очень добродушной, улыбчивой и любезной.
Тысячу историй рассказывалось о ней дома, у нас, где никогда не откровенничали — настолько, что уже после смерти бабушки я узнала, что один из ее сыновей, то есть мой дядя, кончил жизнь самоубийством, а говорилось, что погиб на охоте; настолько, что сравнительно недавно я узнала, что мой отец был приемным сыном бабушки, следовательно, она мне не была бабушкой совсем, чего я никак не замечала в детстве, и даже в блокаду.
Но о Коке говорилось беспрестанно.
— Она пришла вчера и сказала, что была в театре.
— В театре? Что так рано вернулась?
— Не знаю.
— Что же она смотрела?
— Не знаю.
— Она сочиняет, что была в театре.
Почему считалось, что Кока не могла быть в театре и обязательно сочиняет, понять мне трудно и теперь.
«О, она ведь сочинительница и сейчас расскажет тысячу пьес, которых и на свете не было никогда, назовет автора, который и не существовал. Она однажды рассказывала нам книгу, которую якобы потеряла, десять вечеров подряд, мы даже дела свои бросали и слушали историю о человеке, который умел слышать все, что говорилось в мире. Настроиться и слышать, она так это рассказывала, что мы верили — была такая книга, но потом выяснилось, что не было такой книги, просто она хотела бы сама ее написать, но, видно, все не могла собраться. Она никогда не могла собраться с мыслями и временем, чтобы написать…»
Но сколько бы ни порочили Коку в моих глазах, она становилась для меня все более и более интересной, привлекательной, и я жалела именно ее, а не тех обманутых слушателей, — ведь слушали же десять вечеров ее интереснейший рассказ, но после вспомнили только то, что она сочиняет.
Я все думала, думала о том, что она рассказывала, и вдруг однажды ночью поняла: «Это ведь она о себе рассказывала, когда говорила, что человек все слышал! Это она сама слышит все разговоры, которые происходят за ее спиной! А они все время говорят и говорят… Боже мой, и почему они говорят?»
Тридцать догадок сразу возникло в моей голове: она была позором семьи, сбегала из дома? Она ездила за границу не с мужем? Может быть, и вообще не была замужем? Дома этого, конечно, простить не могли. Медленно прощали, все время возвращаясь к тому жгучему непрощению, снова прощали и опять не прощали…
Раз так мало говорили всего толком, надо было узнать это во что бы то ни стало.
Узнать, узнать… У кого? У Нади, которая сама, конечно, ничего не знает толком? У Нины, которая так мало говорит со мной?
Надо было знать Надю. Ее, хитрющую, которая со мной всегда свысока, — ведь старшая, ее, насмешницу, иногда злую и всегда говорящую иносказаниями, — боже, какие ненавистные иносказания: «Я знаю одного маленького Мука, у которого такие уши…» С Надей надо быть всегда начеку, — если она называет имя кого угодно, то это всегда может относиться прямо к тебе, но другого человека не было, кроме Нади.
Я настолько долго обдумывала, как лучше и тоньше подойти к Наде, что однажды вдруг, сразу, неизвестно даже как сказала:
— Слушай, а почему, а что было с Кокой?
— Когда? — Надя, настороженная и всезнающая, у нее всегда был такой вид, будто она все на свете знает, обернулась.
— Тогда. Давно, — я уже изо всех сил пыталась скрыть свой интерес, но это было безнадежно: провести Надю было нельзя. Она была как я. В сущности, мы обе думали одинаково и почти что одинаково знали, но просто она умела изобразить дело так, что она знает лучше. Ах, какой восторг поднимался в ней всякий раз, когда она предвкушала момент помучить меня, поймать мой интерес и долго разжигать его. Когда она только замечала, что мне что-то надо от нее, тогда я становилась для нее любопытной и чужой. У нее случался особенный голос — вкрадчивый и тонкий, у нее делались особенные, глубокие и умные глаза, у нее движения менялись, когда только она замечала, что ужасно нужна мне. Для начала она говорила:
— Укради и прикури мне папиросу! Я буду ждать в темной комнате.
Достать папиросу у мамы, или отца, или у Нины было трудно, почти совсем невозможно: все запиралось, пряталось. Мама скрывала от бабушки, что курит, Нина скрывала от всех, и от мужа, отец прятал папиросы от мамы — и так далее.
Рискуя всем, я чуть ли не взламывала закрытый стол и доставала папиросу, приносила ей, и оказывалось, что курить она уже не будет, а нужно принести от бабушки большой кусок хлеба и кусок холодного мяса, что можно было сделать легче, но не так уж просто. Затем она ела, покуривала и говорила наконец, что у нее болит голова и ее тошнит, что она теперь заснет в темной комнате, что пусть я отстану от нее. Я видела, что ей действительно плохо, что даже погас интерес ко мне и моему любопытству.
Но на следующий день она сама начинала прерванную игру и говорила:
— Я знаю то, что тебе хочется знать про…
Я, уже забывшая весь вчерашний интерес, вспоминала его как-то по инерции, вернее потому, что она меня заставляла вернуться к игре, столь выгодной для нее, и начинала говорить на одной ноте:
— А я вот знаю, а я вот знаю…
Иногда ее поддразнивания и манера держать меня в руках сердили меня настолько, что я взрывалась и грубила ей, тогда она напускала на себя такую холодность, на столько дней, что, конечно же, я не выдерживала первая и сдавалась, самым униженным образом прося прощения неизвестно за что, заглядывая ей в глаза поминутно, стараясь, чтобы она хоть что-то попросила у меня, но она гордо не просила ни о чем и все делала сама и молчала.
О, как она умела молчать, даже по делу и поручению бабушки — не отвечала, а только кивала головой. Иногда мне хотелось броситься к ней и руками разжать ей губы, чтобы она хоть сказала «нет», но я этого, конечно, не могла сделать.
И вот наконец наступило прощение, во время которого я уже была совсем в ее власти и подчинении, я делала все за нее и даже читала ей вслух, чесала ей волосы и плела косы, бегала к телефону и иногда за нее говорила по телефону, потому что она уж даже не поднималась с места и только кричала мне, что ответить и сказать. Ее торжество было полным, но она считала, что и этого мало: она начинала издеваться надо мной сколько хотела: читала любимые мною стихи так, что больше мне было не любить их, играла на рояле мои пьесы так, что после было не отвязаться от ее интерпретации, — разумеется, она играла издевательски, якобы подражая моей игре. Но после она смирялась и продолжала только говорить, что знает, знает кое-что про Коку, что может меня интересовать.
Ну что ж, я тоже устала от ее фокусов, я совсем забывала про то, что так мне надо было узнать.
— Ну, что? — говорила я, совсем замученная ее игрой. — Ну, так говори же!
— Нет, сначала пойдем в маленькую комнату. (Маленькая, она же темная, — просто широкий коридорчик, ведущий в комнату Коки.)
Мы приходили в маленькую комнату, но и там Надька не говорила ничего, а, наоборот, спрашивала меня:
— А вот ты сначала сознайся, кто вырвал у Коки три бусины из бус.
Это была целая история. У Коки были всякие удивительные вещи, которые доказывали, что она действительно путешествовала вокруг света. У нее были бивни мамонта и зубы акулы, раковины и пробирки с душистыми маслами, игрушки из Англии и сухие кокосовые орехи, мозаичные картинки и шляпы, плетенные из каких-то трав, корзиночки и шкатулки, коврики и куски пестрых тканей, кожи и резное дерево. Все это причудливо и беспорядочно лежало или висело в комнате. Пыль и паутина заплетала все вещи в доме, так что шляпа из светлой соломки казалась покрытой серой вуалью, а кожи, которые лежали на диване, потерлись и растрескались совсем, шкатулки нельзя было рассмотреть от пыли, но в каждой из них лежало нечто, какая-то еще драгоценность — бусы, или красивые раковины, или прозрачные камни, бесцветные кораллы, или даже красные коралловые веточки. Кока объясняла мне, что белые кораллы были бы такими же красными, если их обработать как следует; что когда они проплывали мимо таких островов, то все пассажиры старались их ломать, но никто толком не мог их сохранить. Под водой они сверкали красками, а на воздухе быстро тускнели. И среди всех драгоценностей были бусы — самыми драгоценными. Мозаичные бусы, синие с голубым, по рассказам Коки, вывезенные из Константинополя и найденные при раскопках.
Однажды Кока рассказывала нам, как обычно, свои истории про слоновые ноги и показывала свои драгоценности, в том числе и бусы. Мы сидели притихшие на ее диванчике: я, Надя и ее приятельница Лиля — мы глядели во все глаза, а бусы, единственные, были спрятаны в сафьяновый футляр и заперты в шкаф при нас. Ничего не закрывалось у Коки, кроме шкафа. И вот — прошло несколько месяцев после того — Кока открыла свой футляр, чтобы еще кому-то показать свои драгоценные бусы, и увидела, что нитка оборвана и нескольких бусин, самых крупных, нет. И все разом заподозрили меня, хотя я никогда не открывала шкафа, никогда даже и не видела ключей от шкафа, никогда не трогала бусы…
Говорилось в один голос:
— Но ведь не Надя же!!
Я не смела даже сказать: «А почему бы не Надя?» — настолько она была вне подозрений. Но почему я? Лиля, конечно, не могла бы этого сделать — она просто приезжала к нам из Москвы в гости на каникулы и уехала после этого вечера. Нет, это была не Лиля, но и не я — это я знала точно. Значит, Надя, и вот теперь она хотела, чтобы я созналась в том, что я взяла бусы, когда я знала, что вернее всего — она сама…
Теперь, когда Надька измучила меня своими настроениями, да еще и требовала сознаться в том, что сделала сама, я, боясь ее новых истязаний, не могла ей сказать: «Нет, это ты сознайся!»
И не говорила этого, только смотрела на нее и качала головой. Я знала, что она во веки веков не сознается — так оно и было.
Теперь, уже взрослыми, мы стали вспоминать этот случай, и я сказала ей те слова, что не могла произнести тогда, но она и теперь не созналась, она, больная, старая женщина, не созналась.
Но я была повинна во всяких грехах: я ломала часы тети Нины, я надевала мамины вещи и даже изрезала платье для того, чтобы сделать отделку для своего, я потеряла несколько книг и даже однажды взяла у бабушки из кошелька три рубля — большие деньги по тому времени, я оторвала ручку у сумочки, которую дали в театр, потеряла бинокль, но никогда, ни под каким видом не могла бы взять бусы у Коки — так, для игры, чтобы показать девочкам в школе. И доказать это никому было невозможно, все должны были поверить мне на слово, а мне не верили только потому, что, потеряв бинокль, я повесила пустой футляр на место и никому не сказала про это, а когда оторвала ручку у сумочки, то побежала в мастерскую, и там мне к тоненькой лакированной сумке приделали огромную ручку чуть не от портфеля, всегда отнекивалась, когда спрашивали про книги, и никто не хватился трех рублей…
Но бусы я не трогала! Их трогала Надя, и я это знала, да, я это твердо знала, хотя бывают на свете самые невероятные вещи — вдруг приходит какой-то совсем случайный человек, видит открытый шкаф, берет и рвет бусы… Но для чего же он бы рвал несколько бусин, когда можно было взять все бусы, — быстрее ведь? Оторвать несколько крупных бусин можно было только для игры, хотя, кто знает, если они действительно были древние, то и каждую бусину можно было разглядывать отдельно, сделать из нее запонки, серьги, что-то еще…
Надежда была для меня издевательницей и мучительницей, но для других она была другой, была нежной Надеждой, которая привлекала всех своей строгой манерой держаться, делать все с величайшим тактом и воспитанностью, представлялась всем удивительно тонким, нежным существом и даже забитым. «Она такое тихое и забитое существо». — «Кем, кем забитое? — кричала я. — Кто ее забил? Ее пальцем никто не тронул!» — «В переносном смысле забитая». — «Ах, в переносном! Кто бьет в переносном? Она всех бьет!»
В самом деле ее никто не бил и она никого, кроме того, что забивала мне голову пустяками и сором своих причуд.
Ах, Кока! Сколько мне было хлопот из-за тебя с Надеждой! Не пересчитать. Я уж совсем не имела ни малейшего интереса к тому, что было с тобой. Казалось, в конце концов, Надя стала бы кричать мне: «Я расскажу, расскажу, все расскажу», а я стала бы зажимать ей рот или свои уши, чтобы только не слышать ничего. Вот только краткий перечень всех мук, которые я претерпела тогда: я брала папиросы для нее, выслушивала всякие поклепы, терпела ее холодность и молчание, затем мне достались прекрасные лоскутки для шитья и Надежда завладела всеми лоскутками, затем она заставила ходить вместо себя в магазин за хлебом, потом — отдать книжку «Белые рабыни», но, кажется, это все. Мы уже были на даче, и тогда она, выманив у меня кислое яблоко, которое я добыла в колодце, нося за нее воду, сказала наконец:
— Так сказать тебе про тетю Коку?
Было очень тепло и светло в тот вечер, было очень ласково сидеть на крылечке и разговаривать, и только потому я кивнула головой.
И тогда она сказала:
— Тетя Кока…
— Говори!
— Тетя Кока…
— Ну что же?
— Однажды бабушка вошла к ней в комнату, а она… а она курила!
Если бы она сказала, что Кока была белой рабыней, то и это на меня не произвело бы впечатления.
Глава седьмая ТАНЯ
Среди всех лиц, которые мне были дороги с детства, самое милое — Танино, ничем не отличавшееся от других детских рожиц, — так, маленькая обезьянка, как говорили наши взрослые. Мне было это слушать нестерпимо, и я готова была кричать, что она самая красивая из всех нас, что она очень стройная и — посмотрели бы, как она работает на брусьях. Наши тут же подхватывали это новое для них выражение работать на брусьях и говорили его к месту и не к месту. Я вертелась на стуле, мне говорили.
— Перестань работать на брусьях.
Я фальшивила, играя свои гаммы, а мне кричали:
— Ты ведь не на брусьях работаешь! — и так далее.
Кстати, это было всегдашним тоном обращения с детьми, с нами — особенно со стороны мамы и деда, шутливый тон они предпочитали всякому другому. Кажется, они ошибались, говоря со мной так, — я не умела от них отшучиваться и не обретала чувства юмора. Я сердилась или надувалась, и особенно тогда, когда это касалось Тани, которую, кстати, любили дома, и всячески поощряли нашу дружбу с ней.
Кажется, мы были дружны еще тогда, когда обычно дети мало понимают толк в дружбе, — мы уже тогда были вместе и относились друг к другу нежно и ревниво. В те годы все наши ровесники только и умели жаловаться, но мы не жаловались, а ревновали друг друга ко всем, даже к родителям. Живя дом к дому, мы писали письма, но это уже было после, когда мы стали писать, вообще научились писать.
Тогда все девочки в классе хвастались всем на свете, даже размером обуви родителей:
— А у моего папы сорок второй.
— У моего — сорок пятый.
— А у моего сорок шестой.
Находились и такие, которые говорили, не выдержав конкуренции с номерами:
— А мой папа пьет…
Хвастались даже своим несчастьем.
Но только не мы с Таней. Я одна, может быть, и была бы вовлечена в этот поток хвастовства, но Таня так надменно смотрела на всех, кто говорил всякую чушь, так спокойно молчала всегда, что я невольно замолкала тоже.
Странно: меня не сердило даже то, что дома так часто мне ставили в пример Таню, постоянно говорили, что Таня играет на рояле лучше и вообще усидчива, что Таня никогда не болтается по улицам зря, не виснет на перилах перед витринами, не покупает ирисок на те деньги, которые дают на завтрак, и вообще хорошо воспитана. Меня все это нисколько не раздражало и не приводило в уныние, а наоборот — хвалили ее, а я радостно краснела от этих похвал, будто они распространялись и на меня.
— Как она прекрасно держится всегда, — говорили при мне не без умысла, а я подхватывала:
— А вы еще не знаете, вчера нас стали спрашивать по немецкому то, что не задавали, вызвали Таню, а она ответила: «Я это знаю, но отвечать не буду, потому что вы не задавали, а я просто сама знаю». Все в классе даже кричали от радости, и учительница покраснела, потому что она спутала. В другом классе она это задавала, а нам нет, а Таня знала, потому что с учителем занимается дома, а те двойки, которые учительница уже поставила, она зачеркнула. Вот какая Таня…
Нравоучения мне не получались, я не становилась от этого воспитаннее и тактичнее, получалось просто восхваление Тани, она носилась ангелом в моем воображении, и я не выдерживала — бежала к ней домой, чтобы увидеть ее, сесть делать вместе с ней уроки или, что еще лучше, — обедать за их столом.
Обедать у них запрещалось дома, но мне эти запрещения только придавали аппетит. Выйдя дома из-за стола, поиграв чуть-чуть на рояле, я мчалась к Тане и уже ощущала голод от одного только вида их столовой — всегда в ней было много народу и даже стояли приборы для гостей, так как знали — все равно кто-нибудь придет, обеды были шумные, веселые. Мне было не очень ловко каждый раз попадать к обеду, но уж так случалось, раз у них обеды затягивались. С другой стороны, мне не хотелось отказываться, да и невмоготу, но я садилась не из одного только аппетита, а потому, что дома постоянно смеялись над моим соседом, который упорно отказывался есть с нами, если его приглашали раз-другой. Однажды он отказывался, отказывался и вдруг заплакал, а на вопросы, что с ним, ответил: «Мама велела отказываться два раза, а вы третий не предложили». Чтобы не попасть в такое положение, я соглашалась сразу.
За столом у Тани всегда был отец и его аспиранты, были ее тетки, двоюродные сестры — словом, народу очень много. Обстановка была самая непринужденная, кто-то, кто пообедал, сидел в углу и разговаривал, кто-то играл на рояле, кто-то читал. Столовая была огромная, а рядом, тоже большая, — Танина комната, где делать уроки было просто наслаждением (дома было делать уроки тоскливо, одиноко); я настолько привыкла быть всегда в Таниной компании, что совсем не умела сидеть одна. К тому же Таня решала задачи куда быстрее меня, она даже решала их прямо на уроках: пока какой-нибудь тупица отвечал у доски, копался и путался в ответах, Таня тем временем тихо решала домашние задачи, чтобы после быть свободнее.
Как удивительно: мы, довольно разные — она собранная, тихая, без всяких лишних эмоций, — понимали друг друга и стремились быть вместе. Казалось бы, она, такая независимая, могла и не нуждаться во мне, но именно она заставила отца с матерью поехать на дачу туда, куда поехали мы, и какое же это было удовольствие — увидеть ее там, в деревне, куда они вдруг приехали после Юга.
Я приезжала на дачу и тут же обегала все места, которые знала и помнила всю зиму. Это было поле за деревней, озеро, тут, возле дома, косогор, кладбище, речка и мой лес — мелкий сосняк.
Еще надо было сбегать на выгон, за дом, и съездить на ту сторону озера, где был ключ. Все эти места казались в первый день такими прекрасными, и каждый лютик сверкал золотом, а липучая полевая гвоздика, тонкая, как паучья лапка, казалась готическим крестиком из гранатов.
Прежде всего бежала на озеро и окунала в него руки и ноги — холод озера нисколько не пугал меня, я бы охотно окунулась, но всевозможные нарекания и упреки, которые застряли у меня в ушах в то время, когда я еще только ехала: «Не смей купаться, пока не разрешат. Ты обещаешь? Ты не будешь самовольничать?» — все эти упреки уже настолько утвердились в голове, что невольно, помимо того, что хотела и знала — можно окунуться, ничего не станется со мной, — боялась, не окуналась. Бежала дальше, на косогор, где была земляника и первые ягодки всегда поспевали раньше — там целый день было солнце и от ветра заслоняла цвет гора. Для начала скатывалась с косогора вниз, а после, подымаясь вверх, искала и находила ягодины, ела их тут же, и каким блаженством замирало сердце, если среди четырех зеленых, пресных попадалась одна сладкая, зрелая ягодка. Тогда в восторге дышала до самой глубины легких и думала: «Как хорошо! Так прекрасно, что я даже не помню маму!» — это было выражение высшего блаженства, потому что мамы всегда недоставало. Если было просто хорошо, то думала: «Вот если бы еще и мама приехала, тогда бы было да!»
Выходила на лужок и слышала жаворонка, он пел эту мою земляничную песню, и гораздо лучше меня, много лучше мамы, которая, конечно же, разучивала знаменитого и такого тяжеловесного «Жаворонка», с его нисколько не похожими на жаворонка колоратурными коленцами, в которых слышалось только поставленное дыхание, а не легкая трель, естественная, как ветерок, которую выделывал сам жаворонок. Кружилась на лугу, раскинув руки, и не пела, не подражала, просто кричала от счастья. После шла в свой лесок, голубой и строгий соснячок, похожий на ежа, трогала сосенки ладонью и прохаживалась по маленьким тропинкам, которые сама и протоптала на легком, как ряска, мхе.
Потом бежала на речку — все эти маршруты были в полкилометра, не больше, — и каждый раз поражалась и останавливалась возле желтого пахучего песчаного отвала, такого свежего, терпкого, пахнущего детской песочницей и куличами, которые я пекла, постукивая о верх ведерка совком. Я каталась с этого откоса до тех пор, пока песок не попадал в глаза и в уши, кувыркалась на нем и все так же кричала от счастья, что я на даче и выросла на год.
Бежала к реке и долго мыла руки и глаза от песка, отряхивалась и шла за речку, туда, где можно было найти родничок, даже и не переезжая на лодке. И вот он был здесь, родничок, чистая, черная вода, поросшая ржавыми водорослями. Пила ее, пока не начинало ломить уши, и шла домой такой прекрасно усталой и счастливой, что, казалось, этому счастью не будет конца, но конец наступал скоро. Если на следующий день шел дождь и тебе некуда было выйти, или даже если не было дождя и ты еще раз обегала все свои места, и выгон, и даже ту сторону озера, то все равно приходила вдруг скучная и даже немного сердитая: столько мечтала о лете, и оно вот, ты здесь, но все уже видено, все известно, и больше ничего нового этот уголок не может дать тебе. Надо было только ждать, когда приедет кто-нибудь, или выпрашивать книжку: свои прочитывала в первый же день, ждать появления грибов, ягод и настоящего тепла, чтобы купаться. А в конце сезона скучала уже все время и ждала города как избавления.
Какова же была радость, когда приехала Таня.
Необыкновенная скука дачи, когда знал, что тебя ни за что не пустят в город, как бы ты ни стремился к этому, необыкновенная одинаковость дней — дождливых ли, ясных, начинавшихся на озере и кончавшихся там же, — расцвечивалась только чьими-то приездами и отъездами. Вся эта детская скука, пополам с мгновенными восторгами и внезапным приливом энергии, который случался в тот миг, когда кто-то вдруг шел за грибами и звал меня, или приглашал поехать на лодке, или просто в лес на речку, — вся эта детская скука рассеивалась, как только приезжали мама, или кто-то из знакомых, или тетки. Но ждать Таню и всю их дружную, веселую семью я и не смела, я даже не получала летом писем от Тани и не писала их, потому что не знала, куда послать, и вдруг они нагрянули, и все наскучившие места вспыхнули новой красотой — красотой для них. Все перелески, брусничники, роднички, песчаные откосы, о которых мечтал только зимой, а теперь исходил вдоль и поперек и уже знал наизусть всякую травинку и каждый лопух, стебелек от земляники, которую сам съел, и даже брошенный прут, который ты кинул, обглодал, как заяц, и кинул на дорожку — он так и лежал на одном месте, пока ты не отбрасывал его дальше, чтобы больше не видеть, но мог снова наткнуться на него, если шел в стороне от дороги.
Они приехали! И та же дорога, которая была только что пыльной, стала прекрасной, желтой, медовой; то же самое озеро, которое мелело с каждым днем, стало отрадным и синим. Все надо было показать Тане, ее отцу, все надо было избе́гать сначала, проверить каждое место, где был сорван гриб, найдена земляника или просто красивый камень и очень белая береза.
Они приехали в конце великолепного лета, которое кончалось таким обилием грибов, что не надо было и в лес ходить, — выползали вдруг на самой дороге и росли в канавках.
Нам надо было все обойти, а Танин отец сразу же решил, что мы должны обойти пешком озеро и вернуться с другой стороны. Мы такого никогда не предпринимали.
Как пустынны были в те годы эти — очень модные в свое время — места под Сиверской, как они были прекрасны. Черные леса стояли возле озера, пестрые дорожки были выложены так славно белым, серым и красноватым булыжником, ровные ряды берез шли вдоль дороги, сменялись лесом, полем и снова лесом. Мы шли этой дорогой вокруг озера. Таня, разумеется, спокойно шла вместе с отцом — недаром же она «работала на брусьях», недаром ее водили с малых лет в спортшколу, но я, привыкшая ходить в свой лесок, собирать там ягоды, валяться на траве, когда было слишком жарко, вдруг идти купаться, если хотелось, я, почти неспособная к длительным переходам, не только очень скоро начала задыхаться на ходу, но и просто раскисла.
Всю дорогу я пыталась рассказывать Тане все наши дачные происшествия, пыталась рассказывать, задыхалась, отставала от них, догоняла или даже забегала вперед, только чтобы не плестись сзади и не пытаться догнать их, и под конец так выбилась из сил, что они остановились и стали раздумывать, что же делать со мной.
Мы не прошли еще и половины пути, когда стало ясно, что мне никак не добраться до дому ни с этой стороны озера, ни с той, что надо ехать.
В те времена можно было нанять лошадь, телегу — и доехать, можно было попытаться раздобыть лодку, но у Таниного отца не было с собой денег, мы вышли налегке, как и подобает туристам, неся с собой фляжку и завтрак. Иван Николаевич, Танин отец, оставил нас и ушел в село. Мы сидели на берегу и мечтали о том, что сейчас он приедет на бричке и мы мягко покатимся по дорожке — обратно, мы даже думали о том, что бричка будет красивой, рессорной, такой, какую мы видели только в кино.
Бричка не явилась, лошадь тоже. Иван Николаевич пропадал очень долго, а мы, получившие возможность спокойно разговаривать и рассказывать друг другу все, что было с нами, пока мы не виделись, вовсе ничего не рассказывали, а просто лежали и ждали, когда же он приедет назад. Мы уже съели все завтраки, выпили всю воду из фляжек, но Ивана Николаевича не было видно.
Жара уже спала, и солнце клонилось к закату, а мы все еще сидели на берегу и ждали — уж не бричку, а его самого, и тогда он приплыл на лодке. Мы так обрадовались его появлению, что побежали в воду одетые, подтащили лодку и поплыли.
Мы приплыли поздно вечером и сразу улеглись спать. Мне не приходило в голову, что наше путешествие было неудачным, что Иван Николаевич отдал хозяину лодки свои часы, что он сердился на нас, во всяком случае должен был сердиться. Тогда я говорила только, что мы съездили так хорошо, что все было великолепным, что и Тане и всем понравилось наше озеро и леса, что теперь Таня и все ее родные будут жить только здесь на даче.
Я была так убеждена в том, что все вышло хорошо, что страшно удивилась, когда на следующее утро, предложив им пойти на болото через великолепные леса за черникой, услышала, что Иван Николаевич смеется и говорит, что больше у него нет часов, чтобы идти со мной так далеко. Я зря убеждала их, что по знакомым местам хожу гораздо лучше, да и потом я вчера просто не была готова, а вот сегодня… Но они не пошли, они поплыли на лодке в речку и с тех пор возили меня только на лодке. Но я согласна была и на лодке, потому что знала все места на нашем озере, знала выезд из камышей, знала крутой бережок нашей реки, где когда-то мы с маленькими девочками вздумали переправляться вплавь, держась за срезанный камыш, — и чуть не утонули. Теперь-то я плавала прекрасно, да и тогда считалось, что я хорошо плаваю — в сравнении с теми маленькими девочками, которые и вовсе не могли держаться на воде.
Теперь мы с Таней плавали в реке от одного берега к другому пять или шесть раз подряд и даже не уставали.
Каждый приезжающий к нам приносил свой мир в наше однообразное житье летом. Каждый придумывал свои прогулки, свои затеи, свои удовольствия. Так, мамины знакомые однажды, ожидая маму, написали и прикрепили к перилам старого, развалившегося моста новое имя: «Старогалинкин мост».
Мост, разумеется, никак не назывался или назывался просто: «мост возле старой запруды», и теперь он получил столь звонкое имя в честь мамы и долго удивлял дачников своей дощечкой, прикрепленной к старым перильцам.
Другие знакомые жгли костры по вечерам, устраивали шутливые дни рождений, преподносили друг другу бусы из помидоров, плели венки и украшали ими столы, поставленные в саду под яблонями, катались на лодках и снимали на нашем озере бурю и кораблекрушение на пленку — тогда еще не было кинокамер, — и делали карточки, где все мы изображали потерпевших и умирающих в море путешественников.
Танин отец внес в наше житье дух спортивный, стремительный, дух покорителя джунглей — он не был ни геологом, ни топографом, он был электриком, но просто любил двигаться. Иногда они с Таней исчезали до полудня и возвращались, когда я только умывалась на озере, с корзинами грибов, с какими-то ветками ягод или просто с листьями. Я даже не успевала на них обидеться, когда они приходили — веселые, пропахшие лесной прелью, с зубами, черными от черники.
Все-таки я ухитрялась сказать Тане:
— Ты всегда с отцом, с тобой и минуты не побудешь.
И Таня говорила:
— Давай сейчас сбежим.
Мы бежали с ней огородами в мой соснячок, недавно посаженный и едва окрепший, весь прозрачный насквозь усыпанный красными бусами брусники и желтыми, как желтки, листиками берез. То там, то тут мы находили подберезовики и горькушки, иногда и красный, и даже беляк вылезал на утоптанной полянке, тогда было не до интимных разговоров с Таней, мы развлекались грибами, и было все равно некогда говорить по душам.
По вечерам затевали игры в волейбол и гоняли мяч до полной темноты, пока кто-нибудь не падал на мокрую траву и не кричал, что больше встать не может, устал и заснет здесь.
Это великолепное лето мне запомнилось так отчетливо, что, кажется, если меня спросят ночью, какого числа уехала Таня и с какой станции, я отвечу точно: уехала двадцать девятого августа, со станции Дивенская, боясь, что в Сиверской будет очень много народу. Я провожала их на Дивенскую, шла чуть не плача оттого, что они уезжают и все хорошее, радостное на свете уезжает вместе с ними и только я одна остаюсь в этой постылой деревне, где меня держат будто бы для того, чтобы я дышала воздухом, а на самом деле просто потому, что не хотят пускать в город и, может быть, совсем не пустят, кто знает, может быть, мне здесь придется остаться. (Разумеется, все это были пустые мысли, потому что я твердо знала: через день приедет за нами грузовик и увезет всех сразу, но именно этот день без Тани, в страшной скуке одиночества, я не могла прожить и простить родителям.)
Все, конечно, обошлось благополучно, и я прожила ровно два дня без Тани и не умерла, отвлеклась чем-то своим и даже не пришла к Тане в тот день, когда приехала в город. Но зато мы первого увиделись в школе и, держась за руки, заявили, что отныне и навсегда будем сидеть только рядом, на одной парте, и ни за что на свете не будем сидеть врозь, — и сидели ровно два дня, потому что после, как всегда, были рассажены за бесконечные разговоры, которые я вела на уроках: именно во время уроков я и рассказывала Тане то, что не успела рассказать на полянке.
Теперь я могла созерцать Танины прекрасные косы, размышлять над тем, о чем она думает, почему смотрит на свою новую соседку и не забыла ли меня. Думая об этом, я тут же начинала писать Тане письма, а она отвечала мне тем, что трясла головой и, завернув руку за спину, покачивала ладошкой в знак того, что ответить сейчас не может, но мне казалось, что не хочет, и возникал конфликт, драма, которая излагалась нами в эпистолярной форме и посылалась по почте. Это были торжественные письма, на которые Таня, к счастью, отзывалась так же торжественно, и только когда нам двоим прискучило это занятие, Таня написала стихи — шутейные стихи — и все было забыто.
Под холодным ленинградским душем Шел зверек-мохнач, прижавши уши… —так она называла себя. Среди всяких Таниных талантов был еще и этот — писать стихи, но все-таки больше всего она умела решать задачи, и ей хотелось решать задачи — так ее настроил отец, так все решили еще в школе, так она и сама наконец решила.
После войны, в годы расцвета точных наук, Таня попала в этот поток и была унесена им в университет на матмех. Она там была где-то так далеко от меня и с каждым днем становилась все отчужденнее, насмешливее, обретала новый жаргон и новые привычки, иногда, прибегая к нам и наскоро рассказывая о том, как ей трудно, как ей некогда, убегала.
И все-таки она оставалась Танюшкой-зверюшкой, все такой же скромненькой, тихонькой, домашней, все той же девочкой на крепких стройных ножках, не подверженной никаким напастям, лихим страстям или душевным кризисам. Иногда она впадала в тихую тоску, но могла легко выйти из нее, пересилив себя, заставив как-то свою душу обрести покой. Ее сестра, которой прочили великое будущее математика, была так неуравновешенна, так страшна порой в своем неистовстве жить, понимать, знать, занять первое место в спорте, всюду, а Таня, живя бок о бок с ней, скромно, упорно шла по своей дорожке. Так, казалось, она и пойдет сквозь все тяжкие тяжести науки и придет к тому, куда шла такой же тихой девочкой, немножко насмешливой, немножко грустной, умненькой девочкой, но она не дошла.
Однажды она позвонила мне, я пришла туда, куда она просила, — на Фонтанку к мостику, и, идя вдоль набережной, мы разговаривали спокойно и просто, как всегда. Среди обычных разговоров она вдруг сказала мне:
— Знаешь, я ухожу из университета.
— Как уходишь, куда уходишь?
— В институт Лесгафта.
— В институт Лесгафта?!
— Да, на спортивную гимнастику.
— Ты сказала уже дома?
— Да, мы все вместе обсудили, и я решила.
— Ты разве провалила экзамены?
— Нет, я сдала всю сессию.
— И все равно решила?
— Да…
— Что же будет?
— Ничего особенного, просто я не тяну…
Это было одно из ее новых словечек, значение которых моя мама нарочно не понимала и всегда переспрашивала Таню, а я мгновенно и завистливо понимала и никогда не переспрашивала. Она «не тянула», она хотела «работать на брусьях» — все это совершилось так просто, так естественно, как и все, что происходило с Таней. В этом и была ее красота — самым обыкновенным образом делать самые невероятные жесты, которые другому из одного только тщеславия было сделать невмоготу, а ей удавалось и придавало столько обаяния.
Глава восьмая «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»
Еще на даче слышала разговоры о «Большом вальсе», а приехав, увидела лицо Милицы Корьюс, и оно показалось мне самым прекрасным из всех лиц, которые я когда-нибудь разглядывала.
Дома бранили этот фильм, говорили вечно о каких-то немых фильмах, о каких-то мимических актерах, которых теперь нет, и о том, как они были выразительны и хороши, а теперь все плохи, может быть и красивы, но все это такое деланное, такое скучное, наглаженное, напомаженное, не то, не то, а нынешние музыкальные фильмы выглядят так, будто это вампука.
Всякое домашнее суждение всегда накладывало отпечаток на мое, но восхищение «Большим вальсом» все равно оставалось со мной, хоть этого нельзя было и говорить. Стоило только заикнуться, как тут же на меня сыпались упреки, и хуже того — разговоры в сторону, при мне же. Разговоры о том, что дети совершенно не наследуют культуру родителей, что все они трудновоспитуемы, что совсем невозможно развить их вкус, не говоря уже об уме. Эти разговоры всегда приводили меня в состояние уныния, мне хотелось мучить кота или просто кричать в темной комнате. Мне не давали восхищаться моим фильмом. Почему я должна была вслед им, видавшим, может быть, и много больше, восхищаться только тогда, когда они этого желали? Я хотела восхищаться и восхищалась тогда, когда испытывала восторг: например, в филармонии восхищалась не скрипачом, а люстрой, а в Эрмитаже застывала от счастья, когда какой-то художник, делая копию картины, насвистывал ту мелодию, которую я будто бы и не слушала в зале, но помнила.
Мне нравилось быть девочкой наоборот, но быть всегда рядом с Таней, которая была девочкой как надо.
Теперь мы с Таней шли в кино смотреть «Большой вальс» и замирали от предвкушения счастья, сидя в пыльном фойе на скрипучих местах.
О боже мой, скоро ли начнется: мы, кажется, сидели час.
Там, за дверями, слышался приглушенный, такой волнующий кинодиалог, а мы, слушая его, заранее воображали, что там происходит на экране, как они хороши, что за великолепный вальс они танцуют. Наконец зал открылся, и тяжелый воздух зала показался нам чище озона, совершенно ненужного в те годы озона, тяжелый этот воздух был еще полон чужими восторгами, мы видели глаза зрителей и уже по этим глазам чувствовали, что нам предстоит.
Странная вещь — успех фильма, книги: он висит в воздухе, он приходит раньше, чем случится на самом деле.
И наконец начался фильм. Каким бы ни был он тогда, он все равно показался мне прекрасным, но он и действительно был не таким уж плохим в своем духе, я бы и теперь посмотрела его с охотой и, может быть, даже с наслаждением, но такого, как тогда, удовольствия уже нынче не получить даже от фильмов Феллини.
«Большой вальс» обрушился на нас как водопад, он два дня сверкал в наших глазах, пел в наших ушах, а мы должны были скрывать свой восторг от родных, при них мы должны были выслушивать насмешки по адресу Шани и всевозможные профессиональные замечания по поводу пения Милицы Корьюс. Кто-то говорил, что пьяно у нее там-то и там-то не звучит, а там-то она форсирует такую и такую фразу, что вся эта музыка довольно дешевого стиля, а фильм такой опереточно-мелодраматичный, что о нем и говорить не стоит. (Однако все говорили!) А мы должны были слушать, хотя в глубине души и шевелилось сознание того, что они правы, и все-таки не хотелось верить никаким скептикам. Тогда же, кажется, мне пришло в голову, что сердитые и усталые люди всегда считаются настоящими ценителями искусства, в то время как им не в кино ходить, а отдохнуть в деревне и попить парного молочка, тогда уж и смотреть фильмы.
А мы были теми самыми благодатными зрителями, которые больше не могут пить парное молоко. Хотя этот «Большой вальс» был только лимонадом — мы согласны были и на лимонад. Даже если кто-то говорил о картине плохо, но благосклонно относился к Милице Корьюс, я слушала именно то, что похвального говорили о ней, а все остальное мгновенно забывала, в то время как хорошее помнила.
Влияние этого фильма на меня было так сильно, что я написала тогда первый и единственный свой сценарий, который почему-то был совсем не на тему Штрауса и его любви, а о чем-то другом. Ничего не помню об этом сценарии, кроме того, что споткнулась (писала его вдохновенно и вдруг — вот она, цена вдохновения!) только об одну фразу, которую говорил мой герой своей героине: «Вы прекрасны, как бутон розы». Когда я это написала, то остановилась и подумала, что именно это и есть пошлость, о которой столько толкуют родители. «Прекрасна, как бутон розы» — ужасно! И впервые я вымарала фразу. Она меня остановила и охладила, я точно вспомнила, что где-то читала ее.
Я ходила мрачная и не сказала даже Тане о своем опыте и о том, что остановилась на этой злополучной фразе. Я сказала только: «У меня ничего не получается», — не говоря о том, что пыталась сделать.
— Что не получается? — спросила Таня.
— Ни-че-го! — таинственно и трагично произнесла я.
Таня пожала плечами. Не в ее стиле было влезать в чью-то душу.
Хотя Таня прекрасно знала, что я пишу дневники, пишу и рассказы, которые пытаюсь выдать за изложение на тему: «Как я провел лето», но она не подумала, что я взялась и за сценарий. Мое изложение всегда было так фантастично — то я писала, что я жила в Ташкенте и у меня были ослы, то писала, что ездила на море, в то время как все знали — благодаря моей же общительности, — что я жила просто на даче возле Сиверской.
Мне было неловко, что я пишу рассказы, не изложения. Если бы я писала изложения, как все, было бы гораздо легче, но я не писала этих изложений. Из каждого упражнения на употребление глаголов зависеть, ненавидеть, терпеть и вертеть я писала повесть о том, как, завися от кого-то, кто-то мной вертел, я ненавидела его, но терпела. Кроме этих четырех слов я писала столько других, и чаще с ошибками, что учителю смертельно надоедало читать мои длиннейшие труды. Насчитав три ошибки на двух строках, он не пытался читать остальные и ставил двойку, приводя меня в самое последнее отчаяние и заставляя все глубже погружаться в мое графоманство.
Так этот пустяковый фильм вызвал в нас целый поток вдохновения, игр, раздумий. Простой и милый этот пустяк заставил думать о себе так долго. Мы играли в него, слегка подтрунивая над томным лепетом объяснений — тон, которому легко научились с Таней, и говорили, понижая голос в начале фразы и обрывая ее совершенным шепотом. Мы играли и подтрунивали, но все это вместе и составляло наше вдохновение: тогда же пришло в голову, что прекрасно то, что сегодня нравится, сегодня имеет успех, а хорошо ли это в самом деле или не очень и есть ли оно на свете, это дело, — бог весть. Теперь я уверена в этом: минутный или долгий успех у вещи, она может нравиться только под настроение, может совсем не нравиться по всяким причинам — по той, например, что таких вещей много и они надоели, по той ли причине, что тебе кажется все знакомым, а на самом деле тебе не все вдруг понятно, или еще по одной причине: утомлен ли ты или весел, настроен скептически или мрачно, боишься ты или нет избытка информации.
Под впечатлением этого фильма прошел целый год, когда мы читали и смотрели столько вещей Гофмана и Гоцци, Метерлинка и Гамсуна. Так легко мы перешли к ним от «Большого вальса» и все еще были под его впечатлением, что теперь кажется — не будь «Большого вальса», не было бы «Синей птицы», которую мы с таким удовольствием ставили у себя в классе, с таким жаром обсуждали проблему Синей птицы — символ счастья, про себя надеясь на свое счастье. Оно действительно в те годы было в нас, и ничто не могло отнять его.
Глава девятая ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ ПРОТИВ ГИТАРЫ
Это предубеждение имела с самых ранних лет. Никто не играл дома на гитаре, никто никогда не покупал гитару и не слушал ее. Гитара? Ну, разве что в испанских спектаклях. Цыганские романсы распевали, дурачась, особенно Надежда. Она делала вид, что играет на гитаре: отставляла руку в сторону и трясла кистью так, будто стряхивала крошки. При этом она вся извивалась и пела:
Ми-и-и-аа-ая, т-ус-ышь ми-а-ня, П-а-ад акном ста-а-ю я-а с хи-та-ра-ю! Так схли-ни на ми-ня Хоть адин толька рас…Такое издевательство дома вообще не дозволялось, но тем не менее происходило, потому что мама и все совершенно не переносили гитару. Уж лучше балалайка. Считалось, что гитара только служит для того, чтобы размазывать и утрировать все и никак не передавать то сдержанное чувство, которое культивировали дома.
Так было всегда: гитару не могли слушать, и даже мама, летом, когда ей хотелось петь, но не было аккомпанемента, не пела под гитару из чистого предубеждения или пела одна, правда дурачась, когда разыгрывали шарады у костра. (Так бы и петь ей, не пытаясь научиться петь, петь как поется, так нет же, силилась, и то, что она делала это усилие, слышалось в ее пении.)
И вот в какой-то вечер, вдруг, она сама заявила нам, что в воскресенье придет гитарист и будет играть у нас и мы можем пригласить своих девочек слушать.
— Кого слушать, гитариста?
— Почему гитариста? Какого гитариста?
И мама объяснила:
— Да, гитариста, замечательного гитариста.
На время все слова, которыми обычно пользовались, были вытеснены этим одним словом «ги-та-рист», произносимым насмешливо, искаженно: «хи-та-рист», «хи-хи-тарист» и так далее; иногда произносилось это слово подчеркнуто уважительно, с маминой интонацией: «Нельзя пренебрежительно относиться к предмету. Предмет не может быть мещанским». Постепенно мы забыли это слово, как и сам концерт, который отложили, а потом еще раз отложили, потому что гитарист не смог прийти, как обещал.
И вдруг разговор о нем снова возобновился, и уже теперь на его концерт пришли только какие-то знакомые, соседи и родственники. Девочки из школы прийти уже не смогли, но все-таки народ собрался, что нас всегда настраивало особенно возбужденно и по-разному. Меня, как обычно, радостно, потому что пришли гости; Надю возбужденно-насмешливо, потому только, что пришли маленькие дети, мои знакомые или мамины.
И наконец пришел гитарист.
Появился человек в костюме, сшитом так тщательно, что не оставалось больше ничего в глазах, кроме его подтянутой и обтянутой фигуры, — лица не было, только маленькие бакенбарды, только костюм, прекрасный костюм, сшитый неизвестно где по тем временам. Человек был очень высок и строен, кудряв, но все-таки главное в нем был костюм, который, казалось, если его снять, остался бы этим гитаристом и без него.
Этот человек был скован, как и его костюм, был изысканно вежлив, как костюм, и был цвета своего костюма — серым. Человек был без гитары. Во всяком случае, он вошел без гитары. Все притихли, и даже Надежда.
Кто-то спросил в тишине:
— А где же гитара?
Человек вздрогнул, и мама нарочно громко заговорила о том, что купила приемник, который совершенно не работает, — заговорила для того, чтобы нарушить воцарившуюся неловкость. Гитарист силился стряхнуть с себя взгляды, обращенные к нему, и чувствовалось, что он понимает всю неприязнь, исходящую главным образом от Нади и распространяющуюся на всех, сдерживаемую мамой и все-таки непреодолимую.
Сразу определилось: он — и остальные гости, он — и слушатели, он — и сдержанная насмешка, он — и мама, единственная без насмешки, веселая и непринужденная вопреки всем и потому еще больше разжигающая чужую неприязнь.
И он, человек в костюме, должен был почти против всех играть и заставить слушать, и не понимать, что они слушают насмешливо, просто чтобы все равно сказать: «Ну да, конечно, если любить такую музыку, то это не хуже, может быть лучше других».
И вот он принес свою гитару (к счастью, без банта), последний раз посмотрел на всех невидящими глазами, посмотрел и кашлянул. Стало тихо, и только Надежда где-то в углу извивалась на стуле, изображая игру на гитаре.
Он посмотрел и стал играть.
Все, привыкшие слушать, сидели тихо, никто не шевелился, не кашлянул, не скрипнул, но с первых же аккордов стало ясно, что слушать его игру нужна выдержка, что он играет так, как именно и не любят у нас, что все это идет мимо слушателей, и хорошо, если мимо, а то и раздражает. Но он играл, не обращая ни на что внимания.
Есть люди, которые не знают зала и делают то, что привыкли, как бы зал себя ни вел; есть люди, которые страшно тонко воспринимают реакцию слушателей, а он, казалось, и слышит, что все не в восторге, и не слышит этого, надеется и теряет надежду одновременно. Собственно, это уже была не игра, не музыка, а поединок со слушателем. Он злобствовал, играл ожесточенно, чисто, но не для нас. Все чувствовали, что он способен играть и способен разбудить людей, но будто и сам не может проснуться, не то что разбудить нас. И это страдание сна, когда человек хочет проснуться, но не может, было вместо игры.
И вдруг он грубо оборвал игру и громко, неловко громко сказал маме:
— Дайте мне карты.
— Карты? — не сразу отозвалась мама.
— Карты и веревку! — крикнул он.
И мама испуганно долго доставала карты и рылась в рабочей коробке.
Он отвернулся от всех и стоял спиной к нам, притихшим, подавленным, до тех пор, пока мама не дала ему карты. Некоторое время он тасовал колоду карт, стоя все так же спиной, и вдруг сердито и рывком повернулся ко мне, сидевшей в первом ряду, и сказал:
— Снимите!
Я не поняла и долго оглядывалась на всех, пока мне не помогли снять несколько верхних карт. Тогда он сказал:
— Запомните!
Я опять ничего не поняла, он отвернулся, еще раз повторил свой прием, и тогда я показала всем короля треф.
Он перемешал колоду, держа карты картинками к нам, быстро раскидывая их веером и собирая снова. И опять крикнул мне:
— Выньте карту из колоды!
Я вынула короля треф.
Напряжение исчезло, дети оживились, и даже мама легко вздохнула.
— Веревку, — сказал он, — веревку и платки!
Он посветлел, ободренный своим каким-то удовлетворением, и стал собирать платки, привязывать их к шпагату, завязывать и показывать, как прочно прикрепились платки к веревке, и вдруг завязал веревкой свою шею, потом подал концы веревки маме и мне и велел тянуть изо всех сил концы веревки, после сделал короткий жест, незаметный нам, и внезапно выпутался из веревки и спокойно стряхнул все платки на пол.
Мы, притихшие и испуганные, когда надо было тянуть концы веревки, наконец вздохнули, и кто-то легонько захлопал, захлопали дети и даже Надя, и он, ободренный, вдруг подозвал меня и потом велел поднять платок с моего стула. Когда я это сделала, все приподнялись с мест, чтобы посмотреть, что же там такое, и увидели шоколадку в виде ракушки, совсем настоящую шоколадку, большую, тяжеленькую, и один вид ее заставил моего соседа, маленького мальчика, вдруг громко прошептать: «Я тоже такую хочу». Тогда гитарист сделал еще какие-то пассы, погладил мальчика по голове и велел пошарить у матери в кармане, и мальчик вынул шоколадку, такую же, как мою, и всеобщее одобрение гитаристу воцарилось в комнате.
Надя вдруг появилась в первом ряду. Он и ее позвал. Она, быстро сбросившая с себя презрительную мину, явилась к нему с великолепным потупленным видом невинной, не знающей никаких злобных чувств отроковицы, с легким румянцем и пушком над волосами, который нимбом светился над головой. Она встала рядом с ним и скоро получила от него не шоколадку, нет, помаду, и покраснела еще сильнее. Но уже мама, обеспокоенная этим обилием подарков, хмурилась и недовольно глядела на Надежду, которая, забыв, что она стоит перед всеми, открывала помаду и готовилась даже покрасить губы. Гитарист перехватил мамин взгляд, но не одарил маму, нет, а вдруг снова взял гитару и теперь, когда от него ожидали фокусов и были совсем настроены на другой лад, думали, что и с гитарой проделает фокус, теперь вдруг стал играть.
Надежда еще не успела сесть, когда он начал играть «Очи черные», и присела на мой стул, не на свой, далекий, вжалась в стул и стиснула меня. И мама замерла, и все, кто только что делал вид, что слушает, слушали.
Да, я запомнила эти «Очи черные», я запомнила каждый звук, похожий на комариный свист, такой, что, кажется, вот-вот оборвется и замрет, но он не замирал, существовал и нисколько не был похож на звук гитары, был похож на звук флейты, привычный и потому любимый, был похож на арфу, не слишком привычную, но благородную и потому тоже любимую, но сверх всего этого был еще своеобразен и без всякого признака характерной смазанности звука гитары.
И он, гитарист, человек без лица, человек в прекрасном костюме, чужой, всеми отталкиваемый, фокусник, вдруг стал музыкантом, которого приняли разом, простили и облагородили. И ему аплодировали. Аплодировала и Надежда, вытеснившая меня с моего первого места (ведь нарочно села позади, чтобы хихикать). Она слушала его игру, но гитарист вдруг кончил свой концерт и на бесчисленные просьбы гостей не откликнулся. Сел понурый и усталый, победивший, но почему-то не торжествующий, мрачный, и сидел так долгое время молча, пока мама и все мы провожали соседей.
Бабушка стала накрывать на стол и устраивать обед.
Надо сказать, этот обед готовили заранее, специально для гитариста. Бульон с пирожками делала мама, что она делала довольно редко. И теперь, когда гости разошлись и остался только гитарист, даже Надежда, которую очень трудно было заставить что-нибудь делать, собственноручно раскладывала ложки и подбирала одинаковые. Она расставила тарелки, чередуя белые с синими, и это ее рвение имело трагические последствия.
Пока она это все устраивала, она посматривала на гитариста, а он запрокинул голову на кресло и, казалось, не смотрел на нее. А Надя все посматривала и посматривала и двигалась так медленно, так плавно, как это было и положено хорошо воспитанной девочке, когда она накрывает на стол. Наконец все было готово и гитариста пригласили. Он вскочил вдруг и склонился учтиво (сквозь эту учтивость угадывался очень неучтивый человек, человек, который силится быть учтивым) и сел рядом с Надеждой. Ему налили бульон, и он погрузил в него ложку. Все молча ели, и тогда гитарист сказал:
— Какая уха!
Все остановились. Все отнесли это за счет его рассеянной ожесточенности и только после догадались, что Надя в своем усердии подобрать одинаковые ложки подсунула ему ту, из которой пила рыбий жир. Он ел котлету, и теперь все ожидали, что он скажет — «великолепная рыба»; но он промолчал.
Теперь он уже не был скованно-учтивым, а несколько вялым. Он разговаривал только с Надеждой и что-то объяснял ей и просил, а Надя, еще не обученная кокетству, краснела или качала головой. Оказывается, он просил ее сыграть на рояле. Но Надя знала свои возможности, поэтому говорила только — нет. Он сказал что-то вроде — «для меня», на что Надя фыркнула, но я уже знала: она покорена им и прощает ему все — и бакенбарды, и мины, и фокусы, а его «Очи черные» с тех пор звучали в ее душе как некая молитва.
Так и было: теперь среди репертуара Надежды, среди гамм и пьес вдруг ни с того ни с сего стали звучать «Очи черные», завуалированные некими лишними звуками, должными затушевать эту мелодию и скрыть ее от наших ушей. Надины музыкальные упражнения и импровизации всегда сводились к десяти аккордам и двум-трем мелодиям, напоминавшим тротт-марш. Теперь к этому маршу прибавились «Очи черные». Настал момент, когда я могла бы торжествовать и издеваться над ней, могла бы петь ей каждый день это ее «ми-а-я ты ус-ышь ми-ня», но я ограничилась тем, что поглядывала на нее проницательно, когда она понуро сидела за роялем и не решалась играть свои вариации «Черных очей». Нет, иногда я повторяла: «Какая прекрасная уха» или говорила: «Сыграйте для меня», но в то же время я готова была помочь ей хоть чем-то. Я спрашивала у мамы, когда еще раз придет гитарист, и придет ли вообще, но мама не знала.
И все-таки он пришел однажды с кем-то. Он пришел, и мы услышали его голос за дверью. Он спрашивал, дома ли дети.
Дети! Я знала, что речь идет не обо мне и не о детях вообще, а о Наде, которая уже совсем не ребенок, семнадцатый год, какое же дитя?
Надежда мгновенно ушла в маленькую комнату, оттуда в кухню и в ванную, снова вернулась, потопталась в коридоре, вошла в комнату и сказала:
— Опять будут фокусы?
— Нет, — сказала я, — снова будет гитара.
И тут нас позвали.
Мы вошли, и он совсем не в сером костюме, а в мягкой красной куртке, такой широкоплечий, славный, совсем не скованный, поднялся нам навстречу — поднялся вразвалочку, поднялся ласково, как это и можно было ожидать от взрослого человека, который встает перед детьми. Он протянул нам обе руки сразу, я взяла левую, а Надя правую. Он потрепал меня по голове и легонько прижал к себе, а Надю — нет, как и надо было. И Надя, вся красная, до самого горла, особенно нежная, смотрела мимо него, и он не разговаривал с ней, а только со мной.
Он спросил, хочу ли я еще раз получить шоколадку, и мама запротестовала, а я, уязвленная тем, что он подчеркивает мое малолетство, ответила, что хочу еще раз услышать его игру. При этом Надежда не шевельнулась, но он, чуя, что все это не просто, ответил мне, что сегодня не играет. Он откинулся на спинку кресла и посмотрел на затылок Надежды. У нее был красивый затылок, с кудрями, выбившимися из-под косы: каждая кудряшка светилась отдельно. У меня было ощущение, что он сейчас погладит ее по затылку или по локотку, который лежал рядом с его рукою, но он погладил только диван.
Мама и тот, кто пришел с гитаристом, занялись разговором, вышли куда-то, а я не ушла и во все глаза наблюдала за ними, за гитаристом и Надей. Я сказала ему, что сейчас покажу ему картинки, и стала рыться в шкафу. Они молчали довольно долго, потом Надя спросила:
— Вы выступаете в концертах?
— Нет, — сказал он, — я преподаю технологию дерева… — И он стал объяснять ей долго и скучно то, что он делает, а я выпустила их из виду, закопалась в своих картинках. Я нашла одну, которую рисовала сама, и удивилась, что так хорошо, совсем отвлеклась от них и, снова поглядев, услышала только слова:
— …приеду на дачу…
Теперь мама была возле них, а он вставал и отходил от Надежды вслед за мамой, которая объяснила, где наша дача: «Собственно, не дача, деревня, но, знаете, там чудно, озеро чистое, лес…»
Он ушел, и с тех пор Надежда одна была все равно с ним. Она переменилась на глазах. Куда девалась ее насмешливость, язвительность, куда девались все ее штучки. Она стала ленивой и сонной, вздыхающей и раздражительной.
Ее влюбленность повисла в доме, и все ощущали эту тяжелую, прямо-таки осязаемую страсть. Было тяжело ходить в пустой комнате, где жила ее влюбленность, и иногда уже нам казалось, что мы все влюблены, вплоть до бабушки. Коты кричали на балконе, лучи солнца освещали нашу тяжелую квартиру, музыка пела о любви, о любви несчастной, неразделенной, первой.
Все предметы в доме стояли с тяжелой влюбленностью, и коврики перед кроватью падали навзничь, а подушки сидели так безвольно, так безжизненно, как и Надя, которая возлежала на них.
Все было прекрасно-раздражающе, как часто бывает весной, но мы ехали на дачу и, разумеется, больше всех ехала на дачу Надя. Она собиралась лихорадочно и лениво одновременно, потому что она надеялась, что он приедет, и теряла надежду.
И он действительно приехал на дачу.
Тот день я запомнила с необыкновенной отчетливостью, и особенно Надежду, в легком новом платье, с широким воротом, как декольте, загорелую и гладкую, с пушистыми волосами, поднятыми вверх. Будто Надежда чувствовала, что он едет, идет к нам от станции так далеко леском и полем, идет своей легкой походкой, стройный, неотразимый. Будто Надежда это чувствовала с самого утра и потому так нарядилась, так похорошела, приколола к вороту колокольчики, прозрачные, как крылья бабочек, долго неувядающие. Мы пили на крыльце молоко с малиной, пили в великолепной прохладе «послекупанья», мы пили и радовались чему-то своему, совсем не появлению этого человека. И вдруг он появился и шел по аллее, такой неотвратимый, необыкновенный, к нам. Он шел вместе со знакомым, тем самым, что привел его второй раз, он шел сквозь игривую тень, и Надежда каменела. Она сидела лицом к дорожке, и его шаги к нам отражались в ее лице испугом.
Она не встала из-за стола, как все, она не сказала ему ни слова, когда он сел на ступеньку, устало и разнеженно улыбаясь. Он сказал, что хочет купаться, и, разумеется, я отозвалась мгновенным согласием, потому что могла купаться все дни и ночи. Я побежала за полотенцем, а Надя не тронулась с места, не сказала и слова.
Разумеется, она пошла с нами и сидела на берегу, пока мы брызгались в воде, доставали лодку и подкатывали ее к тому месту, где сидела Надежда. Разумеется, она каталась на лодке и в тот же день ходила гулять за десять километров до самой глубокой ночи. Разумеется, она и ночью стояла около крыльца с ним и разговаривала до тех пор, пока мама не выдержала и не прервала их самым примитивным образом, сказав: «Надежда, поди спать».
Но я слышала все их разговоры. Он говорил ей:
— Каждый вечер смотрите на звезды, вот на эту.
— Да, — еле отзывалась она, — хорошо. (Это было чистое колдовство с его стороны, но так было надо.)
— Смотрите на звезды и думайте обо мне каждый вечер, — он сделал легкий жест рукой: провел ногтем от плеча до кисти. (Это было заклинание, настоящее заклинание.)
С тех пор Надежда вплоть до приезда в город глядела на звезды с тем усердием, которое он ей завещал.
Но в городе случилось самое невероятное.
Город встретил нас афишей, висевшей прямо на нашем доме, и с афиши глядело его лицо, он и его имя.
Когда мы смотрели на эту афишу вместе с Надеждой, я испугалась за нее. Она стояла возле афиши долго, потом вдруг побежала домой со всех ног, забилась в угол и говорила мне, уже не стесняясь меня и забывая, что мне нельзя говорить, говорила:
— Они нарочно повесили это на наш дом, я знаю, они нарочно повесили…
Потом ни с того ни с сего она убежала куда-то и явилась только вечером. Она шла на его концерт и теперь звонила всем своим подругам, приглашая их с собой.
С тех пор она ходила на все его концерты, и уже в доме повисло презрительное слово «печковистка». «Ты как печковистка», — говорили ей бабушка и мама, но она не обращала внимания до тех пор, пока однажды она не пришла с концерта вместе с мальчиком, таким же, как она, десятиклассником, наивным и смешным, сразу вдруг полюбившимся всем и именно потому, что Надежде грозило стать «печковисткой». Это был Саша, за которого через год Надежда вышла замуж.
Она выходила замуж за Сашу, но я знала, что ей казалось, будто она выходит замуж за того гитариста, который больше не появлялся никогда, никогда не видел Надежду и не помнил о ней.
Она выходила замуж потому, что хотела бы выйти за гитариста; она выходила замуж потому, что помнила его заклинание; она выходила еще и потому, чтобы вернуть себе насмешливость.
И насмешливость вернулась к ней, даже неприязненность к гитаре: она снова изображала игру на гитаре, но теперь это был жест более горький, чем прежде, теперь она сама себя дразнила гитаристом.
Глава десятая МОИ ДЕМОНЫ
Не было для меня ничего проще, чем придумать себе демонов, поверить в них, носиться с ними, бороться и вечно быть побежденной ими, несуществующими и явными, незримыми и все-таки тягостными; не было ничего проще выдумать их — даже сидя на уроке, даже в то время, когда что-то читал и, казалось, ничего не замечал, кроме строчек, тем не менее каким-то своим непостижимым способом, одновременно с тем, что читал, — выдумывал, а после, закрывая книгу и погружаясь в сон, продолжал вести диалог со своим демоном. Редко он говорил мне известные слова о том, что я буду царицей мира, гораздо чаще он произносил: «Когда б вы знали, как ужасно томиться муками любви…» При этом я сердито отвечала не те известные слова, которые должна была ответить, а свои: «Надо же! Я не знаю! Ведь я первая полюбила! Я первая писала!» — все равно как «чур первая». «Кто играет в жмурки, чур я первая!» — «Нет, я первая сказала, нет я, нет я!»
Не было ничего проще, чем увидеть мальчика, как две капли воды похожего на Оливера Твиста из моей книги «золотой библиотеки», и понять — он и есть тот самый, которого я люблю давно, еще когда только что научилась читать, что я люблю его и знаю. После, при ближайшем знакомстве, разглядеть, что он такой веснушчатый, что он едва умеет сказать два связных слова, и те будут звучать несколько необычно. Например: «За баламуту выделяют», — стоило дома произнести эти магические слова, похожие на заклинание, как начинали все потешаться или ужасаться и заставлять меня прежде всего объяснить, что они значат, а после — забыть и никогда не произносить вовсе, чего я уж, разумеется, совсем не могла сделать после того, как они велели объяснить, чего я тоже не умела. Я старалась всеми силами узнать у всех, что же означают эти слова, и в конце концов узнавала, что это значит: «Не болтай, а то побьют».
При этом сначала мне переводили слова так: «Не треплись, а то получишь!» Именно так я и говорила дома, и они понимали, но делали вид, что все равно не понимают, а я старалась узнать еще один перевод — с русского на русский, и наконец обретала желаемый текст, который и подносила дома. Они получали его от меня, а я взамен — длиннейшую нотацию, которая в свою очередь заставляла меня жалеть о проделанной работе, с одной стороны, с другой стороны — высекала, как на граните, эти слова-заклинания в моей душе, а в-третьих, не вызывала ни малейшей антипатии к тем, кто произносил злополучное выражение, а скорее раздражение против тех, кто выговаривал мне.
Теперь мне к месту и не к месту хотелось произносить за баламуту выделяют, что я и делала, думая про себя, что это так же значительно звучит, как знаменитое: «Когда б вы знали».
Поистине это были демонические слова, которые я помню и по сей день так, будто слышала их вчера, что же касается образа самого демона, то он стерся, исчез, забылся совершенно, оставив после себя легкую грусть.
Эта грусть, пожалуй, проистекала оттого, что мое воображение изменяло мне: в другие времена оно служило мне верой и правдой и долго удерживало образ в рамках задуманного заранее. В этом случае происходила постоянная игра в этого демона, который произносил то, что мне хотелось, и не вырывался из моих рук так скоро, как это случалось в детстве.
Лет в девятнадцать написала стихи:
Я ведь знаю, что влюбленность — Это все самовнушенье. Чем сильней воображенье, Счастья неопределенность, Тем сильнее сердце бьется, И тебе лишь остается Покориться его стуку. Покориться без остатка… —и так далее, но, зная все это, все-таки в глубине души иногда сомневалась в истинности своих же умозаключений и предавалась своему самовнушению со всей страстью, на которую была способна.
«Когда б вы знали, как ужасно томиться жаждою любви», — произносила я постоянно и постоянно томилась этой мукой, невзирая на то — был объект или нет под рукой, иногда включая этот объект в свои терзания, иногда и обходясь без него.
В тринадцать лет, прочтя «Таис», я говорила с видом грустным и утомленным: «Мне ведомы все виды любви», путая такие понятия, как виды и оттенки, что в данном случае очень существенно. К счастью, я говорила это своим же девочкам и мальчикам, и они только сердились, чуя в этом речении чью-то цитату, которую они не знали, в то время как считали, что должны знать все цитаты наизусть. К тому же они знали, что все мое глубокомыслие — чистейшая ерунда, что я ничего не смыслю в любви, разве что начиталась, — это книжное знание всего раздражало их в себе, а уж в других — совершенно. Потому они пропускали мимо ушей мои разглагольствования о любви.
В тринадцать лет я чувствовала влюбленность во всех на свете. Любила учителя литературы, которому было лет пятьдесят; любила Таниного старшего брата-студента, который меня вовсе не замечал; любила своих братьев; очень благосклонно, хотя и презрительно принимала влюбленность мальчика, который был младше меня, и еще без конца всех, кого случайно видела в гостях или в театре, кто приходил ко мне на день рождения или звал к себе. Просто в тот самый миг, когда меня приглашал какой-нибудь мальчик на день рождения, в тот миг я и влюблялась в этого мальчика и в его день рождения — разом. Пожалуй, день рождения я даже любила больше, чем мальчика. Ах, эти дни рождений, которые начинались тревогой — отпустят или нет в чужой дом, дадут или нет денег на подарок, вообще состоится ли он, этот день; и, когда он наступал, когда все состоялось, как было задумано, каким счастьем казался он. Как наряжалась перед зеркалом, меняя ленты и заодно — выражение своего лица, как быстро бежала туда, где тебя должен был ждать именинник, встречать на остановке трамвая, что само по себе уже создавало какую-то интимность и подобие свидания, он ждет на остановке — уже влюбленность и тайна. Если шла на этот день рождения не одна, а всей гурьбой, то влюбленности не случалось, а если кто-то ждал, то случалось, но иногда, несмотря на всю гурьбу, я все равно была влюблена — и тогда уж не в именинника, а просто во всех: в его родителей и родственников, в его дом и веселье, которое происходило в этом доме.
Соседа Вову я любила за то, что однажды его отец позвал меня с серьезным видом и стал обиняками говорить, что Вова очень неравнодушен ко мне и надо отнестись к этому как можно серьезней и не разбить его сердце. Стоило мне услышать эти слова, как я тут же решила разбить его сердце — и пыталась сделать это в самом буквальном смысле. Наши балконы были на одном этаже и рядом. От одного балкона к другому шел узкий карниз, и я уговаривала Вову пройти по этому карнизу к балкону, то есть пыталась разбить его вместе с сердцем. Вова не шел по карнизу на мой балкон, а бежал через площадку и уныло звонил под дверью. Дверь я не открывала очень долго и сердито стояла на балконе, ожидая, что Вова решится еще перелезть. После, потеряв надежду увидеть его на карнизе, я открывала ему и говорила, что он трус и не сможет стать летчиком, как он хочет, раз боится высоты. Вова отмалчивался.
В то же время я чувствовала, как гаснет интерес ко всему на свете, если Вовы не было на соседнем балконе, а когда он только появлялся, я демонстративно уходила, боковым зрением наблюдая выражение его лица и после, садясь делать уроки, ловила каждый шорох на балконе — стоит он или нет, и сразу выходила, как только слышала, что он открывает дверь и хочет уйти в комнату, не дождавшись меня.
Если Вова уезжал на дачу или куда-то девался, было очень скучно.
Пытаясь разбить сердце ушастого Вовы, я ни на минуту не забывала все прочие свои влюбленности, наоборот, идя с ним в кино, вдруг вспоминала, что вообще-то по-настоящему я любила только актера Тенина, а вместе с ним — заодно — и актрису Сухаревскую, его партнершу.
Кроме того, всегда влюблялась в тех мальчишек, которые нравились Тане, и даже ревновала ее, если она не хотела знать моих пассий и относилась к ним презрительно. Это мне было неприятно, я хотела, чтобы Таня, как и я, была влюблена в тех, в кого я (эдакие Эмина и Зибельда!)
Предметы наших увлечений ничего не ведали о том, сколько мы о них говорим и думаем, да и для нас они были мимолетны и не имели никакого значения. Уверена, что если бы меня спросили, чего мне больше хочется — поговорить с актером Тениным или съесть кусок арбуза, то я бы выбрала арбуз. Любила арбузы так сильно, что могла есть их днем и ночью, утром и вечером. Помню необыкновенную радость, когда кто-то приносил арбуз — простой зеленый шар казался мне сосудом, полным волшебства и тайн, и до сих пор мне кажется, что не открыты все тайны арбуза: ни один плод так не манит, как арбуз.
Когда приносили арбуз, я исполняла вокруг него ритуальный танец, обнимала его, тащила на стол, суетилась, чтобы его скорее-скорее взрезали. И этот треск, когда нож вонзался в твердую корку, этот непередаваемый чмок, когда арбуз распадался на две половинки и в тишине, воцарившейся в то время, когда резали, слышался всеобщий вздох: «Ах, хороший, какой хороший» — и запах сладкой свежести распространялся по всей комнате, — особенный, арбузный восторг наполнял комнату предвкушением блаженства. Зубы вонзались в арбуз, и холодок его сока разливался по всему телу, вливался в каждую клетку, радостью отдавался в твоей душе и веселил ее.
Когда я ела арбуз в детстве, то всегда думала — откуда в нем столько холодного сока? Все можно было понять — и для чего этот сок, и почему так много сладкой мякоти в арбузе, но откуда в нем холод?
Помню, что ранней осенью, когда погода становилась острой и тепло быстро сменялось туманом, — очень мерзла, когда ела арбуз. И дома все мерзли и говорили:
— Давайте топить камин.
Топить его было очень трудно: надо было просить кого-то принести уголь, который всегда экономили, надо было вообще всех уговорить, что они замерзнут, если не затопят, и, наконец, когда все соглашались, я суетилась больше других и растапливала камин.
Зато какое роскошное тепло заливало меня, когда камин разгорался и его языки плясали перед моими глазами.
Так любила смотреть в камин и воображать какие-то фигуры, возникавшие из огня и улетавшие куда-то. Я видела в огне яростные тела, делающие какие-то прыжки, тела людей, которые вытягивали руки; мне казалось, что этих людей жгут на костре, что они пытаются вырваться из пламени, хотелось спасти их и оставить плясать возле камина.
Иногда мне удавалось выкатить уголек незаметно, тогда он быстро гас, и едкий дым заставлял меня снова бросить его в камин.
Между тем тепло вытесняло холод и дремота разливалась во мне. Хорошо было, если кто-то в это время ловил чью-то далекую мелодию и она вместе с теплом и уютом баюкала меня.
Кто-то говорил о том, что, верно, играет Менухин, кто-то говорил о его игре, а я тихо задремывала, видя яркие сны: в глазах все еще плясали огненные люди, хотя веки и были закрыты. Так ласково касались меня музыка и тепло камина. Я засыпала и видела во сне что-то очень яркое и светлое, после, просыпаясь, думала, что другого блаженства не бывает (я была недалека от истины).
То детское блаженство не воскресить и в памяти. Помню только, что оно горело ровной радостью, оно вызывало бесконечный интерес ко всему на свете, восхищение всяким предметом, всякой малостью, от букашки до книжки, от хорошей погоды до хорошего спектакля.
То детское блаженство было действительно блаженным, а все после было только выходом из тяжелого состояния, которое по контрасту казалось счастьем. Старая истина и тем не менее — истина, которую стоит сказать.
Юность была тяжелее детства, она казалась больше трагичной, чем прекрасной, и не потому, что была война и всякая напасть, а потому, что она и всегда и всем тяжела — вплоть до относительной зрелости.
Но демоны, сколь быстро появлялись, столь быстро и исчезали из моей памяти — все, и те, которые не были мной придуманы. В сущности, я никогда не любила ничего воинственного, а демонизм нес войну и страсти, которые тоже не очень любила: они мне мешали ощущать простые прелести, — так было, нисколько не путаю.
Влюбленность в юности была так страшна — вдруг в какой-то момент ты чувствовала, что ничего для тебя не существует на свете, кроме любви, что ты совсем затоплена ею, что все, что происходит кругом, все это любовь и мука, которую не перенести. И все это просто тяжесть, которую надо перетерпеть, и даже кино, веселье, ожидание этого веселья — все это только ожидание кого-то, кто, может быть, и не придет вовсе. Но, конечно же, он приходил, потому что совершенно неважно было — кто он, и какой, и что он собой представляет. В те времена никто не существовал на земле, кроме тебя самой, тебя — вечной, тебя — прекрасной в своей некрасивости, тебя, которая должна была иметь одно качество — любовь к кому-то, и ее следовало не выдать ничем — ни лицом, ни жестом, что было необыкновенно трудно.
Лицо и все твое существо могло смеяться, веселиться, ты могла шутить и разговаривать с теми, кто завидовал тебе, твоей молодости, но на самом деле ты знала только свою муку неразделенности, ту муку, которая была всегда с тобой, даже если любовь была разделена.
Демоны витали всюду и являлись тебе в самых дивных минах — от прекрасных, как мои братья, до невероятно смешных и ничтожных, мелькнувших на какой-то миг и забытых мною вовсе и тем не менее существовавших какое-то время.
Ты мог из своего смущения, неловкости, этого внутреннего содома, что был в тебе, делать самые нелепые вещи, ты мог упорно сопротивляться своему же демону, мог дразнить его, и мучить, и плакать после всего того, что сам устроил, горькими слезами, в то время как надо было бы смеяться своей победе. Ты, одержавший победу, вдруг становился побежденным и несчастным, ты чувствовал в себе неразделенную муку в то самое время, как твой демон действительно был тобой отринут. Отринут — какое смешное слово. «Не можешь ты меня отринуть, ты для меня должна покинуть…» Итак, он был отринут, а ты не торжествовала, а только страдала, воспринимая его муку, как свою, путая все эти муки и страдая за себя и всех, а в то же самое время ощущая только одно: себя. Себя. Себя, несчастную, себя, любимую, себя, средоточие всех мук и всей вселенной.
Понимание того, что демон уже не он, а ты, приходило к тебе, но некогда было даже торжествовать, ты этого всего уже не замечала, а тебе это было уже скучно видеть, ты не помнила ничего, помня только одно — кем-то ты была отринута и больше никогда не будешь возвращена.
Никогда висело над тобой, как вечный меч, который так хотелось схватить и занести над головой того, кто занес, но пока ты так суетилась, все исчезало для тебя и ты забывала свою руку на ручке того меча, уже схваченного тобой, но не взятого. Меч этот исчезал, рассеивался, и ты видела теперь, что меч этот и не был в самом деле вовсе, что он был химерой.
Смеялась над собой и над теми, кто вызывал такой прилив энергии, смеялась, представляя себе, что это была за схватка с пустотой, и сколько на это ушло сил, и как все нелепо выглядело со стороны, но понимала вдруг, что вся эта нелепость, в сущности, была тоже грациозна и нужна и ты все-таки победила.
Глава одиннадцатая ФИЗИОЛОГИЯ ЧТЕНИЯ
Сколько радости было в чтении по ночам, в чтении книг, про которые говорили: «Смотри, чтобы дома не отобрали». Эти книги, которые могли отобрать, были всегда истрепаны и засалены, были сальными во всех смыслах этого слова, эти книги читались единым духом, за ночь.
Надо было вовремя лечь спать, но постараться не заснуть, что было очень трудно. Надо было выждать, чтобы все в доме заснули, а ты доставал свечу, зажигал ее, ставил под кровать и открывал книгу. Какие-нибудь белые рабыни и их горькая судьба заставляли тебя не спать до самого рассвета, заставляли тебя истомиться жалостью, даже поплакать, разжигали любопытство и недоверие к тому, что писалось про них, и думать — не все, не все написано, что надо бы написать все, как ты предполагаешь.
Эти предположения в тринадцать лет мучили тебя страшно, гораздо больше, чем сама книга, которую читал.
Читал тогда единым духом, читал до того, что голова становилась огромной и легкой, глаза ломило, а руки затекали, но этого всего нисколько не замечал, только читал и читал, пока не сваливалась сама собой голова на подушку. Тогда истомленно и прекрасно засыпал. Спал так глубоко, что, когда тебя поднимали, помнил только белых рабынь, которых продавали во все страны какие-то злодеи.
Сколько ушло на это сил, сколько ночей, и казалось, что несчастья белых рабынь навсегда поглотили те силы, которые нужны были для чтения, но, как ни странно, они не только не поглотили, но удвоили эти силы, сделали тебя вдохновенным читателем, они приучили читать не просто глазами, но и всем существом. После них читал так же упоенно и Гоголя, и Достоевского, читал так до тех пор, пока тебе не начали задавать читать. Разве можно было сравнить то собственное чтение с уроком литературы, где по часу читали одно и то же, разбирали образы и заставляли совсем, навсегда разлюбить Пугачева или Онегина, которые после урока становились совсем не теми, какими помнил их, только что прочитав. Они становились заданными и выученными.
Это был кошмар, когда из гоголевского Манилова, такого смешного и славного, на уроках делали типичное явление, когда по нему писали сочинения и читали вслух по десять, двенадцать раз подряд. Манилов, такой деликатный человек, вроде Коки, — Манилов, мой милый, и вдруг всякие громовые слова в его адрес!
Но все равно сам для себя продолжал читать с таким вдохновением, что казалось, будто ты не читаешь, а пишешь все это, и даже не пишешь, а существуешь этим. Ты после чтения каких-то самых смешных вещей был уже сам не свой, а их; ты принадлежал им всецело, так что на уроке мог отвечать что угодно, кроме того, что было нужно. Мог отвечать рассеянно и нелепо, как Недоросль, или очень умно и быстро, как Николенька, мог сбиваться, или путать все на свете, или острить, как Чацкий. А как легко было стать Чацким и вдруг ни с того ни с сего бояться, что тебя назовут безумным, как легко было представить себя ревнивым Арбениным и травить свою кроткую Нину постоянным подозрением и ядом!
В четырнадцать лет казалось, что уж и читать нечего — все было прочитано, все было узнано, и тяжелая усталость вконец измученного чужими-своими горестями человека делала тебя таким вялым и всезнающим, что казалось, отныне все кончено с чтением, больше не испытаешь того раздраженного состояния. Но через некоторое время снова набрасывался на какую-нибудь «Нана́», читал ее, не отличая уже Нана́ от Грушеньки, и делал свои удивительные выводы: «Я ведь это все тоже знаю», ощущал это свое знание так остро, что даже скрывал его от других.
В то время я попала в дом деда, где книги были сплошь полезные, географические, отобранные специально для детей — моих двоюродных братьев. К литературе в этом доме относились скептически или, во всяком случае, осторожнее, чем в нашем доме, где все было открыто, где считалось, что если спрятать книгу от детей, то они ее все равно найдут и прочтут с еще большей охотой и что лучше уж не прятать книг, а просто разговаривать с детьми. Но на эти разговоры не у всех хватало времени, потому мы просто читали все что хотели и оставались безнаказанными.
В доме деда дети были моими ровесниками, но они знали гораздо меньше меня и знать все, что я им говорила, не очень-то стремились. Они, правда, читали Стивенсона и Рида, Брема и Киплинга — не всего, конечно, а только «Маугли», то есть они были по-детски начитанны, начитанны соразмерно. Я рядом с ними была тяжелым случаем всевозможных душевных недугов, которыми страдали Отелло и Гамлет, Фома Фомич и Раскольников, но, обладая этими недугами, я уже умела и пользоваться ими: давить, настаивать, подозревать и заставлять сделать, как я того хочу, да еще и школа Надежды сделала меня воительницей. Я кинулась на своих братьев, стараясь подавить их и без того робкий интеллект, я кинулась с топором, а они слабо защищались шпагами или стрелами на самый крайний случай. Я повторяла все уловки чтимых мною героев и куда превзошла Надежду. Сопротивление братьев было сломлено очень быстро, но тогда явился дед, человек спокойный и насмешливый. Он был молчалив, его удивительная выдержка и умение говорить без слов подавляли меня гораздо сильнее, чем всевозможные уловки Надежды.
Про деда рассказывали, что он однажды вернулся из поездки, не видел братьев несколько лет, а войдя в комнату, услышал, что играют в четыре руки оба его брата, молча взял скрипку и стал играть, не говоря ни слова. Играли долго, и никто не удивился и не остановился, когда вошел дед Сергей. Они сыграли свое трио и тогда уже стали разговаривать и расспрашивать друг друга обо всем. После Анна Яковлевна, бабушка со стороны матери, удивлялась этому и рассказывала с возмущением… Ей было странно, что братья так холодны друг к другу, но братья не были холодны, они просто были чересчур сдержанны.
Дед сказал мне:
— Твой отец однажды рассказывал, что шел по тонкому льду озера. Это было в октябре месяце, когда он вернулся из экспедиции, в его честь были гости, гостям он и рассказывал, — дед говорил так, будто все время надеялся, что можно истратить как можно меньше слов, если это не удавалось, то он добавлял еще одно, — но гости не поверили, стали кричать, что лед в палец толщиной обязательно провалится. Тогда твой отец очень рассердился и сказал, что пойдет сейчас на Неву и продемонстрирует, как он шел. Ему сказали, что согласны, только прежде надо выпить за его храбрость. Налили отцу водки, он выпил и скоро заснул в кресле. Тогда мы прикрепили к нему бумажку:
Лучше спать на заду, чем ходить по льду.Он спал два часа, а когда проснулся и прочел, что мы написали, то было уже поздно — все гости разошлись.
Хотя рассказ этот не имел прямого отношения к тому, что я говорила братьям, но они оба, да и я сама, решили, что будто бы это имеет самое прямое отношение ко мне и моим нападкам на братьев, и я почувствовала себя оскорбленной и побитой.
Двустишие это очень понравилось братьям, и они повторяли его мне к месту и не к месту, хотя им и делали замечания, но они все равно повторяли ночью, шепотом: «Лучше спать на заду…» — и смеялись тихо.
Мы спали в одной комнате, только я спала за шкафами, у меня будто бы была отдельная комната в этой большой комнате, и хоть я и чувствовала себя свободно за этими шкафами, но слышала их шепот и смех.
Братья теперь были ограждены этим двустишием и могли сопротивляться, мне же необходим был кто-то, некто, который бы мог быть покорен мной, который мог слушать меня и терпеть мои нападки. И этот человек нашелся, мальчик из восьмого класса, Валя, тихий, очень влюбленный человек, который долго — целый год — не говорил со мной и никогда не приглашал танцевать на вечерах, но был, существовал, я это чувствовала. Он иногда подходил в коридоре и краснел, когда спрашивал самые незначительные вещи:
— Не знаешь, где Верблюд?
Ответа не слышал, уходил быстро, а я сердито кричала ему вслед:
— Верблюд в зоопарке! — хотя отлично знала, что он спрашивает про ботаника.
Однажды мне передали записку от него, он писал каллиграфическим, необыкновенно четким, четким до отвращения почерком: «Приходи после школы к «Рекорду». Пожалуйста».
Я пришла, и его несчастный вид смягчил меня.
Мы шли по улицам, и я понимала, что обрела человека, которым могу распоряжаться, как хочу, могу изложить ему все свои теории, блеснуть своей начитанностью и заставить его краснеть по всякому поводу и без повода.
Я сразу начала говорить ему все то, что не досказала братьям.
Я говорила и говорила, а Валя покорно слушал, наконец я выдохлась, и тогда он робко спросил:
— Ты не хочешь играть в нашем кружке Нину Арбенину?
Это было то самое, чего мне очень-очень недоставало. Я всю жизнь хотела играть на сцене, всю жизнь мечтала, чтобы меня пригласили так вот, как он, и от удовольствия сказала ему:
— А право, жаль безумного мальчишку…
— Что?
— Ничего, — сказала я многозначительно, — ниче-го!
Да, было жаль этого мальчика, этого тихоню, чье имя звучало плавно и слабо — Валя, Валентин. Звали его еще Валёна-Алёна. Так оно и было — именно Алёна, и он еще играл Звездича! Какой там Звездич, ему бы играть покорную Нину, способную всего один раз съездить в маскарад и тут же попасться, потерять браслет, быть уличенной и отравленной!
И началось разучивание роли, началось существование в «Маскараде», началось то, что, кажется, было всю жизнь, но никогда не воплощалось столь ярко.
Отныне по ночам я ходила в корсете, раздобытом где-то у бабушки в сундуках, отныне на простые вопросы, что я буду есть, я отвечала только:
— Зачем, я там мороженое ела…
К счастью, это понимали и даже не укоряли меня за то, что я будто бы ела мороженое. Говорили терпеливо:
— Налить суп?
Еще раз спрашиваю.
— Да, да, — говорила я. — Я все ж невинна перед богом!
— Лучше бы за обедом говорить с нами, чем с богом. Пожалуйста, спустись к нам, — говорил дед.
Братья хихикали.
Но им не было безразлично то, что я, одетая в ночную рубашку и корсет, стою часами перед зеркалом и читаю свой монолог, им не было безразлично то, что я завиваю свои волосы и распускаю их по вечерам. Они устроили такую уловку: провернули дырку в шкафу, где не было белья, держали шкаф открытым и подглядывали, как я там упражняюсь перед зеркалом. Им не было безразлично и то, что Валя ходит под моими окнами и провожает меня из школы. Мои отношения с ними очень испортились и стали натянутыми.
Близился новогодний бал, где должны были ставить «Маскарад». Волнений было столько, что уж и дед принимал участие в обсуждении того, как лучше мне умирать на сцене: реалистически или условно. Вопрос обсуждался долго, и пришли к выводу, что лучше условно.
Спектакль удался, бал тоже. Бал был похож на сплошное пятно света, на игру огней, на вихрь, который куда-то нес, заставлял бежать, что-то делать, говорить. Бал был прекрасен, и ты знал, что ты сам тоже хорош и весел, и оживлен, и говоришь все впопад и как надо. А потом была тихая ночь, та удивительно мягкая и снежная ночь, которая и со снегом бывает тепла и уютна, когда не замечаешь легкого морозца и тепло от бала все еще живо в тебе, ты все еще танцуешь, когда идешь по снегу в валенках с калошами, а кажется, что все еще летишь в атласных туфельках по паркету и твое платье касается пола, что все еще ты стянута корсетом и тебе в нем так стройно и весело, так взросло и гордо. Удивительное ощущение — платье до полу. Платье касается пола, волосы распущены по шелку, легкому шелку, и скользят по нему.
И рядом идет Валя-Звездич, который играл не так уж деревянно и плохо, подчинившись общему успеху, который произносил свое «ваш муж злодей» не так уж яростно, как делал это на репетициях, когда от смущения он говорил слишком тихо или кричал что было сил.
Да, рядом шел Валя, молчал и улыбался, а я говорила и говорила нисколько не язвительно, нисколько не сердито, как всегда, а легко и весело.
И вот мы останавливаемся возле калитки, стоим, прохаживаемся, опять стоим. Приближается Новый год, за окнами горят свечи, мелькают тени, там уже пахнет мандаринами и крымскими яблочками, там уже ждут к столу — удовольствия в этот вечер будут продолжаться всю ночь, там ждет примирение с братьями и, может быть, подарки. А Валя молча все вздыхает. Я не могу пригласить его к нам, но могу утешить его и вдруг говорю ему:
— Я люблю тебя…
Я знаю, что все это чистая ложь, что говорю это, может быть, для того, чтобы впервые произнести это, чтобы утешить его, и еще потому, что люблю сегодня себя, и всю эту прекрасную ночь, и бал, но я говорю это и вдруг в ответ слышу опять вздох, Валя кивает головой и говорит тихо:
— Я это знаю, — и опять вздыхает.
— То есть как знаешь! — Ярость вскипает во мне мгновенно. — Как это знаешь?
— Я это всегда знал!
— Что? Что ты знал? — Я же не могу сказать, что только что придумала это, чтобы услышать эти слова, которые он все равно никак не смог бы произнести.
— Я знаю, что ты меня не любишь.
— Что? — снова говорю я и начинаю хохотать, плясать вокруг него в своих валенках, открываю дверь и исчезаю.
Он услыхал то, что хотел услышать. Он не понял, что я сказала. Ну и пусть! Пусть. Я возвращаюсь к нему и кричу вслед:
— С Новым годом, слышишь ты? Я тебе не то сказала, ты не слышал! — но он уже далеко, хоть и возвращается.
Я уже дома.
— Кот, я люблю тебя, — говорю я коту, но он не поднимает головы.
— Эй, Витька, я люблю тебя! — говорю я брату, а он отвечает:
— Дура!
— Дед, я люблю тебя! — говорю я деду, а дед усмехается. Ему жаль слов, чтобы ответить мне, и только тетка Виктория обнимает меня и слышит мои слова. Она целует меня, дарит колечко, она даже плачет, когда я говорю ей, что я ее люблю, она слишком серьезно принимает мои слова.
Глава двенадцатая ДЕД
Тот особенный стиль сдержанности и некоторой холодности был во всем доме, так что мои слова о любви повисали в воздухе, звучали несколько неприлично, в сущности их нельзя было произносить, разве что под Новый год, разве что в восторге от вечера, который был так хорош.
Сдержанность, сдержанность, размеренность всей жизни, необыкновенная работоспособность деда, уже совсем больного, накладывали свой отпечаток и на меня, я переставала читать свои монологи.
Братья ходили грести в клуб, и я стала ходить. Братья все еще играли в палача, судью и разбойника, и я играла в эту ужасную игру, вывезенную из эвакуации. Она заключалась в том, что раздавались бумажки со словами: «Разбойник», «Судья», «Палач», «Сыщик». Сыщик водил. Он должен был найти разбойника, судья присуждал ему казнь, и палач исполнял эту казнь. Обычно были удары по рукам, иногда братья варьировали наказания, придумывали что-то будничное и беззлобное. Они оба были очень беззлобны. Их выдумки куда как отличались от Надиных. Они просили меня, например, чистить их ботинки или сходить за билетами в кино.
«Кто был твой дед?» — спрашивали меня часто, и я отвечала: «Сварщик». Отвечала так, как принято было говорить дома про деда Сергея, брата моего родного деда, которого называли «металлургом». Хотя оба они были докторами наук, но этого никто никогда не говорил, и не то что я этого не знала, не то что не хотела говорить всем обязательно: «Он доктор наук, специалист по сварке кораблей» или: «Он доктор технических наук по технологии металлов», просто это было не принято говорить и говорилось, как было принято.
Сколько путаницы было после моих слов, потому что некоторые знали, что не просто сварщик, а многие так и понимали: сварщик — значит, сварщик. Дальше следовало, что я сочиняю, хотя ничего я не сочиняла, а просто говорила небрежно, говорила, как дома говорили, да еще и путала двух своих дедушек, и путала не нарочно, а совмещала их в одном лице и, собственно, знала только одного — деда Сергея, сварщика.
Почему-то всем было очень важно знать, кто был мой дед, и все постоянно задавали этот вопрос именно потому, что очень недоверчиво относились к моим словам. «То говорит — сварщик, то — профессор, сама путает».
Как помню сдержанную и насмешливую манеру деда обращаться с нами, примирять нас, быть с нами, никогда ни в чем не упрекать, не делать замечаний, не стараться что-то втолковывать, а всегда — шутить.
С блокады осталась манера быстро есть.
За столом, когда я начинала быстро глотать, Виктор спрашивал:
— Почему она опять быстро ест?
— Потому, — говорил дед, — что медленно работает.
— А почему медленно работает?
— Потому, что слишком быстро ест.
— Она, — говорила я оскорбленно, — говорить в присутствии человека нельзя.
— Разве я сказал она? — спрашивает дед Виктора.
— Ты не сказал, а он сказал, — говорила я.
— А он говорить можно, — говорил дед утвердительно, и в его интонации звучало примирение и та беззлобная насмешка, которая так сердила меня и нравилась мне, которую мне всю жизнь хотелось обрести и никак не удавалось.
Иногда хотелось быть совсем такой, как он, даже страдать такими же бессонницами.
— Ты опять не спал? — спрашивала я утром. — Но почему, почему?
— Забыл уснуть, — усмехался дед, — вернее, забыл, как засыпают.
И теперь во время бессонниц я иногда вижу деда, его медлительную, тяжелую походку. Он приходит — не садится, не говорит со мною, не выражает никакого особенного сочувствия, даже не глядит на меня — просто появляется, а я знаю, что он будто бы приходит, чтобы успокоить меня, напомнить, что он лет десять подряд спал всего часа по три-четыре, но все равно продолжал работать и шутить с нами утром.
Не знаю, как случилось ему, такому педантичному, впервые не заснуть, но я разжигала свои бессонницы сама, я любила их с детства, я любила эти часы тишины в квартире и полную свою свободу заноситься мыслями куда угодно, писала по ночам, вела лунатический образ жизни, который с годами стал привычным, хотя уж никак не приносил восторгов.
Мой родной дед — Дмитрий — был выслан из Петербурга во время студенческих волнений, кажется, за то, что он поддержал своих студентов, или еще за что-то революционное, был выслан в Париж, там и работал много лет, там родились мои тетки. Они писали потом в анкете: «Родилась в Париже», их спрашивали в милиции: «То есть как — в Париже?» — «Так», — вздыхали тетки, предчувствуя тягостные объяснения. «Почему в Париже?» — снова спрашивали их. И они отвечали фразой, которую любили и нам повторять: «Ездили родиться!»
Я в свою очередь говорила вслед, что «ездила родиться в Новочеркасск», потому что дед Дмитрий после Октябрьской революции очень хотел вернуться в Петроград, но не смог, жил в Новочеркасске, где он и умер. Мама из Ленинграда ездила в Новочеркасск, где я и родилась.
Родного деда я не помнила совсем, потому дед Сергей стал для меня воплощением всех дедушек вместе взятых, и я любила его одного за всех.
Глава тринадцатая БАНЯ
Как-то странно, с каким-то подтекстом и чрезмерным весельем произносилось дома слово баня или сгоревшая баня, какая-то вечная тема для шуток и острот, которых я долго не понимала. Особенно часто шутили на эту тему тогда, когда — редко — все деды, и дяди, и тети собирались за столом у тети Мани, когда приезжала далекая — жившая далеко — бабушка, приходившаяся мне прабабушкой, и я, ко всеобщему удовольствию, называла ее прабабушка Прасаша, моложавую, сухую, очень прямую даму в высоких воротничках и пенсне, напоминавшую мне тетю Полли, тетку Тома Сойера.
С ее приездом за столом часто произносилось слово баня, после чего следовал взрыв смеха, и все деды имели при этом выражение лиц несколько смущенное, веселое, но смущенное.
Для меня в прежние приезды Прасаши все это было вскользь, все это было — разговоры не про меня. Я была первой внучкой, и потому взоры всех прабабушек обращались ко мне, разговоры шли обо мне, и я привыкла к воспитательным разговорам за столом, хотя терпеть их не могла. И вот в один из приездов Прасаши, когда я уже была постарше, вдруг я различила, что слово баня и некоторое смущение дедов имели какую-то прямую связь и оттенок назидания. Деды выглядели примерно так, как я, когда меня упрекали при всех за столом. Они были смущены словом баня, произнесенным Прасашей.
Это было странно и приятно мне, которую никто не упрекал, а дедов — упрекали. Тогда же я вслух спросила:
— А что за баня?
Все засмеялись, и никто не ответил.
Я снова вопросила, и тогда ответили, что дедушки знают, пусть они расскажут. Я спросила дедов, и они, пятидесятилетние, даже не отшутились или отшутились так туманно, что я ничего не поняла.
И наконец я услышала, что́ именно сделали деды. Когда-то, давно, живя на даче, они сожгли баню, производя опыты. Им была отдана эта баня, они там что-то кипятили, взрывали, паяли, оглушали всех треском, шумом, обдавали невыносимыми запахами, чадили, сыпали опилки, и они сожгли баню.
«Ничего себе! — думала я. — Какой же я воспитанный и хороший ребенок. Я даже не помышляю о спичках, я твердо знаю, что спички брать нельзя, а они чуть не устроили пожар во всем доме!»
При виде бани у себя на даче я сразу вспомнила этот разговор. Но у меня баня не вызвала желания сжечь ее, а только очень хотелось пожить в ней. Баня была новая, даже мох, которым она была проконопачена, все еще был живой и светлый, возле бани еще лежали стружки и щепки, баня была за ветром, возле нее всегда комариный, мушиный рай. Тяжелые уши лопухов лезли в окна бани, и у окна стояла скамеечка, на которой светло и ласково лежало солнце.
Та баня, которую спалили деды, была другой: им, таким рослым, не уместиться было бы в той плохонькой баньке, их было пятеро рослых мальчишек, и у них было столько всяких игрушек — инструментов, растворов, банок-склянок.
И они там варили свое адское варево, взрывали бомбы, изготовляли змеиные супчики, замыкали провода, устраивали такой дым, что и сами готовы были задохнуться от него, пока в конце концов не загорелась баня, пока не стали взрываться одна за другой их банки-склянки. Воображаю, как прибежали соседи, какой стоял на пожаре крик, как все боялись, что огонь перейдет на другие дома и заборы.
И они ее сожгли, эту баню, о чем долгие годы разные родственники и они сами вспоминали с испугом, но без капли раскаяния. Деды, в свои двенадцать — пятнадцать лет так громко прославившиеся, защищали этот пожар, этот священный огонь, страдая от него и желая во что бы то ни стало доказать всем, что пожар этот им был нужен, для дела нужен, — и доказали. С него началось их самоутверждение, которое кончилось блестяще.
Все они пятеро стали учеными, и многие из них, и мой дед в том числе, так и возились всю свою жизнь с теми же самыми банками-склянками, со змеиными супчиками, со своими зельями. Все они, пожалуй, даже гордились тем, что спалили баню в детстве, и не боялись об этом рассказывать, будто эта спаленная баня была их первым экспериментом, который удачно кончился. И только приезд Прасаши заставлял их несколько утихнуть и чувствовать себя все теми же гимназистами, которых больше не приглашают на дачу в порядочный дом.
Глава четырнадцатая МЫ И СОБАКИ
Этот человек так сердил нас, хоть он был достаточно вежлив с нами, шутлив, как было принято с детьми, — всегда пошучивал, говорил нам несуразные вещи и отказывал, если мы что-то просили.
А мы с Таней всегда просили у него Бека, великолепного Бека, великодушного и спокойного собачьего бога.
— Бек — бог, — говорил Петр Николаевич, хозяин Бека, — обыкновенный собачий бог.
И это была правда. Я всегда знала, что Бек умнее, быстрее своего хозяина, что он куда сообразительнее, живее, чем он.
Петр Николаевич приходил с Беком, и мы, куда менее учтивые, чем он, кричали на весь дом:
— Бек пришел! Бек пришел!
Нас останавливали, шепча: «Не Бек, а Петр Николаевич».
Мы кидались к Беку, обнимали его, просили лапу, и эта тяжелая твердая лапа, протянутая столько раз, сколько мы хотели, казалась мне самой славной из всех дружеских рук.
Сколько великолепных выражений принимала морда Бека, когда мы разговаривали с ним, трогали за уши, чего он очень не любил, но всегда терпел от нас.
Стоило Беку показать кость, как он нервно переминался с лапы на лапу, ерзал на хвосте, зевал и повизгивал при этом — не смел взять у нас, пока ненавистный Петр Николаевич не отвлекался от разговора с кем-то из наших и не кидал небрежное:
— Можно, Бек!
Тогда тот брал кость, отходил в сторону, укладывался на пороге и медленно, будто нехотя, грыз ее.
Бек был пес безмолвный, только иногда стук хвоста выдавал его присутствие: он стучал хвостом о паркет лежа и даже посапывая во сне, он стучал хвостом, когда с ним разговаривали и он глядел на собеседника своими умными глазами, наклонял голову, будто любовался словами того, кто говорил, и отвечал стуком хвоста об пол.
Может быть, он отвечал азбукой Морзе, и просто никто не догадывался расшифровать ее, потому что если произносилось слово «сидеть» — Бек садился, если говорилось «лежать» — тоже, а если произносилось слово «гулять» — заветное слово, то Бек вскакивал сразу и шел к дверям. Он знал и фразы:
— Где твоя игрушка? — Бек уходил и приносил искусанный арабский мячик.
Он знал и такие сложные фразы, как:
— Это все свои, гости, пришли ко мне, друзья, — Бек выражал благожелательство — давал лапу, подходил к ногам и усаживался рядом с этими гостями.
Бек жил в нашем доме, на три этажа ниже, и, когда к нам через балкон полезли воры, он, спавший у окна, вскочил, зарычал, стащил у хозяина подушку и всячески призывал к помощи его, сонного, сердитого, запустившего в Бека туфлей, так и не проснувшегося окончательно. И только после, когда уже мы рассказывали, что воры тащили с балкона аквариум, пустые бидоны, которые мы возили на дачу, и еще какие-то гамаки и шезлонги, а Бек слышал это, только тогда хозяин вспомнил, что у Бека шерсть стояла дыбом, пасть была оскалена и он, хоть и никогда этого не делал попусту, отрывисто лаял — являл всем своим видом опасность, опасность и готовность ринуться в бой.
Как, должно быть, Бек сердился на то, что не может гаркнуть во все горло:
— Проснись, дурак, там воры! Пошли спасать людей от воров!
Бек не мог сказать, а тот не понял, в чем дело.
Да и вообще, когда дома говорили, что Петр Николаевич — человек очень тонкий, человек образованный и умный, прекрасный дрессировщик и спаситель собак, мы думали про себя: «Как же, как же, дрессировщик! Как же, как же, спаситель! Он даже не знает толком, где клуб собаководов!»
На самом-то деле он никогда не тренировал Бека, только водил его гулять. Он, правда, состоял в клубе собаководов. Даже у нас была поговорка, своя домашняя острота, понятная только нам: «Собаководы — это не мы». Однажды он попросил нас с Таней сходить в клуб, но мы забыли адрес и потеряли деньги на трамвай или истратили эти деньги — уж не помню, только помню, что мы, давясь смехом и смущаясь, заходили в разные учреждения и спрашивали, где клуб собаководов. И слышали один и тот же ответ: «Собаководы? Это не мы». Иногда нам отвечали что-то другое: «Какие собаководы?» — или что-нибудь в этом роде, и мы шли дальше. Потом мы всё думали, каким способом вернуться домой, если нет денег, и бродили по парку, смешливые и счастливые, глядя на прохожих: «И они не собаководы… И они не собаководы». И вдруг нам пришло в голову найти деньги на трамвай — тут вот в парке, на дорожке. И, можете себе представить, что мы нашли эти деньги, целых двадцать копеек! Мы сели в трамвай и говорили друг другу: «Захотели найти деньги и нашли! Хотя и не нашли клуб собаководов, но нашли деньги на трамвай!» Разумеется, Надя дома всласть смеялась над ними, и над всеми собаководами, и над хозяином Бека, она же и пустила эту остроту в ход. Она прозвала нас собаководами, а хозяина Бека главным собаководом.
Помню такой случай.
У нас на даче жил великолепный пес-водолаз. Он вызывал у нас такое восхищение и страх своим черным и огромным видом, что мы его прозвали Баскервильской собакой и боялись смертельно. Однажды хозяин Бека Петр Николаевич приехал к нам в гости. Когда он приехал, мы первым делом рассказали ему об этом роскошном и страшном псе, которого можно было увидеть только сквозь решетку забора, и то изредка. Гуляя по лесу, мы вышли к дворам дач и вдруг носом к носу столкнулись со своей Баскервильской собакой, которая мирно стояла возле поленницы дров и вынюхивала что-то в этих поленьях. Мы все остановились — и Петр Николаевич тоже. Помню, что он говорил, не разжимая губ: «Осторожней, он нас еще не видит… лучше не шевелитесь, тогда он не нападет». Эту классическую фразу сказал Петр Николаевич, и тут меня укусил комар, я невольно ударила себя по лбу, и от этого взмаха руки и щелчка пес метнулся в сторону и стал удирать что было сил. Он мчался так испуганно, что мы стали смеяться: такой громадный пес — с теленка — мчался от нас со всех ног.
После Надя рассказывала всем эту историю так: «Они напугали собаку до смерти».
Нам всегда хотелось сказать, что Бек дрессирует своего хозяина, делает ему репутацию умного, тонкого человека, потому что все-таки Бек был бог, настоящий собачий бог, который сошел на землю специально для того, чтобы все поклонялись и служили ему. Люди на улице сразу обращали на него внимание, восхищались им, нам с Таней казалось, что и мы рядом с ним становились лучше.
Бек спокойно принимал все восторги, никогда не кидался ни к кому на шею с ответными ласками, никогда не огрызался, если его хотели погладить, никогда не отвлекался в сторону, не гонялся за чужими собаками, не вступал в мелкие драки.
Казалось, Бек никогда не был щенком, визгливым и шалопаем, у которого уши висят тряпками, а зубы грызут все, что попадет, — от кости до серебряной ложки, которую в свое время изгрыз и чуть не проглотил наш щенок Звонок, с которым всегда происходило что-то необыкновенное. Прежде всего, каждый раз, когда кто-то чужой приходил, а щенок лаял, гостя утешали:
— Там Звонок!
— Звонок? — говорил гость.
— Да, Звонок.
Гость не слышал большой буквы в слове Звонок и думал, что это действительно звонок.
— Надо же открыть, — говорил гость.
— Нет, — беспечно отвечали мы, — не надо, это Звонок, а не звонок.
Щенок Звонок вечно терялся, попадал всегда в какие-то дикие положения, из которых его надо было спасать. Например, он, маленький, однажды сбил с ног нашу бабушку на лестнице, и та катилась вниз несколько ступеней. Слава богу, не сломала себе ничего, только ушиблась и лежала на лестнице, а щенок удрал, залетел в магазин, там погнался за кошкой, которая, обезумев, влетела в витрину и устроила такой переполох в магазине, что щенка взяли за шкирку и долго вопрошали всех, чей он, — никто не отвечал, тогда его выбросили из магазина, и только вечером он пришел домой и долго скулил под дверью.
В другой раз он, маленький, вцепился в таксу — довольно увесистую и взрослую таксу, — они свились в плотный клубок и так катались по улице под общий восторг мальчишек и ужас хозяев.
Ничего подобного не бывало с Беком.
Он был невозмутим и спокоен. Он вообще очень редко лаял. Он никогда не срывался с поводка и только иногда, когда дрались чужие собаки, весь напрягался и поглядывал на хозяев, говоря: «Такое хулиганство на улице, я бы их усмирил… Не пускаете?.. Что делать! Пусть будет по-вашему, я не драчлив…»
Дело было еще в том, что Бек служил — он уставал на работе, ему было не до мелких собачьих драк, его ждали дела государственной важности: он охранял банк. Ловкие воры, медвежатники и взломщики, боялись Бека, они хотели перехитрить его, но это им никогда не удавалось. Бек никогда не спал на посту, он был всегда настороже, он был бдителен и чуток, матерые преступники охотились на Бека, они хотели бы отравить его или по крайней мере пристрелить из-за угла. Но ничего не происходило с Беком, потому мы и решили, что Бек — это бог, обыкновенный собачий бог. Он был явно умнее своего хозяина, который присваивал себе славу Бека, славу дрессировщика, в то время как Бек — мы знали — сам мог дрессировать человека, а не человек его.
Хозяин Бека был вечно занят, да и Бек тоже. Не было для нас с Таней большей муки и более острого желания, чем каждый день заходить за Беком и просить прогуляться с ним, и каждый раз слышать неопределенные и уклончивые ответы.
Зато какое удовольствие было, если нам разрешали погулять с Беком. Мы шли с ним такие гордые, мы, так же как и он, не оглядывались ни на кого, только изредка кивая головой прохожим, которые спрашивали нас:
— Это овчарка?
— Служебная?
— А медали у нее есть?
Мы не знали, есть или нет медали у Бека, но кивали головой утвердительно. Вообще мы совершенно явно перенимали повадки Бека, глядели величественно и снисходительно на всех зевак.
Единственно, когда мы кривили душой, это когда нас спрашивали:
— Это ваша собака?
Мы делали легкий и неопределенный кивок, который все-таки звучал утвердительно, но мог бы сойти и за отрицательный. В самом деле, почему мы должны были объясняться с прохожими? Этого Бек никогда не делал, и мы — за ним. Наша собака, чужая ли? Не все ли равно этим зевакам. Не каждому все объяснишь. Ведь если говорить, что собака чужая, то надо пускаться в долгие рассуждения с посторонними, а Бек этого бы не делал, следовательно и мы не делали.
Кажется, не было на свете такой собаки, которую бы я не любила. Я помнила всех щенков и собак, которых видела и знала с детства. Самый первый щенок — Звонок, потом овчарка в доме деда, овчарка, которую боялись все, кроме меня, я могла в самом буквальном смысле ездить на ней верхом, кормить ее всякой чепухой — вплоть до зеленых стручков гороха, которые я засовывала ей прямо в пасть и удивлялась, что такой сладкий горошек она не желает есть — ведь ест же конфеты! Я лезла к ней в будку, даже могла отнимать кость — правда, обглоданную, — всегда просила дать мне миску с собачьей едой — молоком и геркулесом — и несла ее собаке, припасая с собой и ложку, чтобы, как я говорила, мешать, а на самом деле ела этой ложкой вместе с ней из одной миски.
За этим занятием меня однажды застали, и, боже, сколько было разговоров из-за этой трапезы, больше того — на всю жизнь осталось домашнее выражение: есть из собачьей миски. Если я к кому-то пристраивалась и просила дать мне что-то попробовать — это называлось есть из собачьей миски, если я что-то делала не то, что было нужно, это тоже называли собачьей миской, и так без конца и края.
После мне запомнился пес-дворняга по прозванию Букет, несчастный пес, которого кормили от случая к случаю, всегда держали на привязи и никак не реагировали, когда он долго лаял просто так, ни на что, лаял, потому что жаловался всем на свою несчастную судьбу. Этот пес был на даче, его я немножко боялась, кормила хлебом и пряниками и норовила отвязать его, как только не видели хозяева.
Как радовался Букет, Букашка, Букан, когда его спускали с цепи, как он носился по огороду, тряся ушами и высоко вскидывая лапы, как он набрасывался на своих спасителей, лизал им руки, благодаря всячески, но грозные хозяева сейчас же ловили его и снова сажали на цепь.
Однажды мы спустили Букана и дали ему кость. От восторга, что он на свободе, Букан не стал сразу есть кость, а закопал ее где-то, но тут же был посажен на цепь и не успел вырыть кость, она где-то была поблизости, но он не мог дотянуться до нее. Как он скулил, несчастный, как рвался с цепи, даже не заметил, что ему дали похлебку, опрокинул миску и, вытянув лапы, горестно заскулил, зарыдал, я не могла ему помочь отыскать его кость, и другой у меня не было.
Все собаки выражали свое возмущение и поддерживали Букана (удивительна собачья солидарность), они лаяли во всех концах деревни. Я знала их каждую по голосу — толстопузых белых братьев с хвостами, завитыми тугим кренделем, и мохнатую лайку соседа Васи, прозванную нашими Чао, и великолепных породистых овчарок, которых привезли из города дачники, и боксеров, и дворнягу Джульку, и дворнягу безымянную, прозванную нашими Общее Безобразие, — все были мне знакомы и теперь поддерживали Букана, который уже давно не скулил, а только укоризненно глядел на нас, положив голову на лапы и уткнув нос в ту сторону, где лежала злополучная кость.
Что было делать? Спускать Букета запрещалось строго-настрого.
Я и не пыталась. Букан, казалось, заснул, зато я долго не спала и думала, что будет время, я накормлю и утешу всех собак на свете, было бы мне чуть больше лет. И что же, много лет спустя я действительно однажды на даче кормила всех пришлых собак. Боже, что было, когда псы окрестных мест узнали, что есть место, где всегда можно получить сносную еду. Они сбегались толпами, грызлись между собой, лезли в окна, ночью делали набеги на веранду, где хранилась еда, сбивали крышки и рыча поглощали все, что им было по вкусу, — скоро мне отказала хозяйка, и я сама отказалась от мысли накормить всех собак, которые хотели есть.
Так кончилась моя бесславная попытка, но никак не кончилась моя любовь к собакам, наоборот, я всегда мечтала иметь собаку, какую угодно — дворнягу или породистую, маленькую или большую, но никогда не имела.
Глава пятнадцатая ОСЕНЬ
Кажется, лет до двенадцати осень видела только в парке, и оставалось представление, что лето — всегда там, на даче. Осени я боялась — боялась зябкого, тоскливого чувства, которое наступало каждый раз, когда моросил дождь и свет пропадал совсем. Такая осень была похожа на тоскливое утро, когда надо было бежать в школу и точно знал, что тебя вызовут, а ты не выучил, и еще знал, что смертельно хочешь спать, что все равно ничего не вспомнить, так хочешь спать, что можешь спокойно уснуть под жужжанье учителя, тут, сидя в классе за партой, и проснуться только от толчка соседа, когда тебя вызывают и ты даже не слышал, о чем тебя спросили.
И все это вместе было осенью, темной и тяжкой порой, похожей на слова надо и ты должна, в то время как лето начиналось волшебными словами ты свободна, делай что хочешь и было похоже на эти волшебные слова, иногда перемежаясь с другими словами, вроде можешь же ты хоть чем-то помочь или пора и позаниматься, но эти слова летом звучали по-летнему легко, в то время как осенью они были нудными, как дождь, скучными, как дождь, а главное, не вызывали ни малейшего желания следовать им.
Но зато у осени были просветы, когда солнце вдруг ни с того ни с сего обрушивалось на землю как пожар и зажигало все деревья разом. Солнечные лучи были как молнии, деревья горели всеми цветами, и рассыпались листья-искры. Пахло так остро, так славно, что, казалось, ни весной, ни летом не слышал таких запахов, не знал, что все эти запахи существуют.
А в парках, по дорожкам, нельзя было пройти, все заваливали листья, и каждая ступенька Михайловского дворца превращалась в мягкое кресло, казалась пестрым диванчиком, на котором хотелось полежать.
Дорожки были уютны, особенно уютны с этими листьями, их мягкие, размытые края сливались с газонами, терялись совсем, и только маленькое углубление напоминало о том, что здесь дорога, аллея, по ней положено идти. Листья кружились в воздухе, падали на тебя, и там, на дорожке, под ногами, шуршали и шевелились как живые.
И лучше всего было осенью дома, когда вдруг замечал, что солнце, отраженное от желтого дерева, заставляет светиться все желтое в комнате, и на обоях вспыхивают золотые завитки, и на книгах светится золото, и даже на старой обивке кресел светятся нитки, а рамы картин так явно играют лучом, будто они в самом деле золотые.
В такие дни хотелось быть везде — и в парке, и дома, и в гостях. В такие дни мне хотелось, чтобы блестели и полы, и стекла, и ручка двери, и маленькие украшения на замках. Какой-то особенный, легкий восторг кружил голову, и особенная жажда деятельности обуревала меня, я кружилась в комнате и бежала звонить Тане, мы ехали в парк, сгорая от нетерпения скорее попасть туда, — а вдруг солнце исчезнет, зайдет и все сразу погаснет, все потускнеет. Но чудо — если солнце действительно пропадало, то не сразу исчезал этот красочный праздник, казалось, что листья все равно сохраняют солнце и оно играет. Они ловили всякий свет и превращали его в солнце.
В таком парке нельзя было просто гулять по аллеям, можно было только бежать, хватать охапки листьев, не по одному листику, а целые охапки, как попало хватать, после снова бросать, рассыпать по дорожке и делать ураган из листьев. Потом можно было сбежать к пруду и чуть не попасть в воду, потому что край пруда, опять-таки засыпанный, как и дорожка, терял свои очертания и трудно было понять, где начинается вода, — пруд, как овраг, был просто засыпан листьями.
Однажды мы бегали в полнейшем исступлении, чуть не раздавили маленькую собачку, рыжую, как листик, которая тихо шла.
Кто-то позвал собаку: «Рыжик, Рыжик», — и она пошла несколько бодрее, медленно качая хвостом.
Мы пошли за ней и увидели старика, огромного, величественного старика, который должен был бы иметь не такую маленькую собачку, а огромного дога. Притихшие от одного только вида хозяина этой собаки, мы не решились и спросить, что у нее за порода и сколько ей лет. Старик сел на скамейку и смотрел на пруд. В лице его не было ни грусти, ни восхищения, однако, пройдя мимо него, мы поняли, что он смотрит на башню Михайловского замка, которая видна сквозь красные листья, сама густо-красная с золотом.
Мы вдруг захотели посидеть на той же самой скамейке и уселись, тихо приговаривая: «Рыжик, Рыжик, хороший пес…» — слова, которые вполне можно было произносить в пустоту, не обращаясь к хозяину собаки.
Он и не собирался разговаривать с нами, не обращал внимания на то, что мы хотим гладить собаку и даже уже гладим ее, чешем за ухом, трогаем хвост.
Наконец, не глядя на нас, он произнес:
— Только не трогайте уши, у него болели уши, он может укусить, если тронете.
Мы постеснялись и ответить ему, только сказали:
— Да? — и замолчали.
Старик поднялся и ушел, опираясь на трость. Следом за ним так же медленно пошел Рыжик. Они шли по аллее, и ни один лист не взлетел из-под их ног.
Мы сидели молча, все еще под впечатлением его торжественного молчания, но тут же вскочили, запрыгали по дорожке, взрывая листья, сметая их ногами, тараторя:
— Это был екатерининский вельможа!
— Нет, просто Иван Грозный!
— Видела, какая у него трость?
— Это не трость, а тот самый жезл, которым он проткнул ногу Шибанову.
— Но собака у него была не вельможная, даже не такса.
— Помесь таксы с одуванчиком.
Мы хохотали и бежали, добежали до выхода и вдруг увидели автобус, о котором до сих пор и не думали вовсе и не спешили на него, но увидев, вдруг заспешили, побежали что было сил, догнали и сели. Тут же выяснилось, что это вовсе не наш автобус, и мы уехали совсем в другую сторону, но это нам показалось еще более смешным и веселым, чем прогулка в парке, и мы вышли где-то на кладбище, откуда сбежали сразу и попали в кино: начинался сеанс, и мы успели. Теперь для нас самым важным было куда-то успеть, и мы успели, что нас настроило еще более смешливо и весело, и мы смеялись даже тогда, когда вовсе не было ничего смешного на экране. Что был за фильм, мы, кажется, и не узнали, когда брали билеты, да и было это все равно, потому что важнее всего было только успеть.
Шел фильм, и вдруг мы, хохочущие по поводу и без повода, засмеялись так, что на нас зашикали: мы увидели актера, который был похож на екатерининского старика, которого мы только что видели. Он был так же медлителен и важен, у него была такая же трость и походка, и это нас настроило совершенно мистически. Мы даже притихли, а выйдя из кино, шли пешком и говорили о старике, всю дорогу только о нем и о том странном совпадении: только что его видели — и вдруг он нам явился в кино. Мы вспоминали каждую его черточку и жест и не сомневались, что это он, совершенно он, и никто другой. Он так же держал голову, у него были такие же тяжелые веки, он так же нес трость, да и трость была той же самой. Не было с ним только собаки, но ведь не обязательно было ему приводить на съемку свою собаку.
Все это нас наполнило таким таинственным восторгом, от которого хотелось тут же побежать в парк, подождать, может быть, до утра, чтобы старик еще раз привиделся нам, и все выяснить досконально. И тут мы вспомнили, что уже очень поздно и совсем темно, что завтра уроки и прочее. Думать об этом не хотелось, нисколько не хотелось, и я и на следующий день продолжала думать о старике, о собаке и парке, о том, что стоит еще раз съездить туда, но Таня была уже деловая и трезвая, она совсем забыла наше вчерашнее веселье и наши приключения. Тане было не до настроений, я же настроение того дня хранила долго, длила как могла. Скоро наступили серые, тусклые дни, почернели листья, и не верилось, что эти листья могли быть такими пестрыми — от черно-коричневого до светло-золотого, что каждый дуб сверкал бронзой, а маленькие клены, стараясь перекричать друг друга, стояли, как флажки, — и все это выцвело и стало коричневым, бесцветным, серым и никаким.
Мы так и не выяснили никогда — кто же был в кино, мы даже не узнали фамилию актера, тогда в спешке не заметили, а после никогда не видели его на экране и забыли совсем.
Глава шестнадцатая ПРОГУЛКА
Мама и Анна Яковлевна по вечерам сидели в той комнате, где я засыпала, и тихо разговаривали между собой. Я просила ни за что не оставлять меня одну, или читать вслух, или просто разговаривать, только не повторять без конца:
— Ты еще не спишь, спи, пожалуйста.
Они сидели под лампой, штопали, чаще всего мое же белье или платье, и разговаривали вполголоса. Я слышала их голоса приглушенно и сонно:
— Какое было пикейное платье… Вот сшить бы ей, где-то лежит это пике, его же легко отстирать, или оно стало желтым? Помнишь, у меня и у всех нас были такие платья с широкими воротниками? Этот воротник у меня есть, я знаю, а вот где платье — забыла…
Мне казалось, что они тоже засыпают от своего монотонного разговора, но при слове «сшить ей», я просыпалась и поднимала голову:
— Мне сшить?
— Тебе, тебе, спи.
— Сшей такое платье, как у нас на фотографии, где вы в саду и с обручами…
— Спи, все завтра, — отвечала мама и продолжала так тихо, будто я уснула: — Какая фотография, я не помню, а пикейные платья помню, они никогда не мялись у нас…
Мне нравилось слово пике, остренькое, светлое слово. Оно мешалось с вечерним моим прекрасным настроением — тихим и сонным, когда очень хотелось спать, но не совсем еще заснул, и слышишь и не слышишь, можешь спать, можешь не спать и тянуть это полузабытье.
Очень хотелось встать и посмотреть фотографии, про которые я помнила. Подробности платьев ускользнули от меня, и теперь хотелось вспомнить их и показать маме и Анне Яковлевне, чтобы они сшили мне точно такое же платье, но я знала, что мама не разрешит вставать. Анна Яковлевна разрешила бы, то есть не успела бы меня удержать в постели, и я бы взяла альбом, а мама успеет меня удержать, и потому я не вставала.
Анна Яковлевна довольно часто, чтобы не искать книг, которые я просила, показывала мне альбом. Это у нас называлось — «смотреть, как мама была маленькая». Я любила фотографию в саду, где у всех маминых сестер, и у мамы особенно, были непослушные лица, растрепанные головы, и было ясно, что они долго смеялись и не могли фотографироваться. Было еще понятно, что взрослые долго уговаривали их успокоиться, а они так и не успокоились. Так и вышли на фотографии с едва сдерживаемыми улыбками на лицах, с лицами, несколько неестественными и потому мне приятными, моими: я бы тоже так смеялась — это мне казалось более естественным, чем то, когда все они, причесанные и прилизанные, живописной группой сидели или стояли возле креслиц и выражали собой благовоспитанность и послушание. Я знала, что мама была не очень послушной, мне даже читали ее школьные дневники, где бывали неуды и замечания: «беспокойно ведет себя на уроках, шалит и разговаривает». Мне казалось, что под этими опять-таки приглаженными словами таится что-то серьезное, большие проказы, а слова «беспокойно ведет себя» — принятый тогда стиль.
И вот наконец извлекли откуда-то старый кусочек пике, того самого, и стали крутить его на столе, прикидывая, как может выйти из него платье. Долго примеривали и прикидывали и пришли к выводу, что может выйти только фартук с оборкой и воротником, потому что и ширины нет, и длины маловато.
Я согласна была на фартук и уверяла всех, что буду ходить в одном фартуке без платья, благо у фартука были крылышки вместо рукавов и перед отличался от спины только карманом и воротником. Мне нравился этот фартук, и я без конца примеряла его и смотрела на себя в зеркало, а после заглядывала в альбом, чтобы сравнить с маминым детским платьем, и находила этот фартук похожим.
Единственно, что смущало меня, — это длина. У мамы и ее сестер были длинные платья, ниже колен, а фартук был коротким. Я называла фартук платьем и всем показывала его, только не было такого светлого и яркого дня в Ленинграде, когда бы можно было идти в нем гулять.
И все-таки однажды наступил такой день, когда кто-то пришел с улицы, обливаясь потом, и сказал, что дышать нечем совершенно, видно, тридцать градусов жары.
И мы отправились гулять.
Я надеваю платье и сразу забываю все свои сомнения, вспоминаю, что девочки действительно носят теперь именно такие платья, что это очень красиво, когда видны все ноги. Мне завязывают бант — тоже белый и очень большой, я застегиваю пуговицу, одну, — и готово, можно идти.
Мне не оторваться от зеркала, лицо мое принимает выражение особенного счастья, счастья нового платья, лицо становится особенным, такие лица и заставляют людей оглядывать новые платья, оттенок торжественности момента останавливает их внимание: идет человек с лицом, на котором написана радость и значительность того, что сейчас происходит, идет не просто человек, но человек в новом платье — новый человек.
Нетерпение охватывает меня:
— Ты очень долго собираешься! — говорю я Анне Яковлевне.
— Сейчас иду!
— Ты слишком долго собираешься, я выйду.
— Только не уходи с лестницы.
— Хорошо, я подожду тебя на первом этаже или около дверей, я не уйду далеко.
— Ну иди, я потеряла очки и ключи, найду их и спущусь.
И вот открываются двери и я вступаю на порог — нет никого. Я осторожно оглядываюсь — нет никого. Я важно схожу на этаж ниже — нет никого, кто мог бы встретиться и похвалить мое платье. Смотрюсь в зеркальное стекло. Боже, как грязна эта лестница для моего чистого, белоснежного платья, какие пыльные чугунные завитки держат перила. Я иду осторожно, не иду, а танцую, перебираю ногами, выхожу на улицу — и на улице нет никого поблизости. Где-то там, далеко, не глядя на меня, идут прохожие, идут, спешат, убегают, а я стою в дверях, и никого нет на нашем тротуаре.
И вдруг я слышу, что высоко-высоко на нашей лестнице хлопает дверь — это не наша дверь, звук нашей двери я знаю отлично, эта дверь на самом верху…
Быстро я вхожу в парадную и поднимаюсь на несколько ступенек, на целый этаж, чтобы затем спускаться вниз — будто я иду на улицу. Я поднимаюсь на этаж и еще на этаж, а кто-то, кто спускается, все еще не показался, и вот я слышу легкие, соскальзывающие со ступеней шаги и вижу, что бежит Маруся Морозова, домработница наших знакомых. Она бежит и напевает что-то, бежит быстро, легко, и вдруг я вижу, какое у нее новое, легкое, длинное платье, как оно развевается колоколом, когда Маруся бежит. Она уже спускается на мой этаж, и у нее на лице то же самое выражение, что и у меня, она так же, как и я, горда своим платьем и его легким колоколом, который вздувается от шагов, она так же, как и я, хочет услышать похвалы своему платью, своему вкусу.
Она пробегает мимо меня, и запах духов, помады, пудры обволакивает меня и дурманит, а шелест платья долго остается в ушах. Она прошла мимо, пролетела, промелькнула, как мелькают сады за окнами поезда, и я осталась на лесенке в своем коротком платье, осталась маленькая, жалкая девочка с голыми ногами, с платьем, прижатым к телу, платьем, которое едва прикрывает тело.
Что за жалкий вид, что за мерзостный голый вид!
Как развевалось ее платье, когда она бежала, какие удивительные зажимки были у нее на голове, какой приятный дух шел от ее волос. А, это запах парикмахерской и шестимесячной завивки! Этот запах я знала, но мне было не дожить до такого взрослого счастья, когда мне можно будет завить и уложить волосы, а главное избавиться от челки и коротких — только до ушей — волос, когда у меня будут косы, которые если заплетать на ночь, то наутро станут волнистыми, будто вьющимися.
Я стояла на лестнице, думая о том, что я все-таки заставлю удлинить свое платье, я заставлю сделать его таким, как Марусино, хоть оно и твердое и достаточно грубое, и мое платье тоже будет развеваться от бега.
Мы пошли гулять, и мое померкшее платье, мое погасшее настроение, мой унылый вид наконец обратили бабушкино внимание.
— Что ты такая кислая? — спросила она.
— Скажи, — говорю я, — сколько стоят зажимки для волос?
— Какие зажимки?
— Ну вот делают такие фестоны на голове и зажимками закалывают.
— Какие еще фестоны?
— Ну, волны.
— Я этого не знаю.
— А где их покупают?
— Я не знаю и не понимаю, чего ты хочешь.
Я замолкаю и потом снова вопрошаю:
— А почему мама не делает себе такого вот на голове, как Маруся?
— Какая Маруся?
— Милочкина няня.
— Почему мама не Милочкина няня?
— Что ты все запутываешь, ты же понимаешь, о чем я говорю?
Нет, она не понимает, она совершенно не понимает, что и зачем. Я замолкаю и грустно шагаю по дорожке. Только что я боялась всякой пылинки на лестнице, боялась, что выпачкаюсь, а теперь мне все безразлично — и платье, и грязь, и песок — пусть замажется платье, пусть оно даже порвется, все равно все испорчено.
Глава семнадцатая ЧАСЫ
Ходится-ходится-ходится… В комнате так легко, спокойно и тихонечко, тихо звенят часы.
Ти-тью-дзинь, ти-тью-дзинь…
Все, кто к нам приходил и слышал их, обязательно спрашивали:
— Что это? Часы? — и удивлялись.
Говорили, что это флейта. Какие часы? Флейта. И как раз за стеной и в самом деле слышалась флейта. Там играла Нина.
— А-а, для чего же спорить? — говорили нам.
А мы и не спорили. Флейта была сама по себе, часы — сами по себе, но тому, кто сердится, объяснить ничего невозможно. Потому мы молчали.
Другие говорили:
— Это звонки!
Мы смеялись: есть же люди, которые у себя в доме слышат телефонный звонок, а бегут открывать дверь. И каждый раз так.
Но чаще всего люди улыбались какой-то внутренней улыбкой, будто вспоминали что-то. Говорили:
— Это… менуэт, — и слушали с таким выражением лица, будто когда-то танцевали менуэт, будто жили в такие времена.
Мы пожимали плечами, потому что часы уже не удивляли нас, и даже чужое удивление часам не удивляло нас. Часы были, они звенели: ти-тью-дзинь, ти-тью-дзинь — потом шла целая музыкальная фраза, и в этой мелодии было чье-то далекое хорошее настроение, даже вдохновенное настроение. Оно светилось во всем облике часов: они были прихотливые. Кто-то говорил «вычурные», и мы высокомерно оскорблялись, потому что хотя мы уже и не останавливались перед ними, но ощущали их всегда.
Некоторые говорили иронически:
— Ах, этот позолоченный фарфор!
И мы не только оскорблялись, но хотели оскорбить такого ценителя, потому что часы для нас были живыми. Часы тикали, дышали, вдруг вспыхивали на солнце своими тонкими красками и розоватым теплом. В них была детская красота, нетленная, раз восхитившая и уже оставшаяся навсегда.
Такую красоту видишь только один раз, а потом вспоминаешь, как это было.
Мне сейчас трудно о них судить — их нет. Я не могу их защитить даже от самой себя, потому что тогда и навсегда мне нужны были те самые розочки и те самые букашки, которые ползали там, а не какие-то другие совершенные и великолепные розы или розы стилизованные, в виде треугольников, скажем.
Часы были Нинины, тетины, не наши. Я не знаю, почему они у нас стояли, не помню, только они стояли у нас под колпаком и были неприкосновенны. Они носили отпечаток ее строгости, которая никак не выражалась — ни словами, ни жестами, но была в ней самой и имела такую силу, что нельзя было трогать даже колпак от часов, не только часы (а их очень хотелось трогать).
Необыкновенным свойством обладали все ее вещи и она сама. Они притягивали к себе и в то же время были неприкосновенны. Я не помню, когда она говорила «нельзя трогать». По-моему, никогда, ни разу в жизни, но это «нельзя», «не надо» — оно существовало. В чем тут было дело — я и теперь все ломаю голову. Может быть, в том, что она была всегда одинакова. Вот так — одна и та же. Она, казалось, никогда не ждала ничего плохого, в противоположность ее отцу, который был всегда в тревоге.
Он приезжал из Москвы и сейчас же выключал радио, сразу закрывал рояль: при нем нельзя было играть, он не выносил никакой музыки, потому что слышал всегда свою музыку, она была у него в ушах. Он писал о музыке, говорил о музыке и страдал от своей музыки. Он читал нам статьи, сажал меня и читал что-то очень сложное, производившее даже отталкивающее впечатление, потому что для меня музыка была — Нина за стенкой, мама, которая постоянно играла, для меня музыка была не отдаленная радость, а близкая, и не то сложное и тяжкое, что он носил в своей душе и старался нам объяснить.
Он читал и чувствовал, что мы не понимаем, а он морщился, подходил к роялю, брал несколько аккордов — тихо, опасливо касался клавиш, играл одну-две фразы и погружался в молчание. Даже переставал дышать. Потом он просыпался и спрашивал нас торжественно:
— Слышите, как это звучит? — Молчал. — Слышите? — Вскакивал, ходил по комнате в тревоге и беспокойстве, снова садился за рояль — порывом играл что-то знакомое и в то же время искаженное, какой-то фокстрот, кричал:
— А вы это любите, это, вам это надо!
И навязывал нам наши дурные вкусы, которые якобы у нас уже были, а на самом деле случались именно в ту минуту, когда он произносил над нами приговор.
Мы бы могли понять эту его торжественность, его покой и мир, но он не давал даже вслушаться, не давал опомниться, а обрывал мелодию в тоскливой недоверчивости.
При нем могли жить, тикать только часы. Он не замечал их, проходил мимо, никогда не разглядывал. Он вообще, кажется, не видел ничего вокруг, только слышал и слушал и всегда морщился от какого-то шума, от скрипа дверей, от телефонных разговоров.
Когда звонили, он вскакивал и бежал открывать сам, скорей, скорей, чтобы прекратить «этот визг», как он говорил.
Как тяжело он наслаждался своей музыкой, той, которая ему была нужна. Он приходил к Володе, Нининому мужу, опасливо, не сразу давал ему ноты, сжимал пальцы, морщился, отворачивался и говорил:
— Сыграй, пожалуй… только… — стонал тихо, — только так, как надо, вот это, до сих пор.
Садился и перебирал свои волосы. Володя всегда долго прочитывал ноты про себя, не смея тронуть рояль. Нам всегда казалось, что Володя может выкинуть штуку, сыграть что-нибудь этакое, не фокстрот, фокстрот он сам не мог, ну, что-нибудь, например, «этого шарманщика Верди». Но Володя не мог его подкузьмить — никогда, что вы. Володя был весь вежливый, молчаливый, почтительный. Он и Листа при нем не смел.
Володя торжественно играл то, что он давал. Он слушал, закрыв глаза руками, иногда вздрагивал, махал руками — не надо, — но иногда, очень редко, улыбался, блаженствовал минуту. А через минуту уже опять погружался в отчаяние, хватал ноты, уходил и лихорадочно писал, а Володя оставался перед пустым пюпитром и делал нам лицо: «Поняли?»
Володе надо было каждый день, день-деньской, все вечера — играть. Он это делал спокойно и привычно. Только иногда он изнемогал, ему надоедало, он кричал мне:
— Иди плясать!
Я снимала туфли и прыгала в чулках.
Когда нас Нина однажды застала в таком веселом виде, то мне сделалось уж очень неловко: может быть, и Володя смутился и передал мне свое смущение, потому что он играл венгерскую рапсодию. И не то чтобы любил ее, а так просто — хотел выругаться.
А я еще смущалась своих прыжков перед Ниной, потому что мне важно было с ней быть взрослой, потому что все дома, и он, Сей Сеич, Нинин отец, так плохо верили моей взрослости, то есть почти совсем не верили.
Верил ей только Кирилл Кириллыч, наш старый знакомый, человек такой почтительный ко всем, и к нам особенно. Собственно, почтительней всего он обращался с нашими часами. Он любил наши часы, купал их в спирте, чистил, мыл щеточками, но нас к этому не допускал. Ему не велели. Он бы допустил. Но ему не велели.
Какой же теплотой веяло от него, каким уютом! Он был добряк. Удивительный добряк, совершенно женской доброты, не мужской. Он всегда будто растворялся в человеке, предполагал наперед, что тот хочет, даже предвосхищал его мысли. И поэтому у него ничего не было. У него были только запонки, но и эти запонки однажды он вынул и дал мне, а я прищемила ими уши. Сделались серьги.
Как только он приходил, так сразу же он мне подмигивал, улыбался тайной улыбкой, и у него было такое выражение лица, что он сейчас мне что-то покажет или даже подарит, но на самом деле никогда ничего не дарил, попросту ему нечего было дарить. Он не дарил, но я знала, что он как будто бы всегда дарил и страшно страдал от того, что делал это символически. Я знала, что он очень хочет подарить.
Зато он дарил самого себя. Он сидел с нами часами, он рассказывал нам о Шаляпине, и если бы слышал Сей Сеич, как он хвалил его. Как мало было у него слов. Он всегда повторял одни и те же слова. Он всегда говорил: «Если бы вам довелось» или: «Волшебная музыка».
До чего же было жалко, что такой щедрый человек не имел ничего, что можно было подарить, и всегда хотел отдать свои лучшие чувства и мысли, но только мы почему-то не становились богаче. Зато он умел обращаться с нами, и это мы ценили больше всего.
Нина тоже умела обращаться с нами, хотя она этого не подозревала. Она не любила говорить ничего лишнего. Она говорила: «Играли очень удачно» или даже не так: «Довольно удачно».
Я всегда повторяла Нинины слова и говорила: «Довольно удачно».
— Как твои дела в школе?
— Довольно удачно, — говорила, имея двойку, и не старалась утаить двойку, а только повторить Нину.
А сколько неприятностей было из-за этого повторения, сколько разговоров о том: зачем ты сказала неправду?
— Но я ведь не сказала, что получила пятерку.
— Этого еще недоставало.
— Доставало, — говорила я на этот раз, и это выводило всех из себя. Это звучало оскорблением. Мне говорили тысячу разнообразных наставлений, мне приводили тысячу оборотов речи, которые я могла бы употребить, но не употребляла. И никому не приходило в голову, что надо было только молча улыбаться, как Нина, чтобы заставить меня повторить эту улыбку, а не дерзость. Меня заставляли повторить, что я не буду скрывать свои отметки, говорить не то, что было в самом деле, и произносить такое безобразное и дерзкое слово, как «доставало».
Надо было молчать, пока они говорили, а говорить можно было уже после, когда мы делали уроки: тут мы выговаривались.
— Оставьте нас в покое…
— Оставьте вас в покое…
— Не трогайте нас…
— Не трогайте вас…
Грозное, не наше, а нам:
— Перестаньте лопотать что попало.
Мы:
— А что попало?
— Кому попало?
— Да, кому из нас попало?
Пока нам действительно не попадало. Пока, например, меня не оставляли одну в комнате. Это было невыносимо, когда я не могла ни с кем говорить.
Я была с часами наедине. Они развлекали меня и говорили со мной, они били, манили меня, но на них был колпак. Колпак сверкал холодно и надменно, как очки на глазах у красавицы. Он мешал смотреть, и мне надо было во что бы то ни стало убрать этот колпак. Снять — и все. Что особенного? Ни-че-го. Ничего особенного. Ведь можно — нельзя было брать книги с полок, ведь можно — нельзя примерять мамины платья. Хотя и нельзя, но все-таки можно. А здесь — другое.
От великого желания снять колпак я ходила вокруг и декламировала:
Уймитесь, волнения страсти…Я была уверена, что выдумала эту фразу сама, и сколько меня бабушка ни убеждала, что написали ее до меня, я отвечала: «Они сами по себе, а я сама по себе».
Но была Нина, Ниночка, дорогая, тихая. Рядом с ней шло ее добродушное равнодушие ко мне, к нам, глаза поверх меня, ее «мне некогда», и улыбка — мимо. И наши с ней тихие разговоры ни о чем, незначительные.
— Я сегодня рисовала.
— Ну? И не дорисовала? Почему?
— Так, бросила.
— Жаль, — капелька, чистая капелька, соловьиная трель.
А в то же время я жду, бесконечно жду, когда она кончит играть, когда можно будет войти к ней. Я уже знаю наизусть все ее партии, я могу их спеть и пою про себя и не про себя — во время уроков. Как хорошо, когда можно к ней войти. Какой теплой и долгожданной кажется ее комната и все ее существо, которое смиряет меня. Да, меня осеняла ее тишина. Все мои восторги, уныния, захлебывающиеся слова, мои порывистые движения — все исчезало в ее комнате. Мне даже казалось, что я прямо превращаюсь в нее, что вот сейчас могу взять флейту и играть.
— Так что же делал Сосинов? — так я начинала свои рассказы про школу: «А Сосинов сегодня…», но для Нины, которая почти ничего не слушала, Сосинов означал легкую насмешку. Эта насмешка была почти неуловима, как маленький зевок, прикрытый рукой.
Комнаты всегда говорили несколькими голосами, смеялись, звучали, чуть отвечали эхом и дребезжанием стекол. Они всегда были полны не уходящими никуда людьми — все тут, никогда не одна.
И вдруг случилось! Одна. Так просто — одна в доме. Белый свет на полу, тепло, весна — и никого. Все ушли. Делись. Это было такое славное одиночество, что даже теперь иногда останешься один — вспоминается. Удивительная тишина.
И бегала по всем комнатам, лезла из окна на балкон — ах, как хорошо! Никто не испугает тебя: «Куда, куда, что ты?» Проводила пальцем по всем клавишам — дрыыынь — наслаждалась. И тут звякнули часы, будто позвали. Я придвинула стул к камину. Я взяла колпак руками, и стекло замутилось от моего дыхания. Колпак полез вверх, я не могла снять его, я не дотягивалась до верхней розочки и уже начинала шататься на цыпочках. Я поставила колпак на место и тяжело задышала.
Этот холодный колпак все так же скрывал от меня розочку, золотые завитки, скрывал всех букашек и листики.
Часы были недоступны и от этого казались особенно драгоценными.
Но я должна была видеть это все без колпака. Я придвинула стол. Снова тянулась к часам. Вот они тикали, тут, около меня, вот она — верхняя розочка.
Все шло хорошо, но когда я из последних сил тянулась вверх и снимала, снимала — в этот миг прямо в уши, в лицо ударил громкий, непомерно громкий звон часов, и я, напряженная до предела, дернулась, качнулась, и произошло что-то лишнее, мгновенное, я не поняла — что. Что-то крякнуло и скатилось на деревянную подставку.
Часы все еще били — динь-динь-динь, но я уже знала, что все пропало, что вся прелесть одиночества, что вся игра с часами кончилась, что теперь они — мука, что они уже — трезвость.
Я держала колпак в руках, а часы стояли на месте. И это, что упало, лежало рядом с моим носом. Это была верхняя розочка. Я отломила ее. Часы стояли без колпака. Они были голые и жалкие. Как они опустели без этой розочки. Я прикладывала розочку на то место, где она была раньше, но она скатилась.
Я заметалась по квартире, хватала все, что было: конторский клей, хлеб. Розочка скатывалась.
Я поставила колпак на место и ходила по комнате. Не глядела, не глядела на часы и вдруг заглядывала на них сбоку: может быть, не видно, что розочки нет? Может быть, от дверей не видно? Отовсюду было видно. Отовсюду!
Больше ничего вокруг меня не было, кроме этих злосчастных часов, кроме розочки у меня в руке. Ах, как я ее запомнила. Она была тяжеленькая, как луковка. Я села на пол, тупо смотрела, и все кругом было таким же тупым, как я. Корешки книг, узор на абажуре, углы шкафа, пресс-папье на столе — все это было только ужасом, и комната плавала в тошнотворном ужасе и полутьме.
Розочка укатилась в темноту.
Мне не было пощады. Я представляла себе, что все кругом всё мне простили, а я сама себе все еще нет. Я не простила. И главное было не в том, что я сделала, а в том, что Нина не могла предполагать, что я могу это сделать, в том, что Нина никогда бы этого не сделала. Я поняла, что отчаяние — это если забыл, что есть люди, которые могут помочь.
Я думала о том, что Нина, конечно, простит, что мама долго не простит — и не потому, что я была слоном перед Ниной, а потому, что разбита дорогая вещь в комнате мамы.
Володя тоже простит, а Сей Сеич и не заметит. Даже скажет:
— Туда ей и дорога.
И тогда вспыхнуло в голове: Кирилл Кириллович!
Я бежала по лестнице так быстро, что ступеньки слились в глазах в один покатый спуск, я летела к нему, и надежда, и радость, и страх смешались, слились в душе, как ступеньки под ногами. Он жил близко, за углом, он был дома, его окно тускло светилось.
Я знала его комнату во всех подробностях, да и знать-то ее было не очень трудно. Только огромный стол с листом ватмана — белым, как манжеты Кирилла Кирилловича. Этот ватман не меняли несколько месяцев, но на нем не было ни единого пятна, разве что проколы и часы, бесконечное количество часов. Кирилл Кириллович не был часовщиком, он просто брал их чинить, чтобы заработать: золотые часы нельзя было чинить в мастерских.
Пустой письменный стол, и только в углу маленький портрет брата Кирилла Кирилловича. Кирилл Кириллович никогда не был женат. Он только был всегда влюблен и не стеснялся этого. Он был поочередно влюблен в бабушку, потом в маму, потом, наверное, пришло бы время — и в меня. И все всегда тихонько посмеивались над ним, над его влюбленностью, никому никогда не приходило в голову отвечать на нее. Да он и сам не пробовал добиваться ответа, и только я иногда ночами думала, что выйду, выйду за него замуж: просто от жалости, от прелести, что он такой человек. И знала, что не выйду, а думала.
Я вбежала к нему и крикнула, что надо скорей к нам, пожалуйста…
— У-мо-ляю!
И тут же он сбросил свои туфли и надел парусиновые полуботинки, которые мы всегда называли «плюнелевыми».
Я бежала, и он бежал следом.
Мы бежали вверх так же быстро, как я спускалась. Только когда мы поднялись, Кирилл Кириллович узнал, в чем дело: видно, он предполагал что-то страшное, тогда он понял, в чем дело. Долго не мог снять очки с уха и говорил отрывочно, бессвязно:
— Деточка… кто ж так… бегает. Я уж думал… а это пустяки… в три счета. — Он задыхался.
Он взял часы — быстро как-то — и ушел, а я осталась в крайнем беспокойстве: он обещал все сделать.
Я все равно не успокоилась. Все так же никого не было дома, зажгла свет и вдруг увидела розочку на полу. Остолбенела: он не понял, что я просила сделать, он — забыл. Вот что теперь меня беспокоило, я теперь поняла — он был не он. Кирилл Кириллович забыл самое главное.
Я снова побежала к нему, зажав розу в кулаке. Я уже подбегала к дверям, хотела звонить, но вдруг дверь открылась сама собой, и я чуть не упала: сосед Кирилла Кирилловича держал меня за плечи. Я знала этого соседа — он имел собаку. Его звали Ральф, а собаку Гарри. Всегда все путали, кого как зовут. Приносили кости, отдавали Кириллу Кирилловичу и говорили: «Дайте Ральфику косточку». Кирилл Кириллович говорил: «Не Ральфику, Гаррику» — он очень обижался, что путали: двадцать лет знали, двадцать лет путали.
Теперь Ральф Яковлевич смотрел на меня, держал меня за плечи и не видел меня. Вдруг он узнал и вытолкнул меня, крикнул: «Беги! Беги отсюда!» — и закрыл дверь.
И — некуда стало бежать.
Больше не надо было спешить, и я ходила по улицам до поздней ночи.
В тот день меня нашли в темной комнате: одетую, спящую.
А утром уже не было ни страха, ни отчаяния. Но утро началось с чужого беспокойства: с беспокойства моих родителей, и не по поводу часов. Это беспокойство было, присутствовало и накладывалось на мое, смешивалось с моим и превратило меня в тихое существо, которому, может быть, уже много лет. Это существо имело какую-то пустоту: я могла сказать всем, что разбила часы, но могла и не говорить, все равно. Утро было очень странное, эту странность я почувствовала сразу и решила тут же, что говорить не стоит. Я не знала — знают или не знают, поглядели или не поглядели, и ушла. А на лестнице было еще более странно. Там говорили женщины:
— А у него часов, часов. Все золотые. Говорил — чужие, а свои ведь. Ба-а-гатый. Как взбеленился: «Не мои часы, не смеете брать, не трогайте. Я фамилии напишу». И написал. Все бумажечки приклеил. Ба-а-гатый человек.
— А куда его увезли-то?
— Дык куда? Куда надо. Одних-то я знаю. Леонтьевских часы, а уж других — нет, не поручусь. Они все такие, ходять в ватничках, а добро в сундуки спрятано.
— А у него-то спрятано в сундуках?
— Нет, сундуков-то не было, но часов… пар шесть, все золотые.
Больше я не видела Кирилла Кирилловича никогда.
Глава восемнадцатая БАБУШКА ЛИЛЯ
Только и всего — пройти по коридору тихо-тихо, чтобы мама не слышала, и поскрестись в двери. И сразу певучий, ласковый голос ответит мне: «Да-а. А… вот это кто!» И столько радости в этом голосе, столько улыбки, удовольствия. А в комнате так хорошо пахнет духами, столько картинок, картиночек, фотографий, статуэток, книг; столько конфет, печений, орешков — и сразу я довольна, сразу мне есть что делать, сразу меня гладят руки, легкие такие руки…
— Ты мой малыш… Ну что, тебе опять никак не прочитать? Ты нарочно так читала: «Прыщ и нищий»? Уж сознайся.
— Ну, башк Ли, ну что! Ведь я же тебя люблю и маму люблю, я же никому не хочу делать неприятности.
— А все-таки?
— Да ну! Ты мне не веришь? — И у меня голос дрожал, звучал так горячо, так просто, что бабушка Лиля верила. И все мне верили. Да я и не могла соврать, когда башк Ли на меня смотрела. Я просто не могла сказать что-то другое, чем то, что она хотела, а она всегда хотела только хорошего — и я говорила это хорошее.
Она двигала кресло, снимала очки и говорила:
— Начинай читать!
И я читала: «Принц и нищий», читала дальше, но вдруг слышался стук маминых каблуков по коридору, и сразу все обрывалось во мне, и снова начиналось: «Прыщ и нищий»…
— Она опять тебе мешает! Ну что это будет! Сколько ни говори…
— Галенька, ты послушай! Она же хорошо, очень хорошо, очень бойко читает — ты послушай…
Я читала десять слов бойко и вдруг опять спотыкалась и говорила не то.
— А! Это будет продолжаться вечно… Иди к себе, оставь бабушку.
— Да нет, она не мешает, она будет тут сидеть, а я буду читать, оставь ее, Галенька.
— Мама… Я ведь читаю.
— Бабушке некогда!
— Еськода, еськода…
Они обе смеялись, пока маме вдруг не вздумывалось меня воспитывать, тут же, спешно, как всегда спешно:
— Идем играть на рояле, ведь до сих пор нот не знаешь толком, играешь по слуху. Иди сию минуту! — И мамины бо́льные пальцы стискивали мою руку. — Ты понимаешь, что бабушке некогда! У нее свои дела, у нее занятия, а ты ей мешаешь. Ну не все ли равно тебе, где читать?
— Нет, не все равно, не все равно! — И в горле у меня было кисло от слез, горло сводило судорогой, я начинала реветь.
— Перестань сейчас же! Фу, срам какой!
— Я хочу к башк Ли!
Я хотела быть с ней. Она все мне прощала, даже спрятала от мамы пояс, который я порезала ножницами.
А мама всегда была насторожена, взвинчена. То она смеялась моим словечкам, то, наоборот, сердилась на мою несуразность, и вечно я была перед ней виновата, вечно она не хотела со мной говорить, бесконечное «я с тобой не разговариваю» тяготило меня, мучило.
А бабушка была всегда спокойна, ровно настроена, и какое же светлое понимание было на ее лице. Она никогда не сердилась, как мама, а как-то съеживалась от неприятностей, терялась и грустила.
Был один такой день, который я запомнила во всех подробностях, так что до сих пор будто слышу мамин возбужденный голос, его властные, горячие интонации и башк Лилин шепоток:
— Тише, она услышит!
Мамин голос:
— Это уже все равно. Она так или иначе узнает, а я больше не могу. Это окончательно. Я не могу, не могу одна и одна целый год, годы… Ведь каждый год он уезжает, каждый год, и возвращается сердитый, какой-то издерганный, подозревает…
— Ти-ише…
— Я не желаю никаких подозрений! Я вправе делать так, как нахожу нужным, — и шепотом: — Ты меня не понимаешь, а ведь я все время не хотела этого, не хотела уходить… — Дальше шепот стал неразборчивым, но я замерла от необыкновенности происходящего, от близкого понимания того, что хочет сделать мама. В комнате стало тихо, потом мамин голос:
— Я ухожу… Ухожу, и все!
Долгое молчание, потом башк Лилино испуганное:
— Ну пожалей хоть ее!
Мама ушла, и вместе с ней ушло беспокойство — крик на меня, вечное «иди сию минуту!». Я все дни ела что хотела, стригла бумагу, играла в куклы и не играла на рояле. Я целые дни была с башк Ли, целые дни! Она подарила мне бронзовую собаку, шкатулку с эмалью и черепаху, у которой качалась голова. Мне разрешили есть яблочный джем и не есть суп, разрешили съедать арбуз вместо каши. Я ела, ела арбуз, и живот мой надувался так, что я едва дышала, и ложилась на диван. Отдышавшись, я доедала арбуз, выскребла его ложкой, выпивала, высасывала сок так, что все мое лицо становилось липким и красным и бабушка просила меня умыться. Я шла и говорила:
— Люблю есть арбуз, но не люблю после уши мыть.
На всю жизнь у меня осталось ощущение крайнего блаженства от моего сиротства.
Была долгая, яркая осень. Каждый день мы гуляли с башк Ли, и она меня спрашивала, чего мне хочется, куда со мной пойти. Мы обошли все парки в городе, катались на качелях и карусели. Помню жуткий холодок взлета и падения с американских гор и башк Лилино «ах, ах!». Это я вынудила ее сесть со мной и поехать; сначала она сопротивлялась, а я твердила:
— Нет, поедешь, поедешь!
И она согласилась, хотя у нее от бесконечного кручения на карусели уже слегка тряслась голова, а меня карусель только еще больше раззадорила, разгорячила.
— Поедешь! Не уйдешь никуда, не пущу. — И я крепко держала ее за руку. — Для чего ты надела очки, ужасные очки, отвра-тительные! Не носи никогда эти очки, сними сейчас же! (Как мамино: «Иди сейчас же!») Ну, пожалуйста, сними, я тебя прошу. (Это уже башк Лилино.)
Рядом с этой добротой я постепенно становилась тираном. А она все терпела и соглашалась: «Ну хорошо, хорошо, не буду! Только я же не вижу без очков! Я потеряю тебя в толпе…»
Она всегда старалась сказать и сделать все самое хорошее, при этом ей самой становилось плохо, но она терпела. Она умела быть мужественной, потому что была добра без конца. Очень много надо сил, чтобы быть доброй.
За несколько месяцев, что я жила с башк Ли, она совсем устала от меня.
Наступали холода, и мне надо было носить теплые вещи, а я не хотела. Например, не надевала капор. У меня был кожаный капор, который всегда мял мне уши, складывая их так, что, когда его натягивали, верхняя часть уха прижималась к мочке. Капор был маленький, но мама уверяла, что я просто дурака валяю, раз не хочу его носить.
Сколько я ни объясняла маме, как мне больно, она не верила, поправляла уши и говорила, что вот и все, но было совсем не все. Уши горели, уши ломило, ушам было неприятно; пока мы куда-то с мамой ходили, я все время ощущала свои уши и ждала, когда сдеру с себя капор.
Теперь, когда стало холодно и из сундука появился этот ненавистный капор, я завопила, что ни за что, ни-ког-да, ни под ка-ким ви-дом не надену эту гадость, эту дрянь, эту жабу! Не надену, и в руки не возьму, и выкину, сброшу с лестницы, вот и все!
— Так что же ты будешь носить? — спрашивала башк Ли.
Я порылась в сундуке и вытащила гарусный колпак на чайник.
— Вот! — и напялила его себе на голову.
— Но ведь это же не носят. — А я буду носить!
— Ну хорошо, я тебе перешью его или перевяжу, если распустится.
Я уже бросила колпак и снова рылась в сундуке. Вытащила мамину шляпу с вуалеткой, напялила ее и сказала, что это, это буду носить… Вот как мне идет… Я вертелась перед зеркалом и делала мамино выражение лица.
Бабушка перевязала мне колпак, сделала капор, но он мне показался совсем как для младенцев, и я зло плакала, сердито надергивала себе этот капор на самый нос и говорила:
— Ну что, красиво, хорошо, да? Ты довольна? — Смотрела на себя в зеркало, и злобное, какое-то тяжелое чувство выплескивалось из меня: я выпячивала губы вперед, делала страшную рожу, дразнила сама себя и ненавидела «этот дурацкий колпак», этот чепчик. Срывала его с головы, швыряла: гадость, гадость, гадость!
Я становилась тираном и своевольницей рядом с добротой бабушки. И как же бывает странно! Ее доброту я принимала за покорность, безволие. Откуда бралось у меня все это? Я чувствую, что, поживи я рядом с башк Ли еще, я бы стала даже ее презирать, подавлять, унижать. Но этого не произошло, потому что бабушка упала с лестницы и сломала себе бедро. Ее увезли в больницу.
Я помню свой страх, когда ее увезли в больницу, страшное чувство раскаяния и вины перед нею, тоску по ней, но постепенно я забывала и забывала ее.
Я теперь жила у мамы, и все новое в чужом доме так увлекало меня, так интересовало, что я уже не помнила ни вины перед бабушкой Лилей, ни ее самой.
А она уже не сходила со своего седьмого этажа, так и сидела у себя в кресле: читала, вязала или дремала. К ней приходили ученики: она давала уроки немецкого языка. Я редко бывала у нее.
А потом началась война, голод, блокада. Мама пошла на военную службу. Отчим тоже. Я жила в госпитале с мамой.
Помню, как-то пришла к башк Ли и увидела у нее какую-то маленькую девочку лет шести, дочку дворника, которая варила в печке овес. Черная угрюмая девочка, закутанная в платки. Башк Ли лежала на кровати, сухая, маленькая, и плакала. Она достала из-под подушки тряпочку, перевязанную нитками, в тряпке была бумажка, в бумажке морковка. Она дала мне морковку, тихонько сунула мне ее, чтобы девочка не видела. Она все плакала, я принесла ей дрожжевой суп, сухари и глюкозу в бутылке. Она просила меня не приходить: ведь так далеко с Фонтанки на Пряжку. Замерзнешь по дороге. Она все время плакала, и мне это было так страшно, потому что башк Ли не плакала при мне никогда.
Я рассказала все маме, когда пришла. Мама очень расстроилась и решила сделать башк Ли переливание крови. Дня три мама не могла получить увольнительной, потом получила, и мы пошли.
Это было так тяжело — идти через весь город. Мы шли и шли с мамой. Долго шли. Стояли, сидели. Наш дом был виден всегда издалека. От самого проспекта Майорова по всей улице Декабристов виден был шпиль, башенка как раз над нашими окнами. Я шла и все смотрела на наш дом и никак не узнавала его. Торчали перед глазами тяжелые, заиндевевшие провода, сугробы мешали смотреть — не видно было нашей башенки. Мозаичный дом был виден, а башенки — нет. Мы подошли близко и увидели толпу около нашего дома, увидели вещи на снегу, людей на снегу. Башенки не было. Она сгорела. Сгорел весь наш дом.
Башк Ли! Ее не было среди тех, кто сидел на снегу. В парадной толпились люди, плакали, жались от холода. Они ничего не знали о ней. Я увидела девочку, которая была в последний раз у бабушки, я выспрашивала ее, видела ли она бабушку или нет, а девочка только смотрела угрюмо и молчала.
Она сгорела там, башк Ли!
Прошло пять лет. Я вернулась в Ленинград и увидела все ту же мозаику на нашем доме, которая напомнила декорацию, я увидела улицу без башенки, и мне стало снова плохо. Каждую ночь я видела во сне свой дом и то, что я иду по лесенке. Дом будто не сгорел, и башк Ли там. Каждую ночь, каждую ночь я шла по лесенке.
Она сгорела там! Или, может быть, она до этого умерла от голода? Может быть, она ушла в другую квартиру, ее свели как-нибудь? Ведь были же люди кругом, кроме этой девочки. Были матросы, были дружинники на пожаре!
Она там сгорела. И тогда мне показалось, что все доброе сгорело, все честное, чистое, ласковое, простодушное. Все и сгорело тогда вместе с бабушкой Лилей.
Теперь уже столько лет минуло с тех пор. То состояние бесконечно повторяющегося сна и жуткого ощущения, что бабушка где-то живет, только ее надо найти, отступило, прошло, но однажды я пришла в один дом и голос с той же интонацией, с той же лаской сказал мне:
— А… вот это кто… — И меня обступили картинки, картиночки, статуэтки и даже запах старых духов «Манон» — легкий запах послышался мне, и я чуть не заплакала. То же горячее, ласковое чувство вдруг возникло во мне и затопило меня. Я сидела и говорила без конца, смотрела и смотрела. Я понимала, что надо уйти, что я уже утомила хозяйку. Надо бы уйти, но не могла, никак не могла.
Потом я ушла и унесла образ башк Ли. Я сразу полюбила ту женщину и почувствовала, что она — башк Ли, раз она дала мне ощутить ее живую.
Я шла и думала, что не сгорела башк Ли, не сгорела, она умерла от голода, легко умерла, как заснула.
Потом я узнала эту женщину очень близко — да, это была та самая бескорыстная доброта, к которой привыкают и которую не замечают. Это была та самая доброта, которая терпит и терпит, и сколько раз я хотела сказать ей: «Ну хоть бы капельку вам рассердиться, чуть-чуть». Но она не умела сердиться, и я берегла ее саму и никогда не злоупотребляла ее добротой.
Глава девятнадцатая ДЯДЮШКИ
Дяди были неумолимы, сердитые как дети, вечно увлеченные своими машинами, книгами о путешествиях, коллекциями.
Все они хотели иметь или имели машины. Этим они отличались, скажем, от отца или дедов, именно этим они мне и запомнились. Дяди и их машины, хотя нет, один из дядюшек не имел и не хотел иметь машину — он хотел иметь коллекцию жуков, имел ее, изумительную, похожую на шкатулку с драгоценностями. В самом деле, жуки были драгоценными. Они имели историю, которую рассказывала мне тетя Маня. И не без умысла, а специально, чтобы я ее рассказала всем: коллекция принадлежала не только моему дядюшке, дяде Севе, а еще и его дяде, и тот в свою очередь получил эту коллекцию от своего отца. Коллекция была когда-то огромной и очень ценной, во время революции она была отдана в Пермский университет, а у дяди осталась только часть этой коллекции.
Дядя был электриком, ученым, но в душе своей он был собирателем жуков, так же как все остальные дядюшки — только автомобилистами, совершенными автомобилистами, желавшими иметь машину, холить ее, гладить, разговаривать с ней, как с лошадью, и даже иногда, оговорившись или нарочно, вместо слова «гараж» употреблявшие слово «стойло».
Коллекция не имела себе равных. Во всяком случае, в дядиной душе она была тем абстрактным и прелестным предметом, который оказывал на него магическое действие и заставлял его душу волноваться. Правда, брат Виктор, ныне зоолог, сказал мне по секрету, что та часть коллекции, которая сохранилась и ныне реставрирована, очень эффектна, состоит из жуков, сделанных дядей из разных частей разных жуков.
Ах, дяди, жестокие как дети, — какое созвучие! — что вы делали с теми, кто не интересовался машинами и коллекциями! Вернее, с теми, кто интересовался всем этим столько, сколько было нужно — не больше. Машиной, чтобы ездить на ней, коллекцией, чтобы разглядывать ее. Что вы делали с теми, кто еще интересовался искусством! Как вы их презирали и умаляли с истинно русским умением презирать и умалять… Ни тени доброжелательства, ни капли сочувствия — и какая важность в суждениях! «Все, что не несет информации, суть ерунда!» — торжественно произносили дяди-дети. Все должно быть логично, как в моторе, одно должно приводить в движение другое и так далее. Страдания художника?! Дяди не знали их и не пытались узнать. Они знали только один вид страданий — когда глох мотор, но, чтобы не случилось этого, они целые дни копались в моторах, лежали под машинами, были измазаны маслом, тавотом, бензином и, следовательно, совсем не знали страданий.
Видела всегда своих дядей вместе, они казались мне — маленькой — очень славными, как и весь мир, который всегда улыбался утром, особенно утром, когда я просыпалась в доме на Каменном и бежала что было сил в садик, чтобы обнять нашу овчарку или сорвать траву и дать кролику, погладить щенка или просто пойти по дорожке и ощутить всю упругость своих ног и мягкость земли. Они, дяди, вставали рано и уже открывали гараж, возились с машиной, шутили со мной и тормошили меня. Иногда они заводили машину, сажали меня в нее и увозили до угла. Назад я бежала сама, они ждали, как я дошла до калитки. Машина уезжала, а я каталась на калитке, прицепившись к ней и отталкиваясь ногой от земли, запах бензина, оставшийся от машины, приятно щекотал мне ноздри, после этот запах напоминал мне всегда дядюшек и дом на Каменном.
Цветы в саду, яблони, маленькая беседка, гараж и клетки с кроликами, дворик, полный всяких необыкновенных уголков: там доски, пахучие, как целый лес, тут ямка, которую я сама выложила стекляшками; в углу, возле гаража, — уютный уголок, теплый, безветренный. Там вьются по стене граммофончики, великолепные и странные цветы: они сворачиваются вечером, а утром раскрывают свои колокольчики. Рядом с цветами положена на кирпичи доска, на ней так удобно сидеть. Можно играть, раскладывать камни на земле и устраивать свою клумбу, можно просто греться на солнце, можно даже лечь на скамеечку и заснуть, но лучше всего притащить туда всякую еду и устроить обед: разложить по тарелочкам сахар и ягоды, накрошить хлеб в молоко и угощать дядей, которые уже вернулись из своего института:
— Иди есть!
— Сейчас, сейчас.
— Иди, уже все готово.
— Нет, не готово, пусть поварится.
— Я говорю, что стол накрыт.
— А я говорю, что мясо еще не готово.
— Какое мясо, когда ягоды.
— Это не ягоды, а мясо.
— У меня нет мяса.
— А я хочу мяса, много мяса, а не ягоды.
Замирая от удовольствия, что дядя говорит со мной серьезно и в самом деле хочет мяса, бежала в кухню и просила дать дяде Севе мяса. Мне говорили, что обед еще не готов и пусть Сева сначала умоется, а то вечно пахнет от него тавотом и бензином, а я хотела во что бы то ни стало накормить его, и я применяла хитрый маневр, выпрашивая кость для собаки. Получив кость на тарелке, я забиралась в буфет и брала кусок хлеба — все это несла к себе в уголок и там раскладывала по тарелкам. Большая кость действительно попадала собаке, а обрезки мяса — на тарелочки, и это мясо, слегка припудренное пылью и песком (слишком большая кость и маленькая тарелочка), вкусно пахло на свежем воздухе.
— Ну, теперь есть и мясо! — кричала я Севе. — Иди же!
— Что?
— Мясо я принесла!
— Какое мясо?
— Ты просил мясо!
— Ах, мясо! Ну и ну! Вот так обед! Сейчас иду.
И он приходил, открывал рот и готов был съесть мясо вместе с тарелочкой, руки у него были грязные, а у меня — в песке. Я говорила ему назидательно:
— Надо мыть руки перед едой.
— А где мыть?
— Ты не знаешь? Вот в миске у собаки можно, — советовала я, имея в виду свой опыт.
— У собаки? Да, это можно. А теперь я пойду на чердак, спасибо за обед.
— И я! — в восторге кричала я, и мы шли на чердак.
Какое это было удовольствие лезть на чердак, где у дядюшек, у всех в доме была кладовка. Чего только не было на этом чердаке — и странные предметы, про которые говорили: «это все папины балаболки», — дед складывал на чердак свои приборы, чертежи и всевозможные детали, которые нынче так хорошо известны под названием ртутные выпрямители. Думаю, если попытаться, то первые образцы этих выпрямителей можно найти и сейчас на чердаке этого дома.
Надо сказать, эти вещи мало интересовали меня, а дядины моторы тем более; меня интересовали сундуки, в которых хранились старые елочные игрушки, костюмы и куклы, главное — куклы, кукольная посуда, одежда, кубики, игрушки и книжки.
Сколько было счастья, когда я вдруг выкапывала голову куклы и играла с этой оторванной головой — причесывала ее, укладывала спать отдельно, одну, и, уложив под одеяло, думала: «Так даже не видно, что есть только голова, а нет самой куклы. Она лежит, будто спит, а тело у нее худенькое-худенькое, его просто не видно под одеялом».
Я находила ногу куклы и отдельно — чулки и туфельки. Какое счастье, если эти чулки приходились впору этой ноге и туфли тоже. Я одевала ногу и прикладывала к голове. После находила и туловище с руками, только не находила одной ноги. Я тащила все это к дяде, задыхалась от восторга, что обрела дивную куклу — без одной ноги, — и он кое-как цеплял голову к туловищу и ногу.
Это была кукла! Она родилась при мне, была найдена мной и воскрешена дядей Севой — следовательно, я любила ее больше всех остальных кукол, которые имели руки и ноги, имели чистые носы и неподвижные глаза. Эта безногая, имевшая вместо второй ноги какую-то гайку, казалась мне лучше всех кукол, лучше всех игрушек и книжек. Хотя, кажется, лучше всех была книжка-игрушка, тоже найденная мною на чердаке и, когда я ее открыла, оказавшаяся целым домиком с окнами и дверями, — домиком из разноцветных крупных кирпичей и голубых стекол. Таких книг у меня не бывало, и я застыла перед домом, заколдованная этим видением. Хотела посмотреть книжку, а вырос целый дом, где можно было поставить даже маленькую кроватку, найденную в том же сундуке, кубик, тряпочку, которая закрыла кубик, и целую фаянсовую миску — на кубик.
Вышел стол, кровать, и стол оказался накрытым. Это была дивная игрушка, которую я, как и безногую куклу, хранила долго и помню до сих пор. Больше того, когда я теперь прихожу в дом на Каменном, поднимаюсь по лесенке во второй этаж, в комнаты, и из одной двери могу попасть на чердак, у меня возникает ощущение, что я сейчас найду снова эти дивные игрушки, что весь этот дом похож на ту старую игрушку и я в нем — та трехлетняя девочка, которая сейчас найдет куклу и полюбит ее на всю жизнь. Все — шаткая лесенка и запах старого платья — окутывает меня и заставляет вспоминать все так живо и ясно, что мне хочется крикнуть, как тогда:
— Возьми меня на чердак!
Но некому взять меня на чердак, а самой совестно просить ключи и идти на полутемный и пыльный чердак, где висит белье и лежат старые, никому не нужные детали машин, инструменты и приборы, да и мне не доставит радости теперь найти куклу и кукольный дом.
Глава двадцатая ОЛЯ
Не было для меня большего удовольствия, чем поездка в Москву к моей сестре Оле, к Сей Сеичу. Какое это было счастье собирать чемодан, слушать, как повторяют тебе десять раз, чтобы ты не потеряла калоши, и в конце концов забыть их в купе от восторга, который происходил в миг приезда в Москву.
Тебя встречал особенный, светлый воздух Москвы, ее вечное оживление и трубные гудки машин, особенные московские гудки, которые характерны только для больших просторных площадей города, где машины мчатся с большой скоростью. Тебя встречало яркое солнце, розоватые дымки, пестрые краски Москвы и глубокая тишина московской квартиры Сей Сеича, особенная, ничем не нарушаемая тишина: ни скрипа дверей, ни звонков, ни музыки. Ее не нарушало даже движение — прямо под окнами — трамваев, их треньканье и гул Чистопрудного бульвара, приглушенный портьерами.
Их дом казался мне всегда стеклянным шкафом, потому что не было пустых стен. До потолка тянулись книжные полки, поставленные вперемежку со шкафами. Из шкафов пахло свежестью и зеленью распускающейся лиственницы, пахло добротным прекрасным бельем, уложенным с такой тщательностью и так ровно, что казалось деревянным.
Этот запах всегда обволакивал, успокаивал и как-то переселял к ним совсем, притягивал. Казалось, что пахнет дерево шкафа, но это было не дерево, это было эвкалиптовое масло в пробирочке, масло, привезенное много лет назад одним дальним родственником откуда-то неизвестно, но известно, что он тогда же попался, подарив, кроме масла, две японские безделушки из черепахи — маленькую яхту и колясочку. Эти безделушки все очень тщательно разглядывали и восхищались, пока не обнаружили крошечную надпись: «Гостиный двор, Москва». Может быть, и эвкалиптовое масло попало из Гостиного двора — его взяли под сомнение, но тем не менее все эти вещи были сохранены вместе с анекдотом о их происхождении и вечным скептическим отношением к тому родственнику.
Все сохранялось в доме с необыкновенной бережливостью. Она не требовала никаких усилий ни от кого, потому что была в крови у всех, так что, кажется, я никогда не видела гребенки со сломанным зубом или растрепанной книги.
Хотя в доме было очень тесно от шкафов и оттого, что в трех комнатах жили шестеро, порядок все равно сохранялся сам собой, даже если приезжали гости.
В доме никто, никто не шутил, как это было у нас принято, никто, кроме Анны Яковлевны. В доме было три Аннушки. Собственно Аннушка, няня, которая, как и все в доме, терпеть не могла этого слова няня, да к тому же и не любила новых словообразований вроде домработница, считалась своей, близкой и почти родной. Анна Сергеевна — мать Оли. И Анна Яковлевна — тетка матери, которая жила в доме из доброты Сей Сеича. Именно она умела и любила шутить и рассказывала анекдоты. Она же, правда, иногда впадала в категорический тон и восставала против опеки над Олей, которой запрещали до шестнадцати лет ходить в кино, давали читать книги только специально для детей.
Для кутерьмы и путаницы все трое назывались Аннушками. Оля говорила:
— Аннушка хотела меня кормить, но Аннушка запретила и сказала, чтобы мы дождались Аннушку.
Оля путала Аннушек нарочно, чтобы они не делили ее любовь и не ревновали друг к другу, потому что они очень делили.
Собственно Аннушка говорила, что она выходила Олю, когда мать ее почти умирала.
Анна Яковлевна говорила, что она научила Олю шутить и спасла ее от слишком сильной опеки родителей.
Анна Сергеевна говорила, что, разумеется, всем Оля обязана, кроме нее, матери.
Зато Оля кружила каждую из Аннушек по комнате и пела:
— Зо райтен ди дамен гоп-гоп-гоп-гоп… — ту песенку, которую пела опять же Анна Яковлевна.
Вся эта кутерьма с Аннушками была до некоторой степени ее хитростью. Она очень хотела избавиться от их любви и опеки, она любила приезжать к нам в Ленинград, где никто не контролировал ее и не ограничивал ее движений, где Оля читала что хотела, бегала на все спектакли и концерты, ночами шепталась с Надей и получала письма прямо в руки.
Я помню свой последний приезд в Москву: в том году еще была жива Анна Яковлевна, которая уже не могла рассказывать анекдоты, зато я повторяла за нее ее анекдоты и рассказывала их так, как рассказывала когда-то она.
Анекдоты были разные. Один был о том, как эльзаска хотела выйти замуж за человека из Лотарингии. Она дала ему свой волос и сказала, что выйдет в том случае, если он сделает из волоса что-то очень смешное. Он сделал ей брошь, изображавшую Эльзас и Лотарингию, которые держались на волоске.
Другой анекдот был про то, как спорили люди в сенате, к кому спиной встанет на площади памятник: с одной стороны был сенат, с другой — церковь, с третьей — университет, а с четвертой — театр. Ко всем оборачиваться спиной было нельзя, спор шел несколько дней, пока одна дама не предложила:
— Надо поставить его спиной к сенату, но зад обсадить цветами.
Этот старомодный юмор исходил из Анны Яковлевны, ей было за семьдесят. Все остальные поддерживали высокий тон («дивная, святая музыка, нежное существо которой так легко осквернить»), то есть выражались столь торжественно, как выражался бы Иоганнес Гофмана.
Анна Яковлевна в тот год умерла. В тот же год началась и война. Словом, я попала в дом на Чистых прудах в самое невеселое время, но запомнила я не тревогу и тоску, которые тогда царили в доме.
С детства запечатлелись поездки в Москву и детские восторги. Они сохранились и до зрелого возраста, когда ехала уже совсем не с тем чувством, и, в дороге сетуя, что вот пропали былые радости Москвы, приезжала, как прежде, восторженная, немножко смещенная — и бессонницей (или усталостью), и воспоминанием о том прежнем приезде в Москву, предвоенную или началовоенную: приехала за два дня до войны.
«Встречайте пятницу стрелой» — это мы с мамой послали такую телеграмму, это тогда меня встречала Оля, встречала меня, летевшую действительно стрелой в Москву.
Ах, Москва-лапочка, Москва-ласточка! Как было пестро и ясно в те дни, каким ярким светом, московским, слепящим нас, ленинградцев, встретила она, какой сладостью и весельем!
Я видела вокруг радостные лица людей, а угрюмые проскальзывали мимо моих глаз, исчезали, невидимые мне.
Так дети видят только детей. Часто я говорила маме ну хоть об Алеше, который ходил со мной в садик и был предметом моего обожания:
— Он кудрявый, правда?
— Кто? — спрашивала мама.
— Мальчик, с которым мы ехали.
— Где ехали?
— В трамвае.
— В каком?
— Ну, сейчас, из садика.
Поражалась маминой ненаблюдательности и еще больше поражалась тому, что мама отвечала:
— А, который ехал с Иваном Сергеевичем.
И оказывалось, что Алеша ехал не один, а с отцом, его я в свою очередь не замечала.
Кончились два довоенных московских дня, наполненных не только радостью, но еще и тревогой, что мне не разрешат радоваться, как это и случилось, хотя я все равно втайне радовалась, ничуть не беспокоясь о войне.
И Москва сверкала для меня тем великолепным весельем, которое играло во мне, она заливалась моим румянцем и моей соловьиной трелью. Загасить мою радость войной? Волнением всех вокруг? Не может быть. Мне казалось, что Оля тоже не ощущает войны и разделяет ту мою радость, что и после, много после, даже до самой блокады, существовала во мне вопреки голоду, бомбежке и всяким несчастьям.
Трудно сказать, что именно любила я в Москве — своих родных и Ольгу, которую, конечно же, я очень любила, или перемену всей обстановки? А вернее и то и другое вместе, и, главное, сам дух Москвы, и обожание детей в том милом мне доме. Но кроме всего этого я любила просто свое московское состояние — новое, праздничное, легкое, все равно — праздник ли в доме или обыденное житье.
Я любила свои приезды в Москву, и она сверкала и плавала у меня перед глазами, вся искрилась и танцевала свой бурный танец — текла толпой, работала, даже бранилась как-то особенно, весело и беззлобно.
Мне все казалось в Москве другим и милым: сам свет солнца и шелест листьев, блеск Чистопрудных бульваров и внезапное — среди массы разных домов — сияние маленькой белой церковки, вставшей как-то косо на улице, боком, утонувшей в больших домах и все-таки заметной, милой, особенной.
Я привыкла к однообразию домов в Ленинграде, слившихся в линию и не слишком отличающихся друг от друга. Казалось смешным и милым смешение всех стилей в Москве, всех столетий и способов жить. Мне так виделся характер каждого дома и его владельца и особенно нравились старые деревянные пузатенькие дома, вставшие посредине улицы, так наивно и нелепо утверждающие себя, неказистые, полные надутой важности. Теперь уже почти нет этих домов, а как жаль, что поломано все и ничего не осталось от этого ухарства: ровные, огромные, одинаковые дома разметнули Москву далеко-широко и стерли все эти домишки. Я бы непременно оставила какие-то из них вместе с черной истлевшей надписью: «Жан Иванов, портной из Парижа».
Тогда Москва вселяла в меня особенную бодрость и желание что-то делать, куда-то бежать. Все в доме жили так, что и минуты не было праздной, все были в вечном беге. Умудрялись по телефону кому-то обещать быть на диссертации тогда-то, на концерте — тогда-то, в гостях — тогда-то, и никогда не было так, что не выполнили чего-то, обманули и не пришли, не смогли, не успели. И я всегда была вовлечена ими в этот круговорот театров, концертов, гостей, беготни по выставкам, музеям и просмотрам. Мне это особенно нравилось, и я становилась частью Москвы и ее обитателем, таким же, как москвичи, расторопным и деятельным, таким же быстрым и непоседливым.
Возвращаясь домой и попадая в круг своих обычных дел, я уже не могла больше вести жизнь размеренную и почти ленивую, во мне еще сохранялся бег Москвы и ее расторопность. Но постепенно с сожалением я возвращалась в круг своих привычных дел и хождений, звонков и работы, которая происходила куда как медленнее и степеннее, чем в обычные свои дни, я даже гордилась — ах, мы ведь медлительнее, следовательно, сосредоточеннее, следовательно, глубже. Мы действительно были медлительнее, но не всегда глубже.
Тот веселый московский мирок, который был у наших — не всегда веселый для них и всегда для меня, — никак, нисколько не хотел останавливаться и поражал меня всегда своей деятельной радостью, устремленной радостью, почти никогда не сменяемой тоскливой остановкой.
Какое свежее ощущение особенного здоровья было в Ольге и во всех москвичах, и я, попадая к ним, чувствовала то же самое — удовольствие дышать, двигаться, поминутно ощущая, как горячо ударяет кровь в лицо, как смеются мои волосы, танцуют на плечах свой щекочущий танец и вьются на концах, как ничего больше не надо, кроме такого бытия, не нужно ни мысли, ни даже особого действия, ни язвительного смеха, ни даже иронии, столь принятой у нас в Ленинграде — ни слова в простоте душевной, только с насмешечкой, шуткой, и даже горькой, не стесняясь нас — детей.
Там, в Москве, наоборот, ровным счетом никогда — при детях особенно — не насмешничали ни над чем, и я, приезжая в Москву, ощущала непременно какое-то свое превосходство над ними — старшими, но и некоторую неполноценность — физическую, чувствуя их душевное и телесное здоровье, которое легко передавалось мне, чувствуя, что я могу смутить их, подражая насмешливому тону своих родителей. Я, пожалуй, могла их смутить, но сбить с толку — никогда. Они знали свое полуторжественное, полубеспечное отношение ко всему и были неколебимы. Сначала мне казалось, что они попросту не слышат моих шуток, раз никак не реагируют, но после я поняла, что они отлично все слышат и несколько сердиты на меня за это, а потом поняла, что они и обижены бывали, но умение держаться никогда не выдавало их.
Они бывали обижены той резкостью, с которой я так часто говорила, были обижены тем, что вообще говорю о том, о чем у них не говорят вовсе, тем, что святые для них авторитеты для меня не так уж святы.
Но все это было для них мелочью в сравнении с тем темпом жизни, в сравнении с той скачкой, в которой они были не последними, и той радостью, которую они хотели испытывать и испытывали. Я так не умела и была в зависти к ним — отсюда была и резкость суждений.
Оля, не знавшая никогда ни зависти, ни раздражения, интуитивно чувствующая, где и у кого может родиться зависть к ней, была особенно щедра с теми, кто мог завидовать; одаряла она всех, но тех, кто был обижен, — особенно.
Я знала, ей хочется сделать счастливым весь мир, всех-всех-всех, но только трудно, а если бы было можно, то тогда бы она расцвела еще лучше. Увы, в этом своем желании она не была одинока и не всегда была права, если не сказать — умна, но сколько было грации в том, как она дарила свои вещи, сколько было прелести в том, что она поминутно могла целовать меня, тормошить, заставлять примерять платья, кормить меня, наряжать как куклу и после — переодевать, цеплять на меня всякие свои драгоценности, тащить куда-то в гости.
Все делала она искренне и от души — всем. Постепенно, с годами, эта ее манера нисколько не исчезла, хотя много она претерпела от своих опекаемых и стала все больше и больше ощущать свою власть над теми, кто принимал ее благодеяния, — и выказывать эту власть. И уже сторонился ее подарков, чувствуя ее раздражение, если ты не исполнял ее желаний, а после уже не исполнял их нарочно, и сердил ее, и понимал, как она становится гневливой. Боялся этих ее замашек, пока она сама не рассеивала все химеры одним махом, смеясь и называя тебя твоим детским именем — Мурка, именем, которое знали только мы с ней. Мы, бегавшие на Сетунь купаться, бегавшие куда-то в павильоны к операторам, где тайком от родителей снимали и Олю в каких-то эпизодах, снимали, восхищенные ее редкостным лицом; мы, носившиеся по Москве в поисках каких-то приятелей Оли (она брала меня, маленькую, с собой, чтобы дома не подозревали ее); мы, ходившие в кино, где Оля в страшных местах или в любовных сценах закрывала мне глаза рукой и говорила:
— Не смотри, не смотри, тебе еще нельзя, ты еще маленькая.
О, как я помню эту ее дивную манеру — разыгрывать в отношении меня маменьку, а вернее сказать, играть со мной в старинную игру девочек под названием «дочки-матери», ее, излившую на меня потоки материнской любви, не иссякшие совсем и до сих пор.
До сих пор ее мир, ее дом, она сама были тем островом, который стоял в потоке, и поток огибал его, не касаясь ничуть: была только она и ее семья, ее дети и прежний мир, который тщательно сохранялся, как заповедник.
Она никуда не переезжала из своего дома, она жила так, как жил ее отец, даже картины не были перевешены, даже книжные шкафы были заказаны точно такие же, как прежде, и дом сохранял свой прежний облик во всем. И так же было мило приезжать туда и видеть его и ее, и те же бурные потоки полудетской любви ко мне обдавали меня, хотя эта любовь была теперь только воспоминанием о детстве, юности, воспоминанием о прежних лучших временах, о тех ее проказах, которые жили в памяти ничуть не истлевшие и вспыхивали только тогда, когда кто-то вроде меня вызывал их.
О, она была очень счастлива со своими детьми и мужем, она ничего другого и желать не могла, ни одно сомнение в том, что ее муж в чем-то ошибается или чем-то недостоин ее, не закрадывалось в ее душу и не тревожило ее.
Я так хочу, чтобы она осталась в том же покойном и прежнем виде на долгие времена, до самой старости, уверена, что она останется, будет той, которая одна и навсегда не меняется ни в привычках, ни в обличье, ни в своей любви к детям и ко мне, грешной.
Глава двадцать первая ТЕАТР
Как любила походы в театр и то волнение и суету, когда шел, опаздывал, боялся потерять билеты и бинокль, который тебе дали с приговором: «Смотри не потеряй и не верти в руках, а то непременно вылетят перламутровые пластинки, видишь, здесь уже отклеились»; шел гордый перламутровым биноклем, шел со страхом потерять его, и от этого страха было еще веселее, будто этот страх был сюжетом той пьесы.
Я шла в театр всегда с особенным, театральным выражением лица. В фойе, глядя мельком в зеркало на себя, видела чужое оживленное лицо, не совсем мое, лучше моего лица, — от восторга, что я в театре и все так весело и мило.
Кажется, самые первые посещения театра я не очень любила потому, что нас заставляли ходить по абонементу в оперу и балет, и, тогда еще маленькая, запомнила только «Щелкунчика», содержание которого совсем не поняла, а все остальное приняла с восторгом — все танцы и ужимки актеров казались мне такими грациозными и недостижимыми.
Но театр, настоящий театр, начался для меня со «Снежной королевы» в новом ТЮЗе, где великолепные Кай и Герда были похожи на мою леди Джен и лорда Фаунтлероя. Они ходили по сцене живые и прелестные, они — маленькие, не старше меня, казалось, или чуть старше — так явно любили друг друга, и потому я любила их.
Взрослые трагедии не всегда производили на меня впечатление. Меня, довольно маленькую, водили к Радлову — я не помнила ничего; меня водили и в Комедию, и я так явственно видела размалеванных и очень старых, совсем не грациозных людей, которым все говорили, что они очень красивы, но я знала, что они совсем не так уж красивы, и видела все дефекты на лицах актрисы и актера, чего почему-то не видели в зале. После я поняла, в чем секрет этого моего непонимания красоты: у меня было слишком пристальное зрение и я умела разглядеть то, чего никто не видел, и, кроме того, все взрослое мне казалось уже тронутым старостью, только совсем юные лица молодых актрис еще устраивали меня. Я ориентировалась на свой возраст и знала ему цену. Так, кажется, судят все люди до тридцати лет: они очень страшатся этого возраста, будто возраст и степень старости находятся в непосредственной связи, на самом деле совсем не так. Возраст зависит от того, сколько ты хочешь и можешь быть молодым, сколько ты понимаешь молодость и не говоришь себе: я стар.
Если человек много думает, он уже немного волшебник, и его лицо несет печать этого волшебства. Он приказывает себе: не сметь стареть, и долго его лицо остается живым, но все это понимание приходит позже, а когда мне было всего десять, то я почитала себя вполне умудренной и боялась скорого своего зрелого возраста, который начинался для меня лет с шестнадцати, но я знала, что шестнадцать лет бывает всего один год, а дальше? Дальше все мне представлялось в мрачном свете, дальше — старение, распад, к тридцати годам — полное разрушение и почти смерть…
Если бы все страхи были подобны этому прекрасному разочарованию! Но в театре по-настоящему прекрасными мне казались только Кай и Герда, которых, видно, играли студийцы, люди очень молодые и даже маленькие. Я по-своему толковала спектакль, пропуская мимо все неприятные сцены и оставляя в памяти только их любовь и стремление друг к другу. Отлично понимала всю сложность сказки и даже ее подтекст. Но он мне не был нужен, а нужно было только то, что Герда шла к Каю через все, и нашла его, вернула, и оказалось, что он оттаял и тоже в глубине души только и знал, что стремился к ней, стремился даже в своей неподвижности, даже тогда, когда писал слово вечность.
Помню, этот спектакль казался мне тогда таким прекрасным, что я плакала над ним прямо в зале и после дома — ночью, а на следующий день на уроке уже не плакала, но думала о нем и говорила всем только о нем. Говорила всем — маме, Ольге, Тане, Наде, что они должны, должны непременно посмотреть спектакль и понять, как он прекрасен, говорила до тех пор, пока не посмеялись взрослые девочки и не сказали надменно:
— Это история для маленьких. Все это чистейшая ерунда и бред, вот если бы ты посмотрела и поняла настоящий спектакль и тебе понравилось, а то видела «Собаку на сене» и сказала, что тебе не нравится.
Но я не отступила от своего и после «Снежной королевы» ходила в театры с восторгом, и этот восторг случался не только тогда, когда спектакль кончался, но и тогда, когда мне только говорили, что купили билеты, что я иду в театр: видно, с тех пор я все искала и ждала в театре тот восторг, что был со мной на «Снежной королеве», и действительно, восторги случались теперь все чаще и чаще. Я утрачивала постепенно свое младенческое неискушенное восприятие и обретала общее мнение, которое всегда случается разом, для всех восторг всеобщ.
Так редко у нас свергаются кумиры, так непомерно долго они живут.
И теперь помню себя выходящей из театра, всякий раз уже не совсем той, какой вошла, а другой, чаще всего героиней, которая так понравилась, героиней, которая может декламировать все, что только что говорила, и даже больше того, но в том же духе. Отлично помню, что после театра у меня лучше, веселее лежали волосы. После театра могла долго не спать — целую ночь, не спать и все придумывать новые и новые ходы пьесы, новые события, в которых была уже не героиня, а я сама, и в то же самое время отчетливо чувствовать, что пьеса не очень хороша, что многое мне бы хотелось сделать по-другому, что странно, как это я могу изменять Шекспира, но чувствовала, что хочу, и это особенно наполняло гордостью и радостью.
То первое недовольство театром и особенно актерами, да и самой пьесой, в которой мне так хотелось увидеть собаку, простую собаку с мягкими, шелковыми ушами, тяжелыми лапами, с глупой, преданной мордой, а вместо нее мне показали какую-то не очень молодую и не очень красивую даму, которая была как бы собакой, — собакой, она? — она как бы сидит на сене, которое не ест и есть не даст другим? То первое недовольство театром, который обманул мои надежды, прошло и сменилось необыкновенным восторгом перед всякой пьесой, перед самим походом в театр, перед удовольствием быть новой героиней после новой пьесы.
Глава двадцать вторая ДЕКЛАМАЦИЯ
Когда я слушала впервые стихи, то, еще не понимая слов, любила эти слова и повторяла их про себя, особенно рифмованные:
Ни огня, ни черной хаты, Глушь и снег… Навстречу мне Только версты полосаты Попадаются одне…Все было понятно: огонь, темнота, хата (не очень понятно, но смутно понятно, что это — дом), кроме слова «версты», да еще «полосаты».
Спрашивала, но мне отвечали туманно:
— Прежде на дорогах стояли столбы, окрашенные полосами, верстовые столбы.
— А сейчас они попадаются?
— Иногда кое-где в глуши, наверно, можно увидеть, — рассеянно говорила бабушка, и я запоминала: «где-то в глуши».
Помню, тогда же мама возразила:
— Ну что ты, какие же сейчас версты, то было в пушкинские времена, а сейчас вообще не версты, а километровые столбы!
— Я говорю, что, может быть, где-то сохранились, — говорила бабушка, уже отвлекаясь от этого спора и забывая, что все это спросила я, которой совсем непонятно, что есть километр, что — верста, почему столб есть верста, как это все совместить и разобраться в этом.
Они забывали это мгновенно, но не я.
Вдруг мне говорили, что я поеду на дачу куда-то далеко, и я слышала слова, обращенные не ко мне:
— Но ведь это такая глушь, как же туда с ребенком?
Запомнила только слово глушь и втайне радовалась тому, что поеду в эту глушь. Надеялась, что в этой глуши я найду те самые версты. В дороге, во время поездки, я все-таки спросила однажды бабушку:
— Значит, мы едем в глушь?
— Да, да! Очень неприятно так далеко от Ленинграда…
— Значит, там могут встретиться версты?
— Версты?
— Да.
— Какие версты?
— Полосаты.
— Что?
— Версты полосаты, которые иногда встречаются в глуши.
Озабоченная нашим переездом, бабушка только пожимала плечами, но я про себя надеялась, что непременно, во что бы то ни стало разгляжу эти версты, знала про себя, что я очень счастливая, что мне всегда удается то, что не всякому удается: например, мне однажды удалось найти на траве в садике сумочку — чужую сумочку, и сколько было восторгов, когда я нашла ее и кто-то взрослый отдал тому, кто потерял эту сумочку. Тогда меня так благодарили, обнимали, хвалили — за что, я не очень поняла, но поняла и запомнила, что я умею кое-что находить, теперь — так же, как и сумочку, — надеялась найти версты.
И вот после душного, надоевшего поезда мы очутились в комнате, пропахшей смолой и березовым веником, мы очутились в каком-то доме, и я заснула под лоскутным одеялом на пестрых подушках, заснула и проснулась в дивное утро, полное свежести, игры солнца и теней, утро, которое поразило меня своей тишиной и щебетом птиц. Удивилась тому, что если было тихо, то так тихо, что ничего не услышишь на улице, а если кто-то говорил, то не боялся нарушить эту тишину — кричал громко, как только мог. Громко мычали коровы и кричали петухи, громко скрипел колодец, и еще громче кто-то звал:
— Мань! Мань, глянь, што, Пань спит ли орет?
Музыкальность этих слов удивила меня, я повторила их про себя. Потом я услыхала страшный грохот и после того двойной плач — это шестилетняя Мань потянулась к своему братцу Пань и упала со скамеечки. Тогда послышался страшный крик матери, грохот ведер и дом наполнился таким шумом, что я заткнула уши и заплакала сама. Теперь уже кричали все — Мань, Пань, я и наша хозяйка, она одной рукой поднимала скамейку, а другой шлепала дочь и кричала на всех.
К счастью, Паша скоро успокоился, Маня тоже перестала плакать, и только я всхлипывала, уткнувшись в подушку: мне было жаль тишины. Но скоро и я перестала плакать, отправилась с бабушкой на речку, помня еще страх этого переполоха, но уже думая о своем, о том, как хорошо идти по тропинке среди высокой травы и как важно не поскользнуться и не упасть в воду. Бабочки летали надо мной и иногда садились на меня, а я их немножко боялась, хотя прекрасно знала, что они не кусают — просто прикосновение, и внезапное, такого летящего существа мне было непривычно. Но скоро я освоилась на даче, привыкла и уже не ходила осторожно, и бегала вниз к речке и обратно столько раз, что мне стали знакомы все повороты тропинки и каждая примятая мною травинка. И вот тут-то на тропинке, ведущей к реке, однажды, когда я бежала к дому, я вдруг увидела, что трава, полегшая от моих же ног во время бега, мелькает какими-то равномерно повторявшимися полосами, и, увидев это, я остановилась и вернулась. Снова побежала и снова увидела, и хотя меня звали и ждали на крыльце, я все возвращалась и бежала снова и снова, чтобы увидеть это полосатое и странное мелькание травы под ногами. Тут пришла догадка: это же и есть версты полосаты! Вот они — я их нашла.
Я прибежала и сказала бабушке о своей находке, но бабушка никак не знала всей сложности моих ассоциаций, она поджала губы и вздохнула:
— Где ты нашла версты?
— Тут у нас, на тропинке, пойдем, я тебе покажу!
— Завтра, — сказала бабушка, — теперь уже темно.
Я знала, что она не поверила мне, что ей кажется, что я вру и никаких полосок на земле нет.
Утром я повела бабушку туда, где видела свои версты, и при медленной ходьбе не увидела ничего сама.
В отчаянье я говорила:
— Надо бежать, а не так плестись, как ты, бежать надо, тогда увидишь!
— Что увидишь? — вздыхала бабушка, пугаясь той настойчивости, с которой я утверждала явную с ее точки зрения ложь.
Я побежала и снова увидала, а бабушка так и не побежала.
— Ну попробуй, — умоляла я, готовая плакать, — попробуй идти быстрее.
— Я не могу, да ты и сама хорошо знаешь, что все это твоя выдумка.
— Это не выдумка, не выдумка, я вижу, вижу версты вот тут под ногами!
— Но версты, то есть столбы, не лежали под ногами, они стояли вдоль дороги, и не на тропинках, а на больших дорогах. Мы ехали по железной дороге, и они там стояли, я просто забыла тебе показать.
— Они здесь, у меня под ногами! — плакала я. — Я вижу, а ты не хочешь даже побежать и посмотреть!
Но она так и не стала стараться увидеть мои версты полосаты, она после, когда мы ехали в Ленинград, все время показывала мне какие-то мелькавшие в окне палки и объясняла, что это — версты, объясняла, что значение «верста» перешло на этот столб, говорила все так скучно, что я нарочно не глядела на ее версты. У меня были свои полосатые версты, которые знала только я и любила их, как и прекрасное звучание стиха:
Ни огня, ни черной хаты, Глушь и снег… Навстречу мне Только версты полосаты Попадаются одне…Как долго вспоминала то свое вечернее открытие верст прямо на земле, когда действительно наступала ночь, вдали стояли хаты, было страшновато бежать одной, когда увидела свои таинственные версты, про которые так много думала до того, как увидела, — они мелькнули и исчезли, но зато ощутила прелесть открытия и горечь непонимания окружающими этого открытия и меня, осужденную за это, непонятую.
В те годы так много говорили о декламации, о Яхонтове, о Шварце, что совершенно невольно все как-то относились к этому: плохо ли, хорошо, но относились. Кто-то говорил, что не любит такого чтеца, а любит другого, кто-то, кто в самом деле был далек от искусства, стеснялся говорить о том, что ему не нравится бывать на концертах, не хочется и идет он просто по необходимости.
Но для меня декламация была единственным и вечным наслаждением, самым первым развлечением, только я не желала слушать других чтецов, кроме самой себя. Я понимала, что голос Яхонтова красивее, чем мой, что он играет каждой своей нотой, даже дыханием, но ничуть не видела разницы между его интонациями и своими (кстати, на лету схваченными у него), не видела ни малейшей разницы в том чувстве, которое я вкладывала в свое чтение, даже больше того, мне казалось, что я лучше, только об этом я не говорила никому и удивлялась, что мне этого не говорят. Но я столько хотела похвал, столько старалась всем понравиться, что в конце концов прослыла первым чтецом в школе и, делая невероятные логические ударения (свои, не яхонтовские), так что в слове шалун («шалун уж отморозил пальчик») ухитрялась обе гласные сделать ударными, растягивала слово до невероятности, виляя голосом то вверх, то вниз, произнося его так, как это делают родители, боясь за сына и в то же время восхищаясь им. Фраза получалась деланная, интонация претенциозная, но на моем лице при чтении был выражен такой восторг пред самой собой и такое ожидание успеха, что слушатели подчинялись моему самогипнозу и восхищались.
Меня заставляли читать еще и еще раз — того я сама хотела, — и они слушали, и я, входя в опьянение, кричала свое «ша-а-а-лу-уун» так неистово, что зал взрывался.
Этого только мне и было надо. Со своей декламацией я кочевала из школы в школу, в дома пионеров, в какие-то студии детского чтения, где тщетно допытывались у меня, почему именно на слове шалун я делаю такой акцент, на что я быстро отвечала: «Потому, что мальчики обычно бывают шалунами». И, слыша усмешку в ответ, принимала ее за поощрение и продолжала свою декламацию, вернее сказать — гастроли на школьных вечерах и утренниках до тех пор, пока однажды, где-то на концерте в филармонии, не услышала чтение этих стихов — такое грустное и сдержанное, такое точное, что вдруг поняла, что до сих пор до меня никак не доходил даже смысл стихов. «Его лошадка, снег почуя, плетется рысью, как-нибудь. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка…» Не ставя точку между этими строками, я читала так, будто это одна и та же лошадь то плелась, то бежала рысью, то летела, взрывая бразды пушистые. Тот чтец совершенно проскальзывал мимо моего шалуна, делая логическое ударение на слове пальчик, и то без всякого нажима, без особой остановки: «Шалун уж отморозил пальчик, ему и больно и смешно, а мать грозит ему в окно». И я, почувствовав, как он прав, уловив скрытую музыку в простоте его интонаций, вдруг решила, что отныне я буду читать именно так, а не иначе, и в первый же вечер впервые прочла эти стихи сносно, легко подражая его манере. И что же? Послышались жалкие хлопки, меня никто не вызвал больше, и даже учительница, которая всегда так поощряла меня и каждый раз выражала свое восхищение после моего выступления, вдруг сказала мне:
— Сегодня ты не в духе, да? У тебя ничего не болит?..
…Прежде чем я научилась понимать стихи, я уже их декламировала. Но в какой-то день я, повторяя про себя стихи для того, чтобы запомнить их, вдруг почуяла особенную красоту строк: «Из перламутра и агата, из задымленного стекла, так неожиданно поката и так торжественно плыла». Эти строчки были, казалось, одним всплеском волны — в них звучало «л», которое придавало плавность всей фразе, наполняя ее торжественною легкостью. Меня околдовали эти стихи и, после того как я их запомнила и уже не хотела повторять, повторялись сами, без моей воли. Я могла говорить их невольно, когда хотела сказать совсем другое, так начиналось мое страдальческое отношение к стихам — любовь до страдания, полнейшего подчинения ритму и музыке, до крика: не хочу слышать стихов, музыки, тишины хочу! Но, увы, самое глубокое страдание не одно и то же, что глубокое понимание, хотя иногда мне казалось, что я одна во всем мире понимаю тайный смысл стихов, их скрытое значение, какую-то глубочайшую шифровку, космический знак в строке, в такой, например: «Меня проносят на слоновых носилках, слон девицедымный…», пока не узнавала, что это просто гравюра, Хлебников разглядывал ее и писал о ней то, что видел: слона, носилки и бога Вишну, мышцы слона казались художнику состоящими из дев. Все было просто и далеко не таинственно. А ты-то видел такое великое и надзвездное. Все твои построения рушились перед простой картинкой.
Так рушилось таинство, но все-таки стихи влекли меня не только тем, что я их разгадывала или не разгадывала, они влекли меня еще и своей музыкой, силой образа: «У капель — тяжесть запонок» — такая мелочь и такая верность.
Всякая строка, каким-то образом застрявшая в моей голове, была всегда для меня чистой, что бы она ни выражала, хоть неприятный намек, который я и различала, но отбрасывала от себя, заставляя строку светиться тем сочетанием слов, какое мне было приятно и понятно.
Глава двадцать третья ЦВЕТ
Веселый свет лампы напоминал мне мой первый шелковый сарафанчик, который я требовала у мамы каждую весну, а мама удивлялась тому, что я помню этот сарафанчик: он был у меня, когда мне было года полтора, и я давно выросла из него.
Этот веселый свет заставлял меня каждое утро залезать на стол, трогать абажур руками и представлять себя в этом абажуре. Думать, что если бы чуть-чуть был шире ободок, в который продет шнур, то я бы могла пролезть в этот абажур и ходить в нем, как в кринолине. В то время я, конечно, не знала слова «кринолин», но видела такие платья и, крутясь под абажуром на столе, представляла себе, что я уже в этом платье и танцую медленный, прекрасный танец, какой я видела на елке или уж не знаю где — в кукольном театре?
Не любила холодный, стеклянный свет люстры, плохонькой люстры в другой комнате, люстры, состоявшей из одинаковых, казавшихся всегда пыльными, ледышек и ничуть не украшавшей комнату, а посылавшей на пол такой же пыльный свет. В то время как нежно-кремовый абажур был радостным и теплым, окрашивал все предметы цветом весны и настоящего солнца, тусклая люстра казалась мрачным декабрьским днем, длинным, стылым и скучным.
В комнате, где горела моя лампа с абажуром, я всегда любила рисовать и ощущала, что цвет карандашей под этой лампой — ярче и сочнее.
Цвет весело настраивал меня или приводил в уныние и тоску. Мрачными казались самые неожиданные цвета, например, розовый — густой, ядовитый, липучий цвет, и нисколько не казался мрачным черный цвет, например мамино черное платье, в котором мама была совсем молоденькой и даже маленькой, так контрастировал черный цвет с ее светлыми волосами и лицом.
И самую большую радость цвета помню от голубой акварели, название которой «берлинская лазурь», — дивный, теплый, солнечный цвет этой лазури пронзил меня, как только я его увидела.
Сколько помню себя, отец, вернувшись из экспедиции, всегда рисовал карты, которые я очень любила.
Он всегда выбирал самые дорогие карандаши, откуда-то привозил и сам тер туши, знал все тонкости изготовления красок и очень гордился своими работами.
Когда отец садился к столу, я тоже садилась и выпрашивала у него его карандаши, они казались мне всегда самыми лучшими и особенными — эти точеные карандаши, маленькие пики и крошечные огрызочки, которых мне тоже не давали, потому что и они были для отца ценными.
Мне давали другие — мои карандаши, их тоже прекрасно затачивали и показывали, как надо штриховать, но сколько бы ни говорили, что эти карандаши тоже хороши, я знала, что они плохи и никогда не дают настоящего цвета. Тогда мне давали один голубой карандашик, коротенький, как винтик, едва державшийся в пальцах, и я делала им несколько штрихов с удовольствием, которого не могу описать.
Мечта о настоящем длинном карандаше, которым я буду так же хорошо рисовать, как и отец, была настолько заманчивой, что дни и ночи я думала, как вот все заснут и я открою его бюро, возьму карандаши и буду рисовать изумительные картины, такие, что все ахнут. Только надо было выждать момент, когда все будут спать, но такого момента никак не случалось.
И вот однажды, когда отец долго рисовал свои карты, а я долго просила его дать мне карандаши и наконец получила, унесла эти карандаши в кровать вместе с кусочком ватмана, — однажды это произошло. Я проснулась раньше всех. Все спали, а я нет.
Еще с вечера я, засыпая, видела перед глазами великолепный ковер из разных пятен, ковер разных цветов, напоминавший ту же самую карту отца, но рисованную мною, а не им.
Я видела все оттенки этой карты: она дрожала у меня перед глазами, переливаясь из желтой в густо-красную, голубую и коричневую. Эта карта-ковер нисколько не сердила меня тем, что мои штрихи лежали на ней вкривь и вкось, передавая то густой, то расплывающийся тон, а радовала меня тем, что я рисую так же ровно, как отец. И вот я открыла глаза утром и увидела карту, отец забыл ее убрать.
Карта была пестрая, разноцветная, отец делал ее несколько ночей. Я смотрела на нее и не могла оторваться, я гладила рукой шершавые от краски пятна и любовалась картой до тех пор, пока не вспомнила, что хотела взять карандаши. Я уже тянула эти карандаши из коробочек, примерялась, как мне лучше слезть, когда заметила целую шеренгу баночек и в одной из них — кисточку. Я знала, что это. Это были туши! Те самые запретные туши, которые всегда прятали от меня. К этим тушам нельзя было и прикасаться, не то что пробовать ими рисовать. Хорошим карандашом можно нарисовать более гладкую поверхность, но все равно будет видно, что полоски не легли одна к другой, а тушь обязательно разольется и даст такой непрерывно ровный цвет, что к нему не придерешься.
Отец мог слить штрихи в сплошной цвет, одним взмахом кисточки залить белый кусочек на карте или нарисовать такую линию, в которой явственно, хотя и искаженно проступал профиль мамы, и я даже знала, что это не мама, а карикатура, ее я, конечно же, не любила, но поражалась линии, которую умел провести отец, придав ей сходство с маминым профилем.
Я никак не понимала: отец ли так искусен, или хорошие карандаши сами бегут под его пальцами, а туши разливаются, как ему того хочется. Мои пальцы жили сами по себе; держали карандаш так, что он крутился или, зажатый с силой, ломался, и отточенный кончик кракал с легким хрустом, которого я боялась гораздо больше, чем сердитых окриков отца. Этот хруст означал, что больше вообще не будет ни цвета, ни линии, будут только разговоры:
— Опять сломала?
— Да, — и слезы с моей стороны.
Лучше бы, думала я, сломался мой палец. Я выгибала его что было сил и приговаривала пальцу:
— Ломайся, ломайся!
Но палец не ломался, даже не хрустел.
Теперь я чувствовала такое вдохновение, что обмакнула кисточку в тушь и провела линию прямо по своей руке.
Бумаги рядом не было. Первая линия вышла куда лучше, чем все мои прежние линии, — она оказалась ровной. Это настолько вдохновило меня, что я села прямо на карту и стала рисовать на руке одну за другой линии, так что они слились в ровный тон и совсем обрадовали меня. Что было за удовольствие ощущать, что ты можешь, можешь провести так, как хочешь.
Тушь быстро сделала мою руку восхитительно синей, и раскрасила все пальцы и запястье и дальше руку до локтя.
После, уже мокрой рукой, нельзя было искать бумагу. Я смутно, как сквозь сон, чувствовала что-то неладное — карту рядом со своей рукой, но никак не могла даже вспомнить, что именно омрачает мою радость раскрашивания, красила и красила.
Я уже красила свое лицо: разделила его ровно на две половины от лба к носу и подбородку. Разделив, стала расписывать лицо от этой линии: справа — синим, слева — красным, и когда было уже почти все готово, когда я хотела пойти и проверить, как ровно я себя раскрасила, тогда вошел отец.
Я сползла очень быстро, и следом за мной сползла карта и тут же закрутилась рулоном. Отец бросился к карте и развернул ее.
Я залилась синими и красными слезами, и не потому, что меня бранили и грозили не пустить туда-то и туда-то, не дать чего-то, лишить и прочее, мне было страшно потому, что отец душным голосом говорил:
— Нет, положение безвыходное. Я просто не вижу никакого выхода!
Его сдавленный голос, его жесты выражали полную безвыходность, будто бы он был не он, а я, которая никогда не смогла бы нарисовать такую карту. Отец потом прекрасно сделал доклад и показал подчищенную карту и только посмешил всех рассказом обо мне, расписанной синей и красной краской. А меня долго мучил своей холодностью и презрением. Я ничего не знала, и для меня слово безвыходность означало что-то тесное, страшное — саму смерть, которую я боялась, ненавидела и надеялась никогда не умереть.
Ожидание целой жизни впереди, ожидание веселья и радости делало смерть невыносимой. Смерть была ни на что не похожа — ни на болезнь, ни на тошноту, ни на боль, так мне объясняли. Смерть была что-то дикое, провал, чернота.
При всем своем остром ощущении цвета, я совсем не видела картин. Даже если меня водили по музею, и показывали что-то, и говорили всякие великолепные слова о разных мастерах, о том, как они умеют передавать цвет, объем и так далее, — я не видела на картинах ни цвета, ни объема, не видела фигур, а ощущала особенный холодок Эрмитажа и толпу, которая меня отвлекала и нравилась гораздо больше, чем все то, что мне показывали.
Мне говорили, чтобы я посмотрела, как дивно сочетаются краски вот там, как изумительно светится живое тело и прямо дышит на той картине, но я была увлечена всем происходящим в музее: веселой толпой и той особенной тишиной, которую боялась нарушить каким-то своим громким возгласом, нарушить стройное движение толпы возле картин и остаться вдруг одной в холодном зале с огромными людьми на картинах.
Мама или бабушка — кто водил меня — выбивались из сил, стараясь объяснить мне, как удивительно контрастируют лица и темные одежды, как великолепно написан бархат, а я рассеянно верила всему их потоку слов, не находя ничего сверхъестественного в этих некрасивых, на мой взгляд, лицах и толстых фигурах.
Из музея приходила и углублялась в свои картинки. Долго, часами разглядывала старые гравюры: подробные, вычурные фигуры, благородные до невероятности лица, неподвижные, засахаренные, милые своей знакомостью, своей возвышенностью и еще тем, что, рассматривая эти картины и зная их наизусть, могла вдруг в уголке найти какую-то кошку, которая тут же ела косточку или даже мышь, а в другом уголке найти цветок или рабочую корзинку и котенка, который катал клубок. Эта находка в картине была мне так приятна, что я настраивалась особенно весело и благодушно, в то время как из картинной галереи могла прийти со слезами и раздражением: не любила сразу много картин, не могла их все запомнить и вместить в память.
Много лет спустя — уже после блокады и эвакуации — пришла в Эрмитаж все с той же детской неприязнью и еще с голодным раздражением и все-таки не хотела, не могла видеть никаких картин, пока постепенно не прониклась сперва Дюрером, потом Боттичелли, потом Брейгелем. И вдруг узнала, что все это может не только нравиться, но и угнетать, что может быть таким прекрасным, что уже становится страшным для тебя.
Глава двадцать четвертая СНЫ
Так часто вечером казалось: невероятная тяжесть теперь навсегда камнем лежит на душе, ее никогда не сбросить с себя, все, что было хорошего, — кончилось, и теперь начинается настоящая смерть, но засыпала и просыпалась светлая, как день, ясная, совершенно забывшая, что было плохого и тяжелого вчера и что́ именно так угнетало.
Видела сны, а во сне все страшное растворялось и улетучивалось, забывалось, как будто и не было. Сны оставляли свое настроение. Сны были и страшные, и легкие, причем легкие сны могли быть по сюжету очень страшными, и наоборот. Могло казаться страшным то, что в самом деле было вовсе не страшно, если я рассказывала об этом. Страшный сон о том, что я куда-то бегу, падаю, не могу бежать, хотя я совсем не знаю, кто меня преследует и от кого я бегу. Нестрашными были сны о том, что кто-то убивает кого-то при мне или даже меня убивают.
Самый страшный сон я сначала видела как самый радостный: какой-то вечер, и на вечере я что-то говорю, веселюсь, и все смотрят на меня, потом вдруг все отворачиваются разом, и я пытаюсь всеми силами вернуть к себе внимание, но все тщетно — никто не слушает. Помню, что после очень долго плакала во сне и когда проснулась — тоже. Казался сон вещим и тяжким: вечно боялась повторения этого сна наяву.
Раздумывая над этим сном, поняла, что дело не в том, что видишь во сне, а в том, как ты настроен во сне — хорошо или тяжело. Радостный сон мог продолжаться радостью наяву. Он будто так и случался — надолго: мог длиться и на следующую ночь, и еще одну ночь, не повториться, но длиться, и помнился отчетливо до малейшей детали.
Все скрашивалось этим сном, и хотелось спать наяву, то есть чувствовала, что спишь наяву, — и так оно и было.
В такие дни я казалась всем странной, отвечала невпопад, не очень видела всех вокруг и любила эти свои состояния. Они казались такими вдохновенными, в то время как все кругом считали меня в таком состоянии тупой. Чем глубже было состояние полусонного, полуявного блаженства, созерцания чего-то, тем смешнее было то, что ты делал, говорил в самом деле.
Во время войны я работала в поликлинике, училась, была во всяких кружках — и уставала страшно. Тогда именно были сны такими глубокими и радостными. Тогда часто спала наяву, особенно когда ложилась спать поздно и вставала рано. Шла в поликлинику и прилаживалась к собственной походке — спала и шла. Получалось это плохо, но все-таки голова отключалась совсем. Мешал только холод. Все думала тогда — как люди замерзают, они же должны совсем отключиться, а отключиться на морозе так трудно, все время меня будил мороз, пока я шла.
Но вот я приходила на работу, тепло окутывало меня, и тут я засыпала совсем легко. Я быстро погружалась в глубокий сон с открытыми глазами.
Меня звали, спрашивали о чем-то, посылали, велели, ждали, а я спала и спала. Делала все машинально, делала просто так, как случится, чтобы только не разбудили меня совсем, не дали прерваться такому состоянию, в котором я могла существовать. Спать хотела смертельно. Казалось, если бы мне разрешили — спала бы двое суток, дольше, а пробуждение было похоже на болезнь: все было так безобразно, а холод и работа — совсем мучительны и невыносимы. Но вот наступал обед — я просыпалась до какой-то степени, потом школа, и тут, как ни странно (третья смена), я просыпалась окончательно, резвилась, была быстрой, сообразительной — не отличалась от тех, кто не работал, а работали многие и, придя с работы, чаще всего спали на уроках. Я просыпалась окончательно и тут только вечером и существовала наяву, а не во сне, как на работе.
Те сны — младенческие и в юности, во время войны, — были похожи на дивные фильмы вроде «Дороги», где все происходило так, будто во сне, а не наяву, где каждое движение человека — актера — будто случайно, а на самом деле вполне закономерно, но движется все по законам сна, где все может быть и один и тот же человек может превратиться в другого, быть тобой и не тобой одновременно, делать что-то странное, бессмысленное, но по законам сна не бессмысленное, а такое значительное, особенное.
Помню сон, как я брожу по извилинам своего мозга и будто они — пещера, а в конце концов нахожу синюю гостиную (вроде гостиной тети Мани), где старинные миниатюры так контрастируют с белыми мраморными фигурками, а бронзовые подсвечники гармонируют с бронзовыми рамками. И на полосатом шелке диванчика сидит кто-то в чепце — не тетя Маня, но кто-то похожий на нее — и говорит мне, что все красивое сосредоточено в этой комнате и эта комната и есть — понимание, и я действительно в восторге просыпаюсь примиренной и понимающей. Но наяву являлся вопрос — а что же я понимаю? И не могла ответить, хотя чувствовала, что отныне что-то знаю. По сию пору хочу найти разгадку тому странному сну и состоянию.
Это состояние было похоже на вдохновенное чтение: прекрасно бродить по собственному сознанию, думать — прекрасно, наслаждаться мыслями, даже если мысли неуловимы, не выражены словами.
Глава двадцать пятая ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ЖИВОТНЫХ
Выцветший от тепла батареи, от солнца, от старости аспарагус, его длинные пряди щекотали мне щеки, если я проходила мимо и задевала его. Я всегда задевала его нарочно, может быть от этого он и побелел совсем.
Его легкие веточки были похожи на волосы Амалии Павловны, такие же тонкие и белые, совсем как паутинки (Амалия не выносила паутины, и всякую пыль, какую там пыль — всякую пылинку, отдельную пылинку или паутинку, она видела, замечала и тотчас же вытирала, убирала и начисто промывала тряпочку после этой операции), но собственные волосы она не могла обмести, как паутину, их приходилось расчесывать и укладывать каждое утро в гладкую прическу, которая мне напоминала венскую булочку, посыпанную пудрой.
Концы ее волос сохраняли некоторый оттенок каштанового цвета, но я, разглядывая ее волосы, думала, что эти кончики просто порыжели от времени, как старое кружево.
Амалия любила свой аспарагус, как и все цветы, и всегда сетовала, что аспарагус сохнет и становится бесцветным. Она будто не замечала того, что я, проходя мимо окна, непременно задеваю аспарагус, а говорила пустоте:
— Как жаль, что цветок гибнет.
Я слышала в ее словах упрек, но все равно трогала аспарагус: уж очень заманчиво было его щекотанье. Будто кот задевал меня усами, толстый кот той же Амалии, кот, которого она очень любила, а у меня с ним — так же как и с ней — были очень сложные отношения.
Все животные были под защитой Амалии, которая очень гордилась тем, что состояла членом общества защиты животных. Где было такое общество, существовало ли оно в те времена — было тайной, но Амалия всем говорила, что она член этого общества и будет защищать животных до самой своей смерти.
Она всегда останавливала возчиков, которые били лошадей, останавливала мальчишек, которые мучили щенков, котов, лягушек, мышей и прочих тварей. Она часто рассказывала нам о том, что однажды, видя, как бьют лошадь, добилась того, что воз разгрузили при ней и сани легко пошли. Амалия якобы сказала возчику, что стоит его самого впрячь в этот воз, тогда возчик испугался ее, Амалии, и разгрузил воз.
Все дома потешались над ее рассказом и говорили, что представляют себе, что мог ответить возчик Амалии на ее предложение впрячь кучера, представляют себе, как Амалия говорила:
— Я состою членом общества защиты животных…
Мне всегда очень хотелось посмотреть ее удостоверение или значок, которые бы подтверждали ее принадлежность к этому обществу, но я никогда не видела их.
Никто не верил Амалии, что она кого-то заставила снять бревна с воза, потому только, что она не могла даже заставить собственного кота сойти с постели или с кресла, чтобы сесть или лечь самой.
Кот всегда спал и не уступал ей места, и ей приходилось ложиться на самом краю, как-нибудь, чтобы не потревожить кота. А тот растягивался во весь рост, вытягивал лапы и был крайне недоволен, если она даже задевала его. Он чувствовал свое превосходство над хозяйкой, которая, являясь таким активным членом общества охраны животных, не может стеснять своего кота. Он разваливался на кровати, на кресле — где ему хотелось — вверх животом, вытянувшись во всю длину, да еще и мотал хвостом в знак того, что ему помешали, разбудили, прервали такой сладкий сон.
Надо сказать, что кот Барс, столь ревностно охраняемый Амалией, был самый простой кот-дворняга, с широкими полосами на спине, мордастый, злой котище, который не давался в руки и вечно был недоволен мной. У него была мерзкая манера забиваться под кресло, как только он видел меня, и прятаться там в темном углу, а когда я пыталась его вытащить из угла, он больно царапал меня за руку, и сразу же вздувались желваки на руке. О, я ненавидела его короткий взмах лапой и выпад вперед, ко мне, после чего кота жалели и говорили:
— Бедный Барс, тебе не дают покоя, поди сюда, мой хороший, иди ко мне.
И Барс, мерзкий Барс, так больно цапнувший меня, шел, трусил, бежал к Амалии, прося у нее защиты, он у нее, а не я! Я, поцарапанная, униженная, должна была просить прощения у Барса, в то время как хотелось ему наступить на хвост. Ведь он первый начал! Я хотела его вытащить из-под кресла и просто поиграть с ним, повозиться, ну, слегка помять его, теплого, мехового, только и всего, но кот сделал из моей попытки нападение, он отбил атаку, а я, пострадавшая, поступала теперь в разряд людей, угнетающих всех животных, людей, с которыми боролась Амалия.
И я просила прощенья у кота, я старалась не замечать его, а он брезгливо смотрел на меня, прятался или, сидя на коленях у Амалии, поводил мордой в сторону, когда я проходила мимо. Паршивый Барс чувствовал, что я прошу прощения, в то время как я считала его напавшим.
Так часто Амалия повторяла:
— Все-таки люди не стоят животных, сколько они делают зла всем, а животные — никогда!
Я посасывала поцарапанную руку и не смела ей возражать, а Барс, развалившись у нее на коленях, делал такое выражение лица: «Вот видишь, люди никогда не могут сравниться со мной». Я раздувала ноздри и отвечала ему тоже глазами: «Как же, как же! Твою доброту и доверчивость я знаю!»
Амалия, будто подслушав мои мысли, говорила:
— Животные всегда доверчивы, но если они знают, что их могут убить или поймать, — они должны сопротивляться!
— Я не хочу убивать Барса, а он всегда царапает меня! — говорила я, не выдерживая.
Она смотрела на меня и не отвечала на мой выпад, а продолжала свою беседу на тему о спасении животных:
— Медведь или тигр сам никогда не нападает, они становятся людоедами, когда человек ранит их или в том случае, когда у них нет зубов и они не в состоянии охотиться…
Она могла говорить об этом часто и довольно однообразно. Я слышала эти разговоры не первый раз и, глядя на Барса, не слушая ее слов, продолжала с ним свой мимический диалог, который был куда откровеннее и честнее. Я хотела отомстить Барсу после ее долгих наставлений и даже говорила: «Ну погоди! Попадешься мне, когда будешь один!» Я не знала, что бы я могла сделать с ним; по правде сказать, я никогда не мучила животных, да и не знала, как, собственно, их мучить, всякие противные выходки с котами, когда к хвосту привязывают банки или обливают котов и поджигают их, мне самой были противны, но слегка прибить, потрепать кота, дернуть за хвост — это было можно. Но этого было мало, и я про себя сказала Барсу: «Погоди, я тебя тоже оцарапаю!»
Наши отношения с Амалией не ограничивались этими разговорами о животных, они были более глубокими и не всегда очень милыми. То есть я чувствовала, что Амалия не в восторге от меня, что она холодна со мной и не любит не только меня, но и маму, и мою бабушку, тем не менее она никогда не переходила границ, была всегда немножко надменна и сдержанна. То, что мне не говорилось ничего и не делалось замечаний, тоже было своеобразным отталкиванием с ее стороны, но Амалия была существом добрым и отзывчивым и всякое даже малейшее проявление человечности к кому бы то ни было трогало ее. Они с мамой не очень ладили только потому, что, мне казалось, всегда соревновались, кто из них добрее и лучше. Одна старалась и помогала каким-то несчастным своим больным — ездила к ним домой, собирала деньги на убогих, другая ходила по улицам и кормила кошек и лошадей и навещала дочь дворника, которая заболела.
Эту дочь дворника Амалия вечно приводила мне в пример и говорила, что она очень трудолюбива, скромна и опрятна, пока наконец эта дочь дворника не утащила у Амалии ее любимую вышитую сумку и серебряный колокольчик. Тогда Амалия гордо замкнулась и никого, кроме кота, не пускала к себе. Я редко заглядывала к ней, но мы всегда жили на одной даче. Амалия, дальняя родственница бабушки, не имела никого и, в сущности, нуждалась в нас, но делала такое выражение лица, что ни в ком никогда не нуждается.
Она не позволяла себе никаких лишних слов в чей-то адрес, она была отвлечена от житейских неурядиц и всяких ссор, и сколько беспорочной брезгливости выражала она всем своим видом, когда видела, что мы с Таней бегаем по коридору и пытаемся открыть ногой дверную ручку, смеясь и затыкая друг другу рот; как она была возмущена, когда мама громко разговаривала с кем-то по телефону, да еще и курила при этом; как она молчала, какой неприступный и отчужденный был у нее профиль, когда она слышала, что все наши в восторге от Зощенко и, сами не замечая того, начинали говорить его языком.
Мне часто казалось, что Амалия ничего не ест, может целыми днями сидеть с книжкой, или гулять по улицам, или вязать, в крайнем случае молоть свой кофий, которого у нее был неисчислимый запас. Так она выжила в блокаду — пила свой кофий, как всегда его жарила, молола, варила и пила.
Ее кофейник-тромка, начищенный до того, что страшно было взять рукой — вдруг останутся пятна на этой необыкновенно гладкой поверхности, стоял всегда на ее столе, прикрытый салфеткой, но не помню, чтобы у нее были кастрюли или даже тарелки на столе.
Так же мне казалось, что Амалия может не говорить ни с кем и год, и два, что она может скользить тенью среди всех и не замечать никого, только слегка кивать, может даже стать незаметной и скользить так, чтобы ее вовсе не видели, но непременно появиться на глаза в день, когда был праздник или именины, чтобы поздравить всех, пожелать всем всяких удовольствий и радости, а после опять исчезнуть.
Этим своим свойством она восхищала меня и сердила одновременно, она казалась мне такой бездушной во всей своей доброте и отзывчивости, казалась мне такой раздражающей в своей манере не беспокоить никого, скользить мимо и не трогать. Но, разумеется, в моем раздражении был оттенок ревнивого чувства к маме, которая была всегда ближе и лучше, в то время как Амалия, сколько бы ни была близка, — далекой; я улавливала их неприязнь друг к другу и потому была в раздражении.
Казалось, что я не могу и вспомнить никаких суждений Амалии ни по какому поводу, кроме животных, и тем не менее я помнила ее отчаянный пацифизм, ее страдальческое отношение к тому, что происходило в Германии в те времена, и вообще очень много помнила ее суждений и высказываний, хотя будто бы она никогда и не говорила ни с кем, а только распространяла вокруг себя атмосферу миролюбия и беззлобности или передавала свои мысли молча.
Уже шла война, мы жили в госпитале, а Амалия жила в нашей комнате. Во время войны так часто было, что даже люди совершенно чужие вдруг объединялись.
Помню, придя к тетке Лидии, увидела на ее столе спящего истопника Ботикова. Он спал прямо на столе в валенках и шапке. Увидев его, я не удивилась, а только спросила, где тетя, и услышала, что она почему-то в квартире Ботикова, что там она и живет теперь, а Ботиков спит тут. Рядом со столом был диван — широчайший диван, но Ботиков спал на столе, верно там ему казалось теплее, что ли, или он стеснялся испачкать тетин диван — не знаю.
Так и Амалия совсем переселилась к нам, где была какая-то печка и дрова, спала на ковре, на подушках от дивана — ближе к печке.
Рядом жил ее кот, ненавистный мне Барс, теперь ставший жалким, мяукающим от голода котом.
Наши светлые, огромные комнаты стали теперь темными и потому казались меньше. Всюду теперь висели какие-то тряпочки, всюду были завешены двери, заткнуты щели, и в этой комнате, при свете раскаленной печки, сидела Амалия и улыбалась мне, усаживала поближе к печке, поила своим кофе, говорила:
— Теперь приходится жить так, что делать — приходится.
Кот поднимал голову и глядел на меня выразительно — просил хоть корку хлеба. Амалия не просила. После мы узнали, что она совсем не ела свой хлеб, а отдавала все коту, но тот все-таки сдох весной, а Амалия выжила, хотя у нее не было совсем ничего. И, не имея ничего совсем, однажды она получила посылку от племянника, который просил ее поделиться с нами. Она тут же поделилась с бабушкой и Надей и написала нам, жившим в госпитале. Мама, получив ее открытку, сказала мне, что ничего у нее брать нельзя и идти не надо. Но в тот же день я была у тетки и решила пойти к Амалии.
Я пришла к ней из госпиталя и получила от нее и хлеб, и консервы, и сахар — все, о чем можно было только мечтать. Снесла все к тетке, и там был пир, все было съедено чуть ли не за один раз. Осталась на несколько дней только крупа, которую варили в огромном количестве воды. Когда все кончилось, тогда снова все стали смотреть на меня и посылать меня — безмолвно — к Амалии.
Как мне этого ни хотелось, как было неприятно, но я пошла, ожидая, что она просто не даст ничего, что у нее и нет ничего, но она встретила меня снова улыбаясь, напоила кофе и снова дала мне продукты. Единственная фраза, которую мне было неприятно слышать от нее, была фраза о том, что нельзя все вдруг съесть, что надо тянуть, — фраза, которую мы вполне заслужили и должны были выслушать.
Но я ушла как можно скорее от нее и пришла к тетке Лидии, которая уже не надеялась в этот день выжить, но выжила она благодаря Амалии.
Через несколько дней умер, как я после узнала, кот Амалии, и она пошла его хоронить — увезла его далеко к кладбищу и там долго копала снег, чтобы его не вырыли. Хоронила она кота в том самом ящике от посылки, который прислали: ящик был пуст.
А Амалия осталась жива, и эта ее способность жить воздухом, жить бестелесно поразила меня, когда много позже я пришла к ней и застала ее в убогой маленькой комнате, которую она получила после пожара, ее, снова окруженную котами, ее, улыбающуюся, все-таки очень замкнутую и отказывающуюся от всякой помощи с нашей стороны.
Возле нее стояла ее неизменная тромка, салфетка была чиста как сахар, а в старинной вазочке не было хлеба, как всегда, был только один сухарь, какие-то конфеты, которыми она тут же угостила меня.
Если бы было на свете общество охраны животных, то оно должно было бы носить имя Амалии.
Глава двадцать шестая ГРОЗА НАД ДОМОМ
Летом ждешь жары и грозы, хорошего ливня и особенной радости после дождя, когда весь будто освежаешься и иссохшая кожа становится мягкой и свежей, а волосы, только что сухие и ломкие, вдруг обретают плавность, будто ласкаются. Все дышит кругом, и воздух сам вливается в тебя.
Такое освобождение после грозы, какого не помнила после войны, хотя, кажется, не было большего счастья, чем те последние слова Левитана о полной капитуляции Германии, о конце, конце…
Он говорил о том, что все кончилось, а все знали: когда-то, когда все придет опять в прежнее свое состояние — и чуяли, не скоро, — долго еще в памяти будет все то, что было, и уже не вернется на прежнее место. Никогда не будет нашего дома — он сгорел, никогда не придут, как прежде, знакомые — их нет в живых, никогда не зазвучит рояль — его тоже нет; всех разметало, и все стали другими.
Было ощущение, что война все еще не кончилась.
Война была слишком долгой: все знают, как страшна война, но какая она тоскливая, скучная — нет. Если бы, как гроза, пронеслась — и все.
Весь день копились тучи, весь день давило, жара была страшная, духота. Казалось, что и птицы не летают, куры не дышат, и только мухи страшно жужжали и кусались.
И вдруг вечером захлопали окна и двери; пыль ворвалась в дом, заметались деревья и далеко заворчал гром. И быстро он приблизился и грянул над головой. И старухи запричитали:
— Сухая гроза. Ох, страшно, хуже бомбежки…
И сразу хлынул ливень — стеной, все заплясало вокруг, пахнуло свежестью и радостью, но тут же хлопнуло и дом закачался, еще удар — казалось, прямо в крышу, так близко, — и снова затрещал дом.
Собаки скулили и прятались, дом все трещал и качался, и мне вспомнилось, как шатался совсем другой дом — прекрасный дворец на Фонтанке, когда бомба упала совсем рядом.
Этому дому надо было дать награду, так он стоял всю войну, когда рядом и прямо на него сыпались бомбы, снаряды, зажигалки, а он стоял и уцелел.
Тот дом на Фонтанке знаком мне так, как собственная комната. Я пришла теперь к нему, вошла совсем не тем ходом и увидела, что все в доме как было во время войны. Пошла коридором, и мне сказали:
— Вы так не пройдете.
Но я прошла, потому что могла бы этим вахтерам рассказать, как можно попасть в этот дом с Литейного, дворами, и через сад с Фонтанки.
Я помнила этот дом еще таким парадным, с тяжелыми резными дверями и зеркальными стеклами. Я помнила его огромный зал на втором этаже, сверкающий паркетом и люстрами, великолепный зал, превращенный в палату. Он был все таким же парадным, как в те времена, когда давали балы. Он и теперь сохранял торжественную красоту.
Как был тогда красив фасад дома за тяжелой решеткой, которая слилась с корой старых тополей и образовала неповторимый рисунок. Теперь нет тополей и нет ограды, а хотелось бы знать — где ограда? Она, устоявшая под всеми обстрелами и бомбами, оставшаяся до последних дней войны, вдруг исчезла уже после войны, когда восстанавливали дом.
Лицо дома опустело, когда не стало тополей и решетки, но все-таки это был тот самый дом — мой дом и мамин, тот самый героический дом, который спас жизнь стольким людям. Если бы он не выстоял и рухнул, под его развалинами остались бы тысячи, но он не рухнул, он выстоял, и все остались жить в нем…
Я бегу под обстрелом, я бегу, и меня ловят, стараются загнать в бомбоубежище, но я бегу, кажется еще не зная, что в тот дом попала бомба, в правое его крыло, но почему-то бегу со всех ног в ощущении беды и вижу дом с улицы Ракова — кажется, он цел, он стоит как прежде, как всегда; да, он цел, но все равно сердце не спокойно, и я бегу дальше, хватаюсь за перила Фонтанки и хочу лезть через перила — там, внизу, лед, там, впереди, этот дом и мама там. Вблизи видно, что нет стекол в доме, нет рам, но все-таки он цел. Будто бы и легче, но не очень — кто там погиб? И я бегу на Аничков мост, скорее с моста, пока не поймали, но меня ловят, и я хочу прорваться, вырваться из рук, говорю:
— Мама там в доме…
И мне спокойно отвечают:
— Мама жива. Все живы. Погибли только двое. Молоденькая сестра и раненый. Значит, мама жива, понимаешь?
— А раненые есть?
— Никто из персонала не ранен.
Вот был какой дом. Прямо в него попадание — и он цел. Даже не треснул, даже не уронил кирпича, только погиб тот парадный зал.
Сразу после этой бомбы люди стали будто и веселее в госпитале.
Я слышала разговоры:
— Прекрасно, что бомба уже попала. По теории вероятности вторая не попадет.
Шуточки. Никакой подавленности.
Дом этот я могла бы нарисовать и теперь по памяти, так он был мне известен: каждая лесенка, каждая труба в подвале, всякая кафелина, которая выбилась и стучала под ногой. Я знала, с какой стороны и когда светит солнце, где теплее и где холоднее, хотя дом этот был теплым всю блокадную зиму, в нем ни разу не погас свет и было тепло, тепло… К этому теплу и свету, к этому дому тянулись замерзшие, умирающие люди и, попадая в него, приживались здесь, пережили всю блокаду и не умерли. Дом был перенаселен, так забит во всех углах, что, казалось, нет места, где бы не спали. Часто просыпаясь в маминой кровати, я видела рядом еще и еще кровати, которые внесли ночью, носилки на полу или даже людей, которые спали у меня в ногах. И все те, кто работал по найму или приходил помочь, все они жили на ногах, часто неделями. Иногда, когда грузили мешки, вату, одеяла, вдруг находили кого-то, кто внезапно прислонился к этим тюкам, да и спал на них, так, случайно для самого себя, присел и заснул.
И несмотря на то, что все углы были забиты людьми, дом казался просторным и чистым, да он и был весь чист. Подумать только — в ту блокадную зиму, когда я жила в этом доме, там сияли паркеты, сверкали люстры и дверные стекла, были вычищены все медные ручки и перила, вымыт кафель, в доме продолжался тот довоенный мир, несколько более суетливый и быстрый, но все тот же — с шутками, с улыбками, будто не висела над всеми угроза, будто и не было бессонных ночей, будто не было работы на ногах — неделями, будто не стучал метроном радио.
Помню солнечный тихий уголок операционной, в которой обычно было столько народу, столько дела, и вдруг — передышка, тишина, пустота. Я заглянула, и солнце ослепило меня, яркость ламп и солнца, которое было где-то высоко под потолком красным маленьким островком, но это солнце, эта белая комната вдруг так обогрели меня, и я подумала, что все равно все обойдется, все кончится благополучно, — поверила свету и солнцу.
В предоперационную кто-то вошел и не видел меня — легкой тенью скользнула белая одежда и отразилась в кафеле пола. Сестра была без шапочки, в халате, надетом, как часто делали операционные сестры, на голое тело, и сзади видна была спина. Она вымыла голову и теперь, стоя перед зеркалами, укладывала волосы, легко ступала по полу, и ее белая фигурка повторялась во всех зеркалах. Она что-то пела.
«Мы все, все будем живы, — еще раз подумала я, — и эта сестра, которая теперь похожа на Наташу Ростову, она здесь на балу, а не в операционной, она такая хорошенькая теперь».
Сестра увидела меня и вдруг из Наташи Ростовой превратилась в сердитую старшую операционную сестру, которая не разрешала быть в операционной посторонним, и сказала:
— Что ты здесь делаешь? Здесь нельзя быть.
— Я просто увидела, что здесь солнце, — сказала я.
— Ну, видела и уходи, — сказала она мирно.
И я ушла, потому что сестры из операционной были особенными, они возвышались над всеми, парили, царили, от них зависело все — они это знали и были горды.
Спустя несколько дней в дом ударила еще одна бомба, правда, не разорвалась, ее быстро схватили и утащили в Фонтанку (только после войны вытащили оттуда), она пробила несколько перекрытий и завертелась на третьем этаже, — и тут ее и настигли. Это была маленькая бомба, дом даже не зашатался. Ему эта бомба была как царапина слону.
Уж на этот раз все говорили, что теперь никогда больше не попадет бомба, это совсем не по правилам, но они ошиблись.
Еще одна ударила в угол, в боковую пристройку, и несколько снарядов выдержал дом.
Сколько ни твердили, что теперь уже никогда не попадет ничего в дом, снаряды все сыпались, и все-таки дом остался стоять без трещин и изъянов, он сохранил жизнь стольким людям, что ему стоит поставить доску на фасад и написать на ней о том, что он испытал.
Он высится и по сию пору, как прежде, только паркеты потускнели, нет тех зеркальных стекол и нет старых дверей и решетки (вместо награды его лишили решетки!), и все-таки он хорош, этот дом на Фонтанке.
Недавно я видела, как взрывали старый дом на проспекте Римского-Корсакова. Это был не такой уж большой дом, трехэтажный старый домишко, и рядом с ним — совсем ветхий, будто на триста лет старше того дома, совсем лопнувший и обваливающийся, на самом деле младший его брат. Хотели, собственно, сначала ломать только тот маленький старый дом, но, размыслив, решили сломать и трехэтажный, и взорвали его.
Не знаю, сколько тонн динамита или еще какой-то там взрывчатки заложили в дома, но когда их взрывали, наш дом по соседству повело, он шатнулся, а тот старый маленький дом распался — на кубики, только эти кубики были по три кубометра объемом, они никак не поддавались больше разрушению, так и были — огромными кубиками, которые приходилось грузить на платформы и увозить куда-то за город. Кирпичей отдельных не было. Я смотрела на это и думала, что старые мастера, которые строили такие вот дома, подобные тому дворцу на Фонтанке, будто предполагали, что их руки когда-то сохранят жизнь многим людям. Если бы они строили поспешно и как попало — сколько людей бы погибло тогда под развалинами, но они не погибли — живут себе кто где. Например, строгая сестра, похожая на Наташу Ростову, действительно Наташа, стала хирургом, живет в Ленинграде и по сию пору ходит в белом халате с голой спиной, наверно, до сих пор она все еще хороша собой, как тогда, и так же строга.
Глава двадцать седьмая ЯДОМИТЕЛЬ ЦНИГРИ
С трех лет слышала разговоры в доме тети Мани и у себя:
— Доклад в ЦНИГРИ…
— Иду на доклад…
— Ртутные выпрямители…
— Механика грунтов…
— Деформация балки…
И повторяла про себя:
— Механика ЦНИГРИ, балка доклада, выпрямители доклада, иду на грунт…
Отлично знала, что все перевираю, в голове отпечатались навек устойчивые словосочетания, такие, как механика грунтов и ртутные выпрямители, но так однообразно звучали эти слова, которые для меня ничего не значили, вызывали только образы тетки Ирины или дедов. Механика грунтов была для меня мягкой, как влажная земля, а ртутные выпрямители казались градусником или даже скорее разбитым градусником и капельками ртути. Только что разбила градусник и катаю ртуть по одеялу — знаю, что нельзя поймать эту ртуть руками, она ускользает. Могу повторять: «Ах ты выпрямитель несчастный!» Предчувствую всякие нарекания по поводу разбитого градусника и этой ртути, которую не взять, да и нельзя брать в руки. Знаю, что она вредная, очень плохо может быть, если ее проглотишь, даже можешь умереть. Ртуть — это яд. Выпрямитель яда, ядомитель ЦНИГРИ. Что-то было томительное в этих многозначительных словах, для меня ничего не значивших, тем не менее — томительное, может быть, утомительное.
Всякие слова любила выворачивать наизнанку, переиначивать, выдумывать. Играла ими, как с кубиками, переставляя так и этак. Слышала, как говорят о пьесе «Судья в ловушке», слышала название книжки — «Судьба Милены», тут же говорила: «Судьба Милены в ловушке».
— Вы идете смотреть эту судьбу в ловушке?
Такие мои словечки повторяли, передавали, я этим гордилась необыкновенно, но знала, что эту гордость надо скрывать от всех, делать вид, что ничего не понимаешь, что сказала свое слово так, случайно и ничуть не жаждешь похвал, а то непременно тебе прочтут нотацию о том, что нельзя восхищаться собой, нельзя искать успеха.
Технические и научные термины застряли у меня в ушах с детства, но не заинтересовали меня, наоборот, чем больше я погружалась в чертежи — деду для книги вычерчивали с братьями рисунки, — тем больше не хотела иметь с техникой никакого дела. Все понимала — как полезно, нужно, прекрасно, но — не хотела, зато рано начала чувствовать, как давит все это рациональное, умное, полезное на меня — нерациональную, бесполезную, как они все не понимают моей пользы, моего умения, моего знания. Чтобы защититься от них, нападала сама.
— Вы все делаете от противного! — говорила я брату или деду, имея в виду теорему, которую доказывают от противного. — Вы все делаете от неприятия, то есть — от неверия, а я делаю все от доверия, от веры, вот и разница.
Они понимали это по-своему. Сердились. Говорили:
— В чем же разница?
— В доверии.
— В легковерии?
— Пусть так.
— Нет большего греха, чем легковерие, оно похоже на глупость.
— Нет большего греха, чем недоверие.
— Это из другой оперы.
— Так не говорят! Это страшно примитивно говорить «из другой оперы».
— Но все-таки это не одно и то же — недоверие и доказательство от противного. Ты все путаешь, и нарочно путаешь. Тебе лишь бы устроить каламбур.
И это была правда. Мне нравился каламбур больше, чем всякое измышление, всякое доказательство, мне нравился спор, нравилось остаться в выигрыше, даже если я не выигрывала в смысле, а только в том внешнем рисунке спора, то есть мне уступали не по существу спора, а потому, что я все запутывала и без умысла и не без умысла, запутывала, чтобы выпутаться.
Виктор говорил:
— Она спорит, чтобы переспорить.
Именно это он не любил, именно это и не нравилось ему, сердило и заставляло думать.
Ссорились из-за споров без конца, даже плакали, жаловались друг на друга тетке, чтобы в один прекрасный день — через двадцать пять лет — понять, что нисколько не сердились, а только радовались тому, что было это желание спорить.
И спорить стало не о чем. Они делали то, что им было понятно, приятно, легко, я делала то, что я могла. Их логика принадлежала им, мне — моя. Она казалась им такой нелогичной, как если бы я пыталась писать ушами, а слушать музыку руками. Но был смысл даже в том, чтобы слушать музыку руками. Был смысл в том, в чем совсем не было смысла, в этом самом ядомителе ЦНИГРИ, и когда в институте на занятиях русским мне дали фразу для синтаксического анализа: колома болдонула бокла или что-то в этом роде, я была так счастлива, как если бы мне сказали, что отныне я — единственная — права. Я готова была тут же побежать к моим оппонентам и дать им эту фразу как лучшее из доказательств моей правоты, но не к кому было уже бежать: дед умер, брат занимался своими делами, его было не найти, остальные мои дядюшки — кто спорил со мной — давно смирились с моим упорством. И я, торжествуя, анализировала: колома — подлежащее, болдонула — сказуемое, бокла — дополнение.
Глава двадцать восьмая БРАТЬЯ
Милые мои братья и все, все, все, кто жив и здоров, бранит меня, что я не прихожу вовремя в гости, не звоню и не пишу, не сердитесь, я сама так часто удивляюсь — почему я не прихожу, почему мы так редко видимся, особенно с братьями. Говорите, что виновата я, что я, вослед маме, не соблюдаю ритуалов, не соблюдаю всех церемоний. Вы и по сей день видитесь часто, а я в своем отдалении от вас, может быть, ощущаю ностальгию, которая и заставила меня писать о вас? Во всяком случае, не простое желание вспомнить детство или рассказать о знаменитых дедах.
Собственно, знаменит был только один дед, о котором я еще не говорила, который однажды стал знаменитым, да так и остался на всю жизнь, а рядом с ним стали упоминать и других и называть всю фамилию династией. Это часто случается: кто раз стал знаменитым, тому уж не сойти с этой стези. Дед, может быть, и не хотел бы вовсе, чтобы его именем называли институт, а уж назвали, он, может быть, вообще хотел бы вдруг из электрика превратиться в конструктора велосипедов, а нельзя. Если он сконструирует велосипед, маленький, из самоката, скажут, что это его причуда, даже могут снять кадр для хроники — он на своем велосипеде, но никогда не дадут ему возможности заниматься своим велосипедом так, как ему этого хотелось бы.
Но дед давно умер, хотя этот кадр — он на маленьком своем велосипеде — можно иногда встретить в кино: едет дед, веселый, седой, бородатый, на маленьком велосипеде, едет и машет рукой, бородой, улыбается, бурно объясняет кому-то, как удобно ездить на таких велосипедах, как они нужны. Он был живой очень человек, совсем не торжественный, как это можно было бы от него ожидать. Жил он долго, и до сих пор странно, что он не появится вдруг в лектории и не начнет читать лекции, скажем, о необходимости купаться в проруби, хотя сам он и не купался никогда в проруби, и не помню, чтобы кто-то из родственников купался, а дед мог вдруг согласиться читать такие лекции так просто: сам прочел недавно и сразу поверил, что это великолепно — купаться в проруби зимой…
Его непосредственность, к сожалению, не передалась его сыновьям и не очень — нам, но зато некоторые люди вспоминают его так:
— А, он прекрасно ездил на велосипеде, помню, помню, как же!
— Да он не прекрасно ездил на велосипеде, а просто демонстрировал свою модель.
— Да, да, на своей модели прекрасно ездил…
Так странно совмещаются случайные кадры кино с тем, что люди помнят в самом деле.
Недавно на улице встретила двоюродного брата с дочерью и страшно обрадовалась, глядя на них. Оба эти лица — его и дочери — мгновенно соединились у меня в одно, смешались, и казалось, что я говорю не со взрослым дядей, огромного роста, а с ним — тем маленьким, у которого круглые щеки и толстые губы, они вот-вот вытянутся от обиды, а слезы покатятся по носу, когда он будет стараться скрыть их от нас и опустит голову. Мы были погодками, и тот, кого я встретила, — младше всех. Как часто он своими обидами, слезами держал нас в страхе, донимал нас настырными приставаниями — пойти туда-то с ним, дать ему то-то, рассказать ему что-то, выслушать его, отдать. Вечно он обижал сам и обижался, всегда спорил, терпеть не мог чего-то не знать. Так, он выучил сам Киселева и знал алгебру — наш учебник — еще в третьем классе, но великим математиком не стал, хотя окончил, конечно, институт и аспирантуру.
Таким родным и светлым показалось мне его лицо, это двойное видение — дочь, похожая на него, маленького, неразличимо, и он сам, огромный, бородатый (и все-таки маленький), и я чувствовала, что, стоя со мной, он тоже погружается в детство, наше с ним, с другим братом — детство, в тот огромный океан обид, радостей, горестей, который, пока плывешь по нему, кажется страшным и нескончаемым, а когда попадаешь на берег, когда кончается детство, то вдруг оказывается прекрасным и неповторимым. И только такие внезапные встречи ненадолго возвращают тебя в него.
Мы стояли, а Оля вертелась и теребила отца за руку в нетерпеливом раздражении, совсем его раздражении: «Пойдем же!» — я остановила их на пути к какому-то ее удовольствию.
Но мы не двигались и смотрели друг на друга затуманенно — вот-вот заплачем. Совсем не старые, не измученные, здоровые и даже счастливые, но утратившие детство, наше с ним желание спорить и доказывать свою правоту, наше с ним насмешливое и ревнивое чувство друг к другу, единственно чего не утратившие — нашей любви друг к другу, такой скрываемой от самих себя, неуловимой, почти несуществующей и такой явной.
Как, помню, обретя сразу двух, хоть и двоюродных, братьев, как обогатилась их раздраженной любовью, их полупрезрительной, задиристой и нежной любовью, какой стала счастливо-несчастной! Хоть нас так оберегали от нее (тетка, дед) после, когда были уже в институте, да и прежде, с шестого класса, когда она вспыхнула, как ссора, любовь, полная презрения и ненависти, — и никогда не прекратилась.
Всякие мои знакомые мальчишки — Вали, Геши и прочие — существовали и приходили, и я говорила всем, что они мне нравятся или не нравятся, но все они были будто бы случайно рядом с моими братьями, существовали сами по себе, а мои братья были всегда моими, рядом со мной и даже для меня, хотя, упаси бог, чтобы они что-то делали мне, — никогда, или всегда с таким видом, будто это им страшно тяжко, но были, и были всегда лучшими. Я это именно и ощущала, что они — мои и лучшие из всех, но не для меня. Не мне предназначены, не достижимы, потому — особенно любимые.
Какой непримиримой, жесткой становилась тетка Виктория, когда она вдруг встречала нас вместе, нас, отправляющихся на лодках куда-то на Лахту или просто по Невке, как она холодела и леденила нас своим холодом, она, добрейшее существо, любившая меня по-своему. (Сама она была замужем за своим двоюродным братом.) Когда мы вставали пред ее глазами рядом, то ее беззвучное: «Нет! Никогда!» — останавливало меня, отводило от моих братьев, и я покорялась ее немым крикам, да и они тоже. Наши прогулки оказывались испорченными, мы вдруг становились неестественными друг с другом, начинали смеяться так громко и вдруг теряли всякий интерес к тому, что задумали. Тетка уходила, но ее тень оставалась с нами и разводила нас.
Зато теперь мы захлебывались, глядя друг на друга, и что это было за ощущение! Все было нам интересно в другом: и одинаковость наших воспоминаний, разных и одних и тех же, и одинаковость наших лиц, и одна и та же гордость друг за друга. Ощущение: все-таки ты самый близкий, потому что я знаю всякую черту твоего лица, повторенную во мне, знаю всякое твое движение, которое сама могу сделать за тебя не потому, что я знаю, как ты всегда двигаешься, а потому, что привыкла с детства так делать. Я знаю, есть на свете лица красивее, чем твое, выразительнее, но ты — и не самый лучший и все-таки лучший, потому что ты — почти что я.
Это измученное слово влюбленность так мало выражает из того, что в самом деле ощущаешь, когда его произносишь, потому что оно подразумевает нечто плоско-определенное, а не то легкое состояние ясности всего существа, веселости и легкости, той силы восприятия и бесконечной детскости, которое я подразумеваю, когда говорю его по отношению к братьям. Нельзя же употребить еще более смешное выражение братская любовь, когда она вовсе не братская, потому что и теперь, когда мы встретились и глядели друг на друга, и теперь вспыхивало в голове: «А может быть, теперь?» — и сейчас же гасло, гасилось уже совсем не теткиными предостережениями, не ее трагическим: «Я все это пережила и знаю, не дай бог вам пережить — это во-первых, а во-вторых, для чего сокращать число семьи и рода, соединяя возможные варианты!»
Нет, не тетка вставала между нами, а мы сами, и я особенно, желавшая продлить свое детство, которое возникало при виде брата. Мы с ним никогда не перебирали в памяти все подробности нашего детства, тем более не произносили вслух знаменитого: «А помнишь?», но мы ощущали, как все всплывает само, мы ощущали приближение детства в присутствии друг друга.
Оба они что-то делали вдали от меня — один строил лодки, другой изучал клещей, — но оба они, помимо того что преподавали, ездили за границу, читали лекции, изобретали и строили, говорили веселые тосты, комплименты и остроты, — они еще были моими братьями, и я знала — делали примерно то, что и я, думали так, как я, и не потому, что мы одинаково воспитывались и были родными, а еще и потому, что мы, хоть и не звоня друг другу, ощущали, что происходит с каждым. Нам не было нужды звонить друг другу и видеться постоянно, мы и так слышали, что делает и думает другой.
Нас упрекали в том, что мы так мало видимся, но все эти упреки ничего не значили для нас, потому что мы могли видеться, могли и не видеться, и даже наоборот, если виделись, то часто оставались в раздражении, говорили друг другу детские колкости — привычные колкости, и не так легко, как на расстоянии, понимали друг друга, но, расставаясь, непременно все прощали и оставались в прежней связи.
О, я воображаю, как засмеются мои братья, прочтя эту главу:
— Ну, ну, ну, ну! Врешь, врешь, врешь, врешь. Ну, дружили, ну, играли, ну, еще туда-сюда, но любили, но любили — это просто ерунда! Что виделись очень редко — это да, это да, но что знали все подробно — это просто ерунда…
И все-таки я стану утверждать, что могу услышать звонок по телефону и без звонка, что могу понять, что происходит с людьми, даже если они и не звонят, как им там — хорошо или плохо, — могу почувствовать.
Эта связь, разумеется, не очень прочна, почти неуловима. Часто ошибаешься и после ошибки теряешь надежду снова понять что-то, но все-таки возвращаешься к этому своему состоянию и снова чувствуешь, что связь эта верна, если к ней привыкнуть.
Глава двадцать девятая ЛЮДИ И ВЕЩИ
Сводить концы с концами так трудно! Хочется бросить все как есть, в той естественной хаотичности, как случилось написать. Думаешь: не так уж важно, в какой последовательности все изложено, как трансформировались в моем изложении события. Иной раз одно и то же рассказываешь по-разному, переставляешь факты (факты легко смещаются в голове!), да ведь они вещь не такая уж важная.
Все, что здесь написано, не воспоминания, а просто мое удовольствие вдруг видеть то, что помнится, с такой отчетливостью и восторгом, все заново и все гораздо лучше, чем, может быть, было в самом деле. Никакой грусти оттого, что все прошло, потому что теперь это куда значительнее и светлее. И вспоминаешь детство не для того, чтобы кому-то и что-то рассказать, а потому, что тебе хочется воскресить и полюбоваться тем, что было.
Странная вещь — было много тяжкого, но даже тяжкое становится славным, когда ты это только вспоминаешь, оно приобретает какую-то особенную прелесть — то ли потому, что имело свое благополучное разрешение, то ли потому, что ты улавливаешь в том, что было, свою логику.
Помню осень сорок первого года, все ее краски и оттенки, холодную змеиную жуть аэростатов, сверкающих в лунном свете, и дикую красную луну, которая ни с того ни с сего заливала город совсем не привычным беловатым блеском, а золотила предметы. Это уже была голодная луна, голодная красота, а потом настала смертная красота. Предсмертный стук метронома и великолепие умирающего города. Умирало все: камни подо льдом, решетки под тяжестью инея — никогда ни до, ни после не было такого инея, который делал всякий завиток моста и решетки тяжким, белым и живым, словно шевелящимся, разраставшимся с каждым днем и в то же время мертвым, леденящим. Никогда ни до, ни после Ленинград не знал таких жестоких зим. Почему именно эта зима была такой страшной — для того ли, чтобы Ленинград остался, каким был, или для того, чтобы умер прежний Ленинград и сделался другим? После такой зимы многие дома не выдержали и осыпались штукатуркой, трескались, отошли от соседних — не только из-за бомбежки, но и ото льда.
Тяжкая эта красота запомнилась мне так явно, так подробно, как может все запомниться только в му́ке.
…Так и домашние предметы были для меня всегда необыкновенно приятны и имели свой смысл и свою красоту, связанную с какими-то событиями и впечатлениями, имели иногда еще и скрытую от всех красоту, которую я одна знала и любила.
Была, например, у меня детская мягкая, искусанная ложечка младенческая, когда я, еще сидя на высоком стуле, училась есть, — это была любимая ложечка, легонькая, как бумажка, немножко резавшая меня своими краями. Она была без всяких украшений, но совершенно белая, с большим процентом серебра, бо́льшим, чем делали обычно, я могла с нею играть, кусать ее или ожидать, что дадут что-то очень вкусное, — она и связывалась у меня с первыми вкусовыми ощущениями детства, потому я так и любила ее, кормила кукол и вдруг однажды потеряла. Мне говорили всегда, что нельзя брать ложку для игры, а я брала со страхом, что потеряю, — и потеряла, как мне казалось, пока не прозвучало трагическое слово торгсин, которое сначала я не связала с ложечкой, и только много месяцев спустя поняла, что ее снесли в торгсин и обратили в какое-то лакомство для меня же, но мне было уже не до лакомства, потому что самое большое ожидание лакомства связано было у меня с этой ложечкой, которой теперь не стало. Она была для меня вещью одушевленной, насколько может быть одушевленным лакомство, она же была и игрой в сладкое, которая не получалась с другими ложками. Другие ложки стали мне неприятны, да и были всегда тяжелее этой, вероятно, мне было в самом малолетстве трудно с ними справляться — словом, первое эстетическое удовольствие я получила от той ложечки, хочется сказать — из той ложечки, а утратив ее, утратила первый предмет, красоту которого различала, и с тех пор — с момента утраты — держала ее в памяти, ее, отвлеченную от конкретного, красоту.
То же самое было и с высоким стулом, который, правда, не остался для меня эталоном красоты, хотя бы потому, что в какие-то времена стал мне мал, а я по привычке старалась сесть на него и царапалась (у него уже были обломаны ручки). Когда стул сделался мал, его заменило креслице, с которого, стоя на коленях, я дотягивалась до стола. Я любила деревянные завитушки этого кресла, в вырезанных там птицах, листьях и фруктах видела другие фигурки: девочку с распущенными волосами, сидевшую повернувшись ко мне щекой, и много разных милых лиц, которые были в самом деле где-то в садике или про которых мне читали.
После те же самые завитушки уже ничего не выражали, ничего не значили для меня и даже почему-то сердили. Помню, уже после войны, когда это единственное кресло въехало в нашу тесную и тоже единственную комнату, все эти завитушки стали мне необыкновенно неприятны, мне хотелось в ту пору иметь новую, совершенно гладкую, без всяких украшений мебель, которая могла бы не мешать, не загромождать собой комнату, а служить. Кажется, я сердилась именно поэтому и еще потому, что, утратив все, не хотела иметь одно это кресло, потертое, потерявшее всякий смысл — хоть ломай все эти завитушки. Но не сломала, чтобы потом радоваться им, не сохраненным, но уцелевшим.
Глава тридцатая ПРАЗДНИК
Да, все еще жив старый дом на Каменном, все еще живут в нем мои родственники, но многих из них я уже почти не знаю. Когда я прихожу к тетке Виктории и вижу новые лица, мне даже неловко спросить, кто это, — вдруг это окажется мой троюродный брат или племянник, я видела его, но не могу теперь узнать: был толстенький карапуз, а стал немолодой дядя, у которого тоже есть дети.
Когда я прихожу к Виктории, она каждый раз говорит мне: «Какая ты была выдумщица!» В этом возгласе есть и удовольствие, хотя прежде удовольствия не было, а вместе слова «выдумщица» чаще звучало: «Неправда» или: «Не говори ерунды!» С годами тетка стала употреблять эвфемизмы, то есть «обходиться при помощи носового платка», а я перестала быть выдумщицей и кляну себя за то, что так мало выдумки в моих рассказах, нет даже шутки, а как шутили дома! Были домашние, понятные только нам шутки и домашние анекдоты, были и шутки, которые смешили всех.
Еще жива до сих пор манера говорить о самых глубокомысленных вещах так, будто все на свете легко и достойно смеха. Очень хорошо помню свою торжественную детскую привычку думать и их манеру шутить надо мной, из чего я с тоской и искренностью заключала, что они куда легкомысленнее и глупее меня, потому что я стараюсь понять, а они будто бы и не думают вовсе.
Часто я задавала себе, после — деду трагический вопрос о смысле жизни и тут же получала ответ:
— Смысл жизни в том, чтобы думать о смысле жизни.
Нисколько не утоленная и даже обиженная, я говорила деду:
— Оставь газету и говори со мной серьезно.
— А я как раз читаю о смысле жизни, вот тут, в отделе происшествий.
— Где?
— Вот посмотри сама.
Я брала газету и не находила даже отдела происшествий.
— Там нет отдела происшествий.
— Ну, милая моя, ты не умеешь читать газеты! — Он брал газету и начинал читать: — «Вчера в цирке произошло трагическое происшествие. Во время выступления укротительницы с группой тигров одна из тигриц вдруг закапризничала и отказалась слушаться. Она зарычала и…»
Я, холодея:
— И?..
— «И внезапно… — снова пауза, — внезапно укротительница, которая стояла к тигрице спиной, обернулась, набросилась на нее и проглотила ее целиком».
— Кто? Укротительница тигрицу?
— Наверно!
— Неправда! Дай, где это написано?
Брала снова газету, но, разумеется, в газете ничего не было. Дед выдумал все с начала и до конца. Это не останавливало меня, а наоборот, заставляло с еще большей важностью надуваться.
— Я, — говорила я, — просто умнее вас. Я думаю обо всем, а вы — нет.
— А мы — нет, — говорил дед и свистел мотив, который сам придумал для меня на слова моей песенки:
У енота хвост в колечках, Хвост у крысы без волос, У меня — пушистый, пышный. Братец кролик, где твой хвост?Пока я все продолжала размышлять, он иногда спрашивал:
— Нет, право же, братец кролик, где твой хвост?
— Оставь меня в покое, — говорила я и добавляла про себя: «вы просто дураки».
Вслух сказать такого никогда не решалась никому, кроме братьев. В самом деле, я тогда ощущала себя такой умной, какой бы теперь чувствовать хоть чуточку. Зато теперь, когда стоило бы задуматься над чем-то, я отшучиваюсь. Да, дедовы шутки бывали очень хороши. Как быстро он мог ответить, отрываясь от своих дел, и сказать что-то смешное, хотя, казалось, он и не слушает совсем то, что мы говорим.
Он шутил и перед смертью.
Последнее воспоминание о деде — когда он долго и мучительно умирал. Я пришла к нему, он уже лежал и еле шептал:
— Возьми, тут какая-то бумажка, твоя, наверно, — неподвижной рукой едва шевельнул в мою сторону.
Я взяла бумажку. Там была завернута брошка, старенькая эмалевая бабочка, я поняла, что он раздает перед смертью всем что-нибудь свое.
…Недавно был праздник в том доме, в большой столовой был расставлен старый огромный стол и в закутке — маленький, где сидели дети. Я сидела за большим столом возле маленького.
За нашим столом брат Виктор рассказывал что-то и потешал гостей, за маленьким его сын Никита тоже говорил детям что-то, и там слышался смех. Иногда этот смех заглушал даже общий гул, и тогда взрослые беспокоились и просили меня посмотреть, что там происходит, а там происходило все то же, что и у нас, только в роли Виктора выступал его сын. Все было просто. Я так и сказала, брат слегка надулся, но скоро забыл свою мину и продолжал веселить всех. За маленьким столом все так же смеялись, колотили ложками и вилками, Никита вставал и, утихомирив всех, говорил что-то, после чего смеялись еще громче.
Старый дом гудел, скрипели ступеньки и перила, на которых, как и мы когда-то, ползали наши дети. Дом был стар, ведь он почти один уцелел на улице, где; прежде были только дачки, и все-таки мне было жаль, что дом кончается и вместо него скоро будет парк и больше ни одного дома на улице, только деревья, кусты и дорожки, сроют и фундамент, не оставят и камешка, даже яблони из сада будут выкорчеваны, тогда не найти будет и места, где стоял дом и дорожки были вытоптаны так, что казались каменными.
Ну и пусть… Ведь этот дом не представляет никакой архитектурной ценности, он дорог только нам, а мы его все равно будем помнить.
Пусть…
РАССКАЗЫ
ДОРОГА НА СЕВЕР
Приходит человек, молодой еще, такой способный, только что о ней шел разговор — ах, талантливая какая, будто создана преподавать, молодчина прямо; приходит она, и начинается разговор странный, почти маразматический:
— Ты видела фильм… забыла, ну с Цыбульским?
— Какой фильм?
— Ну как его… — говорит она, эта способнейшая из лекторов, которая преподает и ведет курс, она, кто, кажется, вот-вот станет звездой литературоведения и всяких там филологических наук доктором или кандидатом, не просто так себе кандидатом наук, которому и дела нет до науки, но погруженным в науку по уши настолько, что до тридцати лет и света не видала из-за библиотек и лекций, работ и прочего, она, всеми почитаемая молодая совсем женщина, тянет:
— Ну, с Цыбульским, как он там называется…
— Цыбульский, — и ее состояние мигом передается тебе, ты с ней вместе погружаешься в этот поток маразма, ты вместе с ней забываешь все на свете — и уже не поднять совсем головы, ничего не вспомнить. Сумятица совсем охватывает нас, и тогда мы просто замолкаем.
Обе сидим молча, не знаем, что говорить, в то время как все понимаем без слов: и какой фильм, и кто актер, и как хорошо, что этот фильм сделан. Все понимаем, ко обмениваемся мыслями, которые никак не обретают слов. Но она этому обмену не верит нисколько, она и знать не знает, что происходит, ей хочется доказать, что ты в маразме, а не она, хотя она знает, что обе хороши, да и не то слово — хороши — нехороши, а в нирване, именуемой некоторыми маразмом, а некоторыми блаженством, и созерцанием, и пониманием без признаков понимания…
Она, тридцатилетний человек, милый внешне и внутренне, вдруг способна сделать черт знает что — отупеть и уныло сердиться на кого-то там, вдруг оживиться до состояния полной вдохновенности и пленить всех, вдруг быть довольно практичной и сметливой, вдруг — женщиной, но женщиной — реже всего. Это и угнетает ее.
Хотя кто может сказать, что именно ее превращает в аморфное и безжизненное существо, подобное старику, тому, кто мне теперь так необходим для портрета. Ведь именно его портрет, великого старика, я задумала сегодня. Его странный портрет, его облик, который так сливается с ее состоянием. Ведь это ему мы звонили и просили рассказать о той далекой операции, которая сделала его имя бессмертным, вошла в учебники, во все энциклопедии. Откройте медицинскую энциклопедию и найдете его имя, все равно какое для нас теперь — Иван Иванович Петров или Петр Петрович Сидоров, все равно как его звали — он так не хочет, чтобы его назвали подлинным именем, да и пусть, но именно его имя, его работа во всех учебниках, его операция. Репонация сустава — кажется, так звучит. Ах, ах, скажут мне, как это, зачем это тогда говорить, коли ничего не знаете о репонации… Да вот звучание слова понравилось, такое рычащее слово репонация.
И вот стали звонить ему с одной врачихой, которая работала с ним, захлебываясь рассказывала о нем, какой он да как делал эту операцию, спас руку человеку, а ведь это так много — рука, которая двигается. Не просто висит плетью, как могла бы висеть, не просто отсутствует, как могла бы по всем законам хирургии, а существует и двигается, и человек жив по сию пору, работает и даже забыл, что мог остаться калекой, забыл, что страдал и не спал ночей, когда его привезли и должны были оперировать, как он старался держаться, старался отвлечься от этой страшной мысли — об ампутации, вспоминал все смешное и нелепое в своей жизни, вспоминал свое детство и озорство, только чтобы не поддаваться общему и страшному унынию перед операцией — и какой!
И еще тысячи операций сделал Петр Петрович. Выпрямлял ноги тем, кто хромал, разбирал суставы и собирал их снова, заставлял двигаться эти неподвижные суставы, вживлял чужие кости, консервированные…
Все это рассказывала мне врачиха, она и сама сделала много удивительного в жизни, но что самое удивительное — до семидесяти лет осталась живой, молодой, полной энергии, сил и страсти жить на свете. Осталась такой, что одно ее приближение к человеку оживляло его, и не только больных, но вот таких ипохондриков, как мы с талантливой моей приятельницей. Так назовем ее — Лохнесское чудище, Несси, а великую врачиху — Марилей, как звали ее в детстве. А Петра Петровича назовем Петром Петровичем, нам все равно кого путать с кем…
Мы с Марилей Ивановной звонили ему и просили рассказать о себе, но он был именно в таком состоянии, как Несси у меня в гостях, он долго говорил:
— Кто это?
— Это я, Мариля Ивановна.
— Ах, Марилечка, здравствуйте, милая… Так что вы хотите?
— Петр Петрович, вы ведь со мной на ты были, в войну и до войны тоже.
— Да, Марилечка, да, дорогая, так что вы, то есть ты? Не больна, о чем ты просишь…
— Я не больна, а здорова пока, тьфу-тьфу, даже и не помню, когда болела…
— Хорошо, а я вот все болен, — и голос его так слабо звучал, будто телефон не работал, но телефон работал, просто голос его слабел. А Мариле так хотелось услышать его тем, прежним, даже властным и уверенным.
— Я хочу увидеться с вами, то есть с… — она запнулась, не хотела говорить с «тобой».
Мариля задумалась — она вспомнила тяжелые и страстные годы войны, весь дух ее, все отношения, когда «ты» говорилось сгоряча, будто в бою, говорилось во время операций, так и оставалось, говорилось во время партсобраний, говорилось во время сводок и особенно во время победы, тогда говорилось, а теперь, спустя столько лет, уже не говорилось. Она задумалась о том, что он болен и сразу спрашивает у нее, о чем она просит, а она хотела только повидаться и воскресить все, что было когда-то сделано, вспомнить — она так любила вспоминать и свою жизнь, и свою работу, и чужую, писала о своей и о чужой работе.
Она сказала:
— Вот пишу про всех нас, и про вас тоже, — говорила и знала, что говорит зря, что он не хочет этого.
И голос его окреп:
— Про меня? — сказал он почти грозно. — Вот уж уволь…
И появились-проявились те властные прежние нотки, проявился весь его прежний дух неукротимый, тот, когда он так смело, так талантливо оперировал.
— Но… почему, — теперь ее голос дрожал, она схватилась за меня, — вот и невестка вашей приятельницы, — и она назвала мою свекровь, с которой он учился, — так хочет о вас узнать и написать, она писательница, она…
— Как это? Катерина — писательница? Да она врач прекрасный, что это она, такая хорошая женщина… писать стала.
— Да не она, а ее невестка…
Она смешалась совсем, замолчала, она не знала, как объяснить ему, я не приходила на помощь, потому что мне только и оставалось что смеяться над всей путаницей, — ну пусть думает, что я это не я, а Катерина Ивановна, которая училась с ним, пленяла его, в юности шутила над ним и всегда рассказывала о нем столько анекдотов.
О том, как они на практике лечили лошадь и, для того чтобы освободить ее живот, придумали такую кружку Эсмарха из ведра, что приходилось влезать на крышу сарая и держать ведро, наполненное водой, и было все смешно, они падали с крыши, и ведро падало, а лошадь вырывалась из рук и сминала ведро; о том, как они приехали в поле и забыли матрасы на базе, послали телеграмму: «Шлите восемь матрасов», а передали на почте «матросов», и им прислали студентов, думая, что там бой с местными бандитами; о том, как Петенька женился, о том, как он готовил яичницу для молодой жены и, спеша, открывал сундучки с ее приданым и тончайшими ее новенькими полотенчиками, вышитыми, помеченными замысловатой меткой, мережкой и прочими кружевцами, вытирал грязные сковородки для скорости, чтобы ей же угодить, ей, прелестной новобрачной, а после, спохватившись, что слишком увлекся, выбрасывал эти полотенчики в форточку, чтобы она не узнала. Полотенчики эти налеплялись на крышу соседнего дома, распластывались там во всей своей красе, и молодая, вдруг увидев все это, пришла в тихое отчаяние, и плакала, и уходить собиралась из дому…
Все это я вспомнила теперь и смеялась, а она молчала или говорила его почти гневные речи:
— Да, да, что? Да нет… Ну, всего вам доброго, всего хорошего, не болейте, берите с меня пример, — и повесила трубку…
Да, ему надо было брать с нее пример, с моей неугомонной Марили, которая как только приходила, так приносила в дом аромат дивных, тончайших духов, бодрости, свежести весенней, радости совсем юной, такого азарта жить на свете, что казалось — ей минуло семнадцать лет. Она гордо говорила:
— Я — удачница, мне везло всегда, — и околдовывала себя и всех кругом, заставляя поверить своей неуемной удачливости — и в самом деле становиться удачливой настолько, что одну ее, например, взяли в ассистенты к Федорову, спутав с другим человеком, одну ее рекомендовали делать странную операцию в области сердца и вынимать куски шинели из сердечной сумки прямо в поле, без всяких приспособлений для такого рода операций. Она делала эту операцию так, как бог велел, почти зажмурив глаза, как она сама говорила, зашила и думала, что больной умрет, а он через несколько недель в волейбол играл и не знал, что с ним было…
Удачливость, бодрость, неукротимое здоровье, радость будто распространялись вокруг нее и передавались больным, к ней шли, шли, ее просили, ей верили, она помогала — мне, во всяком случае, помогала своим присутствием. Я ощущала и забирала у нее ее бодрость, ее тонус, она была как муза.
Приходила — и хотелось работать точно как она сама, которая и по сию пору ведет прием, по сию пору к ней не попасть и помогает бог весть чем — своим одним видом…
И Петр Петрович… Человек, о котором столько слышала, столько даже видела больных, которые молились на его руки, потому что он вернул им суставы, ноги, прекратил их страдания. Видела своими глазами, как хромуша стала ходить, как все. Видела и слышала и его самого, видела еще бодрым, еще таким, когда он работал.
Он был ровесником Мариле.
И вот теперь он был совсем остановлен. Он сидел дома, чаще лежал, его заставляли есть, вставать, ходить на прогулки, и редкие часы консультаций и выходов на работу мало оживляли его.
Приходили весна, лето, осень, наступала зима. Там, в далеком городке, где учился, потом учил сам, потом руководил кафедрой, — были чудесные леса, озера, реки, там был такой простор, такая красота, что никогда, нигде он больше не видал ничего подобного и знал, что лучше тех мест нет и не бывает, что те места заветные; и вот теперь, когда он совсем задыхался в своей чистой, проветренной, убранной квартире, теперь, когда весь озон и все ухищрения освежить воздух, оживить его не помогали, — теперь ему с особенной остротой и яркостью приснилось-привиделось, что он в сосновом бору, там, на берегу могучей реки, у песка, где плещутся мелкие волны, качают лодочку, на которой они приплыли в лес, и тут у опушки, прямо на дороге, и чуть поодаль от нее набрели на такое количество белых, что некуда было деть их, и сняли с себя рубашки, забили все корзинки и корзиночки, кринки и мешки, а грибы все манили и манили в лес, все торчали и торчали из земли.
Будто кто-то решил удивить их и подарить им эту полянку, это его радостное воспоминание… И он решил, что надо поехать туда, непременно поехать на те места. Он их помнил так ясно, что, казалось, и в предсмертный час найдет те грибы и ту опушку. И он встал, прошел по комнате и сказал жене и свояченице:
— Поедем в Борки. Теперь поедем, вот сейчас, ну — решайтесь!
И они проснулись и долго не могли даже говорить со сна, не могли поверить, что он сам, сам решился на такое путешествие, и заволновались, заговорили:
— Это Мариля тебя разбудила и вот устроила нам с тобой возню. Ну что ей? Сама здорова, а мы…
Но они хотели тоже поехать. Ох, хотели, только ведь все надо было продумать: где останавливаться, у кого, кто повезет на машине да на лодке, к кому написать, разве так с бухты-барахты все делают?
— Милые мои, только так и сделать можно, — сказал он, и слабел его азарт ехать, они чувствовали и сами, что тоже слабеют.
— А помнишь, Машенька, как я вытирал жирные сковородки твоими полотенцами голландского полотна, помнишь, что выбрасывал их в форточку, а ты после увидела их?
Он не часто предавался воспоминаниям, тем более в таком тоне, в котором они с сестрой вспоминали, когда склонялись над пасьянсом или над шитьем-штопкой. Не часто он так говорил, и это их даже испугало. Лучше было знать, что он подчиняется одному ритму жизни — встает и пьет чай с молоком или одно молоко, потом идет гулять, потом садится к столу и читает письма и просьбы, читает и отвечает на письма. Потом обедает, потом спит и смотрит телевизор, снова гуляет и снова спит…
Лучше, когда все подчинялось этому раз и навсегда заведенному ритму, в котором можно было тянуть, жить, скрипеть долго — они чувствовали.
И вот неугомонная Мариля позвонила и разбередила его.
— А я помню другое, как этот Паша или нет — Саша жил у нас на даче, как он начал дрова колоть…
Это Петр Петрович помнил сам. Сашу Ладыгина, человека, которому первому сделал он операцию сустава. Саша синеглазый, как девушка, смешливый, острый, угловатый, понравившийся ему всем и больше всего своей живостью, тем, что он должен был вытерпеть все, снести и не подкачать. Нет, удивил он его своим отчеством — Адольфович, отчеством по тем временам таким, что лучше бы его не иметь вовсе, родиться без отца. В те военные годы отчество Адольфович… А как жил отец Саши, что он делал со своим именем?
Да, отец Саши страдал от своего имени. Так это и бывает: бездумно и легко нарекают ребенка таким-этаким именем, которое после вызывает столько всяких эмоций у окружающих, что и не пережить. Каждый раз, называя себя, надо тратить много лишних сил, чтобы иметь мужество встретить реакцию на имя, и быть благодарным тому, кто хорошо воспитан и непроницаем, но в таких случаях, когда человек принимает без улыбки имя, которое так странно звучит в далеком русском городке, где все поголовно только Степаны, Иваны, Василии и Прокопы, ты, называя себя, начинаешь думать, что этот непроницаемый человек все равно внутренне удивлен, он все равно только скрывает свою реакцию, и это тоже надо пережить — чужую сдержанность.
Имя человеческое, нелепое или просто трагическое — в войну — Адольф, — имя человеческое, как много ты значишь, будто бы и не знача ничего, когда все притерпелись и привыкли к нему, ты уж ничего не значишь, но по первому звучанию необыкновенного имени — Радий, Гелий, еще черт знает кто, — ты делаешь человека неуклюжим и страдающим, ты делаешь его почти помешанным, да еще если тебе дан от роду малый рост, смешной нос и детское лицо. И хотя с годами стирается и меркнет имя, но все-таки первая реакция нового знакомого на имя заставляет страдать.
Отец Саши страдал от своего имени, но самому Саше повезло: отчество Адольфович остановило тогда на себе внимание Петра Петровича и именно ему, Саше, он решил делать эту сложную операцию и знал, что Саша вытерпит, и Саша вытерпел, он покорно снес все приготовления, все стадии подготовки и все, что после было; он снес — и стал колоть дрова на даче у Петра Петровича. Как он вспоминал этот глухой и неверный стук топора, когда вышел на крыльцо и увидел, что его больной, еще с повязкой на руке, держит топор, ставит полешко и колет, как он тогда испугался и обрадовался, говорил ему:
— Кто, кто разрешил, кто позволил, ведь еще мало, мало времени прошло.
А Саша ответил смущенно:
— Но мне и не больно совсем, я ничего и не чувствую, как раньше, дома… Правда…
Да, Саша был мужественный человек, Саша умел побороть всякие болезни, мог спокойно вытренировать свою руку, сам постоянно делал упражнения, когда ему и не велел никто. Сердился тогда весь персонал на него, когда Саше приходило в голову делать стойку или выжимать гирю. Никто ему не велел, он массировал руку, спешил.
Ах, тогда Машенька со свойственной ей манерой выражаться красиво сказала:
— Саша, вы хотите раскрыть розу руками, а надо ждать, когда она сама раскроется, право, не нужно торопиться.
Он не любил Машенькину манеру говорить таким образом и в то же время любил. Они всегда спорили о том, можно ли употреблять всякие там забитые обороты: «зеркальная гладь озера» или еще что-то, но у Машеньки это получалось так просто и естественно, она совсем не могла не восхищаться незабудками и лилиями, этой именно «зеркальной гладью», что без своих восторгов не была бы Машенькой, а кем-то там другим — угрюмым и угловатым человеком или такой, как сестра, которая поминутно кого-то одергивала, поправляла: «Не говорите так». Если спрашивали: «Вы крайний?» — она надменно морщилась и говорила: «Не крайний, а последний», и не только это она говорила, но поминутно слышала по радио, в его и Машенькиных словах нечто, что требовало ее вмешательства: «Не надеваю, а одеваю» — или: не «ванна», а «ванная комната», не тот прононс, не там ударение…
Помнилось, как она повела всех в Эрмитаж, чтобы показать новые картины молодых. Там были французы и переводчики, она поправляла и переводчиков, была так агрессивна, что Петру Петровичу было совсем неловко — уж пусть бы переводчик ошибался, чем она выправляла каждое слово и говорила так, будто она сама все на свете ведает, одна и умеет произносить, в чем он сильно сомневался, потому что и в ней и в Машеньке было нечто особенно провинциальное, на все годы сохранившееся, — именно провинциальное неумение жить в большом городе. Они даже и по сию пору редко пользовались телефоном, редко звонили сами не знали даже, что легко и просто можно позвонить в другой город. Часто, если звонили из Москвы, они обе пугались, кричали: «Москва, Москва!», будто это было нечто вроде пожара. Так суетились, когда звонил он в Москву, так спешили его позвать, что вешали трубку в спешке.
В то же время они нарочито подчеркивали всем, что их произношение самое петербургское, переняв эту игру от своей петербургской тетки, которая в свою очередь поучала их когда-то…
Обе они сами учились в Казани, далеко не в Петербурге, но в те поры, конечно, преподаватели были смолянками и произношение передавали, да и языкам учили сносно. Обе они читали свободно по-немецки и по-французски, на что Петр Петрович всегда отзывался насмешливо: «Вам сна нет от французских книг, а мне от русских больно спится».
Правда, они спали тоже довольно крепко, хотя сестра Машеньки часто говаривала: «Заснула поздно, а встала рано, очень рано».
Зато она и днем засыпала рано, а вставала поздно, что старалась скрыть.
Вообще же он с Машенькой очень ладил, и с сестрой тоже. Привыкли и любили свою привычку друг к другу, любили свой ритм жизни и свои обязанности, своих гостей и друзей, одних и тех же за много лет, — не менявшихся, тех, с которыми были дружны всегда, хотя бы за последние тридцать лет — войну и после войны.
Они жили дружно, но вот в последний миг все расстроилось и Петр Петрович вдруг восстал, захотел ехать — зачем? Куда? Что там делать? Все шло по рельсам, как было заведено ими давно: дача — дом — работа, дача — дом — работа. Прогулка по старым тропкам, где каждая травинка известна и каждый камешек тоже. Но явилась Мариля — и все нарушила.
* * *
Он вспомнил те годы, когда еще не был знаком с Марилей, никогда за ней не ухаживал, да и вообще мало кто ухаживал за ней, она была очень деятельная, очень уверенная в себе и отпугивала от себя поклонников, они будто чуяли, что она не столько для них, сколько для себя, ну, может быть, для детей, для науки, но не для них — отпугивала, но сама не пугалась этого своего качества, чем еще сильнее охлаждала всех.
Красивая, живая, веселая, и рядом с ней — никого; так долго она не выходила замуж, а вышла за угрюмого человека, когда сама того пожелала, вышла — и скоро потеряла его, но опять не осталась печальной вдовой, а вдовой, которая нисколько не утратила жизни и радости, но и веселой вдовой не была.
Но что Мариля, он сам никогда почти ни за кем не ухаживал, после того как женился, так любил свою Машеньку, боялся ее, был привязан всем тем, как она существовала, дышала, двигалась, всем милым видом, нежным видом, хрупким — вот-вот заболеет, вот-вот переломится от тяжести бытия, которое будто бы ей не снести, но снесла три беременности, смерть первого ребенка, болезни после родов и стала такой двужильной, какой, в сущности, и была, но он этого никогда не знал, не догадывался, что она вполне могла бы и землю пахать, и сеять, и жать, хотя и воспитывалась в институте благородных девиц, была тонка в талии и шея казалась такой нежной. Он не знал, что когда она взялась строить дачу и распоряжаться рабочими, то и сама помогала им, носила песок и воду, таскала рюкзаки с гвоздями, даже доски на плечах, так ей хотелось скорее увидеть дом, который после церемонно называли ее именем, когда пили чай на веранде с кисейными занавесочками и темные сосенки сыпали хвоинки на белую скатерть, на самовар и в чашечки — тонюсенькие, треснутые, кузнецовские, сохраненные ею. Она пила чай и смеялась от счастья, потому что именно об этом и мечтала всю жизнь — пить чай из тонких чашечек на веранде своей дачи, чтобы старинный самовар, похожий на вазу, стоял на подносе и чуть дымил сосновой смолой от шишек, именно об этом и мечтала, чтобы крахмальная салфетка, специальная, чайная, и ложечки с краями, обкусанными детьми, и дорогой гость — ее приятель — сидел против мужа в плетеном креслице уютно, славно, старомодно, в белых манжетах и своим уютным голосом, рокочущим и многозвучным, говорил, рассказывал нечто веселое, легкое и остроумное.
Казалось, что смысл ее жизни в том и состоит, чтобы в доме было все в полном порядке, чтобы тарелки были чистыми, салфетки, книги и картины всегда были, чтобы земляника и наливки были самыми лучшими, но все это не так было просто, и не только вилки и ножи должны были лежать на подставках, но и много, много всего укладывалось в ее голове. Легко, будто капризно, кокетливо, она могла говорить с издателями, с больными, с начальством, легко, бездумно отвечала редакторам, назначала встречи, регулировала эти встречи и проявляла такую трезвость и хватку, какой и не снилось ему. Он часто хныкал по-детски, стенал:
— О Машенька, душечка, не лезь не в свои дела!
Но она лезла, и он смирялся, считая все это такой инфантильностью, таким детством, не подозревая, что ребенком был сам рядом с ней, что она вела его трудными дорогами и приводила всегда к той поляне, где грибов была гибель.
Но последнее время было уже тяжким и для нее и для него. Они оба устали страшно, они оба болели и тянулись, и не было уже праны, не было ее; ни дача, ни воздух, ни квартира, ни дети — ничто уже не поднимало с легкостью, ничего не хотелось, и было так тускло солнце, так легки дожди, унизительны холода, утомительна жара.
И он все думал о Мариле, о том, что она была той самой жизненной силой, которая двигает горы, сворачивает их, вызволяет больных из тяжелого состояния одним своим видом, дыханием, мановением руки.
Он снова вспоминал те годы, что были годами радости и особенных сил, вспоминал и думал о том, что все тяжелое осталось в прошлом дне, а нынче была только радость, сон легкий и ясный. Он думал, что есть на свете легкий час, а есть смертный час, когда человек не человек, а мешок с отчаянием, человек без движения, а после снова проснешься — и есть силы, воспоминания и все вокруг снова живет.
Ехать или нет? Казалось, что можно и поехать, но будут ли там силы, будет ли лучше, а может быть, совсем плохо станет от дороги, от чужих мест, да еще и в сосновом бору, в самом живительном месте, может стать только хуже, а не лучше — он знал, что так бывает, Машенька тоже знала, что так может быть, но что-то ему подсказывало, что можно, можно поехать и ничего страшного не случится, но он просто заснул после обеда, заснул и спал так крепко, как в юности.
Он вспомнил или увидел во сне — уже не мог разобрать, где сон, где явь, — кажется, вспомнил, что они с Катюшей, с Катериной Ивановной и ее мужем писали смешное письмо домой, просили денег у родителей и советовали им, еще не совсем старым в те годы, потрясти дядюшку, вдруг из него просыплется золотой песочек, просили денег, хотели есть и играли в смешную игру: «Я вижу твои сны» — придумали, что будут угадывать сны соседа, и в самом деле иногда угадывали их, может быть потому, что сны их были однотипны: они видели во сне, как им прислали денег и они пошли в ресторан, где съели столько стерлядок и пельменей, что и не могли встать, снилось, что они едут по Волге в роскошном люксе, снилось, что они открыли вирус рака, что они получают премию, их чествуют, они едут в Кембридж, а на самом деле они ехали только в свой заповедник, где были земляничные поляны, крупные клубничины в осоке и пение птиц…
Как бы дорого он дал теперь, чтобы снова вернуть себе те сны, тот голод, тот смех и то веселье, ту радость от света и запаха травы… Сколько премий и званий он отдал бы за те годы, когда все кругом смеялось и было прекрасным и даже лепет и сюсюканье девчонок не раздражало, хотя и раздражало отчасти, но только в той мере, которая кончается разом от первого прикосновения той же девчонки к твоей руке… Так мало было надо: взять Машеньку за руку, заглянуть ей в глаза — и уже горячий ток пронизывал всего до пят, ударял румянцем в лицо, кудрявил волосы.
Смешные времена! Треньканье Машеньки на рояле, на разбитом рояле, песенки и романсы, которые теперь вызывают дрожь отвращения, тогда шевелили такие чувства и вызывали потоки страсти, которую они скрывали, и говорили о романсах этих насмешливо, издевались над словами: «Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали», и казалось им, что рояль не может быть весь раскрыт, а только может быть открыт слегка, приоткрыт, или весь рояль был раскрыт и их насмешки были чужими, как и сны, которые они угадывали…
Они декламировали Фета и чувствовали себя при этом детьми, чего стыдились, и свое раздражение распространяли на стихи, будто бы их раздражающие, а на самом деле раздраженными были они сами. Эти стихи никого теперь ничуть не сердят, не раздражают, как и все на свете, если ничего не болит, или сердит все, от музыки до солнечного света, пока не пройдет спазм в голове…
Да, теперь он мог принимать все: и все стихи, и все звуки, они скользили мимо него, скользили, не задевали ничуть. Раздражение не приходило, только воспоминание о нем…
Раздражение было как талант, раздражение давало вспышку, которая передавалась голове, рукам, придавало страсти и переходило в страсть, обращенную в дело.
Теперь раздражение переходит только в тошноту и немоту.
Раздражение не нужно. Оно просто угнетает, его только снимают разными лекарствами, глушат, и тогда остается почти бессмысленное существование.
А работа шла своим чередом, он мог сидеть и править гранки, мог отвечать на вопросы, мог спокойно продолжать делать то, что знал давно, что было ему известно, просто, но разве теперь он мог бы решиться на то, что сделал?
Смешно… Он и не решался вовсе. Он просто сделал, это теперь ему кажется, что решился. Он тогда все просто знал, все просто подготовил, просто… Все было просто тогда, как нынче сложно решиться поехать.
Теперь он всегда говорит уклончиво и осторожно, никогда не говорит прямо, даже простые вещи ему кажутся сложными, таят опасность.
— Ты хочешь супу или сок будешь пить?
— Что?
— Супу или сок морковный?
— А что — суп?
— Суп — суп.
— Какой?
— Тоже с морковкой, овощной с капустой. Ну — решайся…
И приходит сразу смех сквозь слезы: суп с морковкой или морковка без супа. Решаться… Он смеется довольно долго. Решается или размышляет. Смеется так долго.
— Я — решился… Суп. И сок могу тоже выпить.
— Будет много жидкости, тебе нельзя.
— Мне все можно. Все, понимаешь? Мне нечего бояться, право, в моем возрасте… Все можно!
И разом снова не то: если не бояться, то и не протянуть, а если опасаться, то можно протянуть. И надо тянуть или не надо?
Надо.
И они решились. Так вот взяли и решились, купили билеты и без письма, без предупреждения поехали. Так вот без всяких приготовлений поехали все трое, забыв про Марилю, про меня и про мою приятельницу, забыв про то, что негде остановиться и никто не устроит — какие там друзья остались в городе? Кто жив — кто знает? Никого. Взяли вот и поехали. И ехали они легко, как в юности. Смеялись в купе и обедали в ресторане, смеялись и играли в шашки, как играл их сосед, угрюмый человек, который даже не спросил их имена.
На станциях продавали моченые яблоки и бруснику, продавали картошку и грибы, и было это все такое знакомое, такое близкое и далекое — и бабы в платках, повязанных крест-накрест, и говор, и утренний туман, и лес. Все было таким знакомым, и даже звон на перроне был прежним, как в те давние времена, когда они ездили в Москву с Машенькой, так долго, так трудно ехали. А теперь они уже подъезжали к своему городу и боялись увидеть его совсем другим. Но они приехали на вокзал, старый, прекрасный вокзал, такой, как прежде, и Машенька, которая прекрасно спала все время, вдруг заснула перед самым приездом, а проснувшись, воскликнула:
— Как? Уже приехали, и все то же, как прежде?
Да, все было здесь, как прежде, только не было встречающих, только не было друзей на вокзале, не было извозчиков и почтительных носильщиков, а только тележки с грузом и одинокие пассажиры.
Они сели в такси и через несколько минут были уже возле гостиницы — старой и плохонькой гостиницы, но такой знакомой, такой, что слезы навернулись у всех на глазах, — пахучая, скрипучая гостиница встретила их чистыми полами, холодком и запахом талого снега, как им показалось, но это был запах воды, той воды, которую они забыли совсем. Она была особенная, их вода, они знали ее вкус, цвет и ощущали ее жесткое, но великолепное притягательное свойство — быть живой водой, от которой они все молодели, хотели мыться без конца и даже брызгаться, как в юности…
Они мылись и смеялись: и кто бы мог подумать, что они так боялись ехать, так опасались этого путешествия, этой поездки к себе домой.
И принесли им чай. Круглолицая и светлая девушка с певучим и старинным говорком, который тоже бередил душу, принесла чай так тихо, так скромно вошла, будто сенная девушка, и даже зарумянилась, когда увидела, что Машенька, в ночной кофте, в рубашке, смеется, утираясь полотенцем, заливается детским смехом и щекочет Петра Петровича бахромой полотенца. Она уже знала, что он генерал, врач, она даже знала, что он жил здесь прежде, и относилась к ним с таким трепетом, с таким удивлением; когда ставила в карточку для приезжих дату его рождения — тысяча восемьсот девяносто первый год, у нее рука дрогнула, и она быстренько позвонила своей приятельнице, а та — своей, так и выяснили, что приехал Петр Петрович, тот самый, он, что жил здесь столько лет, а теперь приехал; и хоть несколько номеров было свободно, но им казалось, что для него все плохо и надо гостиницу новую, что на главном проспекте, и вообще всем надо сказать, что они приехали…
И утром знали это уже и обком, и горсовет, и мединститут…
Все знали, а они спали себе тихо и ничего не знали, они видели во сне, что заблудились в лесах, набрали грибов и бредут себе в траве, собирают рыжики и горькушки, садятся на полянку и едят бруснику с веточки. Они видели во сне это так явственно, а их ждали уже на консультации и обеды, их ждали, чтобы повести а институт и показать новые лаборатории и операционные, их ждали, чтобы провезти по лесам на машине и подарить грибы сушеные и соленые, свежие и маринованные, пригласить к тому-то и тому-то на дачу, подарить рефераты и книги, попросить о том-то и о том-то, их ожидало то, чего они боялись смутно.
Для Машеньки то, что было здесь, все это было близким, хоть и далеким, из тех времен, когда они с сестрой, с мамой, с отцом приезжали сюда на дачу, жили здесь летом, осенью, и теперь ей так хотелось найти тот дом с длинной верандой, ту легонькую лесенку — след к реке, качели и березы, которые она помнила, черемуху — воздушную, светлую, дорожки в лесу и тропинки. Но ничего этого уже не найти было. Она знала, что не найти, хотя город был не так уж велик и растянут вдоль реки и шоссе — все тянулся и тянулся и все новый и новый, с высотными домами, стоящими точно так, как и у них в новом районе Ленинграда, только лес и деревья были лучше, выше, но все остальное было точно таким и так же расположено.
Но она пошла искать и искала так долго среди поворотов набережной те места, где стояла эта дачка, четыре дерева и легкие качели, на которых качались утром до завтрака, и, чувствуя острый голод и особенную голодную резвость, бегали купаться, а потом, холодные, с мокрыми косами, согревались на веранде и утягивали друг друга в корсеты так, что казалось, вот-вот переломятся в талии, и мама с недовольным видом звала их завтракать и оглядывала их: «Для чего так затянулись, для кого?»
В самом деле — для кого? И они отвечали: «Для себя!» — ничуть не кривя душой. Кто приглашал на вечера, на пикники, на чтения — кто? Студенты, очень обыкновенные, очень-очень… И в то же время, когда она принимала приглашение и ехала, когда она ждала на дачу к себе в гости, когда сама ехала с мамой, то оживлялась вдруг, ни с того ни с сего оживлялась, и смеялась, и делала совершенно непроизвольные поступки, как в тот день на даче у Мешковых, этой чинной даче, где ждали обеда так долго и прохаживались по веранде и вдруг она, Маша, видя, что принесли десерт — пирог с черникой, такой вкусный, дивный пирог на желтой фарфоровой, будто из соломки, вазе, — не удержалась и взяла кусок и проглотила, почти не жуя, — маленький кусочек, но как он захрустел на зубах сахаром, как брызнул чудным соком. И она, сама сдержанность и послушание, она стояла и ела пирог до обеда, а потом почти не ела совсем, не разжимала губ, чтобы не обнаружить черноту на зубах от черники, и не могла дождаться, когда же дадут этот пирог наконец, хотя столько всего было на столе — и икра, и стерлядь и всякая всячина, коей теперь и не вспомнить даже названий. И рыжики, и куропатка с брусникой, и все, что так хотелось съесть только что, но она перебила аппетит этим примитивным черничным пирогом, простым пирогом.
Зато все маменьки говорили после: «Вот Машенька ничего не ела за столом, только пробовала, потому и стройна, и чем питается — воздухом?» — «Идеями», — острили дочери.
Идеями? Что-то она слушала, когда вокруг нее толпились и рассказывали ей ее поклонники, что-то читала, понимала, но не идеями была сыта, не идеями, а полнотой жизни, всем, всем — березами, которые тихо летели по ветру, мешались с ветром, острым счастьем весны, морозцем, когда садилась в сани и ехала на вечер и легкий шелк лент и плюш веселили кожу, и ощущением своей молодости, свежести, и здоровьем. Даже полнотой своего голоса, когда утром произносила обыкновенное «здравствуйте» и мама и отец улыбались ей и подставляли щеки, чтобы она целовала их, а потом шла по тенистой дорожке и снимала шляпу. Солнце обжигало щеки и плечи, руки. Она загорала и глядела на лес и скат к реке.
А они, все, кто был рядом на вечерах или в доме у них, были будто бы совсем чужими, так все не нужны, чужие, и в то же время они составляли фон и входили в тот круг ее счастья и жизни, без которых ей не дышалось.
О, она любила дышать глубоко, роскошно, свежо. Утром просыпалась и вдыхала запах смолы и росы, запах чистого белья, воды и ветерка, она различала те малейшие оттенки запахов дачи — старого и свежего дерева, старого, когда оно пахло яблонями и медом, мхом и лесом, молодого дерева — острый, дивный дух земли, прелести жизни и света. Она любила вымыться или выкупаться даже, смыть все лишнее, что ее сердило, выходила из воды совсем свежая, свежее ветра и воды, и надевала только чистое — каждый день — старое батистовое белье и такую же блузочку. Она затягивала пояс и шла по тропинке, задевая ладонями листья и сухие веточки.
У нее были свои дорожки, свои любимые места, где цвели пахучие кусты или осенью горели ягоды. Она ходила именно этими тропинками.
А как она любила снег, дивный его запах и вид, будто вся свежесть мира соединилась в нем, снег по пояс, снег невесомый — в воздухе, снег яркий, слежавшийся, лоснящийся и резкий, веселый, вдруг вспыхивающий на солнце. Она знала все оттенки его цвета и не любила только одного — унылого, черного снега весны, когда он кончался, будто умирал, зато обнажалась земля, которую она тоже знала, как ей казалось, лучше всех, по крайней мере могла рассказать о ней лучше других, когда из-под снега появлялась она, эта черная, живая, пахучая земля, и тянулись первые ростки, сразу из-под сугробов, такие фантастические завитки, которые, казалось, станут после огромными, невиданными доселе растениями, а оказывались простыми травами, когда обнажалась эта земля Маша дышала так глубоко, так радостно, что боялась — легкие могут разорваться, как воздушные шары. Но легкие оставались целы, она просто дышала, видела, слышала каждую мелочь, каплю и хвоинку, всякую букашку, замечала и тонкую резьбу коры, по которой, шурша, ползали муравьи. Она радовалась им и говорила про себя: «Вот и весна, вес-на!»
Было у них в доме просторно и просто. Велика была свобода и простота, обыкновенность и необыкновенность всего, что происходило.
Отец, мама, сестра. Отец и купцы, подрядчики, лесники, все те, кто приходил к отцу за советом, за делом и без дела. Его суровое отношение к тем, кто смотрел на лес с точки зрения своей выгоды, хотя сам он к лесу относился только деловито, без всяких сентиментальностей, хотя скрытое особое ощущение леса, то необыкновенное, что она чуяла и проявляла, было и в отце тоже, но он не говорил и не любил того, что она говорила о лесе.
А она конечно же говорила-щебетала — бывало с ней — так именно, то есть восторженно и сладостно, но было и другое ее понимание, когда она знала то, что никто, кроме нее, не знал, только она и отец, — ощущала, как сохнет лес без дождей, как он дрожит или радуется. Она ощущала его трепет и радость, его жизнь и знала, что отец тоже это знает, только говорит все своими скупыми словами, говорит, будто молчит.
Ох, он не любил говорить, вообще мало говорил, и для него с матерью было пыткой ходить в гости и там беседовать, вести веселые разговоры о том о сем. Машенька же умела беседовать и даже любила, как, в сущности, любила многое, например пироги с черникой. Просто любила вечерние чаепития, питье молока с черничным пирогом, когда она, веселая и накупавшаяся, радостная, хотела есть, есть, дышать и чувствовать свой голос, который, казалось, тоже щекотал горло, веселилась и передавала свое веселье всем за столом. Отец, и мать, и сестра тоже заражались ее радостью и аппетитом, без нее не садились, ждали.
И она приходила-прибегала, смеясь и лопоча что-то — не то песенку, не то просто нечто, вроде тарабарщины: «Чики-лики-мики-лики, по кусту, по насту, по лебяжьему укасту, щучка, плетка», — детскую считалочку, смешную и бессмысленную, — так надо было для настроения не только своего, но и их — она берегла их настроение.
А отец был рад следом за ней, и казалось, что он только и живет этим ее настроением, и когда она вянет, когда она унылая и сердитая, даже плаксивая приходит домой, то отец тут же сердится, даже кричит, как, бывало, он кричал с купцами, которые торговались, хитрили, старались урвать, подсидеть, перехитрить и радовались своим уловкам, а отец выходил из себя.
Машенька, знала, какой он чудак — отец, и Афанасий Михайлович, его друг, — тоже, она знала, что все они слегка чудаковаты, и она сама, хотя она и прекрасна. Она это тоже знала. Любила себя, любила смотреть на себя в зеркало, свое овальное милое зеркало, такое четкое, с фасеткой по краю, глубокое, необыкновенное зеркало, в котором она была не совсем той, которую знала, ощущала, а той, которая была для зеркала, и это зеркало делало из ее лица портрет и обрамляло его.
Она разглядывала свои чистые белки глаз и темные глаза — какого цвета? Разные. То с синевой, то с зеленым отливом. Если накинуть синюю блузку — синева отчетлива, если зеленую, то светится зелень, разглядывала свою чистую кожу, все оттенки белого, желтого и розового загара, затягивалась так, что и дохнуть не могла, потом распускала шнуровку, поворачивалась вдруг боком к зеркалу и говорила себе и всем: «Для меня никого нет…» — не добавляла страшного слова: «равного» — это было бы уж слишком, это было бы так, как отец не любил, не мог слышать даже, отец и Фон Мих тоже, хотя Фон Мих мог бы от нее все стерпеть, она это тоже знала.
Они с сестрой прозвали его так: Афанасий Михайлович было так долго произносить. Они и щенков его тоже крестили и называли просто: чистопородную колли — Козликом, таксу — Ваксой, только потому, что слышалось в слове «колли» — «козлик», а «такса» — «вакса».
Ах, какое это было утро тогда, когда принесли щенков и показали им — теплых, толстых, смешных.
— Кто это? — спросили они с сестрой.
— Коллики, — отвечал Фон Мих.
— Кролики?
— Коллики.
— Козлики?
Так и остались щенки — Кролик и Козлик и выросли красавцами, странными, длинномордыми, похожими на змей. Любимцы Фон Миха, этого богоподобного Фон Миха, к которому ехали на пролетках и телегах, в своих колясках и пешком больные, за много верст — ехали, ползли, стремились, верили, что он один может исцелить, воскресить, вдохнуть жизнь, заставить биться сердце. Верили, что он взглянет и все поймет, увидит и сразу определит. Да так и бывало. Он действительно мог поставить диагноз мгновенно и один, не требовал ни консилиума, ни долгих исследований, он шел к больному с открытой душой и сам проникал в его душу, она открывалась чудом, будто он должен был один на свете это мочь, никто кроме него.
Но не все получали исцеление, не все могли и попасть к нему, ко многим он был беспощаден и даже груб. Мог выгнать совсем или заставить толстого купца пилить дрова, а его дочку складывать поленницу так, чтобы красные осинки лежали с березой и вышло на белом фоне имя «Машенька». И было в этом немного самодурства, но и толк в этом был, потому что купцу и его дочери надо было спустить вес. Больше ничего им не требовалось, особенно дочери, которая уж конечно не могла упасть с апоплексическим ударом, а купец мог.
Но Фон Мих умел исцелить, прооперировать трофическую язву на ноге, которой страдали много лет, и в десять дней поставить на ноги, мог и снять катаракты с глаз, и слава о том, что кто-то прозрел, встал на ноги, переливалась легендой. От простой катаракты она становилась чудом прозрения вечно слепого, а язва и хромота превращались в новые ноги. Будто бы не было ног, да он их пришил или вырастил заново.
Вечерами, когда приходил Фон Мих и дома все сидели за чаем, то злословили беззлобно на эту тему, вернее сказать, шутили над всеми купчихами, которые верили, что доктор пришил ноги безногому и заставил видеть безглазого; думали ли они тогда, что его ученик и в самом деле сделает это: пришьет руку, заставит двигаться сустав — и в самом деле сделает чудо. Тогда не думали, потому и посмеивались над всеми, кто слепо верил сказкам об Афанасии Михайловиче.
Ленивые разговоры за чаем…
Какие они были прекрасные, когда Машеньку клонил сон, она почти была уже во сне, сидела с закрытыми глазами, подремывала под разговоры, которые могли вдруг разбудить ее, потому что были о ней самой, когда мать вдруг говорила:
— Надо Маше в приданое серебро покупать, вот ложечки видела.
И отец взрывался:
— Серебро? Золото? Для кого? Так не возьмет Марью никто? Заморскому принцу серебро? — и весь наливался кровью, багровел.
Мать испуганно оправдывалась, потому что не ее это была затея, а так делали все кругом, и она была не так уж оригинальна, а как все.
Фон Мих старался примирить их и рассказывал что-то смешное: как приняли человека в халате, его работника, за доктора и просили его принять роды, и он не мог даже отделаться от них и бежал, а бабы бежали следом и кричали и ловили его…
Маша смеялась в своем полусне, смеялась и просила непременно вместе с серебром доставить и жениха.
— А серебро доставят на дом? — спрашивала она.
— Конечно, — говорила мать и поглядывала на отца.
— И жениха вместе с серебром?
Отец уходил и приходил, бросал отрывистые фразы, багровел и бледнел — Маша все смеялась, мама украдкой вытирала глаза, отец вдруг говорил:
— Отдам Машку за Афанасия!
И Маша просыпалась, сыпалась смехом, падала от смеха — за Афанасия! Фон Миха, за него — а что, почему не за него?
Сестра испуганно глядела на всех, но только мать чувствовала, что весь этот разговор, тяжелый и глупый, сцена, которой она так боялась, не может кончиться добром. После такой сцены или подобной ей отец побагровел и упал с ударом, а после был еще один удар — и смерть. Маша всего этого не знала совсем, не понимала, не хотела понимать. Знала только, что мать очень тревожится и что не надо было спрашивать про жениха.
Маша вставала, уходила — гордая, надменная, знающая себе цену: знала, что найдутся женихи сразу, как только ей того будет нужно, а не то, что хотят другие — мама и отец…
Была в ней эта спесь, а может быть, и не спесь, а уверенность в том, что она будет счастливой все равно, будет, как был отец, как была мама, будет счастливой вопреки всему, даже тому, что грядет.
Все было шуткой, все было просто, и в то же время осталось в голове: «Отдам за Афанасия», и она думала, отрываясь от чтения, об этом: за него выйти, что это — смешно? Не нужно?
То, что думала она, было понятно, но и он об этом думал. Он, вдовец сорока лет, похоронивший красивую взбалмошную жену, дочь владельца парохода, которая привыкла плавать с отцом по Волге и Каме, привыкла делать все, что хотелось, жить в чаду, петь цыганские романсы, рядиться и ездить в гости, жить на богатых дачах месяцами. Она все время уезжала от Афанасия, не желала детей, не хотела сопутствовать ему, то звала его в Париж, то на воды, его, которому некогда было дохнуть от своих дел и больных, от лекций и статей, консультаций, учеников и лабораторий.
И она умерла на юге — от простого аппендицита, так и умерла без него.
Теперь он был доволен своей старой экономкой, Софьей Петровной, которая умела готовить рыбу и варенье из малины, заваривать чай, как он любил, и выращивать спаржу в теплицах, а в капусте хранить до пасхи свежие огурцы и морозить землянику в колодце, так что, когда он усталый и голодный приходил домой, она встречала его свежая, веселая, с блюдом расстегаев с визигой, он ел их и погружался в блаженный сон, после чего мог работать до двух часов ночи: писать статьи и читать чужие, спорить с кем-то или выступать в защиту. Он был счастлив совершенно, но когда Машенька, смеясь, говорила, что именно за него только и пойдет, тогда он вдруг мог поверить таким бредням и ни с того ни с сего считать, какая между ними разница — двадцать лет, меньше? Сколько ей? А ему? Он вдруг ни с того ни с сего мог заехать за ней: «Хочешь, в книжную лавку подвезу? Я в больницу, а ты в лавку, и назад привезу», — и она радостно соглашалась: «Да, да! Спасибо! Сейчас!» — и бежала надеть самое свежее, только сшитое, вышитое собственной рукой платье — тончайшая мережка до самого подола, — ехала с ним, закрывая лицо газовой косынкой — невольно, как его жена когда-то именно так закрывала свое тонкое, холеное лицо от ветра и пыли, склоня голову, как она, и поводила глазами надменно, гордо — точно как жена.
И Афанасий замечал это, улавливал, она ранила его невольно страшно, но в какой-то миг она отбрасывала косынку: она, загорелая, румяная, совсем не была похожа на ту женщину, совсем. Она была без фокусов, но в тот день ей было тревожно и радостно, и, когда она проезжала мимо витрин и из магазина выходила Наташа Мешкова в новой шляпе и накидке — такая нарядная, элегантная и махала ей рукой в длинной перчатке, Машенька сначала опешила, а потом вдруг всплакнула, думая о том, что никогда, никогда ей не купят такой шляпы да она и не мечтает о ней, не мечтает даже, всплакнула — и Афанасий заметил это и поразился, а ей совестно было сказать, что видение новой Наташи в легкой шляпке так поразило ее в самое сердце, и она сказала, что сойдет здесь вот, в гостиных рядах, и сошла, вошла в шляпную мастерскую и примерила шляпу, которая так шла ей, будто родилась для нее. И, стоя перед зеркалом, снова готова была заплакать, пока не увидела его в зеркале, он смущенно смотрел на нее и все понимал, мигал мастерице: «Мы возьмем эту шляпу!» — но вслух не говорил ничего, только смотрел и смотрел. Ему было так весело и так приятно купить ей эту шляпу, состоящую из кружев и воздуха, тени и света.
Ему хотелось подарить ей эту шляпу, но она решительно ее сняла и оставила: «Нет!» — и властное, отцовское выражение ее скул и глаз испугало его: «Нет!»
— Ты дурочка, — сказал он миролюбиво, садясь в коляску, — ты маленькая дурочка! Это ведь не шляпа, это серсо, которое я дарил тебе два года назад, помнишь? Мы ехали с тобой, и я купил тебе серсо.
Она засмеялась, вспоминая, но слезы все еще стояли в глазах, и именно в тот момент к ним подошел, подбежал Петр Петрович, Петя, Петенька, юноша со светлым лицом, весь озабоченный, ничего и никого не видящий, кроме Афанасия, его Бога, его руководителя, кинулся как барс на него и заговорил, не обращая внимания на нее — ничуть, нисколько, будто она была Козликом или Кроликом Афанасия, его собакой, и Афанасий, все еще не стряхнувший с себя обаяния шляпной мастерской, где пахло дорогими духами и пудрой, пахло будуаром его жены и свежестью полотняного Машиного платья и волос, он, все еще оживленный, помолодевший, не вдруг прервал поток речей Петеньки и представил ей Петеньку, недовольно и рассеянно, будто предчувствуя, что́ из этого выйдет. И Петины синие глаза, белые зубы, небрежная манера обращения с Козликом-Машей — собакой Бога — рассердили Машу. Она глянула на него тем взглядом, который всегда действовал на поклонников: «Я не для вас. Я сама по себе, хоть и понравлюсь вам, но вы не тот, кто мне назначен…», — но Петенька не уловил всего, хотя после, много после, уловил, понял всю прелесть этого взгляда и Маши — без шляпки и все-таки разящей, великолепной, самой лучшей — и уже спустя несколько дней, среди потока речей теперь уже со стороны Афанасия, спросил вдруг:
— А кто с вами был тогда? Кто эта дама?
Афанасий понял все и даже не стал продолжать разговора о том, что их волновало только что. Он снял пенсне, протер его медленно, поправил манжеты и сказал торжественно:
— Это дочь моего друга, самого лучшего человека и ученого, это Ма-шень-ка, она выросла вот, стала красавицей… Вы недавно у нас, не знаете ее… Я вас свезу к ним, вы узнаете, что это за люди.
Петр Петрович был у них недавно. Из Петрограда он попал к ним, к Афанасию Михайловичу, и сразу погрузился в его круг дел, сразу оценил и все мануальные его высоты, и всю его прозорливость, интуитивную и опосредованную вершину его способностей. Он был настолько восторжен, он видел в нем Бога и делал из него Бога, у них была тончайшая связь понимания друг друга, связь, которая должна была теперь оборваться. И она обрывалась. Он вез его к ним.
И она подошла к нему веселая, беззаботная, она — без шляпки, без своих мгновенных слез, без тех ужимок, что вдруг взбрели ей в голову, когда она ехала с Афанасием, она такая, как должна была быть — ровная, спокойная, будто бы только из сада, с полотенцем в одной руке — протирала чашки — и ложкой в другой. Машенька встала им навстречу, и Петр Петрович, смущенный, посветлевший, еще более привлекательный теперь, видел только Машеньку, а не Афанасия Михайловича, который позже, после пирогов с капустой, совсем не заснул, а думал, что Маша тогда исполняла невольно роль его покойной жены, исполняла бы ее так или иначе всегда, потому что он так хотел и боялся этого, он настраивал бы ее на это, и лучше было бы не начинать эту старую игру в прелестную и молодую жену, которая ведь должна была существовать на свете для него, бога и вседержителя, такого великого врача, — самая красивая и молодая жена, любимая.
А они с Петром Петровичем и не кокетничали совсем, не говорили ни о чем — ни о медицине, ни о книгах, ни о деревьях, ни о чем таком, но все в доме знали, чуяли, что он, Петр Петрович, Петенька, бросил свои работы, не ходит даже на кафедру уже который день и превращается в поклонника, волокиту, все знали, все, и сестра плакала, отец сердито, молча обедал и уходил, Афанасий не приходил, пока, наконец, отец не сказал при Петре Петровиче жестко, сердито:
— Ну что ж, продолжим разговор о серебре.
И мать, испуганная его резкостью, суетливо и быстро заговорила о том, что, вероятно, в Петрограде у них в доме, у Петра Петровича, все на широкую ногу, у них государственная квартира, вдруг стала такой провинциальной дамой, что Маша и отец засмеялись, не сговариваясь, и прервали мамин монолог, даже вышли из-за стола, а Петр Петрович долго помогал матери выпутываться из ее сложного положения, иногда посмеиваясь, иногда сдерживая себя, потому что их самый средний петроградский дом был действительно казенный и хороший, но далеко не богатый, вероятно дом Афанасия Михайловича куда лучше и богаче.
Они говорили с отцом мирно и просто, хотя Маша знала, что отец не хочет ее замужества, но понимает, что Маша хочет его и будет все, что она захочет. И отец смирился совсем.
Но где, где все это было? Где была дача, где дорожки из вереска, лес, встающий за дорогой, где были солнечные поляны?
Она шла дорожками, сворачивая влево и вправо, лес вставал огромный и перестоявшийся, как сказал бы отец, лес был не чищен, но прекрасен, как и прежде, даже лучше, но не тот, не тот, и ничего не напоминало ей ее прошлого, ее мест, и вдруг перед ней встала стена — плотная стена из цемента, здесь, среди леса, стена с крюками и проволокой, она огораживала завод, а лес стоял, будто это его не трогало ничуть, будто не было стены и труб у завода, будто здесь не ходили люди с работы и на работу, он стоял, как прежде, — чистый, светлый, тяжелый и легкий, лес ее отца, ее лес, ставший теперь заповедным, ставший уже парком этого городка, поглотившего ее дачу, ее тропинки и дорожки.
ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ
После четырех лет войны, голода часто вспоминали с Олей: Миша Кирзнер погиб, Михайлов умер, тот пропал без вести, тот… Так что из всего класса, где было сорок человек, осталось всего двадцать, и все девочки. Все будто рассыпались, исчезли, будто стали меньше или даже стали совсем невидимы, а если и встречались, то казались совсем другими людьми.
Все потускнели после войны, и только один не исчез, не потускнел, остался, хотя совсем не появлялся среди нас и не искал нас, но был, существовал, даже присутствовал и поражал нас.
Всего один мальчик, Володя Фомин, Фома, окончил школу в четырнадцать лет, сдал за десятый класс, поступил в университет, кончил его и сразу защитил диссертацию. А в двадцать с небольшим защитил и докторскую, был упомянут в газетах среди лауреатов. То есть он стал лауреатом в те годы, когда мы — некоторые из нас — все еще учились в школе рабочей молодежи, пропустив несколько лет ученья во время войны и блокады. Он был уже известен всему Союзу, а мы все еще учились, переходили из института в институт или бросали свои десятые классы перед самыми экзаменами и снова принимались учиться.
Он стал лауреатом, и это знали все, кто вдруг, случайно встречался на улице, говорил и говорить было уже нечего, но тут же оживлялся, если вспоминали Фому. Говорили так:
— Кирзнер погиб, Михайлов погиб, а он вот… Подумать только — лауреат.
Хотя все всегда очень любили Фомина и знали, что он самый талантливый в классе, что он, безропотный отличник, часто решал два варианта контрольной и рассылал всем свои решения и все списывали, не сомневаясь, что решено правильно. Он, ходячая энциклопедия, всегда знающий все, что у него спрашивали мы и на уроке, он, переводивший за всех, помогавший всем, трудился так до самой войны, но все-таки ему не прощали.
Ему не могли простить его взлет и почему-то особенно жалели Мишу Кирзнера, рассказывали о Мишиных подвигах в повышенных тонах, хотя никто толком не знал, как погиб Миша, но все говорили, что он погиб во время налета, спасая и выручая кого-то — кого? Ведь не Фому?
Может быть, так все и было, и Миша спасал кого-то, но при чем здесь был Фома? Почему рядом с именем Фомы возникало Мишино имя, будто Миша ради него и погиб, заслонив его своим телом, чтобы Фомин выжил и стал тем, чем стал.
Да, Миша тоже был очень способным мальчиком, тоже учился очень хорошо, вообще был прекрасным человеком, но ему не пришлось защищать Фому, тот уехал в ноябре или чуть раньше вместе с отцом и всей семьей куда-то в Сибирь, в Свердловск, и там учился и сдавал экзамены так быстро и блестяще.
А Миша погиб в тринадцать лет, и Михайлов тоже.
Кому бы из нас пришло в голову, что Миша, спокойный и веселый человек, через несколько месяцев погибнет, а смешливый и беспокойный Михайлов — тоже и их надо будет вспоминать, а не дурить с ними, как мы дурили, что надо будет ревновать Фому, оставшегося в живых, к ним — мертвым.
Володя Фомин не интересовался нами, мы знали, что он совсем не помнит о нас, что если бы встретился, то прошел мимо нас и не узнал совсем, или если бы узнал, то все равно не стал бы с нами разговаривать, как прежде, он и прежде не очень любил с нами долго разговаривать.
В сущности, мы всегда завидовали ему, существующему отдельно от нас, от нашего кавардака и веселья. Мы и тогда хотели утвердиться рядом с ним, столь крепко стоявшим на ногах, мы, порхающие в своем вечном безделье.
Сколько раз было, что я отвечала прекрасно, хотя прочла страницу всего до урока, на перемене, или не могла ответить, когда знала что-то очень хорошо, но начинала издалека, и учитель прерывал меня, думая, что я просто тяну время, чего он терпеть не мог. Он прерывал меня подозревающим тоном, и я вступала с ним в спор, начинала конфликт, который выражался пока только интонацией моего голоса. Учитель улавливал дерзкую ноту и начинал сердиться, нервы его привычно натягивались, потому что не одна я требовала его терпения, а сорок таких, как я, помноженные на три требовали, потому его нервы не выдерживали и он не мог совладать с собой, в то время как я только развлекалась. Я едва вступала в игру и мы все, а учитель уже выдыхался. Мы начинали входить во вкус, а учитель уже изнемогал, и разражался скандал, война, когда кого-то вызывали к директору и разбирали дело и в воздухе стояли тишина и напряжение, ждали, что там будет у директора, хотя прекрасно знали, что ничего сверхъестественного не будет, все равно повторяли магические слова: «Вдруг выгонят…», хотя никого еще не выгоняли.
Вся эта история заставляла волноваться, шуметь, главное — шуметь, создавала непереносимый эмоциональный тон, все при этом глупели, страсти становились все мельче и мельче, никто уже не помнил, из-за чего все стряслось, никто не работал.
И только Володя Фомин всегда стоял в стороне от этих страстей и никогда не принимал участия в конфликте. Он сидел и делал свое дело: читал или решал — и не наблюдал даже ни за одной из сторон. Он не выражал сочувствия пострадавшим, не говорил о том, кто прав или виноват, не позволял вовлекать себя в эту игру и выражал только одно нетерпение работать дальше. Но никто не уходил и не работал, и он просто томился. Он не понимал, как интересно было то, что в притихшем коридоре звучали гулкие шаги директора и он появлялся грозный и сердитый, снисходительный и сдержанный на пороге, и класс с шумом вставал — все это было, как в театре, все это волновало нас, но не Фому.
Все кипели страстями, он — нет.
Все говорили что-то, он — молчал.
И уже давно молчал, и все были приучены к тому, что он молчит, раз и навсегда, и мы его оставляли в покое.
Самое интересное было именно это, что мы его оставляли и не допекали, знали, что он не станет делать дело, которое не свойственно ему, что он будет читать, когда все станут кричать над его ухом, и только иногда удивленно поднимет голову и скажет что-то вроде:
— Кто и шутя и скоро пожелает пи узнать число, уж знает… — фразу, которая поразила его, раз он ее только прочел и тут же запомнил.
Но в том, что он говорил, таилась насмешка над нами, и я улавливала эту насмешку, нападала на него и требовала, чтобы он сказал, кто из нас прав, кто виноват. Он часто долго смотрел на меня, потом говорил, уже явно издеваясь:
— Что ты, разве я пророк? Не скажу, сади в острог!
Он говорил словами Ершова, то есть смеялся откровенно.
И я замолкала.
Однажды я оказалась возле него во время уроков и села с ним вместе. Это было удивительно — я, сидя рядом, все понимала так быстро, как он, я решала сама быстро, как он, я сидела и молчала целый урок и еще несколько уроков и потом вдруг, ни с того ни с сего, утомилась быть умно-разумной и понесла такую околесицу, такой вздор, что сбила с толку его и он стал со мной валять дурака. Я продолжала галоп глупости и не отставала от него, он тоже продолжал эту игру. Уроки кончились, и мы остались вместе и пошли вместе из школы. Был день великолепный, острый, весенний, похожий на колкую льдинку, такой прозрачный и светлый. Ярко горели краски, даже гранит был похож на драгоценный камень, имя которому так точно и так странно придумано — авантюрин, и гранит сверкал, промытый снегом и дождем, он будто таял и отвечал нашему настроению. Мы шли и все продолжали валять дурака, говорить друг другу колкости и смеяться, не обижаться, но вдруг я обиделась и заставила его объясняться со мной и тащила его в мою сторону, говоря, что он должен меня проводить домой, а он будто опомнился и пошел в свою сторону и не стал больше провожать меня. Я этого ему никогда не простила…
В тот день ко мне зашел Миша Кирзнер и стал делать у меня уроки, как всегда это было: «Придешь ко мне делать уроки?» — «Приду» — так говорили все, кроме Фомы. Он будто и не делал уроки вовсе, или, казалось, он их все сделал вперед на несколько лет, раз и навсегда сделал, и с нами может только заниматься, чтобы вытянуть. Я, уязвленная Фомой, только и говорила о нем. Надоела Мише страшно, и он уже устал от болтовни, хотел скорее решить все и уйти, но я все говорила и говорила и все заставляла его вспоминать стихи про Фому, который был очень упрям. Я начинала декламировать, а Миша должен был продолжать:
В одном переулке стояли дома, В одном из домов жил упрямый…Здесь Миша должен был сказать «Фома», но он не говорил и не знал этих стихов, на что я очень сердилась и тормошила его:
— Ну, говори «Фома».
Он устало говорил, тогда я продолжала:
Ни дома, ни в школе, нигде, никому Упрямо не верил…Он опять не говорил в положенном месте «Фома», то есть упрямился, а я, проявлявшая столько упрямства сама, все велела ему повторять. Наконец Миша решил свои задачи и ушел, а я все еще продолжала искать стихи к случаю и думала позабавить ими завтра весь класс. Но на следующий день я забыла все это и только Оле говорила:
— Вот Миша — талантливый человек, вот он — гений, и я всем докажу, что он гений, а то придумали, что Фома гениален, и носятся с Фомой, а я вот докажу, что Миша…
И доказала бы, если бы не война. Миша погиб.
В последний раз я видела Мишу в ноябре или в декабре, но снега еще не было. Уже было очень голодно. Миша шел и нес кулек с чечевицей. Он был очень худ, и вид у него был голодный, но он остановился со мной и говорил о том, что вот пропустим год, что школа не работает, что это страшно и интересно, что же дальше будет. Он говорил и все перекладывал из руки в руку кулек с чечевицей. Верно, это был самый последний кулек в его жизни, и он нес его, чтобы сварить ее и съесть, но не променял его на разговор со мной, что я запомнила. Оценила. Я была последней, кто видел Мишу.
Вероятнее всего, что он погиб во время налета, когда гасил зажигательные бомбы, а Фома помогал делать бомбы, и кто из них больше герой, я не знаю.
* * *
Собственно, никогда не было нас, то есть слово мы было, но нас не было, потому что мы с Олей были вместе и как бы отдельно.
Мы были действительно часто вместе, но все-таки не мы с Олей, а каждая из нас, хотя нам почему-то нужно было иметь это мы, быть вместе или покорить друг друга и обязательно любить или не любить другую.
Объяснялись с ней так часто. Видно, это была попытка той последующей практики любви-нелюбви, которая нам предстояла. С другой стороны, это было первое ощущение привязанности и власти над кем-то и необходимость рассказать себя кому-то, которая позднее привела к тому, что мы обе писали, каждая свое, но непременно писали — рассказы, письма, романы, бог весть что. Играли словами, расставляя их так и сяк, раздумывая над тем, как лучше.
И все-таки были мы с Олей, мы, которые кого-то любили или не любили, боялись или не боялись, понимали или не понимали. Мы хорошо друг друга слушали и слышали, что случается редко: часто хотят просто выговориться и совсем не слышат того, что говорят.
Мы — слышали и всегда радовались чужому признанию, ловили его, хотя оно было однообразно и всегда на тему «он тебе нравится?». Могла быть «она», что по тем временам было равнозначно. Существовала одна формула любви-нелюбви к кому-то.
— Тебе нравится Пьер Безухов?
— Нравится.
— А Наташа?
— Наташа? А почему она потом стала такой неряшливой?
Я возмущалась таким суждением. Что значит неряшливая? Она просто погружена в домашние заботы. Улавливала в этом высказывании уроки Олиной няни, которую не очень любила, как и она меня. «Неряхой быть стыдно», — как говорила Олина няня.
Такие нянины-Олины слова сердили меня, напоминали о том, что Олина няня так часто ворчала и говорила, что я мешаю Оле, когда звоню беспрестанно, или прихожу, или тащу Олю к себе, что Оле надо уроки делать, и без меня. Она отравляла наши с Олей отношения, и я надменно говорила Оле, что она забывает, сколько ей лет, и стоит ли слушать няню — не все ли равно, что она говорит.
Но все это было так, вскользь, потому что все-таки были мы и наши отношения, а не отношения между мной и Олиной няней, были мы — каждая в отдельности и все-таки вместе, — и наши отношения с окружающими: «Он тебе нравится?» — «да» или «нет», и рядом с этими разговорами наше насмешливое отношение к подобным суждениям: знаю, что это все по-детски, но пока еще не могу иначе, хотя и знаю. Оля особенно рано начала насмешничать над собой и мной в этом смысле, потому что была очень занята — и спортом, и музыкой, я тоже понимала, что эмоциональный круг интересов довольно узок, потому что дома не было таких разговоров, и вообще вслед за своими домашними я почитала себя обладателем лучшего в мире вкуса, как, впрочем, и многие семьи в Ленинграде (и, боже, как они ошибались).
С какой важностью я поправляла всех, следила за четким произношением, за верным ударением, будто дело было в том, правильно или неправильно сделано это ударение. Как выяснилось теперь, ударения чаще всего меняют люди, которые непосредственно занимаются каким-то делом и отлично знают, где должно быть ударение, но по каким-то причинам — может быть, потому, что просто устают говорить одно и то же — меняют ударение в самых примитивных словах или произносят их на свой манер. Так, один крупный ларинголог, известный во всем мире, сказал мне: «Ну что, удалим миндалики?» — вместо миндалины.
Вернее всего, что профессор говорил слово «миндалики» сначала издевательски, а после привык, что же происходит с другими словами, пусть занимаются подобными исследованиями лингвисты, я же не конкурент им, как, впрочем, и не судья тем дамам, которые и по сию пору старательно поправляют людей в трамвае, всюду, стараясь привести язык русский в прежний благообразный вид, что им мало удается, и они замыкаются в страдальческой позе. По мне, так все слова принадлежат мне, и как могу, так и изъясняюсь, хоть высоким штилем, хоть низким, все мое…
Но это к слову.
Те наши с Олей настроения и выражения не были такой уж детской забавой и заблуждением, так как мы серьезно думали, что призваны сохранить русскую культуру и умножить ее. Именно поэтому происходила некоторая насмешливая манера изъясняться.
В настроении насмешливом старались побесить друг друга, и Фому в том числе, потому что он своими криво посаженными очками заведомо не нравился, и хотелось куснуть его и отскочить, пуститься наутек, ожидая, что он тоже будет кусаться и догонять, но он никогда не оборонялся, стоял в растерянности, глядя на нас с такой миной, будто говорил: «И вы тоже, как те сорванцы?» — и стеснялись его взгляда, который приобщал нас к его миру, теплому, домашнему, наполненному бабушками и тетушками, сестрами бабушек и тетушек, которым он приходился внучатым племянником, всеми любимый, единственный среди толпы тетушек-бабушек и собственно тетушек.
Мы легко себе представляли этот мирок, который воспитывал его без упреков и лишних наставлений и после отдал его на растерзание классу, полному неприятия и удальства, нетерпения и детского садизма, его, открытого всем и созданного ими для истязания. Он казался нашим хулиганчикам особенно привлекательным, он им казался непоротым — значит, надо пороть — и пороли, вымещая свои порки, выговаривая свои брани, отдавая всю боль, которую получили. А он только удивлялся, не сопротивлялся, и его удивление для них было особенно приятным — удивить его, который сам всех удивлял. А он нас удивлял, конечно, своим тактом, своей мягкостью и тем, что не утверждал себя.
Нам его тактичность была совсем не нужна. Нам нравилась некоторая бестактность. Мы даже имели свою формулу: «бестактный не значит — бездарный» — нравилась эта формула, и мы следовали ей, и только Фома озадачивал нас и возвращал к домашним наставлениям, слышанным нами дома, но не очень принятым нами, а через Фому куда больше. Потому что Фома был наш, совсем наш и даже — боялись себе сказать — лучше нас. Он не принадлежал ни нам, ни тем нашим хулиганчикам, и мы несколько страдали за него, человека легкого домашнего детства, попавшего в столь трудное положение.
Он в разные времена — разный. Вначале все тихие в классе и он — тихий из тихих, после начинали произрастать хулиганчики и приходить в класс готовыми из других классов много буйных, а Фома рядом с ними — удивленно-сосредоточенный, после — только сосредоточенный и победивший хулиганчиков своим эффектным способом. Он их озадачил и покорил, как озадачивал нас с Олей своими преумными словами, такими, как «трансцендентный», сердил этими словами и заставлял произносить их несколько раз, выворачивать наизнанку, так что выходило «транспорт детский», потом уж превращалось в «детский транс», что нам казалось необыкновенно смешным, и мы хохотали до истерики, действительно впадая в транс.
Все это могло происходить при нем, а он только слегка улыбался и, казалось, понимал природу этого нашего веселья и состояния. Хоть мы думали и говорили, что он заведомо не нравился, но он нравился, и особенно тогда, когда озадачивал нас таким образом. Мы бы хотели скрыть все это своим весельем, но не могли скрыть то, что он нас покорял своей эрудицией. Мы не хотели и себе в этом признаться или, скорее, не совсем понимали, что с нами, происходит, зато он догадывался.
В форме отталкивания нам казалось позволительно допускать такое увлечение Фомой, но он тут же удирал от нас самым примитивным образом. Он чуял, что такое буйство легко превращается в сентиментальное состояние, при котором так легко сделаться из покорителя в покоренного — может быть, мы этого и ждали от него?
Но Фома стойко удирал, если так можно выразиться.
Он стряхивал с себя это состояние, но однажды был вовлечен невольно в нашу игру, в которую я заставляла играть только Олю, а Фома попал ненароком.
* * *
В тот вечер было особенно ярко, солнце освещало деревья, и они стояли просвеченные, будто изнутри. Листья казались спелыми, как яблоки, которые зрели, зрели и стали красными. Кругом лежали вороха листьев, горы, горы злата, и только на одной дорожке, где были лиственницы, черная, мокрая земля была усеяна мелкими желтыми иголками, на которых кое-где вспыхивали звезды кленовых листьев.
Поток света был такой ослепительный, усиленный рыжим и красным цветом, что кружилась голова от него, а на густой тополиной аллее, еще зеленой, казавшейся мрачной в этой пестроте и кутерьме красок, стоял домик.
Домик был красный, и странно было, что красное на рыжем фоне казалось ярким и особенно выделялось. Этот уютный дом, как на картинке, был весь из другого мира, а в парке я его давно приметила и тащила Олю, чтобы она посмотрела на него; она упиралась и не хотела идти. Ей казалось это совсем смешным — ходить и глядеть на дом, просто на дом в парке, и больше ничего.
Она все спрашивала:
— А чей это дом?
Я не знала.
— А теперь что в нем?
Я опять-таки не могла сказать.
Просто дом ее никак не устраивал, даже скорее расстраивал — подумаешь, дом и листья, но надо было передать ей свое настроение, и я старалась, как могла.
Я говорила ей про то, что дом похож, на, на… — и не знала, на что он в самом деле похож. Оля не настраивалась, как я, да и я сама была будто не в том настроении, когда все кругом кажется необыкновенным. И день был прекрасный, и свет, а вот никак было не увидеть все то, что я хотела увидеть.
Оля шла насмешливая и говорила:
— И что, мы будем смотреть в чужие окна?
Или:
— Хуже занятия не придумать!
И тогда, когда, сопротивляясь и насмешничая, Оля дошла до моего места, встала там, где мне особенно нравилось стоять, глядеть на дом и воображать, будто в этом доме живет Серпентина и от дома начинается подземный ход в тридевятое царство, тогда на тропинке, заваленной листьями, мы увидели Фому, который разглядывал ворох листьев, поглядывал на небо, улыбался и радовался этому удивительному осеннему дню и не знал, что на него смотрят.
И Оля и я не сказали друг другу ни слова, смотрели на него во все глаза и переглядывались между собой молча. Оля вдруг притихла, а я торжествовала: он тоже пришел смотреть на этот дом, как и я. Потом мы тихо подошли к Фоме и смотрели на него близко, а он все еще не видел нас.
Потом он окликнул нас и улыбнулся, и тогда я повела всех к веранде, повела скорее, скорее, пока не ушло солнце, такое короткое, блуждающее там где-то наверху.
Я наговаривала им всякой всячины, чтобы они, или особенно Оля, не спугнули нашего притихшего настроения каким-то неловким словом, вроде: «Ну и что — веранда, просто веранда, и все?» — хотя они отлично понимали, что сад, листья и дом — нечто особенное, рождающее фантазии.
Они это понимали и не понимали, а я боялась, что сейчас, вот-вот погаснет свет и тогда все пропадет, все.
И действительно солнце погасло раньше, чем мы пришли в свою аллейку, и от всей этой пестроты, придуманной специально для нас, не осталось почти ничего. Так быстро погасло все, будто задохлось, но, когда мы стояли уже совсем рядом с верандой, вдруг вспыхнул свет на веранде, и в сумерках этот яркий желтый свет оказался еще ослепительнее, чем только что листья.
И тогда, совсем не думая о том, что так непростительно глядеть в окна, мы стояли и смотрели и молчали долго, завороженные странным видением веранды, полок с книгами, чьим-то гипсовым бюстом и лампой без абажура, стояли и смотрели все трое, ощущая то, что только что пыталась я внушить Оле, — всю таинственность и прелесть этого старого домика, забытого временем, — он и теперь стоит в саду возле Пряжки, насмехается над временем, блестит яркими кирпичами и гордится своими литыми чугунными решетками на окнах.
И Оля, вечно озабоченная своим временем, которого у нее не хватало, и Володя, который так много тратил времени на занятия, — оба поддались моему беспечному отношению ко времени, и им не надо было говорить: «К чертям время, когда есть такая осень, это не время, а вечность!» — как мне хотелось до сих пор крикнуть Оле. И мы так легко открыли все многоцветье мира — и потеряли его с заходом солнца, и снова обрели, когда вспыхнул свет на веранде.
Мы вышли из парка, и он покорно шел с нами, но вдруг остановился и сказал что-то вроде:
— Я ведь должен подождать…
Кого подождать, мы не поняли, да и было в тот момент все равно — маму он ждал или бабушку — все равно.
То, что он не мог насмехаться, я и так знала, но не знала, что он мог один там в парке быть, — не знала и теперь узнала с радостью.
Мы шли с Олей. Я провожала ее к дому и боялась сказать ей единственную фразу, допустимую нами, выражающую восторг и радость, ту фразу, которую можно было произнести: «Ну как — здорово?» Но мне не надо было спрашивать, ясно было, что Оля все поняла и поверила. (Особенно когда увидела Фому.) Она просто боялась показаться сентиментальной, потому и стеснялась говорить — «красиво», а слово «здорово» — тоже, потому что оно ничего не выражало, впрочем как и слово «прекрасно», потому что надо верить тому, что говоришь, а Оля не верила такому слову, потому оно для нее ничего не значило, как и многие другие слова. Оля тоже могла верить только неуловимым ощущениям и цифрам. Но то состояние радости от осени я помнила долго, да и Оля тоже, только я могла говорить об этом, а Оля не могла.
Прошло много лет, и мне пришло в голову спросить Олю, помнит ли она, — она помнила, только совсем забыла, кто был с нами в парке. Она сказала так:
— Там не было Фомы, ты все выдумываешь. Был совсем другой мальчик. — Я знала, она помнила совсем другого, который ей очень нравился. — Я ведь лучше тебя знала Фому, я ведь с ним училась после на матмехе один или два года, только он не в нашей группе был, а на два курса старше, и ты его плохо помнишь. Я точно помню, а ты, как всегда, выдумываешь, что Фома. Совсем не Фома.
Но она, человек точный, на этот раз помнила не совсем точно. Ей показалось, что там был тот мальчик, который ей очень нравился, и потому весь парк и все то наше веселье она приписала этому мальчику.
* * *
Но я хорошо знала, что там стоял наш Фома, он, человек, которого я помнила, хотя никогда бы не помнила, если бы не то, что он стал знаменитым математиком, чистым теоретиком: появился особый интерес к человеку, который на коне, — его ведь всегда хочется скинуть с коня или по крайней мере уколоть, и если отбросить все эти чувства, то не останется интереса или почти совсем не останется, а как бы хотелось иметь это ощущение любопытства и оживления без тех сомнительных, сопровождающих это чувство ощущений, интерес чистый, отрешенный. Все ученые раз и навсегда присвоили себе все высокие чувства и говорят: «академический интерес», но, кажется, они плохо анализируют, только и всего. Слова моего лексикона: «бесстрастный интерес художника», но бесстрастие мертво, как снег.
Наш Фома, человек, которому было можно все, дозволялось все и даже нами, нашими хулиганчиками в классе, мог позволить себе созерцать парк, ему и это разрешалось. Но завоевал он себе это право тяжко.
Он был бит столько раз: в классе третьем бит был просто так, потом бит, потому что благородно молчал, потом бит, потому что не молчал, и, наконец, он покорил своих истязателей. Это было очень изящно.
В те времена его отец, еще не очень известный человек, добивался лаборатории. Он долго и уныло ходил по инстанциям и, наконец, однажды попал на большой прием, и там попросили его показать все то, что он сделал. Он позвонил домой и попросил Фому принести скорее все чертежи и все установки.
Срочно, спешно, за ним пойдет машина.
Фома срочно и спешно собрал все и завернул кое-как, как только Фома заворачивал все, что надо было нести, спешил, тащил скорее вниз то, что могло сломаться и испортиться от малейшего толчка и рассыпаться, то, что желали увидеть и тем самым уже разрешить или запретить, и Фома, волнуясь больше, чем отец, шел по лестнице и нес все это и уже выходил из дверей, как навстречу ему попались его мучители, его истязатели. Они стояли за дверями и не давали открыть дверь. Они там были, и Фома стоял за дверью и боялся открыть ее.
Они сами открыли дверь и стали бить Фому, а он слабо сопротивлялся, и в пылу боя размоталось и рассыпалось по лестнице то, что они с отцом так берегли. Открылось и звякнуло то, что он нес с собой, и вдруг бой прекратился и его преследователи замерли на месте, глядя на то небесное и космическое по тем временам чудо, которое они чуть не сломали. А дальше все случилось, как в плохом романе: открылась дверь и на пороге появился шофер, подкатила машина, и все то, что было разбросано и чуть не поломано, было подобрано и погружено в машину все теми же хулиганчиками. И машина важно укатила, увозя все это и Фому. Они уехали, и мальчишки не посмели попроситься в машину вместе с Фомой: «Дяденька, прокати!»
Они остались с разинутыми ртами и глядели вслед Фоме.
С тех пор они благоговели перед Фомой. Все изменилось. Они ходили за ним толпой и просились все к нему в гости, чтобы он показал и объяснил то, что знал. Но он почти ничего не объяснял или очень мало объяснял.
* * *
Все мы взрослели, и скоро простое, мальчишеское, оголтелое уходило от нас и начиналась самая прекрасная пора — отрочество, когда ты еще не обременен тяжкими страстями юности, но уже не ребенок и становишься куда как разумен, быстр на выводы, легко запоминаешь и уже соображаешь и тебя осеняют такие яркие мысли, что в пору перевернуть мир. Кажется, в это время и в самом деле много может ум человеческий, если бы еще к нему уважительно относились да старались не выжать все, что можно, а спокойно, спокойно дали бы развернуться, но люди и сами себе не верят в эту пору.
Только Фоме верили, надеялись на него, в то время уже и все в классе верили, даже унижались перед ним, желая попасть к нему домой: дома у него, у его отца, все-таки была лаборатория — хоть он получил лабораторию, но делал очень много всего и дома, так как ему надо было успеть, по тем временам было можно успевать, делать нечеловеческое и никому из ученых не приходило в голову ездить на курорт — например, в Болгарию или в Италию — просто так, отдыхать, копить силы, беречь нервные клетки, считать калории, как теперь это делают.
Они работали дни и ночи, дни и ночи, ценили особенно тех, кто умел спать десять — двадцать минут и вставать бодрым, снова кидаться в работу как одержимый и сидеть круглые сутки. Самое удивительное было то, что они не срабатывались, и отец Фомы в том числе. Он не срабатывался так быстро, как теперь бывает; он жив, ему скоро восемьдесят, но по сию пору он читает лекции, вполне работоспособен, ну не совсем к творчеству, но, во всяком случае, руководит институтом, имеет массу учеников, все успевает и шутит, как прежде, пересыпая свои лекции остротами, которые часто меняет, иногда повторяется, иногда шутит заученно, но тем не менее шутит.
Он и по сию пору может сделать какой-нибудь жест, который когда-то приносил ему славу лектора, и на его лекции валили валом, слушали так, что в паузах можно было услышать отдаленный цокот копыт по мостовой, слушали, боясь упустить хоть малейшую запятую, смотрели на доску во все глаза.
Он умел делать те удивительные штучки, которыми славились любимые профессора: приходил, скажем, в аудиторию и кидал свой портфель прямо с порога точным, отработанным движением руки — портфель летел и шмякался на стол и застывал на месте, а двести голов как завороженные следили за полетом и шмяканьем портфеля, ахали каждый раз, увидев это, а он, подыгрывая себе и делая все так, как, он знал, надо было для того, чтобы от полета портфеля они могли оторваться и переключиться на сложные его умозаключения и следить за ними не просто так, глядя на арабскую вязь его каракуль на доске, а творчески, с тем чтобы прямо тут, на лекции, могло родиться нечто новое, какое-то решение, полыхнуть мысль и пробиться сквозь толщу непонимания к новому решению.
Так бывало с ним, что прямо на лекции, забывая о звонках и переменах, забывая о времени и других лекциях, увлеченный и ободренный, наэлектризованный током чужого напряжения мысли, он решал то, над чем бился несколько месяцев, решал тут же, и все вместе с ним решали. Так великолепно было их напряжение и восторг рождения нового.
За это его любили, и он любил преподавать. Это входило в его ритуал очарования студентов, он это знал и пользовался этим.
Много было у него фокусов. Он, иногда вялый, усталый от бессонной ночи напряжения и недосыпания, упрекал студентов за вялость, и все молчали, зная, что он скоро перестанет сердиться, скоро опять войдет в азарт решений и выдумает что-нибудь, чтобы взбодрить всех, и себя в том числе.
Он и в самом деле выдумывал, даже встряхивал самых вялых током, чтобы разбудить сонных и самому проснуться. Они вздрагивали и действительно начинали соображать быстрее и лучше, следить за ходом его мысли с большим напряжением, создавая атмосферу творчества и совершая чудо на глазах у всех.
Было в нем что-то от мага, волшебника, и в самом деле он был магом. Все давалось и делалось с налета, придумано было на ходу и немножко рассчитано на эффект. Он был кокетлив в своей манере отсутствия кокетства, но это можно было понять, когда вдруг доставали и покупали для него новый костюм и он ни за что не желал надевать его на лекции, не желал не потому, что новая вещь коробилась на нем и мешала ему, а старая была удобна, но еще и потому, что он знал: он в новой вещи обретает новое качество, которое совсем не так сыграет, как ему нужно.
Он однажды сказал нам, девочкам:
— Ах, ах, новый бант, новая вещь, ваше новое качество, а быстрый обмен вещей для вас все равно что быстрый обмен веществ.
Он говорил это, смеялся над нами, но сам знал, что его старое кожаное пальто, тертое-перетертое, на его тощей фигуре куда как нужнее ему, чем новое драповое пальто, которое сидело прекрасно.
О нем рассказывали анекдот, как жена настояла на том, чтобы он сшил себе шубу и надевал ее в морозы. И он послушался, и сшил, и даже гордился этой шубой, но однажды пришел в университет, снял якобы шубу, а вечером нашел пальто вместо шубы. Ему будто бы подменили шубу и подсунули жалкое пальтишко. Он громко жаловался и возмущался, что украли его шубу. Гардеробщицы плакали, а он сердился, потом надел пальто, пришел домой и нашел шубу дома: он не узнал своего пальто. Может быть, поэтому он и любил свое кожаное пальто, которое узнавал даже на ощупь.
Долго смеялись над его рассеянностью, долго рассказывали всем об этом, и он сам рассказывал, и не было тут его кокетства, наоборот: он очень страдал от своей рассеянности, боясь, что сработается раньше времени, но не сработался. Он очень боялся рассеянности и готов был скрыть от всех ее: если забывал завтрак, то тихонько скармливал его после кошке, чтобы не знали, что он забыл его.
Это был отец Володи, академик Фомин, человек, который добился лаборатории, а Володя был похож на него всеми своими чертами, даже манерой носить очки, которые всегда сидели косо и криво, всегда было желание поправить его очки — ведь как можно видеть через очки, которые смещены, ведь оптика, фокус смещается!
Фома был похож манерой держаться, говорить, смеяться, был так же, как отец, быстроумен и логичен, но не был кокетлив.
Он не умел держать общее внимание и дирижировать этим вниманием, как умеет это всякий опытный лектор — он всегда актер.
Володя был скромен, а иногда даже подавлен нашими атаками.
* * *
О, талант человека — вещь такая спорная и неуловимая. Кажется, совершенно нет смысла доказывать, что он, Володя Фомин, был даровит и сделал так много для науки, но это была форма сосредоточенности, не больше, умение владеть неуловимым даром прозрения и озарения и донести его до тех, кто мало умеет сосредоточиться, только и всего.
Наш вечный и безмолвный спор с Фомой, наше противостояние и неприятие — как долго все это длилось, как рано началось и никогда не кончится, ибо не было таких вещей, которые нам одинаково снились: ему — формулы, а мне совсем не формулы и даже не образы, а нечто неразгаданное, непостижимое, осязаемое едва-едва.
Он верил своей логике, я поминутно сомневалась в своей. И всегда, со времени, как нам стало известно, что Фома лауреат и профессор, с тех времен задавала ему, отсутствующему, вечный вопрос: «Знаешь ты, что такое форма существования «я» на земле? Я есмь на земле. Почему я это я, а не кто-то другой? Почему мое сознание — это только мое и больше ничье? И мое я, мне кажется, это форма общего я-мы, — почему мне самой, как и тебе, так дорого это заблуждение? Ты знаешь бесконечность и огромные величины и малые, но ты разве созидатель? Почти создатель. Допустим, я не знаю, что такое бесконечность, которая могла бы объяснить что-то, но начало начал это же не бесконечность? Это начало».
Мы копали истину, но с разных сторон. Мы оба не докопались и можем только отшутиться, как это принято теперь. Клуб веселых и находчивых, клуб остряков и шутников.
Я задавала ему эти вопросы и себе тоже и не знала даже, как отшутиться от них.
Никакими силами было не превозмочь то неприятие, которое испытывала, когда так возносили ученых, сопротивлялась им, как могла, решала задачи своим методом и не всегда верно.
Увы.
* * *
Я не видела его столько лет, да и не очень стремилась к этому. Я не ждала от него понимания, да просто не случалось встретиться. Где мне искать его, он сам никого не ищет, не бывает у знакомых, почему я буду искать? Я писала о нем мало, да и не совсем о нем. Модная тема — математики, физики. Роман из великосветской жизни. Я представляла себе, сколько иронии, сколько всяких нелепостей могло произойти, если бы я стала искать и писать о нем точно то, что в самом деле он сделал, ведь давно уже мы говорили с ним на разных языках, и он с опасением относился, вероятно, ко всем журналистам на свете, и ко мне в том числе отнесся бы так же.
Мне было все равно, что делает подлинный Фома, теперешний, — верен ли он жене или развелся с ней, много у него детей или нет совсем, остроумный ли он, светский человек или замкнутый в себе, чудаковатый ученый, занимается ли водными лыжами, байдаркой или просто лыжами. Ездит ли есть землянику, ловит ли рыбу, собирает ли коллекцию марок, жуков, книг. Каков он — предприимчив или нет.
Я могла свободно заставить его ходить только на лыжах зимой, а летом ездить на машине по Владимирскому кольцу, есть землянику в июне, чтобы полировалась кровь, острить к случаю и руководить небольшим институтом, понимать толк в русских иконах и воспитывать двух сыновей, которым уже не суждено будет продолжить блестящий взлет деда, отца: отец так и не стал даже членом-корреспондентом Академии наук, потому что нельзя трижды испытывать повышенный интерес к одному и тому же имени: их деды-отцы поглотили и погасили интерес массы людей к своему имени.
Ведь в интересе людей таится так много, интерес часто рождает таланты там, где и не было их, стоит только замахнуться на кого-то, и тот, страдалец, герой, становится объектом внимания, и это внимание заставляет его многое понять и постичь и потерять, так что в самом деле он порой может совершить после нечто удивительное, чего, может быть, никогда не совершил, если бы не тот взвинченный интерес к его особе.
И наоборот, сын не сможет уже притянуть к себе такого же внимания, будь он трижды способнее отца. Он будет всегда сыном, внуком, но не самим собой только.
И вдруг совсем неожиданно Фома появился. Я не искала его, но он появился сам в доме, где жили наши старые знакомые.
Там жили Антоновы, но они переехали и оставили мне кое-какие вещи. Я пошла к ним и прочла на их квартире имя Фомина. Никто не открыл мне двери. Фомины жили теперь там, где я бывала много раз, у Антоновых. Я теперь знала, где они сидят и работают, принимают гостей, где обедают, держат книги, потому что знала их дом и не знала. Я теперь знала и телефон Фомы, и ничего не стоило снять трубку и позвать его к телефону, хотя это и многого стоило — вдруг начать объяснить, кто ты и почему, он ведь не вспомнил бы. Двадцать с лишним лет прошло с тех пор.
Но ведь мне оставили Антоновы вещи, которые я очень хотела взять. Давно. Полгода назад. Вещей, конечно, нет. Их увезли или бросили.
Но я набираю номер и звоню. Объясняю, что я хочу взять вещи. Со мной говорит женский голос, очень любезно, но я не могу позвать Владимира Михайловича, даже не могу спросить, здесь ли он.
Я спрашиваю новый номер телефона Антоновых.
Меня приглашают зайти как-нибудь вечерком.
Я вешаю трубку. У Антоновых мне не хочется спрашивать, кто переехал — Володя или нет, может быть это его родственник или просто однофамилец, кто знает. Но я догадываюсь, что не родственник, по всяким мелочам. И собираюсь идти к ним, раз они пригласили.
* * *
Я живу теперь в чудесном месте, прямо в парке. Лиственницы и сосны заглядывают мне в окна, а живу я не так уж далеко от центра Ленинграда, но, когда я возвращаюсь в старый район, сердце сжимается, так жаль мне, что я не могу видеть каждый день, как это было раньше, Неву и Александровский сад, Никольский и Львиный мостик. Возле мостика недавно реставрировали дом и очистили и выкрасили решетку, которая вся видна на просвет, и эта решетка, уголок от Львиного к Театральной — мой, меня встречают теперь, как старая мелодия, которую давно не слышал и слушаешь с особенным чувством тоски и радости. Сколько раз в своей жизни ходила здесь озабоченная, сердитая или веселая и уже не замечала ничего — все было мое, и стоило поглядеть из окна автобуса, как видела это два-три раза на день, и вот теперь видишь редко, когда случится. Может быть, раз в неделю, может, два — не больше. А если темно, то и не увидишь всего.
Набережная Невы, дом, где теперь живет Фома, — особенно хорош. Сюда ходили и моя мама, и бабушка, это очень старый дом, построен при Екатерине II, он врос в землю, тяжелые колонны осели. Вблизи он очень тяжелый, издали — прекрасен, внутри — великолепен. Очень хорошо, что Фомины переехали сюда и будут жить здесь.
Теперь, когда я живу так далеко от Невы и Театральной и возвращаюсь сюда, мне хочется крикнуть: «Отдайте нам хоть что-нибудь! Хоть решетку! Хоть немножко лепнины!» — но никто не отдает.
Я иду в этот дом по широким ступеням, к знакомым и чужим теперь дверям со знакомой фамилией.
Я волнуюсь — вдруг на пороге встанет Фома, какой он теперь? Надменный, занятый, сердитый, непроницаемый, любезный, чужой или прежний? Может он меня узнать или нет, я ведь не дом, который могла бы узнать моя прабабушка, если бы воскресла.
Я звоню. Открывают. Молодая женщина стоит на пороге, юноша лет двадцати мелькает и скрывается. Я вхожу.
Мы говорим о вещах, которые оставили Антоновы, мы стоим в передней, и тут я вижу, что из гостиной выходит Володя, Владимир Михайлович Фомин, и поражаюсь тому, как он молод, как светло и ясно смотрят его глаза сквозь очки, какой у него ежик на голове. Он молод совсем, его глаза начинают щуриться, и он разглядывает меня так, будто узнает. Я улыбаюсь той детской улыбкой, с которой допекала его. Я читаю много выражений на его лице, в том числе проницательность.
Странное дело, как только ты чувствуешь, что кто-то старается быть проницательным, так тут же ты стараешься быть непроницаемой, сделать все возможное, чтобы чужая проницательность не проницала, делаешь все для того, чтоб твое лицо стало непроницаемым. Вероятнее всего, боишься, чтобы тебе не навязали своих представлений о тебе, очень часто — ошибочных и поверхностных. Потому, делая веселое лицо, я спрашиваю про сундук Антоновых.
Его лицо тускнеет, он ничего не знает про сундук. Он озабочен и даже сердит, как если бы я вдруг с экрана телевизора обратилась к нему с просьбой вернуть мне зонтик, — исчезает выражение догадки и особого интереса ко мне, узнанной, обрывается досадой.
«Какой сундук?» — хочет сердито сказать он, но сдерживается. Я благодарна ему за сдержанность, мы молча смотрим в разные стороны: может быть, мы боимся разглядывать друг друга подробно: в полутьме передней мы еще выглядим похожими. Он смотрит на жену и говорит вопросительно:
— Наташа?
Та объясняет ему, что мы уже говорили о вещах Антоновых и она пригласила меня зайти, и просит меня раздеться, и говорит что-то про книги, которые, мне передавали, остались где-то там, на чердаке.
Володя все еще стоит в передней. Почему он не уходит, должен был бы потерять интерес к подобным разговорам — они такие скучные.
Я говорю что-то про Оболенских, которым принадлежал сундук, родственников Антоновых, и среди разговоров о ключах и чердаках вдруг вырывается имя Фома, остановившее Володю на пороге, когда он уже собирался уйти из передней: я говорю про книги, и в длинной фразе он слышит: «графом А», — я делаю паузу, и он застывает, слыша: «…фома» — и снова он смотрит на меня с улыбкой, смотрит так наивно и говорит:
— Оля Леонтьевская?
Неужели он спутал меня с Олей? Это простительно и не очень, но теперь понятно, что были мы с Олей, а не просто Оля и я, а может быть, он путает меня потому, что учился с Олей какое-то время после того, что мы учились все вместе, а может быть, только потому, что были мы с Олей и он нас запомнил.
А Наташа, не ведая нашей игры, говорит про сундучок и говорит, что не граф, а князь там какой-то и я путаю…
— Но сундучок был! — говорю я, и мы смеемся, потому что Наташа все еще не знает нашей игры.
И снова, теперь уже в комнате, мы разглядывали друг друга, и я невольно поправляла пряди волос и видела его прекрасные очки, которые все-таки сидели чуть косо, и их хотелось поправить, чтобы они сели на нос как следует.
Странно, есть люди, которые самые великолепные вещи превращают сразу черт знает во что. Вот надевают их или берут только в руки, и ясно, что эта вещь может разбиться, скомкаться, будет висеть криво и косо, как попало, испортится или даже потеряется.
А другой берет вещь, и она вся сверкает, а если наденет, то она будто обнимет его, как приятеля, сделается такой уютной, будто даже обношенной, не топорщится, не коробится, и знаешь, что она проживет долго.
Володя, казалось, родился в очках, и первое его немудрящее прозвище, которое мы с Олей терпеть не могли, было Очкарик, но всегда очки были не его вещью. Будто бы и его и совсем не его, как, впрочем, и все вещи, которые принадлежали ему. Его старый тертый-претертый портфель, его пальто, которое могло быть подстилкой для собаки, и его кепка комканая-перекомканая, сто раз потерянная и найденная в чужом кармане, куда была утром засунута (после этой кепкой, конечно, играли в футбол — тот, кто нашел).
И теперь я видела на вешалке кепочку — хорошую кепочку, которой кто-то пытался играть в футбол, и теперь его джемпер выглядел неприглядно на нем, потому что это был Володя Фомин, он, именно он, и никто другой.
Я смотрела на него и видела ясно того долговязого юношу, которого помнила, хотя казалось, совсем не помнила его лица и не вспоминала, так непримечательно было это лицо, и все-таки это было его лицо, и разом воскрес для меня сверкающий день, и яркий свет солнца, и блеск гранита на набережной, и темная арка Новой Голландии, нисколько не манившая нас, как манил тот домик в парке или закрытый со всех сторон, запутанный проволочной сеткой маленький каток в саду возле школы, куда никаким образом нельзя было проникнуть, — он принадлежал институту Лесгафта, и там мы впервые в своей жизни видели легких и изящных фигуристов, скользивших так плавно и легко на ровном прозрачном льду, а мы, сгорая от зависти, прилипнув к решетке, смотрели на них как на ангелов, которые слетели сюда с неба и порхают над водой. Мы смотрели на фигуристов и после, нам казалось, точно повторяли их па, — воображаю, что за фигуры мы проделывали…
Мы молчали, и каждый вспоминал свое, но все равно это были почти одни и те же зримые образы, если даже Володя вспоминал какой-то пыльный класс или, наоборот, светлый и белый класс — у нас были и такие классы, где обитали только старшие, а нас допускали в них во время экзаменов, — все равно мы вспоминали одно и то же, и казалось, что молча мы обменивались этими впечатлениями, как открытками или фотографиями.
Но я уверена, что это были цветные изображения необыкновенной яркости. Они долго лежат под спудом памяти, чтобы в один прекрасный день всплыть и воскреснуть в той красочности, которой нет сравнения.
О, как растаяли все мои и чужие зависти к Фоме, его победы и взлеты, как потускнели перед видениями, что проплывали перед нашими глазами, все былые неприязни и приязни, все мелкие обиды и прочая суета, какими нелепыми казались теперь те глубокие и высокие мысли, что посещали меня, когда перед глазами воскресало простое чудо детства, с его глубоким дыханием, ничем не омраченным взглядом, с его вкусом к жизни и ожиданием всего впереди, детства с его нетерпением и жаждой, радостью и горем.
И каким оно теперь предстало перед нами пленительным и свежим, как воскрес весенний, жгучий запах талого снега и весны, тех сосулек, которые были развешаны по карнизам специально для того, чтобы мы запомнили их на всю жизнь и радовались им. И мы вспомнили их, глядя друг на друга.
Мы помолодели за эти минуты — это было видно, нам не было нужды говорить друг с другом, говорила Наташа, а мы поддакивали.
А Миша Кирзнер? Тогда я спросила Фому, помнит ли он его, он ответил, что припоминает, да. А, он погиб? А каким образом? В блокаду, да-да, он его помнит, это был способный человек.
Миша Кирзнер. Способный человек.
Что делать — теперь все забыто, и печать бесстрастия лежала на лице Володи, пока он выговаривал слово: способный, он говорил это так, будто разговор шел о ветре, который способен открыть окна.
ТАМ, ВО ДВОРЕ
Маленький зеленый дворик, и мы в нем — пятеро — играем во всякие игры, страшные игры, которые кончаются наказанием по руке — больно, ах больно, но мы все равно играем, нам так нравится бегать, говорить друг другу всякие колкости, потому что мы голодны, мы раздражены, мы живем страхами взрослых перед войной и разрухой, мы хотим не знать этого всего и все-таки знаем, мы не хотим бояться и все-таки боимся, мы вырваны из привычного круга, вырваны из Ленинграда, из Москвы, из своих любимых мест, и нам надо приживаться здесь, надо быть здесь с чужими ребятами. Вот они — Коля, Вова, Боба, Игорь и мы.
Азарт, господи, какой азарт. Чем мы голоднее, тем азартнее. Голодны все, голодны до слез, потому так легко ссоримся; жгучий, тягучий голод, постоянное ожидание — где, что, когда дадут поесть. В школу ходим каждый день, никогда не пропускаем. В школе кусок хлеба или даже булочки. Голод… Мы все худые, как паучки, и только один Боба Голдоба — толстый, как божок. Он такой странно толстый среди нас, что должен быть истязаем нами, и мы истязаем его, мы дразним, мы колем его — такие мы, а он? А он не умеет колоть нас, но умеет нас презирать, нас, голодных кузнечиков, исступленно играющих от голода, нас, взвинченных всем тем, что происходит вокруг, нас, блокадных, военных детей. Он вне этой суеты, его родители тоже вне этой суеты, они — сыты, у них всегда есть мука, есть еда, они делают пельмени, шаньги, пирожки с капустой. Ах, как они сыты! Они живут на первом этаже, и в окнах у них видно — всегда стряпают, стоят белые доски, присыпанные мукой, и ровные, как раковины, белеют пирожки.
Так и стоит Боба на фоне этих пирожков, на фоне этих огромных досок с пирожками. Пирожки белеют или румянятся, пирожки переливаются всеми цветами радуги, а мы исступленно играем, лишь бы играть, лишь бы не видеть этого счастья и насмешливой улыбки Бобы, Бобы Голдобы, толстяка, насмешника над нами, над нашим убожеством…
Господи! Тогда же, в эти военные годы, закладывалось наше злобно-легкое отношение к нищенству как вечному существованию, нищете как способу жить на свете, но не всегда эта нищета и голод помогали нам, не всегда.
Толстый человек! Веселый толстый человек, как он нам был чужд, а на самом деле — хороший, веселый, сытый человечек, который все делал так, как нужно было, — кончил институт, пошел и пошел по общественной лесенке — и достиг. А мы? А мы не шли, а падали, вставали, лезли, поднимались и снова падали, у нас не было сил, у нас не было власти над собой, у нас был страх перед нищетой и презрение к ней, у нас был вечный провал и взлет, мы были изломаны, и этот излом, эта трагедия войны и голода жила в нас и живет до сих пор. Разве мы могли преодолеть свою привычку жить впроголодь? А после есть столько, сколько влезет. Разве мы могли? Боба ходит вразвалочку, Боба посмеивается, Боба никогда не угощает нас тем, что ест, а ест он много, ох как много. Он вечно жует, вечно у него в руках пирожки и в карманах хлеб, а мы с братьями делим крошки, мы деремся за то, чтобы уносить масло в кладовку. Кто уносит, тот лижет это масло; и вечный крик брата: «Не давай ей, она больше всех уносит масла и больше всех лижет!» И жгучий стыд от этих слов. Все мы лижем, и всем стыдно, мы этого не хотим, но нет сил остановиться — все-таки лизнешь. А Боба единственный сын и сыт — боже, какой он счастливый, — сыт, и никогда не делит крошек, и никогда не испытывает стыда. Но все эти мысли — мельком, мельком, потому что и мы знаем свое превосходство над Бобой: мы еще будем и сыты и счастливы и мы — умнее его. Почему мы умнее, мы не можем сказать, но нам так кажется, потому что нам положено думать о великом и главном, как нам кажется, о том, о чем и не помышляет Голдоба.
Та степень раздраженной тоски, сознания своего убожества, та степень неприятия мира и радости, которая просыпалась утром, а потом гасла, та неприязнь ко всему и смирение иногда — все выливалось на Бобу, который был воплощением благополучия и сытости, и казалось, что если бы не он, то нам было легче, если бы не его обмякшее, обвисшее тело и лицо, которое, кстати, не было уж таким безобразно толстым, только в наших представлениях было слишком, непомерно толстым, в ночных голодных страданиях — не заснуть оттого, что хочется есть, — вдруг возникал его образ и поднимался, как тесто из квашни, — ах, квашня, Голдоба, а мы — голытьба. Поднимался его толстый подбородок, открывался толстый рот, и он хохотал, он издевался над нами, шевелился в толстых губах толстый язык — ах, противный.
— Давайте его съедим! — говорил Игорь.
— Съедим.
— Поджарим на маленьком огне, и он вытопится в сале, зарумянится, будет весь, как гусь с яблоками…
— А где взять яблоки?
— А он и без яблок будет нафарширован ими — он ведь столько их жевал осенью.
— И орехов, и пирожков. Он очень вкусный.
Злорадные эти разговоры не пугали даже нас самих, не то что Голдобу, потому что он же знал, что мы шутим, но в каждой шутке есть нечто, что может перейти в прямую издевку или в травлю. Самое обидное в такой травле, когда один говорит, а все остальные подпевают, то есть если один может сказать что-то одно, многие могут сказать много и впадать в самую крайность. Если одному не под силу извести толстого мальчика, то много муравьев могут затравить и сожрать слона.
А он был слоном, еще каким слоником — на счастье.
У нас было изобретение. Всякий, кто выходил во двор, тот говорил, должен был сказать нечто о Голдобе:
— Он похож на пук ваты.
— На слоновую пальму.
— На глыбу глины.
— Облако.
Шутки затихали, иссякали, и все-таки хотелось колоть его, как воплощение безобидности и неуязвимости. Если бы он хоть раз огрызнулся на нас, если бы замахнулся, если бы ответил в тон, а то посмеивался и разрешал колоть, будто его жир был хитиновым покровом.
Он даже веселился, когда мы изощрялись, хотя казалось, что он мог бы плакать, как говорили мы: «Он плачет постным маслом» или: «Он жирно шутит».
Наша живость и его неподвижность, наша юркость и его неповоротливость, наше раздражение и его спокойствие приводили нас в исступление, мы не знали границ этому потоку нападений. Казалось, если он уйдет, исчезнет, то и мы пропадем без него и без той радости, которую он нам доставлял. Но он и не собирался удирать, уезжать, исчезать.
— А можем мы его совсем испепелить и заставить превратиться в призрак, потом расстрелять серебряными пулями? Можем? — спрашивал Игорь.
— Можем, — отвечали мы. И это было так.
Говорят, что матросы, которые перенесли страшную качку и терпели бедствие на кораблях, после непременно возвращались к себе в каюту даже на берегу. Им была нужна качка, они без нее не могли. Уж не такая качка для Голдобы! Подумаешь — для него качка. Хоть мы и были нападающими, все-таки мы были в мире с ним, в дружбе даже, потому что он не сердился.
Весной, когда все приходили в какое-то возбуждение, было особенно легко ссориться вообще, и с Бобой в частности. Все обострялось — голод, болезни, радость. Все вызывало слезы и восторги. Солнце… Когда оно появлялось, било своими лучами прямо в лицо, слепило и радовало, гнало куда-то, тогда утром мог смеяться до слез, а вечером плакать до смеха. Тогда все казались или прекрасными, или ужасными, все раздражали или восхищали.
Тогда именно Боба, неподвижный Боба, Боба, который ничем не был особенно занят, кроме уроков и еды, кроме еды и прогулки, и прогулку совмещал с едой, то есть ел и стоял во дворе, вдруг ни с того ни с сего занялся деятельностью. Он получил от кого-то увеличительное стекло, или выменял его на что-то, или выиграл. Сразу представляла себе, как он выменивал, лениво посмеиваясь:
— Дай стекло, а я тебе дам кусок сахару…
Хотя нет, говорили другое:
— Дай сахару, а я тебе стекло дам.
— А для чего мне стекло?
— Да вот, погляди, можно выжигать стеклом, можно рассматривать все под лупой, смотри, как все видно хорошо.
— А зачем мне выжигать?
— Для того, чтобы рисунок получился.
— А на что рисунок?
— Ну, можно не рисунок, а что хочешь. Вот, смотри, видишь, какие мелкие буквы в книжке? А вот и рисунок. — И ему показывали маленькую книжку размером в спичечный коробок — детскую книжку-малышку, и эта книжка под лупой вдруг заинтересовала Голдобу, и он долго разглядывал ее, а потом уставился на владельца лупы и книжки с удивлением и страстью, что было так ему несвойственно, он смотрел, а мальчишка, предвкушая сахар и, может быть, еще что-то — пирожок, вертелся на одной ноге, желая получить все тут же и боясь, что у Бобки сейчас нет с собой ни куска сахару, ни пирога и, может быть, дома тоже нет, но у Бобки остался пирожок и два куска замусоренного сахару, и он вынул свое это богатство и показал его, потянув к себе не только лупу, но и книжку-малышку, но был схвачен за руку и остановлен:
— Нет! Только стекло!
— А что?
— За книжку еще пирожок и три куска сахару.
— Ну уж! Ты скажешь.
— Вот и все.
— Да у меня только есть еще кусок, и все.
— Принеси.
— Да нету.
Но тот, кто выменивал, уловил неуверенность в его голосе и сам сказал уверенно:
— Да есть у тебя дома.
Бобка вдруг сдался неожиданно для всех, а дом его был не очень далеко — совсем рядом, и мальчишке, который менял, оставалось ждать и трусить: вдруг Бобка раздумает. С ним это случалось — он мог совсем согласиться, уже вот-вот согласиться, перестать смеяться, но вдруг вернуться со своей вечной ухмылочкой, которая означала, что он, придя домой и вдохнув сытный, свежий дух дома, понял, что все у него уже есть и нет смысла ему алкать и желать чего-то там еще, меняя драгоценности дома на сомнительные вещи, которые ему предлагали во дворе эти голодные мальчишки. Боба привык хранить свои домашние ценности, ценить то, что ценили дома, не оставлять дом без тех его даров, которые и делали дом прекрасным.
Он мог раздумать, но сейчас же не раздумывая отдал все, что просил мальчишка, и получил стекло.
А весна разливалась черемухой, плыла сдобными облаками, веяла ветром, сыпала клейкие почки, весна жила своей жизнью, ласкала и сердила, вдруг исчезала за плотным колпаком туч и снова являлась лучами и счастьем. И в этот странный весенний разлив пришла, появилась, будто с небес, в нашем дворе девочка Ия, девочка с таким странным именем, будто потерявшим первую половину любого нормального человеческого имени: Мария, Гликерия, Лия. Она появилась ниоткуда, скоро исчезла, но тот краткий миг, когда она вошла во двор, как принцесса на горошине, все уже знали, что она принцесса, не только потому, как она держалась, не только потому, что среди нас она была жар-птицей и горели ее перышки всеми цветами радуги — от клетчатой плиссированной юбочки до щегольского короткого пальто, но и потому, что она могла бросить свое пальто на землю, как и подобает принцессе — ей ничего не жаль, она не хранила свои перышки, они падали на землю — и вырастали новые, еще более красивые. Она вошла во двор, и все замерли, все будто перестали существовать, окаменели на миг, а потом, проснувшись, оказались другими, будто поменялись ролями, будто смешали, спутали свои обычные качества и, очнувшись от шока, в который привела их Ия, уже испытывали потребность нравиться ей не теми своими обычными качествами: Игорь — насмешливостью, живостью Вовка и Коля молчаливой солидарностью друг с другом, а Боба своим чванливым самодовольством, а наоборот: Игорь вдруг стал говорить Бобиным тоном, что у него есть дома такие вещи, которых никто и никогда не видел, Коля и Вова вдруг стали драться, а Боба Голдоба — смеяться над всеми и особенно над Игорем, и смеялся он даже от души, смеялся как еще никогда не умел, и даже издевался не с той привычной неуклюжей своей манерой, но с легкостью Игоря. А Игорь вдруг подошел ко мне и сказал растерянно:
— Слушай, как ему… как ему не стыдно, чем бы ему отомстить, что сказать? — будто она, Ия, была целой толпой девиц, перед которыми Игорь должен был выступить и не ударить в грязь лицом, и я злобно отвернулась от него, желая сказать: «Дурак! Нашел у кого спросить!»
А девочка Ия будто не замечала кипения страстей вокруг себя, она хотела играть в зайчика с нами и удивлялась, что игра распадалась, потому что каждый изо всех сил пытался стать другим ради нее.
Игра в зайчика, совсем детская, когда надо отнять мячик, а его перекидывают из рук в руки, детская игра, которую любит ныне весь мир, игра без правил, можно ногой пинать, можно рукой трогать мяч — старая игра, а такая азартная, такая кипучая, что даже не понять, почему весь мир не только играет в нее, но и смотрит на нее, болеет за игроков, тогда она в нашем дворе обрела новый смысл с появлением Ии, и самое деятельное участие в ней принял Боба Голдоба, эта глыба, этот неповоротливый тюлень являл чудеса быстроты, ловкости и натиска. Он бил мяч так рьяно, что мяч распоролся, он кидал его так молниеносно, что никто не успевал за ним, он нисколько не медлил ловить его. Откуда это взялось? Ия играла с нами в зайчика, сверкая своими глазами, улыбаясь, блестели ее зубы, волосы, казалось, что вся она состоит из стекляруса, из светлых бликов. И игра не задавалась, все совершенно смешались перед ней, только я радовалась, насмехаясь над мальчишками, во-первых, а во-вторых, радуясь оживлению и тому, что они выглядят так нелепо. Смешно, мне казалось, что Иина радость, ее успех, ее счастье ложатся и на меня, отражаются на мне радостью и успехом. Все были неловкими, и только мы с ней — ловкими, да еще Голдоба временами.
О, детская шизоидность — страшная вещь! Стоит появиться одной девице, и все смещаются сразу, без промедления. Все кажутся другими.
Текла весна по улицам, текла в крови, горело солнце, и загорались под стеклом Голдобы стружки и сухие листики, бумажки и щепочки. Где ни стоял Голдоба, там загорался костерок. Огонь преследовал его, будто он стал огнепоклонником. Он выжигал на стенах и скамейках виньетки и кружки, имена и вензеля, всюду оставляя свое имя и фамилию. И вдруг на доске скамейки появилось мое имя. Мое, а не ее. Я верно рассчитала, что она отразилась на мне, да и не все ли было равно этим ребятишкам, которым было суждено ждать любви добрых десять лет, кого избрать объектом влюбленности, не все ли им было равно, чье имя выжигать, кому изливаться. Им быть могла даже старуха, взрослая женщина, черт знает кто, только не та, которая вдруг вспыхнула в нашем дворе и перевернула всех.
И Боба выжигал и выжигал всюду своим стеклом всякую ерунду до тех пор, пока не заболел. Он тяжко заболел ангиной, простудой во время экзаменов, он свалился с ног, он иссох, а за это время Ия уже улетучилась, уехала куда-то, кажется, в Москву, вернулась к себе домой и забыла всех и игру в зайчика, забыла больного Голдобу начисто, оставила нас разбираться со своими любовями — кто к кому испытывает ее, кто к кому ревнует, оставила жженый след на всех скамейках и досках, оставила мое имя на самом видном месте, ввела в заблуждение и меня, и всех мальчишек…
ДОМ НА ПОЛЯНЕ
В темном лесу фыркали лошади, высовывали свои морды, вдруг появлялись и исчезали, пугали нас. Казалось, что эти лошади ломают лес, ходят тут медведями, того и гляди на тебя наступят и сомнут совсем. Лес… Мокрый, холодный, душистый — в дожди особенный запах у леса: такой дух поднимается с туманом, что не продохнуть. Пахнут и ночная красавица, и простая ольха, крапива и болиголов, пахнет прелью и грибами, мхом и легче всего сосной, которая в нагретом сухом месте пахнет так остро, что голова идет кругом, а в сыром бору запах замерзнет совсем — и нет его.
Сквозь ветки и кустарник светились теплым солнышком окна, манили в тепло, к себе, от сырости и тумана. Бежали к этим окнам, стучали под дверью, но стучать не было особой нужды — дверь не закрывалась, она всегда была отперта, и приходили в этот дом на поляне в лесу все кому не лень — и лесники, и грибники, и друзья, и страннички, и туристы, и шоферы, залетали нимфы, даже забегали в сени лошади…
Холод и дождь тоже приходили в дом, особенно когда хозяин уходил в обход надолго или уезжал в город, — ух, каким стылым, сырым и страшным становился дом! Мыши и муравьи копошились в нем, пахло тогда в доме только плесневелым хлебом и вообще плесенью. Но стоило затопить печь — и веселело все в доме. Остро, свежо пахло луком и картошкой, постным маслом и хлебом. Не очень часто готовил себе хозяин еду: и лень было, и нечего порой…
Однажды мы заехали в гости к хозяину, заодно и поле вспахали на машине, на простом «Москвиче». Привязали плуг и пахали картофельное поле. Земля мягкая, и пахать было не очень сложно, но от смеха постоянно падали, скользили; трудно было отрегулировать наши движения и того, кто сидел за рулем. Но было очень весело, и мы, смеясь, сделали такую работу — посадили картошку. И она взошла — веселая картошка, вкусная была, крупная, хотя ее совсем и не окучивал никто, не полол: сама взошла, сама выросла и созрела. Такая уж была земля там хорошая, добрая, и лето тоже: малины было столько, что пройти невозможно, грибов и черники, ягод всяких — и так близко от города, рядом совсем, будто нарочно для нас этот островок глухой был придуман и существовал. Островок леса и луг, на котором была трава-мурава, шелковая и ласковая, полегшая от дождя. На нежной земле нежная трава, а дальше за ней уже настоящий лес и поле. Там росла трава сухая, жесткая, она сопротивлялась и дождям и ветру, она топорщилась, ершилась. Ее топтали кони, ели ее, щипали, и стала она выносливой, сухой.
Хотелось на этом лугу лечь и читать, чтобы травинки тихо шуршали над головой и щекотали ноги, лицо, путались с волосами, жаворонок пел, а книга была бы такой же светлой и увлекательной и подарила еще больше счастья, чем этот луг, хотя вообще-то я хорошо знала, еще с детства, что все зависит от самой себя, от здоровья и веселья, что в тебе, — тогда и дождь не в дождь: всегда можно найти сухое местечко даже на сеновале, принести туда одеяло, спрятаться от дождя и читать в тепле, то есть создать себе маленький уют. Дождь пусть себе идет, а тебе тепло и сухо, весело — читаешь, и все тут.
Но эта полянка всегда создавала настроение, даже если был угрюм и расстроен, все дела останавливались и разваливались, даже если было холодно, — нужно было только попасть на эту полянку, и воскресало то ощущение счастья и здоровья, что было когда-то.
Казалось, что в этом месте живут зайцы, скачут все зверюшки и лисы, — и в самом деле, однажды увидели здесь лисицу… Поздно ночью уезжали — и вдруг в свете фар засверкали чьи-то глаза. Вспыхнули огоньки, и четко обозначился силуэт лисицы. Она застыла — и вдруг сорвалась, умчалась, исчезла, будто ее и не было вовсе.
И зайцы появлялись по весне — как вихрь проносились, и разглядеть их было трудно: они появлялись и исчезали — голенастые, мелькали их ноги. Зайцы казались даже скорее олешками, чем зайцами, — такие были стремительные.
А мы все веселились и хулиганили тогда. Все было смешно — и зайцы и не зайцы, даже ворона казалась смешной и о вороне можно было много и подробно рассказать, и о каждой букашке и былинке.
Что бы ни случалось — туда его, в котел наших словес, смеха и веселья. Конечно, бывали и трудные дни, и трудные недели, даже годы, бывало все, но так или иначе мы, веселые нищие, не заботились о том, чтобы стать богаче, стать другими, нам было все это как находка: заплатили гонорар — хорошо, не заплатили — тоже хорошо, потому что главным были не гонорар и даже не гонор наш, а только мысль, ощущение, верность себе…
А на поляне стоял дом, простая избенка, черная, обшитая чем-то там — дюймовкой, или как еще надо сказать, — избенка об одной комнате и кухне, маленькая избенка, но уютная, хотя по осени и зиме холодноватая, как вагончик. Натопишь — жара, потом выдует все.
В избе — лавки, печь, как положено, стол и кресло самодельное, очень славное кресло, покрыто шкурой барана — для тепла, для уюта, для красоты, хорошее кресло, и, сидя в нем, он всегда и работал, хозяин дома. Сидел, писал — читал, чай пил — читал. Борис лесник, читатель, писатель, друг наш. К нему и ездили, у него и картошку сажали. Не для шутки — для дела, чтобы зимой еда была в подвале — картошка, да и сами себе возили от него картошку, удобно было, и вкусная картошка.
А время бесшабашное, и мы все — тоже, хоть и серьезные будто люди, а все не очень серьезные.
Встретили его на Невском — идет, рассеянно смотрит вперед, даже улыбается чему-то там, мыслям своим или тому, что приехал в город, идет…
— Здравствуй, Борис!
— А, здравствуй!
— Ты где теперь живешь, что делаешь?
— Работаю!
— Кем?
Он отвлекся, стал куда-то глядеть и в сторону сказал невнятно: «Мясником» — так послышалось, и вдруг сорвался, побежал куда-то за кем-то там.
— Постой? Куда ты?
— Потом, некогда, ждут меня!
Ушли от него удивленные — надо же, мясником работает! Вот диво! Такой книжник, такой неприхотливый человек, далекий от всего такого, как торговля, и мясо, и вообще еда; сказать, что аскет, трудно, но и не вполне обычный человек. И вот — нате вам! — мясником работает.
Рассказали, что мясником, потом встретили его — сердитый, злой…
— Что ты сказки рассказываешь, каким мясником я работаю? Глухая, что ли? Лесником я работаю, лесником.
— А, лесником! А мне послышалось…
— Так послышалось — перекрестись! Ну ладно, пусть мясником работаю…
Бывал он сердит, но отходчив. Злости не культивировал в себе, наоборот — старался быть сдержанным, приветливым.
Улыбался уже — хорошо улыбался, говорил:
— Приезжайте вот на кордон ко мне. Картошку сажать, картошку есть.
Принимал все как должное. Слушал гениальные мысли наши, слушал все бредни и не бредни, иногда сердился, но чаще слушал. Иногда сам начинал говорить, но больше слушать мог и никогда ничего из своих сочинений не читал нам вслух и читать не давал никому. Писать писал, а читать не давал.
Кто верил тому, что пишет он великолепные вещи — он уже печатался и имел успех, — а кто не верил, только все равно все тянулись к нему. Может, и потому, что рад он бывал гостям на своем кордоне, в одиночестве. И потому, что был он все-таки человеком веселым и серьезным, честным и прямым. Что хочет сказать, так и скажет, что думает, — это был главный сюжет его существования: говорить, что думаешь, — и мы — за ним или сами по себе — тоже.
О, лес живил и радовал, лес манил и сулил все блага и все счастье. Увидеть его было счастьем, погрузиться в него — радостью несказанной: пожить хоть день, хоть два — воскреснуть.
Видно, лесными жителями были предки, хоть и не жили в лесах, но вышли из них. А может быть, было это лесное существование тоже ими продиктовано — поклонение лесу, природе, воде и земле.
Он тогда не курил, да и сейчас не курилка. Он и не пил, кроме воды и чая, ничего; он дышал так яростно, глубоко, ровно… Верил, что дышать нужно именно так.
По вечерам сидели возле печки, грелись, смотрели на огонь, но становилось тоскливо от скудного света керосиновой лампы, от того, что лицо горело, а спине было холодно, и хотелось домой, скорей домой, чтобы зажечь электрическую лампу, включить телевизор, лечь на мягкую кровать, чтобы было сухо и тепло, а то здесь одеяла сыроватые, вообще все чужое. Домой, домой — и садились в машину, сколько могли, шесть так шесть человек, семь, сколько влезет — хоть до остановки автобуса, уезжали скорее, а он оставался или иногда тоже уезжал: и ему хотелось из лесу в город. Но не всегда, чаще он оставался в сыром бору, в одиночестве: ждать утра, солнца, света и тепла.
Лес теперь был темным, враждебным, холодным. Лес был чужой и немножко страшный, но вырывались из него на свет асфальта, шоссе — и резко ехали и обгоняли, веселились. Машина казалась прибежищем тепла, цивилизации, уюта. И — приезжали. Если одни, то радовались своему дому, пустой нашей квартире, где была горячая вода и ждала кровать — сухая, мягкая, своя. Падали в нее, засыпали блаженным сном — и светились во сне яркие земляничины, тяжелые ветки елок, весь лес, просвеченный солнцем, горящий на закате, — снова издали он манил к себе.
Иногда казалось: что́ он там может придумать один, в своем лесу, что еще о лесе не сказано, что делать столько лет в лесу, в одиночестве, что наблюдать, когда уж все наблюдали и писали, все всё сказали? Надо жить, как все живут, нечего ставить себя в какие-то там удивительные условия, делать нечто, чего никто не делает; нечего мерзнуть и мокнуть, ходить за керосином десять километров; нечего сидеть впроголодь — теперь-то, когда он мог бы жить и в домах творчества, в городе — все сидеть и сидеть на своих жестких стульях и выжидать, когда солнцем обогреет. Пустяки все это! От холода и голода фантазии не приходят в голову — на уме одни заботы о еде и тепле. Все силы на это уйдут, и только. Что могут сказать хорошего лошади да волки, что придумают они нового?
И лошадь сказала свое слово. И волк, и корова, больше того — всякое дерево шепнуло что-то, всякий листик, муравьишка, каждая бабочка прошелестела своими крыльями то, что давно было забыто, каждая травинка, даже тропинка заговорила, даже сухая ветка и хвоинка. Все вдруг ожило под его руками, все вольное, бесшабашное, смешное пошло плясать вприсядку, заколесило, заговорило, вдруг стало бодливым, кусачим, живым и волшебным, простым и сложным, смешным и грустным. Все отразилось в нем. Он ничего не забыл, он ничего не пропустил, не оставил в покое. Все сказки мира, все волшебные истории, все простое и реальное, обыкновенное и необыкновенное вдруг ворвалось в книгу — и закипело, заплясало, заискрилось. Все будто бы и не существовало до сих пор, а только теплилось, все будто бы и не жили, и никто не видел леса и тропинки между деревьями, ромашками и вереском. Никто не видел этого всего до него. И явился он, как Пан, — не бог, не зверь, не человек, а Пан, и его подруга Сильва — лошадь, черная корова и волк, уютная тропинка и ручей, лиса, которой все должны улыбаться при встрече и снимать шляпу, тетерка, которая хочет показать своих детей и заманивает к себе, земля и лес, лес… О, какой лес! На самом-то деле есть леса и получше — ух какие есть у нас леса, какие лесищи, таких и не видывал никто, разве что на экране, только на экране они не кажутся особенными, ведь для экрана все годится и любую вещь можно показать особенной, а леса на самом деле потрясают своей мощью и красотой, но у него лес, самый что ни на есть обычный для наших мест лес, оказался особым — одухотворенным, живым, говорящим. Не каким-то там лесом до небес, не каким-то светящимся, полным особого своего света — березы сами источают свет, а говорящим, дивным существом, которое страдает и живет, любит и ждет ласки, печалится и радуется.
И открылся свой особый мир — вольный и светлый, живой, искристый, бесконечный, весь состоящий из солнца и смеха, заманил этот мир и обступил со всех сторон, насмешил, развеселил, утешил.
И где стояла эта Сильва, которая летает по лесам, говорит человеческим голосом, иногда оказывается на небе, зовет в разные стороны, скачет над лесами, извивается как змей, приносит жеребят каждый год и удирает от хозяина, куда ей взбредет в голову? Где она была, мы ее знали? Видали? Нет, не видали, потому что, сколько бы мы ни знали ее, все равно бы не разглядели такой, говорящей лошадью, такой вот, какую увидел писатель. Нет, не писатель — лесник.
Кто выслушает ее, кто будет любить такую вот непутевую, нелепую и прекрасную гулену, которая и не работает совсем, знать не хочет узды и еды; стойла, корма и овса? Кто будет держать такую лошадку? Он… Потому что не все на свете польза делу, не все на свете разумно и рационально, не все необходимо, нужны и такие вот существа, чтоб Ивану не в догадки, где гостят его лошадки, чтобы ломать себе башку, что же это такое за символ, что за притча, что за выдумка — Сильва и ее хозяин?
Потому и пахали поле на «Москвиче», чтобы Сильва гуляла сама по себе и отдыхала на курортах. Потому и сажали для Сильвы картошку, чтобы она могла поесть зимой, чтобы была жива-здорова: ведь в плохие времена Сильва появлялась дома и просила поесть.
Работали за нее, а она жила себе и жила, как в сказке, и написала сказку о себе.
И все мы померкли, все мы отошли на задний план, а осталась она, она и он. И еще тропинка, дорожка, лес…
Если увидишь тропинку, то погляди на нее, на ее выражение. Какое у нее лицо. Какое? Она может быть веселая или унылая, петлять или идти прямо, — разве узнаешь, что за лицо у тропы? Но узнаешь, что она добрая, что по ней босиком идти — удовольствие, особенно поутру, когда ногам еще колко и весело. Она никогда не остановила тебя, не расплескала воду. Она для тебя твоя тропа, и ты идешь по ней, как корабль по глубокому океану. О, сколько можно дальше говорить о тропах, какие они — вересковые, моховые, мокрые, плачущие, веселые, живые, как змейки! До чего легко станет говорить о них, как только прочтешь его трактат о тропах, и сколько можешь добавить к этому! Так бы и продолжал: тропа бывает для тебя и для себя. Та, что для себя, так легко теряется в лесу, в бору. Вот была, была, шел по ней, шел, да и пропала она, завела в глушь, бросила тебя одну — иди куда хочешь, но зато расплескала возле ног землянику и чернику, костянику — что еще? Не увела никуда, а привела. Сиди на поляне и собирай.
Тропа бывает литературная, тропа бывает всякая, но литературная тропа это тропа не его и не наша, она — искусственная, она придумана, а его тропа — это самая простая дорога, та нехоженая дорога, по которой можешь брести неведомо куда, брести вечно, бежать рысью, галопом, лететь, мчаться, бежать, догонять… Ты можешь брести по ней, ей нет конца и края, она — твоя единственная, неповторимая, та самая, которая проложена им. Она ведет в тот мир — его только, который был доселе не ведом никому, он — открыватель этого континента, который называется весь мир.
Ах, громкие словеса, скажут мне, ах, какой захлеб! Просто человек весело и борзо написал о лесе, и о себе самом, и о том, что чувствовал в одиночестве. Не велика заслуга — написать с юмором о себе и о своих собратьях, и не велика, и не нова…
Но не так это все. Пойдем дальше от тропы или по тропе, открытой им…
Идем от дома на поляне в лес и там в лесу откроем этот его лес. И нет описаний леса, нет у него сравнений, нет красот совсем — это психология леса, это его жизнь, кипение, борение, картина совсем не сладостная, не возвышенная, а живая и совершенно особая.
— Я люблю лес! — кричит Борис.
А лес?
И лес отвечает ему, что он тоже его любит. Не боится его, не мстит ему, а любит и открывает ему самые свои тайны. Манит его, зовет, передает свою душу. А душа у леса всякая: и тонкая, нежная, ранимая — и грубо мстительная, невольно мстительная за то, что не все понимают его. И мысли зашифрованы в каждой сосне, в каждом кусте, во всякой ягодке. Мысль или то, что принято обозначать этим словом, то таинство, которое рождает мысли, образы, тропы и фантазии, то, что вдохновляет и открывает душу.
Уже давно доказано что растения чувствуют нечто. Не очень острую боль, не очень сильное раздражение, не сладостное счастье — они, как и все в природе живое, животное, могут перенести большие морозы и сильные ветры, жару и засуху, но не просто перенести, перетерпеть, а почувствовать нечто и перенести.
Ученым надо это доказать, а Борис это и так знает, и так понимает. Он верит, просто верит, и следом за ним — мы.
Одиночество. Страшная вещь? «Не страшная!» — кричал он, и мы не очень этому верили, потому что не было у него и одиночества, был он с друзьями, но был и один тоже, то есть был с кем-то, как и другие, немножко больше и иногда только совсем один, и тогда он слышал и видел лесные голоса и образы, различал то, что не слышно в городском и людском гуле, слышал то, что не всем слышно, что забито и загнано городом и людьми, — живое, лесное, природное, первозданное.
Ах, есть на свете город и его красоты, есть на свете телевизоры и кино, театры и картины, всякие фокусы, только если хлынет тепло и солнце, пройдет гроза, возродится поле и лес, тогда все люди, толпами, давясь в поездах и машинах, кидаются куда-то, забывают про все на свете и едут, едут, чтобы вдруг на поляне найти один гриб, несколько ягод, вытащить махоньких рыб, а то и просто отдохнуть — дохнуть полной грудью, потому что нет ничего другого, кроме свежести леса и поля, чистой воды и моря. Нет горячих батарей и уюта, нет телевизора и картин, дворцов и драгоценностей, все они из солнечного тепла и воды — явление вторичное, одни подражают только, не родились сами по себе, они стараются только создать подобие настоящего, быть похожими на лесную поляну и солнечное тепло.
Старый спор горожан и сельских жителей, старый спор стоиков и не стоиков, старый спор, и его никогда не окончить, — что лучше, что необходимо: соловей искусственный или натуральный, естественная роза или произведение искусства, очищенная вода или чистая в своем изначальном состоянии — и кажется, тут нет двух мнений: никто не хочет пить очищенную воду, могут только привыкнуть к ней, но радости она не доставляет. И вот он выиграл этот спор, это вечное боренье горожан и сельских жителей, он его выиграл и нашел там то, что все горожане потеряли, — большое равновесие души, большое дыхание и ту великую сосредоточенность, с которой только и можно открыть свой мир и рассказать о нем людям. Он все это нашел и получил, а мы, скептики, те, что уезжали и радовались своему искусственному теплу, и миру шума и телефонных звонков, так и остались без говорящих лошадей, без коров и волков, без тех, кто в каждом дереве и ветке видит профиль волшебницы, которая воскрешает и ухаживает за больным и одиноким; без солдата, который борется с чертями, без человека, который может себя замуровать в доме, без всех тех фантасмагорий, аллегорий и радостей, что приносят с собой лес и маленький дом на его опушке…
Говорящая лошадь… Что это такое? Кто она? Что значит? А что значат все истории, происходящие с человеком? То его уводит, уманивает за собой тетерка, которая желает показать ему своих детей, — он уходит и забывает, что топится плита в доме, варится картошка; то его увозят прямо на небо; то он вылавливает, спасает девицу, которая вовсе не собирается топиться; то тушит пожары грудным молоком, — что все это значит? Все на свете и ничего ровным счетом — сказка-складка, фантазия. Гадай, разгадывай, что все это значит. Можно наговорить массу слов о символах и тропах, о том о сем, угадать, что значит то и то, только не угадать и не назвать никаким дивным словом ни буйство фантазии, ни размах и резвость, что существуют в книге «Лесная лошадь», в книге первооткрывателя Бориса, который победил.
ЧЕЛОВЕК, ОТКРЫВШИЙ…
Игорю Максимовичу
Человек, открывший континент, ступивший впервые на землю, человек, который первым вышел на берег, покрытый коралловым песком, сверкавшим на солнце так, будто само солнце рассыпалось здесь, на берегу, в бухте. И он назвал эту бухту именем своего отца, он, Адмирал окияна-моря, так звали его, именем почти сказочным, но присвоенным ему со всей торжественностью, на какую были способны короли и королевы тех времен, человек, которому с момента появления на свет было дано имя носителя Христа через воду, носителя всего мира. Так он и сам себя назвал: Хро Ференс, раб и спаситель Христа, сына Марии.
Это легенда: к человеку обратился путник и попросил его перенести через ручей. И человек взял путника на руки и понес, но тот оказался таким тяжелым, что человек готов был бросить его, но он донес его и поставил на землю, сказав: «Ты весишь столько, сколько весил бы целый мир!» — «Я и есть весь мир», — ответил путник. С тех пор того, кто нес его, нарекли Христофором.
И он открыл континент, переплыл через океан и шел по берегу, похожему на солнце. Это была удача, которая дается одному человеку из миллионов. Такая необыкновенная удача ему, ожидавшему ее так долго, добивавшемуся ее не без трудностей, если не сказать — через тысячи неудач, отказов, недоверия и поношений со всех сторон.
Он шел по песку, пел свои песни, похожие на молитвы:
Благословен будь свет земной, Благословен будь крест святой, Давайте господа молить, Чтоб в гавань счастливо приплыть. Нас не коснется горе, И нам ни смерч, ни ураган не страшны будут в море!О, путешественник, тот, кто шел голодным и сирым, без воды, сухарей и курева, тот, кто мерз и мок, спал под открытым небом, кто мечтал только об одном — ступить на землю, укрыться от комаров и москитов, тот, кому приходилось месяцами ждать и надеяться, кто считал себя погибшим и воскрешенным тысячи раз, кто дышал полной грудью и спал в мокрой палатке, кто открыл алмазы и земли, редких насекомых и птиц, кто открыл звезды величиной с электрическую лампочку и любовался ими, хоть казалось, что ничто больше не может вывести его из состояния унылой усталости, похожей на болезнь, тому я ныне кланяюсь и дарю все свои слова. Пусть родятся они самыми нетленными и яркими, как те ощущения, что ведут открывателя в неведомые края.
Да, я знаю, что такое тяжкое путешествие, хотя и не бывала в настоящих экспедициях, таких, где все подчинено одному ритму, где поход рассчитан на несколько месяцев, где цель ясна и поклажа тяжелее, чем ты сам, — все надо унести на себе, я не бывала в таких походах, но даже и в малом путешествии — на байдарке, на лодке или в машине — все можно понять и почувствовать. В походе на месяц тоже нужно многое претерпеть.
Только два раза в жизни мы попадали в непроходимые, совсем нехоженые места, где утки и ондатры не боялись человека, где всякие зверюшки подходили прямо к байдарке, где тучи комаров облепляли так, что и дышать от них было трудно, но все равно и три-четыре дня такого пути — уже опыт и полное представление о тяжких походах открывателей…
Тяжелы их пути, и кажется, нет таких мест, где человек, прошедший первым, не оставит людям то, что он увидел. Он расскажет, напишет об этом. Больше того, он вечно будет снова и снова желать тех трудностей, которые ему случилось пережить.
Ну вот и вы были таким открывателем.
С вами говорила почти всегда о том, что же такое открытие. Ну хоть острова, архипелага или целого континента, но вы открывали именно континент, правда, он открыт был еще в восемнадцатом веке — Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев видели его, открыли, а до них плавали китобои, рыбаки, купцы, они знали про Антарктиду, но не знали, что это континент, да и вообще им было не до открытий, им нужны были жир, рыба и мех. Были там рыба и меха, были новые земли, но охотники не знали, что такое открытие. Мы говорили о том, можно ли считать тех, кто первым назвал Антарктиду Антарктидой, открывателем ее, но Фаддей Фаддеевич и Михаил Петрович назвали Антарктиду «льдиным материком» и писали только про «матерый лед чрезвычайной величины». Значит, не они, а кто?
Слово «открытие» всегда звучит очень сильно, и даже скорее можно сказать, что не открытие, а только исследование было сделано, но кто может сказать, что открыл Колумб, когда и до него кто-то плавал — финикийцы и норманны, кто еще? Бог весть кто до него, а он сам — он открыл, и не знал, что́ именно открыл.
Итак, если открытие — это нечто сверхъестественное, то открытием в чистом виде нельзя назвать и открытие Америки, это открытие для Европы и Азии, это открытие для исследователей, для людей цивилизованных, вернее почитающих себя цивилизованными, для тех, кто с важностью считает себя всезнающим, а простой вещи совсем не знает, не знает, что есть другой материк, кроме того, на котором живет. Живет и думает, что знает все, а сам не знает, а узнав, важничает еще больше.
Вы всегда говорили, что открыватель тот, кто ступил на землю и исследовал ее. Одним из первых были Фаддей Беллинсгаузен, Лазарев, а вы? Ну пусть двадцатый или десятый. Кто был десятым космонавтом? Не сразу можно ответить, трудно запомнить. А ваше имя? Тоже.
Человек, прошедший первым по неизведанной земле. Кто он, какой он?
Перед моими глазами прошла добрая половина вашей жизни, дорогой первооткрыватель новых земель, новых континентов, почти половина вашей сознательной деятельности, юность не в счет, юность ваша была просто юностью, хотя и она была такой талантливо-страстной и безудержной.
Хотела бы я видеть вас в то время, слышать, как вы обольщали и обольщались неуемно, дико. Страсти ваши были непомерны, здоровье неукротимо, если и до сих пор ваши легкие, сердце, сосуды и прочее выдерживают такое напряжение, от которого мы бы давно умерли. Работа днем и ночью, окружение — наше и всех, доктора, всякие мелкие и крупные неприятности, телефонные звонки, гости и — работа, работа.
Нет, юности вашей мне не воскресить, не могу. Могу себе представить дачу, веранду, тенистые дорожки, всякие там цветы ноготки, чай с малиной, купание по утрам и прочее. Отец знаменит, народ вокруг самый избранный, хоть и ваши все растят из вас гения, но говорят с вами резко. Так принято, так воспитывают, и вы говорите грубости, и вы мечетесь. Никогда не влюбляетесь, но всегда — любите, яростно, сильно, и этого никак не остановить.
Тяжелый был человек ваш отец, и вы тоже следом за ним. Крутые нравы и страсти, выверты, всякая чертовщина и ваше бегство из дома — совсем.
От маленьких комнат, натопленных до угара, от маленьких душных комнатенок с лампой и мотыльками, которые бились в стекла, от тягучего, страстного чтения всякой всячины — книг о путешествии Фоссета, этого великого мученика и неудачливого, стихийного путешественника, обладавшего странной способностью неутомимого ходока, первопроходца, открывателя золотых копей, городов, редких животных, насекомых, растений, до дешевой литературы, которую добывали вам — кто, горничные? — книг «Гнев Диониса», — от всего этого вдруг бегство без денег и теплой одежды, без благословений и напутствий, вас, холеного барчука, который немного занимался спортом — так, для души… унесло северным ветром — куда?
На Север, на Крайний Север, где в буквальном смысле ветром сдувало с ног, где было столько простора, что хотелось увидеть хоть одно не белое пятно, хоть что-то там такое каменное, лесное, уютное, но ничего не было, кроме льда и снега, льда и снега. И еще — холода.
И вы оставили свою любовь, свое чадо, вы, чадолюбивый человек, оставили все и уехали. Унеслись… И кем вы там были? Подручным, коллектором или просто рабочим? И тем и тем разом, потому что это была тяжелая экспедиция, тяжелая и радостная. А могли бы вы спокойно учиться, жить дома, спокойно и просто, но ничто не могло остановить вас учиться и быть рядом с теми, кто был славен на весь мир, кто знал все и мог все.
И зуд открытий поселился в вас, с тех пор начались поиски такой земли, которую никто не видал, чтобы плыть и вдруг крикнуть: «Терра, терра! Моя премия!»
И это случилось, только в ваши времена уже не кричали о премии, а «терра» произносили в шутку, хотя волновались все, кто действительно знал, что видит новые земли, встречается с ветром, которого еще никто не ощущал, слушает дивную тишину мест, где никто не жил, видит первозданную чистоту льда и снега, узнает непомерную силу урагана и наносит первые очертания земли на карту, линию берега, скрытого льдом, то есть делает почти то самое, что сделал Хро Ференс, с той только разницей, что он, великий человек, так и не догадывался о своем открытии континента, называл его как угодно, только не континентом.
Север рано старит человека. Обморожено лицо, вероятно и легкие, контраст между теплом дома и необъятным холодом, страшным ветром и сырым ознобом палатки, домика, который только слабо обогревает, вернее оттаивает, в нем все становится влажным, он укрывает от ветра, да, но ветер врывается сквозняком, свистом, дом такой не утешает. Можно привыкнуть к нему, отвыкнуть от тепла и притерпеться к сырости, но нельзя забыть настоящее тепло, сушь, уют дома, нельзя забыть про него, и только когда вдруг попадаешь в тепло и комфорт каюты, отеля, тогда понимаешь, как бывает тепло. Но этот контраст, ожидание такого тепла и тянет снова в сырость палатки и дома, тянет ветер, который заставляет дышать до глубины легких, потому, может быть, так резко контрастен и характер человека, побывавшего на самом полюсе, потому он сердит в маленькой квартирке-коробочке. Ах, как тесно ему, как тошно, как раздражает все и тянется душа на вольную волю. Глазу тесно от углов и окон, глаз слепнет оттого, что упирается в стену, в книгу, в обыденность. И какое величавое презрение к обывательству, и своему в том числе, какое тяжкое презрение.
— Вы говорите, идти гулять? Вы, путешественница в парк… Когда мне было восемнадцать, я встретился с первым руководителем, после долгого пути добрался к нему, мечтал выпить чаю и съесть что-нибудь, у меня от голода кружилась голова, но я встал, гудели ноги, когда он вошел. Встал перед ним через силу и еле стоял. Он знал, что я устал, и сказал мне: «Прогуляемся до ужина». И мы пошли. Он своей легонькой походкой шел и шел по буеракам, холмам, по хляби, с камня на камень, с камня на камень. Шел, шел, и я не смел отстать. Знал, что он меня испытывает на выносливость. Мы прошли километров двадцать «до ужина». А теперь, когда я сижу один или с друзьями, ем, сплю, пишу, говорю с аспирантами и переваливаюсь с кресла в кровать, со стула на диван, теперь я могу гулять в парке с собачкой? Могу, конечно, вам в угоду, без пользы для себя, для своих ног. Можете радоваться, что вытащили меня из кресла.
И он будет ворчать даже нападать, будет являть свой несносный характер, до того несносный, что самые терпеливые друзья, самые покладистые — шарахнутся. Тогда он обратится к новым и новым друзьям, чтобы снова обрести в воспоминаниях то дыхание и свободу. И — преуспеет, пока будет сыт разговорами и воспоминаниями, пока будет доказывать что-то, спорить с кем-то, кто был не таким, действовал не так, как ему хотелось.
Тщеславие… О, да, да, его много, как и у всякого, кто столько претерпел, нет ничего страшнее, чем обездоленный герой, кому не повторяют каждый день, что он героем был, будет и есть.
Вся слава — его, все люди — его поклонники, он отравлен славой, она одна в его крови, и если нет этого, если он смиряет себя, то все равно это вырывается наружу, как пламя, вдруг и палит тех доверчивых, кто желает прикоснуться к нему, подойдет слишком близко.
Закона для героя нет, он один со своими законами, один, и спесь сбить с него — занятие не из легких. Все служат только ему, но и ненавидят в одно и то же время. Страсти вокруг героя. Он — и посмешище и кумир, он и любим и ненавистен. Он — отругивается, но все тщетно. Если он телепат, то непременно неврастеник на взгляд врачей и тяжелый человек для своих.
Ох как несносен — и прекрасен. Он…
Он, кто говорит колкости в глаза и за глаза, злословит, унижает и вдруг ни с того ни с сего — возвеличивает. То есть он деспот, разящий и милующий, и в то же время добрый гений, и даже скорее добряк, чем раздражающий человек, и человек, который всегда за нас, за тех, кто мечется в правоте своей и слове, человек, который привлекает всех людей, интересует их и сам увлекается ими до поры до времени, до тех пор, пока работа и неприятности не захлестнут его выше головы, тогда — честный и прямой крик: «Уйдите!» — уходим, чтобы все равно вернуться, чтобы все равно простить, все равно любить и желать увидеть снова.
Толпа вокруг вас — толпа людей всевозможных, всегда интересных, всегда разных. Всегда толпа таких, как хочешь вдруг увидеть. Жажда информации, ваша неуемная жажда информации: «Да расскажите что-нибудь! Ах, она ничего не может рассказать!» Прежде чем успеешь о чем-то там подумать, прежде чем начнешь рассказывать, тебя уже прервут, остановят, скажут, что ты ничего не знаешь — и в самом деле чувствуешь себя необыкновенно скучной собеседницей, которой нечего рассказать, давно себя исчерпавшей собеседницей, которой пора уходить и не морочить тут голову. Но тогда включают магнитофон, заставляют — почти силой — слушать музыку, вслушиваться, постигать то, что действительно не слышал до сих пор.
Вы — и музыка, это особенное ваше существование — музыка, которую вы знали, любили временами до того, что она изводила вас и всех, музыка, которую вы заставляли слушать, музыка, с которой вы работали, музыка, которая должна была заглушать и ваши страсти, и ваши любви, музыка, которой вы заглушали и ненужные разговоры гостей, всяких новых людей, музыка всякая — джазовая и симфоническая, народная и камерная, всякая прекрасная музыка была вашей и даже больше того — она становилась вашей и особенной, когда вам это было нужно, вы настраивали людей на то, чтобы они слышали ее, как вы, всегда слышали.
Теперь пишу о вас, о старом, но все еще очень молодом, все еще неуемном, — пишу о вас, и то же ваше небрежное отношение к слову, к мысли, к тому, что вокруг, — полное небрежение приходит ко мне от вас, пишу и вижу вас пятнадцать лет тому назад. Таким еще молодым, полным сил и света, каким увидела тогда.
Как ускользает от меня ваша душа, всегда ускользала, всегда мстила за себя, уводила далеко, кружила и настигала, как она тяжело ускользает и не дается в руки. И слышу ваше скептическое, настырное ко мне отношение: дразнить ее, колоть и привечать, отталкивать и гладить, говорить всякие вещи, чтобы умела постигать… И я училась этому.
Водопад шуток и анекдотов, остроумие по любому поводу, болтовня просто так, ни о чем, колкости, привычные и не совсем. Изощренная школа злословия с переходом в торжественный тон — так, вдруг, ни с чего, торжественный тон, который призван будто бы подчеркнуть истинное ко всему отношение, но этот переход только подчеркивает ту степень раздражения и тоскливого отношения ко всему, столь принятых у вас.
Но это все прощается совершенно, потому что действительное отношение ко всему всегда разное, смотря по настроению.
— Что вы делали в экспедиции?
— Открывал и закрывал земли.
— А еще что?
— Пил водку, которую выдумал бог. И удивлялся пингвинам. Меня поразило в пингвинах не то, что они похожи на людей, а то, что люди похожи на них: ходят так же важно, носят фраки. Пингвины полны достоинства: не уступят дорогу и идут по своим делам, будто не видят людей, в то же время в куче поддаются панике, если к ним подступать. Они долго выдерживают человека, но после, когда уж очень человек близок, начинают теснить своих, и те в свою очередь — следующих, и вдруг вся плотная масса начинает беспокоиться и будто переливаться в сторону. Уже никто не шевелится из людей, а шевелится только масса пингвинов. Они неудержимо льются в сторону, и это движение не остановить и не прекратить.
Пингвины чувствуют себя хозяевами на островке и никак не желают уступать людям своих территорий и прав, они живут, как и жили до вторжения людей, и это поражает. Особенно то, что они не пугаются даже машин. Они в отдалении, но не очень далеком — в нескольких километрах, и продолжают делать все то, что и прежде: выводят птенцов, ловят рыбу, отбиваются от врагов.
Если пингвина увезти на другой край острова, он все равно придет к себе, на прежнее место, будто у него есть компас или навигационное устройство. Он точно идет — даже известно, что идет по меридиану.
Каким способом это происходит, никто не может установить. Как ориентируется пингвин? Этот странный человекообразный пингвин, который может даже кормить птенцов своим молоком, молочной массой, похожей на птичье молоко, жир не жир, черт знает что, белое, кисловатое, жирное? Странное существо.
Пингвину нужна его окраска — белая с черным, он становится не очень видимым и на воде и на снегу, но человек почему так любит черное с белой манишкой?
И кажется, что человек перенял от пингвина его вид.
Хотя человеку это не всегда удобно, по крайней мере мне фрак ужасен и белая манишка — тоже.
Ветер, что сваливал вас с ног, ветер, которого вы боялись, как всякий человек, подверженный тяжелым настроениям и депрессиям, ветер, раздражавший вас так долго, там, на Севере, и на Южном полюсе, ветер — самый большой бич, он будто бы остался в ваших ушах на всю жизнь, он остался в ваших словах, остался в поступках той раздражающей страшной силой, которая толкает и сегодня работать дни и ночи, дни и ночи, работать так, будто никогда и ничто не совершится без вас.
О, силища первооткрывателей! Какая неуемная страшная силища сокрыта в тех, кто пятьдесят лет своей жизни не знал настоящего сладкого сна и отдыха, не знал размеренной и спокойной жизни, не знал простого и веселого счастья без открытий и свершений, без того, чтобы не драться, не спорить, не защищать и опровергать, умирать и воскресать и радоваться всякому своему выводу. Радоваться так мало и отдавать сил так много.
О, это силища, пусть она торжествует, пусть она повторяется во всех, кого вы научили, позвали за собой, заставили быть, пусть она будет вовек. И вы — тоже…
МОРОЗНЫЙ ВОЗДУХ
Морозный воздух, как муаровая лента, переливается всеми цветами радуги на солнце, и сам мороз и это солнце, похожее на луну тусклое солнце, рассыпаны по воздуху, и все это, как нечто нереальное, фантастическое, радужное, театральное представление, декорация, — все это так красиво и в то же время страшно, потому что это все происходит во время блокады, зимы, смерти, все происходит в тисках страха. Все это страшно и дико, все будто сон — и все это в самом деле.
Ты, как воробей, ты, как вороненок, нахохленный, закутанный по уши — голову не отличить от тела, вся в платках, в шарфах, шапках, валенках, варежках, едва дышишь, оставляя иней на всех платках и шапках, едва дышишь, едва видишь эту красоту, этот нереальный и вполне реальный мир, такой красочный, подробный, мелкий, странный и емкий, видишь едва и в то же время много всего и все сразу, потому что видишь особым детским зрением, полным таких деталей, таких красок, которые никогда после не увидят глаза. Эти краски в твоих глазах, они текут и искрятся, они танцуют свой танец и сыплют искры на ту жизнь, что сокрыта в них самих и никогда не повторится больше.
Там, на площади, подле памятника-колокола, стояла старуха, закутанная в платки еще больше, чем я, сердитое, раздраженное и серое ее лицо было отечно. Она держала в руках статуэтку — три грации, но не смотрела на нее, и никто не смотрел на нее, она и забыла про эту статуэтку, которую меняла на хлеб, на папиросы — на что? Она держала эту статуэтку без всякой надежды получить за нее хлеб, или папиросы или что-то там съестное, давно забыла про хлеб и про статуэтку, про себя забыла, и тут я узнала ее. Это была Лидия Ленская, актриса с придуманной фамилией, игравшая в немом кино, красавица, да какая красавица, с глазами, которые, казалось, ползли на виски, живая, такая живая, что ее живость, ее темперамент передавался через немую пленку миллионам зрителей, и она оживляла совсем засохших людей, оживляла своим видом, одними маленькими движениями бровей, а теперь стояла такая старая, отечная, серая, в невозможных ботах, стояла безнадежно, прижимая трех граций, стояла, потеряв надежду выменять их на хлеб, на «Беломор», на что-то съестное. И грации валились из ее рук, из рукавиц, никто больше не узнавал ее, никто бы и не узнал, только я могла узнать, потому что видела ее осенью в квартире на Фонтанке среди развала книг, ламп, ковров, ваз и мебели, которая превращалась в дрова и исчезала в красном зеве печурки.
Я подошла к ней и позвала ее в госпиталь. Она равнодушно поглядела на меня, сначала не ответила, а потом повернулась и пошла со мной.
Лидия Александровна пришла и сидела за ширмами в предоперационной и смотрела усталыми глазами на себя в зеркало. Она удивлялась, видя себя, и даже умывалась перед зеркалом, потому что в госпитале было тепло и даже была теплая вода, в госпитале было все, как прежде, — свет, вода, тепло, натертый паркет, было все человеческое, даже шутки, а там, у нее в комнате, во мраке коптилки, не было ничего, кроме желания топить печурку и глядеть на огонь.
И вдруг в комнату вошел, как всегда шумно, пышно, в окружении свиты, начальник госпиталя, майор Марон, которого так все и звали — Майор Марон, никогда по имени и отчеству, как одно слово — Майормарон, и когда однажды тихий и слезный хирург Иван Тимофеевич, которого, наоборот, не звали иначе, как только Иван Тимофеевич, не знали ни звания ни фамилии, назвал Майормарона Дмитрием Ивановичем, то все долго спрашивали, кого, кого он назвал и кто такой Дмитрий Иванович. Когда вошел Майор Марон, все застыли, потому что было у него всегда всякое настроение и больше сердитое и раздраженное, он мог сказать простые слова «кто такой?» или «такая?» так грозно, что все мешались и терялись, и, увидев Лидию Александровну перед зеркалом, он остановился, будто в возмущении — что это, кто это, почему здесь, — и стоял, и застыла вся свита, все, кто был с ним, и старшие сестры обомлели: сейчас будет шум и крик, будет всякая неприятность, и он стоял так минуту, другую и все смотрел на нее, а она, все еще не отпрянув от зеркала и будто глядясь в него, но отвернувшись от него, смотрела на него без испуга — ведь она не знала, кто он и что может быть, она не знала и того, что он начальник госпиталя, Майормарон, Мармарон. И вдруг он сказал:
— Где-то я вас видел…
И она, привыкшая к этому с юности, но уже забывшая это постоянное узнавание, вдруг вспомнила все и выпрямилась, сделав тот неуловимый и всем запоминавшийся жест бровями, приняла тот вид, который был ей свойствен, вечен, приняла ту позу, которая делала ее неотразимой, вечной красавицей, и стала совершенной красавицей, и халат, наброшенный на плечи, желтый, стерилизованный халат, вдруг стал одеянием настоятельницы Иоганны, которую она играла.
Без всякого грима и краски, без всякого усилия она стала вдруг узнаваемой, той Лидией Ленской, чье имя было известно каждому мальчику и всякой девочке от четырех до двадцати лет, видавшим ее на афишах или в кино. И Мармарон стал вдруг тем мальчиком четырнадцати лет, который застывал перед витриной с ее фотографией, стал тем озорным мальчишкой, который лез через забор и таскал у матери двадцать копеек на кино, чтобы увидеть ее в сотый раз. Он вспомнил свое детство, свой озорной пыл и свою страсть в маленьком уездном городишке, и она вспомнила всю свою юность, все то, что было ее жизнью, успехом, страстью, радостью и горем. Они так и стояли друг против друга, никогда не знавшие до сих пор друг друга и знавшие столь подробно… Она — зрителя-мальчишку, он — женщину-актрису, которую любил.
Он, Майор Марон, был здоровенный мужчина, даже толстый, холеный, так прекрасно выбрит, начищен, наглажен, и она, отечная от воды с солью, которую пили с голоду, чая с солью, кофия с солью, чтобы не было вкуса пустой воды, страшного вкуса пустой воды, которая не насыщала, не утоляла голода, стояли друг против друга, и она знала, что у него в халате в кармане пачка «Беломора», та самая пачка, которую ей нужно было, и она готова была выменять ее на что угодно, вплоть до кольца с бриллиантом, вплоть до картины-подлинника Брюллова, драгоценной картины, столь ценимой ее отцом и дедом. Она чувствовала тяжесть его кармана с этой пачкой и спичками и могла сейчас, сию минуту, просто так получить ее да еще что-то, даже обед, что угодно, но она стояла, отклонив назад голову и улыбаясь той своей улыбкой Иоганны, и ничего не просила, и он, привыкший в добром настроении угощать всех «Беломором» и обедом, не вытащил этой пачки, не предложил ей.
Вокруг них стояли и сестры, и свита, и Иван Тимофеевич, стояли, узнавая ее, поражаясь тому, какая она теперь, и в то же время удивляясь тому, что она была все-таки она и теперь на глазах у всех становилась той, которую они знали так хорошо.
Они все стояли вокруг нее молча, будто было кино и действие, которое надо было смотреть и не кашлянуть, не скрипнуть. Это длилось, казалось, так долго, и вдруг зазвучала сирена — там, далеко, во дворе, была тревога или обстрел, и все вспомнили, что нет ничего — ни кино, ни актрисы, ни детства, ни простого спокойствия, вспомнили, что госпиталь, война, запах пролежней, операции, налеты, вспомнили, что вся чистота, тепло, свет госпиталя даются такой ценой, такими усилиями, которым нет имени, что все это, созданное энергией Мармарона, руками всех, сейчас от любого снаряда может рухнуть или нарушиться и нужно будет начинать все сначала, чтобы не мерзли, не умирали люди, чтобы можно было оперировать при свете бестеневой лампы, чтобы можно было двигаться, работать, лечить раненых, эвакуировать их, выписывать и принимать…
Еще секунду Майор Марон видел Лидию Александровну, еще смотрел на нее, но через секунду, глядя на нее, не видел ее, а видел только посты, которые уже заняли или нет дежурные, видел только то, что в котельную должны были спустить раненых, видел, что Иван Тимофеевич со своей слезной миной уже бежит за шинелью и шапкой, чтобы быть на крыше, видел несколько машин, которые въезжали во двор, — раненые, видел всю тяжелую карусель работы госпиталя.
Он уже отвернулся от нее и бежал по коридору, отдавая распоряжения и крича своим зычным голосом то, что привык кричать, он бежал, и полы его халата ударялись о ручки дверей, карман с «Беломором» безжалостно стискивали те, кто спешил вместе с Мармароном куда-то, и пачка, драгоценная пачка, плющилась и просыпалась крошками табака в карман.
А Лидия Александровна все еще улыбалась, все еще стояла у зеркала, как стояла, когда ее узнали. О, как она все забыла, как она воспряла духом, как все ушло совсем — блокада, вода с солью, чай с солью, статуэтка, которую она так и потеряла в снегу, ни на что не поменяв, не получив ничего. Она все улыбалась, будто ее одарили, накормили, вылечили совсем, будто снова пригласили сниматься в кино, ее, давно забытую всеми актрису немого кино, мать троих взрослых детей. Теперь долго она могла и не курить вовсе, не есть даже, не вспоминать детей, уехавших в Ташкент, на фронт, она могла существовать в своей темной комнате возле печки и топить ее драгоценной мебелью.
КОЛЛЕКЦИЯ
Всегда его склоненная спина, его работа. Кабинетик, уставленный полками, книгами, приборами, всякими ящиками, и немного украшений. Так, самая малость: несколько ковров, тарелочки из перегородчатой эмали, срез лиственницы и единственная драгоценность: коллекция жуков на ярком атласе — искусство и естество, естество, которое так искусно подано.
Наше насмешливое к этому отношение и его торжественная ярость по этому поводу:
— Ах, вам жаль жуков? Бедные жучки, их накололи на булавки! Да этому жуку, которому всего жить несколько месяцев, я сделал памятник! Это ведь не жук в предсмертных корчах, а вечно живой, веселый, воинственный жук! Его усыпили, а я расправил его, он ожил. Это теперь скульптура, вечность, он ползет, поднимает рога, ему твои насмешки все равно, что мне…
Но он сам создал этот мир насмешек и колкостей. Он сам всегда говорил едко:
— Ты жалуешься, что плохо покупают твои мозги? Они и стоят только то, что ты получаешь, а я отдавал свою голову даром. Просто даром.
— Нет, тебе платили больше, чем мне.
— Но не всегда.
Это была правда. Много лет он, согбенный и больной, работал ночами и днями, сколько было нужно для дела, не для себя, работал без устали, казалось — без нужды, просто работал и работал, как все в войну.
Он, вечно нападающий, насмешник, яростный остряк, в душе своей был ментором. Хотя менторство это, казалось, так чуждо его природе, а было. Ему так хотелось учить, наставлять и даже вколачивать то, что он знал, — совсем не бабочек и жуков, а математику. Такое странное сочетание беспокойного нрава и ума с магическим действием за столом. Упорное копошение тонких пальцев над мельчайшими лапками.
Наука была уже не нужна ему в последние годы, и он легко оставил ее, перешел к жукам, только преподавал. А умел он преподавать? Он умел вколачивать и выжимать из человека то, что хотел, этот процесс был мучителен как для него, так и для учеников. Он не жалел себя, а уж их и подавно.
О, как он не любил легких, прелестных студенток, похожих на его экспонаты, на те драгоценные блестящие капельки на атласе, тех мотыльков, которые едва касались предмета, как ему заранее казалось: раз они так хороши и так причесаны, то где им, когда, когда, думать? Где им знать? Он гнал их сразу, даже не пытаясь разобрать, знают они или нет, он внушил им, что они не знают, не знают, и все тут, хоть они знали. Они рыдали, приходили несколько раз, иногда по пять, шесть. Это была пытка для них и для него, они вопили и жаловались, но он был неуязвим совершенно. Однажды я спросила его, сколько у него было хороших учениц. Он ответил:
— Ни единой!
То есть не было ни одной женщины. Они обращались сразу в тупиц, которых он сам порождал своим видом, и преодолеть психологический барьер его отношения к ним они не могли.
О, я знала это его странное и таинственное умение поразить, сказать, заколдовать совсем, сделать так, что ты не могла ответить то, что отлично знала на самом деле, потому что, когда он вдруг, среди всех острот и шуток, дел и верчений в хозяйстве, скажем, оборачивался и спрашивал:
— А ты знаешь, кто написал «Портрет Дориана Грея»? — меня это ошарашивало совсем, будто речь шла о тех его формулах, которые я не пыталась даже постичь, будто речь шла об антимирах, и, запинаясь, я старалась вывернуться, превозмогая его уверенность в том, что я не знаю Оскара Уайльда, говорила:
— Ты играешь в шарады?
— Нет, ответь!
Я вскипала и говорила, что с ним всегда можно ждать приступа склероза и даже инфаркта, что мне не десять лет, а гораздо больше.
Ему нравилась моя злость. Он считал ее проявлением жизни. Вот уж поистине был он средоточием добра и зла, как дьявольский коктейль со льдом, который то обжигает, то охлаждает пыл страстей.
Он так любил спорить, одерживать верх над всеми, говорить властно, не слышать возражений, а в старости едва шелестел его голос, и надо было, чтобы все смолкли и остановились, чтобы услыхать то, что он хотел сказать.
Была история с ним. Однажды в юности, когда все домашние обедали под яблонями за столом, он опоздал и ему все выговаривали, как он мог опоздать на обед. Он терпеть не мог выговоров и рассердился. Тут в его тарелку вдруг влетел майский жук, и он, вместо того чтобы вылить суп, стал говорить:
— Прекрасная приправа!
— Ах, ах, — кричали тетушки и бабушки, — налейте ему другой суп!
— Нет, — говорил он, — это прекрасная приправа! Я его съем.
— Нет, нет, — кричали тетушки и бабушки, — оставь!
— Я его съем.
— Слабо́! — сказал его брат.
— Я его съем.
— Ах, ах! — все еще кричали тетушки, для которых обед был смыслом существования, и он своим опозданием, жуком и всем видом расстраивал этот обед, вызывал у них ужас и колики в животе. Они уходили из-за стола, а он приговаривал:
— Хочу жаркое из жуков.
— Ты мне страшен, — сказала мать, когда он взял в рот жука и стал с хрустом жевать его.
И вдруг отец засмеялся и смеялся до тех пор, пока все не вернулись назад, пока все кончилось общим весельем.
Как знать — может быть, он с тех пор обрел вкус к жукам и стал собирать их?
Коллекция и рассказы о ней доходили до абсурда.
Когда его жена не спала ночами, а он сидел и накалывал и накалывал своих жуков, то она жаловалась:
— Ты сидишь, а я не сплю из-за этого.
— Потому, — говорил он, — что ты не думаешь про жуков.
— Нет, я потому и не сплю, что думаю про жуков.
— Нет, ты не думаешь, а ты думай и думай — и заснешь…
Братья сердились на него за это его умение отключаться от всего на свете и думать только о своей работе, о жуках, а не о близких. Один из них, биолог, говаривал, что все его жуки и вся коллекция составлена из разных частей разных жуков. Но, как бы то ни было, она, эта коллекция, осталась и по сию пору самой ценной из всего того, что он сделал, кажется самой ценной и вечной, фантастической и реальной, — коллекция, ныне выставленная в музее, где-то во Владивостоке, чудная коллекция на белом атласе, сверкающая так, как сверкают драгоценные камни.
ВКУС ЗЕМЛИ
«…И все-таки существует вкус земли, которая бывает сладка или солона, бывает вкусна или горька. Есть чистая земля, которой так мало осталось на свете, но она есть… Вкус земли отдается ягодам и картошке, морковке и простой брюкве, нежной брюкве, слаще дынь. Вкус чистой земли, ничем не испорченной, вкус земли вечной, такой, как бывает чиста и прекрасна вода глубины родников, забытый нами вкус этой земли существует еще и, верно, будет существовать еще долго, хоть и говорят, что нет больше ее, но она есть…»
Так пишет Майя Данини, и в этих словах — она вся. С ее обостренной духовной зоркостью. С ее поистине взыскующим стремлением уловить в человеческой жизни глубинное действие неких безусловных духовно-нравственных начал, чувствовать которые нам так же необходимо и так же трудно, как в бесчисленных плодах земных уловить этот единый и первозданный вкус — вкус земли, их взрастившей…
«Вкус земли» для Майи Данини — это прежде всего изначальная правда человеческих взаимоотношений, правда, еще не осложненная всякими житейскими обстоятельствами, не затерявшаяся в них. Правда, вытекающая из высокого благородства человеческой природы. И, я думаю, именно поэтому одной из любимейших тем М. Данини всегда было детство, древняя и вечно новая история души маленького человека, в котором «вкус земли» — это само его мироощущение, единственная и безусловная мера вещей.
Произведения о детстве, о том удивительном времени, «когда деревья были большими», — чрезвычайно тонкий и хрупкий жанр. И потому — труднейший! Ибо при том, что ребенок решает, по сути дела, те же самые проблемы, что и взрослые, средств у него для этого гораздо меньше, чем у взрослых. Зато они и более сильные, более безусловные, эти средства. Безошибочность нравственного чувства, стойкость поэтического мироощущения, масштаб — да, да, масштаб! — личности — именно от этого зависит, сумеет или не сумеет маленький человек отстоять прекрасную самостоятельность своего духовного мира.
Блестящее тому подтверждение — повесть «Дом без взрослых». Герои ее — дети, старшему из которых нет еще и четырнадцати. Удивителен их мир, исполненный бесчисленных радостей, озаренный ликованием от счастья жить на этой прекрасной земле. И как они оберегают этот мир, как чутко ощущают малейшую опасность, угрожающую ему! Конечно, это мир несколько эгоистичный, заведомо исключающий какое бы то ни было присутствие взрослых. Но, право же, нельзя не простить ему этот детский эгоизм. Ибо «без взрослых» — это не без взрослых вообще, а главным образом без тех, кто не верит, что «деревья» действительно бывают «большими», кто на каждом шагу готов доказывать, что цветок — это просто растение, а сказочно прекрасное озеро — это всего лишь вода…
«Взрослые» все же входят в этот мир. И не только и даже не столько в лице загадочного человека в кожаной куртке. «Взрослые» входят в этот мир в лице самих героев, которые начинают взрослеть, до которых уже начинают доходить (пускай еще в достаточно детской форме) тревоги, ожидающие их там, во «взрослом» будущем. В «доме без взрослых», оказывается, живут взрослеющие дети — в этом все дело. Он было зашатался, этот «дом без взрослых», он чуть не разрушился, этот безмятежный сказочный мир. Но он устоял. Потому что характеры, успевшие сложиться «без взрослых», способны выдержать многое. Потому что у них было настоящее детство. Потому, наконец, что они знают и навсегда запомнят «вкус земли».
…Повесть «Ладожский лед» Майя Данини писала уже будучи тяжело больной. И, кажется, уже зная, что это последнее ее произведение, — Майя Николаевна Данини умерла 22 февраля 1983 года. Наверно, оттого так сильно, так пронзительно звучит в этой повести любовь к жизни, к природе, ко всему тому, что наполняло счастьем ее художническое бытие. И не случайно именно здесь, в своей последней поэтической исповеди, она сказала о самом главном своем жизненном ощущении — о вечно живущем, о вечно хранимом вкусе родной земли…
Л. Емельянов
Примечания
1
Ремедиос — героиня романа Г. Маркеса «Сто лет одиночества».
(обратно)
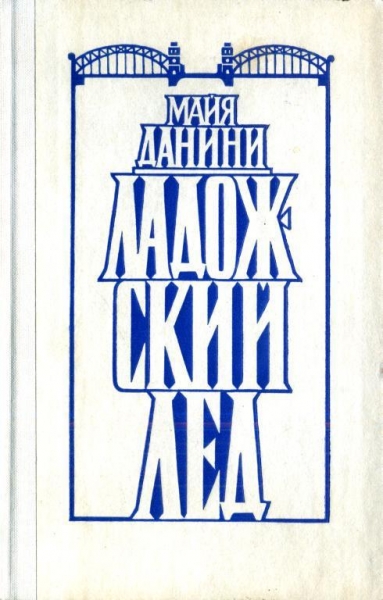

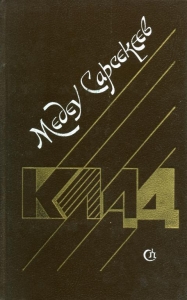

Комментарии к книге «Ладожский лед», Майя Николаевна Данини
Всего 0 комментариев