Виктор Макарович Шевелов Те, кого мы любим, — живут (Произведения 1945–1963 гг.)
Биографическая справка
Виктор Макарович Шевелов родился в 1920 году в с. Воздвиженка Краснопартизанского района Чкаловской области. Русский. Член КПСС с 1948 года. Член Союза писателей СССР.
В 1940 году, после окончания средней школы, был призван в Советскую Армию. Участник Великой Отечественной войны, где прошел путь от солдата до офицера. За участие в боях награжден орденами и медалями.
Демобилизовавшись в 1945 году из Советской Армии, В. М. Шевелов поступает в Пятигорский педагогический институт на филологический факультет. После окончания института работает журналистом в ряде газет.
В 1950 году В. М. Шевелова направляют на партийную работу в Молдавскую ССР. На протяжении нескольких лет он занимает ответственные посты в аппарате ЦК Компартии Молдавии, затем несколько лет работает первым заместителем министра культуры республики, директором молдавской киностудии «Молдова-филм».
В 1960 году тяжелая болезнь приковала его к постели. Несмотря на тяжелый недуг, В. М. Шевелов продолжал работать над новыми произведениями.
В начале 1963 года, на 43-м году жизни, В. М. Шевелов скончался.
Первой крупной работой писателя был его роман «Оружие сильных», изданный Госиздатом Молдавии. Затем увидела свет его Повесть «Жизнь идет». В литературном журнале «Днестр» публикуются его повести, рассказы и очерки. В это же время В. М. Шевелов работает над либретто оперы «Аурелия», которая тепло была встречена зрителями.
В последние годы жизни, будучи тяжело больным, В. М. Шевелов создал лучшую свою книгу — роман «Те, кого мы любим, — живут», ряд повестей, рассказы для детей и юношества.
Вопреки установившемуся в мире порядку, мы не носили в вещевом мешке жезл маршала — судьба нас удостоила императорской короны. Обладая этим, мечтать о меньшем — смешно! Но не эгоизм и честолюбие были основой основ дерзаний мысли, сердца, разума. Нам первым предстояло пройти путь от «ничего» ко «всему». Не всякий из нас на этом пути был свободен от груза ошибок и заблуждений. И время, о котором пойдет речь, было нам повивальной бабкой — мы родили смешное и великое, знали взлеты и спады, были достойны любви и презрения. В нас все можно подвергнуть сомнению, как и все утвердить. Но одно кристально чисто — все мы, удостоенные разных чинов и рангов, были рядовыми бойцами в битве за жизнь…
Мой друг, ты скажешь — необычайно сгущенные краски положены на полотно, и ты же упрекнешь, снедаемый злободневностью, за солнце, за близкое и далекое тебе откровение. Но ты открой дверь, войди гостем ко мне, забудь на время о бремени забот, которыми живешь сейчас, и ты в один голос со мною воскликнешь: «Платон мне друг, но истина дороже»…
АвторЖивые ждут
Бывают странные привязанности — у людей как будто нет ничего общего, не роднят их ни возраст, ни взгляды, ни характеры, а их, как говорится, водой не разольешь. Нечто подобное было у меня с майором Ногиным. Познакомился я с этим человеком в Пятигорске. Мне едва исполнилось семнадцать лет. Ногину шел четвертый десяток. Многое он перенес и пережил; в финских боях удостоился двух орденов. Опыт суровой жизненной школы, который у него был за плечами, и моя юношеская наивность не мешали нам дружить, как ровесникам. Мы часто спорили о книгах, судьбе и жизни человека, и почти всегда каждый из нас оставался при своем мнении. Ногин не мог меня убедить в том, во что я не хотел уверовать. Я заслушивался его боевыми рассказами и вместе с тем ненавидел до глубины души жизнь солдата — ее величие и ничтожество: в походном вещевом мешке всегда — жезл маршала и грязное белье, и я радовался, когда мне удавалось поколебать убеждения Ногина. У него я проводил целые вечера, привязывался к нему все сильнее и даже, пожалуй, полюбил его. Чувство, похожее на ревность, пробуждалось во мне, когда Ногин оказывался рядом со своей женой Тоней. Нянчился он с ней буквально как с ребенком. Казалось, только в ней одной и видел смысл своего бытия.
Как-то я, не удержавшись, сказал ему:
— Для вас жена — альфа и омега. Разумно ли это?
— Личную жизнь надо уметь строить, — отвечал он. — Быть с человеком бок о бок всю жизнь и не любить его — это унизительно. Мне человек доставляет радость, этот человек принадлежит только мне и навсегда. Моя мечта в нем, и она не может угаснуть. И пока горит мечта, у меня есть крылья. А это значит — я могу летать, а не ползать. Не найти, не открыть в себе сил, которые бы делали мою жизнь красивой, радовали меня и принадлежащего мне человека, значит оказаться слабым и жалким. Личную жизнь надо уметь строить. Уметь!
Мне непонятен был Ногин, и я со всей горячностью молодости высокопарно возражал ему. Судьбы людей, великие свершения, Родина — вот светила, вокруг которых вертится наша жизнь, это — главное. Ограничить круг своих помыслов и интересов семьей, более того, одним человеком — не самое ли это что ни на есть низкопробное мещанство, обнаженная, можно сказать, обывательщина?
Ногин смеялся:
— Ну и нагородил! Вавилонскую башню из мухи воздвиг. Все это в тебе не от тебя, книжный ты какой-то, Саша. Надо уметь правильно относиться к жизни — в этом секрет всех наших удач и огорчений. Но будет об этом. Хочешь, пойдем лучше мороженое есть?
Если речь заходила о чувстве Ногина, он всегда обращал все в шутку. Нередко звал на помощь жену: «Тоня, выручай! Метелин опять подкладывает под тебя мину». Присоединяясь к нему, Тоня шутливо журила меня, блестя черными прелестными глазами. Таких глаз я больше ни у кого не встречал. Они, казалось мне, слишком были красивы, чтобы принадлежать только одному.
Иногда Тоня говорила:
— Я бы очень хотела, чтобы ты влюбился по уши когда-нибудь и был этим наказан. Ты еще мальчишка, а ничему не веришь.
— Напротив, я всему верю и поэтому глуп, — смеялся я.
Всякий раз, возвращаясь от Ногиных, я обычно уносил в груди что-то радостное, недосказанное и с нетерпением ожидал новой встречи.
Но все повернулось по-другому. Я закончил десятилетку, поступил в институт и, проучившись три года, был призван в армию. Ногин остался в Пятигорске, меня же судьба забросила на запад Белоруссии. Мы вели переписку, затем как-то после одного несколько суховатого письма мне показалось, что я надоел своему приятелю, и с горечью оставил его в покое.
Прошло два года. Служба моя в армии близилась к концу. Я уже готовился демобилизоваться, ходил как очумелый и грезил о родных краях, о встрече с друзьями.
Думал о Ногиных. Кое-что о них я знал от родных. У Алексея Васильевича увеличилось семейство — Тоня родила дочь; теперь папашу, наверно, не узнать: счастливее его на земле днем с огнем не сыщешь человека. Мысленно я представлял дом Ногиных, видел милые моему сердцу лица, слышал беззлобные шутливые упреки за мое ничем не оправданное молчание. Словом, фантазии не было границ… Мечтам моим, однако, не суждено было сбыться: в четыре часа с минутами 22 июня 1941 года мы приняли бой…
Белосток оставлен. Первые километры отступления. Вот и Волковыск. Севернее города немцы высадили десант. Лавина минометно-пушечного огня. Стоны, крики…
В спешке нас подготовили к штыковой атаке. Командир сбивчиво отдал последние приказания.
«Ура-а-а-а…» — взметнулось тысячеголосое эхо и, нарастая, покатилось по клочку земли, заглушая лихорадочную пулеметную дробь, винтовочные выстрелы.
Немцы вначале, не приняв вызова, ответили ураганным огнем на нашу атаку. Еще минута — и она захлебнется. Но тут невдалеке выросли и пошли навстречу высокие блекло-зеленые фигуры. Они шли широким шагом. Я напрягал зрение и ничего не мог различить отчетливо. Утратил всякое ощущение своего тела, и казалось, перебираю ногами в пустоте, совсем невесомый. Вдруг меня обдало чем-то горячим, как пламя, не то чьим-то криком, не то дыханием — мой штык податливо вошел во что-то мягкое. Я содрогнулся, поняв, что произошло, и в то же мгновение отпрыгнул в сторону. Я успел заметить, что другой немец выстрелил в меня. Лязгнул металл скрещенных штыков. Я выбросил вперед руки, застыл на месте, стараясь не отступить. Прямо передо мной — выпученные, налитые кровью глаза! Все же немец оказался ловчее, сбил меня с ног. Я упал, и цепкие, как клещи, пальцы сдавили мне горло.
— Ду бист русише шайзе швайн! — ударило мне в лицо его смрадное дыхание.
К горлу подкатил удушливый ком. «Смерть…» — подумал я, и страх сжал сердце. Неожиданно рука моя нащупала в голенище у немца рукоятку. Выхватив нож, я из последних сил нанес удар в бок. Тот, кто стиснул мне горло, обмяк и свалился с меня. Полной грудью я хватил чистый и почему-то очень холодный воздух.
Опять вперед. Земля из-под ног стремительно уплывает. Бежал я непомерно широким, пьяным шагом. Внезапно о кого-то споткнулся, гляжу: лежит проколотый штыком немец. Рядом — наш солдат, широко разбросав руки, обнимая землю, уткнулся лицом в примятую траву. Из уха тонким ручейком стекала еще не потускневшая кровь.
…Таким было, как потом привыкли легко говорить, мое первое боевое крещение. После атаки я забрался под приземистое корявое дерево и пытался осмыслить, что же все-таки произошло?.. Убийство!.. Год, десять, сто, тысячи лет назад люди так же убивали друг друга. И они же, люди, всегда осуждали убийство. Как понять это? Неужто слезы и кровь — тень человечества?
Вечером я отказался от еды. Я не мог есть. Меня все еще тошнило. Увидев Захарова, я подошел к нему, старому солдату нашего взвода, сибиряку. Он старательно начищал винтовку.
— Ну, как самочувствие? — спросил я и невесело пошутил: — Небось, теперь не скажешь: «Чево война! С женой воевать тяжельше!»
Старый солдат из-под нависших бровей взглянул на меня вопрошающе — в самом ли деле я шучу.
— Видишь, Метелин, оно, конечно, дело такое: война — это война! Тут, брат, кто кого. И видно, мы в чем-то дурака сваляли, раз нас немец жмет. Но как бы там ни было, а все равно пойдет к тому, что одержит верх тот, кто против войны. Я, например, против. — И он еще усерднее принялся чистить винтовку. — А жена, что ж?.. Бабы, они разные бывают. Взять, к примеру, мою тещу. Вот это женщина! Супротив нее и полк не устоит. Полногрудая, глаза масленые, быстрые, так и светятся миллионами чертей. Ядреная! А плясать пойдет, топнет ногою — в окнах стекла в лихорадке дрожат, можно подумать, Сибирь с нею заодно вся пляшет. Муж ее, тесть, значит, мой, тощ, как селедка, с оглядкой шепчет мне: поговори ты, мол, с нею, Петя, родня тебе все же как-никак. Цельный час увещеваю: домой пора. Ты свою зазнобу, дочку то есть мою, сразу за рога бери, только с них, окаянных, тогда и толк будет! Дал волю, а она, вишь, вовсе от рук отбилась — демократия и равноправие. И сам теперь терплю… — Пряча хитрую улыбку, Захаров подмигнул. — Я-то внял тестю и свою взял… Да чего тебя загодя стращать: женишься, сам хлебнешь ухи перченой.
— Ты что ж, надеешься на моей свадьбе плясать? Меня завтра, может, поминать будешь как звали.
Захаров недовольно задвигал плечами, в который раз проверил затвор, сердито спустил курок и уставился на меня со злой усмешкой:
— С такими, паря, настроениями немца не одолеешь. — И, схватив вещевой мешок, направился к солдатам, разместившимся поодаль. Не захотел дальше со мной вести разговор.
— И за что только политрукам деньги платят, воспитали человечка, — слышался его ворчливый голос уже среди солдат. — Ишь, чего башка дурья сварила — убьют… Гитлера бить надо. Сейчас уж судить-рядить нечего… А то, как дети малые, в побрякушки верили, А немец, он не дурак — орудиями да самолетами идет, А ежели мы еще и нюни распустим… Не-е!
…Время ползет мучительно медленно: минута, как год, час — столетие. Не хочется встречать утро. Я уже успел стать командиром взвода вместо убитого лейтенанта Чернышева. Откатываемся назад каждый день. Словно отдираем кусок от сердца. Совесть так изранена, что, кажется, живого места нет. Мы — и отступаем… «Мы»! — что за смысл я вкладываю в это «мы»? Что оно сегодня значит, это «мы»? Охвачены огнем села, горит земля. В слезах и дыму солнце. Мы — это я, он, ты. Взвихренные неодолимой волной всесильного желания — жить красиво, жить так, как не жили ни далекие, ни близкие мои предки, — мы дерзко шли по жизни, озаряя ее светом своих щедрых сердец, ни о чем тревожном серьезно не пытаясь знать и думать. Из газет, радио мы представляли, что Запад — кипящий котел, в котором выпаривают из человека человечность, что там зреет жестокость и сердце ее — Германия. Но ощущение суровой реальности было притуплено, чужая правда — не для меня! Я знал одно: живу я в лучшем из миров, впитал в себя лучшее, что красит жизнь, привык верить слову, мог идти в любую стужу на подвиг, на любой штурм — неба и земли, возводил города, пустыню делал садом, удивляя мир выносливостью и героизмом. Мне по душе был подвиг, он жил во мне с колыбели. А сегодня? Не прекраснодушный ли дикарь я сегодня?.. Образованный, сильный, привыкший отвоевывать у природы ее твердыни, я сегодня уже сто раз бит немцами?! Не расплата ли это за наивное прекраснодушие? Кто-то не выработал во мне нужных черт характера, чтобы с волком я поступал по-волчьи, чтобы я всегда мог правильно — в погоду и в непогодь — относиться к тому, что мне преподносит жизнь, чтобы я точно мог знать — иначе не могло быть! «Мы»! Кажется, мне становится доступной суть этого слова.
Фронт прорван. Только на юге, говорят, наши войска бьют немца. Там Буденный. И мы горько завидуем тем счастливцам, которыми командует усатый, маршал, поругиваем Тимошенко, приписываем ему свои неудачи и недоумеваем, почему он на Центральном. Дела идут хуже некуда. Теперь еще новость — ощущаем, говорят, нехватку оружия. Оружия ли? Может быть, чего-то более существенного не хватает у нас в груди? Может быть, я ослаб духом? Не верю. Я сильный, знаю. Наш командир как в воду опущен. Действительность ошеломила, раздавила старика, а еще вчера он был в наших глазах гигантом, и сам это знал. Сегодня — мы все это видим и сам он понимает — полк ему не по плечу. И вот, точно веление самой судьбы, я только что вернулся из разведки, слышу, говорят: «Прислали нового. С виду будто ничего. Только больно выутюженный, явно не нюхал пороху».
Нас собрали на задворках полуразбитой деревни — чуть ли не весь полк, командиров всех. Густели вечерние сумерки. «Изменится ли что с уходом старика?» — думаю я. Вдруг команда: «Смирно!» Прямо к строю шли наш старик, маленький, осунувшийся, с серым землистым лицом, и новый — высокий, ладный, в отлично сшитом костюме, новенькой фуражке, на твердом лице застыла скрытая улыбка, во взгляде — доброта и уверенность. Меня точно толкнули в грудь. Я не верил своим глазам. И все-таки это был он, Алексей Васильевич Ногин…
Полк наш следовал на Барановичи. Там предполагалась перегруппировка войск для нанесения контрудара. Но этому не суждено было сбыться.
В лесу, в пятнадцати километрах от Слонима, мы вынуждены были остановиться. Дорогу запрудили войска: не то что машине проехать, человеку пробраться невозможно. Пробка! И никакому штопору не вытащить ее. Слоним занят немцами. Мост через реку взорван, и путь на Барановичи закрыт; мы отрезаны от тыла. А части, разбитые и уцелевшие, всё прибывали. С разных концов большими и малыми ручьями текли обозы, люди, техника. В лесу яблоку упасть негде. Все, точно упершись в стену, громоздилось. Где начало и конец человеческой толчее, никто уже не мог разобрать.
Я ждал от Ногина чего-то необыкновенного, сверхъестественного. И, может быть, волновался за него больше, чем он сам. Он почти не изменился. Те же юные, с веселыми искорками темные глаза, задорная складка у крупных губ. Только одно — незнакомая бороздка на его широком лбу суровила лицо. Ногин! Человек, который когда-то внушал мне, что личную жизнь надо уметь строить. Надо уметь правильно относиться к жизни. Какая, к черту, «личная жизнь»?! Что это такое: «правильно относиться к жизни»?! Война — это тоже жизнь? Рассуждать, сидя на диване, в уюте и покое, все мы умники. Что вот сейчас, в этой толчее, предпринять? Сумеешь ли? Сумеешь ли ты оправдать надежды, не развеять в моем воображении тот ореол, которым я окружил тебя еще в дни своей первой молодости?
Усталое, клонилось к горизонту солнце. Лучи едва проглядывали сквозь завесу густой дорожной пыли. Над головой повисли колченогие «мессеры». От них нигде не укрыться. Бог ты мой, как нелепо устроена жизнь! Беги, прячься, закапывайся в землю, дрожи.
Сделав круг, самолеты зашли вторично. Затем опять, опять… И так до ночи. Ночью, измучившись и обессилев, земля утихала. В лесу о сне никто не помышлял. Торопливые охрипшие голоса, скрип и скрежет танков, тягачей, пронзительное нытье тормозов автомашин будили тишину. Новые части всё шли. Шли, разбавленные беженцами. Плакали дети. Дорога и придорожный лес стали развороченным человеческим муравейником.
Я подошел к Ногину. Склонившись у пня при тусклом свете карманного фонарика, он рассматривал карту. Рядом стоял комиссар Зуев, о чем-то задумавшись. До сих пор мне не удалось поговорить с Ногиным хотя бы мало-мальски по душам.
— Вот комиссар говорит, что мы попали в ловушку, — оторвавшись от карты, сказал Ногин. — А как вы думаете, Метелин, что ждет эту толчею?
Меня неприятно кольнуло ногинское «вы».
— Смерть, — ответил я. — В лучшем случае. В худшем — плен.
Ногин вздрогнул, выпрямился.
— А вы, оказывается, оптимист! Качеств подобных у вас прежде не замечал.
— Это, наверно, от книг у меня, Алексей Васильевич. Я бы очень хотел убедиться в противном. Черт знает, кому нужна эта каша. Может, кто-нибудь нарочно ее заваривает? Чего ждем? Или вся эта масса пришла к своему логическому концу? Если Слоним занят и мост взорван, то…
Ногин неприветливо в упор посмотрел мне в глаза, точно желая убедиться, не жалкий ли трус перед ним, затем повернулся к Зуеву, взял его под локоть.
— Прошу вас, отберите десятка два солдат посмелее. Мало вероятно, чтобы Слоним был занят. Может быть, командир взвода управления и прав. Здесь какая-то чепуха. — Ногин обратился ко мне: — Кстати, вы, Метелин, тоже отправитесь со мной.
— Есть, — щелкнул я каблуками.
С трудом мы выбрались из толчеи, неразберихи и хаоса на свободную дорогу, ведущую к Слониму. По обочинам залегла гнетущая, мертвая тишина. Прижавшись друг к другу, мы, держа наготове оружие, пристально вглядывались в темноту. Один, два, десять километров… Внезапно лес расступился, и мы очутились на просторе, в лицо ударило прохладой, из низины потянуло свежестью. Показались силуэты домов. Мы оставили машину на дороге, обогнули село и подошли к обрыву. Внизу плескалась река. В стороне, метрах в трехстах, оцепенело врезались в небо черные фермы моста, расхаживал патруль. Кто он?.. Я с двумя солдатами должен был выяснить это.
Пробрались незаметно. Залегли в тенистой, сырой складке оврага. Я подал знак своим товарищам. И тут, как выстрел, щелкнул затвор:
— Стой! Кто идет?
От сердца отлегло… Наш!
Подошли Ногин, Зуев, солдаты. Выяснилось — в селе был оставлен комендантский взвод для охраны моста. Что касается Слонима, то «старшина уехал туда за продуктами».
— Время не ждет, — сказал Ногин и тотчас распорядился: — К машине!
Обратный путь занял около часа. Ногин доложил данные разведки высокому незнакомому полковнику. Тот стоял в группе старших командиров.
— У меня другие сведения, майор, — отрезал полковник сухо и резко. — Слоним занят, мост взорван… Приказ командования — ждать помощи. Ударные группы Барановичей…
— Я лично убедился. Мост цел.
— Не мутите и без того мутную воду, майор. Паники хватает и без вас. — Белобрысое лицо полковника вспыхнуло. — Отправляйтесь к своим бойцам и ждите распоряжений.
Ногин побледнел.
— Товарищ полковник, вас не тревожит рассвет? Вот-вот нахлынут самолеты. Надо как можно быстрее разгрузить дорогу и отправить детей, беженцев. Остальное рассредоточить в глубине леса и принять меры…
— Не порите горячку! Вы что тут мне…
— Предъявите документы! — потребовал Ногин.
— Я вам приказываю! — полковник схватился за кобуру.
Ногин опередил его. Мы держали наготове оружие. Зуев сделал шаг вперед.
— Предъявите документы! — повторил Ногин.
— Опоздали, майор, я свое сделал. Хайль Гит…
Ногин выстрелил…
Едва кое-кто успел опомниться, как в лесу все ожило. Слышался то резкий и твердый, то ровный голос Ногина. Действовал он с быстротой и точностью отличного механизма. Там, где машины чуть ли не взгромоздились одна на другую, все расчищалось, отбрасывалось в стороны, высвобождалась дорога.
— Что возитесь? Быстро орудие в укрытие! — приказывал Ногин одним. Других просил: — Нельзя же так, товарищи бойцы, пощадите хотя бы вон этих ребятишек…
Словно живительное лекарство влили в грудь огромной разрозненной массы солдат. Она подсознательно колыхнулась в ту сторону, откуда подуло ветром силы. Никогда не нужна так воля одного, как в часы растерянности. Почувствовалась крепкая рука, и на лицах солдат, хмурых, озлобленных, засветилась уверенность, решимость. За этой рукой они пойдут на смерть, увлекут за собой других, удесятерят силу этой руки: в ней они видят больше чем избавление от опасности — чистоту своей совести.
Рассвет омыл лес. Стоял он свежий и отдохнувший и, казалось, равнодушный и безучастный к людской тревоге. Мы окончательно успели расчистить шоссейную дорогу. Ногин отправил на восток детей, беженцев, остальным приказал рыть окопы. И тут воздух разорвали немецкие самолеты. Крестообразные, отчетливо выписанные контуры их чернели на склоне синего ласкового неба. Бомбежке, наверно, никогда не будет конца…
Мы стояли на центральной трассе Варшава — Белосток — Минск — Москва. Главная артерия, путь, на котором сосредоточились основные немецкие силы. Здесь они рассчитывали без особого труда наносить молниеносные удары, беспрепятственно идти вперед. Задержать врага, выиграть время, дождаться подхода из Барановичей подкрепления — таков был план Ногина.
В Барановичи, в штаб десятой армии, с депешей отправили Зуева.
Только к вечеру связной привез пакет с приказом командования и личное письмо Ногину от генерал-полковника Семенова. Майор Ногин приказом назначался единым начальником всех частей, находившихся под Слонимом.
«Дружище! — писал генерал в кратком личном письме. — Мир тесен: видишь, опять довелось встретиться. Твой комиссар многое рассказал. Ты все такой же, каким я знал тебя и на финской! Правильно поступил. Отстоять даже одну пядь нашей земли сегодня важнее, чем в другие времена выиграть большое сражение. На днях обязательно побываю в твоих местах».
Из-под Слонима мы ушли через неделю. Обстановка крайне осложнилась. Тяжелые бои шли с утра до ночи. Немцы стремились во что бы то ни стало расчистить дорогу, убрать со своего пути преграду. Каждый час был на счету, потеря его — потеря успеха. А тут неожиданно наступление остановилось. Мы держали фронт на линии почти в десять километров. В ход враг пустил отборную технику. В воздухе самолетов, как воронья. Но стену, точно она оказалась гранитной, пробить не удавалось. Тогда немцы выбросили большой десант к нам в тыл и отрезали нас от источника пополнения боеприпасами — Барановичей. Предполагая, что основные наши силы тут же будут отвлечены на уничтожение десанта, они рассчитывали нанести сокрушительный удар с запада — и дело с концом: либо нас вынудят сдаться в плен, либо мы будем раздавлены и стерты с лица земли. Ногину немного потребовалось времени, чтобы разгадать этот замысел. Он бросил часть Белостокского и весь Волковысский гарнизоны на левый и правый фланги, где наблюдалась особенная активность противника. Остаток Белостокского гарнизона и отдельный стрелковый полк, подкрепленные танками и артиллерией, защищали наш центр. На них, помимо этого, возлагалась задача контрударом приостановить активные действия немцев на флангах. В глубине расположения, на случай непредвиденной вражеской вылазки, были сосредоточены два саперных батальона, рота ВНОС и три батареи зенитного полка — резерв. Однако Ногин допустил ошибку — он оголил тыл, уверенный, что у десантников не хватит смелости рискнуть перейти в наступление, если они не соединятся со своими основными силами, теснившими нас с запада, а это исключалось. Ногин верил своим командирам, хотя и знал их недостаточно хорошо. Многие были вовсе неизвестны ему. Особенно беспокоил Волковысский гарнизон. Честолюбие некоторых старших по званию командиров, вынужденных подчиняться Ногину, ослабляло силы. Его опасения оправдались: приказ отрыть добротные противотанковые щели и окопы остался невыполненным. И при первом же сильном нажиме немцев Волковысский гарнизон, не зарывшись в землю, не устоял, враг просочился на севере. Спасая положение, ударил наш центр, продвинулся на два километра вперед. Однако это врага не обескуражило: нащупав у нас прореху, он соединился с десантом и тут же перешел в наступление с тыла. В бой был брошен резерв, но он мало помог делу. Ногин приказал занять круговую оборону. Теперь осталось одно — героизм и мужество солдат. Боевых операций ночью немцы не вели. Мы же совершали вылазку за вылазкой, искали слабое место врага. Надо было что-то придумать. Положение стало безвыходным. Мы оказались изолированными. И тут еще будто нарочно отказала рация. Едва наступало утро, как враг принимался долбить с воздуха и с земли переполненный людьми островок радиусом в пять-семь километров. Простреливался чуть ли не каждый сантиметр.
Наэлектризованный Ногин внешне сохранял спокойствие. Он не знал, кого винить в сложившейся обстановке — себя ли, Волковысский гарнизон или неотвратимый ход событий тех дней. Мы встали перед выбором — плен или смерть. И я следил за своим старым другом, всем сердцем сочувствовал ему. Я не представлял, что можно теперь предпринять. Ногин был в ответе вдвойне еще и потому, что он взял на свои плечи непомерную тяжесть — дерзнул стать первым, кто захотел преградить дорогу неодолимой немецкой машине. Известно, что только победителей не судят. А если эта масса людей окажется обреченной окончательно, кто откажет себе в удовольствии ткнуть пальцем в Ногина: вот он — преступник.
— Метелин, — обратился Ногин ко мне, когда мы на минуту остались вдвоем. — Что бы вы предпочли — плен или смерть?
— Ни первое и ни второе. Я предпочитаю жить!
Ногин мгновение не отрывал от меня пристального, неприязненного взгляда.
— Странный вы человек, Метелин. Я знал вас другим. — Он снял фуражку, носовым платком неторопливо вытер клеенчатый ободок, лоб, виски и опять надел. Виски Ногина поседели. Я только сейчас заметил это. Когда? За эти три дня или раньше?
— Вы не остроумны, Метелин. Я у вас серьезно спрашиваю. Жить?! А кто предпочтет противное? Я тоже хочу жить… Но если потребуется все-таки умереть?
— И в этом случае я предпочитаю жить.
— Да, — вздохнул Ногин. — Мы должны жить. И мы будем жить!
«На что он надеется?» — подумал я.
Истекали пятые сутки. Продукты питания, боеприпасы — всему был подведен итог. Он равнялся почти нулю, едва хватит, чтобы продержаться день-два. Настроение резко падало. Осажденные со всех сторон, мы сидели на клочке прострелянной горячей земли. Танковые, штыковые атаки… Сколько их еще предстоит отбить? Правду говорят, что в обороне — смерть. Самолеты — почему их так удручающе много у немцев? — с утра до ночи кружат над головами. Есть ли у нас еще в живых люди?.. И вдруг на шестой день ни одного выстрела. Страшная могильная тишина. Она непривычно давит на сердце и без того все в кровоточащих ранах. Тишина. Страшна она больше, чем тысячи обрушенных на нас бомб. Неужто у немцев проснулось великодушие и нам дана передышка? Что они затевают? В тишине было страшно жить и еще более мучительно ждать. Шорох, хруст сухой сломанной ветки отдавались в ушах громом. К вечеру появились самолеты. На этот раз они сбросили не бомбы, а листовки. Много листовок. Точно метель закружилась над лесом. Нас призывали: «Будьте благоразумны, не проливайте бессмысленно братскую кровь; солдаты, разделывайтесь с комиссарами, переходите на сторону немецких войск. Барановичи, Новогрудок, Пуховичи, Минск давно взяты… Перешедшим гарантируется работа по выбору и после скорой немецкой победы возвращение к родным.
На размышление — двадцать четыре часа».
Ногин созвал командиров. Собрались у штабного окопа.
— Обстановка накалена до предела. Но самое опасное, пожалуй, — листовки. Моральный фактор — всегда главное. В любом, даже в самом хорошем стаде может отыскаться паршивая овца.
— Время упущено, — из задних рядов прервали Ногина упреком. — Был выход, а сейчас его нет.
Ногин пропустил реплику мимо ушей и ровно, не торопясь, изложил свой план действий. Он сводился не к обороне, а к наступлению. Наступлению на запад. О движении на восток надо забыть…
Мы были в недоумении. План показался авантюрой. Но прервать Ногина никто не решился. Он пригласил старших командиров к разложенной на большом пне карте и показал пути операции и окончательного выхода из железного кольца окружения. Это был отчаянный риск. Но малой игрой обойтись было нельзя. Ставилось на карту главное — жизнь и честь.
— В том случае, — заключил Ногин, — если не удастся успешно развить наступление, мы, прорвав стиснувшее нас кольцо, выйдем проселочными дорогами на большак, доберемся до Новогрудка и там соединимся со своими войсками.
И тут мы все поняли, что этот план был чрезвычайно прост, ясен и единственно правилен.
— Вы забыли, товарищ майор, об одном — в Новогрудке немцы? — не то спросил, не то возразил Ногину капитан из Волковысского гарнизона.
Ногин не был простаком, чтобы поверить, будто указанные в фашистских листовках города заняты.
— Вы, капитан, — ответил Ногин, — дурной пример своим бойцам и командирам. Если верите вы, то что остается делать бойцу? Ему в листовках вообще обещана манна небесная. К счастью, ваши бойцы не похожи на своего командира. У паникеров никогда нет выхода… Пора бы вам эти истины усвоить, капитан.
Объектом начальной атаки ногинского плана было местечко Ольхово. Выдвигаясь далеко на запад, оно находилось на проселочной дороге, в стороне от большака. Разведка донесла, что Ольхово наиболее уязвимо в обороне немцев. Они вообще не сооружали оборонительных рубежей, видя в этом напрасную потерю времени, необходимого им как воздух. Они так были уверены в своем победном шествии, что не помышляли об обороне. Да и от кого обороняться? От обескровленных войск, загнанных в мышеловку? Этим Ногин как раз и воспользовался. Педантичные немцы и их самоуверенные генералы допустили просчет, считая по сути чуть ли не всю Белостокско-Волковысскую группировку, оказавшуюся в котле под Слонимом, обескровленной. Они предусмотрительно отгородили нас от востока прочной стеной из отборных войск, заранее числя нас военнопленными, а запад, свой тыл, оставили по сути оголенным. Было ясно, что разве только безумец решится идти вглубь, по дороге, где только что победоносно прокатилась немецкая армия. Это было противоестественно, вопреки всякой логике, и поэтому абсолютно исключалось.
Вечером, по указанию Ногина, Зуев, переодетый в форму солдата, с двумя бойцами отправился в расположение немцев. Он нес ответ на листовки: солдаты согласны пленить комиссаров, арестовать советских командиров, но для этого потребуется два-три дня.
Возвратились только двое. Зуева задержали в качестве заложника.
На нашей «земле» воцарилось до дикости странное спокойствие. В течение утра, дня и ночи не было сделано ни одного выстрела. Мы готовились спешно и вместе с тем хладнокровно. Военный ли опыт, инстинкт ли или еще что-то подсказало Ногину его план, но он вдруг стал ощутимой реальностью, и все наши силы, нервы — все было подчинено его осуществлению.
Пехотный полк, стоявший до войны на границе и входивший в Белостокскую армию, должен был занять Ольхово и образовать коридор для выхода наших войск. Командир полка Муратов оказался на редкость талантливым и предприимчивым. Немцы были им захвачены врасплох. Почти не потеряв людей, полковник с точностью осуществил заранее разработанный план. Кольцо окружения было прорвано, и Ольхово занято в течение полутора часов.
Ногин руководил общей операцией. Но прежде чем дать сигнал к одновременной повсеместной атаке, он лично пробрался в село Пилсудское, где, по данным разведки, находилось руководящее ядро немецкой группировки, которое требовалось парализовать.
В двенадцатом часу ночи Ногин приказал мне готовить взвод. И едва я кинулся выполнять его распоряжение, он сказал:
— Погоди! — Подошел ко мне, взял за плечи. — Обнимемся, Саша. Если что… не забудь мою Тоню и Наташу. Мы с тобой так и не нашли времени поговорить.
Ночь выпала на редкость темная. Не видно ни зги, хоть глаз выколи. Плавнями, мимо немецкой заставы, мы пробрались к опушке леса. Отсюда Пилсудское — все как на ладони. Мирным, безмятежным сном спали немцы. Внезапно вынырнул яснолицый месяц и вновь скрылся в набежавших черных облаках.
— Метелин, — позвал тихо Ногин. — В тени углового дома видите что-нибудь?
— Так точно.
— Снять!
«Почему именно я?» — бессознательно мелькнула у меня острая мысль. Сердце заколотилось. Ладонью стерев с лица пот, я отделился от группы. По-пластунски пересек расстояние между лесом и селом. Прижался к изгороди. Часовой находился от меня в двух метрах. Опершись спиной об угол дома и положив руки на висевший на груди автомат, он полудремал, покачиваясь. Собрав силы, я прыгнул на немца. Одной рукой зажал ему рот, второй ударил в бок ножом…
Спустя минуту товарищи уже были возле меня.
Немедля Ногин выпустил ракету — сигнал для общего наступления. Красный свет озарил хмурое небо. Мы ворвались в улицы. Пулеметы, автоматы, винтовки, гранаты — все было пущено в ход. Немцы выскакивали из домов в нижнем белье, шарахались в ужасе, не понимая, что же собственно произошло.
Где-то невдалеке справа зачастила дробь пулеметов и винтовок, ухнули орудия; донеслись вой шрапнели, грохот танков и гусеничных тягачей. Наши части пошли в атаку. Ольхово было занято. Почти беспрепятственно мы двигались вперед. Глубина эшелонирования немцев оказалась столь незначительной, что привела нас в недоумение. Каких-то 20–30 километров — и мы оказались в их глубоком тылу, никем не преследуемые. До самого Белостока — хоть шаром покати, кроме обозников и тыловиков, никакой серьезной силы. А в стороны от больших дорог — вообще пусто.
Ногин, однако, был задумчив. Отсутствие сопротивления и силы, которую он должен был преодолеть, казалось, выбило его из колеи. Он оценил обстановку лучше, чем кто бы то ни было. Никем не преследуемые и ни от кого не обороняясь, мы оказались в более трудном положении, чем даже в лесу под Слонимом. Материальная часть без боеприпасов и техника без горючего через день-второй, исчерпав запасы, ничего не будут стоить, станут обременяющим грузом. Среди нас не было полковника Муратова, убитого в последнюю минуту при отходе из Ольхово, комиссара Зуева… Не было многих.
К вечеру второго дня Ногин отдал приказ — приостановить движение на запад, свернуть на север в сторону от больших шоссейных и грунтовых дорог, держа курс на Новогрудок. Этот городок, как и предполагал Ногин, не был занят. Туда перебазировалось из Барановичей наше главное командование.
Здесь я и расстался с Ногиным: его отзывали в штаб армии. Перед отъездом он разыскал меня, и мы прошлись по улице. Город кровоточил живыми ранами от бомбежки, пахло дымом и горелой глиной; на тротуарах валялись какие-то столы, чемоданы, тряпье. Сухой ветер мел по улицам обрывки бумаг.
— Ты счастлив, Саша? — вдруг спросил Ногин, повернув ко мне широколобую голову. Седина на его висках отстоялась, загустела. — Вырваться из такого ада! Сейчас, пожалуй, я подобного не повторил бы, не хватило бы сил. Кажется, прошел тысячу верст с тяжелой ношей на плечах. Но я счастлив. Ты даже не представляешь, как я счастлив!
Я не ответил. Мне было грустно расставаться с ним. Какая-то врожденная неистребимая привязанность к близким людям всегда одолевает меня, а здесь — особенно. Вряд ли понимал это сейчас Ногин. Он говорил о счастье… Смог бы я, окажись на его месте, сделать то, что сделал он? Он воспринимал факт войны как реальность, оставаясь удивительно трезвым. Я тоже воспринимал войну как неотвратимый факт, но с чувством растерянности и страха. Я отвергал ее как неотъемлемую часть жизни. Ногин признавал ее право жизни. Не есть ли это то, о чем когда-то он говорил, — надо уметь правильно относиться к жизни? Неужели его сердце и разум ничто не может захватить врасплох?..
— Что же ты молчишь? — весело, как в былые дни, ткнул меня в бок Ногин.
— Счастлив ли я? Не знаю. Умру — об этом скажут, вернее, ответят другие: был ли я счастлив.
— Абсурд какой-то.
— Мы, видимо, по-разному понимаем счастье. Для вас им может быть отдельный успех, временное удовлетворение. Я же оцениваю счастье как итог всей жизни.
Ногин рассмеялся.
— И в том, и в другом случае я говорю: я счастлив! Чертовски люблю жизнь, остро чувствую ее медовый вкус, знаю ей цену. Ты же мудрствуешь лукаво, мой друг. Все много проще, надо только знать, видеть это.
Ну ладно, бывай! — Он порывисто привлек меня к себе. Мы трижды по-русски поцеловались. — Мир тесен. Встретимся обязательно.
Ногин повернулся и, не оглядываясь, твердой походкой направился к двухэтажному дому. Я долго смотрел вслед этому стройному, очень красивому человеку. «И в том, и в другом случае я говорю: я счастлив»…
Мне почему-то казалось — это последняя наша встреча. «Мир тесен». Может быть. Но я мало верил в это. События развивались таким образом, что невозможно было предугадать, какой стороной повернется к тебе судьба завтра…
Так и случилось. Я потерял следы Ногина. Связаться с его семьей смог только спустя два месяца. Где Ногин, не знали и они. Тоня писала мне часто. Ее теплые, грустные письма были полны тревоги за Алексея. И было отчего — сотни, тысячи людей ежечасно гибли либо пропадали без вести, что почти одно и то же. Как мог, я старался уверить ее в благополучном исходе. Сам же не пропускал ни одной газетной строки, надеясь хоть что-нибудь узнать о Ногине. Я верил — такие, как он, пребывать в неизвестности не могут: их непременно заметят.
Незадолго до моего ранения на Березине мне сообщили: Ногин убит под Минском в штыковой атаке. Я написал Тоне. Разделяя ее горе, с болью думал, почему погиб именно он? Но тоской горю не поможешь. Позже я как-то наткнулся в сводке Совинформбюро на строки, которые говорили, что части некоего Ногина ворвались на улицы Смоленска и уничтожили более двух полков живой силы противника. Обрадовался, как дитя, кинулся звонить в штаб. Но тут же потух: мало ли на свете однофамильцев?
Жизнь полна неожиданностей.
После Березины и нескольких госпиталей я попал на Кавказ.
Пятигорск! Все здесь напоминало мне далекое детство. Край, где я мужал. Встретил он меня, как мне показалось, хмуро. Сюда еще не дошла война, но улицы города уже дышали ею.
Стояла осень. Лили дожди. Вершина Машука окуталась облаками.
В первый же вечер я отправился навестить Ногиных.
Тоня, едва увидев меня, от неожиданности пришла в полное смятение.
— Неправда, неправда, это не вы? — прошептала с испугом она, прижав пальцы к губам. На ее большие, по-девичьи ясные глаза набежали слезы. Она долго не догадывалась пригласить меня в дом, и я стоял у порога.
— Вы не рады гостю?
— Александр, неужели это вы?! Мальчишка Саша Метелин. Боже мой!..
Только расстояние и время разительно показывают, как меняют человека годы. Давно ли я знал ее по-мальчишески юной, уверенной, что ее никогда не тронет разрушительная сила увядания. Кожа ее лица и шеи уже не дышала прозрачной свежестью, и глаза были не те, но по-прежнему она была до опьянения красивой. В тридцать лет есть своя особая прелесть. Яркого, высшего расцвета человек достигает именно в этот период. Отнимая свежесть юности, жизнь к этим годам сообщает человеческому лицу вдохновение глубины чувств, обаяние ума. Я глядел на Тоню и ощущал в горле горьковатый, полынный привкус, мне было грустно: в самую лучшую пору ее жизни судьба отняла у нее друга.
Разговор велся вокруг войны. Тоня все не решалась прямо спросить об Алексее. Но о чем бы мы ни заводили речь, все сводилось к нему. Она угостила меня чаем, оговорившись, что туго с сахаром, но ей помогли. Это сейчас так важно — иметь хоть какой-нибудь запас. Однако я сердцем чуял, что будущее для нее в те минуты не существовало, она боялась его. Что сулило ей оно? Жить только воспоминаниями о прошлом — значит хоронить себя заживо. Ей было семнадцать лет, когда она впервые встретила Ногина. У других первая любовь обрывается сразу, чуть ли не с первых ее шагов, у нее — только сейчас. И не по ее воле, и не по воле Алексея…
В комнату вбежала девочка — уменьшенная копия Тони. Сверкая черными глазками, она похвалилась матери, что поужинала и что бабушка на нее не сердится. Заметив меня, девочка потупилась.
— Вот она какая у нас выросла, — с материнской гордостью заметила Тоня. — Алексей, бывало, и слышать не хотел, что она не похожа на него.
— Ну, давай знакомиться, — сказал я Наташе.
Девочка не заставила себя упрашивать. Вскоре она уже сидела у меня на коленях, затем мне были показаны игрушки, куклы, из-под кровати был извлечен ящик со всем ее хозяйством. И, видимо, желая сразить меня окончательно, она по секрету, на ухо сказала, что это еще не все:
— Папа скоро привезет самого настоящего живого мишку. Вот!
Я подтвердил — непременно привезет.
— Ты очень, очень хороший дядя! Хочешь, я тебе стихотворение прочту?
Но стихотворение читать она вдруг передумала и спросила, почему ее папа так долго не едет домой.
— Теперь уже скоро приедет, — сказал я и вспомнил Слоним. Ее отца. Что-то жгло мне сердце. Я не хотел верить, что он мертв. Не хотел. Фашисты!.. Они не только сеют смерть. Они ожесточают человека вообще, убивают в нем светлые радости…
Почти все вечера я проводил у Ногиных. Тоня работала в исполкоме городского Совета. Возвращалась домой поздно, усталая, но радовалась моему приходу.
Перед моим отъездом на фронт она спросила:
— Что вы посоветуете мне делать? Как поступать дальше?
Вопрос меня удивил, хотя, казалось, он был вполне естественным. От меня не ускользнуло — Тоню что-то волнует, она намеревается совершить какой-то серьезный шаг, но сомнения пока сильнее ее.
— Вряд ли здесь могут быть уместны советы, — уклончиво ответил я.
— Зачем вы так говорите?
— Вы верите, что Ногин убит? — пристально посмотрел я на нее.
— Боюсь признаться себе. Но… он непременно дал бы о себе знать. Я так хорошо знаю его.
— В таком случае лучший советчик вам — ваша совесть.
— Я, наверное, уеду… Я гадкая, скверная женщина, я верю, что Алексея нет. Вы не представляете, как это мучительно. И я боюсь одна…
Осуждать эту женщину я не смел. По-своему она была права: жизнь не резина — ее растянуть нельзя. Откровенность только возвысила Тоню в моих глазах.
Я знал — ей мучительно больно, спутаны все карты ее жизни; утес, за которым ей были не страшны никакие бури и волны, внезапно рухнул, подставив ее, одну, встречному сильному ветру. И я готов был разделить ее горе, большую долю взяв себе.
Провожая, она сказала мне:
— Вы теперь у меня самый близкий друг. Как бы я хотела оказаться на вашем месте и отомстить немцам!
— Прощайте, Тоня.
— В добрый путь, Александр.
Вот и кончился мой отпуск. Опять дорога. Как много в жизни моего поколения дорог! В вагоне тесно, накурено. Бегут и бегут телеграфные столбы. Какое-то безотчетное тревожное чувство скреблось в сердце. То бодрые, искристые, то унылые мысли одолевали меня. Было грустно оттого, что не встретил в Пятигорске Галю — друга юности. Жалел, что не сбылись многие мечты: кажется, разбежался изо всех сил к солнцу, а его кто-то вдруг украл, и ты, утратив ориентир, слепо бредешь в темноте. Сейчас Галя где-то в Москве, если не эвакуировалась с институтом. И я радовался, что еду на фронт.
…Москва!
Я знал, что, как только сойду с поезда, буду ввергнут в бой. Как и миллионы людей, я хотел одного — выстоять. С утерей Москвы я бы утратил не белокаменный огромный, как океан, город, а нечто большее. Мы твердили в вагонах, на платформах, в лесу, на привале, в окопах — везде. Москве быть! Только быть! К ней было приковано внимание всей планеты. К ней тянулась негаснущая надежда неприметного солдата в окопе. Мы слышали радио, читали листовки, и в сердце плавилась кровь. Пусть за стенами Москвы — необъятные просторы Урала, Сибири, Дальнего Севера, но если она падет — война проиграна. Нам Москва была больше, чем Москва. Она была, и не только сердцу русскому, маяком в любую стужу и непогоду, она была осажденной столицей мира.
И вот наступило 6 декабря. Мир потрясен. Взошло солнце. Первый раз за тысячелетие оно ударило всеми огнями радуги. Мы, очерствевшие и ожесточившиеся солдаты, плача, как дети, умирали и радовались восходу солнца 6 декабря. Это был наш восход. Что бы теперь ни произошло, как бы еще далеко ни зашли немцы, — мы есть, мы будем! В освобожденных селах, городах я видел матерей, их заплаканные от счастья лица. «Освободители, сынки…» — шептали их губы.
Куда ни кинь глазом — везде белым-бело. Лебяжьим пухом метель заносит черные следы войны. У обочин дорог из-под снега уныло выглядывают разбитые машины, обгоревшие танки, никому теперь не нужные, брошенные поварами походные кухни. А в стороне стоит седой, как тысячелетний старец, еловый лес. И, кажется, зовет он к себе нас, идущих вперед солдат, чтобы, как в детстве, приголубить своей по-матерински нежной тишиной.
Мы шли на запад.
Я давно уже не получал писем из Пятигорска. Почта работала из рук вон плохо. Письмо могло идти и три дня, и месяц, и год, и вообще исчезнуть бесследно, а нас жгло неутолимое желание знать, как живут близкие, чем дышит мир: ведь мы отстояли Москву! Меня беспокоило, что сталось с Тоней. Уехала ли она? Месяца полтора назад мать писала, что Тоня собралась уезжать. Она вышла замуж за раненого полковника, лечившегося в их госпитале, заходила к нам, просила передать, чтобы я ее не судил… Вот и всё. Это сообщалось матерью с брюзжанием, скороговоркой, и я фактически толком ничего не понял, оставался в неведении. Философия матери мне была великолепно известна: у нее — живые ждут… Даже если доподлинно знаешь, что близкого тебе человека нет, все равно жди!.. Разумеется, я не разделял эту ее логику, но поспешность Тони была мне неприятна, мне было обидно за покойного друга. Он слишком горячо верил в любовь — в эту несовершенную вещь — и, пожалуй, заслуживал, чтобы траур по нему длился немного дольше. Но я говорю так, быть может, просто потому, что так принято; обыватель всегда судит другого, считая, что он лучше. Но как я ни старался мысленно уподобиться Тоне и представить круг ее мыслей — не смог. Я фактически склонялся к философии матери. Но если бы довелось мне сделать выбор, окажись я на месте Тони, очень сомнительно, что я не поступил бы так, как поступила она, гадко и скверно.
Мы шли вперед. И как мелок и мизерен был мир, все мечты и треволнения одного в сравнении с тем, что происходило вне меня. Грохотала вселенная, сдвигались миры, шел гигант — Человек, неся Освобождение, Жизнь, Счастье.
На Волоколамском шоссе, под Истрой, я встретил товарища, с которым был в пекле под Слонимом.
— Захаров!
— Метелин!
Мы обнялись, как братья.
— Как живешь-можешь?
— Живу припеваючи, мухи не кусают — холодно. Немца бью. А главное — служу в дивизии Ногина.
— У какого еще Ногина? Ты что?
Захаров весь светился:
— Короткая память у вас, товарищ лейтенант. А вы, кажись, еще земляки. Он, Ногин, теперь полковник. И скоро, поговаривают, генерала дадут. Нашего Алексея Васильевича, поди-погляди, каждый солдат в дивизии знает. У него сам Жуков частый гость.
Я не верил своим ушам.
— Погоди, Захаров, Ногин ведь погиб.
— Такие, товарищ лейтенант, не умирают.
— Да ну тебя к черту. Расскажешь толком наконец?
Захаров недоуменно пожал плечами: «Ты что, с неба свалился?..» — говорили его глаза.
— Где сейчас Ногин?
— Понятно где, в штабе. Пойдемте доведу.
Когда мы вошли в деревушку, где размещался штаб дивизии, уже совсем стемнело. Захаров уцелевшей улицей проводил меня к бревенчатой избе:
— Вот тут находится товарищ комдив.
Сердце мое отчаянно колотилось. Долго в темных сенцах я не мог отыскать скобу и открыть дверь. Даже вспотел от волнения. За дверью, рядом, скрипнули половицы, я посторонился, предположив, что навстречу выйдут, но шаги удалились: кто-то прошелся по комнате. Наконец я очутился в избе. Ногин стоял в дальнем углу, задумавшись. Я сразу узнал его. Что это?.. Пустой левый рукав гимнастерки прихвачен ремнем. Голова белая… На столе ярко, до боли в глазах, горела лампа.
— Разрешите?
Ногин вздрогнул, повернулся.
— Алексей Васильевич…
Мгновение он стоял вполоборота, вглядываясь, на его лице была печать раздумья он еще не возвратился окончательно из мира, в котором только что пребывал. Но вот лицо его разом просветлело, он сделал несколько широких торопливых шагов навстречу, и мы обнялись.
— Какое совпадение! Я только что думал о Пятигорске, — срывающимся голосом сказал Ногин. — Тебя вспомнил — открытого, хорошего, незацелованного жизнью парня. А я не забыл твоей философии, твоего замечания об альфе и омеге. Помнишь? Ты был тогда слишком юн…
До меня не сразу дошло, о какой альфе и омеге он говорит, а когда понял, мне стало не по себе, хотя по лицу Ногина ничего нельзя было прочесть, оно светилось радостью встречи. Тысячи предположений пронеслись у меня в голове.
— Как хорошо! Откуда же ты взялся, мой путаник Метелин? — что-то непривычно нежное и трогательное было в этом восклицании.
— Мир тесен, — только и нашелся я, поглощенный одной мыслью: известно ли ему о Тоне? Как мне сообщить ему об этом? Умолчать?
— А ты прямо орел! — Ногин хлопнул меня по плечу. — Повзрослел, не узнать.
Отыскалась бутылка вина. Ординарец накрыл на стол, откупорил банку консервов, нарезал колбасы, сала. Чокнувшись, мы выпили за встречу. Откровенно сказать, я уже был не рад, что встретил Ногина, лучше бы все осталось так, как было… Лучше бы я ничего не знал, оставался в неведении, убежденный, что жена этого человека обладает исключительно счастливой способностью — быстро забывать. Оказаться же свидетелем сетований, выражать соболезнования — прескверная участь. Я знал Ногина только сильным. Он был для меня образцом, человеком из семьи твердокаменных Корчагиных. Другого я не хотел знать.
— Я вас уже похоронил, — сказал я Ногину.
— Если бы только ты один… — Ногин выжидающе глядел на меня. Я почувствовал, что он о чем-то спросит, и опередил его:
— Где вы пропадали? После Новогрудка точно в воду канули! Не написать ни одного письма! Не дать о себе знать, Это… уму непостижимо. Так может черт знает что произойти…
Ногин возразил, скупо рассказал о ранении под Минском, о боях в Смоленске, об окружении под Ярцево, из которого он выбрался с боями и где получил увечье…
— Вышло так, что письма мои домой не дошли, а вот извещение о моей смерти и твое письмо Тоне о том, что я погиб, дошли. Их-то я и нашел дома.
Что-то тяжелое навалилось на мои плечи. Я отпил из стакана глоток вина, и оно обожгло мое пересохшее вдруг горло.
— Мы, оказывается, были с тобой в Пятигорске почти в одно и то же время, как я узнал потом, — после паузы продолжал Ногин. — Я приехал, кажется, чуть ли не в день твоего отъезда. Приехал?.. Меня привезли запеленатого бинтами. Без руки, с осколком и четырьмя пулями в теле. Около месяца полузабытье. Черная, страшная ночь. И вдруг восстановилась речь, я понял, что буду жить, что счастлив: у меня опять весь мир, я обладатель, хозяин этого мира. Жена, дочь… Солнце, воздух, сознание… Я тут же попросил врача позвать Тоню.
Ногин смолк. Поглядел на стакан, наполненный вином, отодвинул его. Сильно горела лампа, желтоватый свет ее бил в глаза. Левая бровь у Ногина чуть вздрагивала, лицо оставалось непроницаемым. На голове — ни одного темного волоска, весь белый, точно суховеем обожжен.
— Что же дальше, Алексей Васильевич? — нарушил я тишину, зная, что своим глупым вопросом тревожу и без того незажившую рану.
Ногин сухо усмехнулся.
— Будущего у этой истории нет. Я побеспокоился и определил дочь. Она была у ее родителей. Это главное. А жена?.. Что ж, Тоня не виновата.
— Вы ее оправдываете?
— Обстоятельства сложились так, что с характером этой женщины и всеми ее добродетелями поступить иначе было нельзя.
— Значит, все можно исправить? — обрадовался я. — Узнав, что вы есть, Тоня непременно вернется. Она ведь любила…
— Живые ждут, мой друг. Ждут. Ждут. Ждут. А если перестают ждать, они утрачивают веру… Без веры — все обман. Довольствоваться крохами вместо цельного чувства — пошло. Тоня знает, что я жив, хотела вернуться. Ей я сказал то же, что сейчас сказал тебе.
«Ногин, — думал я, глядя на его белую-белую, точно высеченную из снежного камня голову, — что ты за человек? Оправдывать и судить! В Новогрудке мы спорили о счастье. Я чувствовал, что оно — итог жизни, ты — что оно есть сама жизнь. И я готов сейчас признать, что ты счастлив, обладая способностью быть трезвым, жизнь отступает перед тобой — ты сильнее.
Да, счастлив! Хотя сегодня, знаю, нет несчастливее человека, чем он: жестокость вместо милосердия к заплутавшемуся, безумно любимому существу — пытка. Годы не сотрут и не затушуют его чувства, бережно, как слезу, донесет он его до глубоких морщин, но поступить иначе не сможет. В его власти разделять с другими все, за исключением любимого человека. Но, может быть, мы не вольны в своих поступках: обстоятельства вынуждают нас поступать так, а не иначе. В таком случае для чего же ты зовешься человеком?..»
От Ногина я ушел далеко за полночь.
Мела пурга.
Березина
Измученные, по пятам преследуемые врагом, мы добрались до Пуховичей. Знамя, три зенитные пушки, около десятка автомашин и семьдесят солдат — вот все, что за полторы недели войны осталось от полка. И это как старший по званию я должен был доставить в затерявшийся среди лесов и болот городишко.
У военкомата толпились военные. Солдаты и командиры потрепанных и распавшихся частей и подразделений скудными ручьями стекались сюда с разных сторон, ожидали назначения. Тут же неуверенно переминались и гражданские, призывники. Слышались выкрики, какая-то возня. Вещевые мешки, оружие, люди — все смешалось. На выжженной солнцем траве, у заборов и стен домов через всю улицу сидели, стояли, полулежали мужчины, много молодых, сильных мужчин.
«Сколько еще можно тут торчать? Проклятье!»
— Эй, кто там в пулеметную роту?! — вынырнув из двери военкомата, крикнул прямо с крыльца лейтенант с небритым, осунувшимся лицом.
Лейтенанта окружили охотники.
— Танкисты есть? — неслось с другого конца.
— Найдутся.
— Ко мне!
— Пехота, сюда!
— Тихо. Куда прешь?! Не все сразу.
— В пехоту так в пехоту. Лишь бы не мытарить!
— Давай, браток, записывай.
— Зенитчики!..
Части формировались и отправлялись на фронт.
Моей команде было приказано следовать в Могилев, там комплектовались зенитные подразделения. Но неожиданно все изменилось: материальную часть я передал гаубичному полку, знамя — в военкомат, а сам с командой направлялся в распоряжение начальника Пуховичского гарнизона. Я искренне обрадовался: наконец-то оказался у дела; кончилось дикое, унизительное, заячье шествие. С первого дня войны минула, кажется, вечность, и все мы, до последнего солдата, снедаемые позором отступления, состарились на тысячу лет.
Гарнизон размещайся в военном городке, на восточной окраине Пуховичей, одной своей стороной примыкавшем к лесу. Городок совсем не выглядел захолустьем: широкие улицы, мощеные тротуары, парк. Высились двух- и трехэтажные казармы, множество складских помещений из красного кирпича, магазины, уютные, почти игрушечные коттеджи. Неделю назад здесь шла размеренная жизнь — с песнями солдат, смехом, музыкой в парке по вечерам. Сегодня все было иначе — тихо и пусто. Точно по городу прокатилась чума, опустошив улицы и дома, повсюду разлив свое кладбищенское безмолвие; как слепые глаза, чернели раскрытые окна в покинутых коттеджах.
Начальник гарнизона капитан Кораблев напоминал скорее интенданта, нежели строевого командира. С ног до головы он неторопливо ощупал меня равнодушным взглядом, когда я доложил ему, о своем назначении.
— Значит, Метелин, говоришь, твоя фамилия? — сказал он. — Что ж, звучит. Оттуда? — кивком головы указал на запад. — Бежим, значит?! Так, так. — И презрительно скривил губы. — Ну, а твои солдаты как, тоже скипидаром пятки намазали? Или ничего? Смогут, как капитан, покинуть корабль последними?! Учти, наш город — тонущий эсминец.
— Мы солдаты Ногина, — похвалился я. — А о нем не знают только те, кто газет не читает.
— Куда уж нам, дуракам, чай пить. Не доросли до газет, — Кораблев усмехнулся, слегка прищурив один глаз. — А с твоим Ногиным в Москве я в одно время назначение получал. Что и говорить, на вид вы оба молодцы, в фотоателье на витрину выставлять можно. А в нутро к вам не лазил — не знаю. Ногин, поди, сейчас, как и ты, где-нибудь без оглядки немцу спину кажет?
— Не очень-то уважительно вы судите о людях, товарищ капитан.
Кораблев и глазом не моргнул, будто и не слышал моей реплики.
— Выберите казарму поближе к штабу, — распорядился он. — Людей одеть, накормить и вооружить.
Склады еще не эвакуированы. А то гляжу на тебя и думаю: когда гимнастерка твоя стиралась? А сапоги, похоже, еще от Петра Великого в наследство достались. Стыдно, молодой человек. На войне, как на балу, всегда надо быть опрятным. Выполняйте!
— Слушаюсь!
Вышел я из штаба злой, с самым противоречивым мнением о Кораблеве. «Без оглядки немцу спину кажет…» В тылу отсиживаясь, легко рассуждать. Все умники. Угораздило же меня угодить к нему в подчинение! — с лихорадочной дрожью внутри думал я и не заметил, как натолкнулся на Захарова. Лицо его сияло радостью.
— На все сто процентов отлегло тут, товарищ командир, — ткнув себя в грудь, сказал он.
— Ты о чем? — не понял я.
Захаров продолжал:
— Теперь фашистской сволочи несдобровать. Точка. Отступать больше — дудки! Хватит. Будто тебя голого при всем честном народе гонят, когда видишь эти мокрые провожающие бабьи глаза. Несподручно советскому гражданину это — отходить. Ну, а теперь я у дела, вот и радуюсь.
— Отходи-и-ить! — передразнил я. — Просто без оглядки спину показываешь, гражданин. — Во мне еще не остыла злость после разговора с Кораблевым. — Чего плачешься в жилетку?
Захаров, недоумевая, какая меня муха укусила, переминался с ноги на ногу.
— Да вроде никто и не силует, а идешь. В том-то и беда, что совладать с самим собою не можешь, — уже потухшим голосом сказал он. — Как со скользкой горы покатились.
Захарову за сорок. Он точно кряжистый дуб, глубоко и крепко вросший в землю, широк в плечах. Брови разлатые, нависают, как соломенная стреха, над хитроватыми с прищуром глазами. Смуглое лицо обожжено колючими забайкальскими ветрами. Человек он суровый, но сердце у него ласковое, как у ребенка. Случилось, что после финской так и не попал он к жене и дочери.
— Вот что, дружище, радость твоя понятна, — уже извинительно сказал я. — Кажется, мы в самом деле теперь у дела. Отступать, понятно, не сладко, но теперь бери-ка власть в свои руки. Отныне — ты старшина! Даю полтора часа времени — разместить, одеть, обуть и накормить весь личный состав.
— Есть одеть, обуть и накормить!
Власть Захаров любит, знаю. Давно он метит в старшины. И росту у него сейчас точно прибавилось.
— Да и свою замени гимнастерку, — замечаю я. — Уже не хлопчатка, а бычья шкура — залубенела от пота. Начальству не годится ходить неряхой. А правда, поговаривают, что у тебя в вещевом мешке целый склад обмундирования?
— Брешут, — отнекивается Захаров, краснея. — Одна-единственная гимнастерка. Для праздников берегу. Больно складно пошитая. И память мне. Друг по финской подарил. Убило его…
— Выполняйте!
К капитану я вернулся два часа спустя. Успел привести себя в порядок: сменил обмундирование, подшил подворотничок, начистил сапоги, побрился. Пока я занимался собою, Кораблев знакомился с моими людьми.
«Прощупал каждого, кто на что годен, всем определил задание», — сообщил мне Захаров.
Застал я Кораблева в штабе. В тесной комнатушке он склонился над столом, заваленным папками, свернутыми в трубки топографическими картами, бумагами, и что-то писал, очистив себе местечко. Встретил меня опять с чувством какого-то недоверия и недружелюбия.
— Вот теперь и на бал можно. Вырядился, что твой жених, — съязвил он.
У меня запылали уши.
— Садись, — кивком капитан указал на стул.
Невозмутимость Кораблева и его явное безразличие ко всему тому, что происходило вокруг, удивляли меня, а тон обращения злил. Пуховичи беспрестанно бомбили, упорно ползли слухи — враг на подступах к городу. Кораблев — начальник гарнизона, и я ждал от него немедленных и решительных действий. Но, видно, зря ждал. Низко склонив бритую голову над листом бумаги, Кораблев старательно, как первоклассник, выводил буквы. Его черная густая левая бровь, в зависимости от нажима пера, то ползла вверх, то сурово ломалась, собирая гармошку морщинок на лбу. Череп у Кораблева сократовский, крупный, лобастый. Фуражка высилась на горе папок.
Запечатав письмо, Кораблев вызвал из соседней комнаты бойца.
— Вот, милок, пакет. Доставить в Могилев. В штаб!
Боец молча отдал честь и вышел. Через минуту послышался треск удаляющегося мотоцикла. Капитан проследил из окна, повернулся ко мне.
— В шахматы играете? — спросил он и, не дожидаясь ответа, достал из нижнего ящика стола коробок с шахматами. — Подвигайте стул. — Локтем отодвинул бумаги и, высыпав фигуры, примостил шахматную доску.
Внутри у меня все дрожало, я проглотил слюну. С таким начальником гарнизона — один шаг до беды. И опять пожалел, что судьба свела с ним.
— Выбор твой, можешь взять белые.
Простите, товарищ капитан, но… честное слово…
— Ты о чем это? — он притворно непонимающе свел брови, по-детски улыбнулся и начал расставлять фигуры. — Не валяйте дурака, лейтенант. Не звучит! Когда начальство говорит, что ты пьян, отвечай: «Слушаюсь!» и иди спать.
Я понял, что капитан настоит на своем, и сел за стол.
Некоторое время мы молчали. Капитан в игре был не таким простаком, каким казался с виду. Когда-то в институте я одерживал победы. Мне хотелось досадить ему хоть в этом, кольнуть его самолюбие.
Но выяснилось, что голыми руками его не возьмешь. Кораблев активно развивал наступление.
— Что же вы молчите? — видя, что мне приходится туго, спросил с усмешкой он.
— Взвешиваю силы противника, чтобы положить на обе лопатки, не дав ему и пикнуть.
Кораблев кашлянул:
— М-да, пророк из вас неважный, прямо скажем, — и, передвинув коня, объявил шах. Следующим ходом убил королеву и затрясся в беззвучном смехе, черные, живые, как у ребенка, глаза его озорно блестели. У меня перехватило дыхание. Так глупо проворонить королеву — это почти что проиграть партию. Но оружия я не сложил.
— Хмуритесь?
— Напротив, предвкушаю поражение.
— Чье?
— Разумеется, ваше!
— Вы не лишены чувства юмора. Мне это начинает нравиться. Похвальба, конечно, людям свыше дана. Овсяная каша тоже хвалилась, будто с коровьим маслом родилась.
Разговаривая, капитан сделал опрометчивый ход. Я не преминул воспользоваться его неосторожностью. И вот — ловушка. Насмешливость с лица Кораблева как ветром сдуло. Он протянул руку, чтобы переиграть, но я возразил:
— Признайте во мне пророка, я и, так уж и быть, снизойду — разрешу вам рачий ход.
Бритый череп Кораблева порозовел.
— Какую глупость сделал, а? Черт знает что такое. Это вы всё своей болтовней!..
— Сдавайтесь, товарищ капитан.
Он почти с ненавистью взглянул на меня: «Вы что?» И тут же, сделав ход ладьей, оживился. Зашумел: — Вот вам! — пристукнул он зажатой в кулаке фигурой по столу. — А я-то вообразил — настоящий игрок! Батенька, обмануть хотел?! Святая простота! Ха-ха… Надо знать, с кем имеете дело!
В пожилом серьезном мужчине разгорелся мальчишеский пыл. Кораблев как будто даже помолодел, морщины у глаз разгладились. Ход его действительно был мудр. И он радовался ему, как доброй находке, неожиданному открытию. Но и я рассчитал точно — проходила моя пешка.
— На пешечку жмете?! Голубка сломит себе шею, не добравшись до высот королевы!
Мы оба чуть ли не воткнулись носами в шахматную доску. Пальцы капитана, зажав отыгранные фигуры, побелели. Я старался разгадать его замысел. Пешку мою он действительно убил. Но опять ошибся. И тут я понял наконец его тактику. Очертя голову он бросался вперед, не пытаясь разгадать план противника.
— Предлагаю вам сдаться, лейтенант, — теперь уже он посоветовал мне.
Я промолчал.
— Когда не везет, всегда молчишь.
Но нервничал все-таки он, явно пытался отвлечь мое внимание.
— Вам шах… А вот и мат! — сказал я.
Сыграли вторую партию. Я дважды одержал победу. И только тогда за внешним равнодушием разглядел человека порывистого, горячего. Проиграв, капитан вскочил из-за стола, удивительно легко, несмотря на свою заметную грузноватость, забегал по комнате, размахивая руками.
— Нелепая случайность! Безусым, у которых молоко еще теплится на губах, никогда не проигрывал! Просто расстроен всей этой дурацкой неразберихой.
С шумом он извлек из письменного стола папиросы, с жадностью изголодавшегося глубоко затянулся. При мне он курил впервые.
— Собирался бросать. Да где уж тут! Пачку махорки проглотишь. И это называется воспитанная молодежь!.. Играл ведь с капитаном! Нет чтобы удовольствие доставить. Да даже не капитану, а просто старшему по возрасту человеку. Как это поэт сказал: «С печалью я гляжу на наше поколенье». Ох и поколеньице!..
Он с комичным отчаянием махнул рукой. Невозмутимое, мужественное лицо его стало вдруг серым и невыразительным, грустью повеяло от него.
— Вот у меня дома тоже есть молодой человек, точнее — девчонка. Только вчера отправил их с матерью. Ее тоже не одолеть. Не в шахматах, конечно, нет. Не в них дело. Грамотные вы слишком. Всему мы вас научили, забыли только привить вам элементарную этику — почитать отцов, уважать их привычки.
Было в Кораблеве что-то необычайно наивное. И было это отчетливо видно, несмотря на его внешнюю суровость и внешнее проявление холодности. После игры в шахматы он стал мне понятным, неожиданно своим и дорогим человеком.
Минуту спустя, успокоившись, Кораблев притушил папиросу.
— А вообще, уверенность делает вам честь. Да, да, молодцом! Может быть, и хорошо, что выиграл. Ну, теперь за дело. Ведь у нас его непочатый край.
Эвакуация города продолжалась уже третьи сутки. На запад двигались наши войска и с ходу вступали в бой.
Ночью захмарило, запахло дождем.
В сумерках мы с Кораблевым проверили все посты. Отдав окончательные распоряжения и еще раз убедившись, что все сделано по его указанию, Кораблев посоветовал мне прилечь отдохнуть.
— Наши, кажется, задержали немца, — он отечески легонько хлопнул меня по плечу. — Иди приляг, шахматист!
Я и в самом деле падал с ног — устал до изнеможения, и едва добрался до нар — сразу свалился, точно скосило меня; Но уснуть, как ни странно, долго не мог. Мозг сверлила беспокойная мысль — все ли сделано? Нашему гарнизону предстояло взорвать железнодорожную станцию, бензохранилище, склады интендантства и боеприпасов — ничего не оставить врагу такого, что бы ему могло пойти на пользу. Каждый солдат Кораблевым был подключен к определенному участку; он — солдат, командир и исполнитель одновременно — хозяин положения. Механизм заведен, надо суметь теперь предвидеть и устранить все, что могло помешать его работе. Дополнительные приказы уже не изменят хода развернувшихся событий. Мы оставим Пуховичи последними. «Тонущий эсминец»… Я наконец забылся.
Сколько проспал — не знаю… Проснулся от сотрясения и гула. Комната, в которой я спал, залитая яркими отблесками пламени, полыхающего за окнами, казалось, плыла и качалась из стороны в сторону. Застегивая на ходу гимнастерку, я выбежал во двор. Пуховичи и примыкающий к ним военный городок горели. Один за другим следовали потрясающей силы взрывы. Клубы дыма взметались ввысь, опрокинутое чашей горело само небо.
Мимо меня пробежали двое солдат. Я бросился вслед за ними. И тут кто-то сильной рукой взял меня за плечо. Оглянувшись, я лицом к лицу столкнулся с капитаном Кораблевым.
— Что произошло? — с тревогой спросил я.
— То, что должно было произойти… — И, ничего не разъясняя, капитан приказал мне снять первый и третий посты, выяснить, почему не взорвана водонапорная башня.
Немцы очутились в западном предместье города раньше чем их ожидали. Ночью они не решились войти в город, но вели беспрестанно обстрел, особенно яростно бомбили выходы на дорогу к Березине и Могилеву.
В спешке завершались последние работы. К утру почти все было готово. Выполнив задание, я получил от Кораблева приказ с группой солдат выбираться из военного городка в лес, занять там оборону и ждать его, Кораблева, возвращения с остатком гарнизона.
Через город по дороге к Березине прошли наши последние войска. К рассвету дорога точно вымерла.
Мы извелись, ожидая Кораблева. Появился он в лесу лишь в пятом часу утра, когда опасность уже выглядывала из-за каждого куста. С Кораблевым пришла какая-то девушка лет восемнадцати.
— Полюбуйтесь, — сказал мне капитан, раздраженно покосившись на спутницу. — Вот она, вечная проблема… Третьего дня честь честью, как человека, отправил ее с матерью и братьями на восток, а ночью — хорошо еще, что случайно заглянул на квартиру, — извольте радоваться: Каталина тут как тут. Думал, инфаркт схвачу. И надо же было, чтобы у капитана Кораблева родилась дочь! Спрашиваю — почему? Что? Зачем? Как воды в рот набрала! Пришлось впервые в жизни всыпать как следует — да простит мне бог, — и только тут она мне, дрянь этакая, выпалила, что раз я, значит, ее отец, не могу, то она партизанить станет в белорусских лесах! И немцам покоя не будет! Дескать, она не то, что мы, мужчины… Экий партизан! — горько усмехнулся он. — Только, пожалуйста, не воображай себя взрослой!
Выговорившись, Кораблев сразу остыл, отошел. С грубоватой лаской он заправил выбившийся из-под косынки темный локон дочери:
— Эх ты, пичуга…
— А я и есть взрослая, — девушка с нескрываемым вызовом и укором смерила нас таким взглядом, будто мы были преступниками. Брови у нее, как и у отца, — ломаные, густые, черные. Синь юных глаз сверкала чистотою, во всю щеку — нежный румянец, пухлые, никем еще не целованные губы, тонкая, как стебель, талия — все в ней дышало омытым росою утром.
— Немцы уже орудуют в Пуховичах. С минуты на минуту вступят в военный городок, — сказал капитан. — Долг свой мы исполнили, но не до конца. Бензохранилище-то осталось невзорванным: сержант Масляев струсил, сбежал.
Я расстегнул ворот. Бойцы настороженно молчали: Кораблев вряд ли согласится оставить немцам хранилище в целости.
— Разрешите мне и старшине Захарову вернуться в городок, — попросил я.
Кораблев повернулся к Захарову, меряя его взглядом.
— Товарищ Захаров, останетесь за старшего, — приказал он. — Вы, Метелин, вы и вы, — указал он на двух бойцов, — за мной!
— И я, папа! — рванулась Каталина.
Кораблев поднял левую бровь.
— Да, папа. И я, — повторила она твердо.
— Ну что ж. Как знаешь. Торопитесь, Метелин!
Мертвый городок окутал туман. Громоздились горы развалин. Только военторг, несуразно большое здание, похожее на старинный замок, каким-то чудом уцелел и выглядел уже вовсе призрачно.
Мы пробирались к бензохранилищу. Вокруг лежала удивительная тишина. Как в заколдованном царстве безмолвия. И вдруг клубы дыма и огня через мгновение взмыли в небо. На обратном пути мы не утерпели и заглянули в уцелевший магазин. В ювелирном отделе мерцали хрусталь, золото, камни. Я искренне изумился: откуда в этих Пуховичах, о которых я никогда даже не слыхал, столько драгоценностей!
— Только начинали по-настоящему жить, — пояснил Кораблев.
— Но почему же все это здесь, не эвакуировано?
— Вот их, — кивнул в сторону дочери Кораблев, — женщин да детишек, надо было вывезти, во-первых. А во-вторых, из-за головотяпства… Возьмите себе на память. — Кораблев бережно отодвинул стекло полированного шкафа, взял двое золотых часов и протянул мне.
— Благодарю, мне сейчас не богатеть, — отказался я и спросил у Каталины: — А вам не жаль этого добра?
— Его же нельзя оставлять…
— Почему?
Она презрительно скривила пухлые губы: эти взрослые! Ее считают девчонкой, а сами ничего не понимают. Даже не представляют, какое страшное преступление совершают, отступая и оставляя врагу землю. И еще спрашивают почему? Каталина резко, на одних каблучках, повернулась к отцу.
— Папа, торопись.
Зашипел, искрясь, бикфордов шнур. Едва мы успели укрыться за развалинами, как земля дрогнула… То, что недавно напоминало замок, превратилось в развороченные глыбы железа, бетона, камня и пыли.
Поймут ли когда-нибудь те, кто находится по ту сторону баррикад, наши действия? По-видимому, нет!.. Скажут — мы бессердечны и безжалостны к своему дому, назовут нас десятки раз скифами!.. Счастлива ли любящая мать, принесшая на радость миру сына и принужденная убить его своими руками? Да, нет горше того горя, которое сегодня испытываем мы. Одно лишь утешение в груди — разрушая, мы создаем…
Прощай, старина, — Кораблев снял фуражку и поклонился разрушенному городу. На глаза набежали слезы.
— Ах, папа, папа. Какой же ты! — Каталина прижалась к нему щекой. Она не понимала слез отца и с обостренной стыдливостью юности хотела их укрыть от нас.
— Не могу, Катанка, не могу!
Капитан подал знак и, больше не оглядываясь, двинулся вперед. Мы последовали за ним. Шел он с опущенными руками. Сразу как-то поникший, словно постарел на десять лет. Неожиданно нас оглушил пронзительный треск. Капитан мгновенно выпрямился. Подмяв деревянные сторожевые ворота городка, прямо на нас мчалась немецкая юркая танкетка. Мы нырнули в разрушенную водонапорную башню, почти у самой дороги. Кораблев торопливо и нервно выхватил из-за пояса две гранаты, швырнул их под танкетку. Она вздрогнула и завертелась на месте, рассыпая горячую пулеметную дробь. Пустил и я одну за другой две гранаты, машина затихла, неуклюже и неправдоподобно, как подраненная сова, прильнула железным телом к мостовой. Капитан взял у притаившегося рядом с ним бойца еще гранату, и не успели мы опомниться, как он выскочил из укрытия. В башне танка щелкнул выстрел… Кораблев споткнулся, схватился за грудь. Еще не понимая, что произошло, он медленно, с усилием повернулся в нашу сторону, ища глазами кого-нибудь из нас, и недоумевал: куда все исчезли, почему он один?.. Ослабшие пальцы вяло поползли к вороту гимнастерки, тщетно пытаясь его расстегнуть. «Каталина… Метелин, берегите дочь!..» — крикнул он и осел на дорогу. Я машинально рванулся к нему на помощь, но меня удержала чья-то крепкая рука. Взглянув на Каталину, я все понял: меня ждала участь ее отца, если сначала не убить того, в танке. Связав кое-как ремнем гранаты, я метнул их под машину. Черный шлейф густого дыма потянулся к небу. Капитан, откинув правую руку и неудобно подвернув под себя левую, лежал на мостовой. Козырек фуражки бросал тень на его неподвижные открытые глаза.
К городу двигались танки. Их точно идущий из-под земли гул стремительно приближался.
Подобрав командира, мы вернулись в лес. Бойцы обступили нас тесным кругом, склонили головы. Каталина судорожно прижала кулаки к глазам, ссутулилась.
Из-под Пуховичей мы ушли чуть ли не в полдень. В городе уже полновластно хозяйничали немцы. Мы оставили капитана в песчаной могиле и чувствовали себя так, словно вместе с ним оставляли здесь часть своего Сердца. Куда же теперь? Неожиданно мы замерли, потрясенные: из города к лесу с разных концов, поджав уши, убегали собаки. Я и не предполагал, что в Пуховичах такое множество собак.
— Видать, не очень ласковый гость, коль тварь и та утекает! — заметил Захаров.
Двигались тропами и по бездорожью в лесной чащобе. Вскоре на нас стали охотиться «мессеры». На бреющем полете с остервенелым воем носились они во всех направлениях, «прочесывали» лес и придорожные кусты из пулеметов и пушек.
— Ишь, беснуются, сволочи! — выругался кто-то.
— А наши и носа не кажут…
— До войны на небе кренделя выделывали, а когда понадобилось, будто собаки от волка в подворотню попрятались.
— Ты потише… насчет подворотни, — оборвал сосед.
— А ты мне рот не закрывай! Неправда разве?
— Не знаешь, так зря не неси околесицу.
— На юг бросили наши самолеты. Говорят, наши уже в Прагу к чехам вступили. Там, слышно, товарищ Буденный дает жару.
— Твоими бы устами да мед пить.
Каталина шла молча, низко опустив голову. С лица ее точно сбежала вся кровь, оно стало белое, как известь.
Перехватив мой взгляд, она рванула с головы платок и на мгновение закрыла им лицо. В темно-русых густых волосах от лба до затылка ослепительным жгутом протянулась седая серебристая прядь, будто девчонка случайно прислонилась головой к исписанной мелом школьной доске. Я чуть было не спросил: «Что это у вас?», да вовремя прикусил язык.
Мама, мама! Думала ли ты когда-нибудь, любимая, родившая нас в муках и слезах, что в восемнадцать лет в наши взлелеянные тобою волосы вплетется седая прядь. Ее никогда уже не смыть с наших кудрей. Зачем, сидя у колыбели, ты рисовала нам чудесные узоры сказки о счастье, возводила невиданно красивые терема! Что, если бы сейчас, в эти минуты, на ухабистой дороге войны, в этом унижении и оскорблении довелось увидеть тебе надежду и веру твою — твою плоть и кровь, твое детище?.. Нет, не надо, мама. Пусть лучше мы сами… Я не хочу, не подумай, упрекнуть твои священные для меня морщины, наложенные на твое родное лицо суровой жизнью, что ты не открыла мне по-настоящему, что же такое есть жизнь, что не сделала меня беспощадно мужественным в жестоком единоборстве с самим собою. Не плачь, мама. Не надо, любимая! Твое сердце и без того давит тоска в разлуке с нами, твои глаза стали хуже видеть: их часто, слишком часто застилают слезы. Нет, не раскаяние мучает тебя. Тревога иссушила твою грудь. Мы для тебя всегда беспомощные дети, воины ли мы или годовалые несмышленыши — все равно дети, которым нужна мать. Где бы мы ни были, за тысячи ли верст от тебя или рядом, ты всегда с нами. Мысленно оберегая нас от злой судьбы сегодня, в любую минуту ты готова принести себя в жертву, только бы жили твои дети. Ты веришь, что у твоего ребенка все должно быть хорошо, потому что он обласкан светом щедрого солнца, потому что родила ты его для счастья. Одно только, мама, тебе неведомо сегодня — какая щемящая, какая неуемная боль и горечь в сердце у твоего ребенка. Мама, мама…
Зарослями, по колено в болотной воде, топью пробирались мы к Березине и дальше — на Могилев. Каждый метр пути стоил больших усилий. Мы тащили на себе четыре станковых и три ручных пулемета, винтовки, два ящика с гранатами, набитые патронами вещевые мешки. Немцы могли появиться из-за каждого куста. Передохнув в Пуховичах, они опять напористо двинулись на восток.
А до Березины еще около семидесяти километров.
К вечеру вдруг похолодало, подул сырой, промозглый, будто осенний ветер. Небо заволокло тучами. Лес почернел, угрюмо притих.
— Устали? — спросил я Каталину. Она тоже с винтовкой за плечом, точно боевой солдат. В ответ Каталина молча покачала головой: «Нет, дескать, не устала». Я взял ее винтовку, забросил на плечо.
По листьям звонко застучали редкие капли. Пронесся порывистый ветер, зашумели, пригибаясь, вершины. Капли ударяли о листья все чаще, торопливее. И вдруг, словно разверзлось небо, хлынул ливень.
Я набросил на Каталину свою плащ-палатку.
— Не надо, — запротестовала она.
— Капризничать будете у матери, а здесь извольте подчиняться, — рассердился я и тут же пожалел о своей резкости, попытался как-то сгладить ее:
— Простите. Иногда приходится быть грубым… Вы же понимаете, Каталина… Недоставало только, чтобы вы заболели. Поэтому….
— Зачем вы извиняетесь? Это я. Все я… и, схватив мою руку, уткнула в нее лицо и беспомощно, совсем по-детски заплакала.
Сострадание сдавило мне горло, но я бодрился ради этого осиротевшего ребенка.
— Не вешайте носа, Катинка. Жизнь еще улыбнется. Главное сегодня — не утратить веры в себя.
Каталина подала мне другой конец плащ-палатки, и мы, укрывшись, пошли рядом. Дождь усилился. «Недоставало мне еще этой заботы», — подумал я, глядя сбоку на Каталину.
— Почему, скажите, — внезапно спросила она, — почему мы отступаем? Разве мы слабые? Выходит, что так. Зачем же тогда уверяли, что мы, мы… Я не могла даже представить, что буду вот так, в лесу, одна. Потерять все… Почему могло такое получиться?..
Лгать ради утешения я не мог, а сказать правду было еще труднее. Во мне самом за эти дни что-то как будто надломилось. Я тоже мучительно искал ответ на роившиеся в голове вопросы. Действительность оказалась совсем иной. И когда я столкнулся с нею воочию, увидел суровую и жестокую правду, увидел то, чего нельзя было и предположить — наступила расплата: боль, сомнение, противоречия — все собралось твердым комком, нещадно давило грудь.
— Почему вы молчите? Папа тоже всегда молчал. А последний раз он даже рассердился. Мы спорили о политике. Он хотел, чтобы я так же мыслила, как он. Но убедить меня не смог. Шумел, что мы, то есть это, значит, я и мои сверстники, изнежены, избалованы. Вот если бы нам довелось хлебнуть горя, как им, отцам, тогда бы мол, были поумнее и не выискивали недостатков в созданном ими мире, а безропотно тянули воз жизни. Так и сказал, тянули… А вот я и сейчас убеждена, что не в этом смысл и радость. Тянуть. Смешно! Разве человек лошадь?.. Сегодня вот нас, сильных, бьют. Да, сильных. Почему? Папа мне этого не объяснил.
Она подняла на меня строгие глаза.
Умное, не по возрасту мыслящее лицо. «Почему?» — подумал я и не ответил Каталине, а сказал:
— Лучше и легче воспринимать сегодня все так, как оно есть, без анализа. Как свершившийся факт. Надо дать всему отстояться.
Дождь падал отвесно, гулко, как об железную крышу, барабанил по намокшей плащ-палатке. Ни одной сухой нитки на тебе. Чувствую, что замерз, креплюсь, хотя зубы не слушаются и выбивают дробь. Команда растянулась. Ноги скользят по размокшей земле.
Нас нагнал Захаров:
— Подожди маненько, начальник, — прикрываясь от дождя концом плащ-палатки, он из вещевого мешка вынул новенькую, сухую гимнастерку.
— Вот, возьми, дите, надень, — повернулся он к Каталине. — Ума, вижу, мало: пустилась в дорогу в одном ситцевом платьишке.
Каталину прикрыли палатками. С трудом натянула она на мокрое платье гимнастерку. Грубоватая забота стороннего человека тронула ее. В гимнастерке с богатырского захаровского плеча она утонула, рукава свисали ниже колен.
— Ой, спасибо! Как хорошо вы придумали! — по-детски обрадовалась Каталина. — И гимнастерка как раз по мне. — Она озорно подняла руки.
— Вот и хорошо, если угодил, — проворчал польщенный Захаров.
— Гляди, на какую утрату решился мой земляк, — не утерпел, кольнул Захарова его дружок Русанов. — Рубашку ведь, как писаную красавицу, берег.
— Поди, речка где-нибудь вспять тронулась, — тут же отозвались другие.
— Какая там речка, гляди вон небо от слез зашлось.
— Мне и невдомек, отчего будто все ведьмы против нас, а это, оказывается, товарищ старшина гимнастерку решился уступить.
— Гимнастерка знаменитая! — не унимался Русанов. — С финской в мешке лежит. К ней еще сама Катерина Вторая пуговицы медные пришивала. Завещание оставила: носи, мол, Петр Захаров, себе на радость и на страх врагам. Я, Катерина, жаднючих мужиков страсть как ценю. А тебе, как самому правофланговому, и цены нет.
— Сознательная, видать, царица была…
— Ну, чего зубоскалите, мухоморы! Ума у вас, гляжу, на полушку! — пристыдил Захаров. — Дите от холода посинело, а вам, кобелям, лишь бы ржать. — Он сердито закинул за спину вещевой мешок, натянул залубенелую плащ-палатку на голову и молча зашагал вперед. За ним тронулись все наши бойцы.
Незаметно на крышу леса скатилась ночь, придавила его к земле. Мы едва плелись. Кое-кого уже волокли на себе. А дождь лил, лил. Я отдал команду выбираться из чащи на шоссейную дорогу, а сам пробрался в голову колонны, чтобы ускорить шаг. Но едва мы достигли опушки, как почти перед собой на дороге увидели две автомашины. Возле них копошилось несколько человек. Определить в темноте, наши это или немцы, было нельзя. Я приказал изготовить оружие и послал Захарова, Русанова и ефрейтора Петина в разведку.
— Наши! Наши! — спустя немного времени раздались изглубины ночи обрадованные голоса.
Мы бросились к машинам.
— Ни ползет, ни лезет, ни вон нейдет? — шутя осведомился у шофера повеселевший Захаров. Шофер, по уши в грязи, злой и измученный, мрачно ответил:
— По таким дороженькам, так их и разэтак, только на технике ездить.
— Плохой возница всегда на Макара дразнится.
— Ты лучше подсоби, «Макар». Вишь, застряла.
Мы помогли вытащить завязшие в грязи автомашины, упросили везущих какой-то секретный груз солдат взять наших больных и тронулись дальше.
В первой же деревушке разместились на короткий ночлег. Человеку мало надо, чтобы быть счастливым. Пахнущая кислым хлебом и сухим деревом изба казалась пределом мечтаний. Жизнь все-таки прекрасна! И еще раз все-таки стоит жить. Я сбросил с себя оружие, стянул гимнастерку, сапоги; каждый мускул ощущал радость покоя, разлитого в избяном тепле.
Каталина у порога выжимала волосы. Красивая и жалкая одновременно, дитя и женщина. Взглянула на меня и, увидев, что я наблюдаю за нею, чуть приметно улыбнулась.
— Спите, — произнесла она едва ли не с материнской заботой, и ее голос чем-то неуловимо напомнил голос ее отца, капитана Кораблева.
В коридоре послышалась какая-то возня.
Каталина отступила от двери. Захаров с двумя солдатами втолкнул в комнату громоздкое, с болваньим лицом существо, в которой я с трудом узнал сержанта Масляева, исчезнувшего из Пуховичей.
— Откуда? — Я недоуменно смотрел на рябого большегубого сержанта. Рыжие, щетинистые брови нахмурены, по-бабьи круглые плечи обвисли.
— На печи грелся у нашей хозяйки. Этот уж не отступает, а драпает во все лопатки, — зло сказал Захаров. — Куда прикажете? Может, к стенке гада?
Масляев озирался, как затравленный зверь.
— Черт с ним! — махнул я рукой. — Сорвите с него сержантские лычки, и пусть пристает к нам. Авось, поймет, что подлец.
С рассветом мы уже были на ногах. Погода немного исправилась. Дождь перестал, но зато воздух теперь дышал гнилой сыростью. Сизые дымчатые облака уползали на восток. С листьев срывались крупные и холодные, как лед, капли. Дорогу развезло. Вся в выбоинах и илистых лужах, уныло тянулась она вдаль.
После отдыха настроение почему-то стало еще хуже. Голова раскалывалась от невеселых мыслей. Как слепой щенок, я барахтался в черном мире, тычась из угла в угол, бессильный найти выход. Неужели и за Березиной опять отступление? Снова дорога в выбоинах и илистых лужах? Дорога, полная человеческой слабости, падений, ужасов?
Мое настроение передалось людям.
— Может, бросить эту коломбину? — мрачно сказал Захарову Ковров, несший на горбу пулемет. — Все одно, видно, не пригодится. — В голосе Коврова едва сдерживаемое озлобление. Мужчина он гигантского телосложения, плечи — косая сажень, высокий, как дуб, огромной физической силы, Кряжистый Захаров рядом с ним — просто малыш.
— Я те брошу! — пригрозил он Коврову.
— А ты не стращай, старшина. Страшнее того, что от немца бежим, — уже нет ничего. Вот возьму и брошу. Чего ты со мной сделаешь?
— Может, кто и бежит. А я, например, отхожу. А пулемет попробуй мне только бросить! Я те…
Ковров, побагровев, остановился.
Недоставало еще, чтобы сцепились, как козлы.
— Бросай, если не жалко. Черт с ним, — вмешался я.
Ковров сразу сник и неловко шевельнул губами.
— Жалко, товарищ лейтенант. Пуховичи бросили, другие города тоже. Теперь пулемет… А кто ж за это в ответе будет?
Но я не принял извинений Коврова и, чтобы уязвить его, позвал ефрейтора Петина:
— Товарищ Петин. Иди, пожалуйста, помоги другу своему.
Петин, остролицый, щупленький, лилипутьего роста человек, всерьез приняв мои слова, тоненьким голоском сказал Коврову:
— Давай, Миша, подсоблю.
— А ну, проваливай, нечего путаться в ногах! — налившись кровью, свирепо огрызнулся Ковров. Но тут же справился с собой и добродушным баском протянул: — Что, товарищ лейтенант, кандидатуру в помощники небдительную даете?
По рядам пронесся одобрительный шумок. Намек Коврова пришелся кстати. Вчера в пути Петин на ходу заснул и не слышал, как у него с головы стянули пилотку.
Что же молчите, Петин? — спросил я.
Петин растерянно передернул плечами, шмыгнул носом, погладил ладонью непокрытую стриженую голову. Ковров оживился:
— Рязанский лапотник. Башку посеял, а туда же, в помощники лезешь. Ну как с ним, товарищ лейтенант, с безголовым, воевать против немца? Потому, видать, и отступаем, не иначе.
— Ты не дюже, Ковров, — серьезно заметил охочий подшутить над товарищами Русанов. — Знай, с кем дело имеешь.
— То есть как с кем?
— А так. Петин наш, он не просто Петин, а товарищ ефрейтор! Чин этот сегодня в большом весе.
Ковров с нескрываемым недоумением повернулся к Русанову. Тот под общий одобрительный смешок солдат продолжал:
— И у тебя, Ковров, видать, котелок не очень шибко варит. Наш Петин самому Гитлеру не уступит: оба они одного звания. Ефрейтора, мать их за ногу!
Петин, задетый за живое, не утерпел:
— Сравнил! — крикнул он Русанову. — И язык поворачивается! Я товарищ тебе или кто? А Гитлер, он просто так ефрейтор.
— Чего толковать, ты выше! — с добродушной издевкой поддержал Русанов.
В разговор включились другие. Петин стал предметом всеобщего внимания. Незаметно и я подливал масла в огонь. Шутки, смех заслоняли усталость, гнали из сердца раздирающие противоречия и сомнения, разглаживали на лбу хмурые складки. Каталина, заглянув мне в лицо, спросила, не жалко ли мне Петина. Тот и в самом деле сник, обиженно поглядывал на дружков, потешавшихся над ним.
Вдруг Каталина подступила к Русанову:
— Вы баснописца Крылова знаете?
— Это который про лебедя, рака и щуку сочинил? Слыхивал, дочка. А что?
— А басню «Чиж и голубь» знаете?
Русанов почесал затылок, сдвинув на лоб пилотку, не понимая, чем он заслужил такое внимание.
— Не знаете? Так вот в ней сказано:
«Чижа захлопнула злодейка-западня, Бедняжка в ней и рвался и метался, А Голубь молодой над ним же издевался! „Не стыдно, ль“, — говорит, — „средь бела дня попался! Не провели бы так меня: За это я ручаюсь смело“. Ан смотришь, тут же сам запутался в силок. И дело! Вперед чужой беде не смейся, Голубок».Русанов скривил рот в полуулыбке.
— Вот возьмите! — сказала Каталина и передала Русанову его красноармейскую книжку. Русанов и не заметил, как случайно обронил ее, доставая кисет с махоркой. Лицо его будто спичкой подожгли — так и вспыхнуло.
— «Голубок молодой!» — уколол оживший мгновенно Петин. — Растяпа, вот ты кто! Документы секретные теряешь! Это что, специально Гитлеру ориентир даешь? А если б какая-нибудь сволочь документ твой подобрала? Сколько, прикрываясь твоей книжкой, дел натворить можно?! А жизней загубить?
Русанов сразу утратил дар речи: острот в свой адрес не терпел. Они же теперь сыпались на него градом. Всех больше усердствовал Петин, плел все, что взбредет на ум. Выведенный окончательно из себя, Русанов не утерпел, вынул из-за пазухи и швырнул Петину пилотку:
— Забирай да отчепись от меня, короста!
Петин застыл с раскрытым от неожиданности ртом. Ощупал пилотку, заорал обрадовано:
— Моя, братцы! Ей-богу, моя!
Предрассветная хмарь рассеялась. Теплело. На дороге все больше встречалось военных. Одни возились у застывших машин и пушек, другие понуро плелись, как и мы, на восток. Роты, взводы, подразделения, отдельные группы солдат — хвосты большой армии, двинутой ныне ходом событий в глубь страны. Затерянные и разбросанные по земле села, деревни, города оставались позади. Нас недоуменными взглядами провожали женщины, старики, дети. В одном хуторке дорогу вдруг преградила сгорбленная, старая, как сама земля, женщина.
— Далеко немцы? — Глаза старухи горели неприязнью. Ее взгляда нельзя было выдержать. Мы молчали. Шедший впереди Захаров невольно попятился, прячась за спину Коврова. Откуда-то вынырнул Масляев.
— Готовь, мать, блины. К обеду подоспеют, — сказал он, весело ухмыляясь.
— Уйди! — сурово отстранила его старуха. Плечи ее распрямились. Она покосилась на Захарова:
— Стыдно, сынок? Прячешься? От кого? Эх, бог вам судья, дети, — скомкала в кулачке кончик передника, поднесла к вздрагивающим губам.
— Прости, мать. Мы еще вернемся, — только и мог сказать Захаров.
Долго стояла она у дороги и смотрела нам вслед, а мы шли и боялись оглянуться.
Говорят, плохое забывается скоро, исчезает из памяти бесследно, а радость — никогда. А вот это, испытанное нами, забудется ли оно? Ведь это не просто отступление солдат перед более сильным и умудренным опытом войны и разбоя противником. Нет, здесь было нечто большее, связанное с ущемлением человеческого достоинства — поругание гордой души. Ты объявился переделывать мир, штурмовать небо. За двадцать четыре года ты успел оставить позади тех, кто еще вчера был далеко впереди. Ты строил и воздвигал, своим существованием облагораживал мир, перед тобою расступались горы, сторонились враги. Ты привык знать победу. И вот тебе, мужчине с крепкими мышцами, в самом расцвете сил, говорит старая женщина: «Стыдно!» Ты бежишь, покидаешь ее, маленькую и слабую. И эта женщина как две капли похожа на твою родную мать… Забудется ли эта горше полыни явь?..
До Березины мы уже добирались, не проронив ни одного слова. Хмурые и злые. Злые на себя, злые на Масляева — пустой, как короб, человек! Злые на весь белый свет.
Вот и она, Березина!
Березина! Березина! Год тому назад, в лучшую пору, когда воздух еще не был накален докрасна предвестием войны и самой войною, мне довелось побывать здесь.
Стоя на правом обрывистом берегу, почти с птичьего полета я неотрывно смотрел на поразившие меня окрестности. Величаво разливалось бескрайнее море древнего леса, скрывающегося в прозрачной, как чистое стекло, дали. Смотрел на гряду пологих холмов, бегущих вдаль, к синему горизонту. Левый песчаный берег переливался радугой красок — и белая, как снег, береза, и могучей силы дуб, и кряжистая золотая сосна, и стройная, вечно юная ель, и курчавый, как негр, орешник, и тусклая, как оттепель, ольха. Широко раскинулась досыта напоенная подземными родниками полноводная река. И все же, казалось, ей было тесно: будто сердилась она втайне на заковавшую ее в русло силу, бурлила, рвалась из берегов.
Но там, за перекатами, где течение затихает, поверхность ее ослепительно ярко сверкала на солнце, как отполированное золото. А в прибрежной тени, точно в прозрачной синеве неба, окутанные дрожащим маревом, купались кусты орешника, стайки тоненьких берез, величественные красавицы ели. Река точно радовалась самой себе, довольная и счастливая. Но и тогда, в тот такой далекий теперь год, когда я впервые увидел Березину и не мог оторвать зачарованных глаз от ее просторов, и тогда было что-то необъяснимо угрюмое в ней, в строгой северной красоте ее было нечто величественное и непостижимое, что невольно погружало в глубокое раздумье.
Как у всякого государства, у каждой реки есть своя история. У Березины она особая — суровая и мужественная. Не раз она прославляла русскую землю. Берега ее слышали скрежет оружия, половодьем плыл здесь людской стон. Помнила Березину заносчивая польская шляхта, знали ее упрямые немецкие псы-рыцари. Здесь закатилось солнце славы Наполеона. После переправы через Березину многоязыкая, дотоле неодолимая армия Бонапарта перестала быть войском, превратилась в отребье…
Березина! Березина!
Нынче на изрезанных за ночь ливнем и ручьями берегах реки зияли глубокие живые раны. Вспухшая, раздавшаяся вширь, мутная, серая и тяжелая, как свинец, уносилась она вперед, оставляя на прибрежном тальнике хлопья грязной желтой пены. Правый берег высокой, почти отвесной стеной срывается к воде, с него, как с каланчи, далеко внизу виден противоположный пологий берег.
Сюда, на мрачную и неприветливую, холодную и суровую Березину, устремились обе армии — и немцы, и наши. Железные и шоссейные дороги, идущие от Белостока через Слоним, Барановичи на Могилев, превратились в основные каналы, по которым двигались главные ударные силы войск. Немцы, спеша овладеть Могилевом и рассчитывая сразу же двинуться затем на Смоленск, надеялись с ходу форсировать реку. Как немцев, так и нас влекло на этот участок Березины еще и то обстоятельство, что именно в этом районе, между Бобруйском и Елизово, сохранились в целости два моста — железнодорожный и для гусеничного транспорта. Через мосты круглосуточно шла переправа войск, подвижного состава, имущества, машин, техники, беженцев. Немцы, чтобы измотать наши силы и затруднить отход войскам, разбомбили мосты чуть ли не до самого Смоленска через все водные рубежи. Переправу же через Березину они не тронули. Расчет был прост: с ходу отбросить нас, а оба уцелевшие моста использовать для своего движения вперед. Но когда воздушная немецкая разведка установила, что эвакуация идет двумя каналами без сутолоки и паники, тотчас железнодорожный мост был разбомблен. Все, охваченные ужасом перед возможностью остаться на западном берегу, кинулись очертя голову к единственному целому мосту.
К десяти утра со своей группой солдат я был у переправы. Взор поражало ошеломленное людское скопище. Впритык к лесу и к берегу, вдоль реки, куда только мог достать взгляд, везде мельтешили человеческие головы. Все перемешалось: военное, дети, женщины, техника, повозки, лошади, танки, узлы, сундуки, точно вся страна вдруг поднялась и стала на колеса. Переправа шла день и ночь. Над Березиной немолчно стояли ругань, плач, крики.
Я попытался пробраться к мосту, но меня оттеснили. Из-за леса вынырнули вражеские бомбардировщики, и толпа, точно прорвав плотину, хлынула в стороны. На бреющем полете немцы поливали ее огнем пулеметов и пушек, рвались бомбы. Лошади, озверев, опрокидывали повозки, давили людей, вскачь неслись к лесу, шарахались и с диким ржанием срывались с обрыва в воду.
Бомбардировщики сделали второй заход. Теперь они обрушили всю тяжесть бомбового удара на уцелевший мост. И все, что было на нем, ринулось прочь — кто куда мог. Бомбы ложились почти рядом. В воздух взметнулись водяные фонтаны, поднимая со дна густой ил. Березина, точно залитая кровью, стала черной..
И вдруг с противоположного берега хрипло и лихорадочно заговорила зенитная батарея. Белые облачка разрывов усеяли небо. Самолеты, лавируя среди них, торопливо уходили на запад.
Переправа опять ожила. Из оврагов, из леса выскакивали чумазые, перепачканные, перепуганные люди. Толкаясь и не видя ничего вокруг, они устремлялись к машинам, повозкам, целые толпы хлынули к мосту.
— С дороги!
— Эй, куда тебя черт несет!
— Какого дьявола возишься?
— В сторону ее! В сторону, растяпа!
Треск, ругань, скрип. Все живое неудержимо стремилось как можно быстрее перебраться по уцелевшему мосту на восточный берег. Лезли напролом. Вот чья-то заглохшая машина, преградившая дорогу, дружным усилием свалена с моста в Березину. Живой поток людей и машин снова хлынул вперед. И опять пробка: теперь беда стряслась с пароконной повозкой, и ее тоже отправили вслед за машиной в воду. Крик, чей-то плач, пронзительный, режущий как бритва, предсмертный визг лошади…
Оказавшись на другом берегу и почувствовав облегчение, будто гору с плеч свалили, я невольно обратил внимание на стоящий у обочины дороги, метрах в трехстах от моста, новенький автомобиль. На его крыле сидел, сгорбившись, сжав руками голову, генерал. Мысленно он был далеко от того, что творилось вокруг, сидел неподвижный и строгий, словно впал в летаргический сон. Проходя мимо, одни искоса, с безотчетной злобой, другие сочувственно поглядывали на него.
— За голову схватился… — бросил кто-то из моих бойцов. Я оглянулся и увидел пренебрежительно-насмешливые глаза Масляева.
— Что вы хотите этим сказать?
Масляев, облизнув языком большие неаккуратные губы, нагло и вызывающе ответил:
— Что слышали, командир! Не от веселой жизни голову уронил генерал.
На какое-то мгновение меня охватило яростное желание ударить в это рябое, сытое лицо. Усилием воли сдержал себя. Подумал, может, и прав этот Масляев: не такое нынче время, чтобы хвататься за голову.
К локтю моему притронулась Каталина. Я совсем забыл о ней. Молча, сведя брови, наблюдала она за происходящим. Жизнь подсовывала ей столько неожиданностей, что она едва успевала осмыслить одну, как наваливалась другая.
— Как себя чувствуете, Каталина? — спросил я. Ее глубокие синие глаза оставались неподвижными. Я проникся вдруг к этой девочке неведомым мне доселе отцовским чувством. Взял бы на руки, как ребенка, и вынес ее отсюда в другую жизнь. — Вы чем-то обеспокоены? Или этот болтун Масляев расстроил?
— Почему так сидит генерал?
— А что же, по-вашему, он должен плясать или смеяться? — вдруг рассердился я.
— Зачем же плясать, — ответила она строго. — Просто не понимаю, почему все идут, а он сидит. Почему не остановит? А Масляев… что ж… Если боец так разговаривает, он, значит, уже не считает вас командиром.
— Вы хотите сказать…
— Я ничего не хочу сказать, кроме того, что сказала.
К полудню оба берега Березины опустели. Все укатывали, уходили на Могилев. «Разве там ожидает избавление от мытарств и позора отступления?» — мучительно думал я. — «Почему не остановит?..» — стучали в виски слова Каталины. Тот, западный, берег Березины уже был чужим. На нем ни одной живой души. Пусто, как после погрома. Вернуться туда хотя бы на мгновение не заставит и сама смерть! Наш берег тоже пуст. Но он — родной клочок земли. И здесь не страшно. Нас разделяет Березина. Здесь, на восточном берегу, все-таки еще есть зенитная батарея, которая отстреливалась от самолетов, генерал, неподвижно сидящий все в той же позе, да я с моей командой.
Из-за грудастых облаков выглянуло солнце. Удивительно весело пробежало оно по осиротевшему мосту, через перила заглянуло в Березину.
Здесь, на этой стороне, не страшно! Я посоветовался с людьми и решил Березину не покидать, хотя бы до тех пор, пока не взорву мост. Преступно не выпустить по врагу все имеющиеся в наличии боеприпасы. Стыдно и больно идти туда, где тебя не ждут, где смотрели на тебя с надеждой и верой. Не лихость и тем более не честолюбие удерживали меня здесь. Точно и сам не осознавал, что руководило мною. Но каждому шагу на восток противились разум, сердце, все мое существо, как чему-то противоестественному, нелепому. Если не считать первых дней войны, то по существу мы еще не столкнулись, не померялись по-настоящему силами с немцем. Неужели он сильнее меня? Разве судьба обделила меня мужеством и стойкостью? Разве я утратил крепкие нервы и горячую кровь своих отцов? Умение посеять страх, панику, обнаглевшая грубая физическая сила — неужто им сегодня властвовать?
По дороге от Пуховичей до Березины к нам примкнуло около сотни солдат. Моя команда теперь насчитывала 250 бойцов. Каждый передо мной как на ладони, открытый и ясный. Я разбил их на пять групп, условно назвал их ротами. Одну возглавил я, вторую — Захаров, третью — Русанов, четвертую поручил Коврову и пятую — ефрейтору Петину.
— Раньше, когда мы были там, — глядя на запад, сказал я, — Березина была позади. Теперь она — впереди. И она не может не помочь нам. А если что, уйдем последними.
— Ребята, чего тут мешкать? Деру давать надо, и чем скорее, тем лучше. Он не дурак, Гитлер, вот-вот подопрет. Если так приспичило, пусть остается командир со своей барышней. А нам еще пожить охота.
Окруженный группой бойцов, видимо, склонявшихся на его уговоры, невдалеке стоял Масляев. Рябое лицо его кривилось, толстые вывернутые губы сжаты, глаза горели вызывающе. Стоял он вразвалку, вертя в руках карабин.
— Масляев, подойдите ко мне! — приказал я.
— Гм… Надо, подойди сам, командир, — огрызнулся он, не меняя позы.
Из круга выступил Захаров и тряхнул Масляева за грудки.
— Ты, гадючья душа! Старухе блины советовал готовить, а тут… — и ударил его наотмашь.
— Прекратите! — крикнул я. — Масляев, подойдите ко мне.
— Бабе вон своей, прилипшей к тебе, приказывай. Пойдем, ребята. А ты, старый чалдон, — погрозил он Захарову, — запомни!
Я расстегнул кобуру.
— Масляев!
— Не грози, не из пугливых. Пошли!
Я выстрелил. Он поднялся на носках, выпрямился и, выбросив вперед руки, словно сорвавшись со старта и собираясь долго бежать, упал. Каталина, вскрикнув, зажала ладонью рот.
— Можете уйти, кто хочет, — сказал я, пряча пистолет в кобуру. — Скатертью дорога. Достаточно оставили родной земли. Можно и еще. Не жалко, пусть стонет, лишь бы спасти, не продырявить свою шкуру. — И не утерпел, крикнул. — Что этот, испугавшийся Гитлера, нам — пример?
— Об шкуре этой толковать нечего, — прервал меня Захаров. — Суке сучья смерть! Кто остается — становись вправо. Кто уходит — влево. — И сам шагнул направо.
Раздвинув кусты, прямо по берегу к нам шел генерал. Суровый, с широким сильным подбородком и орлиным носом человек. Окинув взглядом солдат и меня, он неторопливо спросил:
— Что у вас здесь происходит?
Я доложил о случившемся, о решении не покидать без боя Березину.
Генерал брезгливо покосился на Масляева.
— Уберите его… чтоб не гадил землю, — и протянул мне руку: — Член Военного совета Жолобов. Ваша фамилия, лейтенант?
— Метелин.
— Вы разумно решили, Метелин. Каждый шаг для врага должен быть по горящей земле.
Подлетел запыхавшийся шофер генерала, юный и красивый паренек, четко доложил:
— Немцы в полутора километрах.
Сказал, и в груди будто что-то оборвалось вдруг. Только сейчас опасность стала по-настоящему ощутимой. Может быть, сейчас, именно в это мгновение, мы бы отсюда ушли все, но было уже поздно. Подтверждением слов генеральского шофера был тяжелый гул моторов, шедший с той стороны Березины, из-за леса. Генерал повернулся ко мне:
— Взорвать мост, но не раньше, чем на него вступят немцы. Сделаете это вы, товарищ лейтенант.
— Есть.
И едва я успел представить Жолобову своих командиров рот — Захарова, Русанова, Коврова и Петина, как на повороте дороги, выбегающей из леса, показались три немецких танка. Не сбавляя хода, они пересекли расстояние от леса до берега и устремились к мосту.
За танками через минуту змеиными изгибами потянулись мотомехчасти.
— Действуйте, лейтенант! — приказал Жолобов.
Танки еще выглядели игрушечными, расстояние скрадывало их размеры, но грохот быстро нарастал, и все отчетливее вырисовывались ребристые контуры брони. Я должен был успеть, пока они домчатся до моста и устремятся по нему на нашу сторону, сделать все. Все — это значило отыскать бикфордов шнур и поджечь его. Мост был заминирован раньше. Я крикнул Петину: «За мной!» — и со всех ног бросился вперед. Веса своего тела почти не чувствовал. «Только бы успеть, — колотилось сердце. — Только бы успеть». И вот я у цели. За спиной жарко дышит крошечный — мужичок с ноготок — Петин. Первый танк уже грохочет по настилу. Ощупал карманы — спичек нет. Вся кровь бросилась в лицо. Поворачиваюсь к Петину, ору в самое ухо:
— Спички забыл!
Вижу, как белеет Петин, кончик его острого носа, как у мертвеца, заострился. Хлопнув по карману, Петин сует мне коробок в руку. Но я продолжаю что есть силы кричать:
— Спички забыл!. Понимаешь ты или нет!..
— Товарищ лейтенант! — Петин, как клещами, пятерней сдавил мой локоть.
— Фу, черт! — выругался я.
Второй и третий танки вступили на мост. Первый был уже на середине. Я чуть не заплакал, поняв, что спички у меня в руке.
— Прячьтесь! — бросил я Петину и кинулся к бикфордову шнуру. Слишком длинный. По перекладине я взобрался наверх, укоротил шнур до минимума. «Только бы успеть». Сломал одну, вторую, третью спичку. Лоб взмок, сильно резал шею воротник гимнастерки, и вдруг мелькнул, забился желтый огонек. Я проглотил соленые слезы. Мне теперь было все равно — взлечу ли я вместе с мостом или останусь жить. Главное, к чему я стремился, сделано.
— Скорей, лейтенант! — обожгло меня. Это кричал Петин. Я оттолкнулся от перекладины, спрыгнул на песок, отполз под гигантскую корягу к Петину.
С грохотом и воем на той стороне к берегу ползла колонна бронемашин, мотоциклов, тягачей, пехоты. Два танка были на середине моста, а передний еще мгновение — и коснется берега. Сердце колотилось так, что больно было дышать. Я сломал зажатый в руке коробок со спичками. «Как же это я не…» Но тут вздрогнула земля…
Оглянулся на Петина. Он улыбался счастливой улыбкой.
— Окажись шнур чуток подлиннее, не поспел бы догореть.
У Петина в пальцах аккуратно свернутая, незакуренная папироска.
— Огоньку бы, товарищ лейтенант.
— Прости, брат, сломал и выбросил твой коробок.
Лезу в карман за платком, чтобы вытереть пот, заливающий глаза, и вдруг… спички. Вынимаю их из кармана. Целый непочатый коробок. Виновато гляжу на Петина. Он притворился, что ничего не заметил.
— Позвольте, товарищ лейтенант, прикурить.
— Позволяю, друг мой, брат мой…
Березина разделила мир на две части, оскалилась огромной пастью взорванного моста. Возвратившись к своим, я доложил генералу, что задание выполнено. Он и сам видел это. С шуткой генерал повернулся к Петину:
— Вы что же это ростом такой неудачник? Крошечный, как наперсток. Ведь командир роты!
Петин, вытянув руки по швам, тоненьким срывающимся голоском отчеканил:
— Ничего не могу сделать. Таким мать родила, товарищ генерал.
— Хорошая у вас мать, товарищ Петин.
— Самая лучшая, товарищ генерал.
Солдаты дружно захохотали. Генерал многозначительно взглянул на меня. Он, оказывается, не пропустил ни одного моего шага, следя в бинокль за мною. И я еще раз осознал, каково бы мне было, не окажись рядом этого маленького, как наперсток, Петина.
На противоположном берегу скапливались немцы. Они текли из-за леса мутным нескончаемым Потоком. Поднимая пыль и тесня друг друга, автомашины и тягачи останавливались впритык, вытягиваясь цепью по дороге. Из кустов повалила пехота — здоровые, веселые парни. Рукава засучены, на шее автомат, узкие брюки заправлены в короткие, широкие голенища сапог. Поднеси бинокль к глазам — и немцы как на ладони. Кажется, до них рукой подать. Чем-то напоминали они отлично натренированных верзил из скотобоен.
— Рус капут! — Расставив широко ноги у самого обрыва и приложив ладонь ко рту, старался докричать до нас высокий, белокурый немец. Ему вторили другие. Они чему-то смеялись.
Человек десять, видимо, старшие офицеры, не обращая внимания на озорство солдат, деловито осматривали взорванный мост, наводили бинокли в нашу сторону. Не заметить нас они не могли, но наше присутствие, по всему было видно, их не волновало.
Генерал собрал моих командиров рот, приказал явиться командиру зенитной батареи, замаскированной в кустарнике. Разостлав на земле топографическую карту, как полковым командирам, генерал ставил задачу Захарову, Русанову, Коврову, Петину. Всем нам вместе и каждому в отдельности определил задание, исчерпывающе объяснил, как умнее рассредоточить горстку людей. 250 человек и зенитная батарея должны были держать оборону, если немцы попытаются форсировать Березину. Участок обороны — два с лишним километра.
Мы всегда о себе думаем лучше, чем мы есть. Минуту назад я мнил о себе, что много значу. А теперь, глядя на генерала, понял, как много мне еще надо взбираться по крутой лестнице вверх, чтобы достичь высоты этого человека. Раздираемый душевной болью и мучимый совестью, я решился всего лишь поставить начальную букву алфавита, то есть взорвать мост, расстрелять по врагу несколько обойм патронов и уйти. Планы же генерала были широки и значительны: для него взрыв моста был простым началом операции. Он приказал самым серьезным образом рыть окопы и готовиться к большому бою.
— На час, три, пять, десять задержать врага. Но задержать во что бы то ни стало, — твердо и уверенно говорил он. — А если будет нужно — будем драться сутки, двое, неделю. Сюда из Могилева идет Особая Московская дивизия. Если мы сорвем переправу врага до ее прихода, значит, мы с вами, друзья, не лыком шиты. Пусть он сунет сюда свой нос!.. Верно говорю, товарищ Петин? Как вы думаете?
Петин, растерявшись от неожиданного вопроса, нервно передернул плечами, поперхнувшись, еле слышно сказал:
— По-моему, так…
Русанов и Ковров неодобрительно покосились на своего друга. «Эх ты, растяпа, — выражали глаза Русанова, — ответить как следует не умеешь».
— Задача ясна? — спросил генерал.
— Так точно, — отчеканил за всех и раньше всех Захаров.
Немцы на той стороне всё прибывали и вскоре усеяли весь берег. Чувствовали они себя хозяевами. Расхаживали над обрывом во весь рост, не прячась. Кое-кто спускался к воде, по-домашнему весело плескался, приглашая принять участие наблюдающих сверху.
— Эх, самолета три бы на эту овсяную кашу!
— Одного б хватило.
— Победители!..
— Из пушки пальнуть, и то куда бы враз спесь сгинула, в горло их, в душу…
Берег наш спешно готовился к бою. Мы копали пулеметные гнезда. Дерном укрепляли накаты; где было необходимо, рыли узкие соединительные щели. Немцы, выкатив к обрыву пушки, пальнули в нас раза два. Снаряды и мины перелетели через наши головы и упали где-то неподалеку в лесу. Мы свалили несколько сосен и елей, подкатили их к берегу: из-за них было удобнее и безопаснее стрелять.
По приказу генерала я расположил солдат вдоль берега по обе стороны взорванного моста в виде узловатой извилистой цепи. «Узлами» были пулеметы — четыре станковых и три ручных, укрытые в сравнительно добротных окопах. Между ними на расстоянии метра-двух находились одиночные бойцы. Центр охраняли роты Захарова, Коврова и моя. Петин и Русанов заняли левый и правый фланги. Зенитная батарея была рассредоточена с таким расчетом, чтобы орудия могли бить не по воздушным, а наземным целям. «Воздух» перестал беспокоить: самолеты шли теперь бомбить глубокие тылы.
Еще и еще раз Захаров пересчитал патроны, взял на учет каждую гранату, винтовку, автомат и доложил о наличии боезапаса генералу. Обшарив дорогу и кусты в радиусе полукилометра, мы подобрали брошенное отступающими оружие. Жить было можно!
Указав на пулемет, я спросил Коврова:
— Ну как, может, выбросим эту коломбину?
Ковров сузил глаз в хитрой улыбке:
— Не мешало еще бы парочку таких «коломбин», товарищ лейтенант.
Немцы пристрелялись, теперь стали класть снаряды более точно. Лес загудел, до краев наполнился эхом взрывов. Время от времени я поглядывал на Каталину. Она держалась мужественно. Вместе со всеми рыла окопы, ухитрилась даже выпросить у Захарова себе комплект запасных патронов к винтовке. Тот по-отечески за что-то журил девушку, но «раз уж так случилось», делал все, чтобы облегчить ее участь. Захаров возвел такое основательное сооружение, будто собирался в нем зимовать. Рука у него — землекопа. Только прямое попадание снаряда или мины могло повредить его роте. Я прыгнул в окоп к генералу. Немцы усилили огонь. Откуда-то начала бить тяжелая артиллерия.
— Сейчас, пожалуй, закипит, — глядя в бинокль на тот берег, сказал генерал и вдруг, оторвавшись от бинокля, покосился на меня.
— Что это ты за невесту с собою возишь?
Я коротко рассказал о капитане Кораблеве.
Генерал вытер снежной белизны платком уставшие глаза, задумался. Спустя минуту сказал:
— Удивительный и странный парадокс: все — от мала до велика — жаждут убить врага, в любое мгновение готовы умереть за Родину и в то же время так далеко пустили этого врага к себе в дом…
Метрах в двух от окопа разорвался снаряд. Дым и кислый запах горелого пороха защекотали ноздри. Сверху градом посыпались комья земли. Взрывы участились. Начался шквальный огонь. Уже нельзя было поднять головы.
Березина спокойно несла вдаль свои воды, широкая и хмурая. Немцы готовили переправу. Это чувствовалось по суете и оживлению на том берегу. Там забегали, закричали. На воду спустили несколько понтонов. Внезапно обстрел прекратился. Улеглась гулкая, до звона в ушах, тишина.
Генерал подозвал своего шофера. Я только сейчас по-настоящему разглядел его. Молоденькое, озорное лицо. Фасонистые галифе, хромовые сапожки — все на нем было с иголочки. Захаров, правда, не особенно жаловал генеральского водителя. Он прогнал парнишку из своего окопа, куда тот неожиданно под огнем пробрался с крошечным букетом цветов для Каталины. «Кши, кавалер!» — прикрикнул Захаров.
— Бурцев, ну-ка взнуздай своего красавца и жми в Могилев, — приказал генерал. — Мой приказ полковнику Фигурину — не медлить! Расшибиться, но дивизии быть здесь к шести часам! — генерал взглянул на часы. — К шести! — повторил он.
К шести часам! Сейчас — двадцать семь минут второго. Значит, надо продержаться четыре часа тридцать три минуты. Четыре часа тридцать три минуты! Вечность короче…
Генеральский автомобиль, стоявший на опушке леса, почти на виду у немцев, и почему-то не тронутый ими, вдруг подал признаки жизни. Бурцев, не торопясь, сел за руль. Тот берег точно ошалел. Забили оттуда из чего только возможно было: пушек, винтовок, автоматов, пулеметов. Однако Бурцев не спешил, точно стреляли не по нему. Вырулив на совершенно открытую прогалину, он неожиданно забуксовал в песке. Генерал вытер ладонью лоб. И вдруг Бурцев выпрыгнул из машины, заглянул под задние колеса, почесал затылок.
— Сукин сын! — выругался генерал.
Бурцев, так же не торопясь, возвратился к рулю.
И еще с большей медлительностью стал разворачивать машину. Немцы выходили из себя. Но пристреливаться стали точнее. И только тут машина, резко вильнув в сторону, дала полный ход.
— Ах, шайтан! Вот я ему задам, сукину сыну! — облегченно вздохнул Жолобов и после непродолжительной паузы, весь светясь изнутри, с какой-то особой теплотой сказал: — Вы не подумайте, что у него и в самом деле барахлил мотор. Это уж такой забубённый характер! Смотрите, мол, немцы, каков я сокол! Не вам, супостатам, меня на мушку брать…
— А может быть, — заметил я, — перед генералом в момент опасности захотел похвастаться. Выслужиться?
Жолобов поморщился, мои слова явно покоробили его.
— Парню семнадцать лет, — сказал он, — рос без отца и матери, воспитанник армии. Любимец всей дивизии. Дураков не полюбят, как бы они ни маскировались, — и уже другим тоном, скорее самому себе, чем мне, добавил с отеческой заботливостью: — Видели, как он перед девушкой держался? Джентльмен и только. Любовь зажглась в глазах, запеть соловьем хотел. Плевать ему на войну, и умирать такому недосуг, вон как щедра жизнь в нем.
Тот берег готовился к штурму. На понтоны усаживались солдаты. Стояла немая, давящая тишина.
Не отрывая глаз от бинокля, я следил за происходящим. Все кажется так просто: они и мы! Мы ждем, ждем их, ждем смерти, но верим, что устоим. Они не думают о смерти — они верят, что сильнее нас, и поэтому умирать должны мы… К берегу немцы приволокли древнего старика в холщовой рубахе, закатанных по колено штанах, видимо, лодочника. Столкнули его в лодку, качавшуюся рядом с понтонами. Со стариком сели два солдата. Тыча руками в нашу сторону, они что-то кричали. Старик взялся за весла. Неохотно и тяжело лодка отчалила. Спустя мгновение за ней двинулись понтоны.
Жолобов плотнее надвинул фуражку. В прищуре его глаз — суровая сосредоточенность.
— Возьмите, пожалуйста, каску, — предложил я.
— Она пригодится вам самому.
— Товарищ генерал…
— Лейтенант, она пригодится вам самому, — твердо повторил он.
Лодка и понтоны достигли середины реки. Оружие у немцев наготове. Отчетливо видны их лица, травянистого цвета мундиры, тупорылые каски. Лодочник, точно сама старость, горбился в лодке, медленно, с усилием греб. Немец, который был поближе к нему, толкнул в спину прикладом. В наших окопах защелкали затворы.
— Не сметь! — распорядился Жолобов.
Но я все-таки пододвинул к себе пулемет. Было условлено — огонь открывать по моему первому выстрелу. До головокружения хотелось курить. Уже слышалось хлюпанье воды, скрип весел в уключинах. Требовалось большое усилие, чтобы не дать очереди. И вдруг… Все произошло мгновенно. Старик не по годам проворно вскочил, взмахнул веслом и с силой опустил его на голову немца. Тот опрокинулся набок, выронив из рук автомат. Старик замахнулся на второго, но тот успел схватить его за ногу, и они вместе, перевернув лодку, плюхнулись в Березину. Минуту их не было видно. На понтонах вразнобой кричали немцы. Березина равнодушно несла свои мутные воды. И тут вынырнул старик. Немец не показывался. По старику с понтонов беспорядочно открыли огонь. Пули пузырили поверхность реки, взметая водяные брызги. Каким-то чудом старик упорно двигался вперед. Немцы, озверев, теперь стреляли все. А он плыл размашисто, равномерно, лицо заливала кровь, окрашивала воду. Старик плыл, плыл. Затем нырнул, и больше его уже видно не было.
— Вот он, русский человек! — скупо сказал Жолобов. — А вы говорите, выслужиться. Нет, Метелин, здесь нечто совершенно иное.
С того берега отчалила новая группа понтонов. Я открыл огонь. Тишина лопнула. Разорванная на клочки, застонала, как живая.
Наш берег ожил. Зенитные орудия прямой наводкой потопили несколько передних понтонов. Стоны. Барахтающиеся в реке люди. Справа и слева понтоны повернули обратно.
— Ура-а-а-а!
Горячая, как кипяток, радость обожгла сердце, забилась в висках. Пахло водой, сладкой, как мята, землей, горьким дымом. Оказывается, и правда, можно сделать многое. Только надо сильно захотеть, надо уметь взять себя в руки. Но немцы и не думали униматься. Выкатив к самому берегу пушки, они стали палить прямой наводкой. Казалось, вот-вот расколется земля. Она уже вся изрыта, как оспой, ни одного живого сантиметра.
И опять шли новые и новые, переполненные немцами понтоны. И опять атака их захлебнулась.
Истекло три часа. Не утихая ни на минуту, гремел бой. Как воздух необходимые нам зенитные орудия были выведены из строя. Убило командира зенитчиков. Цепь наша заметно редела.
До крайнего предела работавший и так сильно выручавший нас пулемет Коврова, выдвинутый на самую переднюю точку, замолчал в самый нужный момент; немцы были в ста метрах. Только Захаров еще держался по-прежнему. Огонь из его цепи не утихал. Петин и Русанов тоже что-то все реже давали о себе знать.
— Метелин, проверьте, почему молчит Ковров, — попросил Жолобов и сменил меня у пулемета.
Я почти без труда добрался к Коврову. Его окоп разворотило снарядом. Огромное распластанное тело командира придавило сверху пулемет. Поодаль, отброшенный взрывной волной, лежал мертвый боец. Осторожно приподняв большую и тяжелую голову Коврова, я отряхнул с лица прилипшие комочки песка и земли. Изо рта и уха сочилась кровь, на виске зияла рваная рана. Я отстегнул флягу, промыл спиртом рану и испачканные кровью губы. Ковров открыл глаза. Мгновение казалось, они выпрыгнут из орбит от какого-то внутреннего ужаса. Потом он улыбнулся: узнал меня.
— Ты что же, брат? — спросил я.
— Не серчай, лейтенант, на меня за коломбину. Это я одурел от злости, — почти совсем пришел в себя Ковров и вдруг весь налился кровью, движением глаз указал на реку: — Немцы!
Понтон был у берега.
Торопливо, кое-как высвободив пулемет, я выпустил очередь. Только бы не дать им высадиться. Только бы не дать. По нашему окопу брызнула пулеметная дробь. И тут, как с неба, к нам вдруг спрыгнула Каталина. А в окопе и без нее повернуться негде. На Каталине поверх платья захаровская гимнастерка, подпоясанная солдатским ремнем, длинные рукава закатаны.
— Я боялась за вас… — горячо шептали ее губы. — Боялась.
— Забинтуйте Коврову голову! — крикнул я зло.
На красивом лице Каталины густые черные брови сошлись в одну линию.
«Она боялась за меня». Я и в самом деле вел себя неосторожно. «Что это — смелость или глупость?» — подумал я, хотя знал, что это был страх.
У окопа, в котором остался Жолобов, разорвался снаряд. За дымом ничего нельзя было разобрать. Там все безжизненно молчало. Неужели генерал убит?..
— Стрелять умеете? — спросил я Каталицу. — Вот так, смотрите сюда. Смотрите, пожалуйста! Крепче держите…
Два понтона, которые минуту назад, казалось, были далеко от берега, теперь держали курс к участку, где молчал Жолобов. Опрометью я бросился туда. Бежал со всех ног, не пригибаясь. Еще издали увидел развороченный бруствер, опрокинутый пулемет и валяющуюся генеральскую фуражку с красным околышем. Жолобова я заметил не сразу. Генерал как из-под земли вынырнул мне навстречу. Оглушенный взрывом, он прилаживал пулемет.
Но немцы успели воспользоваться замешательством. Метрах в трехстах, ближе к роте Петина, высадились на берег. Они тут же с ходу выбили из переднего окопа наших солдат и стали зарываться в землю. Оживший пулемет Жолобова прижал их, но достать до них было трудно. В роте же Петина неожиданно все смолкло. К немцам пробился еще один понтон. Теперь окончательно все проиграно. «Что же это молчит Петин?!» И тут вдруг я увидел его. Без оружия, с поднятыми вверх руками бежал Петин к немцам. С Петиным его два бойца. На берегу, по всей нашей обескровленной цепи, точно оборвалась струна — всех сковало оцепенение. Ни одного шороха. И вдруг чей-то душераздирающий вопль:
— Собаки!..
Со всех концов по перебежчикам хлестнули выстрелы. Один боец, бежавший за Петиным, прошитый очередью, упал замертво. Петин ускорил бег. Со вздернутыми руками, крошечный, неправдоподобно, безобразно раздутый, точно его, как резиновую камеру, накачали воздухом, он что-то кричал немцам. Те в свою очередь что-то кричали ему. Петин и его второй спутник — уже около них. Спрыгнули в окоп. И тут два, один за другим, оглушительной силы взрыва сотрясли воздух. Встало облако желтой пыли и бурого дыма. Выскочив из окопов, кинулись вперед вслед за командиром бойцы из роты Петина, не дав никому опомниться. Штыками сбросили всех уцелевших и перепуганных немцев в Березину.
Позже выяснилось: Петин и два бойца, набив карманы и обложившись под гимнастерками противотанковыми гранатами и шашками с толом, зажгли на себе бикфордов шнур и, будто сдаваясь в плен, ринулись в гущу высадившихся на берег немцев.
— У этого человека действительно самая лучшая мать, — скупо проронил генерал.
Как исступленные, немцы рвались вперед. Хитрость, стоившая жизни Петину, еще больше вывела их из себя. Сотни и сотни их обрели могилу на дне Березины. Но больше, чем сама смерть, страшило другое — они не могли одолеть ощетинившуюся горстку советских людей. Физически сильные, натренированные, вооруженные до зубов, статные белокурые мужчины с засученными рукавами не смогли сделать того, что непременно, казалось им, они могли и должны были сделать. Бешенству не было границ. У них не отнять данного природой человеку ценного качества, имя которому — смелость. Они были смелы, у них была дерзость, близкая к героизму. И мы это знали, мы это видели. Но это нечто другое, не то, что у нас, русских. Смелость, не овеянная сознанием высокой цели, не одухотворенная святостью того, во имя чего ты должен умереть, отдать жизнь не по приказу, а по велению сердца, как это сделали Петин и его товарищи. Физически мы, не подготовленные к таким баталиям, были слабее, но дух наш неизмеримо превосходил вышколенных гитлеровцев. Нас можно было убить, но не укротить.
И вот кончились патроны. У каждого бойца оставались одна-две обоймы. Смерть собирала обильную жатву, устилала берег великой реки солдатскими телами. А немцы всё ползли. Казалось, только сейчас по-настоящему развернулась их атака. Но она и на этот раз была отбита. И снова лавина! Один, второй понтоны коснулись берега. По колено в воде бегут к нам немцы. Пулемет мой остыл, и я отбросил опустевший диск. Жолобов стрелял из пистолета. Выгрузились еще два понтона.
Я взглянул на часы: на циферблате осколки стекла, нет стрелок. Время перестало существовать.
Нас расстреливали с расстояния пятидесяти метров. Березина кишела людьми. Черно-травянистые, какие-то странные существа расползались вширь и вглубь. И все это неотвратимо надвигалось на нас.
Поднявшись во весь рост, я метнул одну за другой последние четыре гранаты. Схватив винтовку, побежал вперед, навстречу врагу. Около меня встали Захаров, Русанов и человек-гигант Ковров. Каталина забинтовала ему голову оторванным от платья лоскутом.
— Ура-а-а…
— Ура-а-а…
— А-а-а-а…
Впереди вырос немец и почти в упор выстрелил, но Ковров чудом успел загородить меня своим мощным туловищем. Пуля прожгла ему плечо.
— Я шире, лейтенант, — хмуро улыбнулся из-под повязки голубыми глазами Ковров. Ускорив бег, он заорал, оглашая окрестность громовым басом: — Не умеете стрелять, сволочи! — Перехватив винтовку за ствол, он стал, как кувалдой, дубасить прикладом налево и направо. Тело его изрешетили пули. Но какая-то неукротимая сила держала его на ногах. Весь в крови, он уже был не человеком, а призраком.
Немцы дрогнули. Но Ковров внезапно пошатнулся. Винтовку поднять он уже не мог и, выронив ее, схватил в объятия рвавшегося навстречу немца. Вместе с ним упал, придавив сверху своим тяжелым железным телом. Так и застыл навсегда.
Зеленые мундиры всё заслонили перед глазами. Кроме них, ничего больше не видно. Потом. — это произошло внезапно — я точно натолкнулся грудью на раскаленное, жгучее острие. Меня толкнуло вперед, все куда-то отодвинулось, мелькнули крошечные, не по земле бегущие, а летящие в воздухе люди. Среди них я едва успел заметить высокого генерала без фуражки и где-то далеко, в тумане, тоненькую, как березка, Каталину в разорванном на колене платье. Березина опрокинулась и повалилась на меня…
…Очнулся я в медсанбате. И тут же спросил о Жолобове и Каталине. Они родились, видимо, под более счастливой звездой, нежели я. Коля Бурцев выполнил распоряжение генерала. Части полковника Фигурина подоспели в самый раз и с ходу были брошены в бой.
Каталину подобрали без чувств у самого берега Березины. Рассказывали, что в бреду она называла мое имя. А когда пришла в себя, то страшно застыдилась своего испуга. Генерал Жолобов увез Каталину в тыл.
Захаров, отказавшийся покинуть меня в медсанбате, передал мне записку: «Папа мне когда-то сказал, что мы слишком избалованы. Не знаю, если бы он мог быть вместе с нами на Березине, повторил ли бы он свои слова. Спасибо Вам за все. Если мне когда-нибудь понадобится мужество, я обязательно вспомню Вас. Каталина».
Березина! Березина! Твои берега заставили меня повзрослеть на целое тысячелетие. Четыре часа тридцать три минуты научили меня лучше понимать суровую жизнь, разгадывать людей, разбираться в самом себе.
Тут, где бушевал огонь, лилась кровь, косила людей смерть, я уверовал в человека, полюбил его до боли в сердце. Во всей земной красе встают передо мной маленький, невзрачного роста, но недосягаемой высоты человек — Мефодий Петин, не схожий с ним, но вылитый из того же сплава Макар Ковров. И рядом, в одном строю с ними, идет синеглазый капитан Кораблев.
Березина! Березина! Мне никогда не забыть твоих суровых примет.
За холмами солнце
Дни то мчатся, обгоняя друг друга, то тянутся томительно медленно. Окопы немцев — в трехстах метрах. Опасность подстерегает на каждом шагу. Ходим в разведку, недосчитываемся товарищей. Для острастки постреливаем по вражеским окопам. Нам отвечают тем же. В свободное время валяемся на нарах, отсыпаемся за недосып и в запас; иногда режемся в карты, в лучшем случае — слушаем рассказы комиссара. Словом, жизнь как жизнь, если тебя еще не убило! Убило! Какое нелепое слово! Его выдумали люди. Люди, сколько в вас добра и сколько желчи! О, если б я мог убить в вас зло — я бы счел счастьем прожитую жизнь. Я много передумал и выстрадал; сегодня один час жизни равен десяти в любые другие времена, месяц — году, год — столетию; никогда еще не развивались события так стремительно: судьбы людей, всей планеты нередко в мгновение ока решает пустая случайность. Раньше зерну, которое в добрую пору пахарь бросает в землю, требовалось, чтобы взойти и созреть, чуть ли не год; сегодня для этого дается один миг. Люблю вас, люди, но зачем же вы сами так безжалостно укоротили и сжали свое время. Вам бы жить. Жить!..
…Разведку преследовали неудачи: едва отбились и ушли от погони в тылу, как в трех километрах от своей обороны снова наткнулись на засаду немцев. Прорваться с ходу не удалось. Врага словно кто-то заранее предупредил: он неотступно шел по пятам. Пришлось залечь на крохотном участке и занять круговую оборону.
Оборона… Голый, вылизанный морозным ветром склон балки и часть неглубокого оврага. Мы были как на ладони, и расстреливали нас почти в упор. Земля вздрагивала, звенела от осколков. Рядом с Наташей врезалось в землю что-то горячее, зашипев в снегу; она увидела, как осколком сразило солдата. Бросилась на помощь. Но волна нового взрыва, как щепку, отбросила ее, обдала комьями мерзлой глины и снега. И опять оглушительный удар, и опять… Испытывая боль в ушибленной коленке и локте, Наташа прильнула к земле, уткнув лицо в ладони; затряслась вдруг как в лихорадке. Кто-то надрывно и прерывисто стонал. Отчетливо, остро этот стон врезался в уши. И опять взрывы. Вой снарядов, свист пуль. Ледяная неумолкающая дробь пулемета. Она не знала, чей — наш или немецкий. Пыталась различить и перестала вообще что-либо понимать. «Ну чей же?» — мучительно думала она, чувствуя, что сейчас сойдет с ума. И опять душу полоснул резкий, болезненный стон. Тело точно скованное. Она боялась двинуть мускулом затекшей от неудобного лежания ноги: стоит ей пошевелиться, как все будет кончено. «Жить, жить, жить…» — стучало в висках. Что-то жесткое сдавило горло. Надо же, надо было рваться, спешить, бросить дом, институт… Никто не вынуждал! Возможно было ждать, ждать, ждать… Сейчас бы она не допустила такой неумной спешки. Ни за что не рискнула бы! Какая страшная глупость — риск. Лучше мыть полы, чистить улицы, выгребать мусорные ямы, лишь бы не здесь. Лишь бы не здесь… Уйти… Жить… И опять отчетливо и дробно стучит пулемет. Стона вдруг не стало. Чиркая, с шипеньем вгрызаются в мерзлый грунт пули. Потом снова глухая, страшная тишина. Кто-то из разведчиков толкнул Наташу в плечо, ласково шепнул: «Обойдется, паря. Пронесет». У Наташи перед глазами все перевернулось. Вообразила она невероятное: ее берут в плен, перед нею немец. Как от раскаленного железа, отдернулась вся назад. И опять воздух расколол взрыв. «А-а-а…» — оборвался чей-то голос. Наташу обожгло сильной спертой волной воздуха, и что-то горячее засверлило висок. На снег упали две капли крови. Все кончено. Красное пятно расползалось. Еще секунда — и наступит покой. Черная, безбрежная ночь надвигалась на нее. Обезумев от страха, Наташа закричала не своим голосом: «Спаси-и-и-те!..» Вскочила и пустилась наутек. Кто-то гнался за ней, большой и черный. Хлестнула под ноги пулеметная дробь. Она на мгновение замерла и опять, заломив руки, побежала…
— Ложись! — крикнул я и, преградив дорогу, силой придавил Наташу к земле. — Вы с ума сошли?!
Глазами, полными ужаса, она глядела на меня. Холодный, промерзлый суглинок жег ей щеку. Она ничего не понимала, пальцами притронулась к кровоточащей ранке на виске, поднесла руку близко к глазам и заплакала.
Оказавшийся подле нас старший лейтенант Зубов презрительно бросил:
— Бабье! Какого черта мечетесь? Не щадите себя, так не наводите огонь на других… И еще воет! Будь это не здесь, я бы те… — Зубов сам дрожал от страха, весь зеленый, с белыми как мел губами. Но он хитрец: умеет, как улитка, вовремя уйти в себя. Перехватив мой злой взгляд, он запнулся и сказал уже без раздражения в голосе:
— Ничего… Крепитесь, военфельдшер. На войне, брат, и не такое бывает.
Рядом землю взрыло несколько пуль, чуть подальше грохнулась мина. Зубов поспешно отполз в сторону, укрылся в воронке.
Как всегда, и на этот раз нас выручили пехотинцы. Они атаковали немцев, и наш отряд к заходу солнца оказался в жарко натопленном штабном блиндаже. Здесь я впервые и познакомился ближе с Наташей. Раньше встречался с нею мельком, раза три пытался разговаривать, но мою приветливость она, видно, истолковала превратно, и я решил, что у этой едва оперившейся девчонки под гимнастеркой бьется пустенькое, самодовольное сердце.
Вместительный блиндаж, куда мы попали, принадлежал штабу пехотного полка. Но освоили его разведчики незамедлительно. Расположились, как у себя дома. «Хозяева передовой» выдали нам по сто граммов, накормили сытным горячим ужином. И будто того, что мгновение назад пережито, не было. Жизнь покатилась обычным чередом — разговоры, шутки, подначивания. Один растянулся на нарах, другой старательно чистил оружие, третий, сняв сапоги, сушил портянки, с удовольствием грея настуженные ноги у железной печки. Счастливее на земле не было людей. Захаров, собрав группу земляков, перечитывал письмо от жены, которое он так и не успел перед разведкой прочесть, сетовал:
— В колхозе нет крепкой мужчинской руки, порядка мало. Дети да бабы! Попробуй, паря, такую ораву прокормить, как мы…
Забравшись в дальний угол блиндажа, я курил, наблюдая за Наташей. Примостилась она около печки, повернувшись ко всем спиной. Едва вспыхивал смех или затевался среди солдат тихий, подозрительный разговор, как она вздрагивала и краснела: не о ней ли? Шутки, которыми сыпали солдаты, она принимала, по-видимому, на свой счет, и от обиды ей не хотелось жить.
Жалкая, растерянная, она олицетворяла сейчас для меня все чудесное и милое, что я только мог представить себе о женщине ее двадцати двух лет. У Наташи — светло-русые густые волосы, стянутые в узел на затылке, чистый лоб, с чуть приметной горбинкой прелестный нос, нежные губы и красивый, мягко округленный подбородок. Но поражают в Наташе ее голубые глаза. В них недосягаемая глубь. Лучатся они мягким светом.
Пережила она сегодня страшное. Боль и горечь, разочарование и тоска, крушение самого сокровенного — веры в самое себя — огнем жгли грудь. На глаза навертывались слезы, и она быстро, стараясь, чтобы никто не заметил, смахивала их. После того, что произошло с ней, после того, как она, гордая и недоступная, оказалась беспомощной при первом столкновении с суровой действительностью, между нею и людьми, с которыми она жила, встала непреодолимая стена, она, вопреки своему представлению и желанию, очутилась в одиночестве. Подтверждением тому было хотя бы то, что все предоставили ее самой себе.
И тут Наташа вздрогнула: выйдя из-за перегородки, из другой половины блиндажа, около нее остановился Зубов. Весело спросил:
— Наташа, неужто грустите? Пустое. Все — суета сует, — и осуждающе взглянул на бойца, мостившегося у печки, чтобы просушить портянки. — Эх ты, хотя бы постеснялся, — сказал он ему. — Или не доводилось бывать в женском обществе? Разложился, как на базаре. Герой…
Боец виновато улыбнулся, отошел. Зубов успел побриться, подшить к гимнастерке белоснежный подворотничок. Выглядел бравым и отдохнувшим. Захарову он на ходу дал распоряжение, чтобы тот проверил караул, выставленный у блиндажа, и опять повернулся к Наташе, скрестив на груди руки. Был он высок и строен. Я слышал — Зубов усиленно выказывает Наташе внимание, а злые языки сплетничают, что не безуспешно.
— Эк чего, портянки вздумал сушить, — опять обратился он к Наташе. — Вот видите, какие неотесанные мы, мужики: в обществе дамы чуть ли не в исподнем щеголяем. — Зубов вздохнул и уселся на бревно около Наташи, продолжая без обиняков. — А вы зря расстраиваетесь. Всякое бывает! У меня боевое крещение похлестче, пожалуй, было. Ваш испуг, Наталья Семеновна, что ж, это в порядке вещей! Вот мы попали в оборот — не чаяли и в живых остаться. Случилось это под Смоленском, — Зубов подбросил в печку пару поленьев, одно из них он взял из рук Наташи. — Я, правда, держался, так сказать, без особой робости. Но… Вот именно «но». Было, как говорится, дело под Полтавой! Так сказать, чуток сдрейфил. А вам, женщинам, это и вовсе простительно — дрожать. Вы извините меня за откровенность. Создания вы нежные, хрупкие. Итак, рванулись это мы, значит, на вражеские окопы, я тогда был младший лейтенант с недельным стажем после училища. Ну вот. А он, немец, и пошел нас хлестать, и пошел. Вдобавок еще взял да отсек орудийным огнем нас от своих. Гул, грохот. Земля горит. Ну, думаем, конец света наступил. Ни вперед, ни назад. Мечемся, как затравленные. Душа где-то там, в пятках… А пули, осколки — ливень…
Зубов изобразил сильную картину. Этого у него не отымешь, умел расписать, при этом излишней скромностью не страдал: прямо хоть звезду Героя цепляй ему. Он вел солдат, налево и направо крушил врага, был одновременно тут и там; приказал молчать своему неумному сердцу. Долг, Родина, Честь руководили им, он жертвовал собой, шел на подвиг.
По блеску глаз Наташи можно было догадаться, что она верит Зубову, восхищается им.
Оборвав себя на полуслове, Зубов умело переключил разговор на события истекшего дня и представил их таким образом, что, не окажись он, Зубов, в критический для Наташи момент рядом с нею, могло бы все обернуться худо…
— Могло бы сейчас и не быть беседы… Но судьба за нас! Человека, одолеваемого химерами, когда он на грани отчаяния, отрезвить можно одним словом, тем более, если это слово друга, — заключил Зубов. — Я тогда был, признаться, резок. Если виноват — простите… Но повторяю, резкость нужна была, чтобы отрезвить вас.
— Я благодарна, — отозвалась Наташа, — бесконечно благодарна вам. И хорошо, что вы сейчас говорите со мной. Хорошо. Я так боюсь сейчас быть одна…
Голос Зубова то звучал громко, то почти переходил в шепот. Изредка Зубов смеялся, бросал шутку, то вдруг становился грустно-задумчивым; маленькие карие глазки делались неподвижными, узкие губы плотно смыкались, тонкий нос вытягивался, и лицо приобретало разительное сходство с хищной птицей. Но внезапно улыбка освещала его, и Зубов преображался, светлел.
— Вот так, Наташа. Соль жизни в том, чтобы понимать, — долетела до меня приглушенная фраза, но дальше я ничего не мог разобрать из того, что он говорил, хотя по его жестам и мимике догадывался — уже читает нравоучения, дает советы. «Быстро, однако, продвигается он», — подумал я.
Зубова я не любил. Поглядишь на него — Наполеон, а сердце у него кроличье. В равной мере можно ждать от этого человека добра и гадости. Слишком он поглощен собою, чтобы быть занятым сторонними. Другие его интересуют не из добрых побуждений: он всегда на что-нибудь рассчитывал, а если расчеты не оправдывались, Люди для него теряли какую бы то ни было ценность. Он не глуп, но и не так умен, как кажется. Слава богу, у меня с ним не доходило еще до серьезных стычек. Но Зубов знает, что я давно раскусил его, вижу насквозь, и он ненавидит меня за это. Хотя внешне держится так, вроде лучшего друга и быть не может.
С приходом Зубова Наташа заметно оживилась. Она теперь была рада ему.
— Страх, по моему глубокому убеждению, опасен не тот, что возник у вас там, на поле боя. Эти сети, эту паутину рвет первое дуновение свежего ветра, — довольно громко и напыщенно произнес Зубов и, видимо, испугавшись, что его могут услышать, оглянулся. Солдаты его мало тревожили, да они и не обращали на него внимания, занятые своим делом. Его взгляд скользнул по мне. Я чистил пистолет, притворился, что мне не до Зубова. — Да, — успокоенный, вновь склонился он к Наташе. — Опрометчивость — вот дорогостоящее удовольствие. Упасть легко, встать трудно. Мы, вояки, народ бесшабашный: сорвал — и дальше. Каждый мужчина, даже самый последний урод, мнит о себе, что он не только человек с изюминкой, а по меньшей мере кулек с изюмом. Пустое, неумное высокомерие! Редкие сохранили в себе возвышенное отношение к женщине. Осквернила война в мужчине человека. Простите, Наташа, но вы мне слишком дороги, чтобы я не попытался предостеречь вас; я буду глубоко несчастен, если неосмотрительность приведет вас к падению. Это громко, но я не оговорился. Порыв, душевные бури всегда возможны, и в этом состоянии оступиться — раз плюнуть. Красивую ложь, к сожалению, мы часто принимаем за правду. Вы же юны — это хорошо, но доверчивы, а это уже плохо. Надо остерегаться стать жертвой обстоятельств, тем более ложных. Кусать локти — жребий жалких людей. Животная страсть — хоть это и низменно, — а не святость, не подумайте, нет, движет сегодня солдатом. Я замечал, на вас, простите за грубость, многие пялят глаза, сплошь и рядом комплименты расточают. В них, разумеется, нет беды, но хорошего тоже мало. — Зубов тихо рассмеялся, изогнувшись в красивой позе. — Взгляните вон на Метелина. Такие, как он, могут нравиться, он образован, ему в этом не откажешь. А думаете, в его внушительной, запоминающейся, кстати, оболочке есть душа, есть содержание, рвущееся к чему-то высокому? Поди поищи. Тщетно. Обыватель до мозга костей. Он, кстати, не прочь приударить за вами.
Мерзавец все-таки этот Зубов. Под благовидным предлогом опрокинул целый ушат грязи на меня. Как низко иные иногда падают, добиваясь своих столь же низменных целей.
— Старший лейтенант, — окликнул я его из своей засады, — вместо того чтобы пачкать всех, надо самому в баню сходить. Лучше позабавьте военфельдшера историей с Ксенией. Вы, правда, скверно обошлись с ней, осмеяли ее. Тем не менее, гостинцы, которые Ксения вам шлет, вы принимаете и сегодня. Как это понять? Из какой это морали?
— Это ложь! — побелел Зубов. Большие плоские уши его побагровели.
— Никак, в зобу дыханье сперло? — осведомился я. — Дурной признак.
— Я слишком хорошо знаю тебя, Метелин, чтобы обидеться, — наконец нашелся Зубов.
— А я вас все еще узнаю, — ответил я. — И, кстати сказать, не в восторге от этих познаний.
Наташа растерялась. Что все это значит? Зубов не мог солгать, она в этом была уверена. Мой наскок, видимо, не что иное, как какая-то месть или дерзость. Зубов порядочен. Разве он не доказал это вот сейчас? Другие отвернулись, предоставив ей терзаться после только что пережитого ею унизительного страха. Он мог поступить, как и все, а вот не сделал этого, помог ей забыться, рассеять тягостные мысли. Только тонкой души люди способны понять… Взгляд ее обдал меня презрением. И я пожалел, что вмешался в их разговор. Пусть розовый фимиам, воскуряемый Зубовым, кружит ей голову: не умеешь отличить хорошее от плохого — пеняй на себя.
Зубов, склонившись к Наташе, что-то шепнул ей. Она ответила ему одобрительным преувеличенно громким смехом. Однако Зубов не смеялся: насолил я ему, видать, порядком. Он посидел еще немного, мрачный и холодный, хотя и старался изо всех сил держаться непринужденно, и куда-то заторопился. Сказал Наташе, что его ждут, оделся и ушел из блиндажа.
Солдаты притихли. Им не впервой быть свидетелями наших с Зубовым перепалок. Они не одобряли их. В блиндаже воцарилась неловкая тишина. Наташа, сутуля плечи, глядела в открытую дверцу печки на огонь, не стараясь скрыть обиды. Вероятно, как и Зубов, она клялась отплатить когда-нибудь мне сторицей. За что? Быть может, этого она и сама не знала. Но не могла простить уже хотя бы потому, что вновь почувствовала себя одинокой, всеми покинутой. Сведя брови, она изредка оглядывалась подозрительно и недоверчиво, будто в окружающей ее атмосфере чувствовала враждебность. Что-то в ней кипело, искало выхода, что-то угнетало ее. «Страх сделал в ее глазах Зубова таким, — думал я, — каким она хотела видеть и знать его. Убедить теперь ее, что Зубов не тот, за кого она его принимает, вряд ли возможно. Слова, во всяком случае, тут не помогут».
…В детстве я, бывало, любил заглядывать в чужие окна, а теперь — в чужие души, особенно обуреваемые страстями. В часы неодолимых волнений, взлета или надлома и спада, сам того не подозревая, человек открывается, как венчик цветка, — внимательный взор без труда увидит его сокровенные тайны. Человек тогда наивен и доверчив в своей простоте. Но мне-то какое дело до всего этого? Зачем мне это? Может, и стараюсь только для того, чтобы, как в кривом зеркале, в чужих слабостях постараться не увидеть самого себя.
Я догадывался, что не ахти каким героем выглядел в глазах Наташи. Один мой вид уже раздражал ее. Думала она обо мне скверно. Если бы это случилось не тут, а, например, в Москве, где у нее много близких, — она бы в мгновение ока нашлась, как обойтись с человеком, дерзнувшим сунуться в ее дела. Здесь же все лишало ее уверенности в себе, делало беспомощной. Метелин!.. Кто он, этот человек? Губы Наташи презрительно дрогнули, но тут же внезапно лицо осветила улыбка. «Что бы это значило? — подумал я. — Уж не Зубова ли она помянула ласковым словом, не приняла ли его за тот самый „кулек с изюмом“, о котором он разглагольствовал?» Наташа перехватила мой взгляд и покраснела до корней волос, точно я уличил ее в чем-то непристойном. Чтобы скрыть свое смущение, она спросила о чем-то подошедшего к печке солдата. Почти бессознательно я отметил — какой у нее красивый и очень мягкий грудной голос. Такие люди обычно хорошо поют. Внезапно я зажегся сумасбродной идеей: а вдруг и в самом деле у Наташи талант. Я решил убедиться в этом немедленно и постучался к майору Санину. Жил он в другой половине блиндажа за перегородкой вместе со своим другом, начальником связи полка.
Застал я их за шахматами. Запустив пятерню в седую шевелюру, сосредоточенный Санин склонился над доской. Лишь мельком покосился на меня: «А, Метелин! Входи. Дают тут прикурить. Связь матушку пехоту жмет».
Санин в прошлом — сельский учитель, теперь — воин до мозга костей. На редкость обаятельный человек. Солдаты в нем души не чают — за майором готовы в огонь и в воду. Он тих и мало приметен. Серые глаза его в мелкой сетке морщинок. Смотрит он на вас, и кажется, само сердце к вам в гости просится. Начальство его как-то не замечает. Но вспоминает обязательно, когда срочно требуется выполнить ответственное задание, связанное с риском. Его обычно бросают туда, где, как правило, надо исправлять положение.
Солдаты много не говорят о Санине, их привязанность молчалива, точно они словом боятся осквернить это чувство. Слабость майора — шахматы и гитара. Он отдается им со страстью. В походе, обороне — везде, где доводилось жить Санину, с ним неразлучны были гитара и шахматы. Состязался он в шахматы с неутомимой энергией, готов был играть с кем угодно — мастером, чемпионом мира и с юнцом, едва умевшим передвигать фигуры. Гитарой занимался, когда выкраивалась свободная минута. Загрубевшими на войне пальцами он любовно, точно лаская, перебирал струны, что-то задумчиво мурлыкал себе под нос. И странно: как в шахматы, так и на гитаре играл прескверно, сам знал об этом, слышал от других, но верить ни самому себе, ни другим не хотел.
— Товарищ майор, разрешите воспользоваться вашей подругой серенад? — обратился я к нему.
Санин передвинул фигуру, кашлянул.
— Вот ты, Метелин, остришь, а спроси тебя, что это за такая «подруга серенад», — и сам не знаешь. Абы только звонко было. Что еще затеял?
Я объяснил, что солдаты хотят повеселиться. Получив разрешение, вернулся обратно к разведчикам, спрятав гитару под полой наброшенной на плечи шинели. Старшина Захаров тут как тут; человек, от которого не скроешься: не глаза у него, а какой-то рентген.
— Позабавить решили, товарищ лейтенант? — весело спросил он.
— Больно вездесущ ты, братец. Гляди, состаришься быстро.
— Состариться — не умереть, дело такое, что можно и пережить. А вот самодеятельность устроить и для нас и для доктора — стоящее дело. Без внимания оно, как будто, и по уставу не положено никого оставлять, — старшина многозначительно ухмыльнулся.
Я готов был избить Захарова: раскрыл, каналья, все мои карты. Наташа повернулась к нам, сухо и колко спросила:
— Вознамерились, значит, повеселить? И думаете, это вам удастся?
— Мне удастся ли — не знаю, а вам — да. — И я протянул ей гитару.
— Вы, оказывается… — Наташа не договорила. Солдаты одобрительно загалдели:
— Товарищ военфельдшер, пожалуйста, сыграйте!
— Ну что вам стоит!
Мочки маленьких ушей Наташи горели, как янтарь. Она ненавидела меня. «Ну что вам стоит, доктор!» — сыпались просьбы солдат. Не зная моего замысла, они приняли мое предложение всерьез и теперь хором просили Наташу сыграть.
«Может, она не умеет, — с раскаянием подумал я. — И вновь, получается, я ставлю ее в неловкое положение». Но Наташа стиснула губы, не глядя на меня, потянула к себе гитару, тронула струны, взяла аккорд, и сразу стало ясно — гитара очутилась в руках умелых. С нар поднялись даже те, кто улегся было спать. Секунды две-три Наташа настраивала гитару, поставив согнутую ногу на полено. И вдруг брызнули огненные звуки. Наташа точно стряхнула с себя давивший ее груз, глаза ее затуманились хмелем каких-то дорогих ей воспоминаний и потеплели. Зазвучала мелодия, то вспыхивая ярко, то затихая до едва уловимых шорохов. Солдаты не отрывали зачарованных взглядов от ее пальцев. А они легко летали по грифу, перебирали струны, то одну за другой, то все вместе. Ширилась, вскипала, как река от весенних паводков, музыка. И вот — заискрилась, как солнце. Волновала, жгла. И то, что было сегодня связано с горечью войны, все отодвинулось назад, все внезапно ушло. Осталась только музыка, осталась Наташа, ее маленькие руки и застывшая на губах улыбка. И вдруг Наташа запела. Никто не удивился. Каждый из нас уже знал наперед, что Наташа не может не петь: И песня ее полилась легко, непринужденно. Так взволнованно и от души поют в кругу своих, самых близких людей, которым ты дорог и люб. Голос у нее не большой, не яркий, но был нам всех дороже.
Светлые густые волосы Наташи, тонкие нервные пальцы — вся она стала какой-то незнакомой и недоступной. Только сейчас по-настоящему мы все увидели, какая она необыкновенно красивая и совсем еще маленькая девочка. Уйди она сейчас от нас, мы бы испытали острую боль утраты. Вместе с ее песней к нам сюда, в подземелье, ворвался какой-то далекий, удивительно светлый мир, иная, давно когда-то существовавшая жизнь со звездами и лунным небом, хороводом девчат, теплым шепотом любимых губ. Возле каждого встал рядом кто-то, невидимый другим, страшно близкий и нужный. Ты слышишь его знакомое нежное дыхание, ласково жмешь руку, и до слез не хочется, чтобы этот бесконечно дорогой тебе человек сейчас встал и ушел…
Наташа умолкла. Но мы продолжали ее слушать. И длилось это не минуту, не две, не три, а целую, казалось, вечность. И вдруг, как безумные, бойцы забили в ладоши. Обступили Наташу со всех сторон.
— Спасибо, доктор!
— Вот это да!
— Браво!
— Это по-нашему!
— Что и говорить — разведчик поет!
— Товарищ военфельдшер, еще, пожалуйста…
— Пожалуйста…
— Еще, еще… — сыпалось отовсюду.
В нашем блиндаже оказались майор Санин и начальник связи. И они, не скупясь на похвалу, восторженно аплодировали.
Наташа, заметив майора, предложила ему гитару.
— Что вы, что вы, я эгоист: играю только для себя, — испуганно замахал он руками и засмеялся. — А вот вам спасибо. Хороший подарок вы нам сделали. И еще лучше, что вы попали к разведчикам. Это славные ребята! Еще в первый день вашего приезда я сказал Метелину: наш новый военфельдшер сама не знает, какой она клад!
Общее восхищение обрадовало Наташу. Лицо ее зарумянилось, похорошело.
— А вам не нравится? — вдруг повернулась она ко мне.
— Боюсь, что даже капля моей похвалы сегодня будет уже лишней.
Наташа не знала, как расценить мой ответ, рассмеялась. Смех был принужденный, чужой. Обычно так смеются перед тем, как расплакаться. У нее, видно, слишком накипело в груди и слишком изболелись нервы, чтобы равнодушно воспринимать даже подобие намека.
— Возьмите, — она передала мне гитару. — Вы, кажется, собирались веселить нас…
Глаза ее спрашивали, глядя на меня в упор: «Неужели вы способны только на колкости?»
Приняв гитару, я небрежно, как заправский гитарист, ударил по струнам. Захлебываясь, они зазвенели. Слава богу, что в студенческие годы я разучил хоть одну-единственную вещицу — «Цыганочку» и играл ее вполне сносно. Струны запели вскоре у меня на все лады.
— Эй, ходи, ходи! — притопнул я ногою. — Чаве-е-е-ла-а!
Расступился круг.
Захарова вытолкнули на середину:
— А ну, старшина, тряхни стариной.
Упрашивать он себя не заставил. Молодцевато расправил под ремнем гимнастерку. Легко перепрыгнул с одной ступни на другую и, подбоченясь, прошел по кругу, выпятив грудь колесом. Куда только девались его годы! «Быстрей», — крикнул он мне и сыпанул такую дробь чечетки, что дружки его ахнули от удивления. Не пляска, а живой огонь взметнулся перед нами.
Наташа мгновение переводила взгляд с Захарова на меня, с меня на Захарова, смотрела на мои бегающие по струнам пальцы и тоже зажглась, засияла. Перехватив мой взгляд, шепнула мне:
— А вы, оказывается, хороший!
— Нет, — ответил я.
Захаров, казалось, только входил в круг.
— Руби, руби! — поддерживали его.
— Цыган, а не товарищ старшина!
— Эх, палки-елки и метелки, расходился, а!
Одна рука у Захарова на затылке, другая откинута, ноги, как на пружинах, — все в нем и он ходуном ходит, глаза блестят по-разбойничьи. С каблука на носок, с носка на каблук ловко перескакивает он в такт мелодии и опять все жаднее, все ненасытнее бросаясь вперед. По вот, ластясь, изогнул он корпус, танцуя, остановился перед Наташей. Обдал ее хмелем искрящихся глаз. Наташа почти не колебалась, встала против него — стройная и легкая, красивая и живая. Тоскливого раздумья на се лице как не бывало, лебедиными крыльями разошлись дуги ее черных бровей, щеки вспыхнули румянцем счастья.
— Сдает перед доктором товарищ старшина! — кричали у меня над ухом.
— Сдает!
— Правильно, товарищ военфельдшер!
— Так его, так!
— Эх, палки-метелки! — крикнул разведчик-псковитянин, всегда замкнутый и флегматичный. Его словно ветром сорвало с места. Вмиг он очутился между Наташей и Захаровым, завертелся вьюном, выделывая ногами такие кренделя, что в глазах рябило.
— Гляди, братцы!
— Псковской пошел…
— Вот те и мямля.
— Псковской…
— Давай, давай!
— Ходи, Иван, гуляй, губерния!
Но пляска внезапно прервалась. В блиндаж влетел связной КП. Он торопливо доложил майору Санину о подозрительном поведении немцев на левом фланге и передал приказ: разведчикам вместе с пехотой готовиться к бою. Захаров часто дышал открытым ртом, вытирая тыльной стороной кисти вспотевший лоб. Вверху над накатами блиндажа загремели взрывы. Били из дальнобойных орудий. Санин быстро оделся и ушел, на ходу приказав мне быть наготове. Начальник связи бросился вслед за Саниным. К счастью, вскоре все выяснилось — тревога оказалась ложной, у немцев бывает — создадут видимость наступления, откроют пальбу по нашим позициям, побеснуются и утихнут.
— А-атбо-о-й! — крикнул разведчик в мертвой тишине блиндажа. Захаров от неожиданности вздрогнул.
— Ты что, сдурел? Ума на полушку!
Солдаты захохотали.
— Ничего, товарищ старшина, с кем не бывает.
— Чего бывает?
Пряча издевку, кто-то добродушно сказал:
— Смелым бог владает, пьяным черт качает.
— Ну, чего ржете? — вступился за старшину Русанов. — Плакать надо, коль старшине страшно, а не смеяться. От испугу еще и не такое случается.
— Потехи, значит, устраивать! Соколики! А ты, Русанов, не преминешь укусить, лишь бы случай подвернулся. Ну, не мылься больше, паря, хрен ты у меня сверх ста граммов когда получишь, не смазывать тебе твою ненасытную прорву. Пусть скрип хоть до самой Москвы идет, — уже не шутя рассердился Захаров.
Разведчики притихли: знали — старшина шуток шутить не любит, у него сказано — отрезано.
— Плюньте, товарищ старшина, — примирительно заметил разведчик-псковитянин, из-за которого, собственно, и разгорелся сыр-бор; он был особенно охоч до «ста граммов», выменивал их на сахар, махорку, писчую бумагу, на все, что подворачивалось под руку. — Оно, конечно, кое-кого и следует серьезно продернуть. Но что касаемо меня, то честное-пречестное: я вас всегда высоко ставил, Петр Иванович.
— Ах ты, расподхалим несчастный! — зашумели со всех сторон.
Псковитянин не растерялся:
— Погляжу я на вас, братья-разведчики, до чего ж вы неотесаны: без всего можно прожить, а без подхалимажу нельзя, не подмажешь — не поедешь. Человеческая душа, она, братцы, тоже смазки требует.
— А я думал, ты, лапотник, порядочный человек, — сказал Захаров, — а ты, оказывается, всегда брешешь в глаза. По морде тебя смазать бы!
Разведчики одобрительно загудели. Потом кто-то предложил возобновить пляску.
— Пляска хорошо, а сон — дороже. Айда по нарам, — распорядился я.
— Рано еще, товарищ лейтенант!
— И одиннадцати нет!
Наташа поддержала солдат, предложив вместе спеть песню.
— Воля ваша, а я ложусь, — ответил я сухо.
У Наташи на щеках выступили красные пятна:
— Странный вы человек.
Я пожал плечами. А через минуту уже лежал на нарах, завернувшись в шинель. Наташа попробовала сколотить группу желающих спеть, охотники нашлись. Но что-то у них не ладилось. Песня оборвалась чуть ли не на полуслове. Усталость все-таки взяла свое, люди разбрелись по углам. Блиндаж вскоре сковала глубокая тишина. Приспособленная из гильзы снаряда и подвешенная на телефонном проводе к потолку лампа едва мерцала. В печке потрескивало. За перегородкой было слышно — из угла в угол расхаживал недавно вернувшийся с КП майор Санин, посвистывал трубкой. Наташе бойцы заботливо приготовили место на отдельном бревенчатом топчане.
Накануне сон валил меня с ног, но, добравшись до нар, я неожиданно почувствовал, что не хочу спать; силой закрывал отяжелевшие веки, но забыться так и не смог. «Не Наташа ли причина? — ловил я себя на неожиданной мысли. — Уж не ревную ли я ее к Зубову? Мы всегда скверно знаем самих себя. Но я, кажется, не из тех людей, которым стоит пощекотать ребро, как они незамедлительно ринутся в чувственный омут».
Наташа, когда все улеглись, постояла в раздумье у топчана, вернулась к облюбованному ею месту у печки и открыла дверцу. Упавший на лицо отсвет огня вырвал из мрака мягкие, нежные черты; губы охладила бледность, на щеках проступила желтизна усталости. Примостившись на крошечной табуретке и обхватив колени руками, она уставилась на жаркие угли, по которым змейками пробегало синее пламя. О чем ее думы? Она такая впечатлительная, порывистая, у нее, вероятно, хорошая душа! Может, я обидел ее? Все может быть. И что, если такой тип, как Зубов, западет ей в сердце?.. К чему это может привести? Но я-то чего пекусь, точно боюсь, что потеряю ее? Уж не влюбился ли я, как последний желторотый юнец, с первого взгляда? И чего я, собственно, брюзжу, как сама старость… Любовь? Нет, только не это. Кажется, что не она…
Я поднялся с нар, чтобы напиться. Бак с водой стоял в углу.
— Александр, — услышал я у себя за спиной голос Наташи.
В блиндаже стало еще глуше. За перегородкой утихли шаги Санина. С нижних нар, где спал Захаров, несся богатырский переливистый со свистом храп.
— Вам очень хочется спать?
Повернувшись к ней, я сказал, кивнув на Захарова:
— Если бы я смог уподобиться ему, не задумываясь, отдал бы сейчас тысячу лет своей жизни.
— Вы щедрый, — Наташа тихо рассмеялась. И между нами вдруг стало все просто: мгновение — и она, пригласив меня сесть, уже рассказывала о своей далекой Сибири, о том, как приехала впервые в Москву. Она припоминала, видимо, важные для нее подробности и, говоря о них, изнутри светилась.
— И все-таки то было детство, — тихо сказала она. — И я о нем не жалею, я за него рада. А вот института мне сейчас жаль. Не знаю почему. Кажется, что все оборвалось, не достигнув конца, с институтом ушло самое заветное и красивое в жизни; после тоже будет жизнь, но уже не такая. Вы не испытываете подобного чувства?
— Мы с вами и наши сверстники — поколение, которому выпала трудная доля: у нас украли молодость, подсунув войну вместо радости, — сказал я. — Давайте лучше не ворошить прошлое, а то получается, что в двадцать три года нам, как старцам, остается одна утеха — воспоминания. Кто знает, может, у нас еще все впереди. Хотя, — тут же поправился я, — то, что радует в восемнадцать лет, смешно в тридцать.
Наташа доверчиво заглянула мне в глаза. Ей показалось, что я открыл ей что-то свое, спрятанное от других и лежащее глубоко во мне, что это ответ на ее откровенность, что я могу все понять и главное — понять ее, судить так же, как судит она.
— Майор Санин о вас так много говорил, — неожиданно сказала она и, точно мы были знакомы давным-давно, спросила: — Правда, что вы, рискуя собой, спасли ему жизнь?
— Я бы рад приписать себе в заслугу этот случай, но это именно был чистый случай, а не что-то преднамеренное.
— Кто-то из больших людей сказал, — возразила она, — что о человеке судят не по его обдуманным и преднамеренным поступкам..
— По чему ни суди, все равно ошибешься.
— Не знаю, — пожала плечами она. И вдруг погрустнела, какое-то тяжелое раздумье легло на ее лицо. Повернувшись к огню, долго не отрывала от него взгляда, забыв на мгновение, что рядом есть еще кто-то. Красные угли в печке дышали синими огоньками. Сонная тишина блиндажа казалась еще глуше, и чудилось, будто кто-то стоит у тебя за спиной.
— Хотите, я скажу вам всю правду? — вдруг спросила решительно Наташа и, не ожидая моего ответа, заговорила. — А, все равно. Пусть. Лучше сейчас, чем никогда. Я знаю, что вы обо мне судите скверно, что у меня пустенькое, самодовольное сердце, что я сумасбродная девчонка.
Впервые мне стало стыдно за самого себя. Однажды я не удержался и при Зубове под его же натиском высказал вслух свое мнение о Наташе, а он, подлец, оказывается, все передал ей!
— Да, я знаю, — продолжала она. — И я от вас не ожидала лучшего. Хотя вы сам — лучше. Уже скоро два месяца, как я среди вас, разведчиков. И чуть ли не самым первым я услышала ваше имя, Метелин. А потом наслышалась и от девушек-связисток, и от солдат больше, чем надо. Вы и психолог, вы и чуткий, и умный. О вас слишком много говорят. Когда о человеке много говорят, он становится любопытен. И вот, не зная вас, я стала верить в вас и даже иногда думать о вас. А сегодня, после того, что все было так нелепо, когда у меня открылись глаза на самое себя, — я ровным счетом ничего не умею и не могу, хотя до сегодняшнего дня была уверена, что я все умею, могу, и вот именно сегодня я почему-то надеялась у вас найти защиту. И прежде всего — защиту от самой себя. Но другом оказались не вы, а человек, казалось бы, непримечательный, а в ваших глазах — и вовсе никчемный. А ведь он настоящий товарищ! Зачем вы сказали о нем неправду?
— Если вы верите больше Зубову, то попросите его, пусть он вам и скажет правду.
Кончиками пальцев Наташа потерла виски.
— В конечном счете, все это сейчас не имеет значения… Видите ли, когда человек счастлив, он всегда эгоист. А я нынче счастлива. Нет, я не оговорилась. Ведь до сегодняшнего дня у меня в сущности не было друзей и я по-настоящему не знала, что ж такое друг. А сейчас — их вот сколько, искренних, верных. Это они, солдаты, которые спят, час назад спасли меня. Не днем, когда мне было так страшно, а вот здесь. Вы удивлены? Вам этого не понять! Всем им готова поклониться в ноги. Так много хочется сделать людям добра, и это принесли мне они. Вот тут, в груди, такое тепло. И в то же время чего-то я не понимаю. Как будто собралась в большую дорогу, где-то там у нас, в Сибири. Сугробы, пурга, метель, а я иду, на душе так радостно. Так бывало, когда дедушка с удачной охоты возвращался. И вдруг передо мной все замело: ни дороги, ни тропы. Крутит снег, и холод, холод…
Я не перебивал Наташу. Бесшумно подбросил полено на угли. В печке забилось пламя. Ему было тесно. Желтые языки трепетали, как ленты на ветру, рвались вверх. Я глядел на огонь и думал, что, может быть, и в груди Наташи вот так же что-то горит, трепещет, неудержимо рвется вверх. Я думал о том, что все мы собрались в большую дорогу. Для одних она открыта, перед другими — едва заметная колея, а перед третьими — распутица… Но путь пройти, малый или большой он, обязательно надо. И счастлив тот, кто способен преодолеть жалость к самому себе, бессильное хныканье и вместо них зажечь в груди огонь радости; кто открытыми глазами смотрит на все происходящее, и там, где слабые льют слезы, он грудью встречает опасность, трезво воспринимая ход событий. Здесь исток наших восторгов, опьянений, удовлетворения, наших взлетов или горьких падений. Копание в самом себе опустошает, низводит на дно, в болото. Прожить жизнь и прожить ее мужественно — подвиг, выше которого не было, нет и не будет.
Не заботясь о том, слушаю ли я, Наташа все говорила. Что-то ее волновало такое, чего я долго не мог понять. Я смутно догадывался, что то, о чем она говорит, для нее очень важно, и в другой раз она уже никогда этого никому не скажет. Да и мне-то она решилась сказать об этом, сама не зная почему. Может, пройдет день-два, и она раскается, но сейчас она уже не могла остановиться. Щеки ее лихорадочно пылали, глаза светились воспаленным блеском, жарко дышал по-детски припухший, опаленный ветром рот. Непомерно большое чувство нахлынуло на нее, теснило грудь. Быть может, оно было вызвано в эти минуты нервным напряжением, обостренным восприятием всего, что произошло в этот день. И я не заметил, как сам заразился ее настроением, соглашался со всем, что она говорит, верил в неоспоримость ее слов, разделял ее убежденность. Я слушал и глядел на ее маленькие, нежные и умелые руки. Они были красивы, как все в ней — глаза, волосы, чистый, точно высеченный резцом, лоб, гордо посаженная голова. Внешне в ней во всем еще проглядывала детскость, а то, о чем она говорила, шло от женщины. Девочка и женщина в Наташе жили одновременно. Это глубоко трогало. И я радовался ее власти над собою. И Наташа это чувствовала и тоже радовалась. Между нами установилась близость, хотя мы еще не сказали друг другу ничего такого, что хотя бы отдаленно напоминало объяснение влюбленных. Нет, это было что-то иное, не опошленное словами. Мы радовались, что мы вместе; радовались тому, что вокруг нас спят наши боевые товарищи; радовались просто тому, что мы есть. Внезапно Наташа сказала:
— Как хорошо, что вы оказались таким, каким я хотела знать вас. Ведь мы, девчонки, ужасно глупы: всегда воображаем такое, что со стороны поглядеть — смешно. А мы верим, что это так. Так, как думаем мы. Потом, увидев, что все не так, часто плачем, ругаем себя дурами. В мужчине человек, друг — это прекрасно.
Меня точно обожгло. Я усмехнулся, вспомнив, — Зубов утверждал нечто подобное. Уж не с его ли голоса поет она?
— Чему вы смеетесь? — вдруг строго спросила Наташа и зябко поежилась, точно под холодным душем.
— Нет, я не смеюсь. Просто удивляюсь. Медики всегда представлялись мне людьми трезвыми: они слишком хорошо знают изнанку человека, чтобы поэтизировать его, как делаете это вы. Зубов, по-видимому, прав, когда твердит, что какие-то обстоятельства осквернили в мужчине человека. Не иначе, как на собственном примере убедился.
— Оставьте Зубова в покое. Ну чего вы на него взъелись? — Наташа хотела вернуть ту близость, открытость, которые минуту назад установились между нами. — Разве вы не верите, — спросила она, — что человек, который любит, решится на все?
Но я уже не мог вернуться к прежнему настроению. И равнодушно отшутился:
— Если хотите свихнуть себе голову, то подчините ее сердцу.
Мгновение она тревожно вглядывалась в меня. Потом ее разлетные брови снова сошлись в одну линию.
— Кто его знает, может, вы и правы. Я, девчонка, не поднялась до вас. А знали бы… «Свихнуть голову»… Санин рассказывал мне однажды, как его боец, закрыв телом амбразуру, оставался еще несколько минут живым. В предсмертной тоске он звал любимую. Лицо, искаженное болью, осветила улыбка: он попросил поклониться девушке и умер. Разве это не свет? Не радость? Не песня? Мой свет не во мне самой, а в том человеке, кого я люблю. Ничего вы не смыслите, Саша. Ничего! Когда-то, кажется, неделю назад, а может быть, всего лишь один час, я была гордая, верила, что скорее умру, чем утрачу самообладание, поступлюсь самолюбием. Сейчас же первая… И кому… вам открываю все, что теснится вот здесь в груди… Ну и пусть. Не все ли равно, кто случился рядом, кто перешел дорогу, когда возникла неодолимая потребность излить душу.
На дворе с вечера бушевала пурга. С воем и свистом билась она в дверь блиндажа, тысячами рук трясла ее, будто хотела сорвать со скрипучих петель, скреблась, стучала. Иногда в стон ветра вплетались автоматные очереди, глухие взрывы, далекие, как будто доносились с того света. А в печке, весело перемигиваясь, по-домашнему потрескивали поленья. Наташа, уронив на колени руки, низко склонила голову.
— Вряд ли мы когда-нибудь сумеем понять друг друга, Наташа, — сказал я после паузы. — Не хочу предугадывать, что именно преследовал Зубов, но на этот раз он был честен, предупредил — опрометчивость не ведет к добру. Если я хотя бы на йоту сомневаюсь в человеке, значит, это не тот человек, который мне нужен. Рано или поздно розовый туман рассеется, и явь предстанет в неприкрытом виде, принеся вместо счастья горечь и тоску. Я обещаю вам не переходить дорогу.
В тесной печке билось, беспокойно металось пламя. Наташа смотрела на него, широко открыв глаза, в уголках их зрели слезы. Я встал и, подойдя к нарам, отыскал ушанку, взял шинель, оделся.
— Куда вы?
— Мне лучше уйти.
Морозный резкий воздух, клубясь, ворвался в блиндаж, устлал пол, как ковром, густым белым туманом. Ветер дул с такой силой, что я едва смог закрыть дверь. Колючие иглы снега били в лицо и слепили глаза. Вьюга крутила и рвала полы шинели, отбрасывала назад, валила с ног, словно хотела вернуть меня в блиндаж.
Но не затем я уходил, чтобы тотчас возвратиться обратно.
— Стой! Кто идет? — остановил меня простуженный голос у землянки начальника штаба батальона.
Я назвал пароль и потянул на себя дверь землянки. В жарко натопленном подземелье, заставленном этажерками с книгами, столиками, стульями, — теснота, повернуться негде. Питерцев уже укладывался спать и не особенно обрадовался моему приходу.
— Откуда свалился? — вяло спросил он.
— Разумеется, не с неба.
— Садись, коли пришел.
На опрокинутой вверх дном железной бочке, приспособленной под печку, посвистывал чайник. Питерцев налил горячего чаю.
— Пей, а то посинел, как огурец. Чего это тебя по ночам носит в такую погоду?
Питерцев — мой фронтовой приятель — штабист и композитор, спит и бредит музыкой. Солдаты на днях притащили ему из отбитого у немцев блиндажа пианино, и теперь он не расстается с ним. Питерцев — капитан, с друзьями сдержан, в бою предприимчив и храбр. Зато, как школьница, запинается от волнения перед людьми, мало-мальски разбирающимися в музыке. А если, не дай не приведи, встретится «авторитет» — был Питерцев и нет его.
Он высок и ладно скроен, белокур; смотришь и думаешь — хоть на рекламу в институт красоты, не штабом человеку командовать, а мазурку на подмостках танцевать. Однако кто видел Питерцева во время боевых операций, тот чувствовал железный сплав его воли. Этого человека побаивался даже старик Санин. Но любимцем он был всеобщим: любило его начальство, любили солдаты, он у всех всегда на виду. Предприимчивый, разговорчивый, веселый. Щедра к нему жизнь, и судьба хранит его. Мне же в Питерцеве больше всего интересен музыкант. Когда он садится за инструмент и в мгновение ока уводит тебя от всего мелочного, тебя окружают дивные видения, ты плачешь или радуешься.
Питерцев старше меня на два года, неделю назад мы шумно отпраздновали его двадцатипятилетие. Дружба наша с ним несколько странна: мы больше спорим и ругаемся, редко сходимся во взглядах на жизнь. Во мне он нашел какое-то «цельное начало», как выразился однажды. Что это такое — убей не понимаю.
Кружка кипятку согрела меня. Я налил вторую. Питерцев в расстегнутой гимнастерке, без ремня, сунув руки в карманы брюк, расхаживал по землянке, как в тесной клетке.
— А мне успели донести, — остановился он около меня. — Значит, Метелин усердно атакует военфельдшера?
— Это кто же? Уж не Санин ли звонил?
— Какое это имеет значение? Умные люди еще не перевелись.
— Если сплетники у тебя умные, то выходит, что все порядочные люди — дураки. Что ж, может, ты и прав; у каждого своя колокольня. А со сплетниками все-таки надо бороться. Знаешь как? — спросил я. — Надо резать уши тем, кто слушает их.
Питерцев пожал плечами и потянул себя за кончик носа: дескать, «неисправимый человек». Я терпеть не мог эту его манеру.
— После провала в разведке наверстывал, так сказать, на женском фронте? — продолжал он иронизировать. — Авось, клюнет. И Зубов туда же. — Питерцев почти зло заключил. — Ну и болваны ж вы, как я посмотрю. Не умеете ценить в человеке человека.
Я догадывался еще раньше — Питерцев симпатизирует Наташе. Но он скорее умрет, чем выдаст свою тайну.
— Ты что копья ломаешь? — отодвинул я кружку и в свою очередь загорелся желанием уколоть Питерцева. — Сожалеешь, что не опередил нас с Зубовым?
Питерцев вспыхнул.
— Советую пошлость приберечь для Зубова и иже с ним. Мое мнение о Наташе тебе известно: я герой не ее романа. Но я буду искренне рад, если она встретит достойного себя друга. Это редкий, большого сердца и души человек. А вы…
Я рассмеялся:
— Поздравляю! Доняла, значит, злодейка ревность? Шила, брат, в мешке не утаишь.
Тонкое лицо его побледнело, левая бровь, изломавшись, поползла кверху. Но он сдержался, почти спокойно сказал:
— У тебя обязательно крайности: ты не можешь, чтобы не ходить по острию. Пойми, Зубов, да и ты — птицы бескрылые, нашли время для излияния страстишек! Человек ведь беззащитен: он пережил страх, почти безумие. Он открыт, доверчив, он готов и способен пойти на все и может зайти слишком далеко. А завтра возненавидит вас, но это — полбеды! Возненавидит себя на всю жизнь — вот что печальнее всего.
— Ну, пошла писать губерния, — безнадежно махнул я рукой. — Тебе бы не меня, а слюнтяя Вертера в друзья. Вот вы бы с ним спелись, как по нотам. Тут бы ты нашел общий язык.
— А то прикажи как начштаба мне, да и Зубову заодно, совершить подвиг беспримерный во имя любви и, кстати, музыки.
— Не паясничай. Подвиг! — пренебрежительно сжал губы Питерцев. Зубов и ты — два сапога пара. Еще болтаешь о подвиге. Вы не способны воспринимать девушку как девушку, оценить ее красоту, порыв ее чистой души. У вас на уме низменные цели. Вам не дано понять языка чистой любви и, если хочешь знать, языка высокой музыки — всего того, что делает жизнь прекрасной, поднимает ее к звездам…
— Как прикажешь понимать твою философию: «Воспринимать девушку как девушку?» Что это такое? Понимать Питерцева как Питерцева еще куда ни шло. Фу, приторно! — и чтобы окончательно его убить, издеваясь, сказал: — В женщине я вижу прежде всего женщину, пусть она будет хоть трижды раскрасавицей и обладает расчудесной душой. Святая ее обязанность уготована самим богом — рожать детей, тем более нынче, когда солдаты нужны.
Питерцева передернуло. Я грубо коснулся самой больной его струны.
А что касается языка, — уже спокойно заключил я, — то и здесь мы разных взглядов: у любви и у музыки один язык, одинаковые средства воздействия на человека, и горько, когда они угнетают мозг…
— Что за дикие взгляды на любовь и музыку! — прервал он меня и рассек воздух узкой кистью, как саблей. — Это что, рисовка? Или ты в самом деле не понимаешь, что быть таким банальным трезвенником или подстраиваться под трезвенника — значит не жить, а пресмыкаться, подобно червю. Завидная участь, лучше не придумаешь.
Питерцев деланно рассмеялся и тут же, разбросав длинные руки, словно желая обнять вселенную, уже другим, мягким, волнующим голосом продолжал. Передо мной стоял поэт, музыкант.
— Природа, жизнь, земля, вечно юное небо, гроза, по-детски чистая весна, осень, человек, женщина, да, женщина! — все это я воспринимаю прежде всего не головою, не мозгом: оно одухотворяет меня, наполняет сказочным ощущением, я делаюсь выше, красивее, человечнее. Я люблю красоту мироздания во всей ее чистой наготе. Она звучит во мне волшебной симфонией, нечеловеческой музыкой, и я счастлив: я богат, не эгоист и не завистник, я — человек! Музыка — это язык природы, это язык неба, весны, осени, грозы, это язык человека и в то же время это — нечто выше, прекраснее, сильнее — всеобъемлюще! Это — особый язык. На нем общается со мною все, что живет вокруг меня, передает моей душе, моему сердцу свои сокровенные тайны. Скажи, сумеешь ли ты передать, выразить полно и тонко словом красоту поразившего тебя пейзажа, соловьиной трели, запаха цветущего ландыша? «Ах, как красиво!..» — бесцветно и пошло лепечешь ты. А вот душа посредством музыки, посредством любви воспринимает мир во всей его неизреченной красоте. Он прозвучит в тебе песней… Вот о чем я говорю, а ты…
Питерцев круто повернулся на каблуках, сел к пианино и ударил по клавишам раз, второй, третий, вызывая к жизни рой хаотических звуков. Лицо его пылало, волосы рассыпались по высокому бледному лбу. Он, казалось, позабыл обо мне. Звуки уже не вмещались в землянке, громоздились, сталкивались и налетали друг на друга. От них стало тесно и душно. Я расстегнул воротник гимнастерки. И мне начало чудиться, что это не пальцы Питерцева, а белые трепещущие крылья. И даже не крылья — что-то другое. Прикованный к ним взглядом, я старался и долго не мог определить, что же именно? Но тут я забыл о пальцах: что-то подхватило и понесло меня в бурном потоке, бросало, точно щепку. Я совсем не хотел и не думал плыть, даже противился. По спине подирал мороз, мне стало страшно; так бывает иногда во сне, когда ты отчетливо осознаешь опасность и не можешь ничего сделать, чтобы предотвратить ее, тебя душат, ты пытаешься кричать, звать на помощь и не в силах выдавить из себя ни звука. Где я, что со мной? Я ничего не понимал. Я все больше ощущал холод, будто меня заперли в подвале со льдом. И вдруг — передо мной открылось заснеженное поле. Оно со всех сторон обстреливается, изранено снарядами. В воздух летят черные брызги снега и комья земли. Воздух расколол сотрясающий раскат грома. От неожиданности я вздрогнул и тут же понял — это Питерцев взял последний, разрешающий аккорд.
И опять, уже отчетливо, я видел его белые длинные пальцы, опять слышал звуки. Но теперь они уже не громоздились, не давили и не обрушивались горячей лавой, а текли спокойно, легко, чаруя какой-то поразительно нежной мелодией. Вначале я не мог разобрать, что это. Повеяло тонким запахом весны. Передо мной в широкой низине расстилался сад, облитый солнцем, весь в лебяжьем пуху цветения. Среди этого вешнего белого половодья шла Наташа в легком, как бы сотканном из голубизны воздуха, платье. Слегка колеблемое ветром, оно обрисовывает ее тонкую талию, стройные длинные ноги. Руки и шея ее обнажены: загоревшая, молодая, сильная. И улыбка у нее яркая. Наташа протягивает мне букет синих ландышей. Всей грудью я глубоко вдыхаю их запах, наслаждаюсь их нежностью. Глаза Наташи радуются моему счастью и светятся любовью. Одно желание у меня — взять ее за руку и идти, идти бесконечно долго, все равно куда идти, только бы с нею рядом.
Но вот что-то вновь ударило и рассекло воздух. Видение белого сада исчезло. Резко задребезжали струны. Я вздрогнул и поморщился, как от боли. Словно сквозь туман, различил немного сгорбленную фигуру Питерцева, его одержимые пальцы. Я вытер влажный лоб. Слышать музыку я больше не мог, подскочил к Питерцеву и почти силой оторвал его от пианино.
— Прошу, не надо, — сказал я.
Он был бледен, тонкие нервные ноздри его трепетали, широкий лоб покрылся мелкими капельками пота.
— Кто искренне любит, к тому приходит Песня. Утилитарным устремлениям — грош цена! — выпалил он с гневом, словно только и ждал того, чтобы сказать мне неприятное.
— Не люблю музыку. Ненавижу ее! — ответил я, еще окончательно не избавившись от впечатления, навеянного игрою Питерцева. — Не люблю потому, что боюсь. Музыка — это страшно!
Окутанный облаком холодного воздуха, в землянку нежданно-негаданно ввалился Санин.
— Проверял посты. Порядок, — сказал он, потирая настывшие руки и ощупывая меня и Питерцева хитроватым вопрошающим взглядом.
— Вьюга, как с цепи сорвалась. Кружит так, что ни зги не видать. Немец притих. Видно, русский мороз нос ему прищемил. Но что-то затевает: гарью пахнет. А вы что, как петухи, нахохлились? Опять клевались? — Санин расстегнул полушубок, присел на корточки у печки, достал уголек и, перекидывая его с ладони на ладонь, раскурил трубку. Крепко сбитый, плотный, уже обремененный годами, он сохранял, однако, подвижность и живость молодости.
Питерцев предложил ему чаю. Санин сбросил полушубок, повернулся ко мне, прищуренные глаза его светились улыбкой:
— А ты, оказывается, мастер! Вон какие кренделя выделывал на гитаре. Ловко! — и подмигнул Питерцеву. — Я и не знал, какой талант скрывается в Метелине! Настоящий наш с тобой соперник…
— Хотел было остаться обыкновенным смертным, — пошутил я, — да зависть заела: гляжу, друзья — знаменитости: один гитарист, другой композитор, ну и я туда же, в калашный ряд.
Санин скользнул взглядом по лицу Питерцева.
— Из-за чего поцапались? Выкладывайте.
С болезненной гримасой Питерцев досадливо махнул рукой. Но не таков был мой приятель, чтобы долго хранить молчание, когда дело касалось музыки. Вдруг набросился на меня тигром. Пушил на чем свет стоит, не утруждал себя выбором слов и выражений. То и дело он подбегал к пианино, заставлял его петь то что-то нежно-лирическое, то бравурное; опять вскакивал и, поворачиваясь то ко мне, то к майору, метал громы и молнии.
— Нет, ты только послушай. И он смеет говорить, что музыка — это страшно! Больше того, смеет заявлять, что не любит музыку!..
Санин, по-детски улыбаясь, следил за нами. Я оперся плечом о бревенчатую стенку, стоял, сунув руки в карманы, и думал о том, что, может быть, Питерцев в чем-то и прав. Но у меня свое видение. Любовь и музыка, отвоеванные человеком у природы для своего отдохновения и борьбы, бесспорно тождественны. Одна рождает другую и наоборот. И следствия воздействия их на человека одинаковы. И уж если я полюблю по-настоящему, вспыхну и зажгусь, то боюсь, что любовь не принесет мне добра. Она, как и музыка, страшит меня. И мне почему-то вдруг стало грустно.
А Питерцев все шумел. И не знай я его как свои пять пальцев, мог бы подумать, что он просто фразер.
— В музыку человек заключил солнце! — горячо воскликнул он, чуть ли не с кулаками подступая ко мне. — Может это дойти до тебя, унылый трезвенник, или нет? Солнце!
— Мне больше нравятся звезды, — сказал я, желая прекратить затянувшийся и рисковавший зайти в тупик разговор. Но Питерцев кольнул меня:
— Ты малым довольствуешься.
— Я бы перестал считать себя человеком, если бы удовлетворился только тем, что имею, — вспылил я. — Может, потому и избегаю музыки, что она вызывает у меня ассоциации самые сложные, порой невероятные и дикие. Первобытные племена дикарей, которые не имели ни малейшего понятия о гармонии, опустошали, резали, били и жгли своих соседей под музыку, под убийственно классический ритм барабанов. В пьяном бреду в кабаке у так называемых джентльменов музыка возбуждает скотскую похоть, граничащую с голым развратом. А ты говоришь об эстетическом наслаждении! — бросил я Питерцеву и продолжал. — Мы, цивилизованные народы, под марши, гром и вой меди идем, бежим, летим в штыковую атаку, колем и бьем, радуемся крови. Музыка вызывает ожесточение, пробуждает и обнажает низменную, звериную страсть, бесчеловечность и дикость.
— Черт знает что такое! — схватился за голову Питерцев.
— Да, — подтвердил я. — Музыка! Боюсь ее, как жуткого, кошмарного сна. Шумана музыка привела к безумию; Бетховена — к опустошению и несчастью; Моцарта — к реквиему, который размалывает мое «я», выматывает из меня, как нитки на веретено, мои жилы и нервы, сверлит мозг смертью!
— Молчи! — крикнул Питерцев, бледный и растерянный.
Санин предостерегающе поднял руку и, не отрывая от меня взгляда, заговорил. Заговорил не солдат, а учитель:
— Ты прав, Метелин. Какие мысли и чувства вызывает музыка — это не второстепенный вопрос. Но чувство красоты, утверждал кудесник Дарвин, провозглашено исключительной особенностью человека… Не любить музыку?! Не слишком ли это громко! Не надо так… Это значит не любить всего, что тебя окружает, это значит не обладать способностью человека…
У Питерцева глаза залучились: нашел единомышленника. А Санин строго продолжал говорить о том, что музыка возвеличивает, единит и связывает людей, их чувства, мысли, идеи и что отвергать это — значит не понимать существа музыки, ее назначения, наконец, оказаться последним обывателем, быть к самому себе деспотичным.
Я возразил:
— От самого себя я как раз и не в восторге.
Но Санин будто и не слышал моей реплики.
— Вот ты, — качнул он головой в мою сторону. — Ты обидел сегодня Наташу. Взял и отравил у человека в сердце песню… Скомороха из себя строишь. Не любишь музыку?! Не слишком ли много ты берешь на себя? Не любить можно то, что постиг. А можешь ли ты сказать, что постиг жизнь, постиг песню? Превосходно определил Питерцев — солнце! Да, на долю человека немного выпало песни и солнца. Ему дана всего лишь одна жизнь. И этого слишком небольшого мы не умеем использовать как следует. Солнце! Когда оно светит нам, когда приходит песня, какие необыкновенные силы обретает человек! Какой радостью полнится грудь! У тебя на глазах человек становится велик и прекрасен. Он преобразует мир, штурмует небо, строит дворцы, создает книги. Он — любит, он — творит!
А укради песню у человека, отними у него музыку, невозможно даже вообразить, что станет с человеком.
Ясно одно — исчезнет его великое имя. Это значило бы мир повернуть вспять. Представляешь, беспросветный мрак окутал бы землю, и ты, живое существо, этакой пугливой бессловесной тварью станешь рыскать по ней в поисках, чем бы утолить алчное чрево. Холодно, мерзко, дико. В том-то и величие, сила и счастье твое, мое, его, всех нас, что нельзя украсть, отнять у нас песню, как нельзя потушить солнце.
Вечно юный Моцарт своим реквиемом еще больше возвеличил, до небес вознес человека. То, что ты здесь наговорил, Метелин, мягко выражаясь, просто истерика. Если бы я не знал тебя, ей-богу, подумал бы, что ты пьян. Человек велик — утверждает каждая нота реквиема. Боль, потрясение испытывают родные, друзья, скорбит природа, когда человек уходит из жизни! Только ему, человеку, воздаются такие божественные почести. Наконец, реквием — это гимн скорби, лебединая песня человека, которую успел при жизни спеть только один — Моцарт. Вот какие мысли волнуют меня, когда я слушаю реквием. А Бетховен, жаждавший прожить тысячу жизней! Даже утратя слух, он создавал музыку. И я уже тем счастлив, что обладаю возможностью слушать эту музыку, музыку «Лунной сонаты», нечеловеческую музыку «Аппассионаты» и чувствовать, как при ее звуках, у тебя вырастают крылья, поднимают тебя, чтобы с высоты полета ты мог объять взглядом мир. Но мне иногда приятно побыть и наедине со своей душой, проветрить и обогатить ее, и поэтому я слушаю шумановские «Грезы», его грустную музыку. Мы сами создаем себе настроение. Музыка воспитывает в нас людей порядочных и утверждающих жизнь.
Честное слово, век живи с человеком бок о бок и никогда до конца не узнаешь его. Санин! Я думал, он скорее молчун, нежели оратор, поэт. А сейчас в нем бурлили страсти, полыхал костер разноцветьем дорогих каменьев. А внешне — такой же, как и всегда: не искрятся и не сверкают его серые добрые глаза, и говорит так, будто объясняет ученику-неучу очередной урок по истории.
— Завидую я вам, молодежи, завидую до слез, особенно тебе, капитан. Вот закончим войну, я возвращусь в школу, к моим драчливым ребятам. Метелин перебродит, как молодое вино, и… В общем, что толковать…
Когда-нибудь в полумраке концертного зала я буду слушать композитора Сергея Питерцева! Песня твоя, капитан, полетит по свету, зачарует человеками он скажет тебе, творцу, спасибо за радость. Да, только тот имеет право быть хозяином земли, только тот имеет право назвать себя уже сегодня человеком будущего, кто приносит людям радость.
Питерцев притих, оробел, как школьница, залившись стыдливым румянцем. Он забился в угол землянки и внимательно рассматривал свои неуклюжие кирзовые сапоги. А Санин размечтался вовсю. С отеческой теплотой и внезапно нахлынувшей нежностью он продолжал:
— Ты многого можешь достичь, Сережа. Многого! Только не вешай никогда головы. Тебе природа дала все, ты у нее — любимчик: взгляни в зеркало — писаный красавец! И голова у тебя светлая, и ростом богатырь. Но лучшее, что в тебе есть, — это твое дарование; бойся одного — осквернить свою душу ложью. Настоящее искусство всегда наказывает за измену ему.
— Ну, быть Питерцеву на Олимпе, — прервал я Санина, — если шею не свернут девушки. Еще бы — красавец! А пронюхают, что композитор, и совсем задурят ему голову. На нас, смертных да неказистых, небось, и взглянуть не захотят. Что же нам остается тогда делать, Степан Васильевич? Разве вот одаренного товарища Питерцева «прорабатывать» на собраниях да заседаниях с неизменной повесткой дня: неправильное поведение композитора в быту.
Санин улыбнулся, но тут же погас, спросил с беспокойством:
— Александр, а к чему ты стремишься? Куда нацелил себя? Чего хочешь от жизни?
Мне стало больно и грустно, по-настоящему тоскливо и горько: не люблю, когда кто-нибудь касается этой стороны моего «я». Война спутала мои пути-дороги, бросила туда, где я был всего лишь маленьким, хотя, может, и необходимым винтиком; мои желания, мечты, надежды — какое это имеет значение в сравнении с событиями, которые развернулись сегодня? Меня подмывало сказать Санину что-нибудь колкое и в то же время хотелось попросту поделиться с ним своим желанием делать что-то очень нужное людям в жизни. И делать это нужное как можно лучше. Но вместо всего этого неожиданно для себя отрубил:
— Хочу одного — отоспаться.
— Так мало? — искренне огорчился Санин.
— В данный момент не так уж мало.
Питерцев нахмурился. Санин неторопливо набил трубку, закурил. У него, оказывается, уже старое лицо. Он очень устал, глаз из-под век почти не видно. Не следовало б ему так часто и много курить.
— Н-да, — раздумчиво протянул он и после паузы вдруг опять начал говорить, уже скорее в подтверждение каких-то своих мыслей, нежели для нас с Питерцевым. — Все эти надломы, ущербность в молодом человеке можно объяснить войной. Так оно и проще и удобнее. Но надо глядеть правде в глаза. Это — наш недосмотр. И в первую голову виноваты мы, ваши учителя, наставники. Обогащая вас знаниями, мы часто упускали первостепенное, забывали прививать вам, как оспу, умение правильно переживать моменты ярких прозрений, редкие минуты глубокого волнения, с позиций человека будущего коммунистического общества относиться к жизни. Выработать в себе правильное отношение к жизни — значит обрести твердую почву.
Санин точно осветил меня. Правильное отношение к жизни. Может, в том и состоит «ущербность» моего воспитания, что я фактически был предоставлен самому себе. Мой ум, душевные устремления всегда были направлены на поиски истины. Многого я не успел, а первостепенного просто не знал. От этого, может быть, теперь и мечусь. Бросаюсь от одной крайности в другую напоминаю иногда летучую мышь, которая и от своих сородичей отбилась и к птицам не прибилась.
В углу резко заныл зуммер полевого телефона. Мы вздрогнули от неожиданности. В спорах мы забыли, где находимся. Питерцев кинулся к аппарату. Разыскивали Санина: его связной — пятнадцатилетний Петя Самойлов — только что убит вражеским снайпером… Санин поднялся из-за стола, снял с гвоздя полушубок, натянул его, но ставшие вдруг непослушными пальцы никак не могли застегнуть пуговицы. Так он и вышел из землянки с распахнутыми полами. За дверью по-прежнему бесновалась вьюга. Мы с Питерцевым растерянно переглянулись. Санин остался совсем один: у него погибли дочь, двое старших сыновей и жена. Петя Самойлов был его третьим, уже приемным сыном.
Ранним утром нас подняли по тревоге. Немцы по всей линии нашей обороны перешли в атаку. Разведчикам пришлось подкреплять пехоту: людей у нас на передовой слишком мало. День выдался горячий. К вечеру нам удалось отбросить немцев на, их исходные рубежи. Бой стих. Убитых товарищей, и среди них Петю Самойлова, хоронили тут же в окопах, в мерзлой земле. Бушевавшая ночью пурга понамела горы снега. Теперь уже надолго легла зима. Санина трудно узнать: осунулся, оброс щетиной, глаза ввалились. Питерцев пробовал было приободрить майора, но тот так посмотрел на него, что мы больше не пытались лезть в утешители.
Только на третьи сутки наконец возвратились к себе в часть. Жили мы при штабе дивизии, в семи километрах от передовой, в лесу, в добротных землянках, отбитых месяца три тому назад у немцев. Обжитой, на редкость сохранившийся еловый лес радовал глаз; если б не война — курорт! Невдалеке от нашего жилья обосновался магазин военторга, тут же находилась землянка целой роты девушек-связисток. Шума, визга и смеха у них — хоть отбавляй. Наши разведчики все как один превратились в заправских кавалеров. Бреются. Чистятся. Смущенно посмеиваясь, объясняются со старшиной Захаровым: «Это счастье, что связь под боком поселилась: с ней ядреней и светлее жизнь идет, чуешь, что порох не отсырел еще в твоих пороховницах. А без них — хоть помирай!»
— Ловеласы вы, а не солдаты, — гвоздил Захаров разведчиков, будучи уверен, что этим малопонятным ему словом сражал их наповал.
К нам опять вернулся Санин. Полмесяца назад он был назначен на передовую в полк: что-то там не клеились тогда дела. Поселился он в одной землянке со мною. К полке моих книг прибавилась стопка санинских.
С книгой мы оба в большой дружбе. Я не мыслю своей жизни без книги. В ней познаешь миры, разгадываешь путаные ходы судьбы, отправляешься в бог весть какие путешествия, черпаешь в ней силы, все острее чувствуешь свою ответственность за высокую должность — быть человеком на земле. Иногда читаешь до утра, забывая, что идет война, что нужно спать, что ты смертельно устал. Книги — вторая жизнь. Жизнь! Что может быть выше, прекраснее, чем прожить ее осмысленно и разумно? Иногда суетишься, беснуешься, ищешь друзей, ищешь ключи от загадок, от счастья, а ключи, вон они, рядом с тобой, на полках. Просвещенный ум — какое это изумительное чудо на земле! Но такому человеку живется не особенно вольготно. Прав Санин, когда говорит — дураки чувствуют себя увереннее: их больше. С книгой он, как и я, редко когда расстается. На днях, возвращаясь из разведки, я заметил у него в кармане маленький томик.
— Неужто устав с собою таскать вздумали? — не утерпел, поинтересовался я, надеясь втайне, что ошибаюсь в своем предположении. Надежда не обманула меня. Санин вынул из кармана, бережно погладил сафьяновый переплет и молча подал мне томик стихов Пушкина. Но читает он больше Клаузевица, суворовскую «Науку побеждать». Подтрунивая над стариком, я спрашиваю, уж не придется ли нам, простым смертным, лить кровь еще из-за одного новоявленного Бонапарта? Шутку Санин не приемлет, хмуро сводит разлатые брови. А сегодня я случайно увидел у него стопку ученических тетрадей. На обложке первой из них разборчивым почерком старательно выведено: «О воспитании детей в семье и в школе. (Наброски.)» Я про себя тепло улыбнулся. Однако Санину не сказал, что раскрыл его тайну. Нельзя прикасаться к сокровенному в человеке, без зова лезть в душу.
Дни походят один на другой, как две горошины. Зима все больше забирает силу, мужает. Свирепее и чаще метут метели, мороз обжигает, как огонь. Немцы с наступлением холодов присмирели, зарылись в землю, нещадно истребляют на топливо нашу белую березу. Как-то я выполнял задание и напоролся на их засаду, но выпутался из беды благополучно: товарищи помогли. Кругом люди, очень много разных людей. Быть среди них, познать хоть каплю их — великое счастье.
Наташу стараюсь избегать. Живет она в двух километрах отсюда, в просторной, как большой дом, землянке, приспособленной под медпункт. Солдаты, увиливая от нарядов и особенно от занятий, «зачастили в санчасть», как каламбурят они. Я прикидываюсь, что мне и невдомек, какая «хворь» одолевает разведчиков. А между тем о Наташе у нас толкуют поголовно все, расписывают и превозносят ее до небес. Меня же она занимает мало, так, по крайней мере, я хочу думать. А она уже в который раз через разведчиков передает мне приветы, не преминет осведомиться о здоровье. Злые языки даже распустили слух — о чем только не судачат досужие люди, — что я жених Наташи, и в то же время поговаривают, будто успехом у нее пользуется Зубов. Выходит, одного одаривают приветами, а с другим роман крутят. Милое дело, нечего сказать. Как раз в моем вкусе! Ах, черт побери все эти разговоры. И зачем только я их слушаю? Впрочем, с чего это я кипячусь? Так есть, так было, так будет. И глуп тот, кто воображает, что может быть иначе.
Оборона. Установилось некоторое затишье. Но у меня все не как у людей — ни минуты времени не могу выкроить для себя: то очередное поручение командования, то вылазки на передовую, то с утра до ночи возня с вновь прибывшим пополнением. Эти три-четыре недели просто напасть какая-то! Надеялся, что с возвращением Санина будет полегче: как-никак свой человек, а выходит — наоборот. Он любит меня, вижу это, и валит на меня, как на везучую лошадь. Нет того, чтоб порадеть близкому человеку! Последние дни Санин хмур. Дуется, бросает косые взгляды, будто я в чем дорогу ему перешел. А все из-за Наташи. Но я намеренно избегаю с ним разговора на эту тему.
Недавно мы возвращались пешком из штаба армии. Солнце уже клонилось к горизонту. Весело похрустывал под ногами прихваченный к вечеру морозом снег. Укутанный в иней, готовился ко сну лес. Санин что-то пространно говорил мне, и я не совсем понимал его: «Мы всегда восторгаемся молодостью. Она тем и прекрасна, что постоянно устремлена вперед, в будущее, в завтра! Вчерашний день ее не волнует, он для нее отзвенел и сброшен со счетов. Старость, хотя она и облагорожена, умудрена опытом, как правило, живет прошлым; воспоминания заставляют горячей биться сердце, в будущее она глядит с тоскливой грустью: оно не для нее. Ценить надо уметь в себе молодость!»
И вдруг, без всякой видимой связи с предыдущим, принялся выговаривать мне, что я крайне неправильно себя веду, часто неразумно подхожу к оценке духовных ценностей, что, в конце, концов, не стою такой славной девушки, как Наташа, и что напрасно она относится ко мне с искренним уважением, даже больше чем с уважением.
Я пожал плечами.
— Откуда вы это взяли?
— Если я говорю, значит, знаю.
Но едва мы углубились в лес и вышли на поворот дороги, как увидели предмет нашего разговора. В маленьких розвальнях Наташа вместе с Зубовым катила куда-то, по всей вероятности, в тыловой госпиталь за медикаментами.
Заметив меня и Санина, она вспыхнула в крайнем смущении, точно мы застигли ее на месте преступления. Санин от неожиданности смутился не меньше.
Зубов, остановив лошадь и спрыгнув с саней, вытянулся перед майором.
— Здравия желаю, товарищ майор!
Санин подошел к Наташе с другой стороны саней, по-отечески ласково потрепал ее по руке.
— Золотая вы моя, по какому это такому праву вы меня, старика, забывать стали? — он погрозил ей пальцем. — Вечность не видел вас.
Наташа рассмеялась:
— А вчера о чем вы говорили? Я еще помню!.. Всю ночь думала. Может, вы и правы. — И уже тихо, так, чтобы я не слышал, что-то сказала Санину и опять рассмеялась. В поведении ее, как и в смехе, было что-то нарочитое, неестественное. В мою сторону Наташа не бросила ни одного взгляда. Глаза ее возбужденно блестели.
— Какая вы красивая сегодня! — сказал Санин.
Зубов многозначительно подмигнул мне. Доволен он собою сверх меры. Будь я завистником — удавился бы с тоски. Наташа увлеклась им, как видно, не на шутку. Сопровождает ее в поездке, ни дать ни взять — нареченный! «И что только нашла она в нем?» — с досадой подумал я и тотчас спохватился: такие глупые вопросы задают обычно ревнивцы либо сторонние, а не тот, кто любит.
Санин стал прощаться. Наташа мельком, вскользь бросила мне:
— Метелин, загляните в медпункт. Сделаю вам прививку от боязни видеть меня. — И повернулась к Зубову. — Поехали, Леонтий.
— Преувеличенное уважение, — иронически заметил я Санину, когда мы опять остались с ним вдвоем. И уже в сердцах добавил: — И чего, собственно, вы клеите мне эту самодовольную медичку? У нее, поди, голова кругом идет от чрезмерного к ней внимания.
Санин не отозвался.
Прошли мы молча около километра.
— Укол тебе сделать надо, правильно говорит Наташа, — не глядя на меня, наконец заговорил Санин. — Утрет нос тебе Зубов. Молодец, хоть и не люб он мне. Слизняк какой-то. Где только ваше самолюбие, товарищ лейтенант? Пока не поздно, одумайтесь. Кусать локти будете.
— Есть подумать, товарищ майор, — с подчеркнутой готовностью отчеканил я.
От моего ответа его передернуло:
— Остришь ты, надо сказать, неважно.
Я промолчал. Что толку спорить в таких случаях?
С самого утра я занимался с разведчиками рекогносцировкой местности; вдруг в полдень Санин разыскал меня в степи, отозвал в сторону и тоном, не терпящим возражений, сказал:
— В землянке тебя ждет военфельдшер. Иди!
Он был взволнован, озабочен. Этой встрече Санин придавал, как я заметил, какое-то особое значение. По всей вероятности, он о чем-то советовался с Наташей, и не сомневаюсь, что в чем-то ее убеждал. Я колебался одно мгновение.
— Благодарю вас, Степан Васильевич, но встреча эта ни к чему.
— Ты непременно должен, я прошу тебя об этом!
Я отрицательно качнул головой:
— Нет, Степан Васильевич!
— Никакой я вам не Степан Васильевич! — оборвал он меня. — Забываетесь, товарищ лейтенант. Слишком много берете на себя.
— Слушаюсь, товарищ майор.
Дрогнувшим голосом Санин вдруг сказал:
— А я-то, старый болван, вообразил, что все вижу… Думал… Наташа открылась мне как отцу, что больше она молчать не может. Ведь любит тебя, чурбана. Да и ты же… Зубов ей предложил…
— Меня мало интересует Зубов.
— Потому что мы плохо знаем самих себя, поэтому, Метелин, мы часто делаем глупости! Пойми.
— В конце концов… — не утерпел я.
— В конце концов, — обиделся Санин, — я верил в вашу порядочность… — он махнул обеими руками: — Продолжайте занятия!
— Есть! — козырнул я.
Вобрав голову в плечи, сутулясь, Санин ушел. Вот и разбежались наши дороги. Как мало для этого, оказывается, надо. Не могу понять, почему люди так безапелляционно решают за других? Откуда у Санина непоколебимое убеждение, что я непременно должен быть с Наташей, почему такая непомерная забота о ней? Откуда у него вера, что мы осчастливим друг друга, что Наташа и я — это уже все, гармония и единство интересов. Я, например, убежден в противном. А на сердце все-таки скребут кошки. Муторно и больно. Странно идет жизнь: одни предполагают, другие располагают, а третьи, захлестнутые суетой, собственно, сами не знают, что они творят.
Санин, однако, как ни обиделся, из моей землянки не ушел. Все эти дни он неприветлив и хмур. На мои вопросы отвечает односложно — «да», «нет», а сам вообще ни с чем не обращается. Так мы и живем, что-то утратив друг в друге. И внезапно среди этого затишья меня ошеломила новость — Наташа выходит замуж за старшего лейтенанта Зубова. Ни во сне, ни наяву я не допускал, чтобы могло случиться такое. Наташа принадлежит Зубову! Что толкнуло ее на этот шаг? Любовь? Презрение ко мне? Месть?.. Ничему я не хотел верить. У меня, как в той притче: сидит человек на краю пропасти, свесив ноги, проходит мимо Судьба и говорит: «Чудак, смотри упадешь, ушибешься. А потом на меня же будешь обижаться…» Нелепо, серо, невыносимо скучно устроена жизнь.
В землянке я вдруг почувствовал себя, как в клетке, хочется раздвинуть ее плечами. Вылететь на улицу — там тоже тесно. Тесно вдруг стало жить. Чего хочу, чего ищу, куда иду? Передо мной лежала укатанная зимняя дорога. Густой, как молоко, морозный воздух обжигал легкие. Дышу полной грудью, а воздуха не хватает. Сам того не заметив, я очутился около медпункта — у жилища Наташи. В крохотном, наполовину вросшем в землю окошке теплится свет. Я взглянул и неожиданно увидел ее. В землянке Наташа была одна. По ее лицу я не мог различить — счастлива она или нет; почему-то я ожидал встретить на ее лице грусть, а увидел необыкновенную женщину, прелестную, именно ту, которую я искал. Через маленькое окошко увидел то, чего не мог разглядеть в ней в этом необъятном, безбрежном мире.
За спиной я услышал чьи-то шаги, хотел рвануться в сторону, но меня успел остановить Питерцев. Он был возбужден и сиял, как начищенный таз.
— Здорово! Как себя чувствует Наташа? Ты от нее? — длинными ручищами он обрадованно сгреб меня, захохотал. — Каково? Утерла нам наша любимица нос!
— Тебе что, орден дали? Сияешь — глазам больно!
— Еще бы не сиять! Наташа советовалась со мной. И я, разумеется, сделал все возможное. Признаться, с Зубовым мы в сговоре. Я содействовал его женитьбе.
И это мне говорил человек, который, насколько я знал, души не чаял в Наташе, готов был на нее молиться, как на икону.
— Чему же ты радуешься? — холодно оборвал я его.
Питерцев, недоумевая, зачерпнул горсть снега, сжал его в кулаке. Между пальцами блеснули капельки воды.
— Видишь, слезы? — указал я на его руку.
Он торопливо достал носовой, платок, стал вытирать руки.
— Да, вытри и выбрось платок, — сказал я. — Слишком они у тебя грязны. А я-то, идиот, предполагал, что ты, поэт-музыкант, искренен к человеку «редкого сердца и большой души».
Питерцев вскипел:
— Это, кстати сказать, и побудило меня. Мне плевать на всех, кроме Наташи. Не будь репьем, не цепляйся. Разве ты не знал, что Наташа бывала с Зубовым часто, значит, ей никто другой не был мил!
Мне хотелось убить Питерцева:
— Сводник! Зубов, как тень, преследовал ее. Или, может, скажешь, тебе неизвестно, чего стоит этот, как его называет Санин, слизняк? Не отнял ли ты песню у девушки?
— Вздор! Ты привык из мухи делать слона. Жизнь проще. Доказывать, кто кого преследовал, — переливать из порожнего в пустое; факт, что они бывали вместе. Я хотел и хочу Наташе счастья. Это мое моральное право. — Питерцев примирительно взял меня под руку. — Пойми, Саша, я устроил сговор, преследуя не какую-то шкурную цель. Если бы это было так, я бы возненавидел себя. Низости и подлости я не терплю.
Я высвободил локоть:
— Вот как? А я, дурак, до сегодняшнего дня думал, что сводничество нельзя причислять к добродетелям. Значит, по-твоему, совать нос куда тебя не просят и коверкать людям жизнь — не подлость?
Не дожидаясь ответа, я круто повернулся и пошел прочь. Домой возвратился поздно, злой на весь свет. Только переступил порог — мне навстречу с радостью, как к закадычному другу, бросается Зубов:
— Наконец-то! Битый час ожидаю!
На нем — первой свежести подворотничок, гимнастерка с иголочки, отличные галифе и хромовые ослепительно начищенные сапоги. Зубов до неузнаваемости обновленный: и лицо, и глаза, и даже в зачесе волос появилась какая-то «изюминка». Словом, жених да и только.
— Куда ты запропастился, Метелин?
— Проветривал башку. Обрадовался твоей женитьбе, полсвета исколесил, ног не чую, — ответил холодно я и, оглядывая Зубова, добавил: — А ты блестишь! Лик у тебя, как у святого, хоть молись. Видать, есть польза от женитьбы?
Зубов рассмеялся:
— Что, завидуешь? Правильно делаешь. В общем я рад, а вы, как хотите. И пришел к тебе затем, чтобы пригласить на свой маленький пир. Наташа тоже просит. Очень. Думаю, что ей не откажешь?
— Вот насчет пира ошибку делаешь, Зубов, — заметил я. — Если мне выпадет участь жениться, ни за что не стану закатывать пиров. В крайнем случае — отслужу панихиду: себя хороним ведь, свою свободу! Да и от шума пьяного и льстивых тостов тоска удавит. Так что извини и военфельдшеру передай — не смею позволить себе роскоши киснуть у тебя на свадьбе.
— Это, пожалуй, верно, что панихида. Но иначе нельзя. А все-таки приходи. Ведь соберутся только свои. Ты, майор Санин, Питерцев, два-три моих приятеля, я и Наташа. Вот и все.
— Лучше не упрашивай. Все равно не пойду.
— Да что на тебя накатило, право? Жену обидишь. У нее какой-то секретный разговор к тебе. Хочет побеседовать с глазу на глаз. Обязательно приходи. Однополчане не поступают по-свински.
— Ладно, приду. Война все спишет.
Зубов крепко тряхнул мою руку.
— Я же знал, что ты согласишься. Добра у тебя все-таки больше. Не злись только, Саша. Так уж, понимаешь, получилось: женщина выбирает того, кто ей ближе, так сказать, по душе.
— Ты меня просто осчастливил своими открытиями. Но, ей-богу, они ни тебе, ни мне не делают чести. Пусть уж лучше женщины выбирают себе туалеты.
Званое торжество, вопреки заверениям хозяина, оказалось людным. Однако я здесь не нашел ни Санина, ни Питерцева, чему, кстати сказать, не удивился. Санин брака Наташи не одобрял, Питерцев же человек настроения, а настроение я ему, признаться, основательно испортил.
На свадьбу я пришел с опозданием и, войдя в землянку, долго оставался незамеченным. Гости шумели за столом, занятые друг другом. Кто-то произносил тост. Наташа была в белом, легком, как воздух, платье. Оно обрисовывало ее высокую, стройную фигуру. Русые волосы густыми волнами спадали на упругую покатость плеч, оттеняя белизну шеи, мягкий овал подбородка, гладь чистого лба. В ее прелестных глазах отражались детское любопытство и восторг. Казалось, будто она только что пришла сюда из цветущего белого сада, внеся с собою свежесть и благоухание весны. Справа и слева от Наташи сидели бритоголовый генерал и Зубов. В первое мгновение мне почудилось, что когда-то раньше я уже видел ее, вот именно такую — солнечную, в белом платье. Мне знакомы были ее обнаженные тонкие руки, бархатная нежность шеи, блеск лучистых голубых глаз. Память восстанавливала все это чрезвычайно четко. Но когда, где я мог прежде встречать эту девушку в белом? Откуда так близко знаю ее льющиеся на плечи густые волосы, всю ее?
— Нашего полку прибыло! — зашумели за столом, заметив наконец меня. — Штрафной опаздывающим!
Наташа повернулась в мою сторону и слегка вскрикнула. Что-то шепнув генералу, она выбежала ко мне навстречу. Запросто взяв обе мои руки, она стиснула их изо всех сил и, шаловливо приблизив свое лицо к моему, убежденно сказала:
— Я верила, что вы придете. Но почему нет ваших друзей, где Санин, Питерцев?
Она помогла мне раздеться, сама повесила шинель.
— Какие все вы противные, — она капризно изогнула губы. — Один опаздывает, другие и вовсе не явились. Майор Санин тоже хорош: я его, как отца, ждала, а он в такой день… А Питерцев?
— Вы ждали их, а не меня? — помимо воли в моем голосе звучало разочарование.
— Только вас. Одного. Лишь вас! Больше всех. Да, вас! Вы довольны?
— Впрочем, что ж это я! Поздравляю с браком. Вы, надеюсь, счастливы. Цель жизни достигнута. Мне рассказывали, что у счастливых родителей всегда бывают красивые, эдакие пухленькие, как херувимчики, дети. Иногда много — от тридцати до двух годов. Желаю вам обзавестись по меньшей мере дюжиной наследников.
— Вы слишком щедры. Спасибо, — Наташа вопросительно задержала на мне взгляд.
— И, наконец, — продолжал я, — пусть Зубов станет вам верным супругом… Глядите в оба, ускользнет.
Лицо Наташи омрачилось обидой. Она холодно пригласила меня к столу и отошла к генералу.
Меня подхватил подскочивший Зубов. Он успел изрядно захмелеть и болтал без умолку.
— Вот это я понимаю, настоящий друг! — он сунул свою холодную руку мне под локоть. — Ты, Саша, ничего не понимаешь. Я зуб ведь на тебя имел, и изрядный, крепкий зуб. Да чего там, ненавидел тебя! — тонкие, как змеиное жало, губы Зубова сжались. — Но дело прошлое. А теперь… теперь я тебя пуще жизни ценю. Уважаю во как!
— К сожалению, не могу ответить тем же, — перебил я Зубова. — Особенно сейчас, когда ты заживо похоронил свободу и нацепил себе на шею ярлык — муж. Да и водкой от тебя разит, как из бочки. Фу!
Зубов захохотал, с силой хлопнул меня по плечу.
— Женился б ты на Наталье, давно бы под столом на четвереньках ползал. А у меня — ни в одном глазу. Думаешь, не замечаю, как вон генерал рассыпается мелким бесом? Для него в чужую жену черт ложку меда кладет. — Зубов попытался было рассмеяться, но какое-то воспоминание, внезапно вспыхнувшее в нем, исказило его лицо. Он мгновенно померк, стал жалким.
«Что с ним?» — подумал я и спросил:
— Никак у тебя кто-то страшный стоит за спиной?
Зубов вздрогнул, как ужаленный. Оглянулся.
— Смотри, — предупредил я шутя, — на радостях очертя голову влипнешь в пренеприятную историю. Ты чего это вдруг скис?
— А ты чего зубоскалишь? Завидуете все мне. И ты тоже виды имел… Да ничего у вас не выгорело! — он уже шутя толкнул меня в бок. — Вот такое-то дело… — и подвел меня к Наташе, склонился к ее уху, что-то шепнул. Наташа пригласила меня сесть, указав место возле себя. Зубов сел рядом с генералом. От внезапного озлобления в Зубове и следа не осталось, но я продолжал думать о странной перемене в его настроении. Что бы это значило?
За опоздание мне налили штрафной, хором настаивая, чтобы я выпил. И тут же последовали один за другим тосты, сопровождаемые традиционными напутствиями молодоженам. Зубов цвел. Ели и пили много, я же больше наблюдал. Зубов начинал бесить меня: он из кожи лез, стараясь угодить генералу, подкладывал ему на тарелку закуски, наливал вино, вовсе позабыв об остальных гостях. Изредка он обращал свои какие-то водянистые глаза к Наташе, демонстративно подчеркивая, что ни на минуту не выпускает ее из своего поля зрения, следит, чтобы ей было хорошо. Но молодую жену, как я заметил, эти любезности коробили, она оставалась к ним безучастной, свое внимание расточала гостям, много смеялась. Меня Наташа явно не замечала, хотя я и сидел чуть ли не на месте жениха.
— Лейтенант, — неожиданно повернулась она ко мне, — вы умеете улыбаться?
— Иногда. И то по заказу, товарищ военфельдшер.
— Пожалуйста, улыбнитесь. — Наташа сказала это громко, привлекая всеобщее внимание.
— Не могу, — пожал я плечами.
— Почему?
— Рад бы исполнить вашу просьбу, — ответил я, — но не могу. Мой друг старший лейтенант Зубов, приглашая на свадьбу, вполне согласился со мной, что жениться — значит похоронить себя, свою свободу. Ну, а какой смех при покойниках? Нет, это просто неприлично.
Наташа смутилась. Зубов резко повернулся, отбросил вилку. Она звякнула о тарелку.
— Что за чепуху ты говоришь, Метелин? Наталья Семеновна в меня жизнь вдохнула. Покойник… Ерунда!
— Сожалею, что вы, Наташа, не вдова, — кто-то громко пошутил из угла. Стол захохотал.
Генерал, посидев ещё минут десять, ушел. Зубов, провожая генерала, вытянулся перед ним, как гренадер, и все бубнил насчет того, что, мол, товарищ генерал ему, Зубову, все равно как отец родной, он век будет благодарен ему за оказанную честь. Едва тот успел закрыть за собой дверь, как Зубов во все горло крикнул:
— Пейте, братцы! Сброшены тяжкие узы. Свобода!
— Как тебе не стыдно? — упрекнула Наташа.
Но в Зубове заговорил хозяин: Подняв стакан, он продолжал разглагольствовать:
— Прошу налить. Прошу всех налить, друзья! Сегодня слишком ответственный день, чтобы молчать. У жены моей — тоже. Моего «я» как такового с нынешнего дня не существует…
Гости, отдавая должное виновнику торжества, на мгновение притихли.
Мочки маленьких ушей Наташи стали пунцовыми. Исподлобья она следила за мужем. А тот, покачиваясь, говорил:
— И отлично, что его нет. «Я» во мне, в тебе, в нем — это пережиток! Есть мы, я и она — совместно. И… тихо! — Зубов приложил указательный палец к губам. — Тихо!
По секрету. Мой друг, Наталья Семеновна, призналась: сила женщины — в мужчине.
— Долой равноправие! — неожиданно крикнул уже порядком опьяневший сосед.
— Ура!
— Выпьем за Зубова.
Красные пятна у Наташи разлились нездоровым румянцем во всю щеку.
— Ты пьян! — она окатила Зубова таким взглядом, что тот проглотил язык и плюхнулся на стул. «Вот как в милом, обворожительном, незлом человеке, — думал я, — просыпается другой — неприятный, злой; что же станется в таком случае с Наташей через год? И какие причины заставили ее связать свою судьбу с Зубовым?..» Но это как раз и осталось для меня навсегда загадкой.
— Товарищи, — стараясь перекричать других, поднял я тост.
— Давай, Метелин!
— За невесту!
— Горько! Горько!
Я оглядел захмелевших людей. Встретился взглядом с Наташей. Левый уголок губ у нее нервно вздрагивал.
Свой тост я поднял за любовь, которой дана сила править миром, воздвигать бессмертие, открывать неразгаданные тайны, поднимать человека к Солнцу.
— Умри, но оставайся все-таки человеком! — сказал я. — Любовь не терпит половинчатости, сделки и тем более торга со своей совестью. Я пью за счастье любить, пью за человека, вызвавшего во мне любовь. Ибо если он смог сделать это, то он выше и лучше всех. Если Зубов смог дать счастье любить, то я пью за вашего мужа! Это искренне, Наташа.
Зубов запрыгал на стуле.
— Защищай, Метелин. Защищай, мой друг, Саша! Черт знает что такое: от одного взгляда можно умереть, когда на тебя так смотрят. — Он хлопнул ладонью по столу так, что зазвенела посуда. — Эх, войне бы конец! Семеновна, укатили бы мы с тобой… отсюда подальше. А то пришел генерал, и скис я, как мокрая курица. Был во мне человек, и не стало человека. Вот и философии моей конец: свобода, демократия. Э-э… Слова одни.
— Глупости, — сказал я, — человек во мне всегда остается, если я не трус, не подхалим.
У Наташи мелькнули в глазах никому не приметные слезы. Я поставил свой стакан, не пригубив его.
— Предлагаю выпить за человека, — сказал мой сосед.
— Браво!
— За человека!
Заговорили все хором. Неожиданно поднялся спор о личности, подчиненном и военачальнике. Минута — и уже ничего нельзя было разобрать. Сосед что-то доказывал соседу; закусывали, пили, чествуя друг друга. В противоположном конце стола зазвучала песня. Ее тут же подхватили. И поплыла она, неровная и хмельная, широко, раздольно. Лицо у Наташи грустное, в глазах — тоска. Она пела вместе с остальными и, пожалуй, делала это скорее из приличия. Песня постепенно завладела всеми; мужчины горланили, помня только самих себя. Я поднялся, чтобы незаметно уйти, стал одеваться. Наташа вдруг подошла ко мне.
— Уходите?
— Пора.
— Что ж, благодарю, что почтили своим присутствием. Как можно ошибиться в человеке! Но пусть будет вам бог судья, если он есть. Прощайте.
— Мне Зубов передал, что вы о чем-то хотели меня спросить.
— Ах, так вы, значит, пришли только из любопытства? Собственно, ничего особенного. Просто хотела спросить, почему вами недоволен Санин. Провинились? У вас есть грехи?
— Грешат женатые, а я еще покуда холостяк, — ответил я.
— От вас я ничего иного и не жду. Вам доставляет удовольствие делать мне неприятное. Почему, Саша? Может, я продолжаю в это верить потому, что вам дано больше видеть, чем другим? Но теперь я ведь, как говорится, сожгла за собой все мосты, отступать поздно. Да и некуда. Ну и он, разумеется, человек… И раз уж я решилась, то сделаю все, чтобы поднять своего друга выше… У женщин есть одно качество, которое чуждо вам, мужчинам, — самоотречение.
Искренность и теплота, с которой были произнесены эти слова, тронули меня, и я, в свою очередь, готов был ответить ей тем же, признаться, что все нелепо, что она, Наташа, мне не безразлична, что в ней я вижу многое себе близкое, родственное, что я готов раскаяться, что глуп в своих сомнениях: они вынудили меня поступать по-скоморошьи, что в те минуты я был несчастлив.
— Вы ничего мне не скажете на прощание? — спросила она.
— Вы повзрослели, Наташа, — ответил я.
— Мы все, абсолютно все, очень взрослые, — отозвалась она. — Я знаю, мне уже тысяча лет.
Я верил ей, чувствовал, что говорит она правду. Тысяча лет… Мы слишком много несем на своих плечах, чтобы быть моложе.
В землянку вдруг ввалился мой связной, Коля Мезенцев, возбужденный и запыхавшийся. Он чуть не сшиб меня и Наташу с ног, столкнувшись с нами в двери.
— Осторожнее! — остановил я его.
Мезенцев, вскинув руку к ушанке, отчеканил: послан майором Саниным доложить, что приехала невеста Галя.
— Какая еще невеста? — переспросил я и засмеялся.
— Товарищ майор приказал…
И только тут, как молнией, обожгло. В памяти встало детство, юность… Я извинился перед Наташей, чтобы уйти. Она растерянно глядела на меня, спрашивая глазами, что все это значит. Известие, принесенное Мезенцевым, ее ошеломило. Боль, тоска отразились на ее лице. Глаза наполнили непролившиеся слезы, она оглянулась на гостей. Оттуда несся шум, пахло кислыми огурцами. Кто-то, кажется Зубов, низко тянул: «Шумела буря…» Я видел — Наташе очень не хотелось здесь оставаться одной.
Галя! Давно ли это было и было ли это когда-нибудь? Прошла вечность! Девочку с озорными глазами я встречал последний раз три года тому назад. Неужели это блаженная явь, сладкая, как мед, и терпкая, как старое сухое вино. Но откуда, каким образом могла она оказаться здесь?
Сломя голову влетаю к себе в землянку. В объятия падает милое, хрупкое существо. Горячими губами целует щеки, губы, глаза. Она не утирает, не стыдится слез счастья. Мой друг детства. Бесценный мой друг! Человек, знавший меня, как никто другой, умевший тонко чувствовать мое настроение, рассеять едкий туман тоски, вместе со мной посмеяться надо мной же. Юная, сильная, по-мальчишески легкая и красивая, она часто увлекала меня в водоворот самых непредвиденных затей, умела не убить, а возвеличить во мне человека, способного и умного.
— Маленькая!.. Ты ли это? Нет, я ничему не верю. Как ты мне нужна… Очень. Всегда. Друг! — несвязно шептал я, чувствуя во рту соленый привкус слез.
Она что-то отвечала. Я ничего не слышал, поглощенный ею. Это была уже не та, знакомая мне угловатая девочка, с которой я дружил в школе, учился вместе в институте. Мальчишеская легкость в движениях не скрывала, а только подчеркивала красивые плечи, высокую грудь. В глазах что-то бесовски манящее. Передо мной близкий человек и в то же время незнакомый. Неужто я утрачу в ней друга, искреннего и необходимого мне, и обрету женщину? Когда-то я любил и ценил в ней именно друга. А теперь… Теперь не могу оторвать взгляда от черных искрящихся глаз, ярких, как спелая, щедро налитая солнцем вишня, губ.
— Я нравлюсь тебе? — откровенно радуясь моему восхищению, спросила она. И только тут, точно с глаз моих упала завеса, я увидел, вернее каким-то шестым чувством осознал, что Галя не в девичьем легком платье, а в солдатской гимнастерке, в юбке цвета хаки и кирзовых сапогах. На гимнастерке до блеска начищены из желтой меди пуговицы.
— Что это все значит?
Галя с шаловливой серьезностью отступила шага на два назад, щелкнула каблуками:
— Разрешите доложить, товарищ командир? — вытянув руки по швам и сияя, горделиво отчеканила: — Боец-связист гвардейского артиллерийского полка Галина Лаврова.
Меня как ледяной водой обдало, я закурил, криво усмехнулся.
Галя будто прочла мои мысли, сдвинула крутые дуги бровей, почти вплотную подступила ко мне:
— Не высокого же ты мнения о женщине.
Я ощутил почти физическую боль, видя, как меркнет свет радости на милом лице, как бледнеют еще мгновение назад пунцовые губы.
— Кстати, когда я ехала сюда, попутчиком в вагоне мне попался какой-то лейтенант. Вначале и не глядел на меня, подчеркивая, как он недоступен для меня, солдата. Потом вдруг стал читать мораль, что-то путано разглагольствовать о высоких чувствах и кончил самым банальным изъяснением в нежных чувствах. Пришлось сказать, что его особа не внушает мне ни капельки нежности. И тут он забыл не только о высоких материях, а просто о том, что он мужчина. Наговорил гадостей и закончил: «Мы вам после войны все вспомним: шинель носила — все убито!» Неужели и ты тем же лыком шит? Значит, и ты думаешь, что девушка, попав сюда, к вам, мужчинам, пойдет по рукам? Да как вы смеете?! — Голос ее сорвался на звенящей гневом ноте. — Банальные пошляки! Из-за этого, гляди-ка, даже закурил? Безвольные, скользкие, привыкшие все мерить на свой аршин солдафоны! Бросить маму, институт, уйти от тепла и уюта и стать солдатом — что же, по-твоему, это прихоть сумасбродной девчонки? Не ты ли убеждал меня, что стоять в стороне, быть безучастным, когда твой народ в беде, — преступление! Земле, на которой родился, принадлежишь ты, все твои помыслы, весь ты до последней капли крови. Можно покинуть самого дорогого тебе человека, изменить своей любви, людям, которых ты возвеличивал и боготворил, и это можно простить тебе, но никогда — равнодушия к Родине, ее слезам и радости. Не твои ли это слова? Разве не ты упоенно декламировал передо мной все это? И вот сейчас… Как смеешь ты сейчас?.. А я-то, дурочка, верила, думала, обрадуешься, поймешь, оценишь. Летела к тебе, как на праздник. Встреча с тобой — для меня счастье. А ты… ты… — Она не договорила, круто повернулась.
— Галя!.. Постой!..
Она остановилась — бледная, потрясенная. Я упал на колени и стал целовать ее маленькие руки. В те мгновения на земле не было для меня никого дороже, ближе, роднее, чем эта маленькая женщина, казавшаяся мне необыкновенной. Только большой духовной силы человек может позабыть о себе и всегда думать, помнить о других; мы, мужчины, в своем чувстве эгоисты, только на словах способны на жертвы… И я был счастлив, что у меня есть друг, который является моим вторым «я» в самом лучшем его выражении.
— Ты превратно поняла меня…
— Извини, я направлена в полк, там меня уже ждут. К тебе отпросилась ненадолго.
В дверях землянки в этот момент показался Санин. Как лесной чародей, с мохнатыми, заиндевевшими бровями и прихваченным морозом чубом, он снимал, улыбаясь, варежки. И тут же с порога кольнул меня:
— Гляди-ка на него. Ни дать ни взять — Ромео!.. Вот уж никогда бы не подумал, что вы, Метелин, способны на подобные нежности…
Я вскочил как ужаленный на ноги, заливаясь огнем стыда. Санин равнодушно вынул из карманов полушубка банку тушенки, круг колбасы, кусок сала, бутылку шампанского и бутылку коньяка. Я уже успел несколько оправиться и ахнул от изумления.
— Шампанское! Коньяк! Откуда? — Наверное, скажи мне в ту минуту, что война кончилась, я бы удивился меньше. Коньяк и шампанское в голодный 1942 год!
Санин разделся.
— Кто ищет, тот всегда найдет, — ответил он. — А вот вы, лейтенант, вижу, мастер лишь на коленях стоять да по свадьбам шляться. — После нашей размолвки из-за Наташи он звал меня на «вы». — Нет чтобы гостей встретить да как путевому человеку дома сидеть. И за что только девушки вас любят? На их месте я обходил бы вас за три версты. — Санин повернулся к Гале и, видя, что его мнение не разделяют даже шутя, заторопил нас обоих. — Ну-ка, помогите собрать на стол.
Просидели мы до утра. Незаметно распили вино. Галя искрилась, как само шампанское. Ее что-то веселило. Санина мы упросили сыграть на гитаре. Он взял несколько аккордов, но не успели по-настоящему зазвенеть струны, как на лицо его набежала тень, глаза погрустнели.
— Нет, не могу, — он резко поднялся и повесил гитару на стенку, — потом как-нибудь!.. После Пети не могу, — словно извиняясь, пояснил: — Встает как живой. Мальчик тоже учился играть… Расскажите-ка лучше, как там в тылу? — он сел и подвинулся вместе со стулом поближе к Гале.
— Ругают Черчилля за волынку с открытием второго фронта. А вообще — тяжело. Хлеб дорог. И соль тоже.
Санин набил табаком трубку. Курил часто, большими порциями глотая дым. Война у него отняла самое дорогое — семью.
— А как школа, не слышали?
— Как не слыхать. Подруга у меня учительница. Сидят они в нетопленых классах. Мальчишки все поголовно бредят фронтом. Гитлера рвутся бить. То и дело убегают из дому… на фронт.
— Ишь, негодники. Ах, пострелы! — восхищенно воскликнул Санин. Он ожил, часто задышал. На глазах блеснули слезы, и, чтобы скрыть волнение, стал усиленно прочищать мундштук трубки. — Так и знал! Да и то сказать — мальчишки есть мальчишки… Нет, это будет отличное поколение!
Утром Санин освободил меня от служебных дел, а сам уехал в штаб армии — дня на два, как предупредил он. Хозяйничали мы с Галей вдвоем. Я было вновь стал упрекать ее за опрометчивость — бросить институт и податься на фронт, но… обуха плетью не перешибешь: я был не прав и опять просил прощения.
Учились когда-то мы в одном городе. Чуть ли не дверь в дверь были наши квартиры.
Мы с головой погрузились в воспоминания. Галя помнила даже те мелочи, о существовании которых я и не подозревал. Мальчишкой, оказывается, я дразнил ее «синицей», дергал за косички, доводил до слез, а когда она играла на пианино, часто плакал, потрясенный музыкой, и очень сердился, если мои слезы видели другие.
Галя! Слушая ее и удивляясь ей, я старался разобраться в самом себе: не любовь ли стучит мне в виски? Не она ли тот человек, который мне нужен на всю жизнь? Может, последовать примеру Зубова и закатить вторую свадьбу? Пусть судачит солдат-обыватель: «Метелину и Зубову с неба манны подвалило». А начальство повыше осведомляется: «Вы там воюете или женитесь?»
Шутя я сказал об этом Гале. Она не отозвалась на шутку. Молча подошла ко мне. Запустив пальцы в мои волосы, долго играла ими, о чем-то думая.
— Почему молчишь?
У тебя красивые волосы, Александр, — сказала она. — Вон как льются, и мягкие, будто лен. Не по характеру. Ты твердый и жесткий. — Какая-то боль прозвучала в ее голосе. — Нет, Саша, нет! — Сашей она меня никогда прежде не звала. — Во мне ты можешь найти друга, возлюбленную — кого угодно, только не жену. Не спорь, я уже думала. Во мне ты не откроешь того, кого ищешь в жене, и будешь несчастлив, а я этого не хочу.
— Эх, ты, мой никудышный романтик, — дурачась, сказал я. — Повзрослеешь, станешь расчетливее: женихи нынче на дороге не валяются.
Галя обвила руками мою шею, положила подбородок мне на плечо.
— Если бы хоть на йоту я меньше знала тебя и не была так велика моя нежность к тебе, я бы тотчас полетела с тобой под венец.
Я осторожно снял ее руки и стал ходить по землянке. «Меньше знала». Может, как прочитанная книга, отволновав нас, уходит на полки, так и я отодвинут теперь на задворки в ее сознании. Не здесь ли разгадка ее отказа? Нет, слишком она искренний человек, чтобы кривить душой… Неожиданно я вспомнил Наташу в белом, счастливую и грустную. «Только вас. Одного лишь вас…» — прозвучали в памяти ее слова. И опять, как в те минуты, когда я узнал, что она расписалась с Зубовым, горло перехватила горькая спазма.
— Смотрю на тебя и диву даюсь, — говорила Галя. — И тот и не тот. Ты о чем-то жалеешь? Может, ты влюблен? Хотя нет, нет… Меж бровей у тебя легла морщинка. Три года?! Ничто. Легкое дуновение ветерка в наши молодые годы. А вот в сорок лет три года, наверное, будут много значить… Неужели и мы состаримся?..
Галя, скрестив руки на груди, стояла на одной ноге, а коленкой другой опиралась о табурет. Глядя на меня по-домашнему просто, точно жена на мужа, который ходил взад и вперед по комнате, она вдруг сказала:
— Что ты все маячишь? Давай посидим рядком, поговорим ладком.
Я заглянул в ее черные задумчивые глаза.
— Минуту, час тому назад я боялся, что утрачу в тебе друга и обрету женщину необыкновенную. Теперь не страшно. Если мне доведется когда-нибудь жениться, в жены изберу только тебя.
— Очень мило. Ты уверен, что для этого достаточно одного твоего желания? А если я не захочу?
— Тогда у меня сохранится друг — искренний, незаменимый. Видишь, все равно я ничего не теряю, — рассмеялся я.
Галя схватила меня за уши и стала безжалостно теребить их. Я не сопротивлялся. Тогда она принялась трепать мои волосы. Затем, чуть не плача, обвила шею руками, прижала свое лицо к моему и стала целовать, всем своим молодым гибким телом прильнув ко мне.
Легкую, почти невесомую я взял ее на руки. Щемящее острое ответное чувство билось во мне огнем, готовым сжечь нас обоих.
— Не надо… Саша… не надо, — шептали ее губы. — Милый…
— Галя…
— Молчи!.. — Она зажала мне ладонью рот. — Люблю…
Вечером она сказала мне, что я стал ей еще дороже, ближе, бесценнее — самым родным человеком на всей земле. Я верил, готов был ответить ей тем же самым, и в то же время какое-то неосознанное, безотчетное чувство теснило мне грудь.
— Мне кажется, что я утратил тебя, — сказал я.
— А я обрела целый мир — тебя. И навсегда!
— Ты рассуждала только что по-другому.
— Я повзрослела, стала расчетливее; женихи нынче на дороге не валяются, как сказал один мой друг, — ее глаза лукаво блестели.
— Тогда зачем тянуть, загадывать и разгадывать. Собирайся, жена! Едем в первый попавшийся сельский совет и зарегистрируемся. Это ведь и в самом деле чудесно! В эту стужу, непогоду — в сельский совет. Ей-богу, едем немедленно. Сейчас же!
— Нет, Саша, никуда мы не поедем.
— Галя!
— Ни за что… — она взяла меня за руку и, не мигая, глядя в глаза, повторила. — Ни за что! Для этого я слишком тебя люблю.
Нас навестила Наташа. Объяснила, что зашла по пути и торопится. Вся она горела нескрываемым любопытством.
— Рада с вами познакомиться, — вышла ей навстречу Галя и подала свою маленькую руку. Так всегда делала мать, когда ее навещал неприятный человек. — Так это вы и есть Наташа? — воскликнула она обрадовано, меняясь в лице. — Майор Санин от вас без ума, он любит вас как родную дочь. Только о вас и говорил, пока Александр был у вас на свадьбе.
— Когда о человеке много говорят, он становится любопытен, — заметил я словами Наташи.
— Приготовь нам лучше чай, — распорядилась Галя.
Она помогла Наташе раздеться и уселась напротив.
И нахлынуло половодье слов: суды-пересуды. Увы. Обе — в военной форме, обе — солдаты, и притом солдаты действующей армии, а суть не изменилась: женщина всегда остается женщиной. Не успев разглядеть друг друга, они уже — воплощение откровенности: глядишь и думаешь — век люди знакомы, сама истина глаголет их устами, а прислушайся, всмотрись — все наоборот, все — игра.
Галя жаловалась на меня. Ей столько пришлось натерпеться, добираясь сюда за тридевять земель, а я, человек без души и сердца, встретил ее с холодком, вздумал читать ей мораль. Она уже раскаивается, что приехала.
— Верю вам, — подтвердила Наташа. — Желать видеть любимого человека и отказать себе в этом? Ни за что! Пусть даже грозит смерть, все равно ничто не удержит.
— Разве они это понимают…
Я возился у печки, ставил чайник и, незаметно наблюдая, сравнивал их. Они очень разные и внешне, и по натуре: одна пылкая, горячая, другая нежная и сдержанная, у обеих было много силы и обаяния. Вместе они, как два цветка: один — тепличный, другой — выросший в поле, а оба вместе они, казалось, были взлелеяны самим солнцем. И который из них лучше, ярче — решить было нельзя.
— И много вы нашли перемен в Александре? — спросила вдруг Наташа.
Галя мгновение поколебалась, прежде чем ответить, затем, кинув взгляд в мою сторону, сказала:
— А, пусть слышит… В человеке может все измениться, и это не страшно, кроме одного, главного — своей веры. У каждого из нас есть свой бог, кому мы поклоняемся. Иногда мы знаем об этом, иногда нет. У Александра этот бог — впитанная с молоком матери любовь к земле, на которой родился. Может, за это цельное в нем начало и люблю его безумно. Это надо понять. А вообще как-то не спрашивала себя, за что я его люблю. Он не такой, как часто кажется. Александр слишком хороший, и самому, видно, надо быть таким, как он, чтобы понять его до конца. А может, он сейчас другой стал — война многое меняет.
Я подошел к женщинам, прервал их:
— Слава богу, я не юбиляр, чтобы выслушивать, как перемывают тебе косточки.
— Александр, не мешайте нам, — попросила Наташа.
— Лучше давайте пить чай, — возразил я. — Галя, у нас, кажется, кое-что там осталось?
— У меня есть, — подхватила Галя и бросилась к своему вещевому мешку. — Из дому ведь еду. Вот, — и она извлекла бутылку вина.
— Неплохо вы начинаете свою карьеру, товарищ связист, — пошутил я.
Через минуту стол был накрыт. Наташа посоветовала пригласить разведчиков из моего взвода. Я позвонил Захарову, и вскоре в землянку набилось столько людей, что не повернуться. Захаров на этот раз на редкость оказался щедрым, разжился трехлитровым чайником «энзе». Я хотел позвонить Зубову, но Наташа остановила меня. От шума, острот, смеха в землянке стало еще теснее. Мы распили полчайника водки, и тут к нам ввалился сам начальник штаба.
— Питерцев!
— Ура товарищу капитану! — зашумели разведчики.
— Товарищу капитану штрафной!
— Я на одну секунду. Проститься. Машина ждет. — Питерцев строго оглядел разведчиков (ему не по душе было мое отступление от правил субординации), подошел к столу. — Ну что ж, раз так, налейте, как говорится, на дорогу посошок.
Старшина Захаров услужливо поднес ему стакан водки.
Я представил Питерцева Гале. Он одобрительно и незаметно подмигнул мне, сказал:
— Завидую. От души и без дураков.
Отъезд Питерцева был неожиданностью для всех, а для меня особенно: лишь позавчера я разговаривал с ним, ни о каком отъезде не было и речи, а сегодня он уже на колесах; вот уж действительно — война! Но, судя по настроению Питерцева, нельзя было предположить, что его огорчает дорога, наоборот, он весь светился радостью.
— Куда же тебя перебрасывают? — спросил я.
— Не догадываешься?
— Понятия не имею.
Питерцев повернулся ко всем:
— Не перебрасывают. В Москву, братцы, еду. Моя кантата на конкурсе получила первую премию. Вот диплом, — он расстегнул планшетку. — Отзывают учиться в консерватории. Итак, за сердце Родины — любимую Москву! — Он залпом осушил стакан. Но радость Питерцева разведчики не разделяли. Учиться музыке едет! Передовая устлана трупами, война сеет смерть, в тылу человека надгробным камнем придавила нужда, отняла у детей кусок хлеба. До музыки ли сейчас? Иное дело в военную академию — это правильно и понятно. А что такое, скажите на милость, музыка?
Важности происшедшего никто не осознавал.
Неловкое молчание нарушил Захаров.
— Счастливого пути, товарищ капитан, — сказал он. — Порадовали вы нас очень. Прямо вроде как маслом по сердцу. Вот в обороне стоим. Не трогаем с места немца. Двинуть его пока не дает нам, выходит, наша слабина? Выходит так. И кто кого — затылок скребем, прежде чем ответить. А раз мы в консерваторию командира боевого шлем, тут уж всякому ясно, что к чему. Шлем, значит, для того, чтоб он композитором или там скрипачом на весь мир знаменитым стал. Это значит, может, завтра-послезавтра он будет украшать жизнь: будет вальсы писать нам для балов или песни для девчат, для сердца; значит, все идет правильно, дела у нас не так уж плохи, не оборвалась нитка жизни, есть еще порох, есть у нас сила. Получит у нас немчура и в хвост и в гриву, в пух и в прах этого, мать его в душу, извините, ефрейтора Гитлера. Побьем!
Все внезапно пришло в движение. Питерцева бросились качать. «Что вы! Да оставьте, уроните ведь, идолы!» — отбивался он. Наташа и Галя вступились за него. Разбушевавшийся люд едва утихомирился. Тяжело отдуваясь, Питерцев озорно, почти по-мальчишески крикнул — куда только и девалась его штабистская чопорность:
— Ну-ка, еще стакан!
Несколько человек, мешая друг другу, бросились наливать вино.
— За вас, друзья-однополчане! За юность. Пусть не знает старости мир, что породил нас. Пусть всегда у нас в сердцах звучит песня. За вас, девушки!.. Чтобы рядом с вами всегда шло счастье.
Питерцев налетел, как вихрь, всполошил, пронесся и исчез. Прощаясь уже на пороге, он сказал Гале, что рад был познакомиться с нею и счастлив за своего друга Метелина, что у него есть она — Галя! Потом вдруг повернулся к Наташе, долгим взглядом посмотрел на нее, наклонился и поцеловал ей руку.
— Простите. Я, кажется, был неправ.
Лицо Наташи оставалось непроницаемым. Питерцев торопливо достал блокнот, размашисто написал свой московский адрес, вырвал листок и подал Наташе:
— Когда-нибудь, может статься, ваше сердце захочет музыки… Я вложу в музыку свое сердце, чтобы угодить вам.
Уголки губ Наташи дрогнули, но нельзя было прочесть на ее лице, какие чувства волновали ее.
— Я слишком прозаичная натура, — ответила она, — чтобы принимать всерьез композиторов.
Питерцев не ответил на иронию, запахнул полушубок, натянул ушанку и вышел.
— Пиши! — крикнул я ему вдогонку.
После его ухода остался налет грусти. Но разведчики — отчаянный и славный народ! Сама жизнь не позволяет им грустить: она у них слишком коротка, чтобы можно было тратить ее на грусть. Вечер опять ожил, задышал. Захаров, всегда полный неистощимой энергии, искрящейся грубоватым солдатским юмором, болтал без умолку под дружный одобрительный хохот однополчан. И вдруг понес какую-то околесицу о женитьбе, метнул лукавый взгляд на Галю.
— Эх, вышла курица на улицу, есть у меня теща, всем тещам теща! С такой сатанинской хитростью оплела меня, что и сейчас не опомнюсь. Только хотел было увильнуть, ан гляди — хомут уже пригнан к шее. Рванулся, а теща за шиворот, слова-то ласковые такие шепчет: «Сукин сын, лапотник, мухомор зеленый! Или дочка моя не писаная красавица? Что глаза на других пялишь, курицын сын? Не можешь, окаянный, золота от меди отличить? Ну так я протру тебе зенки-то». «Не в ней, мол, мое призвание», — оправдываюсь. Да только теща стерла во мне человека! Стерла и сказала: «Твое призвание — хомут!» Сказала, как припечатала. Вот уж век я это призвание ношу. Авось, на том свете избавлюсь.
— Как вам не стыдно? — набросилась на него Галя, принимая всерьез его болтовню, — жену, поди, любите, а что говорите?
Захаров сощурил глаза:
— Так я ж это к тому, чтоб, значит, нашего товарища лейтенанта не распропагандировать. Гляди, и свадьбу справим. Только, чур, меня в сваты: опыт у меня богатеющий, теща, спасибо, научила.
— Я — за! — громко поддержал старшину Коля Выдрин, прибывший недавно в наше подразделение, молоденький безусый парнишка, но рисковый и дерзкий разведчик. — Естественно, без жены, оно вроде как круглый сирота — и сверху и снизу.
Подобно взрыву бомбы, грохнул смех. Удержать нельзя было никого.
— Молоко утри на губах, жених!
— Батюшки! И оно туда же метит…
— Естественно… Сирота!
— Тьфу! — топнул ногою Захаров.
А Коля все не унимался:
— Мы, товарищ старшина, с вами как бы, выходит, родня: меня тоже теща оженила.
— Как, и ты женат? А не врешь?
— Естественно, не вру!
— Не иначе, как через край у тебя теща сумасшедшая.
— Не говори, — отозвались разведчики, — дите из пеленок в загс поволокла.
— Вот это теща, куда теще товарища старшины до ней. До точки дошла.
Дружок Захарова, сержант Русанов, острый на язык и балагур, сожалеюще сказал:
— То-то наше дите в разведке отчаянное: жить ему, видать, при такой-то теще невмоготу, смерти ищет. — И тут же спросил: — Коля, а в приметы, оженившись, и ты стал верить?
Разведчики дружно захохотали. Захаров весь побагровел. Ноздри его раздувались. Случилась с ним конфузия — однажды в минуту душевной оттепели разоткровенничался он с разведчиками, признался им, как истым друзьям, что у сибиряков страсть какая прескверная примета — бабу перед какой-нибудь серьезной затеей встретить. Лучше возвращайся сразу восвояси. Иначе обязательно выйдет дело дрянь. На горбу своем он не раз испытывал. Даже женитьба — и та не обошлась без злоключений. Собрался он утром с невестой в загс. Только переступил порог, ан глядь — навстречу в три погибели согнутая от старости бабка. Закипело внутри у Захарова от злости, аж дух перехватило, но поворачивать назад оглобли перед будущей женой неудобно и стыдно: сознательная была! А все равно по примете вышло: не расписался в тот день, начальницу загса за невнимательность с должности прогнали. Отправился в другой раз, и опять напасть — не мужик навстречу. Не хуже своей тещи разошелся Захаров, весь род женский проклинал, даже на самого себя разозлился. Расписать его, правда, на седьмой день расписали, но жену будто подменили — из ангела в гремучего демона превратилась. «И то еще привычку взяла, — делился Захаров. — Не приведи господь глазом на кого повести. Как чуть чего, объединенным фронтом с тещей на меня в атаку идет. Куда там немец или эсэс, тут я — кум королю, герой, а там, почитай, всегда побежденным бываю. Вот и рассуди, как не верить после того в приметы. Нет, есть что-то в ней, в примете, сатанинское, непонятное, прямо, можно сказать, потустороннее, и не всегда от нее отмахиваться умно». «А какую бабу хуже встретить, старую или молодую?» — спрашивали у него. «Один черт!» — махал безнадежно рукой Захаров.
Кое-кто из разведчиков стал использовать «примету» в корыстных целях, даже, случалось, приказ старшины ухитрялись не выполнять под этим благовидным предлогом. Захарову сообщалось по секрету: «Иду это я, значит, а навстречу свиристелка из связи…» Старшина отпускал забористый трехэтажный комплимент по адресу женского пола, но неизменно заключал: «Лучше погодить, раз встретил. Толку все равно не будет. Сам не раз убедился». «Примета» имела действенную, почти магическую силу до тех пор, пока ею не стали пользоваться чуть ли не все наши разведчики и об этом не проведал сам старик Санин. Влетело по первое число старшине и тем, кто без зазрения совести злоупотреблял этой его, в сущности, невинной слабостью. Посрамленный Захаров был зол, как черт. Из себя выходил при одном только упоминании слова «примета».
Вот и теперь он угрожающе раздул ноздри.
— Ну, чего молчишь, Коля? Как там насчет примет? — ехидно допытывались разведчики.
Коля безмятежно пожал плечами:
— У товарища старшины спроси, у него больше опыта по этой части.
Захаров коршуном набросился на своего дружка:
— Эй, ты, тетеря! А еще в друзья клеишься!
Русанов как ни в чем не бывало сказал:
— Вот Колькину бы да товарища старшины тещев сейчас сюда пригласить — вот цирк был бы! И театру не надо.
Позубоскалить был каждый не прочь и подчас нёс, что взбрело на ум, но главное — все мы были счастливы тем, что умели радоваться. Со стены была снята гитара. В начале вечера Наташа больше наблюдала, а потом тоже разошлась. Отвечая на шутки, она как-то засветилась, влюбленно глядела на Галю, иногда о чем-то перешептывалась с ней. Я от души аплодировал, когда Наташа, взяв гитару, запела. Улучив момент, она тихо сказала мне:
— Сегодня вы мне нравитесь.
— А вы мне — всегда! — искренне ответил я и, приняв из ее рук гитару, ударил «Цыганочку».
— Байкал нам по колено! — передразнивая Захарова, крикнул во весь голос Коля Выдрин, выпрыгнул из-за стола и волчком пошел по землянке.
— Вот бесенок! — восхищенно ругнул его старшина и, не утерпев, сам пустился в пляс.
— А ну, кш с дороги, мелочь безусая!
Танцевал Захаров здорово, прямо загляденье. Подмигнув ухарски, он пригласил Наташу и пошел гвоздить каблуками так, что земля ходуном заходила.
Но вдруг, как струна, все оборвалось. Будто в судорогах, забилась землянка. С грохотом свалилась жестяная труба печки. С потолка посыпались сухая земля и куски глины, лампа потухла. В наступившей кромешной тьме слышался треск и грохот — сверху и снизу. Минут десять нас качало, будто в люльке. Галя, испуганно вскрикнув, прижалась ко мне.
Как внезапно все началось, так же и кончилось. Мы зажгли свет и с трудом восстановили порядок. На Гале лица не было. Зато Наташа ни одним жестом не выдала волнения.
— Собачьи дети эти немцы! Поди, в лесу у нас что-то заметили.
— А снаряд прямо в накат нашей землянки угодил.
— Только во вкус вошел, на самой середке перебили, — Захаров будто ненароком взглянул на Галю.
— А я ничего, — торопливо отозвалась она.
— Разве я сказал, что «чего»?
И опять все пошло своим чередом…
А спустя сутки я распрощался с Галей. «Увожу много света в сердце. Много. Теперь я сильная», — сказала она. Посадил я ее в попутный грузовик, и она махнула мне из кабины рукою. Выражение ее затуманенных слезами глаз — необыкновенное, и лицо сквозь толщу ветрового стекла тоже как будто в тумане; из-под ушанки выбился черный локон, грустная, какая-то виноватая улыбка — и больше ничего не могу восстановить в памяти. Душу охватила щемящая тоска, чувство покинутости, осиротелости, одинокости. В груди тупая боль, словно кто разбередил давно затянувшуюся рану. Отъезд близких людей для меня всегда был мукой. Но сегодня я эту муку чувствую особенно остро. Места себе не нахожу. Хочется закричать, броситься вслед ей, возвратить обратно, чтобы всю жизнь видеть рядом ее глаза, слышать ее голос, раствориться в ней. О, если бы это возможно сделать! Какое это было бы счастье! Человек, которому обязан чуть ли не всем лучшим в себе, с которым рос, мужал, который знал твои самые сокровенные тайны, самые заветные чаяния сердца, ушел надолго. Может быть, никогда не смогу вернуть его таким, каким он был мне дорог. Или встретимся и тут же разойдемся чужими друг другу людьми, подарив на прощание виноватую улыбку. Нет, нет, только не это! Мой самый близкий, самый бесценный друг, больше, чем друг!
Однако дела не позволяли долго предаваться этим изнурительным размышлениям. Вскоре я был захвачен непредвиденными событиями. Немцы на наш участок перебросили с юга несколько новых дивизий и танковый корпус. Было похоже, что замышляли они большое наступление. Разведчикам прибавилось хлопот. К нам понаехало десятка полтора разного рода консультантов и представителей. Они вносили нередко сумятицу и неразбериху, дергали и нервировали Санина. Передовая жила напряженно, сторожко. Раз пять мы ходили за языком, но безрезультатно. Командование же отдавало приказ за приказом — «языка» добыть во что бы то ни стало. Наконец, видя тщетность наших попыток, штаб армии отдал последнее распоряжение: произвести разведку боем.
В обороне разведка боем — предприятие рискованное. Малейший просчет — и все идет прахом, заканчивается тяжелыми потерями, человеческими жертвами. Поэтому, прежде чем начать разведку, требовалась подготовительная работа высокой, почти ювелирной точности. Мы забыли о сне. Ночи напролет на собачьем холоде ползаем на брюхе по переднему краю, изучаем уже сотни раз изученную местность, ищем укрытия и подходы к окопам немцев, выслеживаем каждое их движение, перемены в их обороне. Они тоже не дремлют, подсылают к нам свою разведку. Иногда мы сталкиваемся чуть ли не лбами, вспыхивает бешеная перестрелка, а утром недосчитываем в живых двух-трех своих товарищей.
Но вот, наконец, все готово. Нас собрали на опушке леса. Вечерело. Низкие, отягченные снегом тучи плотно закрыли небо. Лес притих. На передовой ни одного выстрела — ни с той, ни с этой стороны. Санин, проводив командующего, который обстоятельно изложил перед нами задачу, по-отечески оглядел каждого бойца и командира. Захарова даже похвалил. Санин спокоен до равнодушия. Как бы между прочим он еще раз напоминает, что предстоящая операция — добыть «языка» — сегодня равнозначна победе, размеры которой трудно предвидеть. Враг, судя по всему, замышляет что-то серьезное. По всей вероятности, попытается вновь проложить себе путь на Москву. Первая и самая главная задача — узнать его план и вторая, не менее важная, — сорвать этот план. «Но последнее уже не наше с вами дело», — заключил он. Потом прошелся по рядам, спросил: «Нет ли больных? Может, у кого не в порядке нервы»? Остановившись около Захарова, пошутил: «Тебя, товарищ старшина, хоть сейчас под венец. Сияешь, как начищенный самовар. Гляжу на тебя и верю в удачу. Это хорошо!» — И вдруг Санин лукаво кивнул в сторону Наташи: — «Примета». — Разведчики дружно загудели.
— Что молчишь, товарищ Захаров?
— Промолчишь — никогда не пожалеешь, товарищ майор, — отшутился Захаров.
— А вот бутылку одеколона опрокинул на себя зря, — сказал Санин. — Дунет ветер на немца — сразу учует, что Захаров к нему в гости идет, и встретит он тебя, да и нас заодно, таким хлебом-солью, что бежать захочешь, да ноги не унесут. Не годится, сибиряк! Быстро разодеколониться!
Захаров не понял.
— Сменить обмундирование! — уточнил Санин и обратился ко всем:
— Ну как, товарищи разведчики, добудем «языка?»
— Так точно, товарищ майор! — раздалось несколько голосов.
Я взглянул на Наташу. Красивое, нежное, продолговатое лицо ее неподвижно и строго. Сегодня больше, чем когда-нибудь, она напоминает врача. Рядом с нею Зубов. Он какой-то нервный, суетливый. Это, видимо, неприятно Наташе. В глазах у нее тоска. Брови сдвинуты, губы сжаты. Вот она что-то шепнула Зубову, но тот нервно отмахнулся. Он снедаем какой-то тревогой, хотя внешне бодрится, выпячивая грудь колесом. На лице у него желтая, как медь, бледность, нос заострен, бегающие маленькие глаза смотрят вопросительно и тревожно. Рукам он не находит места — то сцепляет пальцы, то прячет их в карманы и тут же вновь вытягивает по швам. Я в упор посмотрел ему в глаза, белки их были с каким-то коричневатым оттенком. Он пугливо покосился в мою сторону и отвернулся.
«Что с ним? — подумал я. — Не устроила ли ему жена семейную сцену?» Но внезапно я отбросил шутки. Зубов серьезно обеспокоил меня. Между нами шла незримая для сторонних пикировка. Я уже не сомневался, что его угнетает какое-то недоброе предчувствие либо он просто хочет увильнуть от разведки. Я следил за ним пристально, он нервничал от этого сильнее, с хрустом сжимал кисти рук. Весь он какой-то измученный, серый, точно минуту тому назад выбрался из затхлой глубокой ямы. На скулах лихорадочно вздувались желваки. Вдруг он всем корпусом повернулся ко мне и ощетинился, точно лицом к лицу встретился с врагом. Однако взгляда моего не выдержал. Сунул в рот папироску, долго жевал мундштук. Достал спичечный коробок. В непослушных пальцах сломалось несколько спичек, но он так и не смог прикурить. С виска у него скатилась крупная, как горошина, капля пота.
Улучив момент, я приблизился к Наташе и шепотом, чтобы слышала только она, сказал:
— Вид у вашего мужа хуже некуда, краше в гроб кладут.
Наташа испугалась.
— Что еще за выдумка?
— Посоветуйте ему лучше остаться.
— Слишком вы много на себя берете, — желчно бросила Наташа.
Я пожал плечами и отошел прочь. За время войны мне не раз доводилось видеть смерть, наблюдать людей накануне их гибели. Преступник, приговоренный к высшей мере наказания — расстрелу, человек, решившийся на отчаянный шаг, солдат, идущий в бой, где его скосит пуля, — никто не верит, что умрет, надеется на чудо, но всех угнетает одинаковое предчувствие смерти. Внутренне он слышит надвигающуюся бурю, ее раскаты, гром, до отупения боится всего, даже самого себя. В повороте головы, в жесте, в случайно оброненном слове, в тоскливом взгляде, в хмурости лба — во всем сквозит какая-то настороженность, тревога. Как зверь, загнанный в клетку, он — неспокойный, мятущийся. В нем словно обнажены нервы, острота восприятия доходит до предела. Кажется, прикоснись к нему — и он взлетит на воздух. Но самое худшее в этом другое — едва человек ослабил волю, снедаемый предчувствием, он сам чуть ли не предопределяет свою гибель, становится сам причиной, ведущей к краю пропасти. Там, где трезвый и зрячий без особого труда уходит от опасности, обманывает смерть, там ослепленный угаром гнетущих дум невольно становится жертвой случая.
Я еще раз оглянулся на Зубова. Волнение не покидало его. Наташа попросила папиросу. Зубов услужливо раскрыл портсигар. Я и не знал, что она стала курить!
Наступила холодная, угрюмая ночь. Северный ветер гнал тяжелые седые облака, и с наступлением темноты внезапно разыгралась вьюга. Она валила с ног, бросала в лицо колючий снег, слепила глаза, по-шакальи выла в расщелинах и складках местности.
Объектом действий разведки являлась деревня Березки, Болотом мы должны были пробраться на опушку леса, что южнее деревни (узкая полоса этого леса считалась нейтральной, но фактически ею владели немцы), а затем взять курс на северо-запад, к отдельному дзоту. Дзот находился на отшибе, метрах в ста пятидесяти от центральной обороны, и соединялся с нею лишь длинной траншеей. Немцы чудом соорудили дзот на топком болоте, и пробраться к нему было невероятно трудно. Задача наша и состояла в том, чтобы окружить дзот, ворваться в него, захватить пленных и по возможности бесшумно вернуться назад.
Но это решение пришло в последний час. Первоначально дзотом предполагалось овладеть штурмом — под прикрытием артиллерийского огня и инсценированной атаки на деревню Березки с юга. Однако бывает так, что все меняется в последнюю минуту и часто — к лучшему.
Отряд наш немедленно переформировался и состоял теперь только из 36 человек, которые в свою очередь были разбиты на группы захвата и обеспечения. Первой группой командовал я, второй — старший лейтенант Зубов. Санин осуществлял общее руководство всей операцией. Шли мы наверняка. План Санина был разработан очень тщательно. Трое разведчиков врываются в дзот и захватывают в нем пленных; четверо охраняют дзот снаружи, непосредственно у входных дверей, одна шестерка держит под наблюдением дзот на расстоянии нескольких метров, другая — следит за обороной немцев, откуда всего вероятнее дзоту может быть оказана помощь. Остальные, во главе с Зубовым, в случае необходимости прикрывают левый, и правый фланги при отходе группы захвата.
Разведчики стояли молча. Санин отдавал последние распоряжения. У него вошло в правило — каждому бойцу определять от начала до конца его личную задачу. В решении же ее предоставлялись полная инициатива и свобода. Когда речь зашла о самом трудном и опасном — кому врываться в дзот первым, — установилась особенно глухая тишина, и тянулась она довольно долго. Добровольцы вызываться не спешили. И тогда вперед шагнула Наташа. Все мы, мужчины, почувствовали себя пристыженными.
— Ты что, с ума сошла? — одернул Наташу Зубов.
Реплику его услышали, она неприятно хлестнула по ушам.
— Товарищ военфельдшер, — спокойно сказал Санин, — у вас есть свой круг обязанностей. Вот их и выполняйте.
— Прошу вас, товарищ майор, — Наташа вся была исполнена непреклонной, какой-то отчаянной решимости. Отказать — значило убить в ней что-то святое, быть может, неосознанное ею самой; это почувствовали все мы и, как один, сделав шаг вперед, молили Санина взглядами согласиться.
Майор повернулся к разведчикам.
Первым будет лейтенант Метелин — старший группы захвата, вторым — товарищ военфельдшер и третьим… — Санин не договорил.
— Третьим разрешите быть мне! — прижимая к груди автомат, отчеканил старшина Захаров. Он покосился на Натащу и не то шутя, не то с каким-то своим умыслом сказал: — С женским полом «языков» еще не брал, товарищ майор. Авось, повезет.
— А как же насчет приметы? — сощурился Санин.
— А мы наперекор приметам, товарищ майор.
— Тогда порядок полный.
— Так точно: либо пан, либо пропал.
Сдержанный смешок пробежал по рядам.
Захарова я знаю давно, кажется, изучил его, как книгу, от корки до корки. Но всякий раз он поражал меня какой-то новой чертой. Казалось, горечь раздумья и скорбь не имеют к нему доступа. Он прочно и крепко стоит на земле, как дуб, врос в нее всеми своими корнями. И таких не согнуть, разве только сломить.
В двенадцатом часу ночи мы были в двух километрах от цели. Болото промерзло лишь сверху, люди проваливались, приходилось их вытаскивать, подолгу задерживаться. А вьюга разыгралась вовсю, хлесткий колючий ветер пробирал до костей. На расстоянии полуметра ничего не разглядеть. Двигались, как в молоке. Я держался за Саниным след в след. В кромешной завирухе так легко сбиться с пути. Своими опасениями я поделился с майором.
— Перестаньте каркать, — оборвал он меня и, повернувшись к шедшим позади нас разведчикам, уже в который раз спросил: — Отстающих нет?
Кто знал Санина, тот не удивлялся: во время разведки он становился не похожим на себя — молчаливый, суровый и неприветливый. Он, казалось, был лишен души и сердца. Не впервые я с ним на задании и всегда спокоен. Коль ему поручили и он лично убежден в разумности поручения, то выполнить его может помешать ему только смерть.
— Если человек не враг, — сказал он как-то мне, — то, даже отдавая нелепые указания, он преследует благую цель.
— А если эти нелепые распоряжение приводят к жертвам? — возразил я.
— А вы зачем? Для чего у вас голова на плечах? Сделайте так, чтобы жертв не было.
— А что если и я, исполнитель, — болван?
— Обязательно найдется третий умный. Ибо болван приказа даже умного толково не выполнит.
— Но это же несправедливо. Вы выполняете, вы, разумный исполнитель, плоды же пожинает кто-то другой.
— Кто будет наградою отмечен, должно трогать меньше, чем сознание того, что сделано мною для Отечества, для моей земли. Чиста ли у меня совесть перед нею, не смог ли бы я сделать для нее больше — вот главное.
— Отстающие есть! — вдруг доложили майору. — Нет старшего лейтенанта Зубова и товарища военфельдшера.
Выла вьюга. Сверху и снизу обдавал ледяной ветер.
Мы остановились. Санин достал было портсигар, но тотчас спрятал его обратно.
— Как давно их нет?
— Не приметил точно…
— Проверить, на месте ли остальные!
Для Санина это было неожиданным и тяжелым ударом. Все приготовления, осторожность, хитрость — все это могло оказаться напрасным, всему предприятию грозил провал.
— Что бы такое могло случиться? — шепнул он мне. — Уж эти мне женщины! Нутром чуял…
— Думаю, причина не в женщине. Скорее — в мужчине. Зубов скверно выглядел. Может, ему стало плохо, — предположил я.
— Почему же вы об этом не сказали раньше?
— Да, наверно, ничего серьезного. Подождем их немного.
Санин отправил двух разведчиков по нашему следу.
Третий час ночи. Чужая оборона, одолеваемая предутренней дремотой, — рядом. Над головою стонет ветер. Коченея от холода и сжимая сталь оружия, мы ждем, ждем с напряжением возвращения разведчиков, вслушиваемся в мятущуюся тишину. Возвращаться назад, кого-то искать — у разведчиков дурной признак. Неужто неудача?..
Обостренный слух уловил что-то отдаленно похожее на хруст снега под сапогами. Кто-то щелкнул затвором.
— Не сметь! — свирепым шепотом приказал Санин.
Показались наши бойцы, с ними — Наташа.
— Товарищ майор, я готова исполнить приказ! — едва слышным, охрипшим голосом проговорила она.
— Где старший лейтенант?
Наташа молча наклонила голову.
— Где Зубов? — почти крикнул Санин.
— Зубов — негодяй! Но об этом в штабе…
Санин приказал командирам со своими людьми занять заранее намеченные пункты. Вместо внезапно исчезнувшего Зубова назначили сержанта Русанова из моего взвода. С командой в восемнадцать человек он должен был охранять фланги и тут же отпочковался от нас. Остальные двинулись вперед. Пробирались уже по-пластунски. Ползли параллельно окопам немцев почти у самого их носа. Гулко колотилось сердце. Лишь бы доползти, а там…
— Дополнительных распоряжений не ждать! — отдал последний приказ Санин. — Действовать самостоятельно. Шестерка охраны, за мной! Метелин — к дзоту.
Выл ветер. Навстречу несся океан вздыбленного колючего снега. Я плотнее прижался к ледяному обжигающему насту. Рядом — Наташа, слева — Захаров. Впереди едва-едва проглядывает пологое возвышение. Дзот. Крошечная, ничего не значащая точка, не нанесенная ни на одну карту мира. И вот, может быть, это и есть как раз та точка, которая будет поставлена в конце твоей, всегда безвременно обрывающейся жизни. На ветру блеснула одна, две… четыре… целый пучок искр. Они вылетали из трубы дзота. Там, под снегом и бетоном, царили тепло и чисто немецкая домовитость. От напряжения слезятся глаза. Расщелиной вверх, к деревне, уползает траншея. У самого входа в дзот — часовой. Он сгорблен, засыпан снегом.
Я подал знак, и почти одновременно мы с Захаровым и Наташей вскочили и тотчас нырнули в расщелину.
Часовой был умерщвлен, прежде чем успел шевельнуться. Ветер бесследно унес чей-то не то рожденный ночью, не то и впрямь человеческий глухой стон.
Наташа с налета ударила ногою в дверь, ворвалась в дзот. Я и Захаров кинулись вслед. Один, второй выстрел шлет она в глубину. Холодное облако, влетевшее вместе с нами, густым туманом застлало подземелье, ничего не разобрать. И вдруг около Наташи вырос немец. Он занес над ней для удара какой-то предмет. Одним прыжком я очутился между ними и уложил немца намертво. Но не успел оглянуться, как из угла прогремел выстрел. Наташа вскрикнула и выронила пистолет. Схватившись одной рукой за грудь, она другой шарила в воздухе, будто искала опоры; не удержавшись на ногах, упала. Захаров ответил на выстрел очередью из автомата. Докрасна раскаленная железная печка рассеивала мрак. Стало тихо, как в могильном склепе. Прижавшись к стене, Захаров мгновение смотрел на меня, потом шагнул зачем-то к убитому немцу. И тут откуда-то сверху на него навалился огромный детина. Он чем-то ударил Захарова по голове и подмял под себя. Через весь дзот я бросился на помощь, саданул верзилу в пах, выкрутил ему руку и стал выталкивать из дзота.
Мы не сумели соблюсти тишину, и передовая неистово забилась.
Прикрываясь фланговым огнем пулеметов сержанта Русанова, мы торопливо начали отходить. Русанов оказался молодцом: его пулеметы строчили без передышки. Создавалось впечатление, будто и в самом деле окопы немцев атакует по меньшей мере полк. Санин по рации связался со штабом, вызывал на себя артиллерийский огонь; опасность обступила со всех сторон. Пленного я не отпускал, правая выкрученная рука его беспомощно повисла, как плеть. Он стонал. Волочить его помогали Захаров и трое солдат, охранявших выход из дзота. «Ишь, гусь. Как кувалдой хватил, сволочь!» — не мог успокоиться Захаров, трогая ушибленную голову, и все норовил прикладом автомата огреть немца. Вдруг я остановился как вкопанный: Наташа. Она осталась там, в дзоте. А прошли мы уже почти четверть километра.
— Где доктор? — кричу, не помня себя, в самое ухо Захарова. Он таращит на меня глаза, ничего не понимая.
Меня прошиб пот. А вдруг она жива? И тут же убеждал себя в противном: сам видел, как Наташа упала, скошенная пулей. Возвратиться?.. Это значит — смерть… Впервые с такой непонятной силой во мне сцепились страх и совесть; я колебался. Еще минута, и я мог бы стать навсегда подлецом и трусом.
Передав пленного Захарову, я отстал. «Вынести ее, пусть даже мертвую, но вынести», — оглушительно стучало в висках. Я ничего не помнил. Мною овладела какая-то звериная, не поддающаяся отчету ярость. Не вернуться назад за телом Наташи теперь уже значило для меня не жить самому. Ошалев от страха, немцы сейчас палили по своему собственному дзоту, они хотели залить его огнем, а вместе с ним и нас.
Случай ли, судьба ли, мое ли безумие, но что-то мне помогло. И я вырвал из этого проклятого дзота тело Наташи. Вспотевший и радостный, я торопился унести его подальше от опасного места. Небо полосовали ракеты. Чужие голоса, крики и ветер. Догнать разведчиков я уже не мог и, поняв это, со страхом ощутил, что оказался один, без своих. Один с мертвой Наташей.
Задыхаясь, я греб снег, полз, полз. И все, казалось, напрасно: я не продвинулся ни на шаг вперед. «Почему молчат? Почему?» — думал я о наших артиллеристах.
Над полем, где я полз, в небе, как лампа, повисла осветительная ракета. Меня заметили немцы и тотчас перекрестным огнем начали отсекать мне отход. «Halt! Halt!» — ударил в уши ветер. Но тут словно разверзлась земля, что-то оглушило меня, обдало горячей волной. Слева и справа взрывы снарядов поднимали тучи снега и комья мерзлой земли. В воздухе стояли гул и грохот. Огонь переносился в глубину немецкой обороны. Это била наша артиллерия. Я уже точно знал, что это так. И радовался, хотя сам мог легко попасть под взрывную волну. Но ведь это же наши выручали нас, разведчиков. Преодолев расстояние от дзота до опушки леса, я оказался в относительной безопасности и склонился к Наташе. Пуля прошла навылет. Отодрав лоскут от маскхалата, я перевязал рану. Лицо Наташи, покрытое желтизной, с белыми, плотно сжатыми губами пугало меня. Глаза ее провалились, нос заострился. Но сердце ее билось — чуть слышно, с перебоями.
К утру ветер утих. Мне предстояло проделать еще немалый путь. Опасение, что я могу затеряться в болоте, случайно натолкнуться на немецкий секрет, росло. Я боялся и за Наташу. Не оказать ей немедленную медицинскую помощь — значит дать ей погибнуть. На какой-то миг я растерялся, ориентир исчез, мне показалось, что я заблудился, ползу не в том направлении.
Но разведчики не забыли обо мне. Санин приказал: «Хоть из-под земли достать, а найти Метелина», и сам лично отправился на поиски. Он рвал и метал, Захарова пообещал отправить в штрафной батальон. В таком гневе и отчаянии Санина никогда никто не видел. Но странное дело, едва я оказался среди своих, как он набросился на меня:
— Это черт знает что! Безобразие! Вечно вы самовольничаете, лейтенант! Кто вам разрешил?..
Однако, что бы ни говорил старик, отцовской любви ко мне в глазах ему не спрятать.
Задание мы выполнили. Захваченный нами «язык» оказался эсэсовским офицером. Здоровенный, на длинных, как циркули, ногах детина. Прическа у него под фюрера. Высокомерен, на людей не глядит.
Встретил вторично я его в штабе после допроса и диву дался. Едва заметив, меня, он, как ужаленный, вскочил со стула, вытянулся, щелкнул каблуками.
Я улыбнулся, сказал на его родном языке:
— Ну, как, старый друг, отдыхаешь?
Он кивнул головой:
— Вы ейст Херкулес! Вы корош ошен официр.
Глаза его, однако, не могли скрыть жгучей ненависти.
— Улыбается, подлюга! — проворчал Захаров, вызвавшийся лично доставить немца в штаб армии. — Отпусти этого матерого нацистского волка, он горло тебе враз перегрызёт. Мне тут минуту назад порол, мухомор несчастный, ерундистику всякую — всем, мол, вам капут… Моя бы воля — я бы ему, гаду, показал «капут»!..
В медсанбат к Наташе я попал на вторые сутки. Мы собрались ехать туда вместе с Саниным, но его, как всегда, опять срочно вызвало армейское начальство.
Наташа медленно приходила в себя, и доктор был обеспокоен не на шутку.
— Ну, как рана, очень опасна? — спросил я.
Седовласый полковник медицинской службы задумчиво и устало ответил:
— Нервы у нее, как расстроенная балалайка! Ссадины в горле. Кризис может наступить внезапно. И никакие меры не помогут. Что у нее там была за схватка? Кто ее душил? А вообще, батенька вы мой, ходить за «языком» — не бабье дело. Да, да! Об этом я немедленно донесу в высшие инстанции.
«Какая схватка? — думал я, не понимая доктора. — О чем он говорит? Откуда ссадины?»
— А вы, говорят, молодцом вели себя! — светясь, посмотрел на меня доктор. — Оказаться выше труса, который всегда живет в нас в такие минуты, значит быть настоящим человеком.
— Вы разрешите мне повидаться с больной?
Доктор удивленно сдвинул на лоб очки: в своем ли я уме?
— Разумеется, не разрешу, — сказал он и тотчас оставил меня одного. Но медсанбата я не покинул и к вечеру все-таки смог проникнуть к Наташе. При виде ее невольно вскрикнул. Неестественно белое, точно вылитое из гипса, лицо, синие губы, подбородок высоко поднят. Она слышала, что к ней вошли, но ни одним мускулом не выдала этого. Неподвижные глаза устремлены в потолок.
Почти беззвучным шепотом я позвал ее.
Она с трудом повернула слегка голову и некоторое время не узнавала меня; безразличие и страшная усталость сквозили в ее взгляде. И вдруг, приподнявшись на локте, она с испугом подалась к стене. Глаза ее расширились. «Нет… нет…» — хрипло выдавила она и, упав на подушку, заметалась, заплакала.
Меня тут же выдворили из палаты. Вторично я не решался ее навестить и попал в медсанбат лишь спустя две недели, перед самой отправкой ее в тыл.
— Метелин, — сказала Наташа (по нашей просьбе нас оставили одних), — я часто удивлялась вам. Теперь могу сказать — любила вас самозабвенно, расточительно и глупо. Ради вас готова была на все, из-за вас решилась даже на… брак с Зубовым. — Горькая усмешка коснулась ее бескровных губ. — Вы были правы, к сожалению. К сожалению, не потому что произошло такое, а потому что оказались правы и на этот раз. Вы предсказали Зубову смерть. Я вас отлично поняла тогда. Но я не предполагала одного — что именно я приведу в исполнение смертный приговор…
Я молчал. Зубов. И здесь Зубов. Вот, оказывается, где ключ. Вот почему отстала Наташа.
Говорила она почти бесстрастно.
— Этот человек клялся в искренности, умел, как поэт, говорить красиво о Родине и этим привлек меня. Я не могу быть равнодушной, когда говорят о моей земле, о моем доме. С Зубовым я надеялась пройти жизнь. У нас, женщин, в отличие от вас, мужчин, есть одно и, быть может, высокое качество — самоотречение… Мы часто сознательно идем на него, всегда надеясь вылепить прежде всего ваше счастье… И вот… Зубов оказался не тем, кого я хотела в нем видеть. Предупреждение ваше перед разведкой насторожило меня, я сильно тогда на вас обозлилась, но за Зубовым все-таки следила. Он чувствовал это и нервничал. Дорогой он все время отставал и наконец оторвался от группы. Оглянулся и бросился бежать. «Стой!» — крикнула я и выхватила пистолет. — «Стой!» Я совсем забыла о том, что где-то рядом немцы, что они могли меня услышать. Зубов бежал изо всех сил. Я, еще ничего не понимая, едва догнала его. «Ты что?» — чуть слышно спросила я. Он упал на колени, ползал и извивался у моих ног, и я подумала: его обуял страх. Но почему он бежал в сторону немцев? — спросила я себя. Вы уходили всё дальше и дальше. Я не знала, что делать. Я так и решила, что со страха он сошел с ума. И вдруг в Зубове вспыхнул проблеск храбрости. Он вскочил с колен и приказал мне спрятать оружие. Я повиновалась. И здесь… Да… Здесь он начал говорить о большой любви ко мне, и я верила: он боится, что уйду от него, что в будущем он не сможет все устроить так, как того хочет. Наконец сказал, что все равно наше дело в войне проиграно и поэтому надо спешить, и предложил… перейти к немцам. У него все, оказывается, к этому было готово. Он давно вынашивал эту мысль. Сулил мне на той стороне новую, счастливую жизнь без тревог. Ужасы войны ему надоели. И я растерялась. Я заподозрила, что он испытывает меня. Ответила ему, чтобы успокоить, что-то теплое, нежное. Зубов воспрянул духом, и я сразу поняла, что он не шутит, не испытывает, он стал откровенным: «Сорок второй год — год полной катастрофы, надо спешить, нужно решить сейчас, ибо завтра уже будет поздно. Надо жить, а не ждать». Потрясенная, я ударила его по лицу.
— А, сволочь, так ты драться?! — Зубов вырвал у меня пистолет. — А ну, следуй за мной!
Впервые я так близко увидела лицо врага. И это лицо мне было совершенно незнакомо. Внезапным приемом я выбила из руки Зубова пистолет, хотела подхватить его на лету, но Зубов подставил мне ногу, толкнул в снег и навалился сверху. Я даже не представляла, что у меня так много силы. Я вырвалась. Выл ветер. Взывать о помощи я не решалась, боялась немцев. Он тоже боялся поднимать шум, боялся вас. Шла немая борьба. Я уже ни о чем не думала, кроме одного: предупредить вас. Если он разделается со мною, то тут же уйдет к немцам, расскажет о вылазке. А это удар в спину вам. Внезапно мне стало как-то легко от мысли, что меня не станет: это во сто крат легче, чем жить и знать, что ты была женой гнусного мерзавца. И я перестала сопротивляться. Стало нечем дышать, пальцы Зубова сдавили горло, перед глазами все поплыло и провалилось в какую-то черную пропасть. Я знаю, что это была смерть. «Предаст, предаст…» — пульсировала кровь. Я не понимала, почему во мне бьется это слово: «Предаст…» И тут же обожгла мысль: мне нельзя умереть. Где-то в снежном вихре оставались вы. Вы должны были жить. И я не смела, не имела права уйти из жизни и этой ценой избавиться от позора. В голенище сапога у меня хранился финский нож. Им я разрезала бинты и в тот момент вспомнила о нем. Каким-то нечеловеческим усилием я вытащила финку и всадила в бок Зубову. Раздался короткий стон. Пальцы на моем горле разжались. У меня сильно стучало сердце. Я никак не могла отдышаться. Шатаясь и падая, пустилась вдогонку вам. Я очень боялась потерять вас. Я, кажется, сделала то, что должна была сделать…
Наташа отпила глоток воды.
— Мерзавец все-таки любил вас искренне, — заметил я. — Оказывается, и подлецам бывают присущи человеческие чувства.
Боль исказила лицо Наташи:
— Вы понимаете, что вы говорите?
— Вас нельзя не любить, Наташа, — ответил я. — И простите мне все. Ради бога, простите. Санин однажды упрекал меня за какую-то мою ущербность, говорил, что я скоморох, что я причину своей глупости ищу не в себе, а в других, в стороннем. Может быть, он прав. Порой не знаю, чего хочу. Может, оттого и мучаюсь, что не понимаю самого себя, а иногда — и жизни, которая стремительно несет меня бог весть куда, и за все мои муки, страдания, за все мои добрые дела расплачивается со мной в конце концов одним векселем, имя которому — забвение.
Мое прямодушие удивило Наташу. Участливо она потянулась ко мне. Она и не думала, что и я, как все другие люди, могу страдать, мучиться. Она была уверена, что я полон самим собой. Нет, я совсем не тот, за кого она меня принимала. Об этом говорили ее озаренные голубизной грустные глаза. Она любила — я это видел. И сам, кажется, искренне любил ее. Но еще не понимал, что это такое во мне — самозабвенное чувство или внезапно нахлынувший порыв? Она хотела во мне видеть друга и стать мне больше, чем другом. Моя откровенность зажгла Наташу, в ее глазах засветилась надежда. Но я не смел лгать: я не принадлежу к числу тех мужчин, которые, приняв прекрасное мгновение за вечность, способны наобещать человеку сорок коробов, поселить в нем надежду, а потом, умыв руки, обречь его на страдание.
Наташа — я это почувствовал — интуицией прочла мои мысли, для нее опять все во мне заволокло туманом, опять, кажется, она обманулась во мне.
Пристальный взгляд ее жег меня.
— Я обязана вам жизнью. Ради чего вы рисковали? Тем более, если думали, что я убита…
— Я исполнил долг.
Она усмехнулась:
— Какой же вы, однако… труднообъяснимый человек.
За окном сгустились сумерки. Мороз причудливыми узорами расписал стекла. Красиво, а сердце не трогает.
— Простите, — нарушил я становившееся тягостным молчание, — мне пора, Наташа. Прощайте. Вы хороший друг.
— Нет, нет! Зачем же, куда вам спешить? Хотя, может быть, пора. Прощайте. Берегите свою Галю, Саша. Слышите, берегите! Вы, мужчины, многое можете, смеете.
Она пожала мне руку.
Черная пустота ночи. Мир точно вымер. К себе домой я плелся глухой дорогой. Вокруг было пусто, пусто было и у меня в груди. «Берегите свою Галю»… Что-то я делал не так. Отчего так болит душа? Отчего ее будто разрывает на части? Кого я ищу?
Вернулся я к себе уставшим и измученным, как после долгого изнурительного пути. На пороге землянки меня встретил Санин. В последние дни он заметно постарел. Голову высеребрила седина. Чудесный, милый Санин! Люблю его, как отца. У него в глазах слезы. Что-то он говорит мне невнятно. С какой-то стати успокаивает. Не сбрасывая шинели, я присел на топчан, стиснул голову руками. Санин, притронувшись к моему плечу, протянул мне лист бумаги. Читаю долго и не могу ничего разобрать. Глаза неприятно режет красный штемпель печати воинской части. Кто-то сообщал, что Галина Павловна Лаврова погибла в боях за Родину, что посмертно она награждена орденом Красного Знамени…
— К чему это? — перевел я взгляд на Санина. Перечитал еще и еще раз извещение. И вдруг во мне поднялась неодолимая буря. В ушах зазвенело. Не могло того быть! Кто смел?
— Боже мой, боже мой! — вырвалось из груди. — «Берегите Галю»… — повторил я чьи-то слова. Они, эти слова, резали мне слух, кто-то кричал, но я никак не мог определить, кто, зачем… И внезапно вспомнил. Это же говорила она! Меня охватила властная потребность видеть этого человека, видеть немедленно. Я ему должен сообщить нечто очень важное. Он правильно рассудит, поймет, а главное — не упрекнет… И я, не проронив ни слова Санину, выбежал из землянки. Я торопился. Торопился так, что забыл даже о том, что можно было взять машину. Я очень, очень спешил. Необходимо было сказать ей что-то для меня жизненно важное.
Обезумевший, усталый и разбитый, я прибежал в деревню, где размещался медсанбат, и ворвался в знакомый дом. Но Наташи там уже не было: ее только что эвакуировали…
Зачем я бежал, к чему стремился? Был бы ли я счастлив, застав Наташу на месте? Трудно сказать… Но так уж, видно, скроена жизнь: всегда лететь и стремиться к тому, что нам еще неведомо.
Высота
Сто раз клятая Лудина гора. Застряла на пути, как кость в горле, и не подступиться к ней ни с какой стороны. В течение последних трех недель из кожи вон лезли, чтобы свалить немца, людей положили — подумать страшно, а толку на грош. Только сегодня атаковали гору шесть раз и вот приготовились к седьмой атаке. Достается нашему «ударному батальону». Бросают его, как таран, в качестве пробивной силы. Даже матушке пехоте и то легче, чем нам…
До атаки остается часа два. В голове пусто. Веки как свинцом налиты. Тысячу лет отдал бы за одну минуту покойного отдыха. Блиндаж — сырой и темный, как склеп, — забит до отказа: люди приткнулись у стен, вповалку лежат и сидят на полу; одни дремлют, другие нещадно смалят махорку, третьи вяло перебрасываются скупыми репликами. Тусклый мигающий свет коптилки вырывает из темноты обветренные, хмурые лица, чьи-то насупленные брови. Едко чадит печь. На стенах — плесень. Когда Захаров в первый раз пришел сюда, он с ожесточением сплюнул и обозвал обитателей блиндажа скотами; матерился, крыл всех почем зря, а своего добился, навел хоть мало-мальский порядок. Теперь, по сравнению с тем, что было раньше, здесь истинный рай, смахивающий, впрочем, на преисподнюю.
Я отыскал взглядом Захарова. Он сидел сгорбившись у самого входа, автомат — между колен.
Странные обстоятельства привели нас сюда. Надо ж было случиться, чтобы старшине поручили конвоировать пленного офицера — «языка» — в штаб армии. В лесу немец напал на Захарова, внезапно сшиб с ног, каблуком раскроил челюсть. Лежать бы Захарову в том лесу и поныне. Но он каким-то чудом изловчился прошить фашиста очередью из автомата. И вот расплата: обвинение в преднамеренном убийстве пленного. Разбирательство было недолгим. Не успел Захаров опомниться, как оказался в штрафниках. Я вступился за старшину, убеждал: пленный-то добыт фактически самим же Захаровым, и наказывать человека без вины неумно и жестоко. Ведь Захаров оборонялся. Не убей он нациста, тот бы убил его. Но война есть война, у нее свои беспощадные законы. Раз пленный, необходимый как воздух, был добыт, а в штаб не доставлен, кто-то должен понести за это наказание. Я был не согласен с этими противоестественными законами и с горячностью, не предусмотренной субординацией, высказал свое мнение. Однако добился только того, что и меня вместе с Захаровым отправили в штрафной батальон.
— Дослужились, нечего сказать. И это называется справедливость! — не удержался я.
— Не все ли равно, где воевать? Главное, цель одна: врага бить, — отозвался Захаров и улыбнулся мне. — Ничего, паря, как-нибудь сдюжим.
У штрафников середины нет и быть не может; вина — все равно настоящая или мнимая — смывается кровью. Здесь властвует безоглядная, бесшабашная храбрость. Тут люди не щадят ни самих себя, ни других. Отсюда уходят только героями.
— Либо грудь, в крестах, либо голова в кустах, — кратко формулировал невозмутимый Захаров.
Но сегодня он что-то беспокоит меня. Уже несколько минут я издали наблюдаю за ним. Я успел изучить и полюбить его всем сердцем, его всегда уравновешенное настроение бодрило; знал — такие, как он, никогда ни в чем не подводят.
А вот нынче не узнаю Захарова. В лице — растерянность и безволие. Точно судорогой сведены плечи. Глаз из-под нависших бровей почти не видно, они потускнели. Лоб, весь в капельках пота, пожелтел. «Уж не лихорадка ли у него?» — с тревогой подумал я. Вчера до поздней ночи, завалившись на нары, мы болтали без устали. Захаров уморил рассказами о женитьбе, о своей теще, — она крепко засела у него в памяти, и он не может, чтобы не съязвить по ее адресу. Я от души смеялся.
— Не к добру это мы разошлись, — заметил я.
— Смех — всегда добро, — возразил он.
— Что-то не дается нам добро в руки. Сколько уж торчим здесь, а все — ни тпру, ни ну.
Захаров задумался.
— Да, застряли мы у этой богом проклятой горы, — вздохнул он. — А ведь по глупости застряли. Брать гору надо умом. Перемудрил, так и перетоньшил. Оно и войну, паря, выиграет не тот, кто на одну только силу полагается, а тот, кто еще и умом и духом побогаче. Да и не верю, чтобы немец покрепче нас был, хотя и бьет он сегодня нас и плакать не дает… Вот смоги я придумать такое, чтобы одолеть Лудину гору, — и делу конец, костьми бы лег, не задумался. В сердце что-то плавится прямо, зовет, а вот что, как сделать — ума не приложу. — Он помолчал. — Дед мой, бывало, вразумлял меня: жизнь, она у настоящего человека вспыхивает красиво и ярко, как само солнце. Да, — протянул Захаров. — Солнце. А так, у человечка, что ни богу свечка, ни черту кочерга, жизнь что вон та гильза, приспособленная под лампу: копоти и чаду от нее больше, чем свету. — Захаров задумчиво и долго глядел на подвешенную к потолку гильзу, следил за слабым, пугливо вздрагивающим огоньком. — А вообще, где гроза, тут и вёдро, — вдруг переменил он разговор. — Ты послушай лучше, что получилось, когда тещу мою в правление колхоза выбрали. А я, стало быть, председатель. — Захаров засмеялся и сразу весь как-то оживился. Смех открытый, звонкий. — Поначалу вроде ничего, миром мы с ней в правлении жили. Однако ж и месяца не прошло, гляжу — эге, уже не я, а она председатель. Екатерина Вторая и только. Командует, что твой взводный. Я пытаюсь урезонить ее. И так и этак норовлю. И по-хорошему, и приструнить пробовал. И штурмом брал, как эту Лудину гору. А она — ни в какую. Сама в пике идет. Такую власть забрала, что не приведи господь. Баб всех перебаламутила, хоть из села беги. Взмолился я тогда к общему собранию: убирайте, говорю, семейственность, равноправие и демократию эту из колхоза, иначе власть Советская будет перевернута этой царицей…
И вот Захарова точно подменили — серый, осунувшийся, измятый. Каменной тяжестью навалились трудные мысли, пригнули к земле кряжистого сибиряка.
— Захаров, — позвал я его.
Он не отозвался, хотя не мог не слышать меня, Я окликнул вторично. Он исподлобья кинул угрюмый, неприязненный взгляд в мою сторону.
— Ты что это, друг, или нездоровится?
С трудом, спотыкаясь об чьи-то ноги, я пробрался к нему, положил руку на плечо.
Он снизу вверх колюче взглянул мне в лицо:
— Отчепись, Метелин. Не до тебя.
С чувством досады я вернулся на свое место.
Печку до отказа набили осиной, и она дымит, распространяя удушливый запах прели и гари. Из углов тянет сыростью. Слух рвет чей-то надсадный кашель.
Захаров снял с головы каску, развязал шерстяной шлем и ладонью вытер взмокший лоб. Не могу заставить себя не глядеть в его сторону. Ему явно не по себе. Он чего-то ждет. Ждет нетерпеливо, взвинчивая себя до предела. Ждет каждым нервом, каждой клеточкой напряженного тела. Вот он передернул плечами, точно желая стряхнуть с них какую-то тяжесть. Вижу, что ему трудно сосредоточиться на чем-нибудь одном, додумать до конца хотя бы одну связную мысль тоже нет терпения. Чего же, собственно, он ждет до боли в груди?
— Вздор! — крикнул сердито Захаров и смущенно оглянулся по сторонам. На его возглас никто не обратил внимания: каждый занят своими делами, думами.
До атаки еще есть время. Захаров поглядел на часы и стал моститься поудобнее. Перед боем надо отдохнуть. Плечом потеснил соседа, бросил под голову противогаз, прилег. Глаза хмуро устремлены в потолок. И вдруг лицо осветила улыбка: откуда-то выплыло босоногое детство и встало перед глазами — ясное до мелочей. Отчего так прочно врезаются в память события детских лет и не стираются всю жизнь! Было это давно, наверное, лет сто назад, а может, и больше. Сладкая, как пчелиный мед, и душистая, как мята, далекая пора! Холщовые штаны, закатанные до колен, сорочка нараспашку, непокорные вихры, в руках ломоть ржаного хлеба, один запах которого вызывает слюнки.
Совсем несмышленышем был, когда остался без отца и матери на руках у деда Василия. И не успел на ноги подняться, как смерть скосила и старика. С белыми бровями лежал дед Василий на столе, как на ладони, желтый и светлый. В избе толпился народ. Причитали женщины, жалели его, сироту, а он не плакал. Чумазый мальчишка мучительно стыдился слез. Зато потом, когда дед совсем ушел с земли и народ разбрелся по домам, он не знал, куда деть свое сиротское горе, выл волчонком ночь напролет. Утром, чтоб никому не попадаться на глаза, убежал в лес, забился в таежные непролазные заросли, упал на мох и захотел умереть. Лишь на пятые сутки на него, совсем обессилевшего от голода и слез, случайно наткнулись охотники…
Захаров повернулся на другой бок. Лежал всего минуту, а показалось, что прошла целая вечность. Тяжело дыша, приподнялся и сел, плотно прислонившись к стенке. Из кармана вытащил тяжелые чугунные часы-луковицу — подарок деда. Поднес к уху, и на лице расцвела мальчишеская улыбка. Дорога памяти увела далеко-далеко, уже скрылось все за горизонтом, а он шел и шел. Слегка запрокинув голову, он затылком уперся в стену и вдруг почувствовал ее сырой холод. Лицо на мгновение сковала суровость. С виска скатилась капля пота, прочертив на щеке узенький след. Глаза отчужденно посмотрели вокруг. Он был уверен, что находится не в блиндаже, измученный ожиданием атаки (вот, оказывается, чего так напряженно ждал Захаров!), а сидит за столом у себя дома. Хлопочет по хозяйству вдруг присмиревшая и обрадовавшаяся его возвращению теща. Подле него сидит жена, а на коленях вертится непоседой дочурка Варя. Ее светлые косички так и мелькают. Пахнет свежим кисловатым тестом и жаркими углями из печи. Варя гладит маленькой ладошкой его небритую щеку, что-то щебечет. Из-за какого-то непонятного шума он не может разобрать ни одного ее слова и злится. Воевал он на финской, в Польше — куда только не бросала его судьба. Теперь он весь — ожидание атаки. Когда уходил из дому, дочке было три года, четвертый пошел. А мать пишет, что Варюху нынче не узнать — барышня! Характером — вылитый батя. Закончила второй класс. Когда это все было? И было ли это вообще?
В блиндаж заглянул командир роты, приказал быть готовыми. Вместе с командиром в дверь ворвались клубы холодного воздуха, обдали, как жаром, лежащих на полу и забывшихся тревожной дремотой людей. Захаров сердито посмотрел на командира, судорожно передернул плечами. Ему было неприятно, что его потревожили, отвлекли.
Командир ушел. Захаров поднялся с пола, пробрался в дальний угол к баку, нацедил полную кружку воды и поднес ко рту. Пить ему не хотелось, он кривил лицо, будто глотал отраву, но пил и опростал кружку до последней капли. И тут наши глаза встретились. Мгновение зло смотрел на меня, сутуля плечи. Фигура его показалась мне громоздкой и несуразной, она загородила собой половину блиндажа. Он резко отвернулся и ушел на прежнее место.
— Какой репей к душе прицепился, Захаров? — спросил сосед.
Захаров стоя свернул цигарку, притворившись, что не слышал вопроса. Но едва затянулся, бросил цигарку под каблук и с ожесточением раздавил.
— Репей? — переспросил он. — Сам ты репей. Подвинься-ка лучше.
Долго мостился, потом успокоился, видно, опять незаметно, какими-то одному ему ведомыми путями очутился в том дальнем краю, где был его дом.
…Он вернулся с поля хмурый, подавленный. Председатель в ответе за все и за всех. Дули суховеи, не радовали виды на урожай. Ныло в груди, сердце больно сжималось: люди без хлеба всегда злы, а он не хотел, чтобы люди были злыми. Он и без того много видел в детстве своего и чужого горя.
— Достань из погреба холодного молока, — сказал он сердито жене и, присев к столу, развернул блокнот. Считал, пересчитывал — запасов урожая прошлого года едва до января хватит. Рядом вертелась Варя. У нее белые, смешно повязанные матерью красными узкими лентами косицы: «И чего она корежит ей волосы?» — подумал Захаров. Варя взобралась на стул и нечаянно опрокинула чернила, залила себе платье и руки.
Захаров накричал:
— Тебе что, ремня всыпать?
— Варя тоже будет писать, — заплакала девочка, размазывая слезы и чернила по щеке. Захаров невольно рассмеялся, хотел подхватить дочь на руки, но она увернулась и спряталась за спинку кровати.
— Папа, а я вот… — отчетливо послышалось в блиндаже. Он вздрогнул… Огляделся по сторонам. Тоска клещами сдавила душу. Он поспешно достал кисет и свернул цигарку, руки дрожали. Курил жадно, до тошноты. Обжигая пальцы, иссосал весь окурок.
— По-о-о-дъем! Приготовиться к выходу! — раздалась команда.
Захаров не понимал, куда его торопят. Слова дочери еще звенели в ушах. Он еще минуту продолжал верить, что все это было наяву. И вдруг вслух сказал самому себе: «Ты что, паря, никак мозги вывихнул сегодня?»
Рядом стоящие повернулись к Захарову.
Он виновато пробормотал:
— Нет, нет. Так, блажь всякая в голову лезет…
Люди бесшумно выбирались из блиндажа, стряхивали последние остатки сна. Узкой настуженной траншеей, ежась от холода, добрались до оврага, кинутого к самому подножию Лудиной горы. Отсюда начнется штурм, сюда стекались солдаты из других блиндажей.
Когда был подан сигнал выходить, Захаров еще мгновение стоял в раздумье: «И куда спешат? За чем вечно гонятся люди?» — недовольно бурчал он, что-то сжимая в руке. Стало больно пальцам. Недоуменно взглянул — часы. Странно, почему они не в кармане, а в руке? Когда и зачем он вынул их? Послушал ход… Часы остановились.
— Тьфу, леший! — Захаров с досадой сплюнул.
— Сколько там настукало? — осведомился сосед.
— Все мои.
— Ты чего это, не с той ноги встал?
Захаров медленно застегнул на все пуговицы фуфайку. Кольнул взглядом из-под нависших бровей дотошного соседа и стал молча натягивать маскхалат.
— Час-то который, спрашиваю? — не отвязывался сосед.
— На вот возьми и отстань. Да заведи. Что-то они у меня свое отходили. — И, отдав удивленному соседу часы, твердо шагнул к выходу.
За дверью блиндажа билась холодная безбрежная тьма. Толща низких облаков прижималась к земле. Мир, скованный ледяной стужей, казалось, вымер, лежал молчаливый и угрюмый. Немцы, измотанные за день не меньше, чем мы, атаками, затихли в звериной дремоте. Над головой стонал ветер. Выбравшись из оврага, первым нырнул в темноту, как в прорубь, командир роты. За ним поползли остальные, веером рассыпаясь в стороны. С кошачьей ловкостью, пластаясь, карабкались люди к вершине. Изрытая вдоль и поперек окопами, траншеями, опутанная паутиной колючей проволоки, она зловеще молчала. Чем выше поднимались, тем жестче хлестал в лицо встречный ветер. Склон, вылизанный морозным ветром, преодолели с трудом. Я насилу догнал Захарова.
— Петр Иванович, вернись.
— Чего тебе? Что такое? — испуганно прозвучал его голос.
— Вернись!
— Куда еще вернуться?
— Тебе нездоровится. Вернись!
— Ты чего мне, товарищ лейтенант, приказываешь? Теперь ты такой же командир, как и я, — разжалованный. Не надо было вступаться за меня, — сердито заговорил он. — Небось, жалеешь: близок локоть, да не укусишь! Впрочем, если ты, мил человек, воюешь не за страх, а за совесть, то жалеть не о чем. А ежели — наоборот, тогда так тебе и надо: меньше одним шкурником станет.
— Петр Иванович, не дури. Давай обратно.
— Отчепись, хороший, и так тошно, — он зло дернул плечом и рванулся вперед.
По возможности я старался не выпускать Захарова из своего поля зрения. Он же, наоборот, всячески норовил уйти от моей опеки. У самой вершины, где по склону были густо разбросаны ерши и рогатины, топорщились шипами мотки колючей проволоки, он приостановился, плотнее прижался к земле. Еще третьего дня саперы сделали проход в проволочном заграждении, и Захаров спешил найти эти «ворота», чтобы войти в них первым. Но не успел проползти и десятка метров, как оглушительный взрыв сотряс передовую. Кто-то из наших солдат наскочил на мину. Стало ясно — атака, рассчитанная на внезапность, опять провалилась. Когда же этому будет конец?
Внезапно разбуженные, перепуганные насмерть немцы открыли по нас беспорядочный огонь. Все спуталось, перемешалось. В воздухе стоял треск и вой, грохот и взрывы. Ракеты во всех направлениях полосовали хмурое небо.
Воспользовавшись суматохой, Захаров прошел в «ворота» проволочного заграждения и стал откалываться от нас, забирая вправо. Он быстро полз, прячась среди не убранных после предыдущих боев трупов. Не обращая внимания на сильный огонь, упрямо пробирался в направлении к дальней немецкой траншее, расположенной в южной части Лудиной горы. Я едва поспевал за ним, смутно догадываясь о его намерении. А расчет у Захарова был прост: немцы, занятые отражением атаки — атакующие действовали слева, — не заметят его, и он сможет осуществить то, что замыслил и обдумал до мельчайших подробностей. Он ворвется к ним в окопы. Он вырвет эту «кость из горла…» Он все обдумал. Но, решив действовать в одиночку, Захаров обрек себя на гибель. Он и сам это уже понял. Оставалась одна возможность спасти жизнь — вернуться назад. Эх, ему бы сейчас двух-трех солдат, и все можно осуществить почти без риска. Но с ним никого нет. «Вернуться, вернуться, вернуться», — убеждал внутренний голос. Да только Захаров уже был не властен отказаться от задуманного. Им руководило теперь нечто такое, что заставляло умолкнуть чувство самосохранения. Он должен! И он спешил. В запасе не было ни одной лишней секунды. Оглянувшись, он заметил, что товарищи его, попытавшиеся возобновить атаку, вынуждены залечь; атака опять, и теперь уже окончательно, захлебнулась. Он так и знал, так и знал, что опоздает. И он полз, полз, выбиваясь из сил, полз уже напрямик, без предосторожностей. Вдруг впереди него разорвалась мина. Как струны на ветру, запели осколки. Захаров не придал им значения, и только спустя минуту, как молнией, обожгло сознание: в осколках — смерть. От испуга до боли уткнулся лицом в жесткий снег.
Когда-то Захаров уже испытал нечто похожее. Было это в финскую, у линии Маннергейма. Впервые его подняли в штыковую атаку. Действовал он, ничего не помня и не соображая, точно был кем-то заведен заранее. Ему было невыносимо страшно, и он, чтобы заглушить в себе этот страх, истошно кричал «ура». Потом жизнь научила его сознательно относиться к опасности, и в этом состоял подлинный героизм. И вот здесь, на Лудиной горе, опять вернулось то, прежнее ощущение. Лишь внешне он оставался Захаровым, в остальном — был другим, незнакомым себе человеком. Что-то остро сверлило мозг. Один среди убитых, чужой среди всего чужого, он ощутил смертельный холод страха и все-таки пробирался вперед, утратив вдруг всякое представление о том, что он делает. Он чувствовал, что не властен над собой, хотел кричать, чтобы заглушить в себе страх, но знал, что ему нельзя кричать. И он спешил. Во всем существе властно звучало одно слово: «Скорей! Скорей!..»
И вдруг — туман в голове исчез. Стало легко, как после сна. Мгновение Захаров соображал, почему он один здесь, среди рытвин, перед бруствером чужого окопа. Пальцы коченели от холода. Спрятавшись за какое-то возвышение, чтобы не заметили немцы, он ощупал гранаты на поясе, пододвинул к себе автомат. Рывок — и он у цели. Из-за бруствера слышится непривычно лающая чужая речь. Немцы и не подозревают, кто у них под боком; продолжают палить по атакующим. Через голову Захарова летят трассирующие пули. Упорно, на одних руках, он бесшумно подтягивает тело вперед. Вот уж он у самого бруствера. Справа — рукой подать, — как отбойный молоток, стучит крупнокалиберный пулемет. Горло точно клещами сдавило, не продохнуть. Захаров рывком поднялся во весь рост, со стоном бросился к траншее. Вперед полетела связка гранат. Пулемет, захлебнувшись, заглох, и Лудина гора на секунду онемела. Никто ничего не понимал: ни атакующие, ни немцы. Захаров стоял над окопом, направив вниз автомат. Длинная очередь льет звонкую цепь. Захаров чувствует, что в диске патроны на исходе, и, чтобы выиграть время, прыгает в узкую расщелину. Со всех сторон на него прут немцы. Краем уха Захаров ловит перекатное «Ур-а-а-а-!»: поднялись с мест штурмующие.
Атака не захлебнулась! Она вскипела с новой, шквальной силой.
А он стоит неуязвимый и непоколебимый, как утес, и все у него идет как нельзя лучше. Одно скверно: неудобно, тесно в траншее. В диске кончились патроны. Он перехватывает автомат за ствол и, как дубиной, гвоздит налево и направо. Лязг и звон, хрустящий удар в чью-то скулу. Стон. Вскрики. Вспышки выстрелов выхватывают из кромешного мрака чьи-то выпученные глаза, оскаленные зубы. Теряя равновесие, Захаров выронил автомат, обеими руками схватился за голову, С него сбили каску. Тупая давящая боль стиснула виски. Меж пальцев бежит теплая, клейкая струйка. Почему она окрашивает в черный цвет белый маскхалат, плечи, грудь?.. Вода? Он никогда не знал такой воды… И опять, теперь уже острая, ослепительная, боль. Зеленые, красные, синие круги, бешено крутясь, обгоняя друг друга, смешались в один какой-то непонятный цвет. Как черный жернов, завертелась и стала уходить из-под ног земля. Он долго падал в глубокую, совсем без дна, яму. Кто-то жестокий и грубый навалился сверху. Кто-то острым каблуком наступил на руку… «Уа-а-а-а!» — донеслось глухо, как сквозь вату. Он узнает: это они, родные… Силится подняться навстречу этому крику, но чугунная тяжесть тянет вниз, не дает встать. Он очень устал, невыносимо хочется спать. Скорей бы…
— Захаров! — кричу я ему в самое ухо, трясу за плечи. — За-а-а-ха-ров! — Нельзя, чтобы он уснул, забылся. — Захаров!
Обезображенное, залитое кровью лицо кривится в беспомощной улыбке, ответить что-нибудь он не может. Только слабо шевелятся пальцы: на руке кровавым полумесяцем запекся след железной подковки.
Когда Лудину гору очистили, Захарова внесли в отбитый у немцев, жарко натопленный блиндаж; расстелили плащ-палатку, шинель и бережно уложили. Врач промыл глубокие раны, и толпившиеся вокруг в безмолвии люди внезапно увидели, что у Захарова высокий красивый лоб, непомерно густые изогнутые, как нарисованные, брови, ясно очерчен подбородок, красивое, овеянное благородством и мудростью лицо, только губы — белые. Белые как мел.
Кто-то тяжело, надсадно вздохнул.
Захаров открыл глаза, но было видно, что плохо различал обступивших его людей. Он мучительно пытался понять, где находится. Едва слышно, с усилием выдохнул: «Братцы… я сейчас… умру», — и перехватил мой взгляд. Узнал, улыбнулся. Две большие, как горошины, слезы скатились во впадины щек. «Жить… жить!..» — беззвучно пошевелил белыми бескровными губами. Вновь обратил глаза ко мне: «Вот она и Лудина гора, а говорили — нельзя ее свалить с плеч. Плохо же мы о самих себе думаем… Беда, что мы не знаем самих себя…» — Дальше ничего нельзя было разобрать. Он заметался, застонал. Кому-то грозил, кого-то упрекал.
И вдруг присмирел. Что-то мальчишески нежное проступило в чертах его остывающего лица. «Знаю теперь, чего так ждал… — выдохнул Захаров и заспешил: — Да-а, дедусь, иду, иду к тебе… Погоди, не торопи… Вот они… Варя, Васильевна… Вот, вот… Ты правду, дед, мне наказывал: три дороги у человека — одна к солнцу, другая к девке, третья к людям… Выбирай последнюю: солнце за тучу скроется, девка обманет, а люди, хоть и злые, но и добрые, ради них стоит жить… Я выбрал к вам дорогу, люди. Выбрал и не жалею…»
Захаров обвел нас чистым, ясным взглядом и отчетливо сказал:
— Поднимите меня, братцы.
Мы с врачом осторожно подняли его.
— Выше. Выше. Выше. Доченьке моей, Варе, поклонитесь. Скажите, что ей не стыдно за отца: не зря на земле жил…
Над блиндажом за дверью вставал рассвет. Бои гремели далеко от Лудиной горы. Лежала она притихшая, большим могильным холмом. Свое мы исполнили. Кое-кто из нас, в ком не проснулся трус, выйдет в герои, будет отмечен наградою, и радость нашу разделит с нами всякий встречный. Не будет только Петра Ивановича Захарова.
Мы знаем, что его нет. А может быть, в эту же самую непогодь две женщины, мать и дочь, с вечера до утра, не смыкая глаз, проговорили об отце и муже. Он самый лучший, самый дорогой у них. Жадная, неумирающая надежда на встречу с ним не покидает их ни на минуту. И пусть придет по почте лоскут жесткой бумаги — известие о гибели бесконечно родного им, плоть от плоти, человека. Они примут горькую весть, разотрут не одну слезу на щеке. Но все равно не станут верить, что его нет, не будет. Сердце до последнего удара не перестанет звать его.
Каталина
I
Не прошло и года, а человека уже не узнать. То ли у меня отшибло память, то ли время летит сломя голову. Не успеешь оглянуться, как прожита вечность, с разнообразием ее радостей, слез, утрат. В те три дня я знал ее девочкой и сам, еще зеленый юнец, по-отцовски заботился о ней, а сегодня из опекуна, кажется, стал опекаемым.
Наша часть грузится в эшелоны. Едем на отдых. Разведчики — эта фронтовая аристократия — успели уже начиститься, побриться; у них больше, чем у других орденов. Гордость, молодецкая выправка, величественная снисходительность к связистам, пехотинцам и ко всей остальной братии, как выражаются они, написаны у них на лице. Все заняты погрузкой машин, техники, военного скарба, а они лоботрясничают: ни дать ни взять — привилегированный класс, у них меньше всего имущества, зато больше, чем у кого бы то ни было, груз славы. Из старых моих друзей-разведчиков мало кто уцелел, все новые, в основном молодежь, но традиция живет. Человек еще вчера под стол пешком ходил, только-только успел стать разведчиком, а глядишь, апломба в нем, как будто самого Гитлера в качестве языка привел.
По служебным делам я ещё на несколько дней оставался на месте. Настроение не ахти какое. Всегда так — из тыла рвешься на передовую, а попав в пекло, тянешься в тыл. И особенно донимает тоска, когда твои однополчане покидают тебя.
Как знать, может, как раз в последнюю минуту, именно в ту, когда ты остался подчистить чьи-то хвосты, тебя и отыщет какая-нибудь пуля-дура, чем черт не шутит.
— Эй, Метелин! — окликнул лейтенант Березин. — Своих ищешь? Наш вагон возле радисток.
Он догнал меня и пошел рядом.
— Значит, остаешься? Со всеми вместе оно, понятно, лучше!
— Не утешай, сам знаю. Да полковник брюзжит, — ответил я. — Вот и остаюсь. За мою любовь к Санину мстит. Ну, и к тому ж недоверие. Как-никак — бывший штрафник!
Березин промолчал. Он не разделял моего мнения. Решил, видно, что просто мне не хочется оставаться, что я, пожалуй, предпочел бы, чтобы эта участь выпала другому.
— Все мы немного эгоисты, — бесхитростно усмехнулся он.
— Возможно. Видно, я не составляю исключения.
Березин из тех людей, кто мечтает совершить в жизни значительное. Взгляд его на людей, события не омрачен дотошным раздумьем о вещах, о собственном месте в жизни и своей ответственности. Он воспринимает мир как мир — прекрасный и правильный, таким, каким он был создан еще в детстве, в его воображении близкими людьми. В ложь и подлость не верит; человека видит только в одном свете — солнечном, и ему, человеку, поклоняется. Как-то мы заспорили с ним. Я проклял весь род фашистов и заодно нагромоздил на немцев такого, что и самому стало тошно.
— Немцы дали Гёте, Энгельса, Бетховена, Гейне, — возразил Березин. — И каждый немец все-таки человек. Подавляющее большинство их, правда, мерзостно исковеркано подленькой идеологией. Мы должны помочь им найти себя.
— То-то они и дают тебе сегодня кувалдой по голове!
— Не знаю. Все мы сегодня во власти глупости…
Я остолбенел. И часто потом удивлялся Березину, пока не привык к нему.
Пробираясь к голове эшелона, Березин сказал:
— Эх, брат, скоро тыл. Поживем! Ты тут не волокить. Ждать буду тебя каждый час.
Полустанок забит людьми, техникой. Платформы трещат под тяжестью орудий и танков. У вагонов радисток и разведчиков праздничное настроение: шум, смех, болтовня. Девушки оккупировали пульман и, уложив небогатые свои пожитки, облепили перекладину в двери, как птицы насест, иные стояли около, в окружении разведчиков.
Увидев меня и Березина, девушки весело зашумели:
— Товарищи лейтенанты, почему у вас все разведчики такие хвастуны?!
— Этого не может быть, — заступился Березин.
— Поклеп возводят, товарищ лейтенант! — возмутился солдат моего взвода Петя Кремлев. — А если пошло на то, так лучше нас во всей армии не сыскать парней. Верно говорю!
— Гляди на них! Чем не скромники! Ха-ха-ха! — грянул смех из вагона.
Кремлев расправил под ремнем гимнастерку:
— Смейтесь, смейтесь. Плакать будете, если повернемся и уйдем.
— Скатертью дорога.
— Мы на них ишачили, грузили, а они хиханьки да хаханьки теперь.
— Разведчики и охотники одним мылом мыты: врут и глазом не моргнут.
— Целое же вёдро семечек вам притащили, чтоб не скучно в дороге было. Вот она, женская благодарность!
— Подумаешь, семечки!.. Артиллеристы вон вагон арбузов нам нанесли. И не трубят о своих заслугах. Вот что значит правильные люди!
Разведчики разобиделись не на шутку.
— Вкус у вас, девоньки, однако, прямо скажем — ниже среднего! Артиллеристы! Никакой солидности. Мы, может быть, когда надо, и «охотники», для вас же стараемся! Но мы не мелкота. Адью! — как по команде они повернулись, оскорбленные в своих лучших чувствах, и показали девушкам спины.
— Ну что? Съели? — спросил я у радисток, смеясь.
— Ничего. Опять вернутся. В десятый раз они сегодня грозятся нарушить с нами перемирие.
— Плохо вы знаете разведчиков, — сказал Березин.
Тут я заметил, что из вагона, облокотившись о перекладину, за мною пристально следит смуглая, синеглазая девушка.
— Не узнаете?
И она спрыгнула на землю.
— Каталина!
Она порывисто припала к моей груди.
— Какое счастье! Я все время помнила, думала о вас. И не верила, что встречу.
Радистки и Березии ничего не понимали.
— Ба! Гляди! Да никак тут любовь, — раздались голоса.
Я смутился. Легонько отстранил Каталину. В душе я был несказанно рад этой встрече, но меня сковало какое-то чувство неловкости, что Каталина чуть ли не плачет от радости у меня на груди.
— Простите, — почти резко сказала она, заметив мое смущение, и тотчас ушла в вагон.
II
Как часто мы сами причиняем себе боль! Сидит в нас полный самим собою болван и не позволяет быть непосредственным, нормальным человеком: выдумывает какие-то свои обывательские, мещанские законы морали и подчиняет им всего тебя с ног до головы.
— Не в моих правилах вмешиваться в чужие дела, и я не собираюсь делать выводов, — заметил Березин, когда мы, провожаемые вопросительными взглядами притихших радисток, отошли от вагона. — Но, судя по всему, ты неправ.
Первая глупость влечет за собой вторую: я нагрубил Березину.
— Ты поостынь. Имей смелость признать, что неправ, — повторил он. — Говорят, только дурак может обидеть человека. Но насколько чаще это делают умники!
— Намекаешь?!
— Нет, просто хочу сказать: мало считать себя умным, надо еще и быть им.
— Чего тебе и желаю, — вспылил я, хотя и знал, что грубость — не лучший довод.
В памяти встали Пуховичи. Озабоченный капитан Кораблев, восемнадцатилетняя синеглазая Каталина. Я вспомнил все: и смерть, и седую прядь в волосах, и мутную, хмурую Березину, и штыковую атаку, и немцев, бредущих по колено в воде, и опять Каталину… Вел себя, как последний отпетый идиот. А в полдень эшелона уже не было на полустанке. Я только и успел сказать Березину:
— Николай, все может быть. Мне предстоит некоторое время еще провести в окопах. Передай Каталине, что вышло все как-то глупо. Я искренне прошу у нее прощения.
Березин растрогался, глаза потеплели. Сказал, что все уладит, он знает; Каталина — славная девушка, с ней он вместе учился в школе особой службы.
— Но она, как и я, неудачник, оставила школу. Неделю назад попала к радистам, — добавил он.
«Неудачник», — усмехнулся я. Ему без малого девятнадцать. Голубоглазый, с еще ни разу не бритым, прозрачным и свежим, как у девушки, лицом юноша. Что успел он испытать за свои годы, чтобы стать неудачником? Ничего… И в то же время слишком много: два месяца он в разведке! В Березине живут и спорят между собой мальчишка и муж. Первого он прячет в себе, второго подчеркнуто выставляет напоказ. От этого нередко он кажется смешным и давно бы стал мишенью злых острот разведчиков, если бы не его непосредственность. Лишенный всякой хитрости, он был чист, как родник.
— Я очень жду тебя, Метелин! — крикнул он уже из вагона.
Во всем мире я остался один. Звеня, убегали вдаль рельсы.
III
Лето 1942 года не принесло радости. Из рук в руки переходил Ростов. Пол-России стояло на колесах. На восток, к неведомому берегу, по-прежнему тащился нескончаемый обоз беженцев, шли составы с военным имуществом, оборудованием эвакуированных заводов. Увезти все было немыслимо. Много народного добра было потеряно, часть уничтожена, часть брошена; и на востоке тоже люди не успели обосноваться так, чтобы снабжать многомиллионную армию и кормить, хотя бы впроголодь, детей, стариков и женщин. Все было на ухабистой, разбитой снарядами и размытой ливнями дороге между двух берегов — Востоком и Западом. А немец рвался вперед. Он, казалось, только сейчас по-настоящему развернулся. Сильный, выносливый и обнаглевший. Сжигать и разрушать свои заводы ему не привелось, не нуждался он и в хлебе. Европа, от Пиренеев до Карпат, от студеного Северного моря до знойных долин желтого Нила, подчиненная железной воле завоевателя, попираемая кованым сапогом, работала на него. Россия, обожженная пламенем войны, была одна. Мы, солдаты, сопровождаемые детским плачем, шли на восток. Шли, чтобы вернуться. Лето 1942 года не принесло радости, и все-таки оно было светлее, чем лето 1941. После Москвы, вернее, после событий, развернувшихся в декабре под Москвой, не страшна была дорога даже длиною в год, до самого холодного Чукотского моря. Немец обнаглел, окрепли его мускулы, тверже и отточеннее стали волчьи зубы, но битому ему быть! Знали это в Ставке верховного командования, в штабе фронта и армии, знали в дивизии, в моем взводе, в отделении сержанта Русанова, в этом был убежден каждый солдат. И это было главное, остальное не шло в счет. Сосало под ложечкой от скудного пайка, от недосыпания, но это уже было не так важно. На сердце не давил камень безысходного уныния, разгладились скорбные морщины на исхудавших и опаленных колючим ветром лицах. Те, кто уцелел, сегодня уже не думали о смерти: жизнь только начиналась, прекрасная, светлая. За спиной не стояла страшная тень неудач первых дней войны: мы отступали, но шли навстречу победе. Люди чаще стали вспоминать, что они — люди, готовые отстаивать жизнь даже ценой своей жизни.
Все эти дни, мотаясь по передовой и знакомя прибывших новичков с обстановкой, в мыслях я был далеко отсюда, завидовал однополчанам. Они мирно спали, над ними не висела обнаженно война; не мог дождаться, когда, наконец, перестану дышать горьким от пороха и дыма воздухом.
Судьбе угодно было щадить меня: вскоре и я был на колесах, сидел, забившись в угол вагона, и думал, думал только о себе, у меня неожиданно много появилось для этого времени. Я и не представлял, что так устал. Устал сердцем. Устала голова. Каждый мускул во мне гудел от усталости, требовал отдыху. Вагон набит людьми, как бочка сельдями. Одни курят, другие, как и я, пребывают между сном и действительностью, третьи режутся в карты. И странно, мне нет никакого дела до этих озабоченных и беззаботных людей: я весь отдан самому себе. Я был переполнен войною. Первые сутки перед глазами вспыхивали взрывы, я лазил по узким, грязным окопам, на вторые сутки от кого-то убегал, прятался от живой смерти, меня уводила куда-то Каталина, а на третьи я был совершенно бодр и жил мыслями о тыле. В часть приехал свободным от тяжелого груза кошмаров и усталости, будто с курорта возвратился.
— Метелин! Как хорошо, что ты уже здесь! — встретил меня Березин обрадованно и искренне и тут же принялся выкладывать, в какой рай они попали. Девчата. Молоко. Лягушки квакают на реке, соловьи заливаются в рощах, война осталась где-то за тридевять земель.
Что у них все отлично устроено, я с первого шага убедился сам. Взводы Березина и мой разместились в палатках в старом яблоневом саду, на околице деревни. Тут же была и наша с Березиным палатка. Одним концом она прикреплена к раскидистому стволу яблони, прямо над головой — налитые солнцем румяные плоды, Поистине сельская идиллия: в стороне, на лужайке, паслась стайка пятнистых, как карта-десятиверстка, телят, около солдатских палаток расхаживали куры, среди них величественно вышагивал красивый, нарядный, как павлин, кочет. Вчера я еще думал, что навек рожден солдатом. Но, оказывается, есть и иная жизнь…
Меня окружили разведчики. Они наперебой выкладывают все, что накопилось у них за эти дни; весело смеются, острят. Все начищенные, выбритые, помолодевшие.
— Лейтенант, вас приглашает хозяин, — вдруг слышу у себя за спиной и оглядываюсь. Передо мной адъютант полковника Войтова. — Вы не торопитесь явиться к начальству! — кольнул он.
Адъютант был точен в исполнении своих служебных обязанностей, сух, черств и высокомерен; на редкость тонко подражал во всем своему командиру и еще тоньше передавал его настроение. И уж если начальник вас не жалует, то его адъютант не любит вас в десять раз больше.
— Да, да. Не торопитесь докладывать, лейтенант! — повторил он в ответ на мой недоуменный взгляд.
— Дайте с дороги привести себя в порядок…
Но адъютант, не дослушав меня, ушел. Я слишком хорошо знал полковника Войтова, чтобы остаться равнодушным к словам его адъютанта. Значит, меня уже ждут, был обо мне разговор. Войтов человек незаурядной воли, твердого и жесткого сердца. Командуя крупной воинской частью, он до самых мелких подробностей знал минусы и плюсы всех своих подразделений и чуть ли не каждого командира в отдельности. Артиллеристов и разведчиков недолюбливал, считал их баловнями судьбы: по его твердому убеждению, должно было быть иначе — они всего лишь придаток пехоты. Войтова боялись, стоило услышать: «Идет сам», как все моментально подтягивались, на полуслове обрывались шутки, умолкал смех.
Спустя полчаса я был в штабе. И неожиданно для себя увидел здесь Каталину. Мое появление ее тоже удивило, она так и застыла на месте. Я отдал честь и обратился к полковнику. Он молча выслушал мой доклад и молча принял от меня адресованный ему пакет от командующего частью, заменившей нас на передовой. В штабе — большой, просторной горнице — были только писарь и Каталина. Зачем она здесь, я не мог понять, но было видно по всему, она здесь свой человек. Наши глаза встретились. Полковник стоя читал письмо. Седая прядка резко выделялась в волосах Каталины. Она — по-мальчишески стройная и подтянутая, и в лице ее что-то от мальчишки. Все в ней открыто и знакомо. Кажется, только вчера были Пуховичи, только вчера видел ее; кажется, знаю все ее детство.
— А тебя здесь хвалят, — оторвавшись от письма, сказал Войтов и окинул меня пристальным взглядом. — Впрочем, вас, разведчиков, хвалят всегда. А вот пехоту похвалой не балуют, хотя на ее плечах лежит главная тяжесть войны. Вы решаете мелочь, частность, пехота — целое.
— Любое пристрастие, товарищ полковник, — осмелился возразить я, — грешит необъективностью.
Войтов вспыхнул, но сдержался. Минуту, казалось, он подыскивал слова, чтобы ответить. Бритая, круглая, как шар, голова его лоснилась, мочки ушей налились кровью. Он лишь мельком покосился в сторону Каталины и сказал:
— Продолжайте, лейтенант… Или духу не хватает? Впрочем, в своей философии вы не исключение. Модой стало искать пятна у старых командиров. И даже вот такие, как ты, щелкоперы, лезут туда же. Грешит необъективностью! — повысил голос Войтов. — Разводить антимонию вы мастера. А мы рубили голову белогвардейщине, интервентам и прочей сволочи вот этими руками, — Войтов выбросил вперед свои сильные, широкой кости руки, перевитые голубыми венами. — Мы породили армию, в которой ты служишь. Мы жили в холоде и голоде, носили драную одежду…
Я не отрывал глаз от Войтова. Одетый с иголочки, начищенный и выутюженный, он стоял выпрямившись, сильный и красивый. Несколько мгновений я колебался, затем сказал, что сегодня я приемлю его, одетого богато и со вкусом, больше, нежели Войтова в прошлом. Как не понять набившей оскомину истины, что всему есть свое время, что его сила, сила моих отцов потому и вызывает у меня чувства восхищения и любви, что она затем и потрачена, чтобы не было голода, холода, рубищ. Ни я, ни мои сверстники никогда не станут обожествлять и превращать в икону страдания и муки. Мы будем поклоняться мужеству, которое обновляет жизнь, делает ее прекрасней, чем она была вчера.
— Значит, по-твоему выходит, что я — вчерашний день? — В его голосе отчетливо слышался металл.
Я оглянулся на Каталину и писаря. Каталина стояла бледная, стиснув тонкие руки. Писарь, ссутулив плечи, уткнулся в бумаги.
— Ты не смотри по сторонам, отвечай прямо!
— Сегодня — вы еще сегодняшний день. А завтра, кто знает, быть может, я этого уже не скажу. И о себе тоже, если буду жить прошлым, им определять то, что происходит сегодня.
Войтов бросил на стол скомканный пакет, закурил и тут же ткнул папиросу в пепельницу, затем быстрым движением вышел из-за стола и отодвинул стул:
— Если я у тебя вчерашний день, то давай, садись на мое место и командуй.
— Для этого нужны опыт и знания.
— Кишка тонка, вот что я тебе скажу! — Войтов вновь закурил и принялся ходить по комнате. — Вчерашний день. Любопытно. Значит, тебе прошлое не по сердцу. Не нравится?
Он остановился передо мной.
— Вы вольны неправильно истолковывать мои мысли, но ведь вы предложили мне откровенный разговор, товарищ полковник.
— Может, я и в самом деле чего-то не понимаю. А ну скажи, — Войтов, слегка склонившись, заглянул мне в лицо. — А ну скажи: убирайтесь вы, отцы, ко всем чертям и не мешайте нам, молодым умникам, разводить анархию.
— Я слишком люблю своих отцов, чтобы позволить себе думать о них плохо.
— Любишь и судишь?!
Войтов отошел к столу.
— Сужу за то, что, живя заслугами былого, прошлым меряя сегодняшний день, они переоценили себя, заставили меня уверовать в силу, которая уже не была силой. Я был глубоко убежден, что с саблею, на коне и на «одиннадцатом номере» смогу пройти любую дорогу. А результат? Не правильнее ли сегодня смотреть честно суровой правде в глаза, нежели повторять ошибку?
На скулах Войтова набухли желваки.
— Значит, если по-твоему судить, ты не веришь, что мы победим? Только, если уж начал, выкладывай все начистоту! Значит, быть нам битыми?
— Нет, — ответил я. — Мы стали жить сегодняшним днем!
— Что вы хотите этим сказать? — «Ты» и «вы» у Войтова перемежалось.
— Именно то, что сказал, товарищ полковник.
Так!.. — Войтов прошелся по комнате. Под сильными ногами скрипнули половицы. Взглянул в сторону писаря и о чем-то подумав, повернулся ко мне:
— Вот что, Метелин, если уж начистоту, то начистоту. Не жаловал я тебя своим расположением, не любил. Не знаю почему, но не любил. И, откровенно, оставил тебя на передовой для выполнения задания тоже потому, что не любил; даже где-то в глубине души подумал, что если отвяжусь от тебя, то тоже небольшая беда…
— Я все исполнил, как вы приказали, — сказал я и почувствовал на лбу испарину. В комнате стало до тошноты глухо. «…Отвяжусь от тебя…» Мне невмоготу было думать о том, что означали на практике эти слова Войтова.
— Но ты не сердись. Ты тоже мне преподал урок. О людях мы часто судим дурно потому, что как следует не знаем их… — Полковник дружелюбно, по-отцовски кивнул головой. — Можешь быть свободным.
Я вышел. На улице меня ждал Березин.
— Что с тобой? — спросил он. — На тебе лица нет.
— Так, ничего. Устал с дороги.
IV
Опустились прозрачные сумерки. Жара схлынула, от реки потянуло прохладой. Первый вечер вдали от войны. Непривычно и странно. Слух ловит тишину, и нервы напряжены, хотя и знаю, что в этой тишине ничего не случится. Все еще никак не могу освободиться от тягостных мыслей после разговора с Войтовым. Чем вызвано такое отвращение ко мне?
Березин бреет и без того гладкие щеки, щедро льет одеколон, подшивает белый, как крыло чайки, подворотничок, наводит суконкой блеск на сапоги. Наряжается он будто на свадьбу. Гляжу на него с улыбкой и думаю: в человеке всегда две стороны — одна начищенная, другая глубоко спрятанная. Мы часто попадаем на крючок, когда судим о человеке по его вывеске. Но у Березина соответствует одно другому. Он в эти минуты бездумен и счастлив. Озабочен одним собою. Видно, неспроста. Жду, когда он сам скажет об этом. Знаю — не утерпит. Но нынче он удивительно скрытен: не иначе как увлекся кем-то не шутя.
— Ты будешь собираться? — повернулся он ко мне.
Я молчу, развалившись на топчане. Мне уже известно, что в деревне, возле клуба, вечерами собирается масса народу — гражданские и военные, гармонь, игры, песни.
— Сегодня из соседнего села девушки приедут. Вторую субботу к нам ездят. Блеск девчата! — Березин весь изнутри светится. Будь я девушкой, любил бы его взахлеб. — На часы посмотри, всё провороним, незло ворчит он.
— Что всё?
— Хватит валять дурака, прикидываться недотепой. Между прочим, я тоже в первый вечер, когда приехали сюда, вообразил — вот отсыпаться буду! А вышло: здесь сплю меньше, чем на передовой, только с одной разницей — там ноги от усталости едва таскал, а здесь усталости — ни в одном глазу. — Березин оглядывает себя в зеркало, проводит ладонью по щеке, причесывает волосы. Шевелюра у него поэтическая, чуть ли не до плеч.
— Коля, ты стихов не пишешь?
— Это чего ради?
— Грива у тебя, как у льва!
— Стихов не пишу, но душа звенит. Это точно.
— С чего же это она?
Вместо ответа Березин налетел на меня коршуном, дал под бок тумака:
— Ни одной минуты больше не жду! Подъем!
Я соскочил с топчана, наскоро привел себя в порядок.
— И жить торопятся, и чувствовать спешат. Суета сует. Безумство и любовь, ворчливо повторяю я старые истины. — А когда же отдыхать?
— В гробу, — смеется Березин. — И будь по-другому, человек не много успел бы.
Деревня уже жила своей вечерней жизнью. Лепится она вдоль берега реки, тонет в садах. Белые глинобитные домики не знают войны, если не считать, что в их стенах не осталось взрослых мужчин. Тихая, кинутая вдаль от больших дорог, она с сумерками погружалась в сон и с первыми петухами зажигала в окнах огни, начинала трудиться. Приезд солдат в корне изменил жизненный регламент деревни. Этому радовались все, начиная от детворы и кончая женщинами. Войтов отдал приказ командирам подразделений выделять ежедневно солдат для полевых работ в колхозы, на территории которых мы разместились. Дела у колхозников пошли сейчас лучше, пожалуй, чем за всю их историю. А по вечерам деревня кипела. Особенно живо билось ее сердце у колхозного клуба, на пятачке.
Еще издали мы услышали развеселые голоса гармоники, ядреные припевки, дробь припляса, взрывы смеха. Окна клуба светились. Там сегодня Войтов читал лекцию. Улицу и дорогу запрудила толпа не уместившихся в клубе. Разряженные девчата, сгрудившись, следили, как выводил замысловатые коленца на крохотной гармонике такой же крохотный, невзрачного вида пехотинец в обмотках, облепили его как мухи. А он, гордо вскинув курносое лицо, косил лукавые глаза то на одну красавицу, то на другую. И вдруг, как разноцветье огней в ночи, рассыпались у него над головой припевки. Гармонист в мгновение преобразился, распрямил плечи, подлаживая свою гармонику под золотоволосую певунью, то приглушал звуки, то давал им свободу и раздолье. Едва же припевки оборвались, пехотинец вскочил со своей гармоникой, пошел в припляс по кругу.
— Эй, давай пляши, губерния!
— Не иначе рязанский этот мужичок с ноготок, — с завистью язвит сибиряк Русанов. — И наплодила же природа мелкоты. А отплясывает он и впрямь лихо.
— Огонь парень!
— Вот те и пехота!
Но тут на удивление всем рядом с гармонистом вдруг встали три его дружка. Все почти такого же, как и гармонист, роста и курносей один другого. Как взрыв, брызнул девичий смех. Но танцоры не долго оставались одни. В круг выбежали сельские плясуньи, и пошло соревнование. Однако гармонист-виртуоз оставался вне конкурса. Во всей его ладно сбитой небольшой легкой фигуре ни тени усталости. Пела его гармонь, выплясывали его ноги, и улыбка, за которую любая недотрога, не моргнув, отдаст сердце, горделиво застыла на его лице.
Я так увлекся зрелищем, что и не заметил, как куда-то скрылся мой Березин. Бросился было искать его: заглянул в клуб, где собрались почти все командиры, обшарил запруженную толпой улицу, но все тщетно. Березин как в воду канул. Битый час я бродил среди веселья один. И вдруг кто-то тронул меня за руку. Поворачиваюсь — Каталина.
— Вы почему не на лекции?
Вместо ответа выпалил ей все свои обиды на Березина.
— Не надо быть эгоистом, оставьте Березина немного и для других.
— Березин, я гляжу, многое уже успел, если вы берете его под защиту?
Каталина как будто мало чем отличалась от той девочки, которую впервые я узнал в Пуховичах. Перемены, казалось, только и были в том, что платье сменила форма воина. Те же большие внимательные глаза, то же строгое юное лицо.
На «пятачке» начался общий танец.
— Ваши подруги танцуют. Давайте и мы, — пригласил я ее.
— Только потому, что танцуют они?
— Нет, не только…
А вы не застыдитесь танцевать со мною?
— Вижу, вам кто-то успел испортить настроение. Кто же?
— Может быть, и вы…
— Это невозможно, хотя бы потому, что для этого у меня еще не было времени.
— Это правда! Вы не особенно спешили меня видеть. Суета сует.
— Странно. Поучал Березина, а усвоили вы, — вырвалось у меня. Именно эти слова были сказаны мною в начале вечера Березину.
Каталина рассмеялась.
— Чему вы смеетесь?
— Пойдемте танцевать, — уклонилась она от прямого ответа.
— Давайте лучше побродим. Смотрите, какое великолепие! Покой. Деревья спят. Я ни разу не видел на передовой, чтобы спало дерево. Вы успели ко всему этому привыкнуть. А для меня все кругом не настоящее. Кто-то взял и выдумал этот мир. Он словно из какого-то чудесного сна.
— Значит, бродить? — переспросила она.
— Да..
— Сегодня мне не хочется ни в чем перечить вам: слишком многим обязана я вам. — В голосе Каталины мне послышались насмешливые нотки.
— Опять задираете?
Каталина взяла меня под руку:
— Пойдемте. Я сказала правду. Я действительно многим обязана вам. Когда-нибудь, если захотите послушать, все расскажу. Вы, поди, забыли Березину. Я — нет. И никогда не забуду.
Залитой голубоватым светом молодого месяца улицей мы вышли к реке. Рука у Каталины горячая. Радость ее теплом вдруг передалась мне. Когда-то я в душе молил судьбу, чтобы с этим маленьким человеком ничего не случилось; хотел быть ему отцом, старшим братом, заботливым и взыскательным. Сейчас, чувствуя ее рядом, заглянул в глаза — они почти возле моего лица, — и в пристальном, лихорадочном напряжении их уловил что-то неизреченно нежное.
— Каталина, вы очень повзрослели.
Она покачала головой:
— Нет, ничего не изменилось. У меня — только, чур, секрет! — в вещевом мешке есть кукла из лоскутов. Это моя первая любовь. Когда ложусь спать, я, представьте, играю с нею и тоже укладываю спать…
У меня защемило сердце от этих слов. Чтобы справиться с волнением, высвободил локоть, остановился. Бросил камень в реку — по глади побежали круги. Лицо Каталины в сумеречном тумане. Я взял ее за плечи.
— Нам лучше уйти отсюда… — сказала она, но не двинулась с места. Стояла безропотная и доверчивая, как белый цветок.
— Пойдемте, — сказал я.
— Нет, — глаза ее были полны слез. — Я хочу вас поцеловать…
— Каталина?..
— Я так хочу!
— Смотрите, кто-то идет.
Я никого не боюсь.
Она обвила тонкими сильными руками мою шею и поцеловала в губы. Все в ней дышало огнем. Руки, голова, грудь.
— Пойдемте! — вдруг с непонятным ожесточением сказала она и почти убежала от меня.
Я медленно направился вслед вдоль берега реки. В стороне спали, нахлобучив камышовые шапки, дома. Дорогу щедро устилал серебром месяц. Зеркало воды тоже в серебре. Каталина остановилась у обрыва, издали был виден ее склоненный силуэт. Когда я подошел, она даже не взглянула в мою сторону.
— Что с вами?
— «Умри, но не давай поцелуя без любви!» — Она резко повернулась ко мне всем корпусом. — Вы помните, кто записал в свой дневник эти слова?
— Что вы хотите сказать?
— Только одно: лучше бы вас не было. А теперь пойдемте домой.
Я пожал плечами.
— Что ж, человеку можно нагрубить, даже больше — ударить по лицу и считать при этом себя правым. Человек безответен, осел начнет лягаться.
— Вы ничего не понимаете. Черствый, ледяной человек! И что бы вы ни сказали сейчас, пусть даже правильное, все равно это будет неправдой. Я долго ждала вас, чтобы сказать все. И что же? Там, при встрече на полустанке, вам было стыдно, что я бросилась к вам с открытым сердцем. А сегодня… Я не пойму, что делается со мною. Неумная, пустая, не способная ни на что девчонка! И любить не умею. Все во мне гадко, скверно. А человек для того и человек, чтобы в нем ничего не было гадкого, мелкого, скупого, чтобы он радовал своим присутствием жизнь. Что смогла я? Ничего!
— Погодите, — прервал я Каталину. — Мне слишком дорога память вашего отца, чтобы я мог позволить вам говорить и делать глупости. Лучше ответьте мне, почему вы оказались и вели себя как дома у полковника Войтова?
Каталина долго молчала и вдруг заплакала.
— Я ничего не понимаю. Все не так, не то, — сквозь слезы говорила она. — Войтов здесь ни при чем. Я думала — будет радость, а вот… — Она, как дети после слез, прерывисто и глубоко вздохнула. — Вы не сердитесь. Это пройдет. Я давно не плакала. А, оказывается, надо и поплакать. Слезы что-то смывают с души… Вот видите, я уже не плачу. При чужом я бы не заплакала. — Каталина движением пальцев стерла слезы, улыбнувшись. — Что вы смотрите?! Смешно глядеть на плаксу, правда?
Я отрицательно покачал головой, а сам думал, что Каталина, как неотстоявшееся молодое вино, бродит, но у вина для этого есть условия и время, а у нее нет. В восемнадцать лет отказаться от восемнадцатилетия, заживо похоронить в себе все связанное с ним и облачиться в гимнастерку солдата — как это трудно и сурово!
— Скажите что-нибудь, — Каталина взяла меня под руку. — Глядите, река совсем неподвижная. О чем вы думаете?
— Думаю о вас. Ведь с того дня, как увез вас генерал Жолобов, много утекло воды. Чем вы занимались этот год? Почему вы сегодня солдат? Почему не разыскали мать, не остались с ней? Как оказались в нашей части? Вы, кажется, были в спецшколе? Видите, вопросов сколько!
Каталина заговорила не сразу.
— На них можно ответить одним словом и все понять, если захотеть. Когда-то я тоже засыпала вас вопросами, теснившими мне грудь. И ни на один из них вы не захотели ответить прямо. Вы правильно сделали, что поступили так. Никакие объяснения не помогут понять, что происходит сегодня. До этого надо дойти самому. И я постигла, что должна делать, поэтому я здесь, в армии.
— Почему вы покинули спецшколу?
— Разве вы всегда поступаете так, как хотите?
— Значит, это произошло помимо вашей воли?
— Не знаю.
— Вы не хотите ответить?
— Я вам сказала правду.
Чем дольше мы говорили, тем более непонятной для меня становилась Каталина. Она успокоилась. Лицо ее посуровело, в голосе не слышалось слез. Неоперившимся птенцом, капризным и наивным, и одновременно многоопытным человеком казалась она мне. С одной стороны, в ней жили непонятная жестокость и трезвость, с другой — глубокая нежность. Упади снежинка ей на душу и оцарапает ее. Кто она?
— Каталина, что у вас общего с Войтовым, почему я застал вас у этого старика? — спросил я. И будто ударил ее по лицу. Она резко высвободила руку из-под моего локтя.
— Вы всю вину валите на головы отцов и думаете, что правы? И эту ли истину надо искать — кто прав, кто виноват? Войтов оказался сердечнее вас, и не любить его в те минуты я не могла.
— Пойдемте домой, — сказал я, видя, что чем-то ожесточил Каталину.
У дома, где жила она с другими девушками-радистками, я пожелал ей покойной ночи. Поднявшись на крыльцо, она помахала рукой, сказала:
— Передайте лейтенанту Березину, чтобы на меня не злился. Когда-нибудь он все поймет правильно.
— Он — возможно, но я ничего не понимаю. Объясните, что все это значит?
Каталина ничего не ответила, улыбнулась и скрылась за дверью.
V
Минула неделя. Втянуться в мирную жизнь не составляло труда. Война еще жила в сердце, но была далеким событием, а что далеко, волнует постольку, поскольку требуют этого либо правила приличия, либо иные мотивы; человеку порой необходимо непосредственно соприкоснуться с бедами, чтобы он знал, что это такое, и не страдал забывчивостью. Это правило отлично усвоил Войтов. Он до отказа загрузил сутки боевой учебой бойцов и командиров, в его жестком регламенте передохнуть некогда. Но мы изворотливы, умудряемся найти время и для себя, будучи твердо убежденными, что там, где пройдет заяц, проберется гончая, где проберется гончая, там пройдет охотник, а где — охотник, там пройдет лошадь, где пройдет лошадь, там проедет повозка.
С Березиным у нас дружба — водой не разлить. Правда, он по-прежнему ревниво хранит в тайне свои сердечные дела. Но кое-что я заприметил и терпеливо жду, когда он раскроется. Каталину почти не вижу. День провожу в степи на занятиях с бойцами, а вечерами торчим на разборах у Войтова. Передаю ей приветы через Березина. Он свой взвод взвалил на меня; сам предпочитает дежурство по части, различные штабные поручения. Все эти ухищрения для того, чтобы чаще видеть Каталину. Он весь во власти мятущегося чувства, хотя вида не подает. У меня на душе иногда скребут кошки, просыпается что-то безотчетное, похожее на ревность, но я боюсь признаться в этом даже самому себе.
И вот как-то случай свел нас на пятачке. Каталина была озабочена. Березин что-то внушительно говорил ей. Заметив меня, он немедля переменил тему разговора, рассмеялся. Вышло у него это ненатурально. Он и сам почувствовал фальшь и покраснел до корней волос.
— У меня к вам разговор, Каталина, — сказал я. — Вы не очень заняты?
— Нет. А что?
Я покосился на Березина, недвусмысленно давая ему понять, что он мне помеха. Березин заколебался.
— Нет, останьтесь! — вдруг обратилась к нему Каталина. И повернулась ко мне. — Я слушаю.
— Здесь не совсем удобно, — замялся я.
Каталина спросила напрямик:
— Вы боитесь его? — кивнула на Березина и с издевкой улыбнулась. — Он же вам друг.
Я, да и, видимо, Березин поняли, что выглядим довольно-таки смешно.
— Не кажется, ли вам все это мальчишеством? — снисходительно сказал я Каталине.
— А вам не кажется, что пора, наконец, перестать опекать меня и принимать за девчонку, которая без мамы не может и шага ступить? — спросила Каталина. — Кстати, вы не оригинальны. — Она метнула взгляд на Березина. — Лейтенант тоже считает своим долгом опекать меня. Даже закатил сцену. Он, видите ли, огорчен и уверен, что мое пребывание в армии — чистая случайность. Его чутье подсказывает ему, что я сама раскаиваюсь, готова грызть локоть. Дескать, мое место в Москве, около мамы, я должна быть в институте. Войтов ко мне относится хорошо, не поздно исправить ошибку. Ну да что толочь воду в ступе, думайте, что хотите! Только избавьте меня от этой заботы. Я не беспомощный щенок. Никто не знает, что у меня тут, на сердце. — Руки Каталины взметнулись к груди. Мне по-настоящему стало стыдно от какой-то своей мелкоты. Березин пристально разглядывал свои сапоги. — А думать обо мне можете все, что вам угодно, — продолжала она. — У людей никто не отнимал права заблуждаться. Сегодня одна моя подружка даже сообщила мне, что я втюрилась по уши в лейтенанта Метелина. А я-то и не догадывалась об этом.
— Вы хотите сказать…
— Просто хочу предостеречь вас, лейтенант, от заблуждений.
Каталина! Из давней короткой встречи я вынес обрывочные представления об этом человеке. Но забыл, кажется, и то немногое. Думал — передо мною девочка восемнадцати лет. В возрасте не ошибся! Ошибся в главном. Забыл о времени, которое заставляет мужать не по годам, а часам. Я забыл о самом ценном в человеке — об одаренности его натуры и с одинаковой меркой, как ко всем, подходил к Каталине. Чего доброго, мог еще возомнить себя неотразимым и — этаким пошляком Дон-Жуаном — волочиться за нею, стараться кружить ей голову. В ней же все светло и чисто. Она полна силы, не доступной ни мне, ни Березину.
— М-да, поделом, — сказал я лейтенанту. — Каталина преподала нам превосходный урок. Что ж, пошли.
— Я останусь, — сказал Березин.
VI
Некоторое время я наблюдал Каталину издали. Я уже не мог оставаться равнодушным к этому человеку, повернувшемуся такой неожиданной стороной. Березин после нашего разговора втроем дулся на меня, свой взвод сам уводил на занятия. Вечерами тщательно чистился, мылся и уходил из палатки, не обмолвившись со мною ни словом. Я знал — его ждала Каталина. Но долго он не задерживался, возвращался то захлестнутый без меры счастьем, то подавленный и несчастный.
— Все ты виноват, — выпалил однажды он и тут же присмирел. — Послушай, Саша, давай поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты любишь Каталину, так скажи, и я уступлю тебе дорогу.
Я усмехнулся.
— Не смейся! — возмутился он. — Я люблю. Не могу жить без нее! Все во мне перевернулось, не узнаю самого себя. Я глуп, я сумасшедший, я самый счастливый. Ради нее отказался от долго лелеемой мечты… — Он перевел дыхание. — Все началось еще в спецшколе. Из-за Каталины я тоже ушел оттуда. Для меня это могло кончиться очень худо, но поступить иначе было выше моих сил. Ради всего святого прошу тебя — пойми. У тебя тверже воля, ты сумеешь заставить себя. Я же бессилен, потому что люблю ее больше, безумнее. И поэтому не могу. Скажи себе — нет, и я, Саша, твой друг до гроба. Я сделаю все, чтобы сохранить Каталину. Ее место не здесь, не в армии, и тем более не на фронте. Я просил Войтова, и он обещал. Каталина должна вернуться в тыл, ее надо сберечь!
— Тебя никогда не будет любить Каталина, — сказал я.
Березин подскочил ко мне с кулаками, вытянутый, как струна. Но в его глазах стояли слезы.
— Научи!.. — процедил он сквозь слезы.
— Ты слишком для этого поглощен собой.
— Я люблю ее. Ты знаешь, что это такое? Люблю!
— Не знаю. — И я вышел из палатки.
Густели сумерки. Солдаты готовились к ужину. Березина я, казалось, знал до глубины, думал, он — воплощение добродетели, и вот — незнакомый, чужой и жалкий человек. Неужели Каталина видит только начищенную сторону в нем? Я рассердился. И понесло меня, как захлестнутую лошадь на обочину: какой только чуши не нагородил самому себе о Каталине и Березине!
После ужина Войтов пригласил командиров к себе. Длинная, большая комната едва вместила всех. Здесь оказалась и Каталина; вела себя непринужденно, словно была на положении хозяйки. Я недоумевал: офицеры собрались, чтобы подвести итоги боевой учебы в подразделениях, роль Кораблевой оставалась загадкой. Слуху, который дошел до меня, не верил, но столь частое посещение ею полковника, ее присутствие в его доме даже в часы, когда он вел деловой разговор с подчиненными, — все это было слишком откровенным вызовом. Березин, забившись в угол, не спускал глаз с Каталины. Войтов стоял у карты. Он был в отличном настроении. И скованность, которая обычно царила среди нас в его присутствии, как-то незаметно исчезла. Третьего дня полковник получил орден, со дня на день ждет повышения в звании; он стал мягче, с лица его не сходит добродушие. Вот и сегодня, разбирая учения, он по-отечески снисходителен к нашим промахам, хотя железную ноту в его голосе мы улавливаем даже за щедрой улыбкой и незлобивостью. Судя по докладам офицеров, репликам и замечаниям Войтова, дела идут превосходно. Часть формировалась, пополнялась новыми людьми, училась, готовилась к боям.
— Тяжело в учении — легко в бою, — заключил свой обзор Войтов известным суворовским изречением. И вдруг, перехватив мой взгляд, сказал:
— Это особенно относится к вам, разведчикам, лейтенант Метелин!
— Слушаюсь, — поднялся я.
— Садитесь.
Войтов отложил указку, достал из кармана яркой белизны платок, вытер бритый череп. Внешне он напоминает маршала Тимошенко, когда-то служил у него адъютантом, ему подражал. И сегодня полковник цитировал маршала, хотя мы, особенно молодые командиры, не любим его бога и поклоняться ему не собирались.
— Вообще разведчики живут чересчур вольготно, — внезапно прозвучал в наступившей тишине голос адъютанта Войтова Соснова, явно стремящегося угодить своему командиру. — Ремни им потуже подтянуть не мешало бы.
Меня передернуло. Но Войтов с охотой, полушутя-полусерьезно откликнулся на замечание адъютанта:
— Разведчики — привилегированный народ. Однако я не теряю надежды, что наши аристократы наконец поймут: сколько бы мы ни умничали, а солдат должен оставаться солдатом; в существе своем он, как заведенный механизм, всегда должен работать безотказно и в заданном направлении. Маршал Тимошенко признаёт только одну школу — суровую. И это лучшая школа из всех возможных.
— Разрешите обратиться, товарищ полковник. Прошу извинить, но ваш адъютант перегнул палку. Пусть объяснит, что значит «вольготно»? — спросил я.
— Разрешите доложить?
Войтов кивнул головой.
— В пятницу лейтенант Метелин вместо полевых занятий, намеченных по плану, безо всякого разрешения укатил на попутной машине в областной центр и несколько часов провел со взводом в картинной галерее.
Соснов ел глазами полковника. «Подражать старшему командиру — хорошо, но быть подхалимом — подло», — невольно подумал я.
Войтов повернулся ко мне:
— Было?
— Разве командир не вправе поступать так, как он считает разумнее?
— Я вас не спрашиваю о праве!
— Так точно. Было.
Тишина стала звонче. Я поймал на себе взгляд Каталины и одновременно Березина. Командиры следили за полковником, ждали бури. Но Войтов не расположен был обострять обстановку, лишь вскользь заметил мне: «Надеюсь, вы уяснили себе, что значит вольготно?» и тотчас переменил разговор. И тут неожиданно вмещалась Каталина.
— Товарищ капитан, — она в упор посмотрела на Соснова, — вы считаете, что солдат обязан уметь делать одно — стрелять? Только этому его следует учить?! Разве понятие Родина не включает в себя музыки, театра, картинной галереи, то есть Репина, Брюллова, Рафаэля, Левитана? Если он, конечно, не оловянный солдат, а человек. Разве…
— Я считаю, что вам, вам… — Уши у Соснова покраснели. — Вам надо… — Но так и не нашел в себе смелости, чтобы осадить Каталину. — Я знаю одну школу — суровую! — добавил он и, видимо, сам донял, что смешон.
Полковник изогнул бровь, щеки его вспыхнули недовольным румянцем. Все это было неприятно. Березин, по всему было видно, зажегся и готов избить Соснова.
— Тебе бы, девочка, слушать и не вмешиваться, — по-отечески тепло, но твердо заметил Войтов Каталине. — А то знаешь, порядок есть порядок: всыплет капитан по первое число наряд вне очереди, вот тогда и поймешь, чему и как учат солдат! — И, повернувшись к нам, сказал: — Вот видите, дочка задала нам всем задачу. Как говорится, истина глаголет устами младенца: кто нищ душой — плохой боец. С такими много не навоюешь.
Мы не узнавали Войтова. Непонятно было и поведение Каталины. Вмешательство ее в разговор офицеров — непозволительная выходка, и, хотя адъютант был не так-то уж люб нам, вольность ее не пришлась по сердцу: кое-кто был склонен в узком кругу язвительно проехаться по адресу полковника. И все же то, что сказала девушка, было для всех нас определенным открытием, и не задуматься над этим было нельзя. Ничего необычного в сказанном не было, но в этом, пожалуй, и заключалась сила: Каталина просто обратила внимание на понятное и известное всем, мимо чего мы проходили бездумно. В человеке надо видеть всегда и прежде всего человека; человек — его первое имя, кем бы он ни был — солдатом или маршалом! В человеке надо воспитывать человека. И для того, чтобы это делать успешно, надо до глубины сердца любить людей, жизнь. Не солдат, а человек пройдет самый длинный путь, все сможет, вынесет, выстоит.
Противоречивые чувства не оставляют каждого из нас. Только двое — Соснов и Березин — были определенны. Первый Каталину ненавидел, второй умирал от любви к ней, что почти одно и то же.
— Так что прошу запомнить, — уже прощаясь, сказал Войтов. — Нынешний день требует, чтобы его меряли не вчерашней меркой. — Он мельком взглянул на меня. — Не оловянный солдат, а человек в солдате должен быть. Зарубите себе это на носу, да так, чтобы зарубку видно было. А вы, Метелин, учтите: впредь нарушение дисциплины может обернуться для вас серьезной неприятностью.
Расходились мы от полковника в тот вечер шумно; еще долго спорили дорогой. Командир радиороты капитан Саранцев взял меня под руку.
— Ты родился в рубашке: не всякому такое сошло бы с рук. А Соснов каков? Ну и влип!
— Не волнуйся, с него как с гуся вода. В жизни он обеспечит себе теплое местечко, пойдет далеко. Ну бывай, — я пожал ему руку и направился к себе.
У палатки меня догнала Каталина:
— Вы торопитесь?
— Что случилось?
— Я хочу побыть с вами. А если нельзя…
От той Каталины, которая несколько минут назад высказала самому Войтову то, чего не осмелился бы сказать ни один из нас, мужчин, не осталось и следа. Передо мной стояла робкая, беззащитная девочка.
— Выкладывайте, что у вас?
— Пойдемте к реке. Смотрите, какая ночь!..
Я молча повиновался. Узкой улочкой мы направились из деревни к реке. Ночь и в самом деле полна поэзии, чарующей тайны, звонкой тишины. Небо и земля к чему-то прислушиваются, открытые и недоступные человеческому сердцу. Как колдовские глаза, светят звезды. Каталина тоже занята собою, но занята тревожно.
— У вас странное лицо, и глаза таят грусть. Почему? — повернулся я к ней.
Каталина вздрогнула, слишком неожиданным был звук голоса.
— Я не скажу вам этого.
— Хотите, я сам отвечу?
Она вся сжалась.
— Откуда вы можете знать?
— Видите ли, Каталина, в жизнь приходят два сорта людей: одни — плывут, отдав себя на волю течения, другие — целеустремленные и сильные; благодаря им, собственно, и не гаснет жизнь! Вы — из числа последних. Но на дороге у вас все время обстоятельства, как ухабы, выбоины. Вы всю себя растрачиваете на них. Вы, как лодка в шторм, то взлетаете на гребень, то падаете головокружительно в черную бездну. Взять хотя бы ваш переход из спецшколы к нам. Надо быть слепым и редкостным тупицей, чтобы поверить, будто вы добровольно ушли из части, бойцам которой предстояло столь же трудное, как и славное задание — действовать в тылу врага. Перевод связан не иначе как с какой-нибудь сердечной историей.
Каталина схватила меня за руку, стиснула локоть, мне передался нервный трепет ее пальцев, но она опомнилась, с горькой усмешкой спросила:
— Кто вам успел насплетничать?
— А разве есть для этого причины?
Каталина в замешательстве остановилась.
— Все это только мое предположение, — добавил я.
— Вы по-настоящему ни разу не поинтересовались, как и где я все время жила. А ведь отец просил вас позаботиться обо мне.
Пуховичи!.. Может быть, смерть отца Каталины, капитана Кораблева, заронила в меня тогда мужества больше, чем я обретал его в любые другие времена, позволила увидеть то, чего в другой раз, в другую жизнь я не увидел и не познал бы до конца. Слишком дорогою ценой за все заплачено. В душе я тогда назвал себя братом Каталины — и забыл. Ее слова «позаботиться» вызвали у меня и стыд, и горечь одновременно.
— Вы приперли меня к стен, и поделом! Завяз я в самом себе, как в болоте, и стороннее казалось чужим.
— Нет, зачем же, — отозвалась Каталина. — Вы не ошиблись. Не ошиблись в том, что я не затем пошла в армию, чтобы отсиживаться в тылу. Не ошиблись и в другом… Только в той истории сердце ни при чем. Человек, по возрасту годящийся в отцы, предложил мне свою любовь, сердце и руку… В спецшколе я была готова преклоняться перед ним не как предметом любви, а человеком, авторитет которого внушал глубокое доверие. Я думала, он укажет большую дорогу в жизнь, научит меня свершить подвиг, больше — раскроет мне, что такое есть мое «я». Скажет мне, что это «я» затем и существует, чтобы держать ответ, почему еще живут на земле слезы, горе, несчастья. Старый офицер оказался не командиром-учителем, а бабником с сальными руками. Я ударила его по физиономии. В школе поднялся скандал, взъерепенился, восстал Березин. И тут оказался Войтов, близкий и старый друг моего отца, нашей семьи…
Каталина замолчала.
— Вы назвали Березина?
— Лейтенант любит меня, но любит только для себя.
— А разве он должен любить для кого-то?
— Скажите, кто должен быть в ответе за все то, что происходит сегодня? — И, видя мое замешательство, опять спросила: — Кто? Один какой-нибудь человек? Скажем, Войтов, на которого и вы, Метелин, кстати, готовы взвалить вину? Думается, виноваты не наши отцы. Не Войтов. Виноваты мы сами, вы, Метелин, я, он, второй, третий… Каждый должен быть в ответе за то, что происходит.
Я был пристыжен и посрамлен. Взял бы и провалился сквозь землю. Насколько выше, лучше в своих мыслях, разумнее, целеустремленнее эта девочка, чем я, хотя, казалось бы, все должно быть наоборот. Я ведь старше. Родились мы в одном и том же обществе, но она принадлежит ему больше, нежели я, теснее связана с ним.
Березин еще не спал, когда я вернулся. Сидел на скамье у входа в палатку, курил. Ждал меня.
— Поздновато возвращаетесь, товарищ лейтенант! — с затаенной издевкой бросил он.
— Дела, — притворно вздохнул я.
Будь у Березина под рукой предмет потяжелее, он бы запустил им в мой череп.
— Подвинься и дай папиросу. — Я уселся рядом.
Березин достал портсигар.
— Послушай, Коля, скажи честно, если бы узаконены были дуэли, ты вызвал бы меня?
— Еще месяц назад!
— А зря. Я ведь попадаю всегда в яблочко, а ты, случается, и за молоком пули посылаешь.
Перестань язвить! — взорвался вдруг он. — Не строй из себя невинность! Впрочем, радоваться тебе осталось недолго: в ближайшие дни все переменится.
— Идиот, — рассердился я и ушел в палатку, сбросил ремень, улегся на топчан. «Жалкий ревнивец!» Впрочем, мы стоим друг друга, два сапога — пара, разница только та, что я понимаю это, он — нет. Однако что он имеет в виду, что, собственно, должно перемениться? Уж не думает ли он всерьез «сберечь» Каталину? Неужели оградить человека от возможной опасности, больше — от смерти, но лишить его тем самым счастья вкусить высокую радость осуществленного желания есть наивысшая добродетель?
Я вскочил и пулей вылетел из палатки. Березин сидел на прежнем месте, сжав голову руками.
— Ты что затеял? — набросился я. — Или и вправду вообразил, что если Каталина будет отправлена из армии, то все решится? Ты же сам мечтал совершить в жизни значительное? Совершишь ты или нет — это другой вопрос! Но мечтал, рвался, и уже одно это делало тебя лучше! Или ты выполоскал свою душу?
— Я люблю Каталину, — прервал меня резко Березин, поднялся с места и побрел куда-то в темноту.
VII
Сегодня произошло событие, вернее эпизод, который чуть было не стал роковым в моей дружбе с Каталиной. На днях я побывал в гостях у сельского учителя и раздобыл у него томик Байрона. Но едва стихи оказались у меня на столе, как Березин завладел ими и тотчас отправил Каталине. Соблазнился ролью страстного поклонника великого поэта, хотя знал наизусть всего две-три его строфы. Ссориться с Березиным, потребовать немедля вернуть книгу не хотелось, и спустя неделю я сам отправился за ней к Каталине. В комнате никого из девушек не было. Посидев минуты три в ожидании хозяек, я собрался уйти, как заметил томик в синем коленкоре под подушкой на кровати Каталины. Похитить книгу, тем более свою, — не грех. Но я невольно оказался свидетелем чужой тайны. В томик была вложена тоненькая ученическая тетрадь-дневник. Не рассуждая, хорошо это или дурно, я бегло перелистал ее:
«5 января.
Мне исполнилось восемнадцать. Сержусь на папу с мамой: надо же случиться, чтобы я родилась девчонкой. Впрочем, это хорошо: женщине больше дано, больше возложено на ее плечи забот и ответственности.
7 января.
Если бы меня спросили, кем я хочу быть, я бы ответила — крупным физиком. Стать Прометеем, Коперником, Джордано Бруно, вырвать у природы тайну и отдать ее людям — значит прожить жизнь красивую и великую. Но я буду учительницей. В том, что делает учитель, есть нечто от Прометеева подвига, если оставаться до конца честным. Ведь он тоже несет людям свет и тепло…
21 января.
Разгорелся спор. Кто куда пойдет трудиться после войны. Сколько людей, столько и мнений. Я молчала. Знала, что все будет не так. Появился Березин и сразу разрубил узел: „Не надо быть шкурником, — сказал он. — После войны правофланговыми будут ассенизатор, водовоз и каменщик. Я буду одним из них“. Меня это поразило: он сказал что-то мое. Главное — устроить людям жизнь…
1 февраля.
Поскорее бы взяться за работу. Действовать.
15 февраля.
Быть человеком — счастье! Ему дано облагородить и украсить землю. Сил его не счесть. Он может положить себе на ладонь земной шар, приблизить или удалить его от солнца. Поэтому в человеке должна быть только одна тень — та, которая не позволяет ему слишком выпячивать себя…»
На крыльце послышались голоса радисток, я поспешно сунул тетрадь с книгой под подушку и уселся у окна.
— Товарищ лейтенант, здравствуйте. Какими судьбами к нам? — Вошли Каталина и несколько девушек. — Молока хотите? Парное. Хозяйка ушла, а нам наказала подоить корову…
В сенцах послышался звон ведра и треск.
— Ой, кувшин разбила…
Девушки бросились к двери.
— Ну и хозяйка ты, Рая. Муж тебя со света сживет.
— Дудки! Вначале я его, — и, растолкав подруг, она внесла мне кружку молока. Оно еще пенилось, таило живое тепло.
— Вкусно, как губы теленка, — сказал я, выпив молоко.
— А вы его целовали? — засмеялись девушки.
— Теленка — нет, а годовалого малыша — да, это одно и то же.
— Я люблю парное молоко, обязательно теперь буду телят целовать, — смеясь, сказала Рая. — Только не годовалых, а которые постарше.
— Тогда выбирайте разведчиков.
— Только не их! — запротестовало несколько голосов.
Я повернулся к Каталине:
— Я пришел за Байроном. Гоните.
Каталина покраснела, бросила взгляд на постель, но, не заметив ничего подозрительного, спокойно сказала:
— Книгу мне подарил Березин, и не ждите, что я ее вам верну.
— Вот это здорово! — воскликнул я.
— Мы вас взамен напоили молоком, — засмеялась Рая. — Вот и квиты.
Девушки дружно расхохотались. И мне ничего не оставалось иного, как рассмеяться вместе с ними и убраться восвояси. В другой раз я бы был более настойчив, но теперь, когда я, как мальчишка, в щелку подглядел обнаженного человека и едва не был схвачен за ухо, краска стыда подступила к лицу: поступок явно не рыцарский. Узнай о нем Каталина, в ее глазах я из друга превратился бы во врага. У каждого есть только ему одному принадлежащая святыня — тайна, и всякий, кто преднамеренно или невольно покушается на нее, — отпетый негодяй. Оправдываю себя только одним — я жертва случайности, открывшей мне нечто значительное: быть человеком, значит, уже родиться Прометеем, надо только до конца оставаться честным, отдать себя людям…
VIII
Дни на отдыхе текут стремительно, но быстротечность их не рождает тоскливого сожаления. А когда пронесся слух, что снимаемся с места раньше срока, все вокруг вскипело. Начиная от Войтова и кончая рядовым бойцом, все были озабочены. Кое-кто успел пустить здесь глубокие корни, и хлипкое сердце учащенно билось перед разлукой. В подразделениях участились случаи опозданий по увольнительным. Войтов круто завинчивал гайки, командиры строго спрашивали с солдат. Мы были почти на колесах, как внезапно поступил приказ — до особого распоряжения оставаться на своих местах. Первым об этом сообщил Березин.
— И ты радуешься? — спросил я.
— На фронте быть успеем, умереть — тоже! А ты, Метелин, — огорошил он вдруг меня, — готовься в дорогу, повезешь в штаб фронта пакет с отчетом о боевой и политической подготовленности. Это я тебе удружил, откровенно говорю. Хочу подышать не отравленным тобою воздухом. Мне приказано принять временно твой взвод.
Березин рассмеялся.
— Смеется хорошо тот, кто смеется последним, — сказал я, холодея. Мне трудно было поверить в столь быструю перемену: «На фронте быть успеем…» Я продолжал оставаться о нем лучшего мнения: его желание стать лучшим, чем он есть от природы, еще не выветрилось; он просто в некоторой степени напоминает человека, которого столкнули в одежде и сапогах с обрыва в воду; начиненный газетами и радио, сладкими речами школьных учителей о жизни, он мнил себя законченным знатоком ее, хотя подлинная жизнь текла мимо него.
— Надеюсь смеяться последним тоже, — уверенно заявил Березин.
— Спасибо, что предупредил, — сказал я. — Придумаю черт знает что, наконец прикинусь больным, но не поеду! Постараюсь сам принять твой взвод.
Березин порозовел, взгляд голубых глаз выразил растерянность. Он не ожидал подобного оборота.
— Неужели ты способен на подлость?
— Вот уж поистине, в своем глазу бревна не видно! Я сделаю все, чтобы насолить тебе. Так и знай, и я тебе говорю откровенно. Твоя ахиллесова пята от меня не скрыта. Сегодня же выложу Каталине все о тебе, разрисую так, что волосы зашевелятся. А потом скажу: гляди, король-то голый!
Березин изо всех сил пытался сохранить хладнокровие, но лицо его из разового стало белым.
— Худшего, что ты уже сделал для меня, ты не сделаешь, — процедил он.
— Не понимаю. Нельзя ли точнее?
— А везти тебе пакет все равно придется, — уклонился Березин от ответа, — об этом Войтова просила и Каталина.
Настала моя очередь окаменеть.
— Я не верю, Березин, ни одному твоему слову.
Он смотрел на меня насмешливо, сомневаться в его правдивости не приходилось.
— Можешь не верить. Я тебе, кстати, ничего и не говорил.
За пологом палатки раздались девичьи голоса:
— Товарищи лейтенанты, можно к вам?
Березин сорвал со спинки стула трусы и майку и поспешно сунул под одеяло.
— Конечно, конечно, — ответил он живо.
Вошла Каталина с подругами-радистками — Раей и Тоней. В палатке тесно, повернуться негде. Стул у моей койки завален книгами, Березина — склянками, бритвами, щетками, уставами строевой службы, а к маленькому столику вообще не подойти: оккупированный все тем же незатейливым хозяйством Березина, он гнулся на своих зыбких ножках.
— Холостяки! — иронически протянула Рая. — На вас бы Геракла напустить. Только что прочла «Мифы». Здорово он придумал, как вычистить авгиевы конюшни.
— Зачем Геракла? — отозвалась Тоня. — Нашего бы старшину сюда.
Девушки заглянули к нам, возвращаясь с реки. У них еще влажные волосы, сквозь слегка прилипшие к телу гимнастерки проступала красота покатых плеч; одень сейчас их в легкие туники, и Парис, пожалуй, предпочел бы вручить яблоко не богине, а кому-нибудь из наших трех гостий. Принесли они в палатку запах реки и свежести. А Березин-то! Я даже не предполагал, что в нем скрыт такой внимательный кавалер. Наедине с Каталиной пень-пнем, роняет слова в час по чайной ложке, а здесь, едва она явилась не одна, его точно подменили: тотчас усадил девушек, что-то сморозил по адресу моего топчана и стула, заваленного книгами, и вышло, что Геракла нужно напустить на меня, а он, Березин, здесь ни при чем; острил, смеялся. Между ним и радистками началась обычная пикировка — кто лучше, важнее, без кого жить не может армия. Поддавшись общему настроению, Каталина тоже включилась в общий тон и порой изрекала такое, что в любое другое время выглядело бы наивным и вызвало законный возглас: ну и ну! Сегодня она необычная, тревожные мысли не беспокоят; умытая и свежая, она воплощала собою саму юность. Густые волосы, загоревшее лицо, синие, как лазурь, глаза — все в ней еще не тронуто, не заласкано, красиво и свежо, как утро весны. Березин заговаривает с нею реже, чем с двумя другими девушками, и сейчас не напоминает глупого влюбленного, который пожирает глазами предмет своего обожания. Но каждый мускул в нем выдает его: все, что он делает сейчас и говорит, он делает и говорит для Каталины. Не знаю, замечает ли все это она, скорее всего нет, ей просто сейчас легко и весело.
— Разведка — глаза и уши! — парируя, воскликнул Березин и съязвил: — Радистки не особенно пользуются успехом у моих разведчиков.
— Молчали бы уж лучше, товарищ лейтенант, о глазах и ушах. Известны нам ваши хваленые герои, особенно ефрейтор Поляков! — откликнулась Рая.
— А что, находчивый парень!
— То-то из-за его находчивости и конфуз вышел. От полковника Войтова кое-кому на орехи досталось. — Самолюбие Раи явно задето — кто-кто, а она знает цену так называемой мужской гордости разведчиков: ефрейтор Поляков и днюет и ночует у ее порога. Собственно, причиной конфуза, из-за которого пострадал и Березин, была эта смазливая, курносенькая девушка. К ней Поляков настойчиво неравнодушен, обещал звезду достать с неба, пожелай только этого Рая. А друзьям-разведчикам жаловался: «Сгубила, курносая, всякую личность во мне стерла в порошок. Ох, если женюсь на ней после войны, трясти буду как грушу! Уж тогда я восстановлю свою личность, а порошком будет она».
Откуда-то об этом прослышала Рая, и пошла у парня жизнь кувырком. Вечера простаивал Поляков под ее окном, но оно наглухо было захлопнуто. А однажды пришел, и глазам не верит: створки окна распахнуты. «Раенька, звезда неугасимая, — шепчет Поляков, — черемуха ненаглядная, выйди. Тебе всё набрехали про меня». На беду у радисток оказался полковник Войтов. Не подозревая об опасности, Поляков продолжал серенаду, звал свою любовь; девчата давятся от смеха. И вскипел разведчик: «Иисусово войско! Ржете, будто овса нажрались. Ежели нет Раи, то и заявите. Нужны вы нам, как собаке боковой карман».
Войтов выглянул в окно. Поперхнулся ефрейтор, губа отвисла, и точно ветром его сдуло от дома, только жаркий топот каблуков слышен был да спину резал нестерпимо обидный девичий смех.
Уж если пришла беда — открывай ворота. В тот же вечер она снова пожаловала к ефрейтору. Решив отплатить Рае, Поляков мотанул в соседнее село к девушке, с которой как-то отчаянно отплясывал на пятачке краковяк. В своем горе он забыл о времени; вспомнил об отбое, когда дело клонилось уже к первым петухам. Войтов с адъютантом Сосновым и дежурным по части лейтенантом Березиным проверяли посты, и вдруг откуда ни возьмись — Поляков. На этот раз удивился Войтов. Березин стоял ни жив ни мертв: Поляков — боец его взвода.
— Опять ты? — спросил полковник и выразительно взглянул на часы.
— Так точно, товарищ полковник, опять я, — отчеканил ефрейтор, холодея. — Разрешите доложить?
— Докладывайте.
— Товарищ полковник, ефрейтор Поляков из самоволки возвратился своевременно и благополучно. Что прикажете делать?
Березин про себя оценил находчивость ефрейтора. Но Войтов доклада не принял:
— Прикажу вас разжаловать, а вашего командира отдать под арест.
— Это мой боец, товарищ полковник, — сказал Березин.
— Что-о? — Войтов вспыхнул. — Я о вас и вашем взводе был лучшего мнения, лейтенант. — И повернулся к адъютанту. — Пойдемте, капитан. Видно, все разведчики одним лыком шиты.
Березин, оставшись с Поляковым, с грустной укоризной спросил:
— Что же ты, брат, устава не знаешь?
Поляков подавленно молчал. Ему кругом не везет — ни в любви, ни по службе. Желая вызвать сочувствие у лейтенанта, сказал:
— Что значит, товарищ лейтенант, где тонко, там и рвется: в любви плохо и в жизни — никуда.
— Пошел вон! — крикнул Березин, явно не поняв Полякова. — Круглый идиот, а не разведчик. Чего стоите? Отбой дан два часа назад.
Конфуз стал достоянием всей части. В течение недели разведчиков пинали, как футбольный мяч, все, кому не лень; радистки — особенно! Поляков носа не казал. И если Войтов отнесся к нему снисходительно, лычек ефрейтора с него не снял, то Рая была беспощадна. Уязвленная в самое сердце шашнями, которые за ее спиной крутил Поляков, она прогнала его навечно, да еще кобелем обозвала. И теперь, едва Березин упомянул о находчивости разведчиков, ее взорвало:
— У вас ни капли чистоты и святости. Орудуете только за спиной. Всех вы на одну мерку меряете. А мерка у вас — ефрейторская!
— Будет вам поносить разведчиков, — вмешался я. — Ведь ефрейтора-то вы, Рая, любили? Любили и оглядывались. Вот и вышло: казалось — все шутка, с подруженьками хиханьки да хаханьки, а утратили настоящую любовь. Чувство, как хороший цветок: пока растят его — красив, сорвали — увял. Цветы надо растить.
— Бывает, что цветок и не растят, не ухаживают за ним, а он все равно красивый, — отпарировала Рая. — Например, полевой!
— На обработанной ниве полевой цветок — сорняк.
Березин и Тоня, молчаливая и невидная, вступились за полевые цветы.
— Пушкин был прогрессивнее вас, людей двадцатого века, — усмехнулся я Березину и Тоне. — Он воспел свою Татьяну за мужество: она не дала, образно говоря, разрастись в себе полевому цветку; и поступи она иначе, то есть ответь Онегину, это был бы красивый, яркий, слепящий глаза сорняк.
— А как же тогда Анна Каренина? — спросила Каталина.
— Время Толстого и наше время — не одно и то же. Полевой цветок и не растят и не лелеют, он вырастает сам по себе. Он часто красив и ярок. А наше общество — обработанное поле, и если на нем вырастет полевой цветок, то все-таки это сорняк. Анне Карениной я сочувствую. Кстати, ее не оправдывал и Толстой, хотя и любил.
— Но ведь Анна — это протест, вызов! — запетушился Березин.
— Ну и что ж? Эта новость известна нам еще с десятого класса.
Наш горячий и не очень логичный разговор прервал посыльный. Меня вызывали в штаб к Войтову.
Повернувшись к Рае, я сказал:
— Вот, видите, вы говорите «за спиной»… За моей спиной меня тоже без меня женили. Но глуп, кто обижается на друзей. — Я поглядел на Березина и Каталину.
Каталина ничего не понимала. Березин потупил взгляд, покраснел.
— Что ж, лейтенант, — сказал я, — чистый, неотравленный воздух, может, в самом деле окажется для тебя полезен, — и вышел.
IX
Недостаток времени всегда ускоряет события. Я получил приказ от Войтова готовиться в дорогу и уже не мог откладывать на завтра то, что мог отложить еще час тому назад. Я не знал, застану ли на месте нашу часть, когда возвращусь из штаба фронта, куда должен везти пакет, или буду догонять ее и отыскивать на проселках первого эшелона и в окопах передовой.
— Да тебя, никак, огорчает эта поездка? — спросил меня Соснов, встретив во дворе: — Чудак! Мы не сегодня-завтра снимаемся, а ты будешь гулять в тылу. Ведь почти в Москву едешь! Там, где смерть, успеем быть, — Соснов рассмеялся, хлопнул по плечу. Такой снисходительности я от него не ожидал; не иначе Войтов обронил обо мне какие-нибудь лестные слова: обычно адъютант не щедр на тепло. — А может, тоскливо из-за этой девчонки, под ложечкой сосет? Плюнь! За ней увивается Березин. Цветок не первой свежести, — Соснов сощурил глаза. — Хозяин получил согласие, и, может, завтра-послезавтра — ту-ту ее, к маме, на тыловые хлеба. И знаешь, Войтов почти согласен, чтобы сопровождал ее до Москвы я; у меня там родственники и прочее. Березин останется с носом, будь покоен. Я никогда не верил в ее недоступность. Выше голову, разведка! Недельку-вторую в свое удовольствие погуляем в тылу!
Я едва сдержался, чтобы не съездить его по физиономии. Подлец всегда злопамятен. Соснов не может простить Каталине своей трусости, когда она публично приперла его к стенке на сборе командиров, и теперь мстит ей.
— И вам не стыдно, капитан? — спросил я.
Соснов вытянул удивленно губы.
— Вы же мстите за оплеуху!
— Что еще за чепуха? Какую оплеуху?
— Публичную! При всех полученную.
Уши Соснова побагровели. Он стал холоден и властен.
Вы не умеете, лейтенант, ценить дружбу. Что ж, пеняйте на себя! — Резко повернулся, чтобы уйти. Осанка у него величественная, фигура и спина — гренадера. Поставь их рядом с Войтовым, подумаешь, что командующий — Соснов, а адъютант — Войтов.
— Пойду к полковнику, передам ему наш разговор, — сказал я.
Соснов резко обернулся ко мне. Не гнев и властность выражало его лицо, а растерянность. Он шарил по мне глазами, не зная, что бы сказать такое, чтобы остановить меня. Он видел, угрозы тут бессильны, за это он презирал меня и еще больше боялся! Плечи его как-то обвисли, руки вдруг оказались лишними, сквозь величественную осанку проглядывал откровенный трус. Но он нашел в себе храбрости крикнуть:
— Вы что, клеветать вздумали? Я вас упеку, куда Макар телят не гонял. Посмейте только! — Но тотчас сбавил тон, оглянулся по сторонам: не слышал ли кто. — Я с вами откровенно, а вы… Нехорошо, Метелин. В общем, если я неправ, то скажите начистоту… Войтов здесь ни при чем. А потом, кроме всего прочего, имей совесть. Неужели ты способен подставить человеку ножку? Во всяком случае, я бы так не поступил. Это во-первых. А во-вторых… — Соснов замялся, кровь ударила ему в лицо.
— А во-вторых?..
— Если хочешь, я перед тобой извинюсь. Только…
— Только не ловите меня на крючок, я не рыба, — я повернулся и ушел к Войтову.
Войтов встретил улыбкой. Одет он всегда с иголочки, а сегодня начищен и выбрит особенно тщательно, в сапоги глядись, как в зеркало, блестят; жесты и взгляд — прямо-таки царственные. Войтову присвоили звание генерала, и он еще любуется самим собою; из опасения, что окружающие не оценят в полной мере его в новой роли, кое в чем пережимал. Новый костюм первые дни всегда кажется словно с чужого плеча, а обносится — из него не вытряхнешь человека.
— Ну, как я тебе нравлюсь? — спросил, не удержавшись, Войтов после непродолжительной беседы. — Или ты все еще числишь меня вчерашним днем?
— Никак нет, товарищ генерал.
— Между прочим, ты был тогда прав. Если нечем похвалиться сегодня, то хвалятся прошлым. Мы, ваши отцы, подрастеряв свой багаж и мысля подчас старыми категориями о будущем, нередко грешим этим. Но на своих отцов вы можете положиться: в дремучий лес они вас не заведут. Впрочем, ты не ответил, как я нравлюсь тебе в генеральском облачении? — Войтов прошелся по комнате и остановился от меня на расстоянии. Плотно сбитая фигура казалась высеченной. «Да, — подумал я, — отцы мои могут быть землекопами, каменщиками и государями, равных которым не знала история», — и сказал:
— Вы мне очень нравитесь, товарищ генерал, это честно.
— Ну спасибо, брат, ублажил старика. А то вот нынче надел первый раз генеральскую форму, хотел было вас, командиров, собрать и постеснялся: еще скажете — старый хрыч Войтов хвастает. А вообще-то, если честно говорить, тянет пройтись перед вами этаким козырным тузом.
Войтов рассмеялся.
Воспользовавшись хорошим настроением генерала, я опять вернулся к отцам и детям. Главным образом из-за Соснова. Умолчи тот о Каталине, я бы, пожалуй, получил задание и удалился.
— Разрешите задать вам нескромный вопрос, товарищ генерал?
— Генералам нескромных вопросов не задают.
— Разрешите все-таки.
— Так и быть. Давай.
— Если бы вас сейчас отстранили от военных дел и отправили в гражданку, как бы вы себя чувствовали?
— Я солдат партии и выполню любое ее решение.
— Я о другом. Предположим, заботливые друзья захотели вас оградить от опасностей фронта. Пусть, мол, Борис Петрович отсидится в стороне, в тылу, пока пронесется буря, пройдет метель кровавых битв.
— Какие ж это были бы друзья? Скорее, наоборот, Неужто ты думаешь — старый коммунист Войтов может стоять в стороне, когда государство рабочих и крестьян в беде?
— А почему же тогда Борис Петрович мыслит, что молодой… может?! Почему вы не верите до конца мне, Березину, Каталине, то есть своим детям? Разве не вашим молоком они вскормлены?
— Вот что, я не любитель ребусов! Ты о чем?
— О Каталине.
— Ну и сморозил, — облегченно вздохнул Войтов. — А я-то вообразил, что ты о чем-нибудь важном. Это что, Березин с тобою поделился? А что за беда стрясется, если девочка окажется под крылом у матери? Напротив, польза будет.
— Почему вы не хотите правильно меня понять?
Войтов вскинул брови, наморщил лоб:
— Вы чрезвычайно высокого мнения о молодом человеке, молодой человек.
— А Зоя Космодемьянская?!
— То особые обстоятельства. Но я, конечно, польщен, что о дочери моего друга вы так хорошо думаете, Березин берет еще выше. Но нам, мужчинам, не следует терять трезвости даже в мгновения, когда плавится сердце. — И, видимо, довольный тем, что выразился красиво, Войтов почти по-отечески подмигнул мне и прибавил: — Эх вы, «почему не верите детям»?! Пыл я ваш ценю и разумею молодость, но, к сожалению, судьбы Каталины изменить уже нельзя. Есть приказ. На днях отправим ее к матери. Когда-нибудь после войны заедем к ней на чашку чая, вот увидите, она еще скажет нам спасибо.
— Позвольте мне уйти? — спросил я.
Войтов понял, что меня не убедила его аргументация, почти с неприязнью поглядел в мою сторону, прошелся по комнате, но снизойти ко мне и высказать в лицо все, что думает сейчас, он не счел нужным.
— Повезете в штаб фронта пакет. В вашем распоряжении завтрашний день. Передайте взвод Березину.
— Слушаюсь.
— Идите.
Я вышел. У порога чуть ли не стукнулся лбом с Сосновым. Он терпеливо ждал, когда я выйду, намеренно столкнувшись со мною, во все глаза уставился на меня.
— Не волнуйтесь, я не кляузничал генералу.
— Честное слово, я думал, что ты хуже!
— На этот раз вы думали правильно.
Мне было не до адъютанта, и я оставил его. Неожиданно в моем распоряжении оказалось много времени — почти сутки. Куда себя девать? Возвращаться в палатку не хотелось. Там Березин. С ним, как и с Войтовым, я не находил общего языка. Они точно с одной вершины глядят, и круг обзора у них одинаков. Березин мне понятен — он близорук: на него обрушилась любовь. А Войтов? Логика его загнала меня в тупик, и бессмысленно тратить энергию, убеждать их в противном. Но, может быть, как говорится, вся рота идет не в ногу, один я — в ногу? Не вообразил ли я себе несуществующего в Каталине человека и готов облить черными чернилами любого, кто мыслит иначе?
Я вышел за околицу и направился к берегу реки. Вечерело. Усевшись на коряге под старой густолистой вербой, продолжал думать о Войтове и Березине. Вечерние тени густым шлейфом легли на воду. Глуше стал воздух, покойнее — земля. Деревня, оставшаяся за спиной, не окликала, как днем, беспокойным говором и шумом улицы.
Внезапно кто-то коснулся моего плеча.
— Я за вами давно слежу. У вас такой вид, будто лягушку проглотили.
Лицо Каталины светится, в глазах озорство и радость, стоит она передо мной — чистая и свежая, как утро. Волосы слегка растрепаны, пилотка в руке, выпуклый лоб гладок, как зеркало; трепетом дышит все ее лицо — брови, нос, губы, глаза, и сияет она неповторимой мальчишеской красотой; ее талия, руки, плечи — вся она легкая, живая, несказанно юная.
— Вы и вправду проглотили лягушку? — смеется она.
Мне тоже вдруг стало легко и весело.
— Погодите, сейчас и вас угощу, — крикнул я и всерьез бросился к зарослям ловить лягушку. Однажды наши разведчики, заприметив купающихся радисток, сунули под их одежду около десятка зеленых обитательниц тины. Радистки до темноты просидели в воде, а ночью, кто в чем был, пустились к дому. Разведчикам на следующий день учинили погром, а радистки при упоминании о лягушках белели.
У Каталины застыл ужас на лице, когда я бросился в заросли.
— Не надо, не надо! — завизжала она. — Ничего нет страшнее лягушек! Если хоть капельку любите меня, то пощадите.
Я внезапно повернулся к ней. Она слегка приподняла руки, собираясь бежать, да так и застыла с выражением озорного ужаса в глазах.
— Каталина, что вы за человек? — спросил я.
Брови ее удивленно дрогнули.
— Обыкновенный. А вообще, человек всегда такой, каким его хотят видеть. Я бы, конечно, хотела…
— Что бы вы хотели?
— Быть лучше. Я уже вам говорила.
Возвратившись к своему месту, я намеревался сесть, но Каталина не дала мне сделать этого, взяла за руку, молча повела вдоль берега. Отливая тусклым серебром, чернела неподвижная речная гладь.
— Гигантская, должно быть, сила таится в этой воде, — Каталина указала на реку. — Вы заметили, что композиторы, когда хотят изобразить гнев и силу стихии, человека, людей, то почему-то обязательно пользуются языком грома. А это ведь неправда. Человек страшен не тогда, когда он кричит, размахивает руками. У силы и гнева свой язык, и он редко бывает громогласен.
— А буря, пурга, шторм?
Каталина в недоумении скосила на меня глаза: всерьез ли я?
— Ничего вы не понимаете, — сказала она. — Может, я и сейчас скажу нелепость, но вот гляжу иногда на вас, думаю о вас, и кажется мне, что вы были бы гораздо лучше, дельнее и, если хотите, даже сильнее, если бы вас кто-нибудь жалел… Ну, к примеру, скажем, я… Вы хоть и мужчина, а часто — мальчишка, ребенок.
Теперь наступила моя очередь недоумевать.
— Вот уж никогда не подозревал, что нуждаюсь в няньке!
— Между нянькой и другом есть разница. Вы ее не улавливаете?
— Хорошего же вы обо мне мнения!
— А вообще, Метелин, что вы успели сделать в жизни? И собирались ли что-нибудь сделать?
— Человек всегда такой, каким его хотят видеть, — ответил я ее же словами. — Вы тоже, кажется, хотели стать лучше.
— Я очень этого хочу. И если бы мне посчастливилось родиться мужчиной…
— То?
— То в первую очередь я набила бы вам физиономию, а во вторую — давно бы стала героем в самом настоящем смысле этого слова. Вам, мужчинам, так много дано. Нас же в лучшем случае называют матерью.
— Вы считаете — это мало?
— Сегодня этого мало. Дать жизнь, но не суметь сберечь ее… — Каталина покачала головой.
Мне показалось, что этой девочке червь честолюбия не дает покоя.
— Однажды Наполеон, увидев памятник Ганнибалу, со слезами сказал: «Он в восемнадцать лет был уже полководцем и завоевал полмира, я же в свои тридцать еще не успел ничего…»
— Не о такой славе я говорю, — прервала меня Каталина. — Вы ничего не понимаете. Нарочно это или искренне? Вспомните Зою Космодемьянскую. О той ли славе, что мечтал Наполеон, думала она? Она, может быть, глубже и скорее, чем кто-нибудь другой, поняла, что каждый должен быть в ответе за то, что происходит. Слезы ее земли, неизбывное горе ее людей — это слезы и горе ее сердца. У нее хватило мужества осознать свое предначертание и ценою жизни искупить вину наших отцов, но не стоять безучастной в стороне, искупить ее славой не ради личного маленького «я», а во имя людей земли. Вот об этой обыкновенной славе обыкновенного человека я и думаю. Почему вы этого не понимаете? Может быть, вы не верите человеку, думаете о нем, что он начитался беллетристики и в голове у него дым вместо правильного ощущения и понимания жизни. Так, кстати, думал часто и мой папа. А ведь он воспитывал во мне Человека с большой буквы, воспитывал и не верил, что это так, почему-то старался видеть во мне худшее и видел, его. И даже больше — когда он нашел меня одну в доме, когда Пуховичи горели и на окраине уже появились немцы, он дал мне затрещину, думая обо мне самое скверное. Отцы всегда плохо знают своих детей. И папе было потом стыдно, когда я ему объяснила все. Ему-то я объяснила, а вот себе объяснить долго не могла, почему на меня обрушивается беда за бедой, почему сожжен мой дом, почему убит отец, кто смел впустить врага и как могло случиться, что враг так далеко шагнул на мою землю. Эти вопросы, а может быть, чуточку иные и поныне продолжают жечь меня. На главное мне дала ответ Зоя; все остальное, наверно, поймется потом, когда я стану взрослее. Я очень хочу жить, до боли в сердце люблю жизнь, но я сочту свою жизнь пустой и никчемной, если окажусь в стороне от событий, не привнесу в них ничего своего. Сегодня поздно судить о том, что уже есть, но никогда не поздно украсить жизнь людей своим подвигом и даже, если это надо, — ценой своей жизни. Никогда не поздно хотя бы немного приблизить эту жизнь людей к лучшему.
— Самоотречение — хорошо, но безликость — скверно, — сказал я.
— Возможно, это правда. Но сегодня даже самое великое мое — мелко и ничтожно в сравнении с теми событиями, которые совершаются в мире. Я думаю так, что есть период в жизни, когда все отводится своему «я», когда не стыдно делать все во имя себя, лепить свое счастье, любить безоглядно, смеяться и радоваться для себя, и все это будет выглядеть нормальным и разумным по соседству с тем, что делается в жизни нечто большее, великое, принадлежащее всем. Сегодня не то время. Сегодня тот, кто захочет стать героем в угоду своему «я», — шкурник и подлец.
— Каталина, сколько вам лет?
— Сегодня я старше своих лет.
«Мы все намного старше! — подумал я, не до конца уверовав в сказанное Каталиной. — Все мы к чему-то стремимся, все мы чего-то хотим. Но не все зависит от нас. Ход событий так громаден, что в нем мы подобны щепке в пучине. Так уж создан человек — что бы он ни делал, он всегда уверен, что делает полезное. И Каталина полна правотой своих убеждений, больше — она ими живет. Она превратила их для себя в идола, которому поклоняется и которому никогда не плюнет в лицо. И эта убежденность, эта страсть в ней — пленительны, и я люблю ее за это; сердцем чую, что она выше меня, лучше и чище, светлее ее мысли».
— Вы молчите, вы не верите мне? — точно угадав, о чем думаю я, спросила она. — А я вам сказала правду. Никому этого не говорила и никогда не скажу; я суеверна: то, о чем задумаешь, не следует рассказывать — не сбудется.
— Вы что-нибудь знаете? — спросил я, имея в виду решение об отправке ее в тыл.
— Я знаю только одно, что ничего не знаю, — не поняла меня Каталина.
— Вы можете мне ответить на два вопроса?
— Я вам отвечу на все пять.
— За что, во-первых, вы хотите надавать мне по физиономии?
— Этого я вам не скажу.
— Тогда почему вы и Березин просили генерала, чтобы меня командировали с пакетом? Зачем вам нужен мой отъезд?
— Этого я вам тоже не скажу. Тут Березин ни при чем. Просто лучше, когда вас нет здесь.
— Вы говорите какими-то загадками.
— Я вам ничего не говорю.
— Тогда я задам третий вопрос.
Каталина насторожилась. Мне почудилось, что она догадывается, о чем я спрошу. Мгновение — и она стала мне неприятна, я готов был ненавидеть ее: знать, что уготовлено ей Войтовым и Березиным, и пространно лить речи о долге, высоком назначении человека, разыгрывать из себя того, перед кем всегда преклоняют колени, — это уже грязь, подлость. Как я мог клюнуть на такой крючок?!
— Вы нехорошо глядите на меня. Почему?
— Вам известно, что есть бумага, ваш вопрос решен положительно? — язвительно спросил я.
— Что за бумага, какой вопрос?
— Вы демобилизованы, едете к матери в тыл. Генерал Войтов и Березин позаботились.
— Это ложь! Неправда! — Каталина отдернула свою руку, покоившуюся на моем локте. — Скажите, что вы пошутили. Неужели правда? Это он, Березин! Как я ненавижу его! — Голос ее прерывался, в широко раскрытых глазах — испуг. — Почему вы молчите? Скажите же, что это неправда! Нет, я не верю, ничему не верю! — Она резко повернулась, пошла прочь, сутуля плечи.
Подавленность и потрясение сквозили во всем ее существе.
ЭПИЛОГ
Уехал я тогда из части в скверном настроении, долго оставался в неведении. Гадал одно, выходило другое. Рассчитывал задержаться в штабе фронта меньше недели, а пробыл там целый месяц. Три раза штаб передислоцировался, пока я добрался до него, а когда вручил пакет командованию, данные уже устарели: часть Войтова давно была на колесах. Я не надеялся застать в живых всех моих однополчан. Ведь было и такое — в течение суток перемалывались дивизии, корпуса, а Войтов шел в самое пекло передовой. Но судьба благоволила ко мне, я нашел многих.
И еще раз встретил Каталину…
Как в потемках, ощупью пробирался я к фронту, разыскивая свою часть — голодный, невыспавшийся и злой, готовый черту продать душу, лишь бы хоть на минуту окунуться в блаженный сон. Все нагромождено в первозданном хаосе: люди, полки, дивизии, только все чужие. И вот в сутолоке, в кромешной темноте ночи, на каком-то сто раз разбомбленном немцами полустанке меня кто-то с размаху стукает по плечу. В бешенстве оборачиваюсь и лицом к лицу оказываюсь с Березиным. Лицо его расплывается в довольной улыбке, духами разит на километр. Так и съездил бы его по сытой морде от зависти, но его откровенная радость от встречи смягчает меня. А он так и сыплет новостями. Третьи сутки, как эшелон застрял на полустанке, впереди разбомбили полотно; сюда подоспели другие эшелоны. Царит полная неразбериха. Войтов отдал приказ выгружаться и двигаться своим ходом. Но сейчас приказ отменен, опять всё грузится в вагоны и на платформы.
— Худо же вы начинаете после отдыха дела, — говорю Березину и прошу, чтобы скорее вел меня к Войтову.
Генералу не до моего доклада. Взвинченный, злой, готовый в любую минуту кого-нибудь упечь в тартарары, он пасмурно выслушал меня, махнул рукой.
— Никому не нужны были наши доклады.
— Выходит, зря я мытарился?
— Пожалуй, — согласился Войтов и вдруг побагровел: — Приказы не обсуждают, лейтенант, их выполняют! Идите!
Груз с плеч наконец сброшен: как бы там ни было, а задание, нужное оно или нет, выполнено, и теперь можно свободно вздохнуть. Спросил Березина, где бы можно поспать, и, добравшись в темноте до какого-то вагона с ворохом пахучего сена, как подкошенный свалился и мгновенно утонул во сне. Проснулся от треска, выстрелов и взрывов. В распахнутую дверь било едким дымом, в кромешном черном аду слепило глаза солнце. Полустанок бомбят, рвутся вагоны со снарядами, полыхают цистерны.
— Эй, есть тут живые? — ору я, выглядываю из вагона и прыгаю на землю. Разобрать ничего нельзя. Дым, истошные крики, а над всем равнодушное палящее солнце. Почти над головою с режущим воем проносится паукообразный юнкерс, сыплются фугаски. Взрывной волной меня швыряет в канаву.
Неподалеку в глубокой воронке оказались и наши разведчики. Они машут мне руками:
— Сюда, товарищ лейтенант! Здесь надежнее!
Ползком добрался к ним.
— Будили вас, толкали, — виновато улыбнулся Поляков, — да куда там, и усом не ведет. Решили далеко не уходить, чтобы в случае чего помочь.
— Эх, ты, товарищ ефрейтор! Если б что, твоя помощь пригодилась бы, как мертвому припарки…
— Все наши в лесу. И генерал тоже там, — Поляков кивнул на островок густой зелени, на пригорке.
Только к вечеру эшелоны тронулись в путь. И вдруг случилось нечто, всполошившее часть не меньше бомбежки. Исчезли лейтенант Березин и Каталина. Отстать от эшелона они не могли: все видели Березина и Каталину в самые последние минуты. Войтов рвал и метал. На одной из остановок он вызвал меня к себе, налетел коршуном, как будто я был причастен к этому исчезновению. К тому, что было уже всем известно, дополнить я ничего не мог.
— Дезертиры! — вскричал Войтов. — Судить подлецов! — И, повернувшись к адъютанту Соснову, приказал: — Оформить дело и передать в трибунал. Судить заочно!
Из-под фуражки на щеки Войтова скатывались капельки пота, он смахивал их скомканным платком и еще больше распалялся гневом. Подумалось: когда тишь да гладь, все мы умники. А вот когда приходится туго, не всегда умеем скрыть растерянность. Метать громы и молнии легче, но менее разумно.
— Ты чего уставился на меня, как баран на новые ворота? — перехватив мой взгляд, грубо спросил Войтов.
— Вы говорили, товарищ генерал, что Кораблева демобилизована из армии? Вы, кроме всего прочего, заменили ей отца.
Войтов побелел. Сжатые губы стали тонкими, как лезвия. В глазах — презрение и желчь. Два чувства живут в нем — человечность и страх показаться слабым; страх он привык вселять в других, дабы внушить, что он, Войтов, непреклонен и тверд.
— Судить! — крикнул он. — Чтобы другим неповадно было.
Однажды я уже получил урок, вступившись за Петра Захарова, и сейчас разумнее было промолчать, тем более, что Войтов по всем статьям прав — армия немыслима без железной дисциплины. Однако мое понятие о справедливости было иное, и я сказал:
— Вы стали отцом для Каталины и поймите ее, как отец, если она даже в чем-то повинна. А потом, еще неизвестно. Может, случилось несчастье. Сегодня отстать от эшелона очень легко.
— Покажите ему письмо этого шалопая, — приказал Войтов адъютанту.
Соснов поспешно протянул мне листок бумаги.
«Простите, товарищ генерал, иначе и поступить не мог. Каталина решила уйти, вернее, просто покинуть нас. Это ее право: она демобилизована. Вы позволили ей некоторое время находиться с нами и ехать до конечной остановки эшелона, а оттуда в Москву… До передовой считанные километры. Она воспользовалась суматохой и ушла. Возвращаться в тыл не намерена. Оставить ее одну, пусть мне грозит все, что угодно, я не могу. Слишком я люблю ее, чтобы поступить по-другому.
Лейтенант Березин».
— Ну что? — насмешливо спросил меня генерал. — Завтра станет известно штабу фронта, что у Войтова дезертировал лейтенант.
— Березин эгоист до мозга костей: свою любовь он поставил превыше…
— Меня эти тонкости не интересуют, — прервал Войтов и взял у меня березинскую записку.
— И все-таки я бы не судил, немного подождал, — сказал я.
— Это вы, а пока частью командую я, — Войтов нервным жестом руки отпустил меня.
Уже удаляясь, я услышал за спиной его голос: «И откуда только берутся такие: „Эгоист до мозга“. „Не судить“… Судить и только судить! Из-под земли достать. Другим будет наука!»
Вот, казалось бы, и повести конец. Жизнь закружила, повела по путаным дорогам и бездорожью, никто не волен был распорядиться своей судьбой, своими мыслями, даже желанием, и если кто-то утверждал противное, то это была ложь. Люди уверовали, что все могут и смеют, и может, это правда. Да, люди могут овладеть скрытыми от них тайнами земли, править силами природы, а вот подчинять самих себя себе еще не научились и тем самым рубят сук, на котором сидят. Так думал я и жалел Березина; он бросил вызов долгу, и эта безрассудная храбрость приведет его в лучшем случае в, штрафной батальон, в худшем — к смертной казни; и все-таки, несмотря ни на что, он был мне люб: его разум ослепило всесильное чувство, и он до конца так и не понял, что не он распорядился своей судьбой; ему чудилось, что он тверд и решителен, с горячей кровью юноши он ринулся смело навстречу урагану, а на самом деле просто был подхвачен, как утлый челн, течением им же созданных событий. И на какой бы берег оно теперь его ни выбросило, он до конца будет мыслить себя героем одной из несозданных еще поэм, имя которой — любовь.
О Каталине я почему-то думал меньше. Я почти был уверен, что она не разделяла чувства Березина, он был чужд ей, он любил для себя и знал только себя. Она же от себя отреклась, для нее было нечто выше и значительней, чем ее собственное «я»; больше — она возненавидела Березина, когда он встал на пути осуществления ее устремлений. И для меня не было загадкой и не удивляло, почему в таком случае она могла позволить Березину поступить так, как он поступил; он сам, кстати, объяснил это в письме Войтову. Я брюзжал на Каталину: она ушла, не обмолвившись со мной ни единым словом, хотя не могла не знать, что в ту ночь я возвратился в часть. Ушла и, может быть, навсегда.
Однако жизни не угодно ставить точку в конце этой страницы. В январское раннее утро, когда время уже успело стереть в памяти не только детали, но и весь тот период, когда Каталина и Березин полнили грудь и занимали сознание, меня подстерегала эта встреча.
Удары по немцам следовали один за другим. Почти на их плечах мы ворвались в село Горватово — штаб-квартиру генерала Штрангера. Село встретило кладбищенской тишиной; от генеральского дома остался обуглившийся остов. Здесь широко любил пожить покойный хозяин. По селу хоть шаром покати, ни одной живой души. Но едва прозвучала русская речь солдата, как в холодной сероватой мгле утра улицы запрудила толпа народа.
Слезы. Странный тонкий визг смеха. Причитания. Вдруг к нашему командиру направилась старая женщина, люди уступили ей дорогу. На сутулые узкие плечи наброшен ветхий ватник, голова не покрыта.
Над толпой повисла тишина.
— Не узнаешь, сынок? — спросила она, снизу вверх заглядывая в лицо командира. — Я бабка Пелагея, когда ты еще не родился, в этом селе живу. До войны складнее выходило, люди добрее были: узнавали друг дружку, а сейчас, видишь, платка не дадут. — Она провела костлявыми пальцами по серым нечесаным волосам. — И ты забыл меня, — ткнула она рукой в грудь командира. — Нет у тебя матери, забыл, забыл…
Офицер неловко молчал.
— Стыдно, вижу, сынок, стыдно бабку Пелагею, мать родную, забывать?! Долго не приходил. А они, ироды, взяли и повесили мою дочку. — Понизив голос, старуха зашептала, лицо потеплело. — Я ей сухоньких цветочков — бессмертников — каждый день ношу. С лета нарвала. Синие-синие… — Старуха вдруг заплясала, поворачиваясь на одной ноге и второй шибко притопывая; что-то невнятное и странное запела, затем, внезапно окаменев, сурово обвела глазами толпу. — Там, за хатами… И тельце ее голенькое…
Дымился мороз. Ранняя стынь, густая, как студень. Толпа колыхалась. Всхлипывание и плач. Старуха сказала правду. В том месте, где село жалось к лесу, у самой дороги стояла срубленная из березовых бревен виселица с дощечкой — «партизан». Немцы не дали убрать и захоронить тело. Висело оно иссиня-белое, высушенное и превращенное морозом в кость; необычайно крохотное, с вытянутыми вдоль туловища руками.
Бабка Пелагея запричитала. Но это был не плач — радость:
— Сейчас, сейчас освободят тебя, дочка… Чего стонете! — рассерженно оглянулась она на плачущих женщин.
Тело повешенной положили на плащ-палатку и одним концом прикрыли его. Я пробрался сквозь толпу ближе. Лица нельзя разобрать, оно в синих подтеках. На лбу запеклась выжженная пятиконечная звезда. Волосы заиндевели на морозе; в них набились снежинки, и трудно понять, то ли они припудрены, то ли их обесцветил ветер, но прядка, протянувшаяся ослепительно белым жгутом со лба до затылка, была седая. Меня будто кто-то с силой толкнул в грудь.
Каталина!..
Ее никто не знал в этом селе. Изредка она приходила из леса к бабке Пелагее, пряталась у нее в землянке. Что связывало старую женщину и Каталину, догадываться никто не пытался. Но тайна не могла остаться вечной. Из Горватова многие тоже ушли в лес, все нити вели к партизанам. Командовал отрядом лейтенант Березин, и правой рукой у него была Каталина. Полюбилась красивая и строгая девушка отважным мстителям: молодые теряли из-за нее голову, старики берегли и любили, как дочь. Живая, предприимчивая, была она зачинщицей рискованных дел; на счету ее два взорванных моста, пущенный под откос эшелон, а уж сколько она отправила на тот свет фашистов — и со счету сбились. Первая в отряде она получила орден Ленина. Партизаны в ней души не чаяли. Правда, командир отряда был хмур и суров, когда Каталине оказывалось излишне много почестей и внимания, особенно молодыми парнями; он предпочитал, чтобы она оставалась в тени. Но вскоре Березина внезапно вызвали на Большую землю; с тревогой улетал он. Командиром стал другой человек. Положение Каталины в отряде не изменилось, напротив, она обрела еще большую силу и власть над сердцами, с ней шли люди на любое задание.
А однажды, пробравшись ночью в село, она вызвала из землянки бабку Пелагею, долго расспрашивала о понаехавших в деревню немцах. Старуха все примечала. Потом сказав: «Прощайте, бабуся», Каталина скрылась за углом соседнего сарая.
Под утро село разбудил гигантской силы взрыв, небо запылало заревом. Из домов на мороз выскакивали кто в чем был. Гремели винтовочные выстрелы, рвали тишину истошные крики немцев, ревели моторы машин. Генерал Штрангер и его штаб-квартира больше не существовали. К Штрангеру в ту ночь наехало не меньше дюжины высоких чинов и их адъютантов.
Но Каталину схватили. Каким пыткам и мукам подвергалась она, жители мало знали; просочился слух о допросе, который вели в гестапо. Передавался он из уст в уста, стал легендой:
— Откуда пришла?
— Из леса.
— Где сейчас партизаны?
— Не знаю.
— Кто тебя послал сюда?
— Народ.
Пытали десять дней. А на одиннадцатый всех, кто еще остался в селе, согнали к виселице. Девушку вели через все село, обнаженную, по снегу, под конвоем взвода солдат. Поставили на ящик, накинули петлю.
— Чего плачете, люди?! — крикнула она толпе. — Не плакать надо, не стоять в стороне от жизни, и жизнь станет красивой, будет служить вам…
Из-под ног у нее выбили ящик.
…Мы ушли из Горватова, оставив там взметнувшийся в небо белый каменный обелиск. Люди к его подножью положили пучок синих бессмертников.
Tе, кого мы любим, — живут
Нет в мире покоя. Люди облагородили и украсили землю: воздвигли дворцы, прорезали каналы, создали музыку, но те же люди не смогли добиться для себя и земли покоя, и жизнь, неповторимая в своей красоте, становится пыткой. Бомбят с утра до ночи, круглыми сутками; неудачи у немцев на юге оборачиваются желчью и злостью здесь, на Ржевском направлении. Самолетов, как комарья. «Хейнкели», «мессеры», «юнкерсы», «фокке-вульфы». Вой и грохот.
Тесно в воздухе, и негде укрыться на планете.
Село Васютники, кинутое беспорядочно на откос оврага, километрах в пяти от передовой, — клятое место. Ничего не разобрать, мечутся женщины, дети, в суматохе — солдаты. Дым, визг. Какому-то безмозглому болвану вздумалось пригнать сюда колонну бензоцистерн. Бомба угодила в самую середину. Несколько цистерн взорвалось, и ослепительная река огня, кипя и подпрыгивая, хлынула вниз по улице. Как наседка над цыплятами, кудахчет женщина, загораживая собою, уводит к лесу трех девочек; на бреющем полете их настиг самолет. В метре от меня скосило сержанта Полина.
На этой неделе с подбитого танка я снял пулемет и приспособил для стрельбы по воздушной цели. Сооружение пришлось кстати. Поджег два самолета. Немцы сбросили весь груз, обнаружили мою щель, в бешенстве режут воздух. Кто-то запустил в меня матюгом, чтобы не дразнил собак! Но обуздать безумную ярость нелегко. Дуэль только началась. И тут бомба угодила в дом. Как спичечный коробок разнесло его. Щель привалило бревнами, засыпало землей и пылью. Едва выбрался оттуда и сразу прыгнул в щель к своему связному. Он забился в угол, уткнув голову в колени.
— Чего клюете землю? Стрелять по самолетам! — крикнул я.
Кремлев показал окровавленную ладонь с отсеченным мизинцем.
— Отгрызли, сволочи!
Бомбежка утихла к вечеру. Я оторвал от нательной рубашки лоскут и перебинтовал Кремлеву руку. Вылез из своей «цитадели» и поглядел на нее сверху. Вполне могла она стать могилой; расправил плечи, полной грудью хватил воздух: кружилась голова, тошнило. Как пустые глазницы, тут и там зияли воронки, курилась дымом земля. На мгновение обуял леденящий душу страх: показалось, что стою не на земле, а на некогда потерпевшей катастрофу, изрытой оспой пустынной луне, и нет этому мертвому полю ни конца ни края.
— Товарищ старший лейтенант, — зовет Кремлев, а я не могу прийти в себя, очнуться.
Немцы! Зачем им эти Васютники? Здесь, кроме полевой почты и мирных жителей, никого нет. Жестокостью они поворачивают оружие против себя, близят не взятие Москвы — суровую расплату Берлину. В который раз убеждаюсь в их удивительном, тупом равнодушии к смерти человека. Расстрелять женщину с тремя детьми? Нет, это уже не воины и, пожалуй, не люди. И смеют еще надеяться, что распластают, сотрут с лица земли Россию. Впрочем, чего ждать от народа, во главе которого стоит гном Гитлер, одержимый манией величия?
Думаю о Наполеоне.
Он был велик. История знала великих и до него, но ни один из них не причинил человечеству столько губительного вреда, сколько причинило и причинит еще настоящему и будущему поколениям появление в истории Наполеона. Он пришел к власти как отпетый авантюрист и утвердил себя соблазнительным эталоном не только для своего никчемного потомка Наполеона III. Всяк, забравший мало-мальски власть, стремится уподобиться ему, тиснуть руку за борт пиджака. Подражатели одержимы шизофренией. Но трагедия состоит в том, что сами люди превращают сумасшедшего в идола, поклоняясь ему, бьют поклоны и в конце концов превращаются в стадо баранов, которое возвеличенный гном гонит на убой.
Немцы! А они ведь дали миру Бетховена и Гёте…
После мучительных недель, проведенных в госпитале, нельзя было не познать до конца цену жизни, не полюбить полощущееся синей тканью небо, бренную мать-землю. Война выветрила из сердца много света и добра, ожесточила его, но упоения жизнью, нежности к ней стереть не смогла. «Лудина гора», торчавшая костью в горле! Там не стало Захарова. И меня штыком пырнули в бок: смерть навалилась черным душным одеялом, тошнящей слабостью. Острая, нечеловеческая борьба с небытием; обливаясь потом, исходя кровью, дополз до пулемета, и радость плеснула из глаз. Жить не сгибаясь, до последней минуты жить, чувствовать в себе достоинство человека — это мало сказать великолепно, ради этого создана планета, имя которой — Земля!
— Стоит жить! — кричал я…
И вот опять встреча с немцем. Увы, теперь я уже и не разведчик, и не артиллерист, и не пехотинец: списан в службу воздушного оповещения, наблюдения и связи. Прямо скажем, служба курортная: знай одно — следи за воздухом и время от времени напоминай о себе начальству из штаба армии. Живу в землянке на одном из наблюдательных пунктов, в пяти километрах от передовой; это уже глубокий тыл! За спиной — Васютники. Почти мирное село, если не считать сумасшедших налетов; здесь солдаты меняют концентраты на молоко.
Осень. Багряным заревом встает из-за холма лес. Как в гигантском костре, в нем стынут зеленью ели. Отряхнув с себя комья земли, дым и пыль, я решил пройтись, пока солдаты приведут в порядок после бомбежки жилье; на сердце тяжело и муторно. Взобравшись на пригорок, сел на берегу крохотной речушки. Вода несла красные, точно кровавые пятна, листья. Среди них появлялся и исчезал черный жучок, судорожно скользил, прыгал, летал. А листья плывут… Плывут… Не могу оторвать от них глаз и мыслей. И вдруг крик в небе. Вытянувшись ровной лентой и покачиваясь, летят журавли. Жалобно курлыча, они слали грусть земле. В груди что-то сжалось; выступили слезы. Если бы люди могли подняться и улететь, подумал я, они бы сегодня покинули землю. Покинули и потом грустили вечно о ней, как эти журавли. В их клекоте — безысходная тоска и плач. Но может быть, они — пришельцы с другой планеты? Может, в звездных высях их родина, и тоже охвачена огнем?..
Внезапно журавлиный строй нарушился. Беспорядочно грянули винтовочные выстрелы. Крик усилился. Я даже не успел опомниться, как к ногам упала птица. Ударив о траву крыльями, она рванулась вперед и угасла. Откуда-то вынырнули солдаты, оживленные и обрадованные. Убитая ими птица вызвала восторг. Я не сказал им ни слова и молча повернул к землянке.
Вечерело. На горизонте расплескалось зарево. Пылал красной медью лес, плавилось небо, горели белые низкие облака; весь мир охвачен огнем.
Осень. На пригорке ютятся Васютники. У моста меня остановил цокот копыт и храп лошадей. Два всадника бешено скакали по разбитой дороге. Я едва успел отпрыгнуть на обочину, как они пронеслись мимо, обдав лошадиным потом и жаром.
— Осторожнее, капитан! — крикнул я, узнав в переднем всаднике Соснова.
Он оглянулся, резко дернув поводья; его красавец-жеребец на тонких точеных ногах взвился в воздух. Соснов потерял равновесие и со всего размаху грохнулся оземь.
— Я сломал ногу… — застонал он.
Вернулся второй всадник, с тревогой спросил:
— Не может быть! Верно, сгоряча показалось.
И в самом деле — все сошло гораздо благополучнее: пострадавший отделался испугом и ушибом ноги.
— Что вам угодно, старший лейтенант? — зло бросил он мне, поднимаясь и отряхивая гимнастерку и брюки. — Черт возьми, путаетесь под ногами!
— Благодарите, товарищ капитан, небо, что они у вас целы. — Откозырнув, я зашагал своей дорогой.
Соснов! Судьбе угодно опять свести нас. Он меня не признает, словно никогда и не был со мною знаком; да, Соснов — шишка, у него другой начальник, пошел в гору — адъютант командира Краснознаменной дивизии.
Когда я вернулся к себе в землянку, совсем стемнело. Петя Кремлев, приготовив ужин и растопив печку, стал отпрашиваться к приятелю. Он успел побывать в санбате и окончательно разделался со своим мизинцем, смеется: «Заживет!» Пете восемнадцать лет. Черномазый, немного нескладный и угловатый парень из Подмосковья.
— Земляка бы навестить… — мнется он.
«Земляк» — девушка-санитарка из медсанбата. Санбат в семи километрах от нас; я притворяюсь, что секрет Кремлева мне неизвестен.
— А то сказывают, — добавляет Петя, — скоро земляка на формирование отведут в глубокий тыл. Последние деньки тут доживает.
— Да, тоскливо будет, если медсанбат уведут, — сочувствую я.
Кремлев от неожиданности даже рот приоткрыл:
— А вы откуда знаете?
— Слухами, Петя, земля полнится. Ну, а землячка-то стоящая девушка?
— Стоящая, товарищ старший лейтенант! — с горячностью откликается он. — Только не признает меня. С усами ей нравятся. Говорит, зелен и звания никакого не имею. Хотя бы ефрейтор, говорит, был. Усы вот начал отпускать, да не растут. Но я докажу.
— Тогда валяй, — смеюсь я.
Кремлева точно ветром выдуло из землянки.
В печке потрескивает; темно и тихо. Я недалеко ушел от Кремлева в возрасте, а, кажется, десять жизней надо сбросить, чтобы вернуться к нему. Как река, стиснутая в ущелье, пробивала моя жизнь себе дорогу. Ее сопровождало великое и смешное, радость и горечь. Война оборвала мою юность на самом гребне, скомкав и выбросив, как никому не нужные цветы. И теперь, когда я стал лицом к лицу с тем, чего не приемлет сознание — тебя завтра может не быть, оглядываюсь назад, с болью думаю о том, чего еще не успел сделать, подвергаю анализу и сомнению многое, что прочно утвердилось сегодня во мне, и, как естествоиспытатель под микроскопом в капле воды видит не только воду, в прошлом вижу не только прошлое.
В десятом часу зашел капитан Звягинцев. С ним мы познакомились в резервном полку; в одно время получали назначение — он начальником дивизионного фактически несуществующего Дома офицеров, я — командиром взвода ВНОС, и, прибыв к месту назначения, неожиданно оказались соседями. Этого было уже достаточно, чтобы считать друг друга приятелями. Звягинцев — высокий, широкоплечий мужчина со слегка помятым, увядшим лицом, прихрамывает на правую ногу: икру вырвало миной. Но энергия в нем неукротимая, в глазах не гаснет смешинка.
— Как поживает «воздух»? — спросил он.
— Жду, когда будет Дом офицеров и начальник перестанет околачивать груши…
— Начальство есть, дом выдумаем, — Звягинцев зачерпнул из бака кружку воды, выпил, без обиняков заявил:
— Ну, дружище, с тебя причитается. Только и разговоров, что о тебе! Правда, некоторые, кто часто сердце прячет в пятки, готов взвалить вину за бомбежку Васютников на тебя: ты, мол, демаскировал, навел фрицев на цель. Но что бы там ни было, а корреспондентов жди. Распишут за милую душу! Орден обеспечен, — Звягинцев рассмеялся. — Хотел бы я очутиться на твоем месте: слава, как молодая девка, — каждую жилку щекочет. У меня, брат, полный швах получился — сапоги под мышку и дал деру в лес. Рассказывай, как же ты их, чертей, все-таки сбил?
Наконец я понял, что речь идет о сбитых мною самолетах.
— Тошнит. Дай забыться немного.
— Плети бабушкины сказки, тошнит! Орден получишь, другое запоешь. Но если у тебя мигрень, меняю пластинку. Только что с почты. Встретил там Соснова. Он с костылем. Разбился чудак-человек. Где-то верхом на лошади мотался по передовой, попал под обстрел, бомбежку и нарвался на немецкую засаду одновременно. Героя из себя корчит. Ему, поди, тоже пахнет орденом.
— По передовой?!
— Да. Нагнал такого страху. Все сочувствуют ему, настаивают на отправке в госпиталь. Но он поле боя решил не покидать. Везет этим адъютантам, сукиным сынам! Комдив в него влюблен. Соснов красив, как бог.
— Как богиня, — поправил я.
Звягинцев захохотал:
— Да, фигура у него бедрастая.
Я рассказал Звягинцеву, при каких обстоятельствах расшибся Соснов. Звягинцев заерзал на стуле:
— Каков подлец, а? Мозги-то вправлял как! Тертый калач: мы сидели, развесив уши, а он заливал.
— Чай пить будешь? — спросил я.
— У нас, в Саратове, за чай отца зарежут, — капитан пододвинул стул к столу. — Знаешь, последнее время вдохновение замучило, и фантазия всякая, как у писателя, курится в голове. Ей-богу, без шуток, Саша, я бы мог написать роман! Вот не знаю только о чем. Пойду советоваться к редактору газеты Калитину.
— А Соснов, чем не фигура для романа? Герой, красавец… — подсказал я.
— Он герой не моего романа.
Звягинцеву тридцать два года, но дать можно все сорок. В недавнем прошлом он отличный строевой командир-пехотинец. Теперь, после ранения, ушел со строевой службы и переменился: раздобрел, стал словоохотлив сверх всякой меры. Сорок коробов намелет, только слушай.
Мы пили чай, ели тушенку; уплетая за обе щеки, Звягинцев философствовал:
— Сволочи союзники: со вторым фронтом — кошку тянут за хвост. Норовят тушенкой отделаться. Ходят слухи, не будет второго фронта.
— Тебе эти новости сорока на хвосте принесла?
— Намечают операции в Африке. Черт знает, что такое! Жди их оттуда до второго пришествия.
— В Африке им Роммель даст прикурить.
Нужна хоть какая-нибудь отдушина. Если в пору решающего момента войны — боев люд Москвой — солдат воспрянул духом, уверовав в победу, то весь 1942 год, особенно осень, сулит затяжную войну. А воевать — не чаи распивать. Нужна вспышка, которая осветила бы душу, подняла настроение. Хорошо бы, если б союзники наконец начали действовать. Но англичане не торопятся: муторно долго обдумывают свои поступки, выжидают.
Звягинцев смачно облаял англичан, спросил:
— Что нас ждет?
— На бога надейся, а сам не плошай. Немцы наставят нам еще синяков и фонарей, но все-таки одолеем мы их! — сказал я.
— Значит, пиррова победа?
— Нет. Советская. У нашего брата стальные нервы и крепкие жилы. Сталинград вон — горит. Сталинград — бочка, ежеминутно пополняемая порохом и ежеминутно взрывающаяся, — а живет. Немецкое око видит, а зуб неймет. Вот и рассуди, если окончательно не заплыли жиром мозги.
— Я бы мог обидеться, но ты мне друг, а нервы дороже, да и тушенка вкусная, — отшутился Звягинцев и тотчас переменил разговор: — Соседки у тебя в Васютниках, умрешь! Смотри не пропусти жизнь меж пальцев. Они уж наслышались: сбил два самолета. Герой! А у баб всегда слюнки текут при виде такого жаркого.
Я пожал плечами:
— Понятия не имею, о чем ты толкуешь.
— У тебя под носом полевая почта с девочками, которые и великому Данте не снились.
— Ты ловелас известный, — сказал я. — Связистки тебе уже надоели?
— Послушай, Метелин, а что обиднее: ловелас или Дон-Жуан?
— За одного и за другого надо бить физиономию нашему брату.
— А кроме мордобития разве нет лекарства?
— Тебя можно излечить только одним путем: положить на операционный стол и удалить позывные донжуанства.
— Черт знает, ерунду какую сказал! Холодным потом прошибло от ужаса. А вообще словеса эти «ловелас» и «Дон-Жуан» иностранные. Я же русский мужик и другими языками не владею.
— Есть классический перевод этих понятий. Хочешь знать?
— Ну?
— Бабник.
Звягинцев поморщился.
— Переводов не признаю. Они всегда грешат неточностью.
После чая курили. Звягинцев почти не сидел на месте, носился по землянке, опускался на корточки у очага.
— Когда же ты все-таки откроешь Дом офицеров? — спросил я.
— Котлован человек на двести уже вырыт. На днях начнут возводить стены, ставить стропила. Колизей сооружу. Штаты укомплектовал. Фотограф, художник, музыканты, затейник и прочие обозники — в полном составе. Как тридцать три богатыря. Хлопцы — орлы!
Вчера докладывал командиру дивизии. Похвалил. Советовал обосноваться, как у тещи: если немец не прогонит, зимовать будем здесь.
— Ну, если так утверждает комдив, то дело наше — табак.
— Кому табак, а кому — манна с неба. Во всяком случае надо иметь пьяную голову, чтобы, глядя на осень, грязь, слякоть, лезть вперед.
— Уж не страдает ли мой друг ревматизмом?
— Надо выждать момент. Хоть второй фронт и фикция на постном масле, но разговоры о нем идут, и это греет.
— Конечно, — отозвался я. — Чистые простыни и теплая землянка приятнее, чем разбитая дорога под дождями. Но не слишком ли большая роскошь ждать в ненастье погоды?
— Вот погоди, — усмехнулся Звягинцев. — Откроем клуб, дела пойдут веселее. Прокисли мы совсем, хоть немного будет варева для души.
— Давай лучше спать.
Звягинцев вскинул подвижные брови, как бы желая спросить, чем мне не угодил, стал прощаться. Я проводил его и заглянул в блиндаж к своим вносовцам. Бойцы уже спали. На посту стоял Бугаев.
— В воздухе спокойно, товарищ старший лейтенант, — доложил он.
— Присаживайтесь, покурим.
Мы с Бугаевым разговорились. Последнее письмо от жены и дочери он получил еще в конце июня. С той поры из дому ни слуху ни духу. Сам он из Царицына, там родился, в свое время защищал город от белых.
— Только Волгу-реку и город родной вспоминаю, в груди будто раскаленным железом ковыряют, из горна вынули и пырнули. — Свет папиросы освещает густые кустистые брови Бугаева. Он мрачен и хмур. — И второй фронт — вода в ступе! Вчерась тыща самолетов бомбила город. А может, газеты брешут, что мы еще там? Вы как думаете, товарищ командир?
— Думаю, не брешут.
— Про себя я так загадал: ежели сдадим город, значит, не видать мне более дочки и жены. А ежели устоим, то тогда, товарищ старший лейтенант, вас на дочкину свадьбу беспременно приглашаю после войны.
— На Волге сейчас жарко, — сказал я, чтобы уйти от прямого ответа. Но Бугаев не отпустил:
— Так как же, товарищ старший лейтенант, неужто быть Сталинграду под немцем? Мы вот тут топчемся на месте черт знает чего! Хотя б жимануть, чтоб там легче было.
— Копите деньги на свадьбу, — ответил я.
В темноте у Бугаева хмелем радости сверкнули глаза.
— Спасибо вам, товарищ командир. Пребольшущее спасибо. Аж от сердца отлегло. Фашистов беспременно побить надо. Это уж теперь точно побьем. Как загадал, так и будет. Надо только начальству не сидеть сложа руки. Под лежачий камень вода не течет.
— Начальство начальством, а вы тут в оба глядите за небом, — сказал я и попрощался.
— Счастливо вам отдыхать, — в темноте четко щелкнули каблуки Бугаева.
Осеннее, но теплое небо все в звездах. Передовая шьет его трассирующими пулями, чертит разноцветьем, ракет. Глухой цокот пулеметов доносится сюда. Пять километров от передовой, до смерти все-таки — расстояние, а там, за холмом, как в песне поется, — четыре шага. Я погасил каблуком папиросу и вернулся к себе. Кремлев только что тоже прошмыгнул в землянку, поджидал меня, возбужденный, румяный, готовый своротить горы.
— Что, с удачей тебя?
Вместо ответа он сообщает новость: из-под Ржева немец перебросил часть войск на юг, к Волге, и сегодня бомбил последний раз для страха, будет теперь отсиживаться в окопах.
— Что же тебя радует?
— Само собой понятно, — развел он руками. — Медсанбат-то никуда теперь не денется. Теперь тут не опасно раненым.
— А как же усы? Землячка-то тебя без них не признает.
— За месяц, товарищ старший лейтенант, отращу. Как у запорожца будут.
Невольно подумал о Бугаеве. И Звягинцев и Кремлев радуются предстоящему покою, передышке; сотни, десятки тысяч людей и столько же разноречивых желаний. Какая же нужна титаническая сила, чтобы направить их в одно русло?!
Слухи, принесенные Кремлевым, вскоре подтвердились. Штаб дивизии, к которой я был прикомандирован и стоял на довольствии, начал прочно и надолго размещаться в лесу, обрастать землянками. В течение недели выросло целое городище. Даже Васютники, куда раньше силой трудно было кого-нибудь загнать, сейчас до отказа забили военные; здесь обосновалась и полевая почта. С передовой сняты многие подразделения, переведены в лес. В окопах оставалось незначительное количество людей, потребное для караула и наблюдения.
Звягинцев открыл клуб и неожиданно превратился в фигуру первой величины, по горло занят, озабочен; имя его слышится повсюду: «Ведите солдат в хозяйство Звягинцева», «Товарищ капитан, Звягинцев согласен», «Попросите капитана Звягинцева…» Возле клуба толпятся офицеры, бойцы. Демонстрируются кинофильмы; комдив приказал организовать при клубе художественную самодеятельность, всем командирам по первому требованию Звягинцева отпускать людей; ждали приезда столичных артистов. А в подразделениях с утра до ночи идет боевая и политическая подготовка. Учат солдат бить прикладом, колоть штыком, ползать по-пластунски, бросать противотанковые гранаты, ходить по азимуту, зубрят историю. Не обходится и без ретивых службистов: учат солдат рубить строевым. К отбою лес из конца в конец полнят солдатские песни, подхваченные эхом.
Немцы под боком, до них рукой подать, и они, разумеется, слышат нашу размеренную жизнь, но ведут себя как интеллигентные гости: стараются ничем не нарушать покоя хозяев.
Одно скверно — оскудело питание: сухари и овсяная постная каша — пища наша. Но солдаты затягивают пояса: надо кормить защитников волжской твердыни.
Звягинцева почти не вижу. А как-то утром, ни свет ни заря, он сам ввалился ко мне, дал в бок тумака, прогудел в самое ухо:
— Хватит нежиться.
Из-за перегородки выскочил Петя Кремлев:
— Товарищ капитан, начальник только лег.
— Ишь, аристократы! Только лег? Кругом!
Я протер глаза, потянул носом воздух: не пьян ли капитан?
— Ты что, угорел?
— На охоту пойдешь? Лось в округе появился.
— Какой еще лось?
— Одевайся, все узнаешь!
В течение трех минут я собрался. Оказалось — в окрестностях расположения штаба дивизии, где-то на северо-востоке, патруль натолкнулся в зарослях леса на огромного быка и признал в нем лося. Звягинцев решил лося зажарить. Всполошил и поставил на ноги около дюжины охотников, всех убедил, что еще в юные годы дневал и ночевал в тайге, до тонкостей знает повадки зверя, и теперь как пить дать лось попадет к нему в руки, об заклад побился на ведро самогона с редактором дивизионной газеты подполковником Калитиным.
На эту удочку попался и я.
Утро выдалось туманное. Грязные, точно застиранные простыни, висели над землей облака. Как сквозь сито, моросил мелкий дождь. Под ногами лужи воды, скользко. Пахло густой прелью и сыростью. За воротник лезла неприятная мокрая стынь. Кое-кто не прочь был плюнуть на охоту.
— Погода непременно помешает тебе зажарить лося, — посочувствовал я Звягинцеву и покосился на Калитина. — Вы как думаете, товарищ подполковник?
— А мне зачем думать? Пусть думает капитан Звягинцев. Мне погода явно поможет выиграть пари.
Звягинцев непреклонен:
— Я жалею, что взял паникеров вроде старшего лейтенанта Метелина.
Мы подошли к опушке леса. Группа наша направилась по предполагаемому следу лося. Заправлял всем Звягинцев. Но вскоре выяснилось, что у него не все в порядке со зрением: слеп, как летучая мышь! Несколько раз он принимал заросли кустарника за зверя, шепотом приказывал затаить дыхание и рассредоточиться, но, когда мы кошачьим шагом окружали кусты, то находили там одни лишь перепутанные клубки почерневшего хмеля. Кончилось предводительство Звягинцева тем, что завел он нас в непролазное болото.
Два офицера из штаба, чертыхаясь, предложили повернуть оглобли восвояси.
— Чудаки! — упирался Звягинцев. — Никакой выдержки! Изучите вначале звериные привычки, а потом чертыхайтесь. Звери всегда умнее охотника. Побеждают терпение и выдержка. Лось водит нас за нос.
К обеду туман рассеялся. На серый небосклон выкатилось маленькое, блеклое, точно переболевшее лихорадкой солнце. Мы к этому времени успели исколесить километров тридцать, дважды барахтались в болоте, много раз путались в зарослях. На охотниках — ни одной сухой нитки. Звягинцев незаметно дернул меня за рукав:
— А что если и в самом деле я проиграл? Надо бы как-то дело разделить?! Для одного ведро самогона накладно.
Я забросил карабин за плечо:
— Ничего, потрясешь свою мошну.
— Какой дурак выдумал эту охоту! — Звягинцев отстал от меня.
К вечеру мы собрались на перекур в заранее условленном месте. Маленький кругленький интендантский лейтенант чихал. Ему вторил пожилой офицер из штаба. У всех подтянуло животы.
— Предлагаю компромиссное решение: спор расторгнуть и убираться отсюда ко всем чертям! — под общее одобрение воскликнул Звягинцев. — Какой-то остолоп сдуру брякнул, что лося видел, а мы, умные люди, клюнули.
— Убьем хоть по сороке! Все как-никак дичь будет, — предложил майор-пехотинец.
Офицеры захохотали. Охота порядком всем надоела. Но я запротестовал:
— Надо выяснить, был ли вообще в этих местах лось. Если да, то непременно убить его.
Звягинцев метнулся ко мне:
— Ура, братцы! Метелин собирается угостить нас шашлыком. Фантазер!
— Если же лось — выдумка, — продолжал я, — немедленно раскулачить капитана Звягинцева, пусть ставит, как обещал, ведро вина. Кто за?
Шум усилился.
— Правильно!
— Я — за!
— Надо же отогреть душу.
— Раскошеливайся, капитан!
— Ты только смотри, Звягинцев, не подсунь какую-нибудь вонючую гадость.
— Он джентльмен, не позволит!
Стиснутый со всех сторон Звягинцев старался перекричать других.
— Предлагаю охоту продолжать. Метелин прав, надо убедиться.
— Сколько можно?
— Товарищ капитан, уговор дороже денег!
— Что там рядиться! Проиграл — выкладывай!
Подполковник Калитин поднял руку:
— Вы меня лишаете слова, друзья. Спорил с капитаном я. Предложение Звягинцева надо принять: побродить в поисках лося еще час-два, до темноты, а Звягинцев тем временем отправится домой и к нашему возвращению подготовит проигрыш.
— Ура!
— Лучшего придумать нельзя.
— Согласен, — сказал я.
Звягинцев накинулся на меня:
— Ты больше всех подливаешь масла в огонь. И если уж на то пошло, держу с тобою пари, что лося не убить.
— А если опять проиграешь? — спросил я.
— Ставлю три ведра, если лось будет убит, и плюс ведро, проигранное Калитину. У меня натура не скаредная. По рукам?
Офицеры зашумели:
— Нашли дураков!
— Теперь-то наверняка можно идти ва-банк.
— Честно скажи, патруль видел лося? — спросил я. — Или это твоя очередная потеха?
— Голову даю на отсечение, видел!
— В таком случае по рукам! — И мы, как заправские спорщики, ударили по рукам. Калитин был арбитром.
И опять разошлись. Теперь каждый в отдельности облюбовал себе направление. Тишина белой паутиной оплетала мир. Солнце клонилось к горизонту. Потеплело. Запах хвои и пружинившей под ногами палой листвы пьянил и без того усталое тело. Не прошло и четверти часа, как тишину раскололи один за другим два выстрела. Я бросился выстрелам навстречу. Дорогой наткнулся на свежие следы копыт и, склонившись, понял — здесь прошел лось! Сердце забилось: кому-то из моих товарищей повезло. Еще издали увидел Калитина.
— Убили? — кричу ему.
Ей-ей, видел лося. Не верите?.. Он из тех вон кустов, с выпученными глазами, как черт, выскочил и прямо на меня. Один, второй раз стреляю. А лось, как птица, взвился и был таков; не успел даже нового патрона загнать в ствол.
Я молчал.
— Не верите?
— Я ничего не говорю.
— Ну вот, чудак-человек, не верит! Он был метрах в десяти.
— Как же вы так промахнулись?
— В том-то и беда.
С белым как полотно лицом подлетел Звягинцев. Затем — остальные охотники.
— Ну что?
Все озирались по сторонам.
— Промазал, — пожал плечами Калитин.
— Я так и знал, что вы смажете, — с непонятным удовольствием воскликнул Звягинцев. — Не зря же вы писатель!
Офицеры вопросительно переглянулись. Я тоже заподозрил какой-то подвох. И разгадал — Калитину надоела безрезультатная канитель, и он двумя выстрелами в воздух решил прикончить ее.
— Вы не прочь пошутить, товарищ подполковник, — сказал я.
Он рассмеялся:
— Да лось тут и не ночевал. Пора и честь знать — убираться в подразделение. На себя поглядите, как болотные дьяволы: мокрые, перепачканные. Узнает генерал, всыплет всем за эту охоту по первое число.
Звягинцев сиял:
— Спасибо, подполковник. Я сам ломал голову, что бы придумать эдакое, но вы опередили.
Офицеры, балагуря, собрались в обратный путь. Но мне случайно обнаруженный след лося уже не давал покоя. Своего секрета я не выдал и отправиться домой тоже не мог. Отколовшись от приятелей, я повернул в противоположную сторону.
— Пройдусь вокруг той рощи, — сказал я.
— Не жмотничай, Метелин. Какой стороной ни колеси, от проигрыша не уйти, — бросил полушутя Звягинцев.
— Наш договор остается в силе, — подтвердил я.
Во мне вспыхнул азарт.
В кусты уйти никогда не поздно, прежде надо испытать, хотя бы это стоило необычайной цены, сладкие минуты удовлетворенного желания. След лося! Я долго не мог его найти. И вдруг он снова оказался у меня под ногами. Я задрожал, как гончая собака, чуя добычу. Во вмятины копыт еще не успела набраться вода. Рядом валялись сбитые сухие прутья и листья. Лось где-то недалеко. Надо было точно определить его направление, чтобы перерезать ему дорогу. Я даже потянул в себя воздух, стараясь в гамме прелых осенних запахов уловить запах животного. Каждый мускул напрягся и дрожал во мне, как струна. Из низины доносились голоса удаляющихся. Внезапно, как выстрел, треснула ветка. Я весь изготовился к броску, зажав в руке карабин.
Но больше ни одного шороха.
Кошачьим шагом я двинулся по следу. Впереди чернели островком глухие заросли ольхи и орешника; в глубину я не стал забираться: окажись лось в противоположной от меня стороне, он тотчас уйдет через поле в большой лес, едва заслышав присутствие врага. Я обошел рощу вокруг и не заметил ничего такого, что бы указывало, что лось укрылся в другом месте; следы оборвались. Животное где-то здесь. И я пожалел, что рядом не оказалось никого из приятелей: наверняка ждала удача!
Началась слежка. Сотни раз я прислушивался, пригибался к земле, но, кроме ударов собственного сердца, ничего не слышал. Решил пересечь рощу и сделал это дважды и оба раза, безрезультатно. Но странное дело, едва я находил новые следы и начинал всматриваться в них, как вынужден был снова убеждаться в совершенной нелепости: следы идут за мной. Я проверил самого себя: обошел рощу справа и пересек ее, и — опять то же самое. По спине побежали мурашки: «Не схожу ли я с ума?» И тут чутье разведчика подсказало — лось следит за мною. Вскоре я убедился в этом. Сделав вид, что намерен пересечь рощу в новом направлении, я бегом прошел некоторое расстояние и незаметно укрылся в кустарнике, шагах в десяти от рощи, на пути к большому лесу. Отсюда роща, как из укрытия, просматривалась с трех сторон; четвертая меня не беспокоила: уйти туда лось не мог, там пустырь и перекресток дорог, ведущих к жилью людей. Я почуял, что мой, скрытый от глаз, противник занервничал и заволновался. «Укрываясь от преследования — не уходи сломя голову», — думалось, не иначе. А тут его враг исчез, как сквозь землю провалился. Справа и слева под копытами треснули ветки. Одолевали нетерпение и страх. Наверняка, чтобы спастись, надо броситься к большому лесу; у меня сладко засосало под ложечкой: я сидел как раз на пути. Несколько минут острого, напряженного выжидания. Чтобы обнаружить меня, лось предпринял отчаянную попытку: изо всех сил открыто рванулся в противоположную сторону, то есть в самую опасную для жизни — к пустырю и пересечению дорог. «Он с ума сошел!» — перехватило у меня дыхание. Я готов был ринуться вдогонку, но силой удержал себя на месте: мне показалось, что я разгадал отчаяние животного. И точно, топот копыт замер. Я не ошибся. Лось не мог броситься на проезжие дороги, там еще слышны были голоса его врагов. И опять выжидание. Воздух темнел. Ни единого звука, который бы говорил о чьем-либо присутствии. Я был уверен — лось находился где-то рядом, но в то же время стал терять надежду: сумерки стремительно густели, а в темноте лося поминай как звали. И вдруг я почувствовал на себе чей-то взгляд. Кто это был — зверь или человек? — я уже не знал, но высматривали они меня с оцепенелой лютостью. Лоб взмок от пота. Треск ветвей заставил вздрогнуть; у самого края рощи вынырнуло огромное с высоко поднятой головою, раздувающимися ноздрями и вислой, как у льва шеей, животное. Оно потянуло воздух. Мгновение — и, ничего другого не придумав, как смелостью пробить себе дорогу, рванулось из зарослей к лесу. Это был лось. Шел он ярой бешеной рысью, слегка запрокинув голову, как породистая лошадь. Из-под сильных копыт брызгами летела земля. Топот их отдавался эхом. И вдруг почти перед собою он обнаружил врага. Ужас взметнул его, как птицу, ввысь, но с пути своего лось не свернул, решив грудью сбить меня.
Прогремел выстрел. Я слишком хорошо стрелял, чтобы промахнуться. Лось, точно споткнувшись, на полном ходу опрокинулся через голову, с грохотом ударился о землю, вскочил и, пролетев еще метров пять, рухнул всем могучим туловищем. Выпученные большие глаза налились жгучей кровью. Он, как человек, глубоко вздохнул и утих.
На выстрелы ко мне спустя полчаса вернулись оба лейтенанта и Звягинцев.
— Неужели промахнулся?! — еще издали закричали они.
— Хватит валять дурака…
Вид убитого лося заставил их замолчать.
Лейтенант, чтобы вернуть остальных охотников, дал в воздух очередь из автомата. Они не заставили себя ждать, возвратились с шумом, окружили животное.
— Красавец!
— Впервые вижу такого…
— Грудь, как у богатыря.
— Гигант.
Ко мне повернулся Калитин:
— А мы так и решили, что долг платежом красен: острит Метелин. Вам чертовски повезло!
Но я не захлебывался от восторга. Стоял растерянный и подавленный, ощутив вдруг сердцем бессмысленность своего поступка. Животное, отбитое от друга и родного стада, загнанное в эти края не иначе, как все той же сумасшедшей людской сутолокой и войной, металось в поисках укрытия, и одним выстрелом я оборвал его жизнь. Как недорого стоит нынче жизнь птицы животного, человека!
— «Грустно жить на этом свете, господа», — проронил я.
Калитин сощурил глаза:
— Мы родились с вами для того, чтобы переделать жизнь, сделать так, чтобы было не грустно и можно было выбросить из употребления подобные афоризмы.
— Я настроен более скептично, — ответил я. — Мы с вами хотя бы смогли отстоять одно право, право жизни на земле.
Была уже полночь, когда с нечеловеческими усилиями мы доволокли тушу лося до моей землянки. Нас обступили солдаты. Осветили животное карманными фонариками.
— Здорово угодил! Прямо между глаз.
— С толком стреляно.
— Кто же это, товарищ капитан? — спросил Кремлев у Звягинцева.
— Вон товарищ подполковник, — указал тот на Калитина. — Двумя выстрелами лупанул в одно место — и точка!
Великое и смешное всегда идут рядом. Просыпаюсь и не узнаю самого себя: ослепила, как солнце, слава; мой портрет напечатан в газете, на целый подвал статья с подробностями, мне самому неведомыми, сделаны снимки сбитых мною самолетов. Звонки. Поздравления. Даже Петя Кремлев и тот, аккуратно разглаживая газету, хвалится за перегородкой приятелям: «Сегодня покажу землячке, пусть знает наших!» Я растроган, душу будто мажут маслом, но одновременно готов сквозь землю провалиться. Трещит голова, словно ее налили чугуном. По случаю удачной охоты. Звягинцев закатил пир. Наприглашал друзей — повернуться было негде в его тесном жилье. Лося, как кролика, разделали и за ночь проглотили.
Впервые я был пьян. Весь мир казался невыдуманной сказкой, сладкими девичьими губами и все люди — воплощением добра и радости. Но когда добрался до постели — на меня обрушился ад; подо мною был не топчан, а утлая лодчонка, брошенная в ревущий омут. Ее мотало, бросало в бездну, опрокидывалась потолком вниз землянка, я судорожно хватался за фанерные зыбкие борта, боясь вывалиться.
Мне и стыдно, и горько, и обидно. Стыдно перед Петей Кремлевым, он видел, каков я молодец. Обидно на Звягинцева: знал ведь, что не пью я, а поди ж ты, намешал вонючей спиртной бурды и не отстал, пока я не выпил, наливал еще и еще. Славили меня, как короля охоты. А тут Калитин шепнул всем по секрету — командование представило к высокой награде за сбитые самолеты. Меня качали, кричали «ура», и я готов был плакать от счастья. Лесть гадюкой вползла в душу.
В полдень пришла отрезвляющая новость — в приказе по дивизии Калитину, мне и остальным офицерам, принимавшим участие в охоте и пирушке, генерал объявил взыскание. Я схватил выговор и десять суток ареста, Звягинцев в приказе был обойден. Я тотчас позвонил ему:
— Как же это так?
Он юлит, шутит:
— Мне по роду службы положено было вести с вами культурно-массовую работу. А кроме всего прочего, я лично докладывал и давал объяснение адъютанту генерала капитану Соснову. Он, кстати, не такой уж кислый мужик, как я думал.
— Не только кислятина набивает оскомину, вилянье не намного приятнее, — рассердился я и бросил трубку.
Вечером написал письма и отправился на полевую почту. Здесь, однако, уже свернули работу. «Почтовое общество» во главе с начальником младшим лейтенантом Карпинским за длинным столом распивало чай. Брюхастый самовар посредине стола придавал комнате черты далекого затхлого купеческого быта; яркая лампа с синим абажуром, подвешенная к потолку, усиливала это впечатление. В комнате светло, пахнет сладким смоляным дымом. Здесь я застал адъютанта Соснова и тотчас вспомнил слова Звягинцева: «Соснов там завсегдатай». Сидел он между двумя девушками: слева — яркая, броская, со слегка вздернутым носом блондинка, справа — тихая и незаметная русоволосая девушка.
— Ба! Товарищ капитан, уж не переменили ли вы службу? — спросил я у него.
— Каков молодец! — фамильярно бросил он мне и рассмеялся; внешне он неприступен, выглядит солиднее своего возраста. — Переменил службу?.. Мне и в штабе не худо.
— А я так и полагал, что после падения с лошади вы плюнули на строевую службу и ушли в обоз. Кстати, как ваша нога?
Тонкое холеное лицо Соснова окаменело. Он отодвинул от себя стакан с чаем, покосился на Карпинского.
— Собственно, какие у вас здесь дела? Отдали письма и знайте честь. — Соснов поднялся со стула, опираясь на трость.
— Да, да. Что вам еще надо, товарищ Метелин? — спросил Карпинский.
Из смежной комнаты выглянула хозяйка дома Варвара Александровна, близкий друг моего Пети Кремлева; меня она тоже не раз обстирывала, поила молоком и чаем до размещения здесь почты.
— Головушка моя! Поправился? А Петя наговорил страхов… Проходи, проходи, — она полегоньку подталкивала меня в свою комнату.
— Теперь мы знаем, кто вы! — воскликнула вдруг блондинка. — Вы и есть тот самый Метелин, который сегодня в газете?
Варвара Александровна с гордостью подхватила:
— Как же, это и есть наш тот самый Сашенька.
— Кстати, лейтенант, — спросил Соснов, преднамеренно опуская «старший». — Вы находитесь под арестом! Приказы издаются для того, чтобы их выполняли!
Я ответил:
— Вот теперь убежден: вы, товарищ капитан, к сожалению, не покинули строевой службы. А приказ? К счастью, я его не читал.
— Явитесь завтра в штаб к десяти часам.
— Слушаюсь.
Варвара Александровна увела меня в свою комнатушку. Ей жилось тесно: почта заполнила дом, здесь велись все операции с корреспонденцией и здесь же жили начальник, его заместитель сержант и девушки.
— И чего ты с ним, милый, сцепился? Слышу, паленым пахнет; выручать, думаю, надо тебя, буйную головушку, и вышла. Он у них у всех большой начальник, — негромко отчитывала меня Варвара Александровна, одновременно потчуя чаем. — Смоленские мы, как и волжские, — водохлебы. Может, молока тебе? Вот наливай, — поставила она передо мною кувшин. — Приходит это Петя ко мне, глаза ввалились, лица нет на нем; говорит, что ты помираешь. Захватило у меня дух, не продохнуть, что с ним, спрашиваю. А он молока кислого или рассолу просит. Ну, сразу отлегло. Не молока, думаю, ему надо, палку с сучками.
Варвара Александровна — маленькая, сухонькая, лет шестидесяти женщина; родилась она в Васютниках, здесь прожила век, отсюда никуда не захотела эвакуироваться, дом ее уцелел, чудом сохранилась корова.
Обрушивались на нее самые лютые грозы. Немцы к стене ставили. Но ничего не сломило в ней человека, матери. Она вырастила троих сыновей; два из них воюют на передовой: один в чине полковника, другой — лейтенанта, третий командует армией.
— Ты на моего младшего похож, — сказала Варвара Александровна. — Увидела тебя первый раз, и ноги подкосились. Как две горошины вы с ним. Такой же задира. Бывало, как соберутся вместе со старшими братьями — тягается. Одолевал! Те на него с высокими политиками, а он их правдой-маткой. И я всегда на стороне его была. Колхоз наш бедный был, и крестьяне плохо жили. Ну, вот мой Сережа в глаза им и тычет этим. А они масштабами разными рассуждают, — Варвара Александровна засмеялась. — Вот гляжу, ты — вылитый Сережа. Такой же русявый и глаза голубые, ясные, как солнышки. Красивше вас двоих на свете нет. — И, пододвинув ко мне ближе табурет, бережно маленькой шершавой рукой провела по моим волосам. — Когда ж это тебя успело, сынок, инеем припорошить?
— Не приметил, Варвара Александровна. Посмотрел как-то в зеркало — сед. И весело стало.
Варвара Александровна задумалась. Маленькие, в паутине морщинок глаза ее влажно блестели:
— Загубили вашу молодость. Украли. — И тотчас, будто желая отогнать тяжелые мысли, указала через приоткрытую дверь в зал на Соснова, — А этот вот, хоть и кукольное лицо имеет, мне не по сердцу. За Аринкой нашей ухаживает.
Я через комнату кинул взгляд на Соснова. Он и в самом деле — красавец мужчина: гвардейский рост, черные как смоль волосы, большие глаза, чувственные губы, лицо выхолено.
Чай во второй комнате пить закончили, отодвинули самовар, убрали посуду. Соснов вел рассказ о каком-то литературном герое. Девушки примостились у большой русской печи, грели спины. Восхищенные глаза блондинки прилипли к капитану. Он то прохаживался, прихрамывая, то садился на скамью у края стола. Кисти рук у Соснова узкие, с длинными нервными пальцами.
— Если и мой самый старший такой же сокол… — проронила Варвара Александровна, заметив, что я слежу за Сосновым, — он, поди, начальник еще повыше, то невелика ему честь.
— Что это вам не ко двору Соснов пришелся?
— Гляжу, страсть как он любит, чтобы ему все подчинялось. У нашего начальника почты на животе, поди, мозоли выросли, так ползает перед ним. Да и Арину жалко: попробуй увернись тут — любишь не любишь, а терпи, коли начальство говорит.
Я от души рассмеялся.
— Которая же из двоих Арина?
— Та, которая тебе больше по сердцу. — Хитрые искорки мелькнули в глубине ее глаз.
— Конечно, не блондинка, — ответил я и сам, того не ожидая, доставил острую радость хозяйке.
— Мой Сережа не иначе, так бы ответил! А вот старший, хоть и женатый, тот бы, котом облизываясь, на Надю свои зенки пялил бы.
Теперь я знал, кто Арина и Надя. Одна броская и яркая, как знойное лето; вся вот она — на поверхности, притронься к ней и загоришься; вторая — какая-то скрытая от взора. У нее тонкое, нежное лицо, русые волосы, большие застенчивые глаза; пройдешь мимо нее и не заметишь, но, остановив однажды взгляд на ней, больше не оторвешь. Надя затмевает ее своей яркостью: она кругла, румяна, волосы почти белые, как отбитый и отчесанный лен, в глазах прыгают бесы, жадные, охочие. Как плавленное железо, она, так и гляди, чтобы не обожгла.
— Надя — доктор, — комментировала Варвара Александровна.
— Доктор? Зачем она попала сюда?
— Ну как там у вас зовется, военный фельдшер! Кто-то из начальства рассудил, что ее место на почте, письмами заниматься. Бинты и передовая — дело для других.
Я прислушивался к тому, о чем говорил Соснов. Некоторое время он спорил с Карпинским и его заместителем, затем спокойно продолжал разматывать нить ранее начатого. Он называл имена Онегина, Печорина, Рудина, к чему-то пристегнул сюда же Сергея Есенина и Игоря Северянина. Я не мог уловить: что, собственно, он хочет доказать. С пафосом прочел он стихи Есенина: «До свиданья, друг мой, до свиданья…»
— Есть логика души, — воскликнул он, закончив читать стихи. — Личность, не слюнтяй, разумеется, какой-нибудь, а глубокая и сильная, в соприкосновении с черствым, грубым миром — восстает. Но мир, как всегда грубость и черствость, сильнее! Но личность не может смириться, позволить восторжествовать над собою мерзости; у личности остается один выход из противоречий — забвение. Самое разумное, самое милое. В противном случае человек обрекает себя на вечную пытку.
Я разгадал Соснова. Пустить в глаза припудренную заумь, прикинуться разочарованным, неудовлетворенным, странным — верное средство разогреть и без того всегда горячее сердце юной девушки. Надя явно клюнула: вся она во власти красивого кареглазого капитана. Арину я не мог понять: она сидела задумчивая, молчаливая.
Карпинский заметил:
— Вы, товарищ капитан, молоды. И я не знаю ни одного мужчины, который бы в юности не помышлял застрелиться. Видно, это какой-то не открытый еще закон глупости, а не логика души. Жить всегда хорошо!
— Глупость сводить все к молодости! — запальчиво возразил Соснов. — Жизнь, особенно сейчас, когда она не стоит ломаного гроша, когда на каждом повороте тебя подстерегает смерть, становится слишком пресной: все время остерегаться, жить, так сказать, оглядываясь, — оскорбительно и унизительно. И я искренне повторяю сейчас известное изречение известного литературного героя: я знаю только один дурной и гадкий день — это день своего рождения.
«Комедиант!» — сказал я про себя, встал из-за стола и вышел в зал. Варвара Александровна успела только ахнуть.
— Товарищ капитан, — обратился я к Соснову, вынул из кобуры пистолет, положил на стол. — Возьмите пистолет и застрелитесь.
Надя вскрикнула, зажала рот ладонью. Соснов вздрогнул:
— Вы что, с ума спятили?
— Я просто хотел убедиться, капитан, насколько вы хозяин своего слова. Коль все так противно, коль вы заражены хронической болезнью «лишнего человека», есть единственное средство излечиться. — Я указал взглядом на пистолет.
Соснов сильнее оперся на трость.
— Я еще раз спрашиваю вас, в своем ли вы уме, Метелин?
— Вас покинуло мужество? — настаивал я.
И здесь все заговорили хором. Особенно усердствовала Надя; можно было подумать, что она жена капитана, столь рьяно бросилась она на его защиту: «Вы сухарь, старший лейтенант, совсем не то, что в газете! Не понимаете шуток». — Яркие губы ее дрогнули насмешкой.
Всех утихомирил Карпинский. Он взял пистолет со стола и сунул обратно в мою кобуру:
— Огонь всегда обжигает руки, не надо с ним баловаться. Тем более сегодня, когда и без того все подвешено в воздухе. Ну, а лишние люди, или, как вы их называете, герои, — бывают только в книгах.
Растерявшийся было Соснов благодарно покосился на мудрого почтаря и метнул в меня довольно примитивную остроту:
— Лишние бывают не только в книгах, но и здесь вот, среди нас.
— Браво, капитан, вы не утратили еще способности шутить! Сдаюсь, — и я удалился к Варваре Александровне.
В прежние времена мне Соснов казался иным: не было этой спеси, которую увидел в нем сегодня, чванства, высокомерного желания убедить весь мир, что он в бесчисленном ряду бесцветных, серых людей один лишь что-то значит, не познан и не раскрыт; раньше он просто копировал своего начальника, подражал ему. Теперь он сам — птица: находится в высоком кругу, куда простым смертным доступ практически невозможен. Со скамьи училища он — баловень судьбы: живет при генералах, внешность его не раздражает глаза.
— И тебе надо? — укоризненно покачала головой Варвара Александровна. — Он тебе не кум, не брат и не сват. А ты, как репей, к нему цепляешься. Мелет мельница, и пусть себе.
— Налейте мне чаю, пожалуйста.
— Я тебе, как мать, говорю…
— Судили ли вы Сережу, когда он выходил из себя, видя, что на словах одно, а на деле — другое?
— Не лови меня на слове. У меня всегда одно: и первое, и второе, и третье. Проходить мимо, когда безобразие видишь рядом, не годится человеку, но и нос свой совать во всякую дыру тоже негоже. Вы с Сережей зелены, с обрыва вам прыгнуть в речку — раз плюнуть, хоть и плавать не умеете. Ведь он, капитан этот, тоже свои понятия имеет и начальник все-таки… Меня как-то немцы поставили к стенке, совсем стрелять собрались. Спрашивают все, кто мои сыновья? Терпела, терпела я, плюнула в их сторону и отрезала: не вам чета мои сыновья! Один — генерал, другой — полковник, а третий, младший мой, самый ужас для вас — лейтенант он, на передовой взводом командует. Ждите его завтра, он первый придет сюда. Дрогнуло у немцев сердце перед матерью. Не стали стрелять меня. Поэтому втолковываю — правда правде рознь. Идешь за иную правду грудью, а тебе наставят синяков и шишек, да еще в результате и выйдет, что с мельницами воевал.
— Почти уразумел, — отозвался я. — Но не поставить болвану фонарь под глазом, чтобы было видно, кто он, трудно.
В соседней комнате разговор не клеился. Карпинский предложил сыграть в подкидного. Сдвинули стулья, и некоторое время молча шла напряженная работа; играли Карпинский и сержант против Соснова с Надей. По какому-то поводу вспыхнул шум:
— Пододвигайте стул и помогайте!
— Я не умею.
— Научим.
— Нет, нет, без помощников!
Я собрался уходить, как к Варваре Александровне заглянула Арина.
— Бабушка, можно воды?
— Чай еще не остыл. Присаживайся, дочка.
— Начальник просит. Там у них ледовое побоище. — Арина зачерпнула из ведра, покрытого дощечкой, кружку воды, удалилась. Ей не более двадцати лет. Глаза карие, открытые, опушенные длинными ресницами, от чего кажутся черными как угли. В ней все просто и обыденно и вместе с тем необычайно, неповторимо; грубое солдатское платье не стесняет ее движений, не скрадывает стройности и красоты фигуры: высокой, с гордой, царственной посадкой головы. В ней больше какой-то необъяснимой внутренней красоты, чем внешней., Спустя минуту Арина возвратилась, поставила на ведро кружку. Я предложил стул.
— Посидите.
— Спасибо, старший лейтенант.
Заметив у нее на гимнастерке значок, я спросил:
— Что это у вас?
— Когда-то была чемпионом Москвы по теннису.
— Когда-то?
— Два года тому назад. Сегодня это слишком давно.
Вмешалась Варвара Александровна:
— Аринушка, как же это я запамятовала. Это же тот самый, о ком я тебе рассказывала, что на Сережу похож. Познакомься.
— Извините, я должна уйти, — заторопилась Арина.
— Без тебя там обойдутся, — махнула рукой на дверь Варвара Александровна.
Но оттуда раздался голос Карпинского:
— Арина, выручайте! Дают здесь товарищ капитан с Надей прикурить.
Арина вышла. Варвара Александровна поднялась собирать посуду, настроение у нее испортилось.
— Что же вы такое рассказывали ей обо мне? — спросил я.
— Говорила, что ты, сынок, был нынче пьян, как свинья. Ну и еще кое-что такое.
Этот внезапный взрыв гнева объяснить было трудно. Я, конечно, знал, что она не могла рассказать ей этого. Улыбнулся и стал прощаться. Унес я от нее сознание, что многое проворонил. Быть может, это и есть причина внезапной резкости: сердце матери всегда кипит, если что-то не по нему.
За полночь, едва я успел увидеть первый сон, позвонил Звягинцев. В телефонную трубку стал пушить меня, не оставляя живого места, орал и матерился. Какое шило укололо его? — ломал я голову. Оказалось — Соснов. Поднял его с постели, наобещал короб неприятностей.
— На кой сморщенный хрен ты лез на рожон?! Горькая редька ты, а не человек. Ты вконец спятил…
— Погоди, — остановил я Звягинцева. — Это твоя характеристика или Соснова?
— Мы потрудились над ней вместе!
— В таком случае вы оба безмозглые, если не смогли придумать ничего худшего, — и я бросил трубку.
Утром Звягинцев явился собственной персоной. Лицо синее, нос пунцовый, глаза — кроличьи, мутные. Я приготовился выслушать его очередную мораль, но он махнул рукой:
— Извини. Но ты, видно, здорово насолил адъютанту: свирепый, как тигр. Кричал мне: скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты! Надо проситься из дивизии: житья не будет. Калитин говорит, два раза столкнулся с ним, оба раза одно и то же впечатление — неприятный тип.
— Но ведь вы же с Сосновым приятели? Может, скажешь, кто твой друг, и я определю твое существо? — посмеялся я.
— Перестань, и без твоих шуток тошно.
Вид у Звягинцева помятый, изжеванный, будто его из мясорубки вытащили. Сердце барахлит, пить спиртное после перенесенной операции ему категорически противопоказана, он же третьего дня хлестал, как ломовой извозчик, и теперь — хоть бери и заживо клади его в гроб.
— Умру бесславно, — пожаловался он.
— Ты, оказывается, мечтаешь о славе?
— Слава! На кой черт она нужна. Не славы хочу, а пожить в свое удовольствие. Нет, я предпочту остаться неизвестным, но знать, что был сыт, пьян, наслаждался, любил. Жил, одним словом.
— Брюзжишь, как старая баба. Сразу видно, не с той ноги встал. Ну и эгоист же ты!
Отекшие глаза Звягинцева сверкнули:
— А кто не эгоист? Все пекутся прежде о собственной персоне, о своем алчном «я». Магомет и Наполеон, псих Гитлер и Звягинцев, гигант человек и червь — все, все. Эгоизм правит каруселью, которую принято называть миром. Только есть дураки, вроде меня, которые говорят об этом прямо, и есть особая категория, те, кто, прикрываясь фразой, выдает себя за праведника, устроителя жизни, а суть одна. Да, я эгоист! Эгоист потому, что хочу жить, а не прозябать в этой гнилой дыре с дрожащей, как холодец, мыслью: рано или поздно где-нибудь клюну мертвым носом в землю.
Звягинцев выругался.
Разделить его желчь я не мог. Есть в человеке что-то недосягаемо более высокое, чем его личное. Когда он бросается на амбразуру и закрывает ее своим телом, тут уже не всепоглощающее ощущение личного, не желание ради мгновенного взлета, блеска, фейерверка жертвовать тем, что называют жизнью, здесь — бессмертие, неподвластное алчному «я». Бессмертие во имя жизни. Есть предназначение человека: не убить, а продолжить жизнь.
— Я умираю, иду на смерть потому, что хочу жизни, — сказал я Звягинцеву.
— Кому нужны эти ребусы?! — воскликнул он.
— Я уйду, останутся другие, останется жизнь, облагороженная и украшенная мною. Ради этого я жил, ради этого ушел, в этом смысл и предназначение человека.
— Ты, Метелин, или святой, или скоморох.
— Не то и не другое, я — третье: советский человек. И слишком человек, чтобы быть скоморохом, комедиантом, тем более — святым. Хотя, если бы я родился во времена Иисуса Христа, я бы непременно стал одним из его апостолов; только людей приобщал бы не к богу, а к жизни. Я слишком люблю жизнь, чтобы оставаться равнодушным, когда ее продают за тридцать сребреников, когда торгуют ею в угоду ненасытного «я», когда эгоистическая скверна покрывает ее плесенью.
— Можно подумать, ты не подвержен этой скверне?
— Ты не ошибся: и я подвержен болезни этого всепоглощающего «я». Но разница между мною и тобою в том, что я вечно борюсь с ним, ты же — ласкаешь и холишь в себе этого зверя.
Звягинцев передернул плечами:
— Скажи лучше, чем ты так взвинтил вчера Соснова? Карпинский мне говорил, что он, как банный лист, лип к Наде. Правда это?
Неожиданно для себя я частично понял причину скверного настроения приятеля и подлил масла в огонь:
— По-моему, Соснов скорее был пассивной стороной, чего не могу сказать о другой стороне.
— Не говори гадостей о Наде! Моя Надя яркая, как павлин, за ее перья я отдам жизнь. А если надо, то и Соснову сосчитаю ребра.
— У тебя губа не дура! Знал, что клевать.
— А у самого когти не увязли? Будь я помоложе, околачивался бы всю жизнь под окном Арины.
— Если бы я, как ты, разумел под любовью похоть, то тогда все легко; и, пожалуй, отпустил бы себе клюв, как у дятла. Но мы с тобой по-разному смотрим на любовь и хотим ее по-разному. Влюбленный всегда ненормален. Как на дрожжах, растет его самомнение, ему кажется — он непогрешим, хорош и красив собой, воздух вокруг чист и сладок, мир преданным псом свернулся у его колен. Необузданное желание уже не довольствуется землей, подавай ему к ногам из-за облачных высот еще не открытую планету! Готов он воевать с небом, свалить к стопам любимой подвиг за подвигом и все для того, чтобы стать чтимой величиной, а в результате — величие с гулькин нос: он не властен даже над тем немногим, что легко дается другим. Несоответствие воображения и действительности — хочу и не имею! — приводит к душевному расстройству, мутит разум, уводит от активной деятельности. Сколько одержимых, и как всегда не настоящим чувством, калечили себе и другим жизнь? Поэтому, если хочешь остаться истинным человеком, бойся ошибиться в чувстве.
Звягинцев махнул рукой:
— Слишком мрачная картина. Так, пожалуй, и я откажусь от Нади.
— Торопись. Сегодня это еще возможно, завтра — будет поздно: она бросит тебя.
— Ну, нет уж, дудки! Как-нибудь удержу эту позицию. А вообще полмира баб и мужиков не чают друг в друге души, проходят вместе жизнь, радуются. Что ж, по-твоему, это пустяки — страдание, мука?
— Нет.
— Тогда что же?
— Счастливая случайность.
— Испытай судьбу, может, Арина — тот человек, кого ты должен встретить; может, тоже счастливая случайность.
— Я встречу Соснова и выложу, как ты меня травишь, — сказал я. — Ведь он от Арины без ума! Кстати, ты ему тоже внушал: «Соснов, не будь дураком, обрати внимание на Арину».
Звягинцев искренне захохотал:
— Откуда ты знаешь? Я тебе, по-моему, ничего не рассказывал.
— Сводник номер один! Соснову я обязательно тебя раскупорю.
— От друзей можно ждать всякого свинства.
— Заюлил, капитан?
— Я просто благоразумен, лишнее беспокойство портит нервы.
— Значит, Соснов увяз там крепко? И как, пользуется взаимностью?
— Об этом ты у него самого спроси.
— А все-таки?
— Он даже не второстепенный персонаж моего романа, ты знаешь. Поэтому не горю желанием, чтобы у него был клев. Хотя Надя уверяет, что Соснов — мужчина, который не может не нравиться.
— Значит?
— Значит, было бы весьма забавно, чтобы ты, Метелин, потерпел там фиаско.
Лицо Звягинцева очистилось от хмари и серости, повеселело.
— Ну, а если у тебя выгорит, то я пасую — ты родился в рубашке. Короче, я от вас обоих ограждаю Надю. Береженое и бог бережет.
— Отлично придумано, а еще друг называется!
— Если кого надо остерегаться, то прежде всего друзей!
— Учту, — сказал я, — особенно, если фамилия друга будет Звягинцев!
— Ба, совсем забыл, — хлопнул он ладонью себя по лбу. — Я к тебе, собственно, по делу. Велено взять тебя на абордаж и доставить в штаб, ознакомить с приказом. В противном случае будут звонить твоему непосредственному начальству в армию.
Звягинцев попытался изобразить непринужденность, чувствуя, что как ножом полоснул по моему настроению, но выходило это у него скверно. Впервые закралось сомнение в его искренности. Очевидно, он привязан ко мне, но и рвать дружбу с Сосновым не хочет.
Нежданно-негаданно встретил Санина. Старик обнял меня, прослезился; целый день не отпускал от себя, замучил деликатной обходительностью и заботами, нянчился, как с грудным младенцем. Старик преодолел еще одну ступень — подполковник, командует полком. Полк его держит передовую рядом с Васютниками. Вечером я побывал у однополчан-разведчиков (у Санина они на особом счету, живут в отличном блиндаже с тремя накатами, и птичьего молока только у них нет). Вспомнил старое, ползал по передовой; сунулся к немцу в пекло; поднялась сумасшедшая неразбериха: пальба, ракеты, огонь. Понагнало это тревоги и на наше командование — не иначе решили, что немцы перешли в наступление. Но тем сейчас не до жиру, быть бы живу: зарылись в землю и бога молят, чтобы русские не предприняли отчаянных шагов. Оружия и оборонительных сооружений у них предостаточно, чтобы не отступить ни на шаг, но сердце окончательно перекочевало в пятки: как ни как, хоть заслон и хороший, но оборона. Нас, горстку разведчиков, они приняли за ударную группу; у страха глаза велики! Пустили в ход все, из чего можно стрелять. Изрешетили воздух. Минометы и орудия месили и рвали землю, в небе повисли лампы-ракеты. Головы не поднять… Щекочущим ознобом что-то пробегало по спине; отвык, оказывается, от передовой и постоянной близости смерти, притупился глаз: не может в мгновение различить точно присутствие опасности; она чудится всюду. Захватывает дух, но голова холодна и трезва до звона.
Успокоились и затихли немцы только к утру. Санин, провожая меня, сказал: «Видишь, времена переменились: не мы их, а они нас стали бояться. Какую вакханалию устроили! Явный расчет на слабонервных. Но мы уже не прежние, поднаторели».
Мне показалось, что Санин имеет в виду пережитое мною чувство оледенения перед страхом и поэтому затеял этот разговор.
— На что вы намекаете? — напрямик спросил я.
Он удивился вопросу, но тут же разглядел его определенный смысл, произнес:
— Я тебя, как ни верти, все-таки отлично знаю. Не волнуйся, это же чувство постоянно живет и во мне. Только это уже страх не перед фрицем, не ужас перед ним; помню, в начале войны как у меня тряслись поджилки, когда я увидел живого немца! Сейчас это нечто другое. Страх сохранился, но качество его, так сказать, включает иную суть: а вдруг не сумеешь по глупости сберечь себе жизнь. Жизнь, которая так нужна для того, чтобы убить ее врага, чтобы победить. Мы — мужественные и смелые люди, этого никто не посмеет оспаривать, но вот пятки у нас иногда чешутся, потому что еще не до конца смогли мы воспитать мужество сердца. Такая, брат, закалка с пеленок ведется. А немцы что ж? Немцы осели тут зимовать, и выбить их вряд ли сейчас возможно, да и смысла нет пока в драку ввязываться.
Брови у Санина серые, черты лица резкие, будто прожил он годы у северного моря, высушен и обветрен его суровыми солеными ветрами. Глаза смотрят пристально и, кажется, говорят: «Не прячься, я наперед знаю, о чем ты подумаешь». Возраста его не определить: можно дать ему и все сто, и пятьдесят, и сорок.
— Вы так мне и не сказали, как все же живете? — спросил я.
Санин развел руками и улыбнулся. Но за этим беспечным жестом чувствовалось глубокое одиночество: я для него, как для утопающего соломинка, за которую он старается ухватиться. Сердце защемило, почему-то вдруг стало его жаль.
— Вы одиноки?!
Он качнул головой:
— Ты неправ. Одинок тот, кто по недоразумению или глупости утрачивает смысл жизни. Я же только сейчас, кажется, по-настоящему почувствовал ее вкус и запах. Преотличная это штука, жизнь! Если было бы возможно, я посвятил бы всего себя только одному — ходил по земле и внушал людям: люди, берегите жизнь! Что же касается моих мелких слабостей, то и они есть: я же все-таки человек.
Санин торопливо протянул мне руку, я пожал ее, и мы расстались.
Домой возвращался лесом. Израненный осколками лес продолжал гордо жить, величественный и поседевший. У него гостила осень. Он расступился перед ней, зарделся, устлал ей дорогу красными листьями. Я думал о Санине, о себе, о людях. «Люди, берегите жизнь!»… И вдруг живо, почти осязаемо почувствовал рядом с собой Арину. Я даже оглянулся, но, кроме прогалины и теснившихся стволов с полуобнаженными ветвями, ничего не увидел. И все-таки она была в лесу. Шла невидимой поступью. Я не стал надоедливым любопытством отпугивать ее, смотрел себе под ноги, шел, как по натянутому канату, ощущая ее присутствие. Видение не покидало до самого дома; за это время я познакомился с ним ближе и был уверен, что все происходит наяву. Ни вчера и ни сегодня, никогда раньше я не был с нею знаком, но знал ее! Когда-то, еще в босоногом детстве, мы бежали, взявшись за руки, бежали долго и без устали неизвестно куда, по широкому открытому полю; остановились, запыхавшиеся и счастливые, у отвесного обрыва. Внизу лежала Волга. Свободного простора не охватить взглядом: один берег тянется узкой песчаной полоской здесь, под обрывом, другой — сливается с горизонтом. Арина точно резцом вписана в голубизну неба. У нее мальчишеские плечи, мальчишечья статная твердость в осанке; встречный упругий речной ветер треплет ее короткое платьице, бросается под ноги; на ветру бегут ее русые волосы, смеются, прищурясь, золотистые глаза. Ей еще не исполнилось десяти лет. Все в ней льет в меня не испытанную никем еще радость, я хочу отказаться от своего детства, хочу быть взрослым и хотя бы чем-нибудь отблагодарить ее за это неслыханное счастье в моей груди, за доставленное ею тепло сердцу.
— Я хочу для тебя переплыть Волгу! — крикнул я.
И бросился в волны. Визг Арины и плеск воды звенели в ушах. «Не надо, вернись!» — звала она. Но я, рассекая воду, плыл навстречу чему-то большому и невиданному. Переплыл Волгу в оба конца. Арину застал уже в полночь на том же месте на берегу. Она сказала, что видела меня все время, не отрывала от меня глаз; когда я плыл туда, в воздухе еще было светло, а обратный путь ей помогали разглядеть звезды.
— Теперь я боюсь, что звезды упадут. — Дрожа всем телом, она запрокинула к небу голову. — Смотри, как низко они висят. Тебе не кажется, что их колышет ветер?
Мы взобрались, на откос. Звезды мигали, и Волга внизу под нами струила их свет…
Дома меня ждала новость: накуролесил Иванов, солдат моего взвода. И вновь встал на дороге капитан Соснов.
Нашим ближайшим соседом был армейский линейный коммутатор. Со связистками жили мы в дружбе, они наперечет знали немногочисленных моих солдат, отличали их даже по голосам: в мгновение ока освобождали линию по требованию «Воздух». И вдруг отделение, обслуживающее коммутатор, сменилось, появились новые девушки. «Один голосок — дух перехватывает», — вздыхал Иванов, садился к аппарату, звонил и молчал в трубку. С коммутатора неслось возмущенное: «Алло! Алло! Алло! Проверьте свой телефон! Алло!..»
Иванов — молчаливый, замкнутый. Прожил до тридцати пяти лет холостяком, и, казалось, было время разгуляться на воле, но не из тех он залихватских мужчин, что легко покоряют сердца. За свою жизнь не узнал он ни разу пьяную сладость девичьего поцелуя — то ли боялся женщин, то ли еще была какая-то закорючка в его судьбе, но любовь обходила его стороной. Бойцы трунили над ним, шутки ради однажды даже подзадорили одну из связисток объясниться Иванову, но тот, как медведь от пчел, поджав уши и ломая ветки, удрал в кусты. Особенно безжалостно издевался над ним Бугаев: «Какой же ты, к бесу, парубок, едри твою за ногу! Девчонка сама ему на нос голубкой садится, а он бирюк бирюком! Артподготовку Петя Кремлев три дня вел, чуть не за волосы девку приволок, только зря порох потратил». Иванову все это, как горох об стенку, не стронуть его с места. Солдат он прилежный и трудолюбивый, исполнительный и честный, друг всем преотличный и искренний. Его доброту и покладистость дружки использовали корыстно: за них он кашеварил, за них отстаивал на посту. И вдруг Иванов, когда все на него махнули рукой, завздыхал, приоткрылся с совсем неведомой стороны, ни сна, ни покоя у него. Чистится, бреется. Готов часами сидеть у телефона и только глядеть на него, даже не поднимая трубки.
— Может, тебе чем помочь, Микола? — спросил Бугаев. Но Микола ответил таким зверским взглядом, что у Бугаева щеку перекосило. — Вы, куряне, были и есть скаженные или ненормальные, — пробормотал с опаской Бугаев и оставил дружка в покое.
Доверился Иванов только Пете Кремлеву. Попросил позвонить на коммутатор. Тот с горячностью исполнил просьбу, и телефонная трубка ожила. Петя, мастер отливать пули, заварил такой компот, что уши у всех вяли. У Иванова на неказистом, обычно хмуроватом лице цветет улыбка: ворковал, ласкал и пьянил девичий голос. Припав с другой стороны к трубке, Иванов земли под собой не чует. Но вдруг уловил в голосе Пети что-то тревожное для себя и вырвал из его рук трубку, зажал ладонью.
— Алло… Алло… — летело по землянке.
— Да говори же ты, растяпа! — рассвирепел Кремлев.
Иванов, расправив под ремнем гимнастерку, поднес трубку к уху, зычно, солидно сказал, сразив наповал Кремлева:
— Вы извините, тут разболтался мой непутевый солдат.
Бугаев, наблюдавший издали эту карусель, поперхнулся от неожиданности, так и застыл с раскрытым ртом, кося лукавый глаз на Кремлева.
В трубке минуту молчало, затем:
— Это товарищ лейтенант говорит?
Иванов, переступая с ноги на ногу, втянул голову в плечи, бросая молящие и растерянные взгляды по сторонам. Кремлев подмигнул ему решительно — крой, мол!
— Он самый, — выдавил из себя Иванов, бледнея и краснея.
— Мы с вами соседи, товарищ лейтенант, — призывно защебетало в трубке.
— Знаю. Вы появились на коммутаторе, и связь улучшилась.
— Ох, товарищ лейтенант, все у вас и вы тоже страсть как любите комплименты говорить.
— Все равно улучшилась… связь…
Бугаев безнадежно махнул на Иванова рукой, сказал: «С этого курского соловья как с козла молока толку не будет. Мямлит одно и то же, как голенище», — и направился из землянки, утратив интерес к развязке.
— А ну, удалитесь! — интеллигентно крикнул Иванов вслед Бугаеву, да так, чтобы было слышно на другом конце провода, и тут же в трубку сказал: — Это я здесь досужего одного наладил, Бугаев его фамилия. Вороньи у него повадки, ходит и каркает, ходит и каркает. И ухи подставляет к нашему разговору.
— Любопытный!
— Вот и я ему толкую, что любопытство, хоть и не порок, а все же порядочное свинство. Будет он тут звонить, вы его приметьте. Голос у него, такой скрипуче-каркающий. И фигурою ворону напоминает: старый, как наша земля, и облезлый, как шелудивый кот.
Бугаев прилип к месту у двери блиндажа, удивляясь одновременно разбуженному красноречию Иванова и зеленея от бешенства: никто еще не возводил на него такой напраслины. Окажись что-нибудь под рукой, он, не колеблясь, запустил бы Иванову в череп.
— Эх ты, задрипанная холостяцкая колымага! — лишь сказал презрительно он, плюнул и захлопнул за собой дверь.
А Иванова будто подменили.
— Как ваше имя, девушка? — спросил живо он.
— Это что, очередное любопытство или любознательность?
— Нет, я серьезно.
— Хи-хи-хи… А вдруг это военная тайна? Командира дивизии мы же называем шифром.
— Мне командир дивизии не нужен…
— А я?
— Нет, знаете, в общем. Это уж правда.
— А вы шифрованно разговариваете, ничего не поймешь.
— Ваш голос трубку медом мажет, так и липнешь.
— Вот это уже не шифр, — рассмеялась девушка.
— Да нет, знаете, как услышал, так и решил, не раздумывая. Вот если б согласилась, к нам бы эту девушку в Курскую область! У нас все девчата на подбор, а вы среди них будете первая.
— Опять комплименты?
— Да жизнь, знаете, складывалась так, что эти самые комплименты я не употреблял. Все у меня в этом жанре шло шиворот-навыворот. А тут вы…
— Говорите, говорите.
— Ну и вот, всякое такое, значит.
— Хи-хи. Ой, какой вы, наверное, медведь?
— Нас, курских, дразнят соловьями.
— А вы мне нравитесь, товарищ лейтенант. Вы такой правдивый!
Иванов поперхнулся. Он и забыл, что он «лейтенант».
— Солдаты вашего взвода любят вас? — не унималась девушка.
— Знаете, я… командир взвода… — Иванов хотел сказать «липовый», но что-то удержало его. — Временно, правда, но командир Да, собственно, какая разница: капитан ли, майор или просто солдат — все воюем. А потом — сегодня солдат, а завтра генерал.
Девушка тотчас согласилась:
— Это правда. Мы, девушки, и то в вещевом мешке носим маршальский жезл. Только безобразие — вы, мужчины, всю власть захватили, ведь ни одной женщины-генерала нет.
— Верховный Совет виноват: бабу от кабалы освободить освободил, наравне с мужиком поставил, а генеральские звания зажимает. Не моя власть, а то бы я вас давно заочно не только в генералы возвел! Побольше звание дал. Честное слово.
— Вы, наверно, хороший?
— Да как сказать…
— Как вас зовут?
— Колей. А вас?
— Клава.
И Иванов тотчас предложил встретиться. Такой прыти он сам от себя не ожидал. Но Клава восприняла предложение благосклонно. В тот вечер в дивизию приехала армейская кинопередвижка, и они условились посмотреть вместе фильм, а после пройтись и подышать воздухом.
— Значит, встречаемся у клуба?
— Я буду там ровно в восемь.
— А как же мы узнаем друг друга? — встревожилась Клава.
Иванов, не раздумывая долго, нашелся. Предложил девушке пройти к клубу с газетой в руке. Сам же он срежет себе трость, очистит от коры, чтобы белая была, и по этим предметам они сориентируются. Девушка отозвалась о находчивости «лейтенанта» одобрительным восклицанием и положила трубку. А «лейтенант» клял уже себя в душе, не представлял, как будет оправдываться; сердце стыло при одной мысли, что все может лопнуть из-за пустяка. Он уже ревновал Клаву к Кремлеву, который стоял рядом и таращил плутоватые глаза, к Бугаеву, к телефону — ко всему, что могло вызвать хотя бы намек на подозрение. Он не видел ее, не мог представить себе ее лица, выражения глаз, но был уверен, что какой бы прекрасной он ни представлял ее себе, все равно рисунок его воображения померкнет перед действительностью.
— Ты не на шутку втюрился, — заметил Кремлев и солидно посоветовал: — Башку, даже если это набалдашник, ни при каких условиях терять не надо. По голосу она икона, кланяйся ей, но лба не расшибай.
— Проваливай вон, мелкота! — вскипел Иванов.
Подошли другие бойцы. Коршуном налетел Бугаев:
— Кавалер несчастный. Трепач первой марки! Ишь, осрамил как меня перед связью! «Ухи подставляет к нашему разговору». Эх, ты, а еще курский соловей. Не ухи, а уши! — и с полным пренебрежением окончательно пригвоздил Иванова. — «Лей-те-на-нт»! Барахло.
Иванов не осмелился возражать Бугаеву. Забился в угол землянки, втянул голову в плечи, вперил взгляд под ноги.
— А она хоть красивая, эта самая, из-за кого ты нас, своих дружков, в нуль без палочки поставил? — спросил вдруг миролюбиво Бугаев.
Иванов доверчиво поднял виноватые глаза. Он и сам не знал, какая из себя девушка, но отчеканил уверенно:
— У нее знаешь, брат, какие слова! Будто сам ювелир их обтачивал, сверкают, как каменья, и душу греют.
— Тогда другой изюм, — сразу поостыл Бугаев.
Готовили Иванова к свиданию всем взводом. Отыскали новую гимнастерку, подшили белоснежный подворотничок, почистили и отгладили брюки. Кремлев вылил на него полфлакона моего одеколона. А Бугаев отдал свои карманные часы с цепочкой. Но когда все уже было готово, оглядывая Иванова со всех сторон, все вдруг увидели, что на ногах у него ботинки с обмотками.
— Нет, это, брат, для комсостава не годится, — забраковал Бугаев.
По землянке прокатился смешок. Потеплело и в груди Иванова. Единственным обладателем сапог во взводе был Кремлев, но отобрать их у него — значило лишить парня на всю жизнь радости. Щеголял в них Петя, берег их как зеницу ока; сам Черномор холоднее относился к своей бороде, чем Кремлев к сапогам.
— Иди в обмотках, не велика беда, — сказал он Иванову.
— Да ты что? — уставился на Кремлева Бугаев. — Опозорить всю нашу службу хочешь? На свиданье идти в обмотках — срам один. Да еще кабы ноги были у этого парубка, а то черт-те что! Кавалерист. У нас бы его ноги бабы заместо рогача в печь совали.
— Ты, Бугаев, и хрыч же, — отозвался Иванов. — В одной руке пряник держишь, а другой — под дых даешь. Как же на тебя не обижаться?
Но тот не обратил внимания на реплику Иванова, сказал Кремлеву:
— Не скупись, Петя. Одень и пенек — будет паренек. Гляди, и наш покрасивеет. Раз сердце защемило, то лучше не перечь ему: может, тут его судьба.
Петя сердито сбросил сапог:
— Меряй!
— Спасибо тебе. Вот выручил!
Обливаясь потом, Иванов натянул на саженную ногу сапог. Бугаев осведомился:
— Ну как, жмет?
— Давай второй. У меня женский размер.
Кто больше вспотел, хозяин сапог или Иванов, трудно сказать. Но когда последний прошелся, точно ступая по шаткому мосту, кто-то из солдат под общий хохот съязвил:
— Списывай, Петя, красу твою в БУ, поминай, как ее звали.
— Не жмет! Ей-богу, не жмет, — божился Иванов.
— Оно и видно.
— Был бы другом, еще капельку духов у лейтенанта взял, — повернулся Иванов к Пете. — А то тут, пока с вами торговался, потом всего прошибло.
— Цыганская порода у этих курян, — рассердился Бугаев. — Иди уж, коли собрался.
В назначенное время, вооруженный свежевыстроганной белой тростью, Иванов был на месте. У землянки-клуба толпились солдаты, группами стояли офицеры в ожидании начала фильма. Иванов огляделся по сторонам, небрежным движением достал из кармана часы, громко щелкнул крышкой и опять спрятал их. Клава опаздывала. Нетерпение рождало страх: что если не придет? Но не успел он подумать об этом, как заметил у входа в клуб одиноко стоящую девушку с газетой в руке. Невысокого роста, веснушчатая, курносая, невзрачная. Трость Иванова метнулась за спину. Глаза девушки скользили по лицам командиров. Иванов разглядел ее с ног до головы, но будто к земле прирос: теперь уже страх быть узнанным ею подавил в нем способность как-то распоряжаться собой, и он, чтобы скорее улизнуть, стал пятиться назад.
— Осторожнее! — крикнули ему.
Он оглянулся и оказался нос к носу с капитаном Сосновым.
— Виноват, товарищ капитан. — Иванов вытянулся по стойке смирно, прижимая трость к ноге.
— Вы, милок, глаз лишились? Чуть с ног не сбил! Ба, да ты с тростью? Каков кавалер! Чей солдат?
Иванов растерялся окончательно.
— Чей солдат, спрашиваю?
— Я из подразделения старшего лейтенанта Метелина.
Соснова передернуло, он повернулся к стоящим рядом офицерам.
— Известно. Каков поп, таков и приход. Уж эти мне вносовцы! Бездельники. Придется доложить генералу.
— Разрешите идти?
Соснов забрал у Иванова трость.
— Идите.
Нырнув в толпу бойцов, Иванов машинально оглянулся: не приметила ли связистка? Его трясло, как в лихорадке, едва унес ноги. Зато Петя Кремлев, посланный Бугаевым проследить незаметно за «порядком», выстоял до конца развязки. Некоторое время Клава скучала в одиночестве и вдруг обратила внимание на белую трость у Соснова. Не колеблясь, решительно подошла к капитану, лицо ее осветилось улыбкой.
— Коля?
Соснов оглянулся.
— Добрый вечер, товарищ капитан. Вы, оказывается, настоящий хозяин слова, пришли все-таки.
Соснов покосился на приятелей. Клава продолжала улыбаться:
— Теперь понятно, какой вы временный командир взвода.
— Позвольте, откуда вам известно мое имя?
— А эта газета и ваша трость вам ничего не говорят? Вы же сами назначили…
Соснов покраснел. Офицеры весело зашумели.
— Не отпирайтесь, капитан.
— Газета и трость полны тайного смысла.
— Вам везет, Соснов!
— Берите его за бока, девушка, чтобы не увиливал. Знаем мы его!
— Погодите вы! — крикнул Соснов. И Клаве: — Черт возьми! Это что еще за комедия?
Клава напряглась, что-то в ней будто оборвалось:
— Как вы со мной разговариваете, товарищ капитан? Я же женщина.
— Вы солдат, — отрезал Соснов. — Кру… Идите!
И тут только Клава поняла, что доверчивость завела ее в непролазную трясину: кто-то зло подшутил. Она сжала голову руками, будто пряча глаза от стыда, убежала.
«Кто же это? Кто же это?» — плакала она.
А виновник сидел в блиндаже и не мог стянуть с набрякших ног сапоги. Подоспевший Кремлев кудахтал над ним:
— Осторожнее, голенище оторвешь!
Иванов как-то весь померк, глаза потускнели, словно хворь одолевала его.
— Надо же было, чтобы товарища капитана тоже Николаем звали, — сокрушался он.
Вокруг теснились солдаты, комментируя и горя любопытством. Бугаев, видя, как мучается Иванов, снимая сапоги, покачал головой:
— Эх ты, женский размер!
— Э, Бугаев, история!
— Что еще за история?
Иванов неопределенно пожал плечами.
— Очень прискорбная, — ответил за него Кремлев. — Гляжу, лицо засиженное мухами, нос, как старый стоптанный валенок, и приманки никакой в глазах.
Разочарованный Бугаев хлестнул Иванова словами:
— Брехло! Пули отливал — ювелир, упоение…
Иванова будто в живую рану толкнули, вскочил он бешеный, схватил Кремлева за грудки и яростно прошипел:
— Гляди у меня, сопляк! И ты тоже, — люто покосился на Бугаева. — Не троньте ее. Красивше Клавы на свете никого нет. Запомните это!
Солдаты один за другим покинули блиндаж.
Вечером звонил Соснов, требовал меня, но я гостил у Санина. Иванова капитан засадил на пять суток на дивизионную гауптвахту.
— Но это не самая страшная беда, — рассказывал Бугаев. — Связи нам коммутатор с живым миром не дает. Клава нашего Миколашки оказалась там начальником, коммутатором ведает. Бойкот девки объявили «Воздуху».
История эта, однако, имела свое продолжение. На следующий день я давал объяснение генералу. Иванову было добавлено еще пять суток ареста. Уходя из штаба и столкнувшись с Сосновым, я не утерпел, посоветовал ему не вводить людей в заблуждение своей внешностью.
— Что ж, прикажете мне изуродовать себя? — спросил он.
— Нет, очистить хотя бы на капельку то, что находится под позолотой, — ответил я.
Но он притворился, что ничего не понял.
Клуб, или Дом офицеров, как его именует Звягинцев, стал поважнее неоткрытой архимедовой точки опоры, с помощью которой можно опрокинуть земной шар. И надо воздать должное разуму, который предусмотрел в сложном и путаном механизме фронтовой жизни и это звено. Фильмы, художественная самодеятельность, лекции, вечера встреч с героями переднего края и боевой учебы, наконец, регулярные информации генерала о состоянии дел в дивизии и на фронтах, просто его беседы с рядовыми и командирами о самочувствии создавали необходимый тонус настроения. Генерал Громов — командир дивизии, человек железной закалки, широкой души, живой и деятельный, — понимал и использовал это. Каждого командира он старался держать на примете, знал его слабости и сильные стороны. Он не сомневался в стойкости своих офицеров, но настроение их в связи с общей обстановкой было не ахти какое, и это, естественно, сказывалось на настроении бойцов; иногда без личного вмешательства Громов мог круто все повернуть. Главным рычагом, приводом был клуб. И если Звягинцев поначалу видел в клубе учреждение увеселительное и только увеселительное, то генерал, не отвергая этого, имел в виду более дальний прицел. Он вменил в обязанность командирам полков, батальонов, отдельных дивизионов и других служб передовой и второго эшелона лично присутствовать на сборах в клубе с семи до одиннадцати вечера ежедневно и в обязательном порядке. Косному, консервативному человеку это казалось безрассудной причудой вышестоящего лица: передовая в любую минуту могла забурлить… «Сделайте так, — парировал генерал, — чтобы временное ваше отсутствие не сказалось пагубно на положении дел. В противном случае вы плохой командир, и рано или поздно у вас все равно что-нибудь стрясется». Но вскоре без генеральских доводов все убедились в непреложной истине: общение — целесообразно. Происходило как-то само по себе: люди становились человечнее, более горячими спорщиками, убежденнее, увереннее.
Я тоже стал завсегдатаем клуба. Ближе сошелся здесь с подполковником Калитиным. Он, оказывается, известный писатель. Я многое прочел его, но не предполагал, что Калитин-писатель и Калитин-редактор — одно и то же лицо. Беседовать с ним — удовольствие. Он нетороплив в мыслях, но пишет Лучше, чем говорит; любит подвергать сомнению суждение других. Пристрастие к анализу заводит его иногда в таежные дебри. Удивительный народ художники: обязательно у них две стороны одной и той же медали, то поразят гениальностью, то вдруг не отличишь их от ремесленника; они стремятся залезть тебе в душу, вывернуть ее наизнанку, претендуют на право критиковать всех и не терпят малейших замечаний в свой адрес. Калитин окончил высшую партийную школу, когда-то пахал землю, знает, что такое кусок хлеба. Кажется, все данные в нем есть для того, чтобы всегда оставаться трезвым, но и он поразил меня сегодня. Встречаю его хмурым, неразговорчивым, уткнул взгляд в землю. Видно, думаю, газета допустила какой-то ляпсус. И вдруг он говорит: «Все больше и больше волнует меня судьба человечества! Ведь все будет к чертовой матери сметено, если не остановить. Все поставлено на карту, ходим по острию ножа. Черт возьми, так и не дадим человеку достичь совершенства — все рабы. Одни — рабы похоти, другие — власти, третьи — глупости».
— Вы, товарищ подполковник, раб своего настроения, — заметил я.
Он с сожалением многозначительно качнул головой. И тут же спросил, резко изменив тон:
— Да, а как вам понравился мой очерк? «Правда» опубликовала. На целую полосу!
— Не в моем вкусе, — сказал я. — Впрочем, о вкусах не спорят.
— В искусстве спорят, — возразил Калитин и уже шутя добавил: — Когда речь заходит о моей вещи, я готов драться до утра, черт возьми. А вообще вы плохой дипломат, взяли и пульнули человеку в лицо неприятность.
— Будь я дипломатом, я бы стал похожим на вас.
— Это почему?
— Дипломат и писатель имеют много общего: один и второй — честные люди, но в одинаковой мере лгут — один за пределами своего отечества в интересах отечества, второй — в пределах, тоже в интересах отечества. Однако первый лжет и не верит, а второй лжет и убежден, что говорит правду.
— Вы не слазите со своего конька — хотите задеть меня. Но имейте в виду, если бы исчезли вдруг дипломаты и писатели, в мире воцарился бы кавардак, сосед лез в драку на соседа, и беспросветная тупость стала бы явлением обычным и нормальным.
— Берегитесь, из ваших слов я могу сделать неблаговидный вывод — сочинительство правит порядком?!
— Какой бы вывод вы ни сделали, мой друг, запомните одно — сказал Калитин, — вымысел и домысел — сила, которая людей делает людьми, не позволяет им биться лбом о стенку.
В клубе — лекция о международном положении и концерт. Полно народу. Выдающиеся, успевшие прославить себя командиры, командиры-труженики и просто обыкновенная посредственность, облеченная властью высокого положения и чина, офицеры по призванию и по стечению обстоятельств забили все проходы в зал. Лекция разожгла страсти: волновал один вопрос — когда будет открыт второй фронт! Точного ответа не дал лектор, его тем более не могли дать слушатели: они ощущали лишь его острую необходимость. Гитлер готовил секретное оружие, способное начисто стереть с лица земли жизнь; ждали химической войны — на переднем крае найдены снаряды с отравляющими веществами. Зарубежная пресса, радио трубят о переговорах Сталина с Черчиллем.
— Завидовать нашим не приходится. Быть на положении просителя — всегда скверно.
— На бога надейся, а сам не плошай. Да еще если этот бог английский: пока поможет, нас не опрыскают ипритом, а обольют.
— Американцы более деятельный народ, надо ждать оттуда ветра.
— Они не мы, дураки. Эгоисты — всё для себя!
— Американцы и англичане — злая шутка истории: двоюродные братья, которые готовы в любую минуту сунуть друг другу в карман лягушку. Хотя внешне родственности их можно завидовать. Для этих сукиных сынов вопрос решен: Россия выбита из седла, и между ними уже бушует негласная драчка — кому быть первым. Те и другие будут держать нас на голодном пайке.
— Надо же наконец полагать и верить, что мы тоже кое-что имеем!
— У меня, например, в полку на химскладе, кроме десятка бутылок с противотанковой горючей жидкостью, ничего нет.
— На Волге дела швах!
— Да, там немцы жмут на всю железку.
— Однако не от сладкой жизни хватаются они за секретное оружие и газы?
— Гитлер приезжал в Ржев. Закатил победную речь.
— На это он мастак. Страдает хроническим словесным поносом. Но от речей не становится слаще: в Германии объявил тотальную мобилизацию — всех под метелку.
— Не черните слишком! Факты есть факты. Шапками их не закидаешь. А если будет это самое секретное оружие, кстати, это не фикция, то немецкому фашизму не ищите предела. Фашизм, кричим, фашизм, а под ружьем и правые, и левые, и социалисты, и демократы — вся Германия. И кто знает, куда заведет кривая, но победы скоро не видать.
— Вы пессимист, майор.
— Нет, просто стараюсь носить башку на плечах, чтобы различить в шуме и треске возможное и реальное.
— Сила в молчании, а не в крике.
— Мы тоже по-настоящему научились мало говорить только сейчас.
— А как же все-таки насчет победы?
— Я лично впереди не вижу пока просвета.
— Солдаты — точный барометр: они судят верно!
— Вот именно! Проснулся сегодня утром и спрашиваю у ординарца: «Колька, когда война кончится?», отвечает: «Как сказать, товарищ подполковник, конца не видно. Вот когда немца побьем, тогда и войне конец. А вы как думаете?» «Как и все, — отвечаю. — Фашистов надо бить. И чем скорее, тем лучше». «Это верно, — поддержал Колька. — Кислых щей мы еще хлебнем».
— Вы, товарищ подполковник, долго собираетесь воевать!
— Я пытаюсь, как и майор, смотреть трезво реальным фактам в глаза.
Но майор неожиданно переменил разговор:
— Чертовски жаль, что трезво! Я бы предпочел сегодня глядеть иным образом. — Взглядом он отыскал Звягинцева, добавил: — Чудак бестолковый соорудил этот клуб, а буфета не предусмотрел.
Офицеры рассмеялись.
— Идея, товарищи. Поручить капитану Звягинцеву сварганить это дело. Он мастер закатывать пиры и стрелять лосей.
— Одного генеральского приказа избежал, во второй попадать не хочу, — запротестовал Звягинцев; он не в настроении.
— Генерал сам выпить не дурак.
— Но не здесь же и не сейчас? Имейте совесть!
— Едем, братцы, ко мне! — пригласил подполковник. — У меня на передовой у старшины накопился энзе.
— После концерта с удовольствием, — согласился Калитин.
Подземное сооружение вместительно: два больших зала, стены обшиты белым тесом. Саперы потрудились честно: клуб оказался настоящим дворцом; видимо, мы стали тверже на ноги, начинаем учиться жить по-человечески.
Послушав одну группу офицеров, я отправился в другой конец зала. Ко мне присоединился Калитин. Вокруг шум, смех, звон голосов. Невольно вспомнил первый год войны, отступление. Мы были не те: смех, улыбка на лице казались тогда почти преступлением, сегодня преступление — отсутствие улыбки, смеха.
— Неужели поедете пьянствовать? — повернулся я к Калитину.
— И вы со мной!
— С меня хватит охоты. Сыт по горло.
— Я отказываюсь вас понимать, Метелин. Быть серьезным всегда успеете. Торопитесь быть глупым, иначе жизнь приестся и наскучит, и будете ее тогда употреблять, как воблу, только с пивом. Сегодня хочу отдохнуть и напиться. По-настоящему отдохнуть за весь этот долгий год войны. Этот клуб помог мне разглядеть самого себя, настроение поднялось: я — человек! Хитер мужик Громов. Хотя, конечно, дело не только в нем: ветер изменил направление, дует теперь нам не в лицо, а в спину. Громов этим клубом дал это особенно ясно почувствовать.
На глаза попался Соснов. Стоял он у входа с незнакомыми мне офицерами. Оживленный, приветливый.
— Глядите, как цветет Соснов.
— В принципе он человек-гвоздь, — сказал Калитин. — Но лакейская его должность губит его. Я уже советовал генералу: спасите своего адъютанта — пошлите на передовую, в окопы. И чудак Соснов обиделся.
— Откровенно, мне он сегодня нравится. Непременно найду случай помириться с ним.
— Разве вы в ссоре?
— Я как-то сказал ему, что он герой не социалистического реализма: форма в нем не соответствует содержанию.
Калитин захохотал:
— Вообще он красив, дьявол. Женщины таких любят, они сентиментальны. — И, прервав себя на полуслове, воскликнул: — Ба, так это же Арина, любовь моя! — и ускорил шаг. — Я обязательно должен вас познакомить.
В дальнем углу в окружении толпы мужчин стояли мои новые знакомые Арина и Надя. Отчего-то кровь бросилась в лицо, чаще забилось сердце. Надя смеется, глаза блестят хмелем, светлые, как лен, волосы льются на плечи. Арина не безучастна к шутке, но сдержанна.
— Товарищи командиры, — пробиваясь сквозь плотное кольцо, издали крикнул Калитин. — Тут где-то место отведено для прессы!
Его появление встречено одобрительным шумом; он со всеми знаком, чувствуется — ему симпатизируют. С полуслова он завязывает беседу. Девушки поглощены им, смеются офицеры, острят. «Пресса, — подумал я, глядя на Калитина, — как она умеет быстро устраиваться в любых условиях и в любое время».
— Мой самый неактивный внештатный корреспондент, старший лейтенант Метелин, — представил он меня девушкам.
— Мы знакомы, — сказала Арина.
— Вот как?! Это опасно… для меня, — рассмеялся Калитин. — Но я верю в добропорядочность старшего лейтенанта, — и повернулся к Наде. — Как вы полагаете, можно верить ему?
Девушка пренебрежительно закусила губу:
— Старший лейтенант герой, но не моей повести.
Тут же Калитин воскликнул:
— Что, схватил щелчок по носу?
— От Нади получить щелчок — уже благодать, — отшутился я.
Откуда-то вынырнул Звягинцев: Генерал только что похвалил его за клуб, и он сиял, как никелированный самовар. Не утерпел о благодарности сообщить нам тут же. Но, честно говоря, хвалу стоило воздать скромному, невидному собою командиру саперного батальона: денно и нощно пропадал здесь человек, мудрил, выискивал, строил, чтобы было легко и удобно. Звягинцев налетал инспектором, и то изредка. И вот — он герой дня.
— Сапера, поди, забыл пригласить на концерт? — спросил я.
Звягинцев замялся:
— Его что-то не видно.
— Так устроена жизнь. Создают одни, лавры пожинают другие, — философски заметил Калитин.
На Звягинцева набросилась Надя:
— Он нас с Ариной и то не соизволил пригласить] Ему не до сапера.
— Я же тебе говорил, родная, завертелся. Дел по горло!
Когда что нужно Звягинцеву, — не унималась Надя, — он само внимание и чуткость. Едва же отошел — все из сердца вон. Удивительно, как это можно? Вы же обещали зайти.
— Плюньте на него, Надя, — посоветовал Калитин.
Звягинцев горячо стал оправдываться.
— Сделайте это в письменной форме, товарищ капитан, и мы опубликуем на страницах моей газеты.
Толпа вокруг росла. Полетели реплики, как дробь, ранили остроты. Звягинцев незаметно толкнул меня в бок: — Кто тебя тянул за язык вспоминать этого сапера? Надя теперь со света сживет, будет петь Лазаря. — И сощурил глаза. — Ну как, мила? Калитин глаз не сводит.
— Берегись, останешься с носом.
— Чепуха! Здесь в себе я уверен.
Калитин начал рассказывать анекдотическую легенду о двух солдатах и плененном генерале. Незаметно на меня покосилась Арина, в свою очередь я поглядывал на нее. Невольно стараюсь убедить себя, что первое впечатление самое верное; уходя из дома Варвары Александровны, я остался невысокого мнения о ее постоялицах; сейчас оно сильно поколеблено. Опять, как в лесу, охватила не поддающаяся сознанию тревога. «Я все про вас знаю», — хотелось сказать Арине. Она чуяла, что во мне бьется волнение, вызванное ею, и встретилась со мной глазами. Ее взгляда я не мог понять, то ли я причиняю ей неудобство своей назойливостью, то ли и она испытывает волнение, которого не может объяснить.
Рассказ Калитина насмешил. Надя откровенно расточала восхищение рассказчику. Ее глаза, которым и без того на лице было тесно, настолько они были велики, стали еще больше, обворожительнее, хмельнее. Звягинцев пробубнил мне в ухо:
— Сделай милость, уведи куда-нибудь редактора!
— Вы знаете, я один раз говорила с вами по телефону и не ошиблась: вы очень симпатичный, товарищ подполковник, — сверкнула белыми зубами Надя.
Калитин поклонился.
— Если бы физик Грей знал, для каких целей будет использован телефон! — не утерпел сокрушенно заметить Звягинцев.
— Да, телефон явно подводит, — поддержал я и в шутливой форме кратко поведал печальную повесть Иванова и Клавы.
— Никогда не верьте телефону, Надя, он представляет людей в лучшем, чем они есть, свете.
Подошел Соснов.
— Ну ты, брат, и влип! — обрадовался ему Звягинцев. — Расскажи, сделай милость, чем закончилось твое знакомство со связисткой?
Соснов не принял шутки.
— Глупость! Эти вносовцы — вояки-обозники — только и знают, что выкидывают фортели. Да и, кстати, — повернулся он ко мне, — сегодня только двадцатое. Вы, старший лейтенант, по-моему, еще находитесь под арестом?
Красивое лицо Соснова пылало, губы вздрагивали, кривясь в насмешливой улыбке. И с этим человеком я намеревался встретиться, чтобы разойтись приятелями! Собственно, делить нечего: чаша весов наших судеб постоянно на пределе, того и гляди оборвется и рухнет вниз, только у кого раньше — весь вопрос; быть его соперником я не намеревался и найти в его лице недруга — тем более. Но теперь, когда он, обуреваемый неприязнью, не мог придумать ничего лучшего, как приклеить мне ярлык обозника, — нет, уж теперь я не хочу искать в нем приятеля. Напротив, кого угодно, но только не друга.
— Видно, если уж человек лишен чувства юмора, то это надолго. Смотрите не удавитесь от тоски, товарищ капитан, — сказал резко я и отошел в сторону.
Концерта я почти не слушал. Выступали московские артисты. Аудитория неистовствовала. Соснов сидел недалеко от меня возле Арины и Нади. Там же пристроился и Звягинцев. Захваченные общим настроением, они тоже разошлись; Соснов то и дело выкрикивал: «Браво! Браво!» Надя вся подалась вперед, неистово аплодировала, подталкивала Арину, что-то горячо шептала ей в самое ухо. Арина — явная противоположность круглолицей подруги, сдержанная и искренняя, — тоже радовалась, тоже была счастлива, тоже не щадила ладоней, но все было другим — не крикливым и безудержным. Лишь однажды я встретился с нею взглядом; она точно споткнулась в своем восторженном беге, на долю секунды лицо ее преобразилось, застыло, и опять вся она отдалась сцене.
Во время антракта, улучив минуту, когда она и Надя остались вдвоем, я подошел к ним.
— Арина, — сказал я. — Не хотите, чтобы я вам составил компанию? Ведь мы соседи. Я сейчас ухожу.
Надя ахнула, передернула плечами, всем видом говоря, — не поднялась ли у меня температура?
— Вы что? Концерт еще не окончен! Да и надо иметь смелость, — проронила она.
Арина не отрывала от меня удивленных вопросительных глаз.
— Хорошо, я сейчас, — после непродолжительного раздумья сказала она и повернулась к Наде. Что-то ей шепнула. Та всплеснула руками. Но Арина твердо повторила:
— Я пойду!
…Осень. Над лесом, словно выдернутый из ножен клинок, — полумесяц. Земля притихла. Изредка простучит где-то, как дятел, пулемет, безоблачную синь прошьют трассирующие пули, прочертив огненный след, упадет ракета.
Арина идет молча. И я боюсь шелохнуться. В груди безотчетное, сильное и острое чувство. Оно едва вмещается во мне. И я хочу кричать от радости и досады одновременно: не могу разобраться в себе. Уйти, немедленно, сейчас, — твержу себе и не отрываю глаз от Арины. Что-то говорю ей и думаю о другом; убеждаю себя, что не должен поступать так, как поступаю, бездумно доверившись порыву, и в то же время страх перехватывает дыхание: если я упущу сегодняшний вечер и она уйдет, завтра уже будет поздно. Арина! Мне до слез нравятся ее волосы, маленькие белые руки — все-все в ней: она высокая, стройная. Ее глаза подолгу задерживаются на мне.
— Я все про вас знаю, — сказал я. — Когда-то, давным-давно, я встретил длинноногую девочку. Может быть, это было в мечтах, а может, — наяву. Она боялась, что упадут с неба звезды и станет темно. Для нее я переплыл Волгу в оба конца.
Арина схватила меня за локоть:
— Это правда. Я часто боюсь, что упадут с неба звезды. Откуда вы знаете?
— Вы родились на Волге?
— Я всегда жила в Москве.
— Я не верю вам. Вы всё забыли. — И слово в слово я пересказал ей свое детство и добавил: — Это была гордость для меня, что я переплыл Волгу, но это я сделал не из мальчишеской тщеславной спеси, а ради вас. И потом мне это уже было делать легко — я очень хорошо плавал. Мальчишки, а затем и парни, когда я подрос, завидовали мне… Не кажется ли вам, что звезды колышет ветер? Посмотрите в небо.
— Я никогда не жила на Волге. Но теперь, после вашего рассказа, мне кажется, что это была я. Я верю, что это так было.
Счастье к людям приходит по-разному. Все слова пусты, бескрылы, и язык беспомощно жалок перед тем, что хотело выразить мое сердце этой удивительной девушке, мигающим звездам, небу, этому живущему вокруг беспокойному миру.
— Арина…
— Вы хороший… Я это почувствовала сразу, когда увидела вас. И я тоже очень люблю небо, тишину, эту желтую осень.
Мы не заметили, как подошли к дому. Неуклюжей громадиной высился он в темноте. На улице окликнул патруль и, узнав меня, отдал честь.
— Хотите еще немного пройтись? — спросила она и чему-то вдруг засмеялась. Смех был негромкий, переливистый и заразительный. — Вы знаете, чему я смеюсь?.. Начальник мой сегодня не будет ругаться, если я вернусь даже утром. Он уверен, что у меня свидание с капитаном. Он его боится.
Я улыбнулся и спросил:
— А вы знаете, чему улыбаюсь я?
— Нет.
— Я убедил себя, что вы не умеете смеяться, что вы девушка тихой улыбки. И вдруг вы смеетесь.
— Мне это только льстит. В человеке каждый раз надо находить новое, тогда он неисчерпаемо интересен. Ведь человек всегда богат, богат сердцем, душой, разумом; он должен быть неистощим, как родник, и щедр, как солнце. Сумейте открыть его.
— А если человек — сухарь?
— И его можно размочить. Захотите увидеть в человеке гадкое — увидите, хорошее и доброе — тоже. Многое зависит от вас самого.
За домом метнулся сполох, что-то вспугнуло передовую: она на несколько минут неистово забилась в лихорадке; ожили пулеметы, глухо ухали взрывы и выстрелы, ткань неба жгли яркие капли огня, то рассыпались фонтаном, то отвесно уходили ввысь.
— Красивое зрелище.
— Не будь оно частью войны, я бы с вами согласился. А так протестую. Но об этом лучше не думать.
Арина покачала головой:
— От этого не уйдешь.
— Давайте уйдем хотя бы сегодня. Пусть будет только ночь, звезды и вы.
— И вы, — добавила она.
— Я соскучился по вас, — сказал я. — Ведь не видел вас я с тех давних пор, когда впервые вы во мне, мальчишке, открыли храбрость, смелость; нет, не это — что-то лучшее: пробудили во мне человека, способного совершить подвиг. И подвиг не эгоистический, утоляющий жажду тщеславного, себялюбивого «я». Нет, я не думал о себе, я думал о вас, маленькой неповторимой женщине, способной одним своим присутствием дать людям счастье, вызвать в них горение глубоко спрятанного светильника красоты. Я очень соскучился по вас.
— И я тоже. Я вас ждала… Часто я вглядывалась в лица, и мне было грустно: я не узнавала вас. Почему вы не приходили так долго?
— Я боялся, что, даже узнав меня, вы не захотите признать меня. И поэтому предпочел молча мучиться, но не быть отвергнутым.
— Вы смеетесь, а я серьезно. Почему вы не приходили так долго?
— Вы не очень хотели.
— Вы валите вину с больной головы на здоровую.
— Это неправда.
— Чем вы можете доказать?
— Я приведу в свидетели звезды, эту пустынную ночь, безветренное небо и эту тишину. Слышите? Она говорит: Арина, у тебя петушиные повадки — ты придира…
— Опять смеетесь?
— А разве всерьез вы не отмечали у себя этих петушиных качеств?
— Я придираться буду к вам одному и всегда. Так и зарубите себе на носу.
— Я постиг отличное средство защиты.
— Какое?
— Молчание. Пусть хоть Мамай пройдет — молчи!
— Только никогда не молчите, если вы не хотите причинить мне боль. Я не люблю таких спорщиков, которые молчат. Уж если бой, так бой.
— Я беру свои слова обратно.
— Это вы о чем?
— Что суть ваша — тихая улыбка.
Арина рассмеялась, искренняя и счастливая; ей было приятно, что все так легко и просто. Она взяла меня под руку и прислонила голову к плечу.
— Можно идти или стоять так без конца. А вы слышите, как у вас бьется сердце? — спросила она и вдруг отстранилась и заглянула мне в глаза. Выражение лица стало грустным. — Я боюсь. Ко мне так много счастья пришло внезапно. Так, наверное, не бывает?
— Вы сами раздаете счастье. Боязнь — не для вас. Пусть боятся те, кто нищ сердцем, кому нечего давать.
— Вы хороший, — она провела ладонью по моему виску, заправила выбившиеся волосы под фуражку. — Все как рукой сняло. С вами мне не страшно. Покойной ночи. Я буду думать о вас. Мне пора идти. И вы не спите сегодня, хорошо?
Она поднялась на крыльцо, прижала пальцы к губам, чуть приметным движением помахала.
— Я люблю вас.
Скрип двери разбудил тишину и увел за собою Арину. Я продолжал еще некоторое время неподвижно стоять, весь устремившись к ступеням, крыльцу, к закрытой двери. Все приобрело неожиданно смысл, значение, потому что со всем этим соприкасается Арина.
Тесно стало жить. Не нахожу себе места. Как никогда, много беспокойства и неудобства. Будто вместо легких выросли жабры — хватаю воздух и все голоден.
Все мои утвердившиеся ранее во мне убеждения о чувстве, красоте, о взаимоотношении юноши и девушки, мужчины и женщины — человечья сущность всего этого, терпели крушение: личное счастье стало главным мерилом жизни, центром всего, что совершалось непосредственно с моим участием и вокруг меня. И худшее во всем этом состояло в том, что я сознавал невменяемость своего состояния, но отделаться от него не мог. Эгоизм стал двигателем. Сомнения, стремление разобраться и утвердить — разумно ли это? — отошли прочь. Я любил. И что б ни делал, какие б мысли ни обуревали — везде чувство: оно поглотило всего меня, не оставив ни толики во мне ни для чего другого.
Петя Кремлев, видя, что со мною что-то творится непонятное, все время отыскивает какие-то дела, вертится под рукой, откровенничает. Но о чем бы ни заводил он речь, сворачивал к одному — землячке; весь светится изнутри, едва я упомянул в разговоре ее имя. Уверяет, что дышится ему легко, что мир раздвинул стены — простор и даль неоглядная — и что война — чепуха, не помеха ему, может, даже лучше, потому что, не будь медсанбата и не оторви у него мизинца, встретил бы он случайно какую-нибудь выдру, хлебал бы кислятину с нею всю жизнь. Вон, Иванов, чудак, сохнет по Клаве! — продолжает Кремлев.
— Видно, стервь она изрядная: человека закабалила, а к себе ни на шаг не подпускает. Но все равно он счастливый и меня обзывает не иначе, как ветрогоном. Глубины, говорит, в тебе нет. А если честным быть, то глубина в моем сердце — океан, а у него — блюдце.
— В общем, товарищ старший лейтенант, — заключил Кремлев, — все, что ни делается, все к лучшему. Я считаю, что Иванов не мужчина, а сапог. А он, наоборот, считает меня ботинком. Которая из этой обуви лучше, трудно сказать. Мне кажется, что моя, а ему — его. Значит, хорошо придумано, что есть разные сапоги, — в этом вся соль. Кому какие нравятся, те и носи. А если жмут, поставь на колодку. И я, например, на весь мир счастливый, что не встретил ивановскую Клаву, а то бы бирюком на всех глядел. А ему эта недоваренная мамалыга нравится, вот и выходит со всех точек зрения: все, что ни делается, все к лучшему.
После обеда я навестил Калитина, выложил ему философию Кремлева. Калитин, метя в меня, полусерьезно сказал, что до этого не додумался бы сам Вольтер и вся сущность его «Кандида» бледнеет перед философией простодушного Пети Кремлева. Я не остался в долгу, отметив, что, к сожалению, не могу воспользоваться образцом из современной литературы, который бы по глубине философии затмил «Кандида». Калитин воспринял это на свой счет и, сдерживая себя, заметил:
— Судить дозволено только то, что глубоко и хорошо знаешь. Критиковать, наворотить гору развалин всегда легче, чем создать, каждый для этого обладает динамитом — «мне не нравится». Эта формула сидит у каждого камнем в печени. Но уразуметь не каждый может, что это — камень.
— Видеть слабость и недостатки вещи — уже знать наполовину ее, — возразил я.
— Вот именно, наполовину! — иронически поддержал он. — Каждый считает своим долгом и обязанностью судить безапелляционно только в одной области — в области искусства. Сунься он в химию, физику, там ему дадут по шапке. Здесь же любой считает себя законченным знатоком, мнение которого окончательно и пересмотру не подлежит.
— Искусство для всех, а не для одиночек, не забывайте, — сказал я.
— Да, да. Я помню об этом. Оно создает человека, помогает ему расправить крылья в любой сфере деятельности. Первым у человека было искусство, затем пришли опыт, знание, профессия. И подходить к нему надо с этой меркой. Прочел, скажем, книгу и суди — насколько она продвинула тебя вперед, сделала лучше, добрее, очистила от хлама и накипи повседневности, доставила ли радость, вызвала ли гнев, открыла ли тебе что-то новое. Со всех этих позиций ведите обстрел, и люди, создающие искусство, не спрячутся в кусты. Особенно открытая мишень — литература. Ее, как овцу, то стригут, то пинают, то свежуют; затуркали, и литераторы только и знают, что приспосабливаются, как сделать глаже, причесаннее, чтоб уберечь свое дитя от пинков. Дикий ужас. Критика возведена в ранг генералиссимуса. И попробуй, да если ты еще рядовой, не стать перед ней навытяжку! И все-таки наша литература мужественна и тверда, как кремень. Никогда она еще не была в такой степени знаменем бойца и гражданина, как нынче. А вы говорите об образцах!
Неожиданно вспыхивает искрометный спор, доходящий до высоких нот и резкости. Калитин непреклонен, но и я не лыком шит: черное не назову белым. Каждое десятилетие отмечено своим литературным героем. Были Онегины, Печорины, Рудины, Базаровы, Нехлюдовы, Мелеховы, Телегины, Рощины, Корчагины. Кто будет сегодня? Где он, этот герой? Кого произвели на свет тридцатые-сороковые годы?.. Калитин восклицает, что минуло время одиночек и выскочек; герой нашего времени — это он, я, ты — все мы. Народу отдано должное — он творец! И сегодня только он может быть истинным героем, все остальное — подделка. Но я стою на своем, пытаюсь винить писателей в инертности: гений сумеет подметить и создаст обобщающий, нарицательный образ; трагедия состоит в том, что, к сожалению, гении последние десятилетия не родятся. И тотчас на меня опрокинут переполненный ушат имен, каждое из которых героично.
И обзор с калитинской вышки довольно широк: любой из нас по-своему на пьедестале. От этого нельзя отмахнуться, в этом есть рациональное: эпоха героическая, дел героических у каждого из нас полон рот, но назвать себя правофланговым эпохи — имею ли я право? Имеет ли право первый, второй, третий… Впитал ли я в себя все то лучшее, чем богата окружающая среда, мое общество, привились ли мне его пороки? Какие царапины и наросты в груди у меня от социальных бурь? Да и вообще — продукт ли я всецело своего времени?.. Продукт?! Мне, человеку, смешно это слово, но сплетён и соткан я из сотен, тысяч, миллионов нитей распространенного на земле материала, имя которому — общество. Перечислять литературные имена и утверждать, что они — герои, равнозначно отрицанию героя. Бессмертие венчает тех, кто впитал все доброе, великое и смешное своего времени…
Калитин кипит. Часто я оказываюсь подмятым, опрокинутым на обе лопатки. Переворошив чуть ли не всю историю, он становится вдруг Голиафом мысли. Убежденный и страстный политик в нем довлеет над писателем. Историю он знает только как историю производительных сил и производственных отношений. В этом, на мой взгляд, несовершенство не только его одного: говоря в сущности о правильных вещах, он, как, впрочем, и многие другие, все стрижет под одну гребенку, забывая, что история не скучная, трудноусвояемая стихия и приправленная политическим морсом быль, а полна ярких моментов, великолепных, высоких и мерзких лиц, честолюбие которых часто повергало человечество в жар и холод; забыть об этом — значит утверждать, что герои — я, ты, он — все мы. Это верно и вместе с тем это слишком далеко от истины.
Но едва я высказал это убеждение, как Калитин увлек в новые непролазные чащобы. Наступили годы безраздельной власти массы, и необращенный в эту веру человек плохо кончит, оставив после себя бессчетный ряд ошибок. Нарицательный герой — осколок прошлого, страницы современных книг не для него. Идет битва за жизнь — одиночкам ее вести не под силу. Предки-скифы тоже рождали героев, но время стерло их имена, а скифов, как символ неодолимых, память хранит. И когда я восклицаю — скиф! — воображение рисует образ храброго и сильного бойца, вместившего в себе весь народ.
Калитин пододвинул мне портсигар:
— Курите.
— Табачный дым не обратит меня окончательно в вашу веру, — пошутил я.
Но разговор был прерван, принесли полосы газеты.
— Разговор наш, кстати, старший лейтенант, не окончен, — сказал Калитин и вышел из землянки, оставив меня одного. Типография у Калитина размещена в крытом кузове автомашины, люди устроены плохо. Да и сам он ютится в тесной, сырой землянке. Калитин! Вот уж типичное дитя своего времени: располагая неограниченными возможностями, не может создать самому себе хотя бы копеечные удобства в быту. Когда Калитин вернулся, я ему сказал об этом. Он, смеясь, взвалил все на войну. Нет, такая уж натура у его поколения — вершить великое, а о собственных удобствах думать в последнюю очередь!
Покинул я Калитина неразряженным. Собственно, я и встретился с ним затем, чтобы излить душу, он же увел в другую сторону. Ощущение тесноты, беспокойства еще сильнее охватило меня.
Пытаюсь проанализировать самого себя, разобрать по косточкам, определить — каков же я фрукт? Но это плохо мне удается: каждый день уносит на годы вперед. И если настанут времена, когда разум отвоюет у природы тайну эликсира долголетия и отдаст его человеку, чтобы жить двести-триста лет, все равно поколению будущему не догнать в возрасте нас, людей двадцатого века. У нас самая короткая и самая длинная жизнь. Мы успеваем сегодня за недели, месяцы, считанные годы сделать и пережить то, что другие не успеют за двести. И неудивительно, что я не нахожу в себе вчерашних черт и особенностей, не могу познать себя до конца. Я ринулся с обрыва, не раздумывая и не оглядываясь, в реку чувства, ринулся, не зная, как глубока эта река. Ты действительно прекрасно, мгновение! Ради тебя стоит жить.
Но как ни странно, эти горячечные мысли разделил и поддержал светлоголовый Санин. Застал я его на почте. Он отправлял свои записи и советы школе, в которой работал до войны. Беспокойный характер!
— Вот, — сказал он. — Пожил немного в другой среде, пообщался с тобою, с солдатами, мир пощупал руками и увидел, что стены школы надо раздвинуть. Вот тут намараковал, — указал Санин на пухлый пакет. — Для того чтобы кроить безошибочно человека ладного, школу надо сделать жизнью. А то выходит, что у древних греков школа была совершеннее и современнее, чем у нас. А ты зачем здесь? — спросил он и, уловив мой взгляд, перевел глаза на Арину. Она сидела в дальнем углу, занятая делом. К ней подходили какие-то люди, о чем-то советовались, что-то спрашивали, брали стопки корреспонденции. Мне она незаметно кивнула: скорее, мол, разделывайся со своим подполковником!
— Эта девушка напоминает Наташу, — заметил Санин. — Хотя внешне сходства нет. Чуть было не бросился к ней. Все так остро встало в памяти.
— Как ваши гитара и шахматы? Улеглись страсти? — спросил я, желая отвлечь Санина от начатого им разговора.
— Улеглись. Забыты старые друзья. Увлекся английским языком.
— Почему именно английским?
— Ему, русскому и немецкому сегодня принадлежит мир.
— А французский?
— Он, как и испанский, утратил былую славу. Надеюсь еще побывать с экскурсией в Австралии, Индии, Африке и узнать все самому, без переводчиков.
Санин! Всегда в нем все мне родное и близкое: и его глаза, светящиеся умом из-под густых белых бровей, и суровая диогеновская внешность, и угловатость, которую он тщетно старается скрыть.
— Ты извини, — сказал он, — что вспомнил Наташу, к слову пришлось. Ее так до конца и не понял. Она почти такая же закорючка, как и ты. Двое моих не до конца понятых детей. Пожалуй, самых любимых. Хороши же вы у меня! Вот и она, уехала — и ни слова, ни привета. Хотя бы смеха ради черкнула старику.
Санин заторопился. Я вызвался его проводить до передовой, но он не позволил мне сделать этого. У ворот еще раз пожал руку. Глядя в глаза, спросил:
— А тебе Арина не напоминает Наташу? Я, собственно, для этого и заглянул на полевую почту. Чтобы поглядеть. Слышал, у тебя с Сосновым неприятности. Но, кажется, ничего, пожара никакого нет? Да, получил от Питерцева письмо. Ты помнишь его? Учится. Доволен. Он разыскал Наташу. Кто знает, может, после войны будет зал, музыка. За дирижерским пультом — композитор Питерцев. В зале тихо. В зале, музыка. В зале самая красивая женщина — Наташа. Музыка и она что-то одно целое, олицетворение чего-то непостижимо прекрасного. Ими живет Питерцев.
— Зачем вы мне это говорите? — сухо сказал я.
— Я ведь очень люблю тебя, Саша… — он не договорил, и мы расстались.
Арина через окно поманила меня в дом. Прижалась к стеклу, нос расплюснулся белым пятаком, и я невольно улыбнулся. Старик хотел разворошить, а может быть, и вернуть прошлое. Арина… в ней много есть от Наташи. Нет, там я — сомневался, Арину — люблю! И этого не понять Санину.
Вечер провел в обществе Соснова. Карпинский на седьмом небе: наконец-то найден общий язык. Соснов и я — оба мы увлечены его подчиненной. Соснову он не намерен перечить, потому что он сам подчинен ему по службе, ко мне питает симпатию, и голова идет кругом: как поступить так, чтобы угодить обоим. Сегодня же царит мир, обещающий долгое благоденствие. Торжествовало любимое занятие Соснова — резались до одури в карты. Арина была весела, сдержанна со мною и непринужденна с моим соперником. Соснов снисходительно шутил, был открыт, весь светился. Из-за двери Варвара Александровна сердито посмотрела в мою сторону. Смысл ее недовольства был понятен. Откровенно, у меня самого на душе кошки скребли, сдержанность Арины со мною и непринужденность с Сосновым были похуже, чем ушат ледяной воды на голову.
В одиннадцать я стал прощаться. Соснов уходить еще не собирался, подмигнул Карпинскому — ставить самовар. Арина, перехватив мой взгляд, подала знак, что хочет встретиться, когда все разойдутся. Я склонил голову.
— Желаю вам успехов, товарищ капитан!
Он обжег меня взглядом. Но спохватился, процедил:
— Вашими молитвами.
Будь у меня возможность убить в себе любовь или честно застрелить Соснова, я бы, не раздумывая, сделал это. Но чувство во мне сильнее меня; убить же Соснова я не могу. Остается третье, самое смешное и жалкое — ревность. Иду по улице, и земля припекает пятки — настолько зол! Арина сегодня — загадка. А разве вчера она не была ею? И не станет ли еще большей загадкой завтра?
В полночь я был в условленном месте — в конце двора, за огородами у двух старых ив. Этот закоулок для встреч избрала Арина. У соседнего дома расхаживал часовой. В небе плыл месяц. Я глубже спрятался в заросли кустарника у забора. Внезапно тучей нахлынули сомнения — глубоко и искренне, ли во мне чувство? Как грязный сапог, наследила в груди ревность. Это уже не только эгоизм. Утрата веры, оскорбление человека, которого любишь, пекусь о самом себе. В тени крыльца мелькнула Арина, тропою направилась к ивам.
Как удары сердца, отчетливо услышал ее шаги. Вышел навстречу.
— Александр, насилу разделалась. Просто жалко его. Но мне долго нельзя, он еще у нас…
Минута раздумий и колебаний. Я резко повернулся, ушел.
— Александр…
Прав ли я?
Быть может, Соснов ей ближе, с ним непринужденнее веселье, слаще свобода, и мне разумнее удалиться…
Не предполагал, что подруга Арины Надя вызовет у меня столько противоречивых размышлений. Звягинцев стрижет все, что попадает под руку, угрызения совести не донимают его. Мудрость жизни для него состоит в том, чтобы беззаботно и весело пользоваться ее дарами.
Утром он навестил меня. Городил всякую чушь, убеждал, что торопится, у него свободной минуты нет, но время шло, а он уходить не собирался.
— Не морочьте голову, капитан, выкладывайте, что вам надо от меня?
Звягинцев всплеснул руками, обвинил в бестактности: ко мне зайти просто так, без всяких причин, нельзя. И тут же спросил:
— А где твой опекун?
Я пожал плечами. Кремлев находился за бревенчатой стенкой, разговора нашего слышать он не мог.
— Да я не о том, — просиял неожиданно Звягинцев. — Скажи, не можешь ли ты отправиться на пару часов вечером к опекуну? У меня с Надей предстоит серьезный разговор. Кульминация. Я должен ей все высказать и поставить крест.
— Жене письма строчите, в верности клянетесь?
— Ты плохо понял. Эта вертихвостка вздумала наставлять мне рога. А если б даже я попросил землянку не для разговора? Ворчишь, как моя въедливая теща. К жене я вернусь, никуда не денусь. А от этого меня не убудет…
— Делайте, что хотите, — махнул я рукой.
— Вот это разговор мужчины! — Звягинцев благодарственно кивнул и почти тут же вихрем вылетел из землянки.
…Уже час, как у меня сидит Надя. Звягинцев где-то задерживается, Это угнетает ее. Мое общество тоже ей в тягость, но она пытается шутить. У нее непостоянный характер, скоротечные чувства, вернее, характера нет совсем. Так кажется мне. Яркая, симпатичная, знающая себе цену; у нее дразнящие бедра, высокая грудь. Серые глаза, точно смоченные, блестят. Она твердит мне, что влюбчива. Искренне, до боли переживает привязанность. Но завтра вдруг может легко разлюбить и с необычайной силой отдаться новому порыву. Только в Звягинцеве нашла она человека, которого давно ждала.
— Хотя, если чистосердечно признаться, все военные одного покроя. Их различают по знакам отличия. Чем выше чин, тем мужчина заметнее.
Я не понял, насколько это шутка и насколько это серьезно. Но достоверно, что в этом есть что-то от ее кредо. Со мною она нелюбезна — для нее я «лейтенантик», не больше. Я знаю — она внушает Арине все дурное обо мне и лестное о Соснове. Сегодня же ластится змеей, заигрывает, отчаянно строит глазки; чует, что я насквозь вижу всю подоплёку ее непрочной любви. Звягинцев и она — две кукушки, залетевшие в чужое гнездо!
И вдруг Надя взорвалась:
— Безобразие! И это называется мужчина? Вы поглядите на часы. А его все нет! Грубый, невоспитанный солдафон. Хотя вы с ним друзья! — Надя кинула на меня презрительный взгляд, будто опаздывал не Звягинцев, а я.
— Вам Калитин советовал махнуть на Звягинцева рукой, — посмеялся я.
— Вы тоже хороши! Зачем путаете карты Соснову?
— Я человек, и все человеческое мне присуще.
— Не балагурьте. Соснов души не чает в Арине, а вы стремитесь подставить ему ножку. Ничего у вас не выйдет! Эти же слова передайте и своему другу капитану Звягинцеву, — Надя, вскочив со стула, бросилась к выходу. Но у порога ей преградил дорогу Звягинцев, воскликнув: «Ах, душечка, прости!», он сочно поцеловал ее в губы.
— Будь свидетелем, Метелин, — бросил он мне. — Жить без этого человека не могу.
— Этот свидетель только что советовал мне махнуть на тебя рукой!
— Фу ты черт! Не иначе от Калитина этой гадости набрался. Разве мы с Надей тебе дорогу перешли? — Звягинцев уставился на меня. — Или завидуешь нашему счастью?
— Ты женишься на мне? — вдруг остановила его Надя и повернулась ко мне. — Старший лейтенант, будьте свидетелем.
Звягинцев замялся, но, сделав вид, что умеет понимать шутку, смеясь, спросил:
— Ты хочешь знать, почему я опоздал? Соснов нагрянул…
— Отвечай на мой вопрос!
— Вы уж тут сами, без свидетелей, разбирайтесь, — сказал я и хотел уйти, но Надя не пустила меня:
— Женщина никогда не простит вам, если вы будете знать ее тайну.
Глаза у Нади горели. Она не так проста, как кажется на первый взгляд. Я отлично понял, что она имеет в виду. Надя знала, зачем шла сюда, знала, что об этом знаю я, и ей от этого стало стыдно, но она глушила в себе стыд ради Звягинцева, потому что она была искренна. Он же как бы обнажил ее и оставил ждать одну под взглядом сторонних. Этого она простить не могла. Оскорбленная женщина в ней выше, чем привязанность. Она решила отплатить Звягинцеву.
— Вы женитесь на мне? — повторила она, заменив «ты» на «вы». В голосе прозвучала ирония.
Звягинцев деланно рассмеялся:
— Какой комар тебя укусил, что тебе так приспичило замуж?
— Отвечайте.
— Метелин, ты что-нибудь понимаешь? — покосился он в мою сторону.
Я молчал.
— Вы трус, капитан. Извините! — Надя с гневом повернулась к выходу. У двери оглянулась. — Я рада, товарищ старший лейтенант, что вы присутствовали при этом разговоре. А что было у меня с капитаном раньше, то быльем поросло. — И вышла.
Я как будто проглотил муху, оказавшись невольным свидетелем безрадостной сцены. Звягинцев сказал:
— Я же говорил тебе, что буду рогоносцем!..
— Теперь, если даже захочешь, ты не будешь рогоносцем. Ничего не понял и никогда не поймешь.
— И ты в ту же дуду! По-твоему, я должен был ей сказать, что я женюсь на ней? У меня же есть законная жена.
— Вот именно! И об этом тебе не стоило забывать. Это как раз и хотела сказать Надя.
Чувствую, что обманываю самого себя, ищу занятие, которое отвлекло бы, заполнило всего меня, но я не могу не думать об Арине. Твержу одно, а сердце знает другое; не вижу ее вторые сутки, а кажется, минули недели. Вся энергия разума во мне расслаблена, за многое принимаюсь и ничего не довожу до конца. Говорю себе — нет! а был бы до самозабвения счастлив, если бы случай предоставил возможность хотя бы издали увидеть ее. Мир светлеет при одной мысли, что есть Арина, что у нее чудесные волосы, пахнущие свежестью утренней реки и синих васильков; мрачным и серым представляется все вокруг, когда начинаю верить, что все выдумал: и Волгу, и ветер на обрыве, и детство, и мерцающие подвижные звезды, без этого все пусто! Но я скорее умру, а не сделаю шага прежде, чем уверюсь до конца, что не обманываюсь в чувстве и главное — не лгу ей. Лучший судья — время. Я решил ждать, пусть это будет вечность, если надо. Но неожиданно все мои клятвы и заверения полетели вверх тормашками, едва опасность выглянула из-за угла. Утром началась бомбежка Васютников. Налетели несколько «юнкерсов», устроили месиво. Меня обуял дикий страх за Арину. Как очумелый, бросился я на почту, влетел в дом и натолкнулся на Варвару Александровну. Дом скрипел и вздрагивал, звенели оконные стекла.
— Вы что тут торчите? Почему не в укрытии? — крикнул я.
— Что ты, миленький, белены объелся, на кого орешь? — окатила меня холодом Варвара Александровна. — Аль от страха в голове помутилось?
— Немедленно в укрытие!
— А сам почему не там? Меня беречь, а сам-то улицей в открытую бежишь. Эх ты, сынок, сынок. Арина вон в огороде в щели с Надей спрятались. Из-за нее шум поднял и себя от страха забыл, как звать?!
Мне вдруг стало стыдно. Стыдно от того, что так просто и легко меня разгадала эта женщина. За окном громыхнул взрыв. Бомба легла неподалеку, что-то в доме треснуло и охнуло, из бревенчатых стен, будто выдутая кем-то изнутри, полетела густая пыль.
— Поди, и вправду, в погреб прятаться надо, — забеспокоилась Варвара Александровна. — А то с немцем шутки плохи — долбанет, и поминай как звали.
Вечером Арина выговаривала мне: я бессердечен и жесток, самый первый деспот и мучитель; как смел так обойтись с нею? Ушел, вечность минула с тех пор, и я ничего не дал знать о себе. Передумала она все возможное и невозможное и сделала вывод, что я ее просто не люблю. Но когда я сказал, что и меня одолевают сомнения, она немедленно возразила: — Нет! — И тотчас опомнилась, со слезами в голосе добавила: — Я глупая. Я вообразила, что вы — это я, и поэтому так смело сказала — нет! Может, и правда все не так. И мне очень больно, и больно не оттого, что люблю я. Мне хочется любить вас для вас, а не для себя, и я была бы счастлива, если бы это вам доставило радость. Вы, если хотите, любите меня для себя, как вам вздумается, мне все равно, только бы вам было хорошо.
Внезапно я почувствовал, что намного старше Арины. Она умеет только одно — радоваться солнцу, земле, людям — всему, что окружает ее. Я же научился осуждать это, видеть теневые стороны.
Ее глаза у моего лица. Она обхватила мою шею руками и заплакала.
— Я люблю вас. Вы даже не знаете, как мне хорошо. И пусть, пусть. Все пусть. То, что вы говорили о Волге, — это правда. Я эти дни все живо вспомнила. Это я ждала вас на берегу. Очень долго ждала. А вы только сегодня вернулись обратно. Но если бы еще надо было ждать вас сто лет, я все равно бы ждала. Я вас теперь никому не отдам и никуда не отпущу…
Мне торжественно вручили орден Красного Знамени. Калитин расписал в газете, присвоил мне уйму добродетелей, о которых я смею только мечтать. «Это нужно, — уверяет он, — для пропаганды, примера, вдохновения. Представьте, каждый боец собьет самолет, немцы останутся без авиации». И я начинаю верить этой наивной логике, но в душе сгораю от стыда: мои солдаты, которые днюют и ночуют рядом со мной, и те смотрят на меня, как на чудо, а я в сущности ничем не отличаюсь от них. Самая счастливая, однако, в этот день Арина. Всем почтальонам из подразделений в первую очередь вручена «моя» газета с рекомендацией обязательно прочесть. Даже Надю разожгла. «Вы мне начинаете нравиться, Метелин, — сказала она. — И берегитесь, если я окончательно уверюсь, что это так».
Еще недавно я брюзжал на службу ВНОС, тяготясь вторым эшелоном, но, честное слово, был неправ: с моим здоровьем лучшей службы не придумать. Даже орден и тот здесь больше значит, чем там, на первой линии огня. Звягинцев предложил меняться ролями.
— Тебе орден, а мне сегодня генерал перцу всыпал, паршивые пошли времена!
— Слышал. Но генерал, пожалуй, прав. Ты больше печешься о своей персоне, а клуб сплавил подчиненным, У тебя там, говорят, правит твой бездарный зам?
— Этот Дом офицеров, как хомут. Надоело.
— Подай рапорт, просись на передовую.
— Вот и я подумал: либо голова в кустах, либо грудь в крестах.
— Могу тебе помочь, — сказал я. — Сегодня буду на докладе у генерала и невзначай замечу — зачем, мол, столь опытного командира держат в тылу? Звягинцев, дескать, сам просится, жаждет острых ощущений.
— У тебя, я вижу, не все дома.
— Непременно скажу! Как не помочь приятелю?
Звягинцев покрутил пальцем у виска, показывая, что я свихнулся.
— Нет уж, избавь.
— Жиром заплыли с Сосновым. Вас арканом не затащишь на передовую. Поди, еще рассуждаете: достаточно говядины для окопов и без вас?!
— Зачем так грубо? Соснов неплохой парень. Зря на него зуб точишь. На его месте иной давно бы тебя подвел под монастырь. А он терпит. Из-за Арины извелся человек, смотреть на него жалко. Хочет тебя на коленях просить отступиться от нее. Я ему, правда, сказал — напрасный труд! Метелина слезами не пробьешь. Но он тоже не лаптем щи хлебает, в оба гляди — из-под носа уведет у тебя Арину.
— Эх, вы! — поморщился я. — Говорите о девушке, как о лошади. Она человек и вольна распоряжаться собою. Уважайте хотя бы это элементарное право человека. Соснов любит?! Собирается увести? Уводят скот…
— Не придирайся к грамматике, — сказал Звягинцев. — Любовь не картошка, ее не выбросишь за окошко. С ней — как на колу сидеть, и без нее — как у голодного цыгана в животе. На своей шкуре испытал. Ничто так не доводит до отчаяния, как эта премерзкая штука. Поэтому молись богу, что у Соснова есть честь.
— У тебя своеобразное понятие о чести.
— Мое дело предупредить — ухо держи востро, а там хоть трава не расти.
Землянку сотрясли взрывы. На стол, топчан с наката посыпалась пыль. Толчки шли один за другим, откуда-то из глубины, как по проводам, их чутко передавала земля.
— Фу, черт, что это? — забеспокоился, заерзал на стуле Звягинцев, бросился к двери.
Передовая гремела. Дело пахло порохом. Низиной, по оврагу Звягинцев пустился со всех ног к лесу.
С утра и в полдень было тихо, воздух дышал покоем и не предвещал ничего неожиданного. Кремлев отпросился у меня и увел Бугаева и Иванова к Варваре Александровне чинить крышу дома и пристройки-сарая. К обеду крыша рябила белыми заплатами.
— Мы тебе, мать, если захочешь, дом срубим, — хвастался с умыслом Бугаев. — За расчетом, конечно, после войны заедем.
— Молоком напоить напою. А спиртного не жди. И не намекай. Дуреет от него человек, — ответила Варвара Александровна.
Бугаев шепнул Пете:
— Дуралей, расхваливал! Скареда твоя старуха, вот кто! У нее зимой снегу не разживешься, — и повернулся к Варваре Александровне. — Я, мать, не сосунок, чтоб молоку радоваться. Это вон его, — указал он на Петю, — потчуй. У него свое еще не обсохло на губах, да ты прибавишь кувшин, вот и будет целое ведро. Пусть сосет. Только ты бутылку с соской приспособь, чтоб удобней было.
— Не язви. Разобиделся! Припрятана у меня бутылка самогона, зальешь тоску свою.
— Я, мать, тоску на крыше твоей разогнал маленько. Руки чесались по топору и пиле. Хоть и работал на тракторном, но сам из мастеровых, из плотников. А чарка, она солнечное сплетение взбадривает, по-ученому говоря. А по-простому — сосульки под ложечкой оттаивает.
— Лучше погляди, ладно ли твои помощники мастерят? — посоветовала хозяйка. — Петя вон решето мне над головою тянет — одно латает, другое каблуками дырявит.
Бугаев оглянулся и немедленно прогнал Кремлева на землю. Досталось и угрюмому Иванову, находившемуся по-соседству.
— Зенки повылазили? Одно правите, в другом месте срамите, — ворчал Бугаев. Руки его, как у хорошей швеи, работали легко, не дранку, а строку шили. — Оно, мать, вот так всегда, — поостыв, заметил он. — Кто как работает, так и воюет. Научились мы горы ворочать, а аккуратности нет. Потому и немца долго не одолеем, что на брюхо надеялись: выдюжим. Это раз. А во-вторых, в одном месте под дых даем ему на всю железку, а в другом — прорехи оставляем. Он, не будь дурак, из этих прорех, как саданет орехов, только зубы трещат. В общем горы ворочать умеем, а насчет аккуратности слабина.
Но подобревшему от работы и повеселевшему от обещанной бутылки самогона Бугаеву так и не удалось выпить в тот день. Севернее Васютников была прорвана наша оборона. Широким рукавом потекли немцы в направлении железнодорожной магистрали — Погорелого Городища, отсекая и оставляя у себя в тылу Васютники. Я позвонил в штаб армии. Начальник ПВО приказал мне пост не снимать, держаться и вменил в обязанность следить за артобстрелом: есть достоверные данные, что немцы применят газы; под Ржевом подобраны снаряды, начиненные ипритом.
— Вы мне приказываете брать ежа голыми руками, — возразил я в телефонную трубку. — Обстановка такова…
— Какого еще, к черту, ежа? — не понял он. — Выполняйте!
Я молча положил трубку.
Васютники, видимо, не представляли для немцев особой ценности в военном отношении, и вначале они не обращали на этот пункт серьезного внимания: весь порыв устремили на Городище; сюда же бросили небольшую часть пехоты, и то скорее для внушения страха, чем для активных операций. Но едва увяз здесь коготок, как немцы увидели для себя серьезную опасность и решили ликвидировать ее одним ударом. Они двинули танковую часть с заданием разутюжить Васютники. Пересеченный рельеф местности, овраги, перелески, болотистая речушка сковывали маневренность. Потеряв в первом же бою семь танков, немцы отказались от своего замысла и стали цепь за цепью слать на Васютники пехоту.
Пост, на котором я находился, состоял из девяти человек, я был десятым, мой связной Петя Кремлев — одиннадцатым. Волею случая мы оказались выдвинутыми на самую переднюю линию, за нами в полутора километрах были Васютники, протянулся ряд окопов подразделений, вынужденных сняться с передовой и в спешке разместиться здесь: на улицах села и вдоль оврага рылись окопы. Но преимущество мое перед всеми состояло в том, что немцы не могли с ходу пробиться к нам: на их пути была речушка с обрывистым берегом с одной стороны и топким, илистым — с другой. Нам открывался отличный обзор, мы же относительно были спрятаны, и главное — у нас были превосходно отрыты окопы и щели; из них, как из лисьей норы, надо было выкуривать.
Бугаев с Ивановым и Петей прибежали в тот самый момент, когда сержант Овчаренко отражал первую атаку. Он находился как раз на посту. Вокруг было спокойно. И вдруг — перед самым носом немцы. Овчаренко хотел броситься звать меня, но проволочка могла оказаться роковой. Он лег к пулемету, дал длинную очередь. Ответили сильным и частым огнем, осколком опалило висок. Пулемет заработал нервознее. Я выскочил из блиндажа, наорал на Овчаренко:
— Какого черта вы вздумали валять дурака?!
У головы просвистели пули. Я невольно пригнулся. Впереди как на ладони, за выгнутой подковой речушкой ползли большие зеленые пауки. Все солдаты поста были уже наверху. Бугаев что-то прилаживал в окопе. Я приказал перенести в окопы из землянки и блиндажа все имеющееся в наличии оружие, гранаты, горючую смесь в бутылках. Низиной, прикрытой пригорком, отходили с передовой наши части — в основном артиллерия. «Куда же они?» — выругался Бугаев. Получив приказ поста не снимать, я не рассуждал ни о чем стороннем и старался сделать все, чтобы продержаться как можно дольше. Окрылило еще и то, что полк Санина, как я узнал, расположенный в семи километрах левее нас, не покинул передовой.
В четыре часа дня показались танки. Как неуклюжие гигантские черепахи, вытянув хоботы пушек, без единого выстрела ползли они на Васютники. На их пути первыми стояли мы. Наши окопы к их появлению уже успели отразить три атаки пехоты; брустверы кое-где разворотило снарядами, осмалена земля, пахло горелым порохом. Пете Кремлеву вновь не повезло: оторвало осколком безымянный палец на той же самой руке, на которой месяц назад отсекло мизинец. Бугаев прошелся на этот счет: «Ежели вместо башки набалдашник, всегда так».
Мутную пустую синь воздуха рвет лязг гусениц, скрежет железа заполняет наш окоп, повисает над головою. Иванов угрюмо ладит ПТР, лицо окаменело, в глазах ни тени тревоги, только нос выдает: кончик будто морозом прихватило, побелел. Танки в ста метрах.
— Страшно? — спросил я и сам удивился своему сиплому голосу и глупому вопросу; задал его скорее для того, чтобы потушить что-то в груди.
— Страшно, но надо! Что ж теперь поделаешь? — Иванов почти в то же мгновение разрядил ружье.
Головной танк вздрогнул, искоркой блеснул на нем огонек — и вспыхнуло пламя. Танк метнулся в сторону, желая сбить языкастого красного мотыля, но что-то внутри глухо лопнуло, и он осел копной огня. Другие ускорили бег. На ходу стали бить из орудий; в дело вступили пулеметы. Стрекот их, взрывы, натужное жужжание осколков, свист пуль — все смешалось, решетило, дырявило воздух. Мучительно долго целится Иванов. Один он в состоянии достать и уязвить надвигающееся грязно-серое чудовище. Кремлев швырнул навстречу две бутылки с горючей смесью. Не долетев до цели, они разбились о землю, разлив хвостатый длинный огонь. Овчаренко сгоряча дал очередь из пулемета по танку. Со звоном скользнули пули о броню и отскочили, не нанеся вреда.
— Иванов, не мямлите! — не утерпел я. — Стреляйте же, черт возьми!
— Не хочется зря тратить патронов. — И вновь разрядил ружье.
Какой же молодец этот Иванов! Только рты успели раскрыть, когда он почти одновременно один за другим подбил еще два танка. Подмывало дать что есть мочи деру от ползучей железной смерти, а он и в ус не дует, только нос побелел. И еще раз разрядил ружье Иванов. Остановил пятый танк.
В Васютниках, за нами, в лесу, где был размещен штаб дивизии, в низине, где продолжали еще двигаться наши войска, — никто не понимал, что же собственно происходит: шла артиллерийская бомбардировка, стоял грохот танков, отбивали частую дробь пулеметы; кто воевал, на каком участке, кто кого теснил — ничего нельзя разобрать. Слышались обложной грохот, пальба, взрывы. Но в этой суматохе, неразберихе, в этом огневороте каждый в отдельности был на своем месте, именно на том, где он был более всего необходим. Бугаев, соорудив себе в окопе из мешков с песком бруствер, лежал за ручным пулеметом и выжидал момент. Петя Кремлев толкался возле Иванова и явно мешал; каждый подбитый танк вызывал у парня бурю восторга. Иванов, сосредоточенный до предела, радовался в душе молодости Кремлева и думал, что если бы Петя сейчас покинул его окоп и перебрался к Бугаеву или Овчаренко, то он страшно бы ощутил свое одиночество.
— Дай и я разок пульну! — попросил Петя.
— Отчепись, репей! — зло процедил Иванов, хотя где-то в душе был не прочь, чтобы Петя «пульнул». Танк почти рядом, на глазах вырастал в огромную падающую с высоты домину. Иванов выстрелил и промахнулся. Я швырнул связку гранат, и она не причинила машине вреда. Едва успели упасть на дно окопа, как танк утюжил сверху. Каменной глыбой навалилась тяжесть. Я рву ворот гимнастерки, на зубах песок. Кто-то поджег танк бутылкой. Словно затравленный зверь, он в страхе бросился к воде и там засел в болоте, так и не сбив с себя огня. Нас вытащили из-под завала; противотанковое ружье изуродовано. Иванов прохрипел чуть не плача:
— Лучше бы руку оторвало! Это все ты, репей, толкнул он в грудь Петю.
Впереди несколькими цепями шли немцы. Последний, седьмой танк, не то подбитый кем-то, не то неисправный, едва выглянул из-за поворота, да так и остался на месте. Меня вызвали к телефону: начальник ПВО армии требовал доложить обстановку.
— Все в порядке, товарищ полковник, — сказал я.
— А газами не пахнет?
— Никак нет.
— Ну, смотри там в оба!
— Слушаюсь.
Я бросил трубку и выбежал из землянки наверх. В воздухе — тишина. Среди мелкого кустарника впереди на нас двигалась новая цепь немцев. Отчетливо виднелись каски, расстояние сокращалось. От землянки до окопов — метров двести. Успею их преодолеть в несколько прыжков. И тут — навстречу Иванов, без пилотки, с оторванным воротом гимнастерки; он направлялся к оврагу.
— Вы куда?
Меня обожгла страшная догадка.
Вырос я для Иванова будто из-под земли. Он никак не ожидал встретить меня. Но страх его оказался сильнее, нервы явно сдали. В руке клочок оторванного воротника с пуговицей.
— Их тучи, тучи. Бежим, старший лейтенант. Бежим. Еще есть время…
Я не спускал глаз с его почерневшего лица.
— Они же, гады, выбили из рук главное, — ружье. Что я стану делать? Мое ружье…
— Кто вам оторвал ворот? — спросил я.
Иванов с трудом догадался, о чем его спрашивают. На лбу жирные капли пота.
— Душно. Поэтому и рванул, — пальцы зашарили по голой шее, отыскивая пуговицы. Неожиданно он заметил воротник у себя в руке. Как заколдованный оцепенел.
Я снял с груди свой автомат и отдал Иванову:
— Страшно, но надо, Иванов. — И, не дожидаясь, какое он примет решение, пустился к окопам. Пулемет Овчаренко уже нервничал. Зло разрядил автомат Кремлев; не стоило большого труда оценить обстановку. Петя зря тратил патроны, да и Овчаренко на этот раз не достигал цели; шалили нервы, глаза заслоняло туманом при виде множества живых фрицев. Перебежками, прячась за бугорки и путаясь в кустах, они настойчиво приближались к нам. Уверенность, расчет и спокойствие в их цепи. Солдаты они отличные и упрямые. Уже видны яростные потные лица. Рукава закатаны по локоть. Бугаев будто в рот воды набрал, лежит, не шелохнется. Припал к ручному пулемету и ждал, выхватывая глазами верную цель. Петя выбросил второй опустевший диск и приладил к автомату третий, последний. Лицо разовое, в глазах приглушенный блеск и задор. Он никак не хочет показать, что ему страшно.
— Молокосос, — не оглядываясь, процедил Бугаев. — Расходился! Аль штаны впору сушить? Не пуляй на ветер патроны.
В окоп прыгнул Иванов.
— Давно бы так! — покосился Бугаев и тут же дал отрывистую меткую очередь. Затих и опять ожил пулемет. Бугаева поддержал Овчаренко. Но тут внезапно загрохотало со всех сторон. Мы оказались, как на острове. Откуда-то из-за нашей спины полетели снаряды. Справа и слева шипели и рвались не то гранаты, не то дальнобойные мины.
— Возьмите, старший лейтенант, — сунул мне автомат Иванов. — Я вот из карабина. Поодиночке их…
Сквозь вой и грохот я едва расслышал его. Брови сведены у переносицы, лицо землистое, губы запеклись.
— Вы молодчина, Иванов. Надо! — Подмигнул я и вскинул автомат на бруствер. Немцы подошли к противоположному илистому берегу. Достать их можно теперь и из автомата. Но пробить толщу — они накатывались волнами — невозможно. Бугаев методично расстреливал их, в стороне то же делал Овчаренко. Петя разрядил последний диск, растерянно оглянулся, беспомощный и жалкий, не зная, что же ему делать дальше. А немцы, как грибы, вырастали из земли, им, казалось, не было счета. Выручала нас лежащая впереди заводь. Они вязли в ее болотистом берегу, брели по пояс в воде и, скошенные свинцовым градом, спотыкались, падали, образуя помост для бегущих вслед. Кремлев крикнул мне в самое ухо:
— Я смотаюсь в Васютники за патронами!
— Не сметь! Помогайте Бугаеву. Гранаты в ход…
Петю как будто подожгло, он рванулся к ящику с гранатами. Веселые, задорные искорки блеснули в его голубовато-серых глазах. Ощущение своей ненужности как рукой сняло. Он верил в жизнь и не прятал головы. Ящик с гранатами быстро пустел. «Сволочи, не пройдете!» — кричал Петя. Не останови я его своевременно, мы остались бы без единой гранаты. Но он сделал свое дело. Группа немцев, скрытая от обстрела из пулеметов, уже карабкалась по отвесному берегу; выбросившись почти во весь рост из окопа, Петя накрыл ее гранатами.
Вода в речушке едва проглядывалась между трупами и шевелящимися телами раненых. Они образовали собой настил, по которому легко было пробраться на другую сторону. Немцы точно обезумели, бежали, карабкались, ползли вперед.
К нам в окопы прыгнули разведчики. Их помощь была кстати. Немцы откатились. Впереди чернело мертвое поле, полное таинственной тишины, вздохов и чьих-то стонов. Мы не заметили, как подкралась глубокая ночь. С ночью пришла и пьяная усталость. Я оглядел своих солдат, приказал всем укрыться в блиндаж, в окопах оставил разведчиков. Было слышно, как в ночи кто-то, ползая перед нашими траншеями по полю, глухо звал:
— Ганс… Ганс… Ганс…
Голос то утихал, то приближался.
— Ганс… Ганс…
Один из разведчиков хотел дать очередь из пулемета.
— Не сметь! — почти крикнул я. — Может, это ищут сына.
И опять тишина. И изредка рвал ее чужой голос:
— Ганс… Ганс…
В блиндаже я застал своих людей без света. Они разбрелись по углам, насупились в раздумье.
— Маскировка, товарищ старший лейтенант, — после долгой паузы неохотно пошутил Бугаев. И серьезно добавил: — Да и грязные и липкие. В глаза не особо хочется друг другу глядеть. Положили сегодня люду…
— Не то говорите, Бугаев, — улавливая его тоску, сказал я. — Не мы пришли к ним…
— Тогда чего же вы не разрешили пульнуть в Ганса?
— А вы бы разрешили?
— Я бы?.. Я бы тоже не разрешил.
Зажгли свет. Блиндаж показался медвежьей берлогой. Низкий, тесный, и люди в нем — пещерные жители, грязные и черные. Я благодарил судьбу, что все уцелели; правда, ни один не остался невредимым. Даже предусмотрительный Бугаев, укрытый во время боя в земле лучше всех, и тот был оглушен; полголовы осмалило ему бог весть чем.
— Всем привести себя в порядок, мыться и ужинать! — приказал я.
— Товарищ старший лейтенант, не до ужина!
— Неизвестно, чем встретит нас утро. Но мы должны встретить его умытыми, — ответил я. — Ну-ка, Петя, давай-ка полей.
Я сбросил гимнастерку, вышел на улицу.
Петя, морщась и едва передвигая уставшие ноги, но с веселым видом вынес ведро ледяной воды, я подставил голую спину. Охая и плескаясь, кричал: «Ну-ка, кто там на очереди?» Подошли Бугаев, Овчаренко.
Вытираясь полотенцем, вдруг заметил, что Пете не по себе. Оторванный палец давал себя знать: парня знобило, и видно было, что он глушил в себе нестерпимую боль. Грязная повязка на руке набухла от крови. Я преднамеренно не замечал этого, но едва все привели себя в более или менее человеческий вид, почистились и помылись, сказал:
— Теперь всем ужинать. А вам, Кремлев, пора и честь знать — собираться к землячке… В медсанбат!
Петя притворился, что не понял меня, удивленно вскинул брови.
— Ты, парень, не хитри, — осадил его Бугаев. — Захотел, чтобы тебе руку отхватили? Смотри вон, как ее разнесло.
— Иванов уже позвонил, — ответил Петя. — Сейчас придут санитары. Помоют и забинтуют.
Только здесь я вспомнил об Иванове. Он один не выполнил моего распоряжения — мыться. Сидел сгорбленный, с надорванным воротником, не собирался к ужину. Смалил цигарку за цигаркой, глядел исподлобья.
— А вас, Иванов, мой приказ не касается? — спросил я.
— Этому бирюку не приказ, а оглоблю надо, чтоб он очухался, — сказал Бугаев. — Чуть зайца не дал, кабы не вы. Хотел в спину ему садануть, да подумал — леший с ним!
Черные задубелые пальцы Иванова жег докуренный до основания измусоленный окурок цигарки. На оголенной жилистой шее бился четко пульс. Чувствовалось Иванов полезет на рожон. Рука сжала в ладони дымящийся окурок и бросила под каблук ботинка.
— Петя, принесите ему мою новую гимнастерку. Пусть сменит эту рвань, — сказал я Кремлеву.
— Не задабривайте, старший лейтенант, не купите! Мне ваш приказ — не указ: может, я хочу, чтоб меня вот этаким неумытым клюкнуло.
Вокруг собрались бойцы.
— Идите умойтесь, приведите себя в порядок и потом объяснимся, — повторил я.
— Я свое сказал и отчепитесь.
— Ну ты, курский соловей! — угрожающе подступил Бугаев. — Бузу не поднимай.
Иванов с кулаками бросился на Бугаева. Но я встал между ними.
— Злы на себя, а недовольны всем миром?!
— Это почему я злой на себя? — он весь ощетинился, люто повернул ко мне мокрое, потное лицо.
— Да потому, что повел себя, как последний трус! Оставил товарищей и кинулся спасать свою шкуру.
— Это вы верно сказали, — Иванов вдруг обмяк. — Как последний трус! Вот поэтому и хочу, чтоб клюкнуло. Лишь одно не так, товарищ старший лейтенант. Не шкуру спасал, а увидел тучу живых немцев; по танкам бил, там ружье было и как-никак танк — железо, а тут — люди. Вот бельмы и скаканули на лоб от страху.
— Ну тогда мы с вами квиты, — улыбнулся я.
Непонимающе Иванов передернул плечами.
— У меня, брат, тоже поджилки затряслись, — ответил я, — когда танки увидел. С живым немцем встречался не раз, а вот с танками редко приходилось. Ну и хотел дать деру, да благо вы, Иванов, подвернулись.
Страшно, говорите, но что поделаешь. Надо, товарищ старший лейтенант! И удержался…
Иванов часто замигал, пряча навернувшуюся слезу.
— Вы не разыгрываете, товарищ старший лейтенант?
— Хорошенькое дельце! Публично признать, что у тебя заяц в коленях сидел, и еще разыгрывать других.
— Ну, спасибо вам, товарищ старший лейтенант.
— Это вам, а не мне спасибо. Завтра за подбитые танки вас представлю к Герою.
— Товарищ старший лейтенант, товарищ старший лейтенант… Если правда, то, конечно, спасибо, но не стоит. Обидно будет — главное это вот, чтоб Бугаев и вы верили, что я не гад…
— Ну хорошо, идите мойтесь.
Спустя час мы ужинали. Ели через силу. Один Кремлев, которому промыли и перебинтовали руку, храбрился, уминал за обе щеки. Я недоумевал: откуда у человека такая прыть? Но когда поднялись из-за стола и Петя, улучив минуту, шепнул: «Разрешите на часик наведаться в медсанбат», все понял. На сердце было тепло, но сказал строго:
— Не только на час, а вообще необходимо отправить вас в госпиталь.
— Да я не о том, товарищ старший лейтенант. Я обещал землячке сегодня быть.
— Сегодня нельзя, Петя. Неровен час, гляди, опять немцы подымут тарарам.
— Да и я чую это. Ну хорошо, хоть не разрешили, — вздохнул он облегченно. — А то если бы сам — обещал и не сдержал слова, уже не по-гусарски!
— Эх ты, гусар! — рассмеялся я и хлопнул Петю по плечу.
Подумал об Арине. Как она там? И вдруг — распахнулась дверь блиндажа, и на пороге Арина. Я даже прикусил язык, настолько это было неожиданно. В сопровождении двух солдат связи, которые не могли отказать ей в просьбе, она пробралась к нам. Шла от порога ко мне навстречу.
— Я не могла. Не могла…
Солдаты сидели, раскрыв рты. Все это было как во сне. Ворвись в блиндаж фрицы, брось они под ноги бомбу — это было бы правдой. И к этому все, и я в том числе, были бы готовы. Появление же красивой, улыбающейся и плачущей от радости девушки было хитро сплетенной выдумкой, слишком жестокой насмешкой над всеми нами и в то же время ощутимым, понятным и близким счастьем. Арина обхватила мою шею руками и поцеловала в губы. Минуту не отрывалась от моей груди. И только здесь с облегчением и я и все находившиеся в блиндаже поняли, что все это правда, все — невыдуманная жизнь.
— Вы замечательные герои. О вас все только и говорят, — поглядев с восхищением на меня и повернувшись к солдатам, сказала Арина. — А у нас все наоборот. Я, Варвара Александровна, Надя, наш начальник — все мы забрались в погреб. Мы слышали, как страшно гудела земля.
И опять Арина заглянула в мои глаза. Бугаев джентльменски предложил солдатам, сопровождавшим Арину, свой кисет, а гостье — кружку чая. Арина качнула головой.
— Мне пора. Я на одну минуту.
— Ты ни разу не была у нас. Загляни, где я обосновался. Петя, зажгите лампу. — И я проводил Арину к себе в землянку.
— Неужели ты ни разу не вспомнил обо мне?
— Я все время жил тобою.
— Я загадала, когда мы спрятались от обстрела. Если первым кто-нибудь назовет твое имя, значит, ты выстоишь. В душе я молилась богу. В первый раз! И неожиданно Варвара Александровна говорит: «Саша-то впереди всех…» Я вскочила, опрокинула кринки, запрыгала от радости. Мне уже ничего не было страшно. Они подумали, что у меня не все дома. — И вдруг она спросила. — Ты веришь, что есть бог?
— А как думаешь ты?
Арина неопределенно пожала плечами.
Паскаль говорил — сомневаться в боге, значит, верить в него.
— Ты суеверный?
— Не знаю.
— Значит, тоже сомневаешься, значит, веришь?
— Да, я верю в бога, — сказал я. — Он у меня слепой, грубый, безжалостный. Имя этому богу — жизнь. И мы, новые, советские люди, пришли в этот мир затем, чтобы преобразить его — сделать всевидящим, нежным, добросердечным. И я сегодня в окопах дрался за это.
Арина пальцами прикрыла мне рот.
— Когда ты сейчас это говоришь, ты от меня далеко. А я не хочу. — Она поцеловала меня и озорно сказала: — Нехороший, скверный, гадкий, ты дрался за своего бога, а не за меня. Даже ни разу не вспомнил, что есть я. Тебя твой бог опьянил. Да, да! А вот Соснов, пусть он тебе не нравится и я тоже не люблю его, но он дважды присылал за мною солдат, чтобы увести в лес, где не так опасно. Но в Васютниках я знала, что ближе к тебе, и оба раза отказалась уехать. Он чуткий, внимательный, воспитанный…
— Если бы я счел нужным, — холодно прервал я, — я бы не присылал за тобою солдат, а пришел сам. В этом разница между мною и воспитанным Сосновым.
— Неужели ты ревнуешь? Это низкое, гадкое чувство! Ты должен быть выше. Мне приятна, конечно, что это тебя злит. Но все равно ты должен быть выше. Ты единственный, кто должен быть лучше всех.
Я не понял, шутит или всерьез говорит Арина, и спросил:
— Я соскучился по Наде. Как она себя чувствует?
Арина отстранилась, широко раскрыв глаза. Имя Нади привело ее в полное смятение. Она могла ждать всего, только не слова «соскучился».
— Я имени ее не хочу слышать, — уголок рта Арины мелко и часто вздрагивал. — Она сказала, что окончательно убедилась сегодня, что Метелин настоящий мужчина и что обязательно тебя отобьет у меня, чего бы ей это ни стоило.
— Вот это уже мило, — рассмеялся я. Но Арина и не думала поддержать мой смех. — Передай ей, — продолжал я, — что я велел ей кланяться.
— Вы оба гадкие. Это правда!
— Неужели ты ревнуешь? — спросил я. — Это же мерзкое, низкое чувство! Ты должна быть выше. Мне приятно, конечно, что это тебя злит. Но все равно ты должна быть выше. Ты единственная, кто должен быть лучше всех.
Арина со стоном и слезами счастья бросилась ко мне, застучала кулаками по моей груди. Затем, обхватив шею и приблизив почти вплотную к моему лицу свое, чуть слышно сказала:
— Я тебя очень, очень люблю. Ты весь мой.
…А утром все началось сначала. Проводив почти до дома Арину, я на обратном пути заглянул в окопы к соседям. У них уже все было готово для атаки. Подбросили людей и в мои окопы. Собрали в тылах дивизии всех, кто мог держать оружие; попал кое-кто и из пригревшихся у Звягинцева — писари, снабженцы. Командовал всеми тоже какой-то интендантской службы капитан, располневший, миролюбивый, но патриотически настроенный человек. Бугаев чертыхался, завидев у себя под боком это обозное войско, как окрестил он его. Но одно было отлично: боеприпасов и оружия они приволокли с собою на целый полк. Предполагалась атака, но немцы сорвали ее, накрыв нас на рассвете артиллерийским огнем, и к десяти часам сами повсеместно перешли в наступление. У Погорелого Городища их движение застопорилось, и они стремились теперь закрепить отвоеванные рубежи и обезопасить свой тыл и правый фланг, то есть выравнять в известной мере линию своего фронта. Васютники немцы никогда не считали трудным или неприступным для себя препятствием; их разведка доносила, что здесь расположены две-три тыловые части, не представляющие серьезной силы. И если Васютники не были заняты, то только потому, что немцы не видели в этом особой надобности: лежали они в стороне от шоссейных и железных дорог, в полузаболоченном месте. Но когда немецкие части пришли в соприкосновение с нашими частями, расположенными в Васютниках и в их районе, то с первых же шагов убедились, что это орешек, который не раскусить, поэтому бросили сюда крупные силы с тем, чтобы отсечь его, и увязли. Тем временем наши войска у Городища собрались в ударный кулак и дали немцу такую зуботычину, от которой он в мгновение ока отрезвел и думать забыл о наступлении. Полк Санина, который немцы окончательно считали у себя в мешке, чуть не стал для них ножницами, которые едва-едва не отхватили у основания их ворвавшийся в нашу оборону клин. Спешно они стали откатываться восвояси на всех участках.
Трехдневные бои, собственно, ничего не изменили, если не считать, что Петю и Бугаева я отправил в госпиталь. Первому оторвало руку, второму вспороло осколком живот. И еще новость: полевую почту из Васютников — опасное место! — перевели в лес, поближе к штабу дивизии. Об этом побеспокоился вездесущий капитан Соснов.
Утром, едва встав с топчана, после мертвецки крепкого сна, я заметил, что землянка убрана, сложены в порядке книги, везде наведена чистота, даже мои сапоги начищены, к гимнастерке подшит свежий подворотничок. Вчера я проводил Кремлева и Бугаева в госпиталь, вернулся окончательно физически и душевно разбитым. Усталость валила с ног. К этому еще примешалось ощущение пустоты в землянке: остро не хватало Пети Кремлева. Но он еще выживет, пронесет непосредственность характера через годы; Бугаев — не знаю… Проведенные в тревоге дни и ночи спал урывками, сегодня же сон — тяжелый и крепкий, и некоторое время после сна не могу прийти в себя: все, что было позади, за гранью сегодняшнего дня, казалось грезами какого-то изнурительного кошмара. Вид землянки вернул к действительности. Кто бы это мог?
У печки я заметил что-то осторожно мудрившего Иванова. Увидев, что я проснулся, он будто споткнулся:
— Вам воды холодной или подогреть?
— А вы какой моетесь?
— Из родника.
— Ну и мне из родника.
Иванов не понял, что сказал я преднамеренно. Мне вдруг стал люб этот угловатый замкнутый человек. Не обязанность и уважение заставили его выскоблить мое жилье, а что-то большее. Принеся ведро воды, он налил в таз и поставил его на табурет.
— Нет, брат, давайте на улицу, — сказал я.
— Холодновато.
— Ничего.
Когда я умылся, он спросил:
— А завтракать что вы будете?
— А вы что ели?
— Овсяную кашу.
— Тогда и мне овсяную.
— Я тут вам, — робко возразил он, — достал тушенку, чай согрел.
— Овсяную кашу, — повторил. — Я, брат, теперь во всем буду вам подражать. Гляди, и у меня появится такое железо в груди, как у вас. Ведь вы, фактически, вели поединок с танками! И ни один мускул не дрогнул. Будь я девушкой, я бы вас из десяти тысяч выбрал одного.
— Бугаева жалко, товарищ старший лейтенант.
— А Петю?
— Петя выживет.
— Ну, а с Бугаевым после войны мы обязательно отпразднуем свадьбу его дочери. Надо верить.
— Тогда спасибо, человек он правильный, — Иванов помялся. — А насчет десяти тысяч, это уж буквально ваша полная ошибка. Мужики и в гражданке мне часто так говорили. Но как только до женщин дело доходило, они нос в сторону воротят. Видно, у меня пот для них неподходящий. Так, видать, и проживу бобылем.
— Это уже действительно ваша полная ошибка, — возразил я.
— Лучше скажите мне — можно вместо Кремлева у вас связным быть? Петя наказывал, да и Бугаев просил беречь вас.
— Дело ваше, Иванов. Сделаете честь.
Спустя час после завтрака и беседы с бойцами я сидел у связисток. Девушки осаждали наш телефон, поздравляли: мы первыми приняли танковый удар и выглядели в их глазах героями. Меня они встретили буйным славословием. Одна Клава поздоровалась недружелюбно, неохотно пригласила сесть, на девушек с нарочитой грубоватостью прикрикнула:
— Ну, раскудахтались!
Связистки приводили в порядок фактически полностью свернутый к эвакуации коммутатор. В землянке баррикады.
— Что, приготовились драпать? — подбросил я ежа. Клава вспыхнула, но смолчала: она не могла забыть поступок Иванова, была зла на всех вносовцев. Мое появление выбило ее из колеи. Она смущалась, не знала, как правильно вести себя, кипела и злилась на своих подруг. Но это позволило мне лучше разглядеть ее. Я сразу понял, почему она единственная звезда на небосклоне Иванова. Она принадлежала к тем людям, которые не располагают с первого взгляда, кажутся безобразно некрасивыми. Вздернутый нос, веснушчатое, скуластое лицо и длинные руки. Надо обладать большим сердцем, чтобы понять Клаву и раз и навсегда убедиться в ее редкостной красоте.
— Я к вам, Клава, — сказал я. — Есть важный разговор. Девушки, извините, — поклонился связисткам. — Вы, Клава, не сочтите за труд проводить меня немного.
Мы вышли из землянки…
В полдень я успел побывать в штабе и, возвратись к себе, застал Иванова преображенным и помолодевшим. Он встретил меня понимающей радушной улыбкой. На табурете, перед его топчаном, в жестяной кружке стояли два крохотных на тоненьких стебельках цветка, трудно придумать, откуда добытых.
— Подарок, — сказал он. — Какие нежные цветы.
— От нее?
— От кого же еще, товарищ старший лейтенант!
Несколько минут, как она покинула наше жилье.
Встречали ее всем постом, угощали чаем, все обратились в кавалеров. Она смеялась, польщенная и подобревшая от внимания, шутила со всеми, но цветы подарила одному — Иванову. И опять я подумал о Пете и Бугаеве. Они смогли бы это хорошо понять.
Вечером генерал Громов собрал офицеров, подвел итоги боев. Клуб был полон. Я сидел рядом с Калитиным: Громов расхаживал по сцене с указкой в руке перед большой картой, негромким твердым голосом говорил о расчетах немцев, их намерениях из малой атаки развить огромное наступление с конечной целью — вновь подойти к Москве. Громов указкой прошелся по карте, определяя верные пути и последствия, если бы у немцев дела сложились благоприятно. Погорелое Городище встало заслоном. Оно снесено войной с лица земли, но продолжало жить как важное стратегическое понятие. Сюда подходила железнодорожная ветка, отсюда питалась армия боеприпасами, отсюда вероятнее всего открывался доступ на большую порогу к Москве.
Громов — кряжист, крепко сбит, сед. В голосе, в жесте, во взгляде — во всем сквозила воля; уверенные движения, железная твердость в походке подчеркивали его внешнюю суровость. Но нам было знакомо и его доброе большое сердце. Человек, лишенный зависти, мстительности, готовый принять ответственность на себя при любых обстоятельствах и выручить других, он был в то же время до крайности строг. Его дивизия и прикомандированные к ней подразделения выстояли] Но вскоре я понял, что не ради этого сообщения генерал пригласил нас, не это электризует и возбуждает его настроение. Немцы терпели неудачи у Волги, они натолкнулись на гранитную глыбу и набьют себе там лбы; надо ждать скорых добрых перемен. Офицеры зашевелились. Громов повысил голос. Немцы не случайно начали действия на нашем участке — расстояние не играет роли, и если бы удалось развернуть удачно наступление, то наше сопротивление на Волге не означало каких-то ожидаемых перемен и оказалось бы несущественной частностью в тактике войны. Многие, и я также, исходили в оценке боя с позиции своего окопа, за накатом бруствера не видели огромного леса. Генерал этого не подчеркнул, но исподволь дал остро почувствовать; и когда он сказал, что все мы тоже защитники волжских твердынь, взорвалась буря аплодисментов. Я завидовал генералу, его умению обозреть поле войны с птичьего полета, отделить в нем общее от частного.
— Однако, — воскликнул Громов, — в войне нет второстепенного. Здесь все главное, как в часовом механизме. Хотя если подойти с позиции каждого командира в отдельности, особенно не искушенного в войне, то поле боя — своеобразное абстракционистское полотно, в котором не найти ни начала, ни конца, тем более — логики. Но логика есть. Есть начало и конец. Есть мужество, взлеты и спады, обнаженность нервов. Суметь все это увидеть и направить в одно русло — значит вырвать у врага победу.
Я оглянулся на Калитина. Он сосредоточен, подался вперед, время от времени делал в блокноте быстрые заметки. Генерал называл имена солдат и командиров, проявивших мужество в бою; в их числе среди первых стояли Бугаев и Иванов. «Мои», — шепнул я Калитину и чуть не заплакал, услышав, что они представлены к званию Героя; это частность, но она сделала меня счастливым. Самые жаркие бои выпали на 7 и 8 ноября. Тогда в сутолоке схваток о празднике думать было некогда, отзвуком тоски, что ты лишен права человеком сесть за стол, отдался он в груди. Теперь, когда бои остались позади, праздник встал гигантом. Ощутимым, реальным, живым. Был здесь, в подземелье, среди нас, радовал исходом битв, прославлением людей, отстаивающих право жизни.
— Вы хорошо, товарищи, встретили Великий Октябрь! — заключил генерал. — Поздравляю вас, друзья!
Последние слова потонули в буре выкриков и аплодисментов. Праздник пришел на нашу улицу, был среди нас.
Звягинцев подготовил большое представление. Получив головомойку от Громова за инертность он развил невероятную активность, и к ноябрю был готов концерт из трех отделений. Не оскудела армия талантами. В одной из частей оказался знаменитый баритон, певший в Большом театре; нашлись танцоры, певцы, музыканты, чтецы. Но в тот момент, когда Звягинцев решил сразить наповал всех своим умением из ничего создать великое и доказать генералу Громову, что не лыком шит, немцы вздумали перейти в наступление. Все полетело вверх тормашками. Теперь программу пришлось корректировать, кроить заново. Многие не вернулись с поля боя. Концерт Звягинцев начал с обращения:
— Прошу, товарищи, почтить минутой молчания память тех, кто мог доставить вам сегодня наслаждение и радость…
И зал замер. Затем после минуты тишины раздвинулся занавес. На сцене стояли обожженные ветром и огнем молодые и старые люди. Сомкнув плечо к плечу, они пели песню о Родине.
Родина! Колыбель моя. Не твое ли сердце бьется во мне? Не из твоей ли крови и плоти соткан весь я? Дела и помыслы твои — во мне; твоей любовью полнится моя грудь, весь без остатка я отдан твоим печалям и радостям. Еще на заре, когда природа только-только открывала мне таинства живущего мира, с первым словом — мама я уже усваивал твое имя, Родина. Лучами солнца, грозами, вьюгами и метелями, утренней нежностью весен, грустью багряной осени открывались мне твои неповторимые черты. Ты снилась мне ночами, я шел всю жизнь рука об руку с тобою, ты вела меня то к искрометным радостям, то поднимала на вершины, откуда я, как из подоблачной выси, затаив дыхание, смотрел на неоглядные дали, пьянея от счастья, что есть я, что есть люди, есть жизнь, что есть ты, неповторимая. Ты являлась мне то суровой и заботливой матерью — на твоем лице залегли глубокие морщины, во взгляде — строгость, в густых, гладко причесанных волосах белела седина; то приходила девушкой. Я немел от твоей красоты, зачарованный глядел в твои глубокие, по-весеннему чистые глаза, опушенные густыми ресницами, — и гнутые дугой брови твои, и белая шея, и губы, как спелая яркая вишня, — вся ты, изваянная из чистоты, света и солнца, щедро отдавала мне свое тепло, ласку, радость прекрасного; то вдруг ты являлась живой и веселой, нетерпеливой, смеющейся, легкомысленной ровесницей и тащила меня на танцы, увлекала в такой водоворот, что, казалось, ничего выше и лучше звона веселья и танцев не было и нет. Ночью в выласканном синью небе считали с тобою выкованные из золота звезды, уходили в далекие космические миры, подглядывали их жизнь, вели жаркие споры с людьми не нашего мира, но к утру всегда возвращались на землю. Туда, где царствуют радость гроз, метелей и вьюг, беспечность весен, страда лета, покой и вдохновенное раздумье осени.
Я люблю тебя, Родина! Неповторимая, изваянная из чистоты, света и солнца. Ты вывела меня в жизнь, дала мне разум, чтобы видеть; крепкие мышцы, чтобы выстоять; крылья и мужество, чтобы дерзать. Сегодня я уже не тот, что был вчера: время коснулось и меня своей неумолимой рукою, я стал суровее, жестче, взгляд мой с тревожной грустью нередко смотрит в мир, чаще я стал думать о самом себе, не так расточительно щедр стал душою — многое переменилось во мне. Но я остался неизменным в одном — я не могу быть без тебя. Ты слала меня в стужу, в голод и холод, даже — на смерть, и я шел и благодаря тебе всегда выживал; где бы я ни был — далеко ли, близко ли от тебя, — ты всегда была в сердце, и это давало мне силы. Однажды, оторванный от тебя, на чужой земле я встретил человека; у него бегали глаза, он их прятал от меня, и мне показалось, что час назад он совершил убийство, и мне стало мерзко его присутствие. Но он что-то хотел от меня. Он обратился ко мне с русской речью, и я обрадовался — встретил земляка. Но вскоре понял, что ошибся: он изменил тебе, надеялся уйти от тебя и забыть, но это оказалось так же невозможно, как невозможно уйти от самого себя, и он презрел себя; даже в достатке пищи, денег, одежды — всего, что необходимо, чтобы жить, его сердце ежеминутно умирало — вдали от тебя и без тебя он уже не мог быть человеком: он был ниже зверя, хуже врага, презреннее убийцы, и я отвернулся.
Родина! Колыбель моя! Не твое ли сердце бьется во мне? Не из твоей ли крови и плоти соткан весь я? Сегодня в мире — стужа, но ты так хочешь, и я выстою, выдержу, вынесу.
И когда песня смолкла, на смену ей пришли танцы, затем появился чтец. Саженным шагом он пересек сцену и бросил громовым голосом в потрясенную аудиторию стихи Маяковского. Стоял высокий, широкоплечий солдат — Гражданин Советского Союза. Не залу — всему миру бросал он с гордостью — Завидуйте!..
И вдруг (я даже не поверил) на сцену вышла Арина (то-то Звягинцев сегодня бросал многозначительные намеки!). Я не представлял, что будет она на сцене делать — танцевать, читать, петь? Я про нее ничего не знаю, — с угрызением совести отметил я и чувствовал, что волнуюсь за нее; кровь бросилась в лицо. Я боялся посредственности, которая всегда самонадеянна, и, не подозревая об этом, отдает себя на посрамление; я краснел, ненавидел себя, что не предостерег ее. За какие-то секунды пережил больше, чем другие переживают за год. Но едва Арина запела, я поймал себя на том, что она для меня — открытие. Слушаю с упоением. Сидящий рядом Калитин подтолкнул меня и шепнул: «Нет, брат, вы не стоите ее». Голос у Арины красивый и большой. Я уже не видел ее, я слушал. И только спустя некоторое время, когда аплодисменты вновь и вновь вызывали ее, все понял, понял обаяние, секрет ее успеха. Она находилась во власти знаменитой Максаковой, копировала ее жесты, пела ее песни, даже подчинила ей свой голос: нет, это не была посредственность! И если бы была полная самостоятельность, то Арина могла спорить со своей неповторимой учительницей.
— Вы что-нибудь понимаете? — спросил я у Калитина.
— Я радуюсь и ничего не хочу понимать.
— Какой же вы писатель, если не хотите понимать?
Какой же вы ценитель искусства, если все хотите понимать? — в тон мне ответил он, и мы оба рассмеялись.
После праздничного вечера целая гурьба офицеров провожала Арину и Надю. Надя держалась около меня, явно выказывая мне свое расположение. Она завидовала успеху Арины и хотела чем-нибудь досадить ей. Калитин, видя, как Надя виснет у меня на руке, недоуменно пожимал плечами. Втайне он уже любил эту девушку.
— Не слишком ли много вы сегодня дарите тепла одному человеку? — спросил он у нее.
— Мое тепло другого спалило бы, Метелину же этого слишком мало. Вы плохо знаете своего друга, — отшутилась она.
Арина метнула на меня острый как молния взгляд. Свое окружение — липнущих словно мухи к меду офицеров — она не слушала. Оно буйно шумело, весело и раздольно смеялось, не скупилось на комплименты. Она шла, точно окаменев. У землянки, когда стали прощаться, улучив минуту, срывающимся голосом сказала мне:
— Я тебя совсем не люблю. А ее, — покосилась на Надю. — Ее… ненавижу! — И убежала в землянку.
Проснулся с тревожным и смутным чувством. Не могу объяснить себе, что бы это значило? Грезилось, что я что-то утратил, что-то внезапно оборвалось в жизни. Подступала к горлу щемящая тоска. Вчера я тоже был хорош хлюст! Уподобился Наде, хотел досадить Арине за ее тайну: Звягинцеву она сочла нужным открыться, даже петь со сцены, мне же — об этом ни слова. Но сегодня я раскаивался и жалел, что попался на удочку мелкой мстительности; жалкий и пустой человек!
Зазвонил телефон. Из штаба армии знакомый офицер, захлебываясь от радости, сообщил: «Едешь на учебу в военную академию. Магарыч с тебя!»
Я чуть не выронил трубку. Худшее, что могло случиться в моей судьбе, — это на всю жизнь сделаться солдатом.
— Не шути так зло!
— Жди приказа и собирай манатки!
Это было как обухом по голове. Пусть теперь мне скажут, что предчувствие — чепуха! Три дня кряду ныло в душе, сегодня — жгло. Одним росчерком чьего-то пера хоронились мои предположения, мечты, надежды. Облачить себя, не военного по нутру человека, в мундир — противоестественно. Пока это необходимо, мундир хорошо подогнан и отлично лежит на моих плечах, но сделай я из этого профессию — я окажусь преступником перед самим собою. И другое — уйти от Арины, утратить ее — значило убить в себе жизнь. Из глубины души поднялась тревога и боль. Если вчера я мог позволить шутку, разрешить Наде кокетничать со мной, то сегодня это было гадким, я был мерзок самому себе. Еще не до конца я верил, что с посылкой на учебу решено окончательно, хотел надеяться на случайность. Но в армии приказ есть приказ. И я бросился к Арине.
Полевая почта разместилась в большой землянке, недалеко от штаба дивизии. Я пришел в самый разгар выдачи почтальонам корреспонденции. Арина, заметив меня, низко склонила голову над столом, всем видом говоря, что не хочет знать меня.
— Не надо, родная. Дело слишком серьезное.
Она подняла на меня широко раскрытые глаза.
— Вчера я думал, что могу шутить и даже обойтись без тебя, нынче — все это ложь. Потерять тебя, уйти от тебя, хотя бы на время, — это невозможно. Ты мне больше, чем друг, больше, чем любовь, ты — жизнь! Это правда, Арина!
— Я дурно провела ночь. Я знала — должно что-то случиться. Молчи, ничего не говори. Я не хотела тебя видеть. А сейчас боюсь, что так и случится, что я тебя никогда не буду видеть. Тебя переводят в другую часть? Я уеду с тобой.
— Посылают в академию, приказано собираться.
Арина отодвинула стопку писем. Стала зачем-то поправлять волосы, опять переложила письма, словно они мешали ей, затем торопливо поднялась со стула, ушла за перегородку — в маленький тесный закоулок, служивший Арине и Наде местом для отдыха и сна. Я пошел вслед.
— Александр, — сказала она, — не могу. Зайди позже. Или лучше жди меня вечером у Варвары Александровны. Жди!
Я покинул почту. Обеспокоенное лицо Арины продолжало стоять перед глазами. Воздух дышал близостью зимы. Летели редкие белые мухи. Серая земля прихвачена морозом. В колесных вмятинах дороги хрупкий ледок. «Я и Арина вчера были чужими, — думал я. — Сегодня — роднее и ближе нет человека. Неправда, что встретил ее недавно. Была другая жизнь и были мы, тысячелетия связывают нас, иначе не смогли бы за мгновение стать роднее и ближе, чем брат, сестра и даже мать». Воздух густел. Белым мухам стало тесно. Я прибавил шагу. Все притихло и присмирело. Зябко прятали под снегом броскую наготу красавицы ели. Дороги устилали ухабы и выбоины; мир застыл в непривычном, белом покое.
На попутной машине добрался до штаба армии. Здесь уже все было решено. Сочли без меня, что я рожден быть военным. Доказывать противное кому бы то ни было — труд бесполезный. Все поздравляют, радуются за меня, даже мой непосредственный начальник с таким усердием тряс руку, что едва не оторвал ее. Он, как и остальные, уверен, что оказал мне добрую услугу.
— Теперь наверняка останешься жив, Метелин, — просто сказал полковник. — В рубашке родился. Я, правда, доказывал, что ты нужен Родине здесь.
— Я предпочитаю быть здесь, — сказал я.
На широкий умный лоб полковника набежали морщины.
— Я понимаю вас, Метелин, вернее ваше доброе побуждение, — перешел он на «вы». — Но долг нас, солдат, обязывает беспрекословно исполнять любое порученное нам дело, независимо от наших желаний. Армии нужны всесторонне грамотные, политически подкованные офицеры. Дураки войну не выиграют. Сегодня брюхом не возьмешь. Поэтому готовьтесь, милок, в дорогу. Приказ будет подписан, видимо, завтра. Родине вы нужны там.
— Вчера, товарищ полковник, — возразил я, — как вы сами об этом сказали, вы утверждали, что Родине я нужен здесь. Вчера вы были больше правы. И позвольте мне…
— Плохо, Метелин, когда о человеке не говорят и не спорят; значит, он — ни два, ни полтора, сыромятина, — прервал полковник. — Хорошо, что вы нужны. А где? Это уж не суть важно. Идите, — отпустил он меня.
Но я продолжал стоять на месте.
— Разрешите еще два слова? — спросил я. — Вам известно, товарищ полковник, что я был тяжело ранен?! И целесообразно ли готовить кадрового офицера из человека, которого рано или поздно спишут в запас? Я считаю, что сегодня должен находиться там, где больше всего смогу принести пользы. Это очень важно для меня, важно, как сама жизнь. И я не могу не разделить ваших слов: оказаться ненужным — это не только тяжело…
Полковник смерил меня пристальным взглядом.
— По виду вы орел.
— Я чувствую себя настолько превосходно, чтобы честно выполнять то, что мне сегодня поручено, но не больше.
— Я не думаю, что вы паясничаете, старший лейтенант.
— Я хочу быть нужным, товарищ полковник. Это искренне. Когда из штрафной роты я попал в госпиталь и когда после утраченной веры понял, что еще буду жить, я дал клятву — быть всегда нужным людям, избрать в жизни роль, которую смогу лучшим образом исполнить. И прошу понять верно, академия — большое счастье, но оно не для меня.
— Вы прирожденный офицер.
— Когда надо, им станет любой советский человек.
— Вы свободны, старший лейтенант, — сказал полковник. — Честно, я плохо знал вас. Я сделаю все, что от меня зависит. Кстати, все началось с письма генерала Громова. Он блестяще характеризует вас и рекомендует послать на учебу. Мы, твое непосредственное начальство из ПВО, выглядели даже неловко, были посрамлены. И завертелась катушка. Сейчас вряд ли можно что изменить, но если вы настаиваете, я доложу командующему.
— Разрешите идти?
— Идите.
Я шел и думал о генерале Громове. Этого командира я любил, хотел, чтобы весь генералитет походил на него. Но адъютант у генерала нечистоплотен. Слишком далеко я стоял от Громова, он не мог так помнить меня и знать, чтобы дать блестящий отзыв обо мне. Это дело рук Соснова. Убить меня благодатью. На это способен не каждый.
К вечеру погода разыгралась. До наступления ночи я спешил добраться домой. Молочная заметь валила с ног, с трудом давался каждый метр дороги. Из головы не выходил Соснов. Поставив себе целью любыми средствами убрать меня со своего пути, он не побрезговал даже тем, чтобы сфабриковать рекомендацию и подсунуть на подпись генералу. Но попробуй обвинить его в злом умысле, окажешься в дураках.
С трудом разглядел на часах стрелки. Было десять. У Варвары Александровны ждала Арина. А ходу еще часа полтора. Подвывал и кружил ветер. «Если дождется, то любит», — загадал я. При этой мысли на душе посветлело. Из-за нее стоит идти на край света. «Если любит, значит дождется», — повторил я. Дорога все труднее, упрямее ветер. И вдруг меня настиг чей-то «виллис». Поднимаю руку, ору. Из дверцы улыбается Калитин, сам за рулем.
— Товарищ подполковник?
— Подсаживайтесь.
— Какое счастье! Думал, пропаду не за понюшку табаку. — Я уселся рядом на сиденье.
— Метет. Люблю зиму, — Калитин тронул машину. Вот такую анархическую, необузданную; нет в ней начала и конца, сплошной первобытный хаос. И все-таки — железный порядок.
— А вы шофер! — воскликнул я.
— Когда отступали, научился. Приспичило. Сел за руль и дал деру.
— Я тоже пробовал эту благодатную для скорости профессию в те дни.
— Ну и как?
— Развернуться не дали. Только сел за руль, откуда-то на голову свалился майор и конфисковал автомобиль для военных нужд.
— Ну и как?
— Отступал пешком и дрался. А за рулем, поди, улепетывал бы без оглядки.
— У меня бензину хватило только до Смоленска, — Калитин откинулся на спинку и покосился на меня. — Но вам теперь шоферское дело ни к чему. Дело ваше в шляпе. Академия. А мне, гляди, еще пригодится.
— Вы уже знаете? И представьте, мой благодетель — Соснов!
— Ученье — свет. И вы не валяйте дурака, готовьте магарыч. Небось, дух перехватывает от радости, а куражитесь? Жезл маршала у вас уже не в вещевом мешке, а в руках. Отказываться от этого, извините, надо быть дураком.
— Жизнь мы всегда начинаем дураками, — сказал я. — Но чем дольше пребываем в этом состоянии, тем лучше для нас. Едва только начнется испытание величием, как человек утрачивает свое первое имя, превращается в стяжателя, завистника, эгоиста; мытарит себя, портит кровь окружающим, мнит, что он один делает нужное, полезное и умное. Более того — он самого высокого мнения о себе. И если жизнь его сбрасывает со счетов, то по миру идет уже не человек, а в лучшем случае расстроенная балалайка, в худшем — злопыхатель. Поэтому, чтобы меньше было расстроенных балалаек и злопыхателей, надо в государственном масштабе начинать не с соблазна жезлом маршала, а с воспитания в человеке человека. Тогда малое и большое, великое и незаметное будет иметь одинаковую цену, если оно полезно людям.
Калитин с любопытством всем туловищем повернулся ко мне, что-то не рассчитал, и машину тряхнуло на выбоине, мы едва не вывалились. Я чертыхнулся, стукнувшись затылком о перекладину.
— Молите бога, что мы не в кювете, — пробурчал Калитин. И, помолчав, спросил: — Вы знаете, какую характеристику вам дала Надя? «Метелин весь не прочитан. Все, что о нем скажешь, хорошего или дурного, — будет неправда».
— Я вижу, товарищ подполковник, вы, как классика, начинаете цитировать ее. Вы серьезно интересуетесь Надей?
— В этом разве есть что-нибудь зазорное?
— Вы женаты?
— Увы, да!
— У вас есть дети?
— Жена уверяет, что я страдаю бесплодием. Я же склонен определенно приписать этот грех ей.
— Вы любите свою жену?
— Любил.
— Тогда ухаживайте за Надей. Она доставит много радости, еще больше горя и слез, что в конечном счете вы назовете гармонией, полнотой счастья.
— А если я не соглашусь?
— Надя из тех, кто любит держать мужчину под каблуком. И не унывайте — вам не избежать подкаблучной участи.
Калитин рассмеялся.
— Хулите женщину! Мы взвалили ей на плечи все и сами ушли на фронт. Однако ни тяготы, ни голод, ни утраты, ни горе — ничто ее не согнуло. А если бы нас, мужиков, поставить на их место?
— Я не уверен, — поддержал я, — что реки на всех континентах не повернули бы вспять и не начался бы новый потоп.
— Вот за эту силу я и люблю Надю. Она из тех, кто способен дать душе благо, при котором самая тусклая жизнишка будет залита светом. Я не прочь попасть под ее каблук, если она сильнее меня, мужчины.
— Я рад, товарищ подполковник, на вашем примере убедиться, что материалисты по убеждению всегда идеалисты. Но Надя стоит того, чтобы ее любить: она вся, как на блюдце, обнажена. И этой прелестной наготе стоит бить поклоны. Поэтому называйте вещи своими именами.
Калитин несколько секунд сосредоточенно о чем-то думал, переключил скорость автомобиля. Сильный поток света фар с трудом пробивал белую толщу метели, метр за метром вырывал у нее дорогу. У Калитина ровный нос, крупные губы и твердый овал подбородка; почти до бровей надвинута папаха, взгляд суровый. Но внутри в нем билась улыбка. Наверно, думал о Наде, не иначе; ему бы очень хотелось, чтобы она присутствовала при нашем разговоре, он горячо ощущал ее реакцию: она, как хороший фехтовальщикне осталась бы в долгу, обнажая шпагу. Но меня это уже больше не занимало. В конечном счете — каждому свое. Был поздний час, и Арина, разумеется, не дождалась! Эта мысль отдалась острой болью в груди. Почувствовал внезапно щемящую жажду встречи с нею. Арина была нужна, нужна больше, чем все, чем я жил до сегодняшнего дня, чем все мое будущее. Его свет или тень с этой минуты зависит только от нее одной. Каждая клетка во мне была пьяна чувством. Мое «я», как воплощение цельного, своенравного, было стерто; я твердил ее имя, был полон им, связывал с ним все свои поступки, действия, целесообразность своего назначения и жизни. Нахлынувший порыв опрокинул во мне мои представления о радости, я вдруг понял, что жил до этого пусто и серо.
Калитин что-то сказал мне, но я не расслышал. Да и не пытался понять, что ему нужно. Был захвачен другим и не хотел выходить из этого состояния. Наступили жгучие мгновения, когда я знал, что у меня есть Арина, и что я счастлив, и что пустота одиночества и серость моей жизни остались позади. И когда я расстался с Калитиным, то не шел, а бежал к дому Варвары Александровны, стучал, как одержимый, в закрытую дверь. Хозяйка встретила испуганно. Но Арину не застал.
— Ушла?!
Варвара Александровна поправила накинутый на плечи плед; по ее глазам, по торопливому жесту руки я понял, что Арины здесь и не было.
Я вышел.
Вздыбленный океан снега бушевал над землею. Бескрайняя темень ночи. Человек ничего не значил в этом океане. Да и вообще, когда и в чем он что-нибудь значит?..
Добрался до землянки, как ватная кукла. Иванов взял у меня шинель.
— У вас гости, — шепнул он мне.
— Кого еще принесло?
Кроме Звягинцева, быть некому. Его я не хотел видеть, вообще слышать чью-то речь, отвечать на чьи-то вопросы.
— Дайте сюда шинель, — сказал я Иванову. — Пойду в блиндаж к солдатам.
— У вас гости, товарищ старший лейтенант!
Я оглянулся. В проеме двери стояла Арина. Хрупкая и нежная, как белая ветка цветущей вишни. Вся в напряженном порыве. Тусклый свет лампы скрадывал очертания. Она была как в прозрачной пелене тумана. Каждый нерв моего существа дрожал. Я боялся только одного — расплакаться. За считанные минуты, пока я добирался от дома Варвары Александровны к своей землянке, прошла жизнь, грудь разрывали самые злые бури. Пережил я мучительную тоску страшного несчастья и внезапно, когда уже был не в состоянии владеть собою, все это оказалось ложью: она пришла.
Я бросился к ней и осыпал поцелуями ее руки, волосы, ее лицо, шею. Мне было безразлично присутствие Иванова. Пусть в землянку соберутся толпы. Это бы только радовало — пусть видят люди, что есть такое счастье. Я был уверен, что Арина пришла ко мне через тысячу лет…
Иванов тихо вышел.
Я вновь стал целовать Арину.
— Остановись же ты, наконец, — сказала она и, отбежав озорно, закружилась по землянке в вальсе. Легкая, по-мальчишески стройная и красивая. «Что я о ней знаю? — спросил я самого себя и ответил: — Ничего».
И сказал об этом вслух.
— А я про тебя знаю все. Знаю, что ты злой, мстительный, — Арина подошла вплотную ко мне, слегка запрокинув голову. — Я согласилась петь только для тебя. Вся измучилась под градом взглядов. Хотела доставить тебе неожиданную радость. Ты же отплатил мне за это болью. Разве это не характеризует тебя, как несносного злодея номер один?
— Каюсь, — сказал я, — только что мысленно представил тебя ангелом, теперь беру немедленно слова обратно. Ангелы не умеют делать одного — пилить.
Арина застучала кулаками по моей груди.
— Все равно я тебя очень, очень не люблю. Не люблю за то, что радуюсь, что есть ты, вот весь такой до самой последней капельки нехороший.
— Странное дело, — притворился я огорченным. — Постоянно только и слышу — нехороший. Я не смогу быть другим, чтобы не выставлять тебя как человека, который всегда неправ.
— И смеешь еще говорить, что меня любишь?
— Я другого никогда не смел. И в тот день, когда мы встретились впервые, и нынче, когда прошло много времени. Помнишь, как давно это было? Этого почти невозможно вспомнить. Я вот так же брал и наматывал на пальцы твои пахнущие рекой и васильками волосы, гладил ладонью твой лоб, заглядывал в недосягаемую глубину твоих черных золотистых глаз и слышал, что твои свежие, как утро, губы безмолвно шепчут любовь.
Я отвечал тебе, что в моей власти бросить к твоим ногам Млечный путь с его мириадами звезд, уберечь от стужи и метелей. И об одном тебя молил — никогда не уходи от меня.
— Я не уйду. Ты слышишь, я не уйду, — пальцы Арины трепетно сжали мне виски. Свое лицо она приблизила к моему. — Ты — это я. Я — это ты… — Она обвила шею рукою, прильнула к губам. — Я умру, если не будет тебя. — И, отступив на шаг, рывком расстегнула ворот гимнастерки, дыша часто и прерывисто. — Я счастлива, что есть эта сумеречная тишина, есть твой голос, твое сердце. Я нашла то, что искала, — свою жизнь!
Волосы Арины, растрепавшись, упали на плечи, оттеняя изгиб белой шеи; рукой она заслонила грудь, слегка подалась вперед, губы пересохли, спаленные нещадным жаром. Я видел ее маленькое трепетное белое ухо. И больше ничего не мог различить. Оно приковывало взгляд, влекло и радовало. Только сейчас я по-настоящему понял, понял не разумом, что все у нее красиво: и длинные тонкие пальцы, и ее голос, и ее, как акварелью выписанное, лицо, и покатые плечи, и ее мальчишеская статность, и сильные стройные ноги спортсменки.
— Тебе сейчас же, немедленно необходимо уйти! — сказал я.
— Я знаю. Помоги мне одеться.
Но мы оба не тронулись с места.
— Арина…
— Почему ты стоишь? чуть не плача она повернула лицо ко мне. — Сегодня я… только я… — Пальцами трепетно пробежала по моим щекам, прильнула ко мне всем своим гибким сильным телом, стала быстро и жадно целовать губы, глаза.
— Арина…
— А теперь дай мне шинель, — сказала она.
Я помог ей одеться. Оделся сам.
— Посидим перед дорогой.
— Если ты так хочешь. — Я пододвинул ей табуретку.
Глаза Арины придирчиво следят за мною. Чувствую себя неотесанным чурбаном. Все во мне плавит эта притихшая, забравшаяся вдруг в себя девочка. Не могу уже прочесть ни ее мыслей, ни понять ее глубоких, чистых глаз.
— Ну, пора. — Она поднялась. И резко пошла к двери. За перегородкой рывком повернулась ко мне, сказала:
— Нет. Я не уйду. Ты же не прогонишь меня?
— Если бы я это мог сделать…
— Я никуда от тебя не уйду. Никуда. Живу только сердцем.
Мы шли с Ариной лесом. Я увлекся и рассказал, как однажды в детстве открыл для себя непостижимую тайну. Может быть, я тогда это все выдумал, но оно осталось реальным и ощутимым, и я пронес это сквозь годы. Я любил свою бабушку. У нее были синие-синие глаза. Ей обязан первым своим словом, сильным ощущением мира, прозрениями и воспитанием в себе сердца. Это была простая, немного жестковатая крестьянка, поглощенная с утра до ночи хлопотами по хозяйству. На ее руках была большая семья, в которой мне отводилось первое место. Мне было тогда три года. При бабушке я мог все, что мне хотелось. Кстати, этому никто не противился, кроме отца. Веселая, разгульная натура его многим причиняла беспокойство. Ни от кого я не получал столько подзатыльников, как от него. Только бабушку он боялся, как заяц. Дед мой чуть ли не с колыбели корчевал пни и жег древесный уголь; многочисленные дядья мучили скудную землю, выращивали на ней хлеб, которого едва хватало до весны. Не окажись у нас бабушки, мы бы с сумой через плечо пошли по миру. Мать моя, как бабушка, богатая сердцем, не значила в доме, кроме рабочих рук, ничего. Мать любила отца, прощала ему крутой нрав, недоброе веселье. Меня бабушка совсем забрала у нее, упрекнув, что мать воспитает из меня человека безвольного и слабого. И я был рад, что все время был с бабушкой. Я дышал легко, уверенный, что не я жизни, а она должна быть подчинена мне. Самолюбия моего бабушка не щадила, если я вдруг в чем-нибудь оказывался размазней, слала в стужу и в страх, и я чувствовал, как во мне шлифуется кремень. Мне доставляло радость разглаживать морщинки у ее синих глаз. Но однажды дом, как взрывной волной, накренило, вошло к нам несчастье. Бандиты убили деда: он был первым председателем сельского Совета. Бабушка узнала, кто верховодил шайкой — это был Митька-красавец, наш сосед, сын кулака, — вынула она из-под пола обрез и на вечеринке при всех застрелила его. Все всполошились. Одна бабушка осталась спокойной. Возвратилась домой и угощала меня припрятанными ею конфетами ласково трепала мои кудри. «Расти, сынок, русским человеком. Никому не чеши пяток», — ровно говорила она. Синие глаза, лишь на мгновение сделались морозна суровыми, и опять их залило теплом, в зрачках искрились маленькие солнца.
Но однажды не стало бабушки. Я вернулся с реки, а ее уже не было. Положили ее на стол в большой комнате, и она мне казалась вылепленной из желтого воска. Дом опустел, старшие братья отца отделились, разъехались. Поселились в доме тишина, мамины хлопоты, разгульное своеволие отца. Даже когда у меня родилась сестра, ничего не прибавилось, продолжали жить пустота и сиротство. Однако к сестренке я привязался. Она училась произносить первые слова, и это было весело, как бусинки, сверкали ее синие-синие глаза. Мне пошел седьмой год, и я готовился в школу. И вот однажды поздно ночью отец вернулся хмельным, перевернул все в доме. Я загородил собою мать и сестру. Он сильным ударом отбросил меня. Тогда я схватил нож со стола и закричал не своим голосом, что, если он не оставит мать и сестру, я пробью себе сердце. Отец вышел. Вид мой ему сказал, что в отчаянии я сделаю все. А утром он прогнал меня из дому. Я проплакал целый день, забравшись на солому в овине. Не жалко было отца, его дома. Плакал потому, что не было бабушки: одна она могла защитить, и не только от отца. От чего-то большего… И вдруг мне стало казаться, что бабушка ушла от меня лишь на время, чтобы затем, вернуться. Почудилось ее присутствие. Я слышал ее дыхание, видел синие глаза. И внезапно, потрясенный, понял, что она уже вернулась ко мне через мою маленькую сестренку. Как не мог понять этого раньше?! У нее все бабушкино: и лицо, и синие-синие, как лазоревое небо, глаза и даже маленькая черная родинка на щеке.
— Может, это было воображение воспаленного детского ума, — сказал я Арине. — Не знаю, но неоспоримо одно, что те, кого мы любим, — живут. И это сознание пронесу через всю жизнь.
Арина шла задумчивая. Снега розовели в лучах заходящего солнца. Лес остался позади. Дорога вела к какой-то деревеньке с нахлобученными белыми шапками крыш. Навстречу попался санный обоз. Солдаты-ездовые не утерпели, чтобы не сострить по моему с Ариной адресу, предложили девушке прокатиться, наобещав золотые горы.
— Ты даже не представляешь, — сказала Арина, когда мы вновь оказались вдвоем, — как хорошо, что все вот это есть. — Она повела рукой вокруг. — И этот лес, и эта дорога, и ты, и эти люди, которым захотелось побалагурить, и та вон приунывшая деревенька. Все-все в жизни так складно. И я тоже очень люблю твою бабушку. И теперь, когда ты мне все это рассказал, я верю, что все это когда-то знала, ты мне только напомнил.
— Ну-ка вспомни, что будет у нас впереди? — спросил я шутя.
Арина задумалась, точно и в самом деле собиралась что-то припомнить.
— Я буду твоей женой, — сказала она. — Нет, другом. Тоже нет. Любовью. Но у меня девичья дырявая память. Вспомни ты.
Глаза Арины озорно блестели, я поцеловал ее и сказал:
— Будет главное — семейные сцены.
— Нет, правда. Ты хочешь, чтобы я была твоей женой?
— При одном условии.
— Чтобы избежать сцен?
— Чтобы ты сейчас, немедленно поцеловала меня.
— Ой, я говорю серьезно.
— Я тоже.
Арина отбежала в сторону, слепила снежок и запустила им в меня. Я увернулся от удара и настиг ее, повалил и натер ей щеки снегом и потребовал выполнить условие.
— Ни за что! — горячо дышала она мне в лицо, щуря в смехе глаза. — Ни за что! — И тут внезапно опрокинула меня, навалилась сверху и осыпала мое лицо поцелуями. — Так и знай, — выпалила она, — верх всегда будет мой, об этом я забыла вспомнить.
Я рассмеялся. Но долго верховодить над собою не дал, опрокинул ее, и мы катались по снегу, оглашая вечерние сумерки смехом и визгом.
— Бери свои слова обратно, — приказал я.
— Я сделаю все, что ты хочешь. Даже рожу тебе сына… — Арина откинулась распятьем на снег, неподвижно застыла, устремив невидящий взгляд на небо. — Когда ты первый раз пришел к нам, — продолжала она, — ты сразу запал мне в сердце. И когда вы с капитаном заспорили и я подумала, что ты повернешься и уйдешь, я чуть не заплакала от досады. И когда ты не ушел, остался у Варвары Александровны, я уже любила тебя за одно это. Я все время следила незаметно за тобою, больше смерти боялась выдать себя и хотела, чтобы у меня был от тебя сын. Даже ты тогда мне как что-то реальное, значимое и ощутимое был не нужен. Я хотела, чтобы у моего сына был соколиный разлет твоих бровей, такой же, как у тебя, широкий умный лоб, твои всевидящие жесткие и сердечные глаза, твои губы, все твое: и твое мужество, и твоя не только физическая сила. Думала об этом и радовалась. Я уже ревновала тебя ко всем, даже к Варваре Александровне. И в то же время, если бы можно было, я бы ат какого-то непонятного мне страха убежала далеко-далеко. Когда я заглянула к вам и ты сказал мне — посидите с нами, — а я ответила отказом и готова была убить себя: я хотела быть только с тобою, ты был мне нужен. И Когда ты потом ушел и несколько дней не давал о себе знать, я, кажется, успокоилась, но в сердце, в мыслях уже жил твой сын. Он и сейчас здесь, вот послушай, — Арина откинула полу полушубка, взяла моя руку и положила на грудь, к сердцу. — Слышишь, бьется? Это не мое. Это сердце твоего сына. И я знаю, пусть пройдут годы, пять, десять лет, но у меня будет сын, весь в тебя. Ты хочешь?.. Подними меня.
Почти невесомую я взял ее на руки и вышел на дорогу. Отряхнул ее и себя от снега.
— Поцелуй меня, — сказала она. — Теперь я вся твоя. Ты все про меня знаешь. Но главного — что я люблю тебя, я никогда тебе не открою. — Арина тихо рассмеялась и, легко выскользнув из-под моей руки, дурачась, подставила мне ножку, и я бултыхнулся с дороги в снег. Навалилась сверху. — Ага, кто заявлял, что не даст мне верховодить?
Я прижал ее губы к своим.
— Злодей!..
Была уже глубокая ночь, когда мы добрались до землянки Арины. Над лесом простерлось холодное, утыканное плоскими звездами небо. Мир, ежась от мороза, прятал нос в рукавицу. Где-то потрескивала ель. Стояла стылая звонкая, как стекло, тишина. Под ногами снег хрустел, ему сторожко отвечало эхо.
— Почему ты мне ничего не говоришь об академии? — спросила вдруг Арина.
— А разве это может что-нибудь изменить? Из штаба ничего не слышно, и я молчу.
— Говорят, у тебя не все чисто в биографии и поэтому отказали?
— И ты этому веришь?
— Я ничему не верю, Саша. И не хочу верить. Но ты был в штрафной роте. И ты мне об этом ничего не сказал.
— Оказывается, тебе про меня рассказывают больше, чем даже знаю я. Но сегодня я слишком счастлив, чтобы придавать этому хотя бы йоту значения. Завтра позвоню в штаб и тебе сообщу, не откладывая. Черт знает, может быть, мой какой-нибудь родственник по пьянке разбил витрину магазина, арестован, и у меня — черная биография.
— Ты шутишь, а мне тревожно. Палку в колеса поставить так легко.
— И выдернуть ее оттуда не так уж трудно.
— Будь ты хоть немного серьезнее.
— Не хочу.
— Я люблю тебя, — Арина поцеловала меня и, легко повернувшись, убежала к себе в землянку.
— Покойной ночи, — крикнул вдогонку я. Видел, как захлопнулась маленькая дверка. Два чувства теснились в груди — радость и горечь. Соснов остается верен себе. Некому больше с таким усердием штудировать мою биографию! «Отказали в академии. Не все чисто…» Ловко придумано! Какие нужны еще огромные жернова, чтобы перемолоть человеческую мерзость?! Перемолоть дотла, чтобы человеку осталось одно — его очищенный разум и энергия, направленная к возвышению человека. Я повернулся и побрел медленно к своему жилью. Арина проведет ночь без сна: не такая это натура, чтобы легко освободиться от навеянного страха, тревога за меня долго будет жечь ей грудь.
Позвонил Калитин и предложил отправиться с ним на передовую, ему необходимо собрать материал для газеты; я не возражал. Спустя полчаса он ввалился ко мне в землянку в полушубке, в валенках, папахе, в ватных брюках, да еще под шубой толстый шерстяной свитер и шарф вокруг шеи; пар от него валил, как из предбанника.
— Вы что, с экспедицией на полюс? Заверяю вас, Амундсен одет был полегче.
— Лютый мороз! Целый день проведем на воздухе; чтобы потом не плакаться, вот и напялил все это на себя. Пар костей не ломит. Вы завтракали? Советую и вам набить брюхо и потеплее укутать его.
Я оделся, однако, легко: ватные брюки, куртку, ушанку, вместо валенок — сапоги.
— Всё храбритесь. Наплачусь я с вами.
К передовой дорога вела перелесками, оврагом и голой степью. В первые минуты, оказавшись на воздухе, я пожалел, что не послушал Калитина. Мороз пробирал насквозь, и я, танцуя, ускорял шаг. Попутчик ухмылялся и не спешил.
— Не торопитесь, есть время, — издевался он.
Но вскоре после спорой ходьбы мы поменялись ролями. Я пообвык на морозе и чувствовал себя, как хорошо подкованная лошадь. Калитин — раскованная; пыхтел и маялся. Смеялся я.
— Потом весь изойду, — чертыхнулся он.
— Да расстегнитесь вы наконец!
— Не могу, милый друг, дал слово, — проговорился Калитин и уже откровенно добавил. — Говорил я Наде, что нож в сердце мне эти шубы, валенки, свитера. Но ответ один — ты мне нужен здоровым! Пар костей не ломит. Обещай! И я обещал.
— Поздравляю! У вас, оказывается, уже началась подкаблучная жизнь.
— Язвите, старший лейтенант? Но этого никто еще не избегал и не избежит. Есть только видимость нашей самостоятельности. Так и запомните. А кто тешит себя другим — тот либо глуп, либо страдает самообольщением, — Калитин достал носовой платок и вытер взмокший лоб. — Потеряю в весе непременно килограммов пять. И это приятно. Надя любит изящество. Женщине надо уметь доставить удовольствие.
В воздухе разлито безмолвие. Впереди за перекатом гнездилась извилистыми окопами и чуть приметными надолбами блиндажей и дзотов передовая. Зима и сюда принесла свой мертвенный покой. Ни одного выстрела, тихо; жиденькие дымки — признак, что здесь живут люди, — тянутся прямо из земли к бесцветному небу. Кусок дороги по голому полю простреливался. На нем пусто. Солдат, попавшийся навстречу, посоветовал нам обойти дорогу, объехать оврагом и выйти напрямик к блиндажам минометчиков.
Калитин поглядел на меня.
— Вы как?
— Я за дорогу. Солдат же прошел.
— Немец по нашему брату тут не бьет, — откликнулся тот. — А если заметит комсостав, то непременно пульнет. — И смерил взглядом боярскую фигуру Калитина.
— Это, значит, по мне?
Солдат пожал плечами, спросил разрешения идти и удалился. Мы не свернули в сторону. Некоторое время шли молча. Я рассказал Калитину, что дело мое с академией закрылось. Миновали опасный отрезок дороги, где мы были видны как на ладони. Но немцы не дали себе труда разрядить по нас миномет или снайперскую винтовку.
— Метелин, вы боитесь смерти? — неожиданно спросил Калитин.
— Разве я чем-нибудь себя выдал? Почему вы спрашиваете?
— Дальше можно было бы уже не спрашивать.
— Смерть, говорят, начало новой жизни, — сказал я. — Но эта новизна что-то никого не привлекает.
— Значит, боитесь?
— Это не то слово. В разное время — по-разному. Сегодня, например, когда я влюблен, весь полон любовью, все мои поступки, действия — вся жизнь подчинена ей и определяется ею, я поэтому не смею сказать: боюсь я смерти или нет, В том и другом случае это будет неверно. Я просто сильнее смерти, не допускаю мысли, что могу не жить.
— Завидую молодости! Это великолепно! Она все изложит, как ей будет угодно, объяснит, утвердит. И все будет правдой, — сказал Калитин. — Теперь я понимаю Горького. Он не написал бы свою «Девушку и смерть», окажись неподвластным этой великой силе. И я заразился сейчас вами настолько, что вот здесь, рядом со смертью, говорю о жизни и абсолютно верю, что она будет. Спросите меня, боюсь ли я смерти? — я только пожму плечами.
Невдалеке ударил в снег и глухо взорвался снаряд. Мы пригнулись. Прибавили шагу. Философия хороша, а безопасность — лучше. Свернули в сторону и попали на батарею к артиллеристам. Неожиданно здесь натолкнулись на генерала Громова со свитой штабных командиров. Генерал, побывав на командном пункте, осматривал передовую. Он взял себе за правило периодически бывать там, где тесно жить, где людям не определено вести счет времени. Громова всегда здесь ждали и боялись. Он проходил ураганом, выметал и выжигал все, что мешало удобно в этих условиях жить, воевать и находиться в относительной безопасности. К командирам, которые по халатности или недосмотру не убирали из-под ног все, обо что можно было споткнуться, он не знал пощады.
Мы как раз подоспели в такой именно момент. Громов разжаловал комбата. Батарея не была укрыта в землю, люди находились на прицеле противника, ящики со снарядами свалены в кучу.
— Еще не обжились. Две недели, как передислоцировались, товарищ генерал, — оправдывался командир-артиллерист, стоявший навытяжку. Лицо помятое, испитое.
— Пили целую ночь, сукин сын! Поглядите на себя, какое вы чучело гороховое.
— Передовая, товарищ генерал.
— Люди всегда остаются людьми! — Громов поглядел по сторонам и, заметив подтянутого, с чисто выбритым лицом старшину, подозвал его к себе. — Вы отсюда?
— Так точно, товарищ генерал.
— Примите батарею у своего командира. Справитесь?
— Постараюсь, товарищ генерал.
— Выполняйте. А его, — указал Громов штабному офицеру на артиллериста, — разжаловать и отправить в маршевую роту рядовым. Оформите дело, — приказал он Соснову.
— Слушаюсь.
И только тут Громов обратил внимание на нас.
— А, редактор, здравствуйте. — Он пожал руку Калитину и задержал вопросительный взгляд на мне. — А вы, товарищ старший лейтенант, какими судьбами к нам? У вас же поле деятельности — воздух. Или зимой самолеты не летают? Холодно?
— Летают, но меньше.
— Старший лейтенант со мною, — вступился Калитин. — Хотим опубликовать несколько писем-очерков с передовой. Вот Метелин будет писать.
— Ну что ж, писатели, тогда присоединяйтесь ко мне. Я сегодня решил побывать в хозяйстве штрафников. — И спросил Калитина: — О штрафниках можно писать?
Если разрешите, товарищ генерал.
— А вы как считаете, Метелин?
— Как считает мой редактор.
Генерал усмехнулся.
— Ваш редактор держит нос по ветру. Так и передайте ему.
Калитин часто заморгал глазами. Когда все тронулись, проворчал на ухо:
— Ну вы и хлюст, здорового пинка дали мне.
— А вы мне — под дых. Сделали из меня очеркиста на посмешище, особенно Соснову. Он же знает, что я никогда ни одной строчки не написал для вас.
— Тогда мы квиты, — лукаво улыбнулся Калитин. — Я не предполагал, что мой вымысел вас огорчит. Теперь вы журналист. Не открутитесь. А поглядите, каков ваш соперник, этот Соснов?! Александр Македонский и только! Грудь колесом, и красив, как Зевс, и главное — храбр. Риск все-таки. Ведь передовая!
Дорога к штрафникам проходила среди второй линии окопов и их ответвлений; мы выбирались на открытое место, и немцы не могли не видеть нас. Однако достать нас было им не так-то просто. Соснов это понимал и держался козырем. Крутился подле генерала, старался быть на виду, выпячивал свою бесшабашную смелость.
— Хотите, убить Соснова? — спросил я у Калитина.
— Что вы еще сверхъестественного придумали?
— Скажите генералу, чтобы слышал Соснов, что здесь чуть ли не за каждой кочкой немецкий снайпер. Если у Соснова не будет разрыва сердца, я поцелую пятки вашей Наде.
— Такое пари не пройдет, — посмеялся Калитин, но от соблазна не удержался. — Больно уж красив, черт побери, этот гусар, чтобы я мог не позавидовать ему и не насолить. — Он приблизился к генералу, потеснил адъютанта, зашагал рядом. Почти слово в слово повторил мое предостережение. Среди командиров произошло замешательство, оживление стихло. Но на Громова предостережение впечатления не произвело.
— Вам, батенька, надо сидеть у себя в редакции и не высовывать носа на передовую, — сказал он Калитину. — Послали бы своего Метелина, и пусть он вам строчит эпистолы-очерки… Вы не газетчики, а налетчики, друзья мои!
На Соснове не было лица. Смяк, утратил всякую власть над собою. Незаметно втерся в самую гущу командиров, бросал редкие, тревожные взгляды по сторонам. В каждом кустике ему чудилась смертельная опасность.
— Что с вами, товарищ капитан? — спросил сосед.
— Сердце… — Соснов хватал ртом воздух и кривил губы.
— Может быть, чем помочь?
— Скоро ли блиндаж этих штрафников? — процедил он.
Подумать, что в Соснове свирепствует страх? Нет. Сердце! Он скорее хочет добраться к месту.
— Вы опять мне подсунули свинью? — дернул за рукав Калитин.
— Поглядите на Соснова, — ответил я.
Калитин оглянулся, за спинами увидел прячущегося Соснова и захохотал.
— Вы выиграли пари. У кого я должен целовать пятки? — Неожиданно для себя громко сказал Калитин, его услышали остальные. Генерал, уловив в его словах нотки юмора, посоветовал:
— Могу предложить кандидатуру моего ординарца Пети Зайцева. У него сорок пятый размер ноги. Есть где разгуляться. Поцелуйте, и наверняка спорить больше не будете.
Штрафники занимали три блиндажа. Появление генерала и около десятка старших командиров не вызвало здесь живой реакции. Люди нарочито равнодушно продолжали заниматься своим делом (у края смерти — все чины и жребии равны). Третий блиндаж самый вместительный. Но людей натискано в нем, как в бочке сельдей. Шло азартное сражение в карты. Перепуганный командир, вытянувшись перед Громовым, на весь блиндаж сипло, сорвавшимся голосом крикнул:
— Встать! Смирно!
Но команда потонула в шуме и гаме. В дальнем углу над столом нетерпеливо грудилась вокруг банкомета толпа. Банк держал черный, как цыган, со шрамом на лбу солдат. Под рукою у него гора банкнот. И тут же под Локтем, на скамье, вещевой мешок, почти доверху тоже набитый деньгами. Командир роты повторил команду. Но водворить тишину не удавалось. Напротив, неразбериха и шум усилились. Банкомет, мрачно оглянувшись на Громова, глухо бросил своим дружкам: «Продолжать игру».
— Становись! — хлестнул голос командира роты. Банкомет хладнокровно сбросил карту.
— Оставьте их в покое, — сказал генерал, подошел к игрокам. У стола ему уступили место. Но он не сел. Коротко остриженный банкомет ловко продолжал свою работу: присутствие генерала не смутило его.
—: Может, и вам карту, товарищ генерал? — невесело улыбаясь, предложил он.
Командир роты побелел. Соснов, сцепив зубы, отстегнул кобуру пистолета. Все глядели на Громова. Вихрастая полуседая бровь вздрагивала. Но ни тяжелый взгляд генерала, ни напряжение, камнем упавшее вдруг в блиндаж, не вывели из равновесия смуглого, ладно сбитого парня. Он лишь передернул плечами и кивнул партнерам: «Поехали дальше». Прозвучало это, как скрытый приказ, не выполнить который не заставит сила смерти. Будь Громов человеком обостренного самолюбия, одного жеста было бы достаточно, чтобы оборвать и без того обреченную судьбу этого солдата. Но генерал разглядел в нем что-то незаурядное, и это пробудило любопытство. Наделенный неограниченной властью, привыкший к набившему оскомину подобострастию, Громов вдруг натолкнулся на кремень, который был лишен всяких прав, кроме одного — права умереть, и в то же время, здесь, в роте штрафников, был могущественнее в десятки и сотни раз его, генерала.
— Как величают этого Гобсека? — повернулся Громов к командиру роты. Тот не понял вопроса.
— Савелов, — подсказал сам «Гобсек».
Громов опять смерил его взглядом:
— Вы читали Бальзака?
— Мне больше по душе Джек Лондон и Тургенев. Но какой же культурный человек не знает Бальзака, товарищ генерал? Невежде нечего и с фрицем воевать: кто нищ умом и душою, тот и силой дурак.
— Чем вы занимались до войны? Где учились, сколько вам лет?
— Я — подонок общества. До войны только и знал, что водил за нос мильтонов.
— А точнее?
Савелов встал, за ним тотчас из-за стола поднялись остальные штрафники.
— Что ж, можно и точнее. В тридцать седьмом моего отца арестовали; сегодня он, как и вы, командовал бы дивизией, а может, и больше. Когда-то он у самого Фрунзе на виду был. Мать сослали. Я, студент третьего курса физико-математического факультета, сбежал. Школой стала жизнь. Взломал около тысячи сейфов, очистил дотла пять банков и ни разу не был пойман. Мною занимались самые коронованные тузы. Но я был той козырной шестеркой, которая и туза бьет.
В блиндаже было тихо, как в склепе. Савелов, склонив крутую лобастую голову, неторопливо продолжал рассказ. На лицо Громова легла тень.
— Зачем вам столько денег? — спросил он.
Савелов одними глазами улыбнулся, ответил:
— Я жил скромно. Иногда впроголодь. Хотя богат был, как Форд. Я щедро платил тем, кто служил и помогал мне. Остальные суммы, — что была самая трудная работа, — я тратил на тех, кто вынужден был по недоразумению жить изолированно и в нужде. Много было таких семей в России. Всякий раз надо было придумывать нечто сногсшибательное, чтобы им помочь, Найдя пачку денег, кем-то «случайно» оброненную, они почти всегда возвращали ее в милицию. Они же ведь советские люди, товарищ генерал!
— Сколько вам лет?
— Мать родила меня в пулеметной тачанке. Отец был командиром отряда, дрался с белыми.
— Значит, вы обижены на Советскую власть и мстили ей?
Савелов не ответил, лишь вздрогнул. Отбросив находившуюся в руке колоду карт, сказал:
— Когда началась война, я тоже озверел. Но потом, когда увидел, что своими делами помогаю немцам, пришел и сдался в руки властям. У милиции прыгнули глаза на лоб. В течение пяти лет я путал следы, подсовывал им сюрпризы. Россия велика, есть где разгуляться. Один туз разглядывал меня через увеличительное стекло, удивлялся: перед ним стоял скромно одетый юнец, с приличной физиономией, а он ожидал встретить матерого волка. Но второй туз, — Савелов тонкими сильными пальцами коснулся шрама на лбу, — рассек мне лоб и дал пинка. Из-за меня его в свое время понизили в должности. Меня присудили к расстрелу. Но потом заменили приговор штрафной ротой. Вот так к двадцати пяти годам я стал подонком общества.
— Да, — проронил Громов и оглянулся на командира роты. — Постройте солдат. Я думаю, Савелов отложит игру в карты и позволит? Кстати, товарищ Савелов, а здесь зачем вам нужен этот ворох денег? — указал он на вещевой мешок.
— Занимаюсь воспитанием, товарищ генерал. Вся эта братия, или почти вся, жадная до денег; чем их меньше у человека, тем он лучше и на жизнь проще смотрит. Поэтому и вышибаю из них все, что пакостит их нутро, и поднимаю из грязи в них человека.
— Не понимаю.
Савелов помолчал, колеблясь, открывать ли тайну.
— Штрафник, — сказал он, — смывает свою вину в лучшем случае кровью, в худшем — смертью. Но память о человеке свята, она выше всего. Матери или жене, дочери или сыну погибшего не обязательно знать, что их муж или сын был преступником. Мы шлем письмо, говорим, что такой-то был замечательным человеком, смертью храбрых погиб за Родину. Ему причитается такая-то сумма денег. Вот это касса, — Савелов положил рук на вещевой мешок.
— Разрешите построить людей? — Командир роты щелкнул каблуками, кинул глаза на генерала. Получив согласие, крикнул:
— Становись!
Люди, толпясь, разобрались у нар буквой «Г» в две шеренги. Зрелище неприглядное. Незаметное в общем скопище бросилось в глаза, когда образовалось некое подобие строя. Стояли люди не двадцатого, а пещерного века. Небритые, грязные, незаправленные: взгляд у каждого тяжел и мрачен. Громов оглядел штрафников, опросил:
— У кого есть при себе иголка с ниткой? Выйти из строя.
После долгой паузы выяснилось, что только у одного бойца оказалась принадлежность первой необходимости. Он сделал шаг вперед. Невысокий, ладно сбитый паренек, на верхней губе еще теплится светлый пушок.
— Больше нет? — переспросил генерал. И добавил: — Выйти из строя тем, кто сегодня подшил к гимнастерке чистый подворотничок.
Шаг вперед сделал пожилой, немного неуклюжий, с покатыми плечами солдат, выбритый и опрятный. Усталыми умными глазами он мерял генерала.
— Чем вызвано то, что вы привели себя в порядок?
— Люди, товарищ генерал, всегда остаются людьми. Если они, конечно, люди, — ответил солдат.
Громов кивком головы согласился с тем, что услышал, но думал в эти минуты, может быть, вопреки своему желанию, о другом. Он всегда восхищался устройством жизни, был причастен к ее целесообразности, а здесь столкнулся с ее величайшей нелепостью: на какое-то время не мог связать концы с концами, поколебав в себе уверенность в то, что считал справедливостью и закономерностью. Он даже пожалел на миг, что ему вздумалось завернуть к штрафникам. Он немедленно прогнал от себя эту мысль и твердо сказал, обращаясь к старому солдату и юноше-штрафнику:
— За соблюдение правил воинской жизни и аккуратность освобождаю вас из-под стражи, — и своему адъютанту: — Распорядитесь перевести людей. Право выбора рода войск оставьте за ними.
В неровном строю солдат пульсом забилось волнение. Кое-кто незаметным рывком расправил под ремнем гимнастерку, второй — застегнул у ворота пуговицу, третий — вытянулся тополиной стройностью.
— Не забывайте мудрости своего товарища, — сказал Громов уже всем штрафникам. — Назначение человека многогранно, но главное — это оставаться человеком, где бы ты ни был и кем бы ты ни был. Желаю вам успехов, друзья.
Генерал направился к выходу. Почти у порога его остановил Савелов.
— Товарищ генерал, разрешите обратиться?
— Слушаю вас.
— Вы еще придете к нам?
Громов усмехнулся.
— Теперь, когда я познакомился с вами, обязательно. И не один раз. И если вы мне поможете, то мы, того и гляди, окончательно упраздним штрафную роту.
Раздался дружный веселый смех. И в нем была не только неподдельная радость. Люди почувствовали себя людьми. И для этого, оказывается, не так уж много надо было.
Вечером Калитин пригласил к себе. После посещения штрафников мы возвратились домой к обеду. Я был уверен раньше, что знаю этот народ, жил некоторое время среди него, теперь эти люди открылись новой стороной, заставили и на самого себя взглянуть иначе, многое в себе переосмыслить, понять, объяснить. Долго спорил с Калитиным. Я отдавал должное его жизненному опыту, возрасту, наконец его разуму, но разделить его взгляда не мог. Напротив, я должен был сказать ему, что Громов глубже и лучше разобрался в Савелове, чем он, инженер человеческой души.
— Когда в споре прибегают к переоценке достоинств оппонента, то это уже спекуляция, — разобиделся Калитин. — Не думайте, что, наступив мне на больную мозоль, вы вынудите меня проституировать свои убеждения, плевать в лицо богу, которому поклонялся вчера. Гуманизм советского человека — это не хлипкое сердце барышни, не чувствительная слеза. Савелов — классовый враг. Скрытый, беспощадный. Он причинил больший материальный вред государству, чем любой бандит из шайки Гитлера… Вас разжалобили сладенькие сентенции Савелова. Нет. Наследие прошлого надо вырывать с корнем. Революция была совершена не для того, чтобы на ее плодоносящем дереве спустя двадцать пять лет угнездился короед.
— Меня всегда интересовало, — возразил я, — не следствие, а причина…
— Не рядитесь, Метелин, в одежды интеллигентской добродетели. Встреться этот бандит у вас на дороге, вы что, прошли бы мимо?
— Мы говорим о разных вещах. Я бы не прошел мимо, я бы убил его, — ответил я.
Но с Калининым так и расстались, не решив до конца чего-то главного. Отправляясь вечером к нему, я внутренне готовил себя к новому и жаркому бою. Калитин был типичным сыном своего века, и, как все другие, он тоже был заражен грибком отрицания: все, что дурно, — наследие и ничего больше! Скажи ему, что среда, в которой живет он, может быть благоприятной для рождения порока, он вырвет твое сердце. Отрицание у своего времени несовершенств и признание за ним только лишь добрых начал составляло его сущность. Но все-таки я хотел наступить Калитину на больную мозоль.
Однако когда пришел к нему, то сразу понял, что ему давно уже не до нашего спора. В гостях была Надя. Калитин правил газетные полосы. Надя сидела на топчане, свесив прелестные босые ноги. Воротник гимнастерки широко расстегнут, узкая юбка подчеркнуто обтянула бедра, открывая белые округлые колени. Ступни ног небольшие, с маленькой пяткой и слегка нарушенной правильностью большого пальца. Ремень, чулки, резинки — все торопливо брошено тут же рядом; на полу стояли валенки. Волосы, словно нарочно растрепанные, рассыпаны по плечам. Взявшись руками за край топчана, Надя по-мальчишески болтала ногами; из глаз, устремленных в удивлении на меня, ручьем струилась стыдливость.
Я остановился на пороге.
Надя рассмеялась, чем еще сильнее ввела меня в смущение.
— Входите, входите, Метелин, — поднялся из-за стола навстречу с полосами в руках Калитин. Он подтянут и заправлен, в его голосе нет ничего, что могло бы смутить. — Плохо вы знаете Надю, — ухмыльнулся он. — Это для вас она в мгновение ока разоблачилась, едва я сказал, что вы вот-вот нагрянете. Решила поглядеть, как вы будете вести себя при этом.
— А я переступил порог и думаю, — рассмеялся я во весь голос, — первая и вторая древнейшие профессии наконец соединились.
— Фу, как вы грубы! — Надя сморщила нос и, сунув ноги в валенки, спрыгнула с топчана, встала рядом. — Впрочем, иного от вас и ждать не приходится. — И тут же спросила: — Метелин, неужели вы не находите во мне ничего, что бы могло увлечь вас?
Глаза, ее поза, вся она — воплощение соблазнительной искренности. Одной рукой обхватив шею Калитина и прильнув к его плечу головой, не спускала с меня зазывных восхитительных глаз:
— Неужели, Метелин, вы ничего не находите? — повторила она свой коварный вопрос.
— Я бы утратил чувство юмора, если бы сказал вам правду.
Надя тихо засмеялась.
— Все ясно. Женщина никогда не должна знать правды, ни хорошей, ни дурной.
— Но на практике всегда выходит наоборот, — вмешался Калитин. И легонько отстранил от себя Надю, чтобы передать полосы в типографию. — Вы, женщины, ее всегда знаете, а нам вместо нее преподносите кукиш. Который, кстати, мы всегда принимаем за сущую правду. — И вышел.
— Я люблю его, — сказала Надя.
— Зачем же вы морочите голову мне и дразните его?
— Отвернитесь лучше, я буду обуваться. — Она взяла меня за плечи, повернула лицом к стенке.
Минуты через три вернулся Калитин.
— O-o-o! — воскликнул он. — Вас уже поставили в угол? — и засмеялся. — Проштрафились? Другого от вас нельзя было и ожидать.
Калитин в присутствии Нади был внутренне собран, подтянут и душевен. Как-то все в нем было ярче. Трудно определить, сколько Калитину лет. Его спортивной форме и неиссякаемой бодрости духа можно позавидовать.
Надя чувствовала, что своим появлением что-то привнесла в его жизнь, отчего этот и без того красивый человек стал еще лучше, и, может быть, любила в нем себя.
Калитин, пока Надя приводила себя в порядок, собирал на стол, готовя чай, затем ему в этом стала помогать Надя. Я все время наблюдал за ним. Видел, что в нем появилось что-то такое, что делало его жизнь не обязанностью, притупляло обременительность всего того, что находилось сейчас за стенами его военного жилья.
— Вы что, шпионите за мной и Надей? — спросил Калитин, заметив мои пристальные взгляды.
— Нет, просто я любознателен.
Яркая, смелая улыбка блеснула в глазах Нади.
— Метелин, вы бы хотели, чтобы подполковник женился на мне?
— Боюсь, что я стану тогда другом вашего дома, — пошутил я, увильнув от прямого ответа. Но Калитин не дал нам шутить по этому поводу. Разлив чай, он пододвинул мне кружку и сказал:
— Есть вещи, которые не терпят совета, тем более острот. И женюсь ли я, нет ли, ты знаешь, Надя, это целиком и полностью зависит от тебя.
Надя спросила, обращаясь ко мне:
— Метелин, что вы больше всего цените в женщине?
— Мать.
И для Калитина и для Нади ответ был неожиданным, чем-то их поразил.
— Вот видишь! — повернулся Калитин к Наде.
— Это еще ничего не значит, — весело отозвалась она.
В это время зазвонил телефон. Калитина вызывал генерал Громов.
— Вы посидите?! — поглядел на нас Калитин.
Но Надя запротестовала:
— Если вызывает генерал в такой час, то это надолго. Меня проводит Метелин.
— Хоть чай допейте, — Калитин оделся. Позвал ординарца: — Отправитесь со мной.
…Мы с Надей молча шли по укатанной зимней дороге. Вокруг однообразность ночного леса. С высоты отливал холодным металлом плоский месяц. За поворотом в полукилометре показались землянки различных служб штаба дивизии. Где-то среди них и землянка полевой почты — жилье Нади. Белые хвосты дыма из труб тянулись к небу. На земле еще не умерла жизнь, есть уют, тепло. Мне хотелось узнать, о чем думает Надя, почему долго молчит. Это не в ее правилах. Но самому в то же время было хорошо от тишины, молчания, от неторопливых мыслей о Наде и Калитине.
— Скажите что-нибудь мне, — проронила она.
— Почему бы вам не стать матерью и не устроить по-настоящему жизнь Калитина?
На некоторое время мой вопрос вывел из равновесия и нарушил строй ее мыслей. Но она продолжала идти, погруженная в себя.
— Вы меня не слушаете? — спросил я.
— Есть женщины-цветы, — сказала она. — И есть женщины-злаки. Я отношусь к цветам. Первые созданы, чтобы украсить жизнь, вторые — продолжить ее и быть кухарками. Поэтому…
— Но вы же любите Калитина?
— Да, я люблю его!
— В таком случае вы можете сделать всё.
— Кроме одного — стать его женой.
— И об этом знает Калитин?
— Я не вижу в этом беды, знает или нет. Век женщины тридцать лет, все остальное — блеклая скудность! Красный мак доставляет радость человеку всего один день. Но радость необыкновенную, радость солнца. И я напою его грудь, потому что люблю его, этой мгновенной радостью. И через него, может быть, и сама отведаю этот миг…
И опять мы оба надолго смолкли.
— А вы знаете, Соснов до одури любит вашу Арину? — вдруг сказала она.
Сердце во мне заколотилось.
— И добавьте: готов насолить мне.
— И еще как! Вы для него — похуже, чем облезлая кошка. На днях он рассказывал, что вы за фрукт! Но чем больше он лил на вас мазута, тем выше вы вырастали в моих глазах и нравились мне. Видно, меня тянет сильнее к пороку, потому что, пока я знала вас чистеньким и прилизанным, во мне вы не вызывали нет каких чувств. Кроме, может быть, презрения. А теперь…
— А теперь? — переспросил я.
— Теперь я уверена, что вы можете быть мне хорошим другом. В самом деле, почему бы нам не стать друзьями?
— Я не верю в дружбу женщины и мужчины, тем более в нашу с вами. И не спрашивайте почему. Вы слишком женщина, и я — мужчина. Если же вы так не считаете, то предложение звучит слишком оскорбительно. Предложите ее лучше Соснову. Он заверит вас в своей собачьей преданности.
— Не говорите гадостей. У меня сегодня хорошее настроение.
— А вы мне его уже испортили.
— Тем хуже для вас. Вы чем-то похожи на свою Арину. И она, едва услышав от Соснова, что вы штрафник, что настолько черны, что вам отказали в академии, готова была в петлю лезть. Вместо того, кстати, чтобы разобраться и дать трепачу по носу.
— Почему этого не сделали вы?
— Я десятая спица в колеснице.
— Вот она цена ваших заверений в дружбе! — усмехнулся я. На душе стало горько. Хотя Надя не удивила: и раньше я был убежден, что ждать от Соснова доброго расположения смешно и глупо. Он изменил тактику, рассчитывает войти в доверие к Арине, поколебать ее уверенность. Вот откуда, оказывается, у нее столько беспокойства и черной тревоги! Осведомитель Соснов. Однако выглядеть перед Надей комичным я не желал, поэтому стал с юмором раскрывать карты и расчеты Соснова.
— Не выкладывайте, я знаю, — прервала она. — Но вы не упивайтесь своей силой. Он всерьез любит Арину. И когда женщина знает об этом, это много значит, если даже она сама не любит.
Мы подошли к «почте». Землянка вырыта у самой дороги. Из окошка под сугробом пробивался желтый огонек. «Может, Арина?» — мелькнуло у меня. Надя громко рассмеялась, перехватив мой взгляд. Ей откликнулось эхо.
— Хотите зайти к нам?
— Нет.
— Боитесь со мной? Арина взгреет…
Но внимание привлекли вдруг голоса, донесшиеся из-за спины. Мы оглянулись. Навстречу шло двое военных, в которых почти сразу признали Соснова и Звягинцева.
Звягинцев громко, взахлеб что-то рассказывал.
— Ваша первая любовь! — кольнул я Надю.
— К сожалению, да. Веселый человек… — отозвалась она, глядя на приближающихся.
Они тоже узнали нас. Звягинцев умолк, даже голову вытянул вперед, как гусь, опешив от неожиданности. Надя продолжала смотреть в их сторону. И вдруг, выждав, когда они подошли почти вплотную, она обхватила мою шею обеими руками и звонко поцеловала в губы. Теперь я опешил от неожиданности.
— Это вам за «первую любовь»! — Надя засмеялась и легко сбежала по ступенькам в землянку.
Подошли Соснов и Звягинцев.
— О, ты, брат, я вижу, не теряешь зря времени?!
— Амуры плетет одновременно с двумя…
— Убирайтесь вы ко всем чертям! — сказал я и зашагал прочь.
Был первый час ночи, когда я переступил порог своей землянки. Встретивший меня Иванов сказал, что у нас с вечера сидит Арина. За целый день, впервые сегодня, я почти ни разу не вспомнил по-настоящему о ней. В голове стояла какая-то муть от разговора с Надей, от встречи со Звягинцевым и Сосновым, и я не знал, как отнестись к этому визиту, смогу ли усталый и какой-то развороченный быть самим собою, не отпугнуть от себя это несказанное счастье. Арина, услышав меня, выбежала навстречу. Она лишь на долю секунды задержалась на месте, окинув всего меня пронизывающим взглядом, и затормошила, помогая мне раздеться. Весело звенел ее голос, озорной радостью блестели глаза. Все в ней: и прелестно очерченные губы, и мягкий овал лица, и ровная линия носа, и нервный трепет тонких изогнутых бровей, стремительные легкие движения — все олицетворяло собою весну, грело ее ласковыми лучами. Я тут же забыл обо всем, взахлеб пил глазами эту весну, хмелел и радовался вместе с нею чему-то большому и значимому, поселившемуся в нас обоих. Я не предполагал, что жду присутствия Арины ежеминутно, всегда, где бы ни был, независимо от того, думаю ли о ней, нет ли; стала она вторым «я» моего существа, без которого немыслима полнота жизни. И как всякий раз при встрече с нею взгляд поразила ее новизна; вчера я ее знал чуточку иной, сегодня улавливаю в ней больше совершенств, что-то сильнее импонирует мне в ней, неумолимо зовет к себе.
— Арина, лучшего не придумать — ты здесь! — лишь мог сказать я.
Она напряглась, улавливая в моем голосе отзвук своего счастья, полноту неизмеримого чувства: в сердце к ней закралось сомнение, пока она, находясь одна, ждала меня. Теперь все отхлынуло. Любовь не оставила в ней места ничему другому.
— У меня для тебя сюрприз, — Арина подхватила меня под руку, потащила к столу. — Гляди.
Я ахнул. Перевел взгляд на Арину. Она по-детски светилась, сияла. Стол был заставлен. Бутылка коньяка, варенье, гора грецких орехов, шоколад и ломтики нарезанного кекса. Даже добрые мирные времена не всегда были так щедры, чтобы не удивиться этому сейчас, когда сухари, сто граммов водки и шпиг — царственная роскошь. Я даже рот разинул. Арину разобрал смех. Радовалась она тому, что доставила радость мне.
— Откуда все это, не припрятан ли у тебя где чародей? — развел руками.
Арина рассмеялась сильнее.
— Я знаю такое всемогущее слово. Если захочу, то приворожу и тебя!
— Я и без этого слова прилип, как репей, девочка.
— Это правда? — она совсем близко посмотрела мне в глаза. — Это правда? — повторила она. — Ты даже не знаешь, как я люблю тебя.
— И все равно я больше.
— Нет! — ладонью она скользнула по моей щеке, затем отстранилась от меня, достала письмо.
— Прочти, что пишет дядя. О нем я тебе не рассказывала. Он академик. Ему семьдесят лет. Но он еще первый теннисист в Москве. Ворчит, когда проигрывает.
Немного постарел, когда началась война. Его очень ценят. Он большой ученый. А страсть у него сильнее смерти — к цветам. Своя оранжерея. Много лет бьется над выведением какого-то особого сорта роз. Летом у него во дворе и саду цветочные джунгли. Трудно представить, когда он и занимается своей химией. Я писала ему о тебе.
Арина протянула мне письмо.
Читали его долго, усевшись рядом. Дымный дрожащий свет от лампы-гильзы вначале раздражал: невозможно было разобрать убористый мелкий почерк. Я попросил Иванова заправить вторую лампу. И только стал понятен почерк, как все вокруг перестало иметь реальное значение. Встала далекая заснеженная Москва; из окон, пренебрегая классической архитектурой, торчат самоварные трубы, стены исполосованы краской и копотью. В квартиры проникли представители ушедшего в небытие мира — буржуйки; в ход пущены диваны и стулья — неоценимые дрова. Но все познается в сравнении: в Ленинграде — хуже…
…Однако, мой друг, у меня совершенно нет времени, тем более для того, чтобы омрачать твое настроение. Война создает определенные неудобства, будоражит, взинчивает нервы, бешено ускоряет ритм бытия. Я испытал это на собственной шкуре, наставил себе синяков и шишек, на каждом шагу спотыкаясь о совершеннейшие парадоксы. Но ко всему надо относиться философски. Я живу и действую, чтобы уничтожить свою жизнь, жизнь близкого мне и в то же самое время воссоздать жизнь вообще. Отличнейшая чепуха! Но и она не лишена смысла. Ты бы поглядела, какие у меня сейчас возможности! Каков штат, каковы апартаменты, и я, судя по масштабам, подлинный академик; в то время как до войны лаборатория моя ютилась один дьявол знает в какой собачьей конуре со сквозняками, и наши финансовые сошки ежеквартально резали мне пальцы, с президентской мудростью восклицая: «Профессор, учитесь считать копейку!» Я не считал, а они вмешивались в мои дела, и толку — ни на понюшку табаку. Разве в этом не заключен комизм?! Разве не преступно, что наши коллеги по оружию — англичане и американцы — поставляют нам и то и другое, а сами спят и во сне видят нас битыми. Короче, мы, люди, сами создали и обнажили обстоятельства, и вся суть в том, у кого окажутся крепче нервы, тот и взнуздает эти обстоятельства; в противном случае обстоятельства раздавят. Ты извини меня, Арина, я, кажется, увлекся и заехал в кювет, забыв совсем, что милым девицам не интересно читать старческие бредни. Однако сегодня мне все можно: я сделал чрезвычайно серьезное открытие, дал человечеству в руки новый прометеев огонь. Поздравить меня приехал самый высокий чин в маршальской форме. И опять вышла нелепость: я, академик, был суров и неуклюж как последний солдафон, он, солдат, — обходителен и вежлив, как академик; часть его гостинцев посылаю тебе. Другую часть отвезу малышам в детдом: голодно. Оставшиеся бутылки коньяка, водки и рома я употребил на подкуп нашего академического завхоза, проходимца, каких свет мало видел. Но без этого негодяя обойтись нельзя: из-под земли достанет все (тоже нелепость!). Он отремонтировал мою оранжерею, привез машину великолепного навоза. К новому году обязательно пришлю тебе несколько моих роз. Скажешь, что это тоже нелепость: выращивать цветы, когда рвутся бомбы… Но, может быть, это единственное изо всего перечисленного — целесообразность. Чувствую себя молодо, энергия хлещет из меня через край, тянет жениться. Но эту нелепость я решил отложить до окончания войны. Кстати, тебе советую поступить таким же образом. А в остальном… Имя твоего Метелина мне симпатично, импонирует…
Я возвратил письмо и с укоризненным добродушием сказал Арине:
— Всегда говорил, что я про тебя ничего не знаю.
— А я про тебя — все. Исключая сегодняшний день. Где ты пропадал и что делал — неизвестно.
Я рассмеялся.
— Где был? За твоей спиной втайне строил козни.
— А если бы я так зло шутила?
— Я бы сделал то, что мне сказал однажды один мой закадычный друг: «Я убью тебя!»
Арина всплеснула руками.
— Противный и несносный человек! — Смех ее звенел в землянке. Она была юна, открыта, доверчива. Безмятежность и чистота ее в соприкосновении с жизнью, суровой и грубой, не тускнели, напротив вспыхивали ярче, выражая собой сущность счастья и пробужденной песни ее сердца. Смех был запевным куплетом этой песни. Я ничего не хотел от нее скрыть. Первым порывом было желание рассказать ей о Наде, встрече с Сосновым и Звягинцевым, но слишком светлым было ее настроение, чтобы омрачать его, и я решил, что расскажу в другой раз и мы вдоволь посмеемся.
— Что ты писала обо мне своему дяде?
Она состроила мне рожицу, подпрыгнула на одной ноге, зажала в ладонях мое лицо:
— Секрет!
— Как же прикажешь верить твоим заверениям, если у тебя есть от меня секреты?
— Ты любишь меня? — Арина погасила озорство, заглянула в глаза.
— Очень!
— Я, кажется, не видела тебя целую вечность, пока ждала. С тех самых давних пор, когда мы с тобой переплыли Волгу. Я стояла на берегу, в небе плакали звезды, земля казалась маленькой-маленькой — тем самым крохотным клочком обрыва, на котором стояла я, и вокруг темень и черные звезды, мигающие на ветру. Я очень боялась одна… Но сейчас, когда мы вместе, земля огромная, нет ей конца, и звезды не плачут, я смотрела сегодня в небо. Мне ничего не страшно, когда ты есть. Я не боюсь даже войны. Ты любишь меня? — опять с тревогой спросила она.
— Еще никто не придумал такой меры, чтобы ею можно было измерить мою любовь к тебе.
— Ты люби меня обязательно, очень люби, — шептали ее губы. — Мне это очень надо. Потому что я тебе ничего не прощу и, правда, убью тебя.
Я поцеловал ее.
— Ты у меня самый лучший. Я тебя ни с чем не могу сравнить! Не объять тебя и не постичь, как океан. Я не знаю как жила бы я, не будь тебя. Шла бы в жизнь, как в пустоту. Без тебя бы у меня не было солнца, весны, утра, ночи, дня. А сейчас я самая богатая на земле — у меня есть ты. Самый неповторимый, невыдуманный, такой, как есть. Мне больше всего в тебе нравятся твои руки, — она стала целовать мои пальцы. — А еще больше мне нравишься весь ты.
Волосы ее слегка блестят, у нее белая красивая шея.
— И все-таки я богаче, — возразил я.
— Это почему?
— Потому что у меня есть ты, — и, обхватив ее гибкую талию, закружил по землянке. — Ты единственная, невыдуманная. Такая, как есть. И если бы даже кто-то самый гениальный захотел тебя выдумать лучшую, то только бы обжегся, потому что к солнцу ничего прибавить нельзя. Даже убрать с него пятна.
— А разве и у меня есть пятна? — остановилась она.
— Еще бы! — воскликнул я серьезно. — И главное из них — это то, что ты не прочь соловья кормить баснями.
— О! Это лишь начало, — рассмеялась она звонко. Но тотчас, оборвав смех на полуслове, спросила:
— Ты любил кого-нибудь до меня?
— Любил ли?.. Кажется, что — да. Хотя, если кажется, то это уже неправда. Впрочем, этому человеку я обязан всем лучшим в себе, с ним я, когда переехал в город, учился в школе, а потом в институте. И если бы она сказала — да, я был бы всегда возле нее. Но она лучше и выше меня.
— Тебе грустно?
— Нет, это не то слово. Меня скорее наполняет гордость, что в жизнь приходила не серость, не посредственность, а человек замечательный и красивый.
— Ты хороший… — Арина потерлась своей щекой о мою щеку. — Я всегда это знала. — И уже весело крикнула Иванову:
— Николай Васильевич, можно вас на минутку?
Иванов тотчас показался из-за перегородки, вопрошающе глядя на Арину.
Она передала ему со стола бутылку с коньяком.
— Старший лейтенант разрешил, чтобы мы все выпили немного. Откройте, пожалуйста.
— Ты не веришь в мои способности? — спросил я у Арины.
— Просто хочу угостить твоего товарища.
Иванов стрельнул взглядом в мою сторону, ухмыльнулся.
— Штопора у нас нет, товарищ старший лейтенант. Нам все выдают в розлив. Тут надо уметь. — И ловким взмахом ударил донышком бутылки о ладонь. Пробка со свистом полетела в потолок. Запах мореного дуба защекотал в носу.
— Как вкусно пахнет. Осенним листом, — открыто засмеялся Иванов.
— Раз вкусно, то к столу, — скомандовала Арина. Коньяк разлили в стаканы. — Мужчины, за вами тост.
— Давайте вы, Иванов, — подмигнул я.
— Тост можно. Только вы, Арина, что ж донышко только закрыли. Один раз можно бы и сто грамм… А тост мой будет за одно, — Иванов исподлобья покосился на меня. — За то, чтобы вы, Арина, никогда больше так долго не ждали, как сегодня. Потому что в ожидании одна мука. Значит, чтоб не было сердцу женскому мук.
— Хорошо! — пылко воскликнула Арина.
— Что ж, можно и за это, — согласился я.
Иванов почти стакан коньяку опрокинул одним глотком. Выпили и мы.
— Ну, я пойду. Мне пора на пост, — Иванов взял со стола два ореха, направился к двери.
— Позвольте, Иванов, — задержал я его. — Ведь вы дали мне пинка?
— Не заметил, товарищ старший лейтенант, — передернул он плечами. — Я только хотел, чтоб не было мук. И если мужчина — кремень, то селезенкой чует, что его ждут.
Иванов вышел.
— Ишь, какой дамский угодник, — проворчал я. Но Арина была иного мнения. Ее не удержать.
— Вот тебе! Отхватил пирога? Отлично сказано — мужчина-кремень! — И то ли от мгновенно подействовавшего вина, то ли и в самом деле ивановский прозрачный, как кисея, намек пришелся кстати, но зажглась она восторгом. Я подумал, глядя на нее, смеющуюся, что она не может не вызвать симпатии, если разбудила сочувствие даже у замкнутого на все замки Иванова; позавидовал ее непринужденности, не утратившей в себе ничего ее юности. Отдельное ее слово, часто ничего не значащее, взгляд, легкое движение руки, поворот головы, жест — все ее присутствие наполняло глубоким искренним смыслом жизнь. Я не заметил, не понял, проглядел, когда она вошла в меня, стала частью меня самого, моим смыслом, моим содержанием. Там, за дверью землянки, не было вздыбленного мира, кутерьмы и неустроенности. Была звездная бездонь и тишина. И мне уже не было дела до безветренной пустыни, в которой сгорали страсти и чувства; в ней жила моя любовь, и я был обеспокоен и счастлив ею.
— За тебя, — поднял я стакан.
— За обоих! — Арина чокнулась, отпила глоток. — О, если бы видел и знал мой старый дядя! Он бы не мог не радоваться и не быть счастливым вместе со мной! Он бы не мог писать ни о какой нелепости. Я уже жду новый год, его розы. Очень жду. Если это будут красные, я принесу их тебе, белые — от тебя оставлю себе. Потому что я все равно пламеннее люблю тебя. Я очень хочу танцевать. Почему мы не во дворце, где есть музыка, много света и танцы? Объясни мне, почему? Кто украл, отнял у нас это? Я хочу тонкое, легкое платье, маленькие белые туфли и самую причудливую сверхъестественную прическу. Чтобы ты смотрел на меня и я могла прочесть в твоих глазах — я самая лучшая. Я — это ты, счастливый, жаждущий жить, избравший себе богом красоту. Я хочу, чтобы люди — на то они и люди! — радовались.
— За дверью нет войны, ты ошиблась, девочка. Ты говоришь не о том, что уже было или что должно быть. Ты говоришь о том, что уже есть. Оглянись. Разве ты не слышишь музыки?.. Разве не видишь, что мы с тобой во дворце с открытым широким залом, разве эти лампы не хрустальный дождь светящейся тысячами солнц люстры? Маленькая, очнись ото сна.
Я положил руку ей на плечо, другой взял за талию, медленно, легко закружил по землянке. Было до звона тихо. Арина больше не смеялась. Присмиревшая, с неусыпной грустью в темно-карих, почти черных, недосягаемой глубины глазах, она покорно следовала моей воле.
— Ты сказал правду, — шепнула она и негромко стала напевать мелодию вальса. Некоторое время я слышал ее голос, ровный, льющийся, точно весной разбуженный ручей. Затем я утратил это, стены землянки раздвинулись, ворвался знойный вихрь музыки, взметнулось белое платье Арины. Я видел только ее, пил завороженную улыбку ее устремленных на меня глаз. Сердце нещадно сжалось. Я не знал, как мог быть до сих пор без этой музыки, без Арины, без этого ею созданного мира.
Просочившиеся слухи всполошили и никого не оставили равнодушным. Наши перешли в наступление на Волге. Официальная пресса молчит, но хочется верить, что лед тронулся. Сердце истосковалось по нашей хотя бы совершенно незначительной удаче. 1942 год набил острую оскомину горечи. Немцы стучались в дверь Баку, держали запертым Ленинград, Северный Кавказ оккупирован, да и на Волге, как в мясорубке. Разговоры среди командования о том, что там готовится что-то необычайное, вторая Москва, идут давно, но дальше разговоров дело не двигалось. Сегодня, же это свершилось! И очевидность этого неоспорима: как бы исподволь все пришло в движение и на нашем участке фронта. Передовые части подкреплялись, появилась новая техника, но главное — настроение у всех вдруг, как по взмаху дирижерской палочки, подскочило вверх; лица улыбчивые, в глазах, как от выпитого меда, хмельной счастливый блеск. Толком, однако, никто ничего объяснить не может. Уцелевшие и неэвакуированные жители Васютников и те воспряли духом в своей безысходной разоренности. Я навестил Варвару Александровну. Она суетится, воркует, многозначительно заглядывает в самую душу любому встречному солдату. «Я тебя, сынок, ни о чем не спрашиваю. Не надо, молчи», — сказала она мне. Я пожал плечами, но сам тоже нахожусь во власти приятной неизвестности.
— Значит, началось-таки, товарищ старший лейтенант? — спросил Иванов.
— Что вам известно?
Он уклончиво, не пряча хитрой улыбки, ответил:
— Фронт — это такая штука, что на Кавказе чихни, у Ржева услышишь. Единый организм.
События в мире внешне идут тем же чередом, что и вчера. Но атмосфера разрядилась: все стало легче, понятнее, доступнее; уже не было секретом, что в организме войны начался процесс, который в скором времени взорвет ее силу, и она пойдет на убыль. Однако газеты, как будто в рот воды набрали, продолжали молчать, на страницы не просачивается ни слова ни за, ни против. Упорно ходили слухи об открытии в январе — феврале второго фронта. Судьба поворачивалась к нам лицом. Но если судить по немцам, то ничего этого в природе не существует. Они по-прежнему держали оборону. Размеренность и привычный ритм их жизни оставался неизменным; продолжали, установив сильные репродукторы, веселить передовую сердцещипательной музыкой, ковбойскими песнями; в промежутках между песнями сообщали нам совершенно противоположное тому, что смутно знали мы, твердили о новом секретном оружии, которое со дня на день обрушится на нашу голову. И, может быть, только одно выдавало их — напряжение и бдительность. Передовая была на замке; каждый шорох вызывал смертельную суматоху, будил все виды оружия. Добыть языка практически стало почти невозможным. В то же время наши войска, точно они открыли в себе неизвестные до этого силы, держались увереннее, начали чувствовать себя хозяином положения. Во втором эшелоне тоже что-то стронуто с мертвой точки. Трудно определенно сказать, что именно; только в клубе Звягинцева стало многолюднее, ярче и беспечнее звенел смех, интенданты расторопнее исполняли обязанности — довольствие зависит от них! И оно значительно улучшилось.
И еще новость. Калитину присвоено звание полковника, и он назначен к Громову комиссаром дивизии. Это было понятно в общей ситуации дел, особенно если верить тому, что Волга вышла из берегов. Властному и волевому Громову нужен человек ему под стать. Ежечасно могло случиться, что машина и здесь придет в движение, и завладеть сердцем дивизии, душой солдат — труд, равный подвигу; все должно быть начеку и готово не к временным боям и успехам. Калитин, по мнению Громова, тот самый человек, которого дивизии недоставало в роли комиссара.
Мои солдаты принесли с почты и передали мне письмо. Вскрыв конверт и прочтя несколько беглых строк, я был крайне озадачен.
«Как ты мог и смел так поступить? Но не это страшно: если бы можно было убить тебя, я бы не задумалась. Рву на себе волосы, пытаюсь оправдать тебя и осудить эту гадкую женщину, у которой гадкие мысли, гадкое сердце. Но и ты, как последний трус, обо всем умолчал. И это страшно! Значит, все, что касается тебя и Нади, — правда, а что касается меня и тебя — все ложь. Я слишком люблю тебя, чтобы простить тебе эту двойную игру. Не пытайся больше видеть меня.
Арина».
И не успел я еще как следует перечитать письмо и разобраться в путанице нахлынувших мыслей, как ко мне в землянку вошла Надя. Появление ее было почти так же неожиданно, как и письмо Арины. Стараясь остаться хладнокровным и не выдать, что захвачен врасплох, я весело воскликнул:
— Входите, входите.
От взгляда не ускользнуло — лицо Нади помято, исписано густыми тенями, вся она, как припаленный зноем цветок, — привяла. Было непривычно встретить ее такой. Глаз всегда радовала ее грубоватая, яркая и броская красота, как дождем омытая свежесть. «Да что с вами?» — хотел спросить я, но она опередила меня.
— Подумала, подумала, кто у меня самый близкий на свете человек, кому могу поплакаться в жилетку, и пришла к вам.
Я помог Наде снять шинель, усадил к столу.
— Завтра я уезжаю. А может, и сегодня вечером. Уйду работать по специальности — военфельдшером. Странно все, не правда ли? А странного ничего нет. Просто все так должно быть.
— Да, но как же…
— Угостите меня чаем, налейте кружку, — прервала она меня, заметив на печке кипящий чайник. — Только, пожалуйста, послаще и покрепче. На это я могу вас, надеюсь, разорить, — Надя улыбнулась. — Когда-то в детстве вот точно так же вдруг до смерти захотелось чаю. Но тогда никто не мог напоить меня. И я плакала. Неустроенная, в не по росту малом платьице девочка, самая одинокая на всем белом свете.
Не перебивая Надю, я молча слушал ее; у печки заварил чай по-восточному, крепкий и душистый. Надя глядела в мою сторону отсутствующим взглядом.
— Я очень хотела, чтобы у меня тогда были мама, брат, отец. Прижаться и спрятать на груди лицо. Хотя бы кто-нибудь. Но поняла — этого быть не могло, и это осталось на всю жизнь. Одиночество. Скажите, а у вас есть родные?
— Мать есть. Отец?.. Не знаю, — ответил я. — Тоже был и есть, но… он покинул мать. Сказал, что она плетется в хвосте времени, ему не пара, и ушел к другой женщине. Я, однако, родился в рубашке: у меня была бабушка. Видимо, чтобы стать такими, как мы есть, надо заронить в нас с детства зерно. Я никогда не плакал от того, что не было отца.
— Вам помочь?
— Нет, спасибо.
Чай был готов, и я налил высокую жестяную кружку. Надя поблагодарила и пододвинула кружку к себе. Обхватив ее ладонями, обжигаясь, по-детски обрадовалась, в глазах блеснуло что-то трогательно-нежное.
— А Калитин знает, что вы уезжаете?
— Это единственный человек, с которым бы я могла разделить судьбу. Потому что люблю его и, пожалуй, впервые по-настоящему.
В голове роились вопросы, но я боялся показаться назойливым, тем более — бестактным. Вопреки всему привычному, я не понимал ее. Всегда она представлялась незамысловатым ярким цветком. Теперь, когда приоткрылась завеса над ее прошлым, все внезапно обернулось иначе: передо мною сидел человек сложный и неразгаданный.
— Я не понимаю, что же вам мешает, — сказал я. — Почему?
— Скажите, разве не естественна, не натуральна река, одетая льдом? Ее покой, белое покрывало снега, как будто извечно данное. Застывшая извечная красота! Другого быть не может. Но стоит солнцу взломать льды в одном месте, как вся река от истоков до устья придет в движение.
— Вы хотите сказать?..
— Я хочу сказать, что я была бы непроходимой дурой, если бы не понимала и не принимала этих перемен.
— И тем самым оправдываете себя?
— Я никогда ничего не делала предосудительного, чтобы оправдываться. Кстати, и Калитин мне задал почти тот же вопрос. Он не верит мне. Склонен думать и думает, что причина нашего разрыва — вы. Ему донесли, что мы «целовались». Я знала о том, что донесут, и делала это для того, чтобы посмеяться вдоволь и от души. — Надя тихо рассмеялась. Смех, чистый, шел из глубины души. Затем смех утих. Она уставилась на меня большими, погрустневшими глазами.
— Вы не пьете чай, — подсказал я. Откуда родилось письмо Арины, стало понятным — Звягинцев и Соснов…
— Мне нравится не столько пить чай, сколько греть и обжигать об него руки, — сказала Надя, лаская ладонями кружку. — Ну и вот… Калитин был вне себя. Со слезами он молил меня. Спрашивал — люблю ли я его, не верил мне и заверял, что я — его жизнь! Я не кривила перед ним душой, я сказала правду, что значит он в моей жизни. Тогда почему, почему? — спрашивал он. — Может быть, моя жена? Я отвергла и это. Женщина, не ставшая матерью, в браке, не имеет никаких прав на мужчину. Тогда — Метелин! — выпалил он. Я поцеловала его, растрепала ему волосы, чтобы не расплакаться. И сказала: отказаться от тебя жалко, мне легче умереть, но… Ты теперь комиссар, тебе надо быть чистым. И — ушла. Мне грустно, Александр, но поступить иначе я не могу. А вы как считаете?
— Я, пожалуй, как и Калитин, вначале не понял бы вас до конца.
— Замените мне чай, — попросила она. — Впрочем, оставьте.
Она стала торопливо собираться. Я не удерживал ее. Она была в том состоянии, когда человек не находит места, не знает твердо, где нахлынувшие к нему желания, смутные и неопределенные, найдут окончательную разрядку, принесут успокоение.
— Хотите, и я вам открою свою беду? — спросил я.
Надя уже оделась.
— Я не верю, чтобы у вас было плохо.
— Вот прочтите, — и передал письмо Арины.
Живое, подвижное лицо Нади застыло, во взгляде — любопытство и зависть. Но это была только вспышка. Потом все сменилось непроницаемым равнодушием, скорбью.
— Арину мне жаль. И, может, потому, что я чуточку вас ревную. Прощайте. — Она возвратила письмо.
— Я провожу вас.
Отрицательным жестом она остановила меня на месте. В глазах ее ничего не прочесть, кроме желания скорее уйти. Я поцеловал ей руку.
— А ведь в первые встречи вы были мне чужды. Теперь — самый близкий человек, перед кем я всегда смогу излить душу. И я теперь в жизни не одинока.
Надя вышла.
Сиротливая пустота окутала землянку. Кажется, только сейчас была хорошо, со вкусом обставлена квартира и кто-то взял и оголил вдруг стены, вынес всю мебель. Лишь на столе остывал нетронутый чай в кружке. «Странная любовь к чаю!» — подумал я. И вдруг обратил внимание на скомканное письмо Арины. И точно обожгло меня. Я должен, не теряя ни одной минуты, немедленно идти к ней! Все объяснить. Мне дорого каждое ее мгновение, мучительны ее тоска, боль, сомнения. Стал быстро одеваться, натянул полушубок; долго, невыносимо долго искал перчатки и рассердился, решил обойтись без них. На пороге вырос Иванов. Плечистый и угловатый.
— Приходила Арина, — сказал он. — Она не захотела войти, узнав, что тут товарищ военфельдшер.
Я опустился у двери на табурет. Стало не по себе. Как все странно устроено…
Наконец перестало быть секретом, что на Волге разразились события, повергшие в смятение наших врагов. Севернее и юго-восточнее Сталинграда железное кольцо немцев прорвано, станция Лихая в руках советских войск, и есть все основания ожидать, что армия Паулюса будет замкнута в гигантские клещи. Однако судьба наступательных операций почти всегда изменчива, впереди — тяжелые, суровые, изнурительные бои, исход которых будет зависеть уже не столько от опыта и умения воевать, сколько от скрытых в каждом солдате (немецком и русском) душевных сил. В числителе значилось — умение, запас энергии и желание одолеть врага, в знаменателе были усталость, опустошенность и еще раз усталость. При любом, самом лучшем решении этой задачи в результате выходил бы нуль, то есть окончание войны. Но как немцы, так и русские понимали, что этого произойти не могло, и не хотели этого… Первые потому, что слишком ушли далеко вперед, вторые — слишком далеко отступили, чтобы можно было с этим примириться. Сдача Сталинграда, как и в свое время Москвы, означала бы для нас полную капитуляцию не военной машины — бои, несомненно, еще бы шли где-то в глубине страны, — а капитуляцию духа перед юнкерами и фашистскими молодчиками Гитлера.
И если наша организация военного дела оказалась фактически устаревшей и была доломана и создана новая молодыми советскими генералами и трезвыми людьми, пришедшими в армию в последние годы, то дух за двадцать месяцев войны, как в горниле, обрел еще большую крепость. И поэтому сдать Сталинград означало бы тягчайшее преступление не только армии в целом, а каждого советского человека в отдельности, это бы означало убить в себе все то здоровое и главное, от чего в конечном счете всегда зависит победа. Операции, развернувшиеся на Волге, при их благоприятном исходе, скажут русским, что война ими выиграна, война пошла на убыль; впереди предстоят бои, пусть нередко успешные для немцев, но это уже не будет иметь существенного значения. Первостепенное свершилось. Неуклюжий, громоздкий, растянувшийся от полярных льдов до субтропиков фронт разбудили раскаты орудий волжского плацдарма; так громовое эхо будит лес и раскатывается из конца в конец. И хотя газеты еще скупы на вести, хотя еще никем не дан окончательно сложившийся прогноз переменчивого счастья войны, но в душе солдата уже искрилось солнце. Все пришло в движение, совпав с желанием и волей людей на фронте и в тылу. Все чистилось, перестраивалось и подтягивалось. Громова и Калитина эти дни не застать в штабе. Мое личное, беспокоившее нещадно меня, окажись оно достоянием других, выглядело бы мелким и пустым в сравнении с неожиданно взбурлившим потоком значительного и большого. Готовилось наступление. Не дать немцам возможности перебросить хотя бы часть сил с нашего участка на Волгу — стало главным в жизни генерала, офицера, солдата. Каждый в напряжении ждал приказа.
Когда гремят пушки, молчит вдохновение и прячет свои тайны сердце. Я все больше отходил от Арины, снедаемый мучительной неопределенностью; вырвать из груди то, что там пустило глубокие корни, значило вырвать жизнь. Ее короткое полное гнева и скорби письмо, но зыбкое в своей уверенности, меня в конечном счете порадовало: только любящая рука могла написать так! Но когда Арина натолкнулась у меня на Надю перед ее отъездом, то опасения ее стали выглядеть правдой. К тому же ей наушничает Соснов. Да и она сама воочию убедилась в моем коварстве. Гнев, слезы, желание мести вытеснили благоразумие и овладели ею. Она могла простить все, кроме обмана, которого в сущности не было, но в который она уверовала больше, чем во все существующие истины. Любовь в хорошем и в дурном — слепа. Дважды я пытался встретиться с Ариной и оба раза тщетно. В третий я решил быть настойчивым, пришел на почту и застал там Соснова. Он, Карпинский, круглоликая бесцветная девушка, прибывшая сюда вместо Нади, и сержант-цензор резались в подкидного. За стенами землянки для них жизнь не сдвинулась с места, частное и общее было пустым звуком: они отработали положенный в полевых условиях свой рабочий день. Арина стояла подле Соснова, заглядывала ему в карты, в руке у нее кружка. Мое появление не вывело ее из равновесия. Напротив, обрадовало, но не в добром смысле, потому что появилась возможность наглядно показать мне, что время ее не заполнено скукой.
— Ты опять в роли водоноса? Я тоже жаждущий, напои, — указал я Арине на кружку.
Уши у Соснова покраснели. Карпинский поздоровался и предложил стул. Арина осталась холодной.
— Что, тоскуете, товарищ старший лейтенант? — прозрачно намекнул на Надю Соснов.
— Так точно, товарищ капитан, соскучился по вас и заглянул на огонек. Надеюсь, рады гостю?
— Как сказать.
— Неужели колеблетесь? Тогда не буду надоедлив. И повернулся к Арине. — Мне необходимо с тобою поговорить, чтобы все объяснить. Объяснить, что клевета живуча. Клеветники обладают силой, способной без точки опоры опрокинуть земной шар. — И пульнул камень в огород Соснова. — Тем более, если обладать слащавой, липкой, как патока, физиономией.
Арина нарочито подчеркнула «вы»;
— Я бы могла поверить, если бы вы сами верили, что все это клевета. У вас достаточно на это смелости?
— Да.
Соснов с гневом бросил карты на стол.
— О какой смелости вы ведете речь? Умрите, но не давайте поцелуя без любви, Метелин!
Я едва сдержал себя, спокойно ответил:
— Если бы речь шла о вашем поцелуе, Соснов, я бы удавился, но не принял его. У вас мокрые губы.
Соснов вскочил, покраснел как вареный рак. Что-то сказал обидное, но меня он больше не мог ничем ужалить, даже если бы свершилось чудо — взорвался он от злости и желчи. Я повернулся и вышел. Некоторое время еще надеялся, что Арина остановит меня, выбежит вслед. Но, увы, этого не случилось. Встречи с нею были вечностью и неповторимым мгновением одновременно; я бывал счастлив, знал радость, горе и слезы, но никогда еще я не испытывал столько мучительной боли и не был так несчастлив, как сейчас. Точно вывалянный в грязи шел я. Все вдруг обернулось против меня, сомкнулся круг, и тем более это унизительно, что причиной всему несуразность, ложь, подозрительность; человек, которого стал считать своим вторым я, который вытеснил из меня мелкую щепетильность тщеславия, смог поднять меня выше, сделать красивее мое сердце и душу, наконец, без остатка всего заполнить собою, легко захлопнул передо мною дверь, со злой иронией усомнившись в моем мужестве. В груди тоскливо. Мозг отказывается что-нибудь понимать. И если бы смерть сейчас вырвала меня из жизни, придавила тяжестью земли, то и тогда бы, кажется, не утихла боль; нужно было что-то сильнее смерти, чтобы унять во мне все это.
Ночь прошла как в угаре. Во мне безраздельно жил и цеплялся за вечность безвольный и слабый человек; он копался в себе, терзал душу, готов был унизиться, плакать, молить; метался он, растерянный, между действительностью и ложью, вымыслом и правдой. А утром я точно переболел лихорадкой, едва держался на ногах; поглядел в зеркало и не узнал своего лица, своих глаз, губ, носа, лба — все стало резче, суровее, тронуто мертвенной бледностью, сковано льдом. Передо мной стоял человек, которого я ни разу не встречал в своей жизни — суровый и выгоревший. И мне он был неприятен: я знал — он все может, исполнен решимости, в его груди вместо тепла и души сплав железа и воли. Это он, а не я сегодня брился, тщательно приводил себя в порядок, завтракал. Иванов передал ему принесенное утром почтальоном письмо Арины (я больше чем уверен, — в письме девушки были слезы, боль, сердце), но, не прочтя его и не взяв в руки, сказал:
— Сожгите.
Иванов мялся.
— Мы с вами, Иванов, договорились, — проговорил он, — дважды одно и то же я вам никогда повторять не буду, если, разумеется, вы хотите остаться моим товарищем.
Иванов быстро встал у печки, открыл дверцу, швырнул в нее конверт и тотчас удалился. Тот продолжал свой завтрак. Ему было неловко, что он чем-то обидел Иванова, к которому успел привязаться. Но и разменивать себя, как мелкую монету, на жалкое подозрение и ревность, на ничтожную месть, опять же только для того, чтобы вызвать ответную ревность, он не мог. Он видел в этом что-то унижающее человека. Любить и не верить, значит, не любить, превращать чувство в орудие пытки и жизнь — в мышиную возню. Он, однако, возвратил Иванова назад и сказал: «Мы с вами мужчины, Иванов. Симпатизируем друг другу. Недомолвок у нас не может быть. Чувство, как и родник, не любит мути. В противном случае из него не пьют». Иванов переминался с ноги на ногу. Что-то до него дошло. Он был лучше меня, потому что он пытался понять этого человека, найти в нем доброе и правильное, не осудить. Я же философии этого незнакомца не разделял; мне неприятен был он, его железная правильность логики, убедительность доводов — все в нем. И он, словно расслышав во мне эту неприязнь к себе, с желчью и насмешкой, как с луковицы, начал сдирать кожуру с моего «я», обнажая и выставляя напоказ все то, что было только вчера, когда я, жалкий и униженный, не мог понять самого себя, думал, что даже смерти не унять во мне тупой боли, что готов ползать червем, лишь бы все вернуть, восстановить, что след утраченного я буду всю жизнь отыскивать, согнувшись и стоя на коленях; и все это во мне называется человеком? — спросил он и презрительно отвернулся. Он счел ниже своего достоинства вести дальше со мной спор. И я был смят, прижат к стенке, раздавлен. Он был сильнее, и он был поэтому прав. Но в одном сходились безраздельно: обнажи и выставь на всеобщий показ эти бури и метели, это смятение и взрыв — все равно это мелко и жалко в сравнении с тем, что происходило вне меня. Оно прозвучит даже как что-то нелепое, противоестественное.
События зрели. Гром и раскаты наступательных боев на Волге все настоятельнее будили неоглядную линию обороны на центральном участке фронта. Наступление здесь, собственно, началось чуть ли не с первых дней прорыва на Волге; передовая и ее тылы жили деятельной и напряженной жизнью. Однако в основном это были локальные бои, сковывающие силы противника и пробующие свои с тем, чтобы в ближайшем будущем запустить всю огромную машину. Армия, в состав которой входила дивизия Громова, правым своим флангом упиралась в стены города Ржева, находящегося в руках немцев, левым — уходила почти отвесно по прямой на юг. Вбить клин во вражескую оборону, перерезать железную дорогу, соединяющую Ржев с Великими Луками, создать тем самым угрозу окружения Ржевской группировки стало конкретной тактической задачей дивизии. Этим жил каждый солдат, каждый офицер. Застигнутые бурей в океане люди сбрасывают со своего челна, как балласт, все свое личное, что может отвлечь их внимание, повредить спасению; целеустремленность их предельна. Театр военных действий, хотя и не был в прямом смысла роковым океаном — судьба заметно поворачивалась спиной к немцам, но его штормило ежедневно; одни войска сменяли другие, шла перегруппировка подразделений и частей как в армии в целом, так и в полках, бригадах, дивизии. Целесообразность этого было трудно определить, но напряжение росло; от взора разведки немцев это передвижение не ускользало, они тоже оттачивали свое оружие, готовили ударный кулак и делали то же, что и мы: предпринимали пробные вылазки, нащупывали уязвимое место в нашей обороне. Но сам факт их этой нервной активности был не в их пользу: если враг вылазит из блиндажей и окопов и создает видимость наступления, не помышляя о больших планах, он явно хочет замести следы своей слабости, испытывает страх перед грядущим. Немцы не могли перейти в большое наступление по двум причинам. Во-первых, у них скверно складывались дела на Волге, и, во-вторых, зима и сугробы сковывали их по рукам и ногам, особенно авиацию. Лучший исход в сложившемся положении они видели в активной обороне: ввязываясь в бои с нами и отражая наши атаки, они одновременно делали главное — совершеннейшим образом укрепляли свои позиции. Мы в этом убедились значительно позже, в первые дни нового года, когда, наконец, от частного перешли к общему большому наступлению. Но главное и мы сделали за эти месяцы — немцы не перебросили отсюда на Волгу ни единого своего солдата.
Мое подразделение в общем котле тоже было расформировано, вернее упразднено: маршевым ротам нужны были люди. Я вместе с Ивановым попал в полк к Санину, в разведку; остальные — кто здоровьем покрепче — в артиллерию, слабее — в интендантскую службу. Оседлый образ жизни сменил беспокойный и опасный. Сутками не снимаю с себя маскхалата, сплю урывками, наспех, на коленях пишу свои заметки. Никогда у разведчиков не было столько работы, как сейчас. Какие-то упругие, стальные люди: сколько ни вали на их горб — несут. Мое хлипкое здоровье, соприкоснувшись с ними, окрепло, будто рукой сняло хворь. Санин уговаривал остаться при штабе полка, но я наотрез отказался, чем заметно обидел его. Ему явно не хватает меня, да и мне иногда до слез хочется поплакаться ему в жилетку, но креплюсь. Однако Санин есть Санин. Чужого человека не обидит, не перегрузит, оградит; зато своего — уездит. Даже разведчики спрашивают: «Что полковник вас не любит? Гоняет в хвост и в гриву?» Я усмехнулся. Надо знать старика, чтобы не толковать так его действия. В крови Санина — привязанность к ближнему, но в то же время, когда надо, он, как и себя, не щадит близкого ему человека. «Свой не обидится» — его неизменная формула. В полку Санина железный порядок, нет крика и треска, той бесконечной путаницы и сутолоки, которые возникают при переформировании частей и подразделений. Другие с ног сбились, выполняя бесчисленные приказы. Он хладнокровен, всю энергию и силу тратит на укрепление созданных и заведенных им правил. По сравнению с иными у него меньше потерь, позиции полка доминируют над немецкими. И хотя командование не жалует Санина (он внес не присущий армии гражданский дух), тем не менее внимание сейчас приковано к его полку, как к самой собранной, пробивной, ударной единице. Громов и Калитин, офицеры из штабов армии и фронта здесь частые гости; полку предназначалась роль киля в корабле во время взламывания льда.
В том, что мы правофланговые, и ваша заслуга, Метелин. Разведчики не дремлют. Всё вы расписали, как на блюдце.
Санин пригласил меня вечером к себе в землянку на чашку чая, доволен, разговорчив.
— Может, водки хотите? — спросил он.
Но меня волнует не чай и не водка. «Все расписано, как на блюдце», а сидим на месте, чешутся руки схватиться с немцем.
— Почему все застопорилось, Степан Петрович? — спрашиваю я. — Давно пора. Слева и справа от нас идут бои. Мы же пульнем два-три раза из пушек, подразним собак и опять в кусты.
Санин тряхнул белой как лунь головой, и я подумал, что он сейчас рассмеется над моим драчливым задором. Но глаза его неподвижны, грустны.
— Давно вот так мы с вами не сидели за столом, — вздохнул отечески ласково он. — И я вас не угощал чаем. Вы изменились. Даже этот петушиный задор — идут бои… не ваш. — Санин налил в кружки чаю и указал взглядом на галеты и сахар. — Пейте, как пьют в Саратове, до сорока потов. А бои у соседей, что ж… Это пока не бои, игра в бои. Однако что все-таки с вами? — опять спросил Санин. — Куда девался прежний Метелин? Наблюдаю за вами эти дни и не пойму — холодный, весь в себе, до предела расчетливый в мыслях, в поведении, поступках. Выкладывайте, какие кошки скребут на сердце? Я о вас говорил с Калитиным. Вы же с ним друзья, водой не разлить.
Калитин! С тех давних пор, когда я и Надя ушли из его землянки, так и не довелось с ним свидеться. Как-то я позвонил ему, чтобы поздравить с высоким назначением, но голос его по телефону прозвучал официально и сухо, и я решил, что люди, возносясь, утрачивают вкус к старой дружбе. Было тогда Невдомек, что я слишком плохо знаю Калитина, чтобы так безапелляционно судить о нем. Он тоже смертный, у него тоже есть сердце, которое способно страшно и остро болеть.
— И что же Калитин? — спросил я, отметив преднамеренную паузу Санина.
— Он считает, что ты сыграл главную роль в том, что уехала Надя.
— Он может считать, — внезапно вскипел я, — все, что ему будет угодно. Но так считать значит поставить ее на одну доску со всеми. Он плохо разобрался в этом человеке. Смешно и глупо. Мы ногтя не стоим Нади.
— Ты сердишься, Юпитер, значит, ты не прав!
— Это как раз тот случай, когда Юпитер зол и Юпитер прав, — отвечал я. — Конечно, если стать на точку зрения Соснова и его дружка, то можно скатиться в болото и забрызгать грязью все вокруг.
— Калитин слишком самостоятелен и порядочен, чтобы становиться на чью-то точку зрения, — возразил Санин. — Он, кстати, просил прислать вас на свободе к нему. Но прими и мой выговор. Дыма без огня не бывает. Даже тогда, когда люди клевещут на тебя, — разберись, откуда это идет, и не подавай повода для злословия.
— Нет уж, извините. Надо быть последним дураком, чтобы пытаться на каждый чужой роток накинуть платок. Умные быстро поймут и разберутся, если это ложь, а ослы? Так им и надо!
— Опять Юпитер злится?
— На этот раз я только хочу сказать, что разговор мне этот неприятен.
Санин миролюбиво пододвинул галеты, указал на чай — не кипятись, пей, — но сам не собирался так скоро оставить начатый разговор. Ему про меня все известно, он не пропускает мимо ни одного моего шага; по-отечески обеспокоен и хочет казаться, равнодушным.
— Как вам будет угодно, можно и прекратить, проронил он, переходя на «вы». «Ты» и «вы» чередовались у него в зависимости от внутреннего накала. — Я думал, вам будет интересно побродить в потемках своей души не одному, а с человеком, который для вас все-таки не посторонняя кочка. Плакаться не позорно даже гранитной глыбе. Без слез жизнь, как сухомятина, грубая и черствая. Пора бы уяснить это. Самый великий подвиг из всех подвигов — это прожить жизнь. Кто этого не понимает и настраивает себя и других на иной лад, тот обречен на жалкое прозябание. Которое, кстати, тоже называется жизнью. И мне огорчительно, что и вы, мой друг, оказались в плену весьма сомнительных умонастроений. Мало быть мужественным перед другими, надо быть мужественным и, может быть, в первую очередь, перед самим собою, чтобы уметь заглянуть в свою глубину и разобраться, насколько она прозрачна и чиста. Не умеешь этого сделать сам — приди к другу. Ведь мы с вами созданы для того, чтобы жить! И жить для того, чтобы была жизнь. Это звучит весьма курьезно, но в этом философия, смысл существования человека, который назвал себя советским. И пусть будет проклят тот, кто чернит, проклинает имя человека, видит в нем не его доброе начало, а все никчемное и наносное, которое наметает на него, как ил, среда, общество, круг людей, с которыми он соприкасается. От ила даже самая глубокая и полноводная река мелеет. Я хочу, чтобы вы, Метелин, не мелели, а оставались самим собою.
— Что вам про меня известно? Скажите же наконец, — спросил я.
— Буквально все и ровным счетом — ничего! И первое и второе — правда.
— В таком случае объясните!
— Вы дали возможность Соснову выспаться на себе, выражаясь фигурально, провести себя за нос. Даже Громов, услышав про ваши шашни, поморщился. Репутация ваша подмочена. Ему непонятно, во-первых, как позволила вам совесть сейчас, когда внимание каждого приковано к судьбе Родины, заниматься чем-то иным. И, во-вторых, он хорошо знает Арину, близкий приятель ее дяди. Оскорбление, нанесенное ей, не может не задеть его.
Я больше не злился и не кипел. Санин окончательно обезоружил. Было такое ощущение, как будто вывернули меня наизнанку. В действительности я не предполагал, что существует такой запутанный клубок, спектакль, в котором мне отведена столь неприглядная с точки зрения общепринятой морали роль; и все это настолько убедительно, что я сам склонен верить, будто весь я нечто опасное и инородное в этом общепринятом. Опровергать, доказывать — значит ломиться в открытую дверь; сочтут дураком, скажут, дыма без огня не бывает, и еще больше вываляют в навозе. Как свалить этого дракона?
— Таких пилюль мне еще не преподносили, — сказал я.
— А вы их не глотайте, — посоветовал Санин.
— Теперь уж вынужден буду, раз они изготовлены. Но самое скверное, что обо всем этом рассказали Громову. Даже потом прошибло. Какая гадость! — Я с сердцем отодвинул кружку с недопитым чаем.
— Да вы не огорчайтесь так, — успокаивал Санин. — Громов тонкий человек, рубить с плеча не в его характере. Ему знакомы и добрые ваши стороны. За бои с танками под Васютниками он вас и двух ваших солдат представил к награде. Вас — к ордену Ленина. Да и зачем думать, что во время великих свершений жизнь отдельно взятого человека должна пригаснуть, снизить свой накал. Просто — есть главное и второстепенное. Есть то, что принадлежит людям, и то, что принадлежит каждому человеку в отдельности. Не надо только смещать эти понятия, менять их местами. Но вы, батенька, тоже фрукт! «Чужой платок… роток» — все это оружие, конечно, из арсенала разумных, но заряжено оно холостыми патронами. Подлеца надо уметь всегда вовремя одернуть и заставить его замолчать.
— Я тоже не сторонник инерции. Но у меня сейчас такое состояние, будто я — это огромная лужа, кто-то вошел в нее и замутил.
Глаза Санина потеплели.
— Наконец-то поняли главное! Ваша решительность и убежденность далеко не столь состоятельны, чтобы ими всецело руководствоваться.
Я встал из-за стола.
— Позвольте мне уйти.
— Не позволяю. Садитесь и пейте чай.
Санинские софизмы возымели определенное действие.
Он сломил во мне волю, и я почти физически ощутил невероятную тяжесть обстоятельств, в которых оказался; они оплели меня черной паутиной. Поступать вопреки им я был бессилен. Уязвленное самолюбие, сочувствие, косые взгляды сторонних, несуразность поступков Арины — все это глубоко ранило меня. Я пожалел, что не избежал встречи с Саниным. Он еще раз заставил пережить уже мучительно пережитое, разбудил сомнения.
— Вы безграмотны в чувстве, — сказал Санин, словно угадывая мои мысли; смысл его слов не сразу дошел до меня, и он повторил. — Да, да безграмотны.
Я задержал на нем вопросительный взгляд.
— Что это за зверь и с чем его едят?
— Не острите.
— Тогда предложите ввести в школьную программу новый предмет — любовь. Чтобы я не был безграмотным.
— Не острите, — повторил Санин. — Над своим же невежеством смеетесь. Да, в программу школы непременно надо ввести предмет — чувство, любовь, эмоции. Вы правы.
— Этого я не утверждал, — возразил я.
— Я это утверждаю. Да, изучать любовь как любовь полезнее, чем иные пустопорожние предметы, для того чтобы стать человеком. Изучать любовь Ульянова и Крупской, Павки Корчагина, любовь Чернышевского, Анны Павловны, наконец, Аксиньи, Анны Карениной — значит воспитывать в себе доброе, разумное, значит вытравить из себя то, что близит нас не к человеку, а зверю — ревность, эгоизм, алчность и деспотизм. Любовь — то великое, божественное благо, то нечеловеческой муки кара для человека, — часто слышим мы. Кара — всегда следствие безграмотности в чувстве, инстинкта. Не улыбайтесь скептически, — вспылил Санин. — Если бы наравне с историей, математикой, физикой у нас в школе читался предмет — чувство, любовь, эмоции, вы были бы лучше, собраннее, чище, Метелин. И сотни, тысячи ваших сверстников — тоже. И школа после войны придет к этому предмету. Ваш потомок не будет, подобно вам, числить себя мутной лужей.
— Утопия, Степан Петрович.
Санин не собирался сдаваться.
— Сегодня — да, завтра — нет. После войны, наряду с восстановлением хозяйства, мы серьезно вернемся к человеку. Его моральное кредо станет не только главным предметом школы, жизни. Научить юношу, девушку правильно любить — значит на две трети сделать их настоящими людьми. И на все сто процентов изгнать из жизни идиотизм, азиатчину, пошлость.
— А пока? — прервал я Санина.
— А пока… — запнулся он. Мгновение раздумчиво молчал, затем решительно добавил: — А пока вот прочтите, — Санин протянул мне письмо. — Читайте, читайте! Это совсем не то, что вы предполагаете. Весьма любопытно.
Это была частная записка Соснова.
«Степан Петрович, прости, — писал он Санину, — что я такой скот — не могу высказать просьбу устно. Дела! Сам знаешь, каков мой генерал, у него не разгуляешься на воле. Звонить тебе не решаюсь по этому вопросу, так как разговор через час будет достоянием дивизии; такая уж у нас конспиративная связь! Короче, сегодня решен вопрос о Метелине (я как-то тебе о нем говорил. Старший лейтенант…). Он направлен в твое распоряжение. Постарайся сунуть его куда-нибудь в преисподнюю, чтобы он оттуда не вылез. Подробности — при встрече. Заранее обязан и тысяча благодарностей. Генерал сегодня о тебе хорошо отзывался.
Твой Соснов».
Я так и застыл на месте.
— Вы, оказывается, с ним на «ты»?
Санин подошел к печке, достал уголек и раскурил трубку.
— Однажды Громов пригласил к себе командиров полков и чистил нас, как говорится, за милую душу. Подле генерала вертелся Соснов. — Санин вернулся к столу. — Приглянулся он мне тогда. Первый раз ошибся в человеке, потянулся к нему. После снятия стружки Громов оставил нас ужинать. К концу вечера Соснов мне уже говорил «ты», клялся в преданности и верности. Выболтал о романе с Ариной. Твои ворота он, разумеется, вымазал дегтем. Я умолчал, что знаком с тобою.
— Нечего сказать, в вашем присутствии обливают друга грязью, а вы и глазом не моргнете! — вспылил я.
Санин пропустил мое замечание мимо ушей, похлопал письмом по ладони, затем спрятал в карман.
— Обидно. Вы почти ровесники и такие разные. Один предпочитает открытую игру, другой — закулисную возню. Мерзко и нечистоплотно. «Сунуть в преисподнюю!» Откуда это у него? Окажись я пошляком, карьеристом, просто слабовольным, я бы распорядился вашей жизнью, как двугривенным. В противном случае я бы мог оказаться в немилости у Соснова. А ведь печка, от которой вы оба танцуете, — любовь. И ты еще говоришь…
Я окончательно успел прийти в себя. Сказал Санину:
— Вы не объективны к Соснову. Если он чуть-чуть не провел на мякине такого стреляного воробья, как вы, то что ему стоит подцепить на крючок доверчивую плотвицу? Это тоже надо уметь. Соснов — талант! — Я рассмеялся.
Мое легкомыслие Санину было неприятно; он даже заметил, что мог ждать всего от меня, только не поверхностного отношения к делу.
— Соснов не так прост, — добавил он. — Ядовит и может укусить.
— Если вы ему в этом поможете, — уже серьезно сказал я. — А что касается предмета в программе школы — любви, то все-таки это утопия. После войны все будет не так. Время далеко уйдет вперед, и то, что сегодня разумно, завтра окажется архаичным.
— Стать лучше — никогда не архаично.
Я начал собираться. Санин уже не удерживал больше. Но ушел я с сознанием, что он так и не решился сказать мне чего-то главного, оставил для другого раза.
Утром, ни свет ни заря, Санин был уже на ногах, заявился ко мне в землянку, приказал по тревоге поднять разведчиков. До наступления рассвета еще часа два-три. Самый сладкий сон. Внезапный подъем по тревоге расстроил людей — некоторые только-только вернулись с поиска, не успели отогреться с мороза. Вторую неделю кряду бьются люди, стараясь добыть языка, устали как черти, и все тщетно; глядя на Санина, думали: «Понимает ли он, что такое невыносимо трудно?»
Санин тоже мрачен. Свинцом налит взгляд.
— Добыть языка надо! — Слышится его прерывистый голос. — Я преднамеренно не тревожил вас и вашего командира с вечера, чтобы дать возможность отдохнуть телу и забыться голове три-четыре часа. А сейчас в дорогу… — Санин посмотрел на часы, повернулся ко мне. — Тактику, старший лейтенант, надо изменить. Разбейте людей на три группы. Перед каждой в отдельности поставьте определенное задание — добыть языка. Добыть, чего бы это ни стоило! Участки, — он расстегнул планшет, достал и развернул карту, — вот здесь, здесь и здесь. Одну из групп возглавите вы лично, старший лейтенант.
Мы нырнули из тепла в предрассветную стылую рань. Холодно было сердцу. Сжималось, дрожало оно на ветру. Собаку не выгонишь со двора! Разведчики шли.
«Язык» был приведен. Заработали все телефоны от ротного до армейского. Воркующе трубка слала поздравления, разливала горячую неподдельную радость: «Наконец-то! Даже не представляете, как это много значит!»
Мы, разведчики, исподлобья глядели на языка, перепуганного, маленького, как сморчок, немца. Слишком на этот раз дорого он стоил.
Меня к обеду доставили в медсанбат: часть черепа была оголена. Словно умелая рука куперовского индейца скальпировала кожу. Благо разведчики, бинтуя, не отсекли ее совсем! Санин плакал. Я не видел его слез, но слышал их, пошутил:
— Один мой знакомый когда-то мне говорил: есть главное и второстепенное; есть то, что принадлежит всем, и то, что принадлежит каждому человеку в отдельности. И еще он говорил мне: мало быть мужественным перед другими, надо быть мужественным и перед собой. Самый великий подвиг — это прожить жизнь. Без мужества этого не сделать. В противном случае будет не жизнь, прозябание.
— Не дури! Молчи. Тебе нельзя говорить!
— Вот так вы, педагоги, всегда. Ставите нам образцы, а когда мы уподобляемся им, сокрушенно разводите руками, приговаривая: а мы-то думали — он будет человеком!..
Санин сам доставил меня в санбат, поднял всех на ноги, сидел до позднего вечера, пока не окончилась операция. И только к ночи вернулся в полк.
Ночью мне было плохо. Но к утру температура упала, сознание прояснилось. К вечеру стало очень худо, ночью опять повезли на операционный стол. Ни на минуту я не сомневался, что буду жить. Хотя вокруг почему-то слишком все напряженно; сестры и врачи ходят в моей палате на цыпочках, шепчутся. Краем уха случайно уловил: «Три дня… не больше. Внезапный шок… Гангрена неминуема. Может, срочно эвакуировать?.. Сейчас уже бесполезно… Повторить вливание?.. Этим ускорите конец; всякое возбуждение категорически противопоказано…» Но в этом категорическом приговоре я различил и голос отчаяния и окликнул его.
Подошла дородная с прелестным материнским лицом женщина в звании полковника. Прикоснулась прохладной рукой к моей, негромко спросила:
— Что, милый?
Я попросил посидеть рядом. Оставшимся незабинтованным глазом заглянул в ее глаза. Увидел растерянность, испуг, печаль. Я назвал ее по имени и отчеству и сказал, чтобы она не волновалась. Она очень удачно произвела операцию, и я обязательно буду жить. Буду жить потому, что все делала она, а не тот, который только что обрек меня…
— И еще. Клавдия Ивановна, есть к вам просьба. Вечером, если вы освободитесь, почитайте мне стихи, — попросил я. — Если можно, Байрона…
И опять я почувствовал на своей руке прохладу нежной материнской руки. Но вечером ничего не помнил. Не помнил я и в последующие дни… Мне снилось, что я умер, на солнечный диск набросили черный платок, как на зеркало, когда в доме покойник, было темно, тесно и душно лежать; вместо подушки люди сунули под голову сучковатое бревно, и я с горечью думал и спрашивал у них: «Люди, неужели человек не заслужил у вас большего?» А когда очнулся, то у изголовья нашел Санина; почерневшее, с провалившимися глазами и впалыми щеками глядело на меня привидение. Второй глаз мой был разбинтован. Когда же это?.. Я сразу узнал старика, улыбнулся ему.
— Кланяйтесь в ноги Клавдии Ивановне. Необыкновенная женщина. Необыкновенный специалист! — Голос его дрожал.
Я повел взглядом по сторонам никого больше не обнаружил рядом.
— Хочу есть. Чертовски хочу есть! — сказал я.
— Ну, теперь все. Я, кажется, свободен, — засветился улыбкой Санин. На щеках крупные, как у мальчишки, слезы.
Только спустя два дня после этого мне окончательно стало лучше. Совсем был похоронен. Да и сам чувствую, что воскрес из мертвых. Хочется без умолку говорить, просто лежать с широко открытыми глазами, ловить шорохи, суету за стенкой, чей-то то взвинченный, то ровный голос. Исчезла тяжесть, лежал как невесомый.
— Ну, милый, воскрес? — подошла Клавдия Ивановна, опустилась на стул возле кровати, пощупала пульс. Глаза задумчивые, серые и необыкновенно нежные руки. — К счастью, все обошлось, — подмигнула она.
Мне сменили повязку. И сразу стало легко, будто помыли голову, даже утих в ушах звон.
— Завтра разрешу вам сидеть на постели, — улыбается Клавдия Ивановна. — А через неделю выпишу. Дней десять-пятнадцать отдохнете и — в строй. Вы не знаете, как меня обрадовали.
— Вы меня больше.
— Это, милый, мне судить. Когда мать рожает ребенка — одно чувство, когда она спасает его — другое. Так было и здесь.
— У вас ласковые руки, Клавдия Ивановна.
— Ну-ну, если бы слышал, как я орудовала иголкой, другое запел.
— То же самое.
— Спасибо, милый. — И заторопилась. — К вам еще посетитель. Не могла ему отказать в свидании. Он все время очень интересовался вашим состоянием. Вечером мы почитаем Байрона. Хотите? У нас совпали вкусы. Я тоже люблю этого поэта за смелость, силу и мужество.
— Хочу, Клавдия Ивановна.
Она повернулась к сестре, убиравшей бинты и склянки:
— Зовите капитана Соснова.
Я так и замер. И не успел опомниться, как он во всем величии предстал передо мной. Клавдия Ивановна вышла. Соснов широко улыбался.
— Я рад, что у тебя все позади, старший лейтенант. — В голосе наигранная веселость.
— Кто вам дал право тыкать? — спросил я.
Соснов не смутился.
— Давайте, Метелин, забудем распри. Я затем, собственно, и пришел к вам. И согласен на все, вплоть… Короче, вместо войны предлагаю вам мир. Это искренне и окончательно. Чувствовать постоянно, что есть человек, которому ты знаешь цену и который тебя презирает, — ей-богу, чувство это не из приятных. Вы, видимо, успели заметить, что у меня много друзей, что я располагаю возможностью отплатить благодарностью. И в то же время знать, что есть человек, способный в любую минуту подставить тебе ножку, а то и дать пинка… Взвесив все это, я решил объясниться с вами откровенно.
— Короче, зачем вы пришли?
— Наконец, мы же мужчины!
— Я в этом сомневаюсь.
Соснов стушевался.
— Вспомните Чернышевского, — сказал он. — Его роман «Что делать?». У двух мужчин достало благородства понять друг друга. Этот классический пример достоин подражания. Правда, наш век иной — лирики не любит! Грубость, физическая сила, хамство и неотесанность правят миром.
— Наш век не любит лицемеров, — прервал я Соснова. — Зачем вы пришли?
— Я могу удалиться. Разговора мужчины с мужчиной не получилось. Ваша дружба мне дороже ссоры. Вы этого не хотите понять. Заставить себя прийти сюда мне стоило немалых усилий. Но я это сделал не столько для вас, сколько для очистки собственной совести. Не хочу остаться нечестным. Вам известно мое чувство к Арине. Я не оспариваю вашего. Но я вправе считать, что мое — глубже и сильнее. Оно заставило меня не любить вас. Как, впрочем, и ваше чувство настраивало вас против меня. Корень зла обнажен. Осталось одно — вырвать его. И это целиком и полностью зависит от нас двоих.
— Я бы поверил вам, если бы вы не говорили так красиво, — сказал я.
— Кому что дано! — воскликнул Соснов. И примирительно добавил: — Вы настроены агрессивно. А зря. Мы должны помириться, сделать это ради Арины, ее покоя. Если вы считаете, что любите искренне, и если это, разумеется, будет угодно ей, я могу отойти. Я готов жертвовать, поступиться ради человека, которого люблю. Готовы ли вы? Наконец, даже плохой мир всегда лучше войны. Мы же люди, черт возьми, чтобы понять это! Дайте руку, и конец распрям. Если я в чем виноват, простите!
Соснов сделал широкий жест.
— Почему вы боитесь меня? — остановил я его. — Ведь не желание обрести дружбу, а страх привел вас сюда. Чего вы боитесь?
Соснов побелел:
— Я и это могу простить вам. На другое я и не рассчитывал.
— Что же, пришли только за тем, чтобы получить плевок в лицо? Нет, вы не из тех простаков! Неделю назад советовали, хлопотали о том, чтобы сунуть меня в преисподнюю, а сегодня предлагаете дружбу. Такие превращения бывают только в кино. Как прикажете понимать все это?
Лоб Соснова покрылся капельками пота.
— У вас, капитан, перехватило дыхание?
— Я бы не переступил этот порог, если бы не настояла Арина.
— Вы заметаете следы, капитан?! Минуту назад вам зачем-то требовалась моя дружба? Я не забыл.
Соснов вынул из кармана конверт.
— Вот вам письмо от Арины.
Мгновение я не верил, но на конверте узнал ее почерк.
— Потрудитесь возвратить это обратно, — сказал я. — Я рад был убедиться, что вы вполне годитесь в почтальоны. — И отвернулся к стенке.
Арина! Ничему не хочу верить… Возможно ли все это? Она неотступно эти дни была со мною, являлась во сне, приходила, когда окутывало черным туманом забытье, я знал ее наяву чистую и недоступно красивую сердцем, мыслями, верил в чистоту ее поступков, действий. И если бы сказали вдруг, что все реки обратились вспять, я скорее бы воспринял это, чем то, что увидел ее письмо, предназначенное мне, у человека неприятного и ненавистного. Когда он вышел, я не заметил. Не заметил, как сам вдруг поднялся и босыми ногами прошлепал от кровати к окну, оперся о подоконник. Рубленая крестьянская изба качалась, чудилась зыбким челном. Арина!.. Гулко билась кровь в висках. За окном, обмерзшим по краям, догорала вечерняя заря. Плавила, искрила снег. Пронизанный лучами невидимого солнца, воздух неподвижен. У ног голых ребристых деревьев тощие черные тени. Дорога, вылизанная полозьями саней, отливает глянцем. Глухо, ни одного шороха, лишь неистово что-то незнакомое колотится в груди.
Хозяйство Звягинцева, как привыкли называть клуб, свертывалось, готовилось к жизни на колесах. Это был самый примечательный признак: конец обороне! Да из этого уже никто не делал тайны, этим фактически жили. Правда, дивизия не предприняла ни одной серьезной попытки прорвать немецкую оборонительную линию, но соседи слева и справа вели жестокие бои, хотя успехами похвастать не могли; увеличился поток раненых, напряженнее звенел вокруг воздух. Поговаривали, что южнее нас немцы будто бы вклинились в нашу оборону. Но если даже и было так, то это уже не имело существенного значения в умонастроении солдат. Тетива была натянута до предела, и двух мнений быть не могло: оставалось одно — отпустить ее. Тридцать первого декабря, вопреки тревожным слухам, Громов собрал в наполовину свернутом хозяйстве Звягинцева офицеров и солдат дивизии для вручения орденов и медалей, совместив это со встречей нового года. Отличное настроение генерала, как по невидимым проводам, передавалось всей дивизии. Дивизия встречала Новый год шумно и с песнями. Немцы слышали на расстоянии, что у нас непринужденно и весело, и в другой раз взбесились бы, чтобы испортить обедню, но сейчас, поджав хвосты, прятались в подворотню. Клуб едва вместил людей, смешав, как игральные кости, рядовых с командирами разных рангов. Калитин сидел на сцене за красным столом, справа от Громова, рядом с ними член Военного Совета — генерал (он и Громов вручали награды) и два офицера из штаба армии. Калитин похудел, точно его немного отжали, суше стало лицо, резче очерчен череп, надвинутый на глаза, коротко остриженные волосы резче подчеркивали крутизну лба. Почти с приметной грустью он всматривается в лица солдат; настроения никому занимать не надо: сам факт получения ордена — праздник, а признание заслуг при народе горячит кровь, пьянит самолюбие — в огонь и в воду, в стужу и на смерть готовы люди. Калитин обеспокоен: многие ли из них смогут пройти весь путь? Бои назначены на пятое. Молодые, мужественные и сильные люди! Дай им в руки вместо меча заступ и мастерок, они одним порывом очистят землю от скверны и сорняка, возведут дворцы, прорежут в пустынях каналы. А жить многим осталось пять дней. Мучительно знать, что ты бессилен предотвратить неизбежность. В то же время на тебя возложено нести ответ за их судьбу не столько перед законом, сколько перед совестью. Вот сидит Санин, за этого почти спокойна душа. И за майора — командира батальона, что сидит за ним, — тоже. А вот справа от них — подполковник. Ему дали сегодня Героя — человек редкой, гигантской физической силы; ему одному в руки дубину, и он переколотил бы половину немецкой армии. Но за его полк он, Калитин, будет держать страшный незримый ответ перед теми, кто там, в тылу, ждет возвращения сына, отца, брата (Громову он говорил и теперь обязательно настоит на своем полк надо поручить другому!). Калитин смотрит в мою сторону и не видит меня: мысли заняты другим. В душе он рад, что эти люди, рисковавшие жизнью, не остались незамеченными, рад тому, что у них солнечно на душе, что с ними ему предстоит долгая, трудная и суровая боевая дорога; но опять и опять не покидает дума — все ли он сделал, чтобы этот путь имел меньше колдобин и ухабов?!
Я перевел взгляд на Громова и отметил в нем состояние, совершенно противоположное Калитину. Он сосредоточен на том, что делал сейчас. Настроение его не выбивалось из общего потока, царившего здесь, было безмятежно, светло; он радовался радостью этих людей, верил в их неуязвимость; малейший непорядок, готовый обернуться роковым образом, считал преступлением, но смерть солдата, как и свою, никогда не отвергал как что-то противоестественное и нелепое.
— Метелин! — вдруг прозвучала моя фамилия. Словно токи прошили меня. Между узкими и тесными рядами я едва пробрался к сцене. Громов вглядывался в мое лицо, будто среди прочих мое имя явилось чем-то неожиданным для него и он желал разобраться во мне.
— Поздравляю!.. — Он пожал мне руку, быть может, чуточку суше, чем другим, и не приколол сам, как остальным, орден к моей гимнастерке.
— Служу Советскому Союзу!
Я не успел по-солдатски твердо повернуться кругом, как чьи-то руки обхватили меня со спины.
— Вы что же, не хотите, чтобы я поздравил вас с такой высокой наградой? — по-братски Калитин поцеловал меня.
— Спасибо, Борис Михалыч.
Он взял из моих рук орден и приколол к гимнастерке. Гремели аплодисменты.
Когда я сел на свое место, Санин шепнул:
— Попробуй я, командир полка, назвать комиссара по имени и отчеству при всем честном народе, всыпали бы мне на всю катушку. — Выражение глаз у Санина плутоватое. — Знаете, с кем дружбу водить! Вот вам и утраченный вкус к старой дружбе! Очки втираете! — Санину больше, чем мне, неприятен был холод, который возник между мною и Калитиным. И теперь, когда он увидел, что в сущности ничего серьезного не было и что мне все это тоже приятно, он по-детски открыто радовался. — Молитесь богу, что у нас такой комиссар. — И добавил: — Перещеголяли меня, у вас два ордена Ленина. И жить торопитесь и чувствовать спешите.
Но когда назвали Санина и он встал у парапета сцены, зал гремел. Командиры, солдаты его награждение приняли восторженной бурей. В аплодисменты каждый вкладывал душу, и тесный клуб ломился от этого шторма. Член Военного Совета слегка свел брови, насторожились офицеры из штаба, да и Громов передернул плечами: Санин никогда не ходил в козырных тузах! И выглядело странным, что у разных людей так много скрыто неподдельной любви к нему. Что они находят в нем особенного? Один Калитин понимающе улыбнулся, разделял бурную радость зала: отсутствие особенного в Санине было особенным!
— Вас, подполковник, возводят в культ! Позавидуешь, — пошутил Громов и крепко пожал ему руку. — Поздравляю.
— Служу Советскому Союзу!
Он вернулся на место. Я приколол к его груди орден.
— Видите, и я вас догнал, — сказал Санин. — Не хочу, чтобы время оставалось только молодым.
— Что же, старикам? Пресная будет картина.
— Нет, — возразил тепло он. — Для молодых…
— Соснов! — хлестнуло вдруг по ушам. Между рядами к сцене пробирался адъютант. Ему навстречу широко улыбался Громов, сказал какую-то шутку, в первых рядах прошел смешок. Как незаезженный, с трепещущими ноздрями холеный конь, встал около генерала Соснов, начищенный и красивый; по-девичьи овальное лицо покрылось торжественной бледностью.
— …мужество и доблесть… орденом Красной Звезды, — услышал я.
— Позвольте?! — прозвучало почти одновременно. Санин, встав с места, направился к сцене. — Позвольте, — повторил он. Зал утих. Громов, застыв, ждал: чем, собственно, обеспокоен командир полка? Соснов, вытянутый, как струна, белый, как гипс, напоминал изваяние. Слова Санина упали камнем:
— Предлагаю воздержаться от вручения ордена капитану Соснову.
Выстрел не произвел бы такого впечатления. Цепкий взгляд Громова впился в Санина.
— Чем вы мотивируете свое заявление?
Санин выдержал тяжелый взгляд, но почувствовал за спиною напряженную тишину и, казалось, заколебался. Громов повторил вопрос.
— Вы отдаете себе отчет в том, против чего восстали?
— Меня не эта сторона дела интересует, товарищ генерал, против чего… Я всегда знал, что награждение орденом включает в себя не только доблесть и мужество награждаемого, а и его моральную и этическую сторону. И это первостепенно. Так я полагаю, так было и так есть. Не сочтите за труд ответить, за что награжден капитан Соснов?
Громов уголками твердых губ усмехнулся.
— Во-первых, за отличное исполнение своих служебных обязанностей. И, во-вторых… — на долю секунды Громов запнулся. — И, во-вторых, за смелость и выдержку… Могу шире раскрыть скобки. Месяца два тому назад, весьма вероятно, что больше, я поручил Соснову побывать у вас в полку. Он и его товарищ нарвались на засаду немецкой разведки, просочившейся к нам в тыл. Лошадь под капитаном убило… Соснов вернулся на второй день со сломанной ногой.
— В таком случае я категорически настаиваю — не воздержаться, а не давать ордена капитану! — твердо сказал Санин. — Потому что второе — вымысел. Разумеется, вашего адъютанта.
Громов сдвинул брови. Ему было неловко перед членом Военного Совета, офицерами из штаба и перед командирами и солдатами за себя, за Санина и за своего адъютанта. Не зря он с настороженностью относился к этому командиру полка, хотя в душе симпатизировал ему. Сейчас, выступи с открытым забралом любой другой, он, Громов, нашел бы средство осадить его, заставить блюсти субординацию; да и кто бы еще решился?.. Соснов склонил голову. И меня вдруг обожгла догадка. Причина внезапного визита Соснова ко мне в медсанбат перестала быть загадкой. Он надеялся спрятать концы в воду. Один я знал цену его «подвига», и, чуя, что все может всплыть, он искал моей дружбы: приятель промолчит.
— Есть предложение воздержаться, — сказал негромко Калитин и посмотрел на стройного, лощеного, но жалкого Соснова.
— Это сведение личных счетов! — взвизгнул тот.
— Идите, капитан! — процедил Громов.
По списку была названа следующая фамилия…
После официальной части и короткого перекура начался концерт. Вел его Звягинцев. Всепрощающий зритель щедро награждал аплодисментами каждый номер. Артисты — рядовые и офицеры. Зал и сцена — одно поле; артист от щедрости зала вырастал до небес, зал от старания артиста приходил в восторг. Накладки и промахи в счет не шли. Одних и других грело солнце, и чем больше было его света, тем лучше.
Звягинцев во время антракта подошел ко мне и Санину, с дружеским смехом, как ни в чем не бывало, спросил:
— Что бы вы без меня делали? Дохли от скуки, как в бочке огурцы.
— Да, вы молодцом, — согласился Санин.
— И никто доброго слова не скажет. Вам награды, вам развлечение, а я, как болван, остаюсь за бортом.
— Каждому Сеньке своя шапка, — ему в тон заметил я.
Звягинцев со смехом отозвался, глядя на Санина:
— Здорово вы нахлобучили моему другу-фальсификатору на глаза эту самую сенькину шапку. Он шепнул мне, что пошел стреляться. Учтите, если мы завтра будем хоронить Соснова, его смерть на вашей совести.
Санин рассмеялся.
— Не смейтесь. Один раз в жизни человек может сделать доброе дело, — предостерег Звягинцев.
Надо было не знать капитана, чтобы удивляться ему.
— Ты извини, что не навестил тебя в санбате, — положил он мне руку на плечо. — Слышал — ты отдаешь концы. Бутылку водки по этому поводу с горя выпил, плакал. А ты взял и воскрес. Непорядок. Надо возвратить убыток. — И тут же спросил. — Да, ты, говорят, отказался ехать в отпуск после санбата? Мой тебе дружеский совет — не будь дураком! — Звягинцев повернулся к Санину. — Верно я говорю, товарищ подполковник? — И заторопился. Исчез он так же неожиданно как и вырос перед нами. Санин только плечами пожал: «Какой-то укушенный». А меня Звягинцев развеселил. С него всякая беда как с гуся вода.
Опять раздвинулся занавес. Долго чудили конферансье — два молодых солдата; пели, приплясывали, читали, прокатывались по адресу Геббельса. Зал грохотал. И вдруг, едва конферансье скрылись за кулисами, в наступившей тишине отчетливо до моего слуха донеслось:
— Следующим номером — русская народная песня «Не брани меня, родная». Исполняет Арина Леонова.
Мои соседи справа и слева зашевелились, подались вперед. Мне казалось, что я все забыл, поутих, перегорел. Кто-то толкнул меня, спросил:
— Почему не аплодируете?
До боли напрягаю зрение и ничего на сцене не вижу. Негромкие грустные переливы баяна. У баяниста голова круглая как шар, волосы точно лен. Брови тоже белобрысые. Надо же, — думаю я о баянисте. Словно из тумана всплывает Арина. Отблески света, идущего ярким пучком откуда-то справа, лежат у нее на щеке. Глаза неподвижны. Волосы собраны на затылке большим узлом, отчего она кажется взрослее. Ни тени волнения, холодна и печальна. И опять все исчезло. Живет — один только ее голос. Заполнил он подземелье, теснит грудь. «Не брани меня, родная, что я так его люблю…» — бьется раненая птица. Все обрушилось — потолок, стены; вокруг разреженная бездонь и боль. Уже не со сцены, из недосягаемой глубины идут, нагоняя друг друга, нескончаемо звуки нервущейся, нежной, как детство, мелодии. Всплыл в тумане дальний берег. Ночь. Мигают, колышутся в небе звезды. Арина — у самого края реки. Ветер треплет, обтягивает платье, откинул назад волосы. Она застыла в испуге. Руки простерла вперед, обороняясь от ветра. И вновь все исчезло. Жила мелодия. Пела любовь.
Я не слышал, когда оборвалась песня, разбуженный ошалелым взрывом неистовствующего зала, я успел только заметить, что Арина поклонилась, собралась уйти. Зал не отпускает ее, просит повторить песню. Она смотрит в мою сторону, взгляд застыл на мне.
— Браво!
— Бис! Бис!..
Она покачала головой, сказала спасибо и ушла.
Санин покосился на меня. Глаза у него влажно блестят. Видно, в нем не угасли еще звуки песни, не перестало греть тепло мелодии; чужая тревога, тоска отозвались в нем.
— Какая славная девушка!
На сцене вновь стояли конферансье. Их слушать теперь было пыткой. Вообще слушать и видеть ничего не мог. Поднялся, чтобы уйти. Санин не стал удерживать, проводил взглядом до двери.
В коридоре меня остановила Арина. В руке у нее был небольшой сверток.
— Вы уходите?
— Да.
— Я тоже. Проводите меня.
Мы вышли из клуба. Лес оглашал простуженным треском дизель передвижной электростанции. Лампочка, зажженная у входа, вырывала белый лоскут у черного неба. Мороз, как крапива, обжигал лицо, трудно было продохнуть.
— Поздравляю вас.
Ее «вы» хлестнуло по сердцу.
— Благодарю.
— Я все время смотрела на вас, а вы ни разу глаз не подняли.
— Боюсь, если бы даже взглянул, это мало доставило бы вам удовольствия.
— Александр, — голос Арины дрогнул: — Я ни на что не надеюсь и не прошу ни о чем. У меня с Сосновым ничего не было, нет и не будет никогда. Не пойми дурно: я слишком люблю тебя, чтобы лгать тебе и себе. Я поступаю с Сосновым так, как считаю нужным поступать, чтобы наказать тебя; даже тогда, когда ты был там… и очень болен! За красивый миг твоей любви, который стал теперь мне вечностью, я взамен ничего не возьму. Мы не смогли сберечь и оградить от зла своей песни, своего счастья, сердца. Я умру, но не прощу. Я слишком люблю, чтобы довольствоваться малым. Крохи с твоего стола мне не нужны.
— Все, что касается меня и Нади, — ложь, — сказал я.
— Неужели ты думаешь, что теперь нужно, чтобы это было неправдой? — Она ждала только секунду и опять заговорила.
Я молчал. Вопрос ее обжег. Гордая, обозленная, недоступная была она. Лицо ее в призрачном свете молодого месяца было строгим, брови чуть-чуть сведены. Вновь я не узнавал ее, вновь все в ней было для меня неразгаданной тайной, глубиной, непостижимостью. Я одновременно испытывал за нее радость, истинную божественную радость души и боль. Я теперь знал, что у человека любовь бывает один раз: все остальное, что будет потом, будет подобие ее — близкое или далекое. Хотелось упасть на колени и просить Арину замолчать. Голос ее звучал ровно. Она будто угадывала мои мысли, говорила почти о том же, о чем думал я. Только веяло от нее строгостью, холодом и недоступностью. Именно эту — гордую и недоступную женщину в ней я любил и люблю сейчас еще сильнее. Мне отказывает дар речи, я не нахожу хотя бы затасканных, обветшалых, обыденных слов, чтобы объяснить ей все это. Я слышу только свою любовь и отказываюсь понимать ее. Слова ее — «нужно ли, чтобы это было неправдой» — опрокидывают во мне уверенность в ее чувстве. Было ли оно вообще? Я почти уже верю, что за ее гордостью таится равнодушие ко мне. И, прервав ее, начинаю говорить убежденно и страстно: все то, что было, — выдумано ею; никогда в ее груди не было огня; дворец, который она воздвигла, был на песке и вообще это был не дворец, а лачуга, карточный домик. Она с недоумением и страхом смотрит на меня, будто возле нее — человек чужой, незнакомый ей, и я сознаю, что я глуп и жалок, что в самом деле я не знаком не только Арине — самому себе. Но остановиться уже не могу. Качусь с откоса вниз. Как мелкий ревнивец, бессчетно раз называю ненавистное мне имя Соснова, чувствую, что говорю ложь, и утверждаю ее, как правду.
— Вот, я обещала, — резко прервала Арина. — Дядя тоже сдержал слово, — она передала мне сверток. — Не верить человеку значит не только не любить его, но и не уважать. — Она повернулась и ушла.
Я стоял пристыженный и жалкий: ничтожество говорило моими устами. Твердый и железный позволил обнажить в себе мерзкое, нелепое. У каждого человека есть это, но сильные это могут убить в себе навсегда! Я же минуту тому назад был червем. Некоторое время видел спину удаляющейся Арины, ее мальчишескую стройность. И вдруг заметил в руке сверток. Окончательно вернулся к действительности. Что вздумалось ей оставить этот пакет?.. Развернул плотную лощеную бумагу. Приблизился к фонарю. Лес будила треском передвижная электростанция. Ветер раскачивал фонарь. Внезапно я увидел у себя на ладонях три живых красных розы. Отбросил бумагу. Тонкое, как паутина, дыхание разлилось в густом морозном воздухе. «Если это будут красные, я принесу их тебе!» У самого уха прозвучал голос Арины. Показалось, что она стоит рядом. Я оглянулся. Но это была только память; она остро хранит все некогда сказанное Ариной. Три живых красных розы. Чья-то рука их недавно срезала со стебля. Еще не тронута увяданием их свежесть, неукротимо бьется их пульс. Обнаженные и нежные, как три птенца, жмутся они к ладони. Мороз зол и беспощаден. Лепестки обжигает огонь. Но они слишком красивы, чтобы умереть! Рубиновая свежесть их сродни звездам.
Я поднес розы ближе к глазам, дохнул, чтобы согреть, радуясь их чистой нежности; дыхание упало на бархатистые лепестки белым инеем. И вдруг — розы умерли. На глазах у меня угас их рубиновый цвет. Лежали они обуглившись, черные. Я ничему еще не верю, хочу, чтобы все это было сном.
— Черные розы! — шепчут, повторяют губы. Что-то во мне дрогнуло, раскалывается грудь. От света с испугом я бросился бежать в глубь леса. Очень хочу, чтобы все было сном. Что-то на ходу доказываю себе, против чего-то восстаю, о чем-то спорю. Но явь слишком очевидна. Мне не хватает воздуха, тесно груди. По щекам текут слезы…
Итак, новый год!
Сегодня меня пригласили в штаб дивизии, потребовали объяснить причину отказа уехать в отпуск. Всему виной Клавдия Ивановна. Ее твердая рука всполошила штабных работников. Но не те времена, чтобы нельзя было распорядиться по своему усмотрению своим отпуском, тем более, если от него отказываешься. Было бы наоборот, требуй я его. Приятели смеялись, переиначивая известное изречение: жить в обществе и быть свободным от него нельзя; общество не так совершенно, поэтому пользуйтесь свободой.
— Крамольные ведете речи, — сказал я помначштаба. Он в свою очередь пошутил:
— Вы их зачинщик, Метелин. Вместе пойдем на губу.
С приходом в дивизию Калитина обстановка стала заметно теплее. Но еще облегченнее вздохнули штабные работники, когда ушел Соснов. Громов отправил его на передовую командиром маршевой роты. Некому было больше наушничать и доносить. Но, говорят, он нашел себя: рота его успешно ведет бои.
Был поздний час, когда я возвращался из штаба, поднималась вьюга, замело дороги, и вдруг закрутила такая кутерьма — шага ступить нельзя Я решил заночевать у Варвары Александровны. Встретила она меня теплее, чем родного сына, захлопотала у стола, развела огонь. Все в ее доме было близким и знакомым. Здесь волею обстоятельств впервые встретил я. Арину, воздух, казалось, хранил еще ее дыхание. От Варвары Александровны не ускользнуло мое состояние. Но и глазом не повела, хотя все ей, знаю, известно. У нее чаще стала бывать Арина. Угостив оладьями и напоив чаем, она не донимала надоедливо расспросами, лишь сокрушенно вздохнула:
— Мы такими не были. У нас было все проще. Вы, молодые, мудрее и глубже нас, больше вам ведомо всего. Вот потому столько у вас и бездорожья. Поди, и мой Сережа тоже сейчас на перепутье…
За окном стонала вьюга. Старая женщина прислушалась к завыванию ветра, подбросила в печку поленьев.
— Ну, я пойду. А ты ложись, милый, вот здесь, — она указала на кровать у стены. Взбила подушку, отбросила одеяло и вышла.
И опять за окном было слышно, как билась насмерть пурга. Я погасил лампу, пододвинул стул ближе к печке. Черный сумрак обступил со всех сторон, тянул руки к огню. В трубе выл ветер. Угли дышали, двигались, шевелились. За спиной, показалось, скрипнула дверь. Я бездумно всматривался в самое сердце огня, околдованный чем-то непостижимым. Непостижима вдруг стала и жизнь. Если бы знал, где упаду, как бы я поступил тогда — обходил ухабы трусом или рядился в благоразумие? Непостижимость! Может быть, в ней смысл и прелесть бытия? Одни — беды и радости склонны приписать судьбе, другие — сомневаются, третьи — подставляют лицо ветру, испытывая упоение и восторг, а все, взятое вместе, есть жизнь. И я весь соткан из судьбы, сомнений и восторга, хотя разум нередко спорит с сердцем, утверждая противное — мир материален, мои поступки, действия — тоже суть материального, предопределены прихотливой вязью обстоятельств. А так ли это?.. Если бы я слепо верил в судьбу или в сокрушительную силу обстоятельств, то до конца ли я исполнил бы свой долг — быть на земле человеком?..
В печке то ярко вспыхивало, то затухало пламя. Комната, заглушённая тишиной, настороженно ловила шепот синих трепещущих языков огня, потрескивание углей, монотонный, тревожный звон далекой пурги. Со стены прямо в дверцу печки заглядывала моя гигантская тень, чудищем прыгала, едва я склонялся, двигал руками. И вдруг я почувствовал рядом чье-то присутствие. Замер. Варвара Александровна давно спала. Кроме нее и меня, никого в доме не было.
— Александр…
Я не пошевелился. Узнал, чей это голос, но боялся, что это галлюцинация, страшный отзвук чего-то постоянно живущего во мне.
— Прости. Я здесь почти случайно. Меня пригласила Варвара Александровна.
Арина прислонилась к косяку двери, плакала. Ушанка у нее в руке, полушубок расстегнут. Я хотел помочь ей раздеться, она качнула головой:
— Не надо, я сейчас уйду.
— Даже не сказав мне, зачем ты здесь?
— Я пришла просить тебя у тебя… Смешно. Глупо. Но я боюсь. Откинув гордость, щепетильность, я пришла, чтобы просить… Мне сказали, что ты наотрез отказался уехать… Я была у Клавдии Ивановны. Она все знает, она поняла меня, как мать и как женщина. Это она всполошила штаб. Но ты удивительно легко умеешь остаться непреклонным… У меня болит грудь. Раньше я всегда знала, что ты будешь жить… Теперь я прошу тебя уехать в отпуск.
— Я верю в свою судьбу.
— Ты так говоришь только затем, чтобы спутать карты. Судьбы нет. Есть человек, есть его прошлое и будущее…
«Будущее! — подумал я. — Ради него человек сломя голову тысячи раз бросается с крутизны обрыва и однажды, свернув себе шею, остается на всю жизнь уродом». Свое будущее я исходил мысленно вдоль и поперек, вижу его открытым и ясным. Одно в нем несокрушимо — любовь к отечеству; ею определено все доброе, кристально чистое, крепкое и здоровое во мне. Остальное все принадлежит моему вечно неудовлетворенному и ненасытному «я». Перед ним не следует преклонять колена. Не о нем ли меня просит Арина?
— Я перестал тебя понимать, — произнес я. — Объясни, о чем ты просишь?
Арина, не колеблясь, сказала:
— Когда греки приблизились к Трое, первый сошедший на землю должен был умереть. Сегодня, когда все начнется, ты не будешь вторым.
Кровь застыла во мне.
— Не слишком ли рано ты собралась меня хоронить?
— Я слишком знаю тебя, чтобы усомниться, что ты не согласишься быть вторым. А сегодня ты взвинчен, ты тем более должен уехать, чтобы дать времени сделать свое.
Почти враждебно я прервал ее:
— Я всегда видел в тебе щедрость, широту души, человека, который пренебрежет личным во имя других, поймет и рассудит, поступится своим, если даже это мучительно и тяжело. Жизнь, чтобы она была, требует, чтобы жили и умирали ради нее. Сегодня же, когда над нею занесен меч, человеку преступно быть трусом, преступно не желать быть первым. Люди приходят и уходят для того, чтобы была жизнь; нельзя позволить тем, кто со своей смертью хочет обречь жизнь вообще, в частности жизнь дерева, земли, неба, жизнь потомства; это уже не люди, а прожженные до мозга костей, влюбленные в себя негодяи. И когда их тлетворное влияние сказывается и на нас, то это уже болезнь, которую срочно надо лечить, иначе все полетит к черту. Я верил, что нашел в тебе единомышленника, и любил тебя. Сейчас я раскаиваюсь, что обожествлял икону, которая не была ею. Как ты смеешь сказать мне — пусть другие будут первыми, лишь бы жил я, дорогой тебе человек? А может быть, те другие тоже кому-нибудь дороги — матери, сыну, жене, любимой? И ты пришла меня молить у меня, пришла, чтобы дать мне оплеуху? Ты права в одном — я не буду вторым. Но я не отчаявшийся и разочарованный безумец, чтобы, очертя голову, лезть под ледяной душ. Я хорошо знаю цену жизни, чтобы не продешевить ее.
— Ты не прав! Ты не прав, — Арина рывком опустилась на колени, обхватила мои колени руками, запрокинула голову к моему лицу. — Ты не прав. Когда прорвались к Васютникам танки и ты был в самой гуще фрицев, этих чудовищ, взбаламутивших мир, я плакала и радовалась за тебя; и если бы ты ушел, ты все равно не умер бы, жил! Умереть за жизнь — это гуманно; в этом я вижу твое и свое назначение. Хотя мне грустно, по-человечески болит сердце, что люди все так переворотили. Как ты этого не можешь понять? Я же все-таки чуточку женщина, рождена, чтобы быть матерью…
Глаза Арины полны слез. Я поправил ей волосы, сжал ладонями лицо.
— Не надо. Твои слезы жгут мне грудь.
— Я плачу от счастья: ты не переставал любить меня.
— А ты?
— Разве сам не знаешь? Ты все про меня знаешь. И только притворялся, что тебе ничего не известно.
— Это правда.
— Возьми свои слова обратно, что я не икона и ты не будешь на меня молиться.
— Беру.
— Я никому тебя не отдам!
— Поднимись с пола, ты устала.
— Нет. Мне еще никогда не было так удобно, как сейчас. Ты слышишь? Остановилась жизнь. Есть только ты и я. И этот миг для меня и тебя вечен. Ты прости, что я сегодня так раскисла; и если бы ты согласился вдруг со мною, может быть, я что-то утратила бы в тебе. — Арина уткнулась лицом мне в грудь. — Это правда. Утратила бы. Еще никогда я так тебя не любила, как сейчас.
— Бери свои слова обратно, что я не прав, что не еду, — улыбнулся я.
— Беру, — отозвалась она строго. И тем же тоном добавила: — Можно только презирать человека, который ограничивает круг своего назначения — собою, своим желанием, своим благополучием, счастьем, а проще — заботой только о своей шкуре.
— Мой друг, — попросил я. — Исполни мое одно желание.
— Я исполню тысячу твоих желаний.
— Нет, только одно.
— Тысячу!
— Хорошо, пусть это будет первым.
— Какое?
— Улыбнись мне.
— Я знала и раньше, что ты несносный. И все-таки люблю тебя, — Арина рассмеялась, вспугнула тишину. — Очень! — выдохнула она.
В печке, догорали угли. Сумеречное марево комнаты густело. Неотрывно всматриваюсь в лицо Арины. Оно в туманном свете кажется нарисованным акварелью; стушевались его черты, матовым блеском отливают глаза. С киноленты сошла сюда, в глухую тишину, неповторимой красоты юная женщина. Ею одной дышит воздух, ей шепчут что-то, перемигиваясь, умирающие угли. Мне с нею легко, спокойно и безбурно на душе. Только однажды шевельнулось что-то, как лезвие, острое.
— Может быть, и в самом деле разумнее уехать в отпуск? — спросил я.
Она отрицательно качнула головой.
— Нет.
Я видел — ей это сделать было нелегко.
Началось!.. Ожили люди. Даже у Санина разгладились морщины, повеселел. Васютники остались за спиной. Этого часа ждали каждый день. А когда он пришел, он все же был внезапным. Покатилось, как под гору колесо, время. Версты, рубежи, населенные пункты, дороги и бездорожье. За лесом мы ворвались в крохотную деревеньку. Она горела, улицы выстилал дым. Жители были угнаны. Ни одного человека. Из горящего дома я спас забытую хозяином немецкую овчарку. Она увязалась за мной, и я дал ей кличку Буран…
Полк Санина впереди. Мы, разведчики, впереди полка. Я, кажется, начинаю жалеть, что не воспользовался возможностью отпуска: не рассчитал свои силы, нагрузка на Сердце, голову и каждый мускул тела — гигантская. Ночью и днем бои. То, что я мог вчера, здоровый и сильный, не мог сегодня без сна, отдыха, покоя. Устаю. Чертовски устаю! Некогда спать, некогда есть, даже говорить приходится на ходу; тылы поотстали, «сидим» на сухарях, тушенке и концентратах и скрашиваем это однообразие, лишь когда отобьем у немцев их вонючий шнапс и превосходные консервированные компоты. Ничего не скажешь, к войне они готовились, походный быт у них отличен и в рационе не только черный кофе! Но фортуна им изменила — нет попутного ветра, не помогают ни отчаяние, ни продажные полки подлеца Власова. С омерзением, как жаб, бойцы «своих» колют штыками! Немцы уже бьют тревогу не о Волге; на центральном фронте — дыра! Не сегодня-завтра захлопнется чугунной плитой новый котел. Не жалеть живота, солдат, не жалеть наготовленной вдоволь техники, умереть, но ни на шаг назад: за спиной — Германия! Нет, она стала перед лицом и нашим и немцев, и этого уже не изменят никакие бури и штормы. Земля горит, плавится, пьет человеческую кровь. Дороги перестали быть дорогами, превратились в кладбища скарба, машин, танков, пушек, людей. Как нескончаемый частокол вех, ведут эти кладбища к Германии. За неделю полк Санина с боем прошел сто километров пути. И хотя мы валимся с ног от бессонницы и усталости, готовы пройти еще тысячу. Наступление — не оборона: целеустремленным ветер в спину, и пусть не знают отдыха голова и мышцы, зато в сердце радость.
Сегодня третий день, как стоим на месте, точно уперлись в стену. Крепость кажется неприступной. Немцы засели на доминирующей высоте, судорожно стягивают сюда силы, намереваясь в выгодный момент сделать рывок вперед, если же не удастся — зарыться в землю, прервать наше стремительное наступление.
Санин обеспокоен. Собрал командиров. Мылит головы, разбирает то, что сделано, что предстоит делать, подчеркивает безрассудство, просчеты и показывает, во что все это обходится. Мы молча слушаем и, получив каждый свое, молча удаляемся, чтобы скорее вернуться к себе в подразделение. Завтра на рассвете опять штурм.
Наспех пишу свои заметки. Разведчики спят впритык друг к другу на полу (бункер отбили у немцев). Я примостился в углу возле коптящей гильзы, свет ее падает желтым пятном на листы бумаги. У ног лежит Буран. Пес с человечьей любовью привязался ко мне, идет в огонь и в стужу. У него умные внимательные глаза, буйволиная сила. Я должник Бурана. Обязан ему своей жизнью. В штыковой атаке он был рядом, немец сшиб меня с ног и занес штык, но Буран опрокинул врага, сомкнул у него на горле свою пасть. Сегодня он что-то невесел. Пытаюсь рассеять его, завести с ним беседу, рассказать ему об Арине.
— Она обязательно полюбит тебя, Буран, если узнает, какой ты у меня молодец.
Он взвизгнул. Но безотчетной тревоги в его собачьих глазах не унять. Кажется, слезы сыплются искрами на пол.
— Она красива, — продолжаю я. Но тотчас спохватываюсь. — Нет, это не то слово. Она неповторима. Она почти такая же, как все, красивая, строгая, гордая, но единственная. Я долго шел к ней. И рад длинной дороге, счастлив, что дошел… Но тише, Буран. Я слышу ее голос.
Арина: Ты меня жди.
— Слышишь?
Арина: Всегда жди. Верь. Я всегда рядом. Если ты очень захочешь, оглянись, и ты увидишь меня. Только надо очень захотеть.
— Слышишь, Буран, это ее голос?! — Опять спрашиваю я и невольно оглядываюсь на дверь. Ничего нет этого, что есть вокруг. В проеме высокой стеклянной двери, обтянутая строгим платьем, стоит Арина. Пол перед нею выстлан блестками солнца. Она по-весеннему яркая. Никогда раньше я не знал этой ее стройности, ее открытых плеч и шеи, волос, собранных в модную прическу. Воздух чист и прозрачен, за ее спиною выласканное свежестью голубое небо. В ее глазах застыла улыбка.
Арина: Ты захотел. Ты очень захотел, и я пришла. Так будет всегда. Всю жизнь.
— Слышишь, Буран?
Он не сводит с меня умных собачьих глаз. В них тоска и грусть. Я потрепал его по холке. Опять оглядываюсь и хочу подняться к Арине навстречу, но она жестом останавливает меня. И опять все, как было: спящие вповалку люди, дрожащий чадный огонек гильзы, печальные глаза Бурана и сырой непроглядный сумрак подземелья. Перо валится из рук, гнетет усталость, сон давит на голову.
— Оставь, Буран, кому нужны твои слезы, — говорю я и разглядываю его огромные волчьи лапы. Он вытянул на них свою ушастую голову. Глаза, как сверла; кажется, они плывут. И вдруг он, перехватив мой взгляд, рванулся с места, лизнул мне шершавым языком щеку и по-волчьи завыл на все подземелье, запрокинув приоткрытую пасть.
— Фу! — со злостью крикнул я.
На полу задвигались спящие. С другого конца земли донесся до них волчий раздирающий грудь плач. Буран занял прежнее место. И опять его глаза ловят мои.
— Эх ты, собака, — сказал укоризненно я. — Что же ты не даешь людям покоя?
Он взвизгнул, подполз, прижимаясь к полу, ко мне и стал лизать мои сапоги.
Собачья привязанность. Собачья любовь. У меня переворачивается душа. Гляжу на него и не знаю, отчего мне нынче так тоскливо и грустно.
ОТ АВТОРА
Когда записки Метелина попали ко мне, я не мог не довести их до конца.
Дивизия Громова острым треугольным клином развивала наступление, в его острие, как в буре алмазная твердь, был полк Санина. Преодолев первые трудности, клин довольно легко входил в грунт обороны немцев. И вдруг — натолкнулся на пласт гранита, застопорился. Это рано или поздно, собственно, должно было произойти. Но сейчас, когда запал наступления еще не иссяк, когда кровь, разогретая встречным ветром, еще кипела, приостановка наступления означала бы срыв всех ранее намеченных планов. Неуязвимым оказалось село Никольское. Крыльями коршуна раскинулось оно по косогору, встало плотиной. Полк Санина уперся, как в каменную стену. Предпринимаемые одна за другой атаки не давали желаемых результатов. Как по цепочке, передается беспокойство штабов — батальона, полка, дивизии, армии, фронта, наконец Ставки. Туда и обратно летят объяснения и приказы. Неприметное прежде имя Санина упоминалось на всех частотах. Полк подкрепляли людьми и техникой. Но с той, немецкой, стороны делалось то же самое, плотина цементировалась, взять ее приступом, разрушить с ходу фактически стало невозможным. Ждать же случайной течи в плотине тоже было немыслимо, хотя последнее было бы для нас самым благоприятным. Санин, принимая на себя губительный огонь всех вышестоящих штабов, не сидел сложа руки, но не в его натуре было рисковать жизнью солдат, и он вел не штурм, сейчас бесполезный, а тщательное наблюдение с тем, чтобы найти нужную брешь, сделать рывок и с наименьшими потерями опрокинуть врага. Истекал пятый день, как застопорились колеса наступления. Санин в этих условиях был неугоден. Горячие головы считали преступным не отхватить руки, если дался палец; по-своему они были правы: очистить всю территорию, занятую немцами, в три месяца, а не в год, не в два и не в четыре, конечно было бы приятнее, но у войны есть свои законы, необходимое ей время, чтобы созреть и умереть; разумнее было бы при всех обстоятельствах не впускать врага так далеко в свой дом. Комиссар дивизии Калитин многое сделал, чтобы оградить Санина. Благодаря ему он уцелел на своей должности.
Метелин, докладывая данные разведки, побывал у Санина на командном пункте. Старик был хмур и нелюбезен. Складывалось не все так ладно, как хотел и предполагал он.
— Можешь ты понять, — обратился он к Метелину, — что я пекусь не о себе? Может быть, я в тысячу раз лучше понимаю, что значит для страны, для вкалывающего впроголодь до семи потов русского мужика и рабочего в тылу это наше наступление! Но легче ли станет тому же мужику, рабочему, стране в целом, если мой полк будет перемолот?
Тут же находились штабные командиры, комиссар полка. Метелин выслушал Санина до конца молча. Но не согласился с ним. Он был того же мнения, что и многие противники Санина: застрять на полпути преступно!
— Ну и что дальше? — едва сдерживался Санин.
— Детали, частности, благоразумие ваше верны. Но сейчас важно целое — наступление приостановлено. Я пришел предложить вам кое-что свое. Данные разведки за это.
Санин подавил в себе гнев, сразу почуял за словами Метелина что-то более тревожное для себя, чем все вместе взятые тревоги до этого. Он отдал бы всю, до последней капли крови, свою жизнь за жизнь этого рано повзрослевшего человека. Вот он перед ним — статен и смел. Смел сердцем, душою и мыслями. Сейчас он строг. Что-то выношено, выстрадано им в его груди. Левая бровь намертво изломана, едва приметно вздрагивает уголок сомкнутого рта. Лицо бледное, желтое, измучено бессонницей и усталостью. Сколько же у этого человека сил? В то же время в нем проглядывает что-то чрезвычайно юное, не тронутое ни жизнью, ни временем. Первым желанием Санина было, когда он услышал слова «пришел предложить свое», прогнать Метелина, не дослушав до конца, но момент был упущен. Санин сам не знал определенно, отчего вдруг остро защемило под ложечкой. План Метелина до крайности прост: все подготовить к броску, одной роте незаметно подойти к самой линии немецких окопов и залечь; он, Метелин, с группой из семи бойцов создаст видимость, что хочет перебежать на сторону немцев. Ворвавшись в окопы, завяжет бой; ему придет на помощь находящаяся в относительной близости рота, одновременно придет в движение весь полк. Санин смутно думал о подобной течи в плотине и теперь был потрясен ее отчетливой, обнаженной ясностью. Но он знал и другое — какой ценой за все это может заплатить Метелин.
— Вы предлагаете мелкую авантюру! — закричал Санин, сжал кулаки, почти вплотную подступил к Метелину, дрожа и зеленея. Никто его не видел таким.
— Назовите это, как вам будет угодно. Но сейчас все средства хороши, — возразил Метелин.
— Мальчишка!.. Вы свободны, старший лейтенант. Идите!
А вечером Санин пришел в бункер разведчиков. Метелин сидел у дальней стены в накинутой на плечи фуфайке, задумчивый, неподвижный. Санин отыскал его взглядом, сказал:
— Надо, сын мой. Надо!
Выдалась редкой красоты ночь. Месяцем высвечено небо, облита серебром безветренная снежная пустыня. Мороз лют и крепок, воздух прозрачен. Кругом, как на убранном корте, — рассыпь и собирай иголки: видно на километры; шаром покати — пусто и тихо. И только высокие звезды живут, перемигиваются. Все давно уже было готово. Между мотками колючей проволоки, рогатин и мин рота, закутанная в маскхалаты, доползла к намеченному рубежу. В Москве куранты пробили два часа. В теплых избах видят сон. Передовая тоже спит. Перемигиваются в небе звезды. Неужели и там, на этих высоких планетах, сейчас кто-то так же крадется неслышной поступью по снегу?.. И вдруг линию окопов разбудили выстрелы и взрывы. Как отбойные молотки, застучали пулеметы. Взламывают мостовую, рушат грунт. Как в пустой бочке, взорвались граната, вторая, третья… стелется черный дым. Никто ничего не поймет.
Немцы разбужены по тревоге. Ощетинились. Но это не у них. Это что-то у русских!.. И вдруг… Они мало еще верят этому. Отстреливаясь, к ним пробиваются семь солдат, бегут. Падают, опять бегут. Огонь по ним, как ливень. Двое скошены. Срезан, как колос, еще один. Уцелевшие взяты под перекрестный трассирующий огонь пулеметов.
Немцы открывают бешеную стрельбу по окопам русских. Хлопают и рвутся мины.
— Вир волен ин дойчланд геен. Шнель! Шнель!
Вир волен! — кричит не своим голосом Метелин.
За спиной грохот, стон, вой, пальба.
— Бросайте оружие! Оружие долой! — летит из репродуктора навстречу по-русски из немецких окопов.
— Оружие долой!
Метелин рывком сбрасывает с груди автомат, вскидывает руки вверх, ускоряет бег. Примеру его следуют остальные.
— Шнель! Шнель! — повторяет он, захлебываясь.
Но едва вскочив на бруствер, рвет из-за плеча второй автомат. Иванов швыряет гранату. Третий, четвертый, пятый вступили в бой. Опять никто ничего не поймет. Как из снега, белым привидением поднялась в маскхалатах рота. Немцы видят, что это ловушка. Страх горячей лавой ползет в окопы. Крики. Стон. Выстрелы. Метелин льет свинцовую струю из автомата в самую гущу. Справа и слева от себя слышит нарастающее перекатное «Ура-а-а»… Полк ожил. Глаза стараются ничего не пропустить. В десяти метрах бьет из амбразуры по наступающим пулемет. И тут, почти в упор, Метелин не успел отшатнуться, в него из пистолета выстрелил долговязый с перекошенным лицом немец. В ответ Метелин прошил врага очередью и выронил автомат, схватился за грудь. Земля опрокинулась. Но он цепко держался на ногах. В стороне стучал пулемет. Из черной пасти земли вырывается слепящий огонь. Метелин чувствует, что сейчас сойдет с ума, если пулемет не замолчит. Выпрямился. Его старается загородить собою Иванов, оттеснить от немцев. Опять стучит пулемет. Не человек, титаническая сила двинулась к амбразуре. Шаг. Еще один… Три… Пять… Семь….
Метелин оглянулся. На мгновение там, позади, стихло перекатное «ура».
— Богатыри, — проговорил он и бросился в черную пасть ночи…
Утром Никольское было очищено. Бои гремели далеко впереди.
Жизнь! Удивительная, большая жизнь у тебя, человек. Во имя славы и гордости земли, во имя бессмертия людей, всего живущего ты, человек, идешь, непреклонен и строг, в любую дорогу. Стужа ли, пурга, зной обжигают тебе лицо, ты остаешься верен себе, потому что знаешь — ты идешь во имя жизни… Другие назовут это долгом и честью, а ты назвал это своей судьбой. И она завидна будет живущим и тем, кто придет вместо тебя через тысячу лет. И тогда, как сегодня, у перекрестья дорог, на возвышенности, в километре от Никольского, в безмолвии на минуту замрет прохожий. Здесь стоит памятник с высеченным на обелиске барельефом. Надпись, выбитая на меди, гласит: «Александр Метелин». Он не ушел. Есть сила, которая хранит людей, передавая из века в век их поступь, — любовь. Рядом с памятником поднялись до самой выси неба два тополя. Чья-то заботливая рука выстрогала здесь скамью, обнесла памятник чугунной оградой. У подножия посажен куст ярких кроваво-красных роз. Каждую осень сюда уже много лет подряд приезжает молодая женщина. Она, как всегда, точна. Осенью день его рождения. Ярче убранство природы, прозрачнее неоглядные дали, как натянутая тетива, неуловимо нежно звенит воздух. А прошлым летом она, праздничная и яркая, побывала здесь со своим трехлетним сыном. У мальчика светлые волосы и синие глаза. Она привела к его изголовью жизнь и была уверена, что он слышит ее, не может не слышать, потому что в ней стучало его сердце.
Бендеровская быль
1
У разных людей — разные судьбы, и он посвятил всего себя тому, чтобы сделать эти судьбы схожими в лучшем: все люди имеют право на счастье.
С этой мыслью он вышел в жизнь. И жизнь, точно мстя ему за то, что он дерзнул помериться с нею силами, рано лишила его юности, отняла молодые радости и взвалила на его плечи непомерную тяжесть. И вот теперь, очутившись в тесном каменном мешке, он отчужденно подумал, долго ли сможет еще держаться. Он уже не человек. Ком израненных нервов. Тело в саднящих ранах, в лохмотьях обожженной кожи, запястья растерты ржавой цепью. Мгновение — и тоненький волосок, связывающий его с чем-то несоизмеримо большим, находящимся там, за каменными стенами, оборвется. Жизнь! Была ли она?
Он прислушался. Оглушительно, как молот, стучала в виски тишина. Напрягая все, что еще осталось в нем от сильного человека, он старался не заплакать. Только бы не заплакать! Казалось, жизнь прошла мимо — он ничего не успел. Слеза, вопреки воле, обжигая, скатилась по щеке и гулко упала на щербатый цементный пол к босым ногам. Он отчетливо услышал это и вздрогнул. Завтра его уже не будет. На рассвете расстреляют. Ему нет еще и двадцати пяти. Рубят под самый корень, как едва успевшую расцвесть белую вишню.
Каменный мешок, куда втолкнули Павла и, точно капкан, захлопнули за ним тяжелую железную дверь, — высокий, четырехугольный, как узкий стоячий гроб, — давил со всех сторон, не позволял даже пошевелить затекшими руками; можно было только стоять впритык к шершавым цементным стенам. Когда Павел очутился здесь, в этом тюремном карцере, первые минуты до его сознания не доходило, куда и зачем его втолкнули. Вернее, он знал, что происходит, но как-то безучастно отнесся ко всему: отупев от физической боли, Павел был рад, что наконец остался один. Ему внезапно стало жалко самого себя. И когда слеза обожгла щеку, когда он явственно услышал гулкий звук ее падения на цементный пол, он встрепенулся, стиснул кулаки, подавляя подступающий к горлу щемящий ком. Нет, нельзя позволить заговорить в себе слабому, жалеющему себя человеку! Стоит только расчувствоваться — и всему конец! Этого лишь и хотят его враги. Тело его — сильное и по-человечески слабое — в нем кроется страшная опасность. Это через смертные муки его живой плоти они хотят сломить дух. Им он, Павел, нужен пошатнувшийся, обессиленный. Увидеть его в слезах — их желание, необузданное, равное скотской страсти.
— Болван! — крикнул на допросе выведенный из себя его упорством палач, молодой, красивый, с тонкими усиками офицер. — Ты моложе меня на полгода, а я стою у вершины благополучия, ты же пресмыкаешься в самом низу. В том виноват ты сам: и у тебя могла быть судьба не хуже моей. Железом не разжалобишь даже добрую душу; смирись, урони слезу, склони непокорную голову — и тебе будет дарована жизнь. Мне жалко тебя.
Павел сверкнул глазами, расправил смуглые плечи, слегка выпятил вперед в рваных ранах грудь и усмехнулся с холодным равнодушием:
— Я не ищу вашей судьбы. Она унизительна для человека.
Удар по лицу наотмашь сбил его с ног.
И теперь Павел до дрожи в сердце трепетно обрадовался своей слезе. Она скатилась не там, а здесь, и была единственной и самой драгоценной его тайной: она вдруг сказала ему о любящей душе его, о милой человеческой слабости. Он был страшно юн, совсем еще мальчик. Юн и счастлив: он обладал смелостью искать, решать, судить… Он прожил неполных двадцать пять лет. Нет, все столетие!
2
По-своему красив, особенно в вечернюю пору, приютившийся на правом обрывистом берегу Днестра небольшой южный городок Бендеры. Стражем возвышается над ним древняя турецкая крепость, опоясанная глубоким рвом. Время изъело ее старые стены. На осевшие башни карабкается буйно разросшаяся лебеда, дерзко выглядывает из некогда грозных бойниц. Акации, липы и клены полонят улицы, укрывают прохладной сенью, сады льют пьянящий аромат зреющих слив и яблок. Но в тот год даже щедрая природа, разметавшая повсюду зелень своих кудрей, не смогла принарядить его: город оскудел, осунулся, как спившийся человек.
Внезапно Бендеры всплыли на арену событий мирового порядка. Слава о городке, прежде никому не известном, перешагнула границы молдавской земли. Горожанам, привыкшим к простору и сонной тишине, вдруг стало неуютно и тесно в своих заштатных Бендерах. По улочкам, переулкам, в скверах, у корчмы, у чадных закусочных, на базаре, у еврейских лавчонок — везде появились скопища пьяного разношерстного люда. В воздухе висит разноязычная брань, сквернословие. На каждом углу, повороте — солдатня в мундирах русской, английской, румынской, французской армий.
Сюда из-за Днестра, как мутные ручьи в половодье, стекались разбитые и потрепанные части белогвардейщины, осколки российской и украинской знати, торговый люд, проститутки, всякая кабацкая заваль. В крохотном, вросшем чуть ли не по самые окна в землю вокзальчике, на привокзальной площади, вдоль железнодорожного полотна, на прилегающих улицах кишат люди, громоздятся ворохи домашнего скарба, узлов, мешков, ржавого железа, разбитых ящиков, амуниции. Отовсюду разит сивушным духом, тяжелым запахом немытых тел. Город похож на развороченное, изрытое поле. Из-за крепостного вала доносятся то разухабистые песни, то беспорядочная стрельба и истошные крики. В крепости разместилась сигуранца. Холодное подземелье вполне годилось под застенки.
Вершитель власти в Бессарабии помещик Богосу — молодой, статный офицер с крупным мясистым лицом, надвинутым на глаза черепом, до лоска выбритым подбородком — изнемогал от счастья личного преуспеяния. История работала на него. Ом верно служил Румынии, с неистовой неутомимостью прибирал к рукам все, что можно было прибрать, и отправлял за Прут; казнил тех, кто был неугоден ему или выражал недовольство установленным порядком.
Богосу славился как гостеприимный хозяин. В его богатом, обнесенном белым каменным забором особняке, с видом на широкий Днестр, не затихал пир. Крестьяне из окрестных сел под конвоем доставляли возами брынзу, окорока, яйца, хлеб, вино. Все это, как на жерновах, перемалывалось, уничтожалось, поглощалось прожорливыми утробами. Пили и ели выбитые из седла большие и малые правители, прыткие политики разной масти и национальности, чванное офицерство. Были здесь монахи, попы, были женщины, высокопоставленные и девственные в свое время. Недобрая судьба тонкой веревочкой связывала всех их. Снедаемые честолюбием, они позировали друг перед другом, швыряли на игорный стол утратившие цену банкноты, закатывали высокопарные речи, предрекали судьбы народов и всей планеты в целом. Но обветшалый покров ложной патетики бессилен был прикрыть безудержное обжорство и откровенный разврат. Худосочный оркестрик из скрипки, барабана и рояля, который приволокли сюда из захудалого городского ресторана, до рассвета терзал слух чувственной, отупляющей музыкой. Шла бессовестная и наглая купля-продажа, совершались бесчестные сделки; торговали всем: ценностями, женщинами, солдатами, делили земной шар; грозились размозжить череп и потопить в крови родившегося по ту сторону Днестра красного младенца. Широко распахнутая дверь особняка, как пасть чудовища, изрыгала зловонный поток злобного смеха, истошного рева, музыки, пьяных выкриков и женского визга.
Богосу праздновал победу. В черном сговоре англичане, американцы, французы и румыны залили кровью пламя Октябрьской социалистической революции в Правобережной Молдавии. Бессарабию заволокла черная тень ночи.
3
Он пришел в город, когда догорала вечерняя заря. Улицы заполняло непривычное множество людей, солдат в обнимку с женщинами. Свернул к пустынному берегу Днестра и в глухом переулке вдруг натолкнулся возле кустов на какую-то пару; в темноте его смачно обругали по-французски. Павел шутя ответил тоже по-французски:
— Сердитой Наталье — все люди канальи.
Отделившись от женщины, к нему подступил офицер.
Почти одновременно, как из-под земли, выросло еще двое военных. Павел сжал в кармане плаща рукоятку револьвера, окинул взглядом офицера и его партнеров и пожалел, что связался.
— Вы кто? — в упор вызывающе спросил офицер.
— Сегодня, мсье, можно быть свободным гражданином. И я отношусь к касте свободомыслящих. А мое имя вам ничего не скажет, если даже я назову его, — Павел Ткаченко.
— «Павел Ткаченко», — ломано повторил офицер ничего не значащее для него имя, не спуская глаз с правой руки незнакомца. Встретить в полуазиатском крае человека, владеющего в совершенстве французским языком, было приятно и в то же время настораживало: этот почти мальчишка (хотя сам офицер был не старше) позволил себе дерзость быть смелым с ним, что равносильно оскорблению. Штатский был в мягком кепи, плаще, брюки навыпуск, на ногах — узконосые башмаки. Глаза смотрят твердо и пристально.
— Андре, женщину нельзя ударить даже цветком, как сказал великий, а раз он это сказал, значит, выживший из ума мудрец. Но перед тобой ведь не женщина! — откровенно намекнул стоявший в двух шагах.
Из темноты заторопил женский голос:
— Андре, это становится скучно!
— Вы поступаете опрометчиво, мсье, — подхватил живо Павел, — женщина обязательно отомстит тому, кто ее заставляет ждать.
Француз козырнул и, осветив улыбкой красивое чернобровое лицо, бросил Павлу: «Андре Семар, честь имею» и направился к окликнувшей его даме. За ним последовали его приятели.
Павел еще мгновение стоял на месте; дело могло кончиться худо. Сколько раз он давал себе зарок быть осторожным! «А этот тип — славный парень, — долетел издали добродушный голос Андре, обращенный к приятелю. — Не иначе — большевик! Только у них сегодня сохранился еще холодный ум и горячее сердце. Здесь все большевики, черт их возьми!» Француз обратился к женщине, — слов нельзя было разобрать, — та что-то ответила. Офицеры захохотали. Женщина, видимо, ободренная смехом, громко отпустила крепкое соленое словцо, и Ткаченко понял, что она пьяна. С грустью подумал: «Как дико растрачивается жизнь», — и прибавил шагу. Вслед брызнул звон гитары, донеслась шуточная французская песенка: «Лиза, выйди за ворота! Выходи скорей, сестра…» Павел невольно улыбнулся. Ему определенно нравился этот француз-офицер. «Андре», — повторил он про себя его имя.
Небо, усеянное звездами, полыхало синью. Недвижно застыли в безветренной дремоте липы и акации. Из-за черных строений железнодорожного депо выполз месяц, облил призрачным светом крыши домов. Через улицы протянулись тени. Павел не знал, найдет ли кого в отчем доме, откуда, кажется, только вчера неоперившимся юнцом уехал в Петроград. С тех пор много воды унес Днестр в море. Полное неизъяснимого очарования милое детство! Он мечтал стать скульптором; вылепленные им из глины и воска фигурки вызывали у друзей и соседей неподдельный восторг и изумление. При воспоминании об этом на сердце у Павла потеплело. Украсить жизнь человека, научить его радоваться красоте — значит самого человека сделать красивым, а выше этого нет цели в жизни, — так думал он. Но суровый отец слышать ничего не хотел. Художник? Это еще что за блажь? Нет, сыну предназначалась другая участь. Беря Павла с собою в железнодорожное депо, сызмальства приохочивал его к мастеровому делу. И радовался, если парнишка делал успехи. Дружки отца, похлопывая по костлявым мальчишечьим плечам, уверенно прочили Пашку в мастера. А он — и не скульптор, и не мастер. Юристом вот стал; свободно, как родным — молдавским, — владеет русским, румынским, французским языками… Может с любым потягаться и в латыни.
Нетерпение подстегивало, заставляло, гулко и торопливо стучать сердце. Павел поймал себя на том, что несется чуть ли не бегом. Он с усилием заставил себя сбавить шаг. Но так и не смог унять дрожи, когда еще издали узнал полутораэтажный особняк юриста Ионеску с белым котельцовым фасадом и ажурным балконом, а за ним, в глубине заросшего бурьяном двора, скорее угадал, чем разглядел, накренившийся серый домишко с полуразрушенным дымоходом. Отец арендовал это убогое жилье у юриста. Когда они переехали сюда всей семьей, Павлу шел четвертый год. Здесь, в этом заросшем лебедой и подорожником дворе, в доме с земляным полом и покосившейся печной трубой, протекло его детство. Здесь Павел окончил городское реальное училище. Неуемное волнение сдавило горло. Живы ли мать, отец, старший брат Александр, сестры Мария, Елена? Брату и сестрам он обязан тем, что возмужал, получил образование: на их скудные заработки содержалась семья. Отец был прикован к постели: депо сделало его инвалидом.
Маленький кособокий домик в низко нахлобученной серой шапке черепичной крыши подслеповато смотрел на Павла двумя крохотными оконцами, мерцающими в ночи чернотою стекол. Павел провел ладонью по шершавой стене дома, прислонился к ней щекой и ощутил еще не ушедшее дневное тепло, жадно вдохнул знакомый горьковатый запах сухой глины. За плечами Павла почти год службы в Красной гвардии, год сражений и яростных схваток. Участие в рабочих и молодежных организациях Питера тоже требовало мужества и крепкой воли. И везде он умел держать себя в руках, а тут вдруг из глаз неудержимо хлынули слезы. Они непривычно щекочут лицо, солеными озерками скапливаются в уголках губ. Хорошо, что вокруг ни единого шороха, даже беспокойный город умолк, прислушиваясь к начиненной лихорадкой тишине.
Павел кое-как справился с волнением и костяшками согнутых пальцев постучал в деревянную дверь. Никто не отозвался на стук. Он слегка нажал плечом, и дверь глухо скрипнула, но не поддалась. Долго стояла непробудная тишина. Павел даже вздрогнул, когда, наконец, послышалось шлепанье босых ног по глиняному полу. Он сдавленным голосом воскликнул:
— Слава богу, нашлась хоть одна живая душа! Что это у вас за сонное царство?
— Кому и чего еще надо?
— Мама?! — Павел задохнулся. — Мама!
— Ой, боже ж ты мой, святая заступница, услыхала мои молитвы. Сыночек… — трясущиеся руки матери никак не могут нащупать засов.
Дверь натужно скрипнула, отползла в тень. Сухонькая, как былинка, женщина плача бросилась навстречу. Но тут же как вкопанная остановилась, горестно уронила протянутые руки; в диком испуге вглядывалась при лунном свете в высокого, хорошо одетого незнакомца; нет, это не ее Павел…
— Мама!
— Голубок, чего ж ты…
Подтянут и худощав, он казался выше, чем был на самом деле. Черные, коротко подстриженные волосы зачесаны на боковой пробор. Похоже, он делал все, чтобы выглядеть старше, однако молодости спрятать, как ни старалсяне удавалось: по-мальчишечьи топорщились уши, не спасали даже тщательно подстриженные маленькие усики над верхней губой. Только карие, не по-юношески проницательные, светившиеся умом глаза смотрели серьезно, не мигая. Был он, казалось, мягким по натуре; что-то не рабочее, слишком интеллигентное во внешности, осанке, в неторопливой манере говорить, слегка сегодя густые, как у девушки, дугой выгнутые брови.
С беспокойной тревогой всматривался в Павла отец: и его сын и не его; от фамилии в нем мало, не в деда и не в брата Александра удался. Двойственное чувство владело душой Ткаченко-старшего. К острой радости нет-нет да и примешивалась какая-то смутная, еще не осознанная горечь. «Мозолистого, огрубелого мало. Как тепличный цветок с бледными прожилками. Такой немного выдюжит. Художник — всегда растение нежное, с трещинкой», — думал он.
— Значит, говоришь, юрист. А как же лепку, совсем забросил? — не без разочарования уже в который раз переспрашивал хмуро. — Маленьким хоть коников лепил, а сейчас, поди, буржуев защищать будешь? У бедных-то на защиту денег нет. Хватало бы на хлеб — и то слава богу.
Павел, угадывая тайное недовольство отца, сказал:
— Сейчас мир, а не коников лепить надо.
Мать не сводила с Павла туманившихся слезою любящих глаз, про себя досадовала на отца: все бы ему ворчать. Ну чего придирается старый? Лучше и красивее ее сына на свете нет человека.
— Ох, что ж это я сижу! — спохватилась она. — Небось, оголодал в дороге, сынок. Я сейчас, — и принялась торопливо собирать на стол.
— По нему не скажешь, что с голодного краю приехал, — выхоленный.
— И взбредет же такое на ум, — осмелилась, наконец, вступиться мать. — Глазоньки вон погляди — синь одна. А ты, отец, видать, дюже состарился, одно только плохое у всех и видишь. Мороза твоего сердца уже ничем не растопить.
— Ну, раскудахталась, квочка, — недовольно поморщился старик. Про себя подумал: всегда она, тихоня, прикрывала худым крылом своих цыплят, а они вон какие повымахали. Да что толку: ни одного путевого. Павел в буржуйскую профессию подался — юрист! Души не чаял в нем, золотые руки у парня: мастер мог быть на всю округу. Рухнула надежда, как рушится сейчас все. Нет больше твердой почвы под ногами. Мельчает жизнь. Какая-то трясучая болезнь стала, а не житье. — К горлу старика подступили слезы обиды. Вот и прожил он жизнь, а какой след по себе оставил? Чем украсил ее, что сделал, чтоб она, жизнь, стала лучше? Павел был последней его надеждой, и та лопнула как мыльный пузырь.
Не спали до утра. На рассвете Павел собрался было заснуть, но отец не дал. Уже немного успокоенный, он подсел к кровати, где мать постелила Павлу. Пошли расспросы о том, что делается в мире, почему в нем завихрилась такая кутерьма и как он, Павел, собирается устраивать свою жизнь.
— А вы тут как? — в свою очередь, спросил Павел.
— Не об нас речь. Понятно, какая наша жизнь. Я больше хвораю. Александр на войне, сестры на заработках. А мать у Ионеску за домом смотрит. Стиркой белья кусок хлеба добывает.
— Что-то слишком людным город ваш стал!
Отец закурил, закашлялся. Долго не мог отдышаться. Его неприятно кольнуло слово «ваш», но он смолчал.
— Много разного сброда понавалило, это верно, — хрипло сказал он. — Расею коммунистическую думают в яму столкнуть.
И стал хмуро рассказывать, что город теперь, как цветное лоскутное одеяло: расквартировались в нем и французы, и румыны, и англичане; пьет, веселится люд; вешают и ставят к стенке большевиков; всякий мелкий городской житель, как скот из стада, разбрелся по окрестным селам, а часть и вовсе подалась за счастьем в далекие края, чужие страны. Лишь рабочий поселок, пострадавший страшнее всего во время разгрома революции, будто по нему прошла чума, никуда с места не тронулся, примолк, ждет, что будет дальше.
— Ну, а депо как?
— Депо как депо. Когда хворь не одолевает, и я выхожу на работу. Еще и не на плохом счету у начальства. Покорный теленок, он, знаешь, двух маток сосет. — Отец не отрывал взгляда от лица сына, изучал.
— Это как на чей вкус, — отозвался Павел. — Кто телком, а кто и порядочным человеком предпочитает жить. — И обратился к матери, хлопотавшей у плиты. — Ни свет ни заря, а уже у печки возитесь. Присядьте, дайте хоть вдоволь нагляжусь на вас.
— Так у вас же с татой там что-то серьезное.
— Тато ему уже, как несладкая редька, надоел, ревниво проворчал отец.
Павел, томимый усталостью и необоримым желанием спать, тихо рассмеялся. Какое это великое счастье — знать, что у тебя есть дом, после дальней дороги всем своим существом чувствовать его живительное тепло.
4
Дом Ткаченко, стоящий на отшибе, отгороженный от внешнего мира усадьбой румына-юриста, вскоре стал заполняться до отказа людьми. Зачастившие с возвращением сына гости причиняли матери беспокойство. В дом ее вдруг вошла непривычная, напряженно нервная жизнь. Встречая друзей Павла — то молодых, то уже в летах, — она тревожно заглядывала в их лица, старалась разгадать — добрый или злой пришел к ним человек: по друзьям судят о людях, а она не хотела, чтобы о ее сыне думали плохо. Город их с некоторых пор походил на кипящий котел: везде понатолкано солдат, что сельдей в бочке. Каждый божий день арестовывают, сажают в тюрьму, расстреливают; как бы и ее Павел не оступился — он еще совсем зелен, Долго ли до беды. Особенно не по душе были ей те, что очень открыто выступали против установленных властями порядков. Порядка и так было мало, а они еще и против этого малого воюют. Она давно собиралась высказать сыну тревогу своего сердца, да все подходящий случай не подворачивался.
Павел устроился в железнодорожном депо. Профессия слесаря, приобретенная им еще в мальчишескую пору, пригодилась сейчас как нельзя более кстати. Усердием в работе он чуть ли не с первых дней расположил к себе мастера и хозяину мастерских — присланного из Бухареста господина Корческу. Зато рабочим, которые знали Павла по отцу, такое рвение пришлось не по нутру. Они расценили его трудолюбие на свой лад. Ткаченко-старшему сочувствовали.
— Сынок-то с холуйскими замашками! — с нескрываемым презрением говорили одни.
— Старательный, — зло подшучивали другие.
— А на кой хрен уму-разуму его учили в Питере? Зря, что ли? Само-собой — для угодничества!
— Расплодилось этих угодников, что саранчи.
— Нынче их праздник…
Неприязнь рабочих-деповцев к Павлу росла. Многие старики перестали с ним здороваться. А молодежь поговаривала — не худо бы как-нибудь вечером придавить в темном углу выскочку; живым оставить, но так посчитать ребра, чтоб внукам заказал выслуживаться.
Отношение к Павлу круто изменилось, когда произошли события, раскрывшие глаза на вещи не только слепцам, но и зрячим… Правитель Богосу отдал приказ демонтировать последнее оборудование и отправить в Румынию, мастерские и депо закрыть. В спешке снимали станки, начали угонять подвижной состав. Хмуро, с тоской и злобой следили за происходящим рабочие. Каждый про себя сознавал, что творится нечто противоестественное: вырывают из земли корень, чтобы не дать жить дереву — всему рабочему люду. Надвигался момент, когда множество семей и без того нищих останутся вовсе безо всякого заработка, но каждый молчал. Молчал потому, что в памяти до боли свежи дни, когда была подавлена революция; на мостовых еще не высохла кровь. И надо быть безумным, чтобы начинать все сначала, тем более теперь, когда в городе скопище матерой солдатни, вооруженных до зубов наемников-чужеземцев. Таким убить безоружного человека легче, чем улицу перейти. И каждый, взвесив все, решал, что жизнь его ему еще пригодится, и молчал.
— И долго будете молчать? — на станок в цехе демонтажа вскочил Павел. Старая зажатой в руке фуражкой со лба выступивший от волнения пот, как горсть горячих искр, бросил в наэлектризованную толпу рабочих: — Вы как те каменщики, которые строят тюрьму, чтобы потом самим же томиться в ней. Своими руками затягиваете петлю на своей шее. Среди бела дня позволяете обворовывать себя. Более того — помогаете обворовывать!
К монтажникам потянулись рабочие из других цехов. Явились стрелочники, путейцы, оставшиеся без работы кочегары и машинисты. Толпясь, они грудились вокруг Павла. Обветренные лица злы и хмуры. Не все верили ему. Но то, с чем он обращался к ним, опаляло сердца.
Голос Павла звучал резко:
— Оккупанты увозят станки, инструмент, все оборудование, угоняют вагоны, паровозы. Прицел у них снайперский, меткий — ударить по рабочему классу, самому опасному для них элементу, лишить его возможности быть вместе и действовать сплоченно. Деморализовать. Убить рабочий класс как таковой, чтобы его и духу не было, и тем самым превратить Бессарабию в послушный придаток Румынии. Только слепые котята могут не видеть, чего хотят, куда метят бояре, помещики и капиталисты. Так неужели дадим им без помехи докончить свое черное дело? Защита интересов Бессарабии, защита интересов всех трудящихся — не наш ли это с вами кровный долг? Думайте и решайте сегодня, завтра будет уже поздно.
Недоверчиво, испытующе-враждебно глазевшая на Павла толпа ожила и зашумела:
— А мы вот возьмем, да и не позволим.
— Откуда ты такой выискался? Сперва молоко вытри на губах.
— Их, учителей, сегодня — хоть пруд пруди.
— В шею грабителей!
— Не позволи-ли-им!.. — неслось со всех сторон.
— Нас мало! — перекрикивая шум, продолжал теперь уже уверенно Ткаченко. — Но сила наша — в сплочении, мы сильны силою своих мускулистых рук, нераздельной общностью интересов, и поэтому нас много, тысячи, миллионы. Так много, что мы можем скрутить в бараний рог всех буржуев. И сейчас, в этот ответственный для Родины час, когда наши братья и сестры за Днестром — в Красной России — подняли знамя свободы, порвали цепи рабства, в этот решающий для истории момент допустимо ли сидеть нам сложа руки? Поступить так, ждать у моря погоды — значит совершить преступление против самих себя. Сплочение и еще раз сплочение! Только единство спасет нас. Рабочие типографии, маслозавода, артелей — весь мастеровой люд города должен объединиться. Позволить Богосу увезти из Бессарабии то, что принадлежит вам, что создано вашими, товарищи рабочие, руками, — да это ж позор для всех нас! Долой иго королевской Румынии! Ни одного станка, ни единого винтика не дадим оккупантам!
Депо забурлило. Прерывисто и длинно, пронзительно взвыли гудки паровозов. Приостановилось движение. Лязгая буферами, застыли на месте составы. Город испуганно насторожился. Богосу метался, бросался во все концы, готовил солдат. У основного барака депо собрались железнодорожники, толпились горожане. Корческу и его приспешников, попытавшихся было «навести порядок», заперли в кладовой для инструментов.
К вечеру уже бушевал многолюдный митинг. Началась забастовка. В типографию, артели, на маслозавод были незамедлительно направлены делегации от рабочих депо: все должны примкнуть к железнодорожникам и поддержать начатое ими дело.
Ночью в доме Ткаченко собралась группа рабочих ведущих профессий. Спорили до хрипоты, прерывая друг друга. Под низким потолком плавали сизые полосы табачного дыма. Павел убеждал тех, кто сомневался. «Ты молодой и горячий. Нельзя», — возражали ему. Но Павел расшевелил, задел за живое даже самых очерствелых, опасливых и осторожных. Был создай комитет по руководству забастовкой. Во главе его встал Павел Ткаченко.
Утренняя заря полыхала в полнеба. Обстановка, как и сердца людей, накалилась до предела. Население, истерзанное террором, чинимым оккупантами, со щемящим страхом вступало на путь новой борьбы. Однако стоило бросить зажженную спичку, как горючий материал вспыхнул. Забастовка началась. И теперь ею надо было руководить. Павел понимал — наступил, как никогда еще, сложный период в его жизни, в жизни десятков и сотен рабочих, в жизни маленького заштатного городка, всей Бессарабии. После разгрома октябрьских завоеваний вспыхнувшая забастовка явилась первым, факелом в, казалось, повсюду затихшей Правобережной Молдавии, и поэтому она должна была либо зажечь, вдохновить людей на беспощадную борьбу, либо умереть, не созрев, и тем самым стать предвестником длительного мрака бесправия, кромешной тьмы.
Павел действовал решительно и быстро. Он требовал от комитета незамедлительных действий, старался не дать остыть внезапно вспыхнувшему огню. Паникеров и трусов, которые, как и во всяком деле, тут же объявились, он с позором изгонял из рядов борющихся.
К городу прилегали села. Павел спешит установить с ними связь, шлет рабочих представителей к крестьянам; ни один человек не должен остаться в стороне.
Среди оккупантов забастовка вызвала переполох и растерянность. Длилась она уже пятый день. Бухарест приказывал Богосу — подавить бунт. Войска заняли исходные рубежи. В городе было объявлено осадное положение.
В соседних с Бендерами районах действовал крестьянский отряд. Он опустошал имения помещиков, нападал по дорогам на обозы. Возглавлял отряд крестьянин по имени Тимофей. Полуреволюционный, полуанархический отряд этот причинял неудобства не столько оккупантам, сколько местным богатеям. Ткаченко связался посредством агентов комитета с Тимофеем, и тот не замедлил прийти на помощь. На третью ночь после начала забастовки он напал на казармы румынских королевских войск.
К бастующим примкнули учащиеся и молодежь. Учреждения, предприятия, магазины и ларьки были закрыты. На улицах возле вокзала, вдоль железнодорожного полотна выросли баррикады. Мутным потоком из города хлынули эмигранты, попы, монахи; вскачь укатили девицы из так называемого бухарестского походного дома терпимости. Особняк Богосу опустел. Ночью, погружаясь в беспокойную тьму, город зловеще затихал, в нем воцарялось сторожкое ожидание, неслышной поступью расхаживал страх.
5
Ткаченко эти дни проводил почти без сна. К нему тянулись все приводы забастовки. На нем лежала ответственность за жизнь людей, поднявших факел борьбы. Забастовка достигла высшей точки накала, еще один шаг — и будет перейдена та грань, за которой начнется уже не борьба, а игра с огнем. Забастовка локализована, не имеет связи с другими городами, у рабочих нет достаточного количества оружия, вернее, его почти совсем нет; в кровавую игру начинают вводиться французские войска. И главное — забастовка вспыхнула стихийно, без продуманной и кропотливой подготовки; нет в ней ядра — коммунистической организации; борьба на баррикадах окончится жестоким поражением, новыми, как и год тому назад, бесчисленными жертвами, усилением разгула реакции. Надо было немедленно принимать решение и выиграть схватку во что бы то ни стало.
Павел созвал комитет. В яростных спорах вдруг выяснилось, что единства нет. Павла упрекнули в трусости, малодушии; забастовка должна продолжаться.
Павел вспылил:
— Я — солдат партии. И умереть незамедлю вместе с вами на баррикадах. Но смерть — не самое разумное решение, а в настоящее время она просто бессмысленна. Дать раздавить себя, как червя, сапогом солдата — безумство, преступление перед детьми и женами, перед будущим. — Павел расправил слегка сутулые плечи; преодолевая усталость, заключил уже спокойно и твердо. — Мы должны жить, чтобы бороться, бороться — чтобы жить. А если умереть, то знать, что гибелью своей мы утверждаем жизнь. Сегодня умирать рано. Сейчас без кровопролития надо принудить Богосу принять наши условия, удовлетворить требования рабочих. В этом главное, в этом победа первого шага нашей борьбы.
Утром на рассвете Ткаченко донесли, что перехвачена телефонограмма: из Кишинева в Бендеры маршем отправлена новая воинская часть. Павел понял: близится час расправы с забастовщиками. Оставалась единственная надежда — партизаны Тимофея. Но Тимофей ненадежный помощник. Он потревожил, нагнал страха на королевские войска и сразу убрался восвояси. Покой для него — радость; нервы его не любят грома — так рассудил Тимофей. Павел поручил срочно связаться с отрядом. Передал свой приказ, чтобы Тимофей вступил в бой с движущейся на Бендеры частью.
Гигантских размеров, недюжинной силы толстощекий Тимофей, командир крестьянского отряда, получив приказ Ткаченко, вначале удивился: «Кто смеет им распоряжаться и по какому праву?» Залился нервным смехом: — Ишь, куда гнет! — и тут же резко оборвал смех. Кровь ударила в виски. — Передайте своему хлопцу, пусть под носом попервах сопли утрет, а потом будет мной командовать. Не дорос. Убирайтесь ко всем чертям!
Старый рабочий, посланный Ткаченко в отряд, натянул на голову промасленный картуз, сказал:
— Гляди, Тимофей, будешь отвечать перед народом. Ткаченко передал, что сам по всем строгостям судить тебя будет, если не выполнишь его просьбы и приказа.
Тимофей затрясся в припадке гнева. Он бешено кричал, сквернословил.
— Ткаченко еще просил тебя, — спокойно продолжал рабочий, не обращая внимания на буйство Тимофея, — чтобы ты не медлил, а твердо встал на пути непрошеных гостей, не допуская их в Бендеры. И если чего — помог рабочему классу в городе. Французы, надо полагать, вступят в борьбу. Оружьица у нас мало, так ты подсоби.
— И откуда вы только взялись на мою голову, — проворчал Тимофей, постепенно остывая.
Ночью отряд его залег в лесу на подступах к городу.
Прождали до полудня. Войска шли из Кишинева пыльным трактом, разморенные жарой, усталые. Придорожный лес неодолимо манил прохладой, освежающей тенью. Офицеры отдали команду сделать привал. В лес бросились скопом, не подозревая об опасности. И едва солдаты свалили на траву скатки, распоясались, составили ружья в пирамиды и начали разбредаться по своим нуждам, как на них обрушился отряд Тимофея. Лес огласился стонами, бранью, проклятиями. В живых остались лишь те (Тимофей в плен не брал), кто успел укрыться в зарослях. Отряд завладел трофеями, а главное — большим количеством оружия и боеприпасов.
К Ткаченко Тимофей отправил нарочного с поручением передать, что приказ выполнен, и если он, Ткаченко, нуждается в оружии, то можно будет доставить воза три-четыре, и что Ткаченко ему по душе, раз такой напористый, однако ж впредь приказов ему, Тимофею, пускай не шлет — выполнять не будет: он, мол, не таких на своем веку распорядителей видывал, да не шибко торопился повиноваться.
6
Богосу, насмерть перепуганный разгромом воинской части в лесу и опасаясь за свою жизнь, поспешно перебрался из особняка в крепость. По натуре человек жестокий, на этот раз он прикинулся демократом и решил играть в гуманизм, преследуя далеко идущие цели. Молдаванин по национальности, он с высокомерием боярского холуя презирал Бессарабию, ее людей и всей своей душой был в Бухаресте. Пребывание в далеком, переполненном солдатами бессарабском городке Богосу воспринимал как немилость судьбы. Высокий служебный пост, занимаемый им, льстил самолюбию, но Богосу вовсе не собирался ограничить этим свои честолюбивые устремления. Бессарабия для него — только трамплин на пути к более высокому положению в Бухаресте. Добиться заветной цели можно, лишь служа верой и правдой королю. И Богосу принуждать себя в этом отношении не приходилось. Угрызений совести он не испытывал, ибо давно порвал в мыслях и в сердце с народом, к которому принадлежал по крови, считал себя румыном. Однако, когда народ поднял против него меч, Богосу понял, что ему несдобровать. Спасти могла какая-нибудь хитрость, уловка. Требовалось немедленно предпринять такой маневр, чтобы и волки были сыты и овцы целы. Вопреки приказам из Бухареста о подавлении бунта, он вступил в переговоры с бастующими. Принял делегацию рабочих и согласился безоговорочно удовлетворить все их требования; вывоз и демонтаж оборудования мастерских и депо был прекращен.
Ткаченко разгадал замысел Богосу и уступку его использовал в своих целях. Забастовка прекратилась. Павел считал, что рабочий класс одержал победу, и всем сердцем радовался этому. Забастовка, волнения — все затихло только для того, чтобы в скором времени вспыхнуть с новой силой, в более широких масштабах. Осень и зиму Ткаченко провел в напряженной деятельности. Была возрождена коммунистическая организация, установлены связи с Кишиневом, Оргеевом, Бельцами, Яссами. Молодежь Бендер по заданию Павла вела разъяснительную работу в артелях, среди горожан; выпускались листовки, накапливалось оружие. Бендеры исподволь превращались в пороховую бочку, готовую взорваться в любую минуту от первой искры. Шла молчаливая, подспудная, казалось, никому не видимая подготовка к борьбе, к столкновению двух непримиримых сил. На одной стороне — обездоленный рабочий люд с Павлом Ткаченко во главе, на другой — угнетатели. Здесь оккупантами подготовлялся плацдарм для нападения на молодую Республику Советов. Отсюда — рукой подать до Тирасполя. Советская земля — вот она, как на ладони. В Бендеры стекались иностранные войска. Во французские части прибыло крупное пополнение. Французы запрудили весь город. Богосу, содрогаясь при одном воспоминании о летних событиях, делал все, чтобы сохранить порядок. Заигрывал с рабочими, разглагольствовал о свободе, и в то же время арестовывались все, кто попадал под подозрение, к рабочим засылались лазутчики; вербовались предатели. Павел Ткаченко старался не разрушать у Богосу и его приспешников успокоительных иллюзий. Напротив, тушил все, что могло их насторожить, вызвать подозрение. В Бухарест Богосу слал победные реляции: «Мною лично сделано все, что только могут сделать пытки, оружие и всесильные деньги. Большевизм раздавлен. Путь на восток открыт».
Богосу для Павла не был так опасен, как это могло показаться со стороны. Павел видел: более опасный, смертельный удар по назревающим революционным событиям угрожает не от Богосу — он по сути лишь оловянный солдатик. С некоторых пор французские части и подразделения стали главной вражеской силой.
И Павел решает идти к французам.
7
Излюбленным местом увеселений французов было кабаре. Знаменитое бендерское кабаре. Находясь на стыке двух главных улиц, в полуподвальном помещении, кабаре влекло к себе офицеров и солдат, оно заполнялось до отказа. В густом чаду дыма и пара гремели песни, звенели бокалы, визжали женщины.
Одевшись, как заправский аристократ, и закутавшись в плащ, Павел заявился в кабаре. Изящный, красивый, со вкусом одетый молодой человек привлек к себе внимание, едва переступив порог. Он небрежно бросил плащ на спинку стула, легким кивком подозвал кельнера и заказал бургундского, а также все, что кельнер находит лучшим из закусок.
Кабаре битком набито уже захмелевшими, разгоряченными вином людьми. Блестят золотые погоны и медные пуговицы. Отравленный винным и табачным перегаром, насыщенный испарениями потных, разгоряченных тел воздух вызывал тошноту. В углу за беспорядочными рядами столов на крохотной сцене под звуки скрипки, флейты и полуразбитого рояля приплясывала и пела, изображая испанку, почти голая, уже далеко не первой молодости брюнетка. Кожа на дряблых полных руках и оголенных ногах при каждом резком повороте вздрагивала, как студень. Ей аплодировали с пьяным энтузиазмом.
Павел поморщился. Кельнеру по-французски громко; чтобы слышали и другие, сказал, покосившись на певицу:
— Не вкусно! Нельзя ли попросить ее… отдохнуть?
Из-за соседних столиков на Павла уставились хмельные лица. С откровенным любопытством разглядывали его девицы. Молодой человек был независим, элегантен. Рядом сидевший верзила в офицерской форме пьяным, осипшим голосом начал скандировать:
— Не вкусно! Не вкус-но! Не вкус-но!..
Его дама пыталась закрыть ему ладонью рот. Он бесцеремонно оттолкнул ее руку и, встав из-за стола, подошел к Павлу, козырнул:
— Мсье, рад с вами быть знакомым, у нас совпали вкусы. Офицер покосился на певицу.
Павел пододвинул к нему бокал вина. Предложил тост за его здоровье. Назвав себя Мартелем, офицер залпом осушил бокал. Затем, громыхнув стулом, уселся напротив Павла.
— Вы француз? — спросил он.
— Разве это имеет сегодня значение?
— В таком случае, если вы не француз, вы оскорбили женщину. — Мартель кивнул в сторону певицы. — Не вкусно… Все, что делается здесь, — для других отлично!
— А если бы я был французом?
— Я бы вас извинил.
— Почему вы думаете, что я могу извинить вашу дерзость?
— Что вы хотите сказать?
Павел ответил со снисходительной улыбкой:
— Я превосходно владею оружием.
Вокруг сгрудилась пьяная толпа любопытных, жадно следила за Павлом и Мартелем. Оба они выглядели типичными французами, особенно один из них — Павел, который не был французом; многие это теперь уже знали и ждали с нетерпением развязки: у Мартеля тяжелая рука и крепкий кулак. Потасовка — зрелище куда интереснее, чем певица на сцене. Из дальних углов по залу полз гомон, по-прежнему сипло распевала чувствительные песенки захолустная Кармен. Мартель, багровея, пристально уставился на Ткаченко помутневшими от вина глазами, тяжело и медленно поднялся. Он был так высок, что едва не стукнулся головой о свод потолка; длинными руками оперся о стол.
— Кто вы, наконец, черт вас возьми? — горячо задышал Мартель и тут же, повернувшись в сторону сцены, гаркнул на все кабаре. — Андре! Дружище, сюда! Или я пьян, или меня на самом деле взяли за жабры. Андре!
Павел вдруг увидел знакомое лицо. Колючий холодок пробежал по спине. Меж столиков нетвердой походкой пробирался к ним красивый, с усиками, молодой офицер, в руках у него была гитара. Офицер весело напевал:
В самой страсти цепь привычки Я с трудом ношу И на крылья вольной птички С завистью гляжу…Ткаченко сразу узнал офицера, который встретился ему на улице в день приезда и отрекомендовался Андре Семаром. Встречи этой Павел желал меньше всего. Остановившись около Мартеля, Андре лукаво поглядел на него, положил руку на плечо:
— Кто тебя обидел, малютка?
«Малютка» кивнул головой в сторону Павла. Андре повернулся и замер, вскинув брови.
— Я пьян, Мартель, — сказал он. — Если я это все-таки я, а не чистильщик сапог, то, — продолжал Андре, — мы, мсье большевик, с вами знакомы! — Андре засмеялся и повернулся к своему приятелю. — Мартель, это отличный малый, если он еще не поменял своей шкуры и не перебежал на сторону наших союзников румын.
— Какую чушь ты несешь? — возмутился Мартель. — Большевик… Брось лучше мне под ноги бомбу.
— Родись я большевиком, я бы был умнее: не торчал в этой сто раз проклятой вонючей дыре, — отмахнулся Андре от Мартеля, не отрывая восхищенного взгляда от Павла.
— Господа, я хочу выпить за ваше здоровье, — сохраняя невозмутимый вид, сказал Павел. — И за благополучие великой свободной Франции.
— Вина, кельнер! — распорядился Андре.
Павел разлил вино в бокалы.
— За Францию! — крикнул Андре.
— За ее сынов! — добавил Павел.
Мгновение — и стол был заставлен новыми бутылками, закусками. Пришлось сдвинуть три соседних стола. К Мартелю, Андре и Павлу подсели соседи. Какая — то молодая особа в легком полупрозрачном платье с обнаженными руками склонилась к Павлу и, слегка притронувшись кончиками крашеных ногтей к его волосам, сказала:
— Подвиньтесь, медведь. Хочу понюхать, чем вы, большевики, пахнете. Говорят — сыромятиной и Иваном? — капризно оттопырив влажные жадные губы, она сощурила искристые глаза.
— Простите, мадам, я занят, — ответил любезно, но сухо Павел. — Когда разит овчиной, сидеть рядом мало удовольствия.
— Он мне явно по душе, Андре, — засмеялась она. — Вы, солдаты, надоели: все на один покрой. А он…
Пили без разбора. Пустые бутылки, не убранные официантом, сбрасывали под стол. Мартель, с неприязнью глядевший вначале на Павла, размяк при упоминании его родины.
— Ты славный малый, хоть и подлец, раз большевик. Всех вас, карбонариев, вешать надо, но… ты, — орал он в самое ухо Павлу, расплескивая вино из бокала. — Ты моим языком орудуешь лучше, чем я, чистокровный тулонец.
Андре передали отставленную им в сторону гитару. Он взобрался на стул и, усевшись на спинку, ударил по струнам, и запел удивительно сильным, свободно льющимся тенором:
Лиза, выйди за ворота! Выходи скорей, сестра!Мартель и еще два француза подхватили:
Посмотри, гусаров рота, Трубы, сабли, кивера.Андре подмигнул Павлу, точно был его старым другом.
Все красавцы — да какие! Сколько слез, поди, об них…Мартель и другие продолжали:
Нет, мы, девушки простые, Не найдем мужей таких.На сцене все смолкло. Кабаре, словно угомонившись, притихло. Под сводами, под мерный перебор струн гитары, витал мягкий, волнующий голос Андре:
Вышла девушка-красотка — Подлетел гусар лихой.Теперь уже вместе с Мартелем большая часть сидящих около Павла и в дальних углах хором подтягивала:
Вот, товарищи, находка. Вот цветочек полевой!Андре:
Сердце выдержать не может. Через год на ней женюсь;Хор:
Если пуля не уложит Или в плен не попадусь…Песня заканчивалась грустно. Андре вновь было затянул теперь уже веселую, залихватскую песню, но оборвал пение в самом начале, сполз со своего возвышения и, передав гитару, подсел к Павлу. В пустые бокалы налил вина. Опять пили. Провозглашались тосты.
На сцене снова появилась певица, загнусавил оркестр. Павел, разгоряченный вином (он никогда еще не пил так много) и песней французов, чувствовал, что опьянел. Приятно кружится голова. Язык плохо повинуется, без конца хочется говорить, беспричинно смеяться, ни о чем не думать. Он, кажется, хватил лишнего, ему трудно уже владеть собой. Но отчего так удивительно легко и приятно?
Андре обнял Павла за плечи.
— Выпьем?
— Я уже пьян, — признался Павел. — В лоск. Впервые набрался, как сапожник. И стал глуп. Русские говорят, как сивый мерин.
Андре захохотал. «Сивый мерин», — повторил он несколько раз, роняя голову на брошенные на стол руки. Мартель, трезвея, мгновение пристально вглядывался в Павла. Что-то его беспокоило.
— А, все равно! — отмахнулся он от какой-то навязчивой мысли и кивнул головой, улыбаясь. — Кто бы ты ни был — молодец. «Не вкусно»!.. Вели-ко-лепно-оо!
— Давайте споем вашу «Марсельезу»! — предложил Павел и, не дожидаясь согласия, начал:
Вперед, сыны отчизны милой!.. Мгновенье славы настает…И точно по команде, «Марсельезу» подхватили одновременно в разных концах зала. Половодьем разлилась она, заглушила тщедушный оркестр. Певица, передернув плечами, обиженно умолкла, присела у рояля. Медью труб звучали голоса; чеканный маршевый ритм и вместе с тем мягкая напевность «Марсельезы» бодрили сердца захмелевших, исторгали из их груди вдохновенные звуки. Женщины, приведенные офицерами в кабаре и теперь забытые, притихли, подавленные чем-то необычным и торжественным. Андре сгреб бутылки, стаканы и снедь в сторону, вскочил на стол и, возвышаясь над всеми, стал темпераментно дирижировать, широко разбрасывая в стороны руки.
Вперед, плечом к плечу шагая! Священна к родине любовь! Вперед, свобода дорогая, Одушевляй нас вновь и вновь.Песня летела, расправляла крылья, взвивалась ввысь. Павел, согретый неосознанной радостью, испытывал счастье. Он пел вместе со всеми. Сердце его гулко колотилось. Он не сделал ровным счетом ничего, что должен был сделать, думал он, но он был счастлив. Счастлив и глуп, как глупа, бывает захмелевшая впервые юность. Павлу очень хотелось поцеловать красавца француза Андре. Их взгляды встретились. Черные, живые, блестящие глаза.
Андре, дирижируя, сжимал и распрямлял длинные пальцы в такт маршевой, чеканной песне. Оба они переглядывались, улыбаясь и подмигивая, как давние, влюбленные друг в друга друзья.
Внезапно песня кончилась. В душном накуренном помещении воцарилась странная, непривычная тишина. В табачном дыму окружающие расплывались, как в густом тумане.
— Спасибо, друг, — крикнул Андре, легко спрыгнул со стола и обнял Павла за плечи. — Я вновь чувствую, что я — француз! И — не пьян. Мне грустно, но я — люблю. Люблю весь мир!
Он засмеялся — счастливый, чем-то очень довольный. У Павла больно сжалось сердце: нестерпимо захотелось ответить Андре резко и зло: «Ты обнимаешь меня, как давний друг, ты, кто пришел издалека и растоптал, потопил в крови свободу моей родины. Ты — враг!» Но вовремя опомнился.
Кто-то предложил выпить. Снова зазвенели бокалы, опять полилось вино. Взвизгивали женщины, вспыхивал смех. На сцене задребезжал рояль, заплакала скрипка.
Андре внезапно померк, склонил над столом отяжелевшую, точно свинцом налитую голову. Потом задумчиво посмотрел на Павла, будто искал в нем поддержки каким-то своим, неожиданно нахлынувшим мыслям.
— Черт меня дернул сунуться в эту дыру… — досадливо проговорил он.
Павел криво, одними уголками губ, улыбнулся, горестно заметил:
— А ведь эта д-ы-р-а тоже чья-то родина? Но не беда, — упрямо тряхнул он головой, — настанет час, и мы тоже споем свою «Марсельезу».
В разговор вмешался Мартель.
— К черту политику! — воскликнул он. — Это все равно, что прокаженная девка: прикоснись к ней — и заболеешь насморком.
— Зачем ты пришел сюда, Мартель? — вдруг в упор спросил Павел. — Разве тулонские ткачи — кровные враги бессарабца-виноградаря?
— Я пришел сюда, чтобы распять большевизм.
— Парадоксально: идя в бой против тебя, они, большевики, поют твою «Марсельезу».
— Молчи! И ты с ними заодно, знаю. Они всё отнимают у нас, всё рушат, уничтожают, они даже хотят отнять у меня мою «Марсельезу». — У Мартеля на глаза навернулись слезы. — Понимаешь, последнюю песню, что еще осталась у меня. Не позволю!
От резкого возгласа Мартеля заколыхалось облако табачного дыма. Павел усмехнулся:
— Отнимают для того, чтобы раздать всем. И отнимают, заметь, не у таких, как ты. А «Марсельезу» они хотят петь с тобою вместе.
— Я буду бить по морде любого большевика.
— Если тебе, конечно, позволят…
В кабаре с улицы ввалилась группа румынских офицеров. Развязно, панибратски здоровались с французами. Те их встретили холодно; чуть ли не сразу из-за чего-то возник скандал, едва не переросший в драку. Андре внезапно взвинтился, закипел, налетел и сшиб с ног оказавшегося поблизости румына. Завизжали женщины. Кто-то в кого-то запустил бутылкой с вином, но промахнулся, и она, разбившись об стену, оставила большое лучеобразное кровавое пятно. Андре буйствовал, пока не выпроводил румын вон. Вернувшись к столу, Андре еще долго чертыхался, ругал Мартеля за то, что тот инертен, как амеба.
— Вот они, — указывая на захлопнувшуюся за королевскими офицерами дверь, сказал Павел, — говорят со мной почти на одном языке, но не хотят признать меня не то что братом, а просто человеком. Беосарабец для них не человек, а скот, и то не племенной. А с французами я пою песни, — Павел весело рассмеялся. — Почему?
Мартель повернулся к Андре:
— Где ты откопал этого симпатичного большевика? Если все они такие славные парни, то, ей-богу, на кой черт мы затеяли с ними эту волынку?
У Андре под глазом чернел синяк, он потрогал его рукою, лукаво подмигнул:
— Поздравь меня, Мартель, мне наставили приличный фонарь, с ним я, кажется, начинаю лучше видеть. Выпьем!
Он осушил бокал и пригласил Павла и Мартеля к себе на квартиру.
— У меня для вас есть сюрприз — экстра-класс девочки! Прихвати, Мартель, с собой вина.
— Андре, ты гениален! — закричал Мартель. — Хватит политики. Эту старую блудливую девку надо коленкой под нелегальное место и — ко всем чертям! Да здравствует вино и мужская дружба!
Павел пробовал отказаться, чем чрезвычайно удивил французов. Мартель ничего и слушать не хотел:
— Нельзя злоупотреблять правом быть глупым, — пробасил он.
Андре подхватил Павла под руку и без дальних слов потащил к себе.
Павел совершенно не предполагал, что французы станут вдруг отнимать у него столько времени, сил и энергии. Они оказались до крайности внимательными и страшно привязчивыми друзьями. Отвязаться от них было уже нельзя, да это и не входило в расчеты Павла: французские части в городе были той жестокой силой, которая представляла наибольшую опасность. По первому сигналу они могли раздавить любое выступление рабочих. Они являлись главной силой Антанты на бендерском плацдарме для выступления против молодой Советской Республики. Эту силу надо было обезвредить или в лучшем случае направить по другому руслу. Большую часть и без того ограниченного времени Павел посвящал Андре, Мартелю и их друзьям. Приходилось выдавать себя не за того, кем он был на самом деле. Зато спустя месяц Павел мог уже двум своим приятелям — парижанину и тулонцу — не только навязывать свою волю, но и быть с ними до известной степени откровенным. Андре — сын врача, свободолюбиво настроенный молодой человек — оказался редкой находкой и вскоре стал незаменимым помощником. Его поражало в Павле непостижимое для него, француза, начало: человек в своих действиях руководствовался не эгоистическими побуждениями, не соображениями личной славы, в частной жизни Павел был аскет, он сознательно шел на жертвы и лишал себя элементарных удобств ради других, порой совершенно незнакомых, чужих ему людей. И Андре не слепо поклонялся своему новому другу, а через него, еще, правда, смутно, но уже стал сознавать неглубокий смысл своей, до встречи с Павлом пустой, построенной на услаждении лишь своего эгоистического «я» жизни; понимать стал и другое: что человек, рожденный для жизни, имеет высокое предназначение — украсить эту жизнь. Теперь для Андре не было секретом, что сила, не физическая, а какая-то другая, более могущественная, которой он, Андре, не может дать точного названия, — на стороне Павла. И поэтому помочь Павлу — значит сделать что-то доброе. Андре не соглашался с формулами и лозунгами, которые иногда слышал из уст своего друга, но за ними чуял сердцем биение большой жизни. Он помогал Павлу устраивать встречи с солдатами французских частей. Андре знал, что его новый друг большевик, не любил этого слова, был предубежден против него. Но течение, в которое он попал, подхватило и несло его, и вырваться из этого течения значило бы для Андре оборвать что-то в своей груди, с чем он уже не хотел расставаться. Павел, получая через своих агентов живую, правдивую информацию, во время встреч с солдатами-французами рассказывал им правду о молодой Советской России, куда со дня на день готовились двинуть их с открытым забралом для вооруженной интервенции; говорил о Франции и тех событиях, которые стояли в повестке дня малых и великих государств: весь старый мир встал на дыбы, противясь новой силе, несущей освобождение от векового рабства. Среди французских солдат оказались коммунисты. Они приглашали Павла на свои собрания, слушали его речи. Павел писал и составлял листовки и прокламации: у двух народов, хотя и говорящих на разных языках, нет и не может быть враждебных друг другу интересов. Есть один интерес — завоевать право жить счастливо на свободной земле.
8
Наступил апрель 1919 года. Сбежали с косогоров в низины, отзвенели торопливые ручьи, отшумели вешние паводки. Воздух, насыщенный теплом и влагой, гонимой южными ветрами с близкого Черного моря, дышал прелью. Отогретая солнцем земля сочно зазеленела. По всему Приднестровью закурились белопенным и розовым цветом сады. Звезды ночами, однако, горели в вышине тускло, небо туманилось, предвещая непогоду. В середине месяца так бурно нахлынувшая и, казалось, прочно установившаяся теплынь вдруг сменилась сырыми ветрами, колючим холодом. Где-то близко за перекатами гололобых холмов выпал снег. Несколько дней кряду лил ледяной неурожайный дождь. Дороги развезло, на улицы города нанесло ила, черного, липкого мусора.
Кутаясь в плащ, Павел под проливным дождем возвращался от Тимофея. На душе тоже было слякотно. Разжирел, зазнался мужик, богатеть стал; крестьянскую одежду сменил на генеральский мундир. Много трудов стоило убедить его, и то, кажется, наполовину. Катится мужик в вонючее болото. Павел пообещал Тимофею, если он не изменит образа жизни и действий своего отряда, заслать к нему рабочих и коммунистов, отколоть от него лучшую часть бойцов — сознательно настроенных крестьян, а с анархистами и ворюгами он, Тимофей, долго не протянет, бесславно погибнет бандитом. Для себя Павел также сделал вывод — отряд был упущен, помощи, на которую он рассчитывал, от него фактически не получить.
По весне, как мутные воды, в Бендеры начали стекаться по железной дороге и своим ходом из Кишинева и из других мест новые воинские части стран Запада и особенно румынские королевские. Готовился поход за Днестр, на Советскую Республику. Андре посвятил Павла в более глубокие тайны: из Парижа получен приказ — быть начеку; идет работа по высадке в Одессе крупного десанта с целью оккупации города войсками Антанты.
9
Промозглый воздух дышал гнилью, муторно было на душе у людей. Солдаты, изнуренные непогодой, неустроенностью бивачного быта, проклинали жизнь-жестянку, зло косились на офицеров. Никто ни во что не верил. Всюду царили обман, жульничество, шла купля-продажа в масштабах, уму непостижимых; покупалось и продавалось все: и вещи, и люди. И если жила еще где-нибудь правда, то она была у большевиков. Но не будь их и их большевистской правды, не было бы и надобности покидать родной край, обжитой дом, жену, детей, хозяйство. Выходит, правда-то эта злая, раз она всполошила весь мир. Люди очутились на распутье, брели ощупью, тыкались, как слепые котята, в темные углы, жесточали, зверели. Но чем больше росло скопище чужеземных войск, тем сплоченнее, крепче становились ряды рабочего люда маленького заштатного городка. Апрель 1919 года уже ничем не походил на прошлое лето. Наступившие суровые дни не захватили теперь врасплох ни Ткаченко, ни его товарищей. Возмужал Павел, возмужало время, крепче и организованнее стал подпольный комитет. Депо ковало оружие, рассылало во все концы, куда только можно было, своих агентов. В полку французов и в воинской части румын вспыхнули восстания. Подразделения восставших немедленно были выведены из города.
Богосу нутром учуял, что опять подул не попутный ему ветер. Выбиваясь из сил, денно и нощно не смыкая глаз, он делал отчаянные усилия, чтобы предотвратить грозу, убить даже малейшую возможность вспышки: в Бухаресте все чаще раздавались по его адресу недовольные голоса. Сейчас уже речь шла о его, Богосу, личном благополучии и престиже. На телеграфных столбах, стенах домов, в присутственных местах — везде висели подписанные Богосу обращения и категорические приказы: доносить властям о всех подозрительных, сеющих смуту, ловить и истреблять коммунистов и большевиков; обещались вознаграждения и всяческое благоволение властей. «Общество, если оно хочет порядка, обязано само охранять его», — обращался Богосу к горожанам с речью по случаю дня рождения наследника румынского короля.
Оставаясь в тени, Ткаченко делал то, чего он не мог бы сделать при любых других обстоятельствах. Имя его не склонялось попусту, поэтому, свободно расхаживая и даже часто попадаясь на глаза властям, он не вызывал подозрения; напротив, сигуранца располагала успокоительными данными: Ткаченко водится с французами.
Когда же бочка с порохом — Бендеры — взорвалась, Богосу и его приспешники были ошеломлены известием, что руководитель восстания не кто иной, как именно он, восемнадцатилетний сын рабочего-железнодорожника Павел Ткаченко. Возмущению и тупой ярости не было границ. «Мертвым, но доставить в крепость Ткаченко!» — рвал и метал взбешенный Богосу.
Однако спохватился он поздно. Восстание началось. На вокзале и около депо возникли первые баррикады. В Бендеры начали стекаться из окрестных сел и хуторов вооруженные крестьяне и рабочие, ранее покинувшие город. За оружие взялись молодежь и учащиеся. Из Кишинева пришли вести, что там начались массовые демонстрации в поддержку Бендерского восстания. Богосу растерялся. Первые вооруженные стычки между повстанцами и солдатами не принесли ему утешения. Атаки солдат были отбиты. 30 апреля предместье и южная часть Бендер уже были в руках повстанцев. 1 и 2 мая на улицы высыпал весь город — мужчины, женщины, старики, дети. Пожаром заполыхали красные полотнища. На них были начертаны требования свободы, вывода иноземных войск. Демонстранты отовсюду текли пестрыми, стремительными реками к собору, на площадь. К ним присоединились вооруженные повстанцы с баррикад.
Богосу заперся в крепости. Ткаченко не терял ни минуты. Собрав боевую дружину, он осадил крепость, лишив ее общения с внешним миром, Море людей на площади росло, волновалось, как под порывами штормового ветра. Лавочники, предприниматели — все, кто орудовал заодно с оккупантами, забились в подвалы, закупорили окна, двери и в затхлых потемках, обуреваемые злобным страхом, плели липкую паутину заговора. Ткаченко, освободившись от дел по окружению крепости, вернулся на площадь. Здесь он обратился к согражданам с пламенной речью. У соборной ограды была сооружена трибуна. На возвышение поднялись члены подпольного комитета. Статный, смуглый юноша энергично поднял вверх руку, и нестройно гудевшая толпа сразу затихла. Как волны, набегая друг на друга, прокатилось из конца в конец имя молодого, со строгим, точно из камня высеченным лицом человека. «Ткаченко… Ткаченко… Ткаченко».
Где-то неподалеку от трибуны находился в толпе отец Павла. Он сильно волновался, наблюдая за сыном. Ему казалось, что у Павла сорвется голос, что Павел скажет не те слова; хотелось подсказать ему, о чем вести сейчас речь. Он, отец, глубже знает людскую беду, больше, видел, дольше жил. Но мысли его разбежались, едва заговорил сын, поблекли перед тем, что сказал Павел. Ему, старому человеку, сын заново открыл мир. Ткаченко-старшему показалось, что он и не жил на свете; ходил век по улице и не знал, что эта улица, мостовая, дома принадлежат по самому законному праву ему, наследнику своих бедных, обездоленных отцов. Как по писаному, Павел удивительно ясно говорил о свободе, она и в самом деле дорогостоящая штука, ради нее стоит не пожалеть себя.
— Братья, сестры, отцы, матери, дети! — твердо звучал звонкий и сильный голос. — Вам недолго светило солнце свободы: империалисты задушили в Бессарабии революцию и Советы, едва они возникли, потопили в крови ваших братьев, сынов, мужей, отцов. Сегодня, выйдя сюда, вы, люди труда, люди от земли, вновь всему миру доказываете, что у вас есть сила, что вам не страшны никакие враги, что вы можете и должны спасти свободу и жизнь на земле. У вас отняли хлеб, у вас отняли жилье, вас лишили права быть человеком. Взамен же империалисты на штыках принесли вам бесправие. Сегодня они готовят смертельный удар по вашим братьям-пролетариям за Днестром. Нет покоя капиталу, пока живет Республика Советов, отвоеванная пролетариатом у живого трупа — старого мира. Буржуи хотят погасить солнце и установить на земле ночь. Но нам, трудящимся, даны руки, дан мозг, чтобы свершать. Смерть, пытки, тюрьмы, каторга, казнь, виселица пугают только слабых духом. На место павших во вчерашних битвах бойцов сегодня, — оглянитесь вокруг себя, — встали сотни, тысячи новых защитников дела трудящихся. Да здравствует свобода! Слава труду! Нет империалистам пути на восток, нет им больше места на земле. Смерти — смерть!..
Павел на мгновение смолк. Многоликая толпа дрогнула, зашевелилась, загудела. Горячей ладонью Павел провел по вспотевшему лбу, оглянулся на стоявших рядом товарищей. Он понял, что толпу ему уже не перекричать, не утихомирить, улыбнулся, громко запел:
Вставай, проклятьем заклейменный, Весь мир голодных и рабов!..Песня перекинулась на трибуну. По ступеням она сбежала вниз, всплеснула крыльями над морем голов. Ее подхватили первые ряды, середина, и вот уже запела вся площадь. Клятвой потекла песня по улицам во все стороны. Пел весь народ, пели дети и взрослые, старики и женщины.
По распоряжению повстанческого комитета на площадь доставили оружие. Несколько подвод пробилось в самую гущу толпы. Оружие должно быть в руках тех, кто борется. И едва смолк «Интернационал», как около подвод началась давка. Ружья, винтовки, наганы разбирали мужчины, юноши, женщины. Тут же возникали дружины и отряды. Павел опасался, как бы энтузиазм толпы, захлестнутой стихией, не обернулся против нее же: в сутолоке, давке и неразберихе до несчастья — один шаг; поэтому он распорядился детей и пожилых женщин немедленно отправить по домам.
Площадь кипела. Порядок установился только к вечеру. Тем временем подразделения румын, подойдя незаметно с севера, открыли по повстанцам огонь. Толпа дрогнула, началась давка. Крик. Беспорядочная стрельба. Стоны. Спасли положение подоспевшие рабочие отряды. Они ударили по королевским войскам со стороны железной дороги, и грозившая гибелью всему делу паника была предотвращена. Румыны, не ожидая внезапного и столь сильного натиска, поспешно отступили.
Ночь со 2-го на 3-е мая прошла в тревоге. Богосу удалось пробиться через заслон и бежать из крепости. Это осложнило обстановку: в отчаянии он мог предпринять самые крайние меры. Ткаченко отдал приказ овладеть крепостью. Сам же с основными повстанческими силами занял вокзал, почту, телеграф. Затем бросил почти все свои дружины на казармы королевских войск, захватил два больших склада с оружием и боеприпасами. Румынские подразделения, перепуганные насмерть внезапным восстанием и утратившие вдруг организованность, бежали куда глаза глядят. В кромешной темноте повстанцы без особого труда овладели большей частью города и взяли под свой контроль все подъездные дороги. Утром Богосу, собрав все наличные войска, перешел в наступление. Французы, размещенные в западной части города, однако, выжидали. Сражение длилось в течение всего дня. Богосу предъявил французам ультиматум. «Восстание надо подавить любой ценой. Опасная игра с огнем зашла слишком далеко!» — горячился изрядно поблекший и осунувшийся Богосу. За одну ночь у него поседели виски.
Штаб повстанцев разместился на почте. Отсюда Ткаченко руководил боевыми операциями. Получив донесение о том, что французские подразделения пришли в движение, он послал своих людей к Андре Семару и Мартелю. Но он не знал, что накануне развернувшихся событий, как раз в те дни, когда Павел с головой ушел в подготовку восстания, Андре и Мартель были арестованы по подозрению в революционных настроениях и спешно вывезены из города. Известие обеспокоило Ткаченко, хотя оно и пролило свет на причину выжидания и странную политику невмешательства французов: у них самих, оказывается, было в частях неладно. Теперь же, когда Богосу настаивал, упрашивал и даже угрожал и когда, наконец, французское командование согласилось помочь королевским войскам, Ткаченко понял, что надеяться на счастливую случайность не только неразумно, но и преступно. Чутье подсказало ему, что наступил именно тот критический момент, когда промедление смерти подобно. И он лично с пятью товарищами отправился в штаб французского командования. Павел знал, на какой риск шел, но выбора у него не оставалось. Когда на карту поставлено все, когда восстание оказалось вдруг перед пропастью, надо было испробовать все средства. Павел вручил требование восставших — французские войска в течение двенадцати часов должны покинуть город. Дерзость повстанцев была неслыханной, она возмутила французов. Главнокомандующий — седой и сухой, как умершее дерево, старик, — правда, по-джентльменски обошелся с парламентерами, но обещал немедленно обратить оружие против бунтовщиков.
— Следовательно, вы направите его против себя! — заявил ему Ткаченко.
В полдень четвертого мая воинские подразделения французов, вооруженные винтовками и гранатами, вышли на улицы. Ткаченко впервые усомнился в себе. Все ли он сделал, чтобы отразить удар в спину, удар со стороны французов? Неужели солдаты начнут братоубийственную бойню? Одолевали мучительные сомнения. Он не верил, что будет пролита кровь. И в то же время все складывалось так, что схватки с чужеземцами не миновать. Французы пересекли город и тремя большими колоннами вплотную подступили к основным опорным пунктам восставших — вокзалу, почте, площади. Ткаченко распорядился не стрелять. Навстречу французам с баррикад была выслана с красным флагом группа безоружных юношей и девушек. Девушки пели «Марсельезу».
— Не стреляйте, товарищи!
— Да здравствует революция!
— Французы-братья, вас ждет Франция!
Над городом, точно над пустынной равниной, установилась тишина. Острая, тяжелая, гнетущая. Повстанцы и солдаты с винтовками наперевес очутились лицом к лицу. Впереди стоял смуглый с горящими глазами юноша, в руках он крепко сжимал древко знамени. Справа и слева — его товарищи. Встали стеной.
— Отцы, братья! — по-французски крикнул юноша, подаваясь грудью вперед. — Стреляйте в своих детей! Ну, чего же медлите?
В рядах французов — нервное замешательство. Тишину расколол одиночный выстрел. Стрелял стоявший впереди колонны старший офицер в высокой фуражке с клеенчатым козырьком. Юноша со знаменем покачнулся, но его подхватили под руки товарищи, и он продолжал стоять, не выпуская из рук знамени. Он обвел взглядом передние ряды солдат, улыбнулся побелевшими губами, хотел что-то сказать и не смог. Изо рта тонкой струйкой потекла кровь, капая на ослепительно белую с расстегнутым воротом рубашку.
Тишину расколол приказ офицера:
— Вперед!
Солдаты не шевельнулись. Юноша упал. Девушки, выхватив из рук убитого знамя, запели «Интернационал». Французы дрогнули.
— Не сметь! — сдавленно закричал офицер. — Вперед! — и бросился широким шагом к группе юношей и девушек.
«Интернационал» подхватили в строю солдаты. Офицер оглянулся. Ничего не понимая, с искривленным от ужаса ртом он медленно повернул обратно. Произошло нечто такое, чего он совершенно не ожидал.
— Бунт! — закричал он хриплым срывающимся голосом и кинулся в гущу строя к запевале, выводившему сильным звенящим тенором: «Мы наш, мы новый мир построим». — Прекратить! — и вскинул пистолет, но оружие выбили у него из рук. С головы офицера слетела кем-то сбитая фуражка, холодный ветерок или страх шевельнул его волосы. Ряды расстроились. Часть солдат ринулась навстречу повстанцам.
— Да здравствует революция!
«С интернациона-а-а-алом»… — неслось раскатисто с баррикад.
— Ура-а-а-а! А-а-а!..
Беспорядочно, как удары о пустые ящики, загремели выстрелы. Младшие офицеры, попытались восстановить порядок, отвести солдат, но это им плохо удавалось. Только незначительная часть выполнила приказ, остальные перешли на сторону восставших. Старший седой офицер, без фуражки, очутившись вдруг один, в бессильном гневе сжимал кулаки. Он отказывался понимать своих соотечественников, они сошли с ума.
На вокзале обстановка сложилась по-иному. Здесь завязались тяжелые бои. Группа румынских войск, объединившись со второй группой французов, теснила рабочих. Повстанцы истекали кровью. Ткаченко бросил на подкрепление людей с площади, но они уже не могли помочь делу. Кадровые войска проявили на этот раз упорство и холодную жестокость. Павел знал, что поражение на вокзале поколеблет стойкие ряды рабочих в других местах, а этого допустить он не мог. Собрав всех перешедших на сторону повстанцев французских товарищей, он двинул их на вокзал. Расчет Павла был прост — наступающие французы, узнав, что среди повстанцев находятся их соотечественники, вчерашние друзья по оружию, откажутся открыть по ним огонь. Павел не ошибся. На вокзале вскоре началось братание. Как и на площади, к повстанцам примкнули новые группы солдат. Румынские офицеры, открывшие было огонь уже по «предателям» — французам, не нашли поддержки у рядовых солдат. В войсках начался мятеж.
Командование объединенных войск было в смятении. Пожар грозил охватить все союзнические части и подразделения, расквартированные в Бендерах и подготовленные не сегодня-завтра выступить за Днестр на Тирасполь. Создавалось положение, когда надо было думать уже не о восставших, а в первую очередь о сохранении хотя бы приблизительного порядка внутри своего лагеря. И командование направило своих парламентеров к повстанцам. Солдатам рекомендовалось вернуться на свои места, гарантировалось согласие пойти на уступки горожанам. Ткаченко принял предложение командования о переговорах, но в ультимативной форме потребовал вывода всех воинских частей из города. Французский генерал, который еще вчера грозил Павлу Ткаченко расправиться с повстанцами, согласился исполнить это требование.
10
Румыны, оставшиеся фактически в одиночестве, оказывали слабое сопротивление. Повстанцы повсеместно тронулись на штурм. К утру седьмого мая Бендеры были очищены от чужеземцев. Революция победила. В городе была объявлена Советская власть.
Павел Ткаченко отправил гонцов в Кишинев, связался с Тирасполем: план, намеченный повстанцами, осуществлен, наступление союзнических войск, точнее Антанты, на Россию с Бессарабского плацдарма — сорвано. Сыновья и дочери Бендер всему миру показали, что они сильны, что народ при железной его организации сможет все! Пресса Румынии, Франции, Балкан полна тревожных сенсационных сообщений о событиях в маленьком молдавском городке. Имя Павла Ткаченко не сходит со страниц газет. Рабочие Кишинева в знак солидарности бастуют. Волнения, как магнитные волны, катятся из конца в конец Бессарабии. Тирасполь — город на левом берегу Днестра, в котором утвердились Советы, — шлет в Бендеры своих представителей. Ткаченко просит вооруженной помощи, чтобы раз и навсегда положить конец насильственному разделению одного народа, одного государства — Молдавии — на две части; Днестр должен стать не границей, а мостом. Но братья из-за Днестра не смогли прийти: Советская Республика исходила кровью, осажденная, как крепость, охваченная со всех сторон пожаром — с юга наступали англо-французы, зрел и со дня на день должен был прорваться гнойник — Деникин, на востоке теснил Колчак, с северо-запада шел Юденич.
Вторично после ноября 1917 года власть трудящихся в Бендерах продержалась неделю. Королевская Румыния бросила сюда все, что могла собрать. Три боевые, вооруженные до зубов колонны с севера, запада и юга обрушились на крохотный, едва заметной точкой обозначенный на географической карте городок. Командовали войсками знаменитые генералы. По всем правилам тактики и стратегии рассчитаны были мельчайшие детали боя с обходами, арьергардами, с использованием конницы и артиллерии.
Богосу, доведенный до исступления провалом своих честолюбивых устремлений, под видом бродяги пробирается в осажденный город. Ему удается организовать заговор. Дважды он стреляет из-за угла в Ткаченко и оба раза неудачно. Но возможность ударить в спину рабочим была найдена. Под натиском осатанелых полчищ началась сдача города. Каждый метр бендерской земли стоил королевским войскам сотен жизней: свободу, если ее хотя бы раз вкусил человек, он никогда не отдает добровольно. Полыхали пожарища. Уцелевшие дома зияли чернотою сорванных с петель дверей, вышибленных окон; развороченные улицы завалены мешками с песком, опрокинутыми повозками, грудами камня и домашнего, никому теперь не нужного скарба; мостовая покрыта телами. Только стоны говорят, что среди них есть еще живые. От изрешеченных пулями и снарядами стен веет запустением. Город был убит. Он лежал в суровом молчании, повергнутый в первобытный хаос, но непокоренный. Схвачены были все, кто еще уцелел в этом страшном побоище.
Павла Ткаченко ранило осколком снаряда в плечо. Под покровом темноты его перенесли к Днестру и в лодке по течению доставили в низовье, к Олонештам. Здесь, в крестьянской избе, он отлежался и спустя месяц был уже в Кишиневе. Имя Павла опять обрело притягательную силу. Через год он уже был избран секретарем Бессарабского обкома партии, а еще год спустя, когда разгромленные коммунистические организации Румынии и Бессарабии объединились в единую партию, Павел Ткаченко становится одним из ее самых деятельных руководителей. Румынский суд дважды заочно приговаривает его: в первый раз — к 20 годам каторги, во второй — к смертной казни. У сигуранцы прибавилось работы. Ищейки, шпики — все, кто мог быть Куплен, были приведены в движение, искали Павла. Там, где был Ткаченко, вспыхивало пламя борьбы, шла смелая битва не на жизнь, а на смерть. Под ногами тех, кто тщетно силился умерить и потушить в сердце маленького народа огонь свободы, горела земля. Снова обретший власть Богосу — генеральный секретарь внутренних дел Бессарабии — докладывал по начальству: «Легче стереть с земли Бендеры, превратить в развалины Кишинев, сжечь всю Бессарабию, чем усмирить бессарабцев и изловить их гайдука Ткаченко». Богосу забыл, что сам является бессарабцем; выгодно сосватав свою сестру за румынского магната, он теперь окончательно причислил себя к румынам и ненавидел все, что напоминало ему о его прошлом.
Беспрерывно вершились судилища. Тюрьмы от южного Днестра до западной границы Румынии были забиты до отказа. Каторга и расстрелы — иных приговоров не выносилось. «Бессарабец» стало нарицательным именем, синонимом мятежника, бунтаря и вызывало животную ненависть у тех, кто стоял у власти. Был схвачен и Павел Ткаченко. Но расправу над ним учинить не удалось: весь мир твердо встал на его защиту. Трудящиеся Франции, самой Румынии, Германии, Чехословакии, сражающейся Советской России, коммунистическая и либеральная пресса мира — все в один голос требовали: руки прочь от юного борца Павла Ткаченко! В Бухаресте, в Париже у здания румынского посольства — толпы людей, на устах у всех одна фраза: «Свободу Ткаченко!»
Некстати, точно бельмо на глазу, был этот бессарабец для королевской Румынии. Заштатная, никогда высоко не ценившаяся на мировой арене страна, она неожиданно выдвинулась на передовые позиции: ее, как продажную девку, использовали империалисты, превратив в агента международной реакции на Балканах. И вот, в пору неожиданного в ее истории процветания, в момент рискованной игры и стремительного обогащения за счет других, бунтарь-коммунист причинял столько беспокойства. У королевской Румынии по горло хватало своих дел. К Днестру стекались союзнические полчища: надо было задушить Советскую Россию и при этом отхватить для себя кусок пожирнее. Ткаченко являлся серьезной помехой. Лучше всего было бы тихо убрать его с пути. Но всполошился мир. И только подумать — из-за одного человека!.. Обеспокоенные правители постарались выслать Павла за пределы Бессарабии. Но не те были времена, чтобы его удалось долго удерживать вдали от его народа, Родины в часы, когда она — в беде. Не прошло и года, как Ткаченко снова дома и с головой уходит в революционную работу. Ему теперь уже двадцать три года, а за плечами — целая жизнь. В его руках все приводы, ключи к свободе; на его стороне — правда, сила, разум. Он уже не юноша, а закаленный в битвах муж! Имя его вселяет панический страх в тех, кто стоит у руля государства.
На Павла предпринимаются облавы, его выслеживают. И вот он вновь брошен в тюрьму.
Осень 1926 года. Пламенеют на грядках поздние георгины, потемнели высокие шапки стогов весной скошенного сена. Базары пестрят горами красного перца, баклажан, винограда, слив, арбузов, льется медовый запах дынь, яблок, груш. Волнуется, плещет людское море в парках, на улицах.
Жизнь идет. Идет мимо Павла — быстро, стремительно, меряя гигантским шагом время. Он понимал — скоро конец. А он так хотел жить. Не потому, что боялся смерти, нет, а потому, что любил жизнь, хотел хоть немного пожить для себя, именно для себя. И если бы ему сейчас сказали, что он может уйти от всех и заняться только собою, он бы, пожалуй, согласился. Он слишком устал…
В каменном мешке не хватает воздуха, трудно дышать. Едкий пот заливает глаза. Ноги подкашиваются, скользят на цементном полу, липком от его крови. Кружится голова. Перед глазами тяжелая дубовая дверь. С тела точно содрана кожа — так болит оно. Запеклись и потрескались губы. Хоть бы один глоток воды. В пустыне, наверно, легче.
И вдруг дверь распахнулась. Павел всем обмякшим, обессилевшим телом повалился на пол коридора. Лежал неподвижно минуту, а может, вечность. В лицо плеснули водой. Он открыл глаза и увидел перед собою своего палача — генерального директора румынской полиции Войническу, щегольски одетого, уже немолодого человека, с гибким хлыстом в руке; рядом еще кто-то — высокий и тоже щеголеватый. От этих людей веяло едва уловимым прохладным запахом духов, похожих здесь, в тюрьме, на дуновение весны. Незнакомец стоял спиной к окну, глядел на Павла, лица его нельзя было различить. Только когда он приказал тюремщику, державшему ковш с водой, помочь Павлу подняться и перевести в следственную, Павел весь сжался: голос показался знакомым. Кто бы это мог быть?
— Немедленно снимите кандалы и омойте ему раны.
В душе Павел был благодарен незнакомцу за то, что тот распорядился снять кандалы. Его мучило нетерпеливое желание узнать — кто же это? И вдруг как молнией осветило. Резкий с надвинутым на глаза черепом профиль, острый выбритый до глянца подбородок. Богосу! Его старый заклятый враг.
— Совсем еще юноша, — сказал Богосу Войническу и тут же задумчиво добавил: — Как глупо он устроил свою жизнь. А ведь талантлив. Оратор… и вот. — Богосу повернулся к Ткаченко. — И вот… Жалкая тень вместо человека. Во имя чего воюют эти безумцы?
Павел встрепенулся.
— Идите, идите, мой друг, — заботливо махнул рукой Богосу.
Павла провели в следственную — комнату с низким потолком, оштукатуренными голыми стенами. Маленькое окно, забранное железными прутьями, выходило на тюремный двор. В следственной, кроме тяжелого, точно топором сколоченного стола и трех табуреток, никакой другой мебели не было. Сюда вслед за Павлом и тюремщиком вошли Войническу и Богосу. По знаку Войническу тюремщик молча удалился. Павла пригласили сесть на табурет. Войническу сел на стол, положил хлыст рядом. Богосу остановился у стены, вполоборота к столу — задумчивый и грустный.
Павел ждал. Чего еще хотят от него эти выхоленные, сытые палачи? Кажется, все уже было решено. У Войническу — птичье хищное лицо и узкий лоб, у Богосу — профиль римского патриция. Оба слишком высокие особы, чтобы снизойти до разговора с обыкновенным заключенным. Видимо, он что-то для них значит, если они собственной персоной пожаловали сюда. Павел превосходно знал — часы его сочтены. Завтра утром, а может, уже сегодня все будет кончено. Он не хотел… Все в нем: глаза, губы, руки, сердце, мозг — все протестовало против смерти. Истерзано пытками тело, но он юн. Юн, каким никогда еще в жизни не чувствовал себя, и радовался этому в себе неукротимому огню; потушить его было нельзя, его можно было только убить, что они, эти двое — Войническу и Богосу — и старались сделать. Птичье лицо Войническу — испитое, синие круги под глазами. Бремя забот давало себя знать. Он устал, он очень устал и надеялся в ближайшие дни отправиться в солнечные края, на берег моря в обществе молодой супруги (три дня тому назад он, шестидесятилетний старик, отпраздновал свадьбу). О, Войническу знал вкус жизни и собирался еще многое взять для себя из ее неистощимой кладовой.
— Как чувствуешь себя, Ткаченко? — спросил он. — Ты, я вижу, плох.
Павел вскинул глаза на директора полиции.
— Да, — продолжал, тот, — глупо растрачиваешь молодость! Для того чтобы мутить воду, ума большого не надо. И тебе пора бы это понять.
— Вы, оказывается, умеете острить, господин полицейский, — отозвался Павел.
— Мы всё умеем, у нас сила. Она заставляет плакать, смеяться и даже думать, что мы умеем острить.
— Не знал. — Живые карие глаза Павла иронически блеснули.
— А о том, что тебя уже сегодня не должно было быть, ты знал?
— Убить человека — не признак силы. Никаким законом нельзя оправдать убийства. Тот, кто убивает, облеченный правами власти, тот слаб или в лучшем случае просто болен.
Войническу взял со стола и согнул в руках хлыст. В разговор вмешался Богосу. У Павла ныло правое плечо. На том месте, где вчера прижгли раскаленным докрасна железом, присохла залубеневшая от крови рубашка, и жгло, страшно жгло. Огонь, казалось, проникал в самое сердце. Богосу мягко говорил что-то о долге, о сыновнем чувстве к родине, о высокой мечте человека. Павел мгновение ничего не понимал, стараясь преодолеть острую боль. Наконец ему удалось справиться с собой.
— Что вы хотите от меня, господа? — прервал Павел Богосу.
— Только благоразумия.
Павел усмехнулся, он начал понимать, чего от него хотят. Вкрадчивый, убаюкивающий голос Богосу, его аристократическая респектабельность, словом, весь он с ног до головы — это последняя ставка Войническу. Ведь Богосу — богатей-помещик — в сущности, просто холуй. Павел знал, чего стоил Бессарабии этот румынский угодник.
— Если бы речь шла только об одном Павле Ткаченко, — глядя в глаза Павлу, сказал Богосу, — разумеется, можно было бы не обращать внимания на его заблуждения. Мало ли заблудших талантов гибнет под забором. Если они гибнут в одиночестве — это одно. Но когда они, обладая даром и силой воздействия на других, ведут этих других во тьму, в неизвестность, к беспорядкам и анархии, к нарушению общественных норм и устоев, — это совершенно другое. Ваши заблуждения, господин Ткаченко, не принадлежат сегодня уже вам одному. Они, эти заблуждения, вошли в мой народ. Подумайте о народе, Ткаченко. Ваши и мои сограждане, из-за вас в первую голову, бунтуют, мрут, гибнут. Вы играете, как погремушкой, словом «свобода», бередите им души, в то время как в самой свободе сокрыто закабаление… но это уже из области философии. Не благоразумнее ли нам с вами подумать о своем сильном самобытном государстве?
— Значит, мои сограждане, — спросил Павел, — должны, если хотят иметь свое самобытное государство, также продать румынскому королю честь и совесть, как это сделал их согражданин господин Богосу?
Войническу вначале хладнокровно посоветовал Ткаченко:
— Не валяйте, молодой человек, дурака.
— Не понимаю, — сказал Павел.
— Ты — смертник. Есть возможность жить, — Войническу согнул и расправил в руках хлыст. — Надо, видимо, сделать выбор — жить или умереть. Если ты окончательный фанатик и болван, то можешь предпочесть последнее.
— Я всегда предпочитал и предпочитаю — жить!
Богосу оживился:
— В таком случае не все мосты для отступления у вас сожжены. В человеке все зависит от его убеждений. Убеждения же — флюгер. Нынче другие дуют ветры, Ткаченко. Надо, наконец, понять, что вы несли в себе тяжелую ношу заблуждений, что вы просто были слепы, и об этом прямо и честно сказать во всеуслышание. Мы вам предоставим для этого любую трибуну и аудиторию, страницы газет. Умиротворение вместо бунта, покой среди наших с вами, господин Ткаченко, сограждан — превыше всего для нас с вами.
Павел молчал. За эти часы в преддверии смерти он много передумал, он чувствовал, что ему хочется жить, жить для самого себя, просто с радостью знать, что он юн. Перед глазами было лицо Богосу, красивое, сытое; глаза этого человека кажутся умными. «Убеждения — флюгер…» Павел перевел взгляд на Войническу, и его хищное, птичье лицо Павлу вдруг понравилось, показалось более человечным, чем у Богосу, на нем написано было больше прямоты: Войническу откровенно ненавидел его. И, точно угадывая мысли Павла, перехватив его взгляд, Войническу сказал:
— Ты, Ткаченко, бесспорно, выстрадал чертовски много. И твое отречение, разумеется, будет нам стоить крупных сумм. И не будь дураком, возможности пожить в свое удовольствие никогда нельзя терять. Жить независимо, по-настоящему жить — вот что значит свобода.
Свобода в полном смысле. А не в том смысле, как понимаете свободу вы, коммунисты, нищие и голодные. Оставь всех, займись, наконец, только самим собою. Ты стоишь того, чтобы подумать о самом себе.
— Да, — поддержал Богосу. — Правительство берет на себя обязательство обеспечить вас таким образом, чтобы вы не нуждались абсолютно ни в чем и никогда.
— Решили, значит, купить? — Павел встал. — А вы, Войническу, говорили о силе. Вот она ваша сила… купить.
Богосу прервал Павла:
— Речь идет не о низменной коммерческой сделке, купле-продаже. Речь идет о моих согражданах. Вы зовете своих братьев и сестер на братоубийственную бойню, ведете к гибели. Я же хочу моему народу покоя, счастья. У вас, господин Ткаченко, черствое сердце. Пока не поздно, образумьтесь.
— Господин Богосу, — сказал Павел, — я, гляжу, вы стали заправским проповедником. Это вы-то говорите о любви к народу? Но где было ваше сердце, когда вы топили в крови восставших рабочих Бендер? Вы, надеюсь, хорошо помните бендерскую быль! Сегодня вы на каждом столбе вешаете бессарабцев-крестьян, не желающих мириться с безземельем, голодом и гнетом. О каком сердце вы ведете речь?
— Виноваты в этом прежде всего те, кто поднимает народ на бунт. — Богосу прямо смотрел в глаза Павлу. — Народ всегда слеп, всегда он выполняет волю одного. А один — всегда одержим безумием.
— Безумием одержимы те, кто еще надеется задержать гибель одряхлевшего, паразитического старого мира. Вашего, лакей Богосу, и вашего, хозяин Войническу, мира.
Войническу щелкнул хлыстом по столу:
— Господин Богосу, время истекает, — и повернулся к Павлу. — Выбирай: или — или? Тебя не убедить.
Павел усмехнулся.
— Пришли купить меня и устанавливаете цену, не спросив на то моего согласия.
— Пойми же ты, черт возьми, мне тебя жалко: песня твоя спета!
— Если бы я стал сейчас доказывать вам, господа, что я только начал петь свою песню, — возразил Павел, — вы бы все равно этого не поняли! И убить мою песню так же невозможно, как невозможно погасить солнце. Поэтому не беритесь судить, господин Войническу, чья песня спета.
Войническу со всего размаху ударил Павла хлыстом по лицу. Хлыст прочертил через всю щеку багровый след.
— Вот она, ваша сила, — сказал Павел. — Не спорю, у вас еще много физической силы.
Начальник полиции, как его самый последний рядовой неумный полицейский, налился злостью. Лицо пошло красными пятнами. Богосу грустно улыбался.
— Эй, кто там! — крикнул Войническу.
В следственную вбежала охрана. Павла увели.
«Нет, — думал он, — жить только для самого себя — слишком рано! Это счастье придет к другим, и он, Павел, по-человечески до глубины души счастлив, что приближает этот час для людей».
Ночь. В щели старого дощатого вагона тянет острым холодом. Стучат колеса. Изредка доносится осипший свисток паровоза. И опять тишина, опять мирный, убаюкивающий стук колес. За тонкой перегородкой шепотом переговаривается охрана.
— Молодой…
— Зелен, а видать — башковитый.
— Ну-ну, скажешь! Носил бы башку, если б был башковит.
— За нас, говорят, выступал.
— Опять?!
— Не ворчи, Оника. Хоть ты и унтер, а все ж мы с тобою земляки. Хоть по этому праву поговорить дай. Или в тебе не сердце, а камень? У самого-то сын не старше. Не мешает и рассудить что к чему!
— Мой сын, — отозвался Оника, — отечеству верно службу служит. А рассуждать нечего. Известно, смутьян он. И ты, Ион, не береди души понапрасну. Еще офицер проснется — сразу установит что к чему. А то заодно к тому бросит.
Некоторое время царила тишина. Потом послышался голос:
— Ион правду говорит. Может, и следует рассудить что к чему.
— Вот в России такие, как наш, смутьяны власть свою установили. И землю промеж крестьян поделили, — поддержал Ион.
— Чего рассуждать, — заговорил четвертый. — Раз на то есть указание, наше дело выполнять. Одно только плохо. Больно молодой он. Ровно вишня расцветшая, только посадил ее. Понятно, губить молодое дерево жалко.
— Он, говорят, знаменитый. Не простой коммунист!
— Птица важная, — отозвался Оника. — За него, если б… деньги можно б взять… В Англии, Германии — всюду имя его знают. Выкуп Россия за него через газеты предлагала… На эти б деньги три жизни жить самым богатым боярином можно. А так в расход пустим, и деньги зазря пропадут; не по-хозяйски это дело в Бухаресте решили.
— Башка! — опять говорит Ион.
— Оника, а может, пусть другие, а?
— Ни в жизнь не соглашусь! Молчи! Другие? Раз велено, ослушаться — грех на душу взять!
Молчание. Слышно, как кто-то звякнул котелком, передвинул оружие. Закурил. Со вздохом выпустил дым.
— А может, тяжельше грех на душу берем?
— Молчать! — уже кричит Оника. — Он и над вами уже, идол, власть заимел. Закон, он слов не любит, его выполнять надо, ежели тебе твоя шкура дорога.
И опять — только стук колес. Павел молча лежал на полке. Он и без этого разговора охраны знал, что для него все кончено. Но теперь сердце разболелось. Неужели злодейство должно свершиться до суда? Неужто нет предела подлости? На лбу выступила испарина. В какой-то миг перед ним предстала вся его жизнь. Раскаивается ли он?.. Павел улыбнулся и спросил самого себя: в чем? Если все надо было бы начать сначала, он бы начал и поступил бы точно так же, как поступал. За перегородкой сидят люди с добрым человеческим сердцем, но темные, как сама ночь. Он, Павел, их соотечественник, виноват, что не смог дать им просветления, не смог рассеять в них ночи. Но он счастлив, что нес им огонь. И ради этого стоило жить, стоило жить даже один час.
И опять стук колес. Пролетел какой-то полустанок. В забранном решеткой окне забрезжил рассвет. По-прежнему торопливо стучат колеса, За перегородкой слышится чей-то сладкий храп. И вдруг тишину резанул протяжный свист паровоза, вспугнул мирную дремоту раннего утра. За перегородкой кто-то крикнул:
— Вставай, Оника. Приехали!
— А?
— Приехали, говорю. Вистерничены.
— Вистерничены?
— Господина офицера буди.
Павла вывели из вагона. В предрассветных розовеющих сумерках вдали на возвышенности спал Кишинев. Липа, росшая у самого полотна железной дороги, еще не сбросила себе под ноги листья, но уже была охвачена горячим багрянцем осени.
Осень…
У Павла в глазах стояли слезы. Он глубоко, всей грудью вдохнул утренний воздух. Его родная земля! Из-за горизонта вставало солнце. Первые лучи его уже пробили молочные толщи рассветной мглы.
— Иди! — крикнул Оника Павлу, указав на тропинку, ведущую в сторону от насыпи по направлению к Кишиневу.
Павел оглядел четверых солдат — свою охрану, держащую винтовку наперевес, улыбнулся им. Покосился на заспанного и, видно, вчера изрядно хватившего офицера. Лицо — измятое, полинялое! В руке он держал, тоже наизготовку, пистолет, точно он, Павел, собирался бежать.
— Иди, иди, — недружелюбно повторил Оника свой приказ.
— Не сердитесь, отец, — ответил Павел и шагнул на росистую тропу. Позванивали на руках кандалы. Ступая босыми ногами по прохладной земле, Павел радовался: он испытывал то же ощущение, какое испытывал когда-то в детстве, бегая, закатав штаны, по утренней росе. Замедлив шаг, Павел еще раз оглянулся на липу. В лучах восходящего солнца листва ее вспыхнула еще ярче. И вдруг — грянул выстрел. Павла словно кто-то толкнул в спину, он едва удержался на ногах. Он все понял. Под рубашкой на спине потеплело от крови. Выстрелы прогремели еще. Павел через силу, — никогда ему не было так трудно, — повернулся к солдатам, сделал к ним навстречу два шага. В нежных, на этот раз синих при лазоревом рассвете глазах дрогнула росинка слезы, какое-то подобие доброй улыбки мелькнуло на красивом смуглом лице. Солдаты подались назад. Из стволов винтовок, как из курительных трубок, еще вился дымок. Павел едва приметно с укором качнул головой, сказал:
— Глупцы, я умираю за вас… — И упал.
Горел восход. Заря охватила полнеба. В тот день к вечеру разразилась гроза. Дождь лил трое суток кряду. Вода смыла кровь Павла. Но она не могла отмыть одряхлевший, злой старый мир. Его настоятельно требовалось обновить. И человек это понял.
Лебединая песнь
Погода испортилась. Дождь то утихал, то сыпал редкой дробью, то беспрестанно лил как из ведра. Низкие свинцовые облака цеплялись за крыши домов и оставляли на полуобнаженных ветвях деревьев свои грязно-серые клочья, застиранными простынями стелились в низинах. Размокшая земля источала острый запах прелых листьев. Улицы небольшого латвийского поселка, обычно нарядные, веселые и людные, теперь хмуро притихли, опустели. Только изредка появится и исчезнет спешащий куда-то человек.
Мы лишь накануне вернулись с учений, промокшие до костей, усталые и измученные. Отоспавшись за день, вечером собрались у майора Славина. Он жил на окраине поселка в особняке дачного типа.
Майор был холост, но в доме его царил тот исключительный уют, который способны придать жилью лишь вдохновенные женские руки. В особняке было несколько комнат: гостиная, столовая, кабинет с библиотекой, спальня. Мы обычно собирались в гостиной — просторной комнате с приземистым дубовым столом посредине; у стен и вокруг стола расставлены полумягкие стулья с высокими спинками; на стенах — в массивных золоченых рамах десятка два полотен. Майор питал страсть к живописи. Он собрал, правда небольшую, коллекцию редких картин, переписывался с видными художниками. Мы любили бывать у майора, коротать у него свободные от службы и других дел вечера.
Часть наша недавно прибыла из Германии, и на первых порах, когда еще не все было улажено с расквартированием, майор приглашал нас к себе для деловых разговоров. Обычно после этого завязывались непринужденные беседы на различные, часто далекие от военной жизни, темы.
Сегодня майор пригласил нас к себе, чтобы разобрать ход полевых учений и стрельб на полигоне. Многие наши действия не удовлетворяли его, и он решил вскрыть причины допущенных ошибок. Мы, офицеры, недавно окончившие военные училища и едва успевшие побывать в боях последних месяцев войны, к майору — закаленному в сражениях ветерану — относились с глубоким, каким-то особым уважением. Он представлялся нам человеком необыкновенным. Природа щедро одарила его лучшими человеческими качествами. Он был смел, скромен, требователен и в то же время добр; никогда не навязывал другим своего мнения, не любил давать советов, хотя мы часто обращались за ними к майору. Он обычно терпеливо и молча выслушивал нас, ставил встречный вопрос, и уже по тому, как он спрашивал, мы могли судить, как нам действовать.
Рассказывали, что в самом начале войны — Славин был тогда еще лейтенантом — с горсткой солдат он ночью ворвался в расположение наступающих немцев, поднял в их стане панику, захватил в плен фашистского генерала и возвратился в свою часть, не потеряв ни одного солдата. Славина наградили орденом и произвели в капитаны.
Майору еще не было и тридцати. Под аккуратным, ладно сшитым мундиром чувствовалось телосложение гимнаста. Он в меру высок, плечист. Жесты нерезкие, скупые; высокий, чистый, без морщин лоб, задумчивые, проницательные глаза говорили о характере человека смелого, но сдержанного.
Когда мы пришли к майору, он без долгих проволочек приступил к делу. На столе лежала топографическая карта, испещренная красными и синими линиями.
— Прошу садиться, — указал Славин на стулья. Он обвел нас взглядом, ожидая, покуда мы разместимся у стола. — Надеюсь, товарищи лейтенанты, вас тоже не удовлетворяют результаты прошедших учений, — сказал он, когда установилась тишина. — Упреки генерала в наш адрес, очевидно, понятны вам. В чем же причина серьезных неудач? — Майор, склонившись над картой и тыча в нее тупым концом карандаша, изложил, как развертывался ход учений. — Взвод лейтенанта Орлова подвел всех нас, что называется, под монастырь, — подчеркнул он, задержав на мгновение глаза на лейтенанте. — При выполнении задания — защищать высоту триста десять — лейтенант попытался схитрить: оставил свой рубеж и оврагом решил пробраться в расположение «неприятеля». Но хитрость оказалась копеечной.
Орлов, склонив голову, ногтем царапал стол. Лейтенант Катаев, сидевший рядом, незаметно толкнул приятеля в бок, шепнув: «Перестань, стол портишь».
— То, что вы, Орлов, проявили самостоятельность, делает вам честь, — продолжал Славин. — Однако принятое вами решение оказалось никудышным, и это свело на нет ценность проявленной инициативы. А в боевых условиях ваша ошибка могла привести к гибельным последствиям. На войне, товарищи офицеры, бывают невозвратимые мгновения. Одна секунда, миг могут иметь решающее значение. И, упустив эту секунду, мы уже не в силах изменить ход событий. — Славин оторвался от карты. — Наполеон проиграл битву под Ватерлоо из-за нерешительности бездарного человека, генерала Груши, который одной минутой колебаний поставил под удар судьбу Франции. Самостоятельность, быстрота ориентировки, мгновенный анализ развития боевых действий, железная логика — вот качества, которые должны воспитывать в себе наши офицеры. И эти качества проявили лейтенанты Собинов и Воздвижин, — взглянул на меня и Собинова майор. — Они помогли нам спастись от явного провала, уготованного Орловым. Что они предприняли, когда высота оказалась захваченной «противником»? Прошу, товарищи, поближе к карте.
И Славин суховато начал объяснять тактическую находку наших с Собиновым взводов.
По всему было видно, майор сегодня в плохом расположении духа. Речь его резка, лицо с крупными чертами нахмурено. Выговор генерала и сам факт неудачи на учениях заметно расстроили его.
Вначале мы тоже чувствовали себя скованно. Но когда майор закончил обзор и старушка, прислуживавшая в доме, накрыла на стол и подала чай, мы постепенно разговорились, скованность сменилась непринужденностью.
Петя Собинов, двадцатилетний юноша, с едва пробивающимися усиками, с серьезным видом подмигнул насупленному Орлову:
— Не падай духом. С кем не бывает.
— Терпеть не могу, когда лезут с сочувствиями! — огрызнулся Орлов.
— Напрасно злишься, — вмешался я. — Сочувствие — это своего рода добрая рука друга. Опирайся на нее и иди вперед.
— В сочувствии всегда есть ложь! — вскипел Орлов.
Петя Собинов, огорченный таким оборотом разговора, стал успокаивать товарища. Но тут вмешались Золотарев и Катаев. Внезапно вспыхнул спор.
— У меня горе, мне сочувствуют, вероятно, искренне, — горячился Орлов. — Сочувствуют из вежливости или других, пусть даже благородных, побуждений, но все это внешняя, показная сторона. А доведись непосредственно разделить мою участь дураков не найдется. Все убегут, оставив тебе пустой звон сострадания.
— Невысокого же ты мнения о своих друзьях.
— Стрижешь всех под одну гребенку!
— В беде, в несчастье — окружи себя глухой стеной молчания, ты с ума сойдешь! — с горячностью воскликнул Катаев.
— Зато я буду знать, что мне не лгут.
— Чепуха! В беде мы всегда ищем друга.
— Вот именно: друга, а не сочувствия.
Майор Славин молчал, помешивая ложечкой в стакане. Петя Собинов увлекся чаем, накладывая себе из вазы полную до краев розетку варенья. Он вдруг восторженно заявил:
— Вот чудесное варенье у вас, товарищ майор. Я ел такое только на Кубани.
Мы невольно рассмеялись. Орлов снисходительно посмотрел на своего товарища:
— Каждому свое.
— Сластена он, это верно, — миролюбиво улыбнулся Золотарев.
— Люблю, — признался Петя Собинов. — Мать, бывало, пять пудов на зиму варила. Я одной только пенки килограмма по три съедал. Моя одноклассница Наташа вечно злословила: «Странно, что ты родился мужчиной: за сладкое, небось, жизнь отдашь?» Такая ершистая девчонка, не дай бог.
— Вот это — единственное сочувствие, в котором не ложь, а правда, — съязвил Орлов. — В самом деле, странно, что Собинов родился мужчиной.
— И ты стерпел от своей Наташи такое поношение мужского достоинства? — подзадоривал Катаев.
— Еще бы… Он же страстный женопоклонник. Издевки женщины ему доставляют удовольствие.
— За женщин он не задумается жизнь отдать.
Собинов отодвинул от себя чашку с чаем.
— Тут уж вы все лжете сами себе, — с непонятным ожесточением сказал он. — Но я не собираюсь спорить. И если уж и надо отдать жизнь, так всерьез ее надо отдать за любовь, за прекрасное.
Раздался дружный смех. Но Петю это не смутило:
— Я бы очень был счастлив и жизнь свою счел целесообразной, полной смысла и радости, если бы смог сделать так, чтобы женщине всегда светило счастье, сияла радость. Вы даже не представляете, насколько бы стала красивее и осмысленнее жизнь. Вы сами бы похорошели.
— Ну, брат, — усмехнулся Орлов, — убей, но не соглашусь. Если любовь определяет смысл жизни, то тогда жизнь — бессмыслица. Я знал женщину, любил. И от этого не прибавил и не убавил ни в весе, ни в росте. Боялся только одного — поглупеть. Если бог хочет наказать человека, он насылает на него любовь.
Орлов всегда поражал нас своим холодным скептицизмом, особенно если речь заходила о женщине. Он становился зол и остроумен. Мог двумя-тремя словами поставить в затруднительное положение собеседника. Ему нередко подпевал лейтенант Катаев. Хотя по своей натуре был он добродушным малым и поддерживал Орлова скорее из желания подзадорить, разжечь споры, а затем искренне посмеяться над приятелями: «Эх, вы, петухи! По ошибке судьба сделала вас офицерами».
Лейтенант Золотарев, близкий друг Орлова и Катаева, совсем не походил на своих друзей. Он отличался не по годам степенным характером, всегда старался утихомирить нас. Вот и теперь, слушая, как все мы неожиданно привязались к Пете Собинову, он, допив неторопливо четвертую чашку чая и вытерев салфеткой губы, сказал:
— Оставь их, Петя! Если трое говорят, что ты пьян, то иди и ложись спать.
— Вообще-то верно, — согласился Собинов. — Орлова не убедишь! Но это же кощунство. Это ведь черт знает что такое! Жизнь — бессмыслица… Хотите, я прочту письмо, которое получил вчера от Наташи?
— Конечно, хотим, — вмешался в разговор майор.
Собинов, как школьница, вспыхнул румянцем, застыдился.
— Простите, Николай Семенович, но…
— Читайте, читайте, лейтенант.
Собинов достал из кармана конверт и метнул взгляд на Орлова:
— Я прочту только одно место. Вот!
«…У каждого человека есть свое счастье. Надо суметь только не пропустить его. У меня сегодня оно безгранично. Когда я ощутила сердцем, что любима, люблю, — жизнь стала еще красивее; мне столько хочется сделать хорошего для тебя, для всех людей, что даже передать трудно. Ты мне друг, Петя. Искренний. Чудесный друг! Честное слово, хорошо! Дружба — это не просто общность интересов и взглядов. Быть другом — значит заставить твое сердце биться вдохновенно, заставить тебя воспринимать окружающее, жизнь как прекрасную песню. А если этого нет, то ты не имеешь морального права называться другом».
Собинов смущенно поднял на нас вопрошающие глаза.
Орлов вздохнул:
— Мечты студентки! Моральное право, любовь — все это только красивые слова. Ничего тут нет удивительного: на заре все соловьи поют.
— Ты хочешь сказать…
— Я хочу сказать то, что сказал, — перебил Орлов Собинова и повернулся к майору. — Николай Семенович, вы лучше знаете жизнь, прошли войну. Неужели Собинов, прав? Вот вы же живете один? И живете неплохо!
— Разумеется, — скупо улыбнулся майор, — живу. — Он взял из раскрытого портсигара папиросу, постучал мундштуком по крышке. Глаза у Пети заблестели. Он ждал ответа на вопрос Орлова с таким нетерпением, точно в этом ответе заключалась разгадка смысла его собственной жизни. Но Славин тянул, будто нарочно, долго раскуривал папиросу.
— Вы, лейтенант, — наконец произнес он, обращаясь к Орлову, — говорите, что на заре все соловьи поют. И заявляете, что ничего в этом удивительного нет. Но вы же сами еще так молоды! Откуда у вас этот скепсис? Разве не странен такой парадокс: молодость отвергает самое себя. А ведь она очень коротка и бывает лишь раз. Надо суметь не пропустить ее сквозь пальцы. — Майор помолчал, о чем-то раздумывая. — Кстати, сегодня с почтой я тоже получил письмо. Его прислала мне мать. В нем было вот это, — майор подошел к застекленному стенному шкафу и достал из него альбом. — Вот, — повторил он и показал фотографию.
Гремя стульями, мы поднялись из-за стола и обступили майора. Со снимка на нас смотрела необыкновенно красивая, с гладко зачесанными волосами молодая женщина.
«Что бы это могло значить?» — подумал я. Славин никогда не подавал повода даже предположить, что он, как и Петя Собинов, душа у которого всегда нараспашку, хранит в сердце заветное чувство. Майор был слишком внутренне подобран и сосредоточен, как бы отлит из металла, чтобы снизойти до порывов чувства. Казалось, он не подвержен обыкновенной человеческой слабости, и, признаться, мы втайне, в частности я и Золотарев, сожалели, что этот металл никогда не опалял огонь любви. Зато для Орлова Славин был и в этом отношении образцом.
— Кто это, товарищ майор? — не отрывая восхищенного взгляда от фотографии, простодушно спросил Собинов.
— Это замечательный человек, Петя! Она даже сама не знала, какая она. — Майор никого из нас никогда не называл по имени. И уже одно то, что он так обратился к Собинову, как-то взбудоражило, взволновало нас.
Фотография переходила из рук в руки. Орлов помрачнел, словно предчувствуя что-то для себя не совсем приятное. Мы стали упрашивать майора рассказать, кто эта так поразившая нас молодая женщина и кем ей приходится майор.
Славин задумался. Он как будто колебался. Но вот откровенность взяла верх. Видимо, он слишком долго молчал и ему неодолимо захотелось поделиться своими чувствами. Я видел, чем-то мы затронули сокровенные струны его души. Глаза майора какое-то мгновение смотрели в одну точку с несвойственным им выражением тоски. Он в чем-то сомневался, чему-то противился. «Может быть, этот сильный человек, как никто нынче, нуждался в сочувствии», — подумал я и сказал:
— Здесь много толковали о сочувствии. Может быть, лучшим сочувствием с нашей стороны сейчас будет уйти? Есть мгновения, когда человеку хочется побыть наедине с самим собой.
Майор вздрогнул.
— Что вы сказали о мгновениях? — переспросил он. — Ну что ж, если вы не устали, я вам кое-что расскажу, — промолвил он после паузы. — А там судите сами…
Мы единодушно отвергли предположение насчет усталости и молча ждали рассказа майора. За окнами, раскрытыми в сад, шумел дождь. Славин подержал фотографию в руке и, еще раз внимательно посмотрев на нее, положил на стол. Глубокое, какое-то горестное раздумье отразилось в рельефно выписанных чертах красивого мужественного лица майора. Он жадно затянулся папиросой.
— Это произошло в тысяча девятьсот двадцать девятом году, — заговорил он, — в глухой, заброшенной, далеко в стороне от железных и шоссейных дорог деревне Кудиновке. Мне тогда исполнилось двенадцать лет. Село в те годы напоминало развороченное поле боя, только не было оборонительных укреплений, пушек, хотя и пускались в ход иногда обрезы и винтовки. В Кудиновке создавался колхоз. Кулаки стояли не на жизнь, а на смерть. Однако новое было неодолимо. Люди бесповоротно становились на новый путь. Кончились митинги, сходки. Кончилась пора яростных речей, обрывочных фраз, раскаленных, как угли, крепких мужицких слов. Истосковавшиеся по работе руки принялись за дело.
Как и многие ребятишки, я не стоял в стороне от тогдашних событий, перевернувших в деревне все вверх дном. Мы, мальчишки, тоже носились с мечтой создать свою «коммуну». У нас кипели свои споры, были среди нас и «сторонники», и «противники» колхозов. Нередко мы в кровь избивали друг дружку, кулаками доказывая свою правоту. Но когда взбудораженная и растревоженная, как муравейник, жизнь начала постепенно налаживаться, входить в новое, широкое русло, наш мальчишеский пыл, естественно, стал искать себе выхода и не всегда растрачивался на полезное дело.
Я совершенно отбился от дома, стал отчаянным драчуном. На мне не успевали заживать царапины и синяки. Я лазил по чужим садам и огородам, не давал покоя сторожам, случалось, даже запирал их в сараях, воровал у них ружья, словом, был неутомим в мальчишеских проделках.
Редко выдавался день, чтобы отцу не жаловались на меня. Он был двадцатипятитысячником. Дела молодого колхоза поглощали все его время и силы. Он с рассвета допоздна пропадал то в поле, то в правлении. Заниматься мною ему было недосуг. Однако когда жалобы становились слишком часты, он добирался до меня и задавал здоровую трепку. Но я быстро забывал «науку» и озоровал пуще прежнего. Как отец ни усердствовал, выбить из меня дурь ему не удавалось. Побои только ожесточали меня, и я упрямо твердил про себя: «Все равно буду!» Мать жалела меня, старалась утешить лаской и сладким куском после очередного «внушения». Однако она была больше озабочена тревожными думами об отце (в него несколько раз стреляли из-за угла), чем моей судьбою.
В школе я вел себя не лучше. Кажется, ни одно школьное или родительское собрание не обходилось без того, чтоб на нем на все лады не склонялось мое имя. Во мне сочетались качества, на первый взгляд, несовместимые: учился я отлично, но мои проделки осточертели всем учителям. Терпели меня потому, что считали способным. Но наконец, — я учился тогда в четвертом классе, — терпение лопнуло. Вопрос о моем пребывании в школе почти был решен. Я не особенно огорчился. Если меня исключат, думал я, это послужит удобным предлогом для того, чтобы убежать из дому, податься куда-нибудь на Кавказ, в горы, и заделаться «абреком». Но здесь как раз и произошло в моей жизни то, что некоторые из вас склонны воспринимать как нечто само собой разумеющееся.
Славин покосился на лейтенанта Орлова, улыбнулся какой-то своей мысли и продолжал:
— Я и сам не предполагал, что все может принять такой неожиданный оборот и выбить меня из привычной колеи. Случилось это вскоре после того, как я узнал, что собираются исключить меня из школы. С гурьбой ребят мы по обыкновению с шумом и гамом возвращались с уроков. Вдруг откуда-то появился Петька Самойлов. За огненные вихры и лицо, густо усыпанное веснушками, мы дразнили его «рыжим». Он не учился, работал в хозяйстве отца-единоличника. Петьки и я побаивался: он был двумя годами старше меня, считался среди мальчишек самым сильным и однажды крепко поколотил меня за то, что я обозвал его «единоличной душой». Затаив обиду, я решил ему отплатить при удобном случае. И не только за себя, а и за то, что отец Петьки при народе поносил моего отца, из-за которого якобы в деревне все перевернулось. Не будь, мол, этого «тысячника», не быть бы и коммунии.
Петька Самойлов, завидев меня, задиристо крикнул:
— Эй, ты, Микола-активист, ну-ка подойди сюда.
Он широко расставил босые ноги, руки сунул в карманы разлатанных, едва доходивших до щиколоток штанов.
Мальчишки переглянулись. Я остановился в нерешительности. Его нахальный окрик застиг меня врасплох.
— Чего стоишь, сюда иди!
— Тебе нужно, так подойди сам, — ответил я.
Петька важно, не вынимая рук из карманов, подошел и вызывающе уставился на меня. Его бесцветные в белесых ресницах глаза горели неприязнью.
— Ты, говорят, хвалился побить меня. Ну, что ж не бьешь, «активист»? — и дернул меня за нос.
— Отойди, — оттолкнул я его. — Единоличная душа!
— Ах, так ты… толкаться?! — и он ударил меня в лицо. Я проглотил горячую слюну, задрожал и вдруг, вскрикнув, бросился на него, изо всех сил боднул его в челюсть головой. Он попятился, схватившись за лицо руками. Из носа у него хлынула кровь. Воспользовавшись этим, я ударил его в ухо, сшиб с ног и навалился сверху всем телом. Я бил его с ожесточением, стараясь попасть в самое больное место. Мальчишки визжали от восторга. Петька, был самым ненавистным нашим врагом.
Вдруг кто-то тронул меня за плечо:
— И не стыдно бить лежачего? Эх ты, герой…
Мальчишки притихли.
Я вскочил на ноги и в порыве еще горящего во мне гнева готов был ввязаться в новую драку. В тот момент я был уверен, что могу опрокинуть любую гору. Но передо мною стояла Маша Шевченко из пятого класса, дочь врача Кудиновской сельской больницы.
— Что тебе нужно? — крикнул я. — Тоже за них? — кивнул я на Петьку. — Лучше уходи отсюда…
— Какой ты все-таки нехороший, Коля.
— Нехороший, — передразнил я ее. — Счастье твое, что девчонка. А то узнала бы, как за паразитов заступаться.
Тем временем мой противник, красный, потный, вскочил, погрозил мне посчитаться и пустился наутек. Я бросился вдогонку, но Маша удержала меня.
— Ну, чего пристаешь? — огрызнулся я.
В больших черных глазах девочки светился укор.
— У тебя, Коля, такой хороший папа. Все его в районе знают. А ты? И тебе не стыдно? Посмотрел бы на себя в зеркало. Вот карикатуру на тебя нарисуем в стенгазете.
Я злился. И вместе с тем понимал, что бессилен перед этой девчонкой.
— Ну и что из того, что ты знаешь моего отца? — сказал я. — Жаловаться пойдешь? Иди. Я не боюсь. Коза! А в стенгазете, попробуй только!
— И не думаю жаловаться.
Мальчишки стояли молча. Первый раз в жизни я испытал вдруг жгучее чувство стыда. Хотелось сказать Маше что-нибудь оскорбительное. У меня были счастливые минуты: я рассчитался со своим врагом, отплатил ему за себя и за своего отца. И вдруг эта девчонка с торчащими косичками сводила на нет мою радость, мою победу. Жаль, черт возьми, что она не мальчишка. А то я показал бы, как совать нос не в свое дело!
— Пойдемте, ребята. Болтать с нею — зря время тратить, — махнул я рукой и демонстративно направился прочь. Мои товарищи захохотали, но я чувствовал себя скверно, хуже, чем после взбучек отца.
Что подумала тогда обо мне Маша — не знаю, но я очень злился на нее. Не любил, когда вмешиваются в мои дела: я считал, что поступаю правильно. И если меня наказывали за мои поступки, то делали это потому, казалось мне, что просто не понимали меня. Поэтому я мирился со старшими и с их неумением разобраться в причинах моих порывов. Но вмешательство Маши было необычным: ее упрек впервые заставил заговорить во мне голос неизвестного мне до этого чувства совести. Придя домой, я первым долгом посмотрел на себя в зеркало. Лицо мое распухло, под правым глазом чернел синяк. Я не был похож на самого себя. И радость победы над Петькой Самойловым показалась вдруг жалкой, никчемной. Защемило сердце. Что-то надломилось в моей груди. Я отказался от мысли убежать из дома и почему-то думал, как теперь встречусь с Машей.
На следующий день в школе я был тише воды, ниже травы. Классный руководитель Владимир Андреевич часто поглядывал на меня и, вероятно, думал, что я опечален тем, что часы мои в школе сочтены. Он подошел ко мне, погладил по голове и сказал: «Ничего, Коля, все образуется». Затем вызвал к доске. Я ответил без запинки заданный урок. Владимир Андреевич сочувственно вздохнул, хотел что-то сказать, но передумал и велел мне сесть на место.
Вечером меня вызвали в кабинет директора. Разговор был серьезным, но из школы не исключили. Владимир Андреевич и на этот раз уговорил директора.
Во мне происходило что-то непонятное мне самому. С Машей встреч я избегал и в то же время только о том и думал, как бы увидеть ее. Я даже решил извиниться перед нею, но смелости так и не хватило. Сбитый с толку этими новыми для меня переживаниями, я брел по коридору школы на большой перемене и нос к носу столкнулся с Машей. Они с подружкой о чем-то весело щебетали.
— Коля, здравствуй, — поздоровалась она. — Ты что, не видишь, куда идешь? — Глаза ее улыбались. От смущения я не нашелся что ответить. Наклонив голову, быстро прошел мимо.
— Постой, Коля. Куда же ты?
Запыхавшийся, я скрылся за дверью соседнего класса, сердце мое сильно стучало.
После этого случая при одной только мысли, что сейчас увижу Машу, вся кровь бросалась мне в лицо. Но зато тихая радость переполняла меня, когда я наблюдал Машу издали, уверенный, что никто не замечает моих пристальных взглядов.
Все это так мало вязалось с задиристым вихрастым забиякой, каким был я до сих пор. Я себя сам не узнавал: драки я прекратил, перестал проказничать, замкнулся. Много думал. Перемены эти не остались незамеченными моими родными. Отец опросил однажды: «Что-то ты, брат, слишком серьезным стал. Даже скукой в доме повеяло. Над чем так упорно думаешь, Николай?» Не помню, что я ответил, но отец остался доволен. Он даже приласкал меня, что было с его стороны совсем неожиданным. «Учитель, — сказал отец, — хвалил тебя сегодня. Ты лучше всех написал контрольную работу».
Но все это не утешало меня. Я словно попал в заколдованный круг, хотел вырваться из него и не знал, как это сделать. Вернее, я не знал, чего, собственно, хочу вообще. О чем бы я ни думал, что бы ни делал, перед глазами всегда стояла Маша.
Майор стряхнул пепел с папиросы и некоторое время молча наблюдал за змейкой голубоватого дыма.
— Да, — сказал он, словно очнувшись, — я изменился. В школе обо мне тоже переменили мнение. Даже на родительских собраниях стали в пример ставить: вот, мол, как надо воспитывать детей в семье… Но я лучше, чем кто бы то ни было, знал, что все, что говорят обо мне взрослые, на самом деле не так. Они и не догадывались о причинах, которые меня делали другим. Но меня не трогало — ошибаются они или нет. Я был поглощен собою, мне хотелось быть еще лучше. Подружился с книгой: читал много, без разбора. В школе создали драматический кружок. В кружке принимала участие и Маша. Я, понятно, тоже записался. Моему появлению в кружке Маша обрадовалась, напомнила со смехом, как я бил Петьку и как грозил ей. Но мне ничего другого не удалось придумать, как ответить: «Не люблю девчонок».
— Ну и не надо. Подумаешь, цаца какая!.. — обиделась Маша.
Мне стало стыдно. Все, что я делал хорошего в последнее время, я делал ради Маши, хотел, чтобы ей всегда было хорошо, и вот опять обидел ее. Пуще огня я боялся, что кому-нибудь, и особенно ей, станет известна тайна моих переживаний.
Репетиции в драмкружке постепенно сблизили нас. Правда, в присутствии Маши я был молчалив, отделывался от ее вопросов односложными «да», «нет», но радовался, слыша ее голос. Я выделял Машу из среды ее подруг, видел, что она смелее и лучше других держится на сцене, интереснее говорит, что у нее красивее лицо, чем у ее подружек; словом, приписывал ей все самое лучшее. Меня распирало желание обо всем этом сказать Маше, но как только мы встречались, все хорошие слова застревали в горле, и если я что-нибудь и говорил, то обязательно какую-нибудь дерзость, обидную для нее. И ничего не мог с собой поделать.
Но как-то при мне один старшеклассник дернул Машу за косичку. Я весь задрожал и бросился на парнишку, тот закричал от испуга, растерялся и дал от меня деру.
— Опять драться? Ну почему ты такой драчун, Коля? — сказала Маша, но в ее голосе я не услышал упрека.
— Пусть в другой раз знает, как задирать девчонок, — ответил серьезно я. — Хотя, может, и не стоит за вас заступаться. Все вы плаксы и ябеды.
Маша улыбнулась:
— И я тоже?
— Не знаю. А чем ты лучше других?
Но это была, так сказать, внешняя, показная сторона моих отношений с Машей. Наедине с самим собою я был иным: гораздо умнее и лучше. У меня на языке вертелись только необыкновенно теплые, ласковые слова. Я придумывал разговор с Машей, мысленно рассказывал ей о прочитанной книге либо о чем-нибудь забавном, о своих, мною же выдуманных приключениях. Иногда… в течение часа твердил себе одну и ту же фразу, которой собирался начать разговор с Машей. Но едва мы встречались, а это случалось все чаще, — наша семья подружилась с семьей Шевченко, и я либо с отцом, либо с матерью почти ежедневно бывал в доме Маши, — язык отказывался повиноваться мне; в лучшем случае я выдавливал из себя заученную фразу, она звучала комично, и, бывало, вечер я просиживал истукан-истуканом, не проронив ни слова.
Маша, напротив, всегда была разговорчива и приветлива. Еще и сейчас свежи в моей памяти многие ее увлекательные рассказы. Мое самолюбие страдало. В присутствии Маши я не способен был даже двух слов связать и чувствовал, как сгораю от стыда из-за корявого, случайно оброненного слова. В такие минуты я давал себе зарок: ни за что больше не видеть Маши! Но клятвы забывались, едва я оставался наедине с самим собой.
Так продолжалось несколько месяцев.
Я повзрослел. Повзрослел не годами, а душой. Во мне все протестовало против моей нерешительности, беспомощности. Я ругал себя «рыбой», «дубиной», с трепетом думая, что если и Маша так судит обо мне, то все пропало. Что именно «все» — я не знал. Мне хотелось выглядеть в ее глазах необыкновенным, героем. На теснившие мою грудь вопросы я пытался отыскать ответ в книгах. Но книги только еще больше запутывали: многое было непонятно, говорилось совсем не то, чего хотелось моему детскому сердцу и разуму. К старшим или к родителям я бы ни за что не обратился. Знал заранее, что они посмеются надо мной и только. Взрослые думают, что только им одним доступны глубокие переживания и волнения.
И, естественно, предоставленный самому себе, я совершал одну ошибку за другой, хотя и старался подражать взрослым, копировать их поступки. Как-то я взял свою фотографию и на обороте ее написал: «Хорошей девочке Маше от Коли», но тут же отказался от этого намерения. И решил просто преподнести Маше какой-нибудь подарок. Я стянул у матери два гривенника и на все купил конфет. Совесть моя была чиста: взрослые парни у нас в деревне всегда так делают, когда хотят подарить что-нибудь своим девчатам, думал я, почему бы и мне не поступить так. Для Маши я готов на все, а сделать подарка не могу, потому что у меня нет денег. Взять без спроса у матери двугривенный — вовсе не значит воровать. И опять-таки не для самого себя брал, а для Маши, то есть для других, а за это не осуждают, рассудил я. Трудность представляло другое: я носился с конфетами, как дурак с писаной торбой, не зная, как отдать их Маше. Но случай помог мне. Возвращая Маше взятую у нее книгу, я заодно вручил и конфеты. И тут же, не обмолвившись ни словом, убежал.
После этого долго боялся попасть Маше на глаза.
Прошло несколько дней, покуда, я, наконец, отважился пойти к Шевченко, и то с матерью. Было это в декабрьский вечер. К Шевченко мы ввалились облепленные снегом. Меня раздели и усадили к печке, но настроение у меня вдруг испортилось: в комнате я не увидел той, ради кого пришел.
— Что с тобою, Коля? Ты как не в своей тарелке сегодня, — сказала мать Маши Елена Николаевна, заметив резкую перемену в моем настроении. — Иди к Марусе. Она у себя в комнате, уроки учит.
— Она дома? — невольно вырвалось у меня радостное восклицание. Мне и в голову не приходило, что я выдаю себя взрослым, от которых так тщательно все скрывал.
К Маше в комнату я вошел робко. Закрыл за собою дверь, в нерешительности остановился у порога. Маша мгновение пытливо глядела на меня. Она была какой-то необыкновенной: я не узнавал ее. И светлые волосы, заплетенные почему-то не как всегда в две, а в одну толстую косу, и ее немного зардевшееся лицо, и большие темные глаза, и даже сиреневое платье, облегавшее ее худенькую фигурку, — все было не таким, как всегда. Мне хотелось без конца смотреть на нее.
— Что же ты стоишь, Коля? — спохватилась Маша.
— Здравствуй, Мари, — выпалил я. Идя к Шевченко, я дорогой думал, что назову ее именно так. «Мари», казалось мне, больше подходит ей, чем любое другое имя, и Маша обрадуется, услышав это от меня. Но получилось совсем не так, как я ожидал.
— Какая Мари? Что за Мари? — и Маша рассмеялась. — Мари?! — повторила она сквозь смех и закружилась по комнате.
А я не знал, куда мне деваться. Но вдруг Маша умолкла, смеха как и не было.
— Коля, ты откуда взял конфеты?
Я почувствовал, как загорелись мои уши, лоб, шея. «Откуда она знает, что я украл деньги? — мелькнуло в голове. — И зачем только я сюда пришел?»
Но отступать было поздно, а лгать я не посмел и во всем признался.
— Я догадалась. — Маша по-взрослому улыбнулась. — И… обо всем рассказала маме.
В тот момент я думал только об одном — как теперь буду смотреть в глаза ее матери, и чуть не заплакал.
— Зачем, зачем ты это сделала?
Маша не дала мне договорить.
— Коля, я дам тебе деньги, ты вернешь их своей маме и во всем сознаешься.
— Ни за что!
Но Маша настояла на своем. Я честно рассказал матери обо всем и пообещал, что больше этого не повторю. Моя откровенность удивила мать, но отцу она об этом ничего не сказала. Я благодарил ее в душе и был уверен, что на свете нет лучше и добрее человека, чем моя мама.
Этот случай сделал нас с Машей друзьями. С тех пор мы стали неразлучны: катались на санках, ходили на лыжах, вместе читали книги, делились друг с другом всем, что нас волновало. В доме у нас Маша была для меня самой желанной гостьей. Когда она появлялась, затевались игры, беготня, звенел, неуемный радостный смех. Моя маленькая сестренка хлопала в ладоши и визжала от восторга, едва только Маша показывалась в дверях, и я еще больше любил сестру за это.
Случалось, что Маша не приходила к нам два-три дня, а в школе я ее видел мельком. Тогда и маленькая сестренка, и пустые комнаты, и книги, и хмурое лицо отца — все казалось серым, неинтересным, скучным. Но стоило только Маше переступить наш порог — и все вокруг преображалось как по мановению волшебной палочки. Дом снова наполнялся радостью и теплом, светом и красками.
Как-то после спектакля драмкружка мы гурьбой возвращались из школы. Молодой месяц ярким серпом сиял на чистом небе. Погруженные в дремоту дома стояли в тяжелых шапках иссиня-белого снега. Я все еще находился под впечатлением спектакля и молча шел рядом с Машей, видел ее разгоряченное лицо, смеющиеся глаза. В волосах Маши, выбившихся из-под платка, искрились снежинки. Кто-то из ребят сказал, что в «Спящей царевне» я здорово сыграл королевича Елисея, а Маша была прямо как настоящая царевна. Я подумал: а что если б сказка стала явью? И вдруг, подняв глаза к месяцу, продекламировал:
Месяц, месяц, мой дружок!.. Не видал ли где на свете Ты царевны молодой? Я жених ей… —и взглянул на Машу. Шедшие рядом ученики смолкли. Но спустя минуту тишину разорвал взрыв смеха. Маша не смеялась. Я готов был провалиться сквозь землю. Выручил меня одноклассник Сережка, тут же подхватив:
Братец мой, Не видал я девы красной…А когда ребята разошлись и мы подошли с Машей к ее дому, она строго сказала:
— Ты зачем так?..
— Что так? — не понял я.
— Ну, так ведешь себя? — уже менее строго повторила она.
Опустив голову, я смотрел под ноги. У Маши была в руке красная варежка, и мне хотелось попросить эту варежку себе. Хотелось сказать что-то особенное, что обрадовало бы Машу, и мы бы сразу почувствовали себя просто и хорошо. Но я не знал, что сказать.
— Маша, ты самая хорошая на всем свете. Ты лучше всех… — неожиданно для себя выпалил я, и мне показалось, что в свои слова я вложил что-то недозволенное. И тут же, не простившись, убежал.
Ночь провел неспокойно, радуясь и волнуясь: то мне казалось, что я поступил хорошо, то вдруг впадал в отчаяние от мысли, что обидел Машу.
В Маше произошла непонятная для меня перемена. Она замкнулась, в школе избегала меня; когда мы встречались в кружке, не разговаривала со мной и совсем перестала заходить к нам. При нечаянных встречах лицо и уши ее заливал густой румянец. А я как будто потерял что-то, не понимал, что случилось, хотел разобраться во всем этом, но идти к Маше домой или искать другого случая поговорить — не решался. Если же мать посылала меня по делу к Елене Николаевне, матери Маши, я под разными предлогами старался отказаться.
Но одно неожиданное обстоятельство вскоре опрокинуло все мои детские планы. Отца переводили на работу в Ростов, и семья наша покидала Кудиновку.
— Неужели нельзя оставить меня здесь? Разве можно прерывать учебу в третьей четверти? Ты же понимаешь сам… — умолял я отца.
— Еще что придумаешь? Ишь, какой самостоятельный, — отец весело потрепал меня за вихор, довольный предстоящей переменой.
А меня захлестывала боль. Я не мог представить себе жизни вдали от Маши и, забившись в пустую комнату, чтобы меня никто не видел, впервые горько заплакал.
За день до отъезда я в последний раз встретил Машу. Она изменилась до неузнаваемости. Под глазами легли синие круга, она не улыбалась, как обычно, а с грустью смотрела на меня. По ее щекам одна за другой покатились крупные слезы. Я не мог выдержать ее взгляда и отвернулся. Только спустя много времени я понял, что Маша не меньше меня была потрясена моим внезапным отъездом.
Майор Славин зажег спичку, поднес ее к папиросе. Огонек на мгновение осветил его сосредоточенное с прямым носом и густыми темными бровями лицо.
— Вам, людям взрослым, повидавшим свет, может быть, все это покажется странным, ведь мы тогда были детьми, — майор выпустил изо рта густое облачко дыма и покосился на нас. — Разумеется, это звучит несколько, пожалуй, наивно теперь, когда в моих волосах появилась седина.
— Николай Семенович, а дальше, что же было дальше? — не утерпел лейтенант Катаев.
— Дальше?.. — Славин вздохнул. — А дальше наши вещи были уложены. Хотя еще только брезжил рассвет, много собралось народу проводить отца. Меня закутали в тулуп, усадили в сани, и кони, фыркая, весело тронулись в путь. Помню, я писал тогда Маше: «Дорога, дорога без конца. Клубится снежная пыль; все время думаю о Кудиновке. Тебя нет, и мне так больно…»
Майор умолк и уставился немигающим взглядом в дальний угол комнаты. За окном по-прежнему лил дождь, шумела вода в водосточных трубах. Мы переглянулись друг с другом и решили, что майор закончил рассказ.
— Николай Семенович, простите, я не совсем понимаю, — заговорил лейтенант Орлов. — Вы хотите сказать, что ваше детское увлечение — любовь?
— Да погоди ты, — досадливо поморщился Петя Собинов. — Вечно ты поперед батьки… — он не договорил.
— Верно, Петя, мы всегда стараемся оставить последнее слово за собой, — заметил майор. — Мы думаем, что лучше других знаем жизнь, лезем со своими категорическими суждениями, куда нас не просят; нередко отзываемся о самом красивом чувстве человека — любви — пренебрежительно, как о пустой забаве. А в действительности человек гораздо красивее, чище, чем мы думаем. И любовь — не пустая забава, а высшее проявление сущности человека, то, что возвышает его над бессловесной тварью, — с некоторой резкостью заключил майор.
Он поднялся и долго молча шагал по комнате. Ему был неприятен вопрос Орлова, это чувствовалось по слегка побелевшему лицу и по тому, как он курил, стиснув в зубах мундштук папиросы. Я очень хорошо понимал Славина в эти минуты — он хотел не только рассказать нам то, что когда-то волновало его, но главное — предостеречь нас от поверхностных суждений, от легкомысленного отношения к жизни. Это, видимо, и заставило его продолжать свой рассказ.
— Да, — он круто остановился и прямо посмотрел в лицо Орлову. — Если хотите знать, мое детское чувство было настоящей любовью! — Майор прошел к окну, прикрыл его. — Маша везде была со мной. Вернее, она жила в моем воображении, в моих мыслях, — продолжал он. — Время не только не стерло во мне это чувство, но, напротив, с каждым годом укрепляло его, вселяло в сердце веру, что Маша и я — родственные натуры и судьба должна свести нас. А если этого не случится, то ни я, ни она не испытаем подлинного счастья в жизни.
Так шли годы. Я закончил десятилетку, поступил в институт, научился видеть жизнь такой, как она есть, глубже осмысливать окружавшие меня явления и события. Общение с друзьями, моими воспитателями, вечера в институте, диспуты, споры о литературе, философии, о судьбах человека далеко оставили позади детство. Но Машу ничто не заслоняло. Складывалось так, что она стала не только моим другом, но и постоянным советчиком. И когда мне предстояло совершить что-нибудь серьезное, я мысленно всегда обращался к ней. И если был уверен, что она одобряет, — смело шел вперед, осуществлял задуманное.
Но все это было только в мечтах: мы даже не переписывались с Машей. Ее родные спустя три года после нашего отъезда тоже уехали из Кудиновки, а я в это время попал на Северный Кавказ, в Пятигорск. Мои попытки установить с ними связь ничего не дали. Я даже ездил во время последних летних каникул в Кудиновку, но там уже мало кто помнил о семье Шевченко, да и меня никто не узнавал; на месте старого дома, в котором мы жили, стоял большой Дом культуры с белыми колоннами. Люди стали иными, да и деревня была уже не та. На ее улицах по вечерам горел электрический свет, из репродуктора, установленного на площади, лились новые песни. Петька Самойлов, как я узнал, учился в Москве на курсах председателей колхозов. Жизнь не стояла на месте.
…В тысяча девятьсот тридцать девятом году я закончил институт и должен был уходить в армию. Из своей поездки в Кудиновку я возвратился со щемящим чувством: Маша, пожалуй, давным-давно забыла о своем детском увлечении.
Со смешанным чувством боли и обиды думал я обо всем, что до тех пор так бережно хранил в сердце. Мне показалось, будто кто-то обманул мои мечты, и я злился на себя за это. Жить иллюзией, решил я, значит пропустить мимо юность, все ее щедрые радости и утехи. А когда спохватишься — молодость уже окажется позади. Нет, такая перспектива меня не устраивала. В те три месяца, что оставались до призыва в армию, меня словно подменили, я старался наверстать упущенное, легковесно, словно мстя кому-то, относился к любви, подтрунивал над влюбленными друзьями. Мне вдруг стало безразлично, как на мои поступки и действия посмотрят другие. Я повесничал, злословил, удивляя своих товарищей внезапно происшедшей во мне переменой. «Честное слово, Николай, ты с ума сходишь. Что за буря метет в тебе? — говорили приятели. — Мы привыкли знать тебя сухим отличником».
Не узнал меня и мой дядя, полковник Захаров, который за месяц до моего призыва в армию приехал с Дальнего Востока на Кавказ подремонтировать свое здоровье.
Он отдыхал с женой в Кисловодске. Родственника я не видел лет пять. Нам было о чем поговорить, и я часто навещал его — от Пятигорска до Кисловодска час езды. Дядя почти всю жизнь прослужил в армии, был участником хасаиских и халхинголских событий, много и с увлечением рассказывал о них и, как водится у всех умудренных годами и жизненным опытом дядей, давал племяннику наставления, морализировал, со всей серьезностью внушал мне мысль о военной карьере. Но первое, на что он счел необходимым указать мне, это что я не по годам легкомыслен.
— В последнюю нашу встречу я знал тебя иным, — огорченно сказал он.
Я отшучивался, дядя нервничал; говорил, что нынче нам, молодым людям, созданы все условия для содержательной жизни, роста, нравственного совершенствования, а мы не ценим этого; вот он сам рос и воспитывался не в таких условиях — и многое другое.
Жена дяди Екатерина Алексеевна — молодая, интересная женщина — была несколько иного мнения о жизни, чем ее муж. Его серьезные речи она скрашивала своей непринужденностью, смехом и юмором. Во время таких споров она всегда становилась на мою сторону. Дядя только разводил руками, удивляясь нашему единодушию. Правда, он иногда замечал не без некоторой гордости, что в юные годы и он находил общий язык с молодыми тетушками, да и сейчас еще на него частенько заглядываются представительницы прекрасного пола… И он лихо подкручивал свои светлые усики.
— Ну, ты у меня известный донжуан! — смеялась Екатерина Алексеевна. Муж ее до сорока годов был холостяком и из-за своей большой учености и холодной рассудительности не пользовался успехом у женщин.
— Будет вам, — сдавался он. — Вам только дай палец всю руку отхватите. Любой авторитет начнете штопать и латать.
Все передо мной было открыто: я закончил институт; не нужно было думать о завтрашнем дне, он был известен и не предвещал мне разочарований, напротив, я сам — хозяин своей судьбы; все было за меня. Дядя же, видимо, расценивал мое приподнятое настроение, уверенность как легкомысленное отношение к жизни…
Однажды мы отправились в местный театр слушать оперу. В тот вечер чувствовал себя я прескверно, хандрил, мне было как-то не по себе. Дядя удивился, увидев в беспечном человеке хмурость. Но не знал того, что сам был в некоторой мере причиной нахлынувшей на меня тоски. Еще утром дядя предложил мне пригласить в театр свою девушку. Я развел руками: «Увы! Не удосужился обзавестись дамой сердца!»
— Эх ты, молодой человек, — вначале было упрекнул он, но тут же оставил укоризненный тон и начал высказывать свои мысли и взгляды на женщин. Он заявил, что я, пожалуй, правильно делаю, что держусь в стороне от них. Я возразил:
— Не могу согласиться!
— То есть как? — воскликнул сбитый с толку дядя. — Как прикажешь тебя понимать?
— Да так и понимать, — усмехнулся я. — Слишком примитивно судят те, кто считает женщину этаким опасным созданием с парадоксальным умом, как говаривал известный лермонтовский герой.
Дядя пожал плечами:
— Женщины, мой друг, на все смотрят, так сказать, со своей колокольни. Всегда преследуют определенную цель. Коммерция! В дурном и в хорошем смысле, всегда она у них на первом плане во всем и везде. Эгоизма их постичь нельзя.
— И у вашей жены тоже?
— Катя — другое дело. Она мне друг, и я ценю ee она живет для меня.
— Удобная философия. Это же психология собственника! — не удержался я. — Она живет для вас. А вы?
Дядя посмотрел на меня с удивлением.
— В том-то и беда, — продолжал я, — что не они, а мы, мужчины, оказываемся коммерсантами: ищем в женщине либо жену, либо любовницу, либо утеху.
А ведь женщина — это музыка жизни. И ничего нет ей равного. Это музыка нашего труда. Это, наконец, мать, жена, любимая; сделайте жизнь любимой женщины песней — женщина станет еще прекраснее, и я скажу — вы настоящий человек.
— Музыкант, — иронически улыбнулся дядя. — А сам-то, вижу, хитрец, не торопишься обзавестись этой… музыкой.
Он был прав. И мне ничего не оставалось другого, как молча проглотить горькую пилюлю. В театре я был неразговорчив, рассеян. На меня снова нахлынули воспоминания о Маше. Мне казалось, что я был обязан ей всем лучшим в себе, только ей одной. Новые встречи не волновали. И как бы я вел себя, вдруг встретившись с Машей, я не знал. Я даже не мог представить ее взрослой: она оставалась для меня все той же девочкой с милыми косичками, когда-то отославшей меня на исповедь к матери по поводу злосчастных конфет.
Екатерина Алексеевна, желая рассеять мою хандру, в первом антракте отослала меня в буфет сразу же после закрытия занавеса — занять столик и заказать бутылку шампанского и пирожные. Я отправился исполнить ее просьбу. Но когда все было сделано, родственники точно в воду канули. Я вышел из буфета, чтобы поторопить их. Они беседовали с каким-то незнакомцем в форме капитана. На руку капитана опиралась стройная молодая женщина. Меня поразила необыкновенная, строгая ее красота. Темно-серое со вкусом сшитое платье, отделанное у ворота и на рукавах мягких тонов бархатом, облегало ее стройную фигуру. Густые светло-русые волосы гладко причесаны. В овале ее смугловатого лица, в очертании прямого носа, в рисунке чистого лба, изогнутых бровей, губ, в линиях открытой шеи было столько прелести, что я ничего подобного не видел и не мог себе представить. Она, казалось, безучастно слушала разговор мужчин, незаметно окинула взглядом тетку и повернула голову в мою сторону. Глаза наши встретились. Мгновение она смотрела на меня безразлично, как смотрят на прохожих, потом глаза ее вспыхнули и зажглись, в них отразились испуг и удивление. Но эта вспышка продолжалась лишь долю секунды. Уже равнодушным взглядом она еще раз окинула меня с ног до головы и отвернулась.
Было в этой женщине что-то слишком знакомое мне. «Я где-то видел ее», — сказал я себе, но тотчас вынужден был отказаться от этой мысли: слишком ограничен был круг моих знакомств и слишком мало я ездил еще по свету, чтобы, встретив такую женщину, не запомнить ее на всю жизнь. Но вдруг… улыбка, которой она ответила на какое-то замечание дяди, сказала мне все. Сомневаться я больше не мог. И если я еще не верил, то не верил не в то, что это была Маша, а в то, что я мог ее встретить здесь.
Спустя минуту я подошел к ним, слегка поклонился и обратился к дяде:
— Все готово.
— Отлично, мой друг. Кстати, познакомьтесь. Мой племянник, — представил он меня своим знакомым.
Я поклонился Маше.
— Николай.
— Марина, — подала она тонкую узкую руку.
— Очень приятно, — торопливо произнес я обычную в таких случаях фразу, сдерживая в себе каждую жилку.
— Семенов, — щелкнул каблуками капитан, и я понял, что это тот самый Семенов, о котором мне говорил дядя, что он отдыхает в одном с ним санатории, что он тоже с Дальнего Востока. Я, обменявшись с ним рукопожатием, назвал себя:
— Славин.
От меня не ускользнуло, как при моем имени Марина едва приметно вздрогнула. «Маша! — хотел крикнуть я, но пересилил себя, повернулся к Екатерине Алексеевне. Дядя пригласил всех в буфет. — Неужели она не узнает? Семенова… Мне лучше уйти, бежать», — думал я.
В буфете, едва мы уселись за стол, Марина спросила у меня, живу ли я в Кисловодске. С напускной холодностью я ответил отрицательно и опять повернулся к Екатерине Алексеевне, заметив: «Посмотрите, какая оригинальная шляпка вон на той даме. Вы, кажется, хотели приобрести себе такую». Все посмотрели в указанную сторону и рассмеялись: причудливое трехэтажное сооружение делало голову женщины похожей на китайскую пагоду.
— Чудеса! — сказал капитан.
— Вкусы, как и привычки, — наша, слабость, — ответил я ему. Он согласно кивнул головой. И я тут же поймал себя на мысли, что хочу всем навязать свое мнение, заставить слушать себя и как-то выделиться перед Мариной. Язык у меня развязался, хандра исчезла, я шутил, вызывая одобрительный смех. Марина с настороженностью следила за мной, и у меня было такое ощущение, что она изучает меня, хотя я старался не показывать, что замечаю это. Подогреваемый тщеславием, я попытался сострить насчет мужей. Но шутка не вызвала отклика. Наступило неловкое молчание. Чтобы как-то выйти из положения, я стал против своего желания наговаривать на самого себя.
Дядя откупорил бутылку, разлил вино в бокалы. Ни с кем не чокнувшись, я выпил, сделав это преднамеренно.
— Вы, однако, не очень внимательны, молодой человек, — без улыбки заметила Марина.
— Я скверно усвоил этику, — сказал я, чтобы сказать что-нибудь.
— Молодой человек! — покосился на меня дядя.
Капитан Семенов, чьей защиты я желал бы меньше всего, неожиданно вступился за меня. Мне, мол, по молодости можно простить. Снисходительность его, своего рода похлопывание по плечу взвинтили мое самолюбие. Я видел — капитан неискренен в своей поддержке: он хотя и поддерживал мои шутки, но был все время настороже, чем-то я ему, как и он мне, не нравился.
— Бывают люди, — заметил я, — которые говорят одно, делают другое, а думают третье.
Семенов повернулся ко мне:
— Вы что хотите этим сказать?
— Я не имею в виду присутствующих, — начал было я, но меня прервала Марина:
— А вы к какой категории относитесь?
— Когда как, — пожал я плечами. — Во всяком случае, не тороплюсь подлатать, как иногда выражается мой дядя, авторитет молодости.
По лицу капитана скользнула пренебрежительная улыбка.
Тут как раз в буфете стали тушить свет, и мы направились в зрительный зал.
— Какая тебя муха сегодня укусила? — спросил дядя, когда мы остались одни.
— Давно ли ваш капитан вышел из того возраста, когда под стол пешком ходят? — ответил я.
— Нехорошо так, Николай! — воскликнул дядя. — А знаешь ли ты, что Семенов в двадцать шесть лет уже отличился в боях на озере Хасан я имеет ордена?
— Меня бы удивило, если бы он не отличился. Храбрость и героизм у нас — в порядке вещей, когда дело касается чести и защиты Родины. Так я понимаю. Да и не мне вам об этом говорить.
Дядя насупился. Он был недоволен мною. Я и сам определенно еще не знал, зачем затеял всю эту канитель и чего собственно хочу. Знал только одно, что вел себя непристойно.
Второго действия оперы я не слушал. В голове роились обрывочные мысли о Маше, капитане, дяде, о самом себе. У Екатерины Алексеевны я спросил, как давно она знакома с Семеновыми. Оказалось, что познакомились они еще на Дальнем Востоке, хотя особой дружбы не водили. Здесь, на Кавказе, они тоже редко встречаются, так как Марина живет в Пятигорске у своей двоюродной сестры, а Семенов вообще не очень-то общительный человек.
«Марина живет в Пятигорске!» — сердце мое болезненно сжалось: я могу ее встретить там, я хотел этого, хотел сильно, но с горечью вынужден был напомнить себе, что, кроме моего желания, есть еще капитан, существуют укоренившиеся в обществе нравственные законы и убеждения.
В антракте родственники мои опять направились к Семеновым. Я не стал сопровождать их. Мне не хотелось встречаться с капитаном. О нем я не думал ничего дурного и не мог судить, каков он человек, но мы, еще не успев как следует познакомиться, уже испытывали друг к другу скрытую неприязнь. И я обрадовался случаю, когда в зрительном зале заметил своего товарища по институту. Он тоже увидел меня, помахал мне рукою. Мы вышли в фойе, разговорились.
— Знаешь, Николай, — сказал он, — а жаль, что институт остался позади. Будто вышел я из комнаты, захлопнул дверь и оставил за ней свою молодость. Бросился назад, а дверь — заперта.
Я усмехнулся.
— Мне почему-то сегодня особенно жаль прошлого, — продолжал он. — Ведь если и будет что-нибудь новое, такое же хорошее и славное, как в институте, то все равно это будет по-новому. Жизнь идет, и мы изменяемся, вообще… — и он махнул рукой, помлчал, затем с грустью произнес: — Вообще, не знаешь, что у тебя на всю жизнь останется в памяти, а что мелькнет и забудется.
— С чего это потянуло тебя к психологизмам?
— Да нет, просто хочется душу излить.
— Если в ней много воды…
— Ты все остришь. А небось, и у тебя бы кошки заскребли на сердце, если бы ты проводил любимую девушку. Галя-то ведь третьего дня уехала. Любить — не так-то просто, как кое-кому кажется. Это значит всегда чувствовать самого себя, свое «я» и делать это «я» лучшим. Знал бы ты, какая гордость, какой свет полнит душу… Э, да что говорить!
— С этого бы и начинал, — рассмеялся я, но чувствовал, что смеюсь неискренне.
— Эх, Николай, Николай, — прервал он меня, — не понимал я тебя никогда и сейчас не понимаю, хотя вообще парень ты замечательный и друг хороший; вот что неоткровенный — это скверно.
— А о себе ты можешь сказать что-нибудь плохое? — спросил я у него.
— Сегодня нет — я люблю! Слышишь: люблю!
К нам подошли дядя и Екатерина Алексеевна. Приятель без особого удовольствия познакомился с ними. Было видно, что ему еще очень многое хочется сказать мне, но он лишь торопливо спросил, встретимся ли мы еще, и оставил нас.
— Марина интересовалась, почему ты не подошел, — сказала Екатерина Алексеевна, когда мы усаживались на свои места.
— И только? — вырвалось у меня.
Екатерина Алексеевна испытующе заглянула мне в глаза. Я горько усмехнулся и ничего не ответил. А что, собственно, она еще могла спросить обо мне? Я терялся в догадках, предположениях — к чему приведет эта встреча. Узнала ли она меня? Но не все ли равно теперь: в груди остался лишь горький осадок от пережитых волнений и неосуществленных надежд.
Я от души позавидовал приятелю по институту: он ничего не может сказать о себе плохого — он любит. Подобного о себе я сказать не мог. Во мне шевельнулось кичливое, высокомерное «я»: «Мне можно», «Я все могу». Это пустое «я» обычно дает знать себя, когда мы бессильны, когда мы хотим оправдаться в своих глазах. Я стремился утолить честолюбие своего «я» и осуждал себя, хотя голос осуждения был робок и неуверен.
— Ты слышишь, поет как, а? — стиснул мне локоть дядя. Он весь подался вперед. На лице его был написан восторг.
Я посмотрел на сцену. Заключительные картины оперы Пуччини «Тоска» и особенно ария Каварадосси, устремившего взор на голубое небо сквозь маленькое зарешеченное окно, выражали силу человеческой скорби и вместе с тем неодолимое стремление и любовь к жизни.
«Да, — подумал я, — сколько все-таки подводных камней, ухабов и рытвин на пути человека. И несмотря ни на что, он идет, стремится вперед, верит — и в этом его сила. В его имени — любовь, труд, мечта. Ему, человеку, если он крепок духом, подвластны мир и жизнь. От него зависит то, что мы называем судьбой. Многие не хотят понять этого, плачут стонут. Они не чувствуют локтя друга, бегут от него. А ведь в единении с другим, третьим… пятым… сотым человек — всё и ничто — в одиночестве. Пусть поднимется буря в душе одного человека — это будет буря в стакане воды. Но если, как говорит мудрец, вздохнет весь народ — будет буря! Чудесно быть человеком! И грустно: слишком много мятежной силы дала ему природа. И худшее в этом, когда мы попадаем под власть своих мелких, самолюбивых вожделений».
Эти мысли захлестнули меня так, что я забыл, где нахожусь. Я чувствовал, что во мне нарастает что-то противное моим, убеждениям; мне необходимо было разобраться во всем этом, чтобы не сделать ложного шага.
— Ты идешь или собираешься ночевать в театре? — с улыбкой спросил дядя, когда закрылся занавес.
Выйдя из театра, мы пошли проводить Семеновых на вокзал. Капитан, когда Марина задерживалась допоздна в Кисловодске, с последним поездом провожал ее в Пятигорск. Я в тот вечер решил остаться ночевать в Кисловодске: слишком недоволен я был собой, Мариной, капитаном, чтобы ехать вместе с ними. По дороге на вокзал мои родственники и Семенов делились впечатлениями. Капитан восторгался оперой. Марина изредка, когда к ней обращались, роняла одно-два слова. Я шел молча.
— Молодой человек сегодня что-то не в ударе! — обратился ко мне капитан. — В антрактах преднамеренно избегал нас…
— Надеюсь, — ответил я, — без меня вам не было скучно.
Капитан улыбнулся.
— На этот раз вы сказали правду. А правда всегда хороша.
— Но вы, капитан, на этот раз ошиблись, — ответил я ему в свою очередь, — правда хороша не всегда. Например, ко мне в комнату вошел горбатый, а я ему: «Здорово, горбун!» Какова эта правда?
Капитану — это было видно по его глазам — очень хотелось парировать мое замечание какой-нибудь оригинальностью, но экспромт обычно редко удается, он явно обрадовался, когда в разговор вмешался дядя, и уже не обращался ко мне до самого вокзала. На вокзале мы распростились. Марина, пожимая руку Екатерине Алексеевне, спросила, что она намеревается делать в воскресенье и не провести ли им этот день вместе. Тетя ответила, что собиралась съездить в Пятигорск, а вообще определенно еще не решила и не прочь встретиться. Но я так и не понял, встретятся они или нет.
— А вы, Николай, — повернулась вдруг ко мне Марина, — всегда такой колючий? — глаза ее заблестели.
— Видите ли, — сказал я, — недостатки человека большей частью связаны с его достоинствами. А мы, как правило, замечаем главным образом «колючки»…
— Быть может, нам посчастливится увидеть, кроме шипов, и розы, — не то вопросительно, не то утвердительно сказала Марина.
— Боюсь, как бы розы вы не приняли за чертополох. К сожалению, душа человеческая — не грядка, где все как на ладони. На поверхности ее скорее накипь, чем сущность.
Марша как-то сразу погасла.
— Что ж, видно, и впрямь чужая душа — потемки.
— Чужая, по-видимому, да…
На следующий день утром я тоже уехал в Пятигорск и целую неделю не встречался с дядей. Он передавал через знакомых, чтобы я обязательно приехал, но я все откладывал поездку. Причины у меня были веские, жизнь моя была выбита из привычной колеи, я не мог и не смел поступить так, как того хотелось мне. Марина была несвободным человеком. Легкое увлечение, флирт с такой женщиной, как она, были противны моей натуре. Да и ее тоже. И лучшее, что я мог выбрать, — это не раздувать огня, заставить себя больше не встречаться с ней и тем самым дать возможность восторжествовать разуму. Но чем больше я думал о Марине, тем сильнее, несмотря на доводы рассудка, хотел видеть ее.
Раздираемый противоречивыми чувствами, я отправился наконец в Кисловодск.
Мы встретились у Екатерины Алексеевны. Дядя не смог, как рассчитывал, раздобыть на месте путевку для жены, и тетя снимала комнату в частном доме. Дядя обрадовался моему приезду, упрекнул, что я забыл их, и стал рассказывать, как в воскресенье они с Семеновыми ездили к подножию Эльбруса. Загорелое лицо дяди дышало здоровьем, светилось довольством. Он то и дело повторял, что помолодел лет на двадцать и что жена заново влюбилась в него. Екатерина Алексеевна на подшучивания отвечала тем же, и приподнятое, живое настроение счастливых супругов как-то встряхнуло меня. Я невольно заразился их оживлением, стал в свою очередь перебрасываться с ними шутками.
— Между прочим, — сказала Екатерина Алексеевна, — мы очень жалели, что не было тебя во время поездки к Эльбрусу.
— Кто это «мы»?
— Я, например, капитан Семенов и, — улыбнулась она, — разумеется, больше всех… твой дядя.
— Капитан, оказывается, очень любезен. Как он себя чувствует? — опросил я, пропуская мимо ушей лукавую паузу тетушки.
— Великолепно, особенно в твое отсутствие.
От дяди не ускользнул довольно прозрачный намек жены, и он, не дав мне ответить, воскликнул:
— Ты, Николай, оставь эти глупости! Семеновы должны вот-вот подойти. Мы сегодня ужинаем в «Храме воздуха». И прошу тебя, веди себя прилично.
— Постараюсь исправиться, милый дядя..
— Эх ты, несмышленыш, — вмешалась Екатерина Алексеевна. — Пора бы, кажется, знать, что лучшая оборона — это нападение.
Дядя рассмеялся.
— Сразу видна жена полковника. Ты, матушка, отлично усвоила военную тактику.
В это время как раз и вошли в комнату Семеновы. Марина была опять какой-то новой для меня, и снова я вынужден был признать, что мое воображение бледнеет перед действительностью: природа одарила Марину красотой, не скупясь.
— Приветствую вас и прошу прощения, Дмитрий Николаевич, что задержались, — сказал капитан, обращаясь к дяде. Он был в веселом, приподнятом настроении. Марина, напротив, выглядела грустной. Она молча пожала нам руки. «О чем она думает?» — задал я себе вопрос и, повременив, обратился к ней:
— Говорят, вы весело провели воскресный день?
— Можно было провести еще веселее, — сказала она и повернулась к Екатерине Алексеевне, стоявшей перед зеркалом. — Мне очень нравится это твое платье.
Екатерина Алексеевна принялась рассказывать, с каким трудом удалось ей найти портниху по вкусу.
«Что ж, — подумал я, — тем лучше. Платье занимает Марину больше, чем беседа со мной». Чтобы не выдать своего разочарования и своей боли, я попытался притвориться равнодушным ко всему и по возможности держаться непринужденно.
В «Храме воздуха», когда мы сидели за столом и услужливые официанты подносили новые и новые кавказские блюда, я не выходил из взятой на себя заранее роли. Капитан говорил больше всех, смеялся, шутил и почти не обращался ко мне. Но когда я, не помню уж по какому поводу, коснулся местной легенды о возникновении гор Бештау и Машука, он внимательно выслушал мой рассказ. Я видел, что капитан был ненатурален и всячески подчеркивал, что он «пожил на свете». В силу не совсем ясных для меня причин он старался кому-то доказать, что он и я — люди разных масштабов: один — умудренный опытом, исполненный высоких стремлений, другой — просто юнец. «Что ж, тем хуже для него», — сказал я себе и, когда он вновь стал распространяться о своих стремлениях и о препятствиях, встречающихся на пути, я привел английскую пословицу: «Если бы наши желания были лошадьми, то все бы ездили верхом». Од это воспринял как колкость в свой адрес и ответил мне тем же.
— Вы дурно меня истолковали, капитан, — спокойно ответил я на его резкость. — Жизнь — это действительно удел свершений, как говорите вы. Но я этот удел рассматриваю несколько иначе, не по-толстовски.
— Не понимаю, — искренне признался капитан.
— Толстой говорил: «Берегите себя прежде всего для себя…» На первый взгляд как будто безобидные слова. Но в них скрыта трагедия, если можно так выразиться. А именно: мое желание, я желаю. Такое «я» напоминает мне не человека, а эдакую губку, которая все впитывает только в себя и для себя и ничего не отдает взамен. Что же остается для других? В том-то и беда, что мы стремимся прежде всего устроить свое личное счастье. Жить для других — значит жить для себя, я так понимаю, и в этом, по-моему, суть великих свершений, о которых говорите вы, безразлично, касается это общественной жизни или взаимоотношений с женщиной. «Я люблю, я счастлив» — это еще не означает, что счастлив и другой.
— Вы философствуете. Это естественно. Молодость всегда витает в облаках, — беспечно сказал капитан.
— Может быть, и числится такой грех за молодостью. Не спорю. Но истина бесспорна, что если счастлив другой и если у другого жизнь — красивая песня и этому причиной я, то в этом случае мое желание удовлетворено — я любим, я счастлив. Заметьте — то же «я» приобретает новое звучание. Вы как думаете, дядя?
— Действительно, над этим надо подумать, — ответил многозначительно он.
В уютном небольшом зале «Храма» было шумно, со всех концов доносились обрывки фраз, смех, звучала музыка. Крохотный оркестр разместился в дальнем углу зала, и на маленькой площадке между столиками время от времени кружились в вальсе две-три пары. Улучив момент, я пригласил Марину. Танцевала она легко и свободно. Опьяненный ее близостью, я закружился сильнее и видел только Марину с ее обращенными на меня большими темными глазами и слышал только музыку. Неожиданно для себя я вдруг понял, чего я искал, чего хотел; я не только любил, но и люблю эту женщину. Другого такого чувства в моей жизни уже не будет.
Марина сказала:
— Вы сегодня другой, совсем не колючий. Отчего вы не всегда такой?
— Марина… — голос мой прервался.
— Коленька… — как дуновение легкого ветра коснулось слуха.
Я замер на месте. «Неужто?..» — хотелось крикнуть мне, но музыка смолкла, и мы вынуждены были вернуться к столу.
Капитан окинул меня и Марину испытующим взглядом.
— Говорят, первый блин всегда выходит комом. Вы, однако, танцевали превосходно, — с кривой усмешкой произнес он.
Я не счел нужным заметить его иронию, допил свой бокал и, посидев еще немного, вышел из помещения. Воздух был чист. Вдали чернели горы. Полночная луна сиротливо маячила на темно-голубом небе и заливала зеленоватым светом лежащий в низине парк, белый, сверкающий огнями город, крыши погруженных в дремоту санаториев. Во мне с неизъяснимой силой вспыхнуло новое чувство, совсем не похожее на то, которое было в детстве. Но я не смел, не имел права вторгаться в жизнь капитана. Да и на каком основании, ради чего Марина должна предпочесть ему меня? Что, если бы я очутился на месте капитана? — думал я. — Нет, так быть не может; человек сам виноват, если ему предпочитают другого… Но это было своего рода оправдание самого себя; я это понимал и тем сильнее ощущал всю горечь неопределенности своего положения. Самое разумное, что оставалось мне сделать, — это в ту же минуту покинуть Кисловодск и больше не встречаться с Мариной. Время — великий врачеватель. Оно залечивает любые раны. Но я уже был бессилен последовать этому благому намерению. Все же, не отказываясь окончательно от такой попытки, я решил предварительно поговорить с Мариной наедине и стал придумывать, как это устроить. В тот вечер судьба, видимо, благоволила ко мне. Мы опоздали на последний поезд, уходящий из Кисловодска, и вынуждены были остаться ночевать у Екатерины Алексеевны. Дядя и Семенов отправились в санаторий.
Квартира, которую снимала Екатерина Алексеевна, состояла из небольшой комнаты с двумя кроватями, столом посредине, шкафом и несколькими стульями. Чтобы не мешать женщинам приготовить постель, я вышел на улицу.
Кисловодск — чудесный южный город, весь утопает в зелени, окружен со всех сторон горами. В любое время года здесь дышится легко, испытываешь такой прилив сил, словно у тебя вырастают крылья: только раскинь их — и полетишь. Подтянутые стройные тополя вдоль улиц высоко уходят в небо, сотканное из прозрачной голубизны. Ночами небо приобретает еще более нежные оттенки; крупные звезды несчетными табунами рассыпаны по нему и горят ослепительно ярко. Смена дня и ночи наступает здесь неожиданно. Едва успеет солнце бросить последние лучи, как горы окутывает ночь, тишина вступает в свои права. Вокруг ни единого звука, ни песни, ни смеха, все: и деревья, и здания, и улицы — отдыхает после шумного многоречивого дня.
Не спеша я спустился по узкой, залитой лунным светом улице и подошел к парку. В стороне, играя и переливаясь при свете луны, бил фонтан. Плеск воды убаюкивал тишину. С гор тянуло прохладой и свежестью. Я думал о Марине. Я уже не испытывал бурных угрызений совести, как накануне. В жизни иногда достаточно одного взгляда, двух-трех слав, чтобы глубоко увериться и оказать себе: это тот человек, кого я искал, и уже потом идти с ним рука об руку не старясь, всегда вместе, деля пополам радости и огорчения. И если ты встретил свое второе «я» и в силу причин, быть может, зависящих не только от одного тебя, отвернулся от него, прошел мимо, — жизнь не простит тебе этого.
Когда я возвратился на квартиру, женщины уже спали. Не зажигая света, я разделся и лег в приготовленную мне на полу постель. За окном, раскрытым в сад, поблизости журчала какая-то речонка, — никогда я ее не замечал раньше. Из-за высокого тенистого тополя выглянула луна и осветила комнату. В ночной тишине я улавливал ровное дыхание Екатерины Алексеевны.
— Вы спите?..
Что-то горячее и острое пронзило меня всего.
— Счастливые, как и несчастные, спать не могут.
— К какой же категории относитесь вы?
— Право, и сам не знаю. Знаю только одно — спать не могу.
— Не понимаю вас…
— Было бы странно, если бы вы понимали. Я настолько глуп, что сам не понимаю себя.
— И часто на вас находит такая хандра?
— Не сказал бы.
— Ну, раз уж нам обоим не спится, в таких случаях обычно принято исповедоваться друг другу, Начнем с вас. — Марина старалась говорить беспечно, но голос ее звучал грустно.
Я не заставил себя упрашивать.
— Значит, вы всегда уверенно шли в жизнь? — спросила она, когда я вкратце поведал о себе. — А приходилось ли вам любить кого-нибудь — искренне, самозабвенно?
С замиранием сердца я ждал этого вопроса, но ответил:
— Я много сомневался. А сомневаться в боге, говорил Паскаль, значит верить в него…
— Значит, любили?
— Зачем говорить о том, что перевернуло мне душу и чему нельзя помочь. Лучше бы я не встречал вас вовсе.
— Это, наверно, луна настраивает вас на лирический лад, — принужденно засмеялась она.
— Да, я любил, — повторил я упрямо. — Мало сказать любил. Это пустой звук по сравнению с тем, что я пережил, перечувствовал.
— Значит, вы не забыли своей «Мари»?
— Ты еще спрашиваешь, забыл ли я?..
— «Откуда ты взял конфеты»? Помнишь?..
Майор Славин расстегнул воротник кителя, словно ему было душно, притронулся рукой к виску. Внезапно, повернувшись к Катаеву, сказал:
— Вот такие, лейтенант, дела. Мы вновь встретились с Машей и вам судить — хорошо или нет все это.
— Что же было дальше, Николай Семенович? — нетерпеливо спросил Катаев.
— Однако мы слишком засиделись, товарищи. Уж поздно, а завтра предстоит много дел. Надо отдохнуть.
— Николай Семенович, — заговорили мы почти в один голос. — Нам не привыкать, успеем выспаться. Ведь на самом интересном месте остановились…
Майор скупо улыбнулся.
— Не подведем, честное слово, товарищ майор, не подведем, — сказал Петя Собинов.
Майор повернулся к нему. Петя поднялся и расправил под ремнем гимнастерку. — Честное слово… — хотел было подтвердить он, но Славин жестом усадил его и посмотрел на меня.
— Воздвижин молчит весь вечер. Вам не скучно, лейтенант?
— Я хочу сейчас, Николай Семенович, только одного, чтобы мои товарищи не прерывали вас и не было этих лирических отступлений.
— Ну, какие же они лирические? А вообще без лирики скучно жить, — заметил майор.
— Но и с лирикой иногда бывает невесело…
— Да оставь ты, Воздвижин, лирику в покое, взмолился Петя Собинов. — Товарищ майор, вы встретили Машу и…
— Да, я встретил своего друга детства, — скорее про себя, чем для нас, сказал майор. — Ранним утром мы уже были в городе. Марина призналась, что узнала меня еще в театре, но не могла, не смела выдать себя, не зная моего отношения к ней. В довершение всего я произвел на нее впечатление человека легкомысленного, у которого загораются глаза при виде смазливого лица. И она не хотела омрачать дорогого ей воспоминания обо мне, вернее, о своей первой любви, как о самом святом чувстве, которое сохраняется в памяти всю жизнь. Лучшее, что она могла сделать, — это забыть все, но поступить так было выше ее сил. И удивлялась:
— Неужели ты не мог узнать меня?
— Понятно, нет, — шутливо дразнил я ее. — Как я мог узнать мою маленькую «Мари» в такой важной даме? А потом, когда увлекаешься женщиной, то меньше всего думаешь о прошлом вообще и о ее прошлом, в частности. Ты все заслонила собой и стояла перед глазами такая, какая ты есть сейчас… Конечно, узнал! Но молчал, по причинам совершенно противоположным: ты произвела на меня слишком выгодное для себя впечатление…
— Какой ты противный, — смеялась она.
А Екатерина Алексеевна вороша! Она, оказывается, только делала вид, что спит, слышала весь наш ночной разговор с Мариной и поспешила сообщить о нем дяде. А тот в свою очередь не замедлил сделать мне соответствующее внушение.
Срок отпуска капитана Семенова истекал — до конца оставалось меньше недели. И меня во второй раз ждала разлука с человеком, в котором собралось все самое дорогое моему сердцу. Жизнь словно смеялась надо мной: то окрыляла мои надежды, то безжалостно обрубала им крылья.
Но Марина — славная, милая Марина! Она и слышать не хотела, что существуют юридические законы и людские пересуды. Ей-богу, мы, мужчины, мелки и низменно трусливы по сравнению с женщиной, которая любит. Она идет безбоязненно, зная, что ее чувство священно. Что может сравниться с чистотой ее любви? Марина была в том упоении, когда, всё вокруг кажется светлым, не может не радоваться вместе с нею, дышать и жить ее мечтами и думами. Она удивительно расцвела за те несколько часов, словно проснулись в ней какие-то неведомые, приглушенные до этого силы: внутренний огонь ее радости делал ее совершенной. И нельзя было, находясь рядом с ней, не благодарить жизнь за то, что она создала свое лучшее чудо из чудес — человека.
Возвратились мы на квартиру в полдень. Там нас уже ожидали капитан и мой дядя. Капитан был хмур и на мое приветствие ответил едва приметным кивком. Марина, казалось, не заметила этого. Перешагнув порог, она приветливо улыбнулась дяде и, не скрывая радостного возбуждения, подошла к мужу, притронулась рукой к его волосам, тихо смеясь, сказала ему: «Ты сердишься. Ты ничего не понимаешь». — Глубокая грусть и радость прозвучали в ее голосе. Капитан Семенов смотрел на нее изумленно: «Что с тобой?» — выражал его взгляд. Но Марина была слепа ко всему этому, она была вне подозрений и ревности, и, казалось, не верила тому, что может кто-нибудь огорчиться и быть недовольным нашей встречей.
— Марина, едем в Пятигорск, — сказал отрывисто капитан.
— О-о!.. — вырвалось из ее груди, и, мгновение подумав, она сказала. — Хорошо, едем! — Быстро подошла к вешалке, сняла свое летнее пальто и повернулась к мужу:
— Я готова.
Они вышли. Но минуту спустя Марина возвратилась и, не глядя на моих родственников, обратилась ко мне:
— Коленька, жду тебя сегодня вечером в Пятигорске. В восемь. Будешь?
— Зачем ты спрашиваешь?
И она ушла.
Дядя, нервничая, курил. Екатерина Алексеевна, сидя на кровати, с укором смотрела на меня. Мне неприятен был ее взгляд, и, поднявшись со стула, я отвернулся к окну.
— Ты понимаешь, что ты натворил и чем все это может кончиться? — вскипел дядя. — Ты сегодня не поедешь в Пятигорск!
Я оглянулся. Наши глаза встретились.
— Пойми… — другим тоном заговорил было он, не выдерживая моего взгляда, но я дерзко оборвал его. Мы расстались весьма холодно.
На одной из окраинных улиц Пятигорска, в километре от пятиглавого Бештау, в глубине сада прячется в зелени одноэтажный беленький домик. Сюда и пришел я в назначенное Мариной время. От деревянной калитки высокого забора к дому между фруктовыми деревьями вела узенькая дорожка, усыпанная гравием и обсаженная по бокам кустами крыжовника. Окна дома выходили в сад, и деревья тянули свои ветви в их раскрытые створки. Подойдя к одному из окон, я заглянул в комнату. В передней было темно. Я уже собирался позвать хозяйку, но заметил Марину. Она сидела на диване в глубине комнаты, поджав под себя ноги, сосредоточенная и задумчивая.
— Марина, — тихо позвал я. Она встрепенулась, испуганно посмотрела в мою сторону и, вскочив с места, выбежала навстречу. Мгновение стояла в нерешительности, потом прильнула ко мне, прерывисто заговорила:
— Ты пришел, родной. Я так боялась… боялась снова потерять тебя… — и вдруг отстранилась, пристально посмотрела мне в глаза. — А может, не следовало тебе приходить? Нет! Нет! — и она снова порывисто прильнула ко мне. — Ты для меня жизнь, — горячечно шептала она. — А жизнь — все, нет ей границ…
— Марина, ты…
Молчи, — прервала она. — Не хочу, ничего не хочу слышать. — Она схватила меня за руки, отстранилась, крепко стиснула их в своих руках и засмеялась. — Вот тебе, нехороший!
Мы пробродили всю ночь. Мы вновь были детьми: бегали, взявшись за руки, смеялись, говорили друг другу бессвязные, но полные глубокого смысла слова, считали яркие звезды на небе, бродили в поле, затаив дыхание, любовались причудливыми очертаниями гор.
Марина рассказала мне о своем никогда не умиравшем чувстве, ничто не могло погасить надежд в ее сердце. Она верила и почему-то знала, что и я весь полон ею. Потом стали одолевать сомнения, и в этот период она встретила Семенова. Он не произвел на нее особого впечатления, но был настойчив: поджидал ее после лекций около медицинского института, «случайно» встречал на остановках трамвая, везде сопутствовал ей. Подруги упрекали ее, что она напрасно пренебрегает глубоким чувством замечательного человека, и она постепенно стала соглашаться с ними: пожалуй, они правы. Да и теперь она ровным счетом ничего не может сказать о нем плохого. Он больше чем хороший человек. И в то же время никогда он не мог стать для нее тем, чем был я. Он не сумел пробудить в ней глубоко скрытые силы, которые заставляют воспринимать жизнь во всем ее многообразии и радости. Не было у них того родства душ, общности, которые смогли бы полонить ее всю без остатка, заставить по-настоящему чувствовать, насколько красив окружающий мир. Она встретилась с ним и желаемое приняла за действительность, а когдаубедилась, что все это не так, было слишком поздно: они были связаны браком. И она, в силу условностей, не могла ничего сделать другого, как жить по законам и правилам этих условностей, мирясь со всем, что установилось в ее жизни, и не задаваясь мыслью — хорошо это или дурно. И так было бы, пожалуй, всегда, но здесь встретился я на дороге ее уже как будто определившейся жизни.
— Марина, — прервал я ее, — а ведь нас подстерегает твой отъезд?
— Нет, нет! Мы все должны решить. Но я счастлива сегодня и не хочу заглядывать в завтра. Боюсь его…
— И все-таки…
— Молчи, — снова повторила она и закрыла мне ладонью рот. — У нас есть еще время.
— Какая ты, Марина, хорошая, — говорил я и отдавался весь без остатка захватившему нас обоих стремительному, готовому сжечь нас чувству, радовался, что Марина рядом, и не думал, что этому может наступить когда-нибудь конец.
На следующий день я пришел к ней в условленное время, решив окончательно договориться: откладывать больше было нельзя.
Я постучал в калитку. Она почему-то оказалась на этот раз запертой. И я, не верящий в приметы, подумал — это дурной признак. И в самом деле, на мой второй, более настойчивый стук вышел сам капитан Семенов. На его лице я не заметил ни неприязни, ни удивления.
— А, молодой человек, здравствуйте. Вы, оказывается, знаете мой адрес, — сказал он. Мне был неприятен взгляд его серых глаз. Я только сейчас разглядел их цвет.
— Приветствую вас, капитан, — опомнился я.
— Чем могу быть полезен?
— Я, собственно, хотел видеть Марину, — я чувствовал, как горят мои уши.
— К сожалению, вынужден вас огорчить: Марина ушла в город. — На его губах мелькнула ироническая улыбка. — Ведь мы завтра уезжаем…
— Как?..
— Очень просто… В десять. Быть может, вы соизволите прийти проводить нас?
— Вы очень любезны, капитан. Счастливого пути, — и, круто повернувшись, я ушел. Он что-то сказал мне вслед, но я не расслышал его слов.
Всю ночь я пробродил в окрестностях города, колеся по каким-то тесным и пустынным переулкам. На этот раз ничто не радовало и не восторгало меня: голубое небо юга казалось серым, звезды, рассыпанные по нему, — тусклыми. Утром я был в лесу, у подножия Бештау; мрачно высились скалы, вековые дубы стояли сиротливо, разбросав свои узловатые ветви.
«Как быть? Что делать?» — неотступно стучало в висках. Вновь и вновь я перебирал все мыслимые истины, и каждая из них была за и против меня. Я любил, но право любви еще не есть право мужа. Я должен был скоро уйти в армию. В душе бушевал рой сомнений и надежд. Время исчислялось часами, минутами… Надо было спешить. И я решил! И все во мне вспыхнуло ярким светом. Мне казалось, я заново родился и вошел в мир счастливейшим человеком. Я вправе, я должен! Только с нею, навсегда вместе. И я бросился назад к Семеновым. Но… я слишком долго раздумывал и медленно спешил. Время было упущено.
Домой к себе вернулся в двенадцатом часу дня. Марина уехала из Пятигорска в десять… От вопроса матери, где пропадал, отмахнулся, сказал что-то невразумительное. Она накрыла на стол, но я не притронулся к завтраку. Хотелось куда-нибудь уйти, никого не видеть, не слышать. Но от себя уйти было невозможно, и это мучило, жгло.
— Коля, — вдруг сказала мать, — к нам приходила какая-то Семенова. Она была взволнована, ждала тебя. На твоем столе оставила записку.
— Как, она была здесь?!
Я кинулся к столу, вскрыл конверт. В нем была фотография Марины. На тыльной стороне ее мелким почерком было написано:
«Сегодня 24 сентября. Неужто все кончено? Говорят, когда умирает один лебедь, второй поднимается высоко в небо и поет спою единственную и последнюю песню! А потом, сложив крылья, бросается вниз и разбивается. Но мы еще не спели своей песни.
Ведь правда, Коленька, нет? И вместе с тем, кажется, да. Иначе я поступить не могла. Если можешь — вспоминай хоть изредка обо мне…
Только твоя Марина».
Я опустился на стул и закрыл лицо руками. Что-то говорила мама, но я не слышал ни одного ее слова.
Через месяц я уже был в армии. Находился, как и мои сверстники, на карантине. Не знал, куда деваться от тоски. По воскресным дням не находил себе места: казармы пустели, а поблизости, за их расположением, раздавались звонкие девичьи голоса, доносился смех, звучала гармонь, отплясывали наши командиры отделений.
Но вскоре и я вошел в колею, освоился с новыми, непривычными для меня порядками и стал понемногу забываться. Получал письма от родных и знакомых. Они писали — в «гражданке» новостей особых нет, если не считать, что последнее время носятся слухи о войне. Но это только слухи, в магазинах изобилие товаров, продуктов; есть всё — живи, трудись и радуйся. А однажды пришло письмо от дяди. Он к этому времени уже возвратился на Дальний Восток. Сообщал о своих делах и как бы между прочим упомянул, что недели две назад был в Ворошилове, заходил к Семеновым. «Выпивали, вспоминали тебя. Марина обозвала нас черствыми людьми…» И вдруг на отдельном листке знакомый почерк:
«…И сейчас не могу простить себе, что мы не встретились перед моим отъездом. Быть может, все сложилось бы по-другому. Я это окончательно поняла, когда уже сидела в вагоне. Не представляла, что разлука с тобой принесет такие муки. И мы не встретились… Но я люблю. Люблю. Только об одном прошу — не выбрасывай меня из своего сердца.
Твоя Марина».
Я думал, что эти строки краткого письма были последними прощальными словами моей любви, полной радостей и скорби. Но судьба не хотела ставить на этом точку. Словно нарочно подстраивала она мне различного рода неожиданности.
В тысяча девятьсот сорок первом году мы стояли на подступах к Москве. Тогда было не до личных сердечных дел — все чувства, силы, помыслы были сосредоточены на главном — сдержать натиск и отбросить врага. Мы знали, что такое Москва! Она была единственной надеждой людей. Все — враги и друзья — знали, что под Москвой, как никогда еще в истории, решалась судьба каждого человека в отдельности и народа в целом. Судьба всей Европы. И мы, русские, не могли поступить иначе, как поступили под Москвой в сорок первом!
Я к тому времени уже командовал батальоном. Бои не утихали ни днем, ни ночью. Каждый заснеженный бугорок, каждый клочок земли был полит кровью. Смерть вырывала из наших рядов сотни и тысячи жизней, но ничего не могла поделать с советскими людьми: сердца наши бились пульсом Москвы.
Незадолго до нашего наступления 6 декабря 1941 года в моем батальоне был убит начальник штаба. На его место прислали нового человека. И кто вы думаете это был?.. Капитан Семенов.
При первой встрече с ним я даже растерялся. Мгновение мы молча смотрели друг на друга. Он стоял подтянутый, выглядевший в той обстановке как-то подчеркнуто выхоленным; из его серых ясных глаз веяло добродушием. Я не мог долго сохранять официальный тон, и мы обнялись с ним, как старые знакомые. Несколько минут спустя он рассказал, что прибыл под Москву с частями сибиряков, что слышал о моем батальоне много похвального и что, признаться, ему не хотелось идти в мое подчинение, но обстоятельства заставили, и он сейчас уже не жалеет об этом.
Но я пожалел: не очень приятно иметь в своем подчинении человека, перед которым ты в какой-то мере некогда провинился. И, однако, я был рад видеть его, надеясь услышать хоть что-нибудь о Марине. Он точно разгадал мои мысли и, добродушно улыбнувшись, сказал:
— Марина у меня тоже солдат. И, вероятно, скоро будет здесь. Она военфельдшер…
Я промолчал. Кажется, даже не выдал своего волнения, но никому не желал бы очутиться в тот момент на моем месте.
Семенов ознакомился с положением в батальоне.
Я не без удовлетворения вскоре отметил его осведомленность и знания, которые он выказал, замечая всевозможные упущения в ведении штабных дел. Он входил в жизнь батальона, как входит хозяин в свой дом. Был уверен, немногоречив, строг. Удивило меня несколько и его обращение с солдатами и подчиненными командирами. Первых он называл на «ты», беседовал с ними так, как говорят с давно знакомыми людьми; с командирами был крут и даже резок. «Вы командир, — говорил он, — и не забывайте, что должны быть образцом во всех отношениях, у вас все должно быть прекрасно. Только глупцы все сваливают на войну». Но, отмечая все эти достоинства Семенова, я со страхом думал о приезде Марины. Слишком многое изменилось с той памятной встречи в Пятигорске. Обстановка, люди, время — все было другим, все было против того, чтобы можно было поступить так, как я поступил бы в иных условиях.
Дело еще более осложнилось после того, как я узнал капитана Семенова в бою. Это было вечером первого декабря. Немецкие танки прорвались на нашем левом фланге и начали отсекать мой батальон. В образовавшуюся брешь рванулись немцы. Я бросился к месту прорыва, и с небольшой горсткой солдат нам удалось остановить немецкую пехоту, отрезав ее от танков. Завязалась горячая схватка. Но танки успели воспользоваться замешательством и давили наши огневые точки. Вдруг я заметил капитана Семенова. Он возглавил группу охотников за танками. На моих глазах вспыхнул один танк, второй, третий… Остальные семь повернули назад.
— Не выпустить ни одного! — крикнул я.
— Не уйдут, подлецы! — прыгая ко мне в окоп, ответил капитан Семенов. Он был с противотанковым ружьем. На щеку с виска капитана сбегала струйка крови.
К полудню мы восстановили положение. Семенов вывел из строя пять танков. Осколок оставил у него на виске глубокую царапину.
— Нет, ты, брат, замечательный человек, — сказал я, бинтуя его.
Марина прибыла в батальон спустя неделю после капитана. Я как раз находился в окопе наблюдательного пункта. Она пришла, не замедлив, ко мне и улыбающаяся, яркая, приложив руку к ушанке, четко доложила: дескать, явилась в ваше распоряжение. Военная форма — полушубок, валенки, ушанка — мало что изменила в ее облике: это была все та же Марина, только забившиеся в ее волосы снежинки и немного заиндевевшие на морозе густые изогнутые брови придавали лицу что-то новое, незнакомое мне. Она стояла по стойке «смирно», и все в ней: едва приметное дрожание руки, вопросительное выражение глаз и даже звучание ее голоса — выдавало нетерпеливое волнение.
— Марина, здравствуйте, — сказал я, пожал ей руку и, повернувшись, крикнул: — Семенов, Лешка, сюда! Жена приехала! Ну-ка отыщите его, — обратился я к оказавшемуся поблизости солдату и повернулся к Марине.
— Ну, как добрались?
Марина молчала. Она растерянно, недоуменно и несколько даже испуганно смотрела на меня. Руки ее сжимали конец полы солдатского полушубка, плечи опустились, лицо поблекло.
— А мы живем, и недурно. Воюем. Сержант! — повернулся я, — проводите товарища военфельдшера к начальнику штаба. Он вас определит, Марина.
— Есть, — едва слышно прошептали ее губы, и, наклонив голову, она направилась в укрытие.
Я не мог поступить иначе. Никакого, казалось мне, права не было у меня давать волю своему чувству и вызвать хотя бы незначительный упрек со стороны подчиненного мне Семенова, которого, быть может, где-то рядом подстерегала смерть. В самом деле, как бы выглядел я, командир батальона, отняв у человека его друга, которого он любил не меньше, чем я? Долг, то, что мы называем совестью, властно заговорил во мне. И мне оставалось лишь одно — глушить в себе порыв и желание видеть ее. Марина не могла понять всего этого: свою любовь она несла гордо, ею определяла свои поступки, действия.
После памятной встречи в Кисловодске жить так, как она жила раньше, год, два, пять — целую вечность, было мучительно. Отбросив людские пересуды, она вся отдалась охватившему ее чувству. И теперь, встретив во мне ничем не объяснимую суховатую сдержанность, терялась в догадках и не верила мне: я не мог так быстро перемениться. При встречах мы держались официально, я командир, она подчиненный — и только. Хотя по-прежнему мне мучительно трудно было смотреть прямо в ее пытливые глаза. Ее чистого, откровенного взгляда я боялся больше смерти. Марина в этом отношении была сильнее и выше меня: верная себе, она шла одной дорогой и не только не боялась смотреть мне в глаза, но и не раз пыталась поговорить откровенно: «Коленька, что с тобой?»… Однако я тут же резко что-нибудь приказывал, и она отвечала: «Есть», а я готов был броситься ей в ноги, поклониться ее святому чувству. И лишь напряжением всех сил сдерживал себя.
Капитан Семенов неожиданно привязался ко мне и считал меня своим искренним другом. Но я не мог ответить ему тем же. Я, быть может, относился к нему лучше, чем к остальным, но не мог зачислить его в круг задушевных друзей. Мое затаенное чувство к Марине не позволяло этого. И не знаю, как долго бы все так продолжалось, если бы внезапно не случилось то, чего ни я, ни капитан Семенов не могли предвидеть.
Ранним декабрьским утром мы перешли в наступление. Мой батальон двигался через Старую Рузу на Волоколамское шоссе. Бои были успешными я радовался, что все складывается как нельзя лучше. Но в самый разгар схватки ко мне подскочил связной.
— Товарищ комбат, фельдшера убило.
— Что? Что ты сказал? — закричал я, хватая за грудки бойца.
— Фельдшера, говорю вам, убило, товарищ комбат.
Когда я подбежал к Марине, она еще дышала.
Я упал на колени, приподнял ее голову. Веки были закрыты, и вдруг — я увидел ее глаза. Живые и ясные. Неотрывно они смотрели на меня. «Коленька, ты?.. — беззвучно шепнули ее губы. Глаза осветились радостью. Она силилась что-то сказать и что-то ей мешало. — Почему? Нет… все равно ты… Только ты один…»
Я почувствовал, что голова ее отяжелела.
…Мы долго сидели молча. За окном дождь усилился. Майор Славин, не выпуская изо рта папиросу, часто и глубоко затягивался. На столе лежала фотография Марины, лейтенант Катаев повернул ее тыльной стороной, и мы различили мелкий почерк: «Сегодня 24 сентября. Неужто все кончено?..» Мы переглянулись: сегодня же ведь двадцать четвертое!
— Вы простите нас, Николай Семенович… — начал было Катаев, но Славин оборвал его.
— Оставьте свою вежливость, товарищи. Сочувствие иногда бывает неуместно, да, оскорбительно неуместно, — не глядя на нас, проговорил он. — А относительно того, правильно ли я поступил и всегда ли на заре поют соловьи, — рассудите сами. Думаю, вы найдете теперь общий язык.
*******
От майора я возвращался поздно в глубокой задумчивости. Если я хотел бы походить на кого, то на такого человека, как майор Славин. В состоянии ли он после всего полюбить когда-нибудь? — спросил я себя и тут же ответил. — Такой человек не может не полюбить, и если уж полюбит, то непременно сделает жизнь любимого человека песней, как говорит он. Да, он сделает. И в этом, пожалуй, главное… Сделать песней жизнь другого.
Прерванная песня
Утро. Пограничное местечко Рось подернуто дымкой тумана; сонные деревья и островерхие, крытые черепицей дома — все кажется каким-то сказочным, созданным для глубокой людской радости. И дорога, подернутая густым маревом, дымится: дышит в предутренней сладкой дремоте земля. Солнце еще за горизонтом, и люди еще спят. Бодрствует лишь мой друг, двадцатилетний лейтенант Алеша Гаршин. И мне он не дает покоя. У него, правда, есть на то причины. Но мы в душе капельку всегда эгоисты, когда речь заходит о чужом счастье. Алеша мне твердит, что он счастлив. Твердит об этом уже не один час. Я давно хочу спать, но слушаю, радуюсь его счастью, а про себя думаю, что он наивен, что он еще не совсем мужчина, что нельзя так безрассудно пьянеть от цветка, если он даже самый красивый на всем белом свете; и тут же смеюсь над собою: окажись я на месте Алеши, я бы, пожалуй, превзошел его.
— Послушай, тебе никогда не хотелось писать стихи? — обращается он ко мне. Глаза его горят, лицо вдохновенно, весь он искренен и чист. — А вот меня сейчас захлестывают стихи. Я где-то читал или слышал, что настоящий поэт тот, кто не может не писать. Я сегодня не могу не сочинять стихи. Значит, я и в самом деле поэт. Хорошо! Ей-богу, хорошо! — Он чему-то рассмеялся, счастливый и радостный.
Алеша — поэт? Мне было смешно и почему-то немного грустно. Может, я завидовал ему, не знаю. Но Алешу я не мог представить себе поэтом.
— Дальние дали доступны тому, кто может, кто смеет говорить с людьми стихами, — продолжает он. — И ты знаешь, сегодня я завидую Байрону, Пушкину, Сергею Есенину… Только поднявшись до их высот, можно сметь заговорить с людьми стихами.
В чем-то Гаршин был прав, тем более, что я знал — предмет, о котором он хотел говорить стихами, был достоин истинного вдохновения.
Вчера, в субботний вечер, мы пришли еще в дышащий весною парк, радуясь, что свободны от служебных дел, что у нас море свободного времени; субботний вечер и завтра — целое воскресенье; от одного только этого дышалось легко. В парке было полно народа, празднично одетого, добродушного и веселого. На танцплощадке — молодежь. Нас с Алешей вскоре подхватил вихрь вальса. Радовала музыка, радовали юные лица девушек, радовались мы сами себе. И все произошло неожиданно. Этого не заметил ни я, ни Алеша. Только спустя не то час, не то два, а может, целую вечность, для нас стало неопровержимо ясно — Алеша влюблен. Влюблен по-настоящему, влюблен первый раз в жизни. Я немного ревновал, потому что маленькая, неповторимая в своей прелести юная Ядвига и мне была небезразлична. Я не мог пройти мимо и не взглянуть на нее. В ней гармонично сочетались безобидная, веселая и милая непринужденность с природной девичьей застенчивостью и грустью. Ни у кого не было такой дивной улыбки, таких лучистых черных глаз. И быть может, если бы это был не мой друг, если бы ее взгляды так красноречиво не были обращены к нему, то я бы, а не Алеша, говорил о стихах и не скрывал бы, что сердце мое бьется учащенно.
Мы провожали Ядвигу вместе. Но у ее дома лейтенант Гаршин, вдруг повзрослевший и преобразившийся, не попросил, а почти приказал мне оставить его и Ядвигу на минуту-две одних. Я вскипел, под ногами у меня внезапно словно вспыхнула огнем земля. Но Ядвига не возразила Алеше. И я оставил их. Хотел тут же бежать в казарму, но не сделал этого лишь потому, что решил высказать Алеше резкие слова: «Друзья так не поступают…»
Я прождал долго. Кипел и успел перекипеть. Во мне родилось мужество понять Алешу, даже быть к нему снисходительным. Я терпеливо ждал. И вот он около меня. Неузнаваемый, новый. В нем точно поселилось само счастье, и он был выражением его.
— Я прожил двадцать лет, — сказал он. — А по-настоящему узнал, что живу, только сегодня. Открыл жизнь, как неведомую планету. Ты даже не представляешь, что это значит…
Мы шли улицей пустынного городка. Курилась земля. Где-то за горизонтом в первых, еще робких лучах утра рождался день. Я знал — Алеша назначил встречу с Ядвигой на утро. Они оба уже не могли ждать вечера.
Но в то раннее воскресное утро встреча не состоялась. Тишину расколол гром войны. Местечко Рось подверглось обстрелу в первые ее минуты. И одной из первых жертв был Алеша.
— Кто посмел оборвать жизнь? — спросил он, когда я склонился над ним. И угас…
Вокруг стоял дым, удушливый и едкий. Из-за него в тот день так и не показалось солнце.
Метель
I
Эту историю он вспомнил с болью и мне рассказал скорее всего в назидание. Андрея Щербатова я всегда считал образцовым человеком, уважал его и нередко поверял ему свои душевные секреты. С неменьшим, пожалуй, расположением относился и он ко мне. Вообще он был чуток к людям, добр. Его трезвая рассудительность, выдержанность, чувство такта могли служить примером для многих. Высокий, стройный, с темными, уже посеребренными волосами, он тщательно следил за своей внешностью, одевался со вкусом. Несколько лет назад Щербатов женился и теперь растил сына и дочку. Жил он в достатке, был доволен работой и преуспевал в ней.
Казалось, ничего большего ему и не оставалось желать.
— Не делай глупостей, — сказал он мне, когда я поведал ему о своем житье-бытье.
Валил снег. В комнате было тихо. Мы отошли от окна и уселись на диване.
— Советуя, люди обычно всё меряют на свой аршин, — возразил я Андрею. Он не стал спорить. Но я заметил — это ему не понравилось, он сразу потускнел, окинул меня каким-то отчужденным взглядом.
— Будь разумным, говорю еще раз, — повторил он немного погодя. — Вот здесь, — он положил руку на сердце, — у меня и сейчас не зажило. А прошло столько времени…
Было это вот как.
…Поднимая колючие вихри, выла и бушевала метель, кругом властвовала ночь. Лошади сбились с пути, вязли в снегу. Ехать дальше было нельзя. Слезы перестали течь: выплакалась, хотелось спать. Она выронила вожжи, отчужденно думая о том, как глупо и неожиданно может прийти конец всему. Рядом, в санях, покрытый шубой, запорошенный снегом, лежал раненый, лежал неподвижно, без каких-либо признаков жизни. Страх, испытываемый ею вначале, исчез. Она не чувствовала больше холода. Вой ветра убаюкивал, навевая воспоминания. Она видела мать, брата, чем-то оживленных, смеющихся подруг, видела Андрея Щербатова, кружилась с ним в танце среди множества студентов в ярко освещенном актовом зале института. Мелькало ее белое платье, русые волосы рассыпаны кольцами по плечам, в карих с продолговатым разрезом глазах искрилась радость. Полуобнаженная рука лежит на плече у Андрея, другая — в его руке. За ней с завистью следят подруги. Кто-то громко заметил: «Андрей ее не стоит». Но она ощущает его тепло, близко видит мужественное счастливое лицо, смотрит ему в глаза, шепчет:
— Для моего счастья много не надо. Только выйти замуж… за тебя!
Звали ее Наташей. Полгода назад, в дни боев на Волге, она закончила медицинский институт и попала на фронт, в разрушенный, горящий город. За короткое время через ее руки успели пройти тысячи раненых — беспомощных, порою до безобразия изувеченных людей. Саратов, где она встретила и полюбила Андрея Щербатова, представлялся теперь далеким островком счастья. Андрей уехал с воинской частью на запад. Пришли тревожные сны, тяжелые раздумья — от Андрея долго не было известий. Неожиданно все опостылело, она небрежнее стала относиться к себе, до изнурения отдавалась той службе, которую так неожиданно взвалила на нее жизнь. И вдруг — пачка писем. Мир просветлел и раздвинулся, на миг забылась, исчезла война… Андрей писал из госпиталя. Тяжело или легко он был ранен — она не думала: ее захлестнула радость — он жив.
Время понеслось стремительней. То, что лишь вчера казалось изнуряющим, сегодня стало легким. Она с радостью встречала каждый новый день, мысленно приближала встречу с любимым. Надежды ее сбылись: после излечения Щербатова направили сюда, на Волгу. Жизнь для нее обрела более глубокий смысл, стала еще бесценнее. Андрей командовал батальоном, Наташа находилась поблизости в эвакопункте. Иногда они могли встречаться. Солдаты Андрея звали ее сестричкой и все знали, что Наташа — невеста их командира.
Это случилось перед вечером. Она урвала минуту и меж развалин пробралась на участок, обороняемый батальоном Андрея. Она знала: батальон вторые сутки сдерживает сумасшедший натиск пьяных и озверелых гитлеровских солдат. Все время ее не покидала уверенность, что с Андреем все благополучно. И вот будто что-то оборвалось в сердце…
Она поспешила туда, где горела земля, рушились стены, вздымалась облаком пыль вместе с дымом, все скрежетало, выло. Предчувствие не обмануло ее. Андрея она нашла окровавленным, без сознания. Батальон окружали, слышались обрывки чужой речи, крики. В кошмаре взрывов и треска она, не теряя самообладания, сделала все, что от нее в какой-то мере зависело, сделала все, что могла. Солдаты вынесли командира, увели ее. Ушли немногие.
На перевязочном пункте Андрею оказали первую помощь. Раненный в голову и в грудь, он был почти безнадежным. Требовалась срочная и сложная операция. Андрея надо было немедля отправить в госпиталь. Машины не оказалось. Отчаяние и страх овладели Наташей. Она выбежала из землянки и увидела у прикрытия запряженные сани — только что подвезли снаряды. Решение было принято мгновенно. Андрея уложили в сани, укутали потеплее, и она, не доверяя его никому, сама села за ездового, в галоп пустила лошадей к Волге.
На середине реки немцы их обстреляли. Справа и слева треснул лед, фонтаном ударила вода. Наташа молилась — лишь бы добраться до другого берега. А там — госпиталь недалеко. Андрей будет жить.
II
Метель поднялась внезапно. С востока надвинулось, закрыв полнеба, отяжелевшее черное облако, и рядом что-то загудело. Со свистом и ошалелым воем пронесся ветер. Воздух загустел. В лицо ударил колючий снег. Наташа оглянулась — горящий город остался далеко позади. Оттуда доносились гулкие, толчки, словно от подземных взрывов, полыхало зарево. И вдруг со всех сторон плотной стеной обступила темень. Сани двигались медленно, казалось, стояли на месте. Прошло более часа, метель бушевала вовсю. Ветер теперь дул в спину. Боясь сбиться с пути, Наташа хлестала лошадей. По ее расчетам, она должна была уже быть где-то на подступах к госпиталю, дороге же не виделось конца. Ветер опять бил в лицо и вновь менял направление. Наташа под шубой нашла руку Андрея, с замиранием сердца нащупала пульс, с облегчением вздохнула: жив.
Лошади убавили шаг и остановились. Наташа спрыгнула с облучка и последним напряжением воли стронула их с места. «Родненькие, ну что же вы?» — сквозь слезы молила она. Зубы ее выбивали дробь, продрог каждый мускул, пальцы закостенели, губы с трудом шевелились. Она хотела что-то сделать, силилась воспроизвести в памяти что-то для нее очень важное и не знала, что именно. На миг ее пронзило, как искра, чувство страха: она физически ощутила бессилие перед бушующей и валившей ее с ног стихией. Лошади уже в который раз остановились опять, и она вновь тронула их; зацепившись за что-то, упала лицом вниз, поднялась. «Андрею же ждать нельзя…» — кому-то сказала она и разбитая, вялая едва забралась в сани. Сжавшись и уткнув лицо в воротник полушубка, она засунула руки в рукава. Неожиданно все стало безразлично. Спать. За сон отдала бы жизнь. Но кто ей не позволяет сомкнуть веки? Кто?..
…В зале кружились пары. Ей весело. Но странно, как она может видеть себя? Будто есть две Наташи, и одна из них стоит в сторонке и наблюдает за другой. Однако куда же запропастился Андрей? Он только что был с нею. Выбежала в коридор, заглянула в аудиторию, спросила у попавшихся навстречу незнакомых и чем-то взволнованных людей, — Андрея нигде не было. К горлу подступил комок обиды, дышать стало тяжело. Как он мог так бессердечно поступить: оставил ее одну на всем белом свете. А она только успела ощутить всем своим существом, что мир создан для нее.
— Андрей! — крикнула она не своим голосом. Ей показалось, что кто-то больно и грубо толкнул в грудь. Открыла глаза, и первое, что почувствовала уже наяву, — это леденящий холод. Он сжимал тело, проникая во внутрь, в лицо били колючие обжигающие крупинки снега. Что-то черное навалилось на нее, смыкало веки. Ее почти совсем замело снегом, ресницы и брови заиндевели. И Наташа отчетливо поняла весь ужас того, что могло произойти. На лбу выступил холодный пот. Она попыталась найти руку Андрея и нащупать пульс, но пальцы не слушались. «Он должен жить!» — подумала она, хватила полной грудью воздух и захлебнулась. Опять начал одолевать сон. Она уже не хотела спать и в то же время не могла бороться с какой-то неодолимой и смыкающей глаза силой. Кусая в кровь губы, она тряхнула плечами, поднялась и обнаружила у себя на боку кобуру пистолета. Подумав, с трудом вынула пистолет, долго не могла совладать с ним. И вдруг — выстрел, один, второй… Выпалила всю обойму. В санях заворочался и простонал Андрей. Наташа скорее ощутила это физически, нежели осознала. По всему ее телу разлилось тепло. Подобрав вожжи, она ударила лошадей. И метель, словно побежденная, расступилась, дала дорогу.
III
В госпиталь Наташа добралась на рассвете.
Операция была сложной и длилась до полудня: осколок застрял у самого сердца. Наташа помогала хирургу. Лишь после того как Андрея увезли в палату, она попросила сестру дать пить. Но она не дождалась воды: как подкошенная, свалилась с ног. Начался сильный озноб и жар. Ей сделали несколько уколов, она впадала в забытье, бредила, однако кризис прошел быстро, и спустя две недели она опять была в Сталинграде. Спасая людей, отстаивая их жизнь, она была уверена, что борется тем самым и за Андрея Щербатова. В ее мыслях он находился постоянно рядом, помогал ей во всем, успокаивал в минуты грусти и отчаяния. Она знала, что у нее есть человек, к которому она питала глубокое чувство, оно возвышало и делало сильной в повседневной жизни и борьбе.
В госпиталь Наташа наезжала часто. Состояние Андрея все еще было тяжелым. Наташа видела, что своим присутствием облегчает его страдания, внушает ему веру в жизнь, развевает апатию, присущую тяжелобольным. Она верила в счастливый исход, и ее вера передавалась Андрею. Когда ему еще нельзя было разговаривать, они подолгу обменивались молчаливыми взглядами и договорились о большем, чем можно достичь этого при самом высоком красноречии. Судьбы их соединились навечно, разъединить их не в состоянии ни люди, обычно мнящие себя непогрешимыми и в то же время нередко причиняющие зло другим, ни даже сама смерть: непоколебимое чувство оберегало и единило их.
IV
Вскоре Андрея эвакуировали в глубокий тыл, и началась его жизнь на колесах, потянулись серые, однообразные дни. Наташа, проводив его до Саратова, возвратилась на фронт. Куйбышев, затем Чкалов, Свердловск и многие другие города принимали Андрея. Дольше всего он задержался в Свердловске. Даже в часы мучительной слабости он не переставал ни на минуту думать о Наташе. Письма от нее возвращали его к воспоминаниям, к жизни, полной нечеловеческих лишений и смертельной опасности, уводили туда, к волжским берегам, где решались судьбы страны и его, Андрея, судьба, теперь затерянная среди искалеченных и обезображенных войной людей. Каждый листок письма Наташи нес в себе запах гари, дышал событиями страшной войны. Он слышал взрывы, воочию видел, как гибли люди, слышал стоны израненной земли, будто находился не среди тишины и покоя, а в распластанном, растерзанном городе на Волге. Тревоги и страхи за Наташу как-то заставили его написать ей, чтобы она попыталась как-нибудь вырваться из кромешного ада.
Ответ последовал прямой и резкий: Наташа удивлялась, как он мог о ней так подумать. Ведь она поступает точно так же, как поступил бы он сам. Это веление ее сердца, и уклониться от него она не может. В глубине души Андрей не мог не согласиться с разумностью ее доводов. Он понял и другое: поступи она иначе, согласись с ним, она бы утратила в его глазах какую-то долю обаяния. Сам он, выведенный из строя, не мог отомстить тем, кто искалечил его жизнь, сеял смерть, принудил людей в тылу испытывать лишения и нужду. Наташа несла там, на фронте, двойную тяжесть, борясь и исполняя свой и его долг. Поэтому для Андрея был праздником день, когда он получил от нее сообщение о том, что ее наградили орденом. Он поднял на ноги весь медицинский персонал, товарищей по палате. Его чувство разделяли — поздравляли, пожимали руки. Казалось, не она, а он получил награду.
Фотография Наташи стояла на тумбочке, и Андрей видел ее точно живую, вот с этим, так памятным ему росчерком круто изогнутых бровей, с продолговатым, чуть-чуть раскосым разрезом карих глаз. Он вслух беседовал с ней, брал в руки, переставлял с места на место, засыпал шутливыми вопросами, сам отвечал на них, от души смеялся; удивляясь ее остроумию. В ту ночь он уснул с фотографией на груди.
Было это ранней весной, когда первое пробуждение природы сладко будоражит сердце и хмелем кружит голову. Летом, а затем осенью вновь пришли веста о новых награждениях Наташи. С наступающими войсками она находилась где-то на Украине. Письма от нее стали приходить с перерывами. Андрей нервничал, клял судьбу, докторов, которые, по его глубокому убеждению, медленно лечили. И как-то написал ей полное горечи и сомнений письмо. Наташа незамедлила прислать ответ, журила его, приказывала быть разумным человеком: для нее во всем мире существует только он.
Здоровье постепенно восстанавливалось. Андрей уже ходил по палате, даже прогуливался во дворе. Настроение поднялось: он надеялся скоро вернуться в строй, наверстать упущенное, навсегда избавиться от бремени беспомощности и надоевшего ему однообразия. Переписка с Наташей возобновилась с новой силой. Они знали каждый шаг друг друга, делились всем, что вскипало в груди, к чему тянуло, звало. Наташа не хуже самого Андрея могла рассказать о его соседях, врачах, заботливой няне и о многих других подробностях жизни ее близкого друга.
За месяц до полного выздоровления Андрея в Свердловск из фронтового госпиталя прибыл капитан Крайнев. Он попал в палату к Андрею. Увидев на тумбочке фотографию Наташи, капитан авторитетно изрек:
— Красива. Романтик за такую жизнь отдаст. Особенно этот монгольский тип глаз. Сильно.
Одногодки Щербатов и Крайнев почти ничего не имели между собою общего. Андрей в сравнении с капитаном казался юнцом. И не столько по внешнему облику, сколько по взглядам и убеждениям. Прожив сравнительно немного, Крайнев испытал за три жизни. Семь раз ранен, на каких только не перебывал фронтах, служил командиром взвода, разведчиком, десантником и некоторое время — адъютантом у генерала. Был он к тому же и незаурядным рассказчиком анекдотов. Люди к нему буквально липли. Относясь беспечно к жизни, он никогда ни на что не жаловался и, пожалуй, не страдал. Популярным человеком капитан стал и в госпитале. О нем заговорили, выдумывали много небылиц, передавали из уст в уста его остроумные анекдоты. Он был красив, отличался атлетическим сложением.
Андрей крепко подружился с капитаном, рассказывая ему о Наташе, читал ее письма. Капитан умел слушать. Но в заключение обычно повторял:
— Не осуди, женщине — не верю.
— Фома! — смеялся Андрей и с жаром принимался доказывать. — Они приносят нам жизнь, оберегают и украшают ее…
— У всех влюбленных — песня на один мотив.
V
Срок лечения кончался. Андрей торопился выписаться, уже укладывал в крохотный чемодан свои немудреные пожитки, перечитывал и упаковывал драгоценные письма. И чем ближе подкрадывалось расставание с привычной, надоевшей ему обстановкой, тем сильнее покалывало и учащеннее билось сердце. Привычка — вторая натура, переломить ее трудно, покидать же обжитое — еще труднее. Капитан Крайнев, поглядывая на товарища, шутил, сравнивал его с разведчиком, рвущимся на передний край, к опасности, — суетится, летит к новой буре, будто и в самом деле в ней найдет себе успокоение. Он как будто собирался равнодушно расстаться с Андреем. «Что ж, попутный ветер в спину», — говорил он ему. В душе же скорбел, как никогда. Он еще ни к кому не привязывался так крепко. Полюбил он Андрея за его откровенность и чистоту чувств. Плачущий в душе всегда смеется на людях. Что-то подобное творилось и с Крайневым. Скупой на похвалы, он готов был щедро излить их Андрею. Общаясь с ним, он стал чувствовать себя как-то обновленнее, сам того не подозревая, стал более добрыми глазами смотреть на мир.
От Наташи в самый канун отъезда Андрей получил письмо. Читали вместе с капитаном. «Третьего дня, — писала она, — мы форсировали Днепр — эту хмурую, тяжелую реку. Я представлена к правительственной награде. К какой? Боюсь говорить. Встретимся — узнаешь. Ты везде, всегда со мной…»
Капитан помрачнел, долго, сидел, задумавшись, густые брови сошлись у переносицы, глаза заволокло грустью. Он смотрел куда-то мимо счастливого Андрея, безучастно слушал его восторженные комментарии письма.
— Что, друг, приуныл? — ткнул в плечо капитана Андрей.
— Была у моего генерала (разжаловали, правда, его, и поделом) полевая жена, — проронил с насмешкой Крайнев. — Варей звали ее. Тоже, кстати, врач. Она тоже получила два ордена…
Андрей вскочил со скамьи, скомкал в руке письмо, губы его посинели.
— Как ты смеешь? Подлец! — и наотмашь ударил Крайнева по лицу.
Крайнев, не дрогнув, сидел неподвижно, только побледнел; на лице багровел след от пощечины.
— Благодари судьбу, что был мне другом, — выдавил он из себя. Поднялся и, пристально глядя на Андрея, добавил: — Вторично обжигаюсь на людях: первый раз — на женщине, теперь — на мужчине. — И, резко повернувшись, вышел.
Спустя два дня уехал Андрей на фронт. Но что с ним произошло? Его будто подменили. Он ненавидел капитана, презирал себя, тревожно думал о Наташе. Грязные руки прикоснулись к святому чувству. Остальное дорисовало болезненное воображение. Он спрашивал себя: по-прежнему ли любит Наташу? Отвечал утвердительно и в то же время сознавал — что-то надломилось в его груди.
В Москве Щербатов попросился на Первый Белорусский фронт. Наташа была на Третьем Украинском. Дороги разошлись. Андрей знал, что поступает безрассудно, противоестественно. Скоро Наташа совсем потерялась из виду. Но думать о ней он не переставал, надеясь на какой-то случай, который должен был все восстановить, вернуть его жизнь в прежнее русло. Однажды, уже прибыв к месту назначения, он написал Наташе по старому адресу. Ответа не последовало. Успокаивая и утешая себя, он старался рассеяться, заслонить прошлое, но тупая боль поселилась в нем и не покидала его. Боясь самого себя, через полтора года Андрей женился на медицинской сестре — милой простой девушке и, кажется, полюбил ее. Кажется?.. Нет, он любил свою жену, но уже не той любовью, какую испытывал к Наташе.
О ней ему ничего не было известно. Время к тому же выветрило, стерло в памяти много былых замет. Встретились они через шесть лет случайно. Стояла зима, порошила метель, воздух был бел и мир — задумчив. Наташа мало изменилась, только стала как будто красивее. Ее чуть-чуть монгольские с искоркой глаза по-прежнему смотрели приветливо. В пышных волосах поблескивала седина — след прошлого: в числе первой небольшой группы смельчаков Наташа перебралась на западный берег Днепра. Отбросив санитарную сумку, на клочке отвоеванной береговой земли легла за пулемет, вызвала на себя огонь…
— И ты мог, смел обо мне так подумать! — с горечью спросила она у Андрея, когда он, оправдываясь, проговорил что-то невнятное. — А впрочем… — Наташа помолчала. — Да… ты не любил. Прощай, Андрей.
С тех пор минуло много времени, и он ничего не слыхал о ней. А вчера к нему на прием зашла незнакомая женщина и передала конверт… То было письмо от нее. Наташа просила помочь определиться на работу ее подруге. В конце письма — приписка:
«На всякий случай, предупреждая твой вопрос, заданный хотя бы из вежливости, несколько слов скажу о себе. Работаю главным врачом городской больницы, недавно мне присвоено звание заслуженного врача республики, второй год замужем. Если ты помнишь меня, то поймешь, что это все, что надо было для моего счастья…»
Андрей молча курил. Мне было грустно.
Когда светит солнце
Над селом лениво курились дымки. У печек-времянок хлопотали вернувшиеся с поля хозяйки; тут же вертелись чумазые малыши в ожидании ужина. По склону холма в село, пыля, скатывалась отара овец. Было слышно, как в разнобой тренькали самодельные колокольцы, подвязанные к шеям овечек; раздавался хриплый лай собаки. Солнце почти коснулось вершины холма. Деревья и степь в преддверии сумеречной дремоты присмирели. Пахло сухой землей, сладким дымком и пылью.
Дед Оника, примостившись на завалинке, подставлял зябнущее старое тело лучам заходящего солнца. Дневная теплынь еще не схлынула, но старику было холодно. Видно, жизнь его идет к закату. Если даже солнце не может добраться до костей, то так, наверно, оно и есть — прошла жизнь. Еще вчера все выглядело по-другому. А если скинуть еще недельку, месяц или год-два, а то и всю дюжину, то он, Оника, знал глубину и соль жизни. Густой его чуб, черные глаза, усы, что были выхолены с ранней молодости, — всем он, Оника, взял: и умом, и удалью, и статью. Не у одной синеглазой красавицы заходилось огнем сердце при виде Оники. Шел по селу, и дома чистыми окнами слали улыбку, белые занавески, как крылья, трепетали от чьих-то бросаемых украдкой взглядов. Но он знал, кто пристально всматривается в него, и радовался в душе своей молодости, этим взглядам, жизни, которой никогда, думал, не будет конца. А вышло — конец из-за угла подкрался. Поглядел Оника в осколок зеркала и отшатнулся. Чужой, неизвестно откуда явившийся человек стоял перед ним. Есть люди, с кем сердце не чает завести дружбу. А с этим, что смотрит на него из зеркала из-под нависших косматых белых бровей, и знаться не хочется. А он все глядит, не спускает подернутых серым инеем глаз, и чует с тоской Оника, что от человека с седыми кустистыми бровями, сухой и желтой, как воск, кожей и тонкими, как лезвие, губами уже никуда и никогда ему не уйти. Тусклый и вылинялый весь он; не спасают его и молодецкие усы. Да и они, как высыпанная у изгороди зола, линялые и серые.
Когда Оника стал чувствовать, что уже не тот и что слабость подкралась к силе, он, обманывая себя, не хотел Сдаваться, особенно не хотелось ему, чтоб люди заметили, как немочь за ним увязалась, точно шелудивый пес. Но люди заметили и решили: пора Онике отдохнуть, пожить на покое. Шумно и красиво был обставлен его уход на пенсию: речи говорили, рука от пожатий одеревенела, председатель преподнес костюм из добротной тонкой шерсти. В ответ он тоже улыбался, а в сердце будто заноза вошла: знал Оника, что это уже все, что это последний развеселый спектакль в его жизни. Так оно и вышло. Люди, захваченные извечными заботами, чуть ли не на второй же день предоставили Онику самому себе. Он ел хлеб, дышал воздухом, ходил по селу, вступал в разговоры, а жизнь, как широкая река, текла мимо него. Но не таким Оника был человеком, чтобы ненужность свою, как вывеску, выставлять всем напоказ. Костюм, который ему подарили, швырнул в самый дальний угол сундука, видя в нем напоминание о злой перемене в своей судьбе. Он пришел в правление колхоза, улучив момент, когда все были в сборе. Село, в котором он жил, было красивым; дома под черепичными крышами утопали в садах, но нет большего преступления, если хозяева не захотят сделать его еще красивее. Лежит оно в низине, у подножья крутого, вылизанного ветрами, облыселого холма. Оника предложил засадить холм деревьями. «Не сидится тебе, дедушка, спокойно. На том бугре не то что порядочное дерево, будяк колючий не растет», — отмахнулся председатель. И выпроводили старика ласковым словом, а про себя, поди, думают: «Видно, в детство старик впадает». Ну и пусть себе думают! — воскликнул Оника. Каждый волен и при свете заблудиться, как в потемках; люди — они хоть и зрячие, а слепые. Всегда они думают о себе лучше, чем они есть; мало верят другому — в том-то их и слепота! Оника разобиделся окончательно на председателя и правленцев, решил сделать сам, обойтись без их помощи.
И сделал.
Меньше трех весен прошло, а лысый, вытертый, как старое одеяло, холм вырядился в белую кипень цветущих деревьев.
Село опять заговорило об Онике. Деревца его радовали людям глаз. Козырьком бросали прохладную тень, доносили шелест и музыку клейкой зеленой листвы. Как нянька, выхаживал, растил Оника каждое деревцо. Чуть солнце разбелит предутренние росистые сумерки, он уже на ногах. Одному кутает соломенным чулком оголившуюся ветку, другое обкопает, третье подрежет. Деревья без него, как дети без матери; с ним — весело тянутся к небу. Но и сам Оника при них лет двадцать с себя сбросил. Ему ничего теперь не стоит взобраться на крутой холм, неся ведро воды, лопату и на плече переметные сумы с подкормкой для тех, кто еще к колену его, как щенок к соску, жмется. Горд и неподатлив старик: жизни нет конца! Живее заходила в жилах кровь, в груди трепетнее забилось сердце. Только сырою дымной осенью, когда им высаженные деревья сбрасывают себе под ноги листья, мерзнут и гнутся на холодном ветру, клубится туман тоски в сердце Оники. Жалеет он деревья. Всегда кажется, что их, будто грудных детей, распеленали и оставили так, голыми, стоять осень и лютую зиму на студеном ветру. Не любил Оника эту пору. Грел он песок, завязывал в старую наволочку и прикладывал к пояснице; ломило кости, ныло в коленях. А глядеть, как ветер, завывая, треплет ветви и лижет шершавым языком угрюмый холм, совсем отказывался. Нынешнюю осень и зиму Оника перенес особенно тяжело. Собрался он однажды утром, как бывало, соскочить со своего прижатого к печи топчана, — силой, казалось, налился каждый мускул, но подняться не смог. Лежал неподвижно до обеда, ничему еще не веря; пробовал еще раз одолеть и сбросить с себя чугунную тяжесть, но так и не смог. Он слышал, как на третий день за перегородкой шепталась с соседкою сноха: «Какого дуба свалило. И конца ему, казалось, не будет. А вот поди ж ты…»
Оника сердился:
«До чего ж неумны эти бабы. Одну мокроту на глаза нагоняют». Подмывало сказать им что-нибудь желчное, обидное насчет того, что у них ум никогда по длине не равняется их волосу. «Свалило?!» Да в нем еще тепла и жару хватит скирду соломы спалить. Но так и пролежал Оника зиму. А однажды проснулся и не заметил, как сполз с топчана, босыми ногами коснулся холодного пола. Стоял он, высокий и худой, и не верил самому себе, что стоит. Дошел до окна. Выглянул в него, а на дворе столько разлито солнца, что хоть раскинь руки и плыви в нем, как в теплом Днестре. Оника оперся длинными сухими руками о подоконник и почувствовал в пальцах силу. Он оглянулся на дверь смежной комнаты и крикнул снохе, чтобы тотчас несла рубашку и штаны.
— Да вы, никак, тату, рехнулись, — вбежала и вскрикнула в испуге сноха. — Привидение белое, а не человек. Кости одни. Рассыплетесь. Куда уж вам с топчана слазить?! Ох ты ж, боже ж мой, грех один на мою голову.
Старик стоял и улыбался. Жаль ему было этой дуры-бабы. До чего ж слепа! Мир белым-бело солнцем высветило, жизнь во все стены стучит, весь двор зеленая трава усеяла, а она и глазом не поведет; обкрадывает самое себя, тушит в сердце радость, будто у нее только и заботы, чтоб чесать свой язык.
— Неси штаны и рубаху, — снисходительно повторил Оника.
— Никуда я вас не пущу!.. Да что ж это за напасть такая…
У Оники позванивало в ушах, подступала сладкая тошнота к горлу от слабости, но он неторопливым шагом прошел к порогу, отстранил твердой рукою сноху и как был, в исподнем белье, так и выбрался на крыльцо.
Весна за порогом стояла уже не первый день. Он же только сегодня услышал ее. Чистым потоком она хлынула в грудь, обожгла и опьянила. Ловил он пряный, терпкий запах разморенной теплом земли, слышал ласковый шелест вымытого дождями неба. Рядом с ним, у самого крыльца, любуясь собою, стояла молодая черешня, и Онике чудилось, что он слышит, как она, точно новорожденный младенец грудь, сосет землю. Солнце положило Онике на плечи свою теплую руку и так, в обнимку с ним, дошло до завалинки. Присел старик, и улыбка не сходила с обтянутого сухой кожей, в глубоких морщинах лица; щелки глаз сыпали искры, И вдруг встрепенулся: как же это так он забыл! — и весь устремился туда, где небо смыкалось с холмом. Будто шлейф густого белого дыма полз по склону. Цвели черешни и абрикосы. Выстояли зиму дети! И Оника, не помня себя, подхватил с земли сучковатую палку и, опираясь на нее, побрел огородами к холму. Много раз останавливался он передохнуть, — не те стали ноги, но все-таки взобрался на вершину. Золотым настоем меда встретили его деревья. Он перебегал от одного деревца к другому, трогал их руками, и непрошеные слезы катились из глаз.
Домой он вернулся лишь к вечеру. За несколько лет жизни не уставал так, как за эти часы. А тело, поди ж ты, налилось хмелем, в пору в пляс пуститься. Однако ж стало Онике ясно, что больше уже никогда не взобраться ему на крутизну косогора. Сердце отходило свое… И все-таки молодой сад, созданный им, будет издали вечно слать ему неодолимую силу радости.
И так потянулись дни. Спозаранку выбирался старик на завалинку, сидел строгий и неподвижный. Угадать со стороны, какие мысли, скрывались в его голове, было нетрудно: взгляд из-под густых белых бровей всегда устремлен в одном направлении. Но вдруг он заметил, что стали сдавать глаза, глядит-глядит — и вдруг пеленою все застелет. Больше смерти испугался этого Оника. Не любил он темноты ночи, темноты людей — всего того, что было связано с темнотою; и если откажут, как и сердце, глаза, то, значит, песня красок, неба, солнца, его золотых деревьев оборвалась… Жил Оника при въезде в село, первым встречал утренние зори и последним провожал вечерние. Возвращающиеся с поля мужчины снимали перед ним шапку, весело здоровались женщины. А однажды его на прежнем месте не увидели. Многие решили — опять слег старик. Но Оника еще со вчерашнего вечера тайком от своих домашних собрал узелок, положил в него ломоть брынзы, кусок пахучей мушки, налил бурлуй вина и чуть свет отправился в районный центр добывать себе очки. Шел бодро, подгоняемый утренней прохладой. Грудь словно раздвинулась: веселила надежда, что очки он добудет, расстанется с глазною немощью. Взошло солнце. Над головою пел жаворонок. Оника на минуту присел, снял с ног башмаки, чтоб зря не бить их, и опять тронулся в путь. По дороге его нагнал колхозный шофер. Он остановил машину и пригласил старика в кабину. Шофер был молодым и разбитным парнем. Сыпал вопросами, просил рассказать, как он, Оника, жил раньше, что было интересного в жизни отцов и дедов в прошлом. Молодое, безусое лицо паренька вызвало у Оники усмешку. Не прошлое волновало старика, он к нему не имел никакого интереса. Сегодня вон за стеклами кабины сколько разлито радости: подсолнух тянет свою чубатую золотую голову к солнцу, озимые поднялись по грудь, воздух звенит, и гладкая, как зеркало, дорога бежит навстречу. Шофер на нее почти не глядит, легкомысленный и веселый. А он, Оника, не пропускает на ней ни одной извилинки — все замечает. А не так ли он, как этот парень, шел по жизни? Бежала она ему навстречу, видел он, что это жизнь, а в ней ничего особенного не замечал: жизнь как жизнь! Вот если бы сейчас вернуться можно было назад и пройти все сначала, он бы мимо не пропустил ничего. А дорога бежит… бежит… Ее настигают колеса. Шофер все не сгоняет со своего лица улыбки. Ему же, Онике, отчего-то грустно.
В районном центре шофер подкатил к самой больнице. Оника встретился с доктором и к полудню уже с очками собирался в обратный путь. Одно нескладно вышло: брынзу и вино, которые он нес из дому в подарок доктору, тот отказался принять. Огорчился до глубины души Оника. Услуга, которую по своей просьбе получаешь от человека, всегда должна быть оплачена. Но особо раздумывать было некогда. Ему не терпелось примерить очки, а при людях он стеснялся и поэтому торопился скорее остаться с собой наедине. Но не успел выйти за ограду больницы, как услышал оклик:
— Дедушка Оника?!
Старик оглянулся. Кто бы это его мог звать? Перед ним стояла Марица, библиотекарь из их села. Не раз он думал про себя: счастливая — книг сколько перечитала разных, где только не побывала с ними, а главное — красоты ей сколько жизнь не пожалела. Знал Оника — Марица первая на селе певунья, весь Дом культуры на ней держится.
— Вы что тут делаете, дедушка?
Старик приосанился, рука невольно расправила усы.
— Так, — ответил он, — по надобности к доктору знакомому приходил. А сейчас вот домой собрался.
— Ой, — оживилась Марица, — а я попутчика ищу. Если подождете меня минут пять, я к портнихе забегу, то вместе поедем. Вон, видите, мой автомобиль. — Марица показала на противоположную сторону улицы: в тени дерева стояла запряженная одноконная подвода.
— Может, тебе, Марица, чем подсобить? — спросил Оника.
— Идите к подводе, там у меня книги для библиотеки. Я вмиг обернусь.
Марица легкая, как перышко, повернулась и торопливо зашагала прочь. Старик видел ее удаляющуюся высокую стройную фигуру, ладные ноги, светлое фасонистое платьице и оголенные до локтя руки. Все в девушке дышало весною, и земля под нею, как гладкое зеркало, — не бежит, а скользит она по ней; не то, что он, старик, — и ровно, а спотыкается.
Оника подошел к подводе, оглядел ее, потрогал рукою стопки книг и, остановившись около пегой лошаденки, заглянул ей в глаза, сказал:
— Хозяйка, брат, у тебя красивая. Небось, весело такую возить? — И видя, что лошадь никак не реагирует на его замечание, добавил: — Чего горемыкой на мир глядишь? Ума сколько вон у тебя в каруце лежит и выдумок разных, плясать бы надо, а мы с тобой скучные…
Оника достал из кармана очки. Разглядывал их, как диковину, бережно потер стекла о рукав, нацепил на нос. Глядел вокруг, и не верилось ему: глаза его опять помолодели, все обрело отчетливые очертания, стало ярче и живее. Дорога вылизана, дома выбелены и даже яблоко глаза лошади, которое незаметно косится на него, иссиня-белое. Оника сорвал с переносицы очки — мир потускнел. Опять надел — мир выглядел, как в его, Оники, юные годы. Несколько раз снимал и надевал он стеклянную диковину, пока наконец не заметил Марицу и не бросился к ней навстречу.
— Марица, а ну дай я на тебя погляжу!
Девушка от удивления всплеснула руками:
— Вы это чего, дедушка?
— Да вот, понимаешь, глаза мне подремонтировали, — и старик пустился в длинный рассказ, с какой стати ему вдруг понадобилось острое зрение: он засадил весь холм деревьями — черешней, яблоней, абрикосом и тополем; взбираться к ним невмоготу. Так вот, чтоб издали на них было лучше глядеть и разбирать, что у них к чему, он и приобрел эту штуковину.
Марица и Оника давно уже сидели в телеге и ехали степной дорогой, а затейливому рассказу еще не было видно конца. Оника необыкновенно оживился. Будто подменили его. Поглядеть со стороны — не узнать старика; да и не дашь ему его лет. Все в нем: и глаза, и руки, и речь его готовы были поспорить с самой молодостью. Сидит он выпрямившийся рядом с Марицей. Весело трусит лошадь, поскрипывают колеса. Полуденное солнце пригревает спину. Оника давно запамятовал, когда был таким разговорчивым: слова из него, как из живого родника ключи, бьют. На лице Марицы улыбка. Было видно — не наскучили ей речи попутчика. Чем-то он ее заворожил, что-то говорил такое, что ей не было никогда известно, влекло, открывало жизнь неведомо новой стороной. В селе об Онике разные разности рассказывали. И вот случай свел ее с этим любопытным человеком.
— Дедушка, вдруг спросила задумчиво Марица, — а вы любили когда-нибудь?
Оника мгновенно сник. На плечи навалилась тяжесть.
— Ты, поди, книжки про любовь читаешь. Там лучше все рассказано. — И замолчал.
Марица заметила перемену в Онике, забеспокоилась:
— Может, я сказала что не так?
Старик не ответил. В груди у него что-то растопилось, туда, в затхлость, точно ворвался свежий ветер; будто начало оттаивать. Перед ним стояли красивые, большие, черные, как смоль, глаза Марицы. И губы у нее, как спелая вишня. И прическа не такая, как в его время женщины носили: под мальчишку острижена, волосы слегка растрепаны и в беспорядке. Но Марицу это только красит необыкновенно. И сережка в ухе золотая блестит. Неудобно Онике все время неотрывно смотреть на Марицу, но глаз оторвать не может. Он видит ее профиль. Нос, лоб, слегка припухшие губы — все будто выточено и нарисовано. И дугою черная бровь изогнута. Не встречал Оника красивее девушки в жизни! Откровением она для него явилась. Не раз он, бывало, видел в селе эту голенастую, в ситцевом платьице, чумазую девчушку и проходил мимо, не замечая ее. А сегодня она будто самой красотой обернулась: из гнезда не птенцом выпорхнула, а белой как снег голубкой. Глядит на нее Оника и забыл, что ему уже не двадцать лет. Недосуг о годах думать: что-то другое, непонятное самому грудь полнит. Каким-то другим — веселым и сильным, именно другим, хочется ему стать. Марица спросила о прошлом. Не в нем его жизнь; и как бы это так сделать, чтобы объяснить ей понятно и правильно, что сегодня у него самая красивая и что ни на есть настоящая жизнь наступила, что он не хочет оглядываться: там, позади — ночь. Здесь же, рядом с Марицей, он точно в вешнем саду, только еще лучше ему отчего-то. И он догадывается отчего, но боится признаться самому себе в этом.
— А ты, Марица, кого-нибудь уже любила? — осторожно спросил Оника. И почувствовал, как сильно застучало сердце, перехватило дух.
— Еще нет, — просто сказала девушка. — А вот закрою глаза и чудится: где-то рядом стоит моя большая любовь. Стоит и смотрит на меня тот, кого я сильносильно полюблю.
У Марицы от волнения на щеках проступил румянец. Оника видит это и сам разволновался. Словно весенним ветром обдало его, он расправил плечи и набрал полные легкие воздуха, набрал и не почувствовал никакой боли в боку и не закашлялся. Обрадовался.
— А ну, давай я буду править, — сказал Оника и взял вожжи у Марицы. Достал из-под сиденья кнут. По-молодецки взмахнул им. Лошадь, почуяв твердую руку, с шага перешла на рысь. — Вишь оно, что значит, когда вожжи в настоящих мужчинских руках оказываются. — Улыбнулся Оника щедро, от всего сердца.
Марица ответила улыбкой и кивнула головой.
— А мне можно к тебе в библиотеку приходить, книжки брать?
— Ой, я вам выберу самые лучшие.
— Обязательно приду.
Добрались они до села к вечеру. Возле своих ворот Оника слез с подводы, попрощался за руку с Марицей и вошел в дом. Будто со свадьбы вернулся. Сноха встретила упреками: пропал он из дома, как в речке утонул. Но тотчас заметив, что старик, как куст сирени, расцвел, на лице его и тени хвори не видно, смягчилась:
— Где это вы, тата, пропадали?
— Там меня уже нет, дочка, — ответил Оника и рассмеялся. — Вот, гляди, очки какие себе добыл. Это чтоб вас, молодых да красивых, лучше видеть. Жизнь тогда интереснее идет. — Оника передал снохе очки. — Хорошие?
— Вы, как малое дитя…
Сноха не узнавала старика. Не узнала она его и за столом, когда подала ужин. За троих ел Оника и все приговаривал:
— Давно ты так не кашеварила, дочка.
Ночью из-за перегородки Оника слышал, как сноха тревожно шептала его сыну: «С отцом неладно. Доктору показать надо. Не горячка ли какая прилипла к нему. Только вчера ноги едва волочил. А сегодня, погляди, расцвел, помолодел». Оника про себя радовался и думал: «Снохе тоже бы надо очки приобрести, чтоб солнце у него в груди могла разглядеть. Ишь, выдумала, доктора… Когда нужен был доктор, когда в каждом ребре по колу торчало, тогда она о докторе меньше всего думала. Баба, что сова, плесни ей лучами солнца в глаза, сразу слепнет».
Утром Оника поднялся спозаранок. Забот был полон рот, места себе не находил. Сына попросил, чтоб подстриг его маленько, усы в порядок привел. Сноху заставил выгладить ему белую рубашку. Достал из сундука костюм, который швырнул когда-то в самый дальний угол. А теперь он пришелся кстати; позарез хотелось сегодня выглядеть человеком, в колчане которого еще не иссякли стрелы и который знает толк в одежде. Начистил свои башмаки, заглянул в них, как в зеркало, и подумал вслух: «Добротный товар стали делать».
— Что это вы, тата, как на свадьбу рядитесь? — спросила сноха.
Онике будто оплеуху дали. Рассердился он на эту неумную женщину: и чего она по пятам за ним ходит, подглядывает да выспрашивает.
— Ты знаешь, дочка, что я тебе скажу. — В сердцах повернулся к ней Оника. — Как-то на заборе было написано — «дурак». Умный человек прошел, не заметил, А дурак шел, увидел и шум на всю улицу поднял, людей собрал, в грудки бил себя, жаловался: что это такое — свет грязный стал, пройти по улице спокойно невозможно. Оно и тебе, дочка, впору людей сзывать!
— А ну вас, и спросить нельзя!
Оника в тот день едва дождался вечера. И солнце что-то долго не садилось, и стадо в село не возвращалось, и не слышно было, чтоб девчата вернулись с поля, хотя жизнь шла тем же шагом, что и вчера, и месяц назад, и не думала сбавлять скорость. Это Оника, видно, сам стал по-молодому нетерпеливым: жизнь за ним не поспевала. Но едва вечер разлил свое теплое, как парное молоко, половодье и в окнах и в небе зажглись огни, Оника уже был готов. Блестели на нем туфли, начищена была шляпа, снегом январским белела из-под модного дорогого пиджака рубашка с отложным воротником. Плечи раздвинулись, и спина ровнее стала, и сердце Оника слышал свое, налитое до краев каким-то терпким, как вино, соком. Шел Оника по улице, глядя сквозь стекла очков на белые дома и заборы. Встречные снимали перед ним шляпы, если это были мужчины; женщины — у тех язык до любопытства всегда липкий:
— Куда это вы, дедушка?
— На кудыкину гору, — сердился Оника. Но тем, в ком он различал доверие и чуял, что его поймут правильно, отвечал с охотой:
— Дом культуры поглядеть решил. Да и в библиотеку надобность заглянуть есть.
Ему было приятно, когда за спиной раздавался одобрительный говорок: «Онике и старость не в старость».
Возле Дома культуры толпилась нарядная молодежь. Еще издали Оника увидел веселую толпу и заторопился. Дом культуры стоял посреди села, на открытом месте, высокий и белый. Окна его — от крыши до пола — залиты светом. На площади перед Домом культуры стайка парней и девчат отплясывала жок. Гудел барабан, пела скрипка, заливался кларнет. Едва Оника приблизился, как его сразу окружили не занятые в ганце. Старик сам не заметил, как оказался в центре внимания. Гостеприимной щедрости молодежи не занимать. Она не делит в праздники людей на старых и молодых — все ей равны; первый тот, кто мудрее, кто может померяться по ловкости с другим, кто может живее всех на лице вызвать улыбку и доставить радость. Половодьем хлынули шутки, смех. Девчата и хлопцы с появлением Оники развеселились. И Оника забыл среди них, что у него за плечами долгая-долгая жизнь.
— Дедушка, может и вы на жок? — предложил кто-то.
— Погляжу что к чему. А потом, может, и тряхну…
Оника повернулся к танцующим. Огненно и лихо было в их кругу. Удары и ритм барабана бодрили кровь. Что яркие звезды, горели лица девушек, переливалось драгоценной россыпью при свете фонарей монисто. Не мог оторвать зачарованного взгляда старик, сам стал притоптывать ногою. Еще минута, и он встанет рядом со стройными, как тополь, юношами, ловя лукавый взгляд молодых красавиц. И вдруг Оника увидел Марицу. Яркая, как солнце, стройнее и лучше всех, хмелем блестят ее глаза, рот приоткрыт в улыбке, и земля под ней каруселью плывет.
— Давай, давай, Марица! Всем им покажи, какой ты золотой орешек, — зажегся Оника, чувствуя, что глаза застилают слезы радости.
— Давай… — И старик не договорил. Улыбка в мгновение сошла с лица: «Что это возле нее выкаблучивается этот верзила?» — Оника стал гадать, кто бы мог быть этот высокий парень, что танцевал с Марицей. Где он его видел? И вспомнил — это Андриеш, сын вдовы Наталицы. Не понравился Андриеш старику, хотя спроси его еще только вчера, кто самый лучший парень на селе, он назвал бы сына Наталицы.
Марица не сводит глаз с Андриеша, то танцует с ним в обнимку, то стоит рядом. Бьет барабан, плачет скрипка. Огонь танца только разливается, не видно ему конца. Нет, Марица не просто в паре танцует с Андриешем. Онике что-то говорят соседи, что-то спрашивают у него, но он слышит только вой барабана и плач скрипки, что-то сильно давит на плечи, что-то вдруг заныло в груди, отдалось болью. Но Оника еще ничему не верит. «Вот погоди, кончится танец… кончится танец», — твердит он себе. А когда танец кончился, Марица и Андриеш, взявшись за руки, почти бегом пошли к двери освещенного Дома культуры. Они куда-то торопились. У них, казалось, времени в обрез. Молодость всегда спешит, хотя ей еще жить да жить. А у него, Оники, времени хоть отбавляй. Совсем его некуда девать. Он видел, Марица скрылась в двери, и сам пошел вслед. В походке его уже не было той твердости и лихости, да и плечи что-то давили на позвоночник.
У парадного Онику окликнули, но он не оглянулся, молча поднялся по ступенькам, чтобы войти внутрь Дома культуры; в правом его крыле размещалась библиотека, и он еще надеялся застать там Марицу. Но только он взялся за скобу тяжелой дубовой двери, как лицом к лицу столкнулся с той, к кому он шел.
— Ой, дедушка Оника! — обожгла она старика улыбчивым, счастливым взглядом. За ее спиной стоял Андриеш. Тоже улыбался. И то же счастье было разлито на его чернобровом, смуглом лице.
— А я к тебе, Марица, как обещал, за книгой пришел.
— Дедушка, — сказала моляще Марица, — в библиотеке сегодня Ленуца. Попросите ее. Она выберет вам самую лучшую книгу.
Старик видел ее яркие, как спелая вишня, губы.
— Ну что ж, — сдвинул он брови. — Можно, чтоб и Ленуца…
Марица и Андриеш вспорхнули с места. Оника не оглянулся им вслед. Стоял и не знал, куда идти. За спиною бил барабан, плакала скрипка. Оника повернулся, со ступенек поглядел на танцующую молодежь. Но той, кого он искал взглядом, среди танцующих не было. В библиотеке ему надобности больше нет. И, не отдавая отчета своим мыслям, он побрел, сам не зная куда. Очнулся лишь, когда оказался на крутизне холма среди высаженных им деревьев. Он не чуял усталости в ногах. Откуда-то снизу тянуло теплым свежим ветром. На минуту отлегло от сердца. Из-за излучины Днестра выглянул месяц. И все будто на ладони: деревья, как молоком облитые, и под ногами у них кружевная тень. И вдруг увидел старик, что стали его саженцы самостоятельными, ноги их не были, как еще год тому назад, зыбкими. Крепко стояли на земле. Доглядывать ему теперь за ними нечего, в: помощи его они уже не испытывают больше нужды. По лицу Оники текли слезы. Он не сдерживал их. Он думал о деревьях, которым дал жизнь и которым стал не нужен, о Марице. Думал о том, что и должно было собственно быть в старости, — одиночестве.
А село продолжало жить своей неуемной жизнью. По вечерам у печек-времянок так же хлопотали возвратившиеся с поля хозяйки, готовили ужин. По склону холма в село, блея, скатывалась отара овец. Было слышно, как в разнобой гремели самодельные колокольцы, привязанные к шеям овечек. Пахло сухой землей, сеном и пылью.
Онику все реже видели на завалинке, все реже провожал он заход уставшего за день солнца. Поговаривали, что окончательно сдал старик. Кто-то взял и выпил его всего, остались только кости и сухая, желтая кожа, что еще связывало его с людьми и жизнью. Он еще радовался солнцу, зеленой траве, что ползла к его ногам, когда он сидел на завалинке, но это был уже как бы только отблеск заходящего солнца.
Мужчиной стать нелегко
Тайна папоротника
На Кавказе, у северных его отрогов, в незапамятные времена таинственно возникла красавица гора Бештау. Много сложено об этой горе легенд. Еще и сегодня ходят о ней разные необыкновенные слухи. Рассказывают, будто есть в ней пещеры огромные — на целые километры в глубь земли — и обитают в этих пещерах диковинные существа, людям не известные, а в пещерах будто бы клады волшебные спрятаны.
Вовка Кораблев просто замучил свою бабушку расспросами о Бештау. Бабушке его было больше семидесяти лет, и уж слухами «про Бештау» полна была ее память. Жили они недалеко от горы, почти у самого ее подножия. И бабушка не скупилась на рассказы, поведала она внуку много всякой всячины. А сегодня открыла такое, от чего Вовка заерзал на стуле, по спине у него забегали мурашки.
— Осенью, — понизив голос, начала бабушка, — лишь только-только багрянец начинает золотить деревья, в густых зарослях возле пещер ночами цветет древний папоротник. Цвет у папоротника не простой какой-нибудь. Горит он яркими угольями в темноте, а от него во все стороны пучки огненных искр разлетаются. Кто увидит это цветение, тот на всю жизнь станет храбрым, смелым человеком.
— Так тогда все люди будут смелыми, — разочарованно прервал рассказ бабушки Вовка. — Подумаешь, дело большое: сходи в лес, посмотри цветение — и ты уже смелый.
— Э-э-э, в том-то и беда, — вздохнула бабушка, — что не каждому удается увидеть, как цветет папоротник. Мне еще моя бабка-покойница рассказывала, что силы злые охраняют его цвет и близко человека не подпускают к нему.
— Это как же? — удивился Вовка.
— А вот так, говорила: лешие разные, ведьмы и всякая нечисть пляшут, кричат, смеются, плачут, страхи страшные насылают, и никто не выдерживает, без оглядки убегает. И не смелым, а трусом на всю жизнь остается. Вот, по всем моим подсчетам, в нынешнюю осень должен папоротник цвести. В старину были, а теперь, поди, уж перевелись смельчаки, кто бы рискнул поглядеть на это диво. Отцветет папоротник — и никто об этом не узнает.
Вовка рассмеялся:
— Лешие и ведьмы только в сказках бывают.
— И я так думаю, что в сказках. А вот и в книжках сказано, что цвет папоротника ни ученые люди, ни другие не видели. Это что-нибудь да значит.
— Бабушка, хочешь, я пойду этой ночью в лес и Серегу с собой прихвачу?
— Что ты! Что ты! С ума, я гляжу, парень, спятил. Вот кликну отца, он тебе ремня всыплет, тогда на спине узнаешь, как папоротник цветет.
Угрозы бабушки Вовку не смутили. Через час он уже все рассказывал Сергею Верзилину, своему дружку закадычному. Сергей слушал нахмурясь. Он не понимал, какая выгода от того, что он увидит цветение папоротника; мало ли каких цветков по земле рассыпано, чтобы из-за каждого причинять себе неудобства: идти в скалы и ночевать в лесу; еще волки нападут. Однако Вовка убедил Сергея, что выгода определенно есть, что жить смелым гораздо лучше, чем быть трусом.
В субботний день после уроков, тайком от родных, они ушли на Бештау. В рюкзак затолкали одеяло, свертки с хлебом, колбасой и салом, взяли два коробка спичек. Вовка знал одну пещеру в скалах. Как-то он уже был там с ребятами и теперь вместе с Сергеем решил провести в ней ночь, только опасался, что не найдет ее. Но все обошлось. Бештау встретила приветливо, в чащобе папоротниковых зарослей они довольно легко отыскали знакомую Вовке пещеру. Вокруг царила тишина. Солнце едва проникало сюда. Ребята заторопились. До наступления темноты они стали готовить сухой валежник, чтобы затем разжечь в пещере костер и ночь провести у огня.
Эхо разносило на весь лес их голоса, треск ломаемых веток, вторило Сергею, когда он, дурачась, выкрикивал смешливые слова. Валежника было много, и они натаскали его в пещеру целую гору, забрались в самый дальний угол и начали разводить костер. Заправлял Вовка. Сергей тем временем вынул одеяло, притащил охапку зеленой травы и устроил высокое мягкое ложе для сна.
— Ты что, спать сюда пришел? — проворчал Вовка. — У меня вот никак огонь не разгорается. Полкоробка спичек истратил.
Сергей достал из рюкзака обрывок газеты, передал Вовке и посоветовал не жалеть легких и раздуть огонь. Но и это не помогло. Газета сгореть сгорела, потлели слегка сухие ветки, а огня не получилось. Тогда за дело взялся Сергей. Легкие у него были большие, дул он, как кузнечные мехи, на всю пещеру, но только поднял пыль и пепел. Истратил он больше коробка спичек, пустил в ход всю бумагу, в которую были завернуты колбаса и сало, но все напрасно.
— Слушай, — полушутя, полусерьезно сказал Сергей. — А может, и правду твоя бабка говорила. Может, это начинаются козни нечистой силы? Колдовство…
Вовка молча отобрал у Сергея спички и опять принялся разжигать костер. Но огонь вспыхивал лишь на мгновение и гас. Ребят стало одолевать отчаяние. Пещеру окутала тьма. Солнце скрылось за хребтом скал, где-то догорала вечерняя заря. Лес притих, насторожился: лишь изредка подавала голос иволга. И пение птицы радовало ребят. Им казалось, что в лесу они не одни: есть еще эта веселая птичка. Но с минуты на минуту смолкнет и она. Лес придавит мертвая тишина. И тогда хруст даже тоненькой ветки под ногой прогремит выстрелом из-за угла.
Из двух коробков у Вовки и Сергея осталось три спички.
Вовка чувствовал — под рубашку пробирается сырость пещеры; он весь извозился, дрожал от холода. Сергей выглядел не лучше. Но не это беспокоило. У обоих под сердцем гнездился страх. Оба поглядывали на выход из пещеры: его будто черным камнем заслонила темнота.
Умолкла иволга. Пение оборвалось неожиданно. Ребятам почудилось, что они оглохли — так стало кругом тихо. В темноте они уже не различали друг друга.
Вдруг Сергей закричал во весь голос:
— Есть, есть!
Вовка чуть не умер от внезапного крика, воздух в горле застрял.
— Вспомнил, вспомнил! — продолжал кричать обрадовано Сергей и запрыгал, танцуя, на месте. — Теперь знаю, знаю!
Вовка едва отдышался. А Сергей говорил, что они оба дураки, что забрались в самый дальний угол пещеры, где нет кислорода. Вовка знал, что спичка тотчас перестанет гореть, если ее бросить в стакан и сверху накрыть ладонью. Но он никогда бы не додумался, что угол пещеры — все равно что дно стакана без воздуха.
— Ты хотя бы не орал так, — вздохнул он. — А то совсем оглохнуть можно.
— Давай перетаскивай костер к выходу, — скомандовал Сергей.
Едва сухие сучья и хворост оказались у выхода из пещеры, от одной спички вспыхнул веселый и живой огонь. Темнота отступила. И страх спрятался за большие каменные глыбы. Пещера была вместительной и глубокой. Пламя костра освещало ее шершавые, морщинистые стены; на душе стало легко. Сергей пододвинул рюкзак, достал еду. Вовка нанизал на прут, как на шампур, кружки нарезанной колбасы, куски сала и держал над огнем; запах жареного мяса сладко защекотал в носу. А когда стали есть, то Сергей уплетал за обе щеки и приговаривал: «Я бы всю жизнь согласился жить в пещере. Дома совсем есть не хочется, а здесь — только подавай. Ты, Вовка, мастер из колбасы шашлык жарить».
Вовке не хотелось провести всю жизнь в пещере, он то и дело поглядывал на зияющую черноту входа; там перед пещерой, казалось, стояло что-то.
— А когда же мы пойдем смотреть, как папоротник цветет? — спросил Вовка.
Сергей про себя тоже думал об этом. У него мороз колючий пробегал по спине, едва он вспоминал, что надо будет выходить из пещеры, от огня в темноту. Но он не хотел показаться в глазах Вовки человеком, которому все время страшно, поэтому врал, что ему всю жизнь хочется жить в пещере и что ему так весело.
— Ну, пойдем или нет? — опять спросил Вовка.
— Поспим маленько, а потом пойдем смотреть, — сказал Сергей.
Вовка знал: если Сергей заснет, тогда пусть хоть скалы рухнут, вулкан гремит — его не разбудить. Знал об этом и сам Сергей и стал моститься, чтобы прикорнуть, потому что лучший способ избавиться от страха — это уснуть, думал он.
— Эх, ты, соня! — пристыдил его Вовка. — Ты чего в лес шел? Или поджилки дрожат?
— А тебе разве не страшно? — спросил Сергей.
Вовка шмыгнул носом. Ему тоже не хотелось признаваться, что сердце у него колотится, как у пойманной птицы, что боится он лишний раз оглянуться и с минуты на минуту ждет, что кто-то положит волосатую руку на плечо, придавит к земле и скажет: «Ага, попался!» Но Сергею Вовка ответил:
— Я еще дома знал, что будет жуть как страшно. Но раз уж мы решили, то теперь терпи и держись.
Сергей промолчал, подбросил валежника в костер. Огонь вспыхнул ярче, к потолку пещеры полетели искры.
— Ну, пойдем смотреть? — спросил Вовка.
— Возле огня не страшно. А там, — Сергей повернулся к выходу, — там, может, волки.
Вовка рассмеялся:
— Волки трусливее собак: они сами человека боятся. Пойдем!
Ребята с опаской выбрались из пещеры. Держались друг за друга. Чуть дыша, остановились и замерли. Первые мгновения после костра ничего не различить. Хоть глаз коли — тьма непроглядная. Лежала глухая, мертвая, как камень, тишина. Не шелохнется ни одна веточка. И неба не видно. Великаны-деревья заслонили его. Но тут Вовка вдруг заметил множество ярких крохотных огоньков. Они, как пестрые дорогие мониста, были рассыпаны по земле. Горели и сверкали. Вовка толкнул Сергея в бок:
— Гляди!
Сергей рот раскрыл от удивления. Тут и там были вкраплены в темноту огоньки. Мерцали, как живые, слегка покачиваясь, будто дышали.
— Это цветет папоротник, — прошептал Вовка.
— Красиво, — чуть слышно сказал Сергей.
На душе у ребят полегчало. Отступил куда-то страх.
Они забыли обо всем на свете. Неожиданно открывшаяся красота и глубокий сон ночного леса наполнили грудь радостью. Вовка даже не предполагал, что ему будет так хорошо и легко. Он уже видел вокруг все: и контуры могучих застывших стволов дуба, и огромные листья папоротника, и дикие, густые, как клубок, заросли, и огненное цветение у самых корневищ, будто кто-то взял и высыпал в темноте из жаровни дышащие жаром угли.
Сергей нагнулся и схватил в горсть то, что Вовка назвал цветком папоротника. Хотел было поднести к глазам, чтобы получше разглядеть, как вдруг что-то страшно и дико загоготало над головой:
— У-у-у-у-у… — издало оно глухой, давящий звук.
Сергей закричал:
— А-а-а-ай, — и, обхватив голову руками, рванулся назад в пещеру. Вовка, спотыкаясь, бросился за Сергеем.
— Ха-ха-ха-а-а-а, — несся вслед раскатистый резкий смех.
Потом что-то заплакало, застонало…
— Ай-ай-ай! О-о-о…
И тут же смех:
— Ха-ха-ха-ха…
Ребята забились в угол пещеры. Беда свалилась внезапно. Они не могли понять, откуда все взялось. У Сергея не попадал зуб на зуб, он дрожал всем телом. Вовка уткнулся ему в плечо, не дышал. А там, около пещеры, к одному голосу прибавилось десять других. Перебивая друг друга, кричали, плакали, смеялись, стонали, бесновались какие-то чудища. Что-то хлопало и било, как в ладоши. Лес проснулся, ожил. Визг и гиканье, хохот — все смешалось в диком, сумасшедшем вое. И вдруг полоснул по сердцу пронзительный, душераздирающий вопль невидимого существа. Кто-то кого-то душил, кто-то с кем-то дрался. Сергей чуть не умер от страха. Но тут Вовка оторвался от его плеча, подбежал к костру, выхватил из него горящую головешку и пульнул ею в темноту. Что-то черное, большое отпрянуло от пещеры, и все умолкло так же неожиданно, как и началось. Стало тихо, как в погребе. Головешка дымила недалеко от входа, разгоняя черные тени. Сергей вначале подумал, что Вовка сошел с ума, а теперь глядел на него широко раскрытыми глазами: «Ну и смелый же он!». Однако сам из угла к огню вышел только тогда, когда окончательно убедился, что все стихло.
— У меня сейчас разрыв сердца будет, — сказал он Вовке, усаживаясь рядом. — Что бы это такое могло быть? Может, это шакалы были?
— Тут шакалы не водятся, — ответил Вовка. — Точно знаю.
Сергей прошептал:
— Значит, что-нибудь сверхъестественное?
Вовка пожал плечами:
— Не знаю.
— Так эти лешие могут и удавить нас, — сказал Сергей и неожиданно про себя отметил, что правая его рука до боли стиснута в кулак, и вспомнил, что в руке у него подобранный цветок папоротника. — Гляди, — протянул он руку Вовке.
— Не выбросил?! — обрадовался тот. — Ну-ка, показывай.
Сергей пододвинулся ближе к огню и раскрыл кулак. На ладони лежал скомканный кусочек истлевшего трухлявого дерева. Ребята не поверили глазам. Отвернулись к темноте — дерево светилось.
— Гнилушка! — разочарованно сказал Сергей, отряхнул ладонь о ладонь и стал куражиться над Вовкой: — Эх, ты, цветок папоротника! И меня с толку сбил. Ты только слушай бабку свою, она тебе сорок коробов наговорит.
Сергей хотел еще кольнуть чем-нибудь обидным Вовку, но слова вдруг застряли в горле: он увидел над самым входом в пещеру большие, круглые, как медные пуговицы, глаза. Глаза висели в воздухе и светились. Сергей прилип к месту, хотел крикнуть и не смог. Он ногой толкнул Вовку, но глаза тотчас исчезли. За пещерой опять вспыхнула неразбериха: свист, крик, плач, хохот.
— Ш-шу-ш…
— А-а-а-а…
— Ой-ой-ой-ой…
— Ха-ха-ха-ха…
— У-у-у-у…
— И-и-и-хи-хи… — доносилось со всех сторон. Теперь у пещеры будто собралась вся лесная нечисть. Здесь царил топот и грохот; казалось, вот-вот перевернется земля. Сергей заткнул пальцами уши. Вовка опять стал швырять головешки. Разбросал почти весь костер, но ничего не помогало.
— О-ой-ой-ой, — жаловались похожие на человеческие голоса.
— Ох-ох-ох, — вторило им со всех концов.
И тут же кто-то хохотал:
— Ха-а-а-ха-а-ха…
Можно было сойти с ума. Но Вовка держался твердо. Он размахивал у самого входа горящей палкой, чтобы не дать никому войти в пещеру. Сергею крикнул, чтобы тот подбросил валежника в костер. Сергей повиновался. Затем тоже схватил горящую палку и стал рядом с Вовкой. Пещеру застелил дым. Резало глаза. Нечем было дышать.
— Меня кто-то душит, — застонал Сергей и закашлялся.
Вовка оглянулся. Сергей уронил дымящую палку и рвал на себе ворот рубашки: ему просто не хватало воздуха. Потух и костер. Но на дворе стало светать. Вовка выскочил наружу — и вдруг все понял. Все понял и засмеялся во весь голос.
— Сергей, Сергей, — позвал он. — Гляди, гляди.
Но Сергей не торопился выбираться из пещеры.
— Да скорее же ты!
А когда вышел, то с облегчением вздохнул. Над самой пещерой вблизи и дальше на ветвях сидели огромные серые совы и филины. Глаза у них, как блюдца. Точно такие, какие видал Сергей в темноте. Он поднял с земли камень и запустил сердито в филина. Тот со стоном, плачем и хохотом взлетел и скрылся в чаще леса. За ним взлетели и другие его собратья; захлопали крыльями, загоготали, и, казалось, по лесу поскакал, ломая кусты, эскадрон всадников.
К полудню ребята возвращались домой, усталые, невыспавшиеся и измученные. Но настроение было отличное, теперь им все страхи были нипочем: тайну папоротника они не узнали, зато открыли в себе умение побеждать страх.
Бабушкины пенки
1
Бабушка Ольга не могла налюбоваться и нахвалиться мною. Всем говорила, что я у нее внук самый пригожий, умный, самый лучший на всем свете. А я знал, что это неправда. Я был такой же, как и все, даже хуже. Из соседнего двора Петька Рыбаков дальше и выше меня бросал камни. А Ванька, что через дорогу против нас живет, смастерил такого змея, что мне и во сне не снилось. И, кроме того, у него есть настоящий морской бинокль, а у меня нет, потому что мой отец крестьянин, а Ванькин — моряк бывший.
Я попросил бабушку, чтобы она больше меня не хвалила: стыдно перед мальчишками, потому что, по ее словам, я лучше их, а на деле получается наоборот. Бабушка ни за что со мной не соглашалась. Она любила меня с непонятной силой, словно на земле жил только я один. Она моей матери и то не особенно доверяла меня, а об отце, ее сыне, уж и говорить нечего. Едва я оказывался у отца на руках, как бабушка немедленно отбирала, меня, упрекая отца, что он не умеет обращаться с детьми. Во всей нашей большой семье всегда лучший кусочек был у бабушки для меня. Я привык к этому и стал думать, что мне положено все лучшее. Особенно были вкусны пенки настывшего в погребе топленого молока. Я ничего другого не хотел есть, привередничал. Дед и отец не раз пытались всыпать мне ремня, но на выручку приходила бабушка. И доставалось им, большим и сильным, да еще так, что они становились тише воды. Все, кроме меня, в доме боялись бабушки. На ней, как говорил дед, наш дом стоял.
И вот однажды к этому грозному и любимому мной человеку я тайно забрался в погреб. Уж чего там только не было: и варенья, и копченья, и грибы, и мед!.. Как оловянные солдатики, выстроившись, стояли горшки, кувшины и макитры с топленым и квашеным молоком. А пенки, румяно-золотистые, точно само солнце их запекло. В один, во второй кувшин запускаю я руку — и ну уплетать присмоленные огнем пенки! Вкус необыкновенный, с медом не сравнить — мед хуже. И только я разохотился, только стал облизывать с аппетитом пальцы, как вдруг сверху услышал приближающиеся к погребу шаги. Опрокидывая горшки, я прыгнул в угол, от страха залез под какую-то широкую доску и сижу ни жив ни мертв. Но бабушка прошла мимо погреба в огород.
Из погреба я не вышел, а вылетел. Огляделся и пустился со двора к Петьке в гости. Авось бабушка ничего не узнает. Вернулся домой не скоро. Вхожу в комнату, на всех исподлобья гляжу, притворился совсем больным. Бабушка с ремнем, разгоряченная и сердитая, гоняет по комнате нашего кота Борьку. Места не найдет себе Борька — везде достает его ремень: и на печке, и под кроватью, и под лавкой…
Увидев меня и мое кислое лицо, бабушка насторожилась:
— Что это с тобой, сынок? На тебе лица нет…
Я стоял, затаив дыхание. Бабушка с тревогой подошла ко мне, заглянула в глаза и притронулась ладонью ко лбу. Я растерялся, не знал, что отвечать.
— Голова болит, — наконец придумал я и тут же спросил: — А за что ты кота бьешь, бабушка?
— Как его не бить, паршивца?! Со свету сжить его мало! Все горшки мне перепортил. Ах ты, нечистая сила! — И бабушка опять бросилась за Борькой.
И я тут же забыл, что у меня должна болеть голова.
2
Бедному Борьке в доме не стало житья. Любивший ластиться, степенный и важный, как какой-нибудь заморский король, ручной наш кот одичал вконец. Лупцовку он получал чуть ли не каждый день и пропадал теперь больше на чердаке. Хмурый, с горящими, как у совы, глазами, на порог при бабушке он не показывал и носа. Он и мне исцарапал все руки, сделался как дикарь. Но аппетит к пенкам был у меня сильнее, чем страх перед Борькой. Едва только у бабушки было готово квашеное молоко, я, тут как тут, забирался в погреб. Налакомившись досыта, я со всех ног улепетывал из погреба.
Прошло лето. В доме никто не догадывался о моих проделках. Борька пропадал иногда куда-то на целую неделю, и я не знал, что бы еще придумать, как провести бабушку. Она при виде Борьки становилась чернее тучи, даже стала хвататься за сердце.
— Этот кот погубит меня. Не иначе как нечистая сила в нем сидит. Уж сколько луплю, а он знай свое, знай свое, паршивец! Терпенья моего больше нет, — жаловалась она деду. — Это лютый волк, а не кот. Завтра же в речке утоплю!
— На старости лет ты, мать, из ума выжила, — отвечал дед. — Такого мудрого кота, как наш Борька, на всей земле днем с огнем не сыщешь. Зря грех на душу берешь.
Бабушка сердилась. Дед пожимал плечами и молчал. Чтобы дальше не расстраивать бабушку, уходил.
А как-то мы остались на хозяйстве с бабушкой вдвоем. Все наши, кроме меня и бабушки, уехали убирать подсолнух. Бабушка хлопотала у печки. Улучив минутку, когда она была особенно занята, я побывал в погребе. Вскоре туда наведалась после меня за каким-то делом и бабушка. И вернулась белая как мел и испуганная. Слова не выговорит. Оперлась бабушка о спинку кровати, отдышалась, И тут же распорядилась, чтобы я тотчас ловил кота — «нечистую силу» — и утопил. Но теперь, после ее приказа, испугался я. Убивать Борьку? Как же это?.. Борька был наш старый и мудрый кот. Когда я был еще совсем маленьким и не умел разговаривать, он забирался ко мне в кровать, щекотал меня своими длинными усами, весело играл со мной. А потом, когда я спал, он укладывался тут же, свернувшись клубочком, оберегал мой сон, и грел мне бок своей мягкой теплой шубой.
Бабушка наклонилась под кровать и достала старый мешок и веревку:
— Неси сюда этого паршивца. Терпенья моего больше нет. Чего стоишь? Быстро! — почти крикнула на меня бабушка.
Ослушаться я не мог. Борька же на этот раз не давался в руки и не только царапался, а зубами рвал мне пальцы, будто он чуял надвигавшуюся на него беду. Я с трудом принес Борьку, и бабушка втиснула его в мешок, завязала. Сказала, чтобы я немедля шел к речке и утопил Борьку. Сердце мое щемило. Кот-то ни капельки не был виноват…
3
Тропинка бежала огородами меж высоких кустов конопли. Ноги мои отказывались идти вперед. За спиной у меня кот в мешке. Присмирел он, будто его в живых нет. До речки рукой подать; пахло водой, а вверху палило солнце. В голове у меня творилось чего-то такое, чему я никак не мог дать определения. Я знал, что мне жалко до слез Борьку, что он ни в чем не виноват и что я тот человек, кого надо утопить вместо Борьки. Но я боялся ослушаться бабушки.
В стороне, в двух шагах от тропинки, росла большая, как копна, плакучая ива. Ее серебристые узенькие листья, нанизанные на упругие тонкие прутья, как слезы, скатывались до земли. Я остановился и стал глядеть на иву. Но она равнодушна и безучастна ко мне. У нее какие-то свои грустные мысли. За ивой текла река. Я боялся ступить дальше. Боялся потому, что мог сделать что-то такое необдуманное, что потом уже нельзя будет исправить. Я заставлял себя подбежать к реке и, закрыв глаза, скорее, чтобы ни о чем не думать, бросить мешок с Борькой в воду. А этого делать было нельзя — я уже отчетливо знал. Когда я не был виноват и меня наказывали, мне во сто раз было обиднее и я очень страдал. И не оттого, что мне было больно физически, а из-за чужой несправедливости. Борька, мой любимый, большеглазый, с белым и чистым, как снег, носом и растопыренными усами, страдал сейчас от моей несправедливости. Я видел однажды, как Борька дрался с длиннохвостой крысой под амбаром. Глаза у Борьки горели, на спине шерсть поднялась бугром, как у ежа колючки. И весь он сжался. Потом вдруг взвился в воздух, пролетел из одного конца в другой и всей тяжестью навалился на крысу. Усы у Борьки задрожали, он сердито замурлыкал, захлебываясь. Но тут крыса, видно, укусила Борьку. Он со стоном отпрыгнул в сторону. Я подумал, что наш Борька трус. Но не успел я глазом повести, как он опять сцепился с крысой. Катался по земле какой-то один серый клубок. Поднялась пыль. Под амбаром не стало ничего видно. Шла какая-то возня, неслись визг, злое кошачье мурлыканье и хриплый писк. Я уже хотел бежать за бабушкой, звать её на помощь, как вдруг все утихло. Из-под амбара вышел наш Борька. В зубах за шею он волок крысу.
Борька выволок крысу на середину двора, брезгливо бросил ее, вытер свою морду о траву и, переваливаясь с боку на бок, важно направился прочь. Я хотел расцеловать Борьку за храбрость. Он же меня не удостоил даже взглядом. Мой отец всегда называл Борьку «важной птицей».
Теперь, стоя у плакучей ивы, я верил, что это правда. Я был трусливее и хуже Борьки: я не мог открыться и сказать, что я во всем виноват. И я заплакал. Не отдавая себе в том отчета, я быстро развязал мешок и вынул из него Борьку, прижал его изо всех сил к груди, И вдруг пустился бежать, но не к реке, а через огороды, прочь от реки, вдаль от села.
— Не приходи домой, Борька, родной, не надо! — кричал я ему сквозь слезы. — Не надо!
Я выбежал в степь. Белел один ковыль. Вокруг ни дерева, ни человека. За ближним холмом кончалась земля и начиналось синее небо. Я выпустил Борьку из рук, крикнул еще раз ему: «Не надо!» — и со всех ног пустился обратно. В мешок я положил камень и утопил его в реке.
Домой я вернулся молчаливым и, казалось, повзрослевшим. На вопросы бабушки ничего не отвечал, и она решила, что Борьку я утопил. Никто не станет теперь, кроме нее, хозяйничать в погребе. В этом бабушка была права. Никто! Но я на всю жизнь остался виноватым перед Борькой.
Кнут
Наш сосед Макар Добров был лихим наездником и пропащим, как говорила бабушка, человеком. Не любила она его и страшно сердилась, когда мой отец водил с ним дружбу.
— От Макара одни неприятности, — утверждала она. А мне Макар сильно нравился. С завистью я глядел на него, когда он верхом на вороном рысаке, поднимая пыль, проносился по улице нашего села. Все куры и утки с кудахтаньем шарахались в стороны.
— Угорелый, — ворчала бабушка. Моя мать поддакивала и тоже отзывалась о Макаре дурно.
Бабушка выговаривала отцу:
— Водишься с этаким человеком. Беды с ним наживешь!
Не знаю, как было у отца, а я нажил беду, одна только неприятность вышла от моего знакомства с Макаром.
Однажды встречает он меня на улице и спрашивает:
— Куда батьке уехал?
Я пожал плечами и ответил:
— Не знаю.
— Эх, ты, Незнайка Сидорович, — весело сказал он и небольно дернул меня за вихор. — Хочешь, пойдем ко мне, медом угощу?
Я оглянулся, не видит ли бабушка, и согласился.
Жил Макар через три дома от нас, на одной улице. Когда мы к нему пришли, он достал из погреба миску душистого меду в сотах и кувшин холодного квасу. Сам пил квас, а меня угощал медом. Пил и подмаргивал и вдруг спросил:
— Ты лошадей любишь?
— О, еще как! — сказал я, захлебываясь. — И еще очень люблю, когда вы, дядя Макар, верхом по улице летите.
— То-то, — причмокнул он губами.
В сенцах у Макара висели на стене верховые кожаные седла, новенькие и хрустящие. Стремена, как золотые, горят. Глаза у меня разбежались, когда я увидел все это.
— Зачем вам так много седел, дядя Макар? — спросил я.
— Вот вырастешь, обязательно подарю тебе одно, — ответил он.
И я очень захотел скорее стать большим. В тайне от бабушки повелась у меня с Макаром дружба. Полюбил я его. Смелый и сильный был он человек. Еще в детстве, мальчишкой, Макар у самого Чапаева в дивизии воевал. А теперь он жокей, всегда первые места на скачках берет. Каких только лошадей у Макара не перебывало! Он даже посадил меня верхом на скакуна, а потом разрешил проехать по двору и улице.
Но однажды, я и сам не думал, что все так получится, понравился мне Макаров кнут. Был это не простой, а особой работы кнут. Кнутовище из вишни, искусно оплетенное по концам тоненьким ремешком. И сам кнут сплетен всемеро из необыкновенной желтой сыромятины; взмахнешь им — и он воздух свистом режет. Очень красивый был кнут! Во сне даже мне снился. И я во что бы то ни стало решил завладеть кнутом, не мог больше жить без него. И как-то вечером (дяди Макара не оказалось поблизости) я сунул кнут себе под подол рубашки, бегом пустился домой через огороды и упрятал кнут далеко в овине.
Неделю никуда не показывался я из дому. Больше смерти боялся встретить Макара. Но однажды он пришел к нам, поговорил с отцом, увидел меня и ничего не сказал.
— И что только ты в этом Макаре нашел? — упрекнула бабушка отца, едва Макар скрылся за воротами.
— Значит, нашел, раз он мне нравится, — возразил отец.
Бабушка, точно порох, вспыхнула:
— От этого Макара одни неприятности! Люди добрые в поле работают, а он — знай свое — скачки устраивает. И тебя, поди, сманивает.
Отец промолчал. А я для себя решил, что дядя Макар совсем не заметил, что у него кнут пропал. И бояться мне нечего.
Вынул я кнут из потайного места и стал с ним играть во дворе. Взмахну им изо всех сил — он разбойником на всю улицу свистит. Чуть тише воздух рассеку — соловьем поет. Кнутовище в руках в колесо гнется. Необыкновенный был кнут!
И вдруг — гляжу, отец стоит передо мной:
— Ты где взял это? — спрашивает.
У меня язык отнялся. Почуял я, что отец узнал Макаров кнут. Затрясся я от страха, убежать хотел, да отец меня за руку схватил.
— Откуда у тебя этот кнут? — сердито повторил он.
Я молчал, насупился. И отец все понял. Выхватил он этот самый кнут из моих рук и стеганул меня. Спину точно огонь прошил.
Я заорал как резаный.
Подбежала бабушка. Загородила меня. Отец и на нее прикрикнул, все ей рассказал и в сердцах закончил, что нечего меня щадить. И первый раз бабушка не стала защищать меня. Лишь сердито сказала: — Это все от Макара неприятности.
Часы
Отец мой раздобрился и подарил мне старые карманные часы. И меня точно подменили, важный такой стал, сам себя не узнавал, даже мать больше слушался. Но главное было не в этом: я вдруг узнал, что такое время. Все я стал делать по часам. Каждая минута была рассчитана и распределена. Соскакивал я утром с кровати ровно в восемь; пятнадцать минут делал зарядку, десять умывался, двадцать минут завтракал. Выработался у меня точный распорядок дня. И я настолько привык к нему, что удивлялся, как жил раньше без часов.
Ребята, которые со мной дружили, тоже по моим часам жить стали. У нас эти дни только и было дела, что часы. Пройдет минута, как уже кто-нибудь спрашивает: «Ну-ка, погляди, сколько там времени?» Я даже заметил, что после того, как у меня появились часы, мальчишки нашего села стали лучше ко мне относиться. Одна только сестренка не могла понять, как мне было важно и необходимо иметь часы. Она дразнила меня «задавакой». Но я не обращал на нее внимания.
В часах было скрыто для меня таинственное и удивительное, какой-то совсем незнакомый мне мир. Тоненьким звоном билось их крохотное сердце. И сколько я ни ломал голову, не мог понять, почему идут часы. Какая сила заставляет их жить и показывать время людям? Я живу потому, думал я, что хочу жить. Все, что я ни делаю — играю ли, ем, работаю, — все потому, что я хочу, есть у меня желание. А часы? Почему живут часы? Они тоже умеют хотеть?
Часы я разглядывал со всех сторон. Не одну ночь лежал с открытыми глазами и все думал, думал. Хотелось открыть железные крышки и заглянуть туда, где царила тайна. Даже дух захватывало. И однажды я не утерпел и решился — открыл крышки. В глаза точно яркий огонь ударил. Медные колесики, цепляясь друг за друга и подгоняй друг друга, жили своей жизнью и, казалось, чему-то радовались. Одно колесико особенно было живым. Вертелось оно взад-вперед с такой быстротой, что едва можно было успеть рассмотреть его. Я подумал, что это и есть часовое сердце. Живое, маленькое и хрупкое. Стоит ему остановиться — и часы умрут. Я скорее захлопнул крышки.
Приложил часы к уху — идут!
Но в груди после этого стало неспокойно. И я уже не мог остановиться, чтобы не заглянуть дальше, не узнать до конца, отчего живут часы. Какая скрытая и непонятная сила заключена в них? Опять и опять я прикладывал часы к уху. Тонкий, точно комариный, звон их щекотал слух. Но, чтобы постигнуть тайну часов, чтобы узнать, что к чему, надо было часы все-таки разобрать.
Несколько дней кряду всюду преследовало меня одно и то же слово: «разобрать», «разобрать», «разобрать».
И я решился.
Как-то в полдень я вернулся с реки домой. Сестра над чем-то хлопотала во дворе, мать и отец уехали на молотьбу. Был самый подходящий момент, никто не мог мне помешать. Забравшись в заднюю комнату, поближе к окну, я расстелил платок. Приготовил маленькую отвертку, раскрыл перочиный нож. Отец должен был вернуться к вечеру. Часы показывали ровно двенадцать. Времени было достаточно, чтобы успеть сделать все.
Даже сам того не заметил, как снял я крышки. Отвинтил стрелки, поддел ножом и отделил циферблат. Надавил пальцем и вынул из футляра механизм.
Оголенный, будто выпавший из гнезда птенец, лежал он на моей ладони. Билось маленькое сердце. Смотрел я на него и думал: вот, оказывается, оно какое! Колесико и пружинка на его оси из проволоки тоньше волоса. Торопится, спешит… Рядом множество других колесиков, одни стоят неподвижно, другие — передвигаются едва заметно, а третьи — совсем кажутся мертвыми.
Непонятная жизнь открылась мне. Часы тикали, и мне казалось, что звонят колокола. Я забыл все на свете, забыл, что рядом, за дверью, есть сестра, забыл, что могут вернуться отец и мать. Я видел только часы. И хотел узнать о них еще больше. Руки дрожали. Как в лихорадке, дрожал весь я. И вдруг — повернул какой-то винтик, что-то хрупнуло, и часы стали. Колесико-сердце безжизненно повалилось набок, умерло. Стало глухо, как на кладбище.
Я испугался, но верил, что смогу вернуть часам жизнь. Снимая и откручивая каждый винтик и каждое колесико, я пристально рассматривал и клал в отдельности, чтобы не спутать их. Лишь минуту назад было от меня все скрыто. Теперь я всему хозяин: трогал своими пальцами то, что заставляло часы жить — колеса, пружины и стрелки. Очень все было интересно и необыкновенно. И как это можно было сделать такое множество крохотных колес? Какой нужен маленький напильник и молоток, думал я, чтобы все это выпилить и выковать?
И тут оглянуться не успел — в сенях послышался голос отца.
У меня даже в груди что-то закололо. Сгреб я в одну кучу и колесики, и стрелки, и крышки, и футляр — и все это скорее, чтобы не увидел отец, завязал в платок и сунул под матрац. Сам же через окно выпрыгнул в палисадник и дал деру подальше от дома. А за ужином глаз ни на кого не поднимал, ждал — спросит отец о часах. Но обошлось. Отец устал, и ему было не до меня.
На следующий день с самого раннего утра я спрятался в сарай. Начал собирать часы. Провозился я без обеда до позднего вечера. И тут вдруг я понял, что забыл, что к чему, какое колесо откуда и какой винтик куда закручивать. У меня почему-то оказались два колесика и один винтик лишними. И как ни старался, но места им я так и не смог найти. Только спустя еще один день я во всем разобрался. Дело пошло на лад. Но на беду в сарай вбежала сестра.
— Ты что здесь делаешь? — спросила она.
— Убирайся отсюда! — пригрозил я.
— Ты чего дерешься? Ма-а-а-ма! — стала она звать мать.
Я смахнул не до конца собранные часы к себе в карман и выпроводил легонько сестру из сарая. Но когда опять занялся часами, то теперь мне уже не хватало двух колесиков. Чуть не плакал от досады. На животе я излазил весь сарай, надеясь найти утерянные колесики, но все было напрасно. Часы мои умерли навсегда.
Отец обозвал меня глупцом и выпорол. Сестра, прыгая на одной ноге, радовалась:
— Ага, вот теперь не будешь задаваться.
Но не насмешки сестры и не трепка отца оказались страшными. Страшно было другое — с тех пор как я убил жизнь в часах, я разучился ценить время: вставал в полдень, опаздывал к ребятам, опаздывал на обед — все у меня пошло кувырком.
Мужчиной стать нелегко
Я совсем стал считать себя мужчиной. Отец и мать доверяли мне хозяйство. Часто с сестрой я один оставался дома. Особенно летом, когда родители с утра до ночи были заняты на полевых работах. У нас всегда все было хорошо. Сестра больше возилась с куклами, пеленала и укладывала их спать, а я занимался делом: строгал, пилил. Сегодня же и сестре вдруг тоже захотелось строгать и пилить.
— Я делаю скворечник, — сказал я. — Не мешай!
— Я тоже хочу делать скворечник, — сказала она.
— У тебя есть куклы и занимайся ими. Скворечник — это мальчишеское дело.
— А я тоже хочу быть мальчишкой.
Я понял — от сестры не отвязаться и пригрозил ей, что отколочу, если не уйдет и не перестанет путаться у меня под руками. Но и это не помогло. Тогда я рассердился, шлепнул ее и выпроводил из сарая. Сестра разревелась на всю улицу. Лицо ее раскраснелось, слезы, как горошины, катились одна за другой по щекам. Маленькая и беззащитная стояла сестра, прижимала к себе куклу, всхлипывая и вздрагивая. Плакала она сильно еще и потому, что я не обращал на ее плач никакого внимания.
— Я больше не буду, — сказал я немного погодя.
Мне стало жалко сестру. Я вытер ей слезы.
— Ну, давай помиримся. Хочешь, ты будешь делать скворечник, а я тебе буду помогать?
— Хо-о-чу-у.
И мы помирились. Сестра долго еще прерывисто всхлипывала. Но потом успокоилась. Мы смастерили скворечник. Затем, взявшись за руки, бегали по двору, играли. Сестра смеялась и визжала. От ее смеха и у меня стало легко и весело на душе. А когда на соломе у овина я стал кувыркаться и показывать ей, как надо стоять на руках, она хлопала в ладоши и кричала:
— Еще, еще!
Мы были друзьями. В радости сестренка не была уже такой одинокой и беззащитной, как утром, когда я ее обидел. У нее было много всего: и смеха, и визга, и крика, и был я для нее, и были мои игры с нею, и даже моя защита. И все это обступало ее со всех сторон, заставляло ее верить, что и она, как я, мальчишка, тоже сильная. Она радовалась, и радовался я вместе с нею. Лучше, когда сестренка веселая, подумал я и решил, что обижать девчонок — значит самому себе делать больно.
Вечером мы мирно ужинали за столом. Отец рассказывал, что видел много зайцев в степи, даже обещал сестре в следующий раз поймать и привезти зайчонка. А меня отец обещал зимой брать на охоту.
— Ты у меня уже совсем мужчина! — сказал он.
— Папа, а ружье ты мне дашь? — спросил я.
— Конечно. Какая же охота без ружья?
Сестра вдруг отложила ложку и заревела на всю комнату.
Отец и мать в испуге бросились к ней. По щекам у нее ручьями катились слезы. От слез она вот-вот зайдется.
— Что с тобой, маленькая?
— Оля, Оля. — звал отец.
Мать подхватила сестру на руки. Я тоже ничего не понимал.
— А-а-а-а-а… — голосила она. — Меня утром Петька би-и-и-ил.
Все мы — отец, мать и я — замерли. У меня даже голос пропал. Мать готова была рассмеяться. Но отец побелел. Не раз он мне приказывал не обижать сестру.
— Ты это что, опять?!
Сестра перестала плакать, прислушиваясь. Я не любил ее, рассердился и был готов обозвать ее самыми дурными словами. Но отец вдруг сказал:
— Девочку нельзя ударить даже цветком. Какой же ты после этого мужчина! Видимость одна.
Мне стало грустно. «Видимость одна…» Оля глядела на меня исподлобья. Но я уже не сердился на нее: она задала мне очень полезный урок.
Волшебное кольцо
Много сказок рассказывала мне бабушка. Я знал про все волшебства, не раз мечтал завладеть диковинным ковром-самолетом, могучим всевидящим оком или старой волшебной лампой.
Но сегодня случилось такое, чего никак нельзя было ждать. Ко мне пришла бабушка. Пришла, когда я спал. Я удивился: бабушка моя давно умерла. Откуда она могла взяться, когда ее давно уже нет в живых? Но это была она, моя настоящая бабушка.
— Откуда ты взялась? — обрадовавшись, закричал я.
Бабушка ласково потрепала мои волосы, прижала голову к груди, как это она делала всегда, и сказала, что я вырос, меня не узнать; она соскучилась по мне.
— Где ты так долго пропадала? — не унимался я.
Бабушка шершавой ладонью погладила мою щеку, сощурила в улыбке свои синие глаза.
— Я тебе гостинец принесла. Вот, — и бабушка положила передо мной маленькую шкатулку, обтянутую красной кожей.
Я бросился к подарку. Но бабушка остановила меня, усадила на место.
— Погоди, сынок. Этот коробок откроешь, когда я уйду, — сказала она. — В нем лежит волшебное кольцо. Оно исполнит любое твое желание. Но ты помни, если задашь кольцу задачу правильно, то будет оно тебе служить потом всю жизнь. А ежели ошибешься, то пеняй тогда на себя: значит, еще не вырос, видно, мудрости еще мало в тебе.
Сказала бабушка и точно в воздухе растаяла. Как пришла неожиданно, так и скрылась куда-то. Я даже слова не успел промолвить. Сидел с раскрытым ртом и хлопал глазами. Ничего не понимал.
За стенкой скреблась мышь. Было тихо и темно. И вдруг увидел я в темноте шкатулку. Бросился к ней и едва открыл ее, как из-под крышки выпорхнули тысячи ярких огней. Оранжевых, синих, красных, белых, желтых, зеленых. Искрились они и играли радугой. И так ярко, что глазам больно. В комнате красиво стало и светло, как солнечным днем. На полу, как на ладони, все до маленькой соринки видно. Из-под кровати выглядывают мои расшнурованные ботинки и смеются. А на стенах — картины, точно самим солнцем нарисованные. Комната стала красоты необыкновенной.
И только тут я разглядел, что из шкатулки струился свет, его излучало золотое круглое колечко.
Вынул я его и положил себе на ладонь. Как живой уголек, светилось оно. Во все стороны от него, как мотыльки, летели золотые искры. Надел я колечко на палец, и рука моя засияла. Взмахнул ею, и точно факел в ночи огни разноцветные плещет. Взмахнул еще раз, и цветы рассыпались вокруг: маки красные, ромашки белые, васильки голубые.
— Что тебе, мальчик, от меня надо? — вдруг услышал я тоненький голосок и догадался — это колечко со мною разговаривает. Вспомнил я бабушкины слова и запнулся: не знал, что сразу спросить у кольца.
Думал я, гадал.
— Что ты хочешь от меня, мальчик? — опять спросило колечко.
Я хотел сказать, чтобы колечко осталось со мной навсегда. Больше мне ничего не надо. Буду я ходить везде с ним и людям красоту по земле сеять. Но тут же перерешил: а как же я? Людям красота, а мне что?.. Кольцо может исполнить все, что я захочу. Так бабушка говорила. И сказал:
— Кольцо, кольцо, достань мне ковер-самолет, чтоб мог я летать на нем куда захочу, всевидящее око, чтоб мог я знать и видеть все, что делается рядом со мной и далеко от меня, и волшебную лампу, чтоб я мог любое желание ей заказывать.
И не успел сказать все это, как ветер поднялся в комнате. Распахнулось окно, занавески расплескались, и со свистом и звоном с улицы к моим ногам влетел расписной, красивый, как мак, ковер-самолет. Откуда-то с потолка прямо в руки упало большое синее око; оглянулся, а на столе стоит жестяная старая волшебная лампа.
И только все это оказалось передо мной, как в комнате стало темнеть.
Гляжу на кольцо, а оно меркнет, свет от него совсем слабый идет.
— Колечко, колечко, что с тобой? — кричу я. И, увидев волшебную лампу, приказал ей:
— Лампа, зажгись! Помоги колечку светить!
И зажглась лампа. И опять в комнате посветлело.
Схватил я скорее ковер-самолет, око всевидящее, лампу волшебную и полез под кровать все это прятать в свой ящик с игрушками, подальше в угол.
Сердце мое колотилось от радости. Теперь я самый сильный человек на земле. Правильную задачу я задал кольцу. У меня — ковер, око, лампа. Захочу — из одного конца земли в другой за минуту перелечу, появится охота — посмотрю в стеклянное око и увижу, что делается в небе, на дне моря, во всех концах земли. А лампа волшебная любое мое желание выполнит.
Ждал я и не мог дождаться утра. А когда проснулся, то в окно уже светило яркое солнце. Протер я глаза, скорей вскочил на ноги и под кровать юркнул. Вытащил ящик, вытряхнул из него все свои старые запыленные игрушки и чуть не заплакал — в ящике не было ни ковра-самолета, ни всевидящего могучего ока, ни волшебной лампы.
Огляделся по сторонам. Ничего вокруг не было. Стояли лишь мои расшнурованные, нечищеные ботинки с задранными носами и, казалось, во весь рот смеялись, даже языки свои черные высунули.
В комнату вошел отец. Увидев, что я чем-то расстроен, он спросил:
— Что это ты с утра нос повесил?
Я все рассказал отцу.
— Пожадничал, — покачал он головой. — Все для себя захотел.
Сказал и ушел. А я стоял, скреб себе затылок и ничего не понимал. Одному только верил, что я и в самом деле ещё не дорос, чтобы кольцом волшебным владеть.
Неразменный рубль (Сказка и быль)
Однажды бабушка рассказала Пете сказку о том, как в стародавние времена мужик неразменный рубль получил.
— Жил-был бедный-пребедный мужик, — начала бабушка, поудобнее усаживаясь, у печки. — Детей у него было много, а кормить их нечем. Отнял у него барин за долги последнюю коровенку, и остался мужик гол, как сокол. С одним только котом на хозяйстве. Сидит мужик и думу думает: как дальше концы с концами сводить? Дети плачут, жена плачет, а выхода из беды нет. Вот и решил мужик продать кота. Слыхал он, что кто-то продал кота бесу и взял за него неразменный рубль. А неразменным тот рубль потому называется, что сколько ни покупай ты на него товару, сколько раз ни отдавай продавцу, все он неведомо как опять к тебе в карман вернется. И снова ты можешь купить на него все, что душе твоей угодно. И так без конца.
Думал, думал мужик и решил и себе попытать счастья. Посадил он в мешок кота своего черного и в глухую полночь пошел на перекресток дорог, за деревню: искать покупателя — беса. Бес-то, он только в полночь, мол, орудует…
Выходит это мужик за деревню. Ночь темная-темная. Вокруг ни души. И тихо-претихо. А в мешке за спиной кот бьется. Страшно стало мужику, хотел уже он домой вернуться, ан глядь: на перекрестке человек словно из-под земли вырос. Стоит мужик ни жив ни мертв.
«Куда, мужик, идешь?» — спрашивает человек.
«Кота иду продавать», — отвечает мужик и вдруг видит: у человека на лбу рожки торчат, небольшие такие, в палец.
Понял тогда мужик, что сам бес перед ним стоит. Душа в пятки ушла, а деваться-то некуда: назвался груздем — полезай в кузов. И решил мужик: была не была, держаться смелее.
«Сколько просишь за товар свой?» — спрашивает бес.
«Неразменный рубль прошу», — отвечает мужик.
Стал бес торговаться: жалко ему неразменный рубль дать. Но мужик на своем стоит. Что тут бесу делать? И задумал он мужика перехитрить. И котом завладеть, и неразменный рубль при себе оставить.
«Ну что ж, — говорит он, — вижу, хороший ты человек. На тебе за твоего кота больше, чем ты просишь, — целых сто рублей, и торгу конец. Ну, по рукам?»
Мужик переступил с ноги на ногу, почесал затылок.
Бес обрадовался. «Сейчас, — думает, — возьмет этот простофиля сто рублей вместо неразменного рубля, придет домой, а в кармане порожнехонько».
«Ну! — торопит он мужика. — Бери, пока даю».
Но мужик тоже был хитер, не зря столько лет горе мыкал. Учуял он: недоброе затеял бес, обмануть хочет. Неспроста такой щедрый. Нет уж, пусть будет мало, зато верно. И говорит бесу:
«Не надо мне твоей сотни. Ты мне рубль неразменный подавай! На том и порешим!»
У беса от злобы даже лицо перекосилось. И опять они торговаться стали. По рукам не раз ударяли. Дает бес мужику за кота уже полтораста рублей. Но мужик все не соглашается. Знает, бес обязательно должен купить кота. Так уж у них, бесов, водится, привяжется к чему — ни за что не отстанет.
«Экой ты, мужик, упрямый! Одно заладил: неразменный рубль да неразменный рубль… Хорошо ведь тебе даю!..»
«Зачем мне, человек добрый, — отвечает, хитро улыбаясь, мужик, — твои сотни? Я не жадный — одного неразменного рубля с меня хватит».
Видит бес: не идет дело. Согласился.
«Что ж, — говорит, — возьми свой целковый! Давай кота!»
Взял бес кота и растаял в ночной тьме, словно в воду канул. А мужик с неразменным рублем домой воротился. И стал после этого жить-поживать, добра наживать. Детей своих приодел, обул, с барином рассчитался, домишко новый построил, лошаденку купил…
Петя слушал, слушал бабушку и вдруг не утерпел:
— Бабушка, а это взаправду так было?
— Кто его знает, сынок. Мне бабка моя когда-то сказывала. Вот и я тебе говорю.
Задумался Петя. Затылок почесал. Вот бы и ему такой рубль!.. Накупил бы он всего: и игрушек разных, и книжек с картинками. Всех ребят угостил бы конфетами и мороженым. А главное — похвалиться перед мальчишками можно было бы. Ох, и завидовали бы ему! У Пети даже дух захватило. Представил он себе удивленные лица ребят. В ушах их голоса зазвенели: «Ну-ка, покажи! Где ты достал? Ай да Петька!..» А Сашка-чижик, тот даже самолет свой алюминиевый отдаст, только бы посмотреть на диковинный рубль.
Неделю ходил Петя сам не свой. Думал, гадал, как бы и ему достать рубль неразменный. Мало ли какие чудеса на свете бывают! Глядишь, и выйдет что-нибудь. Правда, идти ночью одному за деревню — жуть берет. При одной только мысли, что придется с бесом торг вести, сердце в пятки уходит. Но зато будет у него рубль! Неразменный рубль!
И Петя решился.
Взял он бабушкину кошелку, с которой она по грибы ходила, посадил в нее Ваську. Жалко было с котом расставаться, ну да что поделаешь — надо! Когда совсем стемнело, отправился Петя с котом за деревню.
А темно в тот вечер было! Хоть глаз выколи, ничего не видно. Небо заволокли тучи. Тихо. Петино сердце колотится от страха, вот-вот из груди выскочит. Но Петя, несмотря ни на что, идет. И вдруг, откуда ни возьмись, перед ним… человек. Как из-под земли вырос. Петя даже назад подался. Хочет крикнуть — голоса нет. Хочет бежать — ноги будто к земле прилипли. Ну точь-в-точь, как бабушка рассказывала.
— Куда это ты, на ночь глядя, собрался? — слышит Петя.
— Кота иду продавать. Давай неразменный рубль, ни больше, ни меньше не возьму, заикаясь, сказал торопливо Петя.
— Чего? Какого кота?
— Черного. Ни больше, ни меньше не возьму…
Смех, громкий смех оглушил мальчика. Вконец перепугался Петя. А человек, здоровенный такой, высокий — до неба, близко-близко стоит, рукой за плечо схватить хочет. Петя даже присел, снизу вверх взглянул и… узнал в великане своего соседа, дядю Мишу, охотника. Ахнул и, то ли от стыда, то ли от досады, чуть не заплакал. И не знал, куда деваться.
— Это я так… Вы, дядя Миша, никому не говорите… — лишь мог сказать Петя.
Домой он возвращался молча. На дядю Мишу старался не смотреть. Про себя злился на бабушку. Как она подвела его! А дядя Миша все смеялся, «ночным купцом» Петю называл.
— Эх ты, мужчина! Поверил в бабушкины россказни. Неразменный рубль соблазнил тебя! А еще на охоту со мной просился! Эх ты, чудило!
Дома дядя Миша рассказывал:
— Возвращаюсь я с охоты, глядь — мальчонка. Куда это он, думаю, в такую темень плетется? Уж не заблудился ли? Пригляделся — Петя! Куда, что, зачем? — спрашиваю. А он знай одно заладил: кота мне продает, неразменный рубль требует.
Отец, мать и бабушка смеялись. А Пете было не до смеха. Сидел он на стуле, голову опустил. И ждал, не мог дождаться, когда отец с матерью уйдут в горницу, а дядя Миша — к себе домой и он останется только с бабушкой.
— Подвела ты меня сильно, бабушка! — сказал наконец Петя, когда все ушли.
— Эге, внучек! Не все, что в сказке сказывается, на самом деле бывает, — сказала бабушка. — А потом мужик-то, он хитрый был человек, из нужды пошел к бесу. Бес ему и сотни предлагал, не польстился, а ты?.. Вот тут-то и надо подумать. А только есть он, этот неразменный рубль! И вправду есть. Вон отец-то твой добился его. Сумел-таки.
Петя на стуле заерзал, недоверчиво покосился на бабушку:
— Папа? Ну да!..
— Твой отец тоже немало горя помыкал на своем веку. А все же вышел в люди. Теперь неразменный рубль у него в кармане постоянно лежит. Потому и живем мы так добро. — Бабушка обвела рукой комнату. — Тебе чего не хватает? Есть тебе нечего?.. И книжки у тебя, и игрушек хоть отбавляй… И одет, поди как… А все потому, что отец твой в почете ходит. Кузней! Руки у него золотые, все они выковать могут: и рубли, и славу, и почет. Вот тебе, Петя, думается мне, не видать неразменного рубля. Третьего дня просила: «Пойдем, миленький, на огород помидоры поливать». Так ты пятками засветил, убежал, не захотел бабке помочь. И вчера сбегать в магазин охоты не было.
Петя шмыгнул носом: опять наставления читает!
— А неразменный рубль — вот он! — сказала бабушка и почти к самому лицу Пети поднесла свои раскрытые руки.
Петя вытаращил глаза, но так ничего и не увидел. Бабушкины ладони — шершавые, мозолистые, и никакого рубля на них не было.
— Опять смеешься? Да? Думаешь, я дурак. Да? Нет тут никаких рублей.
— А ты погляди получше. Во все глаза смотри, сынок!
И вдруг Петя понял: у бабушки, как у его отца, умелые руки. Им все под силу сделать. И Петя прижал бабушкину ладонь к своей щеке.
Бабушка ласково и понятливо улыбнулась.
В раскрытые окна из сада изредка влетал едва уловимый шелест листьев. Ночь давно уже заволокла тьмою палисадник, выкатилась на небо луна. Все спало. Не спали только Петя с бабушкой, да кот у печки старательно вылизывал тарелку.
Как Емеля чуть боярином не стал (Сказка и быль)
Как-то бабушка стала рассказывать Пете сказку:
— Было это дело в давности глубокой. Отправился мужик искать свою долю. Авось судьба улыбнется и найдет он счастье. Идет мужик, думу думает. Больную жену, кучу детей голодных и холодных оставил он дома. Ждут они его возвращения с гостинцами не дождутся.
Ходил, колесил по свету мужик. Где только не побывал, а счастья так и не нашел. Бежит оно, бедного человека стороной обходит. Мужик и на работу нанимался, землю копал, лес корчевал, за скотом смотрел, а когда дело клонилось к расчету, то выходило, что сам еще боярину за пищу-еду должником оставался.
Долго пробыл мужик на чужбине. И пробил его час домой собираться. Сложил мужик скудные пожитки, перекинул через плечо переметные сумы и тронулся в обратный путь. На душе у мужика муторно и горько, как от полыни, знает: ждут дома хлеба, а он как ушел ни с чем, так и возвращается с пустыми руками. Идет по пыльной дороге, голову понурил. Спину солнце греет, птицы в небе звенят. Кругом весело, природа радуется, а у мужика по щекам слезы текут. И вдруг смотрит мужик и глазам не верит, слезы вытер. Опять глядит: у самой дороги, под кустом, калачом свернувшись, большой серый заяц спит.
Мужик от радости задрожал, крадется ближе к кусту. Заяц спит — не шевельнется.
«Вот не было ни гроша, да вдруг алтын! — потирает руки мужик. — В один миг жизнь по-другому пойдет. Поймаю зайца, шкуру сыму. Мясо детям отнесу, сытыми будут, а шкуру на базаре продам».
Слюну сладкую глотает мужик, размечтался, богатеть решил не на шутку. Долго его счастье стороной обходило, а тут вот оно, у ног жар-птицей лежит.
«Продам заячью шкуру, — говорит он про себя, — выторгую целый рубль! По базару с рублем похожу, потолкаюсь и куплю поросенка. Вернусь домой, выращу из него большую свинью. Свинья поросят дюжину принесет, половину их — на мясо, а часть опять-таки на базаре продам. И опять деньги. И уже не копейки — рубли. На них уж непременно телку куплю. И из телки, оглянуться не успеешь, как корова вырастет. Молоко и масло в доме появятся, свои телята от коровы пойдут. Заживу припеваючи».
Одурел мужик от жадности, уже затылок от удовольствия скребет. На душе посветлело. А заяц спит себе непробудным сном и не подозревает, что смерть у него на пороге стоит, уже в дверь стучится.
«Эх, палки-метелки, — продолжает рассуждать неугомонный мужик, глядя на зайца, — появятся телята от коровы, и их туда же, на базар! И опять выручка. И опять серебро золотым звоном в кармане зазвенит. На деньги, вырученные за телят, куплю, себе кобылу. Принесет она мне жеребенка, а там, гляди, и второго.
Выращу их, большими станут. Вот тебе и пара лошадей; землю стану обрабатывать, батраков себе найму — пусть урожай растят, пусть голь рваная на меня работает. А там продам рожь и пшеницу — мешок червонцев выручу. Вот тут и поглядим, каков Емеля-бедняк! Вся округа об Емеле услышит. Дом новый, как терем Рогоз-царя, выстрою. Детей в парчу и шелка одену, в сафьяновую обувь обую. Жену, как королеву, выряжу. Карету на рессорах куплю и буду разъезжать королем-боярином».
До того разошелся мужик, что пот на лбу выступил, улыбку со своего лица согнал, важным стал, приосанился. И вдруг страх обуял мужика.
«А что, — думает он, — если ко мне голь рваная, батраки разные и соседи там по знакомству станут за хлебом-солью и другой помощью обращаться, в долг будут просить? — Морщина залегла между бровей у мужика, хмурым стал. — Нет, не позволю! Не дам! А если они все равно придут, то тогда не удержать меня; выйду на крыльцо своего дома-терема, расставлю широко ноги, обведу взглядом голь рваную».
— Вон отсюда! Проваливай! — заорал мужик вслух как оглашенный.
Заяц услышал крик, встрепенулся и что есть мочи махнул из-под куста в степь. Мужик ахнул, развел руками и заплакал. Совсем было мог важным боярином стать.
Петя не прерывал рассказ бабушки. А когда она кончила, тоже долго молчал, хитро поглядывая на нее. Знал Петя, что бабушка всегда с умыслом сказки рассказывает. Петю так и подмывало осудить мужика, И наконец Петя не утерпел, сказал:
— Чудак мужик!
— Это почему же — чудак? — спросила бабушка.
— Я бы так не поступил, — ответил Петя. — Я бы вначале зайца поймал, пока он спал, а потом сделал все так, как мужик мечтал. Эх, попался бы мне заяц! — воскликнул Петя и потер от удовольствия руки. — Я бы уж тут все сделал…
Бабушка вздохнула, сожалеюще покачала головой. Грустно и стыдно ей стало за внука, и она про себя решила больше никогда не рассказывать ему сказок.
На рыбалке
Летом Николай Андреевич уехал в отпуск в деревню. С собой взял пятилетнего сына Юру. Остановились они у бабушки. Николай Андреевич — большой охотник ловить рыбу — каждый день рано утром уходил на реку. Юра, оставаясь дома, слонялся из угла в угол, скучал.
Однажды он стал проситься тоже на рыбалку.
— Подрастешь — тогда, — ответил отец. — Ты же непоседа, шуметь будешь. А рыба, она, брат, тишину любит. Сиди лучше дома.
— Возьми, ну возьми, папа! Что тебе, жалко?! Я уже большой, — канючил Юра.
Николай Андреевич улыбнулся:
— Ну, раз большой, собирайся!..
Юра запрыгал от радости. А через минуту он уже помогал отцу нести в маленьком ведерке червей.
Пришли они на реку, под тенистым деревом разложили удочки. День был безветренный. В реку, как в зеркало, гляделись прибрежные кусты, обрывистый берег. Николай Андреевич забросил удочки, и на воде торчмя встали красные и синие поплавки. Юра присел рядом с отцом. И не успел оглянуться, как отец вскинул удилище и в воздухе затрепыхался большой красноперый окунь.
— Ура! — закричал Юра.
Отец недовольно покосился на сына.
— Папа, дай удочку, и я хочу поймать!
— Посиди-ка лучше спокойно. Не шуми!
Но Юра не унимался:
— Папа, ну дай, пожалуйста. Я один разочек.
— Эх, ты, рыболов! Обещал не шуметь. На, держи-ка! — Отец заправил Юре удочку.
Обеими руками ухватился Юра за удилище и стал во все глаза смотреть на поплавок. Вскоре поплавок, подпрыгнув как на пружине, потонул.
— Тяни! — шепнул отец.
Юра, опрокидываясь всем телом назад, дернул. На леске блеснула серебром большая, тонкая, как нож, плотва. Юра отбросил удилище, навалился животом на плотву и закричал что было мочи:
— Моя-а-а! Поймал! Поймал!
— Тише! Рыбу распугаешь, — прицыкнул Николай Андреевич и, насадив на крючок червяка, опять забросил Юрину удочку.
Но Юре уже было не до ловли.
— Папа, — попросил он, — можно я возьму свою рыбку и пойду покажу бабушке?
— Валяй!
Схватив улов, Юра пустился к деревне.
Еще во дворе, взбегая на ступеньки крыльца, Юра закричал:
— Смотри, бабушка, смотри! Я сам поймал! Сам!
Бабушка похвалила:
— Молодец, сынок.
Ночью Юра не мог уснуть. Чуть заснет — целые косяки рыб в глаза лезут. Нет от них отбоя. Сновали красноперые окуни, золотые сазаны, кружили вокруг серые щуки, удирали во все стороны серебристые караси. Юра просыпался мокрый от пота и думал: «Вот бы наловить столько рыбы, чтоб всех удивить…» Тогда-то и решил он украдкой отправиться на реку.
Поднялся он рано, оделся и шмыгнул в сени. Отца уже не было дома. Прячась от бабушки, Юра взял запасную папину удочку, накопал в огороде червей и, перебравшись через плетень, махнул к реке.
Все у него шло как нельзя лучше. Добрался он до реки, уселся на корягу над обрывом и забросил удочку. Поплавок сонно замер на поверхности воды. Юра ждал. Долго, терпеливо. И вдруг поплавок подпрыгнул и тут же нырнул под воду. «Клюнуло!» Юра изо всех сил дернул удочку. Леска натянулась струной, подавалась неохотно. Удилище пружинило. Юра уперся ногами в бугорок и тянул еще сильнее. И тут случилось несчастье: земля под ногами оказалась нетвердой. Он споткнулся и выронил удилище. Оно упало в речку. Юра потянулся за ним и кубарем свалился с обрыва. Течение подхватило и понесло его от берега. Вода хлынула в ноздри, уши. Юра крикнул и захлебнулся. Плавать он не умел. Вода была сильнее Юры. Он очень испугался и понял, что тонет. Он уже не раз опускался в воду с головой, и его уже тошнило от воды — так много он ее наглотался. Юра хотел за что-нибудь уцепиться. И вдруг впереди, у самого берега, увидел зеленый куст. Стал бить руками и ногами, чтобы дотянуться до него. Куст был облит веселым солнцем. Но вода опять проглотила Юру, и он потерял куст из вида. «Кустик, миленький, — мелькнуло у Юры в голове, — выручи! Выручи!..» Напрягая последние силы, Юра вынырнул. Но его опять что-то тянуло за ноги на дно. Куст был рядом. Юра забултыхался, заработал быстрее руками и ногами. И вдруг поймал тоненькую ветку. Вода отталкивала его, била по глазам. Но теперь Юра скорее умрет, чем отпустит. Перехватив одной рукой ветку повыше, другой он схватился за корень у самого берега, подтянулся и под ногами неожиданно почувствовал землю.
На берег выполз с трудом. Рубашка и штаны прилипли к дрожащему, настывшему телу. И голова, и руки, и ноги — все отяжелело, отказывалось слушаться. От озноба зуб на зуб не попадал. Но солнце вскоре согрело спину и затылок. Юра отлежался. А когда пришел домой, его встретили отец и бабушка и стали ругать, где он так долго пропадал. Особенно разошлась бабушка, даже ремень отыскала. Юра стоял молча и не оправдывался, как это он делал всегда раньше. Он только что одолел страшную силу воды. Он стал взрослым и не обиделся на бабушку: он теперь понял, что бабушка очень любит его.
Смелый
В нашем доме недавно поселился старшина-сверхсрочник. Утром рано он уходил на работу и возвращался поздно вечером. Все ребята нашего двора с завистью поглядывали на рослого, всегда подтянутого старшину. На груди у него ярко горела Золотая Звезда. Подмывало ребят заговорить с героем, да духу не хватало: суровый какой-то он был. И вот однажды возвращается он домой и слышит за забором во дворе странный шум: истошно кричали мальчишки, визжала собака. Встревожился старшина: может, кто в беду попал, несчастье случилось, и бросился к калитке. Но во дворе увидел совсем другое. Стая забияк-мальчишек палками и камнями со свистом и гиканьем гоняла кудлатую черную дворняжку. Металась она из угла в угол, надсадно лаяла.
— Что вы делаете? — крикнул старшина. — Дикари!
Ребята остановились.
Старшина подозвал к себе собаку, потрепал ее за уши, и она, почуяв ласку, легла у его ног.
— Эх, вы! — повернулся старшина к ребятам. — Зачем обижаете животное?
— А чего?.. Она бездомная. Всегда на помойке роется, — с трудом переводя дух, ответил за всех Мишка, мальчонка лет восьми со взбитым рыжим хохолком.
— Умаялся, герой? — насмешливо проронил старшина.
Мишка переступил с ноги на ногу.
— Говоришь, бездомная? Жалости в тебе и на копейку нет, вот что! Лучшего друга человека ни за что обидел!
Ребята переглянулись. Встреча со старшиной их обескуражила. И если раньше они хотели узнать что-нибудь от старшины, то теперь, когда он их всех обозвал «дикарями» и взял под защиту собаку-дворняжку, всякое любопытство к старшине пропало. Ребята уже хотели уйти, как вдруг Алеша, самый младший из всех, спросил:
— А почему вы, дядя, говорите, что собака — лучший друг человека? Этот друг знаете как кусается…
Старшина улыбнулся, взъерошил Алеше волосы. Ребята засмеялись. И сразу все стало легко и просто. Старшина уже нравился ребятам, а ребята — старшине. И только теперь они толком разглядели с ног до головы военного человека. На его новеньких красных погонах буквой «Т» лежала золотая лента.
— Значит, говоришь, кусается? — весело переспросил он Алешу. — Пойдемте вон на бревно у забора сядем. Если не лень слушать, то расскажу вам кое-что. А там судите — друг или не друг.
Ребята тесно обступили старшину, вместе с ним пересекли Двор и расселись на бревнах. Дворняжку от себя старшина не отпустил.
— Под Ленинградом это было. Немцы тогда рвались к городу, — начал старшина. — Громадой такой перли, что никакой, казалось, силе их не остановить. Снаряды ухают, бомбы землю на части рвут. Пулеметы барабанную дробь выбивают. Стон, пальба… Много народу тогда полегло. А тут еще осень. Слякоть, грязь. По колено вода. Белый свет не мил.
И вот однажды мы вернулись из дозора и только стали было укладываться на короткий солдатский отдых, как в землянку вошел наш старшина. Глядим, а на руках у него щенок. Крошечный такой. Дрожит от холода и скулит протяжно, жалобно. Солдаты повскакивали с нар, окружили старшину: «Смотри, щенок! Видать, часа нет, как на свет родился. Голенький! Откуда вы его взяли, товарищ старшина? К печке его, к печке!»
Старшина бережно положил щенка на шинель у теплой железной печки. Согревшись, малыш перестал скулить. Уткнул тупую с широкими ноздрями морду в кривые лапы и так сладко спит, посапывает.
Казалось, со щенком в землянку пришло что-то милое, домашнее. И сон улетел от солдат. Целую ночь почти проговорили они, сидя на корточках у печки и покуривая. Кто вспомнил о доме, кто о друге, погибшем на войне, кто о своих маленьких детишках. Но стоило щенку взвизгнуть, как все сразу переходили на шепот. Боялись разбудить его. «Ишь, видать что-то приснилось», — с суровой лаской говорили солдаты.
Так появилась у нас тогда забота. Щенку все свое свободное время отдавали. Возились с ним, баловали. Кто тянул за ухо, кто совал палец в его белозубую пасть, приговаривая: «Ишь, глазищи какие!» И он, точно дитя, малое, рос и впрямь как на дрожжах. Вскоре и узнать его нельзя было: великаном сделался, теленку под стать. Ходил с нами в дозор, приучился не бояться выстрелов.
И всех нас оделял своей горячей собачьей любовью. Но привязался особо к старшине. Едва тот покажется на пороге — под потолок прыгал, визжал, радовался.
И вдруг случись беда: немцы прорвали нашу оборону. Бились мы до поздней ночи. В штыки несколько раз ходили. И все это время большелапый с нами был. Себя он вел не как какой-нибудь трус, а умно и храбро: начнет пулемет косить — на животе ползет, снаряд летит — уши подожмет, мы в атаку — и он пулей вперед. А когда мы немца наконец все-таки оттеснили, то тут-то и нарекли мы его единодушно — Смелым.
Год прошел с тех пор. Перебросили нас на новое место, на Карельский фронт. Тогда был такой фронт. Смелый тоже поехал с нами. Большим, сильным и умным псом стал он. Месяца два проходил он у нас специальную школу борьбы с танками, научился разыскивать раненых на поле боя, подносить им бинты, флягу со спиртом. А когда приходилось трудно — часто бывало и такое, — к ошейнику Смелого привяжем записку и приказ ему даем: «Смелый, в тыл!» Он уже знал, что делать.
Карелия — страна суровая. Неуютно жилось нашему брату-солдату. Немец не смог в лоб взять Ленинград, поэтому решил обойти его с севера, со стороны Карелии значит, и направил сюда отборные части. И нам еще туже пришлось, чем под Ленинградом. Места на земле живого не было: всю ее исковыряли и изранили и бомбами, и танками, и снарядами. Иногда бросали на нас по сотне, а то и больше танков и самоходных орудий. Но мы тоже не лыком шиты — держались крепко! И вот, было это, как сейчас помню, в пасмурное утро. Враг обрушил на нас шквал губительного огня из пушек и минометов, света белого не видно. Головы поднять нельзя. Вдруг глядим: немец, прикрываясь огнем своих орудий, ползет на наши окопы. Ну чисто саранча! Пулеметами их косили и штыками кололи, и прикладами били, а они знай свое — все ползут. И все ж не выгорело у фашистов дело! Еще раз десять пытались. И все попусту. Тогда двинули они танки. Загремела, загудела земля.
Смелый был тут же, с нами. Переползал он от окопа к окопу, указывал санитарам раненых, иногда в трудную минуту и сам помогал им. Через спину у Смелого перекинуты фляга со спиртом и две санитарные сумки, набитые медикаментами и бинтами. И вдруг в тот самый момент, когда бой разгорелся до предела, Смелый заметил что-то непонятное для себя и страшное. Весь в струнку вытянулся, мелко задрожал. Его любимец и друг старшина приподнялся во весь рост и странно выпрямился. Простоял он так мгновение, затем, раскинув руки, упал, как подпиленный столб. Смелый оторвался от земли и, прижав уши, со всех ног пустился к старшине. Подбегает, глядит, а старшина лежит на бруствере окопа, запрокинув голову. Рядом каска, пробитая осколком, валяется. На виске у старшины кровь. Смелый слизал ее языком и громко залаял старшине в самое ухо. Тот открыл глаза. Смелый залаял еще громче. Старшина на локте потянулся к фляге Смелого, отстегнул и отпил из нее глоток спирта.
Рядом взорвалось два снаряда. Дым заволок поле. Старшина вынул из сумки перевязочный пакет и с трудом стал бинтовать себе голову.
— Ой, Смелый, до чего ж больно!.. Голова… — сказал он, едва шевеля губами.
Смелый, казалось, все понял, радостно взвизгнул, лизнул мокрым языком своему другу руку.
Впереди, чуть дым рассеялся, как из-под земли навстречу старшине и Смелому из балки вынырнули два черных с белыми крестами танка. Прорвись они в тыл, и обороне конец… Старшина отбросил бинт и схватился за противотанковое ружье, но не хватило силы сдвинуть его с места. Старшина поглядел в глаза Смелому и крикнул ему:
— Смелый, ко мне! Смелый!..
Смелый не сразу понял старшину.
— Ко мне! — уже рассердился старшина.
Смелый придвинулся ближе. Рывком старшина выкинул медикаменты из сумок, вложил в них по три гранаты и едва слышно ослабевшим голосом приказал:
— Вперед!
Смелый секунду медлил, как бы раздумывая, потом с лаем бросился к головному танку. Танк, гремя гусеницами, на полном ходу летел на Смелого… И вдруг накрыл его. И тут же вспыхнуло белое пламя и раздался взрыв. Танк качнулся, осел набок, запылал. Второй танк, пробежав еще немного вперед, повернул обратно. Гранаты, которые положил старшина в сумки Смелого, не пропали даром…
Так погиб Смелый, ушел не трусом из жизни. Старшину тогда тяжело ранило. Попал он в госпиталь. Вылечился не скоро. А когда опять вернулся в свою часть, часто вспоминал верного друга — Смелого. Не окажись он в тяжелую минуту рядом, кто знает, чем бы дело кончилось. Может, и в живых бы не осталось старшины и оборону прорвали фашисты. Да и вы, поди, не слышали бы этого рассказа… — Старшина поднялся с бревен, оглядел ребят: — Вот, а вы говорите — бездомная, на помойке роется…
Кудлатая черная собака лежала у его ног. Ребята избегали смотреть в ее умные, грустные глаза. Сидели они молча. Каждый думал о Смелом, и было как-то особенно неловко: быть может, и у этой дворняжки столько же храбрости и любви к человеку, как у Смелого!
Дельфины
Стояло погожее раннее утро. Сережа оттолкнулся веслом и отчалил от берега. Море было тихое, спокойное — ни одного барашка на его гладкой синеве. Лодка шла легко. Сердце у Сережи пело от радости. Все предвещало удачу: и ясное утро, и яркая голубизна неба, и ласковый плеск весел о воду.
Во всей округе знали Сережу как ловкого, отважного рыбака. Умел он побороться с морем, когда оно волнуется и бушует, бросает громады волн на прибрежные скалы. Он знал его повадки. Теперь на дне Сережиной лодки лежали лески и крючки, веревки и сачок. Сережа торопился выйти в открытое море.
Тем временем из-за зубчатых синих гор, подступающих почти к самому морю, показалось солнце. Оно оглядело все вокруг, позолотило широкую бескрайнюю гладь воды. Берега не стало видно. Сережа остановил лодку, осмотрелся, вынул из уключин весла и положил их вдоль бортов. Усевшись поудобнее на корме, забросил за борт леску.
Предчувствие не обмануло Сережу: рыба шла как никогда. Он вытаскивал рыбин одну за другой за один запуск. Шла ставрида, попадалась скумбрия, иногда — рыба-игла. На редкость удачный день! Сережа едва успевал вытаскивать и вновь запускать самолов: стаями набрасывалась рыба на приманку. Не минуло и часа, как дно лодки покрылось живым, трепещущим серебром.
Лицо у Сережи сосредоточенно, руки работали умело и быстро. Но вдруг он услышал надрывный крик чаек. Крик приближался, был резким и странным. Сережа оглянулся и замер: метрах в ста от него вздымалось, бурлило и пенилось море. Минуту Сережа ничего не понимал. Большая стая черных бугристых чудовищ, подпрыгивая и кувыркаясь, неслась к лодке. Дельфины!..
Встреча с ними не сулила ничего хорошего. Сережа быстро бросил весла и уключины, налег. Лодка рванулась. Но было уже поздно. Дельфины окружили лодку плотным кольцом…
Сережа видел их глаза, бугристые черные спины, слышал тяжелое сопение, храп и взвизгивание. Казалось, кто-то пригнал сюда стадо черных свиней.
Один за другим рассекали они воду, ныряли под лодку. Лодка металась, как живая. Стала она вдруг крошечная, как спичечный коробок, кренилась то в одну, то в другую сторону. Один раз так подпрыгнула, что Сережа, схватившись за борта, едва удержался. Одежда промокла, во рту было солоно от морской воды.
Сережа не знал, что делать. Кругом — пустое море. Чайки и те улетели. Сережа позавидовал птицам. Схватив весло, он взметнул его в воздух и изо всех сил ударил по спине скользившего рядом дельфина. Дельфин отскочил. Но его место тут же занял другой. Сережа опять размахнулся и опять ударил. Поднявшись во весь рост, он широко расставил ноги и, не переводя дыхания, вскидывал и опускал весло. Дельфины не отступали.
Сережа не помнил, как долго продолжалась борьба, но приносила она мало пользы. Лодка, зачерпнув воду, отяжелела; могло случиться, что он окажется в воде, среди дельфинов.
Сережа слышал рассказы о море, много читал книг о морских бедах, сам был не раз застигнут бурей. Но такого он никак не мог ожидать. Дельфины словно играли с ним. Подоспела откуда-то еще группка, и вокруг стало тесно. Как в котле, море пенилось, кипело. И тут Сережа сообразил: дельфины ведь жадны и прожорливы, охочи до рыбы, а в лодке ее вон сколько.
«Отвлечь их, отвлечь», — мелькнула у Сережи мысль. Схватив пригоршню мелкой ставриды, он швырнул ее подальше от себя в море. Дельфины бросились на рыбу, давили и толкали друг друга. Сережа снова бросил, затем еще. Дельфины хватали рыбу на лету, лезли в драку. Только это и было нужно Сереже. Он налег на весла и быстро отплыл от дельфинов. Но они вновь догнали его. Сережа опять угостил их рыбой, и дельфины опять отстали. Так повторялось много раз. Рыбы оставалось мало. А до берега было еще далеко.
Поведение дельфинов, однако, изменилось. Сережа это заметил. Приближаясь к лодке, они вели себя уже не так буйно и с жадностью смотрели на него, точно нищие. Понравилось, видно, им все это. Вместо того, чтобы гоняться за рыбой в открытом море, получай готовенькую! Сережа решился на последний риск.
Он снял одежду. Дельфины следили за каждым движением Сережи, видели, что он что-то медлит, не бросает им рыбы, и вновь стали проявлять нетерпение.
— Возьмите! — крикнул им Сережа и швырнул как можно дальше последнюю рыбешку.
Дельфины набросились на нее.
Тем временем Сережа бесшумно нырнул в море. Шел долго под водой, затем вынырнул, хватил открытым ртом воздух и опять скрылся.
Дельфины, разделавшись с рыбой, окружили лодку. Опустевшая лодка легко покачивалась на волне. Дельфины взбунтовались. Один дельфин так толкнул лодку, что она, отскочив, доверху наполнилась водой.
Но Сережа был уже далеко. Усталости он не чуял: опасность удвоила силы. Наконец он заметил берег.
Навстречу шли рыбацкие лодки. Сережа подплыл к одной из них. Ему помогли выбраться из воды. Только здесь, увидев вокруг себя рыбаков, он почувствовал, как сильно устал. Он попросил пить и почти в изнеможении упал на дно лодки.
А море было все так же спокойно и величественно, все так же ласково и приветливо. Только теперь, залитое солнцем, оно казалось еще безбрежнее, еще шире.
Баядерка
Димка Громов шумел и горячился больше всех:
— Уж я-то знаю. Сам видел, своими глазами…
Федя не выдержал:
— Знаешь ты, как едят, а тебе не дают.
— Не знаю, да? Хвалюсь, да? — Димка нахмурился. — А этим летом где я был? Сам знаешь. В деревне, да? Ну так вот. Там все я видел. И в ночное тоже ходил. Вот.
Невдалеке от ребят на скамейке сидел усатый человек. Он с интересом прислушивался к спору. А спор был о лошадях. Одни доказывали, что собака — вот это умное животное, а лошадь — темнота, другие говорили, что лошадь думать умеет, третьи — что лошадь сильно привязана к человеку и даже любит его. Димка больше всех усердствовал. Уж он знает! Он на себе испытал. Хорошие они? Да? А почему, когда хотят обидеть человека, говорят ему: «Лошадь!» То-то и оно. Добрые, говорите? Он, Димка, отправился как-то в ночное пасти лошадей. Так одна лошадь схватила его зубами за плечо, другая — лягнула, а с третьей он сам слетел и трахнулся об землю так, что и сейчас еще синяк не сошел.
— Кнут и палка — вот что для них лучше всего. Никакой у них любви к человеку нет, — горячо заключил Димка.
Тут усатый человек не утерпел:
— А сам-то ты любишь животных?
Димка не растерялся:
— Как они меня, так и я их.
Усач покачал головой:
— То-то и оно, что ты их не любишь. Вот ты лучше послушай, что я тебе про лошадей расскажу.
Мальчишки притихли. Представлялась возможность послушать что-то интересное, и они сразу забыли о своем споре.
— Было это в тысяча девятьсот сорок втором году, — сказал усач. — Прижимал нас тогда немец! Двенадцать дней и ночей под ураганным огнем лежали. Зима лютая в тот год выпала. Рванулись мы было в атаку — не вышло. Немец выгодную позицию занимал. Отбросил нас назад и ну палить из орудий да пулеметами косить. Корпус самого Доватора принимал участие в том сражении. Видел я этого генерала! Богатырь человек был! На коне, в бурке, что орел с распростертыми крыльями, по полю носился. Ну так вот. То мы немцев потесним, то они нас. И так туда-сюда двенадцать суток. Людей полегло видимо-невидимо, а лошадей — и счета нет. Хлынут казаки Доватора в атаку, а их из пулеметов, словно рожь косою, немец косит. Жаркое было дело!
Служил я тогда связным у командира батальона Петра Михайловича Воротынова. Молодой он был по летам, но голову светлую имел: за десятерых управлялся. И храбрым был. Весь фронт о нем говорил. Век не забуду, как майор наш, Петр Михайлович, снял со своих ног валенки и мне отдал, когда меня ранило. «А вы как же, говорю, морозище-то лютый?!» И слышать не хочет. У него так всегда: сказал — что ножом отрезал.
Выручил он меня тогда крепко. В госпиталь я не пошел, не до того было. Да и рана пустячная оказалась: пулей икру порвало. В общем, опять, мы перешли в атаку. Бились крепко. Земле тяжело было, стонала. Немец подался назад километров на десять и опять залег. Тут мы почувствовали себя уже по-другому: отбили у немца кусок леса, разожгли костры, отогрелись маленько. После двенадцати-то дней на голом снегу лес раем показался!
Вот тут-то все и началось. Сидим это мы на опушке у костра, руки потираем. Майор подходит. Тоже к огню присел. Речь о том о сем ведем. Кто шутку отпустит, кто словцо острое ввернет, хохочем. Начали поговаривать об ужине. Старшина снарядил двух солдат за кониной на передовую. Коней-то перебило тогда видимо-невидимо, а мясо доброй лошадки — лучше куриного, ежели его умелый солдат да еще с луком приготовит. Солдат, он, брат, — на все руки мастер.
Вдруг смотрим: из лесу прямо на нас четвероногая тень плетется. Вглядываемся: лошадь! Худущая, кости да кожа, живот втянут, голова висит. На шее три пулевые раны, круп осколком порван, кровь сочится. Видать, не одни сутки бродила, сердечная, человека искала, пристанища. И вот пришла к нам. Остановилась у костра и такими грустными глазами смотрит, будто хочет сказать: «Помилосердствуйте, родимые».
— Вот оно, мясо, товарищ старшина. Само приползло. И идти никуда не надо. — Мой сосед вскочил. — Добить кобылу, чтоб не мучилась. — И уже щелкнул затвором, прицелился.
— Не сметь! — вдруг слышим. Глядим, вскочил наш майор, к солдату бросился. — Не сметь! — говорит. Подошел он к лошади, притронулся к ее шее.
А она смотрит на майора, глаз не отрывает. И так печально, жалобно смотрит — душу наизнанку выворачивает. А потом вдруг головой кивнула, будто спасибо сказала.
Майор протер носовым платком ее раны, оглянулся. Суровый такой.
— Это Баядерка. Верховая лошадь генерала Доватора, — говорит. — Донские казаки ее в подарок прислали. Не довелось генералу на ней поездить: на третий день погиб. Что за лошадь! Смотрите!
Только тут мы разглядели, что лошадь и впрямь была хороша. Высокая, тонконогая, с белой звездой на лбу, маленькой головой и длинной шеей. Правда, в тот час она жалкая была: того и гляди, с ног свалится, подохнет невзначай. А все же видно — кровей Баядерка была отменных.
Подозвал меня майор и велел незамедлительно собираться в тыл вместе с Баядеркой.
— Сделайте все, — говорит, — чтобы спасти лошадь, А сейчас все мои сухари скормите ей.
Это двухнедельный-то паек! Воспротивился было я: куда, мол, эдакого скелета на ноги поднять. «С ним, говорю, до первой тыловой деревни не добредешь, по дороге ноги протянет». Но с начальством разговор короток: приказ — и никаких гвоздей. Камень на мою душу лег тогда. Осмотрел я еще раз худобу несчастную, и даже сердце у меня заохало. Срам один, а не скотина. Дунь на нее — с ног свалится.
— Прошу, Костров, — опять говорит мне майор в руку на плечо кладет. — Удружи. С душою выполни мою просьбу. Век не забуду.
Ну как я мог отказать командиру своему, которого, любил, в которого верил больше, чем в себя самого! Известно, не мог. И поплелся я в тыл по дорогам, перелескам. Волочу за собой на поводу ребрастую клячу. От стыда глаза чуть не вылезли. Особенно когда встречал на пути сытых обозных коней да острых на язык солдат.
— Эй, гвардеец! — кричат бывало. — На какую свалку грача тянешь? Ты верхом на него взберись — чистый Илья Муромец получится.
А Баядерка голову повесила, равнодушная ко всему. Пройдет немного и остановится. И жалко скотину, и муторно с нею! Поругивал я ее про себя на чем свет стоит, хоть оно, конечно, и некрасиво это: как-никак, для прославленного генерала она прислана. На третий день совсем моя Баядерка сдала. Раза четыре падала. Вконец измучился с нею. И кабы не душевная просьба майора, истинный бог, бросил бы ее воронью на растерзание.
Лишь к вечеру на пятые сутки добрались мы до деревеньки. Вернее туда, где она когда-то стояла. Немцы ее сожгли. Один пепел остался, обуглившиеся стены да черные дымоходы. Но все-таки отыскал я там какой-то завалившийся подвал, нашел яму с рожью и овсом. И поселились мы с Баядеркой, как на необитаемом острове. Подвал я приспособил под конюшню, ясли сбил, воды согрел, помыл, пообчистил Баядерку. На другой день сам майор подъехал. Ветеринара с собою привез. Свой недельный запас сахара скормил. И гляжу: малость повеселела моя Баядерка.
Сколько времени прошло, уж и не упомню. В обороне мы тогда стояли. Петр Михайлович наведывался к нам в гости часто. Приедет, бывало, посмотрит и обязательно найдет что-нибудь не так. А куда уж было лучше за скотиной ухаживать! Только у меня и заботы, что Баядерка, все кормил ее, чистил, поил. Душу вкладывал в это дело.
Раны у Баядерки поджили. А потом гляжу: и глаза у нее заблестели, шея серпом изогнулась и кожа залоснилась. Одним словом, заиграла Баядерка! И характер стала показывать. Да еще какой! Чуть что не по ней — хвать зубами, и делу конец. Майор смеется: его не трогает, все мне достается. Невзлюбила меня что-то Баядерка.
А к командиру привыкла, привязалась. Стоило ему только на дороге появиться, она вся ходуном заходит, уши навострит. Чует, что хозяин идет. Ржанием его встречает — приветствует, значит.
Бывало, нет майора день-другой — заскучает. Не ест, не пьет. А появится он, как дитя радуется: на месте не стоит — танцует. Майор тоже к ней привязался крепко. Сахар весь свой ей скармливал. Но от других она сахар не брала. А разговаривал как с Баядеркой майор!
Ровно с живым человеком. И про то ей, бывало, рассказывает и про это. А она знай головой кивает, поддакивает. Смех один было на них смотреть. Ну и, понятно, мне любо было такую дружбу видеть.
Добрела и набиралась сил Баядерка не по дням, а прямо-таки по часам. Стройная, на тонких, выточенных ногах, голова гордо запрокинута, глаза с кровинкой, ноздри раздуты, уши навострены, стоит и копытом землю роет. Хороша!
Майор не налюбуется, не нарадуется красавицей. Да, признаться, и мне тоже радостно: выходил-таки голубку. Она, правда, меня своей любовью не особенно баловала. Сколько ни старался я сладости ей на ладони сунуть или добрым словом к себе расположить, не тут-то было: одного майора знала она, его одного лаской одаривала.
Вскоре Петр Михайлович верхом на ней стал выезжать. Охотник большой был до верховой езды. Сперва Баядерка противилась, на дыбы подымалась, рвалась, прыгала из стороны в сторону, а потом разошлась, разгулялась. А носилась-то как! Не лошадь — молния! Не один раз ездил майор к кавалеристам, устраивал там скачки. Кто только не пытался обогнать Баядерку! Не выходило. Прильнет майор к ее шее — только искры из-под копыт летят да ветер в ушах свищет. Где уж тут угнаться?
К себе Баядерка на шаг никого не подпускала, меня и то с трудом. Так и норовит, бывало, за плечо ухватить. А не дай, не допусти, из рук вырвется — хвост трубой, и поди догони ветра в поле. Ловишь, ловишь ее, какими только словами не величаешь: и милая, и сердечная, и окаянная, — она и ухом не ведет. Бежит от тебя и все. В руки не дается. А стоит майору ее окликнуть, враз идет на зов. Куда и прыть денется. Боялась и любила майора. Каждое его слово понимала.
В общем, выходили мы чудо-лошадку. Два года она прожила с нами, в боевом походе на запад двигалась. Много раз хотело начальство постарше нашего майора отобрать ее у нас, но Петр Михайлович тоже характерный был, не уступал.
А потом… потом убило нашего майора. Вел он нас в атаку, и скосила его клятая пуля. Бросились к нему, а он… Не дышит. Слез мужских немало растерли мы по щекам. Больно уж сердечный человек был, и храбростью его судьба не обидела.
Вырыли мы на опушке леса могилку. Гроб сделали. И тут я вспомнил про Баядерку. Кинулся к ней в укрытие. Она на месте не стоит, цепь рвет. Увидела меня и как заржет! Ну будто ее режут. Я отвязал повод. Ее словно ветром из конюшни выдуло. И — к лесу. Солдаты расступились, дали ей дорогу. Подбежала она к своему мертвому хозяину и застыла на месте, какая-то чужая, незнакомая. Многие потом говорили, да я и сам, правда, видел, что у Баядерки слезы были в глазах.
Схоронили мы командира у большого дуба. Насыпали холмик и поодиночке, хмурые, убитые горем, разошлись. А Баядерка все стояла… Мы не беспокоили ее. В сумерках уже я подошел к ней и потянул за повод. Первый раз она покорно побрела за мной. Ночью к воде и сену она не прикоснулась, на другой день — то же самое. Давал ей овса, сахару — ничего не брала. Совсем перестала есть и пить. На глазах таяла. За неделю от нашей красавицы Баядерки осталась одна тень. А потом ее у нас забрали совсем и передали в обоз какого-то тылового полка.
Вот, казалось бы, и весь сказ. Да нет. Уже перед концом войны я вдруг опять повстречал Баядерку. Иду однажды по одной из улиц приморского города, смотрю: какой-то солдат бочку воды на кляче везет, едва-едва плетется. Всматриваюсь: она, как есть она. Задрожал весь от радости и слез, кричу:
— Баядерка!
Лошадь встрепенулась, настороженно уставила на меня глаза.
— Неужто не узнаешь, Баядерка!
Радость мелькнула в ее глазах. Подхожу. Лошадь уткнулась в мое плечо. Вынул я кусок сахару — был как раз у меня, — протянул его Баядерке. Ждал минуту, две. Не взяла Баядерка сахар, не захотела. Видно, навсегда осталась верной своему Петру Михайловичу Воротынову. Ему одному…
Усатый человек смолк. Ребята тоже молчали. Никому из них уже не хотелось продолжать давешний спор.
Колдун
Случилось это, когда я был еще юнцом. Как-то летом уехал я отдыхать к деду Федору, прославленному на Черном море бригадиру рыболовецкой артели. С дедом я был знаком не первый год. С ним мы не раз охотились в горах, дневали и ночевали на рыбалке, вместе переживали свои рыбацкие неудачи, вместе радовались, когда улов был хорош, — бывало, что налавливали почти полную лодку ставриды.
Приехал я к деду вечером, а рано утром мы уже были на берегу моря. Широко расставив ноги, дед долго молча смотрел с берега вдаль. А потом мрачно сказал:
— Колдун в море сидит.
Я ничего не понял, а по лицу деда — оно почернело и нахмурилось — догадался: тут что-то неладно.
Молча стал я готовить лодку, уложил снасти, завел мотор.
Дед закурил, хмуро бросил в мою сторону:
— Напрасно, хлопче, усердствуешь — рыбы не будет. Месяц наша бригада бьется, а рыбы и на понюшку табаку нет. Бывало, ставриду тоннами брали, а теперь что ни день, то хуже улов. В чем причина? И сам не пойму. Поворачивай-ка лучше до дому. Будем пироги с малиной есть.
— Снасть-то какую я привез! Хоть акулу лови — выдержит, — похвастал я.
— «Акулу»! — передразнил дед. — Тут кефальки плохонькой нет, а тебе акулу подавай.
— Вчера не было, а сегодня, может, появится, — настаивал я. — Сердце чует. Авось что-нибудь попадется. Едемте…
Обветренные губы деда дрогнули в насмешливой улыбке:
— Эх, ты, авоська!.. Слушай-ка лучше, что старшие говорят.
— Рыбаки и охотники, люди сказывают, одним миром мазаны: их только слушай — сорок коробов тебе наговорят, — попробовал было пошутить я, но дед обиделся:
— Тебе, конечно, не охотнику, виднее. Поезжай, гляди, кита поймаешь, — и зашагал от берега, сутуля спину.
Одному мне не очень-то хотелось выходить в море, но и отступать было уже поздно. И я решил во что бы то ни стало, вопреки предсказаниям деда Федора, возвратиться с уловом. Не может того быть, чтобы в море, да еще в Черном, не было ставриды. Смешно! Будет рыба!
Я отчалил от берега. Воздух был нежен и чист. Лодка легко и быстро скользила по застывшей глади воды, далеко разносился стук мотора. Отплыв километров пять, я остановился, разложил снасти. Огорчение, навеянное дедом, как-то внезапно исчезло. Я верил в удачу. Правда, вокруг, куда только мог достать глаз, не было видно ни одной лодки, а обычно, когда идет рыба, любителей-рыболовов хоть пруд пруди.
— Ну, это мы еще посмотрим, — самоуверенно сказал я.
Запустил самолов в море, леска тотчас вздрогнула, чиркнула по воде и натянулась. Затаив дыхание, я быстро стал сбрасывать леску в лодку и вскоре вытащил большую красавицу ставриду.
— Вот она вам, рыба! — во весь голос загорланил я, радуясь и торжествуя.
Но на этом все и кончилось. Будто кто заколдовал: шли минуты, часы — рыбы больше не было. Я менял место, отплывал в глубь моря. Все напрасно — ни клева, ни лова.
«Рано обрадовался», — подумал я.
Солнце выкатилось на середину неба. Я успел переменить десятки мест, избороздил километров двадцать и вынужден был с горечью признать правоту деда Федора. Ко всему еще в баке кончался бензин.
Добирался я к берегу уже на веслах, усталый, голодный и злой. Пойманную утром ставриду нацепил на крючок самолова с металлическим тросиком на конце и бросил подальше в море. Вначале она где-то далеко, в глубине, живо металась на привязи, затем замерла, ослабила леску.
Море мне уж не казалось таким красивым и приветливым, как в предрассветную рань. Оно как-то посерело, давило своей безбрежной громадой. Хотелось есть.
Но вдруг лодку мою что-то рвануло. Леска со ставридой соскочила с закрепа и, разматываясь, понеслась куда-то в морскую глубину. Скорее машинально, чем сознательно, я схватил ее на лету, стал придерживать. Она бежала так быстро, что обожгла ладонь. Я вскочил на ноги. Леска остановилась, по ней покатились янтарные капельки воды, и вдруг опять рванулась вперед. Я не дал ей ходу. И тогда что-то сильное стремительно повело ее в сторону. Я попробовал медленно сматывать леску. Она пружинила, шла неохотно. Я очень боялся, что леска не выдержит, лопнет: она натянулась до предела, будто струна. На лбу у меня выступил пот, мускулы на руках онемели, но я продолжал вести к себе из-под воды что-то непомерно большое и сильное. Оно упрямилось, сопротивлялось. Леска почти совсем застыла на месте. Минута… вторая… затем под водой что-то вздрогнуло и изо всех сил метнулось кверху. Это произошло так внезапно, что я отлетел назад и со всего размаху грохнулся на спину, едва не вывалился из лодки. Рядом взбурлила вода, и вдруг… вдруг в двух метрах от себя я увидел голову… акулы.
Багровые, налитые свинцом глаза враждебно и неподвижно смотрели на лодку. У меня по спине пробежал мороз. Но акула вильнула хвостом и скрылась.
Я не выпускал из рук леску. На всякий случай снял с уключины весло и опять поднялся на ноги. Я понял, что произошло. Акула глубоко заглотнула ставриду с крючком и оказалась на самолове, как на привязи.
Теперь, чуя опасность, она повела себя хитрее. Она уходила далеко под воду, сохраняла силы. Сквозь толщу воды я видел силуэт ее огромного тела, передвигающегося под взмахи хвоста то в одну, то в другую сторону. Но и я стал хитрее. Я не давал акуле отдохнуть. Опять, но уже осторожно, стал тянуть хищника к себе. Он растопырил плавники, нырнул в глубину.
Я попустил леску, а потом рывком остановил акулу. Тросик самолова больно врезался в руку. Акула рассвирепела, стала бросаться вверх, вниз неокончательно выведенная из себя, поджав плавники, стрелой полетела навстречу. Я невольно подался назад. Почти у самой поверхности акула несколько раз перевернулась, мотну ла, как лошадь, головой и высунулась из воды. Я перехватил весло и со всего размаху ударил ее по черепу. Акула, вздрогнув, отскочила и тяжело перевалилась набок.
Это был полутораметровой длины хищник с темно-серой спиной и плоским, ослепительно белым животом. Сильные, большие, точно крылья птицы, плавники обтянуты слизистой прозрачной кожей. Хвост — будто две огромные, соединенные ладони. Голова — остромордая, с красноватыми, хищными глазами; в нижней части опрокинутым полумесяцем зияла раскрытая пасть.
Я потянул леску, и она внезапно лопнула. Но акула уйти уже не могла. Я еще раз ударил ее ребром весла, потом с огромным усилием втащил в лодку.
На берег я вернулся к вечеру. Подплывая, издали увидел деда Федора. Он стоял в кругу рыбаков, курил, поглядывая в мою сторону.
— Акулу поймал! Акулу! — крикнул я, выпрыгивая из лодки.
— Может, кашалота? — отозвался кто-то.
Рыбаки окружили лодку. Я смотрел на них торжествующими глазами. Дед Федор насмешливо фыркнул:
— Это такая же акула, как я жар-птица.
Рыбаки дружно захохотали.
— Катрана поймал и думает, чудо-юдо стряслось, — продолжал дед Федор. — Гляди, ребята, он и на самом деле себя героем возомнил.
— Катран…
— Он самый…
— Окаянный…
— Один-то он не ходит. Поди, черными стаями налетел сюда, — слышал я со всех сторон.
Я стоял, ничего не понимая. Что это за зверь такой, катран? Стал допытываться. Наконец один из рыбаков объяснил мне, что катран тоже из семейства акул, но до настоящей акулы ему так же далеко, как кукушке до ястреба. Безобиден он, катран этот самый. Но там, где появляются его стаи, не жди промысловой рыбы — всю разгонит.
Когда шум немного поутих, опять заговорил дед Федор:
— Теперь все понятно. Пришел, бестия. Как же, соскучились… Лет десять, как катран последний раз в этих местах был, потом к турецким берегам укатил. — Дед раздавил каблуком брошенный окурок, оглядел рыбаков. — Готовьтесь, хлопцы, на рассвете выйдем в море. Эту шайку прогнать надо или выловить, — и, пренебрежительно пнув катрана носком сапога, повернулся ко мне: — А ты, парень, не падай духом. Доброе дело сделал: первый загадку разгадал, почему ставрида не ловится.
Утром несколько рыболовецких бригад на катерах и больших лодках ушли в море. Я провожал их, стоя на берегу. Дед Федор помахал мне рукой.
— Возвращусь — за ставридой отправимся! — крикнул он. — Готовь снасти. Гляди, настоящую акулу поймаем. А пока поди почитай книжку, водится ли акула в Черном море…
Лицо у деда было веселое.
Игорек
1
Игорек сам был виноват. Так, во всяком случае, считал он. В деревню он приехал недавно и почти в первый же день поссорился из-за пустяка с одним мальчишкой. Тот назвал его городским задавалой, пригрозил: «Ну, держись!» И вот теперь Игорь никак не может подружиться с сельскими ребятами. Сторонятся они его, чужаком считают. Больше того, подстерегут где-нибудь в глухом закоулке, тумаков надают.
— Обижают тебя негодники? — спрашивала бабушка, когда Игорь возвращался домой с синяком под глазом или царапиной на щеке.
— Побили чуток, — отвечал он без обиды. А сам думал о том, что это не может так дальше продолжаться. Нужно доказать этим задирам, что он, Игорь, не такой уж плохой, как они считают.
Зашел он как-то на колхозный двор. Там обычно любили по вечерам собираться ребята. У больших, длинных амбаров они играли в прятки или просто носились наперегонки. Часто ребята и делом занимались: помогали колхозному конюху деду Архипу чистить и поить лошадей.
Не успел Игорь показаться во дворе, как его обступила ватага мальчишек, чумазых, насупленных.
— Ага, попался? Держи его! — крикнул кто-то.
— Зачем держать? Я не убегаю.
Ребята переглянулись. Ответ Игоря их порядком удивил.
— Чего вы на меня нападаете? Что я такое сделал? Я с вами дружить хочу.
— Тоже друг сыскался. Задавала! — выступив вперед, сказал Сенька, рыжий коренастый паренек с облупленным конопатым носом. — Улю-лю! Хватай его! — вплотную подступил он к Игорю.
— Тронь только! — насторожился Игорь.
— А что, думаешь, убоюсь?
— Я пришел дружить, а не драться. — Игорь смотрел в белесые глаза своего противника. — Дерутся вот вроде тебя, рыжий, хулиганы.
Ребята рассмеялись. Кто-то свистнул. Сенька взъерошился, как петух, белки глаз заблестели.
— Погоди, Сенька, — пытался удержать его стоявший рядом парнишка. — Поглядим сперва, чего этот пацан хочет.
Но Сенька уже не слышал. Он рванул Игоря за ворот рубашки, ударил в лицо.
Игорь вскрикнул. Ловко подставив Сеньке ногу, он тоже ударил. Сенька свалился на землю. Игорь придавил его сверху. Кряхтя и охая, они возились, перекатывались, вскакивали.
Ребята с интересом наблюдали за потасовкой.
— Зря Рыжий в драку ввязался, — говорили одни.
— Ничего и не зря! Наша берет, — кричали другие.
— Этот городской тоже не лыком шит…
— Не лезь, не лезь. Двое дерутся, третий не мешай!
И у Сеньки и у Игоря появились болельщики.
— Так, так его…
— Под дых давай, под дых…
Ребята то сужали, то расширяли кольцо вокруг Сеньки и Игоря. Работали локтями, суетились, шумели, будто не кто-то другой, а они сами дрались.
— Рыжий! Держись, Рыжий! — раздались было подбадривающие голоса, но Сенька опять оказался под Игорем и запросил пощады.
Игорь поднялся с земли, помог встать Сеньке и сказал:
— Ну, а теперь мир! — и протянул руку.
Сенька нехотя пожал ее.
2
Родился Игорь в самом красивом русском городе — Ленинграде. Отца своего он помнил смутно и знал больше по рассказам других. Отец был военным, часто и подолгу находился в отъезде. Последний раз он уехал из Ленинграда, когда Игорю шел пятый год. А вот маму Игорь помнил хорошо. Она работала на корабельном заводе, никогда не возвращалась домой без гостинцев, Особенно запомнилась ему мама на вокзале. Это было в сорок первом году. Игорь тогда вместе с другими ленинградскими ребятишками покидал город. Война заставила их уезжать далеко-далеко от родного дома.
Игорю очень не хотелось расставаться с мамой. Он еще никогда в жизни из дома не уезжал и не оставался надолго один. Хорошо запомнилось все, что было в тот вечер. Особенно глаза мамы: синие, большие и почему-то очень грустные. Он помнил, как вдруг на перроне засуетились, замелькали, заспешили люди, как со всех сторон повалила толпа, послышались надрывный плач, крики.
Мама тоже заплакала, обняла Игоря и крепко прижала к себе. Игорь всхлипнул.
— Не надо, Игоречек, не плачь, миленький, — говорила она и, зажав в горячих ладонях его голову, долго и пристально смотрела в глаза. — Будь умным мальчиком, Игоречек. Ничего не бойся в жизни. Будь смелым…
Ничего не забыл Игорь.
Поезд привез ребят-ленинградцев на далекий Урал.
Разместили их в большом, светлом доме. Все было здесь: и много игрушек, и кормили вкусно, и были ласковые няни. Не было только мамы с ее синими глазами. Игорек постоянно думал о ней. Текли, как вода, дни, недели, месяцы. Ребятам присылали гостинцы, письма. А Игорю почему-то никто ничего не присылал. По ночам Игорь нередко плакал. Все его забыли: и мама, и отец — от них не было ни слова. А однажды — это было незадолго до окончания войны — ему сказали:
— К тебе приехал гость.
Игорек бросил конструктор, с которым как раз возился, и что было духу пустился из мастерской в гостиную. Он уже заждался гостя. Он не знал, кто это будет, но лучше всего, если бы это была мама…
Распахнув дверь в гостиную, тяжело дыша, он остановился. В дальнем углу у окна одиноко стоял высокий плечистый человек в военной морской форме.
Исподлобья Игорь оглядел незнакомца. Тот уже шел к нему навстречу. Синие глаза… И лицо, как у мамы…
— Ну, здорово, племянник. Не узнаешь?
Игорь смотрел молча на улыбающегося военного.
— О дяде Пете не слыхал от матери? — опять спросил он.
— Дядя Петя! — закричал вдруг Игорь. — Дядя Петя! — и сорвался с места.
Дядя Петя подхватил Игоря.
— Теперь вспомнил. Все вспомнил. Мама рассказывала, что ты моряк, что ты к нам приедешь. — Игорь сиял от радости. — А как ты меня нашел?
— Моряк все может, Игорек!
— А мама? Мама почему не пришла?
Дядя Петя перестал улыбаться. Лицо стало суровым.
— Где мама? Где? Почему ты молчишь, дядя Петя?
Дядя и на этот раз ничего не ответил. Игорь смотрел ему в глаза, видел в них что-то близкое, знакомое и тихо заплакал. Он все понял.
— Ты уже большой. Совсем мужчина, Игорь, — с трудом выдавил из себя дядя Петя. — Мама твоя умерла во время блокады… Папа тоже погиб… Не надо плакать, сынок. Мужчины не плачут.
— Я… я не плачу… — всхлипнул Игорь.
— Ну, вот и хорошо, вот и ладно, вот и умница, — торопливо говорил дядя Петя и почему-то отворачивал голову. — Давай собирайся… Поедем к бабушке…
3
Деревня, куда они приехали, называлась Троицкое. Бабушка жила в маленьком домике у самого берега реки Кинель. Дядя Петя, прожив в Троицком несколько дней, уехал на Волгу. Дядю Петю в деревне уважали, колхозники, встречаясь, здоровались с ним, снимая шапку. У него было семь орденов. Он командовал во время войны кораблем на Черном море. Там и тяжело ранен был. А когда немцев прогнали, он опять стал капитаном, но уже не военного судна, а пассажирского речного парохода. По Волге ходил.
Бабушка рассказывала, что у них в роду все были потомственные моряки. Дед дяди Пети с прославленным адмиралом Макаровым в цусимском бою участвовал и погиб как герой. Деду памятник стоит на горе у Порт-Артура. А отец дяди Пети был моряком революционного Кронштадта. В общем, все в семье Рыбниковых — моряки. И Игорю было приятно, что в доме, куда он попал, столько славы. На стенах висели старые и новые фотографии. И каждая фотография была, как книга: могла рассказать много интересного о жизни, связанной с морем и кораблем.
Бабушку Игорь полюбил. Она ласкала, голубила его, знала много песен, которые часто пела, рассказывала о Волге, о Стеньке Разине, о деде — портартуровце.
Прошло два года. В деревне Игорь освоился, подрос, окреп, закончил три класса средней школы. Летом, когда наступали каникулы, вместе с мальчишками он дневал и ночевал в степи. Пас лошадей, иногда был погонщиком, а когда созревали хлеба, командовал пионерским отрядом охраны урожая.
Ростом Игорек не вышел, но сложен был ладно: широкие плечи, мускулистые руки, сильные ноги. На смугловатом лице светились живые синие глаза, задорно торчал немного вздернутый нос, золотом переливались мягкие волосы.
С бабушкой Игорь дружил. Помогал ей по хозяйству, слушал ее рассказы о Рыбниковых, но больше всего о дяде Пете расспрашивал.
— Когда же он приедет? — не раз допытывался Игорь. — Война-то уже давно кончилась.
— Приедет, сынок, приедет, — отвечала бабушка. — Вот освободится маленько и приедет.
Дядя Петя был занят и никак не мог освободиться и приехать в гости. Зато часто присылал бабушке и Игорю гостинцы и письма. Он просил бабушку лучше приглядывать за внуком, а Игорю наказывал беречь бабушку.
«Если Игорь будет расти настоящим мужчиной, — писал дядя Петя, — и, главное, смелым, то возьму я его к себе на пароход на целое лето!»
Игорь чуть не визжал от радости:
— Эх, скорее бы, скорее! Волга — это река! Не то что какой-то Кинель-минель…
4
Кинель, возле которого жил Игорь, был и в самом деле неказистой речкой, мелководной. Лишь в одном месте никто не мог достать дна. Игорь отзывался о Кинеле с пренебрежением. И мечтал о Волге, больших пароходах, о широком водном раздолье.
— Кинель! — смеялся Игорь. — Лужа! Волга — это да! Река! — разводил он руками, хотя Волгу сроду в глаза не видел.
— Ты, чай, и в Кинеле-то плавать не умеешь. Чего же тут про Волгу толковать? — останавливала размечтавшегося Игоря бабушка.
— А где ж тут плавать? — оправдывался он. — Тут, поди, и воробей весь Кинель вброд переходит.
— Ох, сынок, сынок, — вздыхала бабушка. — Твой-то дядя Петя не на Волге, а тут, в Кинеле, плавать выучился. А плавал-то как! Все парни ему завидовали. Вот что я тебе скажу: родной-то дом, он человеку силы всегда придает. А кто без дому, без своей стороны — тот что пес без роду и племени. Нечего ему вспомнить, нечем утешить сердце. Как перекати-поле, ветер гоняет его всю жизнь из конца в конец, пока в какую-нибудь яму не свалит. Надо любить землю, сынок, на которой стоит твой дом. Вот я и говорю, — продолжала бабушка, — что Петя на Кинеле выучился плавать. Да плавал-то как! Приехал однажды отец наш с Балтики на побывку и увидел Петю на воде. Слезами глаза подернулись от радости. Разделся отец и нырнул, чтобы догнать Петю. А он, как утенок, шмыгнул под воду — и нет его. То в одном, то в другом месте покажется. Смеется, озорно глазами сверкает. Совсем отца замучил. А вечером отец достал из сундука бинокль морской, погладил его и сказал: «Вот, сынок, этот бинокль от деда твоего мне в наследство перешел. А ему его сам адмирал Макаров за доблесть из своих рук вручил. Носить его достойны только люди смелые — моряки. Возьми бинокль. Быть тебе моряком». И отдал Пете. А ты говоришь «Кинель»! — покосилась бабушка на Игоря. — Кинель Пете крылья орлиные вырастил. Так-то. Вот и выходит, что ты не любишь своего дядю Петю.
— А сколько ему было тогда лет? — спросил Игорь.
— Меньше, чем тебе. Шестой год шел.
У Игоря все перепуталось в голове: и Кинель, и бинокль, и дед, и дядя Петя — все, о чем говорила бабушка. Стало отчего-то обидно и неприятно. Неправда, что он не любит своего дядю, он его даже во сне каждую ночь видит.
5
Пришла зима. Налетели с севера крутые бураны, все кругом замело — ни пройти, ни проехать.
У дяди Пети выкроилось время, и он решил навестить бабушку и Игоря. Дядя Петя не был женат, детей у него не было, и Игоря он любил как сына. Уложил он вещи, гостинцы, собрал чемодан и тронулся в путь. Ехал поездом, автобусом, на запряженных резвыми лошадьми санях. Была у дяди Пети тайная мысль. Бабушка писала ему, что Игорь растет хорошим, послушным пареньком и что он во всем у нее первый помощник. Дядя Петя очень хотел, чтобы его племянник, как он сам, его отец, его дед, тоже стал моряком. И, пожалуй, надо уже сейчас подумать, чтобы Игоря определили в Нахимовское училище. В чемодане дяди Пети лежал драгоценный подарок для Игоря — бинокль.
Приехал дядя Петя вечером, в окнах уже зажглись огни.
Встретила его бабушка. Игоря дома не было. Вернулся он поздно. Обмел в сенцах валенки и, как всегда, с веселым шумом ворвался в комнату. На столе ярко горела лампа. Игорь сощурился от яркого света и никого не заметил.
— Ой, бабушка, видела бы ты, что мы нынче устроили! — говорил он, снимая пальто. — Наперегонки на коньках бегали. И, знаешь, только Сенька-рыжий меня обогнал…
— А все же обогнал-таки, — отозвалась бабушка. — А вот твоего дядю сроду никто не обгонял ни на земле, ни на воде. Уж он за что брался — все без промаха!
— Ты, бабушка, всегда придираешься. Вот вырасту, и я буду, как дядя Петя.
Игорь повесил возле порога за печку пальто, сбросил шапку, шагнул к столу и… онемел.
За столом сидел высокий мужчина. У Игоря от неожиданности захватило дух.
— Дядя! Дядя Петя!
Дядя Петя поднялся Игорю навстречу.
— Вырос. Прямо богатырь стал! — обнял он Игоря.
Игорек все еще никак не мог опомниться и наконец сказал:
— Как хорошо, что ты приехал, дядя Петя. А я думал, что ты уже забыл нас.
Все Игорю в дяде нравилось: и большие сильные руки, и крепкие плечи, и красивое лицо. Но особенно — лежащие на стуле фуражка с кокардой и бушлат с золотыми пуговицами.
— Ну как, орел, бабушку слушаешься? — спросил дядя Петя, снова подошел и сел к столу, заставленному бабушкиной вкусной стряпней.
Игорь промолчал.
— Чего молчишь?
— Слушать-то он меня слушается, — вмешалась бабушка, — и малый он ничего. Да вот беда: родные места он не любит. Кинель, говорит, воробью по колено. А сам и плавать-то не горазд. Чуть на речку придет, в кусты спрячется и смотрит оттуда, как ребята в воде бултыхаются.
Такого подвоха Игорь от бабушки не ожидал. Она точно ударила его из-за угла. Не успел дядя Петя переступить порог — она сразу жаловаться принялась.
— Эх, ты! — дядя с горечью и разочарованием хлопнул Игоря по плечу тяжелой рукой. — Герой! А еще собирался ко мне на Волгу. Плавать-то не умеешь! Тебя же мои матросы засмеют! Видно, подождать придется. Таких я на корабль не беру. Нет!
Игорь заерзал на стуле. А дядя Петя стал скучным. На лоб набежали морщины, в глазах что-то потухло. Все, что он думал об Игоре, на что надеялся, тому, оказывается, не бывать.
— Ну, это ты, Петя, лишку взял, — заступилась бабушка. — Откуда твоим матросам знать, что мальчишка плавать не умеет?
Дядя Петя усмехнулся:
— Мои матросы по походке определят, на что племянник годен.
Игорь так долго, с таким нетерпением ожидал дядю. И вот, пожалуйста, все пропало. Игорь злился и на самого себя, и на бабушку, и на свое неумение плавать. Зачем, зачем бабушке надо было так сразу все непоправимо испортить?..
6
Дядя Петя, проведя в деревне свой отпуск, уехал. Бинокля он Игорю не подарил. Показалось ему, что Игорь не тот человек, кому можно вручить фамильную реликвию. Игорь был паренек неплохой, но смелости, морского духа, ловкости, а главное — умения плавать дядя Петя в нем не отметил и не мог ему этого простить. И по этой причине и о Нахимовском училище он ни разу не заговорил с Игорем. «Пусть растет сухопутным», — решил он про себя.
Игорь же после отъезда дяди стал больше интересоваться морем, читать книги о моряках. Втайне он решил доказать всем, что и он тоже кое на что способен.
В пионерской комнате с ребятами он организовал «Уголок моряков». Были развешаны портреты знаменитых капитанов, морские картины. На самом видном месте ребята прикрепили большую фотографию своего земляка — дяди Пети. О нем сама газета «Правда» писала!
Ребята условились с приходом весны и тепла провести соревнования по плаванию. Кто лучше всех плавает, тому и быть законным капитаном «Уголка моряков». Первое время — так все решили — эту обязанность исполнял Игорь.
Лето не задержалось.
Принарядилась, похорошела земля. Пекло солнце. Отцвела черемуха, зазеленели рощи и дубравы. В небе золотым перезвоном заливался жаворонок. А река, щедро напоенная весенними паводками, дышала прохладой, манила к себе свежей синевой.
Игорь в эти дни жил тревожно. Со дня на день старался оттянуть состязания по плаванию. Он ничего не успел. Выдавать же себя, свое неумение не хотелось. А когда соревнования все-таки наступили, пришлось притвориться больным, чтобы не участвовать в них. Что он мог еще придумать? Он даже повязал шею бабушкиным платком для вящей убедительности.
Три дня шла борьба. Ребята ныряли, плавали, прыгали с высокого обрыва в воду и, наконец, на четвертый день решили: лучше всех на воде держится Сенька-рыжий.
Больно и невесело было Игорю. Сенька — победитель! Да еще не какой-нибудь! Ребята ему даже «ура» кричали, и его теперь назначили капитаном «Уголка моряков», что значило среди ребят — первый человек на селе. Огорченный неудачей, Игорь был сам не свой. Он замкнулся, не появлялся на улице, все больше дома сидел.
Но однажды Игорю стало невмоготу. Тяжело быть одному, но еще тяжелее, когда люди тебе искренне верят, любят тебя, а ты их трусливо обманываешь. Скрепя сердце Игорь пришел на колхозный двор. Ребята сидели на бревнах, о чем-то спорили. Игорь отозвал Сеньку в сторону, сказал:
— Знаешь, Сенька, я все врал… Я вовсе плавать не умею! А так, притворялся, что смелый…
Сенька подскочил от неожиданности Он не особенно любил Игоря. И не забыл, как они дрались. «Вот оно что!» — крикнул Сенька и хотел уже звать ребят. Но Игорь остановил его.
— Не затем я тебе, Сенька, сознался. Я тебе, как другу… Научи плавать, А? А потом смейся себе…
Сенька почесал затылок. Важно, почти по-взрослому оглядел Игоря, подумал и кивнул:
— Ну ладно. Согласен.
Много дней подряд Игорь и Сенька втайне от ребят пропадали на реке. Для Игоря началась настоящая пытка. Сенька, как строгий учитель, часто ругал Игоря, говорил, что топор и тот лучше его на воде держится. Толку из Игоря все равно никакого не будет. Игорь терпеливо сносил обиды. Похудел, осунулся.
От бабушки не ускользнуло; что с Игорем творится что-то неладное. И аппетита нет, и молчит больше, неразговорчивым стал. И ребята не так часто заходят. Но больше всего ее тревожило то, что Игорь уходил из дому чуть свет, а возвращался поздно вечером. «Где он пропадает? Не затеял ли чего худого!» — гадала бабушка и решила проследить, чем занимается ее Игорь.
7
Солнце только-только заглянуло в окна, а Игорь уже был на ногах. Протер глаза и покосился на кровать бабушки. Бабушка еще спала. Это удивило Игоря: обычно она вставала рано. Он бесшумно оделся, воровато пробрался к буфету, взял ломоть хлеба, отсыпал из солонки соли и выскользнул из комнаты.
А бабушка вовсе не спала. Она тут же сбросила одеяло, сунула ноги в чувяки, набросила платье — и за Игорем.
Стараясь оставаться незамеченной, по-за кустами ольхи и вербами бабушка вышла за огороды, на расстоянии следовала за Игорем. Шли долго, далеко позади осталась деревня. Бабушка недоумевала, куда может идти Игорь? Но вдруг, когда они вошли в лес, к месту, где в обрывистых, высоких берегах тек Кинель, она потеряла внука из виду. Страннно заторопилась. Тропа вела ее к обрывистому крутому берегу, к самому глубокому и опасному месту в Кинеле. В деревне это место называли «бурунами». Там, на дне, в корягах водились сомы. Никто никогда не осмеливался тут купаться.
Бабушка забеспокоилась. Сделав еще несколько шагов, она очутилась на поляне и обомлела: над самой кручей стоял Игорь. Внизу, пенясь, бурлила река. Игорь успел уже раздеться и, разминая мышцы, смотрел вниз.
— Игорь! Игорь! — переводя дух, крикнула бабушка.
Но Игорь не слышал: распластавшись в воздухе, он ласточкой полетел куда-то в пропасть. Бабушка закрыла лицо руками. Она не помнила, как добежала до обрыва. Далеко внизу шумела река. Игоря не было видно.
— Помогите! Помогите! — закричала в страхе бабушка.
На ее зов никто не откликнулся. Людей близко не было. Равнодушно с обрыва вниз глядели деревья. И здесь бабушка заметила, как по отвесному обрыву карабкается Игорь. Выбравшись наверх, он отряхнул с загорелого, крепкого тела капельки воды. Сделал два вольных движения руками и вдруг увидел бабушку. Появление бабушки было для него как снег на голову.
— Откуда ты взялась?
— Ты с ума спятил, Игорь! Вот я тебе! — Бабушка подхватила с земли прут. — Здесь взрослые тонут. Сомы тут водятся да лешие одни…
— Нет, ты смотри! — прервал ее Игорь и, разбежавшись, оттолкнулся от обрыва и стремглав полетел вниз.
У бабушки даже ноги подкосились от страха. Но далеко внизу уже мелькнула над водой голова внука. Он пересекал реку так быстро и ловко, что лицо бабушки невольно осветилось улыбкой. «Не иначе, как в дядю своего пошел, — подумала она. — Петя мальцом тоже был отчаянный…»
Игорь взобрался наверх.
— Когда же это ты, сынок, успел так ловко выучиться? — спросила бабушка.
— Все лето учусь. Сначала Сенька меня учил. А потом сам… Я хочу так научиться, чтобы даже лучше Сеньки. Как это в книжке говорится: «Плохой ученик, если не обгонит своего учителя…»
— Вот вернемся домой, крапивой отстегаю, тогда ты у меня образумишься и выбросишь всякие глупости из головы, — строго сказала бабушка.
8
Вскоре ребята провели еще одно соревнование по плаванию. На этом настоял сам Сенька. Он был самолюбивый и хотел доказать, что как бы Игорь ловко ни плавал теперь, но до него, Сеньки, ему далеко, как до неба! Но получилось вдруг так, что первое место завоевал Игорь. И ему кричали ребята «ура», ему аплодировали.
— Нет, ребята, неправильно, — прервал Игорь восторженные крики. — Сенька лучше меня нырял. И потом, кто научил меня плавать? Кто? Он, Сенька! Значит, первое место его, и делу конец. Учитель-то он.
Ребята рассмеялись:
— Тоже мне учитель нашелся!
Но когда Игорь рассказал им все, они согласились:
— Сенька молодец! Он человек правильный!
А сам Сенька подошел к Игорю, пожал ему руку:
— Ты, Игорь, настоящий друг. Но одолжений мне не надо. Раз ты лучше плаваешь — значит и первое место твое. А в другой раз, вот увидишь, я все одно тебя одолею.
9
Через год Игорь с бабушкой ехали в гости к дяде Пете. Весело бежали лошади, слегка пылила дорога. Перед глазами лежала уральская степь. Ровная, необозримая. Со всех сторон обступал свод синего неба. Но не красота степного раздолья занимала Игоря: о Волге думал он. Никогда он не видел ее, зато слышал о ней много. И теперь хотелось скорее своими глазами увидеть матушку Волгу, реку, воспетую в песнях, прославленную в сказках. Ведь где-то там и атаман Степан Разин гулял. О нем рассказывала бабушка всегда с какой-то любовью, точно он был ее вторым, после дяди Пети, сыном.
— А Стенька Разин, бабушка, за нас был? — спросил вдруг с детской непосредственностью Игорь.
— За нас, сынок, за нас. Хотел, чтобы простым людям вольготно жилось на Руси. — Бабушка вновь принялась рассказывать об атамане Разине, о его походе в Персию, о том, как Стенька подарил Волге персидскую княжну.
— А дядя Петя ничего не дарил?
— Дарил, сынок, дарил, — закивала бабушка. — Кровь свою дарил. Дядю Петю пять раз на войне ранило. Он бил тех, кто отнял у тебя отца и мать. Врагов наших бил, изуверов, — и, заметив слезы в глазах внука, ласково погладила его по голове. — Вот так она, жизнь, и идет, сынок. И ты скоро большим станешь, в жизнь пойдешь, как твой отец, как мама, как дядя Петя, — честно, смело. Правда?
— Бабушка, а дед, что погиб в Порт-Артуре, он тоже жил в нашем селе? — спросил Игорь.
— Да. На Кинеле учился плавать, — ответила она.
Игорь глотнул слюну:
— Ты, бабушка, не говори сразу дяде Пете, что я научился плавать. Пусть он потом узнает.
Бабушка понимающе улыбнулась, кивнула.
10
Вот наконец и пристань. Бабушку и Игоря должен был встретить дядя Петя. Но его пароход прибывал в три часа дня, а они приехали раньше. Игорь спрыгнул с брички и пустился к берегу Волги.
— Ого-го-го-о-о! — не удержался он. — Река-то, река, а?
Встречный ветер трепал галстук, Пузырем надувал рубашку. С высокого берега открывался бескрайний водный простор и синь — глазам больно. Вдоль берега густая зелень леса. Местами лес спускался до самой воды, и могучие деревья тянули ветви-руки к ее зеркалу. А тот, другой берег терялся за горизонтом. Не река — море!.
Игорь даже не мог представить, что на свете есть такая красота, такое водное раздолье!
И вдруг из-за поворота выплыл, как многоэтажный белый дом, пароход. Неторопливо и гордо плыл он к пристани, как огромный лебедь. «Это, наверное, дяди Пети пароход!» — обрадовался Игорь.
11
Игорь не ошибся. Пароход причалил к плавучей пристани, и вскоре с него сошел дядя Петя.
— Дядя Петя, дядя Петя! — закричал Игорь, живо расталкивая локтями собравшихся у причала людей.
— Здорово, племянник, здорово! — Дядя обнял Игоря, затем бабушку. — Ну, как доехали? Волга нравится?
— Нравится, сынок, нравится. Вон наш Игорек, так тот вовсе без ума от нее.
— Как в кино красиво, даже лучше. Не зря здесь Степан Разин воевал…
Дядя Петя рассмеялся, потрепал вихор Игоря и сказал:
— Эх, ты, Степан Разин…
Игорь стал упрашивать дядю скорее подняться на палубу:
— Ты ведь обещал. Даже на капитанский мостик обещал взять.
— Погоди. Отчалим, тогда.
12
И вот наконец пришла захватывающая дух долгожданная минута. Пароход отвалил от берега и медленно вышел на середину реки. Игорь стоял на верхней палубе. Вокруг — Волга. Величавая. Играла она на солнце, переливаясь.
Дядя Петя стоял рядом с Игорем, тоже смотрел в синюю даль, о чем-то думал.
Лучше наших мест во всем мире нет.
— Смотри, дядя, чайки. Вот здорово! — отозвался Игорь.
Подошли матросы, окружили Игоря. Вначале недоверчиво он оглядывал их, но вскоре освоился, стал бойко отвечать на их вопросы.
— Поступай к нам юнгой на корабль, — посоветовал толстый, огромного роста боцман. — Хочешь? А?
— Хочу, конечно, хочу!
Игорю было лестно, что эти видавшие виды люди так хорошо относятся к нему, разговаривают с ним, как со взрослым.
— Погоди, — опять заговорил боцман, — вот причалим к берегу, купаться пойдем. Если перенырнешь Волгу — значит, молодец. Плавать-то умеешь?
Матросы дружно засмеялись: ни один человек в мире не мог перенырнуть Волгу. Игорь молчал. Боцман же истолковал его молчание по-своему:
— Что? Не умеешь плавать? — и даже присвистнул. — А я-то думал, герой! Всякая симпатия к тебе, братец, пропала. Хоть ты и смазливый парень, на юнгу смахиваешь, а на поверку выходит — жидковат. Не в дядю, видать, удался. Не потомственный моряк…
Боцман состроил смешливое лицо, пренебрежительно сунул большие толстые руки в карманы широких штанов. Передернул комично плечами. Матросы еще пуще засмеялись.
Дядя Петя заступился за Игоря:
— У него еще все впереди. Да и не всем быть моряками.
— Оно, конечно, может, и так, товарищ капитан, — усмехнулся боцман, — да только распоследнее дело такой простой штуке, как плавание, не научиться. По мне, так такому неосновательному человеку копейка цена в базарный день.
Игорь покраснел. «Тоже мне… Не знает, а говорит….» — думал он.
Стоявший рядом матрос вынул из кармана пятак, бросил его в воду.
— А что? Как не умеет человек плавать, так вот, как эта монетка, бульк — и нету…
Боцман снисходительно повернулся к Игорю, сказал:
— Но ты не унывай, малыш. В жизни ты не один такой сухопутный… — и хотел было под общий хохот похлопать Игоря по плечу, но тот увернулся, растолкал матросов и бросился к капитанскому мостику. В одно мгновение снял с себя сандалии и рубашку.
Все поняли, что сейчас должно произойти что-то неожиданное и страшное, перестали смеяться, напряженно следя за Игорем.
— Ты что вздумал? — крикнул дядя Петя. — Не сметь!
Но Игорь уже не слышал. Немного разбежавшись, он легко оттолкнулся ногами и прямо с верхней палубы, высотою в три этажа, ласточкой полетел в Волгу. Мгновение — и Игоря не стало видно: скрылся под водой.
Забили тревогу. Раздались голоса: «Человек за бортом!», «Человек за бортом!» У перил столпились пассажиры. Пароход остановился, спустил шлюпки. Как на кладбище, стало тихо.
— Плывет, плывет! — разорвал тишину чей-то голос.
Все увидели Игоря. Он уверенно и легко плыл навстречу спущенной на воду шлюпке. В ней сидели боцман, дядя Петя и несколько матросов. Игоря тут же подобрали в шлюпку. Он улыбнулся, посмотрел на боцмана и, тяжело дыша, сказал:
— Вот… Копейка цена… сухопутным. Ишь, в шлюпку забрался. А еще боцман!
Боцман рассмеялся. А когда поднялись на пароход, сказал:
— Видать, моряком тебе быть, парень. Молодец!
— Ничего хорошего не вижу, — прервал дядя Петя и приказал Игорю: — Отправляйся в каюту!
Игорь сразу потух. Лицо дяди было строгим и холодным. Эх, и чего только ему, Игорю, так не везет в жизни! Вот, пожалуйста, опять неприятности!..
Вскоре в каюту вернулся и дядя Петя. Он долго ходил молча из угла в угол и курил. Потом резко повернулся к Игорю:
— Ты понимаешь, что ты сделал?
Игорь молчал.
— А я-то думал: племянник растет у меня настоящим человеком… Хвастун! — И дядя, хлопнув дверью, вышел.
Игорю хотелось плакать. Бабушка тоже косилась на него.
— Почему дядя Петя ушел? — спросил он у нее.
— Не хочет видеть тебя, потому и ушел.
— Я сам пойду к нему.
— Нечего тебе ходить!
Игорь опустился на стул, прижался лбом к холодной стенке.
Только вечером в каюту возвратился дядя Петя. Игорь исподлобья посмотрел на него и удивился: на лице дяди Пети не было и тени недовольства. Он приветливо улыбался, будто ничего не произошло.
— Как дела?
— Плохо, дядя Петя.
— Ну, это значит, уже хорошо, — подмигнул он. — Уразумел?! Ну, а теперь… — Добрые синие глаза дяди Пети загадочно блеснули, он подошел к полированному шкафчику и вынул из него большой морской бинокль. — Это тебе. Если уразумел, значит, можно: за мужество и упорство. Читай, что здесь написано. — Дядя Петя передал Игорю бинокль.
Игорь прочел высеченные на нем буквы:
— «Тому, кто в смелости мудр и сердцем моряк. Макаров».
— Понимаешь ли, что значат эти слова бородатого адмирала? — спросил дядя Петя.
— Я всегда буду любить дом, в котором вырос ты, дядя Петя, — ответил Игорь.
— А ты растешь не в этом ли доме? Да и бородатый наш Макаров не в том ли доме рос, который зовется Россией? — вмешалась бабушка.
Игорь понял бабушку, но ничего не ответил. В открытый иллюминатор доносился плеск воды. Волны, вспугнутые ветром, стучались о борт парохода. Дядя Петя взял из рук Игоря бинокль и повесил ему на грудь. Игорь, казалось, подрос. Расставив немного ноги, он стоял, как юный капитан. Во взгляде его была уверенность, а в сердце билась нежная любовь к бабушке, дяде Пете и к маленькой речушке Кинель.
Золотые клены
1
Ионел ходил в высокой, как копна сена, барашковой шапке, в развалившихся отцовских сапогах. Куртка на нем была с чужого плеча, а штаны латаные-перелатанные, не стираны с тех давних пор, как были сшиты. Все на селе знали, что отец Ионела, хоть и вступил в колхоз, продолжал жить по-старому. Усадьба у него с домом и двумя сараями под железной крышей отгорожена от мира густым садом. Да и приусадебный виноградник у Штефана почти в полгектара и дает немалый доход. Так что мог Штефан купить сыну и школьную форму, и новые сапоги, и шапку, в которой бы голова Ионела не утопала, как в макитре. Но почему-то отец ничего не делал для своего сына.
Ионел — черноглазый мальчик с насупленными бровями и всегда нестрижеными волосами — напоминал дикаря. Уставится в одну точку, убей его — ни слова не скажет. С ребятами не дружил, а девчонок и на шаг не подпускал. Учился Ионел в пятом классе — последним учеником считался: табель его знал только двойки. На Ионела все давно махнули рукой и не обращали внимания, а вчера сам директор пообещал пересадить в четвертый класс.
— Если пересадите, — сказал Ионел учительнице Нине Андреевне, — совсем уйду из школы. — Ноздри у Ионела раздулись, глаза сухо блестели, как кусочки антрацита; руки отчаянно мяли шапку; взлохмаченные волосы, жесткие и черные, как воронье крыло, торчали в разные стороны, будто по ним ветер прошелся.
— Причесался бы, — недовольно сказала Нина Андреевна. — Весь класс позоришь. И мне от тебя покоя нет. Но ты мне не грози! Уйдешь и уходи! Учиться надо хорошо, тогда не пересадят.
— Буду учиться! — твердо сказал Ионел, повернулся и пошел.
— Погоди, — позвала Нина Андреевна. — Ионел, погоди!
Но Ионел не остановился, плотно закрыл за собою дверь класса.
2
Ионелу хотелось плакать. На земле он был один-одинешенек. Холодный осенний ветер хлестал по лицу. Скоро зима… Вчера прошел дождь, и под ногами было сыро. Ионел чувствовал сырость сквозь дырявые подошвы старых сапог. Он шагал, потуже запахнув полы ватной куртки, и раздумывал над словами Нины Андреевны. Ионел знал, что она не такая, как все, и потому любил ее больше всех на свете. Никто не мог сравниться с нею в их селе. Она была красивая, и глаза у нее черные. Ионел не раз смотрел в осколок зеркала, вделанный матерью в стенку касса маре[1], и находил, что его глаза как две капли воды похожи на глаза Нины Андреевны. Он берег эту тайну пуще жизни. Был еще один человек, да только умер — его старшая сестра Домника, которую Ионел почитал и любил так, что ничего на свете не было жалко для нее, даже самого себя. Как он хотел, чтобы Нина Андреевна была его старшей сестрой! Не было бы тогда человека счастливее его. Совсем недавно, в прошлом году, пришла она из института к ним в школу, а Ионелу казалось, что знает он ее уже давно, с самого раннего детства. Когда умерла Домника, Ионел страдал и тосковал, в сердце было пусто, будто суховеем выветрило из него все. У Нины Андреевны он надеялся найти то, что потерял со смертью сестры, — ласку и теплоту, которых ему так недоставало дома. Он любил и свою мать, но почти не видел ее. Тихая и неприметная, маленькая, она с утра до ночи пропадала то в огороде, то возилась в сарае с овечками. Хозяйничала в доме бабка Степанида, мать отца, старая и шершавая, как изогнутая, сухая груша в их саду. У нее были колючие глаза и холодные руки. И с отцом у Ионела не было дружбы. Отец пугал какими-то грядущими бедами, настраивал сына против всех людей села, особенно против школы. Не раз он пытался удержать Ионела дома. «В школе нечего делать, — зло говорил он. — Из-за школ люди перебаламутились». Мать, сама неграмотная и не имевшая представления о том, чему и как учат в школе, всегда безропотная, в этих случаях бросалась отцу в ноги и, причитая, просила его смилостивиться: «Надо, надо ходить в школу!». Отец отталкивал ногою мать и кричал сыну, указывая в сторону матери: «Ее умом жить — света не видеть!»
Из смежной комнаты зло смотрела бабка Степанида. Казалось, самой Степаниды не было видно: лишь одни колючие глаза ее будто висели в воздухе и, как зеленые лягушки, собирались прыгнуть в побледневшее лицо Ионела.
Вспомнив о доме, Ионел вздрогнул. После разговора с Ниной Андреевной ему почему-то очень не хотелось возвращаться домой, видеть глаза бабки, чувствовать на себе тяжелые, испытующие взгляды отца.
Вечер наступил быстро. Из-за холма кошачьим шагом кралась темнота. На колхозном дворе раздавались приглушенные голоса хлопотливых женщин. Возле клуба, неся эхо в долину, бил барабан и тонко, как комариный писк, пела скрипка, созывая молодежь на гулянье. Ионел слышал от ребят, что в клубе бывает весело, устраиваются танцы и игры. Отец наотрез запретил ему бывать там.
3
На пороге Ионела встретила мать. С обычным испуганным видом она быстро провела его по темным сеням в безоконную комнатушку-чулан, захлопнула за ним дверь. Ионела всегда запирали в чулан, когда у отца собирались гости. Через минуту мать вернулась, вложила в ладони Ионела ломоть хлеба и гроздь винограда и так же торопливо ушла.
Ионел отложил хлеб и виноград в сторону, не раздеваясь, сел на покрытый ковром сундук, служивший ему кроватью. Сжав голову руками, Ионел стал думать о том, как отомстить людям, не желающим знать, что у него, Ионела, на сердце. «Прыгнуть в колодец и утопиться», — тихо сказал он самому себе, поднялся и сел опять. В школе о нем пожалеет, может быть, одна Нина Андреевна, а дома — только мать. Мальчишки забудут о нем на другой же день…
За стеной послышался голос отца, гул мужских голосов.
Ионел разулся и на цыпочках вышел в коридор. В щелку приоткрытой двери из комнаты отца проникал узенькой полоской свет. Ионел подкрался к двери и заглянул в щель. В комнате было много мужчин и костлявая бабка Степанида с клюкой. Потом Ионел разглядел мать. Сжавшись в комочек, она неприметно сидела в углу. У простенка, между занавешенных окон, на белом столе стояла золоченая икона в черной раме, перед ней бился болезненный огонек в зеленой лампадке. Рядом горели две оплывшие свечи. Их свет не рассеивал мрака комнаты. Лида людей были едва различимы и казались желтыми, точно не живые люди стояли и сидели в комнате, а мертвецы, выбравшиеся из могил. Только отец и при этом свете оставался по-прежнему крепким, дюжим, толстощеким. Жадно и торопливо пробегали его глаза по лицам собравшихся и опять впивались в раскрытую книгу, что лежала у него на коленях.
Возле отца согнулся хиленький мужичок с крысиным острым лицом. Он угождал отцу, чуть ли не ползал в ногах, Ионел знал — это Петря Балан, вреднейший на всю округу человек, все село его презирало.
Отец не то читал, не то говорил, разобрать было трудно. Ионел, затаив дыхание, прислушался. Уже в который раз он тайно подкрадывается под эту дверь, и всегда в голове рождается одна и та же мысль: отец у него не такой, как все. Недаром же эти люди подчиняются ему. Даже Петря Балан перед отцом дрожит, и мать ни в чем не перечит. Домника молилась на отца, боялась его. «Во имя святая святых, — говорил отец, — покинула землю Домника». И сам Ионел испытывал перед ним холодный страх. Как-то, приласкав Ионела, отец сказал: «Есть, сынок, царство, где слезам и горю нет места. Наступит час, и я введу тебя в это царство». И вот сейчас отец тоже что-то обещал столпившимся подле него в темной комнате людям, звал их любить ближнего, быть кроткими. И вдруг громко сказал:
— Добро и зло властвуют в мире. Одна часть людей — праведные, другая — одержимые, Околдованные и опутанные цепями сатанинской власти. Мы, посланцы бога Иеговы, все как один и один как все обязаны вынести на плечах своих тяготы и горести, вырвать одержимых из ядовитых когтей дьявола, установить счастье на земле.
Ионел, дрожа от холода всем телом, как завороженный, смотрел на отца. Босые ноги совсем одеревенели, но он не чуял в них боли. Он, как и эти мертвецы-люди, тоже не мог оторвать от негр глаз. Отец звал к добру, хотел, чтобы люди жили в счастье. Ионел не заметил, как заплакал: он до сегодняшнего дня не понимал отца, считал его нехорошим, злым. А отец, может, прав. Если он не хочет, чтобы Ионел ходил в школу, то, может, это и правильно. Там его, Ионела, дразнят «сектантом», Ионелу самому это слово «сектант» не было понятно. Он не раз до крови из-за него дрался с ребятами. Он считал, что его обижают незаслуженно. И теперь, слушая отца, еще больше убеждался в этом: отец думает о счастье для людей. Ионелу стало легко на сердце. Ему теперь было все равно, как думали и что говорили о нем ребята. Ионел обрел отца. Отца, которого так давно хотел иметь, — хорошего, сильного и доброго. Ионелу не терпелось сорваться с места, растолкать всех этих неприятных ему людей, окруживших отца, повиснуть у него на шее и заплакать от радости.
— Разбредайтесь по селам, колесите по земле денно и нощно, в стужу и непогоду и вершите, вершите божье дело, — отчетливо слышал Ионел ровный голос отца. — Собирайте и обращайте в веру божью больше и больше людей. Власть, которая над нами, дана земле не от бога и есть сила нечистая. Ни перед чем не останавливайтесь. Во имя бога сметайте с лица земли силу нечистую! Болезнь ей и смерть ей! Огнем и мечом, словом и делом, руками и ядом! Все простится, все зачтется…
Ионел вздрогнул. Будто молнией обожгло все внутри. Глаза, точно их ветром обдуло, осушились от слез. Комната зашевелилась. Крестясь, люди стали направляться к двери. Ионел, не отдавая себе отчета, вскочил в комнату и загородил своим маленьким телом дорогу, раскинув руки… От неожиданности люди в страхе подались назад. Даже отец попятился.
Ионел не представлял еще себе, чего он хочет и что собирается сделать. Он бы все отдал, только чтоб отец не произносил тех страшных слов. Отец, наверное, оговорился. И Ионел надеялся, что отец рассеет его подозрения, скажет, что все это неправда. Ионел очень будет любить своего отца.
Штефан, оттолкнув локтем стоящего рядом с ним Петрю Балана, медленным шагом приблизился к Ионелу. Глаза его с лютой ненавистью смотрели на сына. Ни слова не говоря, он ударил его наотмашь. Ионел от сильного удара упал, но не заплакал, не понимая, за что его ударили. С пола он глядел на отца и видел его щетинистый широкий подбородок.
— Так не зря меня дразнят сектантом, — сказал негромко Ионел, глотая подступившие слезы.
Лицо у отца перекосилось.
— Кто стоит у вас на дороге, даже если сын, уберите его, — сурово сказал Штефан и ударом сапога отбросил Ионела в сторону.
Ионел вскрикнул и захлебнулся. Из носа и горла хлынула кровь. Со стоном из темного угла вырвалась тоненькая, как стебелек, мать Ионела. Упав перед ним на колени, забилась, как раненая птица.
4
Жизнь школы между тем шла своим чередом. Неугомонные, шумливые и веселые ребята бегали, играли, вечерами учили уроки. И никому не было дела, да никто и не знал, что Ионел умирал в душной комнате, на сундуке, покрытом пыльным старым ковром.
И, может быть, о нем так бы никто и не вспомнил, если бы не одно обстоятельство, приключившееся на днях и вызвавшее много разговоров в школе. Андриеш Стеля, пионерский вожак и любимец школы, подрался со Спиридоном, сыном Петри Балана. Спиридон и его отец, как две горошины, были похожи друг на друга. Голова торчала вверх, подбородок, губы, нос и глаза — все тонкое, острое. Худой и приземистый, колючий, как шиповник, Спиридон обладал немалой физической силой. Ребята его побаивались. И не столько силы его, сколько подлой хитрости. Однажды в драке он прокусил ухо одному мальчишке, который положил его на обе лопатки. И тот так и остался с рваным ухом.
Началось с того, что ребята, посоветовавшись, решили создать при школе опытное хозяйство, где бы они в свободное от занятий время смогли обрабатывать землю, как это делают их отцы и матери в колхозе, разводить кроликов, растить телят. Застрельщиком был Андриеш.
Спиридон, слушая и наблюдая за ребятами, хихикал и посмеивался.
— Чепуха, ничего у вас не выйдет, — сказал он.
Поднялся спор. Спиридон внес такую неразбериху в затеянное ребятами дело, что трудно было найти ему начало и конец.
— Подстрекатель, — назвал его Андриеш.
— А я ничего, — пожимая плечами, вскинул тонкие, как лезвие, крысиные брови Спиридон. — Если вам хочется, то можно и бригаду и хозяйство. А если не нужно, так и не нужно. И я за то, как все. А ты, Андриеш, в начальники лезешь. — Спиридон засмеялся.
— Эх, ты… — сказал Андриеш. — Что ты, что твой батька — одна вам цена, все шиворот-навыворот хотите: не люди, а репьи, так и цепляетесь ко всему.
— Ты гляди у меня!
— Нечего мне глядеть!
Спиридон позеленел от злости:
— Ах, так! — и, не раздумывая, ударил Андриеша головой в челюсть.
Андриеш и опомниться не успел. Спиридон подставил Андриешу ногу и опять ударил. Андриеш едва не упал, но изловчился и подмял Спиридона под себя. Тот завизжал, будто его резали, а сам старался угодить кулаком Андриешу под ложечку. Андриеш опять поддал. Спиридон вдруг заплакал и запросил пощады.
— А я к тебе и не лез с дракой, — тяжело дыша и поднимаясь с пола, сказал Андриеш. — Иди умойся. Размазня!
Спиридон направился к выходу, но не сделал и двух шагов, как вдруг повернулся, подлетел к Андриешу, обхватил его сзади за шею и зубами вцепился в ухо. Андриеш взвизгнул от боли. На белую рубашку из уха потекла кровь. Он едва смог сбросить с себя Спиридона, но, сбросив, навалился на него всем телом и бил так, что его с трудом оттащили подоспевшие ребята.
Спиридон на этот раз уже не плакал. Крысиные глаза его сухо сверкали, маленький острый подбородок вздрагивал, зубы выбивали дробь. Он пригрозил Андриешу:
— Запомни, вожак. Мы с Ионелом тебя поймаем в темном углу… Убьем!..
Ребята замерли. Растерянно глядели друг на друга и на сгорбившегося Спиридона. Ионел хоть и учился в пятом классе, но боялись его даже семиклассники: он был ловкий и сильный, сравниться с ним в этом никто в школе не мог. Но не это сейчас вдруг заняло ребят. Все неожиданно вспомнили, что Ионел больше месяца не ходит в школу и нигде его не видно. И пусть он плохой ученик, а о плохих думать никогда не хочется, но, может быть, у него беда?.. Впрочем, если он друг Спиридона, то лучше, что его нет. Так решили все.
5
По утрам уже случались заморозки. Напоенная дождями земля покрылась стеклянной коркой льда. Деревья, стряхнув себе под ноги листья, ощетинились в серое небо. Ионел пытался увидеть из маленького, как спичечный коробок, окна хоть краешек неба, но заслоняла старая, со скрюченными сучьями груша. Одна ее ветка уперлась в самое стекло, и Ионелу казалось, что чья-то черная рука тянется к нему и хочет схватить за горло. Ему трудно было дышать. В больницу Ионела не повезли. Отец вообще никого к себе в дом не пускал. Отхаживала Ионела бабка Степанида, прикладывала к груди какие-то мокрые тряпки и поила горьким настоем трав. Проболел Ионел с тех пор, как отец его ударил сапогом, больше месяца. Мать не верила, что выживет сын, совсем извелась, стала еще тоньше, ходила как тень. У Ионела мучительно ныли перебитые два ребра, кололо в груди. Слабый и жалкий, он впервые сегодня выглянул в окно и чему-то обрадовался, заулыбался. Он долго думал и никак не мог понять чему… И вдруг понял, и его сердце чутко забилось. Он обрадовался тому, что там, за окном, есть жизнь. Светит солнце, идет дождь, глядятся в небо, как в зеркало, сады, бегают ребята, о чем-то всегда недовольно толкуют между собой взрослые люди. Жизнь! Он до этой минуты не знал, что это такое. Все еще улыбаясь, Ионел опять взглянул в окно, но корявая груша заслоняла окошко, и ему так ничего не удалось увидеть.
Дважды Ионела навестила Нина Андреевна, учительница, у которой такие ясные, с золотыми искорками глаза, черные как вороново крыло волосы и красивое, как у сказочной царевны, лицо. Нина Андреевна что-то ему говорила о школе. Он не понимал ни одного ее слова. Сквозь густой туман и боль в голове уловил только, что она боится за его здоровье и хочет знать, почему он занемог.
Ионел не собирался жаловаться. Он лучше перенесет все сам. Он не скажет и об отце. Как щенку, ему дали пинка сапогом. Может, это к лучшему: теперь до конца он узнал, кто такой его отец, и больше в нем не обманется. А может быть, отец по ошибке ударил, не разобрал, чего хотел от него Ионел?..
Во второй раз, когда Нина Андреевна пришла к Ионелу, он схватил ее руку, уткнул в ее теплые, мягкие ладони свое высохшее, как кость, лицо и заплакал.
— Я поправлюсь. Я сдержу свое обещание, Нина Андреевна, верите? — тяжело дышал Ионел.
Нина Андреевна не забыла, что когда-то давно Ионел сказал ей твердо: «Буду учиться».
— Верю, Ионел. Очень верю, мой мальчик. Не надо плакать. Ты мужчина, Ионел. Ты сильный. Скорее приходи в школу.
Ионел поднял на Нину Андреевну заплаканное лицо. Она платком вытерла ему слезы.
— Вот так лучше, — сказала она.
Ионел улыбнулся. Нина Андреевна показалась какой-то другой. Она не только самая красивая для него. У Нины Андреевны доброе сердце. После сестры никого нет ему роднее ее.
— Скорее приходи в школу, — повторила она.
— Я поправлюсь…
Нина Андреевна ушла.
Звоном далеких ребячьих голосов отдалась в сознании школа. Стало как-то легко на душе. Но радовался Ионел только мгновение. Он вдруг почувствовал себя затерянным и никому не нужным. Самое худшее в жизни — быть никому не нужным. Его ни разу не навестили ребята из школы. Ионел неподвижно лежал с широко открытыми глазами и смотрел в потолок.
Вечером вдруг пришел Спиридон. У Спиридона под глазом синяк, другой глаз совсем заплыл и нос расквашен. Ионел невольно улыбнулся.
— Кто это тебя так разрисовал? — со слабой улыбкой спросил он.
Спиридон, корчась от боли и от не понравившейся ему шутки, скороговоркой сказал:
— Андриеша сейчас бил. Ты не гляди, что я такой тощий. Силы у меня на всякого хватит. Андриешу я ухо прокусил и пообещал еще с тобой ему прибавить.
Ионел не считал Спиридона своим другом. Спиридон был на два года старше и не нравился Ионелу. Но все складывалось так, что Ионел, не имея друзей, нередко бывал вместе со Спиридоном. Как-то даже Ионел защитил Спиридона от ребят, которым тот чем-то насолил.
Сейчас Спиридон, глядя на больного Ионела и захлебываясь в многословье, рассказывал, что в школе решили создать производственную бригаду, а он так «ножку подставил», что из затеи Андриеша одна пыль пошла.
Спиридон явно хвастал и привирал. Ионел успел убедиться, если Спиридон что-то хвалит или говорит о чем-то плохо, то обязательно должно быть все наоборот. Андриеша же Ионел уважал, втайне завидовал ему, но считал, что дружить с ним ему, Ионелу, недоступно. Андриеш — вожак. Он и учится здорово, и собою красивый, рослый парень, и одет всегда хорошо. Все у него отлично. Андриеша все любят. А Ионел — всем чужак-чужаком, да вдобавок еще и сын сектанта. Куда уж ему, Ионелу, лезть в друзья к Андриешу. Но, если он выздоровеет, он все-таки побьет Андриеша, чтобы не трогал и не обижал Спиридона.
— Потому что твой и мой тата — друзья, поэтому они нас и не любят. Вот поэтому нам и надо быть потеснее и вместе, один за одного, — вдруг заключил свой рассказ Спиридон и погрозил: — Ничего, мы у них на ферме кроликам в корм сурьмы и купороса подсыплем. Передохнут.
У Ионела отхлынула от лица кровь. Точно накаленным докрасна железом прикоснулся к живой ране Спиридон. «Огнем и мечом, словом и делом, руками и ядом…» — всплыли в памяти слова огца. У Ионела побелели губы. Он уставился в упор на Спиридона и живо, представил его отца — Петрю Балана с маленькими, острыми глазками, которые не глядели, а сверлили. Даже затошнило, до того вдруг стал противен Спиридон.
— Уйди! — крикнул вне себя Ионел.
Спиридон поперхнулся. Испугавшись до смерти, отскочил к двери, не понимая, чем вызвал внезапный взрыв лютого гнева Ионела.
— Тебя какая блоха укусила? Ты чего, рехнулся?
— «Твой и мой тата!» — передразнил Ионел. — Уйди, гадюка ползучая!
Спиридон едва натянул на голову шапку и дал деру из комнаты. Но в дверях он все-таки успел оглянуться и сказать Ионелу:
— Жаль, что тебя не убили сапогом, тупица. Ну ничего, мой отец сказал, что баба Степанида тебя отравит, как и твою сестру-отступницу Домнику. Молись богу…
Ионел откинулся на подушку. Тяжелым звоном наполнилась голова. Как сквозь туман, он услышал за окном глухие шаги Спиридона. Стало невыносимо жарко. Захотелось пить.
6
Всю ночь Ионелу снилась бабка Степанида. Как коршун, разбросав холодные костлявые руки, она прыгала вокруг него на тонких ногах, огнем дышала ему в лицо, что-то зловеще шептала, шамкая беззубым ртом. Только к утру Ионелу стало легче, схлынул жар, и он открыл воспаленные глаза. Возле него притихла мать, прикладывая к его лбу свои ледяные маленькие руки. Ионел пристально заглянул в серое землистое лицо матери и, переводя дыхание, спросил:
— И ты с бабкой. Степанидой заодно? Мне Спиридон рассказал. Отравили Домнику? Правда?
Мать закрыла ладонью ему рот, испуганно оглянулась на дверь. Из глаз ее брызнули слезы. Она опустилась на колени и, продолжая беззвучно плакать, уткнулась головой в край ионеловой жесткой постели.
— Сыночек, сыночек, Домника, как и ты, не хотела смириться. Смирись, смирись…
В комнату неожиданно вошел отец. За ним ковыляла с кружкой в руке бабка Степанида. Отец оброс бородой и отпустил длинные, как у попа, волосы. Высокий и крепкий, он едва не касался головой потолка; вошел и загородил собою чуть ли не всю комнату. Из-за его спины выглядывала, как привидение, бабка Степанида в черном заношенном платье. Матери отец сурово сказал:
— Чего в ногах у паршивца валяешься? Стонешь, причитаешь. Грех на душу берешь. Изыди. С Ионелом наедине поговорить надо.
— Нет! — не своим голосом закричала мать, прижимаясь всем телом к Ионелу и обхватывая его руками. — Нет, нет, не дам!
Ионел встретился с отцом глазами. И так глядел на него, что тот отступил на шаг. Мать притихла. Она знала, за каким злым делом пришли Штефан и баба Степанида. То же они сделали и с Домникой…
— Штефан, нельзя. Нельзя, — опять запричитала мать и бросилась отцу в ноги. — Снизойди к грешному. Век на тебя буду молиться, Штефан…
Как сам Кащей, задвигала руками и всем туловищем баба Степанида, страшная и черная. Что-то закричала на мать, стараясь вытолкать ее из комнаты. Но вздрогнул Штефан, какая-то мысль, видно, пришла в голову. Круто сведя на переносье щетинистые брови, он шагнул к Ионелу, крепкой рукой расправил черную бороду.
— Ежели хоть слово где обронишь о том, что в доме видел и слышал, тогда пусть бог тебя простит. И на меня, отца, не гневайся: свой побьет, свой и пожалеет, — сказал он и, повернувшись, тотчас вышел.
За ним, опираясь на клюку, ушла Степанида.
Мать опрометью бросилась к Ионелу, прижалась щекой к его голове:
— Скорей выздоравливай, сынок… Скорей.
7
Нина Андреевна поравнялась с Ионелом на улице при выходе из ворот школы и вызвалась проводить его домой. Ионел шел, не чуя земли под ногами. Неделя прошла с тех пор, как он оправился после болезни. Покалывало только в правом боку, там, где цепко срослись сломанные ребра. Но та боль была для Ионела пустяком по сравнению с болью, которая поселилась в сердце, едва он переступил порог школы. Вошел, будто чужой. Его приход ни у кого не вызвал ни удивления, ни радости. Только одна Нина Андреевна сказала:
— Ой, Ионел Лотяну! Заждались мы тебя. — Ее лицо засветилось такой искренней радостью, что у Ионела застлало слезою глаза.
Но это только Нина Андреевна! Ребята и девчонки, учившиеся с Ионелом в одном классе, глядели на него враждебно.
Ионел не мог понять причины этой враждебности. Думал спросить у Спиридона, почему на него смотрят так, будто уколоть хотят, но при одной только мысли о нем стало противно. Собственно, настоящей причиной неприязни ребят к Ионелу и был сам Спиридон.
Еще в начале года из Кишинева для физического кабинета школы привезли чудесную электрическую динамо-машину. Блестела она никелем, отполированным черным основанием и стеклянным, большим, как колесо от воза, диском.
Толпились вокруг машины ребята и радовались, что скоро придется им работать с нею на уроках. Но спустя немного времени приходят они в школу и вдруг узнают, что кто-то разбил машину. Сделано это было не случайно, а со злым умыслом. И разбил машину кто-то из учеников. Вся школа была поставлена на ноги. Допытывались, гадали. Но виновника так и не нашли.
И вот Спиридон, затаив обиду на Ионела за то, что тот обозвал его «ползучей гадюкой», решил отомстить ему. Он распустил слух, что машину разбил Ионел. Известие облетело тут же все классы.
— Ионелу нет места в школе! — кричали ребята.
Все как один наотрез отказались навестить его.
Ионел, не догадываясь, что его подозревают в таком злом деле, первые дни чуть не плакал от вражды и неприязни, с которыми встретила его школа. Он тщетно пытался хоть что-нибудь понять. От него все отвернулись, затаили что-то недоброе. Ионел ждал страшной грозы. И теперь, когда Нина Андреевна сама вызвалась его проводить, он весь онемел. Он почуял, что сейчас эта гроза разразится. Может, его уже исключили из школы и не хотят сразу сказать об этом только потому, что он все еще не совсем здоров.
Нина Андреевна поглядывала сбоку на Ионела. Он чувствовал ее взгляд и тяжело переставлял ноги, обутые в отцовские старые, с задранными вверх носами сапоги. Куртка на исхудавшем теле Ионела висела, как мешок. И в шапке своей он утонул по самый нос, глаз почти не видно. Ионел не дыша, со страхом ждал, что же скажет Нина Андреевна.
— Ионел, скажешь мне правду? — вдруг спросила она.
Ионел, встрепенувшись, приподнял голову, испуганно посмотрел из-под шапки на строгое лицо учительницы.
Он никогда никому не лгал. Как Нина Андреевна может не знать этого?
— Ионел, — продолжала Нина Андреевна, — ты разбил динамо-машину? Зачем ты это сделал?
Ионел молчал. Искорки испуга, забившиеся в его глазах, исчезли, и глаза стали жестче, чем у звереныша, угодившего в капкан. Он едва сдерживал себя, чтобы не убежать. Только не этого вопроса ждал он от Нины Андреевны. Она точно ударила его ни за что по лицу.
— Я не верю, Ионел. И не верила, чтобы ты мог такое сделать, — тихим грудным голосом заключила Нина Андреевна. — Я знала, что это не ты… И сейчас вижу, что не ты.
Ионел, вобрав голову в плечи, согнулся, будто под тяжестью, стал маленьким, едва приметным. Комок слез застрял у него в горле. Ионел с трудом выговорил:
— Я найду, кто разбил машину. Ребятам только скажите, что это не я сделал. — Он повернулся к Нине Андреевне. — Я найду… — и почти бегом ушел от нее.
Блеклым было небо. В тот год в Молдавию рано пришла непогода, задули северные холодные ветры, пригнав необычно свирепую и раннюю в этих местах зиму. Остудила, заморозила она жизнь села, дорог и улиц. И как ни ослепительно светило зимнее солнце, оно не вызывало улыбки и радости, люди прятались от него в теплые углы, ближе к печке. Сердце у Ионела тоже было остужено, и он не знал теперь, отойдет ли оно у него когда-нибудь.
8
Зима и яркая весна, охватившая веселым цветением землю, пролетели для Ионела почти незаметно. Держался он в школе особняком, в споры ребят не вмешивался. За время болезни Ионел много пропустил уроков, да и раньше учился не ахти как. Теперь же, дав слово Нине Андреевне, с утра до ночи сидел за учебниками. Постепенно он стал догонять тех учеников, от которых всегда отставал по всем предметам.
Ионелу пока не удалось разгадать, кто разбив машину. Нина Андреевна собрала ребят как-то после уроков и сказала им, что машину разбил не Ионел, что слухи об этом только наговоры и поэтому к Ионелу нельзя относиться так недружелюбно, как относятся они. Ионел об этом узнал на следующий день. Узнал Ионел и о другом: что оклеветал его Спиридон; собирался при удобном случае расквитаться со Спиридоном за клевету, но пока и виду не подавал. А Спиридон в школе ходил героем. Отец ему новый картуз купил, и Спиридон думал, что теперь весь мир вращается вокруг его картуза; лицо Спиридона сверкало и блестело довольством, с картузом он не расставался ни днем, ни ночью.
Летом Ионел окончил пятый класс, перешел в шестой. Как растревоженный улей, шумела школа. Наступили каникулы. Кто собирался ехать в гости к родственникам, кто — отправиться в путешествие, но большинство ребят решило провести лето в лагере труда и отдыха, организованном при школе.
Ионел, не колеблясь, хотя и знал, что отец будет против, тоже подал заявление Андриешу с просьбой принять его в бригаду и зачислить в лагерь труда и отдыха.
Андриеш, взяв заявление, сказал, насмешливо глядя на Ионела:
— А я все жду, когда вы со Спиридоном вдвоем меня бить будете.
— Это за что? — удивился Ионел.
— А ты спроси у своего дружка. Разобрались ребята, что вы за птицы. Правду говорят: яблоко от яблони недалеко падает. Какие родители, такие и дети. Тата вот твой в святые записался. Село перебаламутил. Слухи всякие распускает, что наступит конец света. Придет, мол, Армагеддон — день страшного суда бога Иеговы, и всех неверных, то есть нас, пионеров и комсомольцев, и тех, кто за Советскую власть, перебьет. Старух и стариков с ума посводили твой и твоего Спиридона таты. Вредители они, а не святые, вот кто! В милицию бы их отвести надо.
И вдруг Ионел понял: «Спиридон не перестает выдавать себя за моего друга, и Спиридон же оклеветал меня. Что это он так старается? За что это ему отец картуз новый купил? Петря Балан скорей от жадности удавится, чем в такую трату войдет».
Андриеш насмешливо посоветовал:
— Так что, может, тебе лучше быть со своим Спиридоном, чем с нами.
— Замолчи! — вдруг крикнул Ионел. — Не клей мне Спиридона, а то…
— Что, побьешь? — по-петушиному выставил вперед грудь Андриеш; губы у него побледнели. — Ну, чего тянешь, говори или бей!
Ионел, тоже бледный, почти вплотную подступил к Андриешу. Минуту пристально смотрел на него, а потом спокойно сказал:
— Дурак ты, Андриеш. А еще бригадир производственной бригады. Дружить я с тобой хочу, а не драться, И Спиридон мне совсем не нужен.
Андриеш растерялся. Стоял пристыженный и удивленный. Он даже не поверил Ионелу.
— Дай руку, — сказал Ионел.
— Раз дружить, так давай будем дружить, — ответил не совсем еще уверенно Андриеш.
— Навсегда! — сказал Ионел и стиснул руку Андриеша.
— Только одно дело давай прежде сделаем, — сказал Андриеш. — Об этом мне еще мой отец по секрету рассказывал. Есть такое предание у нас, молдаван. Если встретишься с человеком и хочешь убедиться, настоящая ли и долгая ли будет с ним дружба, то посади два дерева. Если Оба они примутся, то быть по сему, если нет, то нет, — значит, все пустое, значит, все неправда. Я посадил уже не одно дерево, и все принялись. Вот потому у меня и друзей так много, — не без гордости заключил Андриеш. — Давай и мы с тобой посадим. Идет?
— Идет, — согласился Ионел.
Вечером они принесли из леса два выкопанных молодых, стройных, как мачты, клена. Долго советовались, где посадить клены. И наконец решили: у самых окон, перед крыльцом дома Андриеша. Посадили, полили водой. Мать Андриеша накормила «работников» ужином. Андриеш с матерью жили вдвоем, его отец и старший брат погибли на войне. Фотографии их висели в комнате, а под ними на тумбочке лежали на крошечной подушке пять орденов и медалей. Андриеш был очень похож на своего отца. Ионел это сразу отметил про себя, втайне позавидовал, что у Андриеша такой хороший отец.
Утром, чуть свет, он побежал глядеть принялись ли клены. И сердце упало. Клены стояли невеселые, листья поблекли, уныло и болезненно повисли на тонких стебельках.
Оглянувшись, Ионел заметил, что Андриеш тоже смотрит на клены и тоже ничего не понимает: клены стояли друг против друга, как два больных человека.
9
Лето было в разгаре. Почти целый день отвесно висело солнце, и жара спадала только к ночи, когда в домах гасли огни и дремотной тьмою окутывалась земля. Ионел перебрался из дома на лето в лагерь труда и отдыха. Окреп, на руках налились мускулы, живее засверкали глаза. По утрам он работал то на школьном участке — полол вместе с ребятами кукурузу и свеклу, то делал в столярной мастерской клетки для кролиководческой фермы, и все говорили: «Ионел столяр!» А после обеда — игры до самого вечера. С Андриешем Ионел сдружился, водой не разлить. Их клены, переболев, разрослись под самую крышу дома. Чуть ударит по ним ветер, зашумят, залопочут клейкой зеленой листвой, как вспугнутые птицы.
На сборе, по предложению Андриеша, Ионела назначили заведующим столярной мастерской и поручили заведовать складом, где хранились инвентарь, стекло, гвозди и инструмент школьного хозяйства. Радости Ионела не было предела. Раз ему верят, то он постарается не ударить в грязь лицом и наведет такой порядок в мастерской, какого еще никогда не было.
10
Ионел стал чуть ли не правой рукой Андриеша. К нему все обращались за инвентарем и материалами. В мастерской сооружали клетки и кормушки для ферм, ремонтировали двери и пол школьного здания. Ионел вдруг оказался нужным человеком. Везде его ждали, просили у него, требовали. И Ионел понял, что нет выше счастья, чем быть нужным. И уже как далекое прошлое вспоминал то, что было всегда наяву: отца и его дом. Света белого не было видно, так разошелся отец, когда узнал, что Ионел вздумал оставить на лето дом. Схватил Ионела за загривок, как щенка, бросил в чулан, запер его там, клянясь не выпустить, пока Ионел не сгниет. Но тут же выпустил и приказал:
— Иди и скажи им всем, что ты никого знать не хочешь, и забери свое заявление.
Ионел, прижавшись к стене, хмуро глядел на рассвирепевшего отца, не двигаясь с места. Отец трясся от злости, как в лихорадке. Сорвал с гвоздя широкий кожаный ремень и огрел им по голове Ионела. Вбежала мать. Отец ударил и ее.
— Все равно не пойду забирать заявление! — закричал Ионел и кинулся к матери. — Не смей бить маму! Не смей! Если ты еще хоть раз ударишь ее, я подожгу дом и все, что во дворе.
Штефан отступил на два шага, бледнея.
— Пропади ты пропадом со своим змеенышем, — едва выговорил он матери. — Да падет на вас крест и тяжкая кара Иеговы. — И ушел, хлопнув дверью так, что зазвенели окна.
Баба Степанида, ковыляя по комнате, как облезлая ворона, в черном платье и в серой дырявой кофте, что-то невразумительно бормотала, замахиваясь костылем, вращая круглыми, как у совы, глазами. Через минуту Штефан вернулся и увел бабу Степаниду.
— Пусть будет, как он хочет, на то, видно, божья воля, — неожиданно сказал он.
И с того дня отец переменился. Ни словом не обмолвился, когда Ионел собрался и ушел в лагерь труда и отдыха. Только заплакал, прижал голову Ионела к груди, поцеловал в лоб. Ласковый и какой-то растерянный. В глазах его одна доброта. Раза три Штефан наведывался к Ионелу в школу, раз даже принес конфет, справлялся, как он живет. Приходила и мать. Она, как всегда, была молчалива, поглядит минуту на Ионела и уйдет.
А сегодня утром Штефан пришел опять. Ионел, отправив ребят на приусадебный участок, возился один в кладовой, приводил ее в порядок после выдачи инструментов и материалов. Дверь была открыта настежь. Ионел не заметил отца, пока тот не поздоровался.
— Ты чего, тата? — спросил Ионел.
Штефан, войдя в кладовую и присев на ящик, стал рассказывать, что затеял строить во дворе новый деревянный сарай для овец и что плохо ему одному, без помощника. Ионел насторожился. Лагерь он не бросит, как бы отец ни настаивал.
— Но я не за тем пришел, чтобы тебя домой забирать, — точно угадав мысль Ионела, со вздохом сказал Штефан. — Помощи пришел просить. С гвоздями у меня туго, а потребность большая. В сельпо нет. В район ехать — время терять, а у тебя, гляжу, вон их сколько. Один ящичек можно уступить, бог не осудит. А я, Ионел, твою помощь по гроб не забуду.
— Гвозди не мои — школьные, и я не дам! — сказал Ионел.
— Я другого и не ждал от тебя, сынок, — поднимаясь с ящика, жалостливо сказал Штефан. — Я не прошу, чтоб ты так, задаром, давал, а взаймы… На неделе съезжу в район и верну.
— Нет! — опять отрезал Ионел.
— Ну и на том спасибо, сынок. Придется мать сегодня снарядить в район, пусть сходит. Гвозди позарез нужны, а мне недосуг расхаживать. Прощевай, сынок. Спасибо, мать и отца пожалел. — Штефан, тяжело ступая, направился к выходу.
Ионелу показалось, что отец за последнее время постарел, осунулся.
— А когда вернешь гвозди? — остановил он его.
— Сказал, на неделе. Съезжу в район и гвоздь в гвоздь верну. А сейчас мать посылать за двадцать верст, — далековато, и так вся по тебе извелась, ноги едва волочит. Хоть бы наведывался чаще, а то так и дорогу к отцу и матери забудешь.
Дрогнуло у Ионела сердце. Что-то в нем противилось: нельзя идти на уступки отцу. «Нельзя, нельзя», — думал Ионел. Но и мать жалко. Отец обязательно отправит ее за тридевять земель, не посчитается ни с чем. И Ионел дал отцу ящик гвоздей. И, только когда отец скрылся за воротами, понял, что сделал ошибку. Чужим добром распорядился, как своим. И хоть успокаивал себя Ионел, что гвозди вернутся в кладовую обратно, отдаст долг отец, все равно сосало под ложечкой.
Ионел хотел уже выйти и запереть кладовую, как заметил, что мимо двери мелькнула какая-то тень. Ионел выбежал на улицу и почти столкнулся со Спиридоном. Уши у Спиридона торчали, как у летучей мыши, по лицу расползалась приторно-сладкая улыбка: Весь вид Спиридона говорил сам за себя. Кровь в Ионеле закипела. Давно поджидал он случая встретиться один на один со Спиридоном, расплатиться с ним за все, да и не таким Спиридон был, чтобы не знать, кто динамо-машину разбил.
— Гвозди с татой воруете из школы, да? — спросил, воркуя, Спиридон и засмеялся. У Ионела было мертвенно-бледное лицо. — К земле прирос?.. — начал было опять напирать Спиридон с ехидцей, но не закончил фразы — Ионел сильным ударом сшиб его с ног.
Новый картуз слетел с головы Спиридона. Ионел наступил на него ногой.
— Не губи картуз! Меня бей, голову оторви, но картуз не губи! — заголосил Спиридон и, вскочив, бросился, чтобы вырвать из-под ног Ионела картуз.
Но Ионел новым ударом опять уложил Спиридона. И такая злость разобрала Ионела, что не мог больше сдержаться. Бил Спиридона без жалости. Навалился сверху, придавил к земле.
— Вот тебе, вот тебе за гвозди, чтоб не, совал носа, куда не надо… — цедил сквозь зубы Ионел. — А теперь за другое, — и так поддал под бок Спиридону, что у того перехватило дыхание. — Врешь, притворяешься, крыса!
Спиридон и молил, и плакал, и стонал. Мокрое лицо его вспухло и расползлось, красное и противное.
— Говори, кто разбил динамо-машину? Не может такого быть, чтоб ты не знал. — Ионел скрутил на его груди рубашку. — Ну, чего молчишь?
А Спиридон в самом деле не мог произнести ни слова. У него даже во рту пересохло, язык отнялся, глаза от страха омертвели. Ионел сильнее придавил Спиридона к земле, правой рукой перехватил ему горло.
— Все скажу, все скажу… — залепетал Спиридон. — Это я. Это я. Тата мне за это картуз новый купил.
Ионел не поверил тому, что услышал. Он теперь сам испугался от неожиданности. Но заставил Спиридона повторить все сначала. Спиридон слово в слово все пересказал. Ионелу стало противно. Прикоснулся он к Спиридону и, казалось, влез в липкую грязь, которую уже ничем не смыть.
— Уйди! — встав на ноги, брезгливо сказал Ионел.
Живой как ртуть Спиридон взвился с земли, схватил валявшийся рядом картуз и, прижимая его к груди, пустился наутек, сверкая голыми пятками.
11
В послеобеденное время вся детвора лагеря труда и отдыха высыпала на школьный двор. Просмоленные солнцем, полные здоровья и энергии, ребята звоном звенели, половодьем разливались голоса далеко по долине, где мостились в густых садах белые глинобитные дома. Двор школы большой, есть где разгуляться. Ребята гоняли в футбол, играли в городки, в лапту, кто во что горазд. Двор, казалось, кипел от множества ребячьих лиц и подвижных, как маленькие рыбки, голоногих девчонок.
Ионел стоял в воротах и так ловко брал мяч, что приводил в восхищение всех футболистов. Даже Андриеш, который защищал ворота другой стороны завидовал ему. Ионелу за каждый ловко взятый мяч аплодировали болельщики, стайкой теснившиеся около ворот; тут же стояли Нина Андреевна, дежурившая в тот день от учителей по лагерю, директор школы и еще две учительницы. Ионел расцветал от счастья. Жизнь его теперь переменилась: он и силы набрался, и не чужой никому, и на душе до слез весело. Спиридона Ионел заставил пойти к Нине Андреевне и рассказать слово в слово, как он ему, Ионелу, рассказывал, когда и по чьему наставлению разбил электрическую машину. Ионел сдержал все-таки слово, данное Нине Андреевне, и от этого было хорошо и легко. А что касается гвоздей, то завтра воскресенье, и отец их обязательно вернет. «Раз занимал, то вернет!» — отмахнулся от набежавшей мысли Ионел и тут поймал труднейший мяч. Сам удивился, как смог сделать это. Рядом стоявшие девчонки завизжали. Нина Андреевна одобрительно кивнула ему головой. У нее, как спелые сливы после дождя, черные глаза. Смеются они — и ничего нет роднее на свете.
— Гляди, ребята, — крикнул кто-то, — поп идет!
Ионел оглянулся. От школьных ворот шел его отец.
Под рукой у него ящик с гвоздями. Первая мысль, которая пришла Ионелу, — это броситься к отцу и увести его отсюда прежде, чем он успеет что-нибудь сказать. Но он тут же отказался от этого, заметив, что отец держит путь к директору школы. Страшная догадка обожгла Ионела. Но он еще не верил.
Штефана плотной стеной обступили ребята. С ног до головы он был одет в черное. Во всем дворе вдруг наступила тишина. Отец, подойдя к директору и учителям, поклонился им и поставил перед ними на землю ящик с гвоздями.
Любопытные ребята, теснясь, лезли друг на друга.
— Вот полюбуйтесь, чему вы учите наших деток. Воровству, — спокойно и громко произнес Штефан, обращаясь к директору. — Комсомолия. Пионерия. Как петлю, галстуки детям понацепляли. А толку на копейку. Ионел раньше, бывало, пуху куриного с чужого двора не унесет. А как отлучили вы его от дома, от отца и матери родной, в лагеря свои запрятали — вот и результат. Принес он ящик гвоздей и говорит: «Вот, тата, на хозяйстве пригодится, спрячь». Я ну его журить. А он мне толкует: в школьном хозяйстве ничего своего, мол, нет, все общее. Брать можно, не греша. Так что подобру-поздорову возьмите ваши железки и отдайте мне моего сына! Не хочу, чтобы он до конца вором и разбойником рос. Вон бедного Спиридона как он избил! И никто ему и слова не сказал. А Спиридона из школы исключили. Не человек — зверь растет. Вот какие у вас порядочки.
Школьный двор точно вымер: ни звука, ни шороха. Даже те ребята, которые только что восхищались, как ловко на воротах стоял Ионел, теперь со страхом думали: «Ионел — вор», — и брезгливо косились на него. Андриеш, полюбивший Ионела как родного брата, чуть не заплакал: неужели он ошибся в нем?
— Ионел, это наши гвозди? — спросил директор школы.
— Наши, — коротко ответил Ионел, еще ничего не понимая и дрожа всем телом.
— А почему они оказались у твоего отца?
Ионел молчал. Штефан ухватил его за руку:
— Пойдем отсюда, сынок, от греха! Пойдем! Пусть простят нас люди добрые. Гвозди мы им вернули, но в семью их мы больше не ездоки. Хватит, научены. Пусть плохо по-старинке жить, зато без воровства. Бывайте здоровы, люди добрые, и вы, детки. — Штефан опять поклонился и, не выпуская руки Ионела, направился со двора.
— Неправда все! Неправда все! — сквозь слезы закричал вдруг Ионел и с силой вырвал руку. — Это он все сам так подстроил. Я не вор! Я не вор, Нина Андреевна, не вор! — и, обхватив обеими руками голову, упал на землю. — Я не вор!..
Ионел забился в припадке.
Нина Андреевна протолкалась вперед и сурово сказала Штефану:
— Уйдите!
12
Солнце, закатившись за холм, сполохами отсвечивало на вечернем небе. Затихла, присмирела в преддверии ночи земля. Лощины гнали прохладу и неприметно бросали пахучую росу на поблекшее разнотравье и виноградники. Село дымило печными трубами.
Собрав в маленький узелок немудреные пожитки, Ионел и его мать решили навсегда уйти от отца. У них нигде не было родственников. Но все равно — оба так решили — без отца, бабы Степаниды и их дома будет лучше. И отправились куда глаза глядят. Мир не без добрых людей, приютят. Минуя путаные, узкие улочки, выбрались они на окраину села. Впереди лежала широкая укатанная дорога. У обочины дороги стоял белый дом под красной черепичной крышей.
Мать, прощаясь с селом, поклонилась до земли. На глаза набежали непрошеные слезы.
— Погляди, какой красивый дом под черепицей, — сказала она Ионелу, чтобы хоть как-нибудь заглушить в себе тоску и слезы.
— Неужели не знаешь, мама? Это же тетки Иляны дом. А вон, видишь, два клена у крыльца? То мы с Андриещем их посадили.
Клены росли по обеим сторонам дорожки, ведущей к крыльцу. Их густые, кудрявые кроны уже были прихвачены дыханием близкой осени. Подсвеченные вечерней зарей, их листья и впрямь казались выкованными из красного золота. Пусть течет половодьем время, бьют седые морозы, метут землю суровые ветры — кленам стоять: родились они волею крепкой человеческой дружбы.
Ионел, сняв шапку, молча прижал ее к груди, и, не отрываясь, глядел на золотые клены.
— Ты говоришь, Ионел, вы их, эти клены, с Андриешем посадили? — спросила мать.
Ионел кивнул головой.
— Тогда нам незачем дальше идти, сынок. Свернем с дороги, постучим в этот дом, он откроет нам дверь. Только у добрых людей может приняться и так разрастись дерево.
И дверь, открылась. Андриеш назвал Ионела своим братом.
Необычайное приключение
1
Андрей Самойлов и Петька Курочкин — старые друзья. Так, по крайней мере, считают они сами. Правда, обоим вместе исполнилось только двадцать пять лет и срок их дружбы не превышает трех месяцев. Но разве в этом дело?
По характеру Андрей и Петька разные люди. Андрей — молчалив и спокоен, Петька — задирист и вспыльчив. И внешне они разные: Андрей высок и худощав, Петька коренаст и плечист. Андрей аккуратен, на нем ладно сидит серый костюм, всегда сверкающие ботинки и белоснежная рубашка застегнута на все пуговицы, Петька, напротив, не уделяет большого внимания одежде. Он носит спортивную «бобочку» с застежкой-молнией, брюки гладить не любит и ботинки не слишком часто чистит.
Учатся они оба в пятом классе. Против фамилии Андрея в журнале стоят одни пятерки. Зато Петька слывёт «кадровым троечником». Секрета их дружбы никто не может разгадать. О том, что их связало, знают только они сами.
— Надо же было так поздно родиться! — вздохнул как-то Петька. — Вот жили же Павка Корчагин, Олег Кошевой, Сережка Тюленин.
Андрей задумчиво глядел в одну точку.
— Это, брат, точно, — продолжал Петька. — В скучное время мы с тобой живем. Развернуться негде. Ну какие тут могут быть подвиги, какие? Знай только — учись.
— Скучное время? — отозвался Андрей. — Эх, ты, тоже мне! А Братское море? А целина, Сибирь? Скучно, да? Тоже скажешь…
— Я не про то, — Петька досадливо нахмурил лоб. — Там, конечно, дела. А у нас что? Киснем тут, как… как огурцы в бочке! Вот бы податься куда-нибудь! А, Андрюшка?
— Я бы не прочь, но…
— Э, да какое там «но»… решим и все!
Андрей не сдавался:
— Ну, поедем мы в Сибирь. А дальше что? Ну, говори, что?
Петька вздохнул:
— Как все люди, так и мы — электростанцию будем строить.
— Строить… Это не то. Вот в Алжир бы к арабам, в Африке помогать свободу завоевывать — это другое дело.
Петька подскочил:
— Правильно!
Человек он был незаурядной фантазии, тотчас стал рисовать картину: они с Андреем в пустыне. Пески. Кара. Он, Петька, — Чапаев, Андрей — комиссар. Вот он несется на вороном коне, на солнце сабля сверкает, а вокруг, налево и направо, валятся скошенные его ударами враги, которые против негров и Африки.
— Только плохо одно, что арабы по-русски не понимают. Разговаривать с ними трудно будет, — заключил Петька.
Андрей про себя решил, что Петька правильно рассудил, конь и сабля — это не его, Андрея, дело: он никогда даже верхом не сидел на лошади, а вот комиссаром или разведчиком — это можно. И спросил:
— А как же пограничники? Границу как свою переходить будем?
Петькины глаза потухли:
— Да… Пограничники, они, конечно, народ строгий… У них через границу и комар не перелетит. А вот мы с тобой — сможем! Не пройдем, так по морю проплывем. В трюм корабля залезем между мешков — и все!
Друзья стали тайно готовиться к побегу. Перечитали в учебнике географии все, что было написано об Африке. Приготовили рюкзаки, набили их до отказа хлебом, колбасой, сахаром. Петька выкопал на огороде спрятанную обойму патронов, которую подобрал года три назад за городом, в заросшем бурьяном противотанковом рву. Патроны почистил песком и, завернув в носовой платок, положил в рюкзак.
— В Африке все пригодится, техника там отсталая, — солидно сказал он Андрею.
Но о затее приятелей вдруг пронюхал их пронырливый одноклассник — Колька Быстров. Пронюхал и раструбил на всю школу. Петьку и Андрея подняли на смех, прозвали горе-робинзонами. Петька, правда, прижал Кольку в темном углу и надавал ему тумаков, но поездка окончательно сорвалась. Мечте о подвиге не суждено было сбыться.
2
Скучно и буднично потянулись дни. Друзья сдали экзамены. Оба перешли в шестой класс. Андрей получил похвальную грамоту, а Петька, как ни старался, чтобы не отстать от Андрея, все-таки сплоховал: отхватил-таки три тройки. Андрей упрекнул друга: не мог поднажать. Петька полушутя-полусерьезно, чтобы не выдать обиды на самого себя, сказал:
— Мне за тобой не угнаться. Ты, Андрюша, интеллигенция. А я что? Видать, в отца весь удался. Он хоть и лучший мастер на заводе, а вот неученый. У тебя вон мать учительница, отец в институте лекции читает. Чего тебе не быть отличником? А мне катить на тройках на роду написано. Я пролетариат.
— Эх, ты! «Пролетариат…» Только я вот тебе что скажу: пролетариат никогда слабаком не был, и дружить с тем, кто в хвосте тянется, не особенно весело.
Петька вспыхнул:
— Ну и не дружи! Думаешь, ты мне больно нужен? Тоже мне, маменькин сыночек!
— Дурак! — отрезал Андрей. Петька не успел даже опомниться.
— Ты что, спятил? — крикнул он во весь голос. — Ты кого оскорбляешь? Меня? — и преградил Андрею дорогу. — Ну-ка, повтори, что ты сказал? — Петька тяжело дышал.
— Повторить? — Андрей спокойно глядел на Петьку. — Что ж, пожалуйста. То, что я сказал, правда.
Петька схватил Андрея за ворот рубахи, тряхнул, Андрей с силой, но спокойно отвел его руку.
— Нет, ты повтори! Повтори! — горячился и кричал Петька. — Повтори, говорю! — и опять схватил Андрея за ворот.
Откуда-то налетели одноклассники, окружили Андрея и Петьку. И тут же — Колька Быстров.
— Гляди, горе-робинзоны дерутся! — рассмеялся он.
Петька оставил Андрея. Быстрову пригрозил:
— Ну, ты смотри у меня! — И, растолкав ребят, выбрался из круга, наклонив голову, ушел.
Ребята затормошили Андрея:
— Что у вас случилось?
— Ничего, — буркнул Андрей и направился в другую сторону.
3
Не виделись они три дня. Первого шага к примирению никто не хотел делать. Даже на выпускной вечер, когда подводился итог целого учебного года, они явились врозь. Ученики давали самодеятельный концерт. У всех веселое, праздничное настроение, улыбающиеся глаза, радость на лицах. Только лица Петьки и Андрея были унылые. Петька стоял в одном конце коридора, Андрей — в другом. Непривычно было видеть закадычных друзей не вместе.
Какая между вами кошка пробежала? — допытывались ребята у Андрея.
Тот невесело пожимал плечами.
А когда точно такой же вопрос задали Петьке, он сказал:
— Сами вы — кошки. Много будете знать — быстро состаритесь. Дружбе нашей крышка!
Но на этот раз Колька Быстров, сам того не подозревая, спас положение. Он решил разыграть Петьку. Увидев, что тот скучно переминается один у окна, закричал на весь коридор:
— Ребята, Андрея бьют! Парни из первой школы Андрея бьют!
Петьку будто кто в грудь толкнул. Он мотнул головой, огляделся и ветром сорвался с места, заработал локтями, пробираясь через толпу туда, где был Андрей. Одноклассники толпой двинулись за Петькой.
Еще издали он увидел своего друга. Андрей стоял в тесном кругу мальчишек из соседней школы.
— Стой! - закричал Петька. — Стой, говорю! — запыхавшийся, ворвался он в круг, загородил собою Андрея. — Драться, да? Ну-ка, кто тут смелый, налетай! — и сжал кулаки.
Глаза у Петьки сверкали, ноздри раздувались.
Ребята, стоявшие с Андреем, рассыпались в стороны.
— Ты что, белены объелся? — кто-то спросил у Петьки.
Подбежали одноклассники. Раздался взрыв смеха. И только тут Петька понял, что над ним зло подшутили. Андрей просто разговаривал с ребятами.
Петька толкнул в бок Кольку Быстрова:
— Ты теперь у меня по-настоящему получишь!
— Ты это чего, Петька? — спросил миролюбиво Андрей.
— Так, ничего. Вот этот, — показал он глазами на Кольку, — молол тут всякое. У него же язык знаешь какой? Что хвост у дворняжки — весь в репьях, так и цепляется.
Андрей, сообразив в чем дело, пожал молча Петьке руку. Петька просиял.
— Ну что ж, я всегда за мир, — сказал он.
Подошла Нина Дроздова — конферансье сегодняшнего вечера.
— Повсюду тебя ищу, Андрюша, — сказала она. — Надо же заболеть Ване Смирнову. Ты его должен заменить. Будешь читать стихи. Проваливается номер.
— Так это ж Петька может! Он знаешь, как читает!
— Его упрашивать неделю надо, — махнула рукой Нина.
Петька был мастер читать стихи Владимира Маяковского. Никто в школе не мог поспорить с ним в этом деле. Все, кто Петьку слышал, говорили: «Талант!». Но у Петьки была тайна, из-за которой он всегда мялся и отказывался. В эту тайну был посвящен один Андрей. И состояла она в том, что наизусть Петька знал лишь два стихотворения: «Стихи о советском паспорте» и «Прочти и — катай в Париж и Китай».
Соглашайся, Петька, — подтолкнул его Андрей.
Петька колебался.
— Вот, видишь: Петька остается Петькой, — усмехнулась с иронией Нина.
— Чего же ты, — почти угрожающе сказал Андрей. — А еще друг называется. Соглашайся.
И Петька решился.
4
Школьный зал был переполнен. Давно уже погас свет, раздвинулся занавес на сцене. И вот к рампе вышел конферансье — Нина Дроздова. На ней легкое голубое платье; длинноногая она и красивая, пепельные волосы ее заплетены в тугую косу. Петька не раз говорил Андрею, что если бы Нинка училась в их классе и главное — была мальчишкой, ее определенно можно было бы принять в свою компанию: решительная она и смелая, вроде Любки Шевцовой из «Молодой гвардии».
Андрей сидел в третьем ряду и в ожидании, когда выступит Петька, нетерпеливо ерзал на стуле. Уже пропел школьный хор, уже ребята из шестого класса лихо отплясали «Уральскую», а Петьки все не было. Андрей уже стал думать, не выкинул ли его дружок какой-нибудь номер. Но тут он услышал:
— Пет-р-р Ку-урочкин.
Петька неторопливо вышел из-за кулис. Уперся ногами, словно был не на сцене, а на палубе корабля во время качки. Левая рука в кармане, правую он слегка приподнял и, глухо произнеся первые слова, сжал пальцы в крепкий кулак. И вдруг заговорил басом. Каждое его слово было чеканным, весомым, падало, как молот на наковальню. Нет, это был не тот Петька, какого знал Андрей. Казалось, даже ростом он стал выше.
«…я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза» —бросил Петька, как бомбу, последнюю фразу и умолк.
Зал минуту молчал. Потом словно обвалился потолок. Вихрем метнулся из конца в конец гром рукоплесканий. «Бис, бис», — горланили ребята. Многие повскакивали с мест: «Молодец, Петька! Браво! Браво!» А он стоял на сцене и сдержанно улыбался. «Артист!» — радостно подумал Андрей. Еще больше он полюбил своего друга. И если бы можно было немедля броситься к нему на сцену, он сделал бы это, крепко обнял его у всех на виду и сказал: «Завидуйте, Петька — мой первый друг».
Петька прочел и второе стихотворение. И еще больше покорил зал. Его вызывали опять и опять, просили прочесть еще что-нибудь, но он раскланивался и дипломатично показывал на горло: не могу, мол, охрип…
5
Они вновь были вместе. Ушли со школьного вечера и решили завернуть к реке. Сумерки окутали улицы. На звездном небе плыла луна. Дорога, крыши домов, деревья — все залито зеленоватым светом. Тихо. На зеркальной поверхности реки лунная дорожка. Петька поднял камень, размахнулся и бросил. В воде глухо булькнуло, и по лунному зеркалу во все стороны побежали волнистые круги.
— Завтра каникулы…
— Да…
— Что будем делать теперь? — Петька задумчиво играл застежкой-молнией.
— Надо что-то придумать, — отозвался Андрей.
— У меня есть одна идея, — сказал Петька. — В Севастополь податься. К морякам. Юнгами поступить на военный корабль.
Андрей подергал себя за кончик уха. Петька терпеть не мог этой его привычки: дернул себя за ухо, значит, жди возражений.
— Дело стоящее, — подтвердил Андрей. — Только… в Севастополь нельзя. Дядя у меня там служит. Увидит, что мы с тобой приехали, — и все пропало.
— На Севастополе свет клином не сошелся, — досадливо сказал Петька. — Есть еще Одесса, Новороссийск. Городов в Советском Союзе хватит. Были б щи, а ложка найдется, — ударился Петька в пословицы для солидности. — И на торговый корабль можно поступить. Тоже море, тоже океаны. Или вот, подожди, — засуетился Петька. — Податься на «Славе» в Тихий океан китов бить. Вот идея! Примут. Учениками. Я гарпунщиком могу быть.
— Не в Тихом океане, а в Антарктике наша флотилия за кашалотами охотится, — поправил Андрей. — К тому же опоздали: флотилия давно в океане. Сам в газете читал.
Петька вконец расстроился. Он был уверен, что они с Андреем способны на подвиг. И тем горше было у него на душе, что он не мог придумать, где совершить этот подвиг. А без подвига для него жизнь — не жизнь. Не в его натуре было проводить дни в будничном спокойствии.
Андрей тоже переживал, но более сдержанно. Хотя он так же, как и Петька, был твердо убежден, что в той жизни, в которой они каждый день жили, подвига никак нельзя было совершить. И вдруг Петька выдвинул новое предложение — уехать в Казахстан, на целину. Петька загорелся. Фантазия его тут же нарисовала картину ковыльной степи.
— Конца степи нет — море, только сухопутное. Орлы парят в сером небе, ночью волки воют. И люди там, как робинзоны, войну с непогодой ведут. Нам трудно, как челюскинцам на льдине, но зато об этом узнает вся страна.
Утром они написали большое и горячее заявление в райком комсомола с просьбой отправить их на целину. Но в райкоме не поняли ребят, посоветовали им подрасти. А один товарищ даже посмеялся: «Еще, чего доброго, без мамы и папы носы себе отморозите».
У Петьки совсем испортилось настроение.
6
Прошло несколько дней. И вот однажды утром к Петьке чуть ли не на рассвете прибежал запыхавшийся Андрей. Петька еще спал.
— Вставай. Дело есть.
Петьку с кровати будто ветром сдуло. Вышли в сад.
— Ну что, говори! — весь насторожился Петька.
Андрей рассказал, что ребята из их школы уехали на лето в пригородный колхоз. Всем заправляет Нинка Дроздова.
— Пионеры шефствуют над фермой. Ну вот и нам предложили ехать, — заключил Андрей. — А то, Нинка говорит, баклуши бьете.
Лицо Петьки поскучнело.
— Тоже мне, — процедил он. — Моря! Океаны! Сели на мель. Полундра, причаливай!
— А знаешь, что на ферме ребята делают? — разозлился в свою очередь Андрей. — Нинка телят растит. А Колька Быстрое на рысаках гарцует.
Сообщение о рысаках насторожило. Петька опустил вниз и тут же поднял вверх застежку-молнию.
— На рысаках, говоришь?
— Конечно, на рысаках, — подтвердил Андрей.
— Ну что ж. Это уже интересно. Только ради тебя, так и быть, поедем, — согласился Петька.
Родители не возражали против новой затеи неразлучных друзей. И те отправились в путь-дорогу. Автобусом добрались до конечной городской остановки, а оттуда пешком по степи направились в пригородный колхоз.
Пекло солнце. Петька, вытирая ладонью пот со лба, шел молча, погруженный в свои мысли. Андрей насвистывал песенку.
— А ты как думаешь, — полюбопытствовал Петька, — рысаки в колхозе породистые?
Андрей ответил неопределенно:
— Всякие есть. Вот придем — посмотрим.
— Эх, ты! Всякие… В лошадях ничего не смыслишь. Я, брат, в детстве, когда ездил в деревню к деду, верхом скакал. У него племенные были жеребцы — что звери! — Петька немного приврал. У его деда была старая-престарая лошаденка, и, взобравшись кое-как на ее хребет, Петька, правда, проехал километра полтора верхом. Зато потом дня три ходить не мог, всю спину себе разбил. Но это не мешало ему хвалиться перед городскими ребятами, что, мол, он, Петька, лошадей знает, никто из сельских мальчишек его не обскачет! Петька настолько красиво врал, что сам начинал верить тому, что говорил. И теперь он надеялся показать Андрею, на какой класс способен. Придут в колхоз, он, Петька, вспрыгнет на рысака и с места — в галоп, ветер засвистит в ушах.
Ребята в колхозе приняли их шумно, обрадовались им: «Молодцы, что пришли». Нина Дроздова с видом хозяйки водила их по ферме. С гордостью представила по именам своих питомцев — телят.
— А где же рысаки? — не унимался Петька.
— Лошадей вчера угнали на пастбище, километров за семь — десять.
Петька дернул застежку.
— А что мы тут будем делать?
— Работы хватит, — успокоила Нина. — Мы уже подумали о вас. Будете помогать дедушке Анисиму пасти свиней.
Петька даже поперхнулся от неожиданности.
— Это ты что, в шутку?
Но Нина и не думала шутить. Петька задрожал весь от злости. И кто знает, чем бы все кончилось, если бы не подоспел сам дед Анисим. Опираясь на сучковатую палку, он остановился, внимательно оглядел ребят.
— Это что за орлы? — спросил он.
— Не орлы они. Петухи! Вот. Смеются… — обиженно сказала Нина. — Свиней, видите ли, пасти за стыд считают.
Дед Анисим сильнее налег на костыль.
— Тебя-то как зовут? — обратился он к Петьке.
— Петька.
— Петька… Вообще-то, ты Петр, — заметил дед, — да не Великий. Уразумел? Ладно, обойдусь и без них.
Дед Анисим выпрямился. Из-под пиджака блеснула на белом холсте рубахи Золотая Звезда. Ребята переглянулись. Дед, оказывается, был не простой. «На фронте, видно, отличился, — подумал Петька. — Наверно, партизан знаменитый».
Дед Анисим, заметив колебание ребят, спросил:
— Ну, так какое ваше последнее слово: пойдете ко мне в свинопасы аль нет? — Слова деда будто плетью хлестнули. Петька готов был провалиться сквозь землю. — Правительство мне Героя как лучшему свиноводу дало, — продолжал дед, — а вы — стыдитесь. Кошкины дети! Сало, поди, уплетаете, за уши не оттянешь?!
— Я пойду, — буркнул Андрей.
Петька стиснул зубы.
— А ты что ж, Петр, какой ты там по счету — первый или последний, не хочешь? — окликнул его дед Анисим.
— Я же ничего не говорю…
— Ну, раз согласен, тогда другой разговор. Шагом арш!
И дед увел с собою ребят.
7
Мучительно проходила первая неделя. Дед оказался беспокойным, поругивал своих помощников. Доставалось больше Петьке. «Ты, Петро, как в хомуте ходишь, — выговаривал он. — Ну-ка живей поворачивайся!» Но потом все пошло на лад. Дед, покуривая, грел на солнце старые кости, а Андрей и Петька глядели в оба, чтобы свиньи не забрели в кукурузу. С утра до позднего вечера время проводили в степи. Жаворонки в синем небе поют, бабочки весело снуют, и перед глазами море цветов! Спали ребята на свежем душистом сене. Петька, однако, жаловался:
— Невезучие мы с тобой. Вон Нинка, та хоть за телятами ходит. А Колька Быстров совсем счастливчик — с рысаками на пастбище. Вот хвастать будет! А мы что? Гляди, так и прослывешь на всю жизнь свинопасом. Провалиться бы лучше.
— Но дед-то Анисим — Герой, — возразил Андрей.
— Вообще это какой-то непорядок. Я бы присваивал Героев только за настоящее геройство и подвиги. Например, пограничникам. Поймал шпиона — получай награду. Или на Луну в ракете поднялся — тоже…
Дед Анисим, убедившись, что на помощников положиться можно, стал чаще доверять им стадо. А сам отлучался иногда по делам в правление колхоза.
Вы тут, хлопчики, глядите у меня, — ласково сказал как-то дед Анисим. — Я позадержусь в правлении, — и старик ушел.
Петька потянулся, окинул взглядом пасущееся стадо. В стороне лежал большой зеленый клин кукурузы, а еще дальше, на горизонте, плескалось море золотой пшеницы. Внизу, в балке, маячили красными черепичными крышами постройки свинарника.
— Скука! — зевнул Петька, но тут же оживился. — Знаешь что? Смотри, вон зверь-кабан. Я его сейчас оседлаю. Ты никогда не катался верхом на свиньях? О, это дело стоящее! Смотри. — И Петька бросился к стаду. Андрей — за ним.
Свиньи, визжа, хлынули в стороны. Петька ловко настиг большого серого кабана и прыгнул ему на спину. Какой-то миг балансировал верхом, хватаясь руками за щетину. И вдруг, опрокидываясь, со всего размаху шлепнулся на землю. Но тотчас вскочил и опять настиг кабана, вспрыгнул на него и опять грохнулся.
— Эх, ты, — съязвил Андрей, — на кабане не удержался, а еще говорил о рысаках.
— Попробуй сядь сам на эту небритую скотину.
Петька сдвинул от боли брови и, прихрамывая, зашагал к зеленому клину высокой, в рост человека, кукурузы.
— Пойдем-ка лучше научу тебя, как из кукурузных листьев шлемы делать.
— А стадо?
— Никуда не денется твое стадо, - Петька потер ушибленную ногу.
Забрались ребята в самую глубь кукурузы, наломали листьев. Усевшись на мягкую теплую землю, Петька, шмыгнув носом, принялся за дело. Андрей присел рядом. У Петьки получалось ловко. Не прошло и часа, как шлем был готов. С гордым видом Петька примерил его.
— Ну как, здорово?
— Давай и деду Анисиму сделаем, — предложил восхищенный Андрей.
— Мы ему пилотку сделаем. Он у нас как профессор будет.
Друзья увлеклись и не заметили, что солнце покатилось к закату. Только когда на землю легли длинные тени, они вспомнили о стаде.
— Ой, — встревожился Петька. — А свиньи?
Спотыкаясь, ребята выбрались из кукурузы. Один пустился в одну сторону, второй — в другую: стадо как в воду кануло. Искали его повсюду, звали, а его как и не бывало.
— Дед Анисим костыль об нас изломает, — отчаялся Петька. — Убежим?
Андрей колебался. Петька вдруг указал на дорогу. Опираясь на палку, возвращался дед Анисим.
— Бежим! — Петька подтолкнул Андрея. — Бежим! Чего ты стоишь?
Андрей дернул себя за кончик уха.
— Тьфу! — плюнул Петька. — Оттянешь ты свои уши, будут они у тебя больше, чем у осла. Бежим!
— Струсил, да?
— Посчитает ребра дед костылем — тогда будешь храбриться.
Петька не ошибся. Дед Анисим еще издали заметил беду. Налетел грознее тучи.
— Стадо где? Где свиньи, я вас спрашиваю? — кричал он. — Вон отсюда, шалопаи! Вон, чтобы и глаза мои больше вас не видели!
Дед замахнулся на Петьку костылем, но тот, как на пружине, отпрыгнул в сторону.
8
Изгнанные дедом Анисимом, возвратились друзья в город. Невесело поплелась жизнь. Петька кипятился.
— Нет, брат, я дальше так не могу, — говорил он Андрею. — Совсем жизнь наперекосяк пошла. Действовать надо — и конец! Все срывается и срывается. И Алжир, и Африка, и целина — все! Одно осталось у нас с тобой — Новороссийск. Это — мировой порт. Ехать туда — и все. Матросами на корабль устроимся. Не то что свиней пасти! Тут тебе океан, буря, шторм.
— А возьмут ли нас на корабль? — потянул себя Андрей за кончик уха.
— Еще как возьмут! Ох, Андрюшка! Представляешь, выходим, значит, мы в открытое море, и тут, откуда ни возьмись, — вражеская подводная лодка.
— Мы с тобой первыми ее заметили. У нас глаз с тобой острый. Сразу, конечно, капитану докладываем. И началось дело. И пошло. Мы бьемся, кричим: ура-а! Подводная лодка по нас из пушек огонь открыла. Но мы ее торпедой — бац! — и готово. Она, как щука, на бок перевернулась. Э, что там говорить!..
— Это как же торпеда? — спросил Андрей. — На торговых и грузовых кораблях торпед и пушек не бывает.
Петька мгновение озадаченно помолчал, но потом покачал головой, безнадежно махнул на Андрея рукой.
— Эх ты, шляпа! Как только до настоящего дела дойдет, так ты сразу в кусты.
— Ты, Петька, не горячись, — сказал Андрей. — Мне тоже надоело. Только я молчу, потому что считаю: если уж ехать, то наверняка. Чтобы героем домой вернуться. А без этого и затевать нечего. Понятно?
Петька вытаращил глаза от неожиданности: Андрей ли это говорит?
— Ура! — закричал он и затормошил товарища. — Я всегда знал: ты, Андрей, парень что надо. Все! Откладывать больше не будем!
И друзья договорились убежать из дому.
На следующий день, когда все было готово, в десятом часу вечера на товарняке они тайком покинули город. Петька без умолку говорил, возбужденно смеялся, видел перед глазами Новороссийск и море. Андрей, наоборот, был неразговорчив и хмур. Да и о матери очень беспокоился. В доме, когда хватятся его, пойдут слезы, начнется переполох. Но раз уж он решился, то будет твердым до конца.
За четверо суток добрались они до Краснодара. Узнали расписание поездов на Новороссийск. Пассажирский поезд туда отходил в три часа ночи. Ждать его надо было почти двенадцать часов. Запасы провизии у ребят кончились; со вчерашнего вечера у них крошки во рту не было. Скорее хотелось добраться до места, а там все уладится.
— Да, брат, — поморщился Петька, — у меня в животе скрипит, как колеса немазаной телеги. Кошку бы сейчас сварил и съел.
— А я бы лягушку. Но теперь уж терпи, — вздохнул Андрей и улыбнулся.
Петьке стало веселей от улыбки друга.
— Идея! — стукнул он себя по лбу. — Летим на базар, я стану читать Маяковского, а ты будешь собирать деньги. Просить и воровать стыдно, а вот так, честно, заработать — это, Андрюшка, здорово! Ты же сам говорил, что у меня — талант.
— Эх, ты, артист-циркач. Стихами Маяковского зарабатывать на базаре? Спятил!
Петька вздохнул:
— Хоть бы не оскорблял.
Битый день слонялись они в привокзальном сквере; не раз проходили мимо раскрытых окон кухни ресторана. Аппетитные запахи летели оттуда. Петька и Андрей глотали слюну. Животы у них совсем подвело.
— Эх, безобразие, — Петька ткнул пальцем в сторону вокзальных часов. — Время хуже черепахи ползет. Я недавно в «Огоньке» читал, что наши ученые скоро изобретут ракету, которая обгонит время. А тут дурак какой-то вздумал так поздно в Новороссийск отправлять поезд.
9
В полночь ребята совсем выбились из сил. А до отхода поезда еще было далеко. Забрались они в зал транзитных пассажиров, примостились в дальнем углу на скамейке. Зал гудел голосами людей, слышался детский плач. Через минуту ребята уже ничего не слышали, Андрей, посвистывая носом, сладко спал, а Петька даже сон видел. Они с Андреем сидят в ресторане. На столах вазы с яблоками, виноградом и пирожными. И вот распахиваются двери — входит женщина с подносом, а на подносе — ну что только твоей душе угодно. И шашлыки дымят, и цыплята румяные, а в самой середине — фаршированный гусь красуется, янтарем отливает; в клюве, как султан, хвост зеленой петрушки торчит. Слюна у Петьки обильно выделяется. «Это для вас, мальчики», — ласково шепчет женщина. «Спасибо, тетенька, — потирает руки Петька и для солидности делает вид, что хочет отказаться. — Мы, правда, не особенно голодные…»
— Эй, хлопцы! — уже не во сне, а наяву, как сквозь туман, слышит Петька грозный женский голос.
Петька вскакивает, Андрей уже стоит, протирая глаза. Перед ними — высокая полная женщина в железнодорожной форме, в фуражке с красным околышем.
— Куда это вы и с кем едете?
— Мы? Да… Мы, тетенька, едем. Тут дядя наш. Он в ресторан пошел, — соврал отчаянно Петька. — Конечно, если, нельзя здесь быть, мы сейчас уйдем.
— Никуда вы не уйдете!
— Это почему? Почему? — запетушился Петька. — Я вот жалобную книгу попрошу.
Но это не произвело должного впечатления. Женщина подозвала милиционера, и тот без лишних объяснений велел ребятам следовать за ним.
Пассажиры провожали их пристальными подозрительными взглядами.
— Наверно, думают, что мы жулики, — шепнул Андрей.
— Не падай духом, — отозвался Петька. — Маяковский сказал: «Моя милиция меня бережет…»
— Ну, ну, смотрите вы у меня, без разговоров! — пригрозил милиционер.
Он привел ребят в небольшую комнату с письменным столом и единственным открытым окном, выходящим на перрон. Комната была пуста.
Милиционер кивком головы указал на ряд стульев у стены:
— Сидите и не двигайтесь!
Милиционер тоже сел за стол: записать фамилии и все, что следует в таких случаях, но вдруг, будто что-то вспомнив; поднялся и, сказав: «Я сейчас вернусь», вышел. Петька толкнул в бок Андрея, указывая на открытое окно:
— Бежим!?
В один миг он был на подоконнике, помог взобраться Андрею. И вот они уже бегут по асфальту перрона.
С чемоданами, сумками, мешками толпятся люди. Работая локтями, Андрей и Петька пробрались к пассажирскому поезду, шмыгнули под вагон и, вынырнув с противоположной стороны, устремились к хвосту состава. Раздались милицейские свистки, крики: «Лови!», «Держи!»
— Слышишь?
— Слышу. Ничего, — подбодрил Петька Андрея и радостно добавил: — Тоже мне милиция. Тюхи! Из-под носа ускользнули! Вот видишь, какие мы! А ты еще боялся.
— Посмотри, — сказал Андрей.
Петька вздрогнул, испуганно оглянулся:
— Где, кто?
— Да не туда, смотри на вагон! Наш поезд, — шепнул Андрей.
Прямоугольная табличка, прибитая к вагону, гласила: «Краснодар — Новороссийск».
— Ура! — чуть не закричал Петька.
В предрассветной рани тускло поблескивали рельсы, уткнулись в небо телеграфные столбы. Вдали — силуэты вагонов, а еще дальше — бесконечная вереница привокзальных построек. Шум на перроне поутих: люди разместились в вагонах. С минуты на минуту поезд тронется. Андрей и Петька забрались на лестницу между вагонами и, затаив дыхание, с нетерпением ждали отправления. Прозвучали два удара вокзального колокола. И вдруг Андрей подтолкнул Петьку.
— Смотри!
Рядом с вагоном как из-под земли вырос малыш. Было ему не больше двух лет. Испуганно озираясь, он тер кулачком глаза, плакал.
— Ма-а-а-ма!.. Ма-а-а…
Петька и Андрей переглянулись. Малыш полез под вагон.
— Куда ты? — в страхе закричал на него Петька.
Мальчик остановился, задрал голову.
— Нельзя. Тронется сейчас поезд, задавит, — пригрозил Петька пальцем.
Малыш не понимал, чего от него хотят. Раздался третий звонок. Петька соскочил с лестницы, оттащил малыша в сторону и уже на ходу вновь вскочил на подножку.
Поезд медленно отходил от вокзала. Малыш, горланя, бежал следом. Еще минута — и колеса подхватят его, подомнут под себя.
— Останови его! — закричал Андрей. — Останови. Прыгай!
— А ну его, — отмахнулся Петька, но, увидев, что Мальчик падает, спрыгнул. Андрей — за ним. Подхватили парнишку. Простучали колеса последнего вагона, мелькнул красный огонек фонаря, и Андрей, Петька и малыш оказались одни перед самым вокзалом, освещенные ярким электрическим светом.
— Навязался ты на нашу голову!
Малыш, обняв Петьку за шею, крепко прижался к нему.
— Звать-то хоть тебя как?
— Ты не кричи на него, — посоветовал Андрей.
— Что будем с ним делать? — Петька поставил малыша на ноги.
Тот заревел басом.
— Ну-ну! Не реви.
— Придется его в милицию отнести.
Петька выпрямился:
— Куда? В милицию? Честное слово, у тебя не все шарики на месте… Бросим и бежим. Давай, пока не поздно. — И рванулся в сторону.
Андрей, поколебавшись, последовал за другом.
— А-а-а!.. — резанул ухо детский крик. Ребята обернулись. Расставив ручонки, малыш бежал за ними, горланя что есть силы.
— Надо же! — простонал с плачем Петька и остановился. — С неба, что ли, он бухнулся?
Андрей поднял мальчика на руки. Но тот настойчиво потянулся к Петьке.
Петька с досадой взял ребенка.
— Здравствуйте! Приехали, моря, океаны. Никогда не думал, что вместо моря в няньки угожу. Чего он ко мне руки тянет?
— Любит, значит, — ответил Андрей.
Идти в милицию было страшно. Бросить малыша одного тоже не решались. Он притих, крепко обхватив Петькину шею. Но ничего другого не оставалось делать, как отправиться в милицию, о которой Петька только полчаса тому назад был столь невысокого мнения, и сдать найденыша.
Комната, из которой они бежали, уже не пустовала. За столом стоял высокий мужчина в форме. В кресле впереди стола, опершись локтями о колени и закрывая лицо руками, всхлипывала какая-то женщина. На вошедших Андрея и Петьку она даже не взглянула.
Высокий же милиционер повернулся к ним и спросил:
— Вам кого, хлопцы?
Ребята обрадовались. Это был не тот милиционер, который их задержал. У высокого были капитанские погоны. Петька покосился на закрытое окно и смело ответил:
— Да вот… пацана подобрали…
Женщина встрепенулась:
— Юра! — она бросилась к мальчику, вырвала его у Петьки, прижала к груди.
— Вот он, вот он! Где же?.. Где же? Юрочка! Миленький! — причитала она. Немного успокоившись, женщина взглянула на ребят. На ее щеках еще не высохли слезы.
— Милые, славные мальчики. Спасибо, спасибо! Где вы его нашли? Думала, с ума сойду. Чем же вас отблагодарить? — женщина стала рыться в сумке.
— Ничего нам не надо, — гордо сказал Петька. — Спасибо вам, что вы сами нашлись. — И, подтолкнув Андрея, заторопил. — Пойдем. Некогда нам, — и направился к выходу.
— Куда же вы, хлопцы? — окликнул высокий милиционер. — Расскажите, где подобрали мальчика? Давайте знакомиться, — милиционер шагнул из-за стола. — Начальник отделения милиции капитан Телегин, — представился он и протянул Петьке руку.
Петька торопливо сказал:
— Меня зовут Петькой, а его — Андреем. Вы уж нас извините, товарищ капитан. Мы спешим. Дома будут ругаться.
Телегин загадочно улыбался:
— Вы ведь со своим новым другом Юрой не простились.
— А ну его! — отмахнулся Петька. Его зоркий глаз заметил, что Телегин нажал на столе кнопку. Сердце заколотилось. И не успел Петька шмыгнуть в открытую дверь, как дорогу преградил вызванный звонком милиционер. Петька и Андрей попятились назад. Они узнали своего старого знакомого.
— Они? — спросил Телегин у милиционера.
— Они, товарищ начальник.
— Можете быть свободны.
Милиционер ушел.
Женщина, наблюдавшая всю эту непонятную ей сцену, испуганно прижала к себе Юру.
— Вы их, товарищ капитан, не очень строго наказывайте. Они, может быть, и беспризорные, но сердце у мальчиков, видать, доброе, — заступилась она за ребят.
— Благодарю за совет. Счастливого вам пути. Не теряйте больше своего карапуза, — ответил Телегин.
Женщина направилась к выходу. Юра, выглядывая из-за плеча матери, помахал Петьке своей маленькой рукой. Петька с досадой отвернулся.
Когда за ними захлопнулась дверь, Телегин предложил ребятам присесть.
— Значит, зовут вас Петькой и Андреем? Что ж, имена отличные. — Широкая светлая улыбка залила его лицо.
Петька угрюмо насупился. Андрей тоже молчал.
— Что, может, в камеру вас, а? — спросил Телегин. — Посидите, поразмыслите, а потом, может, и откровенней поговорим. Или сразу приступим?
— А мы вовсе и не хотим в камеру, — проронил Петька.
Телегин рассмеялся:
— Да, дураков мало, кто бы хотел в камеру. В таком случае рассказывайте, кто вы? Откуда прибыли? Излагать все дело обстоятельно!
Андрей покосился на входную дверь и сказал:
— Вообще-то вы правду говорите: мы не дураки. Просто неудача вышла. С Петькой мы думали о замечательном деле, а вот этот пацан прицепился и все испортил.
Через час Телегин уже знал все подробности биографии Петьки и Андрея. И в свою очередь рассказал ребятам про свою жизнь.
— Вот посмотрите, — Телегин вынул из ящика стола фотографию. Ребята увидели на ней Калинина и рядом пожилую женщину. Бросилась в глаза Золотая Звезда на лацкане ее жакета.
Петька перевел взгляд на Телегина, спросил:
— Это ваша сестра с товарищем Калининым снята? Очень похожа на вас.
— Мать, — ответил Телегин. — Я тоже когда-то убегал из дому. Даже хотел стать пиратом, кинжал завел себе. Считал родной дом, школу — скукой и жизнь в них — серыми буднями. Мать не слушал, посмеивался, когда она говорила: «Не там ты ищешь, Сергей, подвиги». Я думал тогда: что моя мать, простая колхозница, может понимать? А вышло, что она Герой, а я вот нет. Сам Михаил Иванович Калинин сказал ей: «Спасибо, тебе, Пелагея Кирилловна, за твой великий подвиг».
Телегин помолчал.
— Вот и выходит, что будни и есть героизм. Это надо только правильно понять, увидеть. Их-то, будни, прожить, преодолеть труднее, чем свершить, например, один какой-нибудь героический поступок, даже связанный с риском, смертью. Жизнь прожить, причем красиво, мужественно — вот подвиг, выше которого не было, нет и не будет. Вот что такое настоящий героизм!
Телегин разговаривал с ребятами, как с равными, точно увидел в Петьке и Андрее своих лучших друзей.
— Вы говорите, будни, — сказал вдруг Петька, — мы с Андреем больше любим праздники.
— Это верно, — согласился Телегин. — На праздники подарки дарят, весело. А вот учеба, например, будничное дело. Но в том-то и суть, что не у всех ребят хватает мужества сделать учебу праздником. Легче, например, взобраться на крышу и прыгнуть оттуда или даже убежать из дому.
— Но мы же мечтали… — возразил Андрей.
— Самая высокая мечта, — в свою очередь возразил Телегин, — это добиться того, чтобы каждый твой день, который ты прожил, можно было считать героическим. Конечно, нелегко воспитать в себе такого человека, который бы своими ежедневными поступками являл подвиг. Вы же знаете, что только хвастуны кричат, что они герои. А настоящий герой не бросается в глаза. И, часто получается, сам не замечает, что он совершает подвиг, потому что делает все то, что нужно делать. И я думаю, что вы как раз и есть те замечательные люди, о которых будут говорить: они совершили подвиг, сами даже не заметив этого.
Андрей и Петька во все глаза смотрели на Телегина. Они никогда в жизни не встречали такого удивительного, сердечного человека. Он, не зная их, мог поверить, что они, Петька и Андрей, способны на подвиг. И если бы Телегин дал им сейчас особое и очень важное задание, они расшиблись бы, а выполнили его. Петька не удержался, сказал об этом.
Телегин весело взъерошил ему вихрастые волосы.
— Ничего сейчас такого не могу придумать, — посмеялся он.
На следующее утро ребята сидели в пассажирском вагоне. Ехали домой. Телегин побеспокоился и о билетах и чтобы Андрей и Петька были сыты в дороге.
В свой город они приехали три дня спустя. Выходят из вагона и вдруг перестают что-либо понимать: на вокзале толпа одноклассников, мать Андрея и отец Петьки. Петька ожидал всего, даже трепки, но только не того, чтоб его встречал отец. У Нины Дроздовой и Кольки Быстрова в руках букеты цветов.
— Ура! — закричал Колька, увидев Петьку и Андрея.
Мать Андрея всхлипнула: «Как же, как же ты смел уехать и не сказать своей маме?» — сказала она сыну.
Отец Петьки сказал, поздоровавшись:
— Я думал, что ты у меня, Петька, только на глупость и способен. А оказывается, ты совершил подвиг. Спас жизнь человеку.
Петька и Андрей готовы были сойти с ума. Уж не снится ли им сон? Но вскоре все выяснилось. Отец вынул из кармана и развернул перед ними газету. Андрей прочел над большой статьей крупный заголовок: «Они спасли жизнь».
Речь шла о маленьком Юре Лопатине, утерянном матерью. Мальчик был бы раздавлен колесами поезда, если бы не Петр Курочкин и не Андрей Самойлов. За проявленный героизм им объявлена благодарность.
В конце статьи стояла подпись, набранная жирным шрифтом, — «Сергей Телегин».
Андрей и Петька переглянулись. Они не сказали ни слова друг другу, но каждый понял другого — нет большего счастья, чем чувствовать в сердце радость: ты сделал что-то доброе для людей.



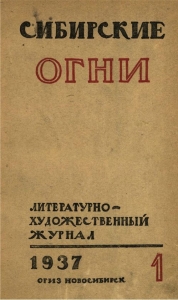


Комментарии к книге «Те, кого мы любим – живут», Виктор Макарович Шевелов
Всего 0 комментариев