Этажи села Починки
Вместо предисловия
Это первая книга прозы Сергея Лисицкого, ранее выпустившего три сборника стихов. И повесть и рассказы, составляющие эту книгу, посвящены, за малым исключением, деревенской жизни в русской степной полосе, славной издавна лугами, да пшеничными полями, да песнями, да буйной казацкой волей.
Автор, словно поводырь, водит нас стежками-дорожками по укромным деревенькам, лежащим в стороне от городов да шумных проезжих большаков. Здесь все ему любо и дорого, все знакомо до малой травинки в широком поле, до последней хатенки на хуторском захолустье.
«Место, где расположилось сельцо, — удобное, рядом со степным невеликим озером, и от большого села Бутово недалеко, и до города Петровска — тоже рукой подать: километров двенадцать, не более будет. И земля тут добрая, черноземная. Много травы-степняка, и луговые угодья богатые. Испокон веков жили тут люди и не тужили…»
Почему же уходили некоторые хлеборобы в город от такого приволья? А потому, что отдельные колхозы были слабые, платили там за труд мало, а еще — избы стали ветхими, построить новый дом трудно. Вот и уходили одни, а другие оставались, но землю не оставляли впусте, мало-помалу обстраивали свои селитьбы, налаживали хозяйства, укореняли жизнь. Этот упорный мастеровой народ, перенявший от предков своих любовь к земле и нравственную стойкость, стал для Сергея Лисицкого главным жизненным образцом, заслуживающим самого пристального исследования. Его рассказы, а точнее — очерки, зарисовки, эскизы с натуры, написаны легко и непринужденно, без мудрствования от лукавого. Их главное достоинство — непосредственность. Все эти пастухи и сапожники, трактористы и плотники, гармонисты и знахарки, подростки и старики живописны и оригинальны. Чувствуется, что Лисицкий жил среди них, хорошо знает их и любит.
Не все в равной мере удается Лисицкому. Сказывается еще отсутствие опыта. Не будем забывать — перед нами первая книга прозы поэта. Однако достоверность описания быта, природы, оригинальные характеры, живой и образный язык позволяют нам надеяться, что читатель с интересом прочтет эту книгу.
Б. МОЖАЕВ
Этажи села Починки Повесть
Почин, начало, зачало, начин, зачин, передний конец, кон.
Вл. Даль1
Когда-то, еще до революции, сельцо это — Починки — было хутором с соломенными амбарами и жердяными загонами для скота. Место, где расположилось сельцо, — удобное, рядом со степным невеликим озером, и от большого села Бутово недалеко, и до города Петровска — тоже рукой подать: километров двенадцать, не более будет. И земля тут добрая, черноземная. Много травы-степняка, и луговые угодья богатые. Испокон веков жили тут люди и не тужили. Правда, от основной дороги-грейдера вроде бы в стороне, так в этом своя выгода была: со скотиной поспокойнее, да и уютнее оно.
В старые довоенные годы жили тут две или три семьи и славились на всю округу мастерством своим корзины плесть, а то еще веники из сорго вязать. Низкие места речки-безымянки богаты ивой-брединой да болотной кугой-чаканом — сырье, можно сказать, дармовое и впрок его было. Чего ж не заняться промыслом, коли спрос на товар есть?
На базаре в Петровске хоть и завозно бывало, а все же поделки починковских мастеров — нарасхват. Отличался их товар в выгодную сторону и красотой, и удобством, и, главное, прочностью. Наезжали, правда, еще мастера из-за Дона, что близ Шкурлата: у тех кошелки и корзинки добрые были, но и они против починковских уступали — прочность не та. А секрет-то в том, что они лыко в кугу не вплетали, да и не так уж много у них товару было, конкуренция отсутствовала как таковая.
Митрий Смирин родился и вырос тут, в Починках. Отец у него извозчиком был, всю жизнь при лошадях состоял. И на фронте с обозом аж до Польши дошел. Погиб при бомбежке под Люблином… Мать — в десятом колене крестьянка. Домохозяйкой и труженицей поля была — схоронил ее сын три года назад. Живет теперь своей семьей. А семья такая: жена Марина да двое детей — дочь Лена — третьеклассница, сын Дениска — шестилетний мальчишка. Работает Смирин механизатором в колхозе. Все ступеньки снизу доверху прошел: от ученика реммастерских МТС до того самого «широкого профиля» дошел, о котором любят в газетах писать. Был и трактористом, и мотористом, и дизелистом, и комбайнером, даже на бульдозере довелось проработать целое лето.
А в детстве, бывало, кони ночами снились. Трепетной любовью Митя Смирин любил коней. Но такое уж пришло время — угас лошадиный век. Впервые узнал и увидел в действии «лошадиные силы», заключенные в железном сердце мотора, он тогда же, в детстве, когда Артем, дядя Мити — первый тракторист в округе, — взял племянника с собой на пашню. Как сейчас видит перед своими глазами Митрий взбугренные пласты чернозема, с легкостью игрушки плывет следом за трактором трехлемешный плуг. Словно сейчас вдыхает он запахи машинного масла и металла, гарь сладко-горького дыма, слышит разгоряченный рокот двигателя… И такое страстное любопытство разбирало Митрия, что он днем и ночью все думал и удивлялся: откуда такая сила в железе? С тех пор и пошел он по металлической части. Да оно и верно вышло: нынче — кругом техника, куда без нее?
Так и живет Митрий хозяином на отцовском подворье вот уже двадцать с лишком лет, с тех пор как демобилизовался в сорок девятом. Всякое за эти годы бывало, но особенно трудновато пришлось поначалу. Вернулся из армии в шинели, в гимнастерке да в кирзовых сапогах, а дома — пусто. Мать, правда, двух коз завела, но их через год пришлось сдать в счет налога. Работал Митрий в реммастерской МТС. Недолго там довелось потрудиться. Посадили на трактор. Потом на комбайн. Тяжеловато пришлось. Только после пятьдесят четвертого года передышка наступила. А там — снова эксперименты: то кукуруза, то пропашные… Бросала Митрия жизнь из стороны в сторону, а достатка особого не нажил, но жить было можно. Оно все бы ничего, да была у Митрия одна закавыка — друг детства Федор Лыков с толку сбивал.
Служили они с Лыковым вместе — разом и демобилизовались. Только Федор в то время, когда Митрий пошел в МТС, — в район подался. Несколько лет подряд был шофером важного райисполкомовского начальника. На «Победе», а после на «Волге» ездил. И все подбивал Митрия: «Ну, что ты в черноземе копаешься? У тебя же руки к металлу лежат. Разве в Петровске не найдется дело подходящее? Едем, я найду тебе работу. В галстуке ходить будешь и при деньге…»
Митрий колебался, ссылался на то, что домишко подправить надо: крышу новую справить и полы застелить. Справил. А тут — женитьба, дети пошли. Но мысль уехать в город его все время не покидала.
«Смотри, засосет тебя чернозем насовсем», — сокрушался Федор.
«Не засосет, — отвечал Митрий, — вот погреб сорганизую и — баста. Нельзя же без погреба тещу оставлять одну, в город она ни за что не поедет».
Шел за годом год, и находились в хозяйстве неотложные дела и заботы: колодец исправить, сарай перекрыть, а там опять домишко починки просит — печку переложить надо край. Но главной причиной были, конечно, дети. Куда с такими малышами поедешь?
Со временем желание уехать в город, подогреваемое Федором, опять крепло, и Митрий, особенно в часы, когда находился среди сельчан в застолье, часто повторял: «Вот скоро уеду. Федька зовет. Что у меня, руки хуже разве, чем у других?.. Разве я не механик! Да я хоть к водникам на причал, хоть на завод, хоть в потребсоюз, хоть куда…»
В такие минуты, как всегда, Митрия поддерживал Степка Сыч, любитель выпить за чужой счет и прозванный Сычом за свою замкнутость и нелюдимство: «Ясно дело, не хуже, — произносил Сыч, — в Петровске таких — давай. Ясно дело, руки — золото».
Время шло, а Митрий так и не мог разделаться со всеми своими делами. Наоборот, чем больше он старался работал, тем непочатей представал перед ним край очередных дел и забот. Вот уже два года, как Федор Лыков не возил больше важного начальника. Проштрафился: надо было ехать в область на совещание, а он напился. Уволили его. Присмирел он, но ненадолго — сейчас перешел в сельпо на грузовую машину: «Лучше, говорит, стало. Зарплата та же, а хлопот меньше, да еще приработок есть».
Как и все другие, уход Лыкова в сельпо Митрий считал явным понижением. И его мечта об уходе в город временно потускнела. Но потом он стал думать и рассудил иначе: «Раз после такого случая Федор тут же нашел работу и говорит, что не хуже, а лучше, значит, в городе действительно насчет работы свободнее. А случись все это в Починках — куда подаваться?.. Вот рассчитаюсь с жатвой, поставлю машину на ремонт и уйду».
Митрий и не помышлял говорить жене о своем решении — засмеет, не один ведь год эти разговоры. Еще тогда, когда он впервые открыл ей свои планы, а потом вышло, что планы эти на воде вилами писаны, — Марина смеялась: «Бедному жениться — ночь коротка, так и тебе этот город…»
И еще одно обстоятельство подогревало желание Митрия стать городским, рабочим человеком. Дело в том, что еще в войну Смирин в числе своих сверстников-допризывников был мобилизован на строительство оборонительных сооружений. После того когда наши войска перешли в наступление и оттеснили врага на двести — триста километров, надобность в оборонной полосе отпала. Тогда же Митрий попал на один из воронежских заводов помощником машиниста паросилового цеха. Правда, проработать до призыва в армию ему довелось всего-навсего два с половиной месяца, но сознание того, что он начинал свой трудовой путь рабочим, придавало ему еще большую уверенность и решимость в своем намерении.
2
Дениска лепил из песка башню. Желтого зернистого песка во дворе между домом и погребом было много — целая куча. И мальчишка решил, чтобы его башня была высокой-высокой, выше, чем у соседнего Генки, которую тот слепил вчера. Глаза мальчугана горели восторгом, руки торопко перебирали влажные комья, но башня снова и снова рушилась. А тут еще курица привязалась. Подойдет и смотрит, наклонив голову набок, словно прицеливается, как бы ударить клювом половчее.
— Кши! — махал на нее Дениска совком.
Башня все падала и падала, и мальчику надоело ее строить. Он вдруг вспомнил о клубке капроновых ниток, что лежал у матери в комоде. Ивовые прутья, заготовленные отцом для коровьих яслей, вялились на солнце. Дениска еще вчера облюбовал один из них для лука, Он отряхнул руки о штаны и побежал в дом.
— Я вот скажу матери, — пригрозила ему сестренка. — Зачем берешь нитки и нож? Вот они вернутся с огорода, и скажу.
— Ленка-пенка, ябеда, — передразнил ее Дениска, показывая кулак.
— А вот и скажу.
— Ну и говори… — Мальчишка выскочил на крыльцо и зажмурился. После комнатного полумрака осеннее солнце слепило глаза.
А в это время Смирин-старший, пользуясь выпавшим свободным днем, орудовал лопатой. Работал он не то чтоб с усердием, но и не особенно ленясь. Потому как Митрий был высок и сухощав, то поджарую, длинную и согнутую почти пополам фигуру его можно было видеть издалека. В противоположность ему была жена, полная, белолицая, небольшого роста, но проворная и живая женщина, с серыми, почти бесцветными глазами и русыми, выгоревшими на солнце волосами.
Все горело в ее руках. То она высыпала из корзины остатки картошки и, разминая в ладонях прилипшие комья земли, раскладывала клубни на ровную грядку — подсушить на осеннем, но еще довольно горячем солнце, то выдергивала сухие, пожухлые на ветру пни срезанных подсолнухов и кукурузы, что годилось на топку, то сгребала в кучу высохшую ботву тыквы, паслена и картофеля, заодно заравнивая наиболее глубокие лунки.
Хозяин — наоборот — любил во всем степенность. Он как бы обдумывал каждое свое движение. Часто усаживался закуривать. Глубоко затянувшись и отдувая небритые смуглые щеки, наблюдал за женой и в душе был доволен ее сноровистой ухваткой, усмехнулся про себя, вспомнив слова Пантелеича, бывшего соседа, который несколько лет назад, в канун его свадьбы зашел специально во двор Смириных, снял засаленный кожаный картуз — поздравил его, Митрия: «Молодец, Демитр. Хорошую девку отхватил, работящую, из видной семьи. Я ить почитай всю родословную Крайновых знаю. Четыре колена, как свои пять пальцев. — Он загнул пальцы. — Мастеровые все…» Он надвигал почти на самые брови свой картуз и, заговорщицки оглядываясь, вполголоса добавлял: «Ты ее, того… жалей, смотри…»
Смирил только сейчас вспомнил и понял смысл и значение последних слов Пантелеича…
— Фу, черт. — Он недовольно поморщился, сплюнул в пустую картофельную лунку, бросив туда же и окурок, потянулся в сторону за пустым мешком. Бросил его рядом с собой и уже потом позвал:
— Марина, а Марин, передохнула б.
— Нашел время, — уперла та испачканные зеленью и грязью руки в бока. — Тебе все бы курить, гряду сегодня же закончить надо. А он — отдыхать.
— Ну ладно, ладно, — примирительно заговорил Митрий.
— Вот черт, говорила ведь: сделай ручку, — Марина угрожающе наступала на мужа со сломанным ножом. — Чем теперь свеклу чистить?..
Смирин взял из ее рук нож. Отломленный черенок с медным кольцом на шейке бросил в бурт, чтобы не потерялся, а лезвие, чтоб не обрезаться, сунул за голенище.
— Ладно, вот тебе пока другой, а завтра сделаю.
Он достал большой нож-складенец из кармана брюк — подал его жене, а сам взял лопату и стал подкапывать розовые, почти в кулак величиной картофелины.
Заходящее солнце уже почти не грело, но все же веселило. К тому же работы оставалось мало, неубранной оставалась, одна низина, где ровными рядами лежали лысые головы капусты, курчавились поздние побеги помидоров, под желтой листвой которых висели красные продолговатые и круглые, словно голубиные яйца, плоды, последние, осенние.
Смирин так увлекся работой, что и не заметил, как начало смеркаться. Вот уже прошли мимо доярки с фермы, курили и громко разговаривали трактористы, возвращаясь домой.
— Кончай, Митрий, — кричали они через дорогу, — а то и поужинать не успеешь…
— Успеется, — отвечала за мужа Марина.
Поздно вечером, когда уже совсем стемнело, вернулись Смирины с огорода домой. Чтобы не идти впустую, оба нагрузили мешки со свеклой и картофелем, шли долго, тяжело. Во дворе, у стойла, пахнущего пыреем и молочаем, стояла недоеная корова. Она повернула рогатую, с белыми пятнами на коричневом лбу, голову — жалобно промычала, переступая ногами.
— Зорянка, Зорянка, — ласково позвала ее хозяйка. — Счас, милая, счас.
Митрий зашел в дом, включил свет. Заглянул в полутемную горницу. На кровати и диване спали ребятишки — десятилетняя Лена и шестилетний Дениска. «Убегались за день», — подумал отец и прикрыл дверь.
Где-то, то ли у порога, то ли в сенцах, мирно трещал сверчок. Вокруг абажура, проснувшись, летала крупная муха, назойливо жужжала, билась о стекло. Смирин взял висевшее на гвоздике возле умывальника полотенце, махнул им в воздухе у самой лампочки — промахнулся.
— У-у, черт!..
Махнул еще раз, и та, оборвав жужжание, упала на пол.
В сенцах хозяйка процеживала удой. Гулко хлопала эмалированная крышка ведра, в полуоткрытую комнату тянуло парным молоком.
Сели ужинать. Митрий вяло ковырял вилкой в сковородке, вздыхал, как будто чего-то выжидал.
— Ешь, ешь, — разрезая малосольный огурец, сказала Марина.
— Голова чтой-то, с усталости, видно, — перевел он с нее взгляд на буфет, стоявший в углу комнаты. — Плесни полстаканчика…
Жена заворчала, но все же встала из-за стола, вынула бутылку с кукурузным черенком вместо пробки.
Смирин выпил, крякнул и стал есть. А когда Марина вышла в сенцы за квасом — поспешно, по-воровски, налил полстакана и, кося глазом на дверь, выпил еще и остался доволен тем, что она не увидела его проделки.
— Идем, — оказала она тоном, каким говорят люди об известном лишь одним им.
— Идем, — ответил послушно Митрий, вставая из-за стола и потягиваясь.
Они вышли во двор, закрыли избу.
Стояла такая темь, что Смирин едва нащупал мешки, лежавшие на дровах возле сарая. На ощупь вышли задами в огород. Говорили шепотом.
— Правее надо.
— Нет, — возражал тоже шепотом он, — правее огород Лукиных, а прямо в аккурат выйдем на участок второй бригады.
Шли долго. Митрий и сам уже стал сомневаться: верным ли путем они шли. Впереди должна была бы быть канава, а ее все не было. Не могли же ее обойти?..
— Я говорила, вправо надо…
— Вправо, вправо, — передразнил он, едва различая на жене, стоящей рядом, белый платок. «А может, действительно вправо?» — подумал он, держась чуть правее.
Роса уже упала на траву, и ноги стали быстро намокать.
«Ага, вот тут — ветла…»
Но ветлы не было, зато Смирин чуть не свалился в канаву, которой, по его расчетам, здесь не должно быть.
Он прилег на землю, надеясь разглядеть какие-либо ориентиры. Куда там… Осенняя ночь, словно вылитый деготь: все было черно. Без единой звездочки черное небо, такая же земля, даже воздух, казалось, был наполнен этим беспросветным, тягучим, как деготь, мраком.
— Перейдем канаву, и должны быть бурты, — шепнул он.
Перешли, но буртов не было. Несколько минут ходили, брали то вправо, то влево. Марина начала терять терпение:
— Черт сивушный, нажрался…
И тут угодила прямо в бурт. Облегченно вздохнула. Обрадовался и Митрий: наконец-то…
Еще с утра Митрий приметил этот бурт, что остался после уборки свеклы. Лежал он в десятке метров от огорода за дорогой в низине. В спешке, видимо, не заметили его. Не возьми его Митрий, кто-нибудь заберет все равно ведь…
Смирин прислушался — нет ли кого поблизости, потянул носом воздух, смотреть было бесполезно. Потом они торопливо накладывали в большие крапивные мешки свеклу.
— Хороша, — шепотом похвалила она.
Он держал мешок, поворачиваясь и прислушиваясь. Вдали глухо затявкала собака: «Лукиных лайка». Он мысленно определил свое подворье, оно должно быть чуть левее, откуда слышался лай.
— Поддай.
Смирин помог Марине взвалить на спину мешок. Пожалел, что не весь бурт вошел в мешки, и, два раза уронив свою ношу, наконец изловчился и, тоже забросив на спину, зашагал, пригибаясь, по направлению, которое мысленно наметил.
Вышли они почти точно, на соседский огород. И дошли до дома, как показалось обоим, быстро. Мешки оставили у входа в сарай. И Смирин, уставший, но довольный тем, что вылазка закончилась удачно, лег спать.
Рано утром он собирался на работу. Обул сапоги, выпил кружку квасу. Вошла жена, держа в руках белый кочан капусты, который она только что срезала на огороде. На нем ртутью дрожали крупные капли росы, падали на клеенку. Кочан свежо поскрипывал в ее руках.
— Бурт у нас кто-то убрал, — сообщила она мужу новость.
— Как? — не разобрал Митрий.
— Бурт, говорю, кто-то забрал с огорода…
Смирин опешил: как это так? Отродясь не бывало, чтобы в их краях случалось такое. Разве ребятишки когда залезут в сад или огород. Так это не в счет… С досады он стал закуривать, ломая спички… Не верилось.
Потом подошел к мешкам, ставшим теперь ненавистными, рывком вывалил на землю содержимое из одного: «Ты стараешься, ночей не спишь, а в это время у тебя самого тащат…» Перевернул вниз завязкой другой. С гулким шумом сыпались, падая на землю, клубни. И тут вдруг он увидел черенок от ножа, который заблестел медным колечком на солнце.
Митрий побагровел. На его лице выражение недоумения сменилось гримасой досады.
— Тьфу… — выругался он. Глаза его позеленели. «Сам у себя, выходит, стащил…»
Он плюнул перед собой в землю и, не повернувшись, зашагал на бригаду. «Что-то давненько не было Федора», — подумалось ему.
3
Весть о том, что колхоз «Красный Октябрь» укрупняется и в него вливаются еще два небольших колхоза: «Имени Ворошилова» и «Дочь революции», а Починки переходят в совхоз «Рассвет», облетела село с быстротой ветра.
«Вона какая теперь артель, — рассуждали мужики на бригаде, — от Будаева до Коврева четырнадцать верст, и все один колхоз».
— Да-а, — вопросительно протянул Степка Сыч, одногодок Митрия, приземистый широкоплечий мужичок, — что ж Починки-то в совхоз определили?
— Думать надо, голова, — заметил бригадир Колосов. — Мы к совхозу нынче в два раза стали ближе. Да и что теперь наши Починки для такой большой артели — капля в море.
— И дураку ясно, — поддержал бригадира тракторист Титов, — до Коврева, где усадьба колхоза — десять, а к «Рассвету» и половины километра не будет, да и вообще-то в тридцатые годы мы ведь рассветовские были…
По-своему воспринял это известие приехавший в тот день к матери Федор Лыков. «Ага, — рассуждал он, — раз теперь совхоз — оплата денежная. А директору наверняка водитель классный нужен, не перейти ли мне? И к дому поближе…»
Лыков хорошо знал главного агронома совхоза Голованова, коротко был знаком и с директором Алексеем Фомичом Романцовым. «А может, и не стоит?..»
— Поел бы, сынок, — просила мать Федора, подвигая к нему пироги с луком.
— Норму, мам, блюсти надо, — Федор метнул взглядом на сундук, где лежало старое одеяло. — Пойду в садке полежу.
— Пойди, пойди.
Под большой раскидистой грушей, возле кустов малины и смородины стоял топчан. Федор сколотил его несколько лет назад. Низенькие ножки его, казалось, совсем вошли в землю, и доски лишь чуть возвышались над уровнем травы. Он расстелил одеяло, лег и задумался.
Вспомнилось Федору далекое прошлое — вся его недолгая, но и немалая жизнь.
Друзья далекого детства: Митька Смирин, Федор Лыков да Пашка Калюжный. Три неразлучных друга были. Это словно о них троих распевалась в то время только что вышедшая на экраны песня о трех танкистах. Помнится, Наташа Илюхина, завидев их троих, запевала: «Три танкиста, три веселых друга…» Федор в таких случаях выказывал свое недовольство, хотя ему и лестно было сознавать себя танкистом. А Пашка, тот всегда вступался за Наташку. Неравнодушен он был к ней. Но вскоре Пашка Калюжный уехал куда-то с родителями. Говорили, что чуть ли не в Сибирь. И остались Федор и Митрий вдвоем с тех пор. И песню о них перестали петь: два, а не три друга стало.
Как живой всплыл в памяти отец Архип Ефимович, а вместе с ним и Степан Данилович — отец Митрия: друзьями и они были в молодости. Сначала дружба их не омрачалась ничем… лишь потом наметилась трещина. Как будто сейчас увидел Федор своего отца Архипа. Стройный, подтянутый, с рассыпающимися черными колечками чубом на смуглом виске. Бордовая сатиновая рубаха ладно сидит на нем, подпоясанная широким ремнем. Сапоги-гармошки блестят. А когда он улыбается — зубы ровным рядом белеют под темными усами, а глаза сужаются в две лукавые щелочки.
Под стать ему был и Степан — отец Митрия. Только, в отличие от своего друга, тот русоволос и бел на лицо. Такой же, как и Архип, ладный, только пошире в кости, словом, был он тем малым, о которых говорят: «ладно скроен и крепко сшит».
Архип был более расчетлив, влекла его прежде всего практическая сторона любого дела, в то время когда Степан готов все сделать «для души», многим пожертвовать ради «памяти сердца». Эта разница в их натурах, однако, не мешала их дружбе, наоборот, достоинства и недостатки их характеров как бы дополняли друг друга. Еще одно обстоятельство, подчеркивающее некоторую разницу между ними: Архип был на два года старше Степана. Но разница эта, скорее, опять-таки больше способствовала их сближению, если учитывать при этом трезвый расчет Архипа.
В начале двадцатых годов, когда начал действовать ликбез, — Архипа и Степана, как наиболее грамотных (оба окончили по четыре класса), послали в Петровск на курсы учителей, и в этом была немалая доля хлопот Архипа Лыкова. Это он и сумел поговорить с «кем надо», вовремя «подкинуть мыслю». Правда Степан после окончания курсов недолго проработал в школе: «Не могу, говорит, когда ты толкуешь одно, а тебя не понимают и говорят совсем другое. Девять разделить на два — будет четыре и одна вторая — нет, не понимают, что это такое «одна вторая». Четыре с половиной будет, твердят, хоть убей…» В общем, бросил Степан мел с тряпкой в угол и ушел со школы в один вечер навсегда.
Архип — тот нет, проработал до конца двадцатых годов, пока не прислали настоящих учителей, с институтским образованием. Но тогда уже, с того самого злополучного вечера наметилась та самая трещина в их дружбе. Все реже и реже стали они встречаться — интересы разные. Степан весь ушел в хозяйство: пашня, быки, лошади…
Еще больший водораздел пролег между ними в тридцатом году, во время коллективизации. К тому времени Архип Лыков тоже ушел из школы, и они оба вместе со Степаном одни из первых вступили в колхоз. Но и тут Степан, что называется, «сорвался» — не пробыл и месяца в колхозниках. Правда, и Архип много не наработал, через два года подался на сахарный завод. А со Степаном было так: после того, как выехали всем колхозом в поле на посевную, лошадь Степана, каурая кобыла по прозвищу Калина попала в руки Тимофея Плужника, известного в Починках нерадивого мужика, нелюдимого и злобного. Степан перегонял колхозных быков мимо клеверища, через поле, которое вспахивали под пар в четыре плуга. Четвертой в паре с гнедым мерином Петра Титова ходила по загону Калина. Степан Смирин не мог пройти мимо, не проведав свою лошадь. «Гони, а я маленько заверну, — оказал Степан своему напарнику Косте Жмуркову, — Калину наведаю».
Он повернулся и зашагал вправо, в ту сторону, где виднелись четыре пары лошадей, медленно двигающихся по загону. Подошел Степан к ним в тот момент, когда все четыре развернулись и торили новую борозду. Пахари его не замечали.
«Вот она, Калина, — шептал Степан, разглядывая свою лошадь, трудно шагавшую по целине. — Да что он, черт, — выругался Смирин в адрес Тимофея, — подпругу не подтянет, холку ведь ей трет». А лошадь и вправду резко вскидывала вверх голову, поворачивала ее назад, словно пытаясь разглядеть, что там, на шее, ей мешает.
— Э-э, черт, — злобно выругался Тимофей, сильно дернул вожжи и с размаху протянул во всю лошажью спину кнутом.
Свет потемнел в глазах Степана. Хотел крикнуть, но горло пересохло и ноги словно ватные стали. Постоял чуток, и надо ж такому случиться: будто откуда-то со стороны, а может быть, это от земли, ноги силой небывалой вдруг налились. В несколько секунд подскочил Степан сзади к Тимофею, вырвал у него из рук кнутовище. С яростью размахнулся, и ременная плеть, со свистом описав дугу, трижды обвила Тимофеево тело, оставляя на рубахе темные следы.
Грузный по сравнению со Степаном Тимофей оторопел от неожиданности. Стоял с раскрытым ртом и немигающими глазами, не зная как ему поступить, как быть. А Степан, не помня себя от гнева, судорожно торопясь, распрягал лошадь.
— Калинка, никому… Никому…
Пальцы его рук никак не могли нащупать конец супони. Второпях он не мог сразу снять и хомут, позабыв предварительно перевернуть его верхом вниз на шее лошади.
— Ну, погоди, Степка, — пришел в себя Тимофей, — путя наши еще схлестнутся.
— Сволочь! — выругался Степан, бросив в лицо Плужника кнут. Он пощупал холку лошади, кожа Калинки дрогнула, словно прошитая ударом электрического тока Степан осторожно раздвинул шерсть — так и есть: на самом бугорке кровоточила ссадина. Он вывел кобылу из борозды и повел домой, оставив Тимофея с плугом и гнедым мерином среди пахоты.
Так Степан Смирин вышел из колхоза. Вскоре он определился конюхом в соседнем совхозе, где и проработал до самого начала войны.
Недолго проработал в колхозе и Архип Лыков.
Когда около Починок организовался засолочный пункт — он перекинулся туда. Всю осень солил огурцы, помидоры, а после перебрался на Кисляевский сахарный завод.
Где только не работал Архип потом: был и в соседнем районе, и в пригороде, и на пристани — все гонялся за длинным рублем. А ушел на фронт и пропал. Без вести…
Федор очнулся от полудремы. Пролетавшая над самой головой большая серая ворона так сильно каркнула своим хриплым голосом, что он даже приподнялся на локоть, разглядывая: куда бы это она полетела. Птица неуклюже опустилась недалеко за плетнем, где в густых зарослях крапивы и чертополоха находилась мусорная свалка. «Лемех сегодня кроликов забил, отбросы свежие…» — подумал Федор.
Взгляд его упал на траву перед самым топчаном. На острой стрелке пырея сидел жучок-солнышко, красный с черными горошинами. Он несколько раз распускал крылья, но почему-то не мог взлететь. Белые подкрылки папиросной бумагой выбивались из-под красной полускобки жесткого крыла. «Вишь ты», — произнес Федор.
«Надо бы проведать Митрия», — вспомнил Федор. Взглянул на часы. Рабочий день кончился. Федор свернул одеяло и не спеша пошел к дому. Бросив на крыльце свою ношу, он вышел за калитку и направился было в сторону смиринского подворья, но вернулся. «Схожу завтра. Сельмаг уже закрыт…»
4
Фамилия Митрия, Смирин, как нельзя лучше подходила ему, соответствовала его характеру. Был он в меру рассудителен и внешне спокоен, и это создавало впечатление его добролюбия, какой-то смиренности. Сухощавый и по-мальчишески подтянутый, Митрий обладал незаурядной физической силой, но, как всякий сильный человек, был до застенчивости добродушен и миролюбив. По крайней мере, с людьми самыми разными, самых разных характеров он умел уживаться довольно легко.
Но существовал человек, с которым Митрий не только не мог найти общего языка, но и не мог не быть врагом с ним. И этот человек была его собственная теща — Варвара Григорьевна. Это была женщина вулканической силы непрерывного действия и энергии. Полная, круглолицая, с маслеными бегающими глазками, без нее не обходилось ни одно событие ни в ее доме и домах соседей и близких, ни во всех Починках. И всюду она поспевала.
Случись ли где свадьба — она была тут как тут, бегала, хлопотала, распоряжалась; подоспей в каком дворе проводы — без нее не обойтись; окажись у кого какое горе — опять же уладится оно не без Варвары Григорьевны, не без ее вмешательства.
Варвара Григорьевна или Вара, как ее называли в Починках за глаза, была на редкость словоохотливой женщиной. Высокий, переходящий в фальцет голос ее, когда она говорила, напоминал клокотание горного ручья. Впечатление создавалось такое, что слова у нее возникали непосредственно на языке, не касаясь не только груди и сердца, но и головы. Слушать ее, когда она особенно была в ударе — почти невозможно, а спорить — бесполезно.
У Варвары Григорьевны, при ее ограниченном, в общем-то, миропонимании были свои определенные взгляды на жизнь. Они, естественно, не отличались ни оригинальностью, ни здравым смыслом, но зато были тверды и неколебимы. Заключались они в глубоком убеждении Варвары Григорьевны в том, что все, что делают другие, и делают не так, как она, — все это плохо, никуда не годится. А то, что делалось хотя бы приблизительно похоже на ее действия, — все это хорошо. Потому-то так настойчиво и методично она изо дня в день старалась перестроить жизнь своих близких на свой лад и манер.
Три года назад, когда Митрий похоронил мать, — Варвара Григорьевна стала жить большей частью в их доме. И было понятно, так как дети были совсем маленькие. Марина, привыкшая к помощи свекрови по домашним делам и заботам, трудно входила в роль одинокой молодой хозяйки. Словом, требовался в доме опыт старой домохозяйки и зоркий глаз.
Почти год прожила тогда в доме Митрия теща, но этот год стоил ему немалых сил, выдержки и хладнокровия. И все же всего этого даже у него, Митрия, такого покладистого спокойного и миролюбивого человека, — не хватило. Взорвался он однажды так, что все домашние разбежались со двора, правда, теща не особенно-то торопилась и покидала подворье последней, уже под конвоем зятя, с двухаршинным засовом в руках.
Да и было от чего взорваться, если, что бы ни делал Митрий, по теще все выходило — не так. Подрезал ли он во дворе кустарник крыжовника — не так, ладил ли над окнами гардины — не так, даже когда брился — и то не так. Не так, не так, не так…
Если бы у зятя хватило терпения, и если бы он спросил у тещи — как, — то она вряд ли бы ответила, и не только не ответила, не смогла бы даже приблизительно объяснить существо дела, так как в жизни, кроме стряпания у печки, ничего не делала. Всю жизнь прожила за счет золотых рук своего мужа Василия Ивановича.
Часто Варвара Григорьевна под всяким предлогом старалась не садиться за общий стол завтракать или обедать. Зато так, между делом, лучшие, самые лакомые куски были ее. Ела она всегда как-то украдкой, получалось у нее это по-воровски, чего страшно не любил Митрий, не нравилось такое поведение матери и Марине, и она часто ей выговаривала. Но это дело было бесполезным.
Все ей не нравилось, все было не так, как она представляла в своем воображении. Она, например, считала, что Митрий слишком много ел, а на замечание Марины, что он ведь мужчина, — теща не обращала внимания. Ей не нравилось также, что зять курил, что он иногда кашлял и, как ей казалось, слишком громко стучал сапогами. Ей не симпатизировало даже собственное отчество, и она требовала называть себя не Григорьевной, а — Георгиевной.
Митрий не раз задумывался, вспоминая тестя, умершего два года назад, и сопоставляя его с этой женщиной: как они могли уживаться, эти два совершенно разных человека? И что удивительно, жили нельзя сказать чтобы плохо. Та истина, что у таких вздорных ничтожных женщин, как правило, случаются хорошие мужья, была им открыта давно. И на примере своего тестя и тещи Митрий еще раз убеждался, что это именно так. Безусловно, все положительные стороны в таком деликатнейшем вопросе, как их семейная жизнь, Митрий относил за счет более покладистого характера покойного тестя. И он не ошибался. Ибо кто хорошо знал Василия Ивановича Крайнова — не мог утверждать обратное. Столяр-краснодеревщик, большой мастер своего дела, это был человек широкой души и добрейшего сердца. Он был единственный, кто умел потакать всем желаниям и капризам своей Варвары. Единственный он называл ее Георгиевной.
…Первое время Марина сама наведывалась к ней. А после и теща опять стала иногда появляться у Смириных, стараясь, однако, попадать, когда Митрия не было дома. Несколько раз он ее заставал, но делал вид, что не замечает. Так складывались у него с тещей какие-то неопределенные, натянутые отношения, которые продолжались долгое время да, собственно, были они такими и теперь.
Зато Федор стал чаще наведываться к Смириным. Он тоже недолюбливал Варвару Григорьевну. На этот раз во дворе Митрия Федор увидел некую перемену. Сначала он не понял, в чем дело. Как всегда, перед порогом стоял штакетник, за которым красовались крупные георгины, разноцветно горели астры. У летней кухни, что у плетня, как всегда стоял старый велосипед Митрия, без багажника и надкрыльев, у кучи желтого песка — лежал набоку игрушечный самосвал, валялись совочки, ведерки и другая детская посуда из жести и полиэтилена.
— Вот оно что, — вслух произнес Федор, увидев наконец пустое место, где раньше лежали у Митрия кленовые жерди. Он повел глазами вокруг и разглядел в самом конце двора, у небольшого сарая, которые в здешних местах называют ласково катушок, ровный штабель этих самых жердей, сложенных хозяином, видимо, вчера или же сегодня.
— Нынче опять стройка, — пояснила Марина, поздоровавшись с Федором и поймав его взгляд на жердях. — Погреб перекладывать будем.
— Надо, надо, — понимающе взглянул на Марину Федор. — Хозяин-то дома?
— Придет скоро.
Федор присел на дубовую колоду у кадки с водой. Закинул нога за ногу, покачивая желтым ботинком, закурил.
— Подземную часть хозяйства, стало быть, укрепляем.
— Укрепляем, и конца этому укреплению не видать, — согласно ответила Марина, развешивая белье на веревке, протянутой через весь двор от большого сарая до катушка. — Вам хорошо в городе, ни тебе забот, ни хлопот.
— Малина жизнь, любо-дорого, — довольно улыбнулся Федор.
Марина занималась бельем и искоса поглядывала в сторону Федора.
С одной стороны, она, в общем-то, недолюбливала Федора, пустоватого, беззаботного, с другой — несколько завидовала его жизни в городе; с одной стороны, негодовала, что ее Митрий никак не может порвать с этой «навозной» своей судьбой, а с другой — боялась, как бы он, вкусив той городской жизни, не растерял бы своих мужичьих хозяйских задатков, не стал бы на путь, как ей казалось, каждодневной мелочной суеты.
Дверь калитки скрипнула. Твердым шагом хозяина во двор вошел Митрий. Поставив у порога черную кожимитовую сумку, поздоровался с приятелем.
— Мануковскому наше с кисточкой, — оторвался Федор от кадки.
Лицо Митрия светилось довольно. Он был в хорошем настроении. Снял куртку, сшитую из чертовой кожи, присел рядом с Федором.
— Слыхал новость? — не выдержал, первым спросил Лыков.
— Как не слыхать, — Митрий улыбнулся. — Сейчас самого Романцова с секретарем партбюро Самохиным встретил. Ну, Смирин, говорят, теперь на новый комбайн настраивайся! Мы тебя знаем, говорят. Нам такие механизаторы, как ты, во — нужны. — Митрий при словах: во — нужны — провел ребром ладони по щетинистому кадыку. — Два новеньких СК-три на днях получает совхоз. Ох и машина!.. — Митрий прикрыл глаза. — Я в прошлом году на Гаврильском поле видел ее в деле. Это тебе не С-четыре, хотя механизм тоже неплохой!..
— Ладно тебе, — оборвал Федор, — все машины да механизмы эти. На работе надоели. Лучше давай поговорим насчет картошки дров поджарить. — Он легонько тронул себя за карман, и Митрий догадался: в кармане — четвертинка.
Федор, увидев, как друг нерешительно кинул взгляд в сторону жены, — поспешил на выручку:
— Слышь, Марина, дай-ка нам чего-нито перекусить.
— Да что вы, дети малые. Вол погреб, а вон в избе миска, и хлеб там же.
Федор с укором посмотрел на хозяина, и тот, чувствуя свою оплошность, заспешил в погреб.
Что может быть лучше, чем ужин с другом на свежем воздухе под яблоней? На столике, врытом в землю, — миска красных малосольных помидоров, сало, картошка, лук. А хлеб — это просто произведение искусства!.. Духмяный, ноздрястый, рассыпчатый… Нет лучшего средства — после стакана занюхать таким хлебом. А что касается выпить еще, так Митрий незаметным образом прихватил из погреба бутылочку домашней сливянки.
— Вот я и говорю, — Федор с хрустом откусил головку молодого лука, — перебирайся к нам в город.
— Так-то и легко.
— Вот чудак. А как ты думал? Если б все было легко, так и разговоры нечего разговаривать.
— Не до того будет эту осень, погреб перекладывать надо. Да, вот что. Как насчет цемента? Обещал ведь.
Федор отодвинул тарелку:
— Что цемент. Приезжай — и возьмешь. Я тебе о другом толкую, потребсоюзу механик во как нужен.
— Нет, до будущего года и думать нечего.
— Ну и загорай тогда тут. В прошлом году у тебя — сарай, в позапрошлом — кухня, в этом — погреб. Что на будущий-то придумал?
— На будущий полы надо перегнать, — отозвалась Марина.
— Давай, давай, — безразличным тоном сказал Федор, — ишачьте, таких работа любит.
— Романцов говорит — дома кирпичные совхоз будет строить.
— Дома?
— Да, и Самохин это же толкует. Двухквартирные, по два этажа, говорит, будут. Газ, а там и воду проведут.
— Хе, вилами-то писано, когда это будет.
— Вилами не вилами, а будет видно…
Федор перестал курить, затушил сигарету, прислушался.
— И что же еще говорил?
— Говорит, промышленные комплексы строить будем, парниковое хозяйство заводить надо, чтобы свежими овощами снабжаться круглый год. Луга восстанавливать, залуживать. Работы много, большие дела затеваются.
Митрий вытер платком вспотевший лоб, глаза его горели каким-то новым, теплым светом.
«Работе радуется», — мелькнуло в голове Федора. Он представил Митрия на новом комбайне, за лугом, на Гаврильском поле. Места там привольные, ровные. И хлеба всегда родятся добрые. Вот сидит Митрий за штурвалом. Кепка — козырек назад. Глаза нацелены. Много раз видел он своего друга именно таким…
— Да-а, — протянул Лыков неопределенно. — Дела-то большие намечаются.
— И намечаются, и делаются уже.
— Поглядим. Ну, ладно, мне пора, — поднялся гость из-за стола. — Сегодня же в районе надо быть.
Митрий проводил Лыкова до калитки, вернулся во двор и стал размерять погреб. С деревянной метровой линейкой в руке он обмерил старые срубы. Слазил вовнутрь, размерил наверху, прикидывал и так и эдак, чтобы прибавить полметра в ширину (мешал сарай) — на полметра можно все-таки выкроить, и он, довольный, присел на чурку у передних окон избы.
«Камня хватит, — рассуждал про себя Митрий, — песок свой, цемента мешков пять надо б… Ну, раз Федор обещал, то все будет в порядке».
Тут увидел он, как по нижнему бревну венца бежал появившийся откуда-то таракан.
— Ах ты, каналья, — проворчал Митрий, стараясь сковырнуть его железным наконечником. Насекомое упало на землю, хозяин прихлопнул его подошвой сапога и только тут понял, что линейка его застряла слишком глубоко в бревне. «Мать честная, — с ужасом подумал Смирин, — подрубы подгнили».
Он стал лихорадочно быстро ковырять бревно, убеждаясь в том, что оно основательно сопрело. И угол осел вниз, и окно перекосилось. Он как-то не замечал этого раньше: «Теперь одними полами не отделаешься, всю избу перебирать надо будет».
5
Директор совхоза «Рассвет» Алексей Фомич Романцов более двадцати лет возглавлял хозяйство. Агроном по образованию, любящий землю человек, был он всецело предан самому древнему на свете делу — хлебопашеству. Выходец из казаков Старохоперской станицы, один из прадедов которого был грек, Романцов многим выделялся среди окружающих, в том числе и своею внешностью. Был он высокого роста, хотя несколько сутул от многолетнего хождения за плугом в молодости, до работы на Ростсельмаше, но вместе с тем строен. Смуглое лицо, массивный с горбинкой нос, черные как смоль усы и такие же густые брови придавали выражению его лица черты волевые. Густые длинные волосы его, в отличие от усов и бровей, белые, с голубой дымкой всепобеждающей седины, заметно облагораживали это лицо.
Все, кто знал Алексея Фомича, не помнят, чтобы он когда-либо не был гладко выбрит или одет небрежно. Романцов любил белоснежные рубашки, и все удивлялись, каким образом (все-таки работа не кабинетная: в полях, на фермах) — ему удается носить рубахи первой, что называется, свежести.
Красивой внешности человек, он жил и работал всегда красиво. Если агрономия — его призвание, его специальность, то техника — любовь Романцова. Может быть, из-за этой любви к машинам и начинал он свою трудовую жизнь с рабочего на ростовском заводе «Сельмаш»? Возможно, он никогда и не ушел бы с завода, если бы в годы коллективизации его, в числе двадцатипятитысячников, партия не послала в село? Страстный автомобилист, он знал назубок все машины, с которыми приходилось работать. Нет такого агрегата в совхозе, который бы не изучил и не освоил директор.
Всем памятен случай, происшедший прошлой весной, когда в бригаде собралось до десятка трактористов-механизаторов: не заводился один старый грузовик… Даже Василий Кирпоносов, лучший механик-умелец, после получасового копания с мотором машины заявил: надо разбирать карбюратор. Мимо проходил директор. Узнав, в чем дело, — подошел. Снял плащ, пиджак. Правда, и ему пришлось покопаться немало, но он установил причину, карбюратор разбирать не пришлось. И ушел переодеваться: рукав белой рубашки от плеча до манжета был в мазуте и ржавчине.
Опытный хозяин, он всегда, даже в самые тяжелые времена, находил выход из трудного положения. Романцов был твердо убежден: не создай сносные условия для людей, для их труда, никогда не добьешься желаемого успеха. Поэтому-то и приходилось изворачиваться в те годы, когда «Рассвет» еще не был совхозом и надо было обязательно сеять то кукурузу, то горох, то еще что.
Помнится год, когда две трети всей пахотной земли приходилось засевать кукурузой. Земли хозяйства низкие, и кукуруза эта могла годиться только на зеленую массу. Трудный оборот принимало дело. Отчаялся было Романцов. Не знал, что и предпринять. Как быть. Но и тут поступил хотя и рискованно, но, как всегда, благородно, красиво. На свой страх и риск решил на рыбе разжиться. Собрал технику и людей на речку-безымянку ставить запруды. Пригласил особо стариков, бывших починковских мастеров-рукоделов, корзинников да грабарей. Те поглядели: тракторы, бульдозер. «Мы, говорит, сроду с лопатами да грабарками плотины гатили, а тут тебе техника такая! Да тут не то что безымянку нашу — Дон перегородить можно». И закипела работа.
Романцов оставил за себя агронома, а сам, нагрузив бочками две автомашины, подался в Ростовскую область. Возвратился он с десятью тысячами мальков зеркального карпа, а тут у мужиков, как у бобров, плотины готовы. Старики умело уплели разводья, а тут еще из ивовых прутьев ростки погнало в побеги. Плотина — что твой бетон. И два озерца готовы. Запустили мальков. Лето подкармливали их. А осенью — не успевали рыбу отвозить, и в Петровск, и в Калач, и в Воронеж…
Все окупилось рыбой: и с государством рассчитались, и себе хлебушка приторговали. Правда, вскоре в районе дознались о «самовольной» закладке прудов — грозились «прикрыть» неутвержденные угодья, но вот наступила иная полоса. И Романцова не то чтобы ругать — хвалить стали. Так и остались пруды с тех незабываемых лет.
И что только не пришлось пережить в те годы. То пропашные вместо травопольного оборота, то горох да греча, то еще что… Как в калейдоскопе менялось руководство в районе, то и дело совершались перестановки в области. Сколько раз готовился Алексей Фомич к тому, чтобы передать хозяйство в другие руки. Ждал, жил не без оглядки. Многое тогда в жизни прямо на глазах менялось, мялось, корежилось, а он устоял, выстоял.
После октябрьского Пленума, когда жизнь стала входить в свои привычные берега, когда были созданы нормальные условия для хозяйского, творческого подхода к делу, — совхоз «Рассвет» сразу же далеко шагнул вперед. И выручила хозяйство не кукуруза, а сахарная свекла. Больно уж удобны для нее здешние черноземы.
Прослышали рассветовцы, что на Кубани, а после и рядом где-то под Белгородом, то ли на Курщине, свеклу выращивают по новому методу, с минимальными затратами ручного труда. А как это делается — кто знает? Впрочем, Романцов задолго до этих слухов часто задумывался над такой проблемой. Весь вопрос в том, что слишком уж много семян приходится высевать, а потом ведь вручную выбирать, прорывать лишние ростки — в этом вся беда. Пригласил как-то Алексей Фомич к себе Василия Кирпоносова. Долго они толковали, чертили на бумаге схемы, спорили. А потом их часто видели на дворе второго отделения, у старой сеялки КС-12. Много дней они возились с ней, отрегулировали высевающий аппарат таким образом, что почти вдвое меньше сократили расход семян на гектар. С двадцати двух — двадцати четырех килограммов до двенадцати — пятнадцати. Это ли не экономия?..
Агроном высказывал сомнение: всхожести не будет. Романцов решил на двух гектарах сначала засеять. Для подстраховки произвели боронование перед всходами. Получилось — лучше не придумаешь. И не то главное, что семена экономятся, — другое важно: отпала необходимость прорывать всходы.
На следующий год урожай собрали приличный: по двести восемьдесят центнеров лучшей сахарной свеклы! Касса хозяйства заметно пополнилась. И люди зарабатывали неплохо, сахара-песка получили немало.
Теперь совхоз — одно из передовых хозяйств района. Из десяти тысяч гектаров земли иметь семь с половиной пахотных полей — не шутка. А луга, а промышленные комплексы. Одних тракторов до полсотни набирается. Бюджет совхоза ныне составляет около трех миллионов рублей. В гору пошло хозяйство. Романцова стали в разные президиумы приглашать. Случись ли в области какое торжество, тем более — в районе. Почти не одно мероприятие не проходило, чтобы его не избрали в президиум. Ох, и недолюбливал он это дело. Претило ему красоваться на виду у всех, и разные хитрости да предлоги придумывать стал: то больным скажется, то еще что… Особенно же одолевали последнее время корреспонденты. От них так не отобьешься. Один так тот почти полгода пытался сфотографировать Романцова для районной газеты. Раз отговорился, другой, в третий пообещал быть в парадной форме. А потом хитрость придумал: платок на щеку надевать стал. Только тот прорвется в перерыве за кулисы — Алексей Фомич с повязкой на щеке: флюс, говорит, жизни не дает… И носовой платок к глазам прикладывает — страсть боль какая.
Сегодня Романцов и агроном Голованов возвращались из района. Хорошие дела складываются в районе. Год обещает быть добрым, урожайным. А тут еще геологи гранит открыли. По предварительным подсчетам, запаси высокосортного камня немалые. Петровский карьер — будет крупнейшим не только в стране, но и в Европе, это самый большой горнопромышленный комплекс по разработке гранита, а вместе с ним сопутствующих материалов: песка, щебенки, бутового камня. А кто не знает, какое это благо для безлесных степных мест, где в строительных материалах такая острая нужда?!
Поездка была удачной. Вот что значит под хорошее настроение попасть к секретарю райкома! Тот с ходу вопрос о дополнительных поставках удобрений решил, а главное, помогает приобрести для совхоза автоцистерну — давнюю мечту директора для перевозки молока прямым ходом: ферма — молокозавод. Так и сказал: «Я, считай, договорился насчет твоей автоцистерны. Вот в среду только еще один звонок нужен в облуправление: поставщика обещали назвать…»
— А ловко ты, Фомич, обвел прошлый раз Крона, — наклонился тучный Голованов на переднее сиденье, улыбаясь и заглядывая в лицо Романцова.
Директор с недоумением повернул голову. Он еще не оторвался от своих мыслей и не совсем понимал, о чем речь.
— Какого Крона?
— Ну, фотокорреспондента, — подсказал водитель Пашка Лемехов.
— А-а… — лицо Романцова на миг осветилось улыбкой, и тут же густые мохнатые брови его сошлись у переносья.
Лемехов за многие годы в совершенстве изучил характер своего хозяина, знал, что агроном, как человек новый, возможно будет продолжать начатый разговор, — перевел его в другое русло.
— Говорят, Виктор Петрович, там гранит и олово нашли?
Голованов посмотрел в боковое стекло «газика», в сторону Петровска, произнес:
— Говорят, нашли. Но это ведь прогнозы пока еще. Чего там, сколько там — экспедиция будет устанавливать, изучать.
— Экспедиция у них что надо, — с завистью в голосе произнес Пашка. — Вон у консервного завода они стоят. Машинешки — блеск!
Романцов улыбнулся в усы, поглядел на своего шофера, сказал:
— Они, наверное, лихачеством не занимаются, как ты.
— Что вы, Алексей Фомич.
— Вот тебе и что вы. Тормознуть на большой скорости любишь? Любишь. И рвануть с места — тоже мастак. Так, конечно, любую машину задергать можно.
— Это я, когда без класса был, сейчас у меня — второй.
— Да, кстати, что секретарь насчет цистерны сказал? — перебил агроном.
— Договоренность есть. Дело за поставщиком.
— Хорошо.
— Вот еще что, Виктор Петрович, — сказал Романцов, обращаясь к агроному, завидев впереди знакомые ворота при въезде в центральную усадьбу, — съезди-ка на третью ферму. Что-то там Солодов с зоотехником никак не могут с кормами разобраться.
— Добре, добре, — закивал тучный Голованов.
— А я с отчетами займусь.
Когда директор вышел из машины и взглянул на часы — удивился: было половина первого.
— Сколько на твоих?
Голованов сдвинул край рукава, подтвердил:
— Половина первого.
Алексей Фомич довольно улыбнулся: «Странное дело. Так долго вроде пробыли в районе, а времени еще только половина первого. Вот что значит вопросы решить удачно».
— Ладно. Пообедать надо, а там — за дело. Съезди, — напомнил Романцов еще раз.
— Есть.
6
Алексей Фомич подходил к своей конторе и еще издали увидел у входа троих человек. «Люди-то вроде незнакомые», — подумал Романцов. Своих-то он знал всех наперечет. Ба, да это ж починковцы: Иван Титов, Михаил Лукин, кузнец Буряк, по прозвищу «Ага-да-ну»…
— Здорово, мужики!
— День добрый, — разноголосо ответили те.
— Никак, ко мне?
— Чай, ныне рассветовские мы, к тебе, Фомич, — сказал за всех Михаил Лукин.
— Давайте, — показал директор рукой на дверь своего кабинета.
Починковцы зашли, сняли фуражки, сели у стены. Романцов тоже сел, но не за стол, на обычное свое место, а тут же сбоку стола.
Тут зашел и Самохин. Алексей Фомич поймал на лице Петра Ильича лукавую улыбку, которая говорила: «Не подскажи людям — не догадаются».
— Ну, так что за нужда?
— Нужда не нужда, а знать надо, чем заниматься теперь нам в новом хозяйстве, — пояснил Иван Пантелеевич Титов.
— Что верно, то верно, — Алексей Фомич повернулся к Титову.
— Иван Пантелеевич, правильно я называю? — Романцов нарочито переспросил Титова, хорошо зная, что того зовут Иваном Пантелеевичем. — Ты, например, тракторист.
— Так, — утвердительно кивнул Титов. — С сорок девятого на тракторе.
— Тебе и карты в руки, — сказал Романцов, — нам трактористы во как нужны. Или, может, другую работу хочешь?
— Вот те на, столько лет на тракторе, и вдруг…
Романцов кинул взгляд на остальных. Лукин выжидательно смотрел на директора своими серыми пристальными глазами, молчаливый Буряк изучал носок собственного сапога.
— Я, стало быть, на ферме, — сообщал Лукин, — телят кормлю-пою.
Романцов нацелил карий глаз на собеседника, секунду подумал:
— Ну что ж, будешь у нас на промкомплексе теперь. Идет?
Взглянул на Самохина: как, мол, думает комиссар. Тот улыбался.
Лукин нерешительно посмотрел на Алексея Фомича, перевел взгляд на соседа.
— И кладовщик нужен, комбикорма отпускать некому.
— Дай подумать, с бабой посоветоваться надо, а то она у меня, стало быть, такая…
Самохин рассмеялся. Улыбнулся и Романцов:
— Ну, ну, посоветуйся, потом скажешь.
Очередь была за кузнецом Яковом Буряком, но тот все так же неподвижно сидел, опустив голову.
— Он у нас завсегда первым кузнецам был, а механика лучшего и не найдешь, — ответил за Буряка Титов.
— Дело известное, все знают, — подтвердил Лукин.
— Знаю, знаю, — кивнул в сторону кузнеца Романцов.
Буряк был известным человеком в здешнем околотке. Слишком уж выделялся он среди других. Небольшого роста, но такой плотный и коренастый, что впору хоть ставь его на бок — одинаково будет. Одним словом, кубышка. А кубышка — она и есть кубышка. Был он одним из сильнейших среди своих товарищей, но силой не любил бахвалиться. Подков не ломал (хотя для него это дело пустяшное) — кочергу в узел не завязывал и наковальню молотом ни одну не разбил. Наоборот, был он до удивления бережливый, хозяйственный и смекалистый человек. Подковы он ковал, причем в деле этом обладал завидным умением. А когда лошади начали переводиться — стал присматриваться к агрегатам и машинам. Начинал с самого простого: борона, букарь, сеялка, жатка. Лишь со временем подступился к трактору, а там и к комбайну.
«Такого человека, как Буряк, иметь в ремонтных мастерских — очень даже подходяще», — подумал директор, когда проводил починковцев из кабинета. С кузнецом поладили на том, что тот будет работать в мастерских. Причем немногословный кузнец выразил свое согласие кивком головы да произнес при этом свое неизменное «ну».
Относительно буряковского немногословия в Починках слагались и ходили байки и анекдоты. Односельчане в разговоре между собой называли кузнеца не иначе как «Ага-да-ну». Это прозвище как нельзя лучше раскрывало суть его характера, немногословие, односложность его скупой речи. Романцов тоже знал немало почти анекдотических эпизодов, связанных с именем кузнеца Ага-да-ну. Один из них Алексею Фомичу рассказал кто-то совсем недавно.
Сынишка Якова Буряка, пятиклассник Петя, как-то принес домой породистого голубя. Закрыл его в комнате, а сам ушел гулять на улицу. Пришел Буряк-старший. Увидел птицу и подумал, что она случайно влетела в комнату, — выпустил ее в окно. Мальчишка пришел — в слезы. Спрашивает отца: куда девался голубь? Отец так объяснил сыну пролажу: «Я его тот, а он под тот, ну тогда я его и вытот», — что понимать надо так: «Я его хотел поймать, а он под кровать, ну я его тогда и выпустил в окно».
Это, пожалуй, была одна из самых пространных речей кузнеца. И еще он сказал тогда сыну: «Не плачь, — и добавил: — Я куплю тебе пару турманов у Титовых».
Хмурый на вид Буряк был человеком добрейшей души. Трогательная любовь его к людям, выраженная не на словах, что ему не давались, а на деле, при его замкнутости и внешней суровости, многих поражала. Хотя и называли его, кроме Ага-да-ну, — кузнецом, на самом деле свою кузницу он покинул лет десять назад и работал теперь механизатором — выращивал картофель. Всем памятен случай, как он, соревнуясь с Фетисовым из «Красного луча», передал тому комплект лап-отвальчиков для культиватора, которые сам сконструировал и изготовил. Произошло это не так давно, в начале лета.
Событие это, обыденное на первый взгляд в текучести сельских будней, вспомнилось Алексею Фомичу с такими подробностями и деталями потому, что рассказал о нем ему Пашка Лемехов, большой мастер рассказывать, как он выражается, «с картинками». Был один из дней неустойчивых и переменчивых, какие случаются иногда в Придонье даже летом. С утра небо хмурилось и оживленно шелестел дождик. Потом прояснилось. Выглянуло солнце и так припекало, что земля курилась в маревой истоме. Медвяные запахи трав, колосящихся хлебов и молодого сена смешивались и дурманили голову.
А через каких-нибудь полчаса в поле становилось сухо. Ибо в начале лета почти всегда действует весенний еще закон, согласно которому на ведро воды приходится всего лишь ложка грязи. Старая, годами выверенная эта крестьянская примета вспомнилась почему-то Якову Буряку в тот момент, когда он разворачивал свой видавший виды «Беларусь» на низком суглинистом участке поля.
Легко и ритмично, словно сердце здорового человека, работал мотор машины. Земля, в меру влажная, ложилась споро. Бесконечной лентой тянулись ряды изумрудно-зеленой картофельной ботвы. Лапы-отвальчики, тщательно подогнанные Яковом, «по-своему» хорошо рыхлили удобренную почву. Буряк так увлекся, что и не заместил, как подошло время обеда. Лицо его оживилось, когда он мельком увидел на небе, что от грозившей дождем тучи не осталось и следа. Небо по-прежнему было светлым, а остатки ее пронесло стороной.
«Сегодня закончу», — подумалось ему. А окучивать картофель и в самом деле оставалось немного. Оставшийся косогор был значительно уже, чем вначале. Кроме того, берег реки-безымянки тут сворачивал несколько влево, и его узкая кромка, поросшая купырем и полевой ромашкой, ограничивала участок, образуя подобие клина.
Выход к берегу — разворот. Еще. Еще. На одном из заходов, разворачиваясь, увидел Яков на противоположном берегу реки трактор Фетисова. «Вернулся с дальних полей», — мелькнуло у кузнеца в голове. В том, что это он, сомнения не было. Это его участок. Его трактор с голубым бензобаком. Сердце Якова, нельзя сказать чтоб дрогнуло, но забилось сильней. Да и как тут будешь равнодушным, когда перед тобой соперник. Не впервые он, Яков Буряк, соревнуется с механизатором из «Красного луча» и знает его упорство и настойчивость.
Нельзя оказать, чтоб Буряк и Фетисов были давно знакомы. Узнали они друг друга недавно. Особенно близко сошлись в последние годы. В Фетисове Якова привлекало прежде всего то, что тот был общительным добрым малым. Но не из тех добрячков, которые быстро со всеми сходятся и почти так же легко расстаются и, что хуже всего, ко всем одинаково доброжелательны, а в сущности, ко всему безучастны.
На одном из заходов Яков заметил, что Фетисов вроде бы при развороте медлит. То ли показалось, то ли в самом деле так. «Ждет, видно. Хочет, чтоб я подоспел к берегу», — подумал Яков. Сделав еще по одному кругу, машины их подравнялись, и получилось так, что к берегу на разворот оба вышли разом.
Фетисов первым остановил разгоряченную машину, поднял приветственно руку.
— Здорово! — крикнул Яков, заглушив мотор.
Разом сошли на берег.
— Заканчиваешь?
— Два-три захода осталось.
— А я только что вернулся из-за холмов. Припекает…
— Припекает, — согласился Яков.
Они разошлись по машинам. Через час Буряк закончил работу. Вывел на обочину машину. Заглушил мотор. Не спеша достал из ящика ключи. Наклонился к агрегату и стал торопливо отвинчивать лапы-отвальчики.
Выждав, когда Фетисов подъедет к берегу, — махнул рукой. Тот увидел и сразу догадался, в чем дело. Остановил трактор. Разделся. А кузнец уже входил в воду, блаженно щурясь на серебристые солнцем волны. Глубина была небольшая, чуть выше пояса.
Встретились почти у берега.
— Держи! — Яков протянул приспособление.
— Ну, спасибо. Спасибо, друг! — повторил Фетисов.
— Главное, по высоте точно установи.
— Когда вернуть?
— Бери насовсем, у меня есть еще такой же комплект.
Искупавшись, Яков вышел на свой берег. Оделся. Сел и двинулся в бригаду.
День клонился к вечеру. Жара стала спадать. Миновав картофельное поле, кузнец повернул свой «Беларусь» на проселочную дорогу, которая пролегала через яровую пшеницу. Поворот. Еще поворот. А вот и стоянка. Поставив машину, тракторист зашагал в сторону села.
Гудели натруженные за день руки, но особой усталости не чувствовалось. Он шагал и думал о завтрашнем дне, о своем доме, который надо бы до зимы «достроить», о Фетисове, чей трактор ровно гудел за рекой-безымянкой.
Романцов резко поднялся из-за стола. Позвал председателя рабочкома Никитина:
— Александр Павлович, давай пригласим на завтра починковцев, поговорить надо.
— Вот это дельно, — довольно потер руки предрабочкома, — а еще бы лучше — нам самим туда явиться.
— Да, — директор повернулся к Никитину. — Так и передай Коробову, чтобы собирал народ на месте завтра в шесть. Мы сами к ним пожалуем, потолковать действительно надо. А то люди ведь беспокоятся.
7
С Павлом Буряком, старшим сыном кузнеца Ага-да-ну соседом с левой стороны, у Митрия сложились издавна несколько странные отношения. Были они одногодки, знали друг друга, считай, с детства, но в дружбе никогда почти не состояли, как, впрочем, не были и врагами. Встречались, будучи холостыми парнями, то ли на вечеринке у сельской избы-читальни, то ли где на работе, в поле ли, на лугах. Вместе являлись в военкомат, будучи призывниками. После службы в армии Буряк работал на ферме, имел на руках «лошадь с линейкой», и его редко видели дома.
Прошло несколько лет — женился Павел Буряк и стал отделяться от родителей. Место для подворья в Починках можно было найти без особого труда, но Буряк выбрал заброшенное старое крайнее подворье, рядом со Смириным. Многие посмеивались над Павлом, над его выбором. Ведь можно было селиться и не с краю: больно неудобное это место как для огорода, так и для самого подворья, бугор, подкопанный с нижней части многочисленными забоями — бабы испокон веков здесь глину брали.
Буряк же рассудил по-своему. Высокое место ему нравилось: видно кругом далеко и ничья изба ему справа не мешает, а что касается глиняного карьера, так его и засыпать со временем можно.
Когда поставил Павел избу да широкими окнами на юго-восток, — красота неописуемая. Ширь перед глазами как на ладони. Справа на меловых взгорьях кудрявой шапкой темнел корабельный лес, внизу, извиваясь и поблескивая между кустов краснотала, юрко текла речка-безымянка, прямо на горизонте виднелось соседнее село Ивановка, а слева — бесконечные просторы Гаврильских полей.
Но не так-то просто оказалось расправиться с ямой из-под глины. И что можно привезти на лошади? Возил Бурак землю, случись оказия вырваться домой, и год, и два, а карьер все зиял и зиял своей пустой утробой почти перед самым порогом его новой избы.
Митрий работал в то время как раз на бульдозере — грейдер-дорогу вели тогда от Петровска до Коврева. Перегонял он однажды машину считай мимо дома, да и завернул пообедать. Только развернулся возле буряковского дома, как раз у его бугра — заглох мотор вдруг. Подергал Митрий рукоятку пускача, пытался завести: что за черт, не заводится. Спрыгнул на землю и чуть не угодил в яму. «Ладно, подумал, я покажу тебе сейчас кузькину мать». Наладил мотор, развернулся и с трех сторон сгреб весь бугор прямо в яму.
С тех пор не было случая, чтобы Павел Буряк в память о той выручке не помог в чем-либо Митрию по работе во дворе или в доме. Обновлял ли Смирин крышу на избе — Павел тут как тут; ставил ли он сарай — опять тот приходил, помогал.
Вот и теперь, не успел Митрий спуститься в яму, что выкопана под погреб, подчистить завал у стенки, — подошел Буряк.
— Час добрый, сосед. Прутья вот тебе принес на арматуру.
Выглянул Митрий из своей ямы — в самом деле стоит Буряк с железными прутьями в руках, точно такими, какими он выводил свод, когда строил свой подвал.
Митрий заулыбался, разглядывая Павла, вылез наверх, присел на чурбак. Показал рукой рядом с собой: садись, мол.
Но тот не заметил жеста хозяина, уверенно зашагал вниз. Поднял руку вверх, примеряясь: не мелко ли, не глубоко!
— Ты вот что, — нравоучительным тоном произнес Павел, — глубоко слишком не рой. Сверху чтоб с полметра было — и довольно. А канава под фундамент даже и глубоковата. Не надо такую… — Сказал, а сам с затаенной завистью подумал: «Во, черт, размахнул какую ширину, на целую четверть поболе моего будет».
Строительство собственного погреба давало Буряку моральное право говорить таким покровительственным тоном. Еще бы! Он, Буряк, один из первых в Починках, кто заложил такой каменный подвал вместо старого, какие строили раньше деды из деревянных срубов. Правда, по неопытности испортил тогда он два мешка цемента — промешкал маленько, раствор и прихватило. На опять же, цемент этот достался ему почти что задарма, подумаешь, поставил бутылку шоферу-калымщику из Петровска, а во-вторых, урок получил — и впредь теперь его не проведешь на этом цементе.
Митрий уловил этот озадаченный взгляд соседа, довольно улыбнулся.
— Я так люблю. Ежели строить, так ничего не жалеть. Чего уж там…
— Оно-то так. Да не всегда получается. А потом, зачем такой размах? — с явным раздражением в голосе произнес Буряк, намекая на смиринскую избу в четыре окна на улицу. (У самого Буряка изба только в три окна.)
— Всяк по-своему с ума сходит, — неопределенно заменил Митрий, наблюдая за соседом сбоку.
А тот подошел вдруг к катушку, взял в левую руку (он был левша) оструганную рейку, посмотрел в яму и стал замерять ее с двух сторон.
— Ну вот, два на два с половиной, — он поставил рейку рядом с собой и посмотрел косым глазом вверх, на конец рейки, которая на добрую четверть возвышалась над головой.
— Мой рост метр семьдесят, — рассуждал Буряк. — Пусть будет в этой рейке два. Выходит четыре на четыре с половиной. Ну, куда такую махину?
— Примерно как и у тебя.
Митрий хорошо знал, что у Буряка подвал меньше. Три на четыре. Он нарочно измерял, когда помогал ему в позапрошлом году выводить рукав.
— Да-а…
Павел вынул мятую пачку «Прибоя». Закурили.
— А камня тебе не хватит, — как бы между прочим заметил он, кивком головы показывая Митрию на кучу колотого камня-бута во дворе.
— Хватит. А мало будет — там, за сараем, маленько еще есть.
Курили молча. Настроение каждого изменялось с каждой минутой, с каждой секундой. Если у Митрия оно поднималось от чувства удовлетворенности тем, что наконец он хоть в какой-то мере уязвил своего соседа погребом, отомстив таким образом за летнюю кухню, которую Буряк поставил весной, — у Буряка оно падало. Затаенное чувство не то зависти, не то ревности росло.
Окончательно вывело из равновесия Буряка сообщение Митрия о том, что подвал он будет класть «колоколом», круглый. «Вот черт, — выругался про себя Буряк, — как у Ивана Титова, такой хочет. Эх, дал же я маху, мне тоже такой надо было бы сложить…»
Неизвестно, чем бы кончился их разговор, если бы в эту минуту из-за плетня не послышался картавый голос мальчишки:
— Па-а-п, завтрикать!..
Буряк бросил окурок, прихлопнул его ногой и зашагал к своему двору.
Негласное, но ежегодное, ежедневное и ежечасное соревнование между Буряком и Смириным началось с того самого дня, когда Павел поселился по соседству. Тот переехал и сразу же поставил избу в три окна. Митрий отметил не только окна, но и высоту буряковского домика, особенно потолки, отделанные светлой масляной краской.
Первые дни Митрий даже спал плохо. Проснется и думает. А тут еще Марина донимала. По ее убеждению выходило, что Митрий и «не раковит», и «не умеет за себя постоять», и черт-те что, словом, «тряпка»… Год, два терпел он, да и самому-то уж больно захотелось перебраться в новую избенку из этой старой, еще дедовской лачуги.
И вот решил. Продал годовалого бычка, уехал на полгода в Архангельскую область — лесозаготовки колхоз вел в те годы. Вернулся с лесом и денег подзаработал, ну и закатил себе хоромы в четыре окна, в отместку соседу и на зависть другим.
С тех пор так и повелось. Купил Митрий диван мягкий — новинку в то время в Починках, а Буряк — швейную машину ножную с Петровска привез. Митрий пальто жене, а тот плащ модный болонья; Смирин террасу пристроил, а сосед — кухню летнюю, тот приемник, а этот — мотоцикл. И пошло… Особенно забеспокоился Митрий, когда узнал, что Буряк собирается купить телевизор. Уже и две жерди для антенны приобрел.
Правда, тревога оказалась напрасной. В те годы не так-то просто было его раздобыть. Да и работали эти телевизоры тогда еще плохо. Областного трансляционного центра не было, а напрямую из Москвы — смотреть передачи дело почти гиблое. Вон Женька-киномеханик, на что голова, а и то никак наладить не смог. И деревянную жердь над клубом ставил, и железную, и две пытался применить — не берет, и шабаш. Звук есть, а что касается видимости, так нечего и посмотреть, мельтешит что-то, и точка.
Митрий поднялся с чурбака, посмотрел на часы — половина восьмого. Пора завтракать, время на работу. Тут он вспомнил слова соседа о том, что камня на погреб не хватит. Обошел вокруг кучи, как бы взвешивая каждую глыбу. Не поленился, сходил и за сарай, где под соломенным старым навесом с давних пор лежала еще одна куча поменьше, и, уверенный в том, что материала будет достаточно, вошел в дом.
В комнате была привычная для этого утреннего времени обстановка. На столе, возле него, на широкой скамье — кастрюли, миски, кувшины, тарелки. Весело гудела печь. Пахло поджаренным луком, укропом и еще чем-то таким духмяным и вкусным. Марина уверенно и ловко орудовала возле печи.
Митрий отодвинул большой чугун с картошкой, привычно сел за стол, в угол, на свое хозяйское место.
— Ешь пампушки[1], вот сметана, — бросила Марина, подавая ему алюминиевую миску. Сказала и вышла за порог — зачерпнуть воды из колодца, что находился тут же во дворе.
Смирин принялся завтракать, усмехнулся, снимая полотенце с оладьев. Он поймал себя на мысли, что всякий раз, когда принимается есть блины или оладьи, вспоминается ему Никита Пинчуков, починковский весельчак и балагур, погибший еще в финскую войну.
Митрий хотя был еще совсем мальчишкой, но хорошо помнил этого бодрого, неунывающего человека. Никита был невысокого, среднего роста. Не выделялся он и своей солидностью. Правда, был коренаст, круглолиц. Голову имел клинообразную. Сидела она на короткой, плотной шее чуть набок.
Ничем особенным Никита не выделялся среди других своих сверстников, если не считать его несколько каких-то коротких, по его росту, рук. Особенно же были короткими, но толстыми пальцы. Когда Никита сжимал кулаки и соединял их вместе — получалась внушительная фигура, не намного меньше его массивной головы.
Но самым примечательным свойством его натуры был аппетит. Ходили слухи, что на спор Пинчуков мог съесть за один присест яичницу из двух с половиной десятков яиц или выпить две дюжины пива.
Митрий не однажды слушал рассказ старого Титова, соседа Смирина, как они когда-то собирались в поле на покос.
Вечером, бывало, когда соберутся мужики после работы у бригады покурить, обменяться новостями, кто-либо из них обязательно напомнит:
— Расскажи, отец, как вы с Никитой Пинчуковым собирались ячмень косить.
Старый Титов забывал о том, что об этом он только вчера уже рассказывал, заметно оживлялся.
— О-о! Было такое.
Он трогал рукой свои реденькие пшеничные усы, улыбался.
— Собрались, стало быть, мы раненько по холодку. У меня лошадь запряжена стоит. Коса, жбан с квасом, торба с хлебом и салом — все уложено.
Старик еще более оживлялся, подмигивал слушателям.
— Смотрю, появляется кум как раз под мои ворота. Сердитый какой-то. Я, стало быть, выехал со двора, сел на телегу: ну, с богом. Поехали.
Едем, я и спросил: «Чего, кум, не весел?» — «А, отвечает, так, пустяки». — «Ты завтракал?» — спрашивает он меня. «А как же». — «А я не успел, так себе налегке, с полсотни пампушек в рот бросил — вот и все».
При словах «с полсотни пампушек» старик обводил слезящимися глазами присутствующих, наблюдая, какое впечатление произведет его рассказ.
И хотя историю эту с пампушками все знали почти наизусть, слушали ее не один раз, все равно, всякий раз от души хохотали.
8
— Степаныч! — раздался чей-то голос во дворе.
Митрий выглянул в окно — бригадир. Вышел на крыльцо, вытирая на ходу губы полотенцем.
— Здорово, Степаныч. Ты никак сегодня на Лисьи холмы собираешься?
— Ну?..
— Скажи Кирпоносову, чтоб гнал трактор в бригаду.
— Че так? — не понял Смирин.
— Клин за старыми овинами надо закончить. Да и ближе тут. А то кинься передавать машину, а она за тридевять земель.
— Кому передать?
Колосов удивленно поднял всклокоченные брови.
— Сам не знаю кому. Колхозу или совхозу. Кому прикажут.
— Это в связи с укрупнением, — понимающе отозвался Митрий.
— Вон уж Романцов с нашим Коробовым второй день вместе ездят по бригадам и фермам.
Митрий сошел с крыльца.
— Ездят, говоришь?
— Вчера во второй бригаде — сегодня в первой.
— И у комбайнов были?
— Были и у комбайнов.
— Стало быть, Коробов сдает хозяйство Романцову, — заключил Митрий.
Колосов улыбнулся.
— Это как же он может сдавать колхозную собственность?..
— Куда не крути — все наше, государство-то одно.
— Ну, тебя бы, Митрий, во главу колхоза или в район, на ответственную работу. Вот бы дров наломал…
— А чего ломать, — обиделся Митрий, — делай как лучше, а что касаемо дохода, карман, он один, общий.
Колосов сдвинул фуражку на затылок, ухмыльнулся, собираясь что-то сказать.
— Ты-то теперь в совхоз небось перейдешь или в колхозе останешься? — опередил бригадира хозяин.
— Эх, Смирин. Ты-то как?
— Что мне. Я тут, в Починках живу, не в Ковреве, да и работа тут рядом, сподручней.
Колосов подошел к пустому бочонку, перевернутому вверх дном, потрогал рукой — прочно. Уселся в тени, против него на пороге присел Митрий. Он знал, что гость сейчас будет вести разговор о наболевшем, о чем Митрий думал многие годы, особенно в последние дни, — о дне, когда он наконец решится, махнет рукой и — была не была — уедет обживать новое место.
Митрий помнил, что Колосов несколько лет назад, сразу же после войны дважды уезжал. Первый раз в Донбасс на шахты, а второй — на одну из больших новостроек, то ли на целину, но оба раза тут же возвращался. «Ну, — подумал Митрий, — сейчас начнет заливать насчет колхозных дел, а сам небось норовит перемахнуть в совхоз, обязательно перемахнет».
— Ты, Митя, спрашиваешь: как я?
Колосов умолк, опустив глаза, как бы о чем-то раздумывая. Лицо его стало серьезнее. Было видно, что в нем боролись две мысли, два чувства. «Не хочется ему сознаваться», — опять подумал Митрий.
Бригадир наконец поднял голову, нацелился открытыми немигающими желудевыми глазами в лицо собеседника, сказал, словно выдохнул:
— Я остаюсь.
Смирин поднял брови, — не ожидал он такого ответа. Колосов по-своему истолковал выражение неожиданности на лице Митрия, поспешил пояснить.
— Я и хотел бы перебраться в совхоз, Митя, интересней оно, да и Романцов зовет, а не могу.
Чувствуя, что Митрий не понимает его до конца, бригадир еще раз пояснил свою мысль.
— Из-за Климцова поля не могу.
— А при чем тут поле? Помнится мне, у вас из-за него много лет идет какая-то тяжба, так?
— Тяжба, не тяжба, а мороки много.
— А из-за чего? — переспросил Смирин. — Кажется, еще когда Голотин был агрономом — всякие толки из-за этих климцовых новин выходили.
Бригадир даже кадку придвинул поближе.
— С Голотиным что, с ним у нас, как и теперь со Скляровым, можно сойтись, а вот с Хилем хватил я лиха!
— Помню Хиля, — подтвердил Митрий. — Хиль маленький такой, черненький.
— Ну вот. В сорок девятом — не забуду: дожди, да и рано еще. А он: «Давай сей!» Я — перечить. Он — ни в какую. Тогда так: сводку — умри, но выдай. Посеяли мы яровую, а собрали — шиш.
— Да, было время-времечко.
— Я теперь это Климцово поле все изучил, знаю, как свои пять пальцев.
Колосов раскрыл бронзово-коричневый кулак, поднял растопыренную руку перед глазами.
— А все же интересная штуковина это поле. Вроде бы и не настолько оно ниже, чем соседнее — за лесополосой, а влажности в нем всегда больше.
Митрий затушил папиросу, стал внимательно слушать.
— Правда, чернозем там какой-то не такой, бурый, отличается от земель других полей. Словом, долго ломал я голову, но в одном убедился твердо еще тогда в пятидесятом, что Климцовское поле надо засевать на два-три дня позже. На два-три дня, ни раньше этих дней, ни позже. А что такое два-три дня для сводки, для отчета перед районом!.. И к чему только не приходилось прибегать.
Бригадир снял фуражку, положил ее на колени.
— Однажды, помню, ничего нельзя сделать: «Давай!» — говорят. Уполномоченный сидит. Трактор дополнительно пригнали из МТС. Что делать? Пропадет ведь урожай. Хорошо тракторист — мой друг был, Петр Синельников.
— Знаю, — кивнул головой Митрий, — это тот, который сейчас в Будаеве живет.
— Он самый. Так вот, я ему и говорю: «Выручи, видишь зерно, все равно что в пропасть бросать надо, не взойдет ведь». А он и сам сидит ежится — холодно, вот-вот снег пойдет. Ругается: «Когда ж перестанут очковтирательством заниматься, так их разэтак…» Ладно, говорит, не беспокойся. Что-нибудь придумаем. Твои два-три дня и позагорать можно. И точно, ровно два дня возились они с подшипником. Коробов «техпомощь» вызывал. Лишь на третий день во второй половине заработал мотор.
А у Леньки Фетисова, у того что-то тоже «не ладилось». Ну, тот был вовсе свой — понимал, что надо делать.
— А что ж такое сделал Синельников?
— Ей-богу, не помню, то ли воды залил в горючее, то ли еще что.
— Да-а, — протянул Колосов. — Зато теперь Климцово поле здорово выручает нас. Ну-ка, считай, сколько лет земля гуляла! И кусок-то немалый, без двух сто сорок гектаров!.. Долгое время урожай на нем выходил таким: половина — лучше, другая — хуже. В чем дело, думаю. Долго ломал голову. Оказал Склярову как-то — тот заинтересовался. Стал меня же расспрашивать, что да как. А потом карту начертил мне. Оказывается, надои пахоту и сев начинать обязательно от Климцовских бугров. Там, где повыше.
Колосов улыбнулся, щуря желудевый глаз.
— День-другой у бугров поработаешь. Все-таки полсотни с лишним гектаров. А потом остальные семьдесят с гаком. Оказывается, и само поле делить надо.
— Вишь ты, — одобрительно заметил Митрий.
— Нынче мы берем лишние центнеры урожая с каждого гектара Климцова поля. А его привыкли считать дырой. Вот тебе и дыра! Надо только приноровиться к нему. — Бригадир поднялся, надел фуражку. — Помнишь, когда я уезжал на целину? Вернулся, а на Климцовом поле коровы пасутся. Бурьяном все позарастало.
Митрий засмеялся.
— Было такое. Фетисов так засеял, что пшеница едва взошла.
— Вот, — подтвердил Колосов. — Потому и не хочется мне его в недобрые руки передавать.
— Выходит, ты и помирать не собираешься? А как же быть, когда на пенсию придется уходить?
— Михаила Титова знаешь?
— Ивана Титова племяш?
— Он самый. Так вот его я и хочу на Климцовом поле утвердить. Парень молодой, смекалистый. Год-два поработаю с ним, всю как есть науку ему и передам. Ну, пока…
«Вот тебе и Петр Колосов, — думал Митрий, глядя вслед бригадиру, — невзрачный с виду, а настойчивый, сильный человек…»
9
Дениска проснулся рано. Ему снился интересный сон. Все было как наяву. Идут они будто бы с отцом на Гаврильские луга. Жарко. Слепит глаза солнце. Пряно пахнут травы, горят, переливаясь на солнце, желтые лепестки-глаза лютиков, виснут на травах лилово-голубые колокольчики, стрекозы носятся над зеленью лугов, трепеща прозрачными крыльями.
Вдруг навстречу им бежит маленькая лошадка, точно такая, какую Дениска видел в прошлом году на бригаде, — лошадку-жеребенка. Подбегает она прямо к ним, в руки отцу покорно дается. «Покататься хочу, покататься!..» — кричит Дениска. А отец смеется и сажает Дениску верхом. Говорит ему на ухо: «Не бойся, я тоже с тобой, сзади сяду».
Не успел он еще что-то сказать, как лошадка поскакала, да так, что Дениска еле удержался за гриву. Мчится она, только травы по обе стороны шумят да ветер свистит в ушах… Жутко как хорошо Дениске, страшно и радостно…
А впереди — река. Широкая. До самых гор меловых, что над Доном. И лошадка вдруг как закричит пронзительным голосом на весь луг, не по-лошадиному, а чудно как-то: «Ре-к-к-у-у-у!..»
Вскочил Дениска — видит, за окном петух сидит на шесте, крыльями хлопает. Побежал Дениска на кухню, отцу рассказать о лошадке да попросить его, чтоб поймал ее. Далеко она не могла ведь ускакать. Вбежал на кухню — отца уж нет, одна мать в печке ухватом ворочает. Увидела она сына — лицо возбужденное, глаза блестят:
— Что с тобой, сынок. Не заболел ли?..
— Мам, а папа усол?
— Ушел, милок, на работу ушел. Умойся вот, — подвела она мальчугана к умывальнику. — Промой глазки, завтракать будем скоро.
— Хочу лошадку посмотреть, такую, как я сейчас катался.
— Где ж ты, сокол мой, катался?
— Тут, — показал Дениска на дверь в горницу.
— А-а, — догадалась мать, — снилось тебе, видно.
Дениска утвердительно кивнул головой.
— Почему?.. — хотел что-то спросить мальчик, но осекся, увидев сидящего в углу на скамье человека с газетой в руках, которого он не заметил со сна.
Дяденька был весел. Он улыбался, держал в руках газету, которую не читал, а смотрел на мальчугана. Смотрел и улыбался.
Дениска смутился, потупившись стоял посреди комнаты.
Мать с интересом наблюдала за ним.
— Ну, иди ко мне, герой, — весело сказал дядя, доставая из портфеля коробок с конфетами и еще один, маленький, с почти взаправдашним пистолетом, который по-настоящему стреляет огнем.
— Что надо сказать? — спросила мать.
— Спаси… — Дениска так обрадовался и растерялся, что последний слог произнес совсем тихо, и у него получилось вместо «бо» — «по».
— Ничего, ничего, — подбодрил мальчика приезжий, — иди, поиграй. — И он легонько потрепал Денискин ершик на голове.
Однако Дениске далеко уходить не хотелось. Он подошел к лавке, положил коробки. Достал конфетку и сунул ее за щеку. Потом вынул пистолет и стал внимательно его рассматривать, недоверчиво еще поглядывая в угол.
— Значит, Людмила квартиру получила? — переспросила мать у приезжего.
— Что вы, такая радость у них…
Дяденька отложил газету, уселся поудобней, поглаживая рукой русую бородку.
— Три дня гостил на новоселье.
— А далеко ли от центра?
— Трамваем десять минут. В новом районе, есть такая улица Шишкова. Квартира современная. Лоджия, мусоропровод, не говоря уж о газе, ванне и прочем.
— Хорошо, дай бог, — вздохнула мать.
Дениска знал, что дядю зовут Юрием. В прошлом году он заезжал к ним, но побыл всего несколько минут, так что шофер даже не выключил мотора, машина ждала его у самого дома. В тот раз дядя Юра привозил им с Леной пряников. Больше Дениска ничего о нем не знал.
Юрий Солодов, племянник Марины, студент пятого курса Воронежского университета, был на практике. Вернулся из Казахстана, а теперь заехал к себе на Дон, в Петровск. И вот приехал проведать свою тетю. В Починки приезжал он из года в год, все пять лет регулярно, но Дениске запомнился прошлогодний его приезд, остальные он не помнил.
Постепенно Дениска освоился, стал привыкать к своему дяде. Сначала он подошел, угостил его и мать конфеткой. Потом спросил, как стреляют из пистолета. А когда сели завтракать — Дениска настолько пообвык, что уселся Юрию на коленки.
— Маленький, — стыдила мать.
— Ну-ка, слезь, — требовала сестренка.
— Ничего, ничего, — усмехался Юрий.
— Год нынче добрый, всего вдоволь, — хозяйка подала на стол парное мясо, картофельное пюре, салат из помидоров, сметану, хлеб…
— Люблю витамин цэ, — сказал Юрий, потирая руки, — как-то: мяс-цэ, сальцэ…
Дениска запросился с колен:
— Ты чего?..
Юрий ловко поставил мальчугана на пол.
— Вот, — показал тот указательным пальцем на дверку кухонного стола, — сало.
— Ай да молодец! — расхохотался вдруг Юрий. — Не дашь с голоду умереть. Мечи на стол, а то мать хотела утаить.
Крупные серые глаза Юрия весело блестели, он вынул носовой платок в голубую клетку — вытер лоснящийся лоб.
Марина с Леночкой весело переглянулись.
— Да оно же старое, прошлогоднее, — всплеснула руками хозяйка, — пожелтело все.
— Давай, давай, — подзадоривал племянник.
Пришлось Марине доставать сало.
— Вот это от души, братишка… Спасибо…
Завтрак прошел весело. Юрий рассказывал про свою студенческую городскую жизнь. Делился с теткой планами на будущее.
Леночка с гордостью наблюдала за Юрием и отмечала про себя, что ее двоюродный брат и сидит за столом осанисто, не так, как все, и даже вилка и нож в его руках держатся по-особенному. «Настоящий городской у меня брат, и учится в университете», — думала девочка. И как же она удивилась, когда услышала, что Юрий не любит город, что Воронеж ему порядочно надоел, и он не чает того дня, когда получит наконец направление по распределению и уедет с экспедицией куда-либо в степь или в горы.
Откуда было знать девочке, что брат ее просто-напросто бравировал.
После завтрака Юрий встал из-за стола, улыбнулся:
— Спасибо хозяйке и этому дому за хлеб-соль.
Вынул вчетверо сложенный платок, поднес к губам. Взглянул на Леночку, мельком на Дениску, который сосредоточенно пил чай.
— Ну, кто со мной в огород, на речку, в подлесок смотреть грибы?..
— Я! — оторвался от чашки мальчишка.
— И я, — оказала Лена.
— Сбор во дворе через десять минут.
Юрий посмотрел на часы.
— Надолго ты затеваешь поход? — поинтересовалась Марина.
— До обеда походим, погуляем. Да, кстати, где у Митрия снасти хранятся?
— Какие там снасти, не до них теперь ему.
— Что значит не до них? Сегодня же пойдем на вечернюю зорьку и завтра — на утреннюю.
Солодов так был предан любимому делу — рыбалке на заре, что и не представлял без нее свое пребывание в Починках. Тем более что и Митрий был в этом деле человеком умелым, опытным. Многому научился от него студент за одно лето, которое как-то выдалось для них особенно удачливым.
— Ну, так где?..
Марина махнула рукой в сторону сарая:
— Там. Только тебе придется одному рыбачить.
— Ну, ну…
— Митрию некогда. Сегодня к концу дня придет каменщик погреб класть, а завтра чуть свет — за кирпичом.
— Подождут и каменщик и кирпич. — Юрий перестал улыбаться, набычился.
— Разделаемся вот с погребом, тогда все — пожалуйста.
Студент скривил своя тонкие губы в горьковатой улыбке, в крупных серо-зеленоватых глазах его тоже светилась ироническая улыбка.
— Это когда же будет все?..
— Как когда? — не поняла тетка.
— А так. Помнишь, я только поступил учиться и приехал первый раз, что вы строили?
Марина стала вспоминать.
— Это когда вы с Митрием сома полутораметрового чуть не поймали?
— Да, когда сома не поймали.
— Ничего не строили, крышу меняли.
— Это не важно. Весь двор в старой соломе был. А на следующий год — я уж это помню сам — вот этот сарай ставили.
— Верно.
— Вот. А на третий — полы перегоняли и печь ставили. И так из года в год… В прошлом году террасу, в этом — погреб. А там колодец небось. А там опять крыша. Никогда это у нас не кончится.
Юрий повернулся в сторону колодца.
«И правда, — подумала Марина, — колодец в самом деле стал никуда негодным, срубы подгнили, да и чистить его пора». Но она смолчала, ничего ее стала говорить.
— Это называется рабством, когда и порыбачить нельзя. Так что учти, мы обязательно поудим и сегодня и завтра.
Марина только рукой махнула.
— Пошли! — скомандовал Юрий, и они втроем двинулись через огород к речке.
10
Вечером в тот день порыбачить им так и не удалось. Пришел каменщик. Причем издалека и в неурочное свое время и, как он выразился, «это лишь уважая хозяина», то есть лично Митрия. (Когда-то они вместе были на лесозаготовках под Архангельском.) Пришел человек — как уйти?.. Митрий украдкой виновато поглядывал на студента. Марина пыталась сгладить неловкость положения: «Другой раз отведете душу, ну что можно сделать, когда так сложилось дело…»
Словом, на вечернюю ловлю Митрий не попал. Зато уж к утренней заре он подготовился основательно… Почти до полночи возился со своими рыбачьими принадлежностями. Осматривал и поправлял снасти, ладил блесны, проверял донки. Заготовил несколько коробков с наживкой. В одной — поздние кузнечики, в другой — летние мухи, в третьей — какие-то красные личинки, опарыши. Особо варил приманку, ароматный запах которой разносился на весь дом. Юрий пытался выяснить у хозяина рецепт приготовления ее, но тот был так занят, так сосредоточенно священнодействовал, что и не слышал вопросов гостя.
Спать легли поздно.
Уставший за день Юрий не успел, кажется, как следует и вздремнуть, когда его плеча коснулись пружинистые пальцы Митрия:
— Вставай, пора…
Студент машинально вскочил на ноги. Глаза не раскрывались, веки сводило в резкой боли. Но он все же успел кинуть взгляд во двор. Окно матово серело квадратом на темной стене.
— Вот тебе телогрейка, надевай.
— Дай рубаху-то надеть сначала, — сипло со сна ответил Юрий.
Он долго надевал сапог, который был ему маловат в подъеме. Наконец нога вошла на место, и Юрий стал застегивать ворот рубахи.
— Молока вот махни, — Митрий протянул гостю большую алюминиевую кружку.
Солодов большими глотками, с жадностью стал пить. Думал осилить, не переводя дыхание, но кружка была слишком велика, и он, чуть не захлебнувшись, оторвался, трижды вдохнул и выдохнул и уж потом допил остальное.
— Пошли… Звякнула щеколда.
— К завтраку вернешься? — подала сонный голос жена.
— Ну.
Шли той же дорогой, которой Юрий вчера водил ребятишек. Прошли пустующий огород. Впереди темнели на сером горизонте вербы, редкий парок стелился низко над росной травой луга. Было свежо. На небе — редкие светлые облака. Сквозь них тускло светились холодным блеском сухие звезды.
Тропинка виляла по заросшей поздними цветами отаве, спускалась по косогору вниз, к зарослям ивняка и краснотала. Повеяло сыростью, запахом водорослей, аира. Одна половина чаши неба была заметно светлее другой.
Митрий шел впереди. Когда подошел к речке, повернул вправо, пошел вдоль округлой ямы, не останавливаясь.
Юрий рассчитывал, что рыбачить они будут именно тут. Места хорошие… Окликнул вполголоса своего спутника. Но тот повернулся и молча, делая знаки рукой, звал дальше за собой. Прошли еще одно, по мнению Юрия, хорошее место, еще и еще. Наконец Митрий остановился, снял с плеча снасти.
— Тут, — кивком головы Митрий показал на укромное местечко, возле куста лозняка. Развязал мешочек с подкормкой, размахнувшись, трижды бросал варево в полусонную еще воду.
Оба рыболова не спускали глаз с поплавков, наблюдали молча, затаенно. Медленно тянулись минуты. У противоположного берега всплеснуло. Круги воды пошли по яме, закачались чуткие поплавки. И снова стало тихо.
Юрий и Митрий переглянулись. Смирин неопределенно кивнул головой, кося глазами на воду.
Вдруг слабо звякнул колокольчик. Митрий не ожидал этого, он оторвал взгляд от поплавков, потянулся к лесе. Звякнуло еще раз, резче, леса натянулась. Рыболов сделал подсечку и стал осторожно выбирать. Натянутая струной, капроновая нить чертила сонную поверхность воды.
— Подсачок возьми…
Юрий потянул к себе намокший росой черпак.
В мутной темени парной воды всплеснул рыбий хвост.
— Налим, стервец! — выдохнул Митрий.
Юрий подвел сачок — неудачно, завел еще раз.
— Глубже бери, глубже…
Руки почувствовали, как повело в сторону сачилище. Студент ловко дернул его из воды, в сетке сачка пружинилось темно-коричневое тело налима.
Не успел Митрий насадить на крючок, запрыгал и вдруг ушел в воду соседний поплавок. И вот уже лещ, сорвавшись, запрыгал на росной траве.
С завистью разгоряченного охотника смотрел Юрий на трофеи Митрия и прозевал свою первую поклевку.
— Подсекай! — прошипел Митрий, тараща глаза на поплавки растерявшегося студента.
Юрий неловким движением подсек и тут же почувствовал, как упруго заходила леска по воде. На крючке билась рыбина, и сердце его билось в такт этим ударам.
Клев кончился так же внезапно, как и начался. Было совсем светло, но солнце еще не всходило. На воде играли светлые блики предосеннего утра. Вода уже была по-августовски прозрачной и стеклянно звонкой. Где-то совсем рядом ворковала поздняя горлинка. Еще острее запахло илом и отсыревшим багульником.
— Сматывай удочки. Бал окончен…
Митрий стал собираться.
— На восходе солнца, может, клюнет?
— Нет, — Митрий сожалеюще посмотрел на молодого человека. — Оставайся. Мне на работу пора. Только не забудь садок и вот это.
Кивком головы он показал на корзину.
— Давай…
И зашагал в сторону кустов.
Дома Митрий до завтрака успел достать из колодца воды, налить полный бочонок, стоящий посреди двора. Потом вывел из сарая мотоцикл, заправил его, смазал и, сняв рубаху, умылся до пояса.
Время близилось к семи. Позавтракав, он с треском выехал со двора и порулил в сторону Лисьих холмов, оставляя за собой на росной траве узкую коричневую полосу.
Глаза мотоциклиста привычно скользили по разнотравью, которым покрыта старая, некогда хорошо наезженная проселочная дорога. Нынешняя теперь пролегала с левой стороны и также была хорошо наезжена, но Митрий нарочно ехал старицей: не так пыльно и мягче ехать.
Здесь все знакомо Митрию, каждая кочка, каждый кустик… И кажется ему, что он чувствовал, ощущал всем существом своим не только эту дорогу, эти холмы и низины, взгорки и балки, а и все то, что лежит вокруг, все те места вокруг, которые он истоптал босыми ногами в детстве, изъездил за эти годы, где он гулял, пахал, сеял, косил…
Упруго и тепло бьет ветер в лицо, ветер родных полей, отчей земли. Ласково треплет волосы на голове, теребит рубаху. Пахнет этот ветер чем-то до боли родным, памятным с далекого детства, таким близким и вместе с тем таким давним и милым сердцу.
Еще раньше, издали Митрий увидел, что впереди кто-то шел. Это была женщина. Шла она неторопливой походкой, стройная, с коротко подстриженными, цвета спелой ржи, волосами. Короткое летнее платье, лакированная сумочка в руках. Что-то вроде знакомое было в ее фигуре, но кто она?.. Митрий своих починковских всех знал наперечет.
Незнакомка ступила в сторону, обернулась. «Она, Наташа, — мелькнуло в голове, — значит, не зря он два дня назад слышал где-то, что Илюхина приехала…»
Руки машинально сбросили газ, Митрий соскочил на дорогу, в трех шагах стояла она, Илюхина, стояла и улыбалась. Крупные серые глаза ее тоже светились улыбкой, и было в них выражение не то испуга, не то удивления — слишком уж неожиданной получилась их встреча.
— Здравствуй, Наташа…
— Здрасьте…
— Я знал, что ты вернулась, — сказал Митрий первое, что пришло ему в голову.
— Приехала три дня назад… А ты все такой же…
— Что ты?.. — Митрий всматривался в лицо молодой женщины, которую видел последний раз лет восемь назад, которую любил когда-то, да так, что не находил себе места, которую, наверно, и сейчас любит.
Теперь казалось, что она стала еще красивей и милее, светилась она той красотой, которой наделяет природа женщин после тридцати.
— Ну, говори, что ты, как ты? — Митрий пытался побороть волнение, старался взять себя в руки. — Я вот живу так же, работаю… Семья…
— Знаю, — прервала она его. — Валентина мне рассказывала обо всех наших, в том числе и о тебе.
— Ты-то как?..
— Приехала вот. — Митрий заметил: она волновалась не меньше его. — Отца похоронили без меня.
— Знаю.
— Теперь с мамой буду жить. Старенькая она стала, да и больна. Еду вот в район. Фельдшером думаю работать.
— А я — лечиться…
Наташа улыбнулась, но улыбка ее на этот раз получилась горестной.
Митрий слышал, что с мужем она разошлась, но спрашивать об этом не стал. Только сожалеючи произнес:
— Эх, Наташенька, я и до сих пор жалкую, что жизнь у меня не с тобой сложилась…
— Знать, не судьба, Митя, — нижняя пухлая губа ее красивого рта заметно дрогнула.
— Я думаю, нам надо встретиться, поговорить.
— Нет, Митя, милый, не надо. Тут сразу из мухи слона раздуть могут. Да и ни к чему…
— Надо, — умоляюще произнес он.
— Ушло наше с тобой время, истекло…
— А если я…
— Нет… Спасибо, что я буду хоть изредка видеть тебя. Прощай, вон уж автобус мой идет. — Она легонько махнула рукой.
Митрий вскочил на сиденье, и его машина, выстреливая сизые клоки дыма, ревя на больших оборотах, рванула с места.
11
Марина давненько не бывала в районе. И вот наконец выпал ей случай съездить в город, купить кое-что по хозяйству. Подвернулась оказией и подвода: старик Титов ехал под Петровск на консервный завод. Выехали с Валентиной Буряк рано поутру.
Бойко цокают копыта, мелкой трусцой бегут по дороге лошади — серый меринок и совсем рыжая кобыла. Повозка на резиновом ходу катится легко и беззвучно. Упругий ветерок дует в лицо, несет он запахи поздних степных трав и полевых цветов отошедшего лета, навевает воспоминания. Марине легко и весело. Словно в далеком детстве, вдыхает она знакомые запахи и ловит взглядом краски степи, нарочно подставляет разгоряченное лицо встречному ветру.
И как же удивилась она, когда миновали они Купчую балку и поднялись вверх, — увидели в стороне целый поселок домиков-вагончиков. Трубы некоторых домиков дымились. То тут, то там сушилось развешенное между ними белье…
— Глянь-ко, — не меньше Марины удивилась и ее попутчица Валентина Буряк, сестра кузнеца Ага-да-ну.
— Дядь Вань, что это тут?
Немногословный старик кашлянул в кулак:
— Кеологи это и те, что дорогу ведут. Вона поезд рельсы кладет попереди себя. — Старик указал кнутовищем в сторону.
Марина стала всматриваться, прислонив ладонь к бровям. И действительно, вдалеке за лесополосой увидела она насыпь, вагончики, крохотные фигурки людей, кран с длинной, выброшенной вперед стрелой. Вдоль насыпи, словно огромные жуки, ползали бульдозеры, поднимали стальные хоботы экскаваторы…
— Ну-ну, балуйся у меня, — дернул Титов вожжами, когда повозка перевалила через подъем и лошади перешли в мелкую рысь.
Объединение колхозов, открытие гранитного карьера — все это внесло заметное оживление в жизнь района. Не могли обойти стороной эти события и Починок. Уже сейчас многие починковцы перестраивали свою жизнь. Две молодые семьи из домов Лукина и Пинчуков перебирались на работу к этим самым геологам. На что уж такой нелюдимый и неразворотливый Степка Сыч, и тот укатил куда-то по вербовке. Бригадир Колосов, поговаривали, разругался с Романцовым и оставался в колхозе, прошел слух, что и Титов-младший собирается куда-то уезжать. Марина давно порывалась спросить об этом Ивана Пантелеевича, но тот сидел хмурый, сердито понукал лошадей, и спрашивать она не решилась.
Многие односельчане нашли себе по душе работу в совхозе и были вполне довольны, другие еще не совсем ясно представляли свое место, но верили, что раз совхоз, то будет лучше, во всяком случае хуже не будет. Марина сама тоже так рассуждала: «Митрий ее или на комбайне, а то и бригадиром, может, будет. Не зря же Романцов обещал, даже насчет квартиры намекал. Да и парторг Самохин об этом же разговор вел».
С другой стороны: ее не покидала мысль о городе, тем более когда она узнала, что Лукины и Пинчуки хорошо, говорят, устроились и им обещали квартиры в пригороде Петровска, где дома якобы уже строились. Обо всем этом они с Митрием вели долгие постоянные разговоры, и как он, так и она, Марина, твердо решили пока не предпринимать никаких мер, ждать, чтобы увидеть, как все будет складываться дальше.
«Еще немного, — думала она, — посмотрим, как оно…» Но что-то щемило ее сердце, навязчиво лезло в голову, не давало покоя. А что?.. Марина и сама не знала что. Ей хотелось освободиться от этого «чего-то», но освободиться она не могла. И еще хуже было то, что она никак не могла представить, осознать это «что-то»…
Бурячиха, словно подслушала ее мысли, сказала, будто шилом в сердце уколола:
— Конечно, может, тебе и не по душе, — заговорила она, снижая голос до шепота и оглядываясь на Ивана Пантелеевича. — Знаешь, что Илюхина заявилась?..
— Ну и что, — как можно спокойнее ответила Марина. Сказала, а сама только тогда поняла, что ее мучило именно это. Сердце ее яростно забилось, зрачки светлых глаз сузились, и это не ускользнуло от Валентины.
— Вчера видела ее… Все такая же…
Бурячиха уселась поудобнее, подвернула под себя чью-то стеганку, весело подмигнула.
— А что тебе?.. Давно все это было. А что было — быльем поросло.
Марина неопределенно посмотрела собеседнице в глаза, но та ничего не заметила в ее взгляде, перевела разговор на другое. Она стала рассказывать, как была в Петровске в прошлую субботу, и как они с Ольгой Кирпоносовой стояли в очереди за кримпленом.
Марина, казалось, слушала со вниманием соседку, но слова, льющиеся веселым ручейком из уст Валентины, не задерживались в ее сознании. Они так же протекали быстро мимо, не оставляя следа… Она думала о своем.
Да, все это было действительно давно. Десять лет назад, даже не десять, — одиннадцать или, пожалуй, двенадцать. Митрий, тогда еще не ее Митрий, встречался с девятнадцатилетней Натальей Илюхиной. Одна из красавиц в Починках, она была завистью не только своих, но и многих ребят из соседних сел. А вела себя строго, с той девичьей гордостью и чистотой, с которой всякая красивая и в то же время умная девушка ведет себя, сознавая, что она нравится многим.
Помнит Марина, как она завидовала Илюхиной в то время, когда самой-то ей было всего семнадцать (Марина на два года моложе Натальи), — с каким восторгом смотрела она вослед ей, когда та шла гордо неся красивую голову на полукруглых плечах, светящаяся в полуулыбке от сознания того, что ей девятнадцать, что у нее все впереди и что это впереди вот оно, стоит лишь протянуть руку.
А потом случилось то, что часто случается в такую пору между людьми, когда их чувства сильнее рассудка, опытность намного уступает душевным порывам и еще необузданным желаниям.
Случилось так, что к Илюхиной в тот год заехал проездом из Херсона на Дальний Восток сын самой старшей сестры, племянник Натальи, курсант военно-морского училища. Так уж получилось, что племянник оказался чуть ли не ровесником Натальи и виделись они впервые в жизни, так как родились и выросли почти в противоположных концах страны.
Первым, кто принес неожиданную для Митрия весть, был Степка Сыч: «Вишь, Митрий, к Наталье-то жених подкатил, моряк. Швах твое дело. С ним она, говорят, уезжает аж на Дальний Восток…»
Митрий тогда так и сидел дома, пока не искурил подряд почти всю пачку папирос. В тот же день он собственными глазами видел Наталью, шедшую рядом с курчавым смуглым парнем в морской форме, улыбающуюся, счастливую…
«Не может быть, — думалось ему, — нет, не может». А другой голос явственно, с неумолимой жестокостью твердил: «Почему не может? Ты же сам видел».
Вечером того же дня он уехал к деду на хутор в степь, что находился в пятнадцати километрах от Починок. Там он прожил на пасеке более недели. А Наталья в тот же вечер безуспешно пыталась его разыскать. Нашлись и у нее «доброжелатели».
Та же Валентина Буряк, как большую тайну, сообщила, что Митрий уехал в Петровск к Антонине Лукиной, работающей там продавцом в универмаге.
Наталья слишком хорошо знала Тоню Лукину, свою подругу, а главное, верила Митрию, поэтому особенного значения не придала словам соседки, однако чувство сомнения, неопределенности сосало ее сердце. Она действительно собиралась уезжать с племянником в Хабаровск, куда звала ее сестра, и уехать, не повидавшись и не простившись с Митрием, не могла. Немалых трудов досталось ей уговорить курсанта задержаться еще на пару дней, сверх тех трех, на которые он остановился. Она ждала, а Митрий так и не явился…
Когда Митрий вернулся с хутора и узнал, что Илюхина в самом деле уехала с моряком, — засобирался и сам в дорогу. Куда, он и сам толком не знал. Сначала он хотел податься в Ростов к дяде, брату отца, потом передумал ехать. Ушел в себя, замкнулся. И вот тут-то он впервые в жизни испытал на себе с такой силой, каким целебным, всеисцеляющим средством является труд. В работе нашел он свое спасение. С жадностью изголодавшегося брался он за дело. С рассветом выезжал в поле. Культивировал, косил, убирал… И делал все за троих. То он ладил косилку, то ремонтировал трактор, то усовершенствовал лапки-отвальчики культиватора, конструировал отвальный нож свеклокомбайна.
А через год, когда твердо знал, что Наталья скоро вернется, — женился. Женился наперекор своей, как он считал, неудавшейся любви… А вот теперь…
— Тпр-р-р, приехали.
Иван Пантелеевич остановил лошадей, не по-стариковски проворно соскочил с повозки.
— Обратно часа через два буду ехать. Успеете — приходите сюда же.
— Спасибо, дядя Ваня, придем…
Но им не пришлось обратно ехать с Иваном Пантелеевичем. Через каких-нибудь два часа машина Федора Лыкова мчала их по разгоряченному на осеннем солнце шоссе.
Марина в душе была довольна, что именно так все случилось. Иначе в полуторачасовой езде на лошадях ей не избавиться от разговора об Илюхиной, о Митрии. А тут — пятнадцать минут, и они дома. Тем более Федор торопился. Когда его встретили — не узнали. На парне лица не было…
— Что с тобой, Федор? — первая спросила Валентина.
— С матерью плохо.
Федор торопливо вскочил в кабину, и вот уж они подъезжали к Починкам.
Промелькнула околица, мостик через канаву, старая конюшня… Против дома Смириных грузовик остановился. Валентина помогла Марине сойти с машины.
— Заедешь потом, скажешь что там, — обращаясь к Федору, сказала Марина.
— Мамка, мамка приехала!
Дениска во всю прыть бежал навстречу матери, радостно размахивая ивовой стрелой с железным наконечником, сделанным из консервной банки. Леночка тоже вышла на крыльцо с веселыми глазами, в которых так и светилось любопытство: ну, что там ты нам привезла?
Марина не торопясь поставила хозяйственную сумку на скамью, вынула кулек конфет.
Дениска внимательно наблюдал за сестренкой: не попало бы ей больше. И когда та вернулась на крыльцо, он подошел и еще раз посмотрел, сколько у нее конфет. У Лены их было только три. Тогда он спокойно пошел за угол дома чинить порвавшуюся тетиву.
— Куда же ты, сынок? — позвала мать. — Я же еще не все вам показала.
Мальчуган бросил в траву стрелу, быстро подошел к скамье.
— Ну-к на, примерь, — тут мать вынула из сумки серую курточку с золотистыми пуговицами. А когда она достала тут же и автомат — глаза мальчугана так и вспыхнули.
— А это тебе, — Марина подала дочери белые туфли-босоножки, такие, какие Лене давно хотелось иметь.
— А это что?
— Это отцу рубашка-тенниска, — Марина перевела взгляд на калитку: вроде бы что скрипнуло.
Так и есть: по двору бежала девочка Колосовых, соседей Федора Лыкова.
— Тетя, — переводя дух, выпалила та, — вас зовет дядя Федя. Скорее, говорит, чтоб приходила.
Марина быстро собрала обновы, унесла их в комнату и, на ходу поправляя платок, заторопилась к Лыковым. Уже из-за калитки крикнула детям:
— Покормите курей. Там в чулане зерно лежит… Я скоро…
Еще не дойдя до двора Лыковых, Марина поняла: случилась беда. В окне она заметила черный платок бабки Пинчучки, без которой не обходились в Починках ни одни похороны. В избе много людей, но было тихо, и эта тишина больше всего подействовала на Марину, когда она вошла в прихожую. Глаза ее встретились с каким-то отсутствующим, пустым взглядом Федора.
— Мама скончалась, — прошептал он.
Христина Лыкова лежала на двух составленных вместе столах. Высохшее, восковое лицо ее заострилось, глаза впали. И не было, казалось, в застывшем выражении ее лица ни укоризны позднего раскаяния, ни сожаления о прожитом.
— Пропустите Карповну…
Марина оглянулась и подвинулась в сторону. Невестка Лыковых, жена старшего брата Федора Соня, вела под руку сухую старушку в черном платке, который свисал с ее острых плеч как с гвоздей. Веки опущенных глаз Карповны часто дергались, губы были каменно неподвижны.
О старинной и трогательной дружбе Христины и Карловны в Починках знали все. А началась она еще в те давние двадцатые годы, когда эти тогда еще молодые женщины работали на Кисляевском сахарном заводе. Много пришлось пройти им вместе с первых лет коллективизации. А потом — война, тяжелое послевоенное время… Один только раз за все эти годы у них случилась размолвка. Обманула однажды Карповна свою подругу. Дело было в конце войны. Христина тогда тяжело заболела. День и ночь металась в горячке. На вторые сутки пришла в сознание. До самого вечера лежала молча, не отвечая на вопросы, ничего не спрашивая. К ночи попросила пить: «Чайку бы кружечку». А где его взять, чай? Побежала Карповна домой, достала из-за стрехи сухие травы. Дикий чай, зверобой, да мяту, да смородиновый лист, и как самое драгоценное, кусочек сахара из сундука достала, что хранился у нее с самых довоенных лет. Принесла все это: «На, мол, попей».
Подняла больная глаза на Карповну: «Никак последнее мне принесла?» Но та поторопилась ответить: «Нет-нет, я пополам сахар расколола, пей…» Голова больной бессильно упала на подушку: «Не могу, сил нет, пусть завтра…»
На другой день и произошел у них тот разговор: «Что ж ты обманываешь меня? Кусок-то целый, не отколотый, — укоризненно сказала Христина, — отколи чуток». После Христина часто выговаривала подруге за этот поступок. Не могла она простить неправды, даже такой, как эта, святой неправды! Вот она какой человек!..
Сейчас Карповна стояла у изголовья своей подруги. Она не плакала и не причитала, только веки ее почему-то часто дергались, а губы твердо были сомкнуты. Одной рукой она оперлась о край стола, а другую со сложенным вчетверо носовым платком изредка неторопливо подносила к подбородку. Марина так удивилась, когда нашла поразительное сходство рук покойной и Карповны, что даже наклонилась, чтобы лучше их разглядеть. В самом деле. Смуглые жилистые руки Карловны, с широко выступавшими суставами, напоминающими собой узлы корневища, поразительно были одинаковыми с руками Христины, сложенными у нее на груди. Долго стояла Марина и долго смотрела на эти руки и ни о чем не думала, просто смотрела.
Хоронили Лыкову Христину на третий день. Был хотя и без солнца, но светлый день. Народу собралось много. Марина не ожидала столько людей. В спешке и заботах она потеряла счет дням и не знала того, что этот день был воскресным, выходным.
Гроб с телом покойной вынесли во двор и поставили на табуретки перед крыльцом. Тут Марина впервые за эти последние дни увидела Митрия. Всю субботу и ночь они готовились, а с четырех часов снова на ногах. Всего на одно мгновенье она поймала взгляд мужа, на одно мгновенье, и тут же, еще на более короткий миг вспыхнуло имя Натальи. Вспыхнуло и погасло. Глядя на Федора, Митрия и еще двоих мужчин, поднимающих на руки гроб, она уже думала совсем об ином. И если бы ее спросили: о чем? — вряд ли бы толком она смогла объяснить о чем.
К концу дня, перед самым вечером, когда люди стали расходиться по домам и Марина вышла к колодцу по воду — мыть посуду остались кроме нее еще три женщины — услышала она разговор Федора с Иваном Пантелеевичем, который не мог не привлечь ее внимания.
— Сейчас не до того, сам понимаешь, — тихо говорил Федор Титову.
— Я понимаю, — соглашался собеседник, — но если это так, чтоб не оказаться на мели. Хватишься, да будет поздно. А у меня сын, ему место во как нужно…
— Сказал тебе, что продаю, только потом…
— Так, так.
— Считай, что мы с тобой договорились и ни с кем больше.
— Ну, есть, Архипыч, есть. — И Титов зашагал неторопливо со двора.
Весь вечер Марина то и дело вспоминала об этом разговоре: «Неужели он так сразу и решил продать родительское подворье? Значит, твердо решил остаться там навсегда».
Поздно, когда уже начинало смеркаться и Марина уходила со двора последней, спросила:
— Слышала я, что Ивану Пантелеевичу обещаешь дом продать. Правда?
— А чего ж неправда, — удивленно посмотрел на нее Федор. — Все как есть правда, до конца года пусть еще, конечно, постоит.
Хотела Марина сказать: «Как же так сразу сбывать отцовский дом?» — да не оказала, передумала, спросила лишь, когда за посудой приходить.
— Хоть утром, хоть днем. Буду весь день дома.
— Ну, спасибо.
— Вам спасибо, а не мне, — ответил Федор.
Дома она пересказала Митрию разговор Титова с Федором и о своей беседе с ним. Пересказала со всеми подробностями и деталями, попыталась даже передать интонацию голоса, каким тоном ответил ей Федор.
Митрий сообщение это воспринял внешне, казалось, спокойно. Только переспросил:
— А кто из них начинал этот разговор?
— Вот этого я не знаю.
— Да-а, — протянул хозяин.
12
Раньше обычного пришел сегодня в правление директор. Стремительными шагами промерил коридор еще сырой после недавней уборки, зашел в кабинет.
— Здравствуй, Татьяна Петровна!
— Здравствуйте, — обернулась на голос уже немолодая женщина, протирающая подоконник.
— Что-то вы больно рано нынче, Алексей Фомич, — не то спросила, не то просто отметила этот факт уборщица.
— Дела, дела…
Романцов снял с головы легкую, белого полотна фуражку, повесил ее на крючок, уселся за письменный стол. Перед ним лежала бумага, составленная еще вчера главбухом о состоянии дел «плодоовощного хозяйства», как тот именовал бригаду совхозного огородничества. Партбюро подготовило материал по этому вопросу, сегодня предстоял предварительный разговор.
Алексей Фомич стал внимательно изучать документ, и судя по тому, как хмурилось его лицо и ходили, соединяясь у переносья черные брови, — дела, видимо, были не из блестящих.
«Что же получается?» — мысленно задавал себе вопрос директор, анализируя факты и сопоставляя цифры. А получалось вот что.
Согласно решению райисполкома об увеличении поставок огородных культур совхоз расширил площади, а тут еще и год урожайный выдался. Одного только зеленого горошка сдали на тысячу девятьсот рублей. Это хорошо. А несколько автомашин с зеленой массой этого самого горошка простояли в ожидании разгрузки. И вот результат: за один день разложилось от самовозгорания десятки центнеров — убыток более чем на тысячу рублей.
Такая же почти картина с огурцами и помидорами. Романцов вспомнил, что лично сам связывался по телефону с Курском и Белгородом, умолял товарищей из облторга принять огурцы, так как свои, местные заказчики не могли их принять, а разбираться с причинами тогда было некогда.
— Да-а, — произнес он вслух и забарабанил пальцами по столу. Получалось, что такая же участь может постигнуть и морковь и капусту. Романцов понимал, что огородничество не главная, не основная статья дохода хозяйства и все это не решало исход дела, но нельзя было согласиться в одном: в самом подходе к нему. Вспомнил он, как весной, в самый разгар сева, в управление сельского хозяйства райисполкома зашел возбужденный директор местного консервного завода Дегтярев. В тот день Романцов как раз оказался в управлении.
— Я требую, — размахивал директор кулаком перед собственной грудью, — чтобы наши хозяйства больше сеяли зеленого горошка, не жалели площадей под огурцы, помидоры…
— Благие пожелания, благие, — добродушно улыбаясь, заметил главный агроном управления. — А сколько ты, Петр Петрович, не смог принять, ну, хотя бы тех же самых огурцов? А?!
— Совсем немного, — невозмутимо заявил директор, — и то по той причине, что один день, как говорят, густо, а на другой — пусто. То не добьешься сдачи, то все прямо-таки разом наваливаются…
— Не хитри, Дегтярев, не хитри. Прохорова! — позвал он экономиста по колхозному учету. — Ну-ка покажи, пожалуйста, нам отчет.
И началось, и началось. Трудненько тогда пришлось Дегтяреву. Что ни факт, то не в его пользу, что ни пример — еще хуже.
— Двадцатого июля, — гудел голос главного агронома, — колхоз «Луч» доставил девять тонн свеженьких огурчиков. — Он пронизал взглядом своего собеседника и, отбросив костяшку на счетах, повторил: — Доставил. А приняты они были когда? Вот тут у нас все записано, все, согласно актам. Ага, вот. — Наконец нашлась нужная запись. — А разгрузили вы их, дорогой, только двадцать четвертого вечером.
— Двадцать пятого июля, — гудел голос… — Да что там, вот он поставщик, — агроном кивнул в сторону Романцова, — он подтвердит.
Ну, конечно, Романцов тогда и сказал. Сказал, хотя и не подумал, что Дегтярев запомнит его слова и будет мстить.
— Что ж тут рассуждать, — поддержал тогда Алексей Фомич главного агронома, — рассуждать тут нечего, по вине завода совхоз понес убытков около пятнадцати тысяч. Ровно четырнадцать тысяч восемьсот девяносто два рубля, если говорить точно. Тут не берется в расчет, сколько приходилось искать стороннего потребителя и в Курске, и в Белгороде, и в Липецке. Это ли идет нам в пользу себестоимости?
— А ты говоришь, — в сердцах бросил главный агроном отчет на стол. — Конечно, завод не единственная притча во языцех, недорабатывают и горпродовощторги, потребсоюз… Такие дела.
В дверь постучали. Романцов оторвался от размышлений.
— А-а, Петр Ильич, заходи.
— Здравия желаю, — по-военному поприветствовал Самохин.
Романцов внимательно посмотрел на своего посетителя. Взгляд серых глаз острый, пронизывающий. Круглое лицо с чуть сплюснутым носом — веселое, несколько озорная, спадающая на широкий секретарский лоб короткая челка густых волос, торчит в сторону перепелиным крылом, касаясь приподнятой правой брови.
— Молодца, молодца, — одобрительно произнес директор, внутренне завидуя Самохину доброй отеческой завистью: «Молодой. Что ему эти тридцать четыре года».
Вошел Голованов, за ним — Никитин, главбух Крюков, бригадир садово-огородной бригады Егоров.
Романцов выжидательно посмотрел на секретаря: пора, мол, начинать. Тот поймал взгляд, понял.
— Начнем, — сказал Самохин. — Товарищи коммунисты, слово предоставляется Николаю Трифоновичу Крюкову, который доложит нам о состоянии дел нашего огородного хозяйства.
Крюков потер бритую голову, поднялся, лукаво поглядывая на собравшихся маленькими хитрыми глазками, развел руками в стороны и, напрягаясь, пытался что-то сказать, но голос был настолько сиплым, что его никто но расслышал.
— На речке простыл, — поспешил на выручку главбуху Смирин.
— Говори уж — на рыбалке, — поправил кто-то Митрия.
Все знали, что главбух заядлый рыболов, и часто над его страстью подшучивали.
Крюков, вращая глазами, что-то пытался сказать, жестикулировал, поворачиваясь в сторону двери. Вид его был более чем жалок. А когда он потянулся к уху Самохина и тот ничего не смог понять, — безнадежно махнул рукой и изобразил на лице такую горестную мину, что все расхохотались.
— Он просит, чтобы вместо него доложил старшин экономист, — пояснил опять бригадир, вытирая глаза. — Что делать, коли голос пропал.
— Добро, давай экономиста, — улыбаясь, согласился секретарь.
Крюков вышел и тут же вернулся с Таисией Саввишной Красновой. Это была стройная, с круглым румяным лицом и карими внимательными глазами женщина. В совхозе она работала третий год, с тех пор как впервые ввели должность экономиста. Было в наружности этой женщины что-то неуловимо-притягательное. Романцов из однажды ловил себя на мысли, что где-то встречал эту женщину, именно с такими характерными признаками, с такой же манерой держаться. Несколько гордо, но не высокомерно, непринужденно и вместе с тем с какой-то подкупающей почтительностью к окружающим. Таисья Саввишна не только со знанием, но и с особым стараньем вела нелегкую экономическую службу совхоза, и симпатии Романцова к ней тем более объяснимы. Алексей Фомич завидовал своему главному инженеру Василию Степановичу Краснову, что у него такая жена, завидовал по-доброму, отечески и не раз говорил об этом, — разумеется, не ей, а ему.
Она обвела глазами присутствующих, убедившись, что все готовы слушать, — сказала:
— Разрешите мне зачитать отчет нашей садово-огородной бригады. — Сказала зачитать, но читать не стала, говорила по памяти. Лишь раз заглянула в бумажку, сверилась с цифрой. Все как есть доложила и про морковь с капустой не забыла, которую скоро убирать надо, а уродилась ее тьма-тьмущая.
Все вроде шло гладко. После Красновой выступил Егоров. Сказал свое слово в защиту плодов-овощей. Смирин напомнил, что огородники распахали берега речки-безымянки так, впору хоть бороны в воде мочи. Все кусты лозняка да ивы-бредины поизвели, а ведь из речки полив всегда ведут. Речку беречь надо, она ведь не бездонная.
Голованов встал, что, мол, говорить зря. Ясное дело — с управлением сельского хозяйства и райисполкомом прежде всего надо решать.
Романцов сидел с постным лицом. А когда управляющий вторым отделением Грызлов заявил, что, мол, нет смысла искать проблему там, где ее нет. Так прямо и сказал. «Можно подумать, что наше хозяйство — это морковка да салат; хлеб и мясо — вот наше дело. А с этими петрушками сколько лет бьемся, и все зря, никчемное это занятие, не о чем тут больше и говорить».
Вот тут-то и началось. Самый горячий разговор вышел.
— Как это — нечего говорить?! — поднялся из-за стола директор.
— А так — нечего, — все так же спокойно подтвердил Грызлов.
— Сколько у него на сегодня вспахано зяби?
— Шестьсот сорок га, — ответила Таисья Саввишна, так как директор испытующе посмотрел на нее.
— А засеяно?
— Озимые… сто семьдесят восемь.
— Теперь по первому отделению.
Краснова назвала две цифры. Причем первая превышала всего на полсотни гектаров, тогда как вторая — почти на целую сотню.
— Видишь, дорогой Леонид Петрович. У тебя шестьсот сорок, а в первом отделении без двух га семьсот. Зяби там без малого триста, а у тебя опять же только сто семьдесят восемь. А говоришь: хлеб, мясо… Накормили мясом. Любой сорт и категория на выбор.
Директор гневно сдвинул свои черные брови: давай хоть хлеба вдоволь да овощей. Он разволновался, даже в лице изменился. Кровь отхлынула, и щеки его и лоб, казалось, стали еще более желтыми.
— Сегодня они — завтра я. А что касается этой самой петрушки — с меня хватит.
Романцов еще больше побледнел, нервно забарабанил пальцами по столу:
— Да понимает ли он, что говорит? — кинул гневный взгляд директор на секретаря парткома.
— Нет, товарищ Грызлов, петрушку и всякую там зелень растили и будем растить! Она, конечно, не основа хозяйства, но кто, если не мы, будет ею снабжать город?..
— Я все понимаю, Алексей Фомич, — воспользовавшись паузой, сказал Грызлов, — но отвозить Дегтяреву на свалку добро не хочу и не имею права.
Романцов откинулся на спинку кресла, развел руками.
— Леонид Петрович, — вставил свое слово Самохин, — мы ведь для того и собрались, чтобы обсудить, посоветоваться.
— Вот и советуемся.
Было ясно, что без вмешательства райисполкома торг вместе с Дегтяревым трудно будет уломать. Романцов все знал это, но собирать актив — дело необходимое: дальнейшие действия теперь имели силу коллегиальную, а уж он-то найдет общий язык и поддержку в исполкоме.
13
Прошло более недели с того дня, когда Митрий встретил Наталью Илюхину на развилке дорог, у поворота на Климцово поле. Но с того самого дня поселялось в его душе жгуче-противоречивое чувство: с одной стороны, он был рад, что Наталья вернулась и что теперь можно было ее видеть. С другой — его мучило то, что понимал же он всю никчемность и несуразность такой ситуации нелепой и даже смешной для его нынешнего положения да и, пожалуй, возраста.
Было совершенно ясно, что рассчитывать на какие-то отношения с ней невозможно, кроме как решаться на самое главное. Ибо невозможно вести двойственную жизнь. И все же всякий раз, когда приходили мысли о ней, учащенно билось сердце, его охватывало смутное чувство ожидания чего-то неясного и неопределенного, но радостного и неотступного.
«Ну что же ты, теперь давно семейный человек, да и в возрасте уже, и времени прошло, слава богу, много лет», — шептал ему внутренний голос. «Да нет, ты погоди, приглядись, прочувствуй», — шептал другой голос, именно так ему думалось всякий раз, когда он вспоминал о ней.
Как и всякий человек, подверженный извечному противоречию собственного рассудка и чувств, Митрий терзался в этом противоречии, не находя себе ни места, ни покоя. И чем чаще приходила на память она — тем, всякий раз, глубже была растревожена душа, тем ранимее становилось его сердце.
Вспоминая подробности той встречи, Митрий понимал, что он для Натальи небезразличен и что она вряд ли пойдет на сближение, может быть, даже и тогда, когда он решится на то «самое главное». И все же… все же… Он думал.
Вот и сегодня рано утром, когда он шел на бригаду, увидел вдали серый платок, точно ее, Илюхиной, — подумалось: она. Нарочно свернул правее по тропинке. Оказалось, это шла Раиса Гармашева, лаборантка.
— Ты мне как раз и нужна, голубушка.
— Кому-то, может, и нужна, да не всякому должна, — повела та бровью.
Митрий, зная ее легкое, «с ветерком», как говорят в ее адрес, поведение, бесцеремонно приступил к делу.
— Ладно, ладно, ты мне всхожесть семян говори.
— А что говорить-то. Занижена ваша всхожесть.
— Как так?
— А так — шестьдесят процентов всего.
— Дела!.. — Митрий даже кепку сдвинул на затылок. Не может быть.
— Может — не может. Сам Грызлов заполнял растильню. Тоже не поверил.
— И что он говорит?
— Завысим, говорит, норму высева килограммов на семьдесят, вот и выход из положения.
— Нет, так не пойдет…
«Да что, впрочем, с ней разговаривать, все равно без толку», — подумал Смирин, вышел из амбара и зашагал на бригаду.
Машина, крытая брезентом, стояла с заведенным мотором. Дверца кабины раскрыта настежь. Водитель, белобрысый парень, племянник Пинчука, подбежал с ведром воды, взялся за вздрагивающий капот, залил радиатор.
— Едем!..
Машина рванула, набирая скорость и через каких-нибудь пятнадцать минут остановилась у полевого стана, за второй лесополосой. Дневная смена трактористов дружно высыпала наружу.
Митрий привычно бросил сумку в угол вагончика, поприветствовал Матвеевну — повариху и неторопливо направился к своему ДТ.
— Масло смени, — сменщик Василий Кирпоносов виновато улыбнулся, — хотел было сам… Думаю, полчаса осталось, дотяну.
— Много осталось?
Василий неопределенно повел головой.
— Думаю, хватит до обеда, не больше. Ну, бывай… Вот он и весь клин…
Смирин привычным движением руки схватился за дверцу, вскочил в кабину. С минуту прислушивался к работе мотора. Двигатель ровно и утробно дышал, машина вздрагивала равномерно всем корпусом.
Первые прогоны Митрий прошел, часто оглядываясь на прицеп, регулируя нужный, единственно верный угол отношения корпуса машины к линии пахоты. А на последующих, когда четырехлемешный плуг входил в колею-борозду со сброса и легко шел, увеличивая ширину пахоты ровно настолько, насколько мог брать букарь, руки, и ноги, и все тело Митрия, казалось, были подчинены этому движению.
Ровное рокотание мощного двигателя, заключающего в себе десятки лошадиных сил, успокаивающе действовало на тракториста. Вся его сила, вся его мускулистая энергия как бы сливалась с мощью машины, удесятерялась, все возрастала, и не было, не существовало, казалось, таких преград, которые бы эта сила не сокрушила.
Для Митрия такое состояние не только не казалось неестественным, наоборот, за долгие годы работы он испытывал потребность в нем. Это состояние доставляло ему, кроме физического удовлетворения, психологическую уравновешенность, трудноизъяснимую радость труда. Правда, по окончании смены он чувствовал усталость порой такую, которая не всегда была приятной. Но разве есть иные какие нагрузки, которые бы безболезненно переносил человек?.. Самая даже хорошая, любимая музыка — слушай ее с утра до вечера — надоест.
Дух отчей земли. Он врывается свежим веянием в кабину трактора, превозмогая резкие запахи металла, горючего, масла, перемешанных с гарью отработанных газов.
Сладок и свеж волнующий запах весенней пашни! Паром расстилается-клубится воздух, вешним теплом отдает сырая земля, обдуваемая южными ветрами, пряно пахнущая стерней и прошлогодними травами. Радостно-тревожные думы наполняют душу и сердце хлебороба-землепашца, вкусившего этот трепетный запах с далеких незапамятных детских лет, навевая ему думы о предстоящем ливневом лете и грядущем урожае…
Но ни с чем не сравнимы запахи осенней пашни. Отличить их от весенних может только знающий человек, испытавший на своем веку не одну страду в поле. Куда богаче и разнообразнее они! И какая устойчивость и глубина их! Кажется, веет от земли былыми дымами, гарью древних костров, горечью углей и пепла. Солью отдает из свежевспаханной борозды, от пролитых здесь когда-то крови и пота.
Не торопись, поглубже вдыхай этот извечный дух земли. Вглядись, и ты, может быть, увидишь коричневый осколок кремня, матово поблескивающий на дне борозды. Разве он не подтверждает твоих дум о далеком прошлом твоей родины, твоей земли, земли твоих отцов и дедов, своим неповторимым запахом, который выжгла искра при ударе о него стального лемеха?.. И пахнет отчая нива — а в дни осени особенно полно — хлебами, житным духом, в котором — все, что идет от земли.
Легко думается Митрию в такие минуты. Душа полнится желанными мечтами будущего. Споро растет, раздвигаясь, черная полоса справа. И с такою же быстротою уменьшается щетинистая от золотистой стерни, словно тающая светлая льдинка, — слева. Ровно, горячо дышит мотор, спокойны, крепки руки тракториста на вздрагивающих рычагах.
Смирин не увидел, как на краю пахоты появился «газик». Он остановился у светлой полосы, где должен разворачиваться трактор для очередного загона. Открылась дверца, и из кабины выскочил управляющий. Он деловито осмотрел борозду, лежавшую у носков сапог, запыленных и давно не чищенных. Припадая на правую ногу, зашагал навстречу двигающемуся трактору.
Грызлов торопился. Упрек, брошенный в его адрес Романцовым, не давал ему покоя. То, что Смирин сегодня заканчивал восьмидесятигектарный клин под зябь, его радовало. «Теперь побыстрей бы засеять и первый участок будет обставлен», — думалось ему.
Митрий увидел гостя еще издали, когда подъезжал к краю пашни для очередного разворота. Узнал его по серой капроновой шляпе. «Чего бы ему тут надо?»
Грызлов поднял руку: остановись, мол.
Митрий остановил машину, спрыгнул на землю.
— Заканчиваешь? — улыбаясь, спросил гость, поздоровавшись.
— Десяток-другой заходов — и баста.
— Молодец! Сегодня, надо полагать, закончишь?
— До обеда всего-то делов.
Управляющий недоверчиво оглядел своего собеседника.
— Ну, до обеда не до обеда…
— Я зря не говорю, оказал — до обеда.
— Ишь ты, — Грызлов опять изучающе посмотрел на тракториста. — Вот что: завтра с утра сеять. Как думаешь, в две смены за день осилим?
— А чем сеять? — вопросом ответил Митрий.
— Семенами.
— Ваши семена дают всего шестьдесят процентов всхожести, и сеять ими я не собираюсь, Леонид Петрович.
Грызлов побледнел, его водянистые глаза, кажется, еще больше посветлели.
— Это что же, вы думаете, как у Колосова, своевольничать можно… понимаете… — Управляющий в сердцах выплюнул сигарету. — Я этого не позволю, понимаете.
Митрий готов был взорваться. «Понимаете, понимаете», — мысленно передразнил он управляющего.
— Засорять землю не стану.
«Ладно, попробую его убедить», — подумалось Смирину.
— Вы же сами, Леонид Петрович, ратуете за высокий урожай. Помните, даже замечание мне сделали, когда я в соцобязательствах пропустил пункт по качеству. Так ведь?
— Ну? — Грызлов насторожился, ему хотелось понять: к чему клонит собеседник.
— Какой же прок от такого поля, если я засею его некондицией?..
— Это мы посмотрим.
— И смотреть нечего. Сегодня же Голованову доложу, а если надо — и Романцову.
Управляющий притворно улыбнулся.
— Не забывайте: здесь не колхоз, не у Колосова это своевольничать.
— Вы меня Колосовым не попрекайте. Он не вам чета, может быть. Во всяком случае, такое распоряжение он бы не стал давать. — Митрий хотел сказать «такое глупое распоряжение», но опять сдержался.
— Добро, посмотрим, — пообещал Грызлов, — поглядим, как заговоришь завтра. — Он окинул холодным взглядом тракториста с ног до головы, круто повернулся и зашагал к машине.
Сначала Митрий хотел было все бросить и ехать к Голованову. Потом прикинул, что в это предобеденное время в управлении вряд ли кто будет, и решил прежде всего закончить пашню. «Вечером все на месте будут — и агроном и директор», — успокоил он себя.
Настроение его сменилось с быстротой, с какой меняется погода в осеннее время, когда после скупого солнца тучи заволакивают небо и идет нудный серый дождь и тут же вслед ему летят мокрые хлопья снега.
Под однотонное однообразное гудение думались невеселые думы. Митрий возлагал большие надежды на перемены, которые открывались перед ним в связи с переходом в совхоз. Да поначалу все вроде так и складывалось. А вот поди ж ты: раз с управляющим так пришлось разговаривать на первых порах — добра теперь не жди. Спорить с ним — что против ветра плевать. И как оно все получается, рассуждал Митрий, чего бы не быть по-хорошему?
Закончив работу, он взглянул на часы, было половина третьего — пора домой. А тут еще снег повалил…
Марина сразу заметила, что муж был не в духе, но не подавала виду.
— Обедать, — бросил он, глядя куда-то в сторону.
Когда на столе все было готово, он сел на свое место в углу, задумался.
Марина знала повадки мужа, когда тот был не в настроении. Он поймал ее взгляд, повелительно перевел глаза в сторону буфета, и та, не говоря ни слова, достала и поставила на стол бутылку с самодельным вином.
Хозяин налил полстакана, выпил, крякнул и стал есть.
— Ребятишки где? — опросил он нарочно грубым голосом, в котором она уловила нотки примирения и улыбнулась про себя, отвечая безразлично:
— Где им быть. Гуляют, должно…
Несколько минут длилось молчание.
— Ты вот что, спроси Лемеховых: не раздумали ли они покупать пшеницу?
— Что так?
— Надоело! — Митрий бросил вилку на стол, поднес к губам полотенце, вытер руки и стал рассказывать о стычке с Грызловым на пашне, о том, что теперь не будет житья в совхозе.
— Хватит, пора перебираться в Петровск.
Вбежал Дениска: щеки в подтеках от соленого арбуза, глаза горят, на голове — каска (снял с мотоцикла).
— Ох и герой у меня, — рассмеялся Митрий. — В город жить поедем?
— На мациклете, да?
— На мациклете.
— Поедем!
14
Возвращение Натальи Илюхиной в Починки было вынужденным. Там, на Дальнем Востоке, несмотря на то что семейная жизнь у нее не сложилась, были свои, большие преимущества. Проживая в небольшом приморском городке, неподалеку от сестры, она занимала пусть и небольшую, но вполне для нее приличную должность старшей медсестры в городской клинике. Первое время жила она у сестры, потом в общежитии, а последние полгода занимала отдельную небольшую комнату-девятиметровку, хотя и в том же общежитии.
Конечно же, пребывание ее там, а не в Починках, давало ей немалые выгоды. Во-первых, она была обеспечена постоянной работой. В случае даже ее потери найти место там гораздо легче, чем здесь, в Починках. Во-вторых, у нее было гораздо больше шансов заново устроить семейную жизнь. Пусть небольшой приморский городок, но его не сравнить со степным хутором, затерянным и обжитом, исколесенном Придонье. В-третьих, там никому нет дела до твоих неудач, кроме ближайших людей, тогда как в Починках каждый твой шаг, каждое движение у всех на виду.
Разве бы обошлось без кривотолков и насмешек здесь в Починках ее неудавшееся замужество?.. Местное сарафан-радио разнесло бы такую молву по всей округе, что хоть в Дон бросайся. Чего доброго, еще бы и кличку, прозвище какое-нибудь выдумали, вроде морячки, рыбачки или капитанши. Да виданное ли дело, чтобы такой случай так оставить, без своих оценок, домыслов, комментариев, наконец, без своего собственного изложения такого события со всеми подробностями, которые были и которых не было вовсе?.. А событие и в самом деле аховское…
Спустя год со дня своего приезда в Приморье Наталья повстречалась на одной из вечеринок в доме подруги своей сестры со штурманом траулера Арнольдом Баскаковым. Молодой моряк был обходителен, вел себя вполне свободно, хотя это и не мешало ему быть скромным, даже несколько застенчивым. Штурман носил каштановые усы, имел рыжие, почти красные волосы и белесые ресницы на веснушчатых веках. Массивный с горбинкой нос и глаза несколько навыкате придавали его лицу властное выражение. Небольшая изящная трубка черной кости, которую он любил держать во рту, хотя она большей частью и не дымилась, красиво лежала на его полной сочной губе. Что также придавало выражению его лица черты загадочности, романтичности. Тем более что, как он утверждал, трубка эта привезена была им с далеких Гавайских островов.
Вечеринка состоялась в канун Нового года. Сразу, в первых же числах января штурман отправлялся в плавание и обещал вернуться весной, через два-три месяца.
Наталья не придавала особого значения этой встрече, считала ее случайной, какие бывают часто, но женское любопытство брало верх, и она согласилась и встречалась с Арнольдом те последние дни перед его отплытием то в портовом кафе, то в клубе моряков, то в кинотеатре.
Баскаков был неутомимым рассказчиком, и для Илюхиной мир открывался с каждым днем все с новой и новой стороны, о котором она и не подозревала. Оказывалось, кроме сельских пахарей, которых она знала с детских лет, существует целая армия моряков, рыбаков, китобоев… Об их существовании она, конечно, знала, но никогда не думала, что это целый мир, большой и удивительно интересный.
После ухода штурмана в море Наталья почему-то редко вспоминала, а вскоре и вовсе перестала о нем думать. То ли это оттого, что работы в клинике было много, то ли еще отчего. А тут еще у сестры случилась стройка, и она после смены спешила к ней на помощь. Некогда много думать. Даже о Митрии она вспоминала все реже и реже.
Однажды, когда Наталья с сестрой белили кухню, принесли почту.
— Тебе тоже письмо, Наташ, — сказала сестра.
Наталья спрыгнула со скамьи, на которой стояла, всполоснула в ведре руки, взяла со стола серый конверт. Знакомый почерк. Неужели Тоня?.. Да, она, Антонина Лукина, прислала ей письмо: «А я-то и не подумала ей написать первой, вот неблагодарная…» — укоризненно покачала она головой.
Обыкновенное письмо, в котором школьная подруга жалуется на свое одиночество и скуку в районном центре, вспоминает дни, когда они были вместе. Между прочим, сообщила Лукина, что адрес она узнала от матери Натальи, которую недавно видела в Петровске. Старушка прихварывает, но на судьбу и ее, Наталью, не жалуется. «Им, молодым, жизнь повидать тоже надо…» — приводила она в письме материнские слова. В конце подруга сообщала, что Митрий собирается жениться. Приходила, дескать, в универмаг мать Митрия с сестрой, брали атлас и штапель: «для свадьбы, говорят, готовимся. К Марине Крайновой сватаемся». Причем сообщала она об этом не только без сожаления и горечи, как показалось почему-то Наталье, а даже с какой-то гордостью. Илюхина сразу-то и не разобрала причины ее торжественности. Лишь подумав, поразмыслив — поняла ее настроение: «Рада, что разговоры о ее связи с Митрием не подтвердились. Вот радость-то, мне от этого не легче ведь. Эх, бабы, бабы…»
Илюхина представила лицо матери, ее сгорбленную фигуру, задумалась, и глаза ее устремились в одну точку.
— Что с тобой? — спросила сестра.
— Так… Подруга пишет — мать прихварывает, — ответила Наталья. Она вспомнила родные, теперь такие далекие Починки, маленький домик на краю села под черепичной крышей, рябину под окном. Представилось ей вдруг так зримо и явственно, как мать выходит на крыльцо с решетом в руках; как она останавливается на минутку, опершись о притолоку. Вот она стоит, о чем-то задумавшись. А куры бегут к ней со всех сторон двора, завидев знакомое решето. И старушка, словно очнувшись ото сна, от дум своих, начинает разбрасывать зерно. Знакомая, до сердечной боли близкая и дорогая картина…
Страстное, неодолимое желание ехать домой поселилось в сердце Натальи с того самого дня, когда она получила это письмо. Ей было жаль оставлять и дальше мать-старушку одну, хотелось вернуться в родные места. Но ее гордость, одна мысль о том, что Митрий готовится к женитьбе, а она — вот я — приедет в это самое время домой… «Нет, не бывать такому», — думала она. Странным и неестественным ей казалось и то, что она почти совсем не думала и не вспоминала о штурмане, хотя тот иногда и давал о себе знать. Правда, в плавании не так-то просто, можно оказать, исключительно редко представляется такая возможность. Однако раза два Наталье приносил почтальон от Баскакова говорящее радиописьмо, а однажды молодой моряк, совсем еще мальчишка-курсант принес ей конверт со знакомым стремительным почерком, объяснив, что их учебное судно сутки стояло в одном из северных портов рядом с траулером Баскакова и тот воспользовался моментом, чтобы передать весточку.
Прошло еще полтора месяца с тех пор, когда она получила письмо-весточку через курсанта, и вот наконец явился и сам штурман. Привез он Наталье дорогие подарки, засушенного, покрытого красным лаком кальмара на капроновой сетке, коралловые, с причудливыми узорами цветы моря и кучу самых интересных приключений, какие случаются в море во время плавания и о которых штурман умел-таки толково рассказывать.
Вновь они стали встречаться то у подруги сестры, то в кафе, то в парке. Шло время. Штурман сделал ей предложение. На него она ответила положительно и не только с готовностью, но даже с какой-то поспешностью. Хотя в глубине души и теплилось какое-то смутное чувство надежды на что-то необъяснимое и ей не очень-то хотелось так быстро решаться на этот шаг, но ее будто кто-то толкал к этому в те дни.
Ровно через две недели к Баскакову заявилась его бывшая жена. И хотя штурман доказывал, что он давно с ней разведен, потрясая перед Натальей своим паспортом, — Наталья не могла, она не умела простить того, что тот скрыл от нее свою первую женитьбу. Тот же час она собрала свои вещи в чемодан и ушла не простившись.
С тех пор, с тех самых горестных для нее дней, Илюхина вся ушла в себя. Она почти нигде не появлялась на людях, работала и усиленно готовилась к поступлению в медицинский институт. Вечера проводила в городской библиотеке, перечитывала литературу, что так или иначе касалась вопросов здравоохранения, а потом просто стала читать все подряд. Так прошел год.
Штурман не унимался, он стал преследовать ее все настойчивее и настойчивее. И тогда она решила уехать в соседний город. Помог ей в этом муж сестры, который занимал в облисполкоме немалую административную должность. Баскакову было объявлено, что Наталья уехала в Россию, как называют на востоке западно-европейскую часть нашей страны.
Прошло несколько лет. Наталья все чаще думала о родительском доме, о матери и почему-то о Митрии, хотя старалась вычеркнуть из сердца своего память о нем. Из нечастых скупых писем из дома она знала, что живет он хорошо, растут у него дети, и ей почему-то страшно хотелось встретиться хотя бы на несколько минут с ним самим, увидеть его дочь и особенно младшего, мальчишку.
Шло время. Однажды она получила письмо, при взгляде на которое у нее замерло сердце. Письмо было от матери, но почерк, который она изучила и знала до мельчайших закорючек, был на этот раз не ее. «Что-то случилось», — лихорадочно выстукивало ее сердце. Дрожащими руками разорвала она конверт, вынула свернутый вчетверо листок из ученической тетради в косую линейку и прочла следующее:
«Здравствуй, моя родная доченька. И пишу тебе письмо после третиво дня, как приключилась со мною паралич. Рука онемела моя и чуть шевелится, а ногами я и подавно хожу плохо. А тут еще забываться стала. А вчерась думала, что курей покормила, а они ходют по двору голодные и головы повесили, и так жалко мне их стало, а встать не могу — разболелась. Добро, Агнюша соседка наша зашла, вот и письмо тебе пишем вместе. Приезжай милая доченька домой. Я тебе и платок пуховый заказала, а носки сама связала. А погода у нас все дни солнышко, как по весне. Слышно, позапрошлое воскресенье Киреева невестка тройню родила. Вот чудо-то великое. В Починках у нас отроду такого не бывало. Три мальчика и один другого меньше, Агнюша была и все видела своими глазами.
Приезжай ты моя милая доченька, буду ждать тебя денно и ночно. А уж Ласочка-кошка наша умывается-то, умывается. Вот и сейчас сидит на скамье лапкой охорашивается…»
Далее шли многочисленные поклоны от родственников, знакомых и просто соседей, которыми так богаты были всегда материнские письма.
В тот же день Наталья стала собираться в дорогу, и через неделю была в родительском доме.
Сегодня Наталья проснулась раньше обыкновенного, прислушалась к, знакомому утробному гулу и потрескиванию топившейся печи, не одеваясь, выглянула из горенки на кухню. У загнетки, наклонившись, стояла мать, поправляя ухватом горящие головешки. Пламя отсвечивало на стареньком материнском сарафане, играло красными бликами на ее старом морщинистом лице. Пахло свежим хлебом, поджаренным луком и еще чем-то таким издавна привычным и знакомым, что у Натальи закружилась голова.
На какое-то мгновенье ей показалось, что и эту гудящую печь, стреляющую сырыми дровами, и свет, играющий на материнском лице, и густой запах хлеба с луком — все это она вот так же, когда-то давно, в далеком детстве слышала, видела, ощущала. Именно вот так же как и сейчас.
Она повернулась, сняла с гвоздика халат и накинула его на плечи. И то самое ощущение, которое она только что испытывала, исчезло. Так же гудела и стреляла печь, и свет от ее пламени играл на согнутой фигуре матери, и запах щекотал ноздри и слегка кружил голову, но все это было по-другому, иначе, чем минуту назад. Наталья улыбнулась. С нею часто бывает так, когда вдруг на какое-то мгновенье она, словно в машине времени, переносится на много лет назад, а потом тут же возвращается.
— Встала, доченька. Умывайся…
— Я сама, — опередила Наталья матушку, которая было захлопотала возле умывальника.
Она зачерпнула два ковша воды, вылила их в медный рукомойник и стала плескаться.
— Ах и водичка! Хороша!..
— Водица добрая, — согласилась мать, тепло поглядывая на умывающуюся дочь. — Завтрак давно готов, вареники нынче я сготовила.
Старушка подставила левой рукой под ухват небольшой деревянный каток, ловко подцепила чугунок и вытащила его на загнетку, стала заправлять борщ. Когда она начала вынимать картошку и класть ее в сковородку, шипящую растопленным маслом, Наталья не удержалась:
— Ма, картошечку!
— А-а, — ласково протянула мать. Она отложила две самые лучшие дымящиеся картофелины на блюдечко, а те остальные, в сковородке стала мять деревянной мутовкой.
Наталья тут же подсела к столу и стала есть картошку, макая ее в соль. С детства любила она вот такую вынутую из борща или щей картошку, которая всегда была особенно вкусной.
Потом они завтракали. Сидели молча. Наталья думала о матери, о том, что ее теперь одну оставлять нельзя. Хотя после паралича руку немного и отпустило, все же старушка часто жаловалась на кисть руки: немеет, да и приноравливалась она все больше действовать левой. А тут еще с памятью что-то творится неладное. Месяца два тому назад заметила Наталья, как мать, вырвав из старого учебника несколько страниц, старательно стала щипать бумагу на мелкие клочки, которые бросала в чайник. «Что ты делаешь?» — спросила Наталья. Мать ничего не ответила, только как-то вроде виновато, каким-то отсутствующим взглядом посмотрела на дочь. «Что это ты?» — повторила та вопрос. «А я чай заваривать хочу». И опять посмотрела на Наталью так, что та вздрогнула. Взглянула вроде в глаза, а взгляд прошел где-то стороной, мимо. Было это один раз, потом все, кажется, прошло.
А спустя неделю-две произошел случай еще несуразней и комичнее. Дело было в субботу. Поздно вечером вернулась Наталья домой, а мать сидит за столом и что-то ест прямо из кастрюли. И будто кто толкнул Наталью в бок. Глянула на мать, а та смотрит на нее опять таким же отсутствующим взглядом и так же мимо. Подошла, взяла из рук кастрюлю — так и есть: старуха чуть ли не всю опару съела, что сама же ставила с утра на загнетку. «Что ты ешь?» — спросила дочь. «Кашу», — ответила та без запинки. «Так это же опара. Ты же сама ее ставила под пироги…» — «А я думала, это каша, такая вкусная, сладкая».
На другой же день отправилась тогда Наталья вместе с матерью в районную больницу. Почти полдня пришлось им ждать в очереди. Заключение врачей было малоутешительным: давний и глубокий атеросклероз. Сколько лекарств набрала тогда Наталья. И вроде помогло. По крайней мере последние две недели все было благополучно.
И все бы хорошо, да никак не могла Наталья определиться с работой. Место фельдшера, которое ей обещали, не освобождалось. У женщины, что его занимала и собиралась уходить на пенсию, оказался неверным подсчет стажа — и ей надо было работать более чем полгода. Романцов, к которому ходила Наталья, ничего не мог обещать, кроме как ждать или временно поработать вместо ушедшей в декретный отпуск счетовода совхозной бухгалтерии, чем теперь Наталья и занималась. Работала, а все время думала, чего-то ждала. Угнетало неловкое чувство временности, какого-то непостоянства.
Вот и сегодня ей надо идти пораньше, готовить инвентаризацию. Николай Трофимович требовал, чтобы к концу года все было сделано. Объяснял как и что, с чего надо начинать. А приступать к работе Наталье, откровенно говоря, не хотелось, не лежала душа. Будешь делать, стараться, а потом все это перейдет в другие руки, окажется, может, никому не нужным пустым делом.
Позавтракали. Матушка засуетилась у стола. Стала убирать посуду. Наталья взяла ее за худенькие плечи, легко увела в горенку.
— Отдохни, мама, сама справлюсь.
— Ой, косточки мои, ой, — сопротивлялась старушка. — Никак Емельяновна к нам?..
Наталья взглянула в окно, увидела как к их крыльцу подошла Куприяниха, уборщица совхозной конторы, Она долго вытирала ноги о березовый веник.
— Чего это она? Никогда не заходила к нам.
— Стало быть, по делу, — рассудила Наталья.
Куприяниха звякнула щеколдой и на приглашение «заходи» широко раскрыла двери, не торопясь, осторожно переместилась из сеней в прихожую.
— Здравствуйте вам, — выдохнула она, — иду вот на усадьбу и к вам завернула. Романцов велел явиться, — повернулась она к Наталье. — Ты что, не работаешь у нас боле?
— Работаю, как же. Вчера и позавчера в Коврево, сегодня тут, в Починках. Инвентаризация…
— Вот что, а то я смотрю — нет тебя.
— Ай что неладно? — спросила старуха, переводя тревожный взгляд с дочери на гостью. — Что так, Емельяновна!
Наталья улыбнулась. Она видела, читала по глазам Куприянихи, что весть тут, как раз наоборот, хорошая, приятная.
— Ладно уж, не буду томить душу, — пообещала Куприяниха, сияя улыбкой на полном лице, — работу нашли тебе, Наталья.
— Какую же? — спросила мать.
— Я толком и не скажу. Слово какое-то заковыристое больно. Кто это уж с Романцовым говорил — не знаю, только поняла я, что тот все спрашивал, найдется ли человек на такую работу. Ну, Романцов думал, думал, потом и говорит: найдется. Есть у нас Илюхина Наталья, среднее образование и в культучилище училась.
— В культпросветучилище, — поправила Наталья.
— Словом, спросила я Крюкова, он там тоже был: это какую же должность Наталье определяют, Николай Трофимович? О-о, говорит, она теперь всеми книжками-бумажками командовать будет. Вот так, говорит.
15
Странная, какая-то ненастная нынче зима. Чудное время настало, климат будто подменили. Путных морозов и тех не видели. Ведь как было раньше! Похолодает в иную пору еще в октябре. А то и снег выпадал в иной год на покров день, а это опять-таки середина октября. Конечно, такие годы редко случались и в то время. Редко, но были. Уж во всяком случае в ноябре — декабре снег ложился надежно, на всю зиму. Заметет, закружит метель, захороводит вокруг перелесков, буераков, сел да деревень. Хорошо в такую пору пройтись по улице с поднятым воротником и надвинутой на самые глаза шапке-ушанке. Куда ни взгляни — косая линейка от падающих снежинок, за которой угадываются очертания строений, телеграфных столбов, деревьев…
А наутро проснешься — и не веришь глазам своим. Исчезли тучи, ветер утих, перестал падать снег. Небо ясно, прозрачно и чисто. Лишь одна его часть багрово-золотистая от восхода солнца. Свежо пахнет снегом, который лежит бело-пуховой пеленой, расстилается далеко вокруг, пушистыми клоками висит на деревьях, шапками сидит на крышах домов. Весь он светится розовым светом от разгорающейся на востоке зари.
Вот бы в такое утро, да в санках на лошади торить первопуток! Но об этом в наше время можно только мечтать. Лошадь и сани теперь такая же редкость, как когда-то автомобиль. Единственное, что сейчас можно, это проехать на попутном грузовике, но не далее района, а еще лучше — стать на лыжи и пройтись по опушкам ближних перелесков.
Когда в зиму ложится хороший снег — не страшны морозы озимям, сердце хлебороба радуется в ожидании будущего урожая. Хороший снег с морозами — это устойчивая зима, полноводная весна, теплое урожайное лето. Так было исстари. Недаром старые люди все примечали да нам завещали: много снега — больше хлеба. Май холодный — год хлебородный…
Непонятное, необъяснимое что-то происходит в последние десятилетия. Ни снега, ни тебе мороза. В позапрошлом году не успел наступить ледостав — речка-безымянка вдруг вскрылась ото льда. И когда? В самом начале декабря. А тремя годами раньше и того хуже. Половодье случалось дважды за зиму.
Но такого, что произошло этой зимой, починковцы не видели отроду. Не помнили такого и старики. Слыханное ли дело: в начале января, в самой что ни на есть середине зимы, пошел вдруг ливень, да еще с грозой. И это в ту пору, когда в старину, бывало, рождественские морозы сменялись крещенскими, да такими, что лед на реке постреливал в стылом воздухе так, что голуби, зябко жавшиеся к застрехам изб, взлетали стаями вверх от испуга.
— Вот уж недаром, видно, говорят, что это от спутников всяких, да от реактивных самолетов все происходит, — рассуждал в правлении старик Титов.
Весна подошла рано, а снега в полях почти нет. Кое-где даже пашня чернеет.
Солнечным мартовским утром помчался Романцов на своем «газике» в район. Он торопился. Да и как не спешить, когда в десять мест надо поспеть: в Сельхозтехнику, в райком, в райисполком, в банк, в управление сельского хозяйства, да мало ли куда?..
— Паша! Нажимай на педали! — тоном то ли приказа, то ли просьбы бросил он водителю, усаживаясь рядом.
— Один момент, Алексей Фомич, один момент.
Пашка Лемехов завел мотор, дал газ, и машина рванула с места.
— Опять лихачество?!
— Так натурально сказано нажимать на педали.
— Сказано, сказано…
И хотя в голосе директора Пашка уловил нотки укора, он понимал, что укор этот больше напускной. Это всегда бывает так, когда Романцов в хорошем настроении.
У Пашки тоже легко и радостно на душе, то ли оттого, что весна, то ли еще отчего. Сердце его словно пело. Кругом курится снежок. Он, правда, хотя и неглубок, в иных местах не прикрывает даже пашню, но снег настоящий мартовский, весенний, и пахнет весной.
Дорога на Петровск изучена Пашкой до мельчайших подробностей, ему знакома каждая колдобина, любой поворот. Вот впереди небольшой взлобок. Пашка прибавил газу, машина вихрем взлетела на перевал. Внизу, в ста пятидесяти метрах небольшой бревенчатый мост. И, о ужас! У самого моста, навстречу машине надвигается торопливый «Беларусь». Пашка собрался весь в единый мускул. Он знал, что тормозить на спуске, по такой скользкой дороге, нельзя. Не зря же он имел второй класс. Между тем передние колеса трактора были уже на мосту, и тракторист, не ожидавший встречной машины, довернул только в последний момент руль вправо, колеса шли у самой кромки моста. «Газик» и трактор едва разъехались на мосту, чуть-чуть не задев друг друга бортами.
Романцов спокойно, молча выдержал Пашкины эксперименты, и только, когда отъехали от моста — повернулся к водителю:
— И долго ты думаешь заниматься фигурами высшего пилотажа?..
— А что? — не моргнув глазом, с полным недоумением на лице, осведомился Лемехов.
— Чуть не поцеловались, вот что.
— Это Митрий Смирин, мы с ним часто тут встречаемся.
— Прямо на мосту?
— Натурально.
— Хорошее место встреч вы облюбовали.
— Да вроде ничего… Это что — «Беларусь», он узкий. Я раз с МАЗом здесь разминулся, — похвалился Пашка.
Романцов нахмурился, чтобы погасить невольную улыбку, посмотрел в боковое стекло.
Пашка быстро вытер капельки пота со лба, чувствуя, что директор хмурился и журил его для порядка, продолжал:
— Это что. Я вот когда в армии служил — был случаи: не по одному мосту, по двум сразу проехал. Вызывает меня старшина. А дело вечером было в субботу. Давай, говорит, на склад газуй. Некому больше, говорит. А я, и сам знаю, что некому — все в увольнении. Один я из водителей в роте находился, потому что дежурил и сменился только перед самым вечером.
Тут, конечно, Пашка, если не сказать соврал, то, мягко говоря, исказил факты. Дело в том, что он в тот день ни на каком дежурстве не был, а его просто-напросто не отпустил старшина в увольнение за нарушение устава.
Но на что не шел Пашка, когда для его рассказа с картинками требовалось, чтобы он, Пашка, лично в этом самом рассказе выглядел достойным героем.
— Так вот, — продолжал Лемехов, — а я, признаться, тогда как раз был выпимши. Друг, Васька Юров, раньше других вернулся с увольнения и четвертинку принес. На, говорит, Паша, выпей, как лучшему другу принес тебе. И наливает мне натурально стакан. А я, говорит, в городе выпил, мне много нельзя. Ну, я, значит, полный граненый и выпил. Только выпил, и старшина вот он.
Признаться, что выпил, и отказаться от поездки мне не с руки. Старшина есть старшина. Ладно, думаю, склад недалеко тут, дорогу я знаю — еду!
Кинув беглый взгляд на седока и убедившись, что тот внимательно слушает, Пашка еще больше воодушевился и стал рисовать такие картинки, что прямо хоть фотографируй их.
— Еду я, а на душе так тепло-тепло стало и вроде бы как ко сну клонит. Нет, думаю, осталось совсем немного. Поворот, и еще поворот, и мостик вот такой же небольшой. Подъезжаю и, натурально, вижу два мостика. И такие они какие-то узкие — не проедешь по одному. А думать некогда и остановиться уже нельзя. И натурально, решился я проехать сразу по двум мостам. Правыми колесами по правому, левыми — по левому.
— И проехал?
— Проехал. Остановился, думаю, надо посмотреть, что же это за оказия такая. Вылез из кабины, лицо горит. Потер я его снегом, подхожу — мост как был, так и есть один. И следы мои видны, как я проехал только что.
— Натурально, один, а только что было два!
— Ну, вот что, — посоветовал Алексей Фомич, — ты хорошо сочиняешь, и рассказывать свои байки мастак, только анекдоты надо бы брать поновее и поинтереснее.
— Я ж натурально правду говорю, — обиделся Пашка.
— Ладно, ладно, приехали. — Романцов хлопнул дверцей кабины и зашагал в Сельхозтехнику.
Шел третий час дня, а Алексей Фомич кружил по учреждениям, и почти напрасно. В одной конторе кого надо было — не оказалось на месте. В другом — заседание. В третьем — обед подоспел. И так пошло по кругу.
Конечно, ничто не мешало бы Алексею Фомичу обзвонить всех по телефону, перед тем как ехать в район, договориться с каждым, с кем надо встретиться, но и он не лыком шит. Знает, что, как правило, от таких наездов толку бывает немного. Каждый, к кому он должен пожаловать, рассуждал примерно так. «А чего это вдруг Романцов ко мне хочет заявиться? Э-э, да ему сеялки нужны…» — думал осторожный главный инженер из Сельхозтехники; «Не иначе лес выпрашивать будет, — более уверенно и определенно прикидывал в уме председатель райисполкома и поэтому заключал: — Не могу выделить ни кубометра, пусть и не уговаривает. Нет леса». Так или примерно так рассуждал и третий, и четвертый…
Другое дело, когда Романцов входил в кабинет того или иного начальника неожиданно, заставал, как говорится, врасплох. В таких случаях собеседник не всегда был подготовлен к встрече, и, глядишь, в разговоре он тебе слово, ты ему — два, он — три, а ты — четыре; смотришь, и дело получилось.
И все-таки фортуна удачи не отвернулась от Романцова и на этот раз. Случилась такая встреча, что он о ней и не помышлял. А дело вышло такое: вбежал обозленный еще раз в райисполком, председателя все еще не было. В приемной, кроме секретаря, одиноко сидел незнакомый мужчина в куртке на молниях, с высокими залысинами и огромным выпуклым лбом.
— Не звонил? — спросил Романцов, показывая секретарше на дверь председателя.
— Нет, Алексей Фомич, не звонил.
— Тогда разрешите мне позвонить.
— Пожалуйста. — Она повернула к нему телефонный аппарат.
Романцов торопился. А тут, как назло, в Сельхозтехнике сменился секретарь, и Алексею Фомичу пришлось давать объяснения: и что он, Романцов, директор совхоза «Рассвет», и что ему срочно нужен главный инженер.
— Алло! — кричал он в трубку. — Алло!
Наконец трубка ответила.
— Юрий Тарасович, дорогой, поймал-таки тебя.
— А-а, Фомич… Но ты меня еще не поймал.
— Как так?
— А так, — ответила трубка, — я одной ногой в кабинете, а другой — в машине. Еду в область. Звони, заходи. Привет…
— Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты, — с досадой проговорил Романцов, направляясь к выходу.
— Простите, пожалуйста, — услышал он за собою, когда вышел в коридор. Обернулся. Перед ним стоял тот, незнакомый мужчина в куртке.
— Товарищ директор, товарищ Романцов, рад с вами познакомиться. — Он протянул руку, представился: — Директор Петровского карьера, Смагин Иван Егорович.
— Алексей Фомич, — ответил на представление Романцов и потряс протянутую руку Смагина. — Я, признаться, давно хотел завернуть к вам. Мимо всегда еду, а вот все дела, все дела…
— У кого их мало, дел этих… — согласился Иван Егорович.
— Давайте присядем, Алексей Фомич, — указал на кресла, стоящие в широком коридоре вокруг круглого стола.
Они сели друг против друга, и пока Смагин укладывал перед собой папку, снимал меховую шапку-ушанку, Романцов успел изучающе рассмотреть лицо своего нового знакомого.
Был он несколько округлым, с широко расставленными, внимательными зеленоватыми, с ореховыми крапинками, глазами. Подбородок разделялся небольшой вертикальной ямкой, что придавало выражению его лица мужественные волевые черты. На вид Смагину было не более сорока пяти.
Чувствуя свое старшинство в возрасте, Романцов заговорил первым.
— Ждем, ждем камень-гранит. Когда дадите?
Смагин устало улыбнулся, подвинулся вместе с креслом поближе к столу.
— До самого камня еще далековато.
— А будет все же?
— Будет, и немало.
— Так, так, — понимающе произнес Романцов.
— Камень будет…
Алексей Фомич откинулся на спинку кресла, опустил черную мохнатую бровь на прищуренный глаз.
— То-то, я гляжу, вы по моему полю такую капитальную чугунку провели. А мосты под Петровскими полями?.. Надолго, думаю, ребята рассчитывают тут копать-ковырять…
Смагин подвинулся еще ближе.
— Сотню лет самой интенсивной выработки камня — вот на сколько мы рассчитываем.
— На сотню?! — удивленно произнес Романцов. Брови его поползли вверх. — Это же настоящий кладезь для наших степных безлесных мест.
— Алексей Фомич, — теперь заговорил первым Смагин, — давно хотелось с вами познакомиться, потолковать. Мы ведь самые близкие соседи и жить должны по-соседски, дружно.
— Верно, — Романцов утвердительно кивнул головой. — Соседи должны не только жить дружно, но и помогать друг другу. А то одному бывает ведь и трудновато порой. Так ведь?..
— Я не буду рассказывать о своих трудностях, которых и сейчас еще немало, — главное, мы теперь уходим из-под зависимости строителей. Это очень важно. Через полгода начнем пуско-наладочные работы. А еще через полгода — пойдет первый камень.
— Новое дело всегда нелегкое, — согласился Алексей Фомич.
— Нелегкое, — подтвердил Смагин. — Разве легко, когда земельные отводы не оформлены, документация поступает, как говорят, по чайной ложке и некомплектно, план не выполняется, а тут еще грунтовые воды заливают и с жильем нехватка, а отсюда и с рабочей силой. Теперь что. Все позади. Приезжайте, посмотрите, какой у нас микрорайон вырос, целый городок. Так вот, Алексей Фомич, дорогой, чтобы лучше, веселее работалось — рабочих хорошо кормить надо. Верно?
— Ясное дело, — подтвердил Романцов, прикидывая в уме: к чему клонит директор карьера.
— У нас просьба такая: помогите нам со снабжением, особенно с овощами, зеленью, молоком. Мы собирались у себя, советовались. Я и главный инженер, секретарь партийной организации, наш профком, потом был разговор в райкоме — там обещали поддержку. И указали на ваше хозяйство, как не только самое близкое, но и крупнейшее в районе, высокоразвитое.
Смагин раскрыл папку, достал какую-то бумагу.
— Речь идет о системе: поле — магазин. Я думаю, мы выберем время, поедем в район и все обговорим подробно. А предварительно в принципе согласия я добился. Проведем все, разумеется, через райторг. У нас вот считай три магазина уже есть.
Он показал бумагу.
— Правда, настоящий пока один, — два так себе. Но палатки под молоко, яйца, овощи мы соорудим в два счета.
— Так пожалуйста, мы не против, как раз даже наоборот, — с готовностью поддержал Романцов Смагина.
— Но речь, главным образом, идет не о согласии в принципе, а о расширенном снабжении нашего городка. Если дело пойдет удовлетворительно, то представляете, что помимо прямого расчета через торг, мы можем в порядке только шефской помощи сделать для вас очень и очень многое. По рукам?
— По рукам!
— Вот мои телефоны, и разрешите записать ваши координаты. Надеюсь, в ближайшее время выкроите часок навестить. Милости просим.
— Добре.
— Ну, мне пора, тороплюсь в док.
Возвратившись домой, Романцов думал о встрече с директором карьера. Думал он о разговоре с ним всю дорогу, по пути в свою усадьбу, прикидывал в уме, сопоставлял факты. Выходило, что добрые взаимоотношения с карьером сулили в перспективе для совхоза немалые выгоды. Алексею Фомичу воображение рисовало уже выстроенные жилые двухквартирные дома, которые с помощью соседей можно было гораздо быстрее возвести, фермы и иные постройки, а главное — дороги. Насчет машин договориться можно, глядишь, и гудроном карьер поможет, а уже о камне и щебенке и говорить нечего.
Романцов позвал рассыльного.
— Пригласите мне Самохина, Голованова… — директор запнулся, он хотел назвать Грызлова, но передумал, — и Егорова, — добавил он. — Пожалуйста!
16
Как-то утром, когда Митрий позавтракал и собрался идти на бригаду (так он по привычке называл отделение совхоза), Марина почему-то тихо и, как показалось, с виноватой и вместе с тем заискивающей улыбкой, проговорила:
— Знаешь, Митя, я давно хотела тебе сказать…
Митрий, взявшийся было уже за щеколду, остановился у двери, пристально вглядываясь на быстро меняющееся лицо жены.
— Ну-ну, что там у тебя?
— Я давно хотела сказать, — неуверенно начала она, — надо бы помочь матери.
— Какая помощь требуется?
— Ей нужно рыть колодец. У Илюхиных завалился, а к Пинчукам по воду ей с больными ногами ходить далеко.
Митрий не знал, что и оказать, что ответить, — таким неожиданным был для него вопрос.
— Так сейчас колодец-то рыть не станешь, с ним летом надо заниматься.
— А я и не говорю, что сейчас.
— Ладно, что-нибудь придумаем, — оказал он нарочно безразличным тоном, скрывая этим свою готовность.
А почему бы и не помочь, думал он, шагая по улице, как-никак она приутихла, перестала вмешиваться в их семейные дела, да времени прошло со дня их стычки немало. Трубы есть, остались от своего, что делал четыре года назад. Хватит еще на целый колодец. Тут если не поможешь — одних разговоров не оберешься. Вот, скажут, Смирин какой: пожилой больной женщине, теще своей, не может помочь, чужие люди колодец роют.
— Нет, — все более убеждал себя он, — надо помочь, обязательно. Что ж я, зверь какой, а не человек, — теперь уже вслух рассуждал сам с собой, подходя к усадьбе.
В мастерских было многолюдно и шумно, слышался смех, хриплые голоса. Митрий вошел, поздоровался со всеми за руку. С бригадиром, с Иваном Титовым, с Василием Кирпоносовым, с соседом Павлом, Буряком…
Были тут и еще люди. Кто-то затачивал на наждаке резец, и в полутемном углу, где стоял точильный станок, ярким снопом разлетались искры, слышался пронзительный визг. Жаркая схватка металла и камня продолжалась долго. Пахло каленой сталью…
— Так почему они холодным, а не раскаленным концом Гитлера-то?.. — спрашивал Титов Павла, пытаясь возобновить прерванный приходом Митрия рассказ и прекрасно зная, какой будет ответ.
— А затем, чтобы союзнички не смогли вытащить, — заканчивал Буряк анекдот, который все хорошо знали — он не первый раз его рассказывал — и поэтому не смеялись. Хохотал лишь сам рассказчик.
— Пора бы начинать, — сказал Кирпоносов, давая понять, что рабочее время началось. — Пойдем, Митя. — И они пошли к своему трактору — разбираться с масляным насосом, который не поддерживал почему-то давление смазки.
С первых же минут Митрий убедился в завидном умении Василия Кирпоносова разбираться в механизмах. Работать с ним было легко и просто. Да и как могло быть иначе, когда понимали они друг друга с полуслова.
Проверили систему смазки: фильтры, радиатор. Клапан насоса оказался протертым, подызносился, надо ставить новый. И пока Митрий его менял — Кирпоносов успел привести в порядок форсунки, а заодно и проверить зажигание.
Но как ни быстро работали механизаторы — время тоже не стояло на месте. Взглянул товарищ на часы и не удержался, чтобы не сказать: «Так мы и обедать отвыкнем. Пора б уж. Второй час».
— Неужели? — удивился Смирин, высовываясь из-за радиатора и вытирая ветошью руки.
— А ты думаешь…
После обеда рабочие часы потекли, кажется, еще быстрее. Мартовский день хотя и не такой уж короткий, но идет быстро. А тут еще небо так обложило тучами — просто сумерки. Сначала крупными хлопьями падал снег, потом мела поземка…
Под конец смены зашел Федор Лыков. Заявился в короткой кожанке-дубленке, с цветным модным шарфом на шее, в ботинках на платформах.
— Труженичкам физкультпривет!
Митрий оторвался от работы, услышав знакомый голос.
— Здорово, Федор Архипыч, руки не буду подавать, извини, испачкаю. — Митрий виновато улыбнулся, переложил грязную ветошь из ладони в другую.
— Как дела на земледельческой ниве труда?..
Кирпоносов кинул беглый взгляд на Митрия и, хотя вопрос касался скорее Смирина, чем его, но зная также, что Лыков всегда подчеркивает свое положение рабочего, какого ни на есть городского человека, с иронической улыбкой в голосе произнес:
— У нас, как у тех куликов, что каждому свое болото — всех лучше.
Федор понял намек в свой адрес, решил парировать:
— Кулик — он и есть кулик, спрос с него невелик, Только что он будет делать, когда прилетит, положим, весной, а болото мелиораторы — высушили?..
Лыков торжествующе обвел товарищей взглядом, довольный тем, что нашелся что сказать, и не просто оказать, а в рифму, да еще и вопрос заковыристый поставил.
— Не придется ли тому кулику лететь на другое болото, — продолжал Федор, — и хвалить его?
— Вон ты что, — разочарованно произнес Кирпоносов, — болото — оно и есть болото, а вот если тот же кулик да возомнит из себя ястреба да переберется на лесную поляну — вот это плохо. Никуда не годится.
— Ну, ладно, кулики болотные, — примирительно произнес Федор. — Вот Степка Сыч и тот куда-то упорхнул. Что ж, такова нынче жизнь кулика.
— Упорхнул — это да, только вопрос в том: куда? — загадочно улыбаясь, сказал Василий и, ни к кому не обращаясь, бросил: — Пора закруглять, что ли?
— Все… Закончили, — отозвался Митрий, складывая в ящик инструмент.
— Собирайся, Митя, разговор есть серьезный, — пообещал Федор, поглядывая в сторону Василия, который не торопился, но тоже собирался уходить.
Митрий переоделся. Снял спецовку и надел свою неизменную телогрейку, надвинул на лоб шапку.
— До завтра.
— Всего, — отозвался Василий.
— Сурьезное дело есть, — сообщил Федор Митрию на ухо, когда они вышли на улицу.
Он оглянулся назад и, убедившись, что никого поблизости нет, заговорщицки продолжал:
— Работенка вот такая подворачивается, — Федор провел ребром ладони по горлу, — смена от и до, зарплата, в течение года — квартира. Кадровик мне знакомый. Во малый! Я когда сказал, что ты механизатор широкого профиля — он сразу двумя руками уцепился: давай, говорит, мне этого человека, приводи хоть сегодня… Им такие люди во — нужны.
Лыков вынул из кармана вчетверо сложенный клетчатый платок, поднес его к носу.
Митрий шагал рядом, сердце его почему-то учащенно билось. Он замечал, что последнее время, стоило лишь заговорить об этом переезде — у него отчего-то билось учащенно сердце. На душе у него было как-то и тревожно и радостно, и ему не хотелось, чтобы Федор обо всем, о чем он хочет сказать, — выговорился бы сразу, сейчас. Он не представлял, не мыслил, чтобы о таком важном, серьезном для него деле говорилось на ходу, мельком, поэтому и попросил друга:
— Сейчас придем ко мне и обо всем поговорим, ладно?
— Давай, давай…
И они быстрее зашагали ко двору Смириных.
Дома никого не оказалось, что Митрия обрадовало. Ему хотелось обо всем поговорить наедине, чтобы никто не мешал. А оно так все и складывалось. Марина, видимо, еще не возвращалась с работы, ребятишки где-нибудь играли.
— Ну, говори, — бросил Митрий, когда они разделись и сели рядом на диван.
— Вот я и говорю, — начал прерванный разговор Лыков, — работка что надо.
— Где это? — перебил его Митрий.
— У нас, на карьере. — Федор сказал это таким тоном, как будто он с первых дней работал на карьере, тогда как он только думал переходить туда и еще неизвестно, перейдет ли.
«У нас, на карьере», — повторил про себя Митрий.
— И что я смогу там делать?
Федор оживился.
— Обо всем мы договоримся в кадрах. Люди там нужны — во!.. Тем более такие… Что делать, говоришь. Хочешь на МАЗе, хочешь — на КрАЗе, на экскаваторе, в отделе механика… Что ты?.. Петр Петрович сказал, чтобы я тебя завтра же привел.
— Какой Петр Петрович?
— Какой, какой! В кадрах который.
— А в совхозе как же? Работа…
— Работа, — передразнил Федор. — Работа не медведь, в лес не уйдет.
Вошла Марина возбужденная, сияющая, с хозяйственной сумкой в руках. Видимо, заходила по пути в сельмаг.
Митрий незаметно толкнул Федора ногой, жестом руки дал понять, чтобы не говорить о деле. Ему надоели подковырки жены, и он не хотел вести эти разговоры при ней. Вот когда все решится — тогда можно ей объяснить, сказать: все, мол, договорено, улажено, собирайся, хозяйка.
Он тут же ловко перевел разговор на другое.
— Стало быть, ты говоришь, резину достать можно?
— Будет сделано, — поддержал Митрия Лыков.
— Опять со своими колесами, — отозвалась Марина, заглядывая в горенку и здороваясь с гостем.
— Что-то ты, Федя, редко к нам заглядываешь?
— Дела.
— Ладно тебе, дай нам поговорить спокойно.
— Да говорите, а то я вам не даю, что ли? — Марина смерила недовольным взглядом мужа с ног до головы.
Федор посидел у Смириных недолго. Он рассказал о том, что думает перебираться из Петровска на карьер. Что работу там ему обещают перспективную и квартиру настоящую городскую можно со временем получить. Как всегда, он не мог, чтобы не преувеличить. Смирины знали эту слабость соседа и только улыбались, стараясь скрыть улыбки от Федора.
— Знаешь, — рассказывал Федор о начальнике кадров, — вхожу я к нему в кабинет. То да се, разговоры. Он посмотрел мои бумаги. Все, говорит, в порядке. Вот образованьице, молодой человек, говорит, у вас не того. На первых порах — пройдет, а там давай в институт. У нас, на карьере филиал института открывается. В первую очередь своих рабочих будем направлять. Я даже вспотел. Хорошо, говорю, согласен.
— Как же в институт, когда у тебя только восьмилетка? Да и возраст… — поставил под сомнение такую постановку вопроса Митрий.
Федор, не моргнув глазом, ответил:
— Институт такой, на правах техникума.
— Что ж это за институт? — удивился Митрий. — Если б наоборот — и то понятней было бы.
— Вот такой институт, такой, — подтвердил Федор. — Вы, товарищ Лыков, готовьтесь в институт. Так Петр Петрович и сказал.
Марина ушла за занавеску, она еле сдерживалась от смеха. — Мне пора, — поднялся Федор, подмигивая Смирину: пойдем, мол, проводишь, там и договорим обо всем. — Надо заглянуть на свое подворье и домой еще поспеть.
Митрий засобирался: гостя надо ведь проводить.
Когда только вышли за порог, Федор, кинув беглый взгляд на окно, спросил:
— Ты это чего темнишь?
— Не хочу этих разговоров при ней.
— Ну ладно, ты согласен?
Митрий замялся.
— Вот… О нем думаешь, хлопочешь, а он… — Глаза Федора похолодели, сузились. Еле заметная искра пробивалась сквозь эту холодность. — Тоже мне, Мичурин. Ладно, послезавтра я приеду за кадками — зайду. Два дня тебе на размышление. Давай…
Проводив гостя, Митрий не торопился в дом. Ему хотелось сосредоточиться, подумать обо всем наедине. Он прошел во двор к большому сараю, поправил на ходу кривую лесину-горбыль, что лежала почему-то чуть не поперек дороги, плотнее прикрыл дверь заднего отсека сарая, где были сложены дрова и уголь. А сам все думал и думал.
С одной стороны выходило — надо ехать. Работа, квартира со временем, конечно, как-никак город, а тут еще с Грызловым не поладил, разве это дело. А с другой — уедешь, тот же колодец теще не сделаешь. Куда там до колодца! Вот разговоров-то будет. И перед Мариной как-то неловко. Да что перед Мариной — перед людьми и, прежде всего, перед собой… Митрию вспомнилась почему-то Наталья. Давно не видел ее.
«Что же ответить Федору?!» — мысленно задавал он сам себе вопрос, задавал и не находил ответа.
17
С приходом весны, когда снег с земли сошел как-то незаметно быстро, наступило такое потепление, что хоть выезжай в поле. Запахло талой землей, но по утрам еще слегка морозило. В такие дни, тихие и ясные, когда воздух словно наполнялся духом обновленной весенней земли, — была какая-то особая слышимость. По утрам можно было различать далекие голоса дорожных строителей, гул машин. А когда поднималось солнце и освещало далекий высокий правый берег Дона, с бугра, что у Климцова поля, можно было видеть белеющие меловые отроги, что тянулись цепью до самого Белогорья.
Отсюда, с починковского быка, как называют этот бугор, в хорошую погоду можно было видеть часовню, что стояла по ту сторону Петровска, у берега Дона, хотя самого города, лежащего в громадном блюдце-котловане, не было видно. Иное дело сейчас. Теперь отсюда можно разглядеть не только городскую часовню, но и новые дома микрорайона, высыпавшие на взгорье по бокам дороги, что ведет от города к Починкам.
Получалось, что город как бы шагнул навстречу селу, стал ближе. Так оно и было. Микрорайон растянулся более чем на два километра в сторону Починок, и расстояние между ними сократилось. Теперь было не двенадцать, а менее десяти километров…
Однажды утром починковцы увидели на дороге двоих незнакомых мужчин: одного с прибором, похожим на старинный фотоаппарат, а другого с большим аршином в руках. Те деловито мерили ногами дорогу, вбивали колышки, прицеливались куда-то с установленного прямо на дороге треножника.
Тут же пошел слух: карьер будет вести асфальтированную дорогу из Петровска через Починки на Коврево и дальше до самого Бутова, до железнодорожной станции.
И точно: через месяц-другой появились МАЗы, самосвалы, скреперы, бульдозеры. И откуда их только взялось столько! Дорога покрылась кучами камня и щебенки. Сверкающие на солнце зубья ковшов вгрызались в плотный грунт, машины рыли и расширяли кюветы, сгребали землю, с утра до вечера утюжили старый грейдер-большак. На обочинах дороги дымились и едко чадили котлы с гудроном. Никогда еще Починки не видели такого скопления машин и людей.
Дорога, синеющая от черноты гудрона, широкой лентой тянулась все ближе к Починкам, росла на глазах.
В один из весенних дней на строительство дороги приехало начальство. Из двух черных «Волг» вышли пятеро в плащах, двое из них с пухлыми папками в руках. Они долго ходили вдоль обочины, о чем-то горячо рассуждали. Молодой рабочий в кожаной куртке, видимо бригадир строителей-дорожников, рулеткой замерял глубину кювета, показывал рукой в направлении строящейся дороги, заглядывал в раскрытую папку одного из приехавших…
Потом трое из гостей сели в машину и укатили, а два других направились к центральной усадьбе, в совхозную контору. Романцов как раз был один в кабинете, разговаривал по телефону и машинально смотрел в окно. Он видел, как эти двое подошли к подъезду, и в одном из них узнал Смагина.
— Савельич, слушай, я тебе перезвоню, — сказал он в трубку и положил ее на рычаги.
— Можно?! — спросил Иван Егорович, открывая дверь.
— Гости дорогие! — с неподдельной радостью в голосе произнес Романцов. — Милости прошу.
— Вот и свиделись. — Смагин пристально всматривался широко расставленными глазами в лицо Алексея Фомича, крепко пожимая его руку своей цепкой и сильной пятерней.
— Раздевайтесь, садитесь, пожалуйста…
— Это мой главный инженер, — представил Смагин своего спутника, совсем молодого человека лет тридцати пяти.
— Бачурин.
Романцов назвал свою фамилию, имя, отчество.
— Сергей Петрович, — поправился Бачурин.
— Ну, как, не распугали мы ваших кур-петухов? — спросил Смагин, усаживаясь за стол, составляющий букву Т со столом директора.
— Что вы, что вы, — поспешил ответить Алексей Фомич, — они у нас от дороги далеко в стороне, — и глянул в окно, куда смотрел и Смагин, на белое здание птичника, что стояло на взгорке, за поймой речки-безымянки.
— Тогда добро, а то вдруг что не так.
— Большое дело делаете, братцы, дорогие мои соседи. — Романцов даже встал и вышел из-за стола. — Слыханное ли дело — асфальтированная дорога, большак через Починки от самого Петровска — оттуда, и до самого Бутова — туда!.. Да я об этом только мечтал, а вот — р-р-а-з и тебе на!..
Алексей Фомич заходил по кабинету.
— Да чем же мне вас угощать, потчевать, гости дорогие? Давайте пообедаем вместе, а?..
— Что вы, — поднялся Смагин, мы бы с удовольствием, да некогда. — Он взглянул на часы. — Сейчас половина первого, а нам в тринадцать двадцать надо быть в райисполкоме, опаздываем…
— Вот те раз, — развел руками Романцов.
— В следующий приезд. Сейчас — извини.
— Вот беда, — с горечью произнес хозяин, провожая гостей на крыльцо.
— Ты меня прости, Алексей Фомич, — сказал Смагин, когда они сошли с порога и Бачурин ушел к машине. — Кажется мне, что хочешь что-то сказать, да не решаешься.
Романцов усмехнулся.
— Может, я ошибаюсь, — продолжал директор карьера, — а если нет, то говори сразу, пока не поздно.
Романцов опять улыбнулся, покачал головой и внимательно посмотрел в зеленые с ореховыми крапинками глаза Смагина.
— Хотел, грешным делом…
— Ну, ну, — нетерпеливо перебил Смагин, — говори скорее.
— Вот до того птичника, что мы смотрели сейчас, а там и свиноферма у меня, — дорожку туда бы. Тут всего полтора-два километра будет, не больше, а муки мучные она нам доставляет.
— Ну-ка, ну-ка, давай глянем.
— Сюда пройдем, — показал рукой Романцов, — вот туда мимо гаража, вниз, через низину и вверх, до птичника.
— Сергей Петрович, — позвал Смагин главного инженера. — Слушай, сможем мы выручить соседей? Вот сюда ус пустить, а то им действительно через ложбину добираться — горе, а?..
Бачурин смерил взглядом направление, куда показывал Романцов, прошел в сторону, чтобы лучше видеть противоположный подъем, повернулся к Смагину и Романцову, ожидающим ответа.
— Спуск крутоват, — тихо и как бы неохотно проговорил Бачурин, — но сделать можно. В низине — грейдер повыше, щебенки побольше.
— Водой не заливает?
— Раз лет в двадцать, и то чуть-чуть, — ответил Романцов.
— Тогда ничего. Щебенки нам не занимать. Значит, Сергей Петрович, давай помогаем им. Будем считать, что это мы времянку делаем. Прикинь смету, перечисление, чтоб все было оформлено. Счет — он дружбы никогда не теряет. Средства-то есть?..
— Нет вопросов, — с готовностью ответил Романцов. — В наше время заиметь подрядчика обходится дороже всяких средств, всяких материалов.
Перед тем как проститься, Смагин пристально вгляделся в темные глаза Романцова, заметил:
— Чувствую я, Алексей Фомич, у тебя по-настоящему крепкая рабочая хватка…
— Так я ж из рабочих и есть. Кадровый сельмашевец из Ростова.
— Вот это да! — оживился Смагин. — Я ведь тоже с Ростсельмаша начинал.
— В какие же годы ты трудился?
— С пятьдесят седьмого по самый шестьдесят восьмой.
— А я с тридцать седьмого до июля сорок первого. Рад, рад такой встрече…
— Что ж, как-нибудь поговорим обстоятельнее, про свои рабочие годы вспомним. А сейчас — спешу, пока…
Смагин крепко пожал Романцову руку, твердой походкой зашагал к машине.
«Посмотрим, посмотрим, — вслух рассуждал сам с собою Романцов, меря кабинет шагами, — а что? Все может быть. Хорошо все-таки иметь добрых соседей, великое это дело…» Лицо его светилось довольной улыбкой. Директор так размечтался, что не услышал ни того, как в дверь к нему постучали, ни того, как с ним поздоровались, — повернулся и увидел в дверях Наталью Илюхину с выражением любопытства на смуглом красивом лице.
— Проходи, проходи, Наташа.
— Передали мне, чтоб пришла… Вот…
— Садись, — Алексей Фомич выдвинул один из стульев из-под стола. — Смотрю я на тебя, доченька, и никак не пойму, на кого ты больше похожа: на отца или на мать… Мы ведь с отцом твоим Василием Андреевичем, нельзя сказать что друзьями — добрыми приятелями были когда-то. Душевно с ним встречались. Книжник он был, не дай бог какой, и меня приучил…
Романцов отодвинул с угла стола какие-то бумаги, подвинул кресло, сел сбоку.
— Я вас тоже хорошо помню, — осмелела Наташа. — Когда вы у нас бывали, о чем-то разговаривали с отцом, тогда вы еще были без усов… А похожа я наверняка все-таки сама на себя.
Алексей Фомич опять улыбнулся, показывая желтые прокуренные, но еще крепкие зубы.
— Да-а, без усов… и помоложе. Ну, ладно! — Он смерил Наталью пристальным взглядом, без обиняков спросил: — Хочешь работать в библиотеке?
Наталья в нерешительности пожала плечами:
— Хотелось бы, чтоб по специальности все-таки. А потом — сумею ли?..
— Ну, это беда — не беда. Сумеешь, есть кому помочь на первых порах. А на пост фельдшера мы тебя и будем иметь в виду. В библиотеке побудешь, пока не освободится место. Как только освободится — принимай дело. По рукам?.. — Романцов мельком взглянул в окно, в глазах его промелькнули холодные искорки. — Если к этому времени, конечно, никуда не уедешь, — закончил он.
— Алексей Фомич, — заговорила Наталья, она понимала, что намек был на ее отъезд из Починок на Восток, — я ведь понимаю так, что уехать можно лишь ради учебы, не иначе.
— Видал, — подхватил Романцов, обращаясь к вошедшему в это время в кабинет Самохину, — слышал, Петр Ильич, что она сказала? Парторг развел руками.
— По ее словам выходит, что все сбежавшие от нас на новостройки, в город и иные места — уехали чуть ли не с единственной целью — учиться! А Пинчуки из Починок, а Лукины, а Титовы, а Шестерневы?.. Вот она же, Шестернева Евдокия, до последнего времени заведовала библиотекой. А тут, видите ли, две недели назад подала заявление на расчет: «Муж устроился на карьере, переезжаем в Петровск».
«Эх, — подумал Алексей Фомич, — забыл поговорить со Смагиным, чтобы они не очень-то переманивали наши кадры. Надо ему позвонить».
— Шестерневы не едут, остаются, — сказал Самохин, усаживаясь на стул напротив директора.
— Да-а? — Романцов удивился. — Что так?..
— Длинная история. Мы не раз беседовали с самим Шестерневым, убеждали. Мол, ты ведь лучший работник на ферме, к чему тебе этот карьер? Он стал была колебаться, а в последний момент, когда узнал, что разряд ему дадут только третий, а не четвертый, как обещали, а главное, с квартирой, сказали, надо подождать год, а то и больше, — тут он и раздумал. Но главное тут не в нем, а в ней…
— А как же теперь с Шестерневой? — Романцов не понял, что значит — не в нем, а в ней.
— В том-то и дело, что когда ей, Евдокии, предложили там работу распреда на участке — она наотрез отказалась. Что я, говорит, буду тут у вас с бумажками бегать. Мне, говорит, у себя надоело с книжками возиться. О библиотеке она и думать не хочет. Я, говорит, лучше пойду снова на ферму дояркой, люблю и поработать и заработать — тоже.
— Вот те и на! — Романцов посмотрел на Наталью так, что трудно было разобрать: то ли он был доволен, то ли безразличен.
— Хорошо, — сказал он Илюхиной, — принимайся за работу. Зайди к Никитину, он все расскажет, покажет. Не забывай и нашего секретаря, вот он сидит, к нему обращайся за советом и помощью, а если надо — милости прошу ко мне.
Илюхина ушла, а Романцов с Самохиным еще долго обсуждали положение дела. Действительно, многие, особенно молодые сельчане, норовили при случае покинуть совхоз…
— Конечно же, — горячился Романцов, — мы еще не совсем много делаем для того, чтобы создать человеческие условия, но и не так-то мало. Ясли-сад построили, школу расширили, библиотеку переоборудовали, закупочную открыли. Дом культуры возвели, первые четыре дома строим, — загибал он пальцы, поглядывая на Петра Ильича.
Тот сидел молча, лишь в знак согласия слегка кивал головой.
— И не просто Дом культуры, — возбуждался Романцов, — дворец настоящий со зрительным залом почти на пятьсот мест, фойе и комнатами для всяких там кружков да студий… А условия для работы, а льготы для учебы?.. Стипендию совхозную ввели…
— Так, так, — соглашался Самохин, — только все это считай что ничего не сделано.
— Как так? — опешил Романцов, всматриваясь в широко раскрытые глаза секретаря. — Вгорячах он ничего не смог сказать, так и сидел с полуоткрытым ртом. Алексею Фомичу было бы не так обидно, если бы сказано было это в сердцах, сгоряча, а то — с улыбкой. Да, Самохин улыбался, но возражал директору вполне серьезно. По глазам видно.
— Выходит, все то, что я перечислил, не сделано?
Слабая улыбка на лице секретаря погасла.
— Этого я не хотел сказать и не скажу. Все, что вы перечислили, — сделано. Но этого ведь очень и очень мало.
— Что же ты предлагаешь?
— Я хочу лишь сказать, что причин привходящих, способствующих создавшемуся положению, гораздо больше сделанного нами. Вы не сердитесь, Алексей Фомич, — продолжал Самохин, — разговор у нас о деле таком трудном и серьезном, что и подступать к нему, кажется, боязно. Я, например, прекрасно понимаю, что тут одним махом убивахом не обойдешься. Верно ведь?
— Да, — отозвался Алексей Фомич.
— Но подступать надо! Не берусь, да это и действительно невозможно одним взмахом разрубить узел, но одну жилу этого узла, причем существенную, мы можем с вами подточить основательно. Конечно, узел этот имеется в виду в своих хотя бы масштабах. Вот она, жила, — он показал в окно, где кроме здания школы ничего не было видно.
Романцов непонимающе посмотрел на собеседника.
— Простите, Алексей Фомич, я не очень вразумительно выразился, но имел в виду именно школу, понятно — не здание само по себе, а школу как таковую. Все это хорошо: и то, что мы ее расширили, и то, что трактор Т-40 списали и школьникам отдали. Я ведь, признаться, первое время был не особенным сторонником этого. Директор школы убедил. А сейчас вижу: верно поступал тогда Виктор Михайлович, настоял-таки он на этом, и правильно сделал. Теперь неплохо поскорее бы им грузовик выделить. Пусть ребята приучаются к машине. В этом главное, как я понял.
А вот сколько раз просили нас и завуч, и сам Виктор Михайлович прийти к ним, побеседовать с ребятами о жизни вообще, о жизни села, о будущем. Сколько раз я вам напоминал об этом?! Нам — все некогда, все дела… Ведь это же и есть наша кузница кадров. Сегодня школьник-восьмиклассник, а завтра — наш рабочий, полевод или механизатор. Понятно, не всех мы можем сагитировать, да этого и не требуется. Пусть из десяти — два человека будет. Это уже здорово.
«А что, верно он толкует, — думал про себя Романцов, — сколько раз я обещал, а ни разу не сходил, не выбрался в школу к ребятам. Прав секретарь…»
18
После мучительных раздумий, душевных колебаний, Митрий все же больше склонялся к тому, чтобы подождать со своим отъездом в Петровск до осени. «Закончу уж год в совхозе. А то пойдут разговоры — вот, мол, какой — и сезона не отработал, ушел. Да и колодец можно соорудить за это время», — думал он.
Беспокоило лишь одно: что он будет отвечать Федору, который завтра будет в Починках и заявится за ответом. «Не впервой, — рассуждал он, — скажу, что осенью еду, твердо решил. Зачем торопиться? Поспешишь — людей насмешишь. Заодно посмотрю, как он сам приживется на этом самом карьере. А то, может, и он не придется ко двору. Всяко бывает…»
Казалось, в этот день все складывалось к тому, чтобы утвердить Митрия в его решении подождать до осени. Не успел он подойти к конторе, куда направлялся на наряд, — встретил соседа Буряка.
— Здорово, кум, — как-то радостно и не в меру громко басил тот, хотя никаким кумом никогда Митрию и не доводился, — случай-то какой. Отметить надобно…
— Что за случай?..
Буряк недовольно хмыкнул, презрительно, как показалось Митрию, посмотрел на него и вынул из кармана пачку трехрублевок.
— В отпуск иду, вот какой случай.
И словно горячей волной обдало сердце Митрия, какими же радостными и желанными стали вдруг для него эти слова соседа, простые слова: в отпуск иду… Он осознал вдруг, что и сам-то теперь ведь совхозский человек, что и ему полагается теперь отпуск. И он теперь может поехать туда, куда захочет. К дяде, например, в Белгород-Днестровский, на золотые пески, на лиманы… Хотя он об этом слышал и раньше, но как-то не задумывался. Почему-то именно при этой встрече, при виде возбужденного и радостного соседа ощутил эту же самую, в сущности своей такую земную и простую радость рабочего человека, которому после трудового года представляется случай на короткое время забыть обо всем, что всечасно его занимало, просто отвлечься, отдохнуть.
— Ну? — смотрел вопросительно на Митрия Буряк.
— А-а, была не была, — махнул рукой тот. — Кирпоносов будет, и ладно.
— Идем!
И они быстро зашагали к закусочной, открытой в Починках два года назад в каменном здании, что осталось от бывшей прицерковной сторожки.
— Катюше наше с кисточкой! — уверенно поприветствовал Буряк буфетчицу.
— Заявился, не запылился, — недовольно проворчала не по годам располневшая, румяная Катя, известная в Починках как самая опытная торговая работница, побывавшая и в сельмаге, и в продмаге, а теперь вот заправлявшая делами в закусочной.
— Два по сто пятьдесят и бутерброды, — потребовал Буряк.
Катя взяла в руки мензурку, влила в нее вино и вылила его в стакан с такой ловкостью, что ни Митрий, ни тем более Буряк, уже подвыпивший, ни кто-либо другой ни за что не смогли бы заметить недолива.
— Ну и Катька, прямо-таки актерка, — констатировал Буряк быстроту ее рук.
— Давай, давай, гуляй, отпускник.
— Еду в Ростов, — сообщил сосед Митрию, когда тот выпил и стал закусывать, — к брату, — уточнил Буряк, видя, что Митрий не совсем его понял. — Надо повидаться, да и купить: то да се. Попытаю счастья, может быть, Уральца достану. Во — машина! Самая что ни на есть для нашей местности. А может, по путевке уеду, если дадут.
— Машина что надо, — согласился Митрий.
— Не знаю, писал как-то братан, что есть у него там вроде бы знакомство такое.
— Слушай, Павел, ты ведь давно в совхозе? — перевел Митрий разговор на другое.
— Ну.
— И все во втором отделении? У Грызлова?
— Во втором, только не у Грызлова.
— Как это во втором, а не у Грызлова?
— А так, — вытер Буряк губы бумажной салфеткой.
— Вот я и спрашиваю — как?
— Сняли его — вот как.
Такого Митрий не ожидал, он осторожно поставил стакан, не сводя глаз с Буряка, с минуту молчал, не зная, что и сказать. А тот спокойно, как будто ничего особенного и не произошло, достал из кармана кожанки папиросы, стал закуривать.
— Спасибо… Побегу…
— Ты что, — удивился Буряк, — погодь, выпьем еще.
Но Митрия и след простыл.
— Фу-ты, сумасшедший, — Буряк выругался, однако вполголоса, искоса поглядывая на Катюшу, которая с кем-то весело и довольно громко разговаривала.
Когда Смирин подошел к совхозной конторе — наряд закончился. В коридоре — не пройти. Табачный дым, разноголосый говор, смех.
— Вот я и толкую: пусть садится сначала на моем старом поработает. А то получили только что и — ему…
— Конечно, — соглашался другой голос, — поучиться-то на старом оно и полезней, да и просто-напросто разумнее. Зачем гробить-то новую машину?..
— Об том я и толкую…
— Алексей! Алексей! прошу к нашему шалашу! — звал кого-то сиплый до хрипоты, почти свистящий голос.
— Нет, нет, никогда ты в таком случае не снимешь его, пласт-то, хоть как ни опускай хедер.
— А как же тогда?
— А так же, слушай, да на ус мотай…
— Сосед, дай закурить!..
— Чего толкаешься?
Митрий втиснулся в толпу, в углу заметил Титова, Лукина, Кирпоносова.
— Ты чего не приходишь на наряд? — спросил Василий.
Митрий объяснил, что торопился, да пришлось вот задержаться по одному делу. Говорил, а сам прикидывал в уме, как бы поточнее разузнать насчет Грызлова, уж на летучке об этом, видимо, говорилось. Он не хотел об этом спрашивать напрямую. Еще на смех поднимут, знают ведь о его стычке с управляющим. «Если это правда — сами скажут, — подумал Митрий, — подожду, все равно разговор зайдет, не может не зайти». Только он подумал об этом, как Титов, широко растянув мясистые губы и дурашливо улыбаясь, сказал:
— А друга твоего тю-тю, стало быть…
— Какого друга? — нарочно сурово сдвинул брови Митрий.
— Грызлова-то.
— Не по шапке, а сам он подал заявление, в город уезжает, — поправил Лукин, — в торговлю идет.
— Пойдешь в торговлю, коли прижмут.
Пока Титов с Лукиным спорили, уточняли, что и как, Кирпоносов стоял слушал, но в разговор не вступал, а Митрию разговор этот и вовсе представлялся теперь никчемным — главное для него было ясно: Грызлов действительно уходит. Эта самая мысль подогревала его изнутри, и он с облегчением вздохнул, когда наконец Кирпоносов произнес:
— Да хватит вам, лучше выпить пойти.
— В буфет свежее пиво привезли только что. Сам видел, — поспешил подтвердить Митрий.
— Оно и видно по твоим усам, что привезли, — заметил Титов, все так же дурашливо улыбаясь.
Вернулся Митрий в тот вечер домой в хорошем настроении. Но все же что-то тупой занозой кололо сердце. Не успел он раздеться, как пулей влетел из горницы в кухню Дениска, приник к отцовскому бедру, пахнущей мартовскими ветрами куртке. «Соскучился, — подумал Митрий, — два дня, считай, не видел: уходил, когда тот еще спал, — приходил тоже поздно». Он потрепал колючий ершик волос на голове сына. Разделся.
Марина хлопотала над столом, готовила ужин. Митрий достал из кармана две небольшие шоколадки, оказал сыну:
— Это тебе и Леночке.
Тот взял и снова пулей убежал в горницу.
— Завтра куда? — спросила Марина, оторвавшись от стола.
И будто током ударило Митрия прямо в сердце. До чего же знакомо прозвучал ее вопрос. Нет, голос нисколько не был похож на голос Илюхиной, но интонация, поворот ее головы, взгляд пристально-испытующий — было во всем этом что-то напоминающее почему-то ее, Наталью. Митрий даже присел на широкую скамью от неожиданности. И все это было лишь один момент, какие-то доли секунды.
— Как и вчера, — ответил он, чувствуя, что краснеет, и стал внимательно всматриваться в склоненную над столом фигуру жены, пытаясь найти это, только что так неожиданно утерянное видение сходства. Нет, ничего общего не было между ними и не могло быть даже отдаленного сходства. Это он знал. Так почему же так ему показалось? Почему?.. Он ведь никогда и не сравнивал Марину и Наталью между собой, потому что было бы это никчемным делом, ибо невозможно сравнить несравнимое. Просто-напросто ему это никогда не могло прийти в голову. Тем более интересно знать: почему так вдруг показалось, почудилась в Марине Наталья? Чувство это незримым грузом давило на сердце. Всматриваясь в профиль лица жены, Митрий вдруг заметил, чего, кажется, и вовсе не видел до этого, — ее слишком уж вздернутый нос. Раньше, как ему казалось, чуть-чуть вздернутый ее носик, напоминающий небольшой изящный дамский сапожок, придавал ее подвижному лицу еще более бойкое, живое выражение. При ее веселом нраве, неровном характере он и не мог быть иным, а теперь он казался слишком уж вздернутым, придающим лицу ее, как казалось, несколько легкомысленное выражение.
Митрию стало вдруг так неловко, словно кто застал его за каким-либо непристойным делом. Он надвинул на лоб шапку и торопливо стал одеваться.
— Куда? Ужин готов, — обернулась Марина.
— Я сейчас, скотину погляжу, — сказал он, не оборачиваясь.
Спать легли в доме Смириных в этот вечер рано. Еще не было и четверти одиннадцатого. Митрий хотя и сильно устал за последние дни, но уснуть долго не мог. Сперва дважды мяукала кошка, и он поднимался с постели, выпускал ее на двор и впускал обратно, потом где-то за сараями лаяла собака Титовых. А тут еще мысли одна за другой, бесконечной цепью тянулись и теснились в голове. То ему представлялась снова Наталья, последняя встреча с нею, когда она опять так же, как казалось ему, твердо и решительно отвечала: «Нет. Не надо. Так будет лучше…» Эти слова запомнились ему так отчетливо, что он мог не вслух, а про себя, конечно, произнести точно так же, как они были сказаны ею. А что, собственно, хотел Митрий. Он и хотел-то всего-навсего где-нибудь, не на ходу, конечно, встретиться и спокойно, а главное, не спеша обо всем с ней поговорить. «А что, собственно, говорить-то?» — спрашивал Митрия другой Митрий. «Действительно, — соглашался первый, — что говорить?»
Мысль о том, что с Грызловым теперь не придется больше работать, успокаивала его: «Хорошо, что он уходит, работать я бы с ним ни за что бы не стал…»
Часы уже давно пробили двенадцать, а Митрий все ворочался и ворочался. И вдруг представилось ему, что живет он в Петровске в новой квартире. Все, и Марина, к ребятишки рады и довольны новым жильем. «Па-а-п! — кричит Дениска, — п-а-ап! Смотри, как я плаваю, смотри же!..» Глядит отец и не насмотрится, как сынишка отчаянно бьет ногами в воде. Даже Леночка, хотя она и гораздо старше, с завистью и нетерпением слушает эти выкрики и плеск воды. Ей тоже хочется поплескаться, и она ждет не дождется своей очереди.
Представляется ему, как они с Мариной утром выходят вместе на работу. Он встречает на перекрестке Федора, а Марина машет им на прощанье, так как ей надо торопиться к детсаду, а им — на карьер. Он, конечно, смутно и не совсем ясно может вообразить свою новую работу, но видится ему большая чашеобразная яма, на дне которой поблескивает холодными гранями камень. Надсадно ревут мощные КрАЗы, дружно бьют отбойные молотки, мерно движется широкая лента транспортера, бойко ворочают массивными хоботами экскаваторы. Разгоряченной пылью, гарью, металлом и камнем дышит карьер, в котором теряются, тонут человеческие голоса…
И вдруг тут же картина эта сменяется другой. Видится ему привычное: как ранним утром, когда еще солнце не успело оторваться от ржаного, розовеющего на заре поля, когда еще на колосьях, на самых кончиках остьев висят прозрачные капли росы, стоит он с агрономом у края полосы. «Эк, ее вымахало», — говорит агроном и срывает несколько колосьев, отводя рукой остальные в сторону от подбородка. Митрий шагает вглубь от обочины и тоже выбирает колосья — так, как учил его еще отец: три самых крупных, три — средних и тех, что помельче… «Завтра можно начинать, — скажет агроном. — Почин будем вести вон с того верха…»
Какие это необыкновенные минуты!.. Много лет подряд, из года в год Митрий вел и первую борозду, и первый прокос, но всякий раз, с каждым годом, все более и более волнующими и, главное, незабываемыми и неповторимыми были эти минуты. Каждый раз он как бы заново переживал трепетное волнение и первого выезда в поле, и сборов, и напряжение многодневной подготовки к нему.
Вот они вышагивают на дорогу, колосья в руке Митрия словно живые. Как ни крепко зажал он их в руках, а уж два из них совсем вылезли из крепко сжатого кулака нижней частью своей, тем концом, где торчит короткая трубка стебля. Мелкие, невидимые зазубрины остьев, словно зубья храповика, помогают им двигаться вперед и ни за что, ни за какие силы — назад, против остьев. Митрий берет их другой рукой, ощущая упругость и тяжесть налившихся зерен. Он испытывает такое чувство, словно держит в ладонях трепещущих ершей, только что выловленных из ольхового омута речки-безымянки. Колосья мнутся, и вот уже на ладони Митрия лежат, матово поблескивая и серебрясь, крупные, еще свинцово-мягкие, тяжелые зерна.
Какой запах может сравниться с этим, идущим от самого колоса и первых ржаных, еще не отвердевших зерен новины?! Злачный дух травы и хлеба, зерна, только что отделившегося от травяной оболочки, дурманит голову и заставляет биться сильнее и чаще сердце хлебороба. Счастлив тот, кому довелось пережить в своей жизни такие минуты, и неизмерно обделен человек, которому, зачастую не по его воле и вине, не пришлось приобщиться к великому таинству природы — зарождению блага, которое все мы именуем хлебом. Это, видимо, о тех, кто в жизни своей ни разу не испытал, не ощутил и не запомнил этих минут, метко сказано, что хлеб для них растет готовыми булками.
Шел второй час ночи, когда Митрий, обуреваемый житейскими думами, преследуемый видениями когда-то пережитых и еще не изведанных, только воображаемых в жизни своей картин, наконец крепко уснул.
19
Собрания, какие проводятся обычно накануне посевной и уборочной страды, для Романцова вошли в привычку. А как же иначе, если не обменяться мнениями о том, что сделано, что упущено и что предстоит еще только сделать? Алексей Фомич смотрел на дело просто и рассуждал примерно так: зачем что-либо менять в раз и навсегда установившемся порядке, когда жизнь сама вносит нечто новое, и в этом всегда заключено отличие одних дел и забот от других, одного года от другого. Сама жизнь как бы привносит поступательность в своем движении вперед…
Самохин же, особенно первое время, наоборот, переживал, что не может обновить эти устаревшие формы работы. Да это и понятно. Он — парторг. И не потому, что был формалистом по натуре, нет. Просто он считал, что надо совершенствовать методы работы не только по существу, но и с формальной стороны. Поэтому он не раз предлагал вместо обычных традиционных собраний проводить, например, совещания по звеньям, практиковать участковые летучки и т. п. На что Романцов всякий раз не то чтобы возражал, не соглашался, а смотрел несколько иначе, но твердо стоял за собрание: летучки и совещания по звеньям, если они необходимы, можно проводить и помимо общего собрания, но они никогда не могут заменять его уже потому, что на собрании все на виду. Тут и те же звенья, и участки, и бригады, где можно сравнивать, сопоставлять, ставить одних в пример другим…
Со временем и сам парторг убедился в том, что именно в самом содержании разговора на собрании заключена некая, что ли, эволюция его развития. Вспоминая прошлые годы, когда он, естественно, еще не был парторгом, а чубатым комсомольцем-трактористом, прицепщиком у такого же почти по возрасту тракториста Василия Кирпоносова, он как будто сейчас видел перед собой те собрания. Проходили они не в Доме культуры, как сейчас, а прямо в правлении. (Дома еще не было.) Люди толпились, да и говорили тогда больше о недостатках. Какие достатки, когда за каждую пару быков спор до хрипоты доходил, не говоря уж о тракторах, которых МТС присылала раз-два, и обчелся, да и те старые колесники. Иное дело теперь.
Зрительный зал заполняется людьми до отказа. Хлопают откидные кресла, раздаются возгласы приветствующих друг друга сельчан, слышится смех. На краю сцены, где в глубине кулис белеет экран, — стол, покрытый кумачовым сукном, графин с водой, слева — трибуна. В центре, наверху — портрет Ленина. Знакомый прищур Ильичевых добрых глаз.
Заполняется зал, а передние места — свободные. Многие норовят сесть сзади, чтобы не на виду у всех.
На сцену вышел предрабочкома Никитин, постучал карандашом по графину, попросил садиться поближе. Откуда ни возьмись Витька-культпривет явился. Заведующий клубом. Лицо озабочено, вид начальственный. Пытался поддержать предрабочкома, да только все бесполезно. Никто не послушался. Ушел и Витя Культепов. Культпривет — это прозвище, заключающее в себе и его фамилию, и должность Витькину — культработника, как он сам себя всегда именует.
Время — шесть вечера, скоро и президиум должен выйти из-за кулис. Митрий с Мариной запаздывали. Вошли в зал и направились вперед, к пустующим местам. Только сели, и тут случилось то, чего Митрий никак не ожидал.
Сзади кто-то спросил, заняты ли места впереди, и он повернулся, чтобы ответить, — перед ним стояла Наталья Илюхина. Глаза их встретились. Митрию показалось, что продолжалось это доли секунды, но почему-то он вдруг покраснел так, что рядом сидящие, в том числе и Марина, не могли этого не заметить. Не прошло без внимания и то, как побледнела Илюхина. В лице ни кровинки. Правда, она тут же овладела собой, опустила глаза и села в переднее кресло. Митрию показалось, что в этот момент все, кто был в зале, видели только его и ее, Илюхину. Даже говор стих разом. А тут еще чей-то бабий шепот сзади: «Вишь ты, что значит любовь. Она и в огне не горит, и в море не тонет…»
Марина и та не выдержала — больно ущипнула Митрия за руку: «Вот тебе, идол. Пылаешь как мак…»
Митрий сидел ни живой ни мертвый. Надо же так случиться. Казалось, как будто и сейчас все смотрят только в его сторону. А тут еще, как назло, президиум задерживается. Время — десять минут седьмого, а собрание все еще не начинается. Витька-культпривет вот уже дважды поднимался на сцену, трогал зачем-то графин хотя тот стоял вроде бы на месте, передвигал стулья, которые тоже находились на своих местах, стояли рядами. Показывает вид, что он тут, а никто другой, хозяин. Это он любит подчеркнуть при случае. Как же, за сотню человек перевалило собравшихся в зале.
«А что я тут преступного сделал, — мысленно пытался успокоить себя Митрий, — что я, кого оскорбил или обидел?..» И все же ему было трудно поднять глаза, посмотреть на собравшихся людей, многие из которых давно уж не смотрели в его сторону, были заняты своими разговорами.
Как-то возвращался Митрий с центральной усадьбы, а Илюхина шла с работы. И хотя шли они вместе всего-то минут двадцать — до Починок тут рукой подать, — поговорить успели о многом. Впервые такой разговор вышел с тех пор, как Наталья возвратилась с Дальнего Востока. Сначала Митрий расспрашивал ее, как она устроилась с работой, осведомился о матери, которую последнее время что-то не видно на селе. Потом перешел к разговору об их неудавшейся судьбе…
Наталья охотно и довольно подробно рассказывала и о своей работе, и о болезни матери, даже кое-что поведала о своем пребывании на Дальнем Востоке. А когда беседа дошла до главного, до того: как быть сейчас, — заминка получилась, вроде бы и говорить не о чем. «Что ж делать, что было — то было. А теперь, знать, судьба такая», — повторила она сказанные ею эти слова ранее. И стала прощаться.
Дорога подходила к концу. В сотне метров уже виднелись в наступивших сумерках решетчатые заборы и белые стены сараев…
Между тем собрание началось. На сцену, за стол стали подниматься вслед за Романцовым — Голованов, Самохин, Никитин, тракторист Титов, управляющий третьим отделением Яснов, кузнец Ага-да-ну, доярка Стеша Лунина.
Митрий несмело кинул взгляд вправо. Никто на него не смотрел. Все были заняты тем, что происходило на сцене. Лишь Буряк, сосед Митрия, что-то горячо пытался доказать сидящему сбоку хмурому, малоразговорчивому Петру Пинчукову.
— Довольно разговоров на свободную тему, давайте по повестке дня. — Никитин улыбнулся, поднял руку с карандашом. А когда все стихло, зачитал и повестку, и порядок ведения собрания, и о регламенте не забыл. В заключение передал слово директору.
Романцов поднялся, положил перед собой малюсенькую бумажку. Митрий удивился даже: как же это он будет читать, как он уместил свою речь на таком клочочке. А тот даже и не посмотрел в нее, стал докладывать собранию, что сделано и что делается. И хотя говорил он об этом не более двух-трех минут. Митрий многое узнал впервые. Для него были новыми и те цифры, что называл директор, и некоторые факты, которые его просто восхитили. Тут, на собрании, он впервые услышал официальное заявление директора совхоза, что хозяйство специализируется и входит в межрайонное объединение, и то, что принято решение о закладке первых четырех двухквартирных жилых домов со всеми удобствами, как и в городе, и что дело это ближайших полутора-двух лет.
— Все это то, что от нас не отнимешь, оно никуда не денется, — сказал Романцов и впервые взглянул на лежавшую перед собой бумажку. — Давайте лучше поговорим теперь, что от нас уходит, прямо-таки как в песок сквозь пальцы утекает. И происходит это не от каких-то там особых причин, условий, а просто-напросто от нашей нерасторопности, просчетов, а то и безответственности. Взять хотя бы наше третье отделение. Заметьте, что это одно из лучших наших отделений. И что же там происходит? В прошлый сезон сто десять гектаров свеклы осталось под снегом, почти четыреста литров недодано молока…
И поехал, и пошел.
Рядом сидящий Яснов сначала побагровел, потом стал белым как мел. В зал смотрел не прямо, а в сторону, поверх голов сидящих. Никак не ожидал он такого от Романцова. Все-таки отделение самое лучшее. А тот — хитер: измывался, измывался, а потом и говорит:
— Это у Яснова так, а что ж ожидать от остальных?..
И стал перечислять да сравнивать, только смех по залу прокатывался. Вот человек, никого не пощадит, будь ты ему хоть кум, хоть сват, хоть черту брат.
А потом слово дали Голованову.
Митрий только теперь решил перевести мельком взгляд в сторону Натальи. Та сидела не шевелясь. Гордая посадка головы, конусообразная, высокая прическа, ряд тугих роговых шпилек, шелковистые завитки волос на ее точеной смугловатой шее, родинка на щеке, ниже уха.
Главного агронома Митрий почти и не слушал. И не потому, что говорил тот довольно скучно, в отличие от Романцова, — просто он думал о своем, хотя и слышал, как тот говорил о нарушениях агротехники. Потом он доложил собранию план весеннего сева, сколько будет занято людей на том или ином участке, сколько на все это потребуется затратить человеко-дней и в какие сроки. Уточнил нормы выработки на каждого человека, на машину, на агрегат.
Посыпались вопросы. Вот тут-то и началось. И все это после того, как была объявлена примерная разбивка техники по управлениям и участкам. Заспорили управляющие, подали свой голос полеводы участков, учетчики, механизаторы… Каждому подай автомашину, трактор и агрегат в первую очередь:
— Я и говорю, что Егоров может обождать… У него — низы. Что ему поперек батька лезть? — сокрушался кто-то.
— Ну, прямо-таки настоящая карусель выходит каждый раз. И машины первому ему, и сеялки — тоже. А другим?..
— У нас четыреста гектаров, а у них трехсот нет. Так почему ж им две, а нам одна машина? Убей или зарежь меня, все равно не пойму, — возмущался простуженный сиплый голос.
И на всем этом фоне явственно выделялись два одинаково высоких тенора:
— У нас — «Беларусь»!
— А у вас?
— У нас ДТ.
— Ну и что ж?
— А то же. Возьмите его себе.
— Сравнил.
— Вот и да, что сравнил. Лучше на «Беларуси», чем с этим ДТ возиться. Полдня работаешь — день ремонтируешь.
— Работать уметь надо.
— Еще и тебя научу…
Ведущий передал свое слово парторгу.
— Ну, довольно! — поднялся Самохин. — Хватит! Подетально все обсудим в рабочем порядке, не на собрании же решать по каждой машине?..
Собрание закончилось бурно. Вот уж все вышли из зала, а в фойе и коридоре не только не утихали дебаты, наоборот — они разгорались с новой силой. Так почти всегда получается: сперва каждого раскачать трудно, а как выступит один-другой да заденет третьего-четвертого — тут держись.
Митрий, пользуясь минутой, заторопился домой, ему не хотелось, как обычно раньше, здесь оставаться. Да и Марина толкнула локтем в бок: пойдем, мол, нечего тебе тут глаза мозолить…
К дому шли молча. Он хоть и недалеко, а и за эти минуты трудно было обоим, чтобы не сказать друг другу слово. Митрий хотел было заговорить, но не знал, с чего начать этот разговор. Марина тем более — как в рот воды набрала. Сердце ее давила обида, хотя она и понимала, что Митрий тут не виноват. Мало ли что бывает в жизни. Тем более все это случилось задолго до их первой встречи. Мысленно она перебирала в памяти своей подобные примеры, иные случаи. Вспомнилась ей бывшая соклассница ее, Вера Колесникова, которая даже ребенка лишиться решалась, когда узнала, что муж ее встречается с бывшей своей нареченной. А потом все обошлось, уладилось — и живут они теперь в Коврево припеваючи.
И все же что-то ненавистное ей угадывалось не только в фигуре, но и в каждом движении мужа, молча шагающего сбоку. Не нравилось ей и то, как он останавливался, чтобы прикурить, и его нос и губы, выхваченные из мрака вспышкой спички, и пальцы рук, багрово краснеющие над языком пламени. Да и откашливался он после нескольких затяжек, казалось, слишком долго и хрипло до сипоты, а запах табака был таким едким и противным, что она несколько раз даже отворачивалась.
Митрий шел не торопясь, он был, казалось, спокоен, а на самом деле его тревожили последствия этой встречи. Вихрем роились мысли. Со скрупулезной точностью и последовательностью мысленно восстанавливал он во всех мельчайших подробностях эту встречу. «Покраснел как мальчишка, — ругал он себя, — даже Марина ущипнула и прошептала: как мак пылаешь…»
С тех пор как Илюхина вернулась в Починки, Митрию, как он считал, так и не удалось поговорить с ней по-настоящему. И та первая встреча, когда он догнал ее на мотоцикле; и последняя, как шли они, он из центральной усадьбы, она с работы; все, что она говорила, — ему казалось, что она делала это лишь в силу необходимости, не открывая то заветное и желанное, но и вместе с тем и трудное для них обоих желание страстной несбывшейся любви. Показалось, будто сызнова вдруг взглянула она, его Наталья, из вечерней темноты. И он снова в такие же доли секунды, как и два часа назад уловил ее взгляд, этот ему только известный и понятный свет ее глаз. И снова он почувствовал, что краснеет.
Он понимал, что именно этот ее молниеносный взгляд заставил его так покраснеть и сейчас, и тогда при людях на собрании. Именно он заставлял часто думать о ней. И было от этих дум и радостно и тревожно. Митрий догадывался, что прежние чувства Натальи к нему не совсем угасли, а может быть, они разгорались с новой силой, как она их ни старалась скрывать. И ему хотелось и не хотелось, чтобы они вновь для него раскрылись с такою, как тогда, юной силой и пламенностью.
— Аршин проглотила? — спросил он, когда вошли во двор.
Марина промолчала.
Молча пили чай. А потом она не ушла, как обычно, в спальню, а легла спать на диване, рядом с Леночкой. Так она всегда делала, когда у них с Митрием случались размолвки.
Хозяин еще долго сидел на кухне, курил и опять долго думал.
20
Ох уж эти первоапрельские шутки! И чего только не наслушаешься за день. И о приезде брата твоего из далекого города, и о том, что тебя спрашивает жена, забывшая захватить ключи от квартиры, и о телеграмме, которая якобы на руках почтальона, что разыскивает тебя повсюду. И вот ты выскакиваешь в коридор, с надеждой увидеть брата, потом жену, потом — почтальона. Дважды подходишь ты к телефону и с замиранием сердца прикладываешься ухом к трубке с мерными гудками вместо такого дорогого и знакомого до единой нотки голоса твоего любимого начальника, который будто бы не мыслит своей деятельности на благо государства, предварительно не поговорив с тобой. Попадешь впросак ты и на третий раз, не подошедши вовремя к этому самому телефону, когда тебя действительно кто-то добивается.
Но все это продолжается один только день.
А вот когда апрель-шутник сам станет выкидывать штучки — и не один день они продолжаются, — тут бывает и не до смеха. А удумал он в этом году и в самом деле смешное: чуть ли не на двадцать дней раньше обычного растаял и сошел снег. Потом наступило такое тепло, какое и в мае не всегда случается. Выше двадцати пяти, почти под тридцать отметок поднимался столбик термометра. Земля курилась словно слежалый навоз на солнцепеке. Показались желтые звездочки одуванчиков, проклюнулись клейкие листочки тополей, зазеленела трава, проснулись от зимней спячки мухи.
Старики говорили, что когда-то случалось примерно такое, но чтобы так вот именно, как в этом году, — не помнили. Разделились во мнениях на этот счет и газеты. Одни утверждали, что подобное бывает раз в столетие. И приводили тут же тому примеры, когда такое было. Другие писали, что случается такое еще реже — через полтораста лет, — и тоже указывали годы. Но пока шла полемика, подули такие сильные и холодные юго-восточные ветры, что люди оделись в зимнее. Чудно как-то получается: в затишке солнце припекает, а на юру ветер знобит. А главная-то беда не в этом, а в том, что пашни и огороды выветриваются. Боронованием всю влагу не удержишь. Тут не то что синоптики — бывалые хлеборобы и агрономы растерялись: ну-ка угадай теперь сроки сева. А он знай себе дует день, и другой, и третий. Эдак всю влагу из земли выдует.
Наконец наступил день, когда ждать больше нельзя. Посевную надо начинать — в этом мнении сходилось явное большинство сельчан. Да и район уже забеспокоился: что сидите. Соседи вон начали? А и вправду: и «Луч», и «Октябрь» еще вчера вышли в поле. И ветер стал утихать. Снова потеплело.
Завтра выезд. Но уже накануне вечером собрали летучку. В кабинете Романцова — командиры всех подразделений, всех участков. Еще раз уточняются технологические карты, нормы выработки, подсчитываются люди. На учете каждый человек, машина, агрегат. Все озабочены одним: как бы чего не упустить, не забыть. До позднего вечера сидели. Советовались, доказывали, спорили. А Романцов с Головановым да Самохиным — те просидели чуть ли не до полночи.
— Ну, все, — Романцов устало поднялся из-за стола. — Завтра, как и договорились: я — во втором, ты — в третьем, а ты — в первом отделении. А теперь отдыхать…
Коротка весенняя ночь, а для Романцова она еще короче. Ни свет ни заря поднялся директор по старой армейской привычке. Еще никто, кажется, и не выходил из дому. Разве лишь доярки раньше директора поспешали на ферму. Да и тех он увидел, как шли гурьбой к речке-безымянке.
— Доброе утро, девчатоньки!
— Здравствуйте, Алексей Фомич!
Улыбаются молочницы. То ли заря на щеках играет, то ли так только кажется Фомичу. Особенно вон у той, Валентины Буряк, что бордовый платок по самые темные брови надвинула.
Прошел Романцов на совхозный двор. Посмотрел машины. Часть техники еще позавчера отправили на дальние поля, на боронование; на ближние пойдет сейчас своим ходом. Зашел в кабинет: очки вчера впопыхах забыл, оставил на столе. А без них директор что без рук.
В коридор вошел — стучит кто-то уже в соседнем большом зале. Заглянул — Самохин бланки листов-«молний» в трубку сворачивает.
— Здорово, парторг.
— А-а, не спится, — поздоровался Самохин. — «Молнии» сегодня по отделениям выпустим, — пояснил он.
— А зачем четыре?
— Так четвертая общесовхозная будет, чтоб итоги подвести, обобщить.
Романцов понимающе махнул рукой, опустил мохнатые брови: дескать, как это я сам не догадался.
Когда Алексей Фомич спустя несколько минут вышел, чтобы заскочить домой и, хотя бы не перекусить, то выпить чаю, — во дворе второго отделения уже было многолюдно. Слышались голоса механизаторов, смех, шутки. У трактора с навесом, где столпилось особенно много людей, — вдруг затарахтел мотор. Сизые клубы дыма вместе с хлопками кучно вырывались из трубы, таяли в утреннем воздухе.
Директор торопливо зашагал к дому. Вошел на кухню, наскоро выпил стакан крепкого чаю с пирогом. Он любил чай с пирогами. На предложение жены съесть яичницу или котлеты, сказал: некогда — и ушел со двора, за угол палисадника, где, как и было условлено, его ждал Пашка Лемехов.
— На второе отделение, — сказал Романцов, поздоровавшись, — а по пути завернем в зерносклад.
— Есть в отделение и по пути на склад. Натурально к конторке? — уточнил Лемехов.
— Можно и натурально, только к конторке обязательно, — улыбнулся в усы директор.
Узнав, что семенное зерно отпущено всем в нужном количестве, как и было намечено, он успокоился. Привык доверять, но и проверять. И это никогда не мешало. Наоборот, мало ли бывает и не от злого умысла.
— Отсюда брали? — спросил он девушку-лаборантку.
Та утвердительно кивнула головой.
— Ну-ка, доченька, дай пробу.
Романцов долго держал на ладони зерно, внимательно его рассматривал. То снимал очки и подносил ладонь к самым глазам, то — наоборот, надевал их и вытягивал перед собой руку.
Так и не знала девушка: остался ли доволен директор кондицией зерна или нет, а спросить почему-то постеснялась. Но, видимо, доволен, потому что хотя и не сказал ничего, но зато ссыпал с ладони зерно на чашу весов, а несколько штук бросил на язык, пожевал и произнес односложное — д-а-а. Но таким голосом, что как хочешь, так и понимай это да. И все же казалось ей, что сказано это одобрительно.
К тракторному стану Романцов подъехал как раз вовремя. Все были в сборе. Заправленные тракторы с сеялками, наполненными зерном, стояли на исходных позициях.
У Романцова был свой собственный обрядовый обычай проведения этого торжественного хлебопашеского акта — начала сева. Прямо тут же на стане устанавливался небольшой стол, покрытый широким полотенцем. К столу подходили поочередно агроном и его помощники, управляющие отделениями, главный инженер, механики, трактористы. Они докладывали о состоянии почвы, готовности техники и людей к севу.
Директор подавал знак рукой — и тут же открывалось полотенце, под которым на столе лежал большой круглый каравай хлеба, испеченный накануне бабкой Егорихой, единственной женщиной, которая не любила лавочный хлеб и выпекала его дома в русской печке. Тут же стояла огромная деревянная солонка с солью — хлеб-соль всем хлеборобам, начинающим сев. Каждый брал по краюхе, посыпал солью. Причем, перед тем как съесть, все поздравляли друг друга с полем.
Не раз Алексею Фомичу замечали, что поздравление это с полем позаимствовано им у охотников, которые при первой удаче так говорят, а случается, тут же и выпивают по чарке на крови. Но всякий раз, Романцов отвергал такие доводы. Он растолковывал, что охотникам нынче там, где посевы, делать нечего. Что их удел — леса и перелески с опушками да берега рек и озер — не более. А поздравление с полем по полному праву может принадлежать только сеятелю-хлеборобу.
Романцов взглянул на часы. Было четверть восьмого.
— Ну, в добрый час Никитич, — обратился он к управляющему, — начали!
Не любит директор в первые же минуты быть на глазах у сеяльщиков. Мало ли что бывает, когда идет отладка техники. Сами разберутся. Он был уверен, что без начальства дело всегда лучше спорится. И поэтому, надвинув на лоб фуражку, зашагал к вагончику на металлических колесах с широкими ободьями, где уже хлопотала у кухонного стола Матвеевна, подвижная женщина лет пятидесяти семи, кухарка, как по старой привычке ее величали.
— Как меню? — спросил Алексей Фомич, поздоровавшись.
Матвеевна вытерла передником руки, взяла тетрадный лист в косую линейку и подала его директору.
— Обед, — читал тот, — борщ с бараниной. Котлеты с макаронами. Молоко. Компот. Ужин: каша-сливуха. Творог. Чай…
— Мясо свежее?
— Вчера только забили.
Матвеевна открыла клеенку, под которой на больших подносах лежала баранина в целлофановых пакетах.
Директор проверил хлеб, попробовал на вкус творог, хранящийся тут же в больших эмалированных кастрюлях, — довольно прищурил глаз.
…Рабочий день был в полном разгаре, когда Наталья с нехитрым багажом газет, журналов и брошюр переезжала с полей третьего отделения во второе. Каурый меринок, запряженный в легкую линейку, шел не то чтобы резво, но и не лениво, а главное, шел ровно. Это успокаивало Наталью. Нилыч, старик конюх, так и объяснил ей, когда готовил в дорогу: «Ты, доченька, не бойся. Запрягу как и следует, а Цыган (так звали меринка) — он дело свое знает, все бригады и полевые станы прошел. Раньше на нем воду возили, так он всю дислокацию назубок изучил…»
Было около двенадцати часов. Солнце то припекало вовсю, то скрывалось на время за летучие кучевые облака, которые редко белели на сквозной синеве апрельского неба. Жаворонки неумолчно звенели в вышине над чернеющими, еще голыми пашнями. Легкий ветерок разносил над полями весеннее дыхание земли и разогретого воздуха, тепло было по-летнему. Но на душе у Натальи было почему-то неладно. «И надо же, — думала она, — послушалась Никитина с председателем сельсовета, не взяла книг…» Когда она посоветовалась насчет литературы, они в один голос заявили: «Кто их книги, читать будет, — некогда. Другое дело газету либо журнал во время перекура — это спросят…»
Приехала на третий полевой стан, раздала газеты, разложила журналы. Вдруг Иван Титов подходит и Спрашивает:
— А где же книги?.. Мне бы Пушкина, «Кавказского пленника» почитать, а то вон мы с Лукиным поспорили: я говорю — Пушкин написал, а он твердит — Толстой…
— Прямо уж тебе всю библиотеку подавай, — заметил Пинчуков. — Газеты некогда посмотреть. Зимой читать надо.
— А ты мне не указ, когда читать, — обиделся Титов. — Я вот сейчас хочу. И нос бы утер Лукину…
И оказал он таким тоном, что попробуй разберись. То ли всерьез, то ли шутит. Все они, Титовы, такие: не поймешь, где у них шутка, а где по делу.
«Ладно, — успокаивала себя Илюхина, — буду спрашивать, кому что надо из книг, вроде заявок, чтобы в следующий раз привезти требуемое…»
Во второе отделение Наталья подоспела вовремя. Еще издали увидела она на полевом стане толпу людей. Так бывает только в обед, когда на вешку сходятся разом все.
Начало сева было неплохим. Из четырех агрегатов — три засеяли до обеда почти по сорок гектаров ячменя и гороха. Перевыполнили дневную норму. Впереди шли Кирпоносов и Смирин. Четвертый агрегат из-за неполадки в одной из сеялок часа два простоял, но и он почти выработал дневную норму.
Сеяльщики, вместе с Романцовым и учетчиком Иваном Гуреевым, сидели за столом в ожидании обеда, горячо обсуждали начало сева.
В это время как раз и подъехала к ним Илюхина.
— О-о, духовная пища! — воскликнул Кирпоносов. — К обеду годится как раз.
Наталья мельком увидела среди мужчин Митрия, сердце ее забилось, и она подумала, что опять бледнеет.
Между тем мужчины вышли из-за стола, разобрали газеты, журналы, тут же, не отходя от повозки, рассматривали. Романцов и тот выбрал себе свежий «Огонек» и похвалил Наталью за оперативность.
К удивлению Илюхиной, о книгах никто и не заикнулся. И тогда она решила все-таки спросить:
— Кто желает получить какую книгу, прошу записаться.
— Что книгу? Журнал полистать некогда…
Подошел Митрий.
— Мне… — он замялся, вспоминая, что ему надо. Достал из кармана комбинезона вместе с пачкой папирос какую-то бумажку, прочитал: — Агата Кристи.
— Обедать! — скомандовал Романцов. — Наташа, с нами за стол.
— Что вы, спасибо, — Илюхина даже побледнела, когда представила, что будет одна среди мужчин сидеть за столом.
Вовремя выручила Матвеевна.
— Иди, Наташенька, подсобнешь сначала мужиков накормить, а опосля и мы пообедаем.
— Ну-ну, — согласился Романцов.
Когда пообедали и все разошлись по машинам, Романцов тоже не вытерпел, поехал сначала в третье, а потом и в первое отделение.
Наталья помогла Матвеевне убрать посуду со стола, потом они обедали.
Давно Наталья не ела полевого борща, который Матвеевна готовила не в печке, что имелась на стане, а специально на костре, в небольшом котле, — и готовила-то на соломе с кизяком, дрова так и остались лежать. На дровах, по мнению Матвеевны, «скус вовсе не тот получался».
Чем-то давним, как воспоминание детства и юности, повеяло на Илюхину, когда она вдыхала аромат полевого борща, дышащего жаром и степным дымком. Ей вспомнилось, как вот так же однажды они вместе с учительницей всем классом выходили в послевоенные годы на прополку свеклы и вот так же обедали в поле…
— Спасибо, теть Паша, за обед. Давно не приходилось вот так на воздухе.
Наталья засобиралась в дорогу. И уже отъехала далеко от стана, но все никак не могла вспомнить: о чем-то она думала, чтобы обязательно не забыть, а вот о чем — и забыла. «Ага, вот о чем, — вспомнила, — Митрию Агату Кристи?.. Не Агату ему надо. Чтоб ему такое подобрать…»
Она перебирала в памяти своей книги, имена писателей, в чьих произведениях показывалась бы судьба, сходная с их, с Митрием трудной судьбой, и чтобы все там заканчивалось… она сама еще не знала, как должна бы заканчиваться такая книга. На память приходила «Анна Каренина» Толстого — не то, «Воскресение» — вовсе… Она думала, думала и не могла ничего придумать. Ладно, время есть, что-нибудь еще припомню, успокаивала она себя. Оглянулась — кругом ни души. Все пашни, пашни, пашни. Лишь далеко впереди чуть виднелись крыши и верхушки деревьев совхозной усадьбы.
21
У Федора Лыкова был отгульный день за работу в одну из суббот, когда он перевозил срочный груз из Петровска в Воронеж. Сперва он думал употребить его, этот день, для рыбалки на Гаврильских плесах, где всегда водились добрые караси и карпы, потом его сбил с толку сосед по дому парикмахер-старичок, вернувшийся накануне с полной корзиной белых шампиньонов, которых, по его Словам, тьма-тьмущая в лесополосе, что разделяет земли Петровска и Починков. Но ни на рыбалку, ей на грибы он так и не попал, а укатил вдруг в Починки, и вот почему.
С тех самых пор, как только колхозы объединились, а Починки вошли в состав совхоза «Рассвет», запала в голову Федора неотвязная мысль: как бы не прогадать, как бы вернуться обратно, с тем, однако, условием, чтобы иметь приличную и вполне соответствующую его запросам работу и, конечно, квартиру в строящихся домах. (Свой дом он успел-таки продать.)
Признаваться в том, что он согласен, более того — хочет вернуться в Починки, Федору не хотелось. Как об этом скажешь, когда всякий раз подчеркивал свою принадлежность к городу? Не хотелось ему признаваться в этом не только Митрию или кому другому, но даже до поры до времени и самому Романцову. Не хотелось, а надо. Иначе как ты будешь осуществлять свой замысел? Лыков прекрасно понимал все это, однако говорить пока ни с кем еще не решался, выжидал чего-то. Решил исподволь вести тихую разведку.
Первым делом он зашел, конечно, к Митрию, сразу же, как появился в Починках.
— Как где? — повторила Марина его вопрос относительно Митрия. — На работе, где ж ему быть.
— Тьфу ты, — выругался Федор, он совсем упустил из виду, что сегодня же рабочий день. Думал, как и у него, — у всех выходной.
От дома Смириных Федор направился к сельмагу, с надеждой кого-нибудь встретить. Все равно делать нечего, а времени хоть отбавляй. И точно: не успел он войти в лавку, как лоб в лоб столкнулся с завклубом Витькой Культеповым, Культприветом.
— А-а, коопторг, привет, привет…
Культепов, как и Федор, скучал от безделья в этот теплый весенний день. И верно: а что ему делать? Афиша, извещающая об очередном фильме, висела еще со вчерашнего дня. Лозунг к Первомаю, который он начал писать на кумаче, натянутом на подрамник, мог и подождать. Время терпело. Витька не любил и не мог действовать по принципу: не откладывай до завтра то, что ты должен сделать сегодня, — скорее наоборот. Вечером — другое дело. Вечером-то и начинается как раз работа у завклуба. Тут надо и киномеханика настроить, чтобы сеансы прошли без сучка без задоринки, как говорится, и за контролером-билетером проследить — не дай бог безбилетников напустит ползала. Да мало ли забот вечером? А сейчас до вечера еще далеко, можно и расслабиться.
— Башка трещит после вчерашнего, — откровенно признался Федору Витька.
Лыков безразличным тоном, как бы между прочим, обронил:
— Башка не ноги, поболит — и перестанет.
Однако вынул из кармана серебряный рубль, ловко подбросил его и так же ловко поймал. Федор прекрасно знал, что у Витьки больше полтинника нет и никогда еще не было, потому и протянул ему именно рубль, верно рассчитывая, что тот возьмет портвейн за рубль тридцать семь, а на остальные горсть карамелей. И не ошибся.
Знал он и то, что тот будет разливать сам, и обязательно у него получится так, что хоть на полстакана, но ему, Витьке, перепадет все-таки больше. Такой уж он человек.
Об этом знали все в Починках. Если Витьке доводилось выпивать втроем, то он обязательно ухитрялся выпить полный стакан, а его партнеры соответственно каждый по две трети. Вчетвером — все равно он выпивал почти полный, а другие по половине — соответственно. И лишь, когда впятером — тут уж он снисходил до двух третей, а остальным меньше чем по половине.
Витька исходил из таких соображений: с одной стороны, собственная якобы занятость, а потому спешка, и опасность выпивок в неположенных местах — с другой. Особенно эффектно получалось, когда приходилось распивать на троих. Происходило это примерно так: Витька брал бутылку в руки, распечатывал ее и, оглядываясь по сторонам, говорил: «Скорее, а то как бы кто не пришел!.. — и тут же наливал товарищу далеко не полный стакан. — Скорее!» Тот, тоже озираясь, выпивал, а Витька тут же наливал другому, причем ровно столько, сколько и первому. (Практика в этом деле была безукоризненной.)
Себе тоже наливал быстро, но только уже полнехонький стакан, льющий почти через края, приговаривая: «Ох, ошибся малость…» — при этом его хитрые глазки, светились всегда довольством.
Было, правда, еще и так, когда он, перед тем как разлить, произносил: «Я — бегу, некогда, скорее!» — при этом наливая себе первому опять-таки полный стакан, залпом выпивая его, а оставшееся передавал товарищам. Но это был у него единственный вариант, отличный от первого, все, на что была способна его фантазия.
Вот и сейчас, когда они прямо из магазина вошли в закусочную, Культепов сказал:
— Скорее, пока никого нет.
Буфетчица Катя была не в счет. Витька с ней на дружеской ноге.
— Ох, руки дрожат, — пожаловался Культепов Федору, налив себе, как всегда, полный до краев стакан.
Федор даже внимания на это не обратил, его занимало другое.
— Слушай, давай-ка сходим на стройку поглядим, — предложил он опешившему Витьке.
— На какую стройку? — не понял Витька.
— Ну, где дома совхоз строит.
— Пошли, — охотно согласился тот, ему куда ни идти.
У строителей — перекур. Кроме четверых штукатуров, среди строителей были две починковские женщины и Андрей Пинчук, которого все величали почему-то не иначе как Андреяном, который был умелым плотником, печником и сапожником.
Федор с Культеповым подсели к нему. Закурили…
— И кого ж тут селить будем? — спросил Лыков как бы между прочим, подчеркивая этим самым «будем», что он тут не чужой.
Пинчук, затянувшись, добродушно посмотрел на Федора:
— Начальство, должно, поселится. Мне, к примеру, так и не к чему это. И в своей избе проживу за милую душу.
Культепов стал вслух перечислять.
— Значит, директор и главный агроном — раз. Три заведующих — два. Главный инженер и зоотехник — три. Ну, и допустим, парторг — четыре. Вот, как раз восемь квартир…
— У них и свои дома неплохие, — заметила одна из женщин.
— Тогда кого же селить?
Федор внимательно следил за разговором.
— Я, к примеру, так считаю, — размял и выбросил окурок Андреян, — ни к чему тут эти дома. А то хотят четырех- да пятиэтажные ставить… Ни к чему…
— Все равно перестроят наши Починки — и не узнаешь, — отозвался все тот же женский голос. — Вот уж при моей-то памяти сколько изменений.
— Да-а, — поддержал ее Андреян.
— Бывало, на нашей улице всегда трава какая зеленая была! Выйдем полотна стлать, на муравушку так и ложим. А теперь где та трава? Машинами выбили — одна пыль в три столба. Куда тут полотна стлать-белить.
— Верно, — согласилась с ней другая женщина, — зато хлеба сейчас чистые. Раньше, я даже помню, во ржи осот да овсюг, а еще раньше — отец рассказывал — и того хуже было. Зато теперь — красота. Не верится даже, что такие хлеба чистые-пречистые.
— А я вот считаю, — вступил в разговор Федор, — что соломенная крыша, например, хоть она, конечно, против железа и шифера не то, а все равно и свои преимущества имеет.
— Это какие же? — недоверчиво взглянул на собеседника Андреян.
— А такие хотя бы, что почти метровая толща ее не так пропускает ни холод, ни жару. Это — раз. Ее не надо, как железную, например, красить почти ежегодно — два. А потом, в случае нужды при бескормице снял ее с жердей — вот тебе и корм скотине.
— Ишь ты, — заметил Пинчук.
— Да и вид был краше. Идешь, бывало, по улице, а избы одна другой нарядней. Та стоит — открытая, вся на виду. А у другой крыша, что твоя прическа под скобку, на окна-глаза надвинута. Журавли у колодцев скрипят — переговариваются… И воробьям раздолье было в соломе-то. А сейчас что? Воробью бедному и тому негде приютиться, под карнизом холодным обитает…
— И дымок над каждой крышей столбом стоял, не колыхаясь, — стараясь угодить в тон Федору, добавил совсем некстати Витька.
Но Андреян как будто и не слушал Витьку, повернулся к Федору.
— Не возьму я в толк, что ты так расхваливаешь соломенные крыши да колодезные журавли, а сам в город подался, живешь под железом с газом и водой?..
— Так я просто… что я… — замялся Лыков.
— Что касаемо меня, то я только против этажей этих. В селе они, по-моему, ни к чему, — рассуждал Пинчук, — а в остальном — все надо: и то, и это, и другое, и третье.
Он посмотрел на часы.
— А насчет железной крыши, что жару и холод пропускает, не держит — вот что скажут накоси сена да и наложь на потолок или соломы той же — вот и выход…
— Ну, пора, перекур кончился, — сказал кто-то.
Андреян поднялся: пожалуй, пора…
— Ты не ворчи, старина, — примирительно сказал Витька, — на, лучше еще закури, — протянул он Пинчуку пачку дорогих сигарет.
Когда они ушли от строителей, Федор все порывался тут же пойти к Романцову. Пока Митрий не вернулся с поля, а я и дельце обделаю, думалось ему. Благо что центральная усадьба — вот она, нет и километра от Починок. А потом все-таки раздумал Федор. «Пойди к нему — сразу учует, что выпил. Знаю я эту старую лису», — вовремя одумался Лыков. И не пошел.
Не попал в тот день Федор и к Митрию. Не успели они с Витькой объявиться у сельмага, как их тут же встретили знакомые Федора, петровские дорожники, что вели трассу Петровск — Бутово.
— Федор!.. Вот это встреча! Ты чего здесь? Ах, да ты ж ведь тутошний, местный, как говорят, — заговорил крепыш, тот, что был с теодолитом на плече. — А мы вот, считай, закончили дело. Перекусить бы с устатку…
— Эт можно.
Как тут Федору было ударить в грязь лицом? И он снисходительно и вместе с тем небрежно вынул деньги.
— Возьмешь, — сказал он Витьке, — и — в кафе…
Культепов с такой проворностью и ловкостью выхватил из рук Лыкова червонец, что строители даже переглянулись.
— Ну и ну, — улыбнулись они.
Сидели они в кафе-закусочной до тех самых пор, пока к вечеру не пришла за рабочими машина и их, не без помощи, конечно, других, еле усадили в машину.
22
Леночка была дома одна. Вернувшись со школы, она не стала обедать, выпила вишневого компота и принялась за уроки. Девочка так увлеклась, что и не заметила, как стрелка часов приблизилась к пяти. «Ой, мне же за Дениской бежать», — вспомнила она, складывая учебники.
Она выбежала на крыльцо, прикрыла дверь и направилась мимо здания школы, за кофе-закусочную и ряд магазинов, где за пустырем, представляющим собою центральную площадь Починок, белело здание детского сада.
Не успела девочка пройти и половины площади, как увидела бегущего ей навстречу братишку.
— Вот и хорошо. Идем…
Взявшись за руки, дети пошли домой. И только завернули за угол школы, как увидели, что кто-то вошел к ним в калитку.
— Дядя Юра, — обрадовалась сестра.
Дениска почему-то молчал. Он поминутно останавливался, смотрел на скворцов, которые хлопотали у своих деревянных домиков, и остановился вовсе, когда увидел на траве красную с темными разводами бабочку.
— Сичас поймаю. — Он снял белую фуражечку и стал осторожно подкрадываться.
Лена тоже остановилась. Ей было интересно узнать: чем же кончится эта необыкновенная охота. Бабочка была такая красивая, что ей не хотелось, чтобы Дениска поймал ее. Вот он шагнул раз, еще раз, и только хотел накрыть фуражкой, как та вспорхнула и, описывая в воздухе зигзагообразные круги, скрылась за крышей сарая.
Девочка облегченно вздохнула.
— Идем же скорее.
— Вот они где, хозяева, запропастились, — таким возгласом встретил их гость. — А я уж хотел было обратно восвояси…
Он достал из портфеля конфеты, печенье. А когда выложил на стол целую гору свежих огурцов — Леночку это так удивило, что она не выдержала и спросила:
— А где же они росли?
— Как где? В теплице.
— А мы еще недавно их только посадили…
— Это для окрошки, у мамки квасок больно хорош, — пояснил Юрий.
Огурцы были и в самом деле настоящие. И дух от них шел огуречный. Леночка не утерпела, взяла один в руки. Был он большой, с засохшим желтым цветком на кончике. И такой же твердый, только без колючек. В огороде растут такие, что если вырвешь с грядки, то руку уколешь. А этот — нет. И все же это был настоящий огурец, тем более удивительно в такое время, когда в огороде не только ботвы, нет еще и всходов.
Вскоре заявилась и хозяйка.
— Тетеньке от непослушного племянника нижайшее…
— Прибыл, — обрадовалась Марина. — Ну как там, что там?..
— Дай прийти в себя с дороги, — взмолился Юрий, — успею еще доложиться. — Но приходить в себя он не стал, начал рассказывать о том, что его направили в Сибирь, в район больших новостроек, и что он с радостью туда едет.
— Чего ж тут радоваться-то, — всплеснула руками тетенька. — К черту на кулички запрут, и будешь там куковать.
— Дело это решенное и обсуждению не подлежит.
— Когда ж едешь?
— Ровно через три дня.
— Так это ты к нам на столько ж?
— Завтра утречком — до свиданья.
— Что ж я стою, — спохватилась Марина, — надо ж готовить.
— Окрошечку не забудь, сооруди.
Пока Марина готовила ужин, Юрий прошел в комнату, стал рассматривать висевшие на стенах фотографии, которые знал наизусть, полистал журнал «Наука и жизнь», лежащий на столе.
Монотонно тикал будильник. Стрелки показывали четверть шестого.
— А где же Дмитрий Степаныч?
— У матери, должно.
— Что ему там делать, — удивился племянник.
— Так они же с Иваном Титовым колодец роют ей.
— Ясно, — прокомментировал Юрий, — своей частной собственности маловато стало, на соседнюю переключился.
— А кому же, как не ему, и помочь-то ей, — с укором произнесла Марина.
— Это, кажется, в ту сторону? — спросил Юрий, не слушая ее. Он показал в правое крайнее окно.
— Через пять дворов от дома, что с тополем, — пояснила она.
— Схожу за ним, пусть кончает работу. Вечер уже…
— Иди, иди, — согласилась Марина, — а я пока сготовлю.
…Вот и ужин готов, а Митрия с племянником все нет и нет.
— Леночка, ты бы сбегала к бабушке или ты, Дениска.
— Сичас, — пообещал мальчуган, рисуя что-то на старой тетради.
— Сходи же, когда тебя просят, — подняла голову Леночка от учебников.
— Сичас, — повторил Денис.
А сам продолжал рисовать, но, оторвавшись от рисунка и взглянув в окно, радостно закричал:
— Идут, идут!..
В самом деле, мужчины, миновав калитку, входили во двор.
Ужинали по случаю гостя не на кухне, а в столовой.
Юрий был в приподнятом настроении. Говорил без умолку, воинственно был настроен против Митрия.
— Никогда ты из этих дел не выберешься…
— Выберемся, — спокойно отвечал Митрий, — колодец вот закончим и — все.
— В прошлом году ты говорил то же самое. Только тогда не колодец, а, кажется, погреб был. И не тещин, а твой собственный. Не так ли?..
— Ну, ну.
— Вот это-то «ну» и не дает даже на речку вырваться.
— Хоть сейчас идем.
— Идем, — Юрий не только с упреком повторил это слово, но и произнес его с такой же точно интонацией, как и Митрий, вкладывая в это свои чувства укора и самоиронии. — Знаешь, что не могу. Завтра чуть свет ехать, вот и говоришь так.
— Приезжай не на час, а на месяц, — заметил Митрий.
— Ну, хватит вам, — примирительно сказала Марина. — Расскажи лучше, что там у вас за пожары такие.
— Какие пожары?
— Под Воронежем.
Юрий отодвинул тарелку.
— Что под Воронежем, там, где леса и торфяники, вот там пожары. Я вот проезжал через Москву, так весь город в дыму, в центре дым стоял.
— Выдалось лето, — вздохнул Митрий, — ни одного дня дождливого. Зной и зной… Четвертая неделя до тридцати градусов.
— Ой, мужики, — спохватилась Марина, — мне же к Куприянихе надо, она рассады обещала.
— Завтра и возьмешь, — посоветовал Митрий.
— Завтра поздно будет. Она отдаст, если сегодня не взять. Вы ешьте, я быстро…
Когда Марина ушла, Митрий с племянником долго еще сидели за столом, курили, беседовали. Разговор шел о самом разном, о тех же пожарах, о рыбалке, которая не состоялась и не могла состояться на этот раз…
Начало смеркаться. За окнами в пепельно-серых облаках далеко, на самом горизонте, чуть теплясь, тлела заря. Душный воздух, вырывающийся в распахнутую форточку, стал заметно слабеть.
Митрий гасил очередную папиросу, вдавливая ее в пепельницу большим пальцем, когда Юрий, прильнувший к окну, тревожным голосом произнес: никак горит?..
Смирин усмехнулся даже, наговорились про пожары, вот и мерещится теперь.
— Пожар! — крикнул Юрий, бледнея.
Митрий не спеша поднялся, подошел к окну. Было видно, как в угловом окне старого клуба металось пламя, из щелей двери, что вела в библиотеку, валил дым.
Смирин рванул с вешалки куртку, на ходу надевая ее, выскочил на крыльцо. За ним — Юрий.
— Беги к Никитину, у него телефон!..
За считанные минуты пробежал Митрий расстояние от дома до самого клуба. Рванул ручку двери. Дымом и гарью дохнуло в лицо Митрия. В дыму ничего не было видно. Смирин стал лихорадочно шарить по стенке справа у входа. Тут должен был быть огнетушитель. Вскоре рука его нащупала металлическую трубку распылителя. Сорвав огнетушитель со стены, Митрий, пригибаясь, стал пробираться в глубь зала. Слева чуть различимо светлел ряд окон. Пламя бушевало впереди, в глубине читального зала. Он скорее догадался по шипению, чем увидел это пламя, шагнул в ту сторону и тут же, споткнувшись, упал на пол. Кто-то лежал поперек пути. Митрий вернулся назад. Поставил огнетушитель у притолоки двери, чтобы легче потом его найти, а сам в два прыжка оказался там, где только что был и падал. На полу лежал человек. Взявшись за одежду, он стал оттаскивать его к выходу. Что это могла быть Наталья, Митрий в этот миг даже и не подумал.
Глотнув свежего воздуха, он быстро нашел огнетушитель и двинулся снова в глубь зала. Ударив огнетушителем об пол, направил струю на огонь, но пламя шипело и потрескивало уже кругом — и маломощная струя почти не помогала. Больно жгло руки и лицо. Дышать было нечем. Он повернул огнетушитель на себя, слабеющая струя приятной прохладой ударила по щекам.
Потом Митрий бросил ненужный теперь огнетушитель, снял с себя куртку и стал сбивать ею огонь. Так он отбивался от огня, как ему казалось, всего несколько секунд.
Между тем прошло около получаса. К месту пожара спешили починковцы, мчалась, подпрыгивая на ухабах, пожарная машина, вызванная Юрием. Последнее, что помнил Митрий, — это холодная струя воды, ударившая в грудь и свалившая его на пол…
Пожар потушили быстро. Лишь после того, как огонь погас, пожарные выставили окна — и дым через них выходил, казалось, неохотно, но довольно быстро.
К счастью, огонь большого вреда не причинил. Сгорел стенд, стол и прогорела часть пола. Основной книжный фонд, находящийся в соседнем зале за стеной, не пострадал вовсе.
Вскоре подъехал Романцов с Головановым. Алексей Фомич зашел в зал, долго рассматривал следы огня, расспрашивал, как все случилось.
— Я вижу тот… стало быть, дым, — говорил кузнец Ага-да-ну, — ну и прибежал. Прибежал, а тут пожарка, ну, и стало быть, тот…
Юрий, стоявший тут же, выступил вперед.
— Алексей Фомич мы с Митрием Смириным, наверное, первые увидели, как запылало и дым пошел из-под двери.
— Ну, ну, — оживился Романцов, поворачиваясь к Юрию.
— Мне он крикнул, чтоб бежал к Никитину, к телефону, а сам сюда побежал. Я к Никитиным — Николая Ивановича нет. Мы тогда с хозяйкой давай звонить. Пока звонили, пока я добежал сюда — собрался народ, а тут и машина вскоре подскочила…
— Где Смирин?
— Вон лежит, пожарные вынесли. Угорел он и — ожоги…
Романцов резко повернулся, зашагал к выходу. Наклонился над лежащим прямо на траве Смириным, который был в сознании, кривился от болей.
— Лемехов и ты, — повернулся он к кузнецу, осторожно положите его в машину — и к Фетисовой, и с ней вместе срочно в район, в больницу. Быстро!
— Илюхина тоже тут была, ее увезли домой. Машина пришла, и увезли.
— Что с ней?
— Когда она вбежала в зал, где загорелось, на нее упал обгоревший стенд. Она упала и больше ничего не помнит.
Романцов нахмурился.
— И что же с ней?
— Ожоги спины и вот — голова.
— За Илюхиной тоже — заехать.
Митрия осторожно усадили на переднее сиденье, рядом с водителем. Поднялся он сам, лишь кузнец немного поддержал его за руку. И машина, развернувшись, скрылась за поворотом.
А в это время Марина никак не могла уйти от словоохотливой Куприянихи. Уж как она ни говорила старухе, что и гость у нее — ждет, и ребятишки не кормлены, да и ночь уже скоро.
— А вспомни-ка, молодица, когда ты наведывала меня, старуху? — твердила свое Куприяниха.
Что случилось что-то неладное, Марина догадывалась, не доходя до улицы, на которой увидела столпившихся людей. И Юрий тут, мелькнуло у нее в голове, зачем он тут?..
Он-то, Юрий, первый, и рассказал ей, как все случилось.
— И сильные ожоги? — переспросила она.
— Как сказать, — замялся племянник, — рубаха на нем почти вся сгорела.
— Боже мой, этого только и не хватало.
Между тем «газик» с пострадавшими уже проезжал кварталы микрорайона. Еще на полпути Митрий почувствовал, что сильно угорел. Склонив голову на грудь, он вслушивался в шум в ушах, который заглушал, казалось, гул мотора. Часто и громко пощелкивало в правом виске, словно бы кто-то выстукивал на маленькой наковаленке бронзовым молоточком. Сладко подташнивало и хотелось пить, но Митрий молчал, боялся пошевелить правой рукой, которая горела, перекидывалась огнем острой боли с руки на плечо.
Было около семи, когда «газик» остановился во дворе районной больницы. Врача на месте не оказалось, и пока ему звонили, дежурная сестра заполняла карточки. Наконец, появился хирург-травматолог, быстро прошел в кабинет, надел халат.
— Прошу, — позвал он жестом руки в полуоткрытую дверь.
Митрий сидел ближе к двери, но кивнул в сторону Натальи: дескать, пусть она первая.
Илюхина поднялась и, поддерживаемая Фетисовой, прошла в кабинет. Лицо ее было бледно и, казалось, безразлично ко всему происходящему.
Прошло минут двадцать. Наконец наступила очередь Митрия. Он вошел к врачу и сел сбоку стола, куда ему тот указал.
— Что тут у вас?
Желтоватые, с темными прожилками, глаза врача смотрели строго, испытующе.
— Угорел я, — еле выговорил Митрий, — в голове шум и рука вот… — Он хотел оторвать руку от стола, но тут же скривился от жгучей боли в плече.
— Э-э, батенька, — сказал доктор, разрезая ножницами обгорелый рукав, — да тут тоже огонек порезвился, но полегче. Обработать, — повернулся он к сестре, — анатоксин обязательно, и в палату.
— В четвертую?
— Да.
Волосатая рука врача не сильно, но твердо держала запястье. В другой руке он держал перед собой часы — измерял пульс.
23
Всего-то ничего сидел в своем кабинете Алексей Фомич с утра, а сколько у него перебывало народу? И механизаторы, и животноводы, и полеводы, и учетчики. Даже заведующий совхозной пасекой зашел — и все по делу.
А дела и вести были добрыми, если нельзя их назвать хорошими, то, по крайней мере, не были они и плохими. Два радостных сообщения получил Романцов в это утро: порадовал-таки звонок из района — передали из сельхозуправления о том, что наконец, получен типовой проект на строительство первого промышленного комплекса, и второе: отгружен тяжелый роторный экскаватор из соседнего района на рытье траншей для водопровода.
«Наконец-то, — радовался директор, — а может, эта отгрузка будет не один месяц длиться. Всяко ведь бывает… Но не может быть. Иначе бы не просили сегодня же подобрать квартиру для постоя людей, что при экскаваторе, и обеспечить их питанием…»
— Так, так — барабанил Алексей Фомич пальцами по крышке стола, рассуждая про себя. Он всегда так делал, когда дела складывались хорошо.
Вошел Лукин-младший, сын Михаила Лукина, окончивший зоотехнический техникум и утвержденный два месяца назад в должности заведующего первой фермой.
В отличие от отца, Василий Лукин был высок ростом, с постоянной улыбкой на узком лице с длинным, заостренным носом. Только на этот раз лицо его не освещалось улыбкой. Наоборот, черной тучей сдвинулись над переносьем брови. Поздоровавшись, молодой зоотехник не стал утруждать себя объяснениями, а заявил директору прямо:
— Алексей Фомич, работать я больше не буду. Освободите.
Романцов, на что уж спокойный — опешил. Минуты две длилось неловкое молчание.
— Как не будешь? Почему?..
— А так. Хватит! За неделю пало четырнадцать телят. Вчера только троих выволокли в овраг… А тут — народный контроль подоспел — разбираются…
«Вот те на, — мелькнуло в голове, — я ведь давно чувствовал, что непорядок там, но главный зоотехник да и управляющий заверяли… Боже мой, до каких же пор нельзя будет ни на кого положиться? Где сам недоглядишь — там и непорядок…»
Лукин между тем и заявление на стол положил.
— Царю небесный, — вслух произнес Романцов, прикрыв глаза. Он откинулся на спинку кресла и некоторое время находился как бы в полузабытьи. Очнувшись, сгреб бумажку-заявление, спокойно, не торопясь, изорвал его на мелкие кусочки, так же спокойно бросил в корзину.
— Ты вот что, — посоветовал директор незадачливому заведующему, — освободить тебя мы освободим. Зачем же нам работники, не желающие работать? Сам посуди. У нас — не принудиловка. Но все это будет потом. Сейчас же срочно возвращайся на ферму, помоги товарищам из контроля разобраться во всем досконально. Я сам скоро там буду. Задача ясна?
— Понятно, — недовольно буркнул Лукин.
— Ступай, а после разберемся. Силовать никого не будем, — пообещал директор. — Ну и денек, — произнес Романцов, когда посетитель вышел.
Как ни старался Романцов выбраться на ферму вскоре же после разговора с Лукиным, так и не смог: то — одно, то — другое, то — третье… Лишь после обеда он, махнув рукой на все, прямо из дома направился туда: появишься в управлении — опять не вырвешься…
По дороге он вспоминал, прикидывал, когда был тут последний раз. Выходило, что чуть больше месяца, в конце марта. Да, двадцать пятого марта. Тогда вроде бы было там все благополучно. По крайней мере, видимых причин для тревоги, которая сейчас надвинулась, не было, кажется. Правда, крупно пришлось тогда поговорить с главным зоотехником. По его указанию в коровий рацион было введено слишком много сочных кормов. А какие корма в конце зимы: силос, жом, немного сенажа. В противовес этому значилась в рационе гороховая солома и концентраты. Но соломы этой очень мало, и норму ее порядочно урезали сами раздатчики, а во-вторых, вместо концентратов выдавались подсолнечные семечки со шляпками, прямо из-под комбайна…
— Агрегат не действует — пожаловался завфермой. И тогда директор, сам тут же осмотрев машину АВМ-0,4, запустил ее в действие.
По внешнему виду, особенно когда смотришь издали, ферма не вызывает никаких тревог. Добротные белые стены здания, шиферные, тоже белеющие крыши, штакетник… Никогда б не подумал, что тут падеж телят.
Директор вошел через въездные ворота на подворье. И тут вроде бы ничего особо не вызывало тревогу. Разве лишь то, что там и тут покоились горы неубранного навоза.
Завидев директора, из конторки вышли заведующий, зоотехник, бригадиры, двое приезжих. Одного из них, что постарше, Романцов знал: из управления сельского хозяйства — народный контроль.
— Что нового?
Но так как вопрос не относился ни к кому конкретно, а вообще, то встречавшие директора лишь переглянулись. Зоотехник взглянул на заведующего, тот — на зоотехника.
— Ничего нового, — ответил за всех бригадир молодняка Голота, маленький коренастый мужичок, кривой на один глаз, — ничего нового, если не считать старых мозолей, что по-новому болят.
— Да-а, — как-то неопределенно произнес Алексей Фомич, — ну что ж, пойдемте, сперва поговорим, а после посмотрим ферму.
— Мы уж тут второй день ходим, Алексей Фомич, все облазили, — заметил знакомый районщик из сельхозуправления, — так что вот и бумагу сочинили.
— Вы уж извините, Алексей Фомич, может, что и не так, резко.
— А чего ж извинять, — окинул взглядом товарищей из народного контроля Романцов, — правда она и резкой бывает порой.
Протерев фланелькой очки и водрузив их на греческий свой нос, Алексей Фомич стал читать:
«Проект.
Совхоз «Рассвет» по вопросу сохранности поголовья уже слушался на заседании районного комитета народного контроля. Но должных выводов руководство совхоза до сих пор не сделало. Предложения об улучшении содержания коров и телят родильного отделения на первой ферме и о запрещении поступления туда коров с других ферм (так как там нет надлежащих условий для них) не выполнены.
По распоряжению главного зоотехника совхоза туда поступило более двухсот коров, из которых 132 содержались круглые сутки на улице, там же проходил и отел. Кормление было плохо организовано. Корм давался в неприспособленные кормушки, и большая часть его перемешивалась с землей.
Соли нет. Дрожжевание концентрированных кормов было прекращено, имели место случаи, когда коровы в течение трех суток получали одни концентраты, не было грубых и сочных кормов. Телята рождались слабыми, нежизнеспособными.
В профилакториях, где принимаются новорожденные телята, сыро, размещаются они по два в клетке. Допускается обезличка в уходе за молодняком. Группа телят с 6 по 21 апреля обслуживалась людьми, выделенными по наряду. В результате бесхозяйственности пало 14 телят.
Сухостойные коровы в отдельные группы не выделены. Они получают большое количество кислого корма. Нарушается распорядок дня. Все это причины падежа…
За допущенную бесхозяйственность, приведшую к падежу крупного рогатого скота…»
Далее шло перечисление фамилий, кому предлагалось какое взыскание.
— Что ж, для начала неплохо, — сказал Романцов. — Правда, насчет того, что должных выводов не сделано, — тут вы немного перегнули. Ну, да ладно… Спасибо. Постараемся копнуть и поглубже. Чую я, дело тут зашло далеко.
Директору не хотелось здесь же, при районщиках, продолжать этот разговор. «Сами разберемся», — прикинул он про себя. Поэтому спросил своих:
— Что конкретно делается сегодня?
— Алексей Фомич… — разом заговорили заведующий и зоотехник.
— Не все сразу, по одному, — недовольно сморщился директор.
— Послам прицеп за просянкой, — перебил заведующего зоотехник, — вот с помощью товарищей, — он кивнул в сторону приезжих, — договорились насчет соли. Машина сейчас уйдет…
— И что же, это разве такие проблемы, что без вмешательства народного контроля нельзя было обойтись?
— Вот и нельзя. Сколько мы добивались соли — все нет. Хорошо, что они приехали…
— Ладно, соль, — недовольно махнул Романцов. — Неужели и за соломой нельзя было съездить раньше?
Заведующий потупился, опустил взгляд, не находя что сказать.
— Добро, — неопределенно сказал Романцов, — идемте, покажите мне, что тут у вас происходит.
Перед входом в кормоцех директор увидел у трактора с прицепом Василия Кирпоносова. — Что привез?
— Корма. Что ж больше. Не успеваем подвозить.
В помещении кормоцеха чисто, на первый взгляд. Но это лишь на первый взгляд. Заглянул директор в кормушку, а она до половины заполнена силосом.
— Это что?
— Не поедают, — пояснил заведующий.
— Меньше давайте.
— Сколько в рационе, столько и даем.
— Это твое дело указывать зоотехникам, чтобы те пересмотрели его, рацион этот, — с раздражением произнес Романцов.
Еще больше вспылил директор, когда увидел, как с противоположного конца конвейера шел кормораздатчик Антон Гнатюк и вилами выбрасывал этот силос из кормушек прямо под ноги коровам.
— А что же делать? — удивился заведующий. — Надо же грубые корма загружать.
— Электроэнергии не хватает, — поддержал заведующего зоотехник, — да и лента транспортера не выдержит.
Алексей Фомич аж глаза кверху поднял. Посмотрел, а вверху горят лампочки, десятки больших электроламп. И это-то среди бела дня. Не поленился директор, прошел и сосчитал эти огни — тридцать восемь!..
— Считать умеете? — спросил он зоотехника и заведующего. — Если не можете, я вам посчитаю, сколько электроэнергии уходит впустую.
Смуглое лицо Романцова вмиг стало желтым, колючим…
— К завтрашнему дню чтоб здесь был порядок. Полный. После обеда, точно в такое же время, буду тут. Люди чтоб все на местах были. Говорить буду. А сейчас и смотреть ничего не хочу и детские разговоры слушать — тоже…
Гнатюк, слышавший разговор и подошедший в это время к начальству, кивая на зоотехника, оказал:
— Хоть я и малограмотный, Алексей Фомич, а знаю откуда падеж и отчего непорядок. Сколько раз говорил вот ему, — рабочий опять повел глазами в сторону зоотехника. — Вроде бы со мною и соглашается, а делает по-своему. Потому оно так и выходит…
Алексей Фомич хорошо знал Антона Гнатюка, который был несколько старше его, Романцова, а все время работал на постоянных работах и когда еще тут был колхоз. Мужик он был хозяйственный, рассудительный, с той крестьянской хитринкой во взгляде, за которой скрываются опыт прожитых лет, хозяйская сметка.
— Все, — сказал директор зоотехнику и заведующему, — действуйте. — А сам тут же повернулся к Гнатюку:
— Что ж это, Антон Евграфович, корма так вот и сбрасываем прямо под ноги?
— Признаюсь, Алексей Фомич, противное моей душе дело делаю, а надо — иначе не успею. Я ведь один, считай, — оперся на вилы Гнатюк.
— Остальные где ж?
— Кто где: тот — за кормами, другой — за солью… Давно, Алексей Фомич, хочу сказать, отчего так все получается. Самую суть скажу.
— Ну, ну, — нетерпеливо потребовал Романцов.
— Только с какого краю начинать: с начала или с конца?
— А как оно понятнее будет? — вопросом на вопрос ответил Романцов.
— Все одно — понятно…
— Тогда давай с конца, может, оно интереснее, — улыбнулся директор.
Гнатюк пригласил Романцова следовать за собой. Они подошли к куче навоза.
— Вот, — ковырнул он вилами, — смотрите, что это за навоз. Тут больше соломы и кормов всяких, чем навоза. Раньше разве так было? Я вот помню батьку своего Евграфа Трофимовича — старик нутром чуял беду, в чем бы выдумали? — в тракторе!
— Какую беду? — удивился Романцов.
— А такую, страх у него не напрасный был перед машиной. Чуял он, что от нее, кроме пользы, и лиха не мало будет. А оно так, считай, и есть. Конечно, техника — сила. Но эту силу повернуть по-разному можно. Повернул ее не туда, куда надо, — и беда. В прошлом годе четыре скирды соломы, что за второй лесополосой, — погнили? Погнили. А почему? Да потому, что косили и тут же вслед скирдовали, не дали и просохнуть как след. Машина — сила. Чего ждать — раз-з-з, и готово. Вот она, эта солома.
Гнатюк поддел на вилы пласт, где вместо навоза была действительно солома.
— И силос так же: с росой, с водой — гони, давай. Сгреб в кучу. Машина — дьявольская сила! А результат: не едят такой силос. Это — главная причина. А еще их не одна. Вот они складываются вместе — и падеж и что хочешь. Вот оно что…
«А что? Он прав…» — думал Романцов, возвращаясь с фермы.
24
Прошло четверо суток с того дня, как случился пожар. Четвертую ночь проводил Митрий в больнице. Чувствовал он себя вроде бы нормально. Угар прошел, хотя еще давала знать о себе острая боль в левой руке, плече и во всей лопатке, но всем сердцем своим он рвался домой. Никогда еще не приходилось ему лежать в больнице, и эти четыре дня казались четырьмя годами.
Тихо в палате. Кроме Митрия тут находился небольшой старичок, лет семидесяти пяти, с грыжей в обоих пахах. Но он был сильно туг на ухо и поэтому в разговоры почти не вступал, а больше копался в своей тумбочке, без конца перебирал какие-то тряпки и бумажки в старом потертом портфеле. Был и еще один больной — юркий мужичок Митриевых лет, с длинным носом и незакрывающимся левым глазом, взглядом которого, он, казалось, пронизывал насквозь предметы, на которые устремлял этот глаз. У него дело шло к выписке (обморожена кисть правой руки) — и он почти не бывал в палате, а играл с «ходячими» больными в домино во дворе.
Только в больнице обнаружилось, что Наталья пострадала не меньше, а гораздо больше Митрия: чуть не вся спина вздулась пузырями. Как лежала она, потеряв сознание, животом вниз, так и загорелась на ней кофточка. Митрий еще тогда, в тот вечер, понял, что с Илюхиной дело плохо. После осмотра хирург сразу же убежал в женскую половину и был там очень долго. Потом Митрий слышал телефонный разговор его, а с кем — не мог понять. Уловил только одно: Наталья в тяжелом состояний, у нее большая потеря воды, капельница положения не спасает и что ей требуется срочная пересадка кожи.
По отрывкам этого разговора Митрий также понял, что ситуация складывалась критическая: был поздний час, впереди целая ночь, а ждать утра, чтобы заполучить доноров, — рискованно. И тогда он, превозмогая боль, потянулся к кнопке «вызова» медсестры.
Вбежала девушка, та, что только что его перевязывала.
— В чем дело, больной?..
Митрий наблюдал, как во взгляде сестры чувство то ли испуга, то ли раздражительности сменялось недоумением. И он поспешил сказать:
— Позовите доктора, я хочу дать кожу.
— Какую кожу? — удивилась девушка.
— Свою кожу больной, что поступила вместе со мной.
— Да вы в своем ли уме?.. Вы же — больной…
— Тогда позовите врача, раз я больной, — у меня сильные боли.
— Лежите спокойно, обезболивающий укол вам записан в одиннадцать тридцать.
— Все равно позовите… Пожалуйста…
Сестра пожала плечами, вышла.
— Вы что, с ума спятили, молодой человек? — едва переступив порог, заговорил врач, — вы даете себе отчет, батенька?
— Донорство — дело добровольное, и я хочу использовать свое право, — раздраженно бросил Митрий.
— Позвольте, — перебил его врач, — вы имеете это право, но не в теперешнем вашем состоянии… И вообще разговор этот никчемный.
После Митрий и сам убедился в несерьезности своей просьбы, но признаться в этом врачу ему не хотелось, а тот, в свою очередь, ни словом не напомнил об этом, вел себя так, как будто ничего и не было, хотя Митрию казалось, что врач о том случае именно и думает всякий раз, когда входит в палату.
Марина бывала у Митрия ежедневно, а на этот раз ехала к нему вместе с ребятами. Дениска давно добивался поехать в город к отцу. «К папке хочу», — требовал он. Да и Леночка вся сгорала от нетерпения, все спрашивала, когда же они поедут в Петровск.
И вот они наконец зашли в полутемный прохладный коридор больницы. Вот и палата: «Па-апка! — разом бросились ребята к Митрию. Тот как раз сидел просматривал газеты, был один в палате. Сердце Митрия дрогнуло при виде вскочившего по привычке на отцовские колени Дениски. К небритой щеке отца прильнула Леночка.
— Тише вы, больную руку не троньте, — предостерегающим голосом произнесла Марина. — Набросились…
— А когда ты домой придешь? — начал допрос сын.
— Скоро.
— А что это?
— Это — капельница.
— Ой, а про сигареты я и забыла, — сказала Марина, выкладывая из сумки свертки и банки.
— Нет, без курева не годится, — отозвался Митрий, — я и так уж тут «стрелять» научился, снайпером скоро стану.
— Сейчас схожу, пока нет перерыва, куплю…
— И я с тобой, — быстро согласился Дениска. — Лена, пойдем?..
— Нет, я останусь..
Митрий, сидя на койке, здоровой рукой прижимал к себе присмиревшую почему-то девочку, чувствовал под ситцевым платьицем каждую косточку худенького ее тельца.
— Что ж ты такая худышечка у меня?..
Леночка молчала, но в глазах ее была такая печаль и недетская тоска, что, кажется, вот-вот у нее выступят слезы. «Не заболела ли?» — тревожно мелькнуло в голове.
— Что с тобою, доченька?
Леночка долго смотрела на отца, а потом, опустив голову, не глядя на него, спросила:
— Папа, а правда, что ты от нас уйдешь?..
— Куда? — не понял Митрий.
— Правда, что ты уйдешь от нас к тете Наташе Илюхиной? — переспросила девочка.
Митрий растерялся. Ему не верилось, что слова эти произнесла Леночка, а не кто-нибудь другой. С минуту он тоже молчал, не зная, что отвечать, а потом вдруг, словно уцепившись за спасительное средство, спросил:
— Кто тебе такое сказал, доченька?
Острые плечики девочки вздрогнули, лицо искривилось в плаче, на ситцевое васильковое платьице упали две крупные, как бусины, слезинки:
— Те-е-т-я Валя Бу-уря-чиха ска-а-зала, — всхлипывая, протянула Леночка.
Кровь бросилась Митрию в лицо. Он не знал, куда себя деть в эту минуту, так было ему неловко, как будто его вдруг уличили в чем-то неприлично-постыдном. Но что все это по сравнению с жгучим чувством острой жалости к девочке, охватившим его тут же?! «Боже мой! Неужели я мог так думать, не вспомнив о вас, милые вы мои?!» — горячо шептал он, прижимая к груди вздрагивающие плечики дочери…
— Никогда этого не будет, доченька, никогда!… Я поговорю с этой Бурячихой! Как это она только смела сказать тебе такое?! Я поговорю…
Хорошо, что Марины еще долго не было и девочка успокоилась. Вернулись они с Дениской, когда Митрий угощал девочку клубникой. Вбежавший мальчишка сразу же подскочил к столу, где стояла тарелка с ягодами, подозрительно зыркнул глазами на сестренку, потом на стол: не обошли ли его в чем?..
Когда Митрий проводил свою семью домой, он устало плюхнулся на больничную койку и закрыл глаза. В его ушах отчетливо слышался стук собственного сердца. Оно стучало и стучало. То вдруг так явственно и укоризненно звучал Леночкин голос: «Папа, а правда, что ты от нас уйдешь?..»
Было такое чувство, как будто бы где-то у него внутри сломалась какая-то пружинка и в сердце и в душе была пустота. Митрий не замечал времени. Ему казалось, что так лежал он несколько минут, между тем прошло несколько часов. За окном стало темнеть. Вот уж вернулся сосед, длинноносый мужичок, и немигающим своим глазом посмотрел на Митрия так, словно видел его впервые.
А в глазах Митрия стояла Леночка. Он видел ее вздрагивающие плечики, две крупные, словно бусы, слезинки на глазах, которые падали на васильковое платьице, и снова слышался ее укоризненный, полный детского отчаяния и тоски, голос: «Правда, что ты уйдешь от нас к тете Наташе Илюхиной?..»
Мысленному взору его представлялась и Марина, и Наталья. Но, странное дело, последняя виделась ему почему-то с опущенными глазами. И как ни пытался он представить ее, с одному ему знакомым светом во взгляде, — не мог.
Рано утром, когда не только сон, но и тягостная полудрема улетучилась и стало ясно и светло в голове, он долго лежал в постели, не поднимаясь, и думал.
Он долго думал, и ему вдруг пришло на мысль, что он должен увидеть Наталью и объясниться с ней. Зачем ему эта, пусть хоть и небольшая, но надежда на что-то, на какие-то отношения между ним и ею в будущем. Зачем все это?.. Ни к чему! И он так удивился: отчего эта мысль не могла прийти в голову раньше. Действительно — почему?.. И стало как-то легко-легко на душе.
Это чувство заполняло его сердце, всю его грудь. Сначала оно было неясным, смутным. А потом он стал понимать его. Это было чувство отцовства. Впервые он испытал его вовсе не тогда, когда родилась она, первая, Леночка, а тогда, как впервые на десятом месяце она заболела и врач не был уверен в благополучном исходе ее болезни. Особенно же убивалась Марина.
…Вот уж прошла по палатам сестра, зазывая больных на завтрак. Дважды подходил к больничной койке Митрия юркий мужичок и своим незакрывающимся глазом сверлил его: мол, завтракать пора. Митрий от всех отмахивался, ссылаясь на недомогание.
У него было твердое желание при первой же возможности объясниться с Илюхиной, первому начать этот важный для них обоих разговор. Он считал в этом себя ответственным за все, в первую очередь. Но случая такого надо было ждать. В больнице же, во время болезни, как ему казалось, разговор такой был бы более чем неуместен. Значит, надо было ждать выздоровления и возвращения домой. А ему хотелось сбросить этот груз своих сомнений и недосказанности как можно скорее, чтобы полностью освободиться от всего, что еще связывало его с Натальей.
Но тут же, при всех этих мыслях, внутренне бунтовал другой Митрий Смирин: «Погоди, не торопись, подумай, а верно ли ты делаешь, сжигая за собой все мосты? А не придется ли возвращаться? Не будет ли безрадостным твое возвращение и горькими те минуты и дни, когда тебе пришел на ум такой побег от самого себя?»
25
Павел Петрович Калюжный, заведующий хирургическим отделением Петровской районной больницы, тот самый Паша Калюжный, что когда-то учился вместе с Федором Лыковым и Митрием Смириным в восьмом классе, заведовал здесь всего-навсего полгода. После окончания Одесского медицинского института имени Пирогова он два года проработал в далекой Якутии, потом — поближе, в Сургуте. Все шло вроде бы хорошо. А потом сразу, в один год, — рушилось. Только женился — месяца не пожил с молодой женой — попали в автомобильную катастрофу. Калюжный отделался вывихом бедра да синяком под глазом, а супруга через сутки скончалась от большой потери крови.
Не успел Калюжный прийти в себя, — умерла мать…
Три года после этого он никуда не выезжал из своего сибирского поселка, даже отпуска не брал. На счастье, его целиком заняла, взяла во власть одна идея, которой он отдался весь без остатка: работал день и ночь над методом безыгольного сшивания сосудов…
В самом начале года он приехал домой, теперь уже а пустой родительский дом, и странное дело: если первое время его словно кто звал из дому в далекую дорогу, то теперь — наоборот, он чувствовал необходимость жить в отчем доме, продолжать извечные житейские традиции дедов и прадедов своих.
А тут предложение заведовать отделением — на что он с готовностью и большой радостью согласился.
Калюжный сидел в кабинете и рассматривал «истории болезней», когда к нему вошла медсестра и положила на стол несколько новых бумаг.
— Это которые вчера поступили, — пояснила она.
Заведующий бросил взгляд на бланки, заполненные зелеными чернилами. «Смирин Дмитрий Степанович», — прочитал он на верхнем.
— Что такое? — удивленно поднял брови Калюжный, когда посмотрел второй бланк, на котором было выведено: «Илюхина Наталья Васильевна».
Павел Петрович откинулся на спинку кресла, закрыл глаза, и ему представились друзья его далеких школьных лет. Митрия он помнил довольно смутно, особенно Федора. А вот Наталью Илюхину, Наташку из седьмого «Б», что была заводилой среди своих девчонок, а была она к тому же неуемной хохотушкой, что, однако, не мешало ей «прорабатывать» их, ребят, на комсомольском бюро за «нерадение» на уроках, — видел, как будто это было сейчас.
Вот он видит ее растерянное, но все равно красивое лицо. Светлые большие глаза полны неподдельного юношеского гнева и упрека, крутой излом тонких бровей:
— Эта святая троица: Смирин, Калюжный и Лыков нам порядком надоели. Предлагаю за нарушение дисциплины и срыв урока им выговор с занесением в учетную карточку…
А вот другое время, иные дни… Солнечный зимний полдень. Сверкающий снег на солнце слепит глаза. Их восьмой класс вместе с двумя седьмыми на лыжной вылазке. Перешли пойму речки-безымянки, поднялись на меловое взгорье Лысого бугра под самый Корабельный лес. Влево — пологий спуск, который тянется почти до самых Починок, а вправо — крутой обрыв. Посмотришь — дух захватывает…
Паша Калюжный стоит на самом краю обрыва. Смотрит вниз — дрожь берет.
Наташка показывает глазами на него и что-то шепчет подругам — девчонки хохочут.
— Катись! — командует она.
И опять раздается дружный смех…
От жгучего чувства гордости и обиды пересохло во рту, молниеносно промелькнула в голове мысль: «держать надо вкось…»
Ра-а-з!.. И он отталкивается так резко и потому неожиданно, что девчонки, в том числе и она, не успевают даже ахнуть. И — яростный свист в ушах. Дважды он чуть не падает, но чудом удерживается на ногах и вздыхает наконец полной грудью, когда высота уже позади. И вот что значит успокоиться: не успел развернуться у подножья горы, как чуть было не упал уже на ровном месте. Припал-таки коленкой на мгновенье к сухому снегу. Глянул вверх и увидел там фигурки школьников. И хотя различить их не мог — знал, что среди машущих руками была и она, Наташка. «Знай теперь, что Пашка Калюжный не из робкого десятка…» — распирало его грудь радостное волнение.
Обход Калюжный начинал сегодня нарочно с четвертой палаты. Ему не терпелось увидеть школьного товарища, а еще больше узнать о ней, но он откладывал встречу эту напоследок. В ее палату он решил зайти в последнюю очередь. У него было такое, еще не совсем ясное глубинное чувство, что к встрече этой так сразу он не совсем готов. Надо было хоть некоторое время, чтобы настроить себя на нужный лад. «Хихоньки да хахоньки Илюхиной Наташеньки…» — всплыла вдруг откуда-то из тайников памяти строка из наивных юношеских его стихов, написанных им о ней в те далекие дни.
Смирин искренне обрадовался такой неожиданной для него встрече.
— Неужели Калюжный?.. Сколько же лет…
— Прошло немало, — улыбнулся Павел, усаживаясь на койку к Смирину.
— Сколько зим и лет? Да-а, немало!..
— Ну, как ты жив-здоров?
Митрий стал рассказывать о своей жизни, о работе, о семье.
Калюжный согласно кивал головой, а потом спросил:
— А сюда как попал?
Митрий рассказал все. Он говорил, а Калюжный ловил себя на мысли: «Скажет ли тот о Наталье или нет?» Но Митрий сказал, сказал и то, как они вместе сюда попали, напомнил, что она была на Дальнем Востоке, даже некоторые подробности о ее неудачном замужестве…
Калюжный взглянул на часы:
— Мне пора. Обход…
— Выпиши ты меня отсюдова, — взмолился Митрий. — Я же ведь никакой не больной. Угар прошел, а рука и плечо — заживет как на собаке. Не впервой…
Калюжный заулыбался.
— Ладно, долго держать не станем. Заходи ко мне после двенадцати, там и поговорим, договоримся обо всем.
Было уже около половины двенадцатого, когда Калюжный в сопровождении лечащего врача подошел к палате, где лежала Наталья. Открылась дверь, и он зашагал вправо к первой койке, так как увидел на ней пожилую женщину, которая полусидела с газетой в руках. Спросил о ее состоянии. Женщина что-то отвечала, но он почти не понимал смысла сказанного ею. Привычными были и вопросы и ответы.
Лечащий врач, в белом колпаке и таком же белом халате, со стетоскопом на шее, уточнял и когда больная поступила, и какие произведены анализы, перечислял компоненты лечения, упомянул об эффективности препаратов. Но все, что он говорил Калюжному, ему казалось, что все это он уже слышал и вчера, и позавчера, и много, много раньше. Павел Петрович смотрел в противоположную сторону, там лежала как-то боком молодая женщина. «Она», догадался он, заметно волнуясь.
Чуда не произошло. Больше того — Наталья его просто не узнала. Вернее, узнала не сразу. После обычных вопросов и таких же обычных ответов сопровождающий Калюжного врач давал такие же привычные пояснения. А Павел Петрович смотрел не на больную, а в «историю» ее болезни, боясь все еще почему-то взглянуть на нее. Наконец взгляды их встретились. В глазах ее, таких же светлых, он уловил любопытство, сменяющееся чувством удивления.
— Вы… Павел Калюжный?..
— Он самый, — подтвердил Павел Петрович, подыскивая слова, — один из самых недисциплинированных учеников восьмого класса.
Наталья слегка побледнела:
— Вот так встреча. Кто знал, что так вот…
— Ни трагедии, ни тем более даже беды никакой не случилось, — нарочито бодрым голосом проговорил Калюжный. — Ну-ка-те, дайте взглянуть…
Он приоткрыл простыню с плечей Илюхиной, щелкнул пальцами:
— М-да, промокание… Когда меняли повязочки?
— Только что позавчера.
— Температура?..
— Тридцать семь и четыре.
— Так-так, чем мы тут пользуем? — листал Калюжный историю болезни. — Та-а-к… Полюглюкин — хорошо, так — чемодез, плазма… Чередуете с кровезаменителями — хорошо.
— Беспокоит нас, Павел Петрович, давление.
Калюжный как-то безразлично взглянул на собеседника. Он задумчиво уставился в бумаги и, казалось, не слушал врача. Наконец он повернул голову, потрогал рукой промокшие повязки.
— Меня беспокоит эта мокрота. Давайте, пожалуй, снимем. Передайте, чтобы прежде чем снимать, обязательно смочили повязки как следует новокаином, и — пригласите меня. Будет все в порядке, — ободряюще посмотрел Калюжный на Наталью, выходя из палаты. — Мы — вернемся…
С того дня все чаще и чаще стал бывать в палате, где лежала Наталья, заведующий отделением. И не потому, конечно, что Илюхина была самой тяжелобольной. Поначалу разговор их был коротким, сухим, а постепенно перерастал в длительные беседы, какие случаются у людей когда-то близких, а потом надолго потерявших друг друга и снова встретившихся. Калюжный больше рассказывал о себе, чем спрашивал о ее жизни, о чем он знал кое-что со слов Митрия. Он посвящал ее в подробности своих студенческих лет, работы в далекой Якутии, жизни в Сибири, рассказывал о трагедии, которую пришлось пережить четыре года назад…
Часто беседы их перемежались с рассказами о событиях неизвестных друг для друга, с воспоминаниями, связанными взаимным участием в школьных делах далеких юношеских лет. Начиналось это обычно с неизменного:-«А помнишь…»
— А помнишь, — светлея глазами, говорила Наталья, — когда ты съехал с Лысой горы, что у Корабельного леса?
— Как же, помню…
— Страшно было?..
— Сейчас не помню, наверное.
— А стихи какие мне писал?
— Грешен, писал…
Однажды, во время перевязки, Калюжный был в каком-то особенно приподнятом настроении. Он осмотрел ожог и, прищелкивая пальцами, сказал:
— Вот и налет показался… неплохое образование… Этак и к выписке дело пойдет. Я ж говорил, что до свадьбы все заживет. До нашей свадьбы…
Калюжный заговорщицки оглянулся на дверь, за которой только что скрылась медсестра.
Наталья промолчала, но она почувствовала вдруг, что бледнеет.
Временами полулежа в постели, Илюхина подолгу держала перед глазами книгу, но взгляд ее был устремлен в неопределенное пространство. Она думала, но мысли ее так же были неопределенными, как и содержание книги, которую она прочла почти до половины, и не могла толком понять, о чем говорится в ней. Думала она и также не могла и понять того, почему у такого человека, как Павел Калюжный, жизнь, как ей казалось, тоже не удалась, не сложилась. «Ну, ладно, у меня, — рассуждала она, — у меня — другое дело, а он — способный (это еще тогда, в школе ясно было) — закончил институт, а вот не везет. А что, собственно, не везет? Погибла жена? Это — плохо. Умерла мать — тяжело. Ну, так это у всякого может случиться… Жизнь — есть жизнь. А так — у него все впереди. Главное — молод еще… «О нашей свадьбе», — вспомнились ей его слова. — О том ли это, что и мне и ему надо находить спутника в жизни… Или?..»
Последнее время Наталья почувствовала действительно некоторое облегчение. За эти утомительные дни беспрерывного лежания ей окончательно опостылела больничная койка, и она, пользуясь советом лечащего врача, стала все чаще подниматься, а потом и прогуливаться — сначала по палате, после — по затемненному прохладному коридору.
В одну из таких вот прогулок ее окликнули. Она вздрогнула, услышав знакомый голос.
— Гуляешь? — спросил Митрий, направляясь к ней. — А меня завтра на выписку, — лицо его светилось улыбкой. — Пойдем к тому вон креслу, — предложил он, указывая на угол у окна.
Илюхина осторожно опустилась, села в кресло, морща от боли красивый свой носик. Лицо ее выражало явную усталость.
— Что ж, — оказала она, — я тебя давно хотела поблагодарить…
— За что? — перебил он ее.
— За все, за все хотела… И за то, что ты вот теперь здесь, вместе со мной. Хотя за это не благодарить, а скорее, надо просить прощения…
Митрий чувствовал, что это не главное, что она хочет сказать, что главное впереди, и она не решалась, не знала, с чего начать.
— Цветы!..
Митрий испугался почему-то ее голоса.
— Кактус зацвел.
Он посмотрел на подоконник и действительно разглядел маленькие, словно звездочки, цветы на колючем стволе небольшого кактуса, что стоял, прижавшись к стволу полутораметрового фикуса.
— Знаешь, нам, пожалуй, не надо встречаться и не о чем больше говорить, — чуть слышно произнесла она, — прости меня… Я выхожу замуж…
Она нервно перебирала руками конец пояса на своем халате.
Хотя Митрий и готовился к такому разговору, хотя он и сам собирался сказать ей эти или примерно такие же слова, — все равно от неожиданности растерялся.
— Что ж… Прости и ты… — с трудом ответил он. И больше ничего не мог сказать.
26
Как посевную, так и жатву никогда еще не начинали без Романцова. Из всех излюбленных Алексеем Фомичом крестьянских работ больше всего он любил, конечно, жатву. Хотя последняя как таковая и потеряла многие черты и особенности своей сущности. Ветры времени развеяли многое в извечном, казалось, хлебопашеском деле. В прошлое ушли быки — бывшая основная тягловая сила пашни, почти совсем перевелись лошади. Тяжелая гусеничная да колесная, на железном да резиновом ходу, техника изменила не только отношение к страдному хлебопашескому труду, но и сместила или вовсе вытеснила некоторые понятия, многие процессы.
Раньше было ведь как: скосят хлеба, свяжут в снопы, сложат их в крестцы. Лежат они и неделю и две, пока не «дойдет» зерно. Только потом начинался обмолот. До конца сороковых годов так было. Вон за фермой и ток старый еще сохранился… Бывало, установят молотилку, подгонять под нее «Универсал». Ремень на шкив — привод готов. А снопы-то заранее уж подвезены. Тут и начиналось самое главное. И заключалось оно в том, чтобы подобрать и точно расставить людей. Под зерно, под солому, под те же снопы. И везде нужны люди, и на каждое дело по одному-два человека умельцев надо. Разве можно пустить скирдовку, например, без старика Титова? А у веяльщиц? Тут не обойтись без Пелагеи Лукиной да Варвары Кирпоносовой.
Особенно же ответственной и трудной была работа зубаря. Того, кто должен подавать снопы непосредственно в барабан молотилки. До войны незаменимым в этом деле был Никита Пинчуков. Неплохо справлялся с обязанностями зубаря Константин Лемехов, самый старший из братьев нынешнего шофера Романцова — Пашки Лемехова.
Искусство зубаря заключалось в том, чтобы равномерно подавать, именно подавать, а не бросать, снопы в ненасытную пасть молотилки. У неопытного зубаря молотилка часто может быть то сильно перегружена, если дана слишком большая порция снопов, либо утробно греметь вхолостую, что само по себе непроизводительно, а хуже того, и сломается, если тракторист вовремя не остановит свой «Универсал».
Романцов хорошо помнил как молотили они хлеба с сорок шестого почти по самый пятидесятый год, когда он только что вернулся из армии и первое время председательствовал в Починках. Теперь — что. Нынче жатва и молотьба — одно и то же. Зашел комбайн — и только машины вовремя подавай. Ни тебе снопов, ни зубарей, ни молотилок… И в этом, конечно, было не только своеобразие работы, но в первую очередь, большая практическая выгода.
Сегодня начинался первый укос. Почин делали с ячменя. Невелик ростом вышел ячмень — то ветры, то холод, то дождя долго не было. Невелик в рост, но — спорый. Говорят, Иван Титов с Кирпоносовым даже поспорили: первый утверждает, что в среднем по тридцать четыре центнера с гектара можно взять, а другой возражает, на все тридцать шесть потянет, говорит. Алексей Фомич только улыбнулся, когда услышал об этом споре. Сам про себя подумал: «Пусть ни тот, ни другой не прав. Всяко центнеров тридцать пять возьмем».
Не было еще и десяти часов, еще и солнце хотя и припекало вовсю, но не так яростно жгло, как бывает это в самый полдень, а страда уже шла полным ходом. По три раза от комбайнов к току, туда и сюда обернулись автомашины.
— Так ежели пойдет, так в два дня с ячменем и горохом управимся, — сказал Романцову Голованов, вернувшись с третьего отделения. — Ну и денек, видно, будет…
— Прогноз обещал тридцать три.
— Тридцать три?! — Мохнатые брови Голованова шмелями подскочили под козырек парусиновой фуражки.
— А там что?
— Нормально, если не считать скандала между управляющим и главным зоотехником, — улыбнулся Голованов.
— Скандал, говоришь. Из-за чего ж?..
— Управляющий, как всегда, что скосил — тут же и скирдовать. А зоотехник с Лукиным — против.
— И Лукин там?
— То-то и оно. Вдвоем накинулись. Хватит, говорят, солому гноить и скотину голодом морить. Давай, говорят, расстилай-ка сбросы, а как просохнет, тогда и скирдовать будешь…
Романцов не в силах скрыть лукавой улыбки, произнес:
— Что ж, помогла, видно, критика. (Он имел в виду недавнее заседание партбюро, где были приняты меры по устранению причин падежа скота.)
— Жаловался мне на зоотехника, — добавил Голованов.
— Ну, и что?
— Тот взбеленился — не остановишь: «Я вам, говорит, еще на силосовании покажу, как надо работать».
— Давно бы так.
К полудню жара еще более усилилась. Солнце палило немилосердно. Прогноз часто ошибается. А тут и он не подвел — ровно тридцать три, если не все сорок градусов… От ячменного клина, как из огромной печи, пышет жаром, запахом спелого хлеба и разогретой земли.
Алексей Фомич приставил ладонь козырьком к глазам. Вон, вдали быстроходными катерами идут комбайны: Кирпоносова, ближе — Титова, а в стороне — Смирина, вместо него, правда, теперь Павел Буряк ведет машину.
Подошел с первыми сводками к Романцову учетчик. Директор взял у него блокнот. И тот, стоя сбоку, пояснял свои расчеты…
— По тридцать семь на круг выходит.
— Я, грешным делом, — признался директор, — не ожидал столько.
— А сколько же?
— Ну тридцать с небольшим гаком от силы.
— Так оно же так и есть — тридцать с гаком.
— Гак большой получается вроде…
— Большому гаку и рот радуется, — заключил учетчик.
Обедали на полевом стане под навесом. Здесь было не так жарко. Разросшиеся акации бросали живительную тень, в которой лежала деревянная бочка с холодной водой и с большой алюминиевой кружкой на ней.
Романцов подошел, полил. Вода холодная — зубы ломит. Тут же невдалеке в тени висел умывальник. Помыл руки и не удержался, чтобы не умыться — такая свежая и холодная вода.
— Здравствуй, Матвеевна, кормилица наша…
— Чем угощать-потчевать будешь? — раздавались голоса.
Дородная Матвеевна вместе со своею помощницей выносила из кухни бак с полевым борщом.
— С борщу начну, — пообещала повариха, — за вкус не ручаюсь, а горячо будет.
— Зря скромничаешь, — заметил Титов, — знаем: будет так, что не всякого и за уши оттянешь.
От похвалы лицо Матвеевны еще больше лоснится, и она, чтобы скрыть свою неловкость, приглашает:
— Давайте, давайте за стол!..
А борщ и в самом деле хорош!.. Разве может быть что лучше, чем эта благодать на свежем воздухе в тени да после нескольких напряженных часов работы? В тарелке, отливая бронзой, искрятся тысячи колечек жира, неповторим запах и самый вкус молодого укропа… Капуста чуть похрустывает на зубах. Матвеевна умеет варить борщ на украинский лад, не как «москали», что капусту закладывают раньше мяса и она разваривается до состояния студенистой массы.
— Сейчас что, — рассуждает Матвеевна, наблюдая, как обедают мужики, — сейчас вот вас всего-навсего десять — пятнадцать человек. А раньше бывало — сорок, а то и за полсотню…
— Механизация, — откликается кто-то из обедающих, — раньше вручную да с «лобогрейками». То, что мы сейчас до обеда убрали, тогда на два дня хватило бы.
— Было…
— А ведь ты, Матвеевна, раньше вязальщицей доброй была, — замечает тот же голос.
— Была. В войну, бывало, по восемьсот снопов за смену почитай вязали, — со вздохом сказала Матвеевна.
— А норма сколько ж?..
— Триста шестьдесят норма была.
Романцов слушал этот разговор, и вдруг ему пришло на мысль давнее его желание, и он сказал:
— Матвеевна, голубушка, свяжи-к нам снопик. Давно хочу иметь сноп в своем кабинете. Это не ребяческое желание, а иногда кое-кому и показать, и напомнить, и рассказать надобно…
— Что вы, Алексей Фомич, пожалуй, так-то и не сумею уж, забыла, поди…
Однако, видя, что мужчины, закончив обедать, выходят из-за стола и смотрят на нее выжидательно, согласилась:
— Ладно, так уж и быть, попробую… Люба, дай-кось мне серп. Там вон в углу на мешках…
— И серп у тебя?..
— А как же, корове травы надо привезть. Корова, она голодная считай со стада приходит. Эти ваши мелиораторы луга поиспортили все. Вместо травы — колючки одни да перекати-поле… Тут не только за серп, за шило возьмешься, когда вот такой, как нынче, ячмень убирать станешь…
— Вот там, Матвеевна, в низине повыше он будет. Все направились к небольшой низине, тут же за дорогой.
Матвеевна вошла в ячменя, дважды под самые корни дернула серпом, перекинула как-то через локоть пучок стеблей, и они, скручиваясь в тугой жгут, легли на руку с серпом.
Мужчины с интересом наблюдали за движениями Матвеевны. Многие из них, особенно молодые ребята, вообще не видели и в глаза «живого снопа».
— Это перевясло, — пояснила Матвеевна.
Тут она опять как-то, как всем показалось — легко и ловко, срезала несколько пучков ячменя, собрала его в ровную кучу. И, перехватив перевяслом и перевернув его, при этом придавила жгут коленкой, — и поставила уже готовый сноп «на попа».
— Отвыкла, — засмущалась женщина, — блин комом…
— Замечательно, — сиял директор лицом, держа сноп в руках. Я его рядом с областным знаменем поставлю, в углу… Спасибо, Матвеевна. Паша, возьми, положь в машину!
— Раз так — украсить бы…
— Чем? — поднял брови Романцов.
— Раньше, до колхозов, вяжешь, бывало, а васильков да цветов всяких среди ржи — тьма. Снопы словно букеты получались.
Матвеевна пристально всматривалась вокруг себя.
— То-то, — довольно заулыбался Кирпоносов, — при такой, как у нас, агротехнике и василька теперь не сразу найдешь.
— И не найдешь, — согласилась Матвеевна.
— Вот он, — сказал кто-то из ребят, вырвав на обочине дороги несколько голубеньких цветов.
— И не васильки это вовсе, а колокольчики, — заметила Матвеевна, однако вплела их в перевясло снопа, который держал в руках Пашка Лемехов.
— Чтоб красиво, как раньше… — сказала Матвеевна.
— Спасибо…
Брови Романцова вдруг опустились на глубокие запавшие глаза.
— Ну, хватит разводить идиллию. Пора за работу.
Только было хотел Романцов уезжать — подкатил грузовик, из кабины которого вышел озабоченный Самохин.
— Откуда, куда?
— С первого да на третье, а по пути вот к вам, — сдержанно пояснил Самохин.
— А сердит чего?
— Разговор веселый больно вышел.
— Где? На первом?..
Самохин то ли пропустил мимо ушей, то ли просто не стал отвечать на последний вопрос, заговорил с раздражением:
— Давно говорил, да и Никитин не раз предлагал — давайте решим с распределением квартир…
— Что за спешка? — не понял Романцов.
— А то и спешка, что домыслами стали заниматься. Разговоры идут такие, будто бы руководство разберет себе квартиры. Кто надеется, ждет, а кто и слушать не хочет про эти этажи. Брат Никиты Пинчука так и заявил: «Не полезем мы наверх… На эти голубятни…»
Романцов рассмеялся и тут же потупился:
— И впрямь такие разговоры могут быть. Я, грешным делом, не подумал об этом как следует раньше. А потом, кажется мне, что не так-то просто желающих найти. С насиженных мест срываться не каждый и не сразу станет, видно.
— Что вы? Такие квартиры!.. Внизу кухня, подсобные помещения, наверху столовая, зал, спальня. Газ, вода, ванная…
— Тогда кому первому надо предоставить, а кому и подождать — вот вопрос.
— Дадим лучшим работникам сначала. А кому — вот это-то решить надо сейчас, не тянуть.
— Кому?..
— К примеру, тому же Кирпоносову, Смирину. Сколько, кстати, на его клине берете?
Романцов только теперь вспомнил, что уборка шла на смиринском поле. Это он его обрабатывал, пахал, сеял, удобрял…
— По тридцать семь, — подтвердил директор.
— Вот, а в первом отделении всего по двадцать девять на круг берут. Смирин, выходит, и лучший против них.
— М-да… Завтра же соберем правление и решим, — пообещал Романцов, а то действительно некрасиво получается. Дома считай готовы, а ничего никому не ясно — вот и разговоры.
27
Как никогда медленно в этот день двигались стрелки часов. Митрий ежеминутно посматривал на циферблат — четверть одиннадцатого… Лишь к двенадцати придет Марина, а когда еще выпишут, то да се… Правда, Калюжный обещал не задержать, заранее приготовить выписку из истории болезни. Он прекрасно понимал Митриево настроение.
Наконец заявилась Марина, радостная, улыбающаяся.
— Ой, Митя, нам квартиру дают, — не сумела она скрыть своей радости. — Ты недоволен? — спросила она, видя, что муж, как ей казалось, нисколько не обрадовался.
— Нет, почему же…
Но он думал совсем о другом. Известие это, хотя оно было и не такой уж неожиданностью, — озадачило его. Ему ведь говорили, сам Романцов намекал насчет квартиры, видел он, как строились дома, и все же это застало его врасплох. Одно дело, когда ждать, думать о том, что тебе должны дать квартиру в кирпичном, как и в городе, доме, а другое — когда уже решено и вскоре надо будет переселяться. Тут — подумаешь. А как же с родительским домом? А что с хозяйством? Ведь это пока все на месте, а чуть копни — сколько всего наберется. Куда со всем этим деваться? Да и как оно там, на новом месте, будет. Высоко на втором-то этаже, не так, конечно, высоко, как непривычно как-то, боязно и непривычно. Сарайчик-то при квартире положен для хозяйства, но что это за дело такое?..
— Ходили мы с Валентиной смотреть. Мне так понравилось, так понравилось, — рассказывала между тем Марина. — Внизу кухня, ванная, большая прихожая, а наверху зал такой большой… Окна светлые, большие тоже… Господи, и главное — газ, вода. Федор обещал прийти, — перешла она на другое.
— Федор? — спросил Митрий.
— Да, он вчера встретил меня. Узнал, что тебя выписывают. Я, говорит, приду…
— Подожди, я сейчас, — пообещал Митрий и пошел к Калюжному.
— Что, не терпится? — встретил его Павел.
— Как в тюрьме все равно.
— Ну уж и так… Вот тебе твоя выписка, — протянул он бумагу, — а вот это мой адрес. Буду рад, если зайдешь, посидим, поговорим, вспомним молодость. Давайте-ка соберемся втроем: ты, я и Федор?
— Обязательно, Паша, непременно.
— Ну, счастливо. Ты на чем?
— В два часа Лемех заедет за нами. Марина с ним сюда прикатила, в исполкоме он сейчас.
— Добро.
— Да, а как с Илюхиной? — Митрий заметил, как тепло залучились глаза Калюжного при упоминании ее имени.
— С Натальей-то? — переспросил Калюжный. — И ее пригласим…
— Это обязательно, но я не про то сейчас. Когда ее выписка?
— Думается, через недельку и она уйдет.
— Слушай, когда-то она тебя, кажется, очень интересовала? — спросил вдруг Митрий.
Калюжный чуть заметно вздрогнул.
— По-моему она интересовала не меньше и тебя.
— Что меня. Я человек семейный…
— Так мы же говорим не про сейчас.
— Оно конечно.
— Ладно, не будем об этом, — неопределенно сказал Калюжный, и лицо его еще больше потеплело.
— Я так, к слову… Слушай, а чего тебе не жениться? — как бы безотносительно к разговору, иным тоном спросил Смирин.
— Встретимся вот — обо всем и поговорим, и об этом в том числе, — пообещал Калюжный.
Когда Митрий вернулся от Калюжного, его встретил улыбающийся Федор.
— Отъелся на казенных харчах, — заметил он, рассматривая Митрия. — Зайдем ко мне сначала, конечно. Во-первых, ты еще ни разу не бывал у меня и вряд ли приедешь специально, а во-вторых, я только что видел Лемеха, он заедет через полтора часа за вами прямо ко мне — все равно ждать сидеть…
Ни Митрию, ни тем более Марине квартира Федора не понравилась. Узкий полутемный коридорчик, длинная комната, небольшая серая кухня с устоявшимся запахом керосинки. Правда, хозяин всякий раз в разговоре подчеркивал, что жилье это у него временное, что вот-вот он получит новую квартиру. Единственное, что особенно понравилось Марине, был холодильник «ЗИЛ». Большой, ослепительно белый.
Федор ежеминутно его открывал, щелкал замком. Он достал бутылку вина, колбасу, яблоки…
— С выздоровлением, — поднял Федор наполненный фужер.
— Побудем…
— К Октябрьским праздникам, должно, перееду, — пообещал хозяин, достав яблоко.
— Конечно, надо б, — соглашалась с ним Марина.
Митрий молчал. Ему не хотелось говорить и быть здесь. Его тянуло домой. Поэтому он так обрадовался, когда наконец Лемех засигналил под самым окном, что не сдержался:
— Едем. Скорее!..
Федору же хотелось, чтобы гости побыли еще. Но Марина, зная настроение Митрия, поддержала мужа:
— Через недельку приедем на базар, тогда зайдем…
— Обязательно зайдем, — подтвердил Митрий, прощаясь с хозяином.
Лемехов галантно открыл дверцу.
— Прошу, господа…
Так уж получилось, что Марина села на переднее сиденье, а Митрий устроился сзади. И порадовался этому: одному удобнее будет наблюдать в пути.
Лемехов что-то говорил Марине, но Митрий не вслушивался в их разговор, а жадно всматривался в боковое стекло. Вот сначала поплыли навстречу дома и штакетные заборчики с зеленью кленов, потянулись новые кварталы микрорайона, промелькнули оранжевые колонки бензозаправки. И вот наконец машина вырвалась на простор.
После густо-зеленых квадратов картофельников, которые как бы веером развернулись перед мчавшейся машиной, начались хлеба, ржаные и пшеничные разливы. Опытный глаз Митрия отмечал, что пшеница прихвачена суховеем, низкоросла, чуть лучше выглядела рожь. «Дождя вовремя не было, — подумалось ему, — но все равно не так уж и плохо».
Мысли теснили его грудь, но на душе было легко и светло. Ему было и радостно оттого, что все само собой как-то определилось наконец с Натальей, все стало на свои места, и не угнетала теперь так сильно та неопределенность, что еще так недавно его мучила. Сейчас он был даже отчасти рад оттого, что, как ему казалось, у нее наконец должно уладиться, устроиться с Калюжным. Он был рад за нее и доволен за Калюжного.
Не терпелось как можно скорее оказаться дома, обойти и проверить подворье, прижать к груди ребятишек, наконец сесть на свое хозяйское место за столом, в углу. А еще большее желание было: тут же сесть на мотоцикл и укатить на Лисьи бугры к своему клину, где без него началась уже жатва, без него.
Машина катила уже под уклон, сворачивая на починковские поля. Слева проплывали колхозные полегшие ячменя. Тут всегда почти так. Место открытое всем ветрам. Впереди недалеко от дороги двигался комбайн. «Видно, Фетисов», — подумал Митрий.
— Да что же он делает? — раздраженно произнес Смирин, видя, как тот ведет свою машину не «против шерсти», а «по ходу» полегших колосьев ячменя.
— Останови!..
Лемехов притормознул, остановил автомобиль.
— Ты что же, первый раз на косовице?! — крикнул Фетисову подбежавший к самому комбайну Митрий.
Комбайнер увидел махающего рукой Смирина, остановил агрегат.
— Попробуй разберись, когда тут понакручено, — недовольно прокричал он, догадываясь, чего от него хотят.
Митрий не поленился, взобрался на мостик к Фетисову.
— Видишь, — показывал тот вправо по ходу комбайна. — Тут — отсюда полегло, а там — оттуда.
— Отсюда-оттуда, — передразнил его Митрий. — Вот ты и тори загон: от дороги — туда, а там — наоборот.
На лице Фетисова вместе с чуть заметной улыбкой промелькнула мыслишка: «А правда, простое ведь дело, и как это я сам не догадался».
— Я вот Колосову скажу, — пригрозил Митрий.
— Ну-ну, — примирительно прокричал Фетисов, — на ошибках учатся, — и стал разворачивать комбайн…
— Горбатого могила исправит, — заметил Лемехов, когда Митрий вернулся и устраивался на свое место. — Это такой тип, ему хоть кол на голове теши. У него, натурально, без царя в голове, временное правительство и то разбежалось, — заключил Пашка, постукивая себя по лбу и довольно улыбаясь.
Митрия еще долго мучило то неясное и неосознанное еще чувство, которое тягостным камнем свалилось с плеч и давало о себе знать легкостью, что наступила после этого. А потом вдруг так неожиданно, само по себе, пришло на мысль: «Так ведь это то, что никакой город, никакой выезд на карьер или куда теперь ему не нужен вовсе…»
Боже мой, все это так просто и ясно, как то, что для Фетисова развернуть агрегат. В самом деле: у Митрия Смирина теперь такая же зарплата, отпуск. А главное, любимейшая работа, которую он не заменит ни на какую другую, никогда!.. Чего ж мне идти в рабочие, когда я тот же самый рабочий и есть?.. От кого я хочу убежать? Сам от себя. У Федора что? Зарплата. И у меня — тоже. У него — отпуск. И у меня. Вон Буряк и путевку получил. Получил — все-таки. Получу и я, если захочу. У Федора квартира будет, а у меня она, считай, есть.
Вот и получается, что у Лыкова и у него, у Смирина, — все на равных. А по работе Митрий в большой выгоде выходит… Разве лишь то, что тот в каком-никаком городишке живет. Так это, при всем остальном, Митрия мало волнует. В Починках не хуже, а еще лучше и рядом с тем же Петровском. Захотел, ежели что надо, и — там. Асфальт оттуда — сюда. В те же Починки норовят больше выехать, особенно в выходные. Кто на рыбалку, кто по грибы, кто просто так погулять на свежем воздухе.
Как ни радостно было на душе, как ни успокоенно он думал теперь обо всем этом, а сердце Митрия все же забилось, когда впереди показались родные, самые близкие на всем белом свете, Починки.
* * *
Прошел год, а в жизни починковских героев произошло немало событий. И это понятно, если трезво смотреть правде в глаза. Ибо кто же станет всерьез опровергать справедливое мнение многих, что в наш двадцатый век — век космических скоростей и иных ускоренных действий, связанных с достижениями на ниве ядерных и прочих открытий, — события разворачиваются и протекают гораздо быстрее и стремительнее, чем в старину.
Митрий Смирин живет на старом подворье. Не захотел он менять свой деревянный дом на городской. Многие починковцы были свидетелями того, как проходили смиринские смотрины.
Здесь нельзя не рассказать, как все это произошло. А случилось все так: на следующий день после того, как Митрий вернулся из больницы, Марина настояла на том, чтобы идти смотреть квартиру.
Еще издали заметил Митрий, что у новых домов было многолюдно. Кто-то открывал и никак не мог открыть окно; двое мужчин стояли в проеме дверей; чей-то белый платок мелькал за окном, на втором этаже…
— Здорово, земляки! — поздоровался Митрий.
— А-а, Демидор, — обернулся на голос Пинчук, поздоровавшись. — И ты заявился на голубятню полюбоваться?
Марину открыла дверь. Узкий коридорчик вел через небольшую прихожую на кухню. Дальше была еще одна комната, чуть побольше первой. «Столовая, должно быть», — определил Митрий, разглядывая низкие потолки.
— И антресоли есть, и кладовка, — одобрительно заметила Марина.
Митрий молча разглядывал столовую, хмурил брови.
— А это туалетная, — Марина скрылась за дверью. — Ой, здесь просторно как! Вот как раз место для стиральной машины.
Митрий заглянул в туалетную. Действительно, просторная, даже кафелем отделана. Не вся, правда, а по стене, где умывальник и ванная установлены.
Поднялись на второй этаж. Митрий долго, придирчиво осматривал полы, трогал плинтуса. Сработано все было надежно. Не понравились ему подоконники: узкие, всего в три пальца шириной. Митрий даже руку приложил — смерил.
Двойные рамы стянуты болтами, промеж стекол тоже не больше двух-трех пальцев будет: «Действительно, голубятня», — подумал Смирин.
— Ничего, что кладовая мала и сеней нет. Зато кухня просторная, — тараторила Марина.
— А погреб? — отозвался Митрий.
— Что погреб? Подпол есть!..
Окончательный разговор с женой у Митрия произошел внизу, во дворе. Не дом сам по себе, не комната, где все как-то стеснено, вывели Митрия из равновесия. Пришел он в отчаяние оттого, что, спустившись вниз, понял, осознал вдруг, чего ему тут не хватает. По сути дела, здесь вовсе нет подворья, двора!.. Что это за сарайчик, против дома стоящий. Так себе. И не сарай — лабазник.
Митрий окинул взглядом высокие стены этого чужого для него дома. И стоял-то он как-то неуютно. Точь-в-точь как в Петровске Дом колхозника.
— Идем отсюдова, — тихо, но твердо сказал Митрий.
— Как это идем? А сарай смотреть? Вон уже Красновы и Культеповы переезжать собираются.
— Краснов — человек приезжий. Ему что. А Культепов — перекати-поле…
— У него сроду ни коровы, ни козы — одна хата упазы, — поддержал Митрия Пинчук.
— Нечего делать, — в сердцах передразнила Марина, — тут все…
Митрий еще крепился, но тут его взорвало:
— Да замолчи же ты наконец! — крикнул он, багровея. Повернулся и решительно зашагал по направлению к своему дому.
Почти неделю не разговаривали Смирины друг с другом. Лишь потом помирились. Недаром говорят: муж и жена — одна сатана…
Наталья Илюхина вышла замуж за Калюжного, как этого и следовало ожидать, и живет теперь в Петровске.
В ее жизнь счастье вошло вместе с горем. Через месяц после ее замужества умерла мать, которую, как помнит читатель, она сильно любила и еще и теперь не может прийти в себя…
Романцов заболел и, говорят, собирается на пенсию.
В Починках ныне действует водопровод, подведен газ, не говоря уже о том, что в каждом доме, в любой квартире давно установлены современные телевизоры, подтверждением чего являются антенны на крышах Починок самых разнообразных конструкций и видов. В одном месте можно увидеть нечто вроде обыкновенного креста, в другом — медные кольца, соединенные тонкой серебристой проволокой, в третьем — причудливые, как у сома усы. А вон на цинковой крыше кузнеца Ага-да-ну, у того ромбовидный четырехугольник, а на соседней — того проще: деревянный шест, а на нем латунная трубка изогнутая наподобие кларнета…
Многие дома в Починках отделаны досками «в елочку» и не под краску, а под олифу, а иные обложены даже кирпичом. Особенностью же Починков являются первенцы — четыре двухэтажных дома…
И не сразу определишь теперь: что такое ныне Починки. Хутор или поселок, село или город?.. И не хутор, и не поселок, еще не город, но уже и не село. Может, скорее всего, тут подойдет такое название как агрогородок? Может?..
…Прямой лентой тянется через Починки дорога, зелеными стогами стоят могучие ивы над нею, крыши и стены изб светятся теплом заходящего солнца. Смотрят эти избы широко раскрытыми окнами на далекие поля и луга, что раскинулись привольно вокруг. А на противоположном конце села, за избами, что тонут в вишневых садах, возвышаются над крышами этих изб этажи первых домов…
Впервые за всю свою долгую жизнь видит это чудо — дома в два этажа — село Починки.
Рассказы
Лирик
На дворе стояла осень. С поля дул теплый ветер, пахнущий пересохшей соломой и поздними травами. Кричали петухи. Воробьи дружными стаями носились над пустырем. Почти не грело, но ярко светило солнце.
В такое время в правлении колхоза малолюдно. Пока стоят погожие дни — все на уборке сахарной свеклы. И у счетоводов дел стало больше. Пройдешь по коридору, сразу определишь по стуку костяшек, шелесту бумаг, телефонным разговорам, где здесь бухгалтерия.
Иван Кузьмич Олейников запряг коня по кличке Цыган в неизменную председательскую линейку и ждал. Павел Филиппович вот-вот должен выйти. Вообще Олейников не должен был запрягать лошадь. Между ним и председателем давно существовал уговор — последний запрягает сам.
Помнит Кузьмич, как впервые увидел нового председателя. Тогда он попросил обучить его немудрящему делу обращения с упряжью. «Чудной человек, — удивлялся старый конюх. — Председатель, а учится нашему ремеслу. Городской, потому и интересно ему…»
Один раз Кузьмич не вытерпел, спросил: «А что это вы, Павел Филиппович, упряжью так интересуетесь? Зачем она городскому человеку?» Посмотрел на него председатель и говорит: «Как раз я и не городской, а сельский. Только рано, почитай с десяти лет, меня на шахты увезли. Крестьянские навыки, какие были, — утерял, а главное — тяга к земле вот тут у меня с тех пор. — Он постучал ладонью по груди. — Так-то…»
В этот раз конюх нарушил условие: знал — Пахарев спешит. В девять председателю надо быть за солонцами у трактористов. А вот и он — небольшого роста, плотный. О таких говорят: ладно скроенный.
— Ковалев появится, пусть подождет, — громко сказал он кому-то, закрывая дверь.
— Доброго здоровья, Кузьмич, — поздоровался председатель с Олейниковым, поглядывая на Цыгана и лукаво подмигивая. Конюх улыбнулся, обнажая прокуренные зубы.
…Еще в конце войны Павел Филиппович Пахарев приехал сюда, в степное село. Поначалу было трудновато. Люди относились к нему с некоторым недоверием: приезжий, городской…
Начинал с малого. Во-первых, надо было всем дать понять, что приехал сюда надолго. Привез сразу же семью. Купил небольшую скромную избенку. Знал председатель: личный пример — большое дело.
Люди к председателю, казалось бы, попривыкли. Но нет. Он удивлял сельчан то тем, то другим.
Известно, например, что летом, в страдную пору на селе ложатся с солнцем, потому что вставать рано. В избе же председателя свет горел далеко за полночь. И что удивительно: поднимался он не позже, а гораздо раньше многих.
«И что он делает по ночам?» — недоумевали в селе. «Книжки какие-то читает, — пояснял тракторист Стеша Козелок, — ей-богу правда. Читает и пишет что-то, да чай стакан за стаканом хлещет…»
«Скажи на милость… А ты-то почем знаешь?..» — «А я корову стерег на задах и все видел. Корова у меня заболела. Четыре дня в стадо не ходила…»
Считай все лето, после работы, председатель копается в огороде. То картошку окучивает, то свеклу прорывает, то помидоры. А то взял привычку босиком ходить. Закатает штаны и — поливает капусту. На селе это испокон веку — бабье дело. Спрашивают его: ты что же это, Павел Филиппович, сам поливаешь? А я, отвечает, щи густые люблю. Никто, кроме меня, не любит такие густые…
«А председатель-то наш того…» — замечали одни. «Ни рыбак, ни охотник, а кулик-болотник… Живая натура», — говорили другие.
Возвращался однажды под вечер Павел Филиппович с дальних полей. И надо же было такому случиться, что, не доезжая до спуска ко второй лесополосе, заглох мотор. Шофер залез под капот, стал копаться в старом драндулете, а председатель вышел на дорогу — размяться. Видит, с горы в наметившихся сумерках по дороге, прямо на него стог сена катит. Пахарев оторопел даже. Что такое? Автомашина с сеном? Не похоже. Слишком мала. Подвода? Быстро катит. Привидение, да и только. Между тем привидение остановилось. И вылазит откуда-то из-под стога Сеня Ткач, учетчик второй бригады.
— Здорово, Сеня.
— Здрасте, Павел Филиппович, — растерянно отвечал Ткач.
А Пахареву не то диво: откуда везет учетчик сено, а то — как везет. Обошел вокруг, потрогал рукой — легкие деревянные стойки, соединенные алюминиевой в карандаш толщиной проволокой. И все это сооружение ладно установлено и укреплено на мотоцикле с коляской. Всего-то и места свободного, где руль да через седло ногу продвинуть.
— Ин-те-рес-но! А сенцо-то, сенцо-то, что твой чай…
— Я это… тово… — заволновался Ткач, — подбил кое-где по окрайкам, над дорогой…
Ничего не сказал председатель, только еще раз сено похвалил да удивился рационализаторским способностям Ткача.
В тот вечер Пахарев еще двоих таких же рационализаторов повстречал.
А на следующий день всех троих вызывают в правление. Ну, думают мужики, пропали. Не то что сено — мотоциклы конфисковать могут. У Егора Спицына в прошлом году отобрали: мешок ячменя вез поросенку…
Входят, а Пахарев словно ни в чем не бывало приглашает садиться, улыбается и спрашивает:
— По скольку вы сена на покосе по процентовке заработали?
— По возу, — отвечает за всех расторопный Ткач.
— А надо сколько, чтобы хватило на корову?
— Ну, еще б с воз…
Председатель почесал висок карандашом, кивнул на дверь посыльному:
— Позовите, мол, агронома и зоотехника.
И пошел веселый разговор. Уточнили, сколько частных коров в селе. Прикидывали, какой клин добавить, чтобы на проценты по два воза выходило. Зоотехник заметил, что фермы от этого пострадать могут. Председатель как будто только и ждал этого. Прикиньте, говорит, на сколько надо увеличить посев многолетних трав, чтобы возместить убыток. Столько-то, отвечают ему. Ну и добро.
— Так вот, — повернулся Павел Филиппович к Ткачу, — по два воза достаточно будет?..
— Знамо дело, — оживился Ткач, — два воза да воз просянки для мешанки, да былье с огорода, да свекла, да картошка, тыква там… Вполне…
— Ну и добре, ну и ладно. Будем снимать отаву, по возу и доберете.
— Спасибо…
— Все. Будьте здоровы. Да, вот что, — добавил председатель, когда посетители направились было к выходу. — Будем считать, что я вас вчера вечером не видел. Все беру на себя. Но впредь договор: ночную заготовку сена забудем. Порядочные люди сена днем метают…
— Вот тебе и да-а! — неопределенно произнес Ткач, когда все вышли из председательского кабинета.
В тракторную бригаду к Петру Протасову Пахарев ехал, чтобы посмотреть, как вспахан небольшой солончак у поворота дороги, что ведет к Данильскому нагорью. Местечко это уже давно было предметом особых забот председателя, агронома и бригадира тракторной бригады. Они решили «подлечить» этот солончак. Определенные результаты были налицо. А это имело принципиальное значение, солончаков в поле немало, и если бы удалось избавиться от одного, то и другие вывести не составило бы особого труда.
И ехал он опять же не потому, что не доверял бригадиру. Нет, он довольно хорошо знал этого человека, умевшего любить землю. Просто председатель привык собственными глазами видеть работу. Он как те мастеровые люди, которые любят своими руками потрогать добротно сработанную вещь.
В поле долго ходили вокруг солончака. Пахарев щурил серые глаза, любовался пахотой. Плотными рядами, словно выложенные руками, лоснились на солнце борозды.
— Кто пахал? — бросил председатель.
— Шаповалов, — ответил бригадир.
— Добре. Удобрений ни мало ни много?
— Все по науке, как велел агроном…
Только поздно вечером возвращался с поля Пахарев. Он успел побывать на уборке сахарной свеклы, завернуть на ферму, заглянуть на строящийся механизированный ток. А на другой день, рано утром, видавший виды «газик» мчал председателя вместе с секретарем партийной организации колхоза в областной центр. Обком созывал совещание передовиков сельского хозяйства.
— Вот случай насчет грузовика поговорить, — сказал секретарь Павлу Филипповичу.
— А-а, с Крыловым, — понимающе отозвался тот. — Да, с машинами у нас туговато. Надо напомнить Игорю Васильевичу…
…Пахарева с Крыловым связывала давняя дружба. В грозовом сорок первом их дороги сошлись на Юго-Западном фронте. Горечь первых поражений, тяжелые утраты — многое пережито вместе. А потом — боевой путь до самого Берлина. Победное возвращение в родные края. После войны Крылов был на партийной работе, а Пахарев уже руководил колхозом. Переезд Павла Филипповича в село не только не отдалил их друг от друга, а наоборот — сблизил. Пахарев часто бывал в обкоме у Игоря Васильевича, заведующего сельскохозяйственным отделом.
Зная честность и душевную чистоту Пахарева, Крылов ни разу ничем не поступился ради дружбы, хотя, конечно, кое-что и мог сделать. А Пахарев, в свою очередь, уверовав в принципиальность и партийную безупречность Крылова, не мог и думать о каком-либо преимуществе для себя. Так они и строили свои отношения, как друзья, — открыто, честно и непринужденно. О грузовике же Пахарев вел разговор еще раньше, и не только с Крыловым, но и с первым секретарем обкома.
До начала совещания оставалось время, и Павел Филиппович зашел в кабинет Крылова.
— Привет, Игорь!
— Здорово, Павел, дорогой!
Они обменялись новостями. Пахарев рассказал о делах колхоза, о семье. Поделился, как успевает в учебе сын. Игорь Васильевич поведал о своих делах-заботах. Вспомнили годы войны.
— Стареем, брат, — улыбаясь, сказал Крылов, глядя на седые виски товарища.
— Что делать, время…
— Да! С тебя, брат, причитается. — Глаза Крылова загорелись веселым огоньком.
— Это за что же? — насторожился Пахарев.
— По условиям соцсоревнования «Победу» получаешь. — Он протянул руку.
Пахарев оторопело посмотрел на Крылова, рука которого повисла в воздухе. Секунду-другую Павел Филиппович как будто что-то прикидывал в уме, а потом с силой пожал протянутую руку.
— Грузовик вместо «Победы»!
— Как? — не разобрал Крылов.
— А так, на что мне эта «Победа», — горячо стал доказывать Пахарев. — У меня «газик», на худой конец Цыган есть. Подумаешь, барина нашли. Хозяйству нужны грузовые машины, а не эти драндулеты по полям кататься.
— Да не горячись ты, — улыбнулся Крылов. — Не я один решаю эти вопросы. Я, по сути дела, и говорить-то тебе раньше времени не имел права. Как другу сказал, а ты шум поднял.
— Ладно, — примирительно произнес Пахарев, — хоть и не ты один решаешь, а все-таки помоги.
Крылов посмотрел в глаза своему другу. Посмотрел и убедился: этот человек от своего не отступит. Такие не отступают.
Но то, что произошло весной прошлого года, окончательно упрочило председателя среди поселян, возвысило его в глазах у всех и сблизило еще крепче с людьми самого разного толка, возраста и характера.
Как-то раз в кабинет председателя ввалился бригадир колхозных плотников Симин и протяжным, словно у дьячка, голосом заговорил:
— Павел Филиппович, половина людей у меня на овощехранилище, другая на посадке деревьев, а завхоз требует, ругается, ветряк, мол, сносить надо. Что же мне, разорваться, что ли?..
— Погодь, не торопись, — улыбнулся одними глазами Пахарев. — Тут надо подумать, разобраться. Овощехранилище — неотложное дело — раз! — И он загнул мизинец левой руки. — Деревья у въезда в село — тоже никуда не денешься, — загнул он другой палец. — Надо сделать так, чтоб по шнуру все было! Чтобы проезжий человек сказал: «Ну и люди живут в этом селе, тороватые люди!..» Да и всем приятно: едешь, а по бокам ровным строем березы, клены, рябины там всякие… Сажай, пусть их растут, — опять улыбнулся он. — Ну, а ветряк… — Он взглянул на средний палец.
— Павел Филиппович, — перебил его Симин, — смотрел я его вчера, погнил он добре, мы же его хотели было под сарай употребить, да вряд ли. Гниль, словом, труха.
Пахарев поднялся, подошел к окну. Несколько минут они стояли и молча смотрели.
На взгорье плотная, кудрявая шапка Шилова леса. Внизу, под горою, — птицеферма. Белые косяки кур напоминали меловые пролысины, и трудно понять, где птицы, а где белеет мел.
Слева от птицефермы, над крутым оврагом, стоял ветряк. Крылья его во многих местах продырявились, а двери были выбиты. И вход чернел четким прямоугольником.
Павел Филиппович вспомнил, как в послевоенные годы, когда районная вальцовка еще не была восстановлена, пришлось обращаться к ветряку, и он, старый и щелявый, не подвел.
— Вот что, — повернулся Пахарев к Симину. — Пусть он стоит. Ну уберем мы его, пустое место будет, никакого тебе вида. А главное, пусть смотрит молодежь, как раньше люди жили.
Он твердо шагал от окна к столу и обратно.
— Вот мы поставили над правлением радиоантенну, через нее от области слышно, и от самой Москвы. В этом году водонапорную башню у речки заложим, газ подведем… А ветряк пусть стоит. Вроде… — Пахарев задвигал густыми бровями, подыскивая нужное слово.
— Фона? — робко подсказал Симин.
— Вот-вот, пусть стоит вроде фона, на котором новая жизнь виднее…
Павел Филиппович приблизился к Симину:
— Ты, Матвеич, пошли, как будет время, людей, пусть камень под сруб подложат, а то опустился он очень.
— Сделаем, — нахлобучивая кожанку, улыбнулся Симин.
На другой день вечером, как всегда, возле правления собрались мужики потолковать, узнать новости и просто покурить. Симин, покусывая соломинку, рассказывал:
— Я ему и толкую: овощехранилище, деревья, то да се… А тут вот ветряк. Как быть? А он мне: «Пусть, говорит, стоит, вроде фона, чтобы жизнь, говорит, новая видней была…»
Все слушали, улыбались, а Петр Фомич, учитель, заключил:
— Что и говорить, Павел Филиппович хоть и суровый на вид, а в душе настоящий лирик.
Вскоре эта кличка прижилась. Многие, возможно, и не совсем понимали, с чего бы, но тоже говорили: лирик! И произносили это слово уважительно, тепло, с любовью.
Пастухи
За Данильским взгорьем, где степная дорога круто поворачивает влево и вниз, чтобы выйти на луга и затеряться у самого горизонта, — бьют родники старой криницы. Из меловых расщелин с журчанием бегут небольшие, но сильные струи. Вода впадает в заросший кугой и мелким камышом пруд, который соединяется с глубокими плесами, что растянулись по руслу бывшей степной речки.
Душно… Солнце вот-вот, кажется, лопнет от собственной жары. Ветра нет, и степь дышит сухим раскаленным воздухом, смешанным с запахами спелых хлебов, земляники, полыни. Не шелохнутся травы, не поднимется дорожная пыль. Одиноко звенит жаворонок, и высоко-высоко в небе парит степной коршун. Кажется, что здесь вечно было так же, как сейчас.
— Эх, водица! Попей, — говорит пастух, пожилой загорелый мужчина, молодому. Он протягивает ему капустный лист, наполненный водою. Крупные, тяжелые капли, словно ртуть, перекатываются на краях листа, сверкая на солнце.
— Ну и жара, к дождю, должно, — щурится парень, вытирая рукавом подбородок.
Они доверху наполняют гнутый солдатский котелок и не спеша идут к тырлу, где отдыхает разомлевшее от дневного пекла стадо.
…Никто не помнит, с каких пор ходит в пастухах Тимошка Драч; кажется, он так же вечен, как эта степь. Без него нельзя представить себе сельского стада, как этого жаркого дня без солнца и степного простора. Никто точно не знает его отчества, все называют его Тимошка, редко прибавляя странную фамилию. А сколько ему лет — определить и вовсе трудно. Кто видел его двадцать — тридцать лет назад, точно почти таким же увидит его и сегодня. Худощавого, загорелого. Время, казалось, не властно над его возрастом, над его судьбой.
Коровы дремлют, закрыв глаза и пережевывая жвачку. Вот коричневая корова с белым пятном на лбу — это корова Петра Фатеева, а вон пегая с надрезанным ухом — бабки Лахонихи. Тимошка знал их всех наперечет, он мог определить каждую по голосу. Некоторых он называл по имени хозяев. Поджарую мышиной масти корову Насти Грачевой, которая так же своенравна, как и хозяйка, — Грачихой. А ленивую черную с белыми пятнами Оксаны Протаевой называл — Сметаниха, потому что старая Протаиха любила сметану и на все село слыла мастерицей ее приготовления.
— Гей, гей, Сметаниха! Фунт изюма! — подгонял он ленивую, всегда плетущуюся в хвосте корову.
Много хлопот доставляла Грачиха. То в свеклу заберется, то в горох, а раз чуть не околела, объевшись кукурузы.
— О черт, треклятая… — ворчал он, когда та, оглядываясь по сторонам, удалялась от стада. — Гони ее, Митя! — орал Тимошка и плевался в таких случаях.
Тимошка подложил в огонь кизяка — в котелке варилась каша, деревянной ложкой собрал рыжую пену, выплеснул ее и, дуя на горячую жижу, снял пробу.
— Подсолить малость ай нет? — морщит он лоб, ни к кому не обращаясь, но ожидая от Мити совета. А тот лежит у обрыва плеса, смотрит газету. Лицо его серьезно и сосредоточенно. «Пусть», — думает отец. Он привык к тому, что сын его часто погружается в чтение, и старался в такие минуты не мешать.
Митя мало чем похож на отца. Это полный, невысокого роста семнадцатилетний паренек с курчавыми волосами, смуглым открытым лицом. В этом году он окончил десятилетку.
— Эка жарит, — отложил Митя газету и вытянулся в полный свой рост.
— Давай снедать, — снимает отец с таганка дымящийся котелок. — …Ты вот толкуешь: все, мол, само собою произошло, — говорит отец, продолжая начатый когда-то разговор. — Хоть я и неграмотный и неверующий, а думаю, что все-таки что-то есть. Как так, чтобы ничего не было?
Митя достает из сумки хлеб, режет его и улыбается краешком губ. Он знает, что отец любит пофилософствовать, что он будет говорить о происхождении мира, о жизни на других планетах, о будущем.
— Конечно, есть, — соглашается сын. — Есть земля, солнце, планеты.
— Э-э-э-э, все это и мне понятно. Откуда все это? Вот фунт изюма.
В сонной воде лениво всплеснула крупная рыбина.
— Щука, должно? — спрашивает Митю отец. Он долго смотрит на расплывающиеся круги и сам себе отвечает: — Она, должно.
— Да-а… слишком быстро жизнь вперед пошла за последние годы, — жует он хлеб, — пошла, а меня вроде стороной обошла. Хорошо хоть стада не тронула. Мое дело при стаде состоять, а при нем и я в коммунизме, может, буду. А может, тогда и коров не будет совсем?.. Ведь это лет пятнадцать — двадцать назад на быках пахали, а теперь их и в помине нет. И лошадей… Так для разводу оставили две-три пары голов. Посмотрю я, чудно все как-то… В молодости я первым косарем был. Бывало, выйдем косить рожь, а Пелагея, братова жена, ну приговаривать: «А ну, косари, зачинайте до зари. Мокрые спины-лопатки, берегись, наступлю на пятки!» Снопы вязать здорова была. За любым косцом не отстанет, бывало. А теперь — где те косари? Где вязальщицы?.. В сенокос и то жатками косят! Я, фунт изюма, уже лет двадцать снопа живого в глаза не видел, акромя у председателя в кабинете который лежит. Да-а-а, здорово жизнь изменилась.
Он задумался.
Действительно многое теперь не узнать, немало ушло кое-чего в прошлое. Разве не у всех на глазах живущих ныне закатилась слава первого на селе сапожника Митрофана Шугаева, отжила свой век профессия шорника Афанасия Черного?.. И лишь его пастушеская жизнь текла по-прежнему, не изменялась. Лишь его роль, роль сельского пастуха не потеряла своего значения.
— День добрый! — щурится на солнце подъехавший на велосипеде почтальон.
— Здорово, Егор Петрович, — улыбается Тимошка.
— Четвертую бригаду решил навестить, — протягивает он Мите конверт, — и к вам вот по пути. Жарко больно…
— Жара, — соглашается пастух и смотрит на мокрые плечи почтальона.
— Бать, а бать, из Воронежа прислали. Зачислили меня, — радостно говорит сын, когда Егор Петрович уехал.
— Зачислили?! — удивленный и радостный смотрит отец. — Ну, Кузьма Иванович, спасибо ему. Направим, говорит, за счет колхоза, и направил. Спасибо! — убирает он сумку. — Что ж, сынок, езжай, учись. — Лицо его светится радостью.
— Однако пора, — смотрит он на солнце.
Грачиха уже поднялась, за нею поднимаются и другие.
— Гей-гей! — звонко кричит Тимошка.
Они гонят стадо на луг, за водяную мельницу, которой давно нет, только на бугре осталось несколько почерневших свай, да половина расколотого жернова, служившего когда-то порогом.
Отец и сын идут в разных концах луга. Один со стороны дороги, направляя стадо на Данильскую ложбину, а другой с противоположной стороны контролировал Грачиху, которая успела забежать в кукурузу. Каждый думал о своем. Митя — о новой для него студенческой жизни в городе, об отце, который останется один со стадом. Ему было и легко и вместе с тем почему-то грустно. А отец видел сына уже агрономом, серьезным, взрослым человеком, которого все называют Дмитрием Тимофеевичем.
«Чудно поворачивается жизнь», — вслух размышлял он.
Смотрит Тимошка кругом и как будто впервые видит и эту степь, и луга, и небо.
Лодка на двоих
Памяти Дм. Хижнякова
Давно, почитай всю зиму, не бывало такого ясного и лучистого неба. Прозрачный воздух струится светом и теплом, он, кажется, звенит. Или это в ушах звоны?.. Нет. Сегодня громче обычного чирикают даже воробьи, и за их неугомонным чириканьем нет-нет да и послышится серебряный, переливистый голос первой овсянки: «Покинь сани, возьми воз! Покинь сани, возьми воз!..»
Задумчив и светло печален наш сад. Развесистые ветви яблонь тянутся вверх, к весеннему теплу и свету, высокие шершавые стволы груш посветлели, а вокруг их комлей уже затемнелись оттаявшие снежные лунки.
Пахнет горечью молодой коры вишен и набухших почек тополя. Да и сам воздух, кажется, наполнен знакомо-радостными, волнующими запахами, как ожидание чего-то нового и необыкновенного.
Мы идем с Митяем от речки огородами, а потом через наш сад, мимо нашей хаты к нему, к Митяю, домой. Митяй старше меня на два года и повыше ростом на целую голову. На нем, солдатская шапка-ушанка, телогрейка и подшитые валенки.
— Завтра, — обещает мне Митяй, — посмотришь, завтра. Слышь, как шумит?..
Некоторое время мы стоим, прислушиваясь. Никакого шума мне, кажется, не слышно, но вместе с тем и что-то как будто шумит. Может, это ветерок налетел на вершины деревьев?..
— Пошла, пошла водица! — Смуглое лицо Митяя светлеет от радостной улыбки, в черных цыганистых глазах — искорки восторга и удивления.
Потом мы идем дальше.
Для нас с Митяем нет лучшего времени, чем эти мартовские дни, когда в легкие морозные минуты затишья вдруг начинает стрелять лед на речке-безымянке. Это первый признак того, что вода начинает прибывать. Широкая трещина полутораметрового льда приходится как раз вдоль течения по стрежню. Лед горбатится, словно крыша сарая, потому что вмерзшие края у берегов еще крепко держатся земли. Потом, когда вода прибудет еще больше, оторвутся и эти края вместе с комьями супеси и чернозема, с корневищами тальника и болиголова и всплывут, сравняются с серединными кромками. А вода все будет прибывать и прибывать. И уж потом начнется главное: наступит ледоход!.. Тогда наши дома окажутся на огромном острове, так как речка-безымянка сольется с рекой Осорьгой и отрежет нас от остальной части села, что лежит в восточной стороне на возвышенности.
Старая наша лодка давно готова к плаванию. Она законопачена и залита смолой. Ее нос мы с Митяем обили медной жестью, заменили цепь с путовым замком на кольце. Уложены в ней и старое весло, и тополевый черпак. А новый пятиметровый багор лежит вялится на соломенной крыше сарая. «Все у нас готово, весна запаздывает». Так думал я, едва поспевая за Митяем.
— Ты, тово, валенцы обмети как след, — поучает меня Митяй, — вот тебе веник…
Я привык к его нравоучительному тону, тщательно обметаю свои валенки и, чтобы не видел Митяй, улыбаюсь. Мне почему-то весело оттого, что я знаю: стоит нам только зайти в прихожую, как и голос, и лицо, и вся фигура Митяя — все моментально изменится. Знаю я, что Евдокея, мать Митяя, будет недовольно на нас ворчать, а то и прикажет ему лезть на печь, а мне идти домой. Да и как на нас не ворчать, если мы ушли из дому с утра, а сейчас скоро вечер. Мне не хочется, чтобы Евдокея ворчала, тем более отсылала меня домой, и я надеюсь втайне, что она прикажет нам обоим лезть на печь. Вот бы хорошо! Иногда она командовала и так: «Ну-ка, бродяги, марш на печь!..»
— А мы с Санькой у них обедали, — заявляет с порога Митяй, не дав матери опомниться. — Правда, Сань, щи какие кислые, да горячие.
— Угу, — подтверждаю я.
Мне и смешно и боязно, как бы Евдокея не заметила нашего сговора. Смешно оттого, каким одинаково заискивающим, ласковым голосом обращается к матери и ко мне Митяй. Боязно потому, что мать Митяя может меня сейчас же выпроводить за порог.
— Идеж это вы, бродяги, были? — Евдокея произносит это таким тоном, как будто она ничего вовсе про обед и не слышала. Она говорит, а у меня на душе совсем легко, и я пытаюсь снова гасить улыбку на своем лице. Музыкой звучат ее слова «вы, бродяги». Стало быть, все, что будет с ее стороны к Митяю, то в равной мере будет относиться и ко мне. Если б она сказала «ты, бродяга» — тогда б все. Тогда пиши пропало. А тут — «вы, бродяги»…
Евдокея долго смотрит одним глазом на Митяя из-под толстых стекол очков. Другой глаз у нее закрыт, только впадина темнеет черной прошвой омертвелых ресниц, и мне трудно разобрать выражение ее взгляда.
— Марш на печь, — командует она нарочно грубым голосом, — и покуда я не управлюсь по хозяйству — не шамаркать тут у меня.
Мы одновременно сбрасываем валенки и через лежанку вскакиваем на печь, и уже оттуда Митяй просит:
— Мам, дай стекло из очков, что на левом глазу. Тебе оно ведь все равно без надобности. А мне — увеличительное стекло…
— Я те дам, — замахивается Евдокея полотенцем, которым она только что вынимала огромный чугун с коровьим пойлом.
— Мам, ну дай, — канючит Митяй до тех пор, пока Евдокея не выходит из избы.
Печка у Евдокеи большая, просторная. Для меня здесь знаком любой закуток, каждая вещь: и старая стеганка, постеленная прямо на поду, и пучок душистого перца, что висит на гвоздике в запечье, и оцарапанный коробок из-под конфет монпансье на карнизе с куском засохшего и потемневшего от времени мыла. Особенно любил я лежать на спине и рассматривать потолок. На струганых, пожелтелых досках отчетливо виднелись сучки. Один из них напоминал своими очертаниями голову лошади, другой — причудливо изогнутую вытянутую бороду деда Кондрата. А вот прямо посредине надо мной — извивающееся тело ящерицы, с шестью ногами по сторонам и с оскаленной пастью…
— Сань, — шепчет мне на самое ухо Митяй, — хочешь, покажу крючки, что надысь отрезал от старого дедовского перемета?
— Еще бы, — соглашаюсь я, боясь, как бы Митяй не передумал.
Но Митяй и не собирается передумывать. Он достает откуда-то из запечья спичечный коробок и выкладывает на ладонь с десяток поржавелых крючков, один из которых выделяется своей величиной.
Я не сдерживаюсь, беру в руки большой крючок и высказываюсь насчет того, какого огромного сазана или карпа можно поймать на этот самый крючок.
— Ну да, сазана, — пренебрежительно отвечает Митяй, — эти вот как раз сазаньи и есть…
Потом Митяй замечает, что я занял слишком много места на телогрейке. И я отодвигаюсь к самой стенке, освобождая всю телогрейку, вместо того чтобы отодвинуться чуть-чуть. Чувство жалости к себе переполняет мое сердце. Мне до боли обидно за то, что так быстро переменчив Митяй. Только что он заискивал перед матерью, ища во мне союзника, а теперь старается подчеркнуть свое старшинство, превосходство, положение хозяина.
— Хочешь, эти три крючка будут твои? — спрашивает Митяй. — И этот большой бери…
Он, видимо, заметил, что я могу вовсе разобидеться. Но что же все-таки его заставляет жертвовать даже крючками? Может, он боится, что я обижусь, уйду и больше к нему не приду. А лодка-то у нас, и вентеря наши. Что он тогда со своими крючками будет делать? А может, он не хочет, чтобы я уходил, потому, что Евдокеи долго еще не будет и ему просто не хочется оставаться одному?..
Желание иметь крючки, да еще один такой большой, берет перевес, и я, наконец, соглашаюсь.
— Ладно, давай, — говорю я и при этом даже опять подвигаюсь на край телогрейки.
В это время двери широко распахиваются, и на пороге появляется Андрей, самый старший брат Митяя. На лице у Андрея сияющая улыбка. Он всегда улыбается. Я не могу представить этого человека без улыбки. Сколько Андрею лет, ни я, ни даже Митяй не знает. Нам известно лишь то, что Андрею давно пора жениться, а он и не думает об этом. «Жениться не напасть, женатому бы не пропасть», — часто поговаривает он. У Андрея врожденное пристрастие к рифме. Редкое слово произнесет он не в лад. Вот и сейчас, завидев нас, лежащих на печи, он говорит скороговоркой: «Здорово, соколы? Не болит ли спина и около?..»
Работает Андрей в колхозной мастерской столяром. Но и колесное и бондарное дело знает превосходно. Руки у Андрея вечно в ссадинах и мозолях. Пахнет от него сосной и столярным клеем. И в голове у него, в жестких смолянисто-черных волосах вечно торчит желтеющая стружка.
Весной, когда река вскрывается и сельский почтальон не рискует перейти к нам и дальше, на хутор, где находится мастерская, — Андрей временно возлагает на себя роль почтальона. И утром, когда хуторяне интересуются корреспонденцией, он, улыбаясь, успевает всем ответить и всем в лад: «Письмо есть?» — «На березу лезь!» — отвечает он одному. «А тебе, Данила, разводят чернила», — сообщает другому. «А тебе, вдова, — сразу два», — подает он действительно два конверта солдатке-вдове Прошиной.
Андрей не спеша переодевается в прихожей, громыхая тяжелыми сапогами, обувается в обрезанные, без голенищ валенки, что служат ему домашними шлепанцами, и вдруг сообщает:
— Митяй! А солнце-то на заходе…
Я тоже понимаю, что это все значит. И мы почти разом соскакиваем с печи. Действительно, солнце уже коснулось вершины леса, и его по-мартовски яркие лучи еще щедро наполняют комнату каким-то необъяснимо теплым светом. Падающая от окна тень оконного косяка ложится ровной чертой на побеленной известкой стене, на которой ровными рядами прочерчены полосы. Это наши отметки. Их много. Полосы эти вначале очень частые, густые, а чем дальше вправо — все реже и реже. Это потому, что день с каждым разом прибавляется все больше и больше. Сегодня светлая полоса сместилась вправо на целых два пальца, а как дойдет до притолочного столба, что выпирает из стены, — быть ледоходу! До столба остается совсем немного.
Проходит несколько дней. Вода все прибывает и прибывает. Уже затоплены капустники и низины нашего огорода, ушли по самую макушку прибрежные тальники. Они стали теперь далекими от берега. А вода все шумит и шумит. «Идет сладкая вода с полей» — так говорит дед Кондрат.
И вот наконец лед трогается. «Пошел! Пошел!» — неистовствуют мальчишки на том берегу. Я узнаю Ваську Малышева и Витьку Клюева, Петьку и Сережу Бородиных. Мы теперь разделены друг от друга, хотя, правда, через разлившуюся речку можно переговаривать.
— Петька-а-а! — кричу я. — На Осорьге лед тронулся?..
— Гляди! Ого-го-го!.. — орут на том берегу.
Большая льдина с треском наскочила на другую, вздыбилась под напором воды и вдруг, соскользнув, плюхнулась, подняв серебряные фонтаны брызг…
— Пора спускать, — сказал Митяй, показывая глазами на лодку.
— Пора по дворам, — отзывается Андрей, которого мы в суматохе и не заметили. — Завтра, может быть, и можно будет, если лед пройдет, а сегодня и не думайте. Вот. Не то обоим на орехи перепадет.
Улыбка на лице Андрея холодная. И мы с Митяем понимаем, что на этот раз он не шутит.
Проходит еще день. Утром, когда я еще только умывался, прибежал Митяй.
— Сегодня можно, — сообщил он, — Андрей разрешил обочь русла, по огородам…
И вот мы бежим весенним садом к старой груше, где лежит наша лодка-одновеселка. Сталкиваем ее в воду, садимся и плывем вдоль капустников. Вода здесь не проточная, тихая, а за тальниками, где основное русло, течение ее стремительно — и мы пока побаиваемся туда заплывать. Скорее всего, конечно, боимся Андрея. И все же дважды заплывали за тальники. Первый раз, когда увидели плывущее бревно какого-то нерасторопного хозяина, а в другой раз забагрили плывущие двери от сарая. Митяй ловко подцепил их за ручку.
— Молодцы хлопцы, — похвалил нас Андрей, — только на стрежень не заплывать: как вода спадет, так у левады все подберем. Там такие терновники, что в Осорьгу ничего не уйдет.
Особенно понравилось Андрею бревно. Это был ровный пятиметровый дубок, который годился в хозяйстве на все: хоть на клепку, хоть на ободья, хоть на подвалины…
И все же мы не вытерпели с Митяем и заплыли еще раз за тальники, когда мимо нас проплывала большая дубовая бочка. Забагрить ее не удалось, зато нас так развернуло, что Митяй потерял равновесие, качнулся — лодка дважды черпнув бортами воды, стала тонуть. Стоя на корме, я отчаянно греб веслом, а Митяй, бросив багор на тальниковый куст, пытался подтянуть утопавшую лодку к берегу.
Дальнейшее произошло так быстро, что я до сих пор не могу восстановить в памяти тот момент. Случилось так, что я очутился по пояс в воде, стоя на затопленной лодке, а Митяй в это время медведем барахтался в кустах тальника. «Он выпрыгнул из лодки, а меня толкнул к берегу», — мелькнуло у меня в голове. Со страху я прыгнул и поскорее стал выбираться на сушу, а навстречу мне, на помощь Митяю бежал с осиновой слегой в руках Андрей.
Двое суток метался я в постели в горячечном бреду. И еще целую неделю пролежал в постели, обессиленный простудой. Ко мне ежеминутно подходила мать, садилась рядом и, зачерпнув серебряной ложечкой горячего молока с малиновым вареньем, шептала:
— Покушай хоть чуточку, золотце мое.
Ах, мама, милая, родная… Какая добрая, какая теплая, какая несказанно ласковая твоя рука, что так заботливо касается моего разгоряченного лба. Кажется, что через эту ее теплую чуткую руку в мое тело вливаются, возвращаются ко мне утраченные мною силы. Я впервые за эти дни тоже почему-то шепотом, чуть слышно произношу:
— А где Митяй?..
— Молчи, молчи, — в глазах матери испуг и мольба, — тебе нельзя говорить. Митяй тоже в постели. Он тоже болен. Молчи. Спи. — Она неслышно поднимается и так же неслышно уходит.
Когда мать ушла, я стал думать и смотреть в окно. Смотреть и думать. Пусть, рассуждал я, говорить мне нельзя, но смотреть и думать можно ведь? И я думал о Митяе. Я еще не знал, что он болен тяжелее моего. Что у него двустороннее воспаление легких. И чем больше я думал о нем, тем глубже проникался к нему какой-то неведомой до этого любовью всего своего мальчишеского пылкого сердца.
И не только потому, что он, жертвуя собой, спасал меня. Я был уверен, что, случись на моем месте кто другой, Митяй поступил точно так же, не иначе. И когда я пришел именно к этой мысли, грудь моя сжималась все трепетнее и трепетнее. Хотелось сейчас же, немедленно сделать что-либо очень и очень доброе, хорошее.
И я решил, как только поднимусь, сразу же отправлюсь к Митяю. Приду и скажу ему: отдаю тебе старое дедово ружье, которое я берег как самую заветную мальчишескую тайну. Отдаю его тебе насовсем. А лодка? Наша лодка будет на двоих…
За окном, на вишне сидел скворец и чистил крапчато-серое крыло. Потом он запел. Запел так обыденно просто и самозабвенно, как будто все, что было вокруг, — принадлежало ему. Он славил и провозглашал наступающий весенний день!..
Каска
Береза изранена люто,
И каска пробита насквозь…
Наверно, отсюда кому-то
Вернуться домой не пришлось…
Ю. МельниковЕще вчера в лиловом небе сверкало, гремело, на землю падали серебряные крупные капли, а сегодня следов дождя почти не осталось. Земля была настолько высохшей, что тут же впитывала благодатную влагу всю без остатка. При ярком утреннем свете сытно лоснилась и сама почва, и травы, и чуткая листва деревьев.
Хорошо в такой день ранним утром ехать за город, навстречу пахнущему хлебами и травами ветру. Поезд только что вырвался на простор, и потянуло таким плотным туманом, что за окнами вагонов едва улавливались очертания одиноких деревьев, кустов желтой акации, телеграфных столбов. И дальний лес, и задумчивая равнина, что медленно плыли навстречу, — все пропало вдруг из виду.
На одной из остановок мы выходим из поезда.
— Отсюда чуть не до самого леса автобус идет, — поясняет мне Алексей Еланов, мой товарищ, заядлый грибник и знаток здешних мест.
Утро такое чистое и теплое, что мы не решаемся садиться в автобус и идем пешком.
Охота наша в тот день выдалась не удачной. Корзины наши лишь наполовину наполнились шампиньонами, сыроежками и другой мелочью. Украшением их были несколько подберезовиков и один-единственный белый, который нам удалось найти.
— Грибница еще не вошла в силу, — так определил нашу неудачу колхозный пастух, стерегущий коров на опушке леса. — Места у нас хорошие, грибные, да и дожди выпали добрые, время нужно, — оправдывающим тоном добавил он, провожая нас взглядом до тропы, что вела к лесной дороге.
День разгорелся жаркий, но в лесу веяло прохладой. Весело шелестела листва осин, пахло сыростью, чуть покачивались лапчатые ветви мохнатых елей, паутина поминутно обволакивала лицо.
В чаще голубостволых берез мы разом и молча остановились вдвоем перед ямой, заваленной землею и порыжевшей прошлогоднею листвою. У края ее виднелся полуистлевший сруб.
— Здесь был рубеж, — выдохнул Алексей.
От краев ямы, в стороны тянулись зигзаги ходов сообщения. Теперь мы видели тут и там следы бывших окопов. Края их осунулись, заросли травой и кустарником.
— В сорок первом тут особенно жарко было, — как будто сам себе проговорил мой спутник, осматривая блиндаж.
Казалось, кроме блиндажа и брустверов окопов, ничто не напоминало здесь о прошедшей войне. В центре небольшой поляны особо выделялся среди других кряжистый, с многочисленными следами рубцов, ствол березы. Она была гораздо толще других, без макушки, но, так же как и все, буйно зеленела листвой.
Я спустился на дно бывшего блиндажа, шагнул по мягкой сухой листве, наступил на что-то округлое. Палкой разгреб многолетний пласт потемневшей листвы и достал из-под нее тронутую ржавчиной солдатскую каску.
Долго мы изучали находку, бережно передавая ее из рук в руки. Над узким козырьком, где довольно четко сохранился след пятиконечной звезды, — две пулевые пробоины. Сзади, у самой кромки, — овальная пробоина с рваными вовнутрь краями — след осколка…
Мы не сказали друг другу ни слова, но я почему-то был уверен, что Алексей в эту минуту думал о том, о чем думал и я, — о бывшем владельце этой каски. И еще мне казалось, он, так же как и я, втайне верил тому, что в тот коварный миг для него, неизвестного бойца, все обошлось благополучно. По крайней мере, нам обоим, видимо, думалось именно так.
Был полдень, когда мы вышли на опушку леса. Дорога была рядом. Впереди, на обочине, поросшей одуванчиками и донником, стоял указатель. На голубой доске значилось: «До Колодезного 20 километров».
На обратном пути к Воронежу было, казалось, еще многолюднее. Шумная толпа пестро одетых людей быстро заполняла вагон, все проходы и тамбуры. В город возвращались дачники, грибники и просто отдыхающие. В вагоне запахло земляникой, полевыми цветами, березовыми ветками, грибами.
— Что ж вы… своим рюкзаком-то… — возмущалась молодая женщина, сердито оборачиваясь на соседа, высокого мужчину, который тщетно пытался стянуть лямку с плеча.
— Виноват, виноват, — извинился за товарища другой мужчина, помогавший снять мешок.
— «Виноват», — передразнила она.
Наконец все разместились, все уселись. В нашем купе, кроме нас с Алексеем, находилось двое мужчин, сидящих у окна друг против друга, и довольно молодая семья: одетый в синюю спортивную куртку молодой человек и в костюме такого же цвета женщина, его жена. И мальчик лет десяти — одиннадцати — их сын, стриженный наголо, с оттопыренными ушами.
Особый интерес для меня представлял почему-то сидящий рядом со мной мужчина, тот, на которого все еще сердито, исподлобья поглядывала женщина и, казалось, с неприязнью смотрел ее муж и даже сынишка. Одет он был просто, по-рабочему. Крупные черты лица, густые висячие брови, тяжелый сосредоточенный взгляд — все выражало в нем замкнутость и угрюмость. Поначалу даже представлялось, что человек этот глухонемой. Но судя по тому, что он согласно кивал своему собеседнику, рассказывающему что-то, видимо, интересное, — догадка эта отпадала. Хотелось услышать его голос. Казалось, он должен быть низким и хриплым, как у отсыревшего контрабаса. И было в этом человеке еще что-то такое трудноуловимое и несколько загадочное, что хотелось непременно узнать хотя бы немного о его жизни, его судьбе.
Максимка — так звали мальчишку, как мы узнали об этом после, — рассматривал всех с видимым любопытством. Глаза его по-мальчишески загорелись особо, когда он увидел в моей корзине виднеющуюся из-под листьев папоротника каску. Он молча смотрел то на меня, то на мою корзину. Я понял его желание. Выдвинул из-под сиденья корзину и достал каску. Разговор, который, как это бывает, завязывается в первые же минуты, стих. Все с большим любопытством стали рассматривать мою находку.
— Да-а, — только и смог сказать молодой человек в спортивной куртке. С полуоткрытым ртом он изучающе глядел на своего соседа, мужчину, который сидел как раз против меня.
— Пулеметная очередь, — определил тот, исследуя пулевые отверстия. — Как раз в левый висок приходится.
Молодая женщина в спортивном костюме вытянулась вперед, пристально заглядывая на каску. На ее красивом смуглом лице можно было разглядеть и тревожное чувство любопытства, и тень не осознанной еще боязни, и то смутное душевное беспокойство, какое испытывает человек, память которого возвращается к событиям далекого детства. Она протянула руку к мужчине, моему соседу, на которого только что смотрела сердито. Глаза ее теперь лучились теплом и любопытством. Сосед мой, успевший завладеть боевым трофеем, бережно передал его в ее руки.
Против нашего купе стоял высокий человек с выправкой военного, со шрамом на щеке. Он молча протянул руку, взял боевую каску и долго разглядывал ее. А потом так же молча вернул. Трудно было определить его мысли. Слишком серьезным было выражение его лица. Лишь взгляд его, как мне показалось, еще больше посуровел.
— А может, боец тот и жив остался? — робко спросила женщина.
Ей никто не ответил.
Наступила минута молчания. Все, казалось, испытывали одни и те же чувства, находились в одинаковом взволнованном состоянии. И это был момент именно той близости, которая возникает между людьми тогда, когда что-то общее, что касается всех и каждого в отдельности, вдруг становится предметом внимания.
Меня тоже занимала эта наивная и, казалось, нереальная, обращенная в далекое прошлое, надежда, которую сейчас предвосхитила женщина. Мне тоже хотелось верить, что солдат — хозяин этой каски — остался жив. Хотя что было в том, если бы это и случилось именно так? Разве мало погибло людей в минувшую войну? Что значит еще одна эта смерть в числе миллиона других?.. И все же… все же…
Хотелось верить, как казалось, и всем остальным. Сомневался разве лишь мой сосед, на лице которого было трудно что-либо прочесть.
Молчание нарушил именно он. Протянув руку, взял каску, долго рассматривал ее, а потом голосом хотя и хриплым, но, к моему удивлению, довольно высоким сказал суровые в своей правде слова:
— Не спасла, видимо, хозяина каска, хотя многим жизнь сохранила.
Он повернулся к своему товарищу и, как будто не замечая всех остальных, — вздохнул:
— Да, война… Помнишь, Михаил, когда в сорок втором вернулся я из-под Сталинграда?..
— Ну, — отозвался тот.
Все, кто сидел в нашем купе, повернулись в сторону говорящего, все лица, в том числе и физиономия мальчишки, выражали напряженное ожидание.
— Это по второму ранению… А как все получилось. Попал наш взвод разведки под минометный огонь. Оставалось всего-навсего балочку перейти, а за бугорком — наша передовая. Фриц бьет — живого места нет. А мы в канаву со своим ЗИСом попали. С одной стороны — хорошо, в низине, немец не видит, а с другой — быстрее к своим надо. Командир у нас — умница, старший лейтенант Ярцев, туляк был. Сообразительный…
«Стоп!» — говорит.
Вытащили машину из канавы.
«Видишь, Иванов, дорогу?..» — «Вижу», — отвечаю.
А дорога действительно через бугор идет прямо к нашим позициям, только фашисты ее пристреляли.
Все с большим вниманием и интересом слушают рассказчика. Женщина вытянулась вперед, глаза ее расширились. В них был и страх, и любопытство, и какая-то еще не осознанная ею гордость за тех солдат-разведчиков, и за их командира, и за самого рассказчика. Мальчишка встал с места. Подошел почти вплотную к мужчине и, заглядывая в лицо, старался не пропустить ни единого слова.
«Так вот, — приказывает мне командир. — Ты не по дороге, а в объезд, по целине газуй. Пока гитлеровцы огонь перенесут — ты и проскочишь. Ясно?» — «Так точно», — отвечаю. «Остальные — за мной!»
Пошли они ложбиной в обход бугра. Я подождал, пока взвод перевалит через перевал, и на полном газу рванулся вперед. Только выскочил наверх — ударили минометы. Вижу краем глаза: по дороге бьют. Мины, будто по заказу, через одну — то в канаву, то в колею попадают.
Опомнились минометчики, да поздно уже было, машину я вывел в безопасное место. Правда, достал-таки меня шальной осколок. Как сейчас помню: потемнело вдруг в глазах, падаю на сиденье…
Резануло меня тогда в затылок. Хорошо — в каске был. Хирург в санбате так и сказал: осколок силу потерял, пока пробил стекло кабины, а главное, каску, — в черепе застрял. Не будь ее — все! А так отлежался в санбате сначала, потом в госпитале. Долго лежал, временно речи лишился, на зрение повлияло. Зато когда отлежался — до самого Берлина дошел, на рейхстаге расписался…
Долго потом хранилась эта каска на моем письменном столе. А потом я подарил ее ребятам из соседней школы, следопытам боевых дел отцов своих и дедов. Лежит она теперь в священном уголке небольшого школьного музея, напоминая о всех павших и живых героях.
Заезжий гость
Настёнка вздрогнула от неожиданности, подбежала к одинокому дубку, прижалась к его шершавой, пахнущей сыростью холодной коре. Прислушалась. Теперь она ясно различала прерывистый, надрывный гул ревущих где-то в небе моторов. «Нет, это не наши. Наши так не гудят. Они гудят ровней», — подумала Настёнка и еще плотнее прижалась горячей щекой к стволу. Дубок был молодой, но уже высокий и достаточно развесистый для того, чтобы укрыть девушку от постороннего взгляда с неба. А вскоре она увидела низко, у самого горизонта, две быстро увеличивающиеся точки, которые стремительно приближались. Еще минута — и два самолета с черными крестами прошмыгнули над самой поляной и также стремительно взмыли вверх, круто кренясь на правое крыло. Скрылись они за лесом так же неожиданно, как и появились. Но Настёнка понимала, что этим дело не кончится, и из своего укрытия не выходила, ждала.
И точно, через минуту-другую они появились опять, но уже в противоположной стороне. Теперь они летели над татарскими полями гораздо выше, а еще выше навстречу им несся тупоносый ястребок. Вскоре они захороводили хоровод. «Та-та-та-та-та-та», — торопился один. «Ду-ду-ду», — скупо отвечал другой. «Всегда так, — с горечью думала Настёнка, — всякий раз их больше…»
Но это еще куда ни шло: один против двоих. Не так давно она сама видела, как один против четверых дрался. Двоих гитлеровцев сбил тот раз наш ястребок, но и сам не уберегся. Подбили и его. Все село видело, как над лесом задымил краснозвездный самолет и упал в чащу.
Видели все также и вспыхнувший над самым лесом белый купол парашюта. Интересно: удалось ли летчику остаться в живых? Может, разбился при падении, а может, его успели расстрелять. Те двое еще долго там кружили. Всем верилось и хотелось: чтобы летчик остался жив. Да оно так, видимо, и было. Во-первых, бой шел над своей территорией, фронт в двадцати километрах отсюда. Немцы на правом берегу Дона, а во-вторых, дед Овсей с ребятишками в тот же день всю местность прочесали — ничего не нашли. Стало быть, летчик ушел. А то бы если не его самого, так парашют бы нашли-то. Он вон какой большой, да на деревьях если завис?..
Так думала Настёнка о воздушной схватке, что случилась тут над их Колодеевкой четыре дня тому назад. О самолетах она на какое-то мгновение и забыла. И когда вгляделась, черные точки кружащихся самолетов теперь были слишком далеко и еле слышны были их перестуки. Скоро они и вовсе пропали из виду и — ничего не стало слышно.
Настёнка подняла с земли корзину, что стояла у ее ног на траве, привычным движением вдела руку под полукольцо ивовой крученой ручки и направилась к поляне, где высились зонтики тысячелистника, желтели пятачки ромашек в белых созвездиях лепестков, и прозрачно светились на солнце бледные, фиолетово-розовые соцветия чебреца — тут всего этого было много.
А потом она пойдет к речке Павке за ирным корнем и по пути наберет донника. А главное, свежих листьев коровяка.
Мать приказала без них не возвращаться. Все эти цветы, корневища и просто травы разложены у нее каждая по отдельности. Так делать ее учила мать. Лопух Настёнка не брала. Его и дома полным-полно. Целые заросли прямо у самого двора. Вернется, надергает корней — отдельно листьев сорвет тоже. Еще просила ее мать наведаться к татарским полям, поискать чертова пальца или, как его здесь называют, пацин-пальца. Только тут он и водится.
* * *
Даниловна привычно задвинула горшок в печку, приставила чугунную заслонку и, расправляя занемевшую спину, вошла в горницу. Вошла и сразу отметила про себя: тот, что лежал на диване, увидел ее и слабо, совсем еще беспомощно, улыбнулся. Другой, лежащий на высокой никелированной кровати, все так же был с закрытыми глазами и еле слышно стонал.
Три дня назад перед избой Даниловны остановился грузовик с красным крестом на борту. Молодая женщина с большой сумкой на широком ремне и тоже с крестом попросила Даниловну оставить у нее двоих тяжело раненных бойцов, которые вряд ли выдержат путь до госпиталя. Так объяснила женщина. «На одну ночку, хозяюшка, завтра чуть свет за ними придет машина… Одну ночку…»
— Что ты, милая. С дорогой душой, — согласно кивала Даниловна. Она тут же повела женщину за собой в горницу и стала готовить постели.
Медсестра с помощью шофера осторожно уложили раненых. Потом она достала из своей сумки ножницы, пинцеты, бинты, какие-то лекарства… Вспорола обгоревший до самого воротника рукав на молодом, белобрысом, что лежал на диване. Долго колдовала над его рукой. Даниловна ненароком заглянула: молодой, совсем еще парнишка… Боже мой, вся рука обгорела, и плечо, и даже шея…
— Танкист, — пояснила медсестра, — ранен в голову и обгорел вот… — Она попросила Даниловну придержать голову бойца и стала выстригать окровавленный затылок. Волосы, запекшиеся в сгустках крови, тяжело шлепались на пол. Потом она достала вату, смочила ее раствором йода, стала осторожно обрабатывать рану, рваные края которой постепенно обозначились. Рана была крестообразной.
— Осколочная, — как бы про себя отметила медсестра.
Забинтовав паренька-танкиста, она принялась за другого раненого. Тот был выше ростом, бритое лицо его отсвечивало какой-то особенной бледностью.
— Большая потеря крови. Этого я успела перевязать. Надо только ослабить жгут…
Солдат был ранен в ногу и плечо, и оба ранения были тяжелыми, особенно на ноге.
— Ну вот, теперь хорошо, — сказала медсестра, поправляя вспоротую штанину солдатских галифе. — Приглядите за ними, пожалуйста… Может, пить попросят… а то у меня вон полная машина таких.
— И не беспокойся, молодица, — заверила Даниловна, — все будет в аккуратности.
Она проводила нежданную гостью до порога, наблюдая, как та сначала заглянула в кузов машины, что-то кому-то сказала и лишь после этого, махнув Даниловне на прощанье рукой, хлопнула дверцей кабины. Когда машина, поднимая пыль, скрылась за поворотом, Даниловна вернулась в сени и стала разбирать высохшие пучки корневищ и трав, висевшие у нее по всей стене до самого чердака.
Тут висел коричневый, словно прутья краснотала, корень калгана, голубеющие пучки базилика, корневище девясила, листья и почки обыкновенной березы, маленькие, словно крохотные венчики — пучки кровохлебки, пастушья сумка, мать-и-мачеха, горец, полынь… Из всего этого богатства Даниловна выбирала нужное для нее именно сейчас. Делала она это по-хозяйски не спеша и просто, как делала всегда все по хозяйству. В первую очередь нужны были отвары и настойки, а уж потом она приготовит и мази, и присыпки. Дело это для нее привычное.
Четвертый день Даниловна пользовала постояльцев своими снадобьями. Она по-матерински, часами просиживала у их постелей. Молодой, беленький (как Даниловна про себя называла танкиста) — тот ничего. Пить просит сам, разговаривает. Сказал, что он из-под Арзамаса.
А тот, другой, — сутки лежал с закрытыми глазами, лишь на второй день принял два глотка отвару. Зато к ранам для Даниловны был доступ постоянный. Она через каждые час-полтора меняла примочки, промывала и пересыпала раны.
И вот, может быть, это само по себе, а может, и от ее лечения, но беленький сегодня улыбнулся. Слабо, совсем еще беспомощно улыбнулся, и улыбка эта ее обрадовала.
* * *
Пошли седьмые сутки с того дня, когда машина с красным крестом отъехала от их подворья и скрылась за поворотом. Седьмой день Даниловна неотступно следила за ранеными. Поила их, кормила. Уже и тот, что на кровати, пил молоко, и два раза Даниловна кормила его с ложечки бульоном. А танкист даже пытался вставать, но голова у него шла кругом и он тут же падал на постель. О том, почему все же до сих пор за ранеными не приезжают, Даниловна как-то особенно не задумывалась. Такое время тревожное. Всякое могло случиться. За неделю она привыкла к своим солдатикам, и теперь ей даже и не хотелось, чтобы их забирали, не дав встать на ноги.
А с машиной и в самом деле случилось неладное. По дороге, в открытом поле машину с ранеными обстреляли с воздуха, повредили мотор и ранили шофера. Ни Даниловна, ни Настёнка, которая в тот день ходила за лечебными травами, еще не знали, что в двадцати пяти километрах от них машина была подбита и почти трое суток простояла на месте. Настёнка — та даже видела этих «мессеров», что пролетали над поляной, и наблюдала, как наш ястребок вступил с ними в воздушную схватку.
Хорошо, что на пути санитарка повстречалась с двумя санбатовскими машинами. Пока обрабатывали раненых и налаживали поврежденный мотор, прошли еще сутки С трудом преодолев остальные двенадцать километров, санитарная машина, ведомая раненым шофером, въехала на пустующий двор госпиталя. Оказалось, за это время его эвакуировали в другое место. Последняя машина хозяйственников, правда, не успела еще уехать. Да и с ней заблудились. Вместо одной Давыдовки — в другую покатили. Как нарочно, две Давыдовки в одном районе оказались.
— Ох-хо-хо, — ворчала старая Даниловна, перемывая крынки из-под молока. — Настёнка! Сходи, дочка, по воду. Бачок совсем пустой. Да гусей заодно погляди, а то они больно уж ловко на грядки ходить приладились.
— Приехали! Ой, к нам идут, — прошептала Настёнка. Она так и застыла в сенях с ведрами в руках перед распахнутой дверью.
Не успела Даниловна и платок на голове поправить, как в избу вошла знакомая медсестра, а с нею двое военных. Один совсем еще молодой, другой — постарше, с седыми висками.
— Простите, мамаша, — сказала медсестра, поздоровавшись, — задержались мы, накладка вышла. Как раненые?
Даниловна торопливо открыла дверь в горницу:
— Проходите, вот они, вот…
— Удивительное дело, Виктор Ксенофонтович, — признался старший, осмотрев ногу раненого. — Я полагал, что в подобной ситуации гангрена неизбежна. Удивительно…
— А вы как себя чувствуете? — подошли они к танкисту, который во все глаза смотрел на вошедших и слабо улыбался.
— Порядок, только вот голова кружит, когда поднимаешься и со зрением что-то неладно.
— Осколочное ранение в затылок, — напомнила медсестра.
— Знаю, — недовольно почему-то поморщился старший. Он долго рассматривал рану, поворачивал голову танкиста затылком к окну, наконец, как бы в раздумье, не обращаясь ни к кому конкретно, произнес:
— Признаки гемианопсии — это естественно. Но оболочка повреждена или нет? Вот вопрос. Кажется, нет. Впрочем, разберемся на месте.
Виктор Ксенофонтович, который еще не произнес до этого ни одного слова, сказал:
— Разрешите, Федор Григорьевич, взглянуть на ожог.
— Да, да, батенька, взгляните.
— Весьма, весьма… Но как все это прикажете понимать, — проговорил Виктор Ксенофонтович, рассматривая обнаженную руку танкиста, где на месте ожога лоснился сизовато-розовый налет. Лишь ниже плеча, величиной с пятачок, мокрело коричневое пятно.
Федор Григорьевич, снявший было очки, снова водрузил их на мясистый нос, молча смотрел на танкиста. Подошла поближе и медсестра.
— Мамаша вот, — сказал танкист, — спасибо ей. Она как еще первый раз примочку сделала да присыпала чем-то, а потом листьями обложила — сразу почувствовалось облегчение. — Танкист опять слабо улыбнулся.
— Как ваше имя-отчество, хозяюшка? — спросил Федор Григорьевич. — А то неудобно как-то получается.
— Федосьей Даниловной зовут, батюшко.
Врач слегка улыбнулся. Глаза его, стального холодного цвета, вмиг потеплели, залучились.
— Чем же и как вы лечите?
— А смотря что.
— Ну, ожоги, например?
— Ожоги, батюшко, лучше нет при ожогах коровяка, мать-и-мачехи, калгана, можжевельника, пацин-пальца.
— Любопытно. — Виктор Ксенофонтович даже фуражку снял.
— Сушеный толченый калган да струганый палец — присыпка, а на постном масле — мазь. Примочку еще — ту варить надобно, — рассказывала Даниловна. — А после всего лучше нету свежего листа коровяка, сваренного на молоке для прикладывания.
— А для ран?
— Для ран и другие травы требуются: кровохлебка, лопух, девясил, зверобой, вероника, базилик, ирний корень, горец, медуница…
— И все у вас это имеется?
— А как же, батюшко.
Военные переглянулись.
— Но вы, Федосья Даниловна, у кого-то учились всем этим премудростям, так? Как это у вас все получается?..
— А я с рождения, с детства сноровку такую имею.
Даниловна уловила на лицах военных печать недоумения, поспешила пояснить:
— Мать у меня была умелица в этом. А она от сестры своей матери переняла. Ее-то мать, стало быть моя бабушка, сноровки той не имела. Вот как у меня, к примеру, сейчас: младшая, Настёнка, все навыки на лету схватывает, а старшая, которая в городе живет, — никакого понятия не имеет. От природы все и дается…
— Любопытно. А еще что вы лечите?
— Еще? — удивилась Даниловна. — Еще простуду, золотуху, экзему, желтуху, вены на ногах. Да мало ли что…
— Венозное заболевание ног, например, что тут надо?..
— Перво-наперво — цмин песчаный, собачье мыло, летний прострел, корень лопуха, мать-и-мачеху, аир — все это варить и, как есть, парить ноги.
— Какая же должна быть температура? — опять вступил в разговор Виктор Ксенофонтович.
— Как? — не поняла Даниловна и повернулась к нему.
— Я говорю, как должна быть горяча ванна.
— А-а, — понимающе отозвалась Даниловна, — кто как терпит. Сколько есть терпения, чтоб держать, — так и хорошо будет.
— Ну, спасибо вам, Федосья Даниловна. За все спасибо. Нам пора собираться, — сказал Федор Григорьевич, поднимаясь.
Когда выводили из избы танкиста — он даже слезу пустил:
— Дайте, — говорит, — мамаша, адрес. Я, — говорит, — жив останусь — заеду к вам после войны…
Адрес писала ему Настёнка.
* * *
— Вам, батенька, как терапевту, не бесполезен, надеюсь, этот наглядный урок народной фитотерапии, — заговорил Федор Григорьевич, когда машина выехала на большак. — Насколько я понимаю, Федосья Даниловна весьма точна и изобретательна в подборе компонентов.
— Весьма, — согласился Виктор Ксенофонтович. — Жаль, что я в свое время, да и сейчас — никогда не был сторонником даже гомеопатии.
— И зря.
— Вижу, что зря.
— Помните, какое значение народному лечению растениями придавал Суворов? Посредством наставлений, даже специальных приказов по армии великий полководец утверждал, что нет лучше средства против цинги — травушки-муравушки, щавеля, капусты, хрену, табаку…
— Да, да, — соглашался Виктор Ксенофонтович, утвердительно кивая головой в такт автомобильной качке. Тонкие стекла его серебряных очков матово поблескивали в темноте кузова. — Однако не дождь ли это? — перевел он разговор, потирая высокий лоб. — Капля ударила.
Федор Григорьевич повернулся, заглянул вверх.
— Надвинуло невпроворот: нет худа без добра.
— Как понимать? — не понял Виктор Ксенофонтович.
— Погода нелетная, не обстреляют. А вот что делать, если хлынет ливень и засядем на этих проселках?..
— Проскочим… Я вот что, — вернулся к прерванному разговору Виктор Ксенофонтович, — думаю, следует нам взять кое-что из арсенала Даниловны. Это весьма доброе подспорье при нашем голоде на медикаменты.
— Вот именно, батенька.
— Взять, к примеру, степную траву — пармелию. У нас на Урале казачество испокон веков ее пользовало как быстродействующее кровоостанавливающее средство. Ее так и называют в народе — порезная трава. Я как-то еще в годы студенчества имел с нею дело и убедился в ее целебных свойствах. Как бактерицидное средство при обработке ран — она поистине незаменима. А сколько ее тут произрастает?..
— В том-то и дело, — с укором не то себе, не то собеседнику, не то одновременно и себе и ему, произнес Федор Григорьевич.
Между тем иссиня-темная туча, развернувшись всей своей громадой, полностью закрыла светлеющую полосу горизонта. Стало темно. Ливень шел правой стороной, а тут, где лежал большак, под ее лиловым крылом с рваными, вихрящимися краями — дождевые нити висели неровными синеющими полосами.
Грузовик наматывал на колеса липкие ошметки чернозема, выбрасывая их из-под кузова далеко за собою, и, натужно завывая, двигался и двигался вперед. Наконец он вырвался на песчаный косогор и легко покатил под уклон, навстречу солнцу, пробивающемуся сквозь редеющее оперение иссиня-темного крыла тучи.
* * *
Поначалу Даниловна не могла свыкнуться с мыслью, что ее постояльцев нет больше в горнице. За неделю она так попривыкла к ним, что теперь и не верилось, что они где-то там, далеко. Еще вчера она привычно входила то с молоком, то с чаем; вносила отвар и отмачивала перевязки, промывала раны, смазывала их, присыпала своими присыпками, перевязывала. Вот и сегодня она то и дело заходила в горницу. То ей казалось, что стонет тот, что лежал на кровати, то слышалось, как кашляет и чего-то просит танкист. Входила она, видела пустые постели — и сердце ее почему-то сжималось в груди от какой-то ноющей тупой и щемящей боли. Да и дело не клеилось в руках. Утром сбежало молоко, а суп — пересолила. Как и все эти дни, приготовила полный горшок целебного чая. Лишь когда стала задвигать в печь горшок — опомнилась: зачем столько? Солдатиков нет, а им с Настёнкой и чайничка-кофейничка хватит.
Даниловне по-матерински было жалко солдат. Особенно беленького парнишку-танкиста. Подлечат его — и опять на фронт. А ему-то и годов всего — небось и двадцати еще нет, думала она. Ей так же было жалко и того другого. Она только теперь вспомнила, что не расспросила его, откуда он родом. Даже имени его не узнала. А сам он все больше молчал. Характер, видно, такой. Не то что этот Федор из-под Арзамаса. Тот все рассказал: отец воюет, мать-учительница с сестренкой и братишкой остались… А этот все молчал. Да и как заговоришь, когда боль такая. Да и мысли какие могут быть веселые, если гадать приходится: останется нога целой или отнимут? Чего уж тут хорошего. А парень тоже молодой. На каких-нибудь два-три года, может, и постарше Федора…
«Как-то там мой Андрюшка? Может, так вот же, как эти ребята. А может, и того хуже? Четвертый месяц ни слуху ни духу…» — Даниловна всхлипнула, вспомнив своего средненького, двадцатилетнего сына. И тут сразу же подняла голову Настёнка. Она отложила ножницы с шерстяной вязкой, подошла к матери:
— Это что еще такое? Как мы договорились.
— Все, все, доченька, не буду.
У них уговор такой: не плакать.
— Все, все. — Даниловна вытерла глаза кончиком передника, вышла из горницы.
Настёнка тоже думала в это время о них. Ей представлялся весельчак-танкист выздоровевшим. И ей хотелось, чтобы он скорее выздоровел. Иначе он вряд ли пришлет ей письмо. Нет, из госпиталя он ни за что не станет писать. Это Настёнка чувствовала своим девичьим сердцем. Он обязательно напишет, но напишет непременно с фронта, с фронтовым приветом… Она представила себе, какой тугой треугольник получит от Феди-танкиста, и ей хотелось, чтобы случилось это как можно скорее.
Шло время. Однажды, когда Настёнка была в огороде, а Даниловна перебирала во дворе вынесенную из погреба прошлогоднюю картошку, у их подворья опять остановилась машина и в калитке появился военный. Даниловна сразу узнала в нем того, в очках, которого звали Виктором Ксенофонтовичем.
— Здравствуй, мать… Здравствуйте, Федосья Даниловна, — поправился гость, близоруко щурясь. — Вот… по пути заехал.
— Как там мои солдатики? — осведомилась первым делом Даниловна, поздоровавшись.
— Ничего… Поправляются…
Настёнка, увидев во дворе гостя, тоже подошла.
— Оперировали их, — продолжал рассказ Виктор Ксенофонтович.
— Что так-то, — не разобрала Федосья Даниловна.
— Сделали операцию, — пояснил военный. У танкиста, у того, что в голову ранен, осколок извлекли.
— У Феди, стало быть.
— Да, у Федора Смирнова. А у Равиля Хабибуллина ногу поправили.
— Да он не русский? — изумленно спросила Даниловна.
— Татарин.
— То-то, я гляжу, он все молчит и молчит. — Женщина поднесла край передника к губам, скорбно сложенным на морщинистом лице. — Хоть он и не христианин, а все разно жалко… Что ж я стою, — опомнилась Даниловна, — идемте, я закусить сготовлю. Я мигом.
— Спасибо, спасибо. Я — пообедал. Вот испить бы чего.
— Есть, квасок есть добрый.
В сенях военный задержался.
— Хотел бы я, Федосья Даниловна, познакомиться с вашими травами-кореньями. Можно?..
— Ии, трава-корень. Много ее тут, а вам зачем? — удивилась хозяйка.
Она взяла из угла сеней лестницу-стремянку:
— Идите, батюшко, в горенку, идите, а то пыльно больно. Я внесу. Что надо, то и внесу.
Долго. Почти полдня, до самого вечера пробыла Даниловна с военным в избе. Она то и дело вносила ему свои травы, рассказывала, что и как варить-парить, а он что-то писал и писал в толстую тетрадь. Заглядывал в какую-то книгу и все спрашивал и спрашивал.
Уехал он под самый вечер. И для Даниловны осталось тайной: действительно ли он ехал мимоходом или заезжал специально. Как было загадкой для Настёнки: скоро ли пришлет ей письмо весельчак-танкист Федя Смирнов и что будет потом?..
Встреча без расставания
Он знал, что сейчас ее увидит. Знал — и все равно, не то чтобы растерялся, но был заметно взволнован. С мужчинами поздоровался за руки, а ей поклонился, улыбнулся и сказал: «Здравствуйте».
Она даже не улыбнулась в ответ, только глаза ее, большие и серые, вспыхнули издавна знакомым ему светом, и еле слышно ответила на приветствие. Но об этом он скорее догадался по ее вишневым полным губам.
— Ба-а!.. Да это ты, Сашок?! Вот не ожидал!.. Вот это встреча!.. — гремел стульями вошедший на террасу хозяин дома Василий. — Сколько лет, сколько зим! Давайте в сад! Все — в садок, за хату!
Под разлапистой кроной огромной груши в саду было прохладно и свежо даже в жаркий день.
Хозяева захлопотали: надо было готовить стол.
— Один момент, — извинительно попросил гостей Василий, — всего шестьдесят секунд. — И, кивнув жене, он вместе с ней скрылся на кухне, что стояла тут же в саду.
Василий Мамонтов — школьный товарищ Александра, полнеющий блондин с выгоревшими ресницами и крепкими, в рыжих веснушках, руками, вот уже более десяти лет работавший под Полтавой хирургом, — гостил в родительском доме. Александр узнал об этом в последние дни своего отпуска, который он проводил у стариков в Саватеевке. И вот эта встреча. И какая! Здесь была Она, тоже со своим мужем, капитаном артиллерии, тоже соклассником, Алексеем Ситниковым. Анна!.. Анюта… С ней Александр не виделся семнадцать лет…
Александр досадовал на себя, что, как мальчишка, растерялся. Даже не поздоровался с ней за руку. «Но она же была занята, — мысленно успокаивал он себя, — держала в руках блюдо со сливами».
Александр окинул взглядом беседку, дощатый круглый столик, грядку с поздними астрами, но ее бордового платья сквозь кусты жасмина уже не было видно: «Ушла, наверное, на кухню, помогать».
Гости — молодой человек, назвавшийся при знакомстве Владимиром, худенькая девушка в желтой кофте и Ситников — о чем-то горячо спорили. Поняв, что его приход прервал какой-то серьезный разговор, Александр вышел в сад и медленно зашагал по дорожке. Жесткие ветки разросшихся яблонь поминутно цеплялись за волосы, задевали его лицо, но он не замечал всего этого, он был во власти воспоминаний.
* * *
Шла третья послевоенная весна. Это было семнадцать лет назад, и было им тогда ровно по семнадцать. Да, по семнадцать лет…
Весна и начало лета в тот год были теплыми, дни светлые, ливневые. Стужину тут же вспомнилась песенка тех лет (никогда раньше не вспоминалась ведь), — песенка, ничем не примечательная. Начало ее он теперь не помнил, но были в ней слова, да и сам напев, — которые соответствовали тогдашним дням и настроениям людей:
…В нашей жизни всякое бывает, Налетают тучи и гроза. Ветер утихает, тучи уплывают — И опять синеют небеса…Тогда было очень много грозовых ливней. Хлеба стояли в полях густые, высокие. Рожь только начинала наливаться. А народ голодал. Неурожай сорок шестого года давал о себе знать. Но что такое голодная весна, когда тебе семнадцать?.. Когда душа поет и предстоящее, кажется, вот оно:
Мое счастье где-то недалечко. Подойду да постучу в окно…Как коротки были тогда лунные ночи. Анна, Аня, Аннушка… Кажется, и сейчас Стужин слышит запах ее белесых волос, неповторимый дух влажного еще, свежевыстиранного ситцевого платья. Кажется, это сейчас звенит ее голос и светятся особым, ее светом большие серые глаза, в улыбке вздрагивают ее полные, словно перетянутые ниткой, красивые губы и темнеет родинка на розовой щеке.
Тогда они дали друг другу клятву: что бы ни случилось в жизни с каждым из них — они должны встретиться, должны быть вместе. Поклялись…
Осенью того года они учились в одном и том же городе, на медицинском факультете. Общежития их были рядом. Все было хорошо. Одно только обстоятельство вело их к отчуждению и в конце концов привело к разрыву.
Отец Александра погиб в сорок третьем под Курском. Оставался он с больной матерью один: вот и вся семья. Имел единственный костюм, да и тот перелицованный, с чужого плеча. Отец Анны в начале сорок пятого был в Германии, высылал оттуда посылки. А потом вернулся, стал работать мельником на совхозной мельнице.
Как ни деликатно, как ни осторожно относилась Анна к Александру — он был горд, он не любил, когда она говорила: «Это нам прислали». Он понимал — «Это — ей». Не мог он есть ее бутерброды. Перевелся в областной институт, чтобы учиться и работать одному, без посторонних глаз.
А там — второй курс, а там — армия. Служил на Дальнем Востоке. Как все случилось — теперь трудно сказать, но он думал все время о ней, о ней, о ней… Помнится, из-за чего-то вышла размолвка, и он временно перестал писать. А тут перевели его в другое место. Вскоре и она переехала в другой город — так они на время и потеряли друг друга…
Прошло семнадцать лет. У нее уже два сына. Старший, красивый, рослый блондин, — вылитая мать…
«Как глупо, как все бездарно, — думал он. — Нет, она же была чем-то занята, конечно…» А глаза вспыхнули все тем же светом, как семнадцать лет назад.
Тут Александр стал успокаивать себя: «Ну, что я в самом деле, как мальчишка. Взрослый человек, отец семейства, доктор наук; выпустил книгу… Не всякую докторскую диссертацию издают». Он и сам понимал, что ему повезло. Разработанная им система отладки «клапанов» в резекции при язвенных болезнях желудочного тракта — дело перспективное. Не зря о нем заговорила пресса.
Еще ни Мамонтов, друг Александра по духу и призванию, ни Ситников, школьный товарищ, военврач, ни она, Анна, не знали, что тридцатичетырехлетний Стужин уже профессор одной из ведущих столичных клиник. Александр знал, что сказать об этом ему так или иначе придется (разговор будет), а говорить ему не хотелось и скрывать он не мог. И не хотел. И от этого чувствовал себя неловко.
— Сашок, где ты? — хозяин вышел из-за вишневых зарослей. — Идем-ка, брат, все уж готово, ждем тебя.
Еще издали Александр опять увидел ее бордовое платье, и сердце его забилось учащенно.
Свободное место, куда указал гостеприимный хозяин, находилось на противоположном конце скамейки, где сидела она. Стужин мог ее видеть, лишь выдвинувшись несколько вперед.
— Пилось бы да ілось, та ще хотілось, — произнес по-малороссийски Василий, поднимая рюмку. — Так у нас под Полтавой говорят.
Мамонтов последние двенадцать лет служил на Полтавщине, на родине своей матери, и теперь более чем обычно пересыпал свою речь хохлацкими словами. Носил он расшитую рубаху, читал Ивана Франко, увлекался идеями и сочинениями Сковороды. Словом, играл роль «щирого хохла», и это у него здорово получалось. И матери нравилось.
Вторую рюмку он сопроводил присловьем:
— Рюмочко крестова. Ты вітькіля? З Ростова. А гроши е? Нема. Ось тобі ї тюрьма!..
При этом он закрывал свои карие, навыкате, глаза, запрокидывал голову и выпивал одним глотком.
Стужин бросил взгляд в сторону Анны. Она сидела задумавшись над нетронутой тарелкой.
— У нас негоже так, — заметила хозяйка, жена Василия, смуглая, подвижная полтавчанка с клипсами-розами в маленьких ушах.
После третьего тоста, произнесенного Александром по желанию хозяина за благополучие дома и здоровье присутствующих, — все вдруг разом заговорили, громче застучали ножи о тарелки.
Василий вытянулся через стол к Александру прикурить. Затянувшись несколько раз подряд и стряхивая пепел с сигареты, сказал, подмигивая:
— Что невесел, пан профессор? Все равно расколю тебя на один экземпляр, люблю подарунки.
Стужин оторопел:
— Откуда тебе известно?
— Думаешь, Мамонтов такой нелюдим, что и не был, не выведал у матушки твоей?..
Александр облегченно вздохнул. Он был доволен, что все обошлось без обязательных объяснений, и еще тем, что их разговор никто не слышал, кажется…
— Оксана! — позвал Василий жену. — Бандуру!..
Тут же появилась семиструнная гитара, которую хозяин долго настраивал, особенно чутко прислушивался к гудению басовой струны:
— Песню, полтавчане! Песню!..
Все замолкли, а он, ударив по струнам, запел:
Копав, копав криніченьку Неділоньку, дві…Стужин встрепенулся. Он знал эту старинную песню, но много, много лет ему не доводилось слышать ее. Так бывает иногда, когда забываешь о человеке, которого знал когда-то в далекой юности. И вдруг кто-то напомнил о нем, и ты не только вспоминаешь о его существовании, но и живо представляешь его облик, его манеру держаться. Ты будто слышишь его голос, и живо вырисовываются в памяти другие подробности, связанные с именем его.
Александр нисколько не удивился, когда Оксана сильным, высоким голосом подхватила припев:
Ой жаль, жаль Ни помалу. Любив дівчіну з малу, Любив дівчіну з малу, Любив, тай не взяв…Его удивило то, что сидевшая рядом девушка в желтой кофте так легко и свободно сопровождала Оксану вторым голосом. Василий и сосед девушки с длинными волосами достаточно полно держали басовую партию, им вторил Ситников.
Анна одна не пела. Стужин смотрел на ее профиль, на ее беловолосую, склоненную голову и мысленно уносился в те далекие годы, в те весенние давние дни юности… Разве тогда не казалось, что ничто не помешает им быть вместе? Разве не достаточно глубоко и страстно любил он Анну?:
Любив, тай не взяв…«Анна, Анна, сам я виноват, что так все случилось. Гордыня ослепила глаза. Она же, гордость, сбила с пути истинного. Ослепила, увела, а потом уже было поздно… Поздно и теперь. Но мне обязательно надо поговорить с ней, — думал Стужин. — А к чему теперь этот разговор? — шептал ему тайный, внутренний голос. — К чему?»
И раз, и два Александр ловил на себе ее взгляды. И всякий раз он не мог определить — чего больше было в этих серых ее глазах: сожаления и упрека или равнодушия в этой притушенной неяркой улыбке.
Возьмут іі и люди — Моя нэ будэ…Песня так же неожиданно оборвалась, как и началась. Василий отложил гитару, встал из-за стола. Подошел Ситников, и они закурили.
— Каково служится? — опросил Ситникова Стужин.
— Наше дело солдатское. — И тут он стал жаловаться, что не смог попасть в академию, а без нее нет роста. До сих пор приходится ходить в капитанах, служить в глубинках. Сейчас, правда, часть стоит в Белоруссии.
— Хватит прибедняться, — перебил Ситникова Василий, — заводи своего «Запорожца», к Александру доскочить надо. Как?..
— Можно, — утвердительно кивнул Стужин.
— А я и не жалуюсь.
— Ждите нас, не горюйте, — бросил хозяин остальным гостям.
— Горю нетерпением получить книгу сию же минуту, — объяснил он желание прокатиться, когда все уселись в автомобиль. — И, ясное дело, с дарственной надписью.
Дома Александр достал из раскрытого чемодана два экземпляра, присел за стол, чтобы их подписать.
В комнату зашла матушка Александра, седая женщина, маленькая, но довольно подвижная: «Может, вам закусить подать?»
— Что вы, мамаша, — поспешил Василий. — Спасибо. Мы у нас в саду ужинаем.
Стужин подписал экземпляр книги Василию, что ему, впрочем, не составило большого труда. Над следующей подписью он задумался. Выходило, что посвящать свой труд он должен и Анне наравне с Ситниковым. Она ведь тоже — школьный товарищ, даже еще ближе, так как учились в одном классе, тогда как Ситников был в смежном десятом «Б». Ему даже пришло в голову надписать ее девичью фамилию, именно девичью.
Какое-то мгновение он думал так. А потом открыл титульный лист и почему-то написал: «Алексею Ситникову, товарищу школьных лет, — автор».
* * *
На другой день, когда солнце было высоко и Стужин уже не спал, но лежал с книгой в руках — вошли Мамонтов и Ситников.
— Пора бы и вставать, лежебока, — тормошил его Василий.
— Что так вырядились? — удивился Александр, увидев Ситникова в резиновых сапогах.
— Готовность номер один.
— Вчера же договаривались насчет рыбалки?
— Какая там рыбалка, ни то ни се, — Александр глянул в верхнюю часть окна. — Теперь вечера надо ждать.
— Давай, давай, не так рыбалка, хоть на природе побудем, поговорим.
Александр выпил чашку горячего кофе и вышел во двор, где его поджидали товарищи.
В низине, сразу же за дачным поселком, в старых карьерах, питаемых вешними водами и безымянным ручейком, водились карпы, караси, сазаны. Друзья выбрали местечко на пологом берегу у большого ивового пня. Внизу, полукругом, мелкой рябью плескалась вода. Стужин удивился: до чего чистая и прозрачная была вода. Все камушки на дне, все водоросли были видны.
— Разве по такой воде что поймаешь?
— Поймаем, — пообещал Василий.
Ситников вошел по колени в воду, далеко забросил лесу на бамбуковом удилище.
Александр сидел на берегу, наблюдал за Василием, который порасставил свои удочки в стороне от Ситникова.
Прошло около получаса, о клеве не было и речи. Василий проверил насадку, подошел к Стужину, раскрыл хозяйственную сумку.
— Не клюет, так мы клюнем, — подмигнул он, доставая походный складной стакан, яблоки и бутылку вина. — Ситников! На сушу! Да сапоги снимай, беги подальше от ревматизма.
— Меня не так просто взять, — заметил Ситников, — я не зря так усердно читаю журнал «Здоровье».
— Пустейший журналишко.
— Это почему же такое мнение о нем?- — спросил Стужин.
— А потому, что кроме популярно изложенных лекций о той или иной болезни, — в нем ровным счетом ничего нет.
— Так уж и нет?
— Я вот врач, — Василий положил свою широкую ладонь на грудь, — но мне претит, когда этот журналишко пытается рядить меня в тогу безгрешности и совершенства. Из номера в номер, буквально в каждой статье варьируется одна и та же, в общем-то верная, мысль о том, чтобы люди не занимались самолечением, что все вопросы лечения решает врач.
— Так что ж тут неверного? — вступился в разговор Ситников, который снял сапоги и сидел в шерстяных носках.
— Неверно то, что утверждать так — значит смотреть на действительность слишком однобоко. Разве у нас нет такого, когда у больного подозревают сердечную недостаточность, а на самом деле у него мигрень. Или ищут у человека гастрит, колиты, чуть ли не язвенную болезнь, а у него — нарушение функции щитовидной железы.
— Хороший врач диагноз поставит верный, — заметил Ситников.
Мамонтов вспыхнул:
— Стало быть, есть хорошие врачи. А раз они есть, то должны быть и плохие. Не логично ли?.. Посредственные, наконец.
— Чего ты хочешь? — спросил Стужин.
— Хочу, чтобы журнал этот поднимал более серьезные проблемы, решал их глубоко и всесторонне. Такие, например, как диагностика. Сколько тут трудностей, сколько вопросов. Нельзя же всерьез возводить фигуру врача в панацею ото всех бед, как лицо абсолютно непогрешимое, тем более возводить эту непогрешимость в абсолют.
Ситников с недоверием посмотрел на Василия.
— А миллионные тиражи — не свидетельствуют ли они о его популярности?..
— Вот именно, — оживился Мамонтов, — свидетельствуют. Только не журнала, а скорее, интереса миллионов к вопросам медицины как таковой. А главное — к своему здоровью.
Стужину не хотелось спорить с Мамонтовым, хотя он далеко не со всеми его доводами был согласен. Он отвечал механически, а сам думал об Анне. Он даже поймал себя на мысли: «Заведи сейчас Василий разговор о вреде курения или о последних нововведениях в школьной программе — что перегружает неокрепший мозг ребенка, — во всех случаях он, Стужин, поддерживал бы разговор. Поддерживал лишь для того, чтобы где-то рядом вилась и не обрывалась ниточка главной мысли — мысли о ней, об Анне».
— Ладно, — примирительно оказал он, — оставим этот разговор, да и рыбалку тоже. Пора по домам.
Проводив товарищей и пообещав быть вечером опять у Мамонтовых, Александр неторопливо зашагал домой. Он думал об Анне: «Надо во что бы то ни стало с ней поговорить. Во что бы то ни стало».
Медленно тянулось послеобеденное время. Стужин с нетерпением ожидал вечера. Мысли о ней не покидали его ни на минуту. Он брал книгу, пытался читать и отвлечься от этих мыслей, но в памяти его опять вставал ее образ. Альбом с семейными фотографиями тем более наводил мысли о далеких годах, о ней. Вот фотография выпускников-десятиклассников, где она во втором ряду, справа, а вот еще одна — они в группе лыжников десятого «А».
«Надо поговорить. А что, собственно, даст этот разговор, — думалось ему, — к чему он?..» Ему, конечно же, хотелось узнать ее отношение к себе. Поскольку он считал, что во всем виноват сам, — сказать ей лишь свои исповедальные слова.
«Как глупо все получилось в первый раз. Но ведь она была чем-то занята», — опять подумалось ему.
Стужин курил сигарету за сигаретой, ходил по комнате взад-вперед, и мысли его словно вращались по какому-то заколдованному кругу.
«Будь что будет», — решил он, отправляясь к Мамонтовым.
Все случилось так неожиданно, что Александр в первые минуты даже стушевался. Не успел он подойти к дому Мамонтовых, как встретился с Анной, которая спешила куда-то с девушкой в желтой кофте.
— Анна, — нерешительно позвал Стужин, переводя взгляд куда-то мимо, в сторону.
— Я сейчас, — сказала она, повернувшись к девушке, ожидавшей ее в нескольких шагах.
— Анна, — Александр назвал ее именно так, как часто называл тогда, раньше. — Я… Мне хотелось бы поговорить, узнать, как ты… как сложилась… В общем — поговорить.
Она почти нисколько не изменилась в лице, лишь тонкая улыбка едва тронула ее четко очерченные губы.
— Что, Сашко, говорить?.. Хорошо, я скажу. Только позже. Знаю, у тебя жизнь сложилась более удачно. Мне хвалиться особенно нечем, но и жаловаться ни на что не могу… Прости, тороплюсь, да и ждут меня…
— Прошу…
— Вечером.
Она снова едва улыбнулась краешками туб, и Стужин не смог разобрать, чего было больше в ее улыбке: сожаления или упрека.
Весь вечер Александр сидел в задумчивости, рассеянно слушал неутомимого Мамонтова, терпеливо выслушивал рассказы Ситникова о своей службе, зачастую невпопад отвечал на вопросы. Он понимал, что так и не сможет поговорить с Анной, ловил несколько раз себя на мысли, что его присутствие здесь ни к чему, что он лишний в этой веселой компании.
Поздно вечером, в двенадцатом часу, когда луна поднялась над самой трубой летней кухни и тени от нее тянулись и терялись в темноте сада, — все засобирались по домам.
— До завтра, — тряс руку Стужину Василий. — Ты ведь через два дня отчаливаешь?
Александр молча кивнул головой.
— Ну, вот, а мы через четыре…
Александр крепко пожал горячую руку Анны. Лицо ее было в тени, и он досадовал, что не удалось рассмотреть его выражения. Вдруг руку словно обожгло. В его ладони оказался плотно сложенный квадратик бумаги. Учащенно забилось сердце. Стужин боялся, что бумажка вдруг выпадет из рук, и сжимал пальцы крепко, до онемения…
Уже дома, оставшись один в комнате, он зажег настольную лампу и бережно развернул записку.
И, о боже!.. Словно удар в лицо, его обожгли им самим написанные строки семнадцать лет назад!.. Это были его слова. Значит, она хранила их в памяти все эти годы?!
Он не то чтобы забыл о них, просто не думал, чтобы они за все эти годы сохранились в ее сердце, что эти слова вернутся к нему через семнадцать лет. А они вернулись, вот они:
«Анна, через год я приеду. Жди.
Твой Александр».На обороте ее размашистым почерком с наклоном вправо выведены всего три строчки:
«Сашко, милый, я ждала три года. Будь уверенность — ждала бы еще и еще. Но где же те слова и те клятвы, которые переждала любовь моя? Ан.».
Стужин несколько раз подряд перечитал записку. Долго сидел за столом, подперев голову руками: «Сашко…» Она называла его все так же, как в те счастливые далекие годы…
Очнувшись от воспоминаний, словно от глубокого сна, Стужин поднялся из-за стола и стал лихорадочно собирать в чемодан свои вещи, бумаги, книги.
Утром, чуть свет, он отправился к автобусной остановке, пообещав растерявшейся матушке, что навестит ее через две-три недели.
Кирасир
Аким Герасимович Гончар, а по прозвищу дядюшка Кирасир хворал вот уже третью неделю. Двадцать дней отлежал он на русской печи сначала в ознобе, а после в горячке и с тупой болью в пояснице. Сперва он просил подать ему на печь тулуп и валенцы, лежал, завернувшись с головой, а после, когда озноб прошел, разметавшись, лежал в одной рубахе и старых «техасах» внука, которые любил за то, что они напоминали ему посконные штаны.
«Зима пшик, пошла, лето началось», — говорил он, упрашивая Пантелеевну, старуху свою, чтоб та сняла валенцы и забрала тулуп.
Кирасир был хотя и невелик ростом, но широк и сутуловат в плечах, с реденькой с проседью татарской бородкой и слезящимися карими глазами. В свои восемьдесят семь лет он вполне обходился без очков, любил читать численники и четвертую страницу газеты; по-стариковски копался во дворе и огороде, был, как говорят, легок на ногу. Единственное, что сказалось с годами, — его глухота. Разговаривать с ним надо не иначе как кричать на ухо и при этом необходимо помогать разговору жестами — иначе не услышит, не поймет.
Безобидное прозвище — Кирасир — досталось ему в наследство не то от деда, не то от прадеда, когда кто-то из них вернулся с царской службы с таким мудреным званием. Впрочем, многим старухам, не понимающим смысла этого нерусского слова, ничуть не мешало называть старика «керосином».
Кряхтя и отдуваясь, Гончар слез с печи, вошел в просторную высокую горницу и невольно закрыл веки. После полутемного запечья весеннее солнце, ярко бьющее со всех сторон в большие окна, слепило глаза. Он опустился на диван и, чувствуя еще слабость, но не ту, что была еще неделю назад, а иную, в которой угадывались пробуждающие силы, — по привычке прошептал: «Слава те господи. Кажись, миновало… Теперь, считай, выжил — весна…» Он открыл глаза и, к удивлению своему, увидел за окном на старой вишне скворца. Птица сидела у самой скворечни и чистила перья.
— Гляди, Пантелеевна, — позвал он хозяйку, — гляди, скворцы прилетели.
— Да они еще третьеводни заявились.
— Третьеводни?..
Старик отдышался и почувствовал неодолимое желание выйти во двор, глотнуть свежего весеннего воздуха, проведать корову, двухгодовалого борова Борьку, курей…
На возражение старухи, что, мол, еще слаб, — Кирасир, слезший с печи, повел так, как всегда вел себя, возвращаясь с дальнего извоза или с пашни, — повелительно:
— Молчать… И подать мне валенцы те, что с калошами, малахай и козью кацавейку.
— Тьфу тебе, нечистый, — сказала Пантелеевна. Однако валенцы, кацавейку и малахай отыскала и подала.
— Узвару налей, — повелел Кирасир.
Хозяйка исполнила и это его желание.
Он не спеша выпил кружку душистого крутого взвара и, почувствовав, что подкрепился, вышел в сени. Ступил на крыльцо и остановился, держась за притолоку, — закрутило в голове от хлынувшего на него солнца и весеннего молодого воздуха. Справившись с минутной слабостью, он спустился с порога и неторопко зашагал мимо погреба и курятника к сараю, что стоял в конце двора. Снег сошел, только у глухой стены соседского хлева лежала полоска почерневшего льда, на которую солнце не попадало. Дорожка от крыльца до конца двора и место у дровосеки еще не совсем подсохли, и от них, разогретых солнцем, пахло прелью весенней сырости. Дверь хлева была раскрыта, и корова, греясь, стояла в проеме перед массивным деревянным засовом, который преграждал ей путь. Завидев хозяина, она тихо промычала, а когда старик протянул руку, чтобы почесать ее за ухом, с шумом и свистом выдохнула воздух и успела лизнуть его руку шершавым, как напильник, языком.
— Зорька, Зорянка, — участливо проговорил Кирасир, теребя ее по шее, — вот и перезимовали мы с тобой…
Тут увидел он под ногами Зорьки алюминиевую проволоку, свернутую в жгут и втоптанную ею в грязь. Хозяин наклонился, поднял находку, вытер ее полой кацавейки и повесил на гвоздь под козырек крыши: «Пригодится. Случись надобность — искать будешь не найдешь».
Потом он открыл соседнюю дверь и зашел к борову. Тот лежал, а заслышав стук — вскочил, захрюкал, закружил по загородке, поднимая свое зеркальце и не мигая маленькими заплывшими жиром глазками.
У борова, как и у коровы, тоже было убрано, постелена свежая солома, и это с удовлетворением отметил хозяин. Но слабость давала о себе знать, кружилась голова, и он засеменил к крыльцу.
Вернувшись в дом, сбросил кацавейку, снял малахай и сел как есть на диван.
— Нагулялся никак? — удивилась Пантелеевна.
— О-о, теплынь-то, теплынь какая…
— Ложись, отдохни, — крикнула она ему в самое ухо.
— Тут… Посижу…
Закрыв глаза, Кирасир увидел старую еще отцовскую избу и горницу, которая была вдвое меньше нынешней, вспомнил, как в такую же вот пору открывали ее после зимних холодов. Нынче в зиму горницу не заколачивают. Сын привозит на тракторе дров и угля — топи себе до самой весны. А раньше, бывало, экономили. Ютились на кухне.
Больше всего любил дядюшка Кирасир время, когда наступал момент открывать горницу. Чаще всего делалось это перед пасхой. Тогда он брал топор, клещи, вытаскивал из притолоки гвозди, выбивал клинья из пазов, распахивал дверь так, что летела на пол из щелей замазка. В полупустой комнате оживало эхо. Солнце яростно светило в окна. Пахло сыростью, застойным воздухом, и еще несло неповторимым запахом желтой глины, которую замешивала Пантелеевна, чтобы обновить лежанку. Глина та была особая, ее привозили с дальних полей, из-под Гаврильского степного хутора. Сам Гончар не однажды заворачивал свою повозку в те места, чтобы подкопать липкой, как клей, ярко-оранжевой глины, что водилась только там и нигде больше.
А после начиналось переселение. Вносились столы и скамьи, навешивались тюлевые занавеси на окна, а на образа — льняные полотенца, убирались в подзоры и пуховые подушки кровати… Но все это было потом, когда горница была вымыта и проветрена. А до этого следовало стены ее вымыть горячей водой с золой. Кирпичом и ножом скоблились потемневшие за зиму ее рубленые стены.
Кирасир очнулся от воспоминаний, открыл глаза. По-прежнему ярко светило солнце, яростно чирикали за окном воробьи. Он поднялся и сорвал листок календаря. Была среда. Восход солнца — шесть часов, а заход — девятнадцать часов девять минут. Долгота дня — тринадцать часов девять минут. Под чертой отмечалось полнолуние. Все эти цифры он мысленно перевел на двенадцатичасовое исчисление, изучил время восхода и захода луны, перевернул листок и стал читать, вытянув перед собой руку:
— «С раннего вечера на западе сначала в созвездии Овена, а затем Тельца, ярко блестит Венера». Слышь, Пантелеевна, Венера. «Левее, высоко в юго-западной части неба, в созвездии Близнецов виден Сатурн». Ишь ты, в созвездии Близнецов. «Во второй половине ночи, — продолжал он читать, — на юго-востоке в созвездии Водолея виден красноватый Марс…» Да-а, мудрено. Сколько планет всяких, и каждая свою оринтацию и свое наименование имеет, — вслух рассуждал он.
Потом он достал пачку газет, лежавших на радиоприемнике, и стал их просматривать. Газет за три недели накопилось много, целая пачка. Большие газеты он складывал отдельно, потому что смотрел самое интересное, что было опубликовано на четвертой странице. Районная же газета удостаивалась со стороны Кирасира особого внимания. Просматривал он ее всю от начала до конца. Да и как иначе, когда в ней говорилось конкретно обо всем, что происходит в своем районе, не где-нибудь. У себя в районе он знал любое село, каждый хутор.
Однажды, несколько лет тому назад, прочитал дядюшка Кирасир в районке, что в соседнем селе Ливенка один колхозник выиграл по лотерейному билету автомобиль «Москвич». Толки на этот счет ходили тогда самые противоречивые. Одни говорили, что это неправда, «брехня», другие утверждали обратное. Кирасир верил газете, но еще больше утвердился в ее правоте, когда встретил того самого обладателя счастливого билета на базаре в Петровске, которого он хорошо знал, и тот подтвердил самолично, что выиграл машину. Более того, он подвез дядюшку Кирасира к дому на этой самой машине.
Особое же, ревностное отношение у дядюшки Кирасира было к сводкам соревнования, которые публиковала районная газета в дни посевной и уборочной страды. Тут, ежели он видел свою «Зарю коммунизма» в числе отстающих, а не первых, — разражался бурей. Происходило это примерно так.
Кирасир в ярости бросал газету на пол, воздевал руки вверх и, потрясая ими, восклицал: «Как же это так?.. Гаврильские вышли вперед наших. Гаврильцы-поросятники, которые спокон веку чай вприглядку, а не с сахаром пили, — впереди! Да им то, им что из полону да поселившимся по Дону греблю только дырявыми штанами гатить, а они на пахоте первые».
Пантелеевна в такие минуты старалась ускользнуть из комнаты, и горе тому, кто попадал под горячую руку Кирасира: «Как это понимать, что Гаврильские победили наших? — требовал он объяснения у растерявшегося посетителя или у прохожего, кому доводилось в эти минуты идти мимо кирасировского двора. — Да они, гаврильцы, сроду ни пахать, ни сеять не умели, только и знали, что раков в плесах ловить, да рыбой промышлять. Я-то знаю…» И поехал и понес…
* * *
В тот день Аким Герасимович с особым нетерпением ждал возвращения с работы младшего сына Ивана. Уж он с ним поговорит. Как же — механизатор, от кого же, как не от него, зависит: быть «Заре коммунизма» в передовых или в числе отстающих. Уж он поговорит…
Так сложилось, что двое старших сыновей Кирасира не прижились на отчей земле. Самый старший — Петр служил на Дальнем Востоке, средний — Николай летал на реактивных самолетах. Переживал отец, особенно первое время, за то, что старшие сыновья не пошли хлеборобским путем, изменили крестьянской заповеди любить и беречь землю. А со временем вроде бы и привык. Свыкся с этой мыслью. Да и то сказать, кроме младшего сына — еще две дочери жили тут же на дедовских землях. Растили своих детей — внуков Кирасира, которые, кто знает, может быть, умножат собою хлеборобскую династию Гончаров?
А ежели рассудить, так и старшими гордиться нужно. Оно, конечно бы, лучше было, если б находились они при отцовском дворе, вели бы хозяйства свои и приумножали хлебопашеское дело. Однако и воины нужны, и авиаторы необходимы. Это он даже в газете однажды вычитал. Так было и напечатано, как будто про Петра и Николая:
«Бдительно охраняет воин границу, зорко следит за небом летчик, не дремлет в морском дозоре матрос, а это значит, мирный труд рабочего, горячая страда пахаря в надежных руках».
«Ты гляди, мать, — сказал тогда Аким Герасимович, — это прямо про наших ребят никак сказано…» И гордость обуяла тогда старика. Как же: один — орел, летчик, другой — тоже, офицер, майор. Звание немалое.
Волнуемый воспоминаниями, дядюшка Кирасир почувствовал, что устал, и прилег на диван. Хозяйка, не слыша привычного его бормотанья, заглянула в горницу. Увидев, что хозяин лежит, крикнула на ухо:
— Лез бы ты на печь!
Старик отрицательно замотал татарской бородкой: «Не хочу на печь».
В это время вбежал внук-шестиклассник. Бросил на скамью портфель, не снимая ботинок, проскочил в комнату и включил телевизор.
— Хоккей! — объявил он опешившей бабке.
— Ты что же, пострел, не раздеваясь?
— Наши с чехами!..
— Пообедал хотя бы…
— Харламов! Харламов! Гол!! — заорал вдруг мальчишка, увидев, как хоккеист с ходу, на большой скорости провел и забил в ворота шайбу.
Дед с живым интересом наблюдал за внуком и телевизором, хотя и не совсем понимал, что именно происходит на экране. Он любил смотреть телепередачи, но многое, как и эта игра, для него была не совсем понятна. Диктора он не слышал, да и кадры менялись слишком быстро — не успеешь толком и рассмотреть. А тут еще игра эта какая-то ненормальная. В футболе — там хоть мяч видишь, а тут шайбу эту днем с огнем и то не разглядишь. Снуют вокруг нее, как речные блохи вокруг куги.
Сын заявился, когда счет был четыре — два в пользу наших и внук ликовал вовсю. Закончился матч со счетом: пять — два.
— Наши победили! Наши победили! — без умолку кричал мальчуган, прыгая вокруг отца, который умывался после работы.
— Наша, брат, всегда берет, — подтвердил Иван.
— Ваша берет, — с сердцем в голосе произнес Кирасир, расслышав его возглас. — А это чья берет? — спросил он, подавая газету.
— Вот ты что, — поднял брови Иван. Он взял газетный лист большими, так до конца и не отмытыми руками, с потрескавшейся кожей на пальцах и ногтями с темными каемками на краях. — В следующей газете, батя, все будет наоборот, — громко сказал он отцу.
Кирасир толком не расслышал, что сказал ему сын, однако ему показалось, что тот упомянул о каком-то заведующем, поэтому и ответил:
— Что мне твой заведующий, отвечай, почему гаврильские вас обскакали?
Делать нечего, и Иван, зная, что в данном случае так не отделаешься, стал растолковывать, почему и как так получилось, что гаврильцы вырвались вперед по севу яровых:
— Во-первых, я сказал не заведующий, а следующий. Во-вторых, пока мы перегоняли два агрегата с третьей бригады на Семеновские поля, — кричал он на ухо отцу, — они и выскочили вперед. Сегодня же ночью эти два агрегата начнут сев — и к утру мы их не только догоним, но и перегоним.
— На Семеновские? — переспросил Кирасир.
— На Семеновские.
Старик даже руками себя по коленям хлопнул с досады:
— Зачем же с Семеновских, когда спокон веку с Вороньих бугров начинали?..
— А уж это агрономшу спросить надо, — сказал он.
— Что агрономша. Баба и есть баба. — Старик так расходился, что трудно было его чем-либо унять.
— С Семеновских начинают. Виданное ли дело, чтобы с них когда начинали, — сокрушался он, с досады хлопая себя по коленям.
* * *
Рано утром, когда Иван ушел на работу, — старик засобирался в правление колхоза, к председателю.
— И куда тебя несет, — ворчала Пантелеевна, — не оклемался еще как следует, а туда же, куда и люди…
— Молчать! — командовал Кирасир. — Я кто? — и тут же разъяснял: — Я — старшина гвардейский, всю империалистическую прошел. А ты кто? Вымя коровье — вот кто…
Вымя коровье было самым ругательным выражением у Кирасира, и Пантелеевна всякий раз, когда он так ее называл, только кривила в улыбке свои тонкие сухие губы.
Кирасир отыскал свою неизменную палку, вырезанную из красной орешины с загогулиной на конце, побрился сыновьей электробритвой и, по случаю выхода на бригаду, надел новую сатиновую рубаху. Шел он по улице не по-над дворами и заборами, а посредине, чтобы видеть всех встречных, а также чтобы и его видели все.
Как ни рано вышел из дому Кирасир, а бригадиры и иной руководящий состав колхоза от конторы уже разошлись. Еще издали увидел он, как Егор Егорович, председатель, садится в машину и шофер — Мишка Фонин бежит козлом с порога, чтобы, значит, ехать в поле.
— Стой! Стой! — закричал Кирасир, размахивая костылем.
Мишка-козел обернулся на крик, нагнулся к окошечку кабины, что-то сказал председателю и показал рукой в сторону приближавшегося Кирасира.
Председатель тоже вылез, стал смотреть в его сторону, махнул рукой шоферу, дескать, глуши мотор.
— Это что же значит, — начал Кирасир издали, тяжело дыша и забыв поздороваться, — это как же понимать, дорогой Егор Егорович, гражданин хороший… Почему же вы с Семеновских полей начинаете, когда спокон веку с Вороньих бугров начинали?..
Выражение недоумения на строгом лице председателя сменилось улыбкой.
— Вон ты что, Аким Герасимович. А я-то думал, ты предлагаешь колхозу выпускать счетно-электронные машины.
— Не шути. Слыханное ли дело, мил человек, чтобы вот так-то.
— Гм, в самом деле. Полина Васильевна, — обратился председатель к полной широколицей женщине, стоявшей тут же у порога. — Что там у нас с этими буграми?
— Так под пары ведь пускаем их.
— Тьфу ты, я и запамятовал было.
И тут Егор Егорович стал разъяснять Кирасиру, что Вороньи бугры оставляют под чистые пары, потому-то и начинают с Семеновских полей.
Старик и слушать не хотел, твердил свое.
— Что ж это, в прошлом годе — пары, и в позапрошлом, и ноне?..
— Да ты что, Герасимыч? — вступилась за председателя Полина Васильевна. — Пары-то были там четыре года назад, если не больше.
Кирасир не унимался.
— Вот что, — прокричал ему на ухо председатель, — сейчас я еду туда, в ту сторону, на месте и разберусь. Ежели что не так — исправим, — пообещал он, улыбаясь.
— Это совсем другое дело, — согласился дед Гончар, — это вовсе иной калинкор…
Председатель уехал, агроном скрылась за дверью, так как ее позвали к телефону, и Аким Герасимович, довольный тем, что сам председатель будет разбираться с Вороньими буграми и Семеновскими полями, — зашагал обратно к дому.
«За ними за всеми глаз да глаз нужон, — думал он вслух. — Оне нонче такие, что слушать не хотят. А зря… Однако Егорыч мужик с понятием. Сразу смекнул, в чем дело. Вишь — укатил на бугры-то…»
Кирасир вышел на пригорок, откуда открывался вид на поле. Он остановился, надвинул на глаза, картуз и стал смотреть. Вдаль он хорошо видел. А видел он необозримые пашни, дорогу, поднимающуюся вверх к Гаврильскому перевалу.
Чернеющим вороньим крылом раскинулись поля распаханного чернозема, и слегка курились они дымкой тающего тумана. А над ними — бездонно голубело высокое небо с неподвижными кучевыми облаками.
И там, где-то далеко-далеко, сливаясь у самого горизонта, манила вперед эта зовущая даль. И в ней, в этой дали чудилось ему и его прошлое время, и еще больше то, что будет завтра, что будет всегда извечным, нерушимым, постоянным. Как это солнце, что огромным багровым диском поднималось из-за пашни, чтобы освещать и обогревать неиссякаемым огнем вечную землю.
Обида
Судьба будто нарочно так накрепко связала их жизни, что шагают они вместе вот уже шестой десяток лет. И надо же было так случиться, что родились они в один и тот же год, даже в один месяц. Разница тут лишь в двух днях. Егор Пронин родился пятнадцатого марта, а Степан Ганин семнадцатого.
Сложилось так, что призывались они вместе и служили действительную в одной части, даже в одном и том же подразделении. Потом воевали. Тут, правда, бывало всякое. До ранения Егора они со Степаном были вместе, а после, когда одного перевели в другую часть, на соседний фронт, — пути их разошлись. Зато после войны, когда, волею той же судьбы, им довелось вернуться в родное село Пешино, — жизнь их снова слилась в единое целое, благо что жили они рядом друг с другом: были соседями, а к тому же еще и кумовьями.
На селе еще с довоенных лет их прозвали братьями, хотя, разумеется, ни в каком родстве они не состояли. Сначала это прозвище произносилось с некоторой долей иронии и за глаза, а со временем все к этому попривыкли, даже сами Пронин и Ганин. Отпала сама по себе и эта самая ирония, осталось одно лишь нарицательное значение прозвища.
Мало ли в селе Егоров и Степанов? А тут назвали: брат Степана, — ясно, что речь идет о Ганине. Теперь даже сами эти два неразлучных друга скорее машинально, чем сознательно, но речь свою часто строили примерно так: «Здорово, брат Степан», — говорил один. «Доброго здоровья, брат», — отвечал другой. Или: «Погодка нынче никуда не годится: дожди и дожди, — плохо, брат Егор…» — «Чего же тут хорошего», — соглашался Степан.
Прежде чем сказать несколько слов о зарождении этой трогательной необыкновенной их дружбы, необходимо хотя бы коротко обрисовать внешний вид героев. Тут-то как раз и придется столкнуться с определенными трудностями. Дело в том, что герои наши внешне мало чем отличаются друг от друга.
Конечно, проще всего было бы описать их, если бы один из них был бы высок, а другой, скажем, низок и толст; у одного были бы усы, а у другого усов этих не было; один любил бы при разговоре жестикулировать, а другой не только бы не размахивал руками, а и говорил бы в год раз по обещанию. Конечно, тогда было бы куда проще.
А тут попробуй писать их портреты, когда они в чем-то даже похожи друг на друга, — неинтересно ведь. Оба с обветренными губами и смугловаты. Это, наверное, от ветра и солнца. Глаза у обоих серые, почти вовсе светлые. Черты лица правильные, если не считать, что нос того и другого вздернут несколько вверх, придавая вид веселой беспечности. Правда, Пронин несколько выше Ганина, но разница эта столь мизерна, что вряд ли стоит об этом и говорить. В свою очередь, Ганин немного посолидней Пронина, но опять-таки обстоятельство это почти не достойно упоминания.
Разница между ними заложена, скорее, в их характерах, нежели во внешности. И главная из них та, что когда один — Степан Ганин — смотрит на жизнь глазами оптимиста, то другой — Егор Пронин — более замкнут и ко всему окружающему имеет свой особый критический подход.
Подружились они с тринадцати мальчишеских лет. Родители Степана тогда жили на самом краю села, на отшибе. В школу Степка Ганин ходил мимо двора Прониных. И в один прекрасный день зашел к Егору посмотреть голубей, которых во дворе Прониных было великое множество. Птицы жили в специально построенных Егоровым отцом голубятнях. Их было так много и до того они были красивы, что воображение Степы Ганина было покорено и приковано к дощатому сарайчику с железными сетками бесповоротно и навсегда. Бывало, дух захватывало от восторга у обоих мальчуганов, когда в небо взмывала стая сизарей!..
Голуби так вовлекли их в мальчишечью забаву и сдружили, что они с трудом закончили неполную среднюю школу, но каждый из них стал исправным хозяином своего двора. Вскоре поселились они рядом и стали жить по-соседски. Не было такого дела, чтобы они не работали вдвоем. Особенно требовались их совместные усилия в крестьянской работе, такой, как сенокос, установка сруба, выезд на мельницу или маслобойню, поездка в лес по дрова. Местные острословы над этой их привязанностью пошучивали: «Смотри-ка, смотри, да это не просто дружба, у них — любовь…» Даже Марьяна, жена Егора, не однажды, когда муж шагал к Ганиным, — говорила через плетень соседке Ганихе: «Смотри, Варвара, как бы наши мужики не сошлись, да не дали бы нам с тобой отставку».
Было бы несправедливым не напомнить о том, что дружба эта Пронина с Ганиным была не безоблачным летним днем. Случалось иногда, и между ними были размолвки, даже ссоры. У всех в памяти случай (дело было перед войной), когда Степан и Егор, наловив карасей в соседнем пруду и выпив после рыбалки, подрались. И как утверждает молва, Ганин укусил Пронина за указательный палец. Впрочем, ходили и другие толки, что все получилось как раз наоборот. Кто его знает. Сколько ведь прошло времени. Да и палец прижился, подлеченный тогда же сельским фельдшером Ферапонтом Кузьмичом.
В общем, как бы там ни было, а Пронин и Ганин и по сей день оставались верными друзьями. Проходило время, и все вставало на свои места. Правда, совсем недавно случилось между ними еще одно недоразумение, чуть ли не обида друг на друга. И, главное, хотя бы из-за дела, а то так, считай ни из-за чего. А было все так.
Давно собирались Пронин с Ганиным съездить в соседний район, где они когда-то еще до войны работали в артели «Красный луч». Нужна была справка, «что работали». Так велел Тихон Савельевич, тот, что начисляет пенсии. Так вот, давно они собирались, да все некогда было. Один раз было настроились — у Ганина заболела корова. Пришлось срочно вести ее к ветеринару. В другой раз, наоборот, у Пронина во дворе — отел. Потом пошли праздники. А в праздники кто ж справки выдает. Так подошло лето.
Дело было в ту пору, когда посевная закончилась, а жатва, естественно, еще не наступила. В такое время лучше всего браться за любое дело. Еще вчера Егор сказал Степану: «Ну, брат, сейчас самый аккурат будет…»
Рано утром, когда еще только светало и Степан вышел во двор, чтобы открыть курник, — увидел через плетень высокую фигуру Пронина. Хотел было позвать, да Егор опередил его: «Собирайся, говорит, как только маковка солнышка появится, так и выходим».
Вернулся Степан в хату, выпил простокваши прямо из холодной крынки, побрился и по случаю поездки надел почти новые суконные штаны и зеленую нейлоновую рубаху.
— Когда вернешься-то?
— К вечеру, должно, — на ходу бросил он жене и выскочил на крыльцо, так как солнце уже показалось из-за поспевающей ржи, да и Егор уже поджидал его у калитки.
На Пронине были новые шевиотовые брюки. Это Степан отметил сразу про себя. Зато у того в руках была сумка, чего у Ганина не было.
— Что это ты?..
— Как что, — спокойно ответил Егор. — Дорога не ближняя, не ближний свет.
Друзья споро зашагали вдоль улицы в сторону большака, и только бабы, завидев две знакомые фигуры, удивлялись: «Куда это они вырядились так рано?..»
Тень разногласия легла между ними сразу же, как только они подошли к росстани села. Степан шел прямо, людной дорогой, которая вела к большаку, Егор же тянул вправо, огородной тропой в огиб дороги.
— Не все ли равно тебе, где идти? — спросил Степан.
— Нет, — спокойно возражал Егор.
— В такую рань никого нет на дороге, да и роса там, на огородах.
— Береженого бог бережет.
— Бог-то бог, да сам не будь плох.
Словом, пошли огородами.
На автобусной остановке никого не оказалось в этот ранний час. И, главное, друзьям нашим недолго пришлось ждать. Довольно скоро на повороте показался белый лоб короткобрюхого автобуса, какие юрко бегают нынче по степи от села к селу. Более того, машина оказалась свободной, не то чтобы пустой, но и не такой, когда пассажиры висят на поручнях над теми, кому посчастливилось сесть, упираясь руками в боковые окна.
Пронин и Ганин уселись в кресло с правой стороны. Дверь захлопнулась. Мотор натужно взвыл, и автомобиль покатился вперед.
Первое время они молчаливо смотрели, как за стеклами мелькали телеграфные столбы, проплыла водокачка с кирпичным цоколем и металлической башней, ферма второй бригады, кладбище с множеством крестов и звезд… Степан думал о том, что так и не побывал ни разу в Мелогорье с тех далеких послевоенных лет, когда там работал. Представлял, как изменился соседний районный центр за эти годы. Егору вспомнилась эта дорога, протянувшаяся от его села до Мелогорья на сорок километров. На целых сорок километров! И как тогда, еще в сорок седьмом году, они вдвоем со Степаном не раз преодолевали этот путь пеши. Не всегда случалась попутная машина или иная какая оказия в то время.
В течение первых десяти километров они сидели молча, это был путь им во всех подробностях знакомым. Дорога в бывший их районный центр изучена до мелочей. Хотя село и осиротело после того, как центр района перенесли в другое место. Дорога к нему из окрестных сел не заглохла. По давней традиции сюда приезжали на воскресные базары. А базары здесь издавна славились.
— Гляди-ко, — сказал Степан, толкнув Егора в бок, когда они проехали поворот в центр, — дальше этой дороги давненько я не бывал.
— Ясное дело, — отозвался Егор, — ныне мы больше в обратную сторону, в Петровск ездим.
Автобус между тем приближался к первому после Сомова селу, с бойким названием — Дворики. Это небольшое степное сельцо, растянувшееся на полкилометра по обеим сторонам большака, напоминало скорее хутор, каких немало затерялось в полях. Белые мазанки, соломенные крыши. Из двух порядков хат издавна выделялась одна, на углу проулка. Это было довольно массивное одноэтажное здание, единственное под железной крышей и с кирпичным фундаментом. Кроме небольшой заброшенной церквушки, что виднелась на взгорье, изба была самым приметным строением Двориков.
На противоположном конце, при въезде в село, вторая от края хатенка принадлежала Дмитрию Мазову, старинному приятелю Егора. В былые времена они со Степаном частенько останавливались у него передохнуть. Как оно теперь? Ведь, почитай, двадцать пять лет минуло…
Когда за окнами автобуса промелькнул столб с голубой доской, на которой крупными буквами было выведено: «Дворики», — и Степан, и Егор, прильнули к стеклу. Вскоре навстречу им проплыли заборы, первые постройки. Вот широкое приземистое кирпичное здание — не то гараж, не то мастерская. Не разобрать при быстрой езде. А вот дома, новые, высокие, крытые цинком да шифером. «Э-э, — подумал Степан, — перестроились Дворики, и не узнать…»
Егор надеялся увидеть приметный двор с домом на кирпичном фундаменте, но автобус быстро мчался — и трудно было узнать то место. Да и дома были почти все новые, одинаково большими, и проулка вроде уже не было, — наверное, застроили, или проглядел. Терпение Егора лопнуло, когда при въезде из сельца он не нашел хату своего приятеля Мазова. Дома все мелькали и мелькали, а на самом краю Двориков протянулось длинное здание фермы.
— И куда его черт несет, — тут Егор отпустил такое словцо в адрес водителя, что сидевший впереди широколицый парень повернулся — спросил:
— Че сердишься, батя?
— Это он от жары, — пояснил полный мужчина в соломенной шляпе и расстегнутой рубахе на волосатой груди.
Егор отвернулся от окна.
— Вот чудак, — с досадой проговорил Степан.
Следующим по пути — большое село Солонцы. От Двориков оно находилось километрах в семи-восьми. За окнами замелькали поля. Впереди кто-то заговорил о переезде. Высокий звонкий голос утверждал, что переезд может быть закрытым и придется долго ждать. Другой — густой, с хрипотцой голос возражал: рабочий поезд проходит пока только два раза в сутки, утром и вечером. Ждать не придется.
Речь шла о железной дороге, выстроенной два года назад, которая пересекала большак у Солонцов и вела к гранитному карьеру. Егор и Степан много слышали о ее строительстве, не однажды читали об этом в районной газете, а теперь предстояло ее увидеть собственными глазами. Дело-то нешуточное. Для глухого степного места, ближайшая железнодорожная станция которого была Буриловка, находящегося в сорока километрах, своя ветка — дело действительно нешуточное.
Переезд оказался открытым, и автобус, не сбавляя скорости, лихо пронесся мимо полосатого шлагбаума, так что ни Степан, ни тем более Егор, сидевший дальше от окна, не успели как следует разглядеть дорогу. Так же быстро проплыла назад и скоро скрылась из виду станционная платформа с каменным решетчатым павильоном и высокими фонарями по бокам.
Теперь уж и Степан начинал нервничать. Получалось, что так они ничего и не увидят. А вернутся — обязательно будут расспросы: что там да как?..
Вот проехали магазин «Детский мир» в Елисеевке, о котором столько было разговоров в последнее время. И как на грех, остановка оказалась гораздо дальше центра, почти на краю села, когда магазин давно уж скрылся из виду. Проехали еще одно село, и еще…
Впереди оставалось последнее перед Мелогорьем — Покровское. Славилось оно хорошими садами и громадным прудом, который начинался у самой дороги и блестел на солнце голубо-зелеными отсветами далеко в поле.
Но еще большей славой издавна пользовались Покровские мастера-гончары. Хотя гончарное производство здесь давно перевелось — редко в каком доме этих мест не найдешь изделий покровских мастеров. Кувшины и горшки, чашки и миски, бокалы и плошки — все это отличалось не только большой практичностью, легкостью и прочностью, но и своеобразностью форм, тонким рисунком орнамента. Кувшин покровского мастера никогда не спутаешь с другим. Он обязательно будет отличаться и по виду, и даже по звону. Ударит мастер палочкой по кувшину, и он «поет», звенит.
Ныне в Покровском — новый керамический завод, а рабочие на нем — потомки знаменитых здешних мастеров, внуки и правнуки тех, кто прославил свое село трудолюбием и умением в искусной тонкой работе.
Покровское тоже расстроилось. Степан с трудом узнал его, и то больше по знакомому с детства пруду, который, казалось, ничуть не изменился.
— Вот он, завод, — показал рукой сидящий впереди парень с широким лицом, обращаясь к соседу.
Степан увидел справа корпуса цехов, высокую трубу котельной. Быстро мелькали домики рабочей слободы, с молодыми палисадниками перед окнами, с телевизионными антеннами на крышах. Егор, до сих пор сидевший с опущенной головой, тоже поднял глаза и недовольно посмотрел в окно.
По приезде в Мелогорье друзья наши не то чтобы заблудились, а пошли сперва не туда, куда им надо было идти. В старом здании райисполкома теперь размещался военкомат, а все учреждения, в том числе и артель, переехали в новый микрорайон, на соседнюю улицу.
— С каждым часом не легче, — заметил Степан.
На что Егор даже не ответил, так был зол. Настроение его улучшилось, когда они без особых хлопот и, к своему удивлению, довольно скоро получили нужные справки, а когда, присев во дворе на скамейке, — перекусили припасами из сумки Пронина, предварительно промочив горло домашним вином, что оказалось в четвертинке, закрытой кукурузным обломком, — стало вовсе хорошо.
— Да-а, — мечтательно произнес Степан, — солнышко только перевалило, а мы с делом справились. Маленько передохнем, сядем на автобус, а через час — дома…
— Лошадок бы пару да легкий возок с сенцом, — перебил друга Егор, — так ближе б к вечеру, когда жара спала, и ехать бы. Хорошо!.. Лошадки идут забористо, а ты полеживай себе на боку да наблюдай. — Он сорвал былинку, пожевал. — Тихо и светло. Дорога знакомая… сеном пахнет…
— Однако пора, — заметил Степан, — в магазин надо ведь.
— Надо, — согласился Егор.
Они поднялись и направились к центру. Удача и на этот раз им сопутствовала. Купить удалось не только то, что было заказано женами, но и то, что просили соседи.
— Вот теперь геройское дело, — вертел в руках наполненную авоську Степан, поглядывая на Егора. — Теперь порядок…
— Идем пешком, — предложил Егор, когда они подошли к автобусной остановке.
— Как пешком? — оторопел Степан. Он даже отступил на два шага от своего товарища, будто впервые разглядывал его с ног до головы.
— А так. Солнце высоко. В Двориках передохнем, а там по холодку дальше.
— Сейчас автобус будет, — напомнил Степан.
— Жди его, да не в том дело. Проскочит он — ничего опять не увидишь. А я хочу разглядеть и завод, и железную дорогу, и все, все.
— Вот чудак, — растерялся Степан. Но тут он заметил, как у Егора дергается левый глаз. Он знал, что когда у Пронина дергается глаз, — ничем его не убедишь, настоит на своем.
— Как хочешь, дело хозяйское, — сказал Егор, и, не дожидаясь, зашагал по тропинке вдоль большака.
Первые минуты Степан не знал, что делать. Потом ом решил догонять Егора. «Сорок километров — пешком!» — мелькнуло в голове. Как быть? И он стал ждать. А тут как раз подошел автобус. Пассажиров было немного, и Ганин занял место у окна нарочно справа. Пока ждали кондуктора, потом — водителя, прошло полчаса. «Может, раздумает, вернется?» Степан не спускал глаз с передней двери, оглядывался назад. Наконец они закрылись, и машина тронулась.
«Что же я делаю, — подумал Степан, — друга оставил». «Не ты же ведь оставил его, а он тебя», — твердил ему внутренний голос.
А тут еще, как на грех, тот парень широколицый, что вместе в Мелогорье ехали, — опять в автобусе оказался: «Как же так, как же это ты друга-то бросил?» — спрашивает, а сам своими глазами навыкате будто насквозь пронзает и улыбается ехидно как-то.
И в самом деле, как же это так случилось. Никогда ведь не бывало так, чтобы порознь. А вдруг что случится с Егором? Разве на фронте так поступал? Нет. Пуще зеницы ока берег он фронтовую дружбу… Жизнью рисковал, чтобы спасти боевого товарища. А тут-то, вот тебе на…
Сухим комом подступило к горлу чувство вины перед товарищем. Даже дурно как-то стало, вроде бы подташнивает. Потянулся Степан к кабине водителя, постучал в стекло: «Останови, мол».
Шофер повернул голову, смотрит — на человеке лица нет. Наверное, плохо пассажиру. Остановил.
Вышел тот и машет рукой: «Трогай, мол, а я пешком. Тут не так далеко…»
Заругался беззлобно человек за рулем. «Вот еще какие чудаки ездют», — подумал про себя. Все, кто сидел в первых рядах, головы повернули в сторону Степана. А широкое лицо того парня, прильнувшего к стеклу так, что нос сплющился даже, кажется, еще шире стало.
Шагает Степан по обочине — впереди идет вроде бы кто-то. «Не Егор ли?» — думает. На повороте за мостом догоняет. Смотрит: не он, старик какой-то ковыляет.
— Здравствуй, отец!
— Здорово, коль не шутишь.
— А чего ж шутить. Товарища вот догоняю. Не видел случаем? В синих брюках… С сумкой…
— Садился какой-то с сумкой. Как мужик выехал на большак с лошадью, так он и подсел к нему на бричку, — пояснил старик, — в аккурат перед вот этим мостом. — Он показал рукой назад.
Ровно семь километром шагал Степан, пока не дошел до Покровского. Возле базарной площади, среди грузовиков и «газиков» увидел он бричку с бочкой. Серая лошадь стояла, привязанная вожжами за штакетник. «Пиво пьют», — догадался Степан и вошел в дощатое строение, в котором полным-полно народу.
Егор сидел в дальнем углу и угощал своего возницу пивом.
Шло время. Тень отчуждения, пролегшая между Прониным и Ганиным, пропала. Растаяло, словно мартовский снег на солнце, и чувство взаимной обиды. Они, как и прежде, бывали вместе. О той злополучной поездке Степан старался не вспоминать. Не вспоминал о ней и Егор. Однако о подробностях их путешествия в селе кое-что знали. Поговаривали, что Егор со Степаном прошли только до Покровского, а дальше дважды садились и дважды вставали с автобуса — рассматривали новую дорогу, останавливались в Двориках.
Кто его знает, так это было или нет? Для Степана еще большей загадкой было: из-за чего все это началось? Он не мог во всем этом разобраться, много думал. Помог случай.
Однажды в Пешино приехал лектор. Это был старый партийный работник, много лет проработавший в бывшем Сомовском райкоме. Многих пешинцев он знал. Хорошо знали и его. Говорил он об итогах и задачах пятилетки. И говорил интересно, потому что умел связать, сопоставить успехи по стране с успехами по району, в селе.
«Между прочим, — сказал он, — мы не всегда замечаем все то новое, что входит в нашу жизнь. Вернее, мы принимаем многое как должное, не задумываясь глубоко над тем, какими усилиями народа и партии все это делается.
А вот недавно мне рассказали — он нарочно назвал дальнее село — как два человека шли несколько километров пешком, чтобы рассмотреть получше новостройки в местах, где им не приходилось давно бывать. Из-за этого они обиделись друг на друга, чуть ли не поругались. Правда, вскоре они помирились и остались такими же друзьями, как и были. Но факт остается фактом: было такое».
Многие в зале повернули головы в ту сторону, где сидели Ганин и Пронин. А те сидели и улыбались.
Артисты
Когда-то он был сапожником первой руки. Иван Матвеевич Чеботарь! Кто не знал этого имени во всей округе? И фамилия что надо! В самый раз соответствует ему… Чеботарь!.. Он всегда серьезен, даже несколько суров, что как-то не вяжется с его профессией. Да и вид его ничем не выдает сапожных дел мастера.
Иван Матвеевич лыс, носит почти белые шевченковские усы, а лохматые брови его имеют ту особенность, что они вовсе серые. Седые белоснежные волосы вперемежку с черными. Нависшие над впадинами глубоко запавших глаз, они придают облику Чеботаря черты какой-то нелюдимости и напоминают поразительное сходство его со шмелем. Так и кажется, что он вот-вот зашевелит своими усами и бровями и зажужжит на низкой протяжной ноте. Если бы он был повыше ростом да пошире в плечах — любой куренной атаман Сечи мог бы гордиться таким запорожцем.
К нему приходили не только из Нижних гумен, Нелидова, Яружного и других окрестных сел — из дальних выселок, что за Роговым да Кампличным кордонами, — оттуда наезжали. А то однажды из большого села Новомосковское, что под самым Воронежем, человек заявился: «Я, говорит, при хоре состою, у Казьмина под началом, вместе с Захаровым хороводы хороводим… Без меня, говорит, хоровод не хоровод, особливо «Из-за лесику, лесу темного», или «Чтой-то звон…» — тут уж без меня что свадьба без гармони. Ты мне сшей, говорит, сапоги юхтовые. Да чтоб, говорит, подошва была спиртовой и тонкой. И со скрипом, да не так, как сейчас делают: идет человек по селу на одном конце улицы, а скрип на другом слышно. Мне, говорит, так, чтоб внятно было и не сильно громко».
И тут он губами так вроде бы незаметно чуть-чуть шевельнул, и услышал Иван Матвеевич: ну, натурально ремни скрипнули.
— Ты че, парень? — удивился Чеботарь.
— А то, — отвечает гость, — артист я.
Иван Матвеевич улыбнулся даже, да так, что брови взметнулись высоко на лоб, обнажив голубые колодцы глаз:
— И видно, что артист!..
Чеботарь достал с верстака две полоски юфтовые, потянулся рукой, где стояла его сапожная премудрость: скипидар, канифоль, смола, воск… Взял что-то на палец, потер (смазал чем-то) и — скрип!.. Такой же точно скрип вышел.
Тут уж в свою очередь гость удивился. Опять губами шевельнул: «Скрип-скрип, скрип-скрип»…
— Да ты, отец, тоже артист, выходит. Унисон у нас с тобою получается.
— Унисон не унисон, а в лад настроил, — сухо ответил хозяин.
Сшил Иван Матвеевич сапоги. Понравились они тому. Два года спустя заходил, благодарил. Наши, говорит, из хора Пятницкого песни тут у вас старинные записывают, и я при них, сопровождаю, так как места здешние хорошо знаю…
Но все это было давным-давно.
Ныне его сапожная профессия, как и другие ремесла кустарей, потеряла свое былое значение. И работает он теперь на колхозном дворе кладовщиком. А его инструмент покоится частью в темном чуланчике, а частью в других местах. В застрехе сарая до сих пор торчат и старые рашпили, и сапожная лапка, гвоздодер, все это убрано рачительным хозяином на всякий случай…
«Возьми ты, к примеру, наше, сапожное дело, — любил он начинать такими словами очередной эпизод из своей жизни. — Попадаю я в конце германской войны на позиции, в армию, значит. Первым делом спрашивают: специальность? Сапожник, отвечаю. И зачислили меня к старшине, при обозе. М-да-а…
На дворе то дождь, то грязь, наш брат солдат меси ее. А я себе как-никак, в сухе и тепле, знай ковыряю-шью. Смотришь, ротному надо головки пришить. Своему же брату солдату услугу окажешь. Там на водку, там табачку — всегда на виду, и все тебя уважают.
А и случился грех — попала наша часть в окружение. В плену, значит, оказались мы. Так и там я опять же у дела. Определили нас вдвоем с товарищем к австрийцу-хозяину. Деревня у него не деревня, не разберешь-поймешь. Хозяйство хорошее. Я и объясняю ему, что, мол, сапожники мы. А товарищ он городской, фабричный, кому его профессия тут требуется. Я говорю ему: молчи, скажи, что и ты сапожник.
Повел нас хозяин в амбар, показал на груду разной обуви. И чего там только не было: сапоги и ботинки, туфли и сандалии, боты и гусары… И два пальца тычет, на свой двор с конюшней показывает. Не понял я, что он хотел сказать, но догадался: дескать, две недели на починку, а потом на конюшне, во дворе работать будете.
И стали мы работать. Я, конечно, шью, а ему что полегче даю, так у нас и пошло дело. Приходит однажды хозяин, рыжий такой, очки серебряные надел, посмотрел нашу работу. Понравилось, видно: «Гут, говорит, зер гут», — и зубы желтые кажет, вражина австрицкая. Нравится, значит, ему наша работа.
А когда в доверие вошли, так и бежать легче было. Опять же скажу: деревенского сапожника никогда не сравнить с фабричным, городским. Там он, скажем, на фабрике, закройщик есть закройщик. Другой тебе набойки знай бьет, а дай ему затянуть головки или же верха прошить и — встал… М-да-а…»
Он ревностно относился к своему делу, профессии сапожника, как относятся к делу все настоящие мастеровые люди, знающие себе цену.
Мастера во всей округе знали друг друга. Между ними не существовало открытого соперничества, но к любому проявлению небрежности или нарушению сроков заказа со стороны кого бы то ни было — все относились ревностно. Особенно блюлось и опекалось мастерство, добротность и качество работы. Одно время завелся некий Яшка Шмулек, который пытался всучить вместо яловой — свиную кожу, в подбивку ставил прелый материал, а то и до того дошел, что стельку стал картонную ставить.
«Недобрым делом занимаетесь», — попрекнули как-то на базаре Ивана Матвеевича. «Каким делом?» — переспросил Чеботарь «Недобрым!» — твердо повторил мужичок в старом офицерском кителе, видимо с чужого плеча, которого Иван Матвеевич знал в лицо, а чей он и откуда — припомнить никак не мог.
«Толком говори, — рассердился Чеботарь, — кого имеешь в виду?» — «Яшка Шмулек опять озорует, бумагу ставит вместо кожи…»
Кровь бросилась в лицо Ивану Матвеевичу, и он стремительно зашагал, протискиваясь через толпу толкучки, мимо фруктовых, овощных да мясных рядов, прямо к выгону, где стоял магазин, а рядом пивной ларек. Там всегда были люди, особенно свой брат сапожник.
«Сливы, сливы, хорошие сливы!..» — неслось справа. «Дули медовые! Дули! Дули!..»; «Кто забыл взять укропу с петрушечкой?!»; «Телятина! Свежая телятина! Кому телятины!» — раздавалось слева.
А Чеботарь торопливо шел между рядами, вдыхая всей грудью запахи яблок и слив, укропа и чеснока, любуясь мимоходом светлыми, прозрачно-желтыми ядрами груш, кроваво-красными помидорами, молодой зеленью укропа и лука.
— А-а! Иван Матвеевич! — радостно приветствовали его голоса собравшихся в тени акаций друзей. Тут были и Петр Рябоконь, и Гавриил Дымов, и братья Степан да Никанор Свиридовы, Тимошка Грачев, Семен Гвоздиков, еще и еще — человек с десяток собралось.
— Што, брат, хмуришься? — полюбопытствовал Тимошка Грачев, наливая Ивану Матвеевичу стакан водки.
— Где тут Шмулек этот?..
— Верно, — подхватил Семен Гвоздиков. — Мне тоже тычут пальцем везде.
— Проучить такого надо.
— Надо!
— Верно! — раздались голоса.
Вскоре Петька Рябоконь, вызвавшийся препроводить Шмулька привел Яшку в компанию.
Первым делом ему дали выпить.
— Я рад… тут с вами вместе. Я сбегаю — возьму сейчас водочки. Я уже возьму…
Яшке налили второй стаканчик.
— Хватит, — оборвал его Гавриил Дымов, перехватив руку Яшки, которую он было поднес со стаканом к губам.
Ударом кулака он сбил Яшку наземь, Никанор Свиридов, у которого всегда при себе имелось шило — несколько раз кольнул им Яшку в заднее место, повторяя:
— Не шкоди, мокрогубая образина, не шкоди!
— Ой-ей, — орал Яшка, — не буду! Больше не буду!..
…Однажды, еще в тридцатые годы, произошла с Чеботарем история, которую многие хорошо знают, помнят и, при случае, не прочь пошутить на этот счет. А случилось вот что.
В середине лета (бывает такая не очень горячая пора между посевной и жатвой), в один из таких дней с самого обеда мальчишки словно угорелые бегали по улицам с криком: «Кино! Привезли кино! Кино! Кино!..» С этой вестью они носились как воробьи над пустырем до тех пор, пока наконец раскаленное солнце не скрылось за крышей колхозного правления.
Вечерело. Вот проехали с прополки подсолнухов девчата, возвращались бывшие на сенокосе мужики и парни, даже колхозное стадо вернулось, казалось, несколько раньше обычного, видимо, пастухи тоже знали, что «привезли кино». Собирался с женой и Иван Матвеевич Чеботарь. Окончив работу, он убрал верстак, умылся, надел новую рубаху с отложным воротником и, глядясь в осколок дырявого зеркальца, подстриг краешки прокуренных усов.
— Ну, хорош, хорош, — похвалила Ивана Матвеевича жена, — идем, а то и места себе не подыщем.
Показывали кино в то время очень просто Прямо на пустыре, за глухой стеной здания правления колхоза, киномеханик вместе с шофером установили киноаппарат. Хотели было повесить полотно, но стена оказалась свежевыбеленной и ровной, поэтому надобность в нем отпадала. Прямо на стену навели светящийся четырехугольник экрана. Все шло поначалу хорошо. Но на четвертом действии то и дело начала рваться лента.
Киномеханик, молодой и, видимо, еще неопытный парень, со взлохмаченным чубом, долго возился, хлопая какими-то крышками. Отшучивался от близсидящих зрителей. А Ивану Матвеевичу хотелось одного: подойти и посоветовать этому беспечному малому: «Научись работать, сынок, а уж потом берись за дело». Не мог он терпеть, когда к работе относились спустя рукава.
«Молокососы, черт вас возьми, — ворчал он, — накрутят свои чубы и чуфыкают словно косачи на току». — «Да садись ты», — шептала с опаской жена.
В это время аппарат защелкал, свет погас и снова появился светлый квадрат экрана. Но вскоре опять остановка, и на этот раз, видимо, надолго. Иван Матвеевич чертыхался, кусал свой подстриженный ус, а когда мальчишки, будто сговорившись, заорали: «Сапожник!» — побледнел и встал. Он шел на выход и не видел ни людей, ни жены.
«Сапожник!!!» — кричали на разные голоса. И он слышал, он, казалось, видел это слово. Как будто экран, а на нем крупными буквами: «САПОЖНИК».
С тех пор, хотя давно уже построено в колхозе новое, большое здание Дома культуры, он ни разу не ходил в кино.
В Елань за песнями
О приехавшем к Прасковье постояльце, который вот уже второй год подряд у ней останавливается на месяц-полтора, — в селе знали в тот же день.
— Смотри, Марья, — говорила соседка Прасковьи, живущая сбоку, своей подруге, живущей напротив, — опять этот рыжий дьявол заявился. С бородой нынче и в штанах, шитых белыми нитками.
— Неужто?..
— Привез тушенки, конфет и селедки, целых две агромадных банки… Полный чемодан. А другой чемодан с книжками да бумагами какими-то…
Между тем студент Московского университета Анатолий Прасолов (этот рыжий дьявол) — неторопливо расхаживал по горнице и расспрашивал хозяйку о житье-бытье…
— Какие наши дела, — отвечала Прасковья, — наше дело нынче пенсионерское. Есть сила да охота — пойдем помогнем. А нет, так и так добро.
— С огородом-то справляешься, мать?
Губы Прасковьи некрасиво скривились, на глазах выступили слезы:
— Так и слышится голос Андрюшки. Бывало, вместе приезжали… Он тоже так меня называл — мать…
— Ну, ну, успокойтесь… Племянницы-то пишут, — перевел разговор Прасолов на другое.
— Пишут. Намедни посылку получила. Старшая прислала, должно, приедет скоро.
— Вот и хорошо, а я вот песни хочу послушать тут, в ваших краях.
Хозяйка уголком передника коснулась глаз, как-то по-новому взглянула на собеседника.
— Песельников у нас много. Село голосистое. Выйдешь, бывало, во двор, там поют, и там, и там. И у соседнего двора — припевки под гармонь…
— И частушки поют?
— Поют и частушки. — Прасковья усмехнулась. — Совсем недавно Евсеича так протянули через частушку эту самую, что с тех пор его и зовут не иначе как Черчилем.
— Это какого Евсеича?
— Да бригадира нашего.
— А почему именно Черчилем?
— Комсомолия, вишь ли, поход на колорадского жука объявила. Вышли на субботник. А он, бригадир, не сумел организовать свою бригаду. Второго-то фронту, выходит, и не получилось. За это и прозвали. Черчиль да Черчиль — так и пристало.
Студент сощурил в улыбке глаза, отрешенно закачал головой.
— Что ж я, — Прасковья вдруг засуетилась около печи и, виновато окинув гостя взглядом, заговорила: — Ты уж, Толя, прости меня… Ты тут сам…
— Ничего, Прасковья Карповна, — подбодрил ее студент.
— Вызвалась я с бабами просо сушить — веять. Пойду я, а то и напарнице моей несподручно.
— Что вы, что вы, конечно идите.
— Пятый день уж веем. По два-три рубля зарабатываем, — призналась она, — а еще в обед и вечером по карману проса приносим. Курей кормить…
Студент повторил:
— Идите, идите…
— Тут вот молоко, — показала она на стол, — а вон пироги. Чайку захочется — плитка вот и чайник…
* * *
Когда хозяйка вышла, студент долго еще ходил взад-вперед по горнице, скрестив на груди руки, задумавшись. Потом он вышел во двор, накинул на дверную петлю крючок и зашагал вдоль частокола на огород. Узенькая стежка, заросшая лебедой и подорожником, вела через картофельный участок, мимо кукурузных и подсолнечных зарослей, вниз. На самом низу лоснились на солнце кочаны капусты, в разные стороны тянулись огуречные побеги. Пахло редькой и разогревшейся на солнце ботвой помидоров.
Прасолов опустился на высокий гребень межи, прямо на траву: задумался. Вспомнил он прошлый свой приезд в Елань. Первый раз приехал он сюда с другом, сокурсником Андреем Рыбниковым, племянником Прасковьи Карповны. Им обоим было все равно куда ехать. У Анатолия родителей не было. Вырос он в детдоме. Жить приходилось и в Ростове, и в Харькове, и в Москве. Андрей тоже не имел родителей. Отец погиб в сорок третьем, мать умерла после войны, в тяжелом сорок шестом. На родине оставалась одна-единственная тетка Прасковья. К ней-то Андрей и пригласил Анатолия первый раз в позапрошлом году.
Прасолов вспомнил, как во время сдачи зачетов по русскому народному творчеству, в беседе с именитым профессором Виктором Ивановичем Колесниковым, когда Андрей упомянул, что едет на каникулы в Воронежскую область, в село Елань, — как загорелись глаза ученого.
— Батенька мой, это же песенный край! Какая заманчивая глубинка!
Седовласый профессор поднялся из-за стола, резким движением руки отбросил упавшие на висок волосы и, блестя золотом очков, внимательно всматривался в стоящего перед ним студента.
— Жаль, — сказал он горестно, — что мне не довелось там побывать. В Поволжье бывал, почти весь Север объездил с экспедицией, края Калевалы пешком прошел, а вот на родине Пятницкого — быть не довелось. — Он открыл массивные замки желтого портфеля. — Прошу вас, батенька, записывать, что доведется услышать, Вот, — он протянул Андрею толстую клеенчатую тетрадь. — Не поддавайтесь лености, молодой человек. К сожалению, этим летом еду на юг. В будущем году можно с вами?..
— Ради бога, — смутился студент.
Но до следующего года Андрею Рыбникову не суждено было дожить. Весной, уже в конце апреля, Анатолия вызвали к заместителю ректора.
— Вот что, — сказал тот, когда Прасолов вошел в кабинет, — съезди-ка по этому адресу. — Он назвал Донскую улицу, номер дома. — Это рядом с университетом Патриса Лумумбы. Вчера в автомобильной катастрофе погиб наш студент Андрей Рыбников. Вы ведь с ним, кажется, друзья?..
Анатолий выронил книгу из рук, которую держал, и машинально опустился в кресло.
…Тетрадь, которую Рыбникову подарил профессор и начатая Андреем — теперь была у Анатолия. Она почти наполовину исписана. Тут были и старинные народные казачьи песни, воронежские частушки-страдания, пословицы, приметы, скороговорки.
Прасолов поднялся с земли и пошел на огуречную гряду. Тронул шершавые листья. С желтых цветов взлетела поздняя пчела. Он сорвал два небольших колючих огурца. Вытер их платком до матового блеска и с хрустом надкусил тот, который был позеленее. Потом долго ходил по грядкам, где росли помидоры, рассматривал желтеющие корзинки цветущих еще подсолнухов, вдыхал запахи переспелого укропа и спеющих дынь, что лежали тут же среди огурцов.
Для Прасолова все это было внове, его все интересовало, и от общения с живой природой он почему-то испытывал какое-то неизведанное волнение. Вернулся он с огорода, когда Прасковья была уже дома и развешивала во дворе мешки. Со всех сторон ее окружали куры. Одна из них, видимо самая смелая, норовила дернуть хозяйку за фартук.
— Мало вам, — дружелюбно ворчала Прасковья, доставая из кармана зерно и бросая его перед собой.
Прасолов, с интересом наблюдая за всем этим, тихонько подошел сбоку. Его заметил серый, с красным ожерельем на шее, петух. Он насторожился, перестал клевать и, склонив набок голову, замер, словно прислушиваясь к чему-то.
— Ишь, бестия, боится.
Петух тем временем захлопал крыльями и так громко закукарекал, что студент не удержался от похвалы:
— Ну и артист, прямо-таки заслуженный.
— Он у меня, что твои Трубогромовы, — с гордостью заметила Прасковья.
— Кто такие?
Карповна ответила не сразу. Она бросила последнюю горсть зерна, подвинула к себе стоящую возле умывальника скамью, — присела.
— Есть тут у нас братья такие.
— Трубогромовы — фамилия их?
— Да нет, прозвали так за их голоса. А фамилия у них — Набатовы.
— Тоже громкая фамилия.
— Громкая, — согласилась Прасковья. — Три брата их было: Иван, Максим и Артем. Два баритона и тенор. А какие голоса красивые!.. Запоют, бывало: «Эх ты, грусть и тоска безысходная» — чем ниже к земле вторые голоса, тем выше, кажись под самые облака, первый рвется. А первым у них здорово средний, Максим, брал. Си-бемоль в третьей октаве тянул, что и говорить…
Студент удивленно посмотрел на Прасковью, но та и глазом не повела.
— Вы что же, музыкальную грамоту знаете?
— Прочитать не смогу, а по слуху каждую ноту в любой октаве назову. В хоре, чай, с семнадцати лет. И теперь еще регент — или как его нынче, руководитель называют — перед праздниками собирает…
— Ну, и что же братья-то?
— Ах да. Бывало, возвращаются с полей — поют. От самого Лысого хутора слышно. А до него, почитай, версты четыре, а то и все пять. Места-то у нас тут низкие. На погоду слышно иногда, как пароходы гудят, а напрямую от нас к Дону — восемнадцать верст.
— Километров? — уточнил студент.
— Да, — подтвердила Прасковья. — А вот когда Ивана с Максимом забрали на войну — младший Артем был хромоногий, — кончились их песни. После Артем пел один, когда проводил братьев. Особенно кручинился по старшему. Тот у них за отца был. Бывало, пасет волов за левадою, а сам поет, — послушаешь, сердце разрывается. До чего же жалостливо. На селе так и говорили: «Слышите, как Артем плачет?»
Особенно любила я, когда он выводил: «Ох, на кого ты спокидаешь…» Слезы наворачивались тут же и сердце как-то всегда билось, как птица в клетке.
Прасковья поднесла к уголку повлажневшего глаза, кончик своего передника.
— И подолгу он певал? — интересовался студент.
— А сколько пасет — столько и поет. Бывало, иду я с огорода, с капустников, а он так протяжно да так жалостливо тянет: «А-а-а-аль на-а-а дру-у-у-у-га-а, а-а-а-ль на-а-а бра-а-а-та-а…» Эти слова вовсе выводили меня из себя. И пока я шла к подворью и плакала — он все тянул и тянул.
Часто я думала: чем он берет? Песня эта вроде простая, всем известная. Певали ее и мы. Конешно, думала я, — берет он допрежь всего душой. Тут понять надобно: старший брат Иван вместо отца ему был, среднего жалко, а месяц перед тем, или того менее, ушел на фронт сердечный друг Артема — Федька Красов. Уж вот-то друзья были. Редко кто видел их порознь — всегда вместе. И то сказать — вырастали они тоже вместе: «Аль на друга, аль на брата меня своего…» — поет он, а у меня в глазах и Федор и Иван стоят. Все это можно было понять. Его тоску и печаль по ним, а вот как он умел на одной ноте делать такие переливы, от чего было и невыносимо тоскливо, и до боли радостно на сердце, — не знаю. В песне-то я маненько разбираюсь, а не могла переносить его этого: и-и-и-о-е-е-го-о-о… — всегда плакала.
Прасковья умолкла, украдкой смахнула слезу, посмотрела на курей.
— И что же потом?
— Через месяц-полтора пришла бумага: Федор пропал без вести. А вскоре и на Максима похоронку получили, и на Ивана вслед. Осунулся Артем, весь в себя ушел. И с тех пор никто его голоса больше не слышал. Убила война в нем песню. Избавь боже, чтобы ему об этом сказать, напомнить о песне. Страшнее быка разъяренного становится человек. Ходит, взгляд в землю и чуть слышно гудит себе под нос, но так, чтобы никто не услышал, а чтобы спеть, как бывало раньше, — никогда!..
Хозяйка поднялась, а студент спросил:
— Где этот Артем и сколько ему лет?
— На ферме он, а годов ему — пятьдесят.
* * *
Пошла вторая неделя со дня приезда Анатолия Прасолова в Елань. Сельская жизнь ему нравилась. Вставал он рано. Сразу же бежал под умывальник. Освежившись холодной водой и выпив кружку молока, брал удилище и торопился через огороды по росной траве к затону речки Осорьги, где по утрам хорошо ловилась плотва, и охотно брались на червя небольшие, по довольно прожорливые полосатые окуни. Возвращался он к завтраку в девятом часу. Тут же готовилась уха. После завтрака Прасолов, как правило, уходил в леваду или в поле, а то и отправлялся в лес, что виднелся на возвышенности в полутора-двух километрах от села, вооружившись фотоаппаратом и неизменным блокнотом. Студента интересовало все ранее им не изведанное: незнакомое для него растение, птицы, насекомые, просто интересные виды. Ему посчастливилось сделать несколько оригинальных видовых снимков. Особенно гордился он редкой ныне красивой птицей, которую удалось сфотографировать над водой, что здесь именуют ее ласково — ивашка. (После Анатолий узнал, что это был зимородок.) Вот уж который день он, правда, тщетно пока, охотился за иволгой, что обитала в густых зарослях черноклена прямо за огородами. Осторожная птица никак не попадала на глаза, и, как утверждали в селе, ее редко кто видел.
Как ни занимательно было Анатолию изучать окрестные места Елани, он постоянно ловил себя на мысли, что ждет вечера. Именно вечером, когда все возвращаются с полей, можно было встретиться с интересующим тебя человеком, услышать песню. Правда, прошедшая неделя его не только ничем не порадовала — разочаровала. Дважды услышал он, как пели женщины, ехавшие на грузовике. Песня малознакомая, видимо старинная, но разве расслышишь голоса, когда машина вихрем проносится мимо?..
Прасковья неохотно рассказывала о себе, да ей было и некогда. К Артему Набатову он подступиться все еще не решался. Единственное, на что Анатолий возлагал надежды, — на эти самые вечера, когда у сельского клуба собиралась молодежь. Но первый же такой вечер не только обескуражил, но и наводил на грустные мысли, что не так-то просто будет записать малоизвестную песню, редкую частушку или народное предание.
Случилось это на другой день его приезда. Анатолий вернулся с речки, когда солнце еще висело на добрую сажень от кромки желтеющих полей. Прасковьи дома не было. Он не спеша переоделся, повязал лучший свой галстук и посмотрел на себя в косяк зеркала, расколотого с угла на угол. Потом с минуту о чем-то раздумывая, долго смотрел в окно, наконец снял пиджак и галстук. Действительно, на улице было слишком тепло, да оно и проще было.
В центре села, где он мельком бывал в прошлый приезд, мало что изменилось. Так же возвышенно и красиво стояли здания сельского Совета и почты; магазины — продовольственный и промтоварный — были еще открыты; клуб, стоящий особняком, пестрел рекламами и огромным стендом, на котором красовались цифры, графики, портреты лучших людей села.
Прасолов зашел в один магазин и другой, побывал на почте и в библиотеке, расположенной тут же в здании сельского Совета. Вышел на улицу, когда к клубу с разных сторон тянулись нарядные парни и девчата, а из распахнутых окон фойе доносились надрывные стенания неведомого детины, который хриплым, до дикости грубым голосом восклицал:
Хэй, бибо кирро, лэй ду-ду-ду…Из окон доносился приглушенный шум, сдержанный смех и говор — в фойе танцевали. Прасолов не представлял, сколько людей там, в зале, но удивился тому, что здесь, у входа в клуб, их было не меньше. Он присел на край длинной деревянной скамьи против такой же, на которой сидели четыре девушки в окружении молодых людей с длинными, как у монахов, волосами и в пестрых рубахах.
На Анатолия никто, кажется, не обратил внимания, и он не без удовлетворения отметил эту деталь. Вынул сигареты, закурил и стал наблюдать за окружающим.
Из ребят, что сидели и стояли у скамьи напротив, выделялся небольшой паренек в зеленых брюках и спортивной тенниске с транзистором в руках. Он что-то рассказывал, очевидно, смешное. Ребята громко хохотали, а девчонки прыскали в кулак. Смеялись и над рассказчиком, когда тот пытался настроить свой транзистор, но кроме треска, визга и свиста, ничего не получалось.
Анатолий поднялся, загасил сигарету и направился к левому крылу входа, где толпилось особенно много парней и девчат. Протиснулся в круг и увидел, что здесь танцевали под магнитофон, стоящий тут же на одной из скамеек. Ритмическая джазовая мелодия глохла в душном воздухе, но это не мешало танцующим в горячечном твистовом экстазе энергично работать локтями и коленями, картинно выгибаясь, то приседая, то поднимаясь. Прасолов долго стоял и наблюдал это, в общем-то знакомое ему зрелище. Но почему-то ему казалось, что все, что сейчас происходит, — делается если не по принуждению, то, по крайней мере, без особого удовлетворения. Все: и эти обязательные брюки, в которых одето большинство девушек, и эти неизменные тени на веках, и прически ребят, и их цепочки на шеях с крестиками и без них, и, наконец, этот танец, — все это казалось Прасолову условным, наносным, но обязательным. Ибо кто же рискнет оказаться вне моды времени, прослыть отсталым?..
Анатолий еще долго наблюдал за одной из девушек, которая выделялась не только ладностью фигуры, но и особенной четкостью движений. Одета она была, в отличие от других, не в брюки, а в обыкновенную черную юбку. И это, однако, не мешало ей танцевать лучше других.
— Во Трошина дает, — заметил веснушчатый курчавый паренек, стоящий рядом с Прасоловым. — Ей бы лучше русского, во!.. — Он осекся, увидев перед собою незнакомое лицо Анатолия.
Было уже около двенадцати, когда Прасолов решил отправляться домой. Гомонящая толпа у клуба заметно редела. Опустел танцевальный зал. Полная луна, забравшись в самую середину неба, щедро рассыпала с высоты загадочно-печальный свет. Анатолий даже оторопел: раньше такой луны не видел почему-то. А потом догадался — в городе при свете уличных фонарей ее не замечаешь.
При лунном свете хорошо было видно, как гурьбою, а то и попарно растекались в разные стороны гуляющие. Особенно далеко виделись белые рубахи парней и светлые платья девчат. Кто-то кого-то настойчиво звал, взрывом раздавался то там, то здесь хохот.
Прасолов ускорил шаги. Ему вдруг показалось, что сзади его догоняли. Не хотелось Анатолию, чтобы на него лишний раз обращали внимание. Веселая компания в это время свернула с дороги вправо. Прасолов определил это по голосам. Ребята что-то горячо обсуждали, слышался веселый заразительный девичий смех, вдруг ни с того ни с сего рассыпались звонкие переборы аккордеона. Анатолий удивился: откуда аккордеон?.. А мелодия тем временем долго висела на одном минорном звуке, и высокий мальчишеский голос запел:
По Дону гуляет, по Дону гу-ля-е-еет…Песню подхватили сразу несколько голосов, да так ладно и легко, что Прасолов некоторое время стоял с полураскрытым ртом.
Не плачь, девчонка-а-а, пройдут дожди-и-и… —звучала припевом новая мелодия.
Стоит дева, плачет…Певцы свернули в переулок, и песня оборвалась так же неожиданно, как и началась. Прасолов еще долго стоял и ждал. Ему не верилось, что «волосатики» так здорово умеют петь. Песня хотя и старинная, но не была для Анатолия неожиданностью. Он хорошо ее знал, часто слушал в передачах по радио, тем более ту, что служила припевом. Поэтому еще больше его удивила необыкновенная легкость, своеобразие и ладность ее исполнения. А может быть, своеобразие и заключалось в этой необыкновенной легкости? Кто знает, может быть, Прасолов, по крайней мере, судить об этом сейчас определенно не мог. Его больше занимало и волновало то, что происходило у него на глазах в течение всего вечера.
Анатолий Прасолов никогда не был в числе гонителей или запретителей узких и широких брюк, длинных волос, коротких юбок или джазовой музыки с ультрамодными танцами. Он придерживался того убеждения, что все, что является на свет божий, — закономерно и естественно. Все это должно существовать, по его мнению, наряду со всем остальным. Но он не хотел мириться с тем, когда одно всплывало на поверхность, не привлекало, а прямо-таки требовало к себе всеобщего внимания, тогда как все остальное должно было быть где-то в подспуде. В этой мысли убеждало его все, происшедшее нынешним вечером. В его ушах слышалась надсадная, отрывистая магнитофонная какофония, перед глазами в полусогнутом виде дергались фигуры танцующих. О, эта злостная сила моды! Разве кто мог дерзнуть в этот миг на простой народный танец? Песня и та молчала в то время, когда гремел джаз в неистовом кружении бобин магнитофона, и пролилась лишь тогда, когда они перестали вращаться; когда все расходились и не было риска быть уличенным в приверженности к своей народной песне, широкой и раздольной, которая одна могла вместить в свою гармонию, все эти джазовые штучки как некий составной ритмический элемент, не более.
Грустные мысли одолевали Прасолова. Но в этой грусти ему виделось нечто и светлое. Он теперь был убежден в том, что заветная его тетрадь будет все же кое-чем пополнена. Хотя дело это будет и не таким простым, как ему казалось раньше. Трудным будет оно, но возможным. Так думал Прасолов.
* * *
Вторая и третья неделя прошла, наступила четвертая, а Прасолов все еще не мог похвалиться успехами в своем собирательстве. Правда, выручил его Иван Антонович Корабелов, у которого Анатолий записал несколько интересных и, как думалось ему, малоизвестных песен. А главное, много любопытного узнал Прасолов, связанного с личностью этого редкого человека.
Иван Антонович Корабелов жил в середине однорядной улицы, как раз напротив колодца, это Прасолов запомнил с прошлого раза, когда они еще с Андреем дважды к нему приходили, и оба раза неудачно. В первый день тот был действительно занят (как раз заканчивали кладку рукава погреба), второй приход совпал с уборкой хлеба на ближнем поле, где Корабелов временно командовал током. Но это были не главные причины. Неприязненное чувство к незнакомым людям заключалось в том, что Иван Антонович вообще редко когда раскрывался перед кем-либо и почти никогда не делился своим «артистическим» прошлым, о чем многие знали лишь понаслышке, — тем более с приезжими. Иное дело, когда где-либо на празднике ли, сельской вечеринке или на свадьбе, а редкая свадьба обходилась без него — там он давал себе волю. И опять же не прошлому своему, а тому, что сохранилось в памяти его и удалой натуре от молодости.
На свадьбе, сценарий которой Иван Антонович часто разрабатывал самолично, первое время старался, как говорят, быть в тени. Потому как и без его участия было весело. Еще до застолья Иван Антонович «пропускал» рюмочку-другую, что подносили ему догадливые сватьи — становился все оживленнее. Лысина его белела еще больше, а лицо, наоборот, багровело. Правый глаз светился более обычного. (Левый был закрыт — слепой.) Уже тогда от него жди чего-нибудь особенного. Вдруг он моргал кому-либо из парней, бросал из рук в руки гармонь и, кувыркнувшись через голову — петухом вылетал на середину круга: «Топор — рукавица, жена мужа не боится…» Антоныч волчком вертелся по кругу, и нелегко было разобрать — чем он больше работает: руками или ногами.
Оп-оп-оп-оп На княжне женат холоп…Когда он, обрабатывая ладонями колени, плечи и пятки, как бы между прочим попадал пятерней по блестящей своей лысине, то казалось, именно от этого удара приседал он к самому полу. Лихо хлопая руками под коленками, он петухом взлетал кверху, продолжая выделывать такие кренделя, что трудно было удержаться от восторга и смеха:
Паровоз, паровоз, К коммунизму не довез. Я на радость Ильичу На ракете долечу!..— Давай мою! — требовал он, усаживаясь на стул, возбужденно дыша. Это значило, что он будет играть на своей гармони, которую берег и пускал в дело в тот момент, когда веселье достигало своего апогея и простая гармонь или аккордеон, каких нынче развелось множество, не могли удовлетворить в полной мере гуляющих.
Тут же подавали ему инструмент, который заранее был принесен и хранился до поры у хозяев в сундуке или на печке. Иван Антонович бережно вынимал свою гармонь из футляра, протирал вишневые планки фланелькой, специально хранящейся тут же, осторожно ставил на колени.
Гармонь, казалось, мало чем отличалась от других. Обыкновенная двухрядная, только по величине она была побольше, пожалуй, баяна. Латунный голосовой гриф ее тускло поблескивал, перламутром переливались пуговки на басах. Весь секрет состоял в ее голосе. Гармонь имела рояльный строй и обладала необыкновенно звонким малиновым звучанием. Бархатистый низкий тон басов придавал ей неповторимо-задушевный тембр, и было в этом звучании что-то от светлого и грустного человеческого голоса. Басы с голосами словно переговаривались. Чудилось, будто женщина звала куда-то далеко-далеко своего возлюбленного, а он со вздохом, то лукавым, то печальным, выговаривал ей ее сиюминутное желание.
Сильная была гармонь. Так что, если бы кто рядом заиграл на другой — его бы никто не расслышал. Играл на ней Иван Антонович мастерски и, естественно, обладая вкусом, очень редко когда давал мехам полную силу.
Рояльную гармонь изготовил еще до войны дядя Ивана Антоновича, известный мастер Емельян Корабелов, потомственный гармонист. Мастер своего дела, знающий цену своему труду, Емельян не гнался за количеством. Он сделал за свою жизнь всего семь гармоней, и то только две из них — по заказу. Остальные готовил для себя. Изготовит одну — легкость не та; вторая не нравилась по звучанию; третья — тоже. И так только седьмая удовлетворила старого мастера. Понятно, что остальные инструменты у него тут же забрали за большие деньги.
Мастера знали не только у себя в Воронежской области, к нему наезжали из-под Белгорода, являлись с заказом соседи-куряне, да мало ли где теперь находились остальные из семи гармоней. Ежели верить Ивану Антоновичу, то одна из них находится в оркестре хора имени Пятницкого, где он в свое время пел тенором. Кто знает, может быть. Ведь основа крестьянского хора Пятницкого да и он сам именно из этих песенных мест. Вон она, Александровка — село, в котором родился Митрофан Ефимович, — совсем рядом.
По-особому ревностно относился Иван Антонович к песне. Для него песня была религией. Когда, бывало, на той же свадьбе его просили организовать певцов, соглашался он не вдруг. Не любил браться за такое дело с наскоку. Зная природную способность к песне своих земляков — всегда верил, что успеха можно добиться и без репетиций, если только верно расставить и рассчитать силы.
«Хорошо», — наконец соглашался он. Тут же удалял кто перепил. «Да я, да меня…» — бил тот или другой себя в грудь. Иван Антонович, как человек, облаченный доверием и властью, — приказывал: «Ну-ка ты, Петя, и ты, Вася, возьмите этого молодца. Один держи под белы руки, а другой переставляй ему ноги. Туда!» — показывал он на дверь. Потом расставлял певцов строго по порядку: басы и баритоны — справа, тенора, контральто, сопрано, альты — слева. «Жаль, замечал он, ни одного октависта нет, да и с басами не густо…»
Обычно перед Новогодними, Майскими или Октябрьскими праздниками в плотничью бригаду, где Корабелов работал, приезжал Сенька Болдырев, завклубом.
— Здравствуйте, — восклицал Сенька.
Мужики здоровались.
— Ну, что, Семен, — втыкал Иван Антонович топор в ошкуренное бревно, — как дела на культфронте?
— Дела у прокурора, у нас делишки.
Не спеша закуривали, говорили о том, о сем, а потом Сенька вдруг говорил:
— Иван Антонович, пора собирать. Что-то самодеятельность совсем заглохла. А на носу торжественное собрание, начальство из района… — И поспешно добавлял, зная, что Корабелова этим доводом не убедишь: — Спицын, Сивогорлов, Галушка непременно будут!..
— Жаль, умер дядька Кондрат, — горестно замечал Иван Антонович, — какие брал низы…
* * *
Было под вечер, когда Прасолов с Николаем Наветным, другом Андрея Рыбникова, вошли во двор Корабелова. Небольшой, но аккуратный домик Ивана Антоновича стоял в глубине двора. Прасолов отметил про себя опять, что и забор, и все подворье, и сам домик свидетельствовали о доброй хозяйской хватке Корабелова.
Двор разделяла низкая перегородка из штакетника на две половины. За перегородкой — четыре ряда стройных яблонек. В глубине двора, слева от сарая, крытого черепицей, — стожок сена, за ним — совсем крохотный сарайчик, какие называют здесь катушок, тоже заботливо обмазанный желтой глиной и под шифером. В четырех шагах от крыльца — массивная дверь выхода из погреба, рукав которого уходил в землю и побеленные бока которого ослепительно вырисовывались белыми треугольниками. Между кустов крыжовника деловито расхаживало с десяток курей. Прасолов впервые видел таких. В отличие от обыкновенных белых, что водились почти в каждом дворе, эти были гораздо крупнее, а главное, выгодно отличались красотой своего оперения. Большинство птиц было перепелиного пепельно-серого цвета, другая часть — черные, с бордовыми разводами по бокам и с оранжевыми подпалинами на крыльях. Они, казалось, с немалым достоинством держались на массивных желтых ногах, гордясь собою, подворьем и своим хозяином.
А вот и он сам, Иван Антонович, видимо заметив во дворе гостей, вышел на крыльцо почему-то без рубахи и в резиновых сапогах. Прасолов чувствовал, что хозяин его узнал, но виду не подал, и трудно было определить, огорчен или нет он очередным приходом гостей. Лицо Корабелова было, как всегда, спокойным и без улыбки на сухих тонких губах.
По крепкому пожатию руки Анатолий почувствовал, что Корабелов на этот раз относится к нему с несколько большим расположением. По крайней мере, ему так показалось.
Николай Наветный чувствовал здесь себя как дома. Да и как иначе: жили они с Иваном Антоновичем, считай, по соседству. Кроме того, Корабелов доводился ему далеким родственником. Родственная нить, правда, давно затерялась, и никто толком не мог назвать степень этого родства, тем не менее все это не мешало им называться как дядя и племянник. И еще одно, что давало право Николаю держаться по-хозяйски, — это приглашение Ивана Антоновича. Вот потому-то Наветный и приступил сразу к делу:
— Ну, где твой зверь?
— В сарае.
— Что так рано, в зиму бы колоть надо?..
— Толку никакого, — пояснил хозяин. — Видно, что-то у него не в порядке. Другого взяли: вон в кухне. Что ж теперь, двоих держать?
— Ладно, — сдвинул на лоб кепку Николай, — давай нож, пошли.
— Только ты сам, — взмолился Антоныч, — я не могу, жалко…
— Может, я, — нерешительно предложил Анатолий.
— Ладно, сам, — взглянул на Прасолова тот, пробуя на ногте лезвие ножа.
— Во, черт, — ворчал Корабелов, когда Наветный ушел в сарай, — чистый разбойник. А я не могу.
— Сюда! — раздался голос из-за погреба через три-четыре минуты.
Иван Антонович и Прасолов сошли с крыльца и увидели длинное тело борова и склонившегося над ним Наветного. Боров все еще слабо подрыгивал задней ногой.
— Готов, — распрямился Николай, вытирая соломой окровавленный нож.
Прошло более часа. За это время Иван Антонович и Николай опалили соломой тушу, разделали ее и сняли сало. Снесли в сени и разложили куски на разостланные газеты. В большом эмалированном тазу оставалось осердье.
Вернулась с работы Даша, жена Ивана Антоновича, — небольшая беленькая женщина, с овсяными волосами и тонким переливчатым голосом, который так и звенел во дворе. Она тут же, помыв руки, включилась было в дело. Но Иван Антонович сказал:
— Даша, готовь печенку, мы тут и сами управимся, иди готовь.
Еще через полчаса сидели за столом с дымящейся на сковородке печенкой и миской соленых помидоров.
— Даша, садись.
— Сейчас, сейчас, — звенела та, снимая с плитки чугунок с картошкой.
— Ну, что ж, со свежатиной, — Николай поднял рюмку рябиновой настойки.
— Будем.
— Э-э, ты что ж, студент, — укоризненно заметил Наветный, когда было налито по второй и Анатолий не выпил.
— Не могу.
Иван Антонович с Николаем выпили еще и еще. Анатолий пил терновый квас и похваливал помидоры. Прасолов ждал случая, когда разговор можно будет перевести на песню, на гармонь, но он подвернулся сам по себе, да таким неожиданным образом, что студент не усидел на месте.
— Спасибо, помог управиться, — причитала хозяйка. — Да как вы скоро так?
— Калиничева школа, — заметил Наветный.
— Он разве умелец? — поднял светлую бровь Иван Антонович.
— Ну как же. В селе, пожалуй, нас только двое таких, — довольно улыбнулся Николай. — Раз как-то ударили по рукам: кто быстрее.
— И как?
— Верх взял он, — вздохнул Наветный. — Зато я его на песне выставил.
— Когда? — Корабелов ближе подвинулся к гостю.
Анатолий оживился, тоже слегка придвинулся с табуреткой к столу, осторожно положил на стол вилку.
— Тогда же. — Наветный взял с колен полотенце, вытер руки и, чему-то улыбаясь, смотрел на Ивана Антоновича мягкими, как весенняя вода, голубыми глазами. — Ударили об заклад, ну я его на первом голосе и обошел.
— У тебя же баритон. И брал первым? — удивился Корабелов.
— Знаю, что баритон, а зачастую первым беру.
— Что ж вы пели?
— Степь…
Иван Антонович встал со своего места, заходил вокруг стола. Поднялся и Николай, поравнялся с Корабеловым, закрыв глаза, тихо запел:
Уж ты, сте-е-пь, сте-е-е-е-е…Голос его все нарастал.
Иван Антонович склонил голову на грудь, прислушиваясь к запеву, а потом вдруг, откинувшись, подхватил таким сильным и сочным голосом, чего Прасолов никак от него не ожидал:
О-о-х ши-и-ро-ко-о-о-о-о-о Ой ли да-а-ле-ко-о-о-э-э-э…Два голоса слились воедино и, словно широкий весенний поток в половодье, легко и ровно потекли куда-то в дальнюю даль. Анатолий мельком кинул взгляд в сторону. Даша стояла, слушала, сложив на груди свои пухлые руки. Глаза ее светились, и в этом свечении боролись, казалось, два чувства: восторг и любопытство, Иван Антонович опять опустил голову на грудь, застыл в выжидательной позе. А Наветный, поддержанный Иваном Антоновичем, казалось, совсем осмелел, откинулся назад, глаза полузакрыты:
Ой да сте-е-пь рас-ки-и-и-ну-лась Э-э-э-э-э-о-о-о…И вновь в лад Николаю поет Иван Антонович, вскинув голову. А песня уже заполнила собою всю комнату вместе с горницей. И когда голоса на самой высокой ноте достигали полной силы — Анатолию почудилось, что места ей в избе было мало. Даже тонкий стакан, казалось, тихо дребезжал, вздрагивая на столе.
Прасолов не сводил горящего взгляда с певцов. Он прикрыл глаза, вслушиваясь и пытаясь понять: в чем же неотразимая сила воздействия ее на сердце и душу? Слух поражала ладность голоса, какая-то малопостижимая тайна их свободной и легкой взаимосогласованности. Слушая песню, Прасолов вспомнил, он словно явственно увидел перед собою два самолета, полет которых когда-то наблюдал над аэродромом где-то под Воронежем. Вот они двумя точками один над другим показались на горизонте. Вот развернулись и пошли на снижение, а потом вдруг, взмыв вверх и описав огромную дугу в небе, выровнялись и закружились в вираже, поочередно поблескивая на солнце серебристыми крыльями — растаяли в сини неба…
— Хватит, хорошего понемногу. — Наветный отодвинул стул, улыбнулся. — Есть еще порох…
— Здорово! — отозвался студент и с удивлением посмотрел на хмурое лицо Ивана Антоновича.
— Зачем юлишь? — уставился тот своим глазом на Николая. — А еще бахвалишься: Калиничева победил. С таким подвыванием да дрожанием далеко не уйдешь.
— Чего набросился на парня, — вступилась Даша.
Николай смутился, даже покраснел, а Иван Антонович стал отчитывать: «Разве так поют? Представь себе — это же степь! Без конца и края, а над ней небо, тоже бесконечное. Тут есть где разгуляться! Полной грудью и ровно петь надобно, а ты дрожь свою наперед выставляешь…»
— Молодой, исправлюсь, — подвинулся ближе к столу Николай. — Давай по маленькой.
Антоныч налил, поднял рюмку, но пить не стал. Подождав, когда гость выпил, — поставил рюмку на стол, вышел в горницу.
— Несет гармонь, — подмигнул Анатолию Наветный.
* * *
Не один вечер после того дня провел Прасолов у гостеприимного Ивана Антоновича и его хозяйки Даши. Анатолий чувствовал, что хозяин был хорошо, по-доброму расположен к нему еще с той встречи, когда они приходили с Николаем Наветным. Расположение это с каждым приходом добрело. В продолжительных беседах Корабелов часто подбадривал студента: «Доброе дело мыслишь, доброе». Он старался рассказать все, что Прасолова интересовало, и как можно больше.
Как-то Анатолий высказал сомнение в полезности своего собирательства.
— Что ты толкуешь? — не понял Иван Антонович.
— Я говорю, что вот мы собираем, записываем старину, а кому она нужна? Нынешняя молодежь всего этого не знает и знать не хочет.
Корабелов склонил голову набок, раздумывая о чем-то, а потом, сверкнув единственным глазом, внимательно посмотрел на Прасолова.
— Неправда. Вот Николай, например, ему всего двадцать два, а сколько он знает? Я многих еще могу назвать.
«И верно, — подумал Анатолий, — те ребята, что пели, возвращаясь из клуба…»
— Дело не в том, чтобы старинную песню петь обязательно. Песня, как и все остальное в жизни, — не вечна. Но знать ее надо! Знать, чтобы уметь новые и дела и песни ладно складывать. Главное — не потерять хватку, что одинаково нужна во всем, была и будет нужна — это главное. Вот они, песни, — поднялся Иван Антонович и отдернул занавеску с книжной полки, — это капля в море.
Прасолов подошел поближе, разглядывая сборники песен. Тут были и редкие старинные — Балакирева, Данилова Кирши, Соболевского, музгизовские и самые современные.
— Это капля в море, — повторил Иван Антонович. — Ну, а теперь записывай, — он вышел в горницу и тут же вернулся с гармонью. — Спою тебе, вряд ли кто и знает такие, разве лишь Артемка Набатов.
— А вы с ним как? — оживился студент.
— Крестник он мой.
— Как бы с ним потолковать?
— Да, просто. Позову его — он и придет. И песни вдвоем поплачем…
— Жаль — завтра уезжаю.
— В следующий раз, стало быть…
Иван Антонович долго усаживался, поправляя на плече ремень. Медленно перебирал клавиши, нащупывая нужную мелодию, склонив при этом голову набок, почти касаясь ухом мехов. Наконец тихим голосом запел старинную казачью песню, в которой говорилось о возвращении из похода, о трудной встрече казака с родителями и невестой товарища, погибшего в сече и оставшегося где-то там, за Турецким валом.
Прасолов записал еще одну песню и еще. Но особенно его поразила четвертая, и не только своим напевом, простотой и какой-то непостижимо-властной силой слов, но и тем, что она, как казалось Анатолию, была неизвестной. Песни, связанные с именами Болотникова, Булавина, Разина, Пугачева он знал достаточно хорошо.
В песне, напетой Иваном Антоновичем, рассказывалось о Персидском походе Степана Разина, о тоске казаков по родине…
Лишь поздно вечером вернулся Прасолов в дом Прасковьи. В его ушах еще слышались напутные слова Ивана Антоновича: «Лег ты мне на душу, приезжай…» И когда слова эти затихли, вновь звенела песня, песня о Степане Разине…
Прасковья засуетилась с ужином. Прасолов извинялся, благодарил ее, уверял, что не голоден. Но все же, поддавшись уговорам, машинально съел кусок пирога с молоком и ушел в горницу, стал собираться в дорогу. Завтра чуть свет надо было попасть на автобус, что проходил здесь ежедневно в половине шестого.
Уложив чемоданы, он еще долго сидел за столом и листал заветную клеенчатую тетрадь. Прасолов внимательно пересмотрел все записи, начиная с первых страниц, сделанных еще Андреем, некоторые песни и частушки перечитывал по нескольку раз. Представил себе, как одобрительно будет смотреть на него и потирать руки профессор, листая тетрадь. Наконец он с нетерпением дошел до последней страницы:
Расшумелось море синее, Море синее Хвалынское. В ночь седые волны пенились, С буйным ветром волны спорили. Загрустили в дальней Персии Казаки Степана Разина О своей далекой родине, О донском степном раздолии…Лишь в середине ночи Прасолов мгновенно и крепко уснул. А рано утром юркий автобус мчал его по влажному от росы проселочному большаку. Анатолию было и грустно и легко. Грустно оттого, что приходится покидать эти места, ставшие ему близкими, людей, которых узнал и полюбил. Легко потому, что был уверен в том, что уезжает не насовсем. Что на следующий год он снова будет в этом удивительном песенном краю, где его ждут новые находки и открытия, старые и новые песни, многое и многое неизведанное в потаенных глубинах человеческих душ и сердец. В чем он теперь не сомневался — что оно здесь есть, что оно вечно, как эти поля и эта дорога; сверкающее солнце и сияющее небо над этой извечно новой землей.
Дуняшина могила
Памяти Марии
Первым, кого мне довелось встретить при въезде в хутор, был седобородый старик. Он косил позднюю траву между высокими кустами дикого татарника. Хотя ему, судя по бороде и морщинам, было далеко за семьдесят, но по осанке проглядывала и сила, и крепость. Одет он был пестро. Зеленые брюки, заправленные в высокие сапоги, желтая рубаха навыпуск, а поверх нее темнела потертая синяя жилетка (пиджак он, видимо, снял). Костюм его завершала широкополая с гнутыми краями и грязными подтеками фетровая, видавшая виды шляпа с выцветшей лентой.
Лица старика долго не удавалось разглядеть как следует, хотя он и проходил свой прокос вполоборота ко мне. Видел я его густые всклокоченные брови, крупный мясистый нос да белые щетинистые усы, сливающиеся с бородкой.
Долго я стоял и любовался, как он работал. А косил он легко и красиво, словно играючи, так, что и мне невольно захотелось взяться за косу, хотя в последний раз держал ее еще до войны. На меня старик даже не взглянул, хотя я стоял у него почти на пути. Косил он неторопливо, размашисто, слегка припадая при каждом взмахе на правую ногу.
Пришлось ждать, пока он дошел до конца свой прокос и не вскинул острую косу на плечо.
— Бог помочь, отец.
— Здорово, коль не шутишь. Говорили боги́, чтоб и вы помогли, — ответил старик и протянул мне косу.
Мне, конечно, хотелось попробовать свое умение, но такой неожиданный оборот дела тут же озадачил.
Я положил свой велосипед на обочину, взял косу, попробовал ее на вес, проверил насадку.
Старик стоял сзади меня. Хотя я его не видел, но спиной чувствовал, что он следит за каждым моим движением. И лишь когда я, подправив зернистым оселком жгучее жало косы, начал прокос, — старик не вытерпел, заговорил:
— Дельно, дельно… По ухватке вижу, что умеешь. Сам-то не тутошний?..
Старик снял шляпу, вытер платком ясный с большими залысинами лоб.
— Из города я, отец.
— А к нам в хутор зачем пожаловал?
— В гости приехал, к брату. Перепелицына не знаешь, случаем?
Старик так и ахнул.
— Так-так, стало быть, к Николаю Константиновичу?
— К нему.
Озаренную улыбку старика вдруг словно ветром сдуло с лица. Мохнатые брови его опустились, лицо посуровело.
— Мы с ним, лешаком, вчера только поругались. А живет он, как войдешь за тот вон бугор, так третье подворье справа.
— Что ж вы не поделили? — полюбопытствовал я.
— Да все из-за могилы Дуняши, — не меняя тона, ответил старик.
— Какой Дуняши?
— Ну, эта, как ее… невеста певца Кольцова.
— Поэта Кольцова?
— Нет, певца, — поправил старик. — И в численнике так написано, что певец. Вон ее могила, на углу. — И он показал рукой в сторону сельского кладбища.
Я был обескуражен таким неожиданным поворотом дела, а поэтому даже забыл спросить старика и то, почему он так близко знаком с моим братом, и то, из-за чего именно они поругались, и откуда ему известно, что эта могила Дуняши.
— Идем, покажу.
Несколько минут мы шли молча через пустырь, на котором росла жесткая лебеда и полынь.
— Стоило ли ругаться?
— Это потому, что мы друг друга уважаем. Завтра помиримся, — ответил он тоном человека, уверенного в том, что завтра произойдет все именно так.
— И давно вы знакомы с моим братом?
— Давно-о. С тех пор, как Константиныч к нам приехал. Я, вишь, в школе завхозом работаю, — добавил старик. — Вот она, могила-то, — показал он на небольшой холмик, чуть заметный среди высокой травы, с невысокой железкой вместо креста.
Я молча стоял перед небольшим холмиком. Обыкновенная заброшенная могила, какие встречаются на старых сельских кладбищах. Чуть приметный холмик, полусухая трава, кустик одиноко растущего репейника.
— Из-за того и поругались, что я никак одной штуковины не могу найти, чтоб доказать… А тут еще Виктория Вениаминовна подзуживает: маловато, мол, аргументов. Николай-то Константинович, он верит, но хочет, чтоб я нашел одну бумагу. А я, как на грех, не могу ее отыскать, а то бы сразу, в один момент ихнюю компитенцию поставил кверху тормашками.
— Говорим мы с вами, не познакомившись. Неловко как-то. Меня зовут Андрей Гаврилович, — представился я.
— Евдоким Лукич Долинин, — назвался старик и крепко сжал мою руку. — Так ты, стало быть, не родной брат Константинычу. Отчество-то?..
— Двоюродные мы. А это, стало быть, в два раза роднее.
— Во как! — удивился Долинин и впервые за время нашего разговора улыбнулся. — Вон сколько прожил, а про это первый раз слышу. Надолго ли к нам?
— С недельку побуду, увидимся еще.
— Заходите в школу, за честь сочту.
Евдоким Лукич чуть приподнял над головой свою выцветшую шляпу в знак прощания.
«Странный старик», — думал я, добираясь до околицы.
* * *
То был один из августовских дней, тихий и ясный, какие случаются у нас в Придонье, когда хлеба уже скошены и ходкие тракторы поднимают пласты чернозема так споро, что светло-золотистая от стерни и соломы пашня превращается в черный, разрастающийся на глазах квадрат. Много добрых слов сказано о наших воронежских черноземах, об их иссиня-черном, отливающем от жира антрацитным блеском цвете, на котором воистину даже трактор кажется светлым пятном. Да что трактор? Даже грачи, важно расхаживающие по бороздам, едва различимы на свежей пашне.
Есть в этой лоснящейся на солнце черноте земли что-то извечно-молодое и неизбывное, такое же дорогое и памятное с детства, как вкус духовитого ржаного хлеба, вседневного, насущного.
Дорога, по которой я шел с велосипедом, тянулась между просяным полем и неоглядными полосами сахарной свеклы. Обочина ее пестрела разнотравьем, среди которого особо выделялись желтеющие кусты рясного донника, пурпурные пики иван-чая, крупные, василькового цвета созвездия цикория или, как его называют в здешних местах — петрова батога. Слева по горизонту, насколько может видеть глаз, раскинулись поля. Справа виднеются меловые, белеющие на сером фоне пыльных крутояров, склоны — правый противоположный берег Дона.
Впереди — казачий хутор, темнеющие сады которого были ясно различимы среди степных балок и кремнистых отрогов.
Теплый степной ветерок заметно оживился, когда я достиг перевала через очередное взгорье. Дорога теперь бежала влево и вниз. Я сел на свой двухколесник и весело покатил под уклон. Бойчее заструился воздух, ветерок засвистел в ушах, еще острее запахло переспелыми травами, густым ароматом поздних степных цветов.
Наконец вот он, хутор! Взволнованный предстоящим свиданием с братом, подходил я к третьему подворью. «И надо же такому сложиться, — думал я, — видно, и вправду книга, которую я разыскиваю, — здесь…»
А все началось с того, что когда один мой друг, воронежский любитель-краевед, узнав, что я еду в эти места, поведал мне историю, связанную с редкой книгой стихов Кольцова: «Есть там и еще кое-что интересное. Ты не торопись, разберись, покопайся хорошенько…»
Теперь-то я понимал его намек на «кое-что». Неужели мне доведется прикоснуться к одной из страниц биографии знаменитого поэта?
В памяти вставали рассказы о юношеской любви поэта к дворовой девушке, которую ввели в дом воронежского прасола в качестве служанки.
Чудовищное невежество, деспотизм родителя-батюшки Кольцова, его боязнь: как бы девушка-холопка не стала женой невесть кого — сына мещанина, — заставили этого «батюшку» продать бедную девушку в рабство, «в казаки» на Дон. И все это совершилось тогда, когда сын его, юный поэт, находился в степи с табунами и не подозревал о жестокости, совершающейся в это время в доме отца.
Два года не виделись мы с братом, два года назад был я у него последний раз. Теперь он был на новом месте, но в горенке, отведенной ему хозяйкой, все так же: книги, рисунки, тяжелые застекленные рамки с набором самых разных, самых красивых бабочек. Неизменный спутник брата, старый баян стоял на видном месте.
— Ну, что ты, как ты? — расспрашивал меня брат.
— Живу, работаю.
— Все живут, все работают, вернее, должны работать.
Я принялся выкладывать привезенные из города гостинцы.
— Ух ты, — воскликнул брат, когда я развернул спиннинг — давнюю его мечту. А когда достал из портфеля масляные краски и набор кистей, среди которых две были колонковые, — тут он и вовсе подпрыгнул чуть ли не до потолка, закричал:
— Давай обедать! веселиться будем!..
— Лучше без торжества.
— Пообедаем и — гулять. Я тебе покажу наши места и перспективу наших весей. И поговорим вдоволь.
За обедом я рассказывал хозяину, чем занят, о новой своей работе. Вспоминали прошлые годы, иные дни, друзей-товарищей…
Николай смешно щурился, часто наливал сухое вино, от которого он заметно хмелел.
— Знаешь, — горячился брат, — я вот прихожу к выводу, что мы много теряем талантов на местах, в таких вот глубинках, как наша.
— Что ты имеешь в виду?
— А то, что для вузов надо подбирать ребят, начиная с первых классов. Сколько в селах, вот таких, как наше, талантливых ребят!..
— Ну, а в городах?
— И в городах много, — согласился он, — только там больше шансов не затеряться, пробиться к тому, чего хочешь.
— И как же ты представляешь себе практически осуществление этой благородной цели?
Брат поднялся со стула, размял в пальцах сигарету, задумался.
— Дело это, конечно, не из простых. Но ты представляешь, сколько бы новоявленных Ломоносовых мы приобрели.
Серые глаза его возбужденно горели, белесая бровь чуть заметно вздрагивала. Он еще раз прошелся вдоль комнаты и сел.
— Положим, я — русак. Рисование преподаю. Но это, так сказать, полупрофессионально. И вот я здесь заметил ученика с незаурядными способностями. Повторяю — с незаурядными. Слежу за ним несколько лет, воспитываю, наставляю.
Он пододвинул стул поближе к столу, взял стакан, отпил два небольших глотка.
— Так вот, перед выпуском его из школы я пишу заявку в соответствующую инстанцию или там заявление. Ученика могут вызвать или проверить на месте. Будет это что-то вроде конкурса. Я убежден, что в будущем приемные экзамены отомрут.
— Ну, это ты хватил через край, — усомнился я. — Кто же будет успевать всех этих ребят испытывать? Ты рекомендуешь своих несколько человек, другие — своих… А по району сколько, а по области…
— Любое дело, даже самое доброе, можно легко загубить на корню. Я ведь имею в виду особые случаи. Лучшие из лучших, вернее, чем-то выдающихся. Повторяю, дело это нелегкое, но сколько бы мы от этого выиграли. И сколько таких у нас ребят? Да вот, например, — он поднялся со стула, достал объемистый планшет, поставил передо мною несколько карандашных и акварельных набросков, этюдов. — Вот полюбопытствуй. Это восьмиклассник Саша Журавлев, его работы. Представь себе пятнадцатилетнего паренька с глазами взрослого человека. И задумчивого.
Я рассматривал рисунки ученика. И действительно, в них было то трудноуловимое, что можно лишь понимать, чувствовать, но пересказать почти невозможно. Отношения, пропорции, перспектива — как и в рисунках, так и тонах — безукоризненны. Но разве это самое главное, вернее, разве это единственное, что определяет степень одаренности? Все это элементарные условия мало-мальски грамотного рисунка.
Нет. Было еще в этих рисунках и нечто такое, что угадывалось мною в самом, казалось, подходе к изображаемым предметам. А может быть, это действительно только так казалось потому, что брат сумел меня именно на это настроить?..
— Своеобразно…
Николаю явно не понравилось мое определение, он посмотрел на меня с грустной улыбкой.
— Знаешь, — сказал он, — у нас есть еще один выдающийся — тот ботаник.
— Ты обещал ведь с хутором познакомить, — напомнил я.
— Ах да, пошли, там и поговорим.
— Елена Павловна, спасибо за обед. Не убирайте, мы скоро вернемся.
В дверях показалась хозяйка дома, полная, лет пятидесяти пяти женщина, с широким округлым лицом и высокими темными бровями.
— Здравствуйте, — слегка поклонилась она.
Я поздоровался.
— Откуда к нам гость-то пожаловал?
— Из Воронежа, брат мой. Похож?
— Похож, такой же беленький.
— Сейчас поведу его на солнце, пусть загорает… Идем. — Он широко открыл дверь, и мы вышли во двор.
Окрестности и сам хутор произвели на меня хорошее впечатление. Свежие домики, белеющие в густых вишневых садах, были рассыпаны в низине степного взгорья. С двух сторон хутор огибали два пруда…
Брат неторопливо рассказывал мне об ученике, который выказывал, по его мнению, недюжинные способности в естествознании. Выращивал зимой цветы, лимоны и огурцы. Я же почти не слушал его и думал о старике.
Потом мы сидели над крутым спуском, у огромного тополя. Внизу, у подножья тополя, зеленела вода, ближе к левому краю она из зеленой превращалась в багряную от вечерней зари. Было тихо, лишь со стороны хутора доносилось глухое завывание трактора, слышались тупые удары парового молота-бабы.
— Мост строят, — пояснил брат, видя, что я прислушиваюсь к доносившимся звукам.
— Есть река?
— Тихо, — сказал он. — Слышишь?..
Кроме гула трактора и уханья молота-бабы, я ничего не слышал.
— С поля возвращаются…
Николай смотрел в противоположную сторону хутора. Да, теперь я явственно различал песню. Пели два женских голоса…
Л-е-е-тят у-у-тки… Л-е-е-тят у-у-тки…— Любимая, здешняя… — сказал брат. — Здесь песенные места. Старшее поколение — поет старинные песни, молодежь — современные. И вот что удивительно, — все более возбуждался брат, — современные песни здесь поются на свой, особый лад. Вечером сам услышишь.
Между тем песня, светлая в своей грусти, подходила к концу. Несколько минут было тихо. Потом тот же высокий голос запел:
Соловьем залетным Юность пролетела…Другой, низкий грудной подхватил:
Волной в непогоду-у-у…Долго сидели мы молча, слушали. Мне казалось, что сейчас наступил самый подходящий момент для разговора о загадочной могиле, но я все-таки начал его издалека:
— Кто у вас такая Виктория Вениаминовна?
Николай с недоумением посмотрел на меня, даже отодвинулся в сторону:
— Откуда ты ее знаешь?
Пришлось рассказать, как я встретил Евдокима Лукича, и что он мне поведал два часа тому назад.
— Ох и старикан! — покачал головой брат. — Говорун. Мы с ним недавно схлестнулись.
— Чего не поделили-то?
— Понимаешь ли, я верю в то, что он утверждает. Слишком многое логично в этой истории. Проверял кое-что. Но самое главное, у него был один важный документ, да затерялся. Вот я и подтруниваю, чтоб нашел он его. А Виктория Вениаминовна — историк наш. Краеведением ведает, она сомневается, но полностью версию не отрицает.
— Да-а… Любопытнейшая история.
— Тут много интересных людей. Кое с кем я тебя обязательно познакомлю.
— Лучше бы сначала посвятил в эту историю, — попросил я.
— Идем, дома расскажу.
Мы поднялись и неторопливо пошли вдоль пруда. Заря чуть теплилась в свинцовых тучах. Стояла тишина. Умолк гул трактора, затих молот. Лишь когда-то да-далеко-далеко, в противоположном конце хутора доносился голос радиолы:
Не спорьте, друзья, А мы и не спорим…Было совсем темно, когда мы вошли в комнату. Зажгли свет. Николай поставил чайник, и пока он закипал, он поведал мне эту давнюю, трагическую и вместе с тем светлую, как падающая звезда — историю.
* * *
Поздней осенью к хутору (здесь еще не было хутора, а были выселки, принадлежавшие войсковому атаману Глотову), подъехала запыленная кибитка, запряженная четверкой лошадей. Прибывший из Воронежа гуртовщик купца Василия Кольцова привез на выселки несколько кулей соли, выделанные бараньи кожи, сало, пшено, табак… Привез он с собой крестьянскую девушку лет семнадцати — восемнадцати, в цветном сарафане, с большой русой косой и печальными карими глазами. Красавица!
Весь провиант он сдал в хозяйский амбар, а девушку препроводил к старой деве Матрене, сестре жены Глотова, в качестве горничной, как и было условлено.
Вскоре приехавший Глотов увидел девушку и стал домогаться ее расположения, но встретил решительное сопротивление. В ярости приказал он запереть ее в амбар и вообще наказал свояченице «держать в деле».
Старая дева старалась изо всей мочи. Истязала свою жертву в непосильной, зачастую бессмысленной работе. Ее подогревала с одной стороны ревность за сестру, с другой — «непокорность» гордячки. И Матрена делала все, чтобы девушка не знала ни минуты покоя, ни уединения.
А в это время несколько верховых разыскивали невольницу, но розыски их оставались безрезультатными. Один из близких друзей Алексея Кольцова был буквально в восьми верстах от выселок, в соседней станице. Расспрашивал о девушке, но никто и не подозревал, что она рядом.
Спустя два года местный врач, приехавший по вызову на выселки, узнал, что девушка, которую искал воронежский прасол, и есть та самая пациентка, неизлечимо больная чахоткой. Он предложил ей написать за нее письмо к Кольцову, но Дуняша не согласилась. Тогда он от себя написал несколько строк, не забыв подчеркнуть, что пишет против ее воли, прямо тут же у казака Кондратия Долинина, впоследствии — деда Евдокима Лукича, в курене которого теперь содержалась несчастная девушка.
Случилось так, что врач вскоре умер, не успев передать письмо по назначению. Однако он наказал своей квартирной хозяйке отдать письмо казаку Кондратию Долинину, с тем расчетом, что тот сумеет через верных людей переправить его в Воронеж. Но подходящего случая не представилось, и письмо осталось в доме Долинина, где и хранилось с другими бумагами в углу, за образами.
Спустя несколько лет, по выходе известного посмертного издания сочинений Алексея Кольцова с предисловием Белинского, когда ни самого поэта, ни Дуняши уже не было в живых, местный учитель, слышавший историю с письмом, договорился с Лукой Кондратьевичем, отцом Евдокима Лукича, о передаче письма «куда следует». Но учитель вскоре был арестован как политический агитатор и бунтовщик. Так вторично не суждено было этому письму попасть в Воронеж, теперь уже в музей или, по крайней мере, в архив.
Так письмо это и само предание о трагической судьбе Дуняши переходило от деда к отцу, от отца к сыну. Так оно оказалось у Евдокима Лукича Долинина. А теперь — затерялось.
* * *
Утром следующего дня мы отправились в школу. До начала занятий оставались считанные дни, и школьный двор вовсю звенел ребячьими голосами. Старшеклассники убирали участок, протирали окна, расставляли парты.
Евдокима Лукича я узнал еще издали. Старик раздавал школьникам грабли. Он заметил нас, когда мы проходили мимо, сунул грабли вихрастому пареньку и, повернувшись, поднял свою шляпу в знак приветствия.
— Николай Константинович, — сказал он, — решено, что седьмой «Б» убирает спортплощадку, так что давайте команду.
— Дана, дана команда. Вы никуда сегодня не отлучаетесь?
— Вроде бы никуда.
— Мне с вами потолковать надо будет.
— Добро.
Перед тем как зайти в учительскую, мы остановились в коридоре… В углу, перед широкими окнами стояли две огромные пальмы.
— Это финики канарские нашего ботаника Васи Полохова. Скоро потолок подопрут. Говорят, в Астрахани такие, же деревья и уже дважды надстраивали крышу…
— Я был там, знаю, — подтвердил я.
В учительской, светлой квадратной комнате с широкими окнами, находились трое преподавателей. Молодая, но довольно полная завуч Лидия Георгиевна Калюжная, математик Иван Дмитриевич Куцеволов — круглолицый, лысый, совершенно без бровей и ресниц, молодой историк — Виктория Вениаминовна Звягинцева.
Завуч предложила мне стул.
— Садитесь, пожалуйста. Хорошо, что вы явились, — повернулась она к брату, — а то у нас тут целая баталия разразилась. Виктория Вениаминовна с Иваном Дмитриевичем обвиняют меня в неверном взгляде на массовость в физической культуре и интеллектуальном воспитании.
— И вовсе не в неверном взгляде, а всего-навсего в неверном понимании массовости, — возразил Куцеволов.
Звягинцева внутренне улыбнулась, весь вид ее как бы говорил: «Зачем этот никчемный разговор, что он может дать?»
— Вот вы утверждаете, что «ножницы» между всеобщим развитием и достижениями отдельных индивидуумов сокращаются и это опасно, — начал издалека математик.
— Это совершенно очевидно.
— Пример, — сказал Куцеволов, словно поймав завуча за руку.
— Что пример. Возьмите хотя бы космос. Не успели мы как следует туда даже подступиться, как интерес не то что массовый, прямо-таки поголовный! И вот результат. Скажите, — вопросом закончила она свой ответ, — сколько учеников из вашего класса желали бы стать если не космонавтами, то, по крайней мере, работниками в области космоса?..
Куцеволов неопределенно пожал плечами.
— То-то. Конечно, случай взят крайний. Здесь сам предмет говорит за себя. А как быть с профессией, скажем, пахаря? Здесь уже необходимо нам потрудиться самим.
— Согласен, — сказал Иван Дмитриевич, — но если смотреть локально, то каждый из нас должен брать высоту хотя бы половинную брумелевскую. И чем выше будет средний результат, тем выше должен поднимать планку Брумель.
Математик обвел взглядом присутствующих.
— В противном случае разность потенциала будет падать к нулю.
— Не забывайте, Иван Дмитриевич, что чем выше всеобщая культура, тем выше результаты отдельных представителей!
Калюжная посмотрела на брата.
— Николай Константинович, а вы как смотрите? — спросила она, рассчитывая на поддержку.
— Я лично на теоретический лад не настроен. Заедает практика метлы и граблей.
— Ой, Иван Дмитриевич, дорогой, пойдемте, — спохватилась Лидия Георгиевна. — Что там наши восьмые классы делают?..
— Виктория Вениаминовна, — сказал брат, показывая на меня, когда завуч и математик вышли. — Вот он занимается историей Верхнего Придонья.
Звягинцева оторвалась от каких-то бумаг, взглядом, свойственным для близоруких, окинула меня еще раз с таким любопытством, что я поспешил поправить положение:
— И вовсе я не исследователь, просто любитель…
Звягинцева достала два объемных альбома. Один с фотографиями и документами, другой — с записями штаба отряда красных следопытов. Признаться, я не ожидал, что небольшой, затерянный в придонских степях хуторок этот имеет такую, небогатую внешними событиями, но интересную судьбу и свою неповторимую историю.
В хуторе некогда, в старину, побывал известный исследователь Иван Жолобов, здесь проводил исследования Докучаев, останавливался со своим штабом легендарный командарм Буденный…
В начале 1918 года сельские активисты первыми в этих местах передали землю беднякам, конфисковали имущество управляющих и организовали коммуну.
Выходцами хутора являются два Героя Советского Союза, известный академик-физик и генерал-лейтенант бронетанковых войск.
Я листал альбом, где рассказывалось о поисках, о том, как следопыты прошли дорогой боевой славы отдельного авиационного полка, который во время минувшей войны, в 1942 году, базировался рядом с хутором. Многих героев Великой Отечественной войны ребята разыскивали, ведут с ними переписку. Немало установлено имен погибших…
Листал я страницы альбома, и все казалось мне, что чего-то все-таки в нем не хватает. Лишь когда в учительскую вошел Евдоким Лукич и стал о чем-то говорить с братом, вспомнилось: «О могиле Дуняши нет ни слова…»
Когда я спросил об этом Викторию Вениаминовну, та улыбнулась, сосредоточенно сдвинула брови, сказала:
— Знаете, все это похоже на правду. Мы связывались с областным архивом, объяснили суть дела, и там нашлись, хотя, правда, и косвенные, но свидетельства. — Евдоким Лукич, — обратилась она к Долинину, — ну как?
— Найду, найду, — пообещал Долинин.
— Многое сходится. Тут у нас в прошлом году умерла одна старушка. В то время ее мать жила в соседней станице. Так что любопытно: многие детали в ее рассказе и Евдокима Лукича — сходятся…
Меня позвали, и я, поблагодарив Звягинцеву и пообещав на ее приглашение заходить — вышел вслед за братом и Долининым.
— Вот мы и помирились, — сияя лицом, похвалился Лукич.
— Ты найди, душа с тебя вон, тогда помиримся.
Квартира Лукича оказалась совсем рядом со школой. Мы долго сидели за самоваром. Лукич был в ударе. Он напевал песни, подыгрывая на балалайке. Играл он, правда, неважно, да и песни путал. Никитинские принимал за кольцовские и ни за что не хотел разувериться. Но зато что знал — все наизусть.
— Хотите покажу книгу, что врач подарил когда-то деду? — спросил хозяин.
Я поднялся из-за стола.
А Лукич вышел в горницу и через минуту вернулся, держа в руках небольшой томик, издания Некрасова и Прокоповича 1846 года.
Сердце мое учащенно забилось, с волнением взял я книгу в руки. Боже мой, библиографическую редкость, которую мне впервые доводилось держать и о которой я столько наслышан — приводила в трепет.
Уже в который раз пересматривал я этот сборник, и уже хотел было вернуть его владельцу, как вдруг показалось мне: на титуле книги — надпись. И точно…
Выцветшими коричневыми чернилами, четким, почти каллиграфическим почерком внизу, у самой кромки титула, было выведено:
«Семейству Долинина К. А. на память о Дуняше.
Земский врачъ Андр. Беляниновъ».* * *
Наступил день моего отъезда. Отпуск подходил к концу, и приходилось торопиться. Брат пытался меня задержать.
— Ну что ты спешишь, — взмахивал он смешно руками. — Я ведь тебя не познакомил тут с одним человеком. Успеешь…
— Пойми ты, — доказывал я, — мне здесь еще к матери следует появиться.
В общем, я стал собираться в дорогу.
Открытие автографа, сделанное мною, произвело на хуторян-учителей ошеломляющее впечатление. Правда, Виктория Вениаминовна да и брат отнеслись ко всему этому более чем осторожно. Они надеялись все еще на таинственное письмо. А оно все не находилось…
Наконец все было готово. Николай вызвался меня проводить до Сорочьей балки, что находилась в полутора километрах от хутора.
Вышли со двора, Евдоким Лукич как раз возвращался из школы домой.
— Приезжайте еще, — пригласил меня старик.
Я поблагодарил его и попрощался.
— В добрый час, — сказал он и приподнял свою широкополую шляпу.
На повороте, у самой балки, мы с братом обнялись на прощание, и я зашагал в свою сторону. «Вот за тем кустом степного ольшаника, где дорога идет вниз, и поеду», — думал я. Еще раз оглянулся. Николай все стоял на месте, махал рукой. Я сел на свой велосипед и легко покатил навстречу солнцу. Через несколько минут оглянулся, но уже ни хутора, ни брата — ничего не было видно.
Впереди и по бокам плыли навстречу убранные и местами уже вспаханные пашни, неторопливо двигались телеграфные столбы с проводами, на которых восседали важные вороны и юркие галки.
Я ехал и думал о хуторе, покинутом только что мною, о Евдокиме Лукиче и Виктории Вениаминовне, о математике Куцеволове и завуче Лидии Георгиевне, о судьбе поэта и Дуняши, такой грустной и светлой, далекой и горячо близкой сердцу, овеявшей своим дыханием нынешний осенний день…
Для меня была важна не столько подлинность и достоверность этой истории, сколько то, что в памяти народной хранится любовь ко всему, что было дорого и свято поэту. И не зря воистину высокие и благородные чувства моих земляков устремлены к тому сердцу, которое заставило с такой страстью вспыхнуть душу поэта, которая подарила миру прекрасные, полные жизни и огня неповторимые песни!..
Примечания
1
Пампушки — пресные оладьи (местн.).
(обратно)
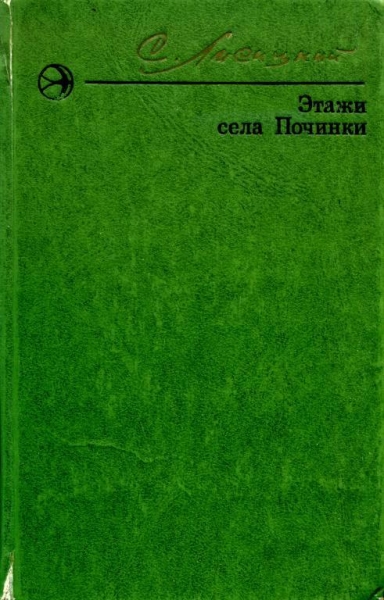



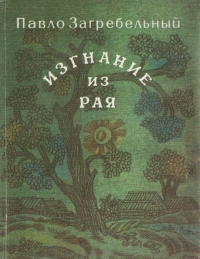

Комментарии к книге «Этажи села Починки», Сергей Федорович Лисицкий
Всего 0 комментариев